Зигфрид Обермайер
«Калигула»
Калигула, или Сапожок, — так прозвали его солдаты, когда он трехлетним мальчиком важно прогуливался в больших солдатских сапогах по военному лагерю своего отца. Чудом удалось младшему сыну Германика пережить бесчисленные интриги и покушения, жертвами которых пали все его родственники. Теперь, после смерти защитницы, матери императора, судьба Калигулы казалась предрешенной. Но семнадцатилетний внук императора отправляется на Капри и втирается в доверие к Тиберию. День ото дня старик все больше проникается мыслью, что именно внук мог бы стать его преемником. В конце концов в марте 37 года н. э. это случилось: почти восьмидесятилетний старец умирает (не без помощи Калигулы), и Гая Юлия Цезаря Германика провозглашают императором. Начинается время господства порока, пыток и страшных смертей…
1
Кассий Херея был родом из местечка под названием Пренеста
[1], известного своим храмом Фортуны. Его родители, крестьяне-арендаторы, работали на земле крупного землевладельца Кассия Бабула, чье имя они по традиции добавляли к своему. Херея помнил, как однажды его отец сказал:
— Это для нас большая честь, но и нелегкое бремя. Хотя мы и свободные люди и римские граждане, но на деле влачим рабское существование. Выбор у нас небольшой: мы, конечно, можем отказаться от аренды и отправиться в Рим, чтобы там стать плебеями и кормиться тем, что пожалует император. Но уж лучше я буду гнуть спину на Бабула.
Херея был в то время пятнадцатилетним юношей и все чаще задумывался о жизни. Будучи в семье вторым по старшинству ребенком, он не знал точно, чего хочет, но в одном был уверен: он не желает быть преемником родителей и трудиться на чужой земле. Тут отец был прав: это значило быть одновременно свободным и рабом. Да и по закону арендуемая земля передавалась старшему сыну.
— Тогда тебе остается только одно, — посоветовал ему отец. — Отправляйся в армию. Люди нашего сословия дослуживаются, как правило, только до центуриона, но и это тоже что-то. Как ветерану, тебе дадут надел земли, ты сможешь купить себе пару рабов и будешь сам себе господином.
— Если до этого вообще дело дойдет…
— Правда, тебе понадобится удача. Во всем нужны удача и везение. Но, в конце концов, ты рожден недалеко от храма самой Фортуны. Прежде чем отправиться в Рим, ты отправишься туда и принесешь богине жертву.
Херея последовал совету отца, и до сих пор богиня была к нему милостива. Уже в двадцать лет он стал центурионом и имел прекрасные шансы продвинуться выше.
После смерти императора Августа среди рейнских легионеров вспыхнул мятеж. Стало известно, что Тиберий, приемный сын великого Августа, должен стать его наследником, но легионеры считали, что более достойным был их любимец Германик, в то время главнокомандующим рейнскими легионами. Храбрые, простые воины, они не замышляли зла, и их начальники знали это, но главным в войсках была дисциплина, а все остальное отступало перед ней на задний план. Кто же должен восстанавливать порядок? Как и все самое неприятное, это пришлось на долю центурионов — они-то и стали сначала мишенью мятежников. Солдаты собрались на рассвете вместе и набросились с обнаженными мечами на их палатку.
Херея увидел их приближение и, вооруженный и облаченный в латы, выступил навстречу. Его высокая атлетическая фигура выглядела устрашающе, но солдаты, будто обезумев, набросились на него, как стая волков. Мощными ударами он убил одного и многих ранил, прежде чем смог вырваться. Тогда он служил в 21-м легионе, который в тот день потерял, как было установлено позже, пятьдесят одного из шестидесяти центурионов. Разъяренные мятежники разрубили их тела и бросили куски в Рейн. Херея прорвался к палатке трибуна, сирийская охрана которой оставалась верна ему. Доложив о происходящем, он был тут же вознагражден за мужество и отвагу.
Прошло несколько дней, прежде чем все успокоилось. Двенадцать зачинщиков были без промедления казнены, и на этом мятеж закончился. Однако желание войск видеть Германика императором осталось. Солдаты отправили к полководцу делегацию, чтобы просить его свергнуть Тиберия и самому подняться на престол. Но Германик остался непоколебим. Он мог бы с помощью рейнских легионов войти в Рим и захватить власть, но божественный Август выбрал своим наследником приемного сына Тиберия, и он подчинился этому решению. Популярность Германика в войсках от этого не пострадала: легионеры высоко оценили верность своего полководца, хотя он и выступил против них. Слово «верность», которое тогда олицетворяла богиня, почиталось в войсках превыше всего. Кассий Херея, во всяком случае, это прекрасно понимал и был готов отдать за Германика правую руку.
Через несколько недель после подавления мятежа по ходатайству своего трибуна Херея должен был получить награду за храбрость. Юлий Цезарь Германик, если он только был поблизости, всегда брал эту честь на себя, поскольку ценил общения со своими людьми, за что они любили его еще больше.
Германик встретил представленных к награде у входа в свою палатку. На руках он держал четырехлетнего Калигулу, жизнерадостного мальчика с дерзким лицом, который строил солдатам рожицы и показывал язык. Херея подумал, что за это его следовало бы как следует отшлепать, но личная охрана Германика лишь посмеивалась. Вероятно, все, что выкидывал этот маленький чертенок, они находили забавным. Однако Германик, заметив, что тот вытворяет, взял его за ухо и отправил обратно в палатку. Затем он прошелся вдоль рядов воинов и каждому из них, надевая на шею награду, сказал пару слов. Херея за мужество получил серебряную монету Виртуса. На ней была изображена Храбрость в образе женщины в шлеме, одна нога которой стояла на сложенных на земле латах.
По-мужски красивые черты Германика, его мягко очерченный рот и мечтательные глаза на первый взгляд едва ли выдавали в нем военного человека. Но это первое впечатление было обманчивым. Германик обладал железной волей и в самых опасных ситуациях доказал свое мужество и решительность. Это было лишь одной из сторон его личности. Он также писал научные труды, сочинял стихи на греческом языке и славился как прекрасный оратор.
— Ты еще совсем юн, центурион. Откуда ты родом?
— Из Пренесты, генерал.
Германик улыбнулся:
— Тогда Фортуна на твоей стороне. Следуй и дальше этим путем, и ты не останешься центурионом.
— Может, он станет даже императором, — выкрикнул маленький Калигула, который потихоньку выбрался из палатки и хитро посмеивался.
Германик наградил его легкой затрещиной.
— Из тебя, во всяком случае, правитель точно не получится. Отправляйся сейчас же обратно в палатку!
Разревевшись и потирая затылок, малыш убежал прочь. Мужчины проводили его улыбкой.
Спустя несколько месяцев они выступили в поход против марсов и хаттов. Германик использовал эту возможность, чтобы посетить те места, где семь лет назад германские войска под командованием Арминия разбили римского генерала Вара. Он обратился к своим солдатам с короткой речью:
— Этот позор до сих пор не смыт. Три легиона были тогда разбиты, и теперь наша задача — уничтожить Арминия и его войско.
Сказать это было, конечно, гораздо легче, чем сделать, но, в конце концов, далеко на севере, на Идистафьевом поле, войска Арминия потерпели поражение, хотя ему самому удалось спастись. Император Тиберий оказался достаточно благоразумным, чтобы остановиться. Эти земли, где зимы такие долгие, а непокорные племена всегда готовы к мятежу, едва ли принесли бы Риму хоть сколько-нибудь значимую пользу. Решение его было ускорено тем, что осенний шторм в Северном море почти полностью уничтожил римские суда.
Германик как главнокомандующий рейнской армией был отозван и переведен на восток империи.
В течение нескольких следующих лет Херея поднялся в звании до центуриона первого класса, служил в Германии и Галлии и никогда больше не видел Германика. Но он не мог его забыть, не мог уже потому, что его сын Калигула стал совсем не таким, как ожидали, и казалось, что как личность он совсем ничего не унаследовал от своего отца.
После проведения преобразований в землях Армении и Каппадокии Германик отправился в путешествие по Египту, не получив, однако, как того требовалось, императорского разрешения. Египет был со времен Августа императорской собственностью и находился под личным управлением принцепса. Поскольку для политической власти Рима здесь всегда существовала угроза, патриции, сенаторы и даже представители правящей династии должны были получать у императора разрешение на посещение этой провинции.
Германик же этого не сделал, и никто не знает почему. Возможно, по той причине, что он путешествовал как частное лицо и не чувствовал себя обязанным соблюдать предписания для государственных чиновников. Его семилетнему сыну Калигуле было разрешено сопровождать отца в Александрию, шумный густонаселенный город — не намного меньше Рима, но дух Египта, трехтысячелетнего Египта, здесь не чувствовался. Александр Великий основал этот город, как и многие другие, из стратегических соображений, и династия Птолемеев правила здесь триста лет, пока Рим — так объяснил Германик своему сыну — не победил Клеопатру и не взял власть в свои руки.
Они нанесли визит вежливости римскому префекту, который управлял землей от имени императора и нес ответственность только перед ним. В конце непринужденной беседы префект осторожно спросил:
— Благородный Цезарь Германик, я предполагаю, что ты сообщил своему отцу, императору Тиберию, о предпринятом путешествии?
— Разве я должен был это сделать? — спокойно спросил Германик.
Префект смущенно вздохнул:
— Но, Цезарь, ты же знаешь о предписании: патриции, сенаторы и члены семьи императора обязаны…
— Постой! — перебил его Германик. — Я не сенатор и путешествую по стране как обычный человек, который хочет усовершенствовать свои познания. Мои войска остались в Сирии, со мной только сын и слуги. Не стоит и говорить об этом! Если считаешь своей обязанностью, можешь сообщить о моем путешествии в Рим — я даже прошу тебя об этом. После возвращения я сам отвечу перед императором.
Спустя несколько дней Германик отправился от пристани Канопус в путешествие по Нилу в южном направлении. Впрочем, прежде они с сыном посетили саркофаг Александра Великого в центре города. Вокруг него Птолемеи расположили свои склепы, но Германик отмахнулся, когда сопровождавший хотел показать им захоронения греческих царей.
— Нет, мой друг, могилы этих греков ничего для меня не значат. Мы хотели отдать честь Александру и только ему.
Забальзамированное тело царя Македонии и завоевателя мира лежало в золотом гробу, крышка которого была изготовлена из тончайших хрустальных пластинок. С чувством благоговения подошли они ближе. Калигула схватил отца за руку и не отпускал, пока они оставались в душном помещении, освещенном факелами. Через мутный хрусталь лик мертвого правителя был едва узнаваем, но это почерневшее, впалое лицо излучало магическое достоинство. Верхнюю часть его тела покрывала золотая броня, ноги были завернуты в пурпурную ткань.
Германик положил перед саркофагом жертвенный дар — золотой терновый венок. Он наклонился к Калигуле и прошептал:
— Египтяне сделали из него бога, греки почитали его, весь мир склонялся перед ним. Но помни о том, что все преходяще. Великий Александр мертв и вечно будет спать в своем гробу, а многие из завоеванных им земель принадлежат сейчас Римской империи — и Греция с Египтом тоже.
Калигуле же так понравилась золотая броня с изображенными на ней прекрасными картинами, что он спросил отца:
— Если теперь все, чем тогда владел Александр, принадлежит Риму, тогда и этот золотой панцирь тоже наш. Ты можешь его взять?
Германик посмотрел на сына и увидел вспыхнувшие в его глазах алчные огоньки.
«Детская болтовня», — подумал он, но вопрос расстроил и возмутил его.
— Это кощунство, Гай! Благородному человеку подобные мысли не придут в голову. Но ты еще маленький мальчик, и поэтому давай забудем твои слова.
Однако Калигула не забыл прекрасную броню с золотой чеканкой.
Вниз по Нилу доплыли они до Мемфиса, бывшей столицы Древнего Египта. С тех пор как Александрия выросла и превратилась в огромный город, Мемфис опустел и стал разрушаться. Многие из когда-то роскошных храмов и дворцов лежали в руинах, но величественный храм Птаха по-прежнему гордо возвышался, и культ быка Аписа в Египте все еще был силен. Они посетили загон, где обитал священный бык, почитаемый многими верующими как «живая душа» бога-создателя Птаха.
— Разве таким может быть бог? — разочарованно спросил Калигула, показывая с ухмылкой на черного с белыми пятнами быка.
— Нельзя смеяться над верой других народов, сын мой. Апис почитался уже тогда, когда до создания Рима оставалась еще тысяча лет. У каждого народа свои боги, и шутить над ними не пристало.
Из Мемфиса корабль привез их в Тебен, который тоже долгое время был резиденцией правителей Египта. Жрец провел отца с сыном по обширным территориям, прилегающим к храму, и во время его рассказа снова и снова звучало имя Рамзеса.
— Они были богами, фараоны Древнего Египта, — объяснил жрец. — Святые создания, неприкосновенные, высоко стоящие над людьми. Как правило, они брали в жены своих сестер, чтобы не испортить божественной крови. Их слово было законом, и ни народ, ни жрецы не ограничивали их власти. Они носили титул совершенного Бога и сына Солнца, и тех, кто прикасался к ним, тут же казнили.
Калигула был слишком мал, чтобы понять все, но рассказанное глубоко потрясло его и навсегда врезалось в память. Германик поспешил покинуть Египет до наступления летней жары и отправился с сыном в Сирию, где остановились остальные члены семьи.
Здесь его ожидали неприятности с наместником Пизо, завистливым и ревнивым к славе Германика, который попросту игнорировал или отменял многие из его распоряжений. Вскоре мужчины стали смертельными врагами и старались избегать друг друга. Неожиданно Пизо уехал, а Германик сразу после этого тяжело заболел. Врачи не могли установить причину болезни, но Германик утверждал, что Пизо подсыпал ему медленно действующий яд, а затем, чтобы не навлечь на себя подозрений, спешно уехал. Во всяком случае, Агриппина, его жена, верила этому.
В октябре Юлий Цезарь Германик умер в страшных муках, с пеной у рта. Странные пятна пошли по всему его телу. Когда после ритуального сожжения стали собирать пепел, среди обугленных останков нашли его сердце. Тогда убеленными сединами врачи покачали головами и дали вдове понять, что такое часто случается, если человек умер от яда. Доказательств было достаточно, и жаждущая мести Агриппина сразу после возвращения обвинила Пизо в убийстве мужа. Во время процесса Пизо покончил жизнь самоубийством, хотя многие утверждали, что это Тиберий, прежде чем дело получило широкую огласку, распорядился его уничтожить.
Со смертью отца пришел конец счастливому детству Гая Калигулы. Он стал жить в доме матери с двумя своими братьями и тремя сестрами, но радостной эту жизнь назвать было нельзя. Агриппина, властная, подверженная частым приступам гнева, жила лишь жаждой мести, которую отнюдь не утолила смерть Пизо. Она видела в нем только инструмент в руках Тиберия, истинного виновника смерти мужа, и открыто высказывала свои подозрения, словно испытывала на прочность долготерпение свекра-императора.
В одном ее нельзя было упрекнуть, а именно в том, что она недостаточно заботилась о воспитании своих сыновей. Лучшие учителя прилагали все усилия, чтобы мальчики получили хорошее образование по истории, географии, праву и литературе.
Калигула учился быстро и легко. Он обладал удивительной памятью, которой, правда, пользовался лишь тогда, когда считал нужным. Агриппина пригласила на несколько месяцев учителя по риторике. Братья Калигулы скучали на этих уроках, он же с горящими глазами ловил каждое слово учителя и скоро знал наизусть самые важные речи Цицерона. И не только это — он старался критически подойти к ораторскому искусству известного государственного деятеля. Больше всего ему нравилось выступление Цицерона в защиту Марка Целия Руфа. С легкой ухмылкой он заметил учителю:
— Уже то, как Цицерон начал свою речь, достойно восхищения. Когда он с самого начала представляет обвинение как ничтожнейшую мелочь и сочувствует судьям, что те из-за такой безделицы должны сидеть в зале, в то время как другие отдыхают в праздничные дни. Этим он лишил дело остроты и превратил обвинителей в марионеток, которые действовали безответственно и эгоистично. А ведь речь шла об участии в заговоре Каталины.
Учитель предупреждающе поднял руки:
— Нет, мой юный друг, не совсем так. Правда, у Цицерона было намерение умалить преступление Целия и даже представить его как простительный грех молодости. Но нельзя забывать, что судьи — опытные мужи, которые не могли дать себя заговорить проворным защитникам.
Калигула стукнул рукой по свитку с речью:
— И все-таки он их заговорил и изменил приговор. Судьи освободили Целия, хотя всему миру было известно, что он ничтожество, клятвопреступник и ко всему прочему обладает непростительным политическим легкомыслием. Это дает мне основания для размышлений. Характер Целия был известен всем, и такому оратору как Цицерон удается его обелить, добиться помилования. Мне кажется, уважаемый магистр, что риторика — это оружие гораздо более острое, чем меч, более опасное, чем яд, и более действенное, чем любое медицинское средство.
— Я должен признать твою правоту, Гай. Это ты правильно понял. Искусный оратор может стать убийцей невинного, может восстановить честное имя виновного, но сам он тогда становится достойным морального порицания, поэтому должен защищать невиновных и разоблачать виноватых.
Глаза Калигулы сверкнули. Слышал ли он, что сказал ему учитель?
Через некоторое время юноша тихо произнес, отвернувшись в сторону:
— Мораль? Что такое мораль? В конце концов, в расчет принимается только сила, а искусный оратор сильнее целого легиона.
— Твое замечание цинично, Гай, и отвратительно звучит из уст юноши.
Калигула презрительно улыбнулся:
— А из уст взрослого оно прозвучало бы менее цинично?
Учитель поежился и беспомощно произнес:
— Твои братья никогда бы не…
Калигула спокойно отмахнулся.
— Мои братья болваны. Разве ты этого не заметил, уважаемый магистр?
2
Випсания Агриппина приказала своему сыну Калигуле явиться к ней. Она никогда не просила, только приказывала.
Калигуле исполнилось шестнадцать лет, и он уже неплохо умел льстить, раздавать похвалы, притворяться, но никому и никогда не открывал своих истинных чувств. Долговязый длинноногий юноша с бледным, не по возрасту серьезным лицом едва ли казался привлекательным. Взгляд его глубоко посаженных глаз всегда оставался неподвижным. Эти глаза видели все, но в них ничего не отражалось, и ничто на лице Калигулы не выдавало его эмоций.
Агриппина сидела у окна и читала письмо, которое сразу же отложила, как только вошел сын. В глазах этой женщины всегда поблескивали агрессивные огоньки. Узкие, упрямо сжатые губы, дерзко вздернутый нос — у нее было лицо, что называется, без возраста. Агриппине давно уже минуло тридцать, но никто, глядя на нее, не смог бы дать ей столько лет; трудно также было поверить, что она родила девятерых детей.
— Пусть боги защитят тебя… — пробормотал Калигула в знак приветствия.
— Боги, боги! Уж лучше брать судьбу в собственные руки. Какое дело было богам, когда Пизо по поручению Тиберия отравил твоего отца? Мужчину во цвете лет, гораздо более любимого народом, чем когда-нибудь был любим этот сластолюбец на Капри. Он ненавидит нашу семью, Гай, он с удовольствием бы всех нас истребил — меня, тебя и твоих братьев и сестер. Что он сделал для того, чтобы Сеян прекратил из жажды мести преследовать твоих братьев? Ничего!
— Возможно, он об этом и не знает, — предположил Калигула.
— Он ничего не хочет об этом знать, он предоставил Сеяну полную свободу действий. Но сейчас как раз представилась возможность открыть ему глаза. Он снова хочет видеть тебя, своего любимого племянника. Остерегайся его коварных замыслов! Капри — это змеиное гнездо. Там все пропитано кровью противников Тиберия. Старому чудовищу скоро семьдесят, и я молю всех богов, чтобы он наконец отправился к проклятому Орку
[2].
Калигула сумел сохранить спокойствие.
— Он, кажется, еще довольно крепок и здоров. Стране нужен хоть какой-нибудь император. Его единственный сын мертв, внуки еще несовершеннолетние. Сеян хочет получить трон, но было бы неразумно дать ему почувствовать, что мы это знаем. Надо ждать, мама, надо просто ждать.
— Твое выжидание однажды будет стоить тебе головы, мой дорогой. Ты, как самый младший, пока не значишься в списке врагов Сеяна, но он наблюдает за тобой.
Калигула мрачно улыбнулся:
— И я за ним тоже, за ним и за многими другими…
— Если бы я знала, что ты думаешь на самом деле…
— Прежде всего я хочу остаться в живых, больше ничего.
— Трус! Если бы мне моя жизнь была дороже мести, этот трусливый убийца не отправился бы в царство мертвых. Ты поступаешь бесчестно по отношению к своему отцу, сын мой.
Калигула отвернулся. Он боялся, что по его лицу мать поймет, как горек для него этот упрек. Едва слышно он проговорил:
— Надо остаться живым, чтобы отомстить, а для этого нужно быть хитрым и терпеливым. С Тиберием шутки плохи. Ты должна была подумать об этом, мама, прежде чем называть меня трусом.
Уже больше года император жил исключительно на Капри, где в самой высокой северной части острова построил роскошную виллу. Здесь билось сердце Римской империи, здесь сходились нити власти, правда, с некоторых пор далеко не все.
Часть их держал в своих руках Луций Элий Сеян, любимец императора. В качестве почти всевластного преторианского префекта он следил за исполнением приказов императора в Риме, в то время как бесправный и постоянно оскорбляемый сенат дрожал перед ним и одновременно бесстыдно ему льстил. Открытых противников больше не было — уж очень много голов слетело с плеч.
Проверяли долго и основательно Агриппину и Калигулу: нет ли у них оружия и других подозрительных предметов?
— Убери от меня руки! — прикрикнула Агриппина на преторианца. — Не испугается же император женщины! Вы служите доблестному мужу или жалкому трусу?
Преторианец предпочел не обращать внимания на подобные замечания.
Император принял их в овальном перистиле
[3], являвшем собой настоящее архитектурное чудо, с колоннами, изготовленными из различных видов дорогостоящего мрамора. Над половиной двора был натянут голубой шелковый балдахин, под ним стоял столик из слоновой кости с инкрустацией.
Калигула год не видел своего дядю и нашел его сильно постаревшим. Как и все мужчины из династии Юлиев — Клавдиев, он отличался высоким ростом, но теперь сгорбился, и его почти совсем лысая голова слегка подергивалась. Язвы, покрывавшие лицо Тиберия, уже несколько лет, были заклеены, что придавало ему гротескный вид, поскольку у него было красивое лицо человека благородного происхождения, с большими глазами, правильной формы носом и глубокими складками у рта.
Он коротко приветствовал Агриппину и затем обратился к Калигуле.
— Ты сильно вырос, Гай. Ты еще не раз это услышишь, но я давно тебя не видел. Что говорят про меня в Риме? Любит ли народ своего императора, как ему и подобает?
Калигула сделал вид, что не заметил насмешливого тона.
— Народу не хватает его императора. Ты бы доставил ему большую радость, если бы чаще навещал Рим. Люди только об этом и говорят…
Агриппина вмешалась в разговор.
— Кроме того, довольно неприятно, что нами помыкает Сеян, который, правда, ссылается на твои приказы. Он преследует моих сыновей, Нерона и Друза; я уже не знаю, как сопротивляться.
Император наморщил лоб, что было непросто из-за повязки.
— Нерон и Друз взрослые мужчины, они сами должны уметь защищаться, но я думаю, что ты, как всегда, преувеличиваешь. Я могу положиться на Сеяна, он не осмелится причинить вред членам нашей семьи без прямого приказания.
— Которого ты, конечно же, ему не отдавал…
— Нет! — резко ответил Тиберий. — Я не приказывал ему ничего подобного. Ты явилась, чтобы поссориться со мной, Агриппина?
Она не позволила вывести себя из равновесия.
— Сеян рыщет по Риму, как голодный волк, и совершает свои позорные дела твоим именем, Тиберий. Каждый день он порочит твою репутацию все больше, а сенат ползает перед ним на коленях, как будто это он сидит на троне Цезаря, а не ты. Было бы не лишним приставить к нему надежных людей, чтобы те не спускали с него глаз ни днем ни ночью.
— Я это давно сделал.
Агриппина зло рассмеялась.
— Конечно, ты это сделал, но он их купил — одного за другим.
Калигула слушал разговор с неподвижным лицом.
Тиберий обратился к нему:
— Ты тоже так думаешь, Гай?
— Я еще ношу юношескую тогу, и мне не пристало иметь собственное мнение. Мне Сеян до сих пор не сделал ничего плохого.
— Трус! — прошипела Агриппина.
— Ты называешь своего сына трусом, потому что он говорит правду?
— Правда, правда! Он говорит только то, что хочешь слышать ты. Отправляйся в Рим, и ты увидишь правду собственными глазами.
— Рим противен мне, и я останусь здесь. Но ты, невестка, последи за своим языком. В каждом твоем слове звучит оскорбление императорского величия. Довольно об этом! Я не хочу больше слышать ни о Риме, ни о Сеяне.
Он хлопнул в ладоши.
— Внесите блюда!
Стол Тиберия не был пышным: император не придавал еде большого значения. Гостям предложили жареных фазанов в горчичном соусе и рагу с перечной подливкой. Агриппина ела только те блюда, от которых брал Тиберий, отказалась от вина, предпочитая воду, которой император разбавлял свое соррентийское. Потом подали фрукты: яблоки, виноград, кусочки дыни, политые медом. Сам император к ним не притронулся, но предложил Агриппине.
— Я приказал принести фрукты только для тебя, потому что знаю, как ты их любишь. Почему ты ничего не берешь?
— В последнее время у меня от них болит живот, к тому же я сыта.
Калигула потянулся за яблоком.
— Не трогай! Ты тоже не переносишь фрукты. От этих неспелых яблок у тебя случатся желудочные колики.
Тиберий посмотрел на свою невестку странным взглядом.
— Ты же не думаешь…
— Я ничего не думаю, Тиберий, кроме того, что твои фрукты не пойдут нам на пользу.
Император непринужденно откинулся на спинку кресла и тихонько засмеялся. Таким довольным его давно не видели.
— Теперь я, по крайней мере, знаю, за кого ты меня принимаешь. Однажды в Риме ты уже выразила свое подозрение, но я посчитал это шуткой. Теперь же я стал умнее. Мне и в семьдесят приятно узнать что-то новенькое об этом.
Он поднялся и коснулся руки Калигулы.
— Пройдемся. Я хочу еще немного побеседовать с тобой.
Агриппину он оставил сидеть, как будто той больше не существовало. Когда они отошли так далеко, что их нельзя было услышать, Тиберий спросил:
— Правда ли то, что утверждает твоя мать? Я, конечно, знаю не обо всем, что происходит в Риме, но в то, что Сеян мне лжет, не могу поверить.
Прежде чем ответить, Калигула обдумал каждое слово.
— Конечно же, он не лжет тебе, господин, но, возможно, несколько превышает свои полномочия. Моя мать была права, когда говорила, что люди слишком льстят ему. Не каждый заслуживает доверия, которое ему дарят, — я говорю в общем смысле.
— Ты не должен думать, что я ему полностью доверяю. Я никому не доверяю! То, что человек говорит, и то, что он думает, часто не одно и то же. Но Агриппина во всем заходит слишком далеко. С тех пор как твой отец умер, она стала невозможной. Впрочем, хватит об этом! Я хотел показать тебе прекрасный вид, который открывается отсюда.
В то время как они поднимались по узкой витой лестнице из мрамора, Калигула думал: «Весь Рим будет радоваться, когда он наконец умрет, но пока Сеян у власти, он должен жить. Сначала Сеян — потом он!»
Луций Элий Сеян уже много лет стремился к одной-единственной цели: он хотел стать императором, но плодовитость семейства Юлиев — Клавдиев усложняла ему путь к власти. Надо было убрать с дороги стольких людей, чтобы достигнуть желаемого, и он часто бывал близок к тому, чтобы отступиться. Но жажда власти так прочно и глубоко укоренилась в нем, что Сеян снова и снова находил новые пути — часто обходные, чтобы медленно, но уверенно шагая по трупам, приблизиться к ней.
Самым серьезным препятствием на этом пути был Юлий Цезарь Друз, родной сын Тиберия и его бесспорный наследник. Когда Друз получил от императора консульскую власть, для Сеяна наступило время действовать.
Он принялся ухаживать за Клавдией, женой наследника, и потихоньку затянул ее в свои сети, а поскольку теперь его собственная жена Апиката мешала ему, прогнал ее вместе с детьми.
Власть дорого стоила, и уж кто-кто, а Сеян это хорошо знал. Он всегда был готов платить высокую цену, ведь в конце стояла цель: Луций Элий Сеян — император Август. В мыслях он наслаждался своим будущим именем и знал, что в силах подвести черту под правлением Юлиев — Клавдиев, ведь он был братом и племянником консулов, состоял в родстве с самыми благородными римскими семьями.
Сеяну уже исполнилось сорок, но он чувствовал себя крепким и здоровым, готовым к решению государственных задач. В конце концов, Тиберию, когда он поднялся на трон, было пятьдесят шесть.
Клавдия оказалась глупой гусыней, за что он возблагодарил богов. Женщина быстро поддалась на его бесстыдную лесть, тем более что Друз все больше пил и забавлялся с проститутками и она чувствовала себя покинутой и одинокой.
«Император тоже не может выбирать себе сыновей», — довольно подумал Сеян. Очень скоро он соблазнил Клавдию. Удовольствием это было сомнительным. Сначала она прикидывалась смущенной недотрогой, но он быстро расшевелил эту дурочку, и та стонала на ложе любви все громче.
Этот Друз, императорский сынок, на поле сражения, правда, строил из себя героя, но до такого города как Рим не дорос: тут нужны были другие качества и задатки.
Сеян потер щеку. Этого он никогда ему не забудет. Друз был во второй раз выбран консулом, когда они поспорили из-за Клавдии.
— Я запрещаю тебе в будущем во время симпозиумов таращиться на мою жену. Вы перемигиваетесь и ведете себя так, будто вы любовники. Я, Сеян, консул, и не хочу, чтобы обо мне сплетничали. Кроме того, ты женат.
Сеян ухмыльнулся.
— Хорошо, Что ты об этом вспомнил. Найдется ли в Риме женщина, с которой ты до сих пор не переспал?
Друз двинулся на него с угрожающим выражением лица:
— Ты хочешь ссоры? Или это отвлекающий маневр, чтобы я забыл о ваших любовных заигрываниях? Без моего отца ты был бы ничем, Сеян, меньше, чем ничем!
— И ты был бы не консулом, Друз, а в лучшем случае продавцом рыбы или хозяином дешевой таверны в квартале проституток.
Тут Друз отвесил ему пощечину, которая до сих пор горела на щеке.
После этого Сеян начал разыгрывать перед Клавдией сгорающего от страсти, подкарауливал ее и при каждой возможности повторял, что женился бы на ней, если бы та была свободна.
— Но ты ведь и сам женат. Апиката родила тебе троих детей и не освободит добровольно свое место.
— Пусть это будет моей заботой. Моя любовь к тебе преодолеет любые препятствия. Но самая большая наша проблема — Друз, твой муж. Он не захочет огласки и не согласится на развод. Кроме того, император не даст ему разрешения.
По глупому лицу женщины было видно, как напряженно заработал ее мозг.
Сеян решил ей помочь:
— Я — второй человек в государстве, а Тиберий стар. Предположим, когда он умрет, Друза не будет в живых, а я состою в браке с бывшей женой наследника…
«Стать императрицей, — промелькнуло в тщеславной головке Клавдии. — Первой женщиной империи — Августой!» Ее дыхание участилось. И Сеян окажется привязанным к ней на всю жизнь, ведь он будет обязан ей — пусть частично — троном, кроме того, император не может развестись. Что толку от Друза? После рождения Юлия он перестал с ней спать, и римские матроны передавали его из одной спальни в другую. Она посмотрела на префекта:
— Это должно выглядеть как самоубийство…
Сеян покачал головой. Такой глупой могла быть только Клавдия.
— Нет, моя милая, только не так. У твоего мужа нет причин кончать жизнь самоубийством. Но он обжора и пьяница. Испорченная рыба, блюдо из грибов, плохие устрицы — это скорее будет похоже на правду.
Решившись идти этим путем, Клавдия действовала очень быстро. Врач, который служил у нее, бывший раб Эвдем, сварил медленно действующий яд, который, если его подсыпать маленькими порциями, создавал картину изнуряющей болезни. Слугу, обязанного пробовать еду Друза, подкупили и посвятили в тайну; наследник заболел, но никто не воспринял это всерьез, в том числе и император. Тогда он еще жил в Риме, каждый день ходил в курию и, казалось, не имел больше никаких забот. Но «болезнь» привела, как и было задумано, к смертельному исходу.
Сеян значительно продвинулся к своей цели. Его отношение к Клавдии становилось все более прохладным. Она была лишь инструментом, и теперь надлежало от нее избавиться. Однако ему хватило ума, чтобы не дать ей этого почувствовать. Без тени сомнения в голосе он говорил с ней об их браке и блестящем будущем. Сеян отправил Тиберию письмо, в котором просил разрешения на брак с Клавдией, зная точно, какой будет реакция императора. В ответ он получил длинное приветливое послание, где говорилось, чтобы он оставил женщину в покое, поскольку у Тиберия для них — и Сеяна, и Клавдии — другие планы.
С этого момента отношение Сеяна к Клавдии изменилось. Он обращался с ней резко и холодно, и она частенько ходила с заплаканным лицом. Но это не бросалось в глаза: ее слезы приписывали горю по поводу утраты мужа. Клавдия пригрозила Сеяну рассказать об убийстве, но тот лишь хмыкнул и провел пальцем по ее шее.
— Было бы жаль твоей красивой головки, моя госпожа. Тебе ведь только тридцать пять. Для меня ты немного старовата, ты должна это понимать, а вот для смерти слишком молода.
Что ей оставалось делать? Она не хотела умирать и поэтому, скрипя зубами от злости, молча наблюдала, как Сеян ухаживал теперь за ее дочерью Юлией. Она была внучкой императора, а Сеян хотел при помощи женитьбы как можно ближе придвинуться к трону. Но и здесь возникло препятствие: Юлия уже три года была замужем за Нероном, сыном Германика.
Сыновья Германика! Сеян знал, что не сможет их обойти. Калигула был еще ребенком, про него он мог пока забыть, но были два других, прежде всего муж Юлии. Однако нельзя же было продолжать охоту на наследников перед носом императора. Старик здорово мешал ему, пока находился в Риме, и Сеяну пришло в голову убедить его в преимуществах отдаленной резиденции.
Остров Капри был давно хорошо знаком императору: здесь находилась летняя вилла Августа, где он с удовольствием останавливался и куда часто приглашал Сеяна. Мысль об острове нравилась ему все больше и больше. Римом он был сыт по горло. Тиберий не любил людей, а они — его. На Капри он мог бы жить только в окружении друзей, взял бы с собой, например, своего учителя Тразиллия, которого ценил и который тоже недолюбливал Рим. Когда он думал о придворных негодяях, курии, сенаторах, своих многочисленных родственниках, вечно чего-то просящих… Нет, Сеян прав! По крайней мере, можно попробовать.
На тридцатом году правления Тиберий переселился на Капри и передал управление Римом в руки Сеяна, которому доверял как никому другому. Теперь путь префекта оказался свободным, и он принялся за устранение сыновей Агриппины и покойного Германика.
То, что Тиберий не был расположен к членам этой семьи, Сеян знал, и поэтому начать с уничтожения тех, кого император особенно не любил, — Випсании Агриппины, властолюбивой и жаждущей мести матери Нерона Цезаря, Друза и младшего Калигулы.
С Капри он получил указание действовать по собственному усмотрению, тем более что эта Агриппина принимает императора за отравителя. Поведение во время ее последнего визита Тиберий не забыл и не простил.
Успех пьянил Сеяна. Он сам оставался в тени, все происходило по приказу императора.
Чтобы избежать обвинения в произволе, Сеян собирал доказательства вины Агриппины. Он распорядился наблюдать за ней и сыновьями день и ночь, записывать каждое неосторожно сказанное ими слово. Так, она якобы выразила желание отправиться с сыновьями под защиту рейнской армии, где ее покойного мужа по-прежнему помнили и чтили. Говорили и о том, что она будто бы собирается однажды прийти на форум, чтобы просить народ и сенат о помощи. Те, кто знал гордую Агриппину, прекрасно понимали, что она скорее с высоко поднятой головой отправится на казнь, чем станет так унижаться. Но ее друзей Сеян запугал. Стоило распустить слух, что Агриппину готовятся обвинить в государственной измене, как пугливые и осторожные стали избегать общения с ней. И вот гордая, страстная и неосмотрительная Агриппина осталась совсем одна. Калигула ссылался на свою юношескую тогу, а взрослые сыновья были ей плохой защитой. Нерон настолько растерялся, что не знал, о чем должен говорить и как вести себя. Друз, который не любил ни мать, ни братьев, был человеком необузданного, дикого нрава, и Сеян только ждал, когда тот промахнется.
Что касается Агриппины, он решил, что время пришло. Сенат выдвинул против нее обвинение в преступлении против власти, одним из пунктов которого было то, что она подозревала Тиберия в отравлении своего мужа. Когда все пункты обвинения были обнародованы, толпы людей собрались на форуме, окружили курию и, выкрикивая здравицы в честь императора, дали сенату понять, что, по мнению народа, императора лживыми обвинениями ввели в заблуждение. Теперь Сеян начал действовать быстро.
Он приказал преторианцам схватить Агриппину. Во время ареста та осыпала императора самыми грязными оскорблениями и защищалась, как дикая кошка. Ее избили и даже повредили глаз, но в этом, по мнению Сеяна, была виновата сама жена покойного Германика.
Калигула, увидев приближающихся преторианцев, быстро выскользнул через задние двери. Он уже начал удивляться, почему Сеян — или Тиберий — медлил с арестом. Младший сын Германика не хотел иметь к этому никакого отношения, ведь его дальнейшим планам Агриппина только мешала, пусть даже она и была его матерью.
Начав это дело, Сеян решил довести его до конца. Спустя несколько дней он приказал схватить Нерона, а Друза посадил под домашний арест.
Калигула же принял единственно правильное решение: он бежал из опустевшего дома к своей прабабке Ливии, которая, будучи вдовой боготворимого императора Августа, пользовалась большим почетом и не испытывала уважения ни к Сеяну, ни к приемному сыну Тиберию. Она прожила на свете уже почти девяносто лет, но принимала во всем происходящем живое участие, не вмешиваясь, правда, в государственные дела. Ливия осуждала преследование Агриппины и ее сыновей, но не сделала ничего, чтобы их защитить. Когда же Калигула попросил у нее приюта, с готовностью приняла его и дала по-старчески дребезжащим голосом такой совет:
— Оставайся здесь, пока опасность не минует, а потом отправляйся на Капри, к Тиберию. Только там ты будешь в безопасности, пока император покрывает Сеяна. Он тоже будет свергнут, и, я думаю, очень скоро. Но это должно произойти до смерти Тиберия — слышишь! Иначе, я вижу это, для Рима начнутся мрачные дни.
Калигула знал, что Ливия права, тысячу раз права. С тех пор как юноша научился разумно рассуждать, он ценил ее мнение и восхищался ею: он видел в ней своего рода Пифию, чьи предсказания — пусть иногда и не совсем ясные — всегда оказывались правдой. У этой женщины было чему поучиться.
— Но как ты представляешь это себе, благородная Ливия? Как свергнуть Сеяна? Чтобы до него добраться, придется уничтожить половину Рима. В его окружении не только льстецы, среди них есть по-настоящему преданные люди. Для них Тиберий лишь мрачная тень, накрывающая Рим, которая скоро с помощью Сеяна рассеется.
Изрытое глубокими морщинами лицо старухи осталось неподвижным. Только по-прежнему живые глаза говорили о ясности духа, пребывающего в этом старческом теле.
— Это так, но Рим — не вся империя. Прокураторы и легаты в провинциях — почти все без исключения верные государственные слуги и не расположены к узурпатору, так же как префекты и трибуны легионов. Против них римские преторианцы ничто, крошечная городская армия, которую не составит труда смести. Сеян думает, что Рим на его стороне, а все остальное приложится само собой. Но все как раз наоборот; Октавиан никогда не забывал об этом. Едва ли он стал бы нашим святейшим Августом, если бы прежде не победил своих противников в провинции и не положил к ногам сената завоеванные трофеи. Тогда, только тогда Рим преклонится перед тобой. Сеян может быть хитрым, мужественным и решительным, но все же он глуп, потому что не понимает сути дела. Этот человек из благородной, но провинциальной семьи. Он проиграет, Гай, поверь мне. Это так же точно, как то, что завтра взойдет солнце.
— Но если он продержится еще два, три года или даже пять лет?
Калигула не был уверен, что морщинистая гримаса на лице Ливии означала улыбку.
— Что произошло бы, если бы Антоний победил моего Октавиана? Этого не могло случиться и не случилось, потому что Октавиан к тому времени приобрел прочную опору законности, против которой Антоний ничего не мог сделать. Он сидел с Клеопатрой на египетском троне и этим отказался от Рима. Для Сеяна это не очевидно, но если он попытается, как червяк, пролезть в нашу семью, то тем самым прогрызет дыру в законности и станет предателем Рима. Я надеюсь только на одно и молю об этом всех богов: чтобы они дали мне дожить до того момента, когда Сеян падет и его предательство раскроют.
Калигула с глубоким почтением поцеловал руку Ливии и произнес:
— Я разделяю твое желание, благородная Ливия.
А про себя он подумал: «Я хочу пережить вас обоих, и чем больше народу Сеян уберет с моего пути, тем меньше грязной работы мне останется и тем быстрее я окажусь у власти».
В Риме начался процесс над Агриппиной. После непродолжительного слушания был оглашен следующий приговор: пожизненная ссылка на пустынный остров Пандатерия далеко в Тирренском море. Несколькими днями позже такое же наказание получил и ее старший сын Нерон. Его отправили на Понтийские острова. За надменного и необузданного Друза Сеян взялся лично. На несколько месяцев он оставил его в покое и даже заставил поверить в возможность разделить с ним, Сеяном, власть, но как только Друз успокоился и стал смелее в речах, он сразу же оказался в застенках на Палатине. Сеян же значительно приблизился к своей цели: Юлия, жена Нерона, была теперь свободна, а она-то как родная внучка императора и была ему нужна. На этот раз он не собирался спрашивать разрешения у Тиберия.
Сеян начал настойчиво ухаживать за Юлией, но больших усилий не понадобилось. Двадцатидвухлетней женщине давно надоел скучный муж, и она втайне восхищалась хитрым и влиятельным Сеяном. Юлия дала согласие на тайный брак: ведь еще не все противники были выведены из игры.
Мимоходом Сеян вспомнил о том, что Калигула, младший сын Агриппины, еще остается на свободе. Но тот был ребенком и пока не представлял опасности. Потом Луцию Элию Сеяну дорого пришлось заплатить за свою ошибку.
Калигула очень скоро последовал совету прабабки и отправился под защиту Тиберия, который по закону, усыновив Германика, приходился ему дедом.
3
Корнелий Сабин был потомком патрицианской ветви древнеримского рода, корни которого уходили в стародавние республиканские времена. Среди его предков были сенаторы, консулы и полководцы. С течением веков род разрастался, разделяясь на основные и боковые ветви, богатые и бедные. Его отец, Корнелий Цельсий, происходил из не столь значительной семьи, которая не могла похвастаться ни консулами, ни полководцами, породив лишь землевладельцев, ученых мужей да поэтов.
Цельсий занимался науками долго, пока не истратил наследство своего отца. Но как ученый и писатель мог разбогатеть? Собственными открытиями? Это казалось уж очень ненадежным, и он стал книготорговцем. Цельсий не пошел общепринятым путем и решил отказаться от дорогостоящих рабов-переписчиков, нанимая в качестве копиистов обедневших учителей, школьников, желающих немного подработать, или плохо оплачиваемых секретарей, которым не хватало на хлеб. Их не надо было одевать и кормить, а после работы они шли домой. В противоположность многим рабам они были старательны, поскольку дорожили хорошо оплачиваемой работой. Так на основе договора у Цельсия трудились от шестидесяти до ста копиистов. На свой страх и риск он переписывал только самых популярных авторов, таких как Платон, Вергилий, Овидий, Катулл и Цицерон, или циклы греческих легенд, которые посвятил императору Тиберию. Каждый знал, какую литературу император любил больше всего и насколько важным было для него, чтобы народ ее читал. Иногда Цельсий обращался к современным авторам, например переписывал труды Луция Сенеки, который наряду с философскими трактатами опубликовал две драмы.
Таким образом Корнелию Цельсию удалось за сравнительно короткий срок заработать неплохое состояние, и его единственный сын Сабин вырос в достатке и богатстве. Казалось, он старался во всем быть противоположностью своему отцу. Цельсий никогда не покидал стены родного Рима, а его сын уже в четырнадцать лет совершил свою первую вылазку, дошел он, правда, только до Остии. Цельсий больше всего ценил уютную, спокойную жизнь ученого, размеренные трапезы, строгий распорядок дня и по возможности отсутствие в жизни перемен. Достаточно было переставить сундук или купить новую мебель, чтобы привести его в отчаяние, в то время как сын обожал постоянно что-нибудь менять. Скорее по соображениям удобства Цельсий всю жизнь хранил верность жене, тогда как двенадцатилетний Сабин соблазнил пожилую прачку, которая сама была этим безмерно удивлена. С того момента он не давал женщинам проходу и в восемнадцатилетнем возрасте имел опыт, который иной не приобретет и за всю жизнь.
— Откуда это у него? — удивлялись родители, качая головами.
— Только не от меня! — утверждал Цельсий. — Правда, мой дядя Криспий, брат отца, был таким же непутевым бродягой. В двадцать лет он отправился в Испанию, и с тех пор мы его не видели.
Сабин вырос красивым юношей: стройным, подтянутым, среднего роста, с каштановыми волосами и голубыми глазами, унаследованными от матери. Но интенсивная голубизна его глаз таила в себе нечто беспокойное. На его томную улыбку женщины летели как пчелы на мед, и каждая думала, что этот сияющий зовущий взгляд предназначен ей — ей одной. Однако в действительности все было наоборот. Взгляд этих голубых глаз взывал ко всем женщинам в Риме, Италии, провинциях — вообще ко всем женщинам на свете.
Сабин рос в мире духовном. Писатели, поэты и ученые были постоянными гостями в доме отца, а разговоры шли все больше о литературе, науке и искусстве. Природа наградила мальчика превосходной памятью, и он не только знал много всего о женщинах, но и был в состоянии выступить с трехчасовым докладом о литературе августинского периода. Однако это был мир его отца, и Сабин заявлял, что смертельно скучает в нем. Но все же он немного лукавил и не упускал возможности в кругу друзей похвастаться своими познаниями, а дома делал вид, будто до всего этого ему нет дела. Здесь он со всей страстью рассказывал о состязаниях в цирке Максимуса и мог перечислить по именам победителей — голубых, зеленых, белых и красных
[4] — за последние три года.
Теперь Сабину исполнилось девятнадцать, он сменил юношескую тогу на тогу вирилия, но все еще не мог понять, чего хочет. Он жил одним днем, помогая иногда, когда хотелось, отцу связывать свитки. Мать Сабина Валерия души не чаяла в сыне и не придавала значения его слабостям.
Сегодня утром юноша проснулся хорошо выспавшимся, что бывало нечасто, и решил провести день с пользой. Сабин хотел доставить отцу радость, ведь он очень любил этого щедрого, рассеянного и снисходительного человека. И вот он явился ранним утром к удивленному Корнелию Цельсию и попросил дать ему работу.
— Ты же знаешь, отец, я все могу делать: и склеивать бумагу, и обрезать фронты, и разглаживать листы пемзой — как сказал наш Катулл: «Arida modo pumice expolitum» (что только что разгладила пемза), — и потом наматывать все на деревянный стержень. Я ничего не забыл?
Цельсий улыбнулся. Он воспринял неожиданное рвение сына как дар богов, подумал, что этот редкий и к тому же добровольный трудовой порыв — начало поворота к лучшему, надежда, что он наконец повзрослел.
— Да, сын мой, самое важное. На конце стержня должен быть прикреплен указатель с именем, иначе книга останется без названия и ее трудно будет найти в библиотеке.
Сабин стукнул себя по лбу с притворным отчаянием.
— О, все девять муз, которым мы обязаны куском хлеба, название! И правда, было бы нехорошо, если бы наш просветленный Сенека отправился в библиотеку и ничего не нашел на букву «С», потому что безалаберный сын Корнелия Цельсия забыл прикрепить указатель с именем.
Отец терпеливо ждал, когда он закончит свою речь.
— Если теоретическое вступление к работе окончено, ты можешь приступать к практике.
Сабин поднял на него свои голубые глаза.
— Я невозможен! Прости меня, отец. Боги наградили тебя никчемным сыном.
— Кто знает… — проговорил Цельсий с надеждой и пододвинул сыну стопку листов папируса.
Сабин тут же принялся за работу, напевая про себя. Но работоспособности его скоро пришел конец.
— Почему мы так редко делаем книга в переплетах? Они ведь оказались такими практичными? Можно разместить гораздо больше текста, и так удобно листать страницы, вместо того чтобы держать свитки двумя руками. И потом…
— Сабин, ты об этом меня часто спрашивал, — перебил его отец, — и я снова могу повторить: ты прав, но почти все наши заказчики консервативны. Если они увидят две книги Катулла: одну в переплете, а другую в свитке, и обе будут стоить одинаково, большинство из них купит свиток. Для таких перемен требуется время.
Так минуты тянулись одна за другой, и Сабин почувствовал непреодолимую скуку. Он зевал почти не переставая, поглядывал то на песочные часы, то на солнце. В конце концов юноша встал, потянулся и сказал:
— Похоже, время движется к полудню. У меня разыгрался волчий аппетит.
— Еще немного, — попросил Цельсий, — ты должен смазать кедровым маслом книгу Овидия. В лавку каждый день приходят покупатели и жалуются, что их книги поела моль.
Но вот и эта работа была сделана, и они сели за стол.
Дом Корнелия Цельсия располагался на Виминале, одном из семи холмов, на которых возник Древний Рим, в очень хорошем дорогом квартале с большими садами и богатыми зданиями. Доставшийся по наследству, когда-то раза в три больший земельный участок Цельсий мало-помалу распродал, и в результате остался лишь старинный красивый дом, к которому прилегал маленький ухоженный сад. Погода стояла замечательная, и Валерия велела накрыть стол здесь, в саду. Повариха, садовник и мальчик-слуга, бывший, что называется, на побегушках, ели по старой традиции со своими хозяевами, но за отдельно накрытым столом. То, что они были рабами в доме Цельсия, не играло роли — ни он, ни Валерия не давали им это почувствовать. Как обычно, когда сын бывал дома, Валерия велела приготовить его любимые блюда. На этот раз она выбрала смесь из рыбы, ракушек и медуз, приправленных чесноком, кориандром, орегано, любистоком и перцем. На десерт подали сладкое блюдо из фиников, орехов, семян итальянской сосны, перца и меда, обжаренное в масле.
Сабин, довольный, вытер губы.
— Я немного прогуляюсь — это полезно для пищеварения.
— Возвращайся побыстрее, у меня для тебя есть еще работа, — распорядился Цельсий.
Сабин посмотрел на отца преданными глазами.
— Слушаюсь, мой господин и повелитель! Обещаю быть на месте в срок.
Несмотря на то что время уже перевалило за полдень, в городе царило оживление. Туда-сюда сновали рассыльные, рабы перетаскивали ношу, неспешно проезжали на лошадях преторианцы; по распоряжению Сеяна их лагерь был разбит на другой стороне Виминала. Они должны были выполнять функции личной охраны императора, но, в сущности, это были люди Сеяна, и именно с их помощью он надеялся получить власть.
Казалось, Сабин бездушно прогуливался по городу, но, не отдавая себе отчета, он все ближе приближался к своей цели, Он поклялся, что не будет воспринимать это всерьез, однако вот уже в который раз его тянуло на Марсово поле, где упражнялись в обращении с оружием солдаты.
Что искал здесь, среди простых, пропахших потом преторианцев сын богатого книготорговца Корнелия Цельсия? Правда, на Марсовом поле происходило еще кое-что. Группы молодых людей занимались здесь спортивными упражнениями: бегали, прыгали, сражались на мечах и боролись врукопашную, но Сабин ненавидел такие массовые игры. Он был убежденным одиночкой и всегда делал то, что хотел. Тогда почему его сюда тянуло?
Пару недель назад он прогуливался здесь и наблюдал за упражнявшимися преторианцами. Тогда-то и привлек его внимание один человек, который носил отличительный знак центуриона высшего класса. Он занимался со своей группой солдат, но при этом не кричал, не грозил им и не впадал в приступы безумия, как это было принято у военных. Высокого роста, определенно выше всех других, центурион обладал мускулистой фигурой борца и отдавал приказы ровным мягким голосом, а его простое лицо оставалось внимательным и спокойным. Он выглядел необыкновенно ловким фехтовальщиком: молниеносно отражал атаки, так же быстро и неожиданно нападал, а удар его был настолько сильным, что у пары противников мечи вылетели из рук.
И вдруг у Сабина возникло желание научиться этому. Он захотел стать таким же быстрым и ловким и мощными ударами сражать неприятелей.
После тренировок центурион распустил своих людей, а сам снял шлем и панцирь и, натянув тогу, быстрыми шагами направился в сторону терм Агриппы, как предположил Сабин.
Юноша не хотел идти за ним по пятам, поэтому выбрал обходной путь: мимо храма Нептуна и дальше, вдоль по переулку, что проходил между театром Помпея и залом. Термы, построенные двадцать лет назад Марком Агриппой, другом Августа, предлагали своим гостям лаконикум — паровую ванну, большие бассейны с холодной и теплой водой, помещения для отдыха, сады, специально вырытое озеро и другие удобства.
Сабин нашел того, кого искал, в паровой ванне, присел поблизости и стал ждать, пока обжигающий пар не заставит течь пот. Когда центурион направился к выходу, юноша некоторое время следовал за ним, а затем бросился с головой в бассейн с холодной водой. Здесь он и обнаружил его внушительную фигуру. Большинство мужчин в термах были обнаженными, центурион же носил маленький кожаный фартучек. Сабин намеренно прыгнул поближе к нему и, вынырнув, принялся многословно извиняться.
— Не стоит извинений, это всего лишь брызги, — ответил мужчина.
— Я ошибаюсь или действительно видел тебя раньше на Марсовом поле во время тренировок? Ты носишь на шлеме знак центуриона.
— Да, это был я. А ты тренируешься с группой?
— Нет-нет, я только наблюдал и должен сказать, что ты произвел на меня впечатление. Я многое отдал бы, чтобы так же владеть мечом. Кстати, меня зовут Корнелий Сабин.
Его собеседник польщено хмыкнул.
— Этому можно научиться. Ты молодой и крепкий, и никто не мешает тебе попробовать.
Тут он протянул Сабину руку и назвался.
— Кассий Херея, центурион преторианского легиона.
— Ты не согласишься давать мне уроки? Конечно, за плату.
Херея отрицательно покачал головой:
— На это у меня нет времени, Сеян не дает нам вздохнуть. Но ты сможешь найти меня два-три раза в неделю на Марсовом поле, и после тренировок мы немного позанимаемся.
Сабин воспользовался предложением и уже четыре раза тренировался с Хереей, конечно только на деревянных мечах. Потом они ходили в термы, и Сабин настоял на том, что хотя бы за это возьмет расходы на себя. В помещении для отдыха они беседовали вполголоса, и Сабин узнал, что Херее исполнилось тридцать пять лет, он принимал участие в некоторых германских походах и вот уже шесть лет служит в Риме, в преторианском легионе.
— Заработок здесь выше, и я смог обзавестись семьей. Женат уже пять лет, у меня двое детей — сын и дочь. Больше мы не можем иметь, потому что квартира, которую снимаем, очень тесная. Марсия хотела бы купить домик в Транстиберии, они там стоят совсем недорого.
Так постепенно они посвящали друг друга в обстоятельства своей жизни, и Сабин чувствовал, что этот человек был его полной противоположностью. С самого начала Херея четко планировал свою жизнь, он жил в мире приказов и обязанностей, и это было его добровольным выбором. Легион стал для него отечеством, семьей и родным домом. Он хотел, когда оставит армию и получит причитающиеся деньги, купить в Пренесте, где его брат трудился на доставшейся от родителей арендуемой земле, собственный надел. В отношении женщин у него также были совсем другие представления.
— Я против того, чтобы гулять и тратить на них силы и деньги, даже если ты не женат. Лучше уж побольше сэкономить и жениться потом на порядочной девушке. И никакого распутства. От этого только ссоры и неприятности. Наша жизнь с Марсией, во всяком случае, началась хорошо.
Вот что узнал Сабин о своем новом друге. Друге? Да, в мыслях он так его уже называл. Хотя по характеру они были очень разными. Сабин уважал спокойную уверенность, целеустремленность и старомодные добродетели Кассия Хереи. О том, что нашел центурион в нем, юноша на много лет младше, Сабин не задумывался.
Между тем он подходил к тренировочной площадке, которую потеснили строения последних десяти лет, да так, что она оказалась в кольце храмов. Уже издали Сабин различил хорошо знакомые звуки: звон мечей и приглушенные удары о щиты.
Это была территория мужчин. Правда, ни один закон не запрещал присутствовать здесь женщинам, но приходить сюда осмеливались немногие, и их лица, как правило, скрывала вуаль.
Проституткам же доступ на Марсово поле был закрыт, им разрешалось заниматься своим промыслом только в районе Субуры — квартале между Капитолием и Эквелиниумом.
Сабин поискал глазами знакомую высокую фигуру друга, но тут кто-то сзади положил ему на плечо руку. Сабин оглянулся и увидел сдержанную улыбку на спокойном лице Хереи. Тот уже переоделся и, казалось, был рад встрече.
— Здравствуй, Сабин! Я думал, что ты сегодня не придешь. Для упражнений у меня больше не осталось времени, только, пожалуй, час для терм. Сеян приказал сегодня вечером всем преторианцам явиться для совещания.
Когда они парились, Херея мялся и никак не мог решиться заговорить:
— У меня к тебе есть вопрос, точнее просьба. Ты как-то предлагал мне платить за уроки, но я отказался от денег. Не хочу их брать и сейчас, но ты мог бы по-другому, скажем, отблагодарить меня, если ты, конечно, хочешь…
Сабин не вытерпел:
— Да говори же, Херея, мы ведь уже старые знакомые! Если я что-то могу для тебя сделать, я сделаю это.
Херея придвинулся вплотную к нему и прошептал:
— Я бы хотел научиться писать, понимаешь? Не то чтобы мне этого сильно недоставало, но меня задевает, когда мальчишки из богатых семей, которые могли позволить себе нанять учителей, смеются надо мной. К тому же, если я научусь читать и писать, меня могут повысить, возможно, я даже стану трибуном.
Сабин положил руку на плечо Хереи:
— С удовольствием, мой друг. Я буду рад оказать тебе услугу. Но не думай, что это так просто!
— Просто или нет, — твердым голосом заявил Херея, — я решил, что научусь, и сделаю это. Раньше у меня не хватало мужества попросить кого-нибудь, а учителя я бы не смог себе позволить. Представляю себе лицо Марсии, когда она…
— Когда она что? — поинтересовался Сабин.
— Когда она узнает, что я научился читать и писать. Свое имя я уже могу кое-как нацарапать, центурионы должны это уметь, и буквы я выучил наизусть, но не знаю, что они обозначают.
— С этим мы разберемся, — обнадежил его Сабин. — Если восьмилетний может этому научиться, научится и тридцатилетний. Кстати, где мы будем заниматься? У тебя дома? В термах? Или на тренировочной площадке?
Херея рассмеялся.
— Ну уж нет, выставлять себя на посмешище я не собираюсь. Дома не получится, там слишком тесно. Мы могли бы заниматься где-нибудь на природе…
Сабин неодобрительно покачал головой.
— Нет, Херея, это не годится. Мир письменных слов требует тишины, уединенности. Ты будешь приходить ко мне. У нас большой дом на Виминале, в моем распоряжении две комнаты, а родители будут в восторге, если я чаще стану оставаться дома.
— Спасибо тебе, Сабин. Если ничего не случится, послезавтра я снова приду сюда, и мы обсудим все подробнее, а сейчас мне пора. Сеян не любит ждать.
Еще час Сабин оставался в термах, но потом ему стало скучно, кроме того, он ощущал сильную потребность в женщине. Поразмышляв немного, какая из подруг жила поблизости, он вспомнил про Лидию. Она была вольноотпущенной рабыней, гречанкой, уже не первой молодости и дважды вдовой. Когда-то она принадлежала одному богатому торговцу зерном. После смерти тот оставил завещание, в котором распорядился отпустить всех своих рабов. Потом Лидия два раза выходила замуж за мужчин намного старше ее, которые быстро умирали, оставляя ей наследство.
— В третий раз, — говорила она, — я моту себе позволить выйти замуж за молоденького, и ему необязательно быть богатым. Но пока я не найду подходящего, моя постель не должна остыть.
Об этом несколько недель назад позаботился Сабин, но чем чаще он появлялся на Марсовом поле, тем реже заглядывал к Лидии.
«Самое время заглянуть к ней снова», — подумал Сабин и отправился к дому Лидии. Это было уже довольно старое здание с четырьмя квартирами, которые Лидия сдавала внаем. Она очень строго взимала плату за жилье и не терпела никакого беспорядка. Дом находился в тихом месте недалеко от моста Квириналия, благодаря чему у Лидии едва ли возникали проблемы с жильцами, большинство которых были заняты на работах в многочисленных храмах.
— Посмотрите-ка, какой гость пожаловал! Ты еще помнишь мое имя?
— Лучше прикуси свой дерзкий язычок, а то я снова уйду, — ответил Сабин, широко улыбаясь.
— Так иди! — напустилась на него гречанка, и ее темно-серые глаза вспыхнули гневом.
— Как раз этого я не хочу делать, моя целомудренная Лидия, — Сеян прошел мимо нее в дом.
Дверь в маленький сад стояла открытой. Сабин устроился на лавке, на которой были набросаны подушки, и от души зевнул.
— Термы расслабляют, и так хочется пить. Ты могла бы угостить своего гостя, о прекрасная гречанка.
Лидия теперь успокоилась и смотрела на Сабина с обожанием.
— Угостить чем?
— Вином, хлебом, сыром, орехами, сушеными фруктами — что-нибудь найдется в твоем доме?
— От еды и питья мужчины становятся сонными и вялыми, но глоток вина ты получишь. Он добавит огня в твои чресла.
— Ты называешь вещи своими именами, и мне это нравится.
Он притянул пухленькую гречанку к себе на колени и распустил ее черные как смоль волосы. Та отвела его руки, освободилась из объятий юноши и закрыла окна и двери. Потом ловко выскользнула из своей длинной туники.
— Возродившаяся Юнона, покровительница Рима… Кто обнимает тебя, чувствует на своей коже божественное дыхание и еще кое-что.
— Не говори так напыщенно! Сразу ясно, что твой отец имеет дело с книгами и поэтами.
Она помогла Сабину освободиться от одежды и нежно погладила его член.
— Все по-прежнему на месте, мой козлик? О, какой он тугой!
— Берег специально для тебя; почти месяц я само целомудрие, вся моя мужская сила принадлежит только тебе — тебе одной!
Лидия звонко рассмеялась.
— Так я тебе и поверила…
Они опустились на кровать, и Сабин почувствовал готовность женщины принять его. Он резко вошел в нее, сжимая сильными, натренированными руками мягкое округлое тело так, что, казалось, вот-вот ее задушит.
— Помедленнее, любимый, помедленнее… — постанывала Лидия. — Оставь немного на потом.
Да, она была идеальной любовницей, пусть немного глуповатой и непригодной для изысканного разговора, но он не за этим пришел сюда.
4
У префекта преторианцев Луция Элия Сеяна было ощущение, что он совсем близко подошел к своей цели.
Он устранил с пути семью Германика, жил с Юлией, родной внучкой императора, и все же не знал, как развернутся события дальше. Тиберий никого не определил своим наследником; император хранил молчание.
Во время своего последнего визита на Капри Сеян даже не был принят. Тиберий велел передать ему свои извинения, якобы состояние его здоровья не позволяло вести долгие разговоры. Так с Сеяном еще никогда не поступали, и он вернулся в Рим в глубокой задумчивости. Что-то шло не так, и он должен был выяснить, что именно.
Сеян обсудил положение со своими ближайшими друзьями и спросил:
— Кто по закону может стать следующим наследником?
— Маленький Тиберий Гемелл, сын Друза и Ливии. Он родной внук императора.
— Но ведь ему только десять лет, — возразил Сеян.
— И все же лучше от него избавиться… — послышался совет.
— А где он сейчас?
— На Капри.
Эта новость поразила Сеяна. На Капри у императора. Это значило, что он недосягаем для преследователей и шпионов. Неужели все планы префекта, его многолетнее, мучительное и кровавое продвижение к власти — все рухнет из-за десятилетнего ребенка? Стоп! Еще оставался Гай Калигула, последний гуляющий на свободе сын Германика и приемный внук Тиберия. Он уже не был ребенком, Калигуле должно было исполниться семнадцать или восемнадцать лет.
«Я потерял его из виду, — размышлял Сеян. — Но теперь эту ошибку пора исправить и завершить борьбу за власть».
Сеян снова почувствовал почву под ногами и с облегчением вздохнул. Да, это был выход. Сделать вид, что он хочет возвести Калигулу на трон, пусть тот сам убирает с дороги маленького Тиберия. Тогда на пути к власти останется единственный человек — сам Калигула. Сейчас Сеян должен был ввести его в круг ближайших друзей, обольстить, заманить в свои сети. Этот молчаливый и неприметный Гай Цезарь не представлял собой серьезного противника. Так подумал. Сеян и снова погрузился в свои грандиозные мечты, к исполнению которых был теперь так близок. Имя Луция Элия Сеяна, императора Августа, будет вписано золотыми буквами в историю Римской империи. У них с Юлией родятся дети, и он станет основателем династии Юлиев — Элиев.
В Риме он уже был полновластным хозяином. Десять преторианских когорт только и ждали в своем лагере на Виминале сигнала, чтобы защитить его живой стеной из своих тел. Но в этом давно не было необходимости. Народ любил его, потому что он ограничил власть сената и патрициев. Вот уже несколько лет его день рождения отмечался публично, а по всему городу красовались его статуи в полный рост. Второй человек в государстве и скоро уже — первый!
Это стоило затраченных усилий, но так уж повелось, что путь к власти всегда был усеян трупами. Стоит только оглянуться! Как обошелся Октавиан со своими противниками, прежде чем стал единовластным правителем? Устранил полсената, чтобы расчистить путь. Только тогда он смог позволить себе стать любимым в народе повелителем, у которого не было больше необходимости мстить бывшим врагам. Он их простил и выставил тем самым на посмешище перед всем светом.
Сеян почувствовал, как в его груди что-то зашевелилось, словно будущий справедливый и великодушный Август Сеян начал прорываться на свет; сейчас он был похож на змею, которая сбрасывает старую кожу, а вместе с ней старые грехи и ошибки.
Гай Калигула все еще жил в доме своей прабабки Ливии, наблюдал за происходящим и выжидал. Его не удивило, когда однажды туда прибыли преторианцы с посланием от Сеяна.
— Гай Цезарь, префект приказал осведомиться, не изъявишь ли ты желание принять участие в праздновании дня основания города с ним и его друзьями?
Калигула молниеносно все обдумал. Могло ли это быть западней? В следующем году он сменит юношескую тогу на тогу вирилия и тогда станет для Сеяна серьезным противником.
— Да, центурион, скажи префекту, что я с удовольствием приеду.
Калигула сразу же пошел к Ливии, которая уже несколько недель не вставала с постели. Дело, мол, не терпит отлагательства. Та едва могла говорить.
— Пожалуйста, покороче, Гай, у меня почти не осталось сил.
— Прости, достойная Августа, но я привык спрашивать твоего совета, прежде чем принять важное решение. Префект пригласил меня присутствовать на празднике основания города. Я согласился, но ты должна знать, где я.
Калигула видел, как легкая ухмылка скользнула по морщинистому лицу.
— Ты правильно сделал, Гай. Отправляйся и постарайся в разговоре один на один выяснить, какие у Сеяна планы. Если он заговорит о возможности для тебя стать наследником, тогда ты в большой опасности. Благосклонно прими все его предложения и сразу же беги на Капри, под защиту императора.
Калигула коснулся губами пергаментной кожи тонкой старушечьей руки и почтительно попрощался. За дверями его передернуло. Как же отвратительна была ему эта мумия! Ей пора умирать — ему она больше не нужна.
Сеян вышел ему навстречу с широко распахнутыми объятиями и провозгласил:
— Дорогу Гаю Цезарю, нашему почетному гостю на празднике семисотвосьмидесятитрехлетия города. Благодаря твоему присутствию, Цезарь, этот юбилей станет настоящим праздником.
Калигула сердечно поблагодарил, разыгрывая наивного юношу.
Он льстил Сеяну, восхвалял его благотворное влияние на Рим и верность императору, который, без сомнения, благодарит богов, что те послали ему такого надежного союзника.
— С твоей помощью, Сеян, это должно быть удовольствием — господствовать и править мировой империей.
— Я всего лишь солдат, и пытаюсь делать то, что могу, как можно лучше.
— Так же думает и наш император, мой высокочтимый дед.
— Прискорбно, что нашему императору уже столько лет. Такой человек, как он, должен был бы править еще многие десятилетия.
— Мне близки и понятны твои слова, Сеян, но мы бессильны перед природой.
— Однако природа наделила нас разумом, который делает нас способными вовремя позаботиться о необходимых распоряжениях.
Калигула сделал вид, что не понимает.
— О чем позаботиться?
«Если он когда-нибудь станет императором, — мелькнуло в голове у Сеяна, — Риму настанет конец через два года, если не быстрее».
— Поскольку мы коснулись этого вопроса, давай разберемся поподробнее, достойный Гай Цезарь. Здесь довольно шумно и слишком много ушей. Прошу тебя, следуй за мной.
Сеян поднялся, а с ним оба его телохранителя. Калигула последовал за ними в маленькую комнату, расположенную рядом.
— Охраняйте дверь и следите, чтобы сюда никто не вошел, если только вдруг не появится сам император. Ты не откажешься от глотка вина, Цезарь?
— Благодарю, я не привык много пить. В доме высокочтимой Ливии Августы не забывают о старых римских добродетелях и вином угощают нечасто.
Сеян улыбнулся.
— Как поживает Августа?
— Она во всем принимает живое участие и настоятельно советовала мне не пренебрегать твоим приглашением на торжество. Ведь я живу очень замкнуто.
— Значит, она знает, где ты… — пробормотал Сеян.
— Она знает все, досточтимый Сеян, больше, чем мы думаем.
— Хорошо, но мы хотели поговорить о другом. Я ценю откровенность, Цезарь, и этим известен. Высокочтимый император Тиберий давно перешагнул седьмой десяток и по законам природы — а мы все им подчиняемся — через несколько лет, возможно, раньше — да убережет нас от этого Юпитер! — отправится к своим божественным предкам. Я тщеславен, Гай Цезарь, в чем признаюсь открыто, и хотел бы и после смерти императора остаться префектом преторианцев. Но кто станет его наследником — кто?
Про себя Калигула подумал: «Как раз префектом ты и не хочешь оставаться, лиса, но я открою тебе путь к императорскому трону».
— Понимаю, префект. Кто же захочет ухудшить свое положение, даже если обстоятельства изменились? Мне дело видится совсем простым: ты мог бы стать регентом при маленьком Тиберии Цезаре и править до его совершеннолетия. Я бы, во всяком случае, постарался на твоем месте.
На такой ответ Сеян не рассчитывал. Для этого Калигулы, похоже, власть и правда ничего не значит.
— Не знаю, подхожу ли для этого я, простой солдат…
— Ты слишком скромен, Сеян. Тот, кто уже почти десять лет — с одобрения нашего императора — почти самостоятельно руководит судьбой Рима, подходит и для регента. Тиберию Цезарю сейчас одиннадцать, и, если его прадед в ближайшие годы освободит трон, пять или шесть лет ты будешь исполнять регентские обязанности.
— А ты, Гай? — вырвалось у Сеяна.
— Я не так тщеславен, как мои братья, которым это не пошло на пользу. Я предпочитаю спокойную, размеренную жизнь, много читаю, хожу в театр, планирую написать биографию моего отца. Вероятно, я пошел в своего дядю Клавдия, он как раз трудится над многотомной историей Римской империи. Такое занятие привлекает меня больше, чем государственная должность.
Сеян поверил ему, потому что хотел поверить.
— Меня радует, Гай Цезарь, что мы так хорошо поняли друг друга.
Калигула заставил свои тонкие губы растянуться в улыбку.
— Почему бы и нет? Я хорошо знаю историю Рима, чтобы понимать, что он своим величием обязан деятельным, талантливым мужьям, таким как ты, префект Сеян.
Оба во время разговора бессовестно лгали, и Калигула показал себя мастером перевоплощения. Едва ли он вел уединенный образ жизни, как рассказывал префекту. Не тратя даром времени, он с недавних пор начал налаживать контакты с многочисленными друзьями и сторонниками своего отца. Кто же не помнил забавного Сапожка, которого Германик повсюду брал с собой? Судьба Агриппины и его старших братьев возмутила многих, хотя они и не могли говорить об этом в открытую. Калигула не занимался ничем — только старался стать заметным. Армия и народ должны были знать, что в семье Германика еще есть наследники.
Конечно, от Сеяна это не ускользнуло, но ни его шпионы, ни он сам не придали деятельности Калигулы большого значения. Кроме того, в планах Сеяна было сделать Калигулу императорским наследником. Но после этого разговора идея регентства его полностью заняла: он направил в это русло все свои усилия.
«Калигула же, — думал Сеян, — рано или поздно разделит участь своих братьев, даже если и не жаждет власти. Основное препятствие — семья Германика — будет, таким образом, устранено, и у народа появится новый кумир для воздаяния почестей».
Император Тиберий уже третий год жил на Капри и не чувствовал ни малейшего желания возвращаться в Рим. Не только потому, что в большом городе он считал себя окруженным врагами и предателями, но и по той причине, что там, что бы он ни делал, за ним наблюдало слишком много глаз. Что он ел, когда спал, с кем имел личные отношения, каких мальчиков предпочитал для увеселения, каким порокам оказался подвержен — все подробности его жизни обсуждались и перевирались, что очень огорчало императора. Тиберий всегда был развратником и остался им в старости. Правда, он этого не стеснялся, но ему не хотелось, чтобы народ узнал о его наклонностях: это бросило бы тень на образ его богоподобного величества.
В каком свете хотел император предстать перед обществом, рассказывают его письма к сенату, как, например, это:
«Сенаторы! Я открыт перед вами и хочу, чтобы и в памяти потомков осталось, что я — человек, который строго выполняет свои обязанности и живет лишь тем, чтобы соответствовать званию принцепса
[5]. Грядущие поколения будут чтить меня, если в их памяти сохранится, что я был достоин своих предков, преисполнен заботы о гражданах, не терял мужества перед лицом опасностей и не знал страха в борьбе за благополучие общества. Это будет нерукотворный храм, который я воздвигну в сердцах, — самый прекрасный и долговечный памятник! Поэтому я и прошу богов о том, чтобы они до конца моих дней сохранили мне уравновешенный и разбирающийся в законах божеств и людей разум, а граждан и союзников о том, чтобы они, когда я уйду, удостоили похвалы и благожелательных воспоминаний мои дела и мое доброе имя».
К сожалению, эта картина больше не соответствовала действительности. Когда-то, в первые годы правления, может, император и был именно таким, пока Сеян не получил власть, а клеветнические процессы по поводу оскорбления величия Тиберия не стали отравлять воздух, но сейчас дела обстояли совсем не так.
От ближайших друзей, с которыми император жил на Капри, Тиберий не скрывал своего развратного нрава, но и не требовал от них участия в любимых представлениях. Старый Тразиллий, его прежний учитель и теперешний астролог, был к этому равнодушен, а со своим близким другом, бывшим консулом Коцеем Нерва он вел разговоры только о литературе и философии.
Таким образом, Тиберий Август имел три лица: императора и государственного мужа, окруженного близкими друзьями, обычного человека и сластолюбца, который в своей старческой похоти не знал меры и был беспощаден.
В юные годы ему удавалось обуздывать свою болезненную страсть к вину, но теперь он ей не сопротивлялся. Император любил тяжелые, терпкие вина, и слуги нередко подносили их ему в постель. Между собой люди называли его пьяницей, но то, что плебеи о нем думали или говорили, Тиберия не беспокоило.
Чтобы поддержать мужскую силу императора, личный врач варил для него любовные зелья, которые, правда, хотя и оказывали нужное действие, но медленно отравляли кровь. Его лицо было покрыто сыпью, а тело — беспрестанно сочащимися гнойниками. Самого императора это нисколько не волновало. Тиберий хотел заглушить страх смерти, а для этого нужна была молодость, наслаждение играми, в которых он уже не мог принимать участия.
С любопытством ожидал Тиберий «новую партию». Это были молодые красивые юноши и девушки, которых его шпионы разыскивали в окрестностях и под разными предлогами забирали у родителей, рассказывая, что император якобы ищет новых слуг, что служить ему и жить на его вилле — большая честь. Но со временем люди стали подозрительными, поскольку их дети бесследно пропадали, не присылали о себе никаких вестей, а о некоторых даже сообщали, что те погибли в результате несчастного случая. Визиты на Капри были строжайше запрещены, и тех, кто тайно пытался пробраться на остров, охрана тут же убивала на месте.
Императора такие пустяки не волновали. Если даже десятки человек из этой безликой, безымянной массы за стенами его дома перестанут существовать, ему до этого дела не было.
Критон, бывший раб из Греции, которому была дарована свобода, немой, слепо преданный Тиберию атлет, беззвучно зашел в библиотеку. Император вопросительно на него посмотрел, и Критон кивнул, ухмыляясь. Он сделал несколько жестов, пытаясь что-то объяснить, но Тиберий нетерпеливо отмахнулся. Немой помог ему подняться из кресла и скрылся за дверью. Сутулясь и немного прихрамывая, император вышел из комнаты и резким движением руки приказал удалиться слугам, которые хотели к нему приблизиться. Он делал все молча, избегая лишних слов; долгие разговоры велись только в кругу друзей. Критон следовал за своим господином на небольшом расстоянии, чтобы в любой момент оказаться рядом, если тот оступится или кто-нибудь осмелится приблизиться к нему без разрешения.
Узкая лестница вела в нижнюю часть просторного здания виллы, где к личной ванной комнате императора примыкали тайные помещения. Сюда можно было попасть через один-единственный, днем и ночью охраняемый проход. В самом большом из этих помещений повсюду лежали обтянутые мехом подушки, а в глубине располагалась темная ниша с удобным креслом, в которое и опустился Тиберий. Путь утомил его, дыхание сбилось, и он почувствовал приступ сильного головокружения. Император велел подать кубок с горячим вином, который жадно осушил и сразу же приказал наполнить вновь. Он хлопнул в ладоши.
Ввели двух девушек и двух юношей в возрасте между четырнадцатью и шестнадцатью годами, одетых в туники длиной до колен. Они выглядели перепуганными и жались друг к другу, как овцы, которых ведут на заклание.
— Что такое? — прокричал император из своей темной ниши. — Вы здесь не для того, чтобы вас пытали или убивали, а для своего и моего удовольствия. Уж будьте любезны, улыбнитесь — я хочу видеть веселые лица!
Или они его не поняли, или были слишком напуганы, чтобы заставить себя улыбаться, — во всяком случае, они со страхом смотрели в том направлении, откуда доносился хриплый голос. Один из охранников замахнулся плетью, и она заплясала по голым икрам молодых людей. Раздались крики, и тут же последовал приказ императора:
— Оставьте! Для этого еще будет время. А сейчас приведите сюда мою гвардию.
Тиберий имел в виду группу юношей и девушек, специально обученных всем видам развратных игр. Их выдрессировали до такой степени, что они тупо и без промедления подчинялись любому приказу. Когда он не мог больше выносить их глупые похотливые лица, их тут же меняли. Чтобы слухи не просочились за пределы дворца, немые рабы отводили их в скалы и сбрасывали вниз, где уже были подготовлены костры для сжигания тел. Пепел высыпали в море. Но мысли об этом не занимали Тиберия, он рассматривал таких людей только как игрушки, призванные удовлетворять его прихоти: когда они становились негодными, их попросту выбрасывали.
Четверо голых «гвардейцев» — двое юношей и две девушки — сразу же принялись за новеньких. Парни схватили отбивающихся девушек и грубо швырнули на разложенные вокруг подушки, сорвали с них одежду и, силой раздвинув их бедра, изнасиловали со стонами и грязными, непристойными выкриками — как любил император.
— Теперь парней! Давайте, девочки, покажите, что вы умеете! — подбодрил Тиберий.
Его обезображенное чирьями лицо расплылось в циничной улыбке. Поскольку женщине почти невозможно изнасиловать мужчину против его воли, проститутки императора использовали другие методы. Они прижимались к юношам, целовали и гладили их, пытаясь умелыми прикосновениями пробудить в них желание.
— Оседлайте этих упрямых жеребцов! Давайте, сильнее!
Девушки уложили молодых людей на подушки и, усевшись верхом, с криками покачивались вверх и вниз, чтобы угодить императору. Они прекрасно знали, что за его немилостью последует жестокая расправа.
Тиберий опрокидывал один кубок за другим, но сегодня он никак не мог взбодриться. Его старый вялый фаллос не шелохнулся, и у императора скоро отпала охота в играх. Он покинул комнату в мрачном расположении духа и велел позвать Тразиллия. Тяжелым от выпитого вина голосом он приказал:
— Выпей со мной, мой ученый друг, и объясни, почему жизнь так отвратительна. Не успеешь родиться, как за твоей спиной уже появилась тень смерти, а когда умрешь, никто не ответит на вопрос, зачем жил, — и прежде всего ты сам.
Тразиллий успокаивающе поднял руки.
— Это верно для других, господин, но не для тебя. Ты продолжаешь дело божественного Августа умело и энергично, поэтому смог сохранить мир и благосостояние в империи.
— Мир и благосостояние… — пробормотал Тиберий. — Да-да, это верно. А где благодарность? Трижды проклятый сенат затевает заговоры за моей спиной, а о Сеяне — единственном человеке, которому я так доверял, мне сообщают в последнее время такое! Но я не хочу наводить на тебя скуку политикой, ученый знаток звезд. Ты никогда меня не разочаровывал, никогда не обманывал. Только скажи мне одно… скажи мне… скажи…
Император провел рукой по своему лицу, как будто хотел что-то смахнуть, и уснул.
«Хвала Юпитеру! — прошептал про себя Тразиллий. — Всегда, когда Тиберий хочет знать правду, меня охватывает ужас…»
Из разговора с Сеяном Калигула сделал правильные выводы. Для префекта он был лишь пешкой, которой тот воспользуется в своих целях, а затем устранит, когда она станет бесполезной или неудобной в его игре. Калигула, наделенный острым умом, видел своего «соратника» насквозь. И он принял единственно правильное решение, вернувшись в дом Ливии только для того, чтобы попрощаться.
Через несколько часов Гай Юлий вместе с телохранителем отплыл на Капри. Тиберий
принял Калигулу удивительно тепло, потому что не мог поверить в то, что его доверенные лица рассказывали о Сеяне, и постоянно требовал новых сообщений.
— Гай! Ты появился как раз вовремя. Кажется, у Сеяна в Риме остались одни враги. Я знаю, что префект тщеславен, но в то, что он желает получить мой трон, не хочу верить. Я хочу услышать твое мнение.
— Приветствую тебя, император! Я искренне рад встретить тебя бодрым и здоровым.
Тиберий сразу заподозрил неладное.
— Почему же? Ты думал, что увидишь меня на смертном одре?
— Не совсем так, но в Риме ходят слухи…
— Слухи? Какие слухи? Скажи мне правду, Гай, я приказываю тебе!
— Клянусь всеми мужами нашей семьи и всеми богами, я могу сказать тебе только правду, которую знаю. Так, как я сейчас сижу напротив тебя, два дня назад я сидел напротив Сеяна. О нашем разговоре я хотел бы тебе рассказать.
— Кажется, префект рассчитывает на то, что ты недолго проживешь, и видит себя будущим регентом при твоем несовершеннолетнем внуке Тиберии Цезаре. Он действует в Риме как диктатор и раздает приказы от твоего имени. Знаешь ли ты, что он тайно помолвлен с Юлией? Когда ты умрешь, он хочет жениться на твоей внучке и с помощью своих преторианцев занять трон. Правда, он не сказал мне этого прямо в лицо, но и не дал повода сомневаться в своих намерениях.
— Я должен был догадаться, — проговорил Тиберий. — В своих письмах он представлялся в последнее время таким безобидным и скромным, что совсем на него не похоже. Вообще-то он просил у меня разрешения на брак с Клавдией, но я остановил его…
— Это было всего лишь хитростью. Клавдию он давно прогнал, поскольку она ему больше не нужна. Весь Рим говорит о том, что она отравила Друза, чтобы угодить Сеяну. Разве ты ничего об этом не знаешь?
Лицо императора окаменело.
— Он виновен в смерти моего сына? Этого не может быть… Я не верю!
— Возможно, это только слухи, но после всего, что я узнал, они кажутся печальной правдой. Сеян умный человек, в этом нет сомнения, и я с готовностью — так же как и ты — подарил бы ему свое доверие. Но твоя милость, император, сделала его самонадеянным и неосторожным. Мне кажется, что он оказался слишком слабым, чтобы противостоять соблазну, и нарушил границы, которые ты ему определил. Ты пригрел на своей груди змею, император! Мне очень жаль, что приходится говорить тебе это, но я подчиняюсь твоему приказу рассказать всю правду, какая мне известна. Возможно, другие принесут тебе лучшие вести…
Император молчал, расчесывая сыпь на лице. Он сорвал повязку и бросил ее на пол, а потом поднял мутные старческие глаза на Калигулу.
— Нет, Гай, лучших новостей для меня нет. Все складывается одно к одному, и то, что ты рассказал, подтверждает предположения моих друзей, которым я доверяю. Но думаю, что сейчас было бы неразумным разуверять Сеяна в прочности его положения. Пусть он продолжает свою игру еще какое-то время. Только так я смогу его изобличить. Я далее хочу передать ему консулат. Он должен тешить себя уверенностью в моем расположении к нему. Это сделает его неосторожным, и тогда я нанесу удар. Я уничтожу его вместе со всеми друзьями и союзниками, со всей его семьей, растопчу, как змею. Я доверяю тебе, Гай. Ни слова из того, что я тебе здесь сказал, не должно проникнуть за эти стены! Ты сын Германика и значишь для меня гораздо больше, чем этот самодовольный выскочка, которому я так долго — слишком долго — доверял!
Калигула праздновал победу. Все шло как он задумал, и, когда Сеян лишится власти, пробьет его час, час Гая Цезаря, которого все называли Сапожком. Калигула рассмеялся про себя: «Сапожок превратится в сапог, которым он наступит им на горло, прежде чем они поймут, что произошло».
Сабин сказал отцу, что отныне по нескольку раз в неделю к ним в дом будет приходить преторианец — центурион Херея, которого он будет учить чтению и письму.
Цельсий в сомнении покачал головой.
— Мой двадцатилетний сын хочет стать учителем, едва ли научившись чему-то сам. По крайней мере храбрый воин хорошо заплатит за твои уроки? Преторианцы должны получать неплохие деньги — за наш счет, конечно же.
— Нет, — спокойно ответил Сабин, — храбрый воин ничего не будет платить. Во-первых, он мой друг, а во-вторых, сам оказал мне большую услугу. Херея, между прочим, старше меня на несколько лет, женат и имеет двоих детей. Иными словами, он не какой-нибудь плут-мальчишка, которого мы пригреем в нашем доме. Он хочет сделать карьеру, а для этого надо уметь писать и читать.
— Хорошо, сын мой, я не хочу тебя переубеждать. Это все же лучше, чем болтаться по улицам и увиваться за женщинами. Почему только ученые и поэты должны гостить здесь? Твердая поступь солдата не повредит нашему изнеженному Аполлоном дому.
— Ты хорошо это сказал, мой дорогой отец. Я всем сердцем с тобой согласен.
Качая головой, Цельсий вышел из комнаты. Сын не переставал его удивлять. Втайне он гордился Сабином, но держал свои чувства при себе.
На следующий день Херея появился сразу после окончания службы.
— Я все-таки рассказал Марсии. В конце концов, она должна знать, где я бываю и чем занимаюсь. На нее можно положиться, от нее никто не услышит ни слова.
— Нет ничего постыдного в том, что ты научишься писать, Херея. Большинство римлян не умеют этого делать, да и не видят в письме никакой необходимости. Итак, садись сюда, и давай не будем терять времени.
Сабин решил начать занятие со знакомых его ученику понятий.
— Возьмем твое имя, которое ты уже умеешь писать.
Юноша пододвинул Херее доску, вложил в руку грифель и потребовал написать его имя. Медленно и очень старательно Херея нацарапал оба слова.
Сабин кивнул.
— Теперь здесь написано Cassius Chaerea. Если я произнесу твое имя медленно и нараспев, будет слышна каждая буква в отдельности. К-а-с-с-и-й. Ты знаешь другие имена, которые начинаются с этой буквы?
Херея задумался.
— Например, твое: Cornelius.
— Хорошо, Херея. При этом надо помнить, что «с», третья буква алфавита, перед «а» и «е» читается по-разному. Буква одна и та же, а произношение меняется. Ты центурион, и в начале этого слова тоже стоит «с», как в слове «Cassius». Или в имени знаменитого оратора Цицерона — Cicero.
Этими примерами Сабин хотел показать своему другу, что все тысячи тысяч слов латинского языка записывались двадцатью четырьмя буквами.
Херея удивился:
— Действительно только двадцать три? Я думал, их сотни.
Сабин рассмеялся.
— И все-таки не думай, что это легко. Но, когда ты научишься писать все двадцать три буквы, тебе будет несложно составлять из них слова и записывать их или читать. Я ходил в школу четыре года и полгода из них потратил на то, чтобы научиться более или менее сносно читать и писать.
— Полгода? А что ты делал там оставшиеся три с половиной?
— Потом эти знания применяют для дальнейшего образования в географии, истории, литературе, философии и других науках. Материал записан в книгах, и, если ты в состоянии их прочесть, тебе больше не нужны учителя. У кого есть деньги, собирают свою собственную библиотеку, другие пользуются общественной. Но мы забежали далеко вперед. К тому же ты не собираешься становиться ни ученым, ни поэтом, а должен учиться письму для практического применения. Военные правила, списки легионеров, годы вашей службы, ваши отличия. Когда тебя повысят, у тебя появится доступ к таким спискам, и ты сможешь быстро узнать, когда и где родился тот или другой легионер, как долго и где он служил, какие имеет заслуги, не спрашивая у него самого. Знание — сила, Херея, что подтверждается вновь и вновь.
Херея учился медленно, но старательно и терпеливо, а когда наконец смог, запинаясь, но без помощи своего учителя прочитать короткие слова, он подпрыгнул и с такой силой ударил Сабина по плечу, что тот чуть не упал.
— Сабин, получается! Это настоящее чудо! Тут стоит пара штрихов мелом, а я смотрю и читаю «pilum»
[6]. А здесь «Mars», «Venus», «Hercules» — все боги записаны, и я читаю их имена как ни в чем ни бывало! Ах, Сабин, ты сделал из меня другого человека. Я никогда не смогу расплатиться с тобой за это.
Сабин радовался вместе с другом.
— Сможешь ли ты расплатиться? Мы тренировались уже стрелять из лука и метать копье. Мы учимся один другого, это дружеский обмен опытом и знаниями.
Да, они действительно стали друзьями в течение последних месяцев, обучая друг друга. Как и Сабин, Херея тоже радовался любому успеху ученика, которого тот добивался со всем упорством и рвением. Сабин не привык утруждать себя чем-либо больше положенного, но рядом находился его друг, и перед ним стыдно было проявлять малодушие. Когда Сабин, стреляя из лука, двадцать раз подряд не мог попасть в цель, он натягивал тетиву в двадцать первый, хотя рука уже отказывалась двигаться, а если была необходимость, то и в двадцать восьмой, и в тридцатый. В конце концов стрела пронзала центр мишени, а потом настал и такой момент, когда он попадал, куда нужно, на пятый раз, а потом и сразу.
Между тем родители узнали, чем расплачивался Херея за обучение, и Цельсий воспринял это со смешанными чувствами. С одной стороны, его радовало, что сын развивается физически, ведь он был поклонником Древней Греции и одобрял атлетические упражнения. С другой стороны, отец хотел, чтобы сын больше интересовался и заботился об их семейном деле, которое он унаследует. Но как раз этим Сабин не занимался вообще.
— Дай мне время, отец, все еще придет. Юность должна испробовать силу. Когда мне исполнится столько лет, сколько тебе, будет поздно тренировать тело.
Что должен был Цельсий ответить на это? Он не привык приказывать. Оставалось лишь надеяться, пусть даже знатоки литературы предупреждали его словами Цицерона: надежды человека обманчивы!
Скоро Сабин познакомился с женой Хереи Марсией. Это случилось, когда его друг сказал:
— Сабин, моя жена становится подозрительной, и я не могу на нее за это обижаться. Когда я после наших занятий по письму поздно прихожу домой — а ты знаешь, как поздно это порой бывает, — она так странно на меня смотрит и зло подшучивает. Марсия с издевкой называет меня писарем и ученым, и я не могу с ней спокойно поговорить. Я давно ей про тебя рассказывал, но, думаю, она мне не очень-то верит. Пару раз она уже сказала, пусть и в шутку, что мой учитель — на самом деле учительница, и за этими шутками я чувствую серьезное подозрение. Мне бы хотелось его рассеять, поэтому ты должен нас навестить.
Сабин ухмыльнулся и, нежась в лучах своего опыта, изрек с видом знатока:
— Да… женщины… Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Не зря же еще Вергилий заметил: женщины капризны и непостоянны. Но, чтобы это утверждать, не надо быть поэтом. Мы, пожалуй, запишем эту фразу, прежде чем закончим урок. Итак, пиши: «Varium et…»
Херея вздохнул, но послушно взялся за грифель и начал записывать предложение.
— Впредь ты должен делать это быстрее, — строго сказал Сабин и проверил, что получилось.
— В слове «semper» не хватает последней буквы и твое «т» должно стать еще красивее. Но, вспоминая наши первые уроки, понимаю, что мы можем гордиться: моим терпением как учителя и твоим усердием как ученика. И я ни разу не воспользовался розгами…
Херея рассмеялся.
— Было бы очень интересно, если бы такой зеленый юнец, как ты, выпорол центуриона. К тому же порка была бы взаимной, ведь на Марсовом поле ученик ты.
— Хорошо, а теперь скажи, что тебе было тяжелее освоить: письмо или фехтование?
— Это совсем просто: для тебя сложнее упражнения с мечом, а для меня — с грифелем. Но ты начал занятия вовремя, а для меня как для зрелого мужчины было гораздо сложнее овладеть всем этим, Я бы и не стал мучиться, но вот вообразил себе, что уйти из армии лучше трибуном.
— Ты совершенно прав, и умение читать и писать должно стать ключом к твоему продвижению по службе. Кстати, я мог бы в этом тебе помочь. Корнелий Лентул, мой дядя, был четыре года назад консулом, а позднее легатом в Германии. Ты наверняка слышал его имя. Если я…
Тут Херея разозлился.
— Нет! Если тебе дорога наша дружба, не заговаривай больше об этом! Я не хочу быть обязан своим местом протекции патриция, пусть он и дядя моего друга.
— Но, Херея, в протекции нет ничего постыдного, если речь идет о достойном человеке. Плохо, когда покровительствуют неспособному и лентяю.
— Возможно, ты и прав, но я хочу своим продвижением быть обязанным только себе самому — как до сих пор и было. Можешь считать это гордыней плебея. Давай раз и навсегда закончим этот разговор.
Сабин кивнул.
— Как хочешь, Херея. Больше ни слова об этом. Когда я должен убедить твою недоверчивую жену в моей принадлежности к мужскому полу?
— Послезавтра у меня будет свободный день. Если хочешь, мы можем позаниматься до полудня, а потом пойти к нам на обед.
Почти девяностолетняя Ливия Августа умирала. Вот уже семьдесят лет она прожила в скромном доме на Палатине, из них сорок как супруга императора Августа, подарившего миру pax romana — римский мир.
Ливии не всегда было легко с мужем, человеком, которому при жизни в провинции воздвигли храм. Непритязательный образ жизни Августа стал легендой. Ему, патрицию в нескольких поколениях, удалось привлечь народ на свою сторону. Тому, кто, как простой крестьянин, съедает на завтрак горсть изюма и запивает его стаканом воды, можно было верить. Он употребит налоги по назначению.
Но и ему было с ней нелегко. Ливия никогда не была послушной женой, которая соглашалась со всем, что ее муж и господин решает и делает. Но они находили общий язык, и Август ценил ее чрезвычайно.
Сейчас, когда Ливия была готова перенестись в небесную обитель, поскольку земной мир вокруг нее начал куда-то отступать и медленно рассеиваться, она чувствовала себя ближе к своему супругу, чем когда-либо при его жизни.
Чей-то голос заставил ее вернуться в реальность.
— Августа, врач принес тебе новое лекарство…
Старуха из последних сил покачала головой.
— Мне больше ничего не надо, лучшее лекарство — смерть, она освобождает нас от тяжести жизни.
Ливия снова погрузилась в полусон и увидела себя на корабле, в тот день, когда Август захотел проводить своего приемного сына Тиберия в Иллирию. Они причалили на Капри: Октавиан любил этот остров и велел построить здесь летний дом.
— Мы не должны были в самую жару отправляться в путешествие, — пожаловалась Ливия. — Ты уже не мальчик, а Тиберий вполне мог бы и сам со всем справиться.
— Я знаю, любовь моя. Но в это время года на Капри так хорошо! Остров лежит далеко в море, и здесь всегда дует прохладный ветер. Вместо того чтобы нарушителей закона прогонять из города, надо бы их в наказание заставлять жить в августе в Риме. Я чувствую себя отлично и рад, что мы здесь.
Они провели там четыре дня; поднимались, держа друг друга за руки, на скалы и смотрели на сверкающее в лучах солнца море, расцвеченное разноцветными парусами.
— Свет! Воздух! Здесь я снова могу дышать.
Он сжимал ладонь Ливии и нежно смотрел на нее. Ее опасения, что семидесятисемилетнему Августу может повредить это путешествие, рассеялись. На судне у него случилось сильное расстройство кишечника, но теперь, на берегу, все снова было в порядке. О боги, как он радовался, когда они проплывали мимо бухты Путеоли и команда только что прибывшего из Александрии корабля выстроилась на палубе, одетая в белую парадную одежду, чтобы приветствовать своего императора. Тогда он, такой непритязательный в отношении себя, проявил настоящую щедрость, раздавая деньги и подарки, а потом еще долго стоял на палубе, чтобы люди могли его видеть. И на Капри он не закрылся в стенах своего дома, наблюдал за юношами во время их атлетических соревнований, награждал победителей, а потом садился вместе с ними за стол и пировал в веселой компании.
Ливия снова увидела его молодым в те дни. Позже ей пришлось гнать прочь мрачные мысли, что это, возможно, последний подарок, который боги послали ей, прежде чем увести мужа в царство теней.
Затем воспоминания перенесли ее в Неаполис, шумный город у подножия Везувия, который все то время, которое может охватить память человека, вел себя мирно, выбрасывая лишь безобидные прозрачные облака дыма.
Потом видения стали расплывчатыми, и Ливия, очнувшись, снова оказалась в мире земном.
— Ты чего-нибудь хочешь, Ливия? — услышала она чей-то вопрос. Голос звучал тихо, будто прорывался через толстую стену.
— Нет, я ничего не хочу, только покоя. Хотя… Позовите Калигулу, я должна его видеть.
— Гай Калигула отплыл на Капри, Августа. Он попрощался с тобой позавчера.
— На Капри… Это хорошо… А сейчас я хочу спать… спать…
Она закрыла глаза. «На Капри…» — продолжали звучать слова. Туда, где засел Тиберий, как лиса в норе, ее ребенок, с которым она пришла в дом Августа, и тот усыновил его. Да, наследство он получил и неплохо им распорядился, но с тех пор как Тиберий стал императором, что-то новое и необъяснимое появилось в отношениях матери и сына, и они отдалились друг от друга.
«Теперь он остался только с этим Калигулой, — думала со злорадством Ливия. — После того как извел с помощью тщеславного Сеяна всех своих родственников: Друза, Агриппину, ее старших сыновей. Теперь он один с двенадцатилетним внуком и Гаем Калигулой, который его обольстит, затянет в паутину, отравит воздух…»
Они прожили какое-то время в одном доме, Ливия и Калигула, и она, прекрасно разбирающаяся в человеческой природа, единственная в Риме, поняла, что под маской тихого вежливого существа скрывается чудовище. Иногда и ему не удавалось контролировать свое лицо, иногда и он себя выдавал.
«Бедный Рим, — думала Ливия. — Ты будешь ликовать и танцевать, когда Калигула произнесет надгробную речь над телом Тиберия, но горе тебе, если ты возведешь эту рептилию на трон. Она будет открывать свою пасть, чтобы жрать твою плоть, сосать твою кровь, и никогда не насытится и не напьется. Тебе ничего другого не останется — только убить ее».
Мысли так утомили Ливию, что она снова уплыла в мир грез и воспоминаний о прошлом, картинки из которого появлялись теперь сами собой. Октавиан… Это он стоял на залитой солнцем палубе корабля посреди синего, прозрачного, как сапфир, моря, будто на острове?.. Да, вот он стал приближаться к ней, или она к нему, и образ приобрел четкие очертания. Белоснежная тога, без пурпурных полос, простая, как он любил. Его лицо — лицо человека без возраста — величественное, строгое: таким должны были увековечить его скульпторы. Только две их работы император находил сносными. Одна из них была выполнена в дни его молодости и изображала Октавиана двадцатилетним. Тысячи копий этой и только этой скульптуры из бронзы и мрамора выставлялись в Риме и провинциях. Лишь спустя двадцать лет его правления появились бюсты императора, представлявшие его сильным зрелым мужем с приукрашенно просветленным лицом, которые можно было видеть в храмах уже при жизни Августа, но, правда, только в провинции. Божественный Октавиан! Он запрещал прославлять себя на территории империи. Скульптура, изображающая его в преклонном возрасте, так и не появилась, и Август объяснил это так:
— Многие римляне никогда не видели меня лично и не увидят. Для них Рим — это молодость, и у них не должно сложиться впечатления, что Рим постарел. Я старею, это нельзя не признать, но Рим остается молодым, вечно молодым и могучим. Когда римляне смотрят на мое мраморное лицо, они должны увидеть этот молодой и сильный Рим.
Теперь Ливия плыла в лодке без гребца, которая совершенно бесшумно скользила по темной морской глади в сторону излучающей свет фигуры Августа. Он стоял не на палубе корабля, это был маленький, залитый солнцем остров с пальмами, кипарисами и стройными соснами. Лодка подплывала все ближе, и Октавиан помахал ей. Она еще не могла слышать его голос, но видела по губам, что он произносит ее имя: Ливия. Лодка пристала к берегу, и он легко, как перышко, поднял ее на руки. Она могла вдохнуть его так хорошо знакомый запах, разглядеть каждую черточку строгого, красивого лица. Он говорил, и она, хотя не слышала голоса, чувствовала себя спокойно и уютно в его сильных руках, на солнечном зеленом острове, утопающем в ярком свете…
— Ливия! Ливия Августа!
Врач взял ее руку, пощупал пульс и покачал головой. Помощники протянули ему маленькое металлическое зеркало, которое он поднес к губам старой женщины.
— Ливия Августа сменила земную жизнь на обитель своих божественных предков, — торжественно сказал он и отвернулся.
Все присутствующие поняли: Ливия Августа скончалась.
5
Уже через несколько дней жизни на Капри Калигула понял систему взаимоотношений на острове. На первый взгляд все здесь было устроено как на вилле у обычного патриция. Имелись рабы, слуги различных рангов, управляющий, надсмотрщики и надсмотрщицы — только преторианцы не вписывались в картину. И был он — господин, которому все подчинялось, но этот господин оставался, как правило, невидим. Однако Калигула не привык удовлетворяться первым впечатлением.
Одно он понял точно: Тиберий был абсолютно непредсказуем. Нельзя было установить, принимал он решения, тщательно все взвесив или просто под влиянием настроения.
С прошлых продолжительных визитов Калигуле был знаком круг ближайших друзей императора, и теперь он очень удивился, когда из их числа встретил только Тразиллия. Правда, все они были людьми преклонного возраста, но Калигуле не давал покоя вопрос, что же с ними стало.
Он устроил так, что Тразиллий совершил вместе с ним небольшую прогулку. Калигула похвалил бодрый вид восьмидесятилетнего астролога и как бы невзначай спросил:
— Что же стало со старыми друзьями моего дяди? Мне очень не хватает Вескулария Флакка и Юлия Мариния, да и Кокцея Нерву я не встретил. Императора я не хотел бы спрашивать, ты же понимаешь…
Он замолчал в ожидании. Старый Тразиллий погладил свою белоснежную бороду и сказал:
— Ты правильно сделал, Гай, о них действительно лучше не спрашивать, прежде всего о первых двух. Флакка и Мариния казнили за государственную измену. Избавь меня от необходимости рассказывать подробности. А Нерва сам решил уйти из жизни. Он лег в постель и не ел и не пил, пока не умер. Его мне особенно не хватает… Император выразил тогда сожаление.
— Но почему? — спросил Калигула. — Почему он это сделал? Его подозревали или он был осужден? А может, ожидал судебного разбирательства?
Тразиллий отрицательно покачал головой.
— Ничего подобного. Император ценил Нерву как никого другого. Однако он называл причину добровольной смерти каждому, кто навещал, его в последние дни. Ею была скорбь — скорбь о стране, о тех невиновных мужчинах и женщинах, у которых Сеян отнял жизнь, и о старых друзьях, которых Тиберий знал еще с Родоса, как и меня.
— Но ты же жив… — вырвалось у Калигулы.
— Да, Гай, я еще жив и могу сказать тебе, почему — об этом знают многие. Два года назад Тиберий решил казнить и меня из-за ничтожного проступка. Не то я оклеветал его, не то высмеял — откуда мне знать. Чтобы попасть в руки палача, многого не требуется. Но поскольку император ценит меня как астролога, он захотел еще раз проверить мое искусство и попросил посмотреть его и мой гороскопы для предсказания ближайших событий. Я сделал это и печально сказал: «Ах, господин мой, мы оба в большой опасности» — «Мы оба?» — удивленно спросил император, и я ответил: «Да, потому что линии наших судеб, как я сегодня увидел, переплетены странным образом. Если умру я, и ты окажешься в беде. Я не могу выразить, как глубоко опечален тем, что звезды связывают мое несчастье с твоим».
Тразиллий замолчал, и Калигула задумался о том, сказал этот старый лис правду или это ловушка.
— И с вами обоими ничего тогда не случилось?
— Как видишь, — проговорил Тразиллий и чуть заметно улыбнулся.
Калигула восхитился изобретательностью старика: хитрость и изворотливость в людях всегда его впечатляли.
— Ты не скажешь мне, конечно, правду по понятным причинам, но я все же спрошу: ты действительно прочитал этот прогноз в гороскопе или просто хотел остаться в живых?
Тразиллий приложил палец к кончику носа.
— Что-то такое было в расположении звезд, но главное в астрологии — правильное объяснение.
— И тут ты мастер, дорогой Тразиллий, это признают все.
Калигула пришел к выводу, что и на Капри он не в безопасности, но это было меньшим из двух зол. В Риме он безусловно оказался жертвой Сеяна, и даже если бы пережил его, то не желал становиться преемником второго человека в государстве! Только первого! Вся власть исходила отсюда, с этого маленького острова, а значит, чтобы выжить, надо было остаться здесь.
Калигула чувствовал, что император иногда словно экзаменовав его. Задавал какой-нибудь безобидный вопрос, ответ на который слушал так рассеянно, будто он его и не интересовал, но Калигула ощущал кожей, что Тиберий замечал мельчайшие детали и ничего не забывал.
Следующим экзаменом должно было, вероятно, стать посвящение внука в его развратные игры. Тиберий продемонстрировал ему своих «гвардейцев» — молодежь для развлечений — и проявил при этом все свое старческое бесстыдство, будто рядом не было свидетелей.
В бассейн он взял с собой двух восьмилетних мальчиков, играл и плескался с ними, как с внуками. Калигула невольно рассмеялся и спросил, нельзя ли и ему принять участие.
— Подожди немного, Калигула, игра еще не закончена — возможно, она тебе совсем не понравится.
Он подал мальчикам знак и остановился в воде, широко расставив ноги. Они проплывали между его тощих бедер, касаясь при этом играючи его фаллоса, поглаживали его и нежно потирали, пока он не начал увеличиваться в размерах.
— Теперь твоя очередь, Фавн! Иди-ка сюда!
Немного полноватый, но очень красивый юноша подплыл, улыбнулся императору и схватил ртом, как рыба, его член. Изуродованное сыпью лицо Тиберия обратилось к Калигуле.
— Видишь, дорогой внук? Ох… о!.. Как хорошо! Да, продолжай, Фавн, работай своим ленивым ртом, не стесняйся, моя рыбка, мой кругленький поросенок…
При этом он не спускал с Калигулы глаз. Когда эти бесстыдные игрища закончились и мальчики ушли, раб принялся растирать его простыней.
— Как тебе понравилось?
Лицо Калигулы было неподвижно. Он кивнул.
— Интересная игра, и мне тоже могла бы доставить удовольствие. Пригласи меня в следующий раз, Август. Я всегда готов поучиться чему-нибудь новому.
— Тут нечему учиться, Гай, надо только пошире расставлять ноги. Если бы сенаторы могли меня видеть…
Калигула улыбнулся.
— Они тоже играют в свои игры. Каждый ищет удовольствия там, где находил. Чем может повредить Римской империи то, что ее император приятно проводит время? Тот, кто делает это, удовлетворен, а удовлетворенный правитель — благословение для всей страны.
— Меня радует, что ты так думаешь.
Калигула удивленно покачал головой.
— Разве можно думать по-другому?
— Всегда найдутся люди, которые с удовольствием бы поиграли в те же игры, но слишком трусливы для этого.
— Тем хуже для них, — сказал Калигула и понял, что выдержал очередную проверку.
Через несколько дней из Рима прибыл Квит Суторий Макрон, префект личной охраны Тиберия. Он был еще совсем юным и пользовался полным доверием императора. Калигула знал это и поэтому обращался с ним с особым уважением. Тиберий велел внуку явиться для разговора.
— Послушай, Калигула, что сообщает Макрон. Тебя это должно заинтересовать. Префект Сеян подготавливает государственный мятеж, чему есть прямые доказательства.
— Он не занимается на протяжении многих лет ничем другим, — заметил Калигула.
Император согласился.
— К сожалению, это так. Я жестоко ошибся в нем. Но довольно об этом, нам надо сейчас же начинать действовать. Возьми лучших людей, Макрон, и завтра же плыви в Рим. Я дам тебе подписанную моей рукой бумагу на арест Сеяна. Другую я передам сенаторам, чтобы поставить их в известность. Могут преторианцы поднять мятеж?
— Я позабочусь, о том, чтобы этого не произошло, император. Сеяна мы арестуем ночью, и весь Рим на следующий день будет поставлен перед свершившимся фактом.
Калигула склонил голову.
— Рим возрадуется, Рим будет танцевать и восхвалять императора. Сеяна никто не любил, хотя он и внушал себе обратное. Его безграничная гордыня оттолкнула многих. Сеян действовал только в своих интересах и прикрывался твоим именем. Ты избавишь людей от непосильной ноши.
— Высокомерие предшествует падению, — процитировал император. — А тебя, Калигула, я одену в тогу вирилия и назначу казначеем. Ты можешь сопровождать Макрона, если хочешь.
В больших холодных глазах Калигулы появился блеск.
— Я с удовольствием буду присутствовать при этом акте правосудия, как и надлежит римскому гражданину.
6
Сабин за свое недолгую жизнь исследовал почти все отдаленные части родного города, но, по примеру других молодых людей, предпочитал те места, где что-то происходило, где располагались термы, торговые лавки, арены, ипподромы или трактиры. От квартала, где жил его друг Херея, его отделяла только Длинная улица, но он решил прогуляться и отправился к Марсовому полю.
Сейчас он остановился и разглядывал уродливые жилые дома, которые все больше и больше теснили старые виллы с прекрасными садами. Некоторые из них все еще держали оборону, как бывалые воины, окруженные толпой врагов, но новые здания, построенные для сдачи в наем, забирали у них свет и воздух, и владельцы вилл один за другим оставляли обжитые места. При этом продать здесь старый дом было выгодно, поскольку платили за эти участки земли весомые суммы. Едва одна из таких вилл освобождалась, как тут же появлялись рабы с тяжелыми молотками и крюками. Дом исчезал за несколько дней, и никто уже не вспоминал о том, что здесь родилось и выросло несколько поколений. Вместе с домами умирала и память, а бывшие владельцы могли позволить себе на вырученные деньги приобрести землю в Тускулуме или Тибуре.
Но Сабину некогда было долго размышлять о подобных вещах, так как он был занят поисками дома Хереи, что оказалось делом нелегким
[7], Сначала он заблудился, потом поспрашивал у людей и в конце концов добрался до строения, где у входа его уже ждал друг.
— Да, найти тебя было трудно! — приветствовал Сабин Херею. — Надеюсь, что я не очень опоздал.
— Нет, нет! Мы поняли, что ты вряд ли сможешь прийти вовремя. Оглянись-ка, разве это подходящее место для будущего трибуна Кассия Хереи?
— Нет, ты заслужил лучшее.
— Но нам уже недолго осталось жить здесь, — сказал Херея, когда они поднимались по узкой железной лестнице. — К счастью, мы живем на первом этаже, поэтому до уборной, если понадобится, бежать недалеко. Такие условия тебе наверняка незнакомы.
— Да, ко мне Фортуна была милосерднее. Надеюсь, Марсия не очень хлопотала из-за моего визита.
Они вошли в квартиру, где уже витали многообещающие запахи. На пороге их ждала Марсия.
— Приветствую тебя, Корнелий Сабин. Я рада, что могу наконец познакомиться с другом и учителем моего мужа. Порой у меня появлялось подозрение, что ты призрак.
Сабин рассмеялся, и его голубые глаза блеснули такими веселыми задорными огоньками, что сердце супруги Хереи начало таять.
— Ты видишь, достопочтенная Марсия, я не являюсь ни призраком, ни учительницей…
— Для учителя ты все же слишком молод.
Сабин отмахнулся.
— Оставим разговоры об учителях и учениках. Мы друзья. Я научил твоего мужа кое-чему, что ему пригодится, а он — меня. Если я теперь немного умею обращаться с оружием, это только благодаря ему.
Марсия услышала шум на кухне, извинилась и поспешила к дверям.
Херея проводил своего гостя в жилую комнату, где все пространство занимали сундук, длинный стол и лавки.
— Здесь тесновато, — извинился Херея. — Из-за недостатка места комната служит нам одновременно столовой. Обычно мы едим прямо на кухне, но когда приходят гости… Садись. Давай выпьем по глотку за встречу.
Для Сабина было необычным сидеть во время еды, так как дома в большой обеденной зале вокруг стола стояли традиционные ложа. Херея до половины наполнил стаканы и долил их водой.
— Молодое сабинское вино для моего друга Сабина…
Они выпили за здоровье и искренне улыбнулись друг другу.
— Меня радует, что теперь ты мой гость, Сабин. В этот плебейский квартал не часто захаживают патриции, к тому же члены семьи Корнелиев…
— В жизни много чудес! — Сабин толкнул центуриона в плечо. — Судьба капризна и часто превращает патрициев в бедняков, а из бывших рабов делает землевладельцев и богачей.
Их перебила Марсия, которая внесла жареную утку с зеленым соусом, приправленным медом. В честь гостя был подан также свежий белый хлеб без добавления ржи и ячменя.
На первый взгляд Марсия казалась совсем невзрачной. Короткие вьющиеся волосы окаймляли круглое миловидное лицо с тонким носом и темными, робкими глазами.
Она происходила из семьи мастерового и рядом с великаном Хереей смотрелась как кукла.
Сабин похвалил еду — ему и правда все очень понравилась, ведь птица всегда была его любимым блюдом.
— А где же ваши дети? — поинтересовался он.
— Мы отвели их к родителям Марсии, чтобы не было совсем тесно.
— В следующий раз я обязательно хотел бы их увидеть, — сказал Сабин.
— Может быть, тогда мы уже будем жить в своем доме. Бери еще, Сабин!
Однако тот вздохнул и заверил:
— Я так сыт, что едва могу пошевелиться.
— Еще есть десерт, — робко сказала Марсия.
— Если что-то сладкое…
Она рассмеялась:
— Ты совсем как мой муж! Он тоже всегда просит сладкое после еды. Сегодня у нас dulcia domestica, я сейчас принесу.
— Этим я могу объедаться без конца, — сказал Херея. — Однажды даже сам приготовил. Надо удалить косточку из сушеных фиников, наполнить их орехами, приправить молотым перцем, потом обвалять в соли, обжарить в масле и сразу же есть. Такое наслаждение!
Но насладиться финиками им в этот день не пришлось. Снаружи послышались тяжелые шаги и звон оружия. Марсия открыла дверь и испуганно произнесла:
— Два преторианца…
Одетые по всей форме, они уже протиснулись в комнату и приветствовали присутствующих по-военному.
— Приказ императора, переданный через префекта Сутория Макрона: всем трибунам и центурионам прибыть немедленно в казармы.
Херея встал.
— Спасибо. Подождите на улице, я сейчас выйду. Сабин, останься на десерт, составь компанию Марсии.
— Нет, Херея, так не годится. Извини, Марсия, но я хотел бы проводить Херею. Спасибо тебе за прекрасное угощение. За столом патрициев еда едва ли бывает вкуснее.
От похвалы Марсия раскраснелась. Херея между тем остановил друга.
— Лучше не провожай нас, а то подумают, что тебя арестовали. Встретимся послезавтра у тебя дома.
Сабин почувствовал беспокойство. Что могло произойти? Почему всем центурионам приказано явиться в казармы? В городе все казалось спокойным, никакого наплыва людей, никаких громких собраний. У него дома тоже никто ничего не знал. Отец Сабина предположил:
— Возможно, Сеян нервничает, не чувствуя прежнего расположения императора. Вот он и придумал для собственного успокоения внеочередной сбор. Кто знает, что может прийти на ум солдату?
Последние слова прозвучали презрительно, и Сабин решил выступить в защиту друга.
— Не все они такие недалекие, как ты думаешь. Во всяком случае, Херея за полгода научился читать и писать…
— Я не имел в виду всех, — успокоил отец. — Германик тоже был солдатом и при этом сочинял комедии на греческом.
Во время поездки в Рим Калигула не спускал с Макрона глаз. Он искал любой возможности заговорить с ним, но найти подход к молчаливому префекту было непростым делом.
Однажды император сказал Калигуле:
— Знаешь, почему я так ценю Макрона? Потому что он не задает ненужных вопросов, не болтлив и выполняет мои приказы без малейших колебаний. При этом он далеко не глуп. Если приказ сформулирован не совсем ясно, он тут же замечает это и уточняет короткими вопросами. Чрезвычайно полезный человек.
Но одно Калигула почувствовал сразу: Макрон был тщеславен. Правда, он умело скрывал это под маской прямодушного, молчаливого солдата, но Калигула обладал тонким чутьем на людей, которые стремятся наверх.
Они стояли на палубе и молча смотрели на приближающийся берег, где великолепные виллы Бали и Байи белели сквозь густую зелень сосен и пальм.
— Было бы неплохо иметь здесь дом… — заметил Калигула как будто сам себе.
Макрон пожал плечами, мол, о таких возможностях он даже и не думал.
— Только не говори, что ты бы отказался иметь там летний дом.
— Отказываться бы не стал, Гай Цезарь, но о таких недостижимых вещах я не люблю думать.
— Недостижимых? Почему? Может быть, император намеревается сделать тебя преемником Сеяна? Считаю это вполне возможным, но с моим августейшим дедом надо всегда быть готовым к неожиданностям.
От Калигулы не ускользнуло, как блеснули на мгновение глубоко посаженные глаза Макрона.
«Вот как, — подумал он. — Значит, я прав».
— Это было бы, конечно, прекрасно, но быть префектом преторианцев не значит быть богатым. Богаты консулы, когда они дослуживаются до наместников. В провинции есть чем поживиться.
— Почему бы тебе однажды не стать консулом? Ты из уважаемой семьи…
— Но не патриций…
Это так неожиданно вырвалось у Макрона, что Калигула удивленно поднял брови.
— Но это не самое важное! Год за годом заслуженных мужей повышают в ранге.
— Император делает это нечасто.
— Император стар, а ты молод. Что упустил Тиберий, наверстает его преемник…
Калигула отметил с удовлетворением, что строгое лицо префекта оживилось.
— Его преемник… — повторил он неуверенно.
— Но, Макрон, мы оба не пустые мечтатели. Я от всего сердца желаю ему долгих лет. По мне, так пусть он живет до ста, но природа учит нас, что такие случаи редки. В ноябре императору исполнится семьдесят три.
Оглянись! Кто из твоих друзей или родственников дожил до такого возраста? Я хочу этим сказать, что в ближайшее время мы должны рассчитывать на нового императора.
Макрон молчал, Калигула кивнул ему и спустился с палубы. Префект долго думал об их разговоре и пришел к выводу, что Калигула настроен к нему благожелательно. «Это чего-то стоит, — трезво рассудил Макрон. — И однажды я узнаю, как высока цена».
Луций Элий Сеян, всемогущий префект преторианцев, достиг того, о чем многие римляне — даже из самых благородных семей — всю свою жизнь только мечтают: императором Тиберием ему была передана консулярная власть. Август прислал ему очень милостивое письмо, в котором намекал и на возможность установления между ними родственных связей.
Знал ли он о тайном браке с Юлией? Во всяком случае, Сеян казался себе единственным, кому доверял Тиберий и кого, возможно, рассматривал как преемника, узаконенного официальным браком со своей внучкой.
«Кажется, я все сделал правильно, — похвалил сам себя Сеян, рисуя в воображении картины блестящего будущего. — Может быть, император не доживет до своего следующего дня рождения — 16 ноября? Это случится как раз через месяц, — размышлял Сеян, — или пусть себе проживет еще пару лет; власть я больше не упущу. Тот, кто на Капри, всего лишь призрак императора, только он об этом пока не догадывается».
Сеян бросил взгляд на бронзовые водяные часы. Четвертый час ночи — стоило ли навестить Юлию? Мысль о будущей власти возбудила его чувственность. В конце концов Юлия была последней ступенькой к трону, и вместе с ней он даст начало новому императорскому роду. Свою прежнюю жену Апикату вместе с тремя детьми придется удалить, чтобы не подвергать опасности династию, — из государственных соображений. Может быть, стоит обвинить ее в государственной измене? Сеян решил обдумать и эту мысль.
Он зевнул и выпил оставшиеся в стакане несколько глотков вина. Потом поднялся, пристегнул короткий меч и отправился к Юлии.
«Ты мое бесценное сокровище…» — часто называл он ее, и Юлия прекрасно понимала двойной смысл этих слов.
Но Сеян был ей по сердцу: сильный, самоуверенный, замечательный любовник в отличие от Нерона Цезаря, ее первого мужа. Поговаривали, что Сеян уморил его в ссылке голодом, но Юлию не интересовала судьба бывшего супруга. Она была рада, что избавилась от него: ее ждали дела поважнее.
Сеян проверил охрану виллы, обменялся с солдатами парой слов и вернулся в дом. Юлия еще не спала; Сеян снял тунику и забрался к ней в постель. Для начала он нежно поцеловал ее грудь.
— Мы скоро поженимся, мое сокровище. Что ты на это скажешь?
— Император согласен?
— Кажется, да. Ты же знаешь о его письме. Он сам написал о возможности завязать со мной родственные связи, и при этом мог иметь в виду только тебя, свою внучку. Мы положим начало новому роду, Юлия! Я подарю тебе много детей.
Она тихо засмеялась.
— Тогда начинай прямо сейчас. Не будем терять времени!
Сеян был настоящим солдатом, который не привык церемониться и ничего не понимал в сложных прелюдиях к любовным играм. Да с Юлией это было и не нужно — ему достаточно было переступить порог, как женщина уже была готова принять его в свое лоно.
Префект преторианцев заключил ее в тугое кольцо своих рук, вошел быстро и грубо, но потом уже не торопился, растягивая прекрасную игру, пока Юлия не начала громко стонать. Что и говорить, эта женщина была создана для него.
Потом они, обессиленные, лежали, прижавшись друг к другу, и Юлия уже начала засыпать.
Вдруг Сеян сел и прислушался.
— Ты ничего не слышишь?
Юлия подняла голову с подушки.
— Что там? Охрана идет вокруг дома… Похоже, у кого-то упал меч или копье.
Сеян спрыгнул с кровати, надел тунику и схватился за свой короткий меч. Голоса и звон оружия приближались… Через минуту дверь распахнулась, и солдаты ночной охраны окружили окаменевшего от ужаса Сеяна. Они забрали у него меч и вывели наружу. На Юлию никто не обращал внимания, и потрясенная произошедшим, женщина даже не встала.
Префект начал возмущаться, звать преторианцев, тогда один из солдат ударил его эфесом по лицу так, что рассек губы и выбил несколько зубов.
— Будешь говорить тогда, когда тебя спросят!
— Приветствую тебя, Сеян! — поздоровался с ним Калигула, вышедший из-за спин солдат. — Извини за поздний визит, но мы должны по распоряжению сената арестовать тебя. Если
ты невиновен, расследование покажет это. Поводом послужило письмо императора, в котором он тебя резко критикует. Завтра оно будет зачитано в сенате. Император сам приказал взять тебя, и между делом назвал некоторые пункты обвинения, а именно государственная измена и убийство.
— Убийство? — пробормотал Сеян разбитыми губами.
— Да, убийство сына Тиберия с помощью его жены Клавдии и их врача Эвдема. А также убийство многочисленных мужчин и женщин, в основном из патрицианских семей, которые стояли на твоем пути и на которых ты, злоупотребляя доверием императора, завел судебные дела. Убийство моего брата Нерона Цезаря, которого ты в ссылке уморил голодом. Добавь к этому многолетнее предательство императора — ты ведь искажал его приказы. И наконец, заговор против самого Тиберия, на чей трон ты пытался посягнуть с помощью Юлии. Я назвал тебе основные пункты обвинения, которые ты в случае своей невиновности можешь опровергнуть. Но, полагаю, сделать это будет трудно.
Сеян изо всех сил пытался сохранить выдержку и достоинство, но, судя по всему, ему это тяжело давалось.
— Я… я найду свидетелей, которые выступят в мою защиту, не допущу… чтобы… чтобы….
Он плюнул кровью.
— Побереги свои силы для процесса, — посоветовал Калигула и поднялся.
— Увести! — приказал Макрон, командовавший солдатами.
Калигула повернулся к нему.
— Я немного посплю. Ты подготовишь до утра списки с именами трибунов и центурионов, которые служили в Риме у Сеяна. После полудня я разъясню им новое положение вещей.
— Почему только после полудня, Цезарь? Солдаты привыкли узнавать о новых распоряжениях на утренней поверке.
Калигула холодно посмотрел на него.
— Спасибо, что напомнил, но я знал это уже трехлетним ребенком. Нам необходимы доказательства, подтверждающие вину Сеяна. Значит, надо допросить Клавдию и ее врача. Возможно, придется прибегнуть к пыткам — смерть моего брата не должна остаться безнаказанной. Надеюсь, времени до полудня хватит, поскольку все достаточно ясно. Остальным мы займемся позже, но, когда я завтра буду говорить с преторианцами, мне понадобятся доказательства вины их префекта.
— Слушаюсь, Цезарь! — ответил Макрон по-военному коротко.
На следующее утро преторианцев задержали после проверки. Калигула передал через известных, любимых солдатами офицеров, что они должны быть в боевой готовности, так как на императора планируется покушение. Когда некоторые ветераны спросили о Сеяне, им было сказано, что и префект занят тем же, но после полудня они узнают больше.
Между тем за работу взялись самые искусные мастера пыток в Риме, чтобы получить от арестованных нужные показания. Первыми в руки палача попали врач Эвдем, приготовивший яд, и повар Лигдий, который этот яд подсыпал.
Лигдий, раб, признался уже после первых ударов плетью, которые рассекли в кровь его спину. Врач Эвдем проявил большую стойкость: он был вольноотпущенником, добился богатства и положения, и ему было что терять. Плети не развязали ему язык, и только когда палач прибегнул к крайнему средству — раскаленным металлическим пластинам, память его заработала. Клавдия сказала ему, что Друз опасен для империи и убрать его было тайным желанием императора. А поскольку он сын императора, никто не должен ни о чем догадываться — пусть все выглядит как затяжная болезнь.
К Клавдии Ливии, вдове Друза, не понадобилось применять пыток. Она с готовностью признала свое участие в преступлении, переложив основную вину на Сеяна. Она рассказала, что Сеян не только обещал жениться на ней, но и утверждал, что император втайне желает смерти своего сына и намекнул об этом ему, Сеяну. Эти показания совпали с признаниями врача, и вина Сеяна как зачинщика была доказана.
Калигула казался довольным. То, что брата Нерона в ссылке на Понтийских островах уморили голодом, его мало заботило. Напротив, он был рад этому. Его второй брат, Друз Цезарь, все еще томился в подземелье Палатинского дворца, но император не дал приказа о его освобождении, чем снял груз с души Калигулы. Этот Друз, которого все называли Младшим, чтобы не путать с родным сыном императора, был единственным, кто стоял на его пути к трону. Как-то Тиберий обмолвился, что у него на всякий случай остается еще Друз Цезарь и он рад, что тот находится в застенках в полной безопасности. Калигула воспринял это как предупреждение об опасности со стороны брата, пусть и небольшой.
Следующий день, когда офицерам римских преторианских когорт было приказано собраться, выдался холодным и дождливым. Калигула велел также явиться дюжине ветеранов, поскольку он разбирался в отношениях в армии и хорошо понимал, какое влияние они имели на молодых солдат. Военные выстроились во дворе казарм: впереди стояли трибуны, за ними — центурионы, среди которых находился и Кассий Херея, а по обеим сторонам — ветераны.
Сначала вперед выступил Макрон:
— Преторианцы! Мы собрали вас здесь, чтобы сообщить об изменениях, проводимых по распоряжению императора. Как вы знаете, император Тиберий — наш верховный правитель и призван выполнять велю богов. С их помощью он раскрыл заговор, направленный против него и государства, который мог стать причиной кровавой войны. Ваш префект Луций Элий Сеян был зачинщиком этого заговора и должен за это ответить.
В рядах воинов послышался ропот, и Макрон счел нужным добавить:
— Я знаю, каким ударом является для вас эта новость, поэтому вы вправе получить дальнейшие разъяснения. Гай Юлий Цезарь даст вам таковые.
Калигула вышел вперед и поднял руку.
— Приветствую вас, преторианцы! Вы опора правителя и всей империи, поэтому я хочу от имени Августа Тиберия поблагодарить вас за верность, а также за то, что вы точно и без промедления выполняли приказы прежнего префекта. Он был командиром, и не ваша задача как подчиненных спрашивать о смысле и правильности приказов. То, что он использовал вас в своих интересах, мы теперь знаем, но это не ваша вина, а его — только его!
Калигула обладал тонким чутьем и сразу почувствовал, как по рядам воинов прокатилась волна облегчения. Их честь, честь верных и надежных солдат, не подвергли сомнению. Совсем наоборот, их похвалили. Умный, выросший среди солдат Калигула подкупил этим многих из них. Он знал, что дальше ему следовало успокоить тех, кто рассчитывал на повышение или собирался оставить службу и ждал выходного пособия, а теперь опасался, что все распоряжения Сеяна отменят.
— Вы должны знать, в чем обвиняют Сеяна. Сегодня утром двое свидетелей признались, что по наущению Сеяна восемь лет назад отравили сына императора Друза. Все, в том числе наш высокочтимый император, думали тогда, что причиной смерти была болезнь, теперь же нам известна печальная правда. Сеян под давлением фактов признал свою вину. Далее без одобрения императора он преступно вел себя по отношению к семье моего отца Германика. Моя мать была сослана, а брат убит еще не до конца расследованным способом. Почему Сеян отказался от своей жены и искал расположения сначала Клавдии, а затем Юлии, становится ясно, когда понимаешь его конечную цель: он хотел свергнуть высокочтимого Тиберия и потом завладеть троном.
Значит, речь идет о государственной измене! Только этого было бы достаточно, чтобы приговорить его к смерти. Вы солдаты, и знаете, что вашей высшей доблестью является верность, поэтому я уверен, что вашим приговором Сеяну будет смерть! Сто раз смерть!
Ликования не последовало, но роптание смолкло. Вид Макрона выдавал его невольное восхищение: молодой Гай Юлий знал, как вызвать симпатию у людей, что их волновало и что успокаивало. И он умел говорить!
Калигула минуту выждал и продолжал:
— А теперь о другом. Как вы все знаете, я вырос в военном лагере, среди таких же солдат, как вы. Мне известно о ваших заботах. Что будет с неисполненными распоряжениями Сеяна? Ему представлялись списки о повышениях и вознаграждениях, он высказывал свои замечания по разным вопросам; кроме того, он принимал решения по поводу поступающих к нему жалоб и просьб. Клянусь, что ничего из того, что одобрил Сеян, не будет забыто, пересмотрено или отклонено. Префект был хорошим начальником, в этом никто не сомневается. Вы не должны расплачиваться за его злоупотребления властью.
Теперь раздались восторженные крики:
— Да здравствует Калигула! Слава императору!
«Сейчас они восхваляют меня и императора, — подумал он, — скоро будут восхвалять меня как императора».
Оставались и другие приказы императора, которые следовало выполнить. Тиберий в последнее время несколько раз спрашивал о сестрах Калигулы и вдруг принял решение о необходимости отдать оставшихся без родителей девочек под защиту мужей. Как всегда, когда ему приходила в голову какая-нибудь мысль, он стремился тут же ее осуществить. Тиберий просмотрел списки семей благородных сенаторов и высшей знати и подобрал возможных супругов для дочерей покойного Германика, о чем и сообщил Калигуле.
— Займись этим, когда навестишь своих сестер в Риме. Я нахожу всех троих подходящими и хочу, чтобы заключение брака состоялось как можно скорее.
Калигула не посмел возражать. Он не принимал в жизни своих сестер большого участия, но знал, что, если возникнет необходимость изменить положение в Риме, брак можно будет легко расторгнуть.
Он отправился пешком до Палатина в сопровождении преторианцев и радовался, когда его узнавали. Тот, кому его лицо не было знакомо, получал разъяснения от других.
— Как же ты не знаешь. Это же Гай Цезарь, сын Германика! Нашего Калигулу знает весь город!
Конечно, каждый римлянин знал имена членов императорской семьи, но за судьбой детей Германика следили с особым интересом. В народе верили распространяемым Сеяном страшным историям о братьях Калигулы, кроме того, сам император объявил их врагами государства. Остался только Калигула, и все симпатии людей достались ему.
«Если император принял его на Капри в свое ближайшее окружение, на то должна быть причина», — решили люди, и Калигула превратился в любимца римлян. Ему это было на руку, поскольку впоследствии должно было избавить от лишних усилий.
Сестры Калигулы жили на Палатине во дворце Августа. Он представлял собой несколько сооружений, который император Октавиан постоянно достраивал для себя, своей семьи и родственников. Все это напоминало скорее уютный городок, дома в котором были окружены небольшими садами.
«Как мог великий человек так бедно жить!» — подумал Калигула и ускорил шаг.
Поскольку он предупредил о своем визите, все три сестры были в сборе: Агриппина, которая унаследовала от матери не только имя, но и холодную красоту, Ливилла, своенравная и молчаливая, и Друзилла, вид которой поразил Калигулу. Его холодные глаза блеснули.
— Когда мы последний раз виделись, ты была еще ребенком — и вот передо мной молодая девушка. Ты стала красивой, Друзилла. Твой будущий муж будет в восторге.
— Какой муж? — с удивлением спросила Друзилла.
Калигула явно наслаждался ее растерянностью.
— Вот мы и коснулись причины моего визита. Наш высокочтимый император милостиво определил время, что бы найти вам достойных мужей. Для Друзиллы он выбрал Кассия Лонгина, для Ливиллы — Марка Виниция, а для Агриппины — Доминиция Агенобарба. Все эти молодые люди происходят из лучших семей, которые должны гордиться возможностью породниться с императорским домом. Время вашего девичества закончилось, дорогие сестры. Вам предстоит вести хозяйство, рожать детей…
Калигула цинично улыбнулся. От него не могло укрыться, как по-разному реагировали сестры, но ни одна из них, похоже, не обрадовалась. Агриппина делала вид, что все это ее не касается. Выражение лица Ливиллы не изменилось, только в глазах блеснули гневные огоньки, в то время как на личике Друзиллы застыли ужас и отвращение.
Калигула поднял руки, давая понять, что он тут не причем.
— Не вините меня! Это решение императора, и у него есть причины его принять. Тиберий стар и хочет быть уверен, что оставляет вас в надежных руках. Он усыновил нашего отца, следовательно, по закону он наш дед. Мы обязаны ему подчиняться, пусть даже его желания нам не всегда нравятся.
— А как насчет тебя, Калигула? Тебе он не подобрал жену? — Агриппина с издевкой посмотрела на брата.
— Я мужчина, — резко ответил Калигула, — и сам могу о себе позаботиться. Император это понимает.
7
Взятие под стражу Сеяна было лишь началом волн арестов. С того дня никто не хотел считаться другом бывшего префекта, а тот, чья дружба с ним была очевидной, объяснял ее особыми обстоятельствами. «Плохие отношения с Сеяном грозили смертью…» — можно было услышать от многих, и это не было преувеличением. Теперь смерть грозила тем, кто был известен как его друг, и длинная вереница римлян потянулась, несмотря на приближение зимы, в загородные дома. Тех же, кто таковых не имел или долго раздумывал, подхватывало опасным течением, и лишь немногим удалось выбраться из него целыми и невредимыми.
Расправа над Сеяном была короткой. Спустя три дня после ареста палач отрубил ему голову. Обнаженное тело протащили по Гемониевым ступеням, ведущим на Авентинский холм, и оставили там лежать. Оно недолго оставалось в одиночестве. Через два часа рядом были брошены еще несколько обезглавленных трупов, а через два дня на этом месте выросла гора мертвых тел. Когда они перегородили проход и складывать их стало некуда, казненных бросили в Тибр. Каждый день следовали новые жертвы: женщины, мужчины, молодые, старики, а в конце даже дети. Они были единственными, кто остался в живых из семьи Сеяна, но чересчур рьяный суд, желая угодить императору, решил отдать в руки палача и их. Обоих задушили и бросили на Гемониевых ступенях.
Одиннадцатилетнюю девочку перед этим обесчестил один из стражников, потому что по старым обычаям девственниц казнить запрещалось. Этот отвратительный фарс вызвал недовольство в народе. Люди считали, что Сеян и его приближенные получили по заслугам. Зачем же казнить тех, кто когда-то с ним говорил или просил его о чем-нибудь?
Калигула в эти дни часто переезжал из Рима на Капри и обратно он первым почувствовал, что продолжать аресты дальше было бы неразумно. Молодой Германик осторожно направил на это внимание императора, одновременно уговаривая его приехать в столицу выступить в сенате. Тиберий какое-то время колебался, но потом суеверный страх перед городом взял вверх, и он наотрез отказался покинуть свое логово.
В это время в сенате выступил Марк Терентий, представитель второго привилегированного сословия — всадников, обвиняемый в дружбе с Сеяном. Он высказал сенаторам все то, о чем втайне думали остальные.
— Мне было бы выгоднее опровергнуть обвинение. Но чем бы ни закончилось дело, я хочу признаться в дружбе с Сеяном, в том, что стремился снискать его расположение и радовался, когда это случилось. Я наблюдал, как он разделил должностные обязанности командующего преторианскими когортами со своим отцом, как позднее получил высокие должности в управлении городом и военными. Его родственники и союзники быстро продвигались наверх. Чем ближе были отношения с Сеяном, тем большим было и признание императора. Тому же, кто становился его врагом, приходилось бороться со страхом и бедностью. Я не хочу называть конкретные имена, но выступаю в защиту всех, оказавшихся в подобном положении, кто не принимал участия в его заговоре. Мы почитали не какого-то Сеяна из Вулсиния, а члена семьи Юлиев — Клавдиев, с которой он породнился, женившись на внучке императора, пусть и тайно. Мужа твоей двоюродной сестры, Цезарь, представителя Августа в управлении государственными делами…
Вот о чем и еще о многом другом сказал Терентий в своей длинной и мужественной речи, которую закончил словами:
— Нельзя наказывать за дружбу с Сеяном, ведь для нас она закончилась в тот же день, что и для императора.
Два дня спустя Калигула внимательно слушал эту речь. Бесстрашно высказав и хорошо обосновав свое мнение, можно было скорее надеяться на понимание со стороны Тиберия.
Для процессов об оскорблении своего величия он нуждался в доносчиках, хотя и презирал их. Теперь он обернул оружие против них. Те, кто обвинял Терентия, были арестованы: они попали в ту самую западню, которую готовили ему. Терентия освободили, и преследования по делу Сеяна прекратились.
Гаю Цезарю удалось стать незаменимым человеком для императора. Болезненно подозрительный Тиберий постепенно проникся к нему доверием. Еще год назад он и мысли не допускал о том, чтобы сделать Гая своим наследником, теперь же подумывал об этом все чаще. В его окружении существовал единственный человек, которому он иногда открывал свое сердце, — Тразиллий, его бывший учитель, с давних пор занимавший место придворного астролога.
В тот вечер император выпил много неразбавленного вина и почувствовал необходимость поговорить со своим другом о Калигуле.
— Присядь со мной рядом, Тразиллий. Мне нужен помощник, чтобы справиться с оставшимся вином.
Он постучал по наполовину опустошенному кубку, и Тразиллий сразу понял, что это вступление к серьезному разговору.
— Вино — молоко для стариков, — сказал он в шутку. Тиберий так хохотал над этой шуткой, что чуть не задохнулся. Астрологу пришлось несколько минут стучать его по спине, пока кашель не стих. Тиберий откинулся назад, пытаясь восстановить дыхание.
— Ты мог бы меня таким образом уморить до смерти. Не рассказывай никому, а то кто-нибудь еще попытается сделать то же самое. Например, Калигула. Он тут же начнет собирать лучшие шутки, чтобы я умер от смеха. Кстати, что ты о нем думаешь?
Тразиллий задумчиво погладил бороду.
— Честно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Калигулу не так просто разгадать, и если уж я должен поделиться своим впечатлением о нем, то могу сказать, что это человек, всегда скрытый под маской. Иногда кажется, что под нее удалось заглянуть, но оказывается, что там всего лишь другая маска. Нельзя не заметить его острый ум, всегда выверенные речи, его способность проникать в суть других людей. Но что прячется за этим, какова его сущность?
Тиберий пожал плечами.
— Сущность его в притворстве. За этим ничего нельзя рассмотреть, по крайней мере пока. Если Калигула станет моим преемником и получит власть, я не поручусь за то, что он использует ее с умом и во благо империи. Иногда у меня возникает чувство, что я выращиваю для римского народа гадюку, которая однажды отравит всю империю. Должно быть, я совершил много ошибок, но никто не может меня упрекнуть в том, что я нанес ущерб империи. Ты, Тразиллий, как никто другой, знаешь, что я не стремился занять трон — и с большим удовольствием остался бы частным лицом. Но это была воля великого Августа, и я подчинился ей. Разве я плохо распорядился наследством? Тразиллий, скажи честно, разве я показал себя недостойным?
Астрологу был знаком этот вопрос, он слышал его часто.
— Ты знаешь мое мнение об этом, Тиберий. Август не смог бы найти более достойного преемника. Что меня и вместе со мной других римлян огорчает, так это твой уединенный образ жизни. Сеян не смог бы так злоупотреблять властью, если бы ты время от времени наведывался в Рим, а лучше никогда не уезжал бы оттуда. Я уважаю твое решение, даже понимаю его, и все же думаю, что оно неправильное.
Тиберий вздохнул. Он знал мнение своего старого друга и не обижался на него.
— Пусть все остается как есть, Тразиллий. Я выбрал этот путь и собираюсь пройти его до конца. Но что ты посоветуешь мне в отношении Калигулы? Мне стала привычна мысль, что он подходящий преемник, но я не решаюсь написать это в завещании. Точнее говоря, что-то не дает мне сделать этот шаг. Какая-то сила мешает, будто предостерегая от этого решения. Ты, так же как я, не веришь в богов на Олимпе — может, это звезды предупреждают меня?
Тразиллий с улыбкой покачал головой.
— Звезды не предупреждают и не советуют, они только указывают возможный путь. Твоя собственная недоверчивость делает тебя осторожным, твоя ответственность перед народом заставляет тебя сомневаться, и я понимаю это. Если бы Калигула показал свое истинное лицо, тебе было бы проще принять решение.
Тиберий кивнул.
— Правильно, Тразиллий. Ты все правильно понял. Гай умен, начитан, сообразителен, прекрасный оратор, умеет убеждать… Но какой он внутри? Кто он на самом деле? Я много раз пытался добраться до его сущности, но он не желает снимать свою маску. При этом ему едва исполнилось двадцать лет.
— Ты должен назначить его на какой-нибудь ответственный пост. Пусть он проявит себя. Возможно, тебе удастся узнать о нем больше…
— Неплохое предложение. Но сначала я подыщу для него женщину. Может быть, ей удастся найти путь к его сердцу.
«Если таковое вообще имеется», — подумал Тразиллий про себя и с наслаждением отхлебнул отличного вина.
По желанию императора он составил для Калигулы гороскоп, но сам не смог определить по нему что-нибудь значительное. Обычный гороскоп, свидетельствующий об уме и сильном характере человека. Меркурий означал незаурядный ум, а вот Сатурн…
Тразиллий решил оставить дальнейшие рассуждения. Все имело хорошие и плохие стороны. Острый ум мог послужить благополучию страны, но позволял его владельцу обманывать других в свою пользу. Он, во всяком случае, был слишком стар, чтобы ломать голову над будущим Калигулы.
После ареста Сеяна немногие оставшиеся друзья Агриппины ожидали ее немедленного возвращения из ссылки, за которую, как все думали, нес ответственность прежде всего бывший префект преторианцев. То, что император сам хотел отделаться от своей властной, надменной невестки, знали лишь единицы. Сеян ответил за грехи многих, в том числе за грехи императора.
Маленький скалистый остров Пандатериа лежал в сорока милях от берега в открытом море; пустынный, одинокий, продуваемый всеми ветрами, населенный лишь горными козами да кроликами. Только несколько рыбаков и двенадцать охранников под командованием центуриона, которые отбывали здесь наказание, жили на острове. Их обязанностью было охранять узницу, которую поселили на севере острова в покосившейся от ветров хижине. Одна крутая тропа спускалась к морю, другая огибала дом. По ней днем и ночью вышагивали солдаты, сторожившие Агриппину, чтобы не дать гордой молчаливой женщине бежать с острова, что и без того вряд ли было возможно.
Служанка Агриппины добровольно последовала за ней в ссылку, но несколько месяцев назад умерла, отравившись плохой, испорченной едой. Уже четыре года Агриппина жила одна в полуразрушенном доме. Надежда на то, что она переживет старого императора, постепенно угасала. Она вполне могла допустить в свои сорок шесть лет, что семидесятипятилетний Тиберий умрет раньше, но долгое ожидание изнуряло, и мужество стало покидать Агриппину. Вдова Германика за эти годы постарела и стала уродливой. Плохое и недостаточное для взрослого человека питание сделали ее лицо изможденным, его покрывали глубокие морщины. Отбывающие наказание легионеры, озлобленные службой на безлюдном острове, временами вымещали свой гнев на арестантке. Чтобы унизить женщину, они целыми днями не выпускали ее из хижины, не давали хлеба, пока он не покроется плесенью, а вина — пока не прокиснет.
У Агриппины оставалась только гордость, которую она хранила как свое единственное сокровище. Мать Калигулы понимала это, и тем легче ей было принять решение покончить с бессмысленной жизнью. Два дня назад она выбросила заплесневелый хлеб и испорченную рыбу за дверь. Центурион растерялся. Как он должен поступить? Пришлось послать гонца на расположенный в пятнадцати милях Капри, чтобы тот получил инструкции по поводу этого особого случая. Сильный ветер помешал ему быстро вернуться назад, и Агриппина к тому времени стала совсем слаба. Приказ императора гласил: «Если не получается по-другому, кормить Агриппину насильно».
Центурион вместе с четырьмя солдатами явился в комнату узницы. Бледная и исхудавшая, она лежала в своей грязной измятой постели и ждала смерти. Центурион велел зажарить для нее курицу. Он подержал ее у арестантки перед носом и спросил:
— Вкусно пахнет? Император приказал тебе есть, я имею письменное распоряжение. Так что изволь подчиниться и открывай рот!
Агриппина отвернулась и сжала зубы. Женщина давно не ощущала голода, и запах жареного вызвал у нее только приступ тошноты. Когда все попытки накормить упрямую аристократку таким путем ни к чему не приведи, центурион приказал:
— Держите ее за ноги и за руки!
Легионеры выполнили приказ, и центурион попытался силой открыть Агриппине рот, чтобы впихнуть хотя бы кусочек мяса. Женщина сразу выплюнула пищу. Центурион грязно выругался и отвесил Агриппине пощечину. Она из последних сил ухватила руку плебея зубами.
Попытки продолжались и на следующий день, но безуспешно. Все, что попадало в рот Агриппины, она выплевывала, и женщину в конце концов оставили в покое.
Через сутки она впала в забытье, а еще через несколько часов умерла. Последней мыслью Агриппины было проклятье Тиберию, а за ней последовала молитва ко всем богам дать одному из сыновей возможность отомстить за ее смерть. Она думала при этом о Друзе, поскольку не знала, что он уже два года был узником в Палатинском подземелье. На Калигулу мать не рассчитывала: от этого сына, по мнению вдовы Германика, ждать было нечего.
Весть о кончине Агриппины пришла на Капри спустя несколько дней. Императора она ничуть не взволновала.
— Эта женщина сама себе навредила. Сообщите о ее смерти Гаю Цезарю, — спокойно сказал он, продолжая листать акты.
— Умерла? — спросил Калигула. — От чего?
Преторианец стоял навытяжку.
— Точно не знаю, Цезарь. Говорят, она умерла от голода. По собственной воле…
— По собственной воле? Так-так…
Судьба матери едва ли трогала его, но сердило то, что в этом был повинен Тиберий.
«Почему это старое страшилище никак не отправится к праотцам? — думал со злостью Калигула. — Почему боги не заберут его наконец? Я устал ждать. Любому терпению есть предел».
В этот день Калигула принял решение поторопить смерть августейшего деда.
Старик мог протянуть до восьмидесяти пяти, а то и до девяноста лет. Ждать еще десять или даже пятнадцать лет? Нет и еще раз нет! При этом Калигула не хотел предпринимать поспешных действий. Все надо было тщательно спланировать. Он обдумывал, с чего начать, и так и этак, и тут вспомнил о Макроне. Тиберий передал ему полномочия Сеяна. Значит Макрон и был ключевой фигурой на пути к власти. С тех пор как он стал префектом преторианцев, они не встречались.
«У нас должны быть другие отношения, С угорий Макрон, потому что ты нужен мне, как когда-нибудь я понадоблюсь тебе». Поскольку к Макрону в то время подступиться было очень сложно, Калигула решил действовать через его жену Эннию Невию: «Нужно расшевелить ее тщеславие, заставить желать большего».
С того дня он принялся ухаживать за женой префекта. Калигула разыгрывал влюбленного, подкарауливал ее везде, где только можно, беззастенчиво льстил и наконец заманил к себе в постель.
На первый взгляд двадцатилетняя Невия казалась не больше чем хорошенькой — немного капризна и не прочь поразвлечься на стороне. Макрон взял ее в жены четыре года назад, и до сих пор их брак оставался бездетным. Так как по долгу службы он часто был в отъезде и много времени проводил на Капри, Невия редко видела мужа, и, казалось, это ее вполне устраивало.
Префект перебрался в дом Сеяна на Виминале, который, собственно говоря, по праву принадлежал Юлии, единственной оставшейся в живых внучке императора. Она оказалась одной из немногих, кто пережил падение Сеяна, поскольку Тиберий не решился начать процесс против дочери своего убитого сына. Клавдия, ее мать, была казнена как главная обвиняемая, но Юлию Тиберий признал наследницей родителей, и теперь она жила на Албанских холмах, где семья владела землей.
Энния Невия ненавидела жизнь на Капри из-за ограниченности пространства и вынужденного уединения в доме императора, поэтому она настояла на переезде в Рим и теперь обживала бывшее любовное гнездышко свергнутого Сеяна. Тщеславие ее было безгранично, она не считала свой новый статус жены префекта преторианцев пределом возможностей. Невия происходила из состоятельной плебейской семьи и мечтала войти в круг патрициев. К ее огромному сожалению, Макрон сразу после свержения своего предшественника отказался от всех полученных через сенат привилегий. Ему было достаточно должности префекта, а значит, правой руки императора.
Когда Гай Цезарь начал ухаживать за ней, Невия почувствовала себя на верху блаженства, но ей не хотелось ронять своего достоинства. В конце концов она ведь была женой самого Макрона. Калигулу Невия знала давно, и как мужчина он ей не особенно нравился. Ее пугали холодные неподвижные глаза Калигулы, и, хотя он был немного моложе ее, этого никто бы не сказал — казалось, молодость обошла Гая Цезаря стороной.
Калигула чувствовал инстинктивное неприятие и опасение Невии, но при этом догадывался, каким она хотела его видеть. Он использовал все свои способности к притворству: в глазах появлялся теплый блеск, когда он заговаривал с ней, его слова и жесты были преисполнены страсти, которую он не испытывал, но безукоризненно играл.
То, что император всегда стремился иметь одного из приближенных рядом, в то время как другой присматривал за порядком в Риме, очень помогало развитию их отношений.
Калигула много раз навещал Невию на маленькой вилле на Виминале и постоянно говорил одно и то же:
— Ты не можешь не видеть, что для меня не существует женщин, кроме тебя. Твое появление приводит меня в замешательство, Юпитер свидетель. Я столько раз соблазнял тебя в мыслях, сколько Макрон не брал тебя за всю вашу супружескую жизнь.
Большие влажные глаза Невии смотрели благосклонно, но она оставалась холодна.
— Ничего подобного я не заметила, Гай Цезарь. Или ты очень искусно скрывал свои чувства, или попросту лжешь.
— Нет, Невия, я никогда не мог бы солгать тебе — тебе нет! На Капри, среди всех стариков, которые окружают моего деда, ты была для меня воплощением юности и красоты. Когда ты заходила в помещение, все отступало перед твоей восхитительной свежестью. Втайне я принес жертву Юпитеру, чтобы он повлиял на тебя и заставил переехать в Рим. Теперь ты здесь, и сердце мое готово разорваться от радости.
Невия не была бы женщиной, если бы такие речи не превратили ее неприятие, на самом деле наигранное, в подобие привязанности. Неподвижные глаза Калигулы больше не внушали ей страха, а покрытое густыми волосами тело казалось теперь мужественным и очень привлекательным. Наконец — и это стало решающим аргументом — Калигула был настоящим аристократом. О том, что Тиберий считает его своим преемником, знал уже весь Рим, и многим не терпелось увидеть его императором.
Тиберия между тем народ возненавидел. Пока можно было предполагать, что Сеян искажает его приказы или преследует своих противников из жажды власти, люди сочувствовали обманутому императору. Теперь и Сеяна, и его друзей уничтожили, но преследования тут же возобновились. И каждый раз речь шла об оскорблении величия императора. Таковым считался любой проступок, который хоть как-то раздражал Тиберия. Того, кто написал на него памфлет, казнили так же, как и фокусника, которому удалось невинной шуткой об императоре рассмешить публику. Чтобы голова патриция угодила под топор палача, достаточно было одного подозрения, неосторожного замечания или анонимного доноса. На Гемониевых ступенях росла гора тел, охраняемая солдатами, которые хватали каждого, кто громко жаловался или пытался забрать тело своего друга либо родственника, чтобы похоронить. Наполовину сгнившие трупы сбрасывали время от времени в Тибр, освобождая место для новых жертв.
Император же сидел на Капри, как паук, который неустанно подкарауливает свои жертвы и не выпускает никого, кто однажды попался в сети. Хотя его возраст приближался к восьмидесяти годам, умирать он не спешил. Тиберий совершенно не заботился о своем здоровье: ел и пил, что хотел, и употреблял сильные средства для поддержания мужской силы, но постепенно организм начал мстить за многолетнее распутство и необузданность. Девушки и юноши для увеселений императора все чаще менялись, но все оставалось безуспешным, потому что всемогущий повелитель мира не мог одного: обмануть природу или подкупить ее. Врач порекомендовал ему длительное воздержание, и император, обычно отвергающий подобные методы, последовал совету.
Тиберий продержался десять дней, на одиннадцатый спустился в тайные помещения, где располагалась его «гвардия». Он осушил уже несколько кубков горячего вина, чувствовал внутри теплую поднимающуюся волну и лелеял новые надежды. Император приказал надзирателям сменить всех — он желал лицезреть новые лица.
Когда в комнате появились перепуганные раздетые юноши и девушки, развратный старик пожалел о своем распоряжении. Нескольких опытных «гвардейцев», которые знали его пристрастия, ему следовало бы оставить.
Тиберий сел в тени напоминающего грот помещения и дал знак начинать любовные игры.
— Давайте, давайте! — хлопал в ладоши надзиратель. — Каждый из юношей хватает девушку. Император хочет видеть веселую развлекающуюся молодежь. Берите пример с них!
Мужчина показал на выполненные в натуральную величину фигуры, расставленные вдоль стен, которые изображали спаривающихся фавна и нимфу в разных позах. Подростки понимали, чего от них хотят, но были слишком смущены и запуганы; лишь некоторые смогли продемонстрировать какую-то неловкую возню.
Император сначала веселился, но скоро начал скучать. От выпитого вина хотелось спать, его одолела зевота, даже сердиться у Тиберия не было сил. Он тяжело поднялся.
— Учитесь! — крикнул он молодым людям с издевкой. — Возможно, в следующий раз получится лучше.
Тиберий с трудом поднялся наверх и удалился в свои покои.
— Пришли ко мне нубийку! — приказал он слуге.
Скоро бесшумно, как кошка, появилась одетая только в кожаный фартук черная рабыня. Она опустилась на колени перед Тиберием и поцеловала край его тоги.
— Оставь это, Нигра. Мы знаем друг друга не первый день. Я хочу, чтобы сегодня ты промяла меня сверху донизу: помассируй как следует каждый мускул.
Нубийка не понимала латынь, но Тиберий пояснял свои слова выразительными жестами. Она быстро и ловко раздела его и принялась за икры. Искусная рабыня простукивала, пощипывала, растирала и разминала мускул за мускулом, осторожно переворачивая вялое тело. При этом ее лицо оставалось непроницаемым.
«Интересно, сколько ей лет?» — размышлял император. Он даже не знал ее имени и всегда называл Нигра — черная. Ее грациозное тело благоухало корицей и гвоздикой и казалось неподвластным возрасту, как статуя из слоновой кости.
— Сколько тебе лет, Нигра?
Едва уловимая улыбка скользнула по лицу женщины, но она, как всегда, промолчала.
Вдруг император осознал, что никогда не слышал ее голоса.
— Скажи что-нибудь, Нигра! Что-нибудь на твоем языке.
Она улыбнулась. Может, ее надо было бы высечь? Легонько, чтобы услышать голос. Но Тиберий тут же выбросил эту мысль из головы, ведь ему необходимо ее искусство. Он решил попробовать по-другому, и жестом он приказал ей остановиться. Нубийка сразу опустила руки и вопросительно посмотрела на хозяина.
— Нигра, — сказал Тиберий и показал на ее полные красивые губы. — Нигра, Нигра, — повторил он и кивнул.
Теперь женщина поняла.
— Нигра, — услышал император густой низкий голос, и еще раз громче и четче: — Нигра!
— Хорошо! — похвалил Тиберий. — Можешь продолжать.
Он перевернулся на спину, и она начала массировать его бедра. Неожиданно ее вид, запах, низкий голос, который продолжал звучать в его ушах, возбудил императора. Заметив, что фаллос его напрягся, Нигра остановилась. Тиберий делал вид, что ничего не произошло: он решил посмотреть, что будет дальше.
После короткого замешательства рабыня сняла фартук, поднялась на постель и ввела фаллос себе во влагалище. Император подумал с восхищением: как естественно и красиво она это делает, без хихиканья и суеты, как будто это самое что ни на есть обычное дело на свете.
Искусно вращая бедрами, она медленно довела Тиберия до высшей точки наслаждения, потом принесла влажный платок, обтерла его и снова принялась за массаж, будто ничего и не было.
Тиберий провалился в глубокий сон. Проснулся он с ощущением заново родившегося человека. Император превосходно чувствовал себя, был свеж, как юноша, и исполнен жажды деятельности.
А ведь день начинался так плохо! Сразу после пробуждения его охватило обычное отвращение к себе, своему окружению, возрасту, неискоренимым порокам и постоянной жажде мести. У Тиберия периодически возникало желание сбросить с себя груз жизни, как тяжелую, насквозь пропотевшую одежду. Вообще-то он никогда всерьез не принимал такие порывы, но сегодня утром был на грани того, чтобы поддаться искушению.
Когда его секретарь спросил, не будет ли каких-нибудь приказов или письменных указаний для сената, он со злобой заявил:
— Будет! Пошли им следующее письмо: «Что должен я написать вам, сенаторы, или как я должен написать, или что я не должен сейчас писать? Если это мне станет известно, пусть боги и богини пошлют мне более славные дни, чем те, что у меня сейчас».
Секретарь записал. Когда Тиберий замолчал, он ждал продолжения, но император неожиданно закричал:
— Чего им еще? Больше сегодня мне нечего сказать. Пусть думают об этом что хотят!
Он не жалел, что послал эти строки сенату. Его забавляла мысль, как они, должно быть, ломали головы и до хрипоты спорили, в чем их скрытый смысл.
— Моего любимого внука случайно нет поблизости?
Он мог бы и не задавать этот пронизанный иронией вопрос, потому что Калигула, если был на Капри, всегда находился в непосредственной близости.
Сегодняшний день не стал исключением. Внук явился через минуту.
— Садись, Гай.
Император изучающе посмотрел на Калигулу.
«Едва ли кто-нибудь сможет повторить это идеально нарисованное на лице выражение почтения, — подумал он с невольным восхищением. — Посмотрим, удастся ли мне вывести его из равновесия».
— Я принял решение женить тебя.
Калигула изобразил на лице радость.
— На что-то подобное ты уже намекал. На кого же пал твой выбор?
Он превосходно держится, этот юнец.
— Я подумал о старшей дочери Марка Селания — Юнии Клавдилле.
— Превосходный выбор. Когда должна состояться свадьба?
Император немного рассердился, потому что и на этот раз ему не удалось добиться от Калигулы хоть каких-то эмоций.
— Как можно скорее! — кратко распорядился он и добавил: — Это все. Теперь я хочу отдохнуть.
Калигула низко поклонился.
— Всегда к твоим услугам, император.
Внутри он кипел от гнева. Старый развратник показался ему сегодня таким бодрым, как будто за этим крылось какое-нибудь колдовство.
— Против любого колдовства есть колдовство, его разрушающее! — злобно процедил сквозь зубы Калигула, уже решивший во что бы то ни стало вовлечь Макрона в осуществление своих планов. — Если даже мне придется пообещать ему синь небесную… Хоть на какую-нибудь приманку он должен поддаться. Может быть, Макрон хочет стать сенатором или проконсулом? Все покупаются, но игра не обязательно должна идти на деньги.
Возбужденный этими рассуждениями, он отправился в термы, а потом в постель, и последней его мыслью было, что, возможно, эту ночь император не переживет.
Корнелий Цельсий был в отчаянии. Новые планы сына казались ему безумными, но он не находил аргументов против. Конечно, Цельсий мог силой своего отцовского авторитета просто отказать Сабину, но ему это претило. Хотелось объяснить все с позиции разума, только в голову ничего не приходило. Тогда он обратился к своему брату Корнелию Кальвию, которого племянник очень уважал…
Судьба не во всем была благосклонна к Кальвию. Его счастливый брак оказался короток: молодая жена умерла во время родов, а новорожденный сын последовал за ней в могилу через несколько недель. Убитый горем Кальвий удалился в загородное имение, где теперь, как поговаривали, трудился над подробной историей семьи. В последнее время он проникся особой симпатией к своему старшему племяннику, и никто не сомневался, что Сабин станет его наследником.
Цельсий решил спросить у брата совета и пригласил его к себе. Уже после первого глотка вина Корнелий приступил к делу:
— Сабин собирается стать преторианцем! Он недавно подружился с центурионом, который старше его на пятнадцать лет, и тот так впечатлил моего сына бряцаньем оружия, что теперь для него меч и щит — лучшие украшения мужчины. Юноша, который знает наизусть половину Катулла, хочет стать солдатом! Что ты на это скажешь?
Кальвий покачал головой.
— Сабин молод и живет фантазиями. Он не может пока удовлетвориться миром книг и искусства. Он хочет испытать свою силу, жаждет приключений… Это понятно.
Цельсий вздохнул.
— У тебя доброе сердце, Кальвий, особенно когда речь идет о твоем племяннике. Собственно говоря, я пришел просить совета.
Кальвий задумчиво посмотрел в сад на стройные высокие кипарисы.
— Как долго ты еще сможешь содержать свою виллу, Цельсий? Вокруг все больше уродливых домов, являющих собой оскорбление для нашего красавца Рима.
— Я не собираюсь уезжать из города. Дела с продажами идут неплохо…
— Собирается ли Сабин здесь жить потом?
— Он меняет свое мнение каждую неделю. Но вернемся к нашей проблеме. Что мне делать с сыном?
— У меня есть одно предложение… — нерешительно сказал Кальвий.
— Говори скорее!
— Ты знаешь, что меня в последние годы мучают головные боли и бессонница. Будучи стоиком, я принимал это как должное и надеялся, что недуг пройдет. Этого не случилось… Словом, я решил плыть в Эпидавр. Рассказывают, там происходят чудеса даже в безнадежных случаях. Если не поможет, буду считать, что совершил восхитительное путешествие. Сабин мог бы меня туда сопровождать. Тогда у нас будет возможность многое обсудить, а твой сын посмотрит и оценит свою теперешнюю жизнь на расстоянии.
Цельсий обрадовался.
— Это хорошее предложение, даже очень хорошее. Сабин без ума от дальних путешествий. Я буду знать, что он под твоим присмотром, и, возможно,
тебе удастся повлиять.
— Еще вопрос, захочет ли он.
Цельсий выпрямился.
— Я буду настаивать! Напомню ему его собственные слова. В конце концов, он получит то, о чем давно мечтал.
Кальвий собрался уходить, но в это время домой вернулся Сабин.
— Дядя! Ты уже уходишь? Ты так редко бываешь у нас! Останься.
Кальвий обнял племянника.
— Возможно, мой визит покажется тебе в тягость, когда ты узнаешь о нашем предложении.
Против ожидания Сабин пришел в восторг.
— Эпидавр! Хвала богам! Мое самое горячее желание вот-вот исполнится. Дядя, я готов тебя расцеловать!
Кальвий был заметно тронут искренней радостью племянника.
— Подожди, подожди — твой пыл поубавится, когда ты поймешь, как тяжело путешествовать с больным человеком.
Сабин радостно рассмеялся.
— Больным? Твои головные боли наверняка пройдут. А мне наконец-то пригодится знание греческого.
У Цельсия и Кальвия хватило ума не развивать эту тему. Они обговорили время путешествия.
— Сейчас плыть рано; зимние ветры на Адриатике коварны. Лучшее время для отправления — вторая половина мая.
Кальвий согласно кивнул.
— У нас будет достаточно времени, чтобы собраться в дорогу.
Когда дядя ушел, Сабин сказал отцу:
— Два — три месяца не играют роли. Я могу отправиться к преторианцам и через полгода.
— Поговорим об этом, когда ты вернешься. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что без моего ведома ты ничего не предпримешь.
— Конечно нет, отец. Что ты обо мне думаешь! — возмутился Сабин.
Цельсий вздохнул.
— Ох уж эти дети… — пробормотал он, качая головой.
При первой же встрече Сабин поведал другу новость.
— Я плыву в Эпидавр, Херея, представляешь! Морское путешествие продолжительностью в несколько недель! Мы будем останавливаться в Неаполисе, Мессане, может, и на Эгейских островах, а потом…
— Подожди, подожди! — перебил Херея. — Я рад, что твое желание исполнится, но ведь у тебя были другие планы. Насколько я помню, ты хотел просить отца записать тебя в преторианцы, и звучало это так, будто ты дождаться не можешь, когда это случится.
Сабин увидел разочарование на лице друга и поспешил его утешить.
— Я не меняю решения! Слышал бы ты моего отца, когда я посвятил его в свои планы! Его едва не хватил удар. Мы обсудим это после моего возвращения, и ты увидишь, что я настою на своем. Я всегда добивался того, чего хотел. Но от этого путешествия я не могу отказаться. Ты ведь уже был и в Галлии, и в Германии…
— Как солдат!
— Во всяком случае, ты повидал свет и набрался впечатлений. Не отказывай и мне в этом удовольствии!
Херее стало смешно.
— Во имя Марса и Юпитера! Уж не думаешь ли ты, что я завидую тебе? Ты скоро поймешь, что дальние дороги приносят не только удовольствия. В мае тоже случаются штормы, и когда тебя целыми днями выворачивает наизнанку…
— О, прекрати, Херея. Трагичные прогнозы меня никогда не впечатляли. Будет то, что решат боги. Все держится на шелковой нити. По-моему, это сказал Ливий. Возьми, например, Сеяна: он развлекался со своей возлюбленной в постели, уверенный, что является вторым человеком в государстве, через два часа его обвинили в государственной измене. Знаешь ли ты, что случится завтра? С тобой, со мной, с Марсией?
— Хватит философствовать, Сабин. В конце концов, нельзя постоянно думать, что на нас в любую минуту может обрушиться несчастье. Тогда уж лучше сразу вскрыть себе вены.
Сабин победно засмеялся.
— Вот видишь! Ты сам себя в этом убедил, как любой разумный человек. Сам начал с предостережений об опасностях путешествий. Жизнь сама по себе опасна, дружище, только отъявленные глупцы закрывают на это глаза. И все-таки мы не поддадимся унынию. Мне как сыну книготорговца всегда приходят в голову слова писателей и поэтов. Знаешь, что по этому поводу сказал Вергилий? «Не бежать надо от несчастья, а смело выходить ему навстречу».
Херея грустно улыбнулся.
— Поэтам легко рассуждать. Сидят себе в тишине и раздают мудрые советы. Этот Вергилий когда-нибудь маршировал по лесам Германии, зная, что за каждым кустом его может подкарауливать светловолосый гигант, охочий до убийств, который — если повезет — просто отрежет тебе голову, а может содрать заживо кожу или отрезать что-нибудь другое? Тогда тебе не до советов разных умников.
— У этих советов символичный смысл. Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Как тебе новый префект?
Херея пожал плечами.
— Макрон старается. Солдаты им довольны. Он вступался за каждого, кого хотели втянуть в процесс по делу Сеяна. Никто не жалеет, что с любимчиками Сеяна покончили, пусть они и были преторианцами. Таких в армии не любят. Мы уважаем людей только за то, что они собой представляют.
— Это мне как раз и нравится. Ты думаешь, твое ходатайство о повышении пройдет? С твоими заслугами и способностями ты давно мог бы быть трибуном.
Херея ухмыльнулся:
— Что ты искренне желаешь мне добра, я знаю. Калигула проверяет прошения по очереди, и он, должно быть, очень щедрый.
— Может, стоит обратиться к сенатору Корнелию…
— Нет! Я этого не хочу! Достаточно, что ты научил меня чтению и письму. Больше мне ничего от Корнелия не надо.
— Хорошо, Херея, я просто подумал, на случай, если Калигула тебя обойдет…
— Подождем. Среди солдатских добродетелей терпение занимает не последнее место.
8
С тех пор как император послал сенату свое странное письмо, самочувствие его заметно улучшилось, будто с души сняли груз. Тиберий ел и пил с большим аппетитом, наслаждался теплым весенним воздухом, и к нему снова вернулся резкий ироничный тон, к которому привыкло его окружение и которого оно так боялось.
С улучшением физического и душевного состояния росло и недоверие Тиберия ко всем, в том числе к самым близким. Он подозревал, что Макрон, наделенный той же полнотой власти, что и его предшественник, постепенно поддастся соблазнам, и начнутся злоупотребления. Растущая популярность Калигулы у римлян тоже была ему не по душе. Правда, его внук пытался преуменьшить этот факт и говорил, что народ его любит как родственника императора, а не за личные заслуги, которых у него в действительности нет. Тиберий делал вид, что верит, но решил поручить Макрону наблюдать за Калигулой, а Калигуле — за Макроном.
— То, что я скажу тебе сейчас, Гай, должно остаться между нами — я обращаюсь к тебе как к своему преемнику и приемному внуку с тем, чтобы ты держал это в тайне. Это и в твоих интересах! Речь пойдет о Макроне.
Калигула поднял руку, будто хотел возразить, но Тиберий остановил его:
— Нет, не говори сейчас ничего. Хочу сразу прояснить ситуацию: я доволен префектом, знаю, что на него можно положиться, и доверяю ему. Но я всегда помню: мы люди, не боги, и определенные соблазны завладевают нашими душами. Правителю нельзя упускать это из виду. Макрон не кажется тщеславным, если предположить, что его отказ от привилегий был искренним побуждением, а не осторожностью, что тоже нельзя исключать. Я знаю, что ты думаешь обо мне как о слишком осторожном, недоверчивом старике, но не забывай: речь идет не обо мне, а об империи. Я прожил жизнь, уже двадцать лет являюсь императором, но, пока я жив, никто не снимет с меня ответственности. В этом все дело.
«Как бы честно и благородно сие ни звучало, я не верю ни одному его слову, — думал Калигула. — Старик, как репей, цепляется за жизнь, почти обезумел от страха и подозрительности. Мерзко!» Но ни одна из этих мыслей не отразилась на лице Калигулы. Он подобострастно смотрел на деда.
— Я бы точно так же вел себя, император, и приложу все усилия, чтобы поддержать тебя. Но я опасаюсь сделать что-нибудь не так. Каких действий ты ждешь от меня, чем я могу служить тебе?
— С этого момента старайся, будучи в Риме, находиться рядом с Макроном. Наблюдай за ним, задавай вопросы, следи за его реакцией, но так, чтобы не вызвать у него подозрений! У Макрона не должно появиться ощущения, что его проверяют. Этого я не хочу, поскольку сказал тебе: он, как и прежде, пользуется моим доверием. Но я должен быть осторожен. Происшествие с Сеяном многому меня научило.
«Вот все и началось, — подумал. Калигула. — Впрочем, император, ты только что сделал большую ошибку».
Когда Гай Цезарь покинул покои деда, у него было прекрасное настроение. Тонкие губы Калигулы растянула злорадная усмешка.
Через несколько дней император приказал Макрону явиться к нему. Префект не замедлил это сделать.
— Приветствую тебя, император!
— Присаживайся, Макрон, и давай забудем пока, что ты префект. Я хочу поговорить с тобой как с другом. Мне нужен твой совет, возможно, твоя поддержка. Речь идет о Гае Цезаре. Успокойся, мне не в чем его упрекнуть, я полностью доверяю своему внуку, как и тебе. Меня немного удивляет растущая популярность Калигулы среди плебеев. Не пойми меня неправильно. Я искренне желаю ему признания, даже рад этому, но боюсь, что у Калигулы закружится голова. Он молод, еще не окреп духом и немного нетерпелив. Ты старше его, зрелый, опытный мужчина и хорошо знаешь, что расположение плебеев ничего или почти ничего не стоит. Сегодня они прославляют одного, завтра — другого. Я хочу оградить своего внука от разочарований и ошибочных выводов, которые могут повлечь за собой неправильные действия. Что мне делать, Макрон? Что ты посоветуешь?
— То, что ты спрашиваешь моего совета, делает мне честь, император, но я сомневаюсь, смогу ли быть полезен. Мне кажется, что Гай правильно оценивает свою популярность в народе. Он не придает ей большого значения и недавно сказал мне нечто похожее на то, что я только что услышал от тебя. Он назвал благосклонность людей мелкой монетой, которая легко и быстро тратится, и сказал еще, что гораздо выше ценит твое доверие и готов покончить с жизнью, если его потеряет.
— Меня это радует, но и не рассеивает моих опасений. Дай ему понять, и представь это как собственное мнение, что было бы неразумно будить подозрительность императора, и объясни, что он должен вести себя сдержаннее и отказаться от публичных выступлений. Думаю, этот совет возымеет действие.
— Ты можешь положиться на меня, император.
Про себя же Макрон подумал: «Я поостерегусь чернить Гая в твоих глазах, Тиберий. Уже завтра он может занять твое место и сумеет вознаградить тех, кто был на его стороне».
Нашептывания жены Макрона, которая настоятельно советовала ему сделать ставку на Калигулу, давали о себе знать.
— Не держись за старика — завтра он может быть уже мертвым. Подумай о твоем, о нашем будущем, любимый! А имя нашего будущего — Калигула! Счастлив станет тот, кто вовремя поймет это.
Макрон любил жену и ценил её советы. Постепенно его настороженно-сдержанное отношение к Калигуле менялось. Для Невии же муж был орудием в той игре, которую вел ее любовник.
Во время их последнего свидания у женщины сложилось впечатление, что он открыл ей свою тайну. Сначала Калигула, казалось, никак не мог решиться начать разговор: мялся, отводил глаза, пока она наконец не подбодрила его:
— Что-то тяготит тебя, Гай. Расскажи, ты ведь всегда умел находить правильные слова.
Калигула сделал вид, что не решается.
— Если я скажу тебе об этом, любимая, я полностью окажусь в твоих руках. Ты сможешь сразу отсюда отправиться к императору, и он щедро вознаградит тебя, когда ты выдашь ему планы Гая Цезаря. Доверяясь тебе, я отдаю свою судьбу в твои руки. И делаю это только потому, что люблю тебя до безумия…
Лунный свет масляной лампы окрасил страстью его холодный взгляд. Эннию Невию охватил восторг. Наконец-то он открылся ей, доверился, связал свою судьбу с ее. Она выхватила кинжал Гая и вложила ему в руки.
— Если я когда-нибудь выдам тебя, ты убьешь меня этим кинжалом! Никакие пытки не вырвут у меня признания!
Ее глаза блеснули, а лицо осветило благородное сияние.
«Возможно, она и правда верит тому, что сейчас говорит», — подумал Калигула. Придал своему лицу соответствующее выражение и торжественно произнес:
— Я верю тебе, любовь моя, и, поскольку так люблю тебя и слепо доверяю, хочу, чтобы ты стала моей женой. Конечно, не сейчас, ведь нам понадобится устранить преграды, главная из которых — император. Я как раз стараюсь привлечь Макрона на свою сторону; он тоже признался в своих тщеславных мечтах, в том, что не хотел бы долго оставаться префектом и не прочь стать сенатором и даже наместником где-нибудь в провинции. Но сейчас надо выждать, пока не появится подходящая возможность; если восьмидесятилетний человек умрет, это не вызовет никаких вопросов. Но в последнее время он чувствует себя как молодой. Я хочу попробовать уговорить императора поехать в Рим. Тогда мы оба будем сопровождать его — и Макрон, и я.
Глаза Невии лихорадочно блестели.
— Да, я тоже хотела поговорить с тобой о Юнии Клавдилле? Ты ведь женился…
— Должен был жениться по приказу императора. Но ведь развод — обычное дело, и, если я стану императором, это будет стоить мне одного росчерка пера. Фортуна определила моей женой тебя.
— И я… я буду императрицей? — спросила Невия слабым, полным сомнения голосом.
Калигула кивнул.
— Юлия Энния Невия Августа — таким будет твое будущее имя. Мы станем основателями новой династии, наши дети и внуки будут править миром.
В этот момент к ней вернулось благоразумие.
«Никогда, — шептал внутренний голос. — Никогда этого не случится! Плебейка не может оказаться на императорском троне. Калигула хочет тебя использовать в своих целях. Ты идешь к краю пропасти, Невия…»
Тут она снова услышала голос Калигулы, и шепот смолк.
— Это должно стать нашей целью, к которой мы осторожно, шаг за шагом, будем продвигаться. Я молод, Невия, но не безрассуден. Народ и сенат должны думать, что Тиберий умер сам. Императорской чете ничто не должно быть потом поставлено в упрек. Мы должны остаться вне подозрений. Сейчас главное для нас — терпение.
Взвешенные и хорошо обдуманные слова Калигулы снова вселили в нее уверенность. Нет, это человек слова, он все учитывает, а значит, на него можно положиться.
— Я не сделаю ни шага без твоего согласия. Буду обсуждать с тобой любую мелочь.
Калигула кивнул.
— Это правильно, Невия, только настойчивость и осторожность приводят к цели.
Вскоре после этого между Калигулой и Макроном состоялся доверительный разговор.
— Ты должен кое-что узнать, Макрон. Это касается тебя, Я нарушаю свое слово, но другого выхода не вижу. Сначала я хочу предупредить: если ты в порыве неправильно истолкованной преданности императору решишь сообщить ему хоть что-то из того, что сейчас услышишь, с плеч полетит не только моя голова — твоя тоже! Ты хочешь знать, что я скажу, или мне лучше замолчать?
Глубоко посаженные глаза Макрона искали взгляд Калигулы, будто он хотел удостовериться в том, можно ли тому доверять, но холодные глаза Гая Цезаря, как всегда, ничего не выражали.
— Это касается нас обоих?
— Это касается всей Римской империи, но в первую очередь тебя и меня.
— Тогда говори, Цезарь, ведь будущее принадлежит тебе.
На лице Калигулы появилась легкая улыбка.
— Меня радует, что ты понимаешь это. Итак, слушай. Во время нашей последней беседы император просил меня шпионить за тобой. Я должен в Риме стараться быть рядом с тобой, следить за твоими словами и поступками и сообщать Тиберию о любой мелочи. Ты можешь догадаться, почему он это делает — его доверию к тебе вот-вот придет конец. Он опасается, что предательство может повториться, и уже готовится к этому. Если мы не станем действовать вместе, мой дед погубит нас обоих.
На этот раз Калигула сказал то, что думал.
— Я благодарю тебя за откровенность, Цезарь, и хочу отплатить за нее тем же. И со мной разговаривал император. Его беспокоит твоя популярность в народе и в войсках. Я должен осторожно убедить тебя оставить публичные выступления и посоветовать, выдавая это за собственное мнение, вести себя сдержаннее. Значит, император не доверяет нам обоим.
Калигула кивнул.
— Я согласен с тобой. Но возраст и болезненная подозрительность заставили его забыть о другой стороне человеческого существа. Помимо подозрений и фальши есть еще честность, открытость и дружба. Мы оба доказали, что это принесет нам обоюдную выгоду. Даю тебе слово будущего императора, что твоя преданность окажется достойно вознаграждена. Ты можешь стать сенатором, консулом или проконсулом либо, если захочешь, менять эти должности по очереди.
— Я доверяю тебе, Гай Цезарь. Что ты предлагаешь делать дальше?
— Выполнить волю императора. Я буду докладывать о тебе, а ты — обо мне, разумеется, самые безобидные вещи. Между тем я приложу все усилия, чтобы убедить его отправиться в Рим. У меня есть одна мысль…
— Предположим, что Тиберий умрет естественной смертью, останутся ли тогда в силе твои обещания?
«Хитрая лиса, — подумал Калигула. — Просчитывает все возможности».
— Это ничего не изменит. Я сдержу слово в любом случае.
— И еще одно, Цезарь. Хочу напомнить тебе, что твой брат Друз все еще сидит в Палатинских застенках. Император до сих пор не давал никаких распоряжений, но этот вопрос должен быть решен тем или иным образом. Тиберий может умереть в любую минуту, и сенат будет рассматривать Друза как возможного преемника. Он ведь твой старший брат…
— Да, об этом я уже думал. Друз здоров?
— Ему нужны свет, воздух и хорошая еда. Если в ближайшее время он не получит, все может плохо кончиться…
— Просто забудьте о нем. Пусть охрана обойдет его при раздаче еды, будто он уже мертв. Потом ты поменяешь людей, и, когда император спросит о нем, Друза не будет в живых. Возможно это?
— Думаю, да.
Так Друзу Цезарю, второму сыну Агриппины и Германика, был вынесен смертный приговор. В отчаянии тот жевал солому из своего матраса, но никто не слышал его слабых криков о помощи из глубин подземелья. Тело Друза Макрон распорядился убрать без шума; охранники были тут же повышены в звании и переведены на службу в отдаленные провинции. В живых остался только один сын Германика: Гай Юлий Цезарь Германик по прозвищу Калигула — Сапожок.
Сабин не мог дождаться отплытия. Он каждый день молил всех богов, чтобы его дядя не заболел или, чего доброго, не умер. Корнелий Кальвий же следовал учению стоиков и не давал недугам себя сломить. За несколько часов до отъезда он еще раз углубился в страницы, написанные его любимым Горацием.
«Умей в тяжелые времена сохранять спокойствие и невозмутимость, как в хорошие — сердце, мудро сдерживающее излишнюю радость…»
Наконец дядя и племянник в сопровождении трех слуг поднялись на борт парусника. Правда, это было достаточно дорогостоящим способом путешествовать. В Грецию ходили корабли, перевозившие продовольствие, которые, впрочем, брали и пассажиров, но Кальвий не захотел спать рядом с мешками. Кроме того, эти тяжелые медлительные корабли плыли через открытое море, в то время как более легкие парусники следовали от гавани к гавани, и путешественники, поскольку плавание продолжалось только при дневном свете, могли каждый вечер высадиться на сушу и спокойно провести ночь.
— Ты многое увидишь, Сабин, пусть даже дорога окажется немного длиннее.
День отплытия из Остии выдался солнечным и ветреным. Утром, перед тем как подняться на корабль, путешественники принесли Нептуну в жертву быка. Предзнаменование было благоприятным. Оставшееся же мясо зажарили и раздали членам команды корабля. К счастью, никто из пассажиров, поднимаясь на корабль, не чихнул, и ни ворона, ни сорока не сели на мачту или парус. Существовал еще целый ряд дурных знаков, но ни один из них не дал о себе знать, иначе путешествие нужно было бы переносить и совершить еще одно жертвоприношение.
Одну из трех кают парусника занял Кальвий, а Сабин вместе с другими путешественниками остался на палубе, где до полудня натягивали кусок полотна от солнца: те, кто хотел, могли проводить время до вечерней прохлады в тени.
Пассажиров, в том числе женщин, было четырнадцать — все состоятельные люди благородного происхождения. Некоторые из них едва могли ходить, другие целыми днями сидели на палубе и смотрели на море. Каждого богатого путешественника сопровождали как минимум трое слуг.
В это время дули в основном северные ветры. Судно шло быстро, и еще до наступления ночи они причалили в Неаполисе. Сабин с дядей спустились на берег. Здесь, в этом древнем греческом городе, жил друг Кальвия, в доме которого они остановились на ночлег.
На следующий день Сабин встал на рассвете, чтобы успеть пройтись по улицам Неаполиса. Он осмотрел величественный форум с длинными колоннадами, бросил взгляд на фронтоны храмов и отказался от услуг заспанных проституток, которые на обратном пути хватали его за край тоги.
Следующую ночь они провели в Мессане, в Сицилийском проливе, а потом их парусник на три-четыре дня вышел в открытое море. Этой части путешествия все ждали со страхом, потому что в бурю легкие корабли были ненадежны.
Только Кальвий оставался спокоен.
— Маловероятно, что в мае мы попадем в шторм. Ионическое море в это время приветливо, как Немейское озеро в безветренный летний день. В остальном сильный ветер нам только на руку, ведь он сокращает время путешествия.
Кальвий оказался прав. На третий день еще до полудня вдалеке появились очертания Цакинта, прекрасного острова, воспетого Гомером. Оттуда путешествие уже стадо похожим на прогулку вдоль пролива Коринфа, и все время по обе стороны были видны берега. Когда показалась пристань Лекхейон, Кальвий сказал:
— Сейчас ты увидишь нечто удивительное. Думаю, что ничего подобного этому нет нигде.
Сабин, конечно, сразу понял, что имел в виду дядя. Географы часто упоминали об этом в своих записях, но юноша не хотел лишать Кальвия радости и сделал вид, что не знает, о чем идет речь. Полчаса потребовалось на то, чтобы запрячь несколько дюжин быков. Они должны были тянуть полностью разгруженный парусник к узкой яме, где к его килю прикрепили полозья и на них волоком перетащили корабль по диолкосу — вымощенной каменными плитами дороге, ведущей от пристани к пристани. Плата за это была очень высока.
Кальвий заметил:
— Да, Коринф не в последнюю очередь обязан своим благосостоянием обеим пристаням и диолкосу. На другой стороне расположен Кенхрее, и оттуда мы продолжим наш путь. А это время давай используем, чтобы посмотреть древний Коринф.
Древнего Коринфа, о котором говорил Кальвий, уже давно не существовало. Римляне полностью разрушили город восемьсот лет назад, а потом Юлий Цезарь воссоздал его заново.
— Наши легионеры оставили только храм Аполлона, — сказал Кальвий.
Сабин же почувствовал разочарование. Ничто не говорило о том, что когда-то этот город был греческим. Все вокруг дышало римской культурой, особенно яркий ее образец являл собой форум с вытянутой базиликой и зданием суда времен императора Августа. Но с тех пор Коринф снова расцвел, и, в конце концов, люди вокруг говорили по-гречески, что хоть как-то утешило Сабина. Правда, это была форма греческого, которую он понимал с трудом, хотя читал в оригинале Гомера и Софокла.
— Здесь говорят на странном греческом, — отметил он.
Кальвий рассмеялся:
— В тебе проснулся сын книготорговца. Не забывай, что люди на улицах не цитируют Гомера, Софокла или Эсхила, а говорят об обыденных вещах. Правда, любой мало-мальски образованный житель Коринфа поймет твой греческий.
До отплытия оставалось не так много времени. Их корабль перетащили в восточную пристань и спустили на воду. Слуги снова погрузили багаж, и путешествие могло быть продолжено.
— Было бы проще прорыть между двумя пристанями канал. По-моему, его длина должна составить около четырех миль. Это не так сложно, — заметил Сабин.
Кальвий улыбнулся рассуждениям племянника.
— Вам, молодым, вообще все просто. Надо только захотеть, и все получится. Ты прав, технически это было бы несложно. Но Коринфу такое решение невыгодно, ведь диолкос и обе пристани приносят постоянный денежный доход. Владельцы лавок и хранилищ на пристанях богатые, а значит, влиятельные люди, с ними приходится считаться. Они никогда не позволят выкопать канал, а Римская империя не вмешивается во внутренние дела греческих городов и до сих пор не жалела об этом.
— Однажды это все-таки произойдет, — высказал Сабин свое мнение, — потому что этого требует общее благосостояние.
— Однажды — без сомнений.
Путь до Эпидавра продлился еще несколько часов. Он проходил вдоль восточного побережья Пелопоннеса, в некотором отдалении от берега. Уже на протяжении четырех или пяти столетий Эпидавр считался священной землей Аполлона и Асклепия, куда прибывали больные со всего света, чтобы ощутить на себе целительное действие этих мест.
Корнелий Сабин был разочарован путешествием. Он представлял себе его намного ярче и богаче приключениями, а на деле все выглядело так, будто он в Риме остановил носильщика и велел доставить себя к форуму или на Марсово поле. С тоской вспоминал он своего друга Херею: вот перед кем стояли настоящие задачи, наполняющие смыслом всю его жизнь. Прогулка по Риму казалась теперь увлекательнее, чем путешествие в Эпидавр. Когда они на мулах следовали к священным местам и Сабин увидел, что находится в окружении немощных, больных и стариков, он совсем пал духом. Юноша страстно молил Асклепия, чтобы тот послал дяде скорейшее выздоровление и они могли побыстрее уехать.
Но все обернулось иначе, чем Сабин рисовал в своем воображении. Скоро он стал просить в молитвах, чтобы им пришлось задержаться здесь подольше, потому что каждый день, который ему суждено было провести тут, воспринимал как дар Амура, посланца любви, сына Венеры и Марса.
Император Тиберий снова стал ощущать свои немалые годы как тяжкий груз. У него не было серьезных жалоб, казалось, ничто не может расшатать здоровье старика, но восприятие окружающего мира у него заметно притупилось. Теперь он плохо видел и слышал и едва ли мог различать вкус блюд и напитков: все вина казались императору одинаковыми. Кроме того, он стал бессилен, совсем бессилен. Правда, его «гвардия» по-прежнему существовала, но за последние недели Тиберий ни разу не удостоил ее визитом.
Единственным удовольствием оставалась охота на нарушивших закон об оскорблении императорского величия, и Макрон показал себя отличным охотником. Но стоило отрубить одну голову, как у крамолы тут же, словно гидры, вырастали две новые.
Как они извивались! Они клеветали, обвиняли и доносили друг на друга. Иногда кара настигала клеветника, иногда того, на кого клеветали…
— Но всегда виновного! — неожиданно прокричал император, чем очень напугал слугу, принесшего ему кубок с вином. — Что это?
— Вино, император, которое ты приказал принести.
Тиберий попробовал и скривился.
— Сюда, кажется, добавили уксуса. Принеси другое! Соррентийское!
Постепенно императору стало казаться подозрительным, что Гай и Макрон, которые должны были следить друг за другом, не сообщали ничего дурного. Он насторожился и приставил к ним шпионов, но и они не рассказали ничего нового, что Тиберий воспринял как доказательство их особенной ловкости. Он должен был оказаться хитрее, как это было всегда. Дни напролет ломал император голову, как заманить обоих в ловушку, ведь в том, что эти двое что-то замышляли, он не сомневался.
Может быть, Макрон и правда честен? Верный солдат, который добросовестно выполняет свои обязанности. Но мысли Гая Цезаря были для Тиберия очевидными: внук много лет дожидается его смерти. Император зло усмехнулся.
— Ему еще долго ждать! Я здоров. Может, было бы лучше покончить с Макроном и Калигулой и заменить их новыми достойными мужами. Но где таких взять? Едва люди получают должность, как тут же хотят большего, едва одаришь их своим доверием, как они уже готовы предать и оболгать тебя. А что если Гай и его приверженцы успели переманить на свою сторону весь сенат?
Тиберий почувствовал, как изнутри поднимается леденящий холодок. Возможно, убийцы уже в пути? Император выпил кубок соррентийского, которое, как ему показалось, по вкусу тоже напомнило уксус. Что делать? И тут неожиданно, как вспышка молнии, пришло решение. В Рим! Он должен немедленно отправиться в Рим, предстать перед народом и сказать:
— Я ваш император и повелитель, жив и помню о вас. Или вы забыли, как после пожара я раздавал помощь всем пострадавшим из собственного кармана? Ваш император всегда рядом, когда вы нуждаетесь в нем.
С таким словами он обратится к римлянам, а потом выступит перед сенатом и потребует отчета. И все станет ясно.
Идея оживляла и вселяла восторг. В Рим! Как раз сейчас наступил нужный момент.
«Не поступай я всегда правильно в нужное время, меня бы уже не было в живых», — довольный собой подумал император и велел позвать Тразиллия. Тот не замедлил явиться.
— Приветствую тебя, император!
— И я приветствую тебя, астролог!
Тразиллий сразу заметил, что его высокочтимый друг пребывает в прекрасном расположении духа. Возможно, он соскучился по ученой беседе.
— Друг мой, подними свой ученый взгляд на небо и скажи, благоприятны ли ближайшие дни для путешествия.
От удивления Тразиллий не сразу смог выговорить.
— Путешествия? — выдавил он наконец.
Тиберий кивнул.
— Я еду в Рим. Пора навести порядок. Я долго откладывал, но сейчас, похоже, настало время.
— Хорошая мысль, мой повелитель. Я сейчас же примусь за работу. Должен ли я сопровождать тебя?
— Разумеется! Я не могу отправиться в дорогу без своего астролога.
Затем он приказал позвать Макрона.
— Пусть Гай возвращается из Рима! Обратно мы вернемся вместе. Я хочу, чтобы во время путешествия вы оба находились рядом со мной.
— Будет исполнено, император!
«Наконец, — подумал Макрон с облегчением. — Наконец он сдвинется с места. Скоро пробьет наш час. Калигула обрадуется новости».
Калигула жил в Риме во дворце Августа, поскольку сестры после замужества покинули его стены. Для своей жены Юнии Клавдиллы он велел пристроить отдельное крыло, но заходил туда редко. После свадьбы он несколько раз навещал Юнию только в порядке выполнения долга и без всякого удовольствия. Теперь законная жена была беременна, и Калигула ограничивался визитами вежливости. Большую часть времени он проводил у Невии, которая ему, правда, тоже порядком надоела, но Гай не хотел сердить женщину, пока цель не была достигнута.
Здесь его и нашел центурион, приехавший с Капри. Он зачитал ему следующие строки:
— Император желает твоего присутствия, Гай Цезарь, так как собирается отплыть в Рим. Я с моими людьми удостоен чести сопровождать вас.
Калигула был готов закричать от счастья, но не выдал себя перед посыльным.
— Хорошо, я еду.
Все, о чем он мечтал, вот-вот свершится.
Ко времени прибытия Гая Цезаря императорская вилла была охвачена суетой и волнением. Тиберий очень давно не покидал Капри, за исключением одного-единственного случая. Тогда он тоже отправился в Рим, но без всяких объяснений велел развернуться прямо перед воротами города и ехать обратно. Никто не рассчитывал, что в таком преклонном возрасте император решится оставить Капри. Теперь же он не мог дождаться этого момента. Он лично следил за приготовлениями, раздавая ненужные распоряжения, о которых потом не мог вспомнить.
— И не забудьте Виперу! Без нее я не поеду.
Ручную змею Тиберию подарил Тразиллий. Император ухаживал за рептилией и очень любил ее, даже сам кормил ящерицами и мышами. Астролог в своих расчетах не увидел никаких опасностей, но и не утверждал, что выбранное время особенно благоприятствовало путешествиям.
— Это период, когда можно заняться любым делом, мой повелитель. Я не вижу причин откладывать поездку.
Тиберий нетерпеливо кивнул. Он был во власти дорожной лихорадки, так что и мрачные прогнозы не заставили бы его отказаться от намерения отбыть в Рим.
Как только Калигула вошел, Макрон бросился к нему и прошептал:
— Удачи, Цезарь! Он твердо решил ехать в Рим. Это хорошая возможность, другой такой не будет.
— Наконец, Макрон, наконец! Я уже начал терять терпение.
Префект оглянулся.
— Мне кажется, лучше нам не строить планов. Мы будем в море много дней. Нужный момент обязательно представится.
Калигула кивнул.
— Разделяю твое мнение. Я ведь могу рассчитывать на тебя, Макрон, при любых обстоятельствах?
«Народ уже многие годы надеется, что ты наконец-то околеешь», — подумал Калигула и с выражением сожаления поднял руки.
— Они будут умолять тебя остаться дольше, но решение, конечно, принимаешь ты.
В этот прохладный мартовский день дул сильный порывистый ветер, но у солнца уже было достаточно сил, чтобы разогреть свежий морской воздух. Темно-синее, почти неподвижное море блестело в его утренних лучах, будто посыпанное золотой пылью.
— Все-таки это правильное решение, — бормотал Тиберий, ступая на палубу.
В Риме Макрон и Калигула уже несколько месяцев вели подготовку. Император стал ненавистен и народу, и сенату, и армии. У сенаторов, живущих под постоянной угрозой процессов по делу оскорбления величия, были серьезные причины для неудовольствия, а народ устал от правителя, который ничего не предпринимал для его увеселения. Жадный император не раздавал подарков и не проводил гладиаторских боев. Не было торжественных процессий или каких-нибудь праздников, во время которых он бы лично присутствовал. Его будто бы и не существовало, этого старого скряги.
Непопулярность Тиберия в армии тоже имела свои причины. Одной из них была та, что больше не назначались легаты, как это было заведено со времен Августа, а другой та, что ветеранов не отпускали из армии раньше пятидесятипятилетнего возраста, потому что император хотел сэкономить причитающиеся им при этом выплаты. Растущее недовольство искусно подстегивал Макрон.
Кассий Херея, который уже четыре года ждал повышения, осторожно поинтересовался у начальников, не дал ли он повода к неудовольствию. Его вызвал Макрон.
— Здравствуй, центурион!
— Приветствую тебя, префект!
— Мне не в чем упрекнуть тебя, Херея. Мы рассмотрели твое дело еще в прошлом году и пришли к выводу, что служба твоя безупречна. Также было замечено, что ты научился читать и писать. Между нами, Херея: я бы уже сегодня назначил тебя трибуном, причем с полного согласия Гая Цезаря, но распоряжения императора требуют другого, а мы должны им подчиняться. Император практичен и денег на ветер не бросает, центурион. Он неохотно, очень неохотно подтверждает увольнения и повышения. И то и другое стоит денег, а это больное место нашего императора. Честь солдата запрещает мне рассуждать об этом дальше. Ты должен это понять.
— Конечно, префект!
— Но я могу уверить тебя, что при новом императоре ты сразу станешь трибуном. Об этом позаботится Гай Цезарь. Ты знаешь, как близка и понятна ему жизнь солдат.
Это хоть как-то обнадеживало. Не мог же Тиберий жить вечно!
Примерно так же утешал Макрон и других, и скоро вся армия говорила, что старый Тиберий не заботится о солдатах в отличие от своего внука и, возможно, преемника — Гая Цезаря.
И народ, и сенат, и армия ждали смерти старого Тиберия.
У Кассия Хереи была еще одна причина для беспокойства и нетерпения. Он взял большой заем, чтобы наконец переехать в свой собственный дом, и теперь и Марсия очень гордилась их жилищем в Транстибериуме, хотя сад был маленьким, а долги такими огромными, что Херее иногда казалось, что крыша вот-вот рухнет под их тяжестью.
Но жизнь стала теперь совсем другой. К дому была подведена вода, имелся туалет, а Марсия могла отдыхать в собственном саду.
Ее счастье и радость детей восполнили все неудобства, которые повлек за собой заем. Правда, благодаря императорскому указу проценты были небольшими, но все уже давно забыли, кому были этим обязаны.
9
Император не хотел привлекать внимания к своему путешествию. Тиберий ненавидел любопытство плебеев и с отвращением и опаской относился к толпе. С другой стороны, он не мог плыть на простом паруснике. Подготовили императорский корабль — трехмачтовое судно, богато украшенное резьбой и позолотой. На пурпурном парусе красовалась вышитая золотом римская волчица. Роскошный корабль, на котором плыл император, сопровождали четыре быстроходных парусника с преторианцами.
Целыми днями дул сильный ветер, и судно продвигалось к цели очень быстро. Тиберий, которому морские путешествия никогда не доставляли удовольствия, приказал пристать к берегу в следующей же гавани. Они остановились в Антии, древнем городе — последнем поселении, которое сдалось власти Рима. Победа была одержана в морском сражении, и остатки кораблей тогда выставлялись на форуме. Во времена императора Августа Антия превратилась в любимую летнюю резиденцию богатых римлян. Тут владели виллами Цицерон, Лукулл и Меценат. Здесь двадцать пять лет назад появился на свет Гай Цезарь, и теперь он воспринял остановку в Антии как добрый знак.
Императору, судя по всему, было очень плохо. Он покинул судно, опираясь на руку Макрона, сгорбленный, шатаясь и обливаясь потом, но изо всех сил пытался не подавать вида, что скверно себя чувствует, и даже отпускал жалкие шутки.
Калигула обеспокоенно спросил:
— Не хочешь ли ты немного передохнуть, достопочтенный отец?
Когда их могли слышать другие, он часто обращался к своему приемному деду доверительно, называя его отцом.
— Я хочу продолжить отсюда путь по суше. Не переношу качки! Мы переночуем здесь и завтра на рассвете отправимся в Рим, — ответил Тиберий.
Управляющего императорской виллой едва не хватил удар, когда в дом вошел Тиберий со своей свитой. К приему высокого гостя ничего не было готово, но Калигула успокоил слугу.
— Непредвиденная остановка. Император плохо себя почувствовал, и нам пришлось прервать путешествие морем. Тебе как старому преданному слуге я скажу: он очень плох; такой длинный путь не под силу восьмидесятилетнему старцу. Но этого никто не должен знать.
Польщенный доверием Калигулы, управляющий успокоился, но Гай просто подстраховался; было неплохо иметь нескольких доверенных лиц, которые смогли бы потом подтвердить плохое состояние здоровья императора.
Кубок вина быстро восстановил силы Тиберия. Он шутил с Тразиллием и своим врачом Хариклом, а когда тот по привычке хотел пощупать его пульс, император заявил:
— У меня все в порядке! Я чувствую себя превосходно, и мне не нужен врач.
Чтобы продемонстрировать свое отличное самочувствие, Тиберий сам наполнил кубок вином, и рука его при этом почти не дрожала.
— Это уже четвертый, — предупредил Харикл. — Может, тебе сегодня следует проявить большую сдержанность?
— Почему же? Я здоров, а лишний кубок вина мне никогда не вредил. Кстати, хочу напомнить тебе одно изречение: «В присутствии врача все полезно».
Харикл рассмеялся, Тразиллий хмыкнул, а Калигула посмотрел на императора с наигранной обеспокоенностью. Потом он разыскал Макрона, и они вышли в сад.
— В этом доме я родился, поэтому здесь ничего предпринимать не стану.
Макрон удивился.
— Ты суеверен? У нас осталось не так много времени, завтра отправляемся дальше, в Рим.
— Я разговаривал с Хариклом. Он полагает, что это временное улучшение, в действительности императору осталось недолго.
— Ты считаешь, нужно выждать?
— Зачем рисковать, если природа сама возьмет на себя сей труд?
— Я подчиняюсь твоему предложению, но у меня есть опасения.
— Все будет как надо. Я чувствую это.
Император провел спокойную ночь, но утром проснулся разбитым и утомленным. Тем не менее он настоял на том, чтобы продолжить путь, и на рассвете занял место в удобных носилках. У Тиберия был отсутствующий, немного рассеянный вид, и он даже забыл покормить свою змею. Мускулистые нубийские носильщики бежали трусцой, временами сменяя друг друга, и императорская процессия продвигалась довольно быстро.
Через час император вдруг приказал остановиться.
— Где моя Випера? Я не покормил ее. Принесите корзину!
Корзина со змеей была где-то среди остальной поклажи, но ее быстро нашли. Тиберий открыл крышку.
Макрон, ехавший верхом рядом с носилками Тиберия, услышал его сдавленный крик.
— Император?
Он спешился и заглянул под балдахин. Бледный император трясущейся рукой показал на корзину. Там лежала мертвая змея, частично уже съеденная муравьями, которые облепили ее, свисая шевелящимися гроздьями.
— Это знак! — задыхаясь от страха и волнения, сказал Тиберий. — Боги хотят предупредить меня! Так будет и со мной: в Риме я умру. Мы поворачиваем! Обратно, на Капри! Сейчас же поворачиваем!
Макрон и Калигула переглянулись. Оба были довольны ходом событий.
Процессия поспешила обратно к Антии и снова погрузилась на корабли. Император торопился, по всей видимости, им овладел панический страх, что он может не добраться до Капри живым. Но путь по морю давался Тиберию так тяжело, что он приказал пристать к берегу. Его отнесли на расположенную поблизости виллу.
Харикл шепнул Калигуле:
— Думаю, дело идет к концу. Может быть, он немного передохнет и снова почувствует себя лучше, но время его вышло. Это вопрос нескольких дней.
Тиберий цеплялся за жизнь с невероятной силой. Он, кому существование на земле так часто бывало в тягость, не хотел уходить в темноту, желая еще немного насладиться солнечным светом.
«Весной, когда дни становятся длиннее, а поля покрываются свежей зеленью, не умирают, — думал он. — Это время рождения и торжества жизни».
Железная воля императора сделала то, что Харикл считал невероятным: к утру Тиберий восстановил силы и отдал приказ отправляться дальше. Калигуле чудилось, что это кошмарный сон, который вот-вот рассеется. Макрону он сказал:
— Это должно произойти теперь. Я не могу и не хочу больше ждать. У меня есть план.
— И в чем же он?
— Я все сделаю один, но ты будь поблизости. Возможно, понадобится твоя помощь.
Поскольку император отказался плыть, путешествие продолжалось по суше.
Они остановились в Астуре, маленьком прибрежном городке. Как всегда, когда император хорошо себя чувствовал, он пил после дневной трапезы неразбавленное вино — один кубок за другим, пока его не одолела усталость.
Калигула обратился к деду с выражением искренней заботы на лице:
— Мы так рады, что ты снова бодр и
свеж, император. Я хочу просить тебя не испытывать судьбу и не пить неразбавленное вино.
Тиберий был в отличном настроении и повел себя милостиво.
— Хорошо, Гай. С этого момента я буду пить его разбавленным — плесни сюда воды.
Калигула взял кувшин с водой и дополнил кубок. Вино сначала пробовал слуга, поэтому Тиберий беззаботно пил дальше. После трех кубков он захотел спать. Калигула взял кувшин и, улыбаясь, сказал:
— Я разведу для тебя еще пару кубков…
Наблюдательный Макрон сразу понял, с какой целью Гай использовал воду и что он теперь сам уничтожает следы.
«Неплохо придумано, — думал он. — Я бы не догадался».
В эту ночь Тиберий тяжело заболел, и о дальнейшем путешествии не могло быть и речи.
Калигула и Макрон не спускали с императора глаз. Харикл приготовил для него сильное укрепляющее средство и предписал строжайший покой. Скоро Тиберию стало немного лучше, но он по-прежнему был слаб, говорил запинаясь и иногда забывал, где находится. На третий день он проснулся после полудня и потребовал позвать Тразиллия.
— Мы ведь уже на Капри? — спросил он.
— Нет, император, — ответил астролог. — Мы все еще в Астуре.
— В Астуре? Где это?
— На побережье, в одном дне пути от Капри, — сказал Калигула.
— Почему мы все еще не там? Я ведь приказал поворачивать. Почему не выполняются мои приказы?
— Ты заболел, достопочтенный отец, но сейчас поправляешься. Как только Харикл разрешит, мы тронемся в путь.
— Харикл ничего не может разрешить или запретить! — возмутился император. — Завтра я еду дальше! Уже завтра!
Так все и произошло. Они снова пустились в дорогу, и Тиберию стало настолько лучше, что он принял участие в организованных в его честь соревнованиях преторианцев. Напрасно Харикл предупреждал его об опасности перенапряжения. Когда началась травля зверей и люди должны были противостоять кабанам, император потребовал копье, встал и со всей силы метнул его в животное. Он попал, но напряжение оказалось так велико, что Тиберий с криком боли опустился обратно в кресло, бледный как полотно, и пульс его, как установил врач, опасно участился.
С этого момента состояние его стало резко ухудшаться. Он слабел с каждым днем, но вдруг перестал торопиться обратно на Капри. После того как всему побережью стало известно, где он находился, Тиберию вздумалось доказать всем, что он жив и здоров.
Следующей остановкой была Мизена, город, где располагалась часть римского флота. Здесь император с Калигулой и Макроном поселился на вилле Лукулла. Наследники полководца и гурмана продали ее императору, так что Тиберий жил в собственном доме. Это обстоятельство, как и то, что до Капри оставалось несколько часов пути по морю, укрепило у императора чувство безопасности и прибавило ему сил и решимости показать, что он еще в состоянии управлять империей. Тиберий принимал делегации из близлежащих городов, почти каждый вечер устраивал пышные трапезы, прощаясь потом со своими гостями, как требовала традиция, стоя. Слугам приходилось поддерживать его, а он замечал при этом с наигранной улыбкой, что старые кости немного ослабли.
Он ел с большим аппетитом, хотя и понемногу, но пил изрядно, и при этом Калигуле несколько раз удавалось подлить деду с водой небольшие порции медленно действующего яда.
На седьмой день он не смог без посторонней помощи встать с постели. Харикл определил у него лихорадку и велел соблюдать полный покой. Вечером император выпил еще два кубка вина, провел беспокойную ночь, временами забываясь в бреду, а к утру впал в похожий на смерть сон.
— Это конец, — прозвучал приговор Харикла, после чего Калигула тут же отправил гонцов в Рим. В послании говорилось, что император, умирая, определил своим преемником его, Гая Цезаря. Между тем Тиберий еще был жив.
Калигула и Макрон по очереди, а иногда вместе дежурили у постели императора. Ближе к двенадцати часам началась агония, старик стал хрипеть. Калигула кивнул Макрону и осторожно снял с пальца императора перстень с печатью. Будто почувствовав, что его лишили символа власти, Тиберий неожиданно распахнул глаза и слабым голосом позвал слугу. Тут его мутные от лихорадки глаза различили внука, который в ужасе застыл у его кровати с кольцом в руке.
— Верни! Оно пока принадлежит не тебе…
Эти слова он сказал шепотом, но четко и ясно, так что и Макрон мог их слышать.
— Ну все, хватит!
Префект подошел к постели, взял подушку и прижал ее к лицу императора.
Прошло несколько минут. Макрон снял подушку и закрыл умершему глаза.
— Да здравствует император Гай Юлий Цезарь Август! — приветствовал он нового императора.
Напряжение последних дней спало, и лицо Калигулы озарила улыбка.
— Спасибо, префект. Думаю, тебе лучше построить своих преторианцев. Пусть принесут присягу.
— Будет исполнено, император! — крикнул Макрон и повернулся к охране: — Передайте приказ всем преторианцам построиться перед входом!
Исполнен он был предельно быстро. Калигула вышел из дома.
Макрон скомандовал:
— Смирно!
Преторианцы устремили взгляд на своего нового повелителя.
— Император Тиберий мертв, и мы не сомневаемся в том, что боги примут его милостиво. В свой последний час он определил при свидетелях своим преемником Гая Юлия Цезаря, на что мы все так надеялись. Вам выпала честь первыми поклясться ему в верности, призвав в свидетели Юпитера и Марса, от имени сената и народа Рима.
— Клянемся! — ответили, как положено, солдаты, а потом о военной дисциплине забыли, и раздались крики: — Приветствуем императора Гая Цезаря. Долгие годы нашему Калигуле! Да здравствует Калигула!
То, что они до сих пор называли его, теперь их императора, Сапожком, не злило Гая. Он воспринимал это прозвище как почетное имя, данное ему когда-то легионерами в лагере отца, и решил позволить называть так себя и дальше.
В течение следующих дней из всех уголков империи прибывали гонцы с поздравлениями. Калигула говорил им одно и тоже.
— Друзья! Граждане Римской империи! Боги подарили моему глубоко почитаемому деду долгие годы правления, но в течение последних лет ему было не суждено распорядиться наследием Августа в духе своего предшественника. Он совершил много ошибок и несправедливостей — мы все знаем об этом. С этим покончено, друзья! С доносчиками в будущем будут поступать как с преступниками! Их, а не тех, на кого донесли, станут преследовать. Теперь император по старому обычаю будет находиться в Риме, рядом со своим народом, периодически выступая перед сенатом. Мы вместе проводим усопшего Тиберия в Рим, чтобы там совершить обряд погребения, и вместе отправимся в путь к грядущему.
Восторженное одобрение было наградой за его слова, сказанные, впрочем, от всего сердца. В эти дни Калигула видел себя непосредственным преемником Августа, на которого пытался равняться и чьим поступкам подражал. Разве Август, который тогда еще носил имя Октавиан, в свое время не избавлялся от противников? Но, укрепившись во власти, он стал добрым и справедливым. Народ обожествил его. Так же хотел поступить и Калигула. Он чувствовал, как внутренняя пустота и холод отступают перед этими намерениями, окрыляющими и возбуждающими.
Гай Юлий не осознавал, что всего лишь примерял на себя роль, не зная, готов ли сыграть ее до конца.
Когда весть о кончине императора достигла Рима, город встретил ее всеобщей радостью. У Тиберия давно уже не было друзей и сторонников ни в народе, ни в сенате. Его лишь боялись и ненавидели. Люди прыгали и танцевали на улицах и кричали:
— Тиберия в Тибр! К Орку! Бросить его труп на Гемониевы ступени!
Все с нетерпением ожидали прибытия молодого императора, который в это время сопровождал траурную процессию, ставшую для него триумфальным шествием, из Мизены в Рим. Правда, он носил подобающую случаю одежду и принимал печальный вид, но жесты и выражение лица Калигулы выдавали, какое наслаждение доставлял ему восторг толпы.
Алтари, построенные по краям дороги, по которой проходил кортеж, были богато украшены цветами, города встречали его сооруженными по этому поводу триумфальными арками, увитыми лавровыми ветвями, а по вечерам улицы освещали сотни факелов.
В душе Калигула радовался, что никто не был удручен смертью Тиберия; временами до его слуха доходили даже проклятья в адрес покойного, но он пропускал это мимо ушей.
Вступление нового императора в Рим превратилось в общенародный праздник: горожане опустошили свои сады, чтобы украсить улицы целыми возами весенних цветов.
Процессия проследовала через Аппиевы ворота и далее по Триумфальной улице к римскому форуму. Толпа могла задавить молодого императора, если бы Макрон и его преторианцы не образовали коридор, по которому он проследовал, к возвышению для ораторов. Молча, с непроницаемым лицом стоял наверху, пока людское море не успокоилось. Тогда он поднял руку, и в ту же минуту воцарилась тишина. Гай Юлий начал траурную речь об императоре Тиберии, и ему, настоящему актеру, удалось даже пролить слезы. Народ был тронут и взволнован. Какой человек! Он скорбел о своем деде и предшественнике с подобающим уважением, как того требовали происхождение и традиции. Как раз потому, что Тиберий был так ненавистен, Калигуле поставили в особую заслугу то, что он отдал усопшему должное:
— Пусть в последние годы император стал вам совсем чужим, мы должны быть благодарны ему за то, что всю свою заботу он отдавал благосостоянию империи, без устали и покоя, забывая о своем ставшем к старости слабом здоровье. Слова Цицерона «После сделанной работы хорошо отдыхать» не были верны в отношении его, так как он не давал себе отдыха как первый слуга государства. И в этом — только в этом — я хочу быть похожим на него…
Людям было ясно, что критику Тиберия Калигула представил как похвалу и дал понять, что преследования нарушителей закона об оскорблении императорского величия он не потерпит. Распахнулись двери в прекрасное будущее, и казалось, что благословенные времена Августа возвращаются. Ничто не говорило и в последующие месяцы, что все пойдет по-другому.
Калигула поручил Макрону прочитать завещание Тиберия, но префект едва ли был от этого в восторге. В душе воина шевельнулось подозрение, что Гай использовал его: ведь в завещании не был указан конкретный преемник: старик так и не смог решить, кому оставить власть — Калигуле или своему родному внуку Тиберию Цезарю.
Макрон выполнил то, что от него требовалось: зачитал документ сенату. Но поскольку Калигула был всеми желаемым преемником, права младшего Тиберия обошли, признав Гая Цезаря полноправным наследником. Калигула достиг своей цели и теперь решился на щедрый жест: он усыновил юношу.
Макрон, между тем, должен был многое сделать. Сразу после прибытия Калигулы в Рим и принесения ему присяги преторианцами он занялся исполнением своих обещаний. Префекту больше не нужно было проверять прошения о повышениях, переводах или увольнениях, за исключением новых случаев. Калигула предоставил ему полную свободу действий, но с условием, что под каждым актом будет стоять: «По приказу Гая Юлия Цезаря Августа».
Так сотни заслуженных ветеранов получили почетное увольнение с выходным пособием в виде денег или земли. За небольшим исключением, прошли и все повышения. Калигула потребовал:
— Нам нужна свежая кровь в рядах преторианцев. Пусть старики уходят. Каждый из них получит достойную компенсацию. Это недешево, однако необходимо.
Макрон кивнул.
— Я полностью поддерживаю тебя, император. Чем больше преторианцев принесут свою первую присягу тебе, тем лучше.
И центурион Кассий Херея достиг таким образом цели своей жизни. В торжественной обстановке он вместе с другими был назначен трибуном, будучи единственным среди всех остальных, происходившим из плебейской семьи.
Макрон передал ему медную отполированную дощечку с гравировкой — знак, подтверждающий его новый высокий ранг, и сказал:
— Император одобрил твое повышение. Да здравствует Гай Юлий Цезарь Август!
— Да здравствует император!
Свое правление Калигула начал, как того требовал обычай, с раздачи наград преторианцам, и Херея сразу смог выплатить большую часть своего заема. Остаток нетрудно было выплачивать ежемесячными взносами из жалованья трибуна.
— Начинается новое время! — с восторгом рассказывал он Марсии. — И не только для нас. Позавчера император приказал прекратить все процессы Тиберия и публично сжечь все акты. Для многих это конец кошмарного сна. А ты, Марсия, теперь жена преторианского трибуна.
Он поднял супругу на руки и принялся кружить.
— Был бы здесь сейчас Сабин! Думаю, он сразу отправился бы к преторианцам — при таком императоре!
Херея осторожно поставил жену на пол и продолжал:
— Не знаю, что с ним случилось. Прошел почти год. Он давным-давно прислал письмо и с тех пор молчит. Может, мне надо спросить его отца?
— Я не знаю… — с сомнением проговорила Марсия. — Его родителей не очень радовало ваше общение.
— Они боялись, что Сабин решит стать солдатом. Корнелий Цельсий хотел превратить его в книготорговца. Будто это дело для мужчины!
Марсия рассмеялась.
— Ты совсем забыл, что просил Сабина помочь тебе в том, без чего проще обходиться. Не умей ты читать и писать, не стал бы никогда трибуном.
— Ну да… — смутился Херея.
— И потом, ты так радовался, когда сам смог ответить на письмо друга.
— Он написал одно-единственное — не случилось ли с ним чего-нибудь?
Нет, с Корнелием Сабином ничего не случилось, во всяком случае, ничего такого, что грозило бы его жизни и здоровью. Он отправил Херее и второе письмо, но друг его не получил, потому что корабль с почтой попал в шторм у берегов Сицилии и разбился о скалы.
В первые дни пребывания в Эпидавре Сабину казалось, что он попал в другой мир. Все протекало здесь в торжественном покое и размеренности, без суеты, без крика — для римлянина почти пугающее состояние.
Он сопровождал дядю по Священной улице к храму. Здесь, на пути приехавших в надежде на чудесное исцеление, начинался строгий ритуал, обязательный для всех. Храм был всегда открыт. В полутемном помещении возвышалась громадная статуя Асклепия, изготовленная из золота и слоновой кости. Бородатый бог держал в правой руке свиток, а его левая рука покоилась на приподнятой голове священной змеи. У ног Асклепия лежала собака — другой символ.
Храм поражал не столько размерами, сколько богатством отделки, над которой трудилось множество известных мастеров.
Здесь больные должны были изложить свои просьбы, чтобы ПОТОМ ОЧИСТИТЬСЯ у СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ. Сабин удивлялся, с какой серьезностью его дядя, отличавшийся обычно скептицизмом, совершал эти ритуалы. Позже старик объяснил:
— Не имеет смысла делать что-либо наполовину. Тот, кто приезжает в Эпидавр искать исцеления, должен следовать традициям. Тому же, кто находит это смешным, лучше остаться дома.
Прежде всего жаждущие исцеления должны были принести жертву. Как правило, это были животные — ослы, козы, бараны, гуси или куры. Люди победнее могли ограничиться фруктами, хлебом или сластями. Те, кто прибывал издалека, жертвовали деньги, и у Сабина сложилось впечатление, что жрецов Асклепия такие жертвы радовали больше всего.
До места совершения жертвоприношения Сабин мог сопровождать дядю, но что следовало за этим, касалось только самих больных. Потом велись долгие доверительные разговоры со жрецами, которые пытались таким образом выяснить, в чем причина недуга.
Сопровождающие больных и вообще все, кто приехал не за лечением, должны были жить за пределами священной территории. Вокруг располагались самые разные гостиницы — от совсем простых домиков до великолепных вилл предлагались всевозможные развлечения гостям. Желающие отправлялись в гимнастические залы. На ипподроме можно было кататься на лошадях. Молодежь шла на стадион, где соревновалась в беге, прыжках, метании диска и копья.
Не пустовал и огромный амфитеатр, построенный три века назад известным архитектором Поликлетом. Из-за своих размеров — тут могли найти место две тысячи зрителей — и отличной акустики театр пользовался мировой славой. Здесь выступали известные актеры, в репертуаре были и классические греческие комедии, и постановки, прославляющие Аполлона и Асклепия, и простоватые шутки римских комедиантов. Любители музыки могли насладиться хоровым пением, танцами и декламацией в маленьком зале.
Итак, все вкусы были учтены, и только трагедии из уважения к больным не ставились.
Корнелий Сабин попал в круг молодых людей, в основном родственников или друзей тех, кто искал помощи Асклепия. Они коротали время в занятиях спортом, прогулках и визитах друг к другу. Общались на греческом, поскольку латынь здесь считалась вульгарным языком и редко была слышна даже из уст римлян. Молодежь съехалась сюда со всех греко-римских земель, прежде всего из Малой Азии, с Эгейских островов или из таких крупных городов как Афины, Коринф, Спарта, и совсем немногие были из Рима. Тут можно было встретить приехавших из Сирии, Палестины, Африки и других провинций Римской империи.
И была среди них Елена из Эфеса. Восемнадцатилетняя гречанка привезла в Эпидавр свою мать, супругу богатого судовладельца, которая искала избавления от загадочной внутренней болезни.
Сабин, по своему обыкновению, уже в первые недели завел несколько романов, но здесь все продвигалось не так быстро, как в легкомысленном Риме. Первой жертвой стала молодая супруга одного жаждующего исцеления; она нашла у Сабина ту радость, в которой ей было отказано в браке. Но супружеская пара скоро уехала, а большинство юных гречанок вели себя не так, как римлянки. Правда, они с удовольствием беседовали с Сабином, восхищались на стадионе его успехами в борьбе и метании копья, некоторые даже позволяли себя целовать, но не больше. Юный римлянин сильно не расстраивался, считал дни до отъезда и развлекал себя чем мог.
Дядя Кальвий ничего не говорил о предположительном времени отъезда. Казалось, он наслаждается жизнью в Эпидавре, где регулярно посещал представления в театре, просиживал часы в библиотеке и нашел постоянных партнеров для любимой игры в шахматы. Головные боли его больше не мучили, и бессонница тоже отступила.
Племянник же, хотя и не особенно скучал, не огорчился бы, случись необходимость отправиться домой, — до того дня, пока не познакомился с Еленой.
Недалеко от храма Асклепия для приехавших были построены маленькие термы, а за священной территорией — еще одни, значительно больших размеров. Вторые были доступны всем и стали местом встречи молодых людей. Они приходили сюда после спортивных занятий на стадионе или просто так для приятного времяпрепровождения.
Порядок был такой: два дня отводились на досуг женщинам, два — мужчинам, а еще два — тем и другим. При этом купальщики должны были оставаться одетыми, тогда как в другое время они спускались в воду обнаженными, конечно, кроме самых стеснительных.
Сабин, который, как правило, тяготился глупой болтовней мужчин, предпочитал общие дни и с удовольствием рассматривал молоденьких посетительниц. Для женщин и девушек считалось неподобающим показывать грудь, и все они носили короткие туники, а мужчины ограничивались кожаными повязками, прикрывающими чресла.
В тот день — особенный день, который навсегда остался в памяти Сабина, — он пообедал вместе с дядей, потом пошел на стадион, где без удовольствия метнул пару раз копье. И тут июньская жара показалась ему до того невыносимой, что он отправился искать от нее спасения в термах.
С наслаждением проплыв несколько кругов в бассейне, Сабин вышел в прилегающий сад, чтобы обсохнуть на солнце.
На траве сидела молоденькая девушка и расчесывала еще влажные волосы. Светло-голубая тонкая туника облегала стройное тело, четко обрисовывая маленькую упругую грудь. Бедра она стыдливо прикрыла полотенцем, чтобы заинтересованным взглядам не на чем было остановиться.
Сабин, который видал множество женщин, не мог отвести глаз от груди девушки и задавал себе вопрос: что сильнее возбуждает — нагое или едва прикрытое женское тело?
Звонкий голос заставил его прервать размышления.
— Еще не насмотрелся? Или, может, мне в угоду незнакомцу снять тунику? Чтобы ты не трудился раздевать меня глазами…
Сабин подошел поближе.
— Извини, прекрасная нимфа, если мои взгляды тебе неприятны. Но я безоружен перед женской красотой, бессилен и беспомощен. А твоей невозможно противостоять, если ты позволишь заметить.
Она встряхнула влажными волосами.
— Конечно, позволю. Только глупые женщины обижаются на комплименты. Надеюсь, они искренние.
Молодой человек поклонился:
— Клянусь Аполлоном и Асклепием. Меня зовут Корнелий Сабин. Я из Рима, сопровождаю своего дядю.
— А я Елена из Эфеса.
Сабин посмотрел на Елену, и его наполнило какое-то чудесное ощущение, которого он никогда раньше не испытывал. Казалось, из его живота к груди устремились теплые потоки, в голове стало горячо, горло пересохло, а в ушах появился легкий шум.
Ему пришлось несколько раз сглотнуть, и только тогда юноша смог ответить:
— Вот как, из Эфеса… Елена из Эфеса. Ты прекрасна, Елена из Эфеса… Но я это уже говорил, да, значит…
— Теперь у тебя пропал дар речи, — заметила она с издевкой.
Сабин немного пришел в себя:
— От красоты такое бывает.
Тут их перебили две девушки и юноша. Они со смехом подбежали к Елене, и одна воскликнула:
— Вот ты где! Мы тебя повсюду ищем. Не хочешь пойти с нами на ипподром?
Когда Елена встала, полотенце соскользнуло с ее бедер. Она была высокой и стройной, темные волосы обрамляли узкое серьезное лицо с большими, немного раскосыми глазами янтарного цвета.
Сабин тоже поднялся.
— Если мне тоже можно пойти… — неуверенно произнес он.
— Мы не можем тебе запретить. Ипподром существует для всех, — едко заметила Елена.
Остальные засмеялись и потянули ее за собой.
Сабин стоял, будто во сне, ощущая озноб, несмотря на жару. Что это было? Почему эта девушка произвела на него такое впечатление? Он потряс головой: «Пройдет. Наверное, я слишком долго был на солнце».
Молодой человек оделся и направился к храму Афродиты. Остановился в нерешительности, о чем-то раздумывая, а потом резко повернул и вскоре оказался на ипподроме. Там двое юношей катались на арендованных лошадях, пытаясь расшевелить старых медлительных жеребцов. Хитрый грек и не подумал дать им настоящих скаковых лошадей.
Сабин без интереса понаблюдал за происходящим. Зрителей почти не было, но в самых первых рядах он заметил Елену. Теперь она была одета в белую, едва прикрывавшую колени тунику. Свои тонкие руки девушка положила на плечи подруг и что-то кричала наездникам. Немного поодаль стоял юноша, не отрывая глаз от ног красавиц.
Сабин подошел к нему и тронул его за руку. Тот повернулся. Римлянин жестом предложил ему отойти в сторону.
— Ты знаешь этих трех девушек?
— Ах, вот о чем речь. Немного знаю. Встречались то тут, то там…
— Что можешь сказать о них?
— Ника…
— Меня интересует Елена.
— Худощавая, то есть, высокая? Мне кажется, к ней не подступиться.
— Так кажется довольно часто, а потом все оказывается наоборот.
— Ну, если ты так уверен…
— Во всяком случае, стоит попробовать. Мой друг, как тебя зовут?
— Леон. Я живу на острове Андрос, в одном дне пути отсюда. Мой старший брат страдает падучей, и я…
— Пожалуйста, не надо историй о болезнях. Здесь их слышишь повсюду. Меня зовут Сабин, я из Рима. Давай подойдем к девушкам и пригласим на ужин.
Леон покачал головой.
— Я уже пытался это сделать. После захода солнца их никуда не выманишь. У меня другой план: теперь, когда нас двое, его гораздо легче осуществить. Пригласим их к морю.
Мы наймем мулов, покатаемся вдоль берега, немного поплаваем, выпьем, поедим…
— Хорошая мысль, Леон. А что делать с третьей? Она лишняя.
— Это Йемена, молчунья. Все трое всегда вместе. Если по-другому не получится, придется брать с собой.
Сабин покачал головой.
— Пятое колесо в телеге — это всегда неудобно. У меня был соответствующий опыт. Значит, попробуем?
Леон кивнул и направился к девушкам, которые как раз собирались уходить.
— Развлечение так себе, вы не находите?
— Предложите что-нибудь получше.
Маленькая Ника бросила при этом взгляд на Леона. Елена тут же подхватила:
— А по-моему, это забавно, когда они на каждом повороте чуть не падают с лошадей.
— Если тебе это доставляет радость, я бы тоже постарался для тебя.
— Упал бы с лошади?
— Все что угодно — скакал бы задом наперед, стоя или лежа…
Тут Елена рассмеялась:
— Может быть, я как-нибудь потребую от тебя выполнить обещание. Тогда никаких отговорок!
— Никаких! Я всегда буду готов. Но чем мы займемся до этого? У нас с Леоном возникло предложение. Давайте наймем мулов и после заката отправимся на побережье. Завтра или послезавтра, когда вам удобно. Мы сможем там поплавать, перекусить, выпить вина…
Девушки переглянулись. Круглолицая Ника наконец сказала:
— Мы подумаем и дадим вам знать вечером.
Они удалились, оживленно переговариваясь. Леон между тем поинтересовался у своего нового друга:
— Пожалуйста, не сердись, но что ты нашел в этой девушке? Она выше, чем мы оба вместе взятые.
— Сам не знаю, — беспомощно ответил Сабин, — но когда я смотрю на нее, у меня подгибаются колени.
Леон рассмеялся:
— Дело ясное, мой друг. Ты влюбился.
10
С тех пор как Калигула стал императором, его семья оказалась в центре внимания. Все сожалели о трагической смерти его матери и обоих братьев и открыто говорили, что Тиберий хотел гибели семьи Германика и был ее виновником.
Калигула с его тонким чутьем к тому, что прибавляло ему популярности, решился, несмотря на апрельские штормы, отправиться на Понтийские острова, чтобы собственноручно захоронить прах матери и брата. Ему удалось превратить этот запоздалый акт родственной скорби в торжественную церемонию.
Гай Юлий стоял на палубе императорского корабля в траурной одежде. Когда они отплывали из Остии, оттуда он проследовал по Тибру до самого Рима. На всеобщее обозрение были выставлены богатые мраморные урны, охраняемые преторианцами, в то время как Калигула — олицетворение скорби — сидел впереди. Толпы людей стояли в молчании на берегу, временами раздавались возгласы сожаления. Глубокая печаль и боль императора вызывали уважение.
К полудню судно причалило у ворот Фабриция. Здесь императора встречали представители всех патрицианских семей. Они приняли урны с прахом и отправились к мавзолею Юлиев — Клавдиев, где уже покоились императоры Август и Тиберий, а также члены их семей, среди которых был и отец Калигулы, Германик.
Когда мраморные урны ставили в ниши, у Гая Юлия мелькнула мысль, что когда-нибудь и его прах найдет здесь свое место, но он сразу прогнал ее. Это время казалось таким бесконечно далеким, что не было никакой необходимости задумываться о нем сейчас. Вечером у императора был поминальный ужин, на который пригласили знатнейших представителей римского общества. В список, дополненный Калигулой лично, входили только избранные шестьдесят человек.
— Когда я начну строить, — заметил однажды император, — появятся залы на шестьсот гостей, а не на какую-то сотню.
Дворец Августа с его маленькими беспорядочно расположенными помещениями оказался неподходящим для приемов, но в доме, выстроенном неподалеку по распоряжению Тиберия в первые годы его правления, места было достаточно. Дворец оставлял ощущение холода и не уюта, но был довольно просторным и как нельзя лучше подходил для проведения празднеств.
Императорская семья ужинала в зале на подиуме. За столом присутствовали только члены семьи: три сестры Калигулы, его восемнадцатилетний приемный сын Тиберий Цезарь и мало кому известный чрезвычайно замкнутый Клавдий, приходившийся Калигуле дядей. Клавдий, пятидесятилетний человек, не обладавший сколько-нибудь заметной внешностью, прихрамывающий при ходьбе, отличался образованностью и глубокими знаниями во многих областях. Правда, он заикался, и беседовать с ним было непросто. Ученые мужи ценили его как автора достойных исторических произведений, прежде всего о погибшей империи этрусков и падении Карфагена. Калигула не принимал его всерьез, но Клавдий был членом семьи и поэтому должен был присутствовать на поминальном ужине. Император даже намеревался сделать его консулом — не для того чтобы оказать честь Клавдию, а с целью унизить сенаторов, назначив на вторую по значимости государственную должность заикающегося родственника. Уже сейчас он в радостном предвкушении представлял их озадаченные и обиженные лица.
В этот вечер все свое внимание Калигула посвятил сестре Друзилле. В ее лице было что-то загадочное, а ее манера держаться оказывала на Калигулу странное действие. Она спокойно ответила на взгляд его холодных глаз и с многозначительной улыбкой позволила, чтобы он ухаживал за ней во время ужина: наполнял ее бокал, предлагал лучшие кусочки. Это предпочтение было настолько явным, что Агриппина, старшая сестра, язвительно заметила:
— Мы тоже присутствуем здесь, дорогой брат, или ты пригласил нас по ошибке?
Ответ Калигулы был неожиданным для всех.
— Из чувства долга, Агриппина, как и ваших супругов.
Брак Агриппины с известным всему городу своими похождениями поклонником Бахуса Доминицием Агенобарбом не был счастливым. Она приняла мужа, который был значительно старше ее, с холодным презрением. Агриппина была беременна и радовалась, что теперь по крайней мере ненавистному мужу нельзя было к ней прикасаться.
Из уважения к ее состоянию Калигула относился к своей старшей сестре со снисхождением. Сначала он вообще не хотел приглашать навязанных Тиберием мужей сестер, но не решился нарушить традиции.
— Тебе замужество пошло на пользу, — обратился император к любимой сестре. — Ты становишься красивее день ото дня.
Друзилла улыбнулась загадочной улыбкой ведьмы.
— Это определенно не заслуга Лонгина — моего мужа. Его, кстати, тоже не спрашивали, хочет ли он меня в жены.
— Ты можешь развестись.
— Это не повредит чести семьи?
Калигула наклонился к ее уху и прошептал:
— Я могу назначить его на должность далеко за пределами Рима.
Друзилла с улыбкой кивнула, будто Калигула сделал ей комплимент.
— Хорошая мысль, — ответила она громко.
К Калигуле подошел его личный секретарь:
— Император, ты должен удостоить некоторых гостей аудиенции. Патриции хотят говорить с тобой, как это было при божественном Августе…
— Не сейчас! — оборвал его император. — Впрочем, ты, конечно, прав. Проси это стадо баранов.
Друзилла обменялась с братом веселым взглядом, в то время как лицо Агриппины приняло властное, отсутствующее выражение.
Ливилла, средняя сестра, до сих пор не принимала участия в разговоре. Она следовала учению стоиков и к необходимости выносить нелюбимого супруга относилась равнодушно. Она не хотела видеть его своим мужем, он ее — своей женой, они просто жили под одной крышей, но каждый в своем мире. Ливилла обратилась к литературе и систематически пополняла свою библиотеку новыми произведениями греческих и римских авторов. С тех пор как Калигула вернул сестре отнятое Тиберием состояние, она располагала для этого достаточными средствами. С особым интересом следила Ливилла за сочинениями Луция Аннея Сенеки, чьи обработки греческих драм ценила не меньше, чем его философские труды, проникнутые духом Зенона, которого Аристотель считал основателем диалектики как искусства постижения истины в споре или при истолковании противоположных мнений. Марк Виниций часто повторял, что ему повезло с женой, поскольку Ливилла брала в постель только книги, а не любовников.
В то время как император милостиво одаривал вниманием гостей, довольно часто отпуская едкие замечания по поводу слишком низко согнутых спин, взгляд Ливиллы искал поэта Сенеку, который, насколько она знала, тоже был приглашен.
— Достаточно! — сказал Калигула. — Я не хочу больше никого принимать. Возможно, в другой раз.
Он бросил взгляд на Друзиллу.
— Нам надо уединиться, дорогая сестра, для семейного разговора.
Он произнес это так многозначительно, что Агриппина сморщила лоб и собралась что-то сказать, но ее опередила Ливилла.
— Может, ты пригласишь Сенеку, поэта? Я знакома с его сочинениями и хочу на него посмотреть поближе.
— Смотрите-ка, у нашей Ливиллы есть голос! Я уж решил, что ты немая.
Насмешка брата не произвела на Ливиллу никакого впечатления.
— Так что?
Калигула решил не отказывать ей и приказал подозвать поэта. Сенека, казалось, колебался, но потом все-таки встал, тщательно вымыл руки в поднесенной ему миске с водой и медленно направился к подиуму.
— Приветствую тебя, император!
— И я приветствую тебя, Луций Сенека! Не я хотел видеть тебя и говорить с тобой, потому что знаю равнодушие поэтов к государственной власти. Это было желанием моей сестры Ливиллы.
Сенека наклонился к ней и произнес:
— Что было бы с поэзией, если бы не женщины, которые со страстью изучают наши произведения, пока их мужья занимаются более прозаичными делами?
Ливилла рассмеялась:
— Звучит высокопарно, Сенека, но это правда. Я знаю каждую твою строчку и не хочу упустить ни одной новой. Пусть боги пошлют тебе долгую жизнь, чтобы ты мог писать для нас.
— Хорошего не может быть много! — вставил Калигула.
— Не могу не согласиться с императором. Лучше создать мало хорошего, чем много плохого или среднего.
— И я знаком с некоторыми твоими сочинениями. Драмы впечатляют и полны огня — пусть ты и позаимствовал сюжеты у греков, но стихи — они как штукатурная смесь без извести.
Сенека, казалось, ничуть не обиделся. Он с любопытством поинтересовался:
— Как понимать эту метафору, император?
— Совсем просто. Я сравниваю стихотворение с домом, стены которого скреплены только штукатуркой. Она состоит из извести и песка. Если убрать известь, штукатурка перестанет держать стены и дом рухнет. Тогда останется только куча отдельных камней — или слов, если говорить о стихах.
— Потрясающее сравнение! Большое спасибо за замечание, впредь я буду стараться добавлять больше извести.
При этом Сенека посмотрел на Ливиллу и почувствовал тепло, излучаемое ее тихой, сдержанной красотой.
— Я буду посылать тебе свои новые сочинения с посвящением, благородная Ливилла.
— Буду счастливой получать их.
Калигула зло рассмеялся:
— Во имя всех муз! Как легко поэту сделать кого-либо счастливым! Императору приходится стараться больше.
Он посмотрел на Друзиллу, и в его холодных глазах вспыхнул совсем не братский огонь.
Префект преторианцев Суторий Макрон чувствовал себя обманутым: он не получил вознаграждения за свою преданность. Ведь это он в решающий момент задушил умирающего Тиберия подушкой. С того дня как Калигула поднялся на императорский трон, его отношение к Макрону стало надменно-снисходительным, и он ни разу даже не намекнул, когда же тот будет вознагражден.
Не меньше была разочарована и жена Макрона Невия. Калигула дал ей понять, что сейчас их отношения следует прекратить. Как император, он должен заботиться о своей чести, потому что народ предъявляет высокие требования к первому человеку в империи. В остальном же ей надо подождать — их планы просто немного отодвинулись. Но тщеславная Невия не могла удовлетвориться этим неопределенным обещанием. Если раньше она настраивала мужа против Тиберия и уговаривала перейти на сторону Калигулы, то теперь пыталась внушить ему обратное.
— Теперь, когда Калигула достиг чего хотел, он нарушает слово, данное тебе. Ты остался тем же, что и при Тиберии, — просто префектом. С той разницей, что Тиберия ненавидели, а Калигулу обожествляют. И ты, Макрон, оказался в тени, твое влияние теряет силу; скоро император заменит тебя на более молодого.
— Я не верю, что так может быть… — неуверенно ответил Макрон, но в душе понимал, что жена права.
Однако что ему было делать? Калигулу обожали, и он сидел на троне так уверенно, как когда-то божественный Август. В ушах Макрона между тем звучало обещание Гая Юлия: «Когда я окажусь на троне, ты сможешь занять любую должность — сенатора, консула, наместника, какую захочешь».
Макрон выждал еще немного, а потом воспользовался временем, когда Калигула пребывал в добром расположении духа, и обратился к нему:
— Я ничего не требую, император, не хочу ни на чем настаивать, но осмелюсь напомнить, какие перспективы ты когда-то открыл передо мной.
Неподвижные глаза Калигулы смотрели мимо Макрона, но он ответил:
— Я ничего не забыл, Макрон, но все же благодарю, что ты завел об этом разговор. Бремя моей должности оставляет мне мало времени. Значит, я обещал тебе любую должность на выбор: сенатора, консула или наместника. Ты верно служил мне, Макрон, поэтому я хочу доверить тебе высокий пост. Я назначаю тебя наместником в Египет.
Макрон склонил голову, пробормотал слова благодарности и не знал, радоваться ему или злиться. Должность наместника в римских провинциях подразумевала почет, уважение и богатство. Проконсул мог действовать в своих владениях по собственному усмотрению и был обязан сенату только определенным налоговым доходом. Но было и исключение под названием «Египет». Эта провинция, как житница Римской империи, играла особую роль и находилась непосредственно в подчинении императора, поэтому наместник был обязан придерживаться строгих директив, да и назывался он не наместником, а префектом. К тому же должность эта была небезопасна, так как в Александрии постоянно случались мятежи и трем расположенным там легионам довольно часто приходилось наводить порядок.
Невия готова была лопнуть от злости:
— Да он мог бы тебя в таком случае сразу назначить начальником тюрьмы! Последний сенатор имеет больше проку от своей должности, чем префект Египта. Он обманул нас! Будто бы повысил тебя, а на самом деле все не так. Египет — личное владение императора! Ты теперь не больше чем управляющий собственностью, который должен трястись при любом подсчете — понравится ли его господину результат.
— Я и сам это знаю! — в ярости закричал Макрон. — Но что я должен был делать? Отказаться от должности? С Калигулой шутки плохи, я бы сразу нажил себе врага. Придется выждать. Возможно, я смогу стать сенатором позже.
— Позже, позже! — передразнила Невия.
Не могла же она признаться в том, что ей пообещал Калигула! Оставалось только встать на сторону мужа и ждать лучших времен.
В противоположность Макрону Кассий Херея принадлежал к многочисленному большинству людей, которым смена правителя принесла счастье и удовлетворение. Он был готов идти за нового императора в огонь и воду, к тому же Херее была дарована возможность лично предстать перед ним.
Спустя несколько дней после повышений в армии Калигула распорядился представить ему новых центурионов и трибунов. Он знал, что от верности этих людей при определенных обстоятельствах зависит его жизнь, и не хотел упустить ни единого шанса, чтобы укрепить в их рядах свою популярность. Для каждого он нашел хвалебные слова, и, когда дело дошло до Хереи, который стоял перед ним навытяжку, император сразу понял, ведь он предварительно очень внимательно изучил списки, что это тот самый заслуженный солдат из плебеев.
— Ты долгое время служил в легионе моего отца и уже тогда отлично себя проявил. Я прекрасно помню твое имя.
— Кто был удостоен чести служить Германику, никогда этого не забудет и верность ему передаст тебе, император.
— Хорошо сказано, Кассий Херея. Любой император почтет за счастье иметь таких солдат, как ты.
Как легко давалась ему такая ложь — ведь он нуждался в этих людях как в инструменте, который всегда под рукой. А какой же хороший ремесленник небрежен со своим инструментом? Калигула с трудом подавил желание отпустить очередную колкость по поводу высокого голоса великана Хереи.
«Геркулес-то он Геркулес, а голос как у грудного младенца», — подумал Калигула и обратился к следующему.
Луций Анней Сенека не мог забыть встречи с Ливиллой. Как многие в Риме, он, конечно, знал, что брак ей был навязан Тиберием. Сестра Калигулы произвела на него впечатление женщины, оказавшейся по недоразумению в руках недостойного. О Марке Виниции он знал только, что тот происходил из благородной семьи, владеющей землей где-то в провинции.
Сенека как раз закончил свое исследование «О душевном покое» и хотел одну из первых копий послать Ливилле, но затем передумал.
— Я сам передам ей свое сочинение. Потом мы сможем немного поболтать, а может быть…
Мысли его забрели далеко, но ясный трезвый ум быстро переключился на действительность. Он отправил Ливилле письмо, в котором спрашивал, сможет ли она его принять и если да, то когда. Ответ не заставил себя долго ждать. Ливилла сообщала, что поэт и ученый всегда и для нее, и для ее мужа желанный гость. Сенека горько усмехнулся. Как добропорядочная римлянка, она тут же ссылается на мужа. Он решил, что отправится к ним через день, и уже настроился на пустую беседу с Марком Виницием. Но все получилось по-другому, и этой встрече суждено было изменить его дальнейшую жизнь.
Слуга провел Сенеку в приемный зал красивого просторного дома. Там его встретила Ливилла. Она приветливо улыбалась.
— Мой муж просит его извинить, он не хотел пропускать один очень важный симпозиум.
Сенека почувствовал поднимающуюся волну светлой радости.
— Да, симпозиумы иногда бывают и вправду очень важными.
С легким поклоном он протянул Ливилле свое новое сочинение.
— Я решил, что будет лучше их скрепить и переплести — в последнее время многие стали отдавать предпочтение таким книгам, а не свиткам. Читать намного удобнее.
— Я неплохо справляюсь и со свитками, — сказала Ливилла и пролистала несколько страничек. Одно место ее заинтересовало, и она прочла вслух: «Как обрести устойчивое и благодатное состояние духа? Как научиться правильно оценивать себя, как с наслаждением рассматривать собственное творчество, не разрушив потом полученную радость? Как сохранить это спокойствие, не поддаваясь ни приступам чрезмерной радости, ни меланхолии?»
Женщина подняла глаза и вопросительно посмотрела на Сенеку:
— И ты нашел ответы на все эти вопросы?
— Надеюсь. Возможно, они подходят не для каждого, но многим моя книга будет полезна.
— И конечно, женщинам? Или ты писал только для мужчин?
— Я мужчина и могу воспринимать и чувствовать только как мужчина, но надеюсь, что и женщины найдут здесь много интересного.
Ливилла прошла вперед, и они оказались на широкой крытой террасе, откуда открывался вид на маленький ухоженный сад.
— С того дня, как я увидела тебя на поминальном ужине, мне интересны не только сами сочинения, но и их создатель. Возможно, я говорю слишком откровенно, забываю придерживаться строгих старых римских правил. Они настоятельно рекомендуют замужней женщине избегать в отсутствие супруга общения с мужчинами, если таковые не являются родственниками. Ведь так? Я не могу пожаловаться на своего мужа, он обходителен и внимателен ко мне, но нам нечего сказать друг другу. Меня считают замкнутой и неразговорчивой… Брат подшучивает надо мной. Но я молчу из чувства пресыщения, Сенека. Если нечего сказать, длинные разговоры неуместны.
— Философия учит действовать, а не разговаривать. Об этом говорится в одной из моих книг.
— Что же должна делать женщина? Это право мужчин — творить жизнь за стенами домов и определять нашу женскую судьбу. Один мужчина, император Тиберий, мне этот брак навязал, и только другой мужчина, мой правящий брат, в состоянии его расторгнуть.
— И все-таки ты можешь действовать, Ливилла, можешь создать свой собственный мир.
— Я это и сделала. Мой мир — книги.
— Мир из пергамента…
— И это говоришь ты, поэт и философ?
Что-то заставило Сенеку ответить не словами, а действиями. Он наклонился к Ливилле, обхватил обеими руками ее голову и страстно поцеловал.
Она освободилась из объятий:
— Не здесь и не сейчас, мой друг.
— Это обещание?
Она засмеялась и нежно посмотрела на него:
— Можешь думать как хочешь. А теперь пойдем со мной, я покажу тебе свою библиотеку.
В тот вечер во дворце Тиберия Калигула поглядел вслед удаляющемуся Сенеке. Император был горд своим сравнением его стихов со штукатурной смесью без извести, но все-таки не чувствовал себя полностью удовлетворенным. Ученый ничего не сказал и не сделал такого, в чем можно было бы усмотреть неуважение или двусмысленность, но его голос прозвучал странно… Калигула не стал развивать эту мысль. Он выпил вина и почувствовал блаженство легкого опьянения. Император удовлетворенно оглядел своих гостей, наслаждаясь мыслью, что может словом изменить судьбу любого. Одному отрубить голову, другого сделать сенатором, третьего отправить в пожизненную ссылку или отобрать у него жену.
— Как пожелаю! — громко сказал он. — Все по моему желанию, — и засмеялся.
Клавдий присоединился к нему и проговорил сквозь смех:
— Я р-р-ад, что у т-т-ебя в-все х-х-хорошо, Гай.
— Да, у меня все хорошо, дорогой дядя, а чтобы доставить радость и тебе, я скоро назначу тебя консулом.
Клавдий озадаченно посмотрел на него и выглядел в этот момент так жалко, что Калигула опять залился смехом, показывая на него пальцем.
— Посмотрите-ка на нашего Клавдия! Я обещаю ему самую высокую должность в государстве после моей, а у него лицо как у карпа, выброшенного на берег.
— С-с-пасибо, им-п-ператор, — пробормотал ученый.
— А что получу я, раз уж ты настроен раздавать подарки? — спросила Друзилла.
— Чего бы ты хотела?
— Уйти отсюда.
Калигула поднялся:
— Значит, того же, что и я. Мне все это прискучило. Пойдем, я проведу тебя по дворцу Тиберия.
Император поднял руку, и сразу же воцарилась тишина.
— Я покидаю вас, друзья. Вы можете остаться, ешьте и пейте сколько хотите…
Он потянул Друзиллу за руку и исчез. Двум последовавшим за ними преторианцам он приказал:
— Оставайтесь здесь! Кто может причинить мне вред? Меня все любят.
Калигула провел сестру через роскошные, почти пустые помещения с колоннами из разноцветного мрамора и мозаичными картинами, сюжеты которых были посвящены подвигам Геркулеса и других героев.
— Это маленький зал для аудиенций, и здесь… — он открыл невидимую снаружи дверь, — Тиберий свил себе любовное гнездышко. Да, старик всегда был не прочь позабавиться, хотя и разыгрывал тут, в Риме, строгого блюстителя нравов.
Почти половину небольшого помещения занимала огромная кровать, покрытая пурпурным покрывалом, поверх которого были разбросаны черные подушки.
Калигула поставил лампу и показал на нишу.
— Знаешь, кто это?
Друзилла посмотрела на высокую, блистающую позолотой статую богини. На голове у нее были коровьи рога с солнечным диском, в руке богиня держала колосья пшеницы и цветы лотоса, и стояла она на серебряном месяце.
— Похоже, это не римская богиня. Возможно, из Сирии или Египта?
Калигула хлопнул в ладоши:
— Да! Да! Ты угадала, это божественная Исида! Она замужем за своим братом — богом Осирисом. Их сына зовут Гор, его часто почитали в образе сокола. Перед ее божественным ликом мы отпразднуем свадьбу, ты, моя сестра-невеста, и я, твой божественный жених.
Друзиллу не насторожили его слова: она слышала, что говорит брат, но не поняла, о чем он. Праздновать свадьбу? Вероятно, мистическую свадьбу, как символ, в честь египетской богини, которую Калигула — об этом слышала вся семья — давно почитал.
Но Гай начал ее раздевать, снял с нее тогу и столу, развязал пояс туники, и тут Друзилла прикрыла грудь руками, сложив их крест-накрест.
— Что ты делаешь? Ты ведь мой брат…
— Да, брат. Египетским фараонам можно было жениться только на своих сестрах, чтобы не испортить божественную кровь. Я жажду тебя, Друзилла, божественная сестра. В образе твоем слились Исида, Венера и Луна…
Трясущимися руками он снял с нее тунику и залюбовался нагим телом:
— Ты прекрасна, прекрасна, как богиня. — Калигула коснулся груди сестры. — Ты и вправду из плоти и крови!
Он рывком сорвал с себя одежду и прижал к ней свое густо поросшее волосами тело, обхватил обеими руками и бросил на постель.
В его неподвижных глазах вспыхнул огонь. С восставшей плотью и волосатой грудью Гай напоминал сестре фавна, лесного бога. Друзилла перестала сопротивляться, почувствовав, как чрево ее охватило желание, и приняла брата, принесла в жертву ему свое тело, как приносят жертвы богам. Когда страсть молнией пронзила тело Друзиллы и она со стоном прижалась к Гаю, в ее голове мелькнула мысль, что это было не жертвоприношение, а скорее сладострастная готовность отдаться.
— Теперь ты моя жена, а богине Исиде я построю храм, — сказал Калигула, когда все было кончено.
— А мой муж? Что будет с Лонгином?
Брат зло засмеялся:
— В этот час ты развелась с ним. Бедняга лежит дома в постели — или он все еще здесь? Неважно — я только что тебя развел. Ты формально выйдешь замуж за моего друга Эмилия Лепида, который не осмелится притронуться к тебе. Так ты избавишься от Лонгина и будешь принадлежать только мне. Сколько бы не было у меня законных жен, не забывай одного: моя настоящая божественная жена — ты, навсегда!
«Когда кончится этот странный сон?» — подумала Друзилла и устало свернулась на постели калачиком. Свет погас, издалека доносились шаги охраны. Она уснула, но пробудилась еще до рассвета.
«Значит, это все-таки была явь», — в сумеречном свете Друзилла увидела рядом с собой спящего брата. Друзилла испугалась и подскочила на постели.
Значит, это не сон. Но она не почувствовала ни стыда, ни сожаления.
11
Корнелий Сабин с нетерпением ждал вечера. Столовая гостиницы, где жили они с дядей, частично располагалась под аркадами, а частично под открытым небом. Днем здесь натягивали над столами и лавками полотно, а вечером его убирали.
Леон, которого Сабин пригласил пообедать, с аппетитом налегал на рагу из перепелов, свиной печени и овощей, в то время как Сабин без удовольствия ковырял вилкой рыбу.
— Что-то мне ничего не хочется, а я ведь целый день не ел.
Леон улыбнулся:
— Ты влюблен, и тебе нужна пища для сердца, а не для желудка. Но это пройдет.
— Куда они пропали? Ведь собирались сказать о своем решении…
— Спокойствие, мой друг! Женщины непредсказуемы. Возможно, они просто хотят помучить нас ожиданием и делают вид, что еще ничего не знают.
— Но Ника обещала…
Леон отмахнулся:
— Ника — та еще шельма; ей доверять никак нельзя. Но мне она нравится, я обожаю ее! Она будет моей, даже если мне придется поставить с ног на голову весь Эпидавр.
— С тобой, похоже, дела обстоят не лучше, чем со мной.
— Может быть, во мне просто говорит тщеславие, кто знает. Да вот они идут!
Но это была только молчунья Йемена — «пятое колесо в телеге».
— Я должна передать вам, что девушки согласны. Елена и Ника будут ждать вас послезавтра вечером у Пропилена. Вы должны позаботиться о мулах и вине, а они принесут с собой еду.
— А ты, Йемена? Ты поедешь с нами?
— У меня другие дела, — с этими словами она удалилась.
— Другие дела! Смех, да и только! Она просто злится, что у нее нет друга.
— При этом она вовсе не уродина, — сказал Сабин.
— Как бы там ни было, завтра утром мы должны раздобыть мулов. Местный торговец продает вино из Андроса, его-то мы и прихватим с собой.
— Оно не очень кислое? Ты знаешь, что девушки предпочитают сладкие вина?
— Я родом из тех мест, и это вино мне хорошо знакомо. Давай возьмем с собой мед на случай, если его придется подсластить.
Ожидание тянулось удивительно долго. Казалось, что песочные часы наполнены глиной, так тягуче отсчитывали они время.
На второй день Сабина будто громом поразило: дядя Кальвий как бы невзначай сказал, что им пора подумать об отъезде.
— Ты уже хочешь ехать обратно? Но ведь мы здесь совсем недавно!
Кальвий удивительно посмотрел на племянника:
— Мы здесь уже шесть недель. Большинство приезжих остаются в Эпидавре лишь на несколько дней. Кроме того, ты сам недавно спрашивал меня, когда мы наконец отправимся домой.
— Да, но тогда…
Кальвий остановился.
— Что значит «да, но тогда»? Ты говоришь загадками, Сабин. Что тебя здесь держит?
— Девушка! — вырвалось у Сабина. — Потрясающая девушка! Ее зовут Елена, она приехала из Эфеса и…
— И что же? — Кальвий с любопытством посмотрел на племянника.
Сабин беспомощно поднял руки:
— Не спрашивай дядя, я и сам ничего не знаю. Но, пожалуйста, дай мне еще две недели или плыви обратно один, если тебе здесь невмоготу.
Кальвию стало смешно.
— Мне невмоготу! По сравнению с римским местный климат летом полезнее для здоровья и легче переносится. Июль и август мы вполне можем провести здесь, но потом поедем обратно.
Сабин в восторге бросился к Кальвию.
— Ты самый лучший дядя во всей Римской империи! Я скоро представлю тебе Елену. Тогда ты меня поймешь.
От волнения Сабин проснулся на рассвете. Он не мог больше спать, ворочался в постели и думал о Елене. При этом ему пришло в голову, что он ни разу в мыслях не пытался соблазнить ее, будто она была волшебным сном, а не девушкой из плоти и крови с руками, ногами, грудью, бедрами… В своих прежних романах он преследовал совершенно определенные цели, но теперь…
Юноша глубоко вздохнул. Сабин не узнавал самого себя, ему казалось, что в его постели сидит сейчас какой-то чужой человек.
Он встал, надел тунику и отправился во двор. Там он вылил себе на голову ведро холодной воды, а потом еще одно.
Погруженный в свои мысли, Сабин напрочь забыл одеться и так и пошел с туникой под мышкой в свою комнату, оставляя за собой мокрые следы. Служанка с кухни, которая как раз несла воду, застыла с открытым ртом и в ужасе смотрела на молодого человека, будто он был привидением. Тот же приветливо поздоровался с девушкой и только у себя в комнате заметил, что не одет.
Конечно же, Сабин первым пришел к условленному месту, потом появился хозяин мулов, а еще немного позже — Леон.
— Женщины, как обычно, заставляют себя ждать. Собственно говоря, я на это рассчитывал. Они хотят нас разозлить, но мы не окажем им такой услуги.
— Разозлить? Почему разозлить? — озадаченно спросил Сабин.
Солнце уже стояло высоко, когда появились девушки в сопровождении слуги с двумя плетеными корзинами. Они укрепили на спине осла корзины и кувшин с вином и оседлали мулов.
— Животные должны быть послушными, как утверждает их хозяин, — крикнул Сабин остальным, когда наездники друг за другом тронулись к прибрежной полосе.
И все же мул Елены начал упрямиться: остановился, стал бить хвостом и неожиданно пустился рысцой, так что она чуть не упала.
— Давай поменяемся? — предложил Сабин. — Мой совсем смирный.
Елена нерешительно пожала плечами, но Сабин уже спрыгнул со своего мула и приподнял девушку из седла. Когда он почувствовал ее тело, вдохнул ее запах и волосы Елены коснулись его лица, у Сабина подкосились ноги. Он поставил ее на землю, но не отпустил.
— Ах, Елена, если бы я мог вот так держать тебя вечно!
Она выскользнула из его рук:
— Тебя бы это устроило, но ничего не выйдет. Мне не нужна помощь, чтобы спуститься с мула.
— Ты должна понимать, — язвительно произнесла Ника. — Они используют любую возможность, чтобы дотронуться до нас, поэтому так услужливы.
— Это была не уловка, — спокойно возразил Сабин. — Это все от чистого сердца.
Скоро перед ними открылся вид на море, и они проехали немного вдоль берега, пока не обнаружили маленькую бухту с высокими тенистыми соснами по краям.
— Вот! — в восторге закричал Леон. — Тенистое местечко с видом на море, песок и скалы…
Елена спустилась с мула и вытянула свои длинные, стройные ноги.
— В Эфесе дамы не ездят верхом, они всегда пользуются услугами носильщиков.
— Я предлагаю принять освежающую ванну, прежде чем мы распакуем корзины.
— Если вы собираетесь купаться обнаженными, я позову на помощь, — произнесла Ника с наигранным испугом.
Леон засмеялся:
— Никто тебя не услышит. Вы полностью в наших руках.
— Тогда я последую предложению Леона, — неожиданно сказала Елена и принялась стягивать с себя тунику.
Юноши удивились, однако оказалось, что на девушке была надета вторая туника — коротенькая для купания.
— Дома мне так делать нельзя, — крикнула она и побежала к воде.
Сабин подпрыгнул, выскользнул из одежды и бросился за ней.
— Быстрый, как молния! — усмехнулся Леон и посмотрел на Нику, которая не знала, как себя вести.
Елена стояла уже по колено в море. Она медлила, но Сабин взял ее тонкую руку и потянул дальше.
— Не на глубину, — попросила она. — Я не умею плавать.
— В море тебе это и не нужно, вода сама прекрасно держит.
Сабин бросился в волны, нырнул, проплыл немного и вернулся.
— Смелее, Елена! — закричал он. — Пусть и рыбы полюбуются твоей красотой. Возможно, ты приманишь самого Посейдона.
Она мужественно сделала несколько шагов вперед. Вода покрыла ей плечи. Потом Елена легла на воду.
— Я научу тебя плавать, — сказал Сабин и одну руку подложил ей под живот, а второй придерживал голову.
— Греби руками и ногами.
Он ощущал в своем теле сладкую дрожь, когда прикасался к ней, и почувствовал, что фаллос начал напрягаться.
Елена беспомощно колотила по воде руками и ногами, потом высвободилась, чтобы снова встать на ноги и отдышаться. Она смешно фыркала и хохотала, отбросив назад мокрые волосы. Ее янтарного цвета глаза весело поглядывали на Сабина.
— Так быстро я не научусь. Давай вернемся к остальным на берег.
Но теперь Сабин просто не решался выйти из воды.
— Я скоро буду, — крикнул он вслед Елене и, делая сильные гребки, поплыл в открытое море. Юноша плыл так долго, пока возбуждение не прошло. На берегу он увидел Елену, занятую сервировкой импровизированного стола. На большой льняной скатерти она разложила жареных кур, белый хлеб, свежие клубни фенхеля и сушеные фрукты.
— Тебе осталось только разлить вино, — сказала девушка Сабину.
— А где Леон и Ника?
— Куда-то ушли, — ответила Елена с наигранным равнодушием.
Сабин оглянулся:
— Просто ушли? Но мы ведь хотели…
— Садись и устраивайся поудобнее. Они не заблудятся.
Сабин натянул одежду и теперь рассматривал точеный профиль греческой красавицы.
«По сравнению с ней у наших римлянок простые крестьянские лица, — подумал он и собрал всю силу воли, чтобы сохранять внешнее спокойствие. — Так же, наверное, чувствуют себя солдаты, — мелькнуло у него в голове, — когда врываются в завоеванные города и накидываются на девушек и женщин — жадно, грубо…»
Он взял себя в руки и тихо произнес:
— Елена, я люблю тебя. Да, люблю тебя по-настоящему. Очень серьезно. Я люблю тебя…
Она подняла на него глаза.
— Очень серьезно? — повторила она. — Мы едва знаем друг друга. Не говори ерунду, Сабин. Из-за жары твой разум помутился.
Он вздохнул.
— Хотел бы я, чтобы так было.
Взяв ее за руки, Сабин притянул девушку к себе. Она действительно оказалась выше, чем он, но это вовсе не смущало юношу.
— Можно мне поцеловать тебя, Елена?
Она отрицательно покачала головой.
— Я должен поцеловать тебя!
С этими словами он взял ее голову двумя руками и прижался своими губами к ее, Елена, помедлив, приоткрыла рот.
От нее пахло морем, соленой водой и женщиной, и Сабин жадно целовал ее все еще влажные плечи, шею, щеки, лицо, пока она не оттолкнула его.
— Сабин, Сабин, приди в себя! Мы не одни.
Держась за руки, к ним медленно шли Леон и Ника.
— Кажется, мы помешали, — с ехидцей заметила Ника.
Елена откинула назад влажные волосы:
— Нет, не помешали! Еда готова. Мы ждали вас.
— Что есть вкусненького? — спросил Леон, присаживаясь на песок. — Любовь возбуждает аппетит, — произнес он с усмешкой, хватаясь за курицу.
Ника поспешила сконфуженно объяснить:
— Он шутит. Мы просто прогулялись.
— В саду Венеры, — добавил, жуя, Леон.
Сабин открыл кувшин с вином и наполнил два больших кубка до краев.
— Их у нас только два, но надеюсь, что девушки позволят нам пить из своих.
Жареная птица быстро исчезла, а в кувшине с вином показалось дно. Разморенные полуденной жарой молодые люди притихли.
— Давайте поспим немного в тени. Ведь мы никуда не торопимся?
Елена запротестовала:
— Я не хочу сейчас спать. Мне очень нравится час Пана.
Сабин тут же предложил:
— Пройдемся немного по берегу. Может быть, нам повстречается этот рогатый бог.
— Может быть… — Елена тихонько засмеялась.
— Ты не боишься солнечных ожогов? — с любовью и заботой спросил Сабин.
— Я люблю полуденную жару, когда природа застывает от дыхания зноя. Сосновый аромат в это время самый сильный, цикады умолкают, и даже змеи прячутся в свои норы. Час Пана. Ты когда-нибудь видел его?
— Не видел, но представлял.
Они побрели к берегу, но золотой песок стал таким горячим, что им пришлось укрыться в тени.
Сабин остановился и притянул к себе Елену. Он погладил ее стройные прохладные бедра, но она резким движением отбросила осмелевшую руку в сторону.
— Ты не Пан, а я не твоя нимфа, Сабин.
Он взял ее руку и положил на свои чресла.
— Чувствуешь? Я хочу тебя, Елена, люблю тебя и хочу!
Она вырвалась и побежала прочь. Сабин — за ней, но она петляла, как заяц, пока не споткнулась и не упала в горячий песок. Он набросился на девушку и стал страстно целовать.
— Нет, Сабин, нет!
Она выскользнула из его объятий.
Сабин оставил свои попытки:
— Я не хочу тебя ни к чему принуждать. Еще никогда я не брал женщину силой.
— Надеюсь! — строго сказала Елена.
Бок о бок шли они обратно. Ника и Леон еще спали, обнявшись.
— Эти двое нашли друг друга, — с завистью сказал Сабин.
Елена тихо засмеялась.
— Нашли? Надолго ли? На несколько часов, дней, лет — навсегда?
— Разве есть разница? Любовь не спрашивает о времени. Час может продлиться вечность, а десять лет — стать одним мгновением.
Мулы и осел стояли в тени и вяло наблюдали за действиями людей добродушными глазами.
Животные наслаждались покоем, когда груз не отягощал их натруженные спины и никто от них ничего не требовал.
12
Рим, центр мира, кипел деятельностью и гудел как улей. Скупец император Тиберий пополнил государственную казну огромными средствами, а его преемник Гай Цезарь Август самозабвенно тратил. Архитекторы, кораблестроители, художники, скульпторы и резчики прибывали в Рим толпами, и у всех были радостные лица, потому что каждый получал заказ.
Строительство храма Августа и театра Помпея, начатое во времена Тиберия, было доведено до конца. От Тибра в Рим протянулся новый акведук.
Правда, Калигула думал при этом о собственных удовольствиях и привилегиях императора. Он отдал распоряжение о строительстве роскошного судна. Оно не должно было быть ни очень устойчивым в бурю, ни быстроходным, Нет, император хотел иметь корабль, предоставляющий такие возможные удобства и поражающий пышностью убранства, как дворец. Он потребовал разместить на нем бассейны, сад, колоннады и просторные пиршественные залы и довел дюжину кораблестроителей почти до отчаяния. При этом можно было использовать только самые дорогостоящие материалы. Паруса изготовили из расшитого шелка, а поскольку аркады для облегчения веса делали из дерева, их должны были покрыть позолотой и украсить драгоценными камнями.
При этом расточительность молодого императора не вызывала возмущения или критики. Люди говорили, что все, что он делает, возвеличивает империю. Кроме того, проекты давали работу целой армии мастеров и простого люда. Но Калигула проявлял нетерпение и постоянно спрашивал, когда же будет готово то или это.
Первый заказ о полной перестройке дворца Тиберия был сделан им сразу после вступления на трон. Лучшим архитекторам Рима молодой император поручил прежде всего увеличить в два раза площадь дворца.
Долгие часы проводил Калигула над чертежами, и специалисты пытались воплотить в реальность его подчас безумные предложения дилетанта. Основной проблемой была нехватка места. Не получалось расширить строительство без того, чтобы не натолкнуться на храм, колоннаду или чей-то частный дом. Калигула решил задачу по-своему, предложив владельцам возникших на пути домов продать их за сколь угодно высокую цену.
— Никто не должен чувствовать себя обделенным или обманутым, — распорядился он и дал указание секретарям платить за дома столько, сколько попросят владельцы. Но никто не отваживался назвать слишком высокую цену, чтобы потом его не упрекнули в получении выгоды за императорский счет.
Так на северо-западе место было расчищено, и дворец протянулся до самого форума, где возвышался храм божественных близнецов Кастора и Поллукса, сыновей Зевса и Леды. Калигула не решился его снести, и тогда храм превратили в часть нового дворца.
Гай Цезарь потирал руки, наблюдая, как растет и преображается строение. Если бы он смог разбудить на часок-другой своего предшественника, чтобы показать, как сокровища, над которыми он так трясся, изменили лицо ненавистного ему города!
На Квиринале со времен Республики сохранился маленький храм Сераписа, чтобы солдаты из Египта могли отдать здесь дань уважения своему богу. Калигула велел снести его и построить на этом месте новый, значительно больший храм, но теперь в честь Исиды и Сераписа. Его страсть к египетским богам зашла так далеко, что он поручил Макрону, когда тот отправится в Египет, разыскать там особенно крупные изваяния и переправить их в Рим.
Новый наместник все еще не отплыл в Александрию: по непонятным причинам император медлил с приказом. Макрон, и так сильно разочарованный поведением Калигулы, начал забываться и частенько вел в кругу друзей и знакомых неосторожные разговоры. Он, который всегда знал меру в употреблении вина, теперь пил от скуки и пресыщенности, поскольку Калигула не дал ему никакой службы, лишив его привычного образа жизни. Должность префекта он потерял, а к исполнению новой ему не давали приступить.
Как-то вечером, который он проводил в обществе знакомых сенаторов и трибунов, обида Макрона, выпившего очень много, выплеснулась наружу.
— Если бы я не обещал Калигуле молчать, то мог бы рассказать вам интересные вещи…
На минуту к нему вернулось благоразумие, но потом бывший префект все-таки продолжил:
— Если он сейчас сидит на троне, наш Сапожок, то только благодаря мне. То, что я сделал, едва ли бы сын сделал для своего отца или брат для брата, но я — я… Да, ради него я взял это на себя, чтобы мы потом вместе пожинали плоды.
Макрон залился пьяным смехом. Слушатели притихли.
— Но он об этом и не думает, наш замечательный император, замаравший свою честь кровосмешением, у него есть дела поважнее. Хочет, чтобы народ прославлял его как великого освободителя, основателя нового времени.
Они рукоплещут, а Макрон, глупый недальновидный Макрон, который рисковал своей головой…
Он остановился. Большинство из сидящих вокруг слушали его мрачную речь с застывшими лицами. Потом кто-то решился:
— Ты среди друзей, Макрон! Расскажи нам, что тебя гнетет, в чем упрекаешь императора, и мы подумаем, можно ли что-нибудь сделать.
Но бывший префект охраны Тиберия был еще не настолько пьян, чтобы забыть всякую осторожность.
— Упрекнуть? В чем я могу его упрекнуть? Но меня обижает, что Калигуле больше не нужны мои советы, что он забыл, что я для него сделал.
— И ты не хочешь нам сказать, что именно? — спросил один из присутствующих.
— Нет, — сказал Макрон. — Пока нет. Но может случиться, что мне надоест держать рот на замке, если он так долго будет томить меня без дела. Возможно, он отозвал уже Авиллия Флакка из Александрии? Вы что-нибудь слышали об этом?
Никто ничего не знал. Но среди «друзей» нашлись шпионы, которые поведали императору о странных речах Макрона.
«Он чувствует себя обойденным, — думал Калигула, — хочет получить лучшее вознаграждение, может стать опасным. Как хорошо, что не отправил его сразу в Александрию. Кто знает, что натворил бы этот честолюбец в Египте. Здесь он или там — это тяготит меня. В моей империи Макрону нет места».
И все добрые намерения идти по стопам Августа были забыты. Того, кто знает слишком много, надо уничтожить. И Калигула начал распускать слух, что Макрон обязан ему жизнью, так как Тиберия в последние дни настолько одолела подозрительность, что он хотел убрать и его. Он, Калигула, защитил друга, а тот в благодарность решил его оболгать. Это можно было бы назвать и изменой — даже государственной изменой.
Калигула размышлял, как ему избавиться от Макрона и Невии; ведь у бывшего префекта были друзья и сторонники и в сенате, и среди приближенных императора.
Между тем осенью Калигула тяжело заболел. Его мучили сильная рвота, нестерпимые головные боли и приступы лихорадки, которая огнем жгла тело. Люди по всей стране приносили жертвы и давали обеты, чтобы боги послали любимому императору выздоровление. Но очень скоро они прокляли себя за свою заботу и иступленно молили тех же богов о его смерти.
Кассий Лонгин вздохнул с облегчением, когда ему сообщили, что император расторгает его брак с Друзиллой. Он не хотел ставить на карту свою честь и достоинство римского гражданина.
С тех пор как Калигула перестал скрывать, что Друзилла делит с ним ложе, друзья выражали Лонгину свое сочувствие, сожалея, что Фортуна послала ему такую жену. Теперь он освободился от нее и считал свою честь восстановленной. Но не у всех было такое болезненное самолюбие.
Эмилий Лепид, давно известный как друг императора, чувствовал себя польщенным сверх меры, когда Калигула сообщил ему о своем намерении женить его на своей сестре Друзилле, строжайше запретив к ней прикасаться.
Ровесник Калигулы, Эмилий был известен как человек сладострастный и циничный, но в нем горел скрытый огонь тщеславия, который не позволял ему долгое время довольствоваться положением всего лишь друга императора. Происходил он из древнего патрицианского рода, среди представителей которого были и полководцы, и консулы, и сенаторы.
«Мысли не знают преграды, — думал Лепид. — Предположим, что Калигулу по какой-либо причине свергнут. Кто тогда станет его преемником? Возможно, Тиберий Цезарь, ведь наследство Тиберия-старшего досталось им поровну. Но у молодого человека нет к этому никаких склонностей, к тому же он еще слишком юн. Клавдий Цезарь, хромой заикающийся старик? Немыслимо! Остались еще сестры и их мужья. Супруг Агриппины Агенобарб, пьяница и распутник, не в счет. Муж Ливиллы, мягкий и любезный Виниций, не обладает ни честолюбием, ни другими необходимыми для высокой должности качествами. Значит, выбор может пасть только на него, на Марка Эмилия Лепида, предки которого имели столько блестящих заслуг. Брак с любимой сестрой императора тем более повышает его шансы на трон».
Корнелий Сабин пережил все взлеты и падения, приходящиеся на долю влюбленных. Приветливое слово Елены, подаренный поцелуй возносили его к облакам, а несостоявшаяся встреча или недовольное лицо причиняли танталовы муки.
Елена не давала ясно понять, любит ли она Сабина; иногда ему казалось, что она к нему равнодушна, и тогда любого неодобрительного слова, недовольного взгляда или вздоха разочарования было достаточно, чтобы погрузить его в состояние глубокой тоски.
Как и обещал, Сабин представил Елену дяде Кальвию. Девушка при встрече со стариком вела себя безупречно, внимательно и с должным уважением слушая его речи, но на конкретные вопросы иногда давала пространные ответы.
Когда Кальвий поинтересовался: «Разве мой племянник для тебя ничего не значит? Посмотри на него, как его преданные голубые глаза умоляют тебя о ласковом слове», Сабин от смущения отвернулся, хотя вопрос был задан в шутку.
— Он очень много для меня значит, благородный Корнелий Кальвий. Я ценю его общество. Он вежлив, внимателен и услужлив. Молодая девушка, которая дорожит своей честью, не может желать лучшего, чем быть знакомой с Сабином.
Кальвий сморщился:
— Думаю, что как раз этого Сабин и не хотел услышать. Но вы, молодые люди, сами разберетесь. Я не буду вмешиваться.
Сабин кипел от злости. Когда они шли назад, он накинулся на Елену:
— В твоих глазах я, вероятно, выгляжу шутом, законченным дураком, которого держат для развлечения. Теперь я жалею, что тогда не взял тебя силой. Может быть, теперь ты говорила бы по-другому.
Янтарные глаза Елены вспыхнули от возмущения:
— Ах, вот о чем ты, только об этом! Твои слова доказывают, что ты меня не любишь, хотя не устаешь без конца уверять в обратном. Для тебя я просто одна из многих, которые годятся для удовлетворения твоей похоти. Возьми себе проститутку, здесь их полно! А меня оставь в покое!
Сабин тут же пожалел о неосторожно сказанных словах. Он упал на колени и обхватил стройные ноги девушки:
— Я не это имел в виду, Елена! Пожалуйста, прости меня! Отрежь мой язык, дай мне пощечину, поколоти, но только не отворачивайся. Пожалуйста, поверь, что я думаю совсем наоборот. Я бы никогда не смог себе простить, если бы применил силу. Скажи, что ты прощаешь меня, скажи это!
— Встань! — сердито сказала Елена. — Неприятно смотреть на римского патриция, который, как раб, стоит на коленях.
— Я твой раб, Елена, так и есть. Распоряжайся мною, как хочешь! Тебе это может показаться смешным, но я просто не могу по-другому. Я часто бывал влюблен и всегда имел подругу, но любить… по-настоящему влюбленным я не был, пока не познакомился с тобой. Чего бы я только не отдал, чтобы пробудить в тебе похожие чувства! А тебе, видите ли, со мной хорошо купаться! Больше ничего, Елена, больше ничего? Скажи мне правду, я прошу тебя!
Елена отвела взгляд и смотрела теперь на горы, где когда-то жили Зевс и Гера. Юноша все-таки встал.
— Ах, Сабин, ты не безразличен мне. Поэтому с нами не должно быть так, как с Никой и Леоном. Случайная связь, и скоро все снова забыто. Для этого мне себя жаль, Сабин, и тебя тоже.
Он внимательно слушал и молчал, потому что надеялся на продолжение, но напрасно.
— Да, что дальше, Елена? Для этого тебе меня жаль, а для чего нет? Скажи мне! Я говорил тебе не один раз, что сразу женюсь на тебе, поеду с тобой в Эфес, если хочешь, или возьму с собой в Рим…
Елена без слов кинулась ему на шею — ей для этого, пришлось наклониться — и прильнула к его губам. Целовала она страстно и самозабвенно, но недолго.
— Это мой ответ, Сабин. Другого у меня нет. Его не может быть.
Сабин окаменел.
— Не может быть?
— Нет, потому что я помолвлена. Когда-нибудь ты должен был это узнать. Ты расточаешь свою страсть зря. Я давно обещана другому мужчине. Его родители — друзья моих, наши отцы занимаются одним делом, как когда-то деды. Петрона я знала еще ребенком, мы помолвлены родителями много лет назад, и сразу после моего возвращения домой должна состояться свадьба. Мой будущий муж, конечно же, хочет жениться на честной девушке, понимаешь? Могу предположить, что римлянин желал бы того же.
Сабин стоял как громом пораженный.
— Но… но… почему ты не сказала мне сразу — или раньше…
— А что бы изменилось? Я есть и остаюсь Еленой, такой, какой стою перед тобой, помолвленной или нет. Почему я должна была лишать тебя радости? Мне было это не под силу.
— Ты права, — сказал, запинаясь, Сабин. — Ничего бы не изменилось. Твой жених хочет, чтобы ты досталась ему девственницей, а сам, вероятно, постоянный гость какого-нибудь публичного дома в Эфесе. Перед женитьбой он должен как следует повеселиться, в то время как ты — целомудренно ждать его.
— Да, так у нас принято. А разве в Риме по-другому? Там женщины развлекаются перед замужеством и приносят в приданое мужу детей? У нас, женщин, развлечения часто чреваты последствиями, к сожалению.
— К сожалению? Значит, ты хотела… Я имею в виду, если бы не было последствий?
— С тобой? Почему бы и нет?
— Но их можно избежать, — пылко заверил Сабин. — Существуют определенные средства. Ты, конечно, ничего об этом не знаешь. Например, можно…
— Нет! — перебила девушка. — Я ничего не хочу об этом слышать! Только моему будущему мужу пристало втолковывать мне такие вещи.
— Но я люблю тебя, Елена! Я люблю тебя. Я только хотел показать путь… я имею в виду… хорошо, молчу. Что же теперь?
— Через девять или десять дней мы уезжаем, Сабин. Моя мать уже позаботилась о местах на корабле. Мне ужасно жаль, но это правда, и мы должны с этим справиться.
Сабин увидел проблеск надежды.
— «Мы»? Ты говоришь «мы». Значит, тебе тоже тяжело, и ты испытываешь похожие чувства?
— Ты нравишься мне, Сабин, и не была бы я помолвлена, кто знает… Но боги решили по-другому, и мы должны подчиниться.
— Боги, боги они, — проворчал Сабин. — Всегда, когда люди не находят выхода, перекладывают ответственность на богов. Почитала бы ты нашего Сенеку! Философия учит не говорить, но действовать! Он сказал именно так однажды. Действовать! Мы могли бы, например, бежать. Почему нет? Мои родители богаты, они бы с радостью тебя приняли. С другом детства ты не будешь счастлива, это знает каждый. Друзья детства растут вместе, как брат и сестра, и брак между ними — все равно что кровосмешение! Ты должна это знать!
Елена укоризненно покачала головой:
— Что ты говоришь, Сабин? Это далеко не редкость, когда родители женят своих детей. Если ты называешь это кровосмешением…
— Я это так не называю, а просто сравнил. Оставь своего Петрона и давай поедем вместе в Рим! Начнем жизнь сначала, мы оба. Будущее принадлежит нам, Елена, тебе и мне!
— Ах, Сабин, твоя пламенная речь не убедила меня. Мы не можем думать только о себе, не можем забыть о родителях, родственниках, друзьях, не можем быть свободны от обязательств, необходимости считаться с интересами других — мы не одни на свете…
— Только не влюбленные! Афродита держит над ними свою защищающую длань!
— Теперь и ты заговорил о богах. Мне холодно, солнце уже давно отправилось на отдых. Завтра снова будет день, тогда и поговорим — если захочешь.
— Что же мне остается делать? Я не отпущу тебя, Елена! Не могу отпустить! Только после смерти я оставлю тебя в покое.
Елена закрыла ему рот поцелуем и повернулась, чтобы уйти. Сабин почувствовал ее слезы на своих щеках.
Уходя, она прокричала:
— Завтрашний день я должна полностью посвятить матери. Мы увидимся только послезавтра.
Почему Елена плакала? Было ли это знаком надежды? Может быть, она обдумает его предложение и согласится?
Но через день Елена не появилась. Утром третьего дня Сабин справился о ней и узнал, что они с матерью уехали сразу после их последнего разговора.
Сабин был сражен таким вероломством. Через сосновый лес бросился он к подножию горы, где, по преданию, родился Асклепий. Как раненый зверь, он спрятался в ущелье и рыдал, пока у него не осталось слез. На следующий день он предстал с каменным лицом перед Кальвием и спокойно сказал:
— Я оставляю решение за тобой, дядя Кальвий, уезжаем ли мы и, если да, то когда. Меня здесь больше ничего не держит.
Кальвий хотел задать племяннику несколько вопросов, но понял, что момент для этого был неподходящим, и только молча кивнул.
За два дня до болезни Калигула стал временами слышать странный шум, но возникал он не снаружи, а внутри его головы. Иногда шум затихал быстро, а однажды длился несколько часов. А потом пропадали все звуки, будто его отделяла от мира толстая стена. В такие моменты Калигуле хотелось громко кричать, чтобы другие могли его услышать. При этом императора одолевало растущее беспокойство.
Он не мог долго оставаться на одном месте, что-то гнало его прочь, не давало остановиться день напролет, а ночью его мучила бессонница. Калигула позвал к себе Эмилия Лепида.
— Я бы хотел весело провести эту ночь. Что ты об этом думаешь?
Лепид плотоядно усмехнулся:
— Хорошая мысль. Как насчет оргии? Или, может быть, полюбуемся на танцы? Мы могли бы гулять и пить всю ночь в компании веселых женщин…
Холодные неподвижные глаза Калигулы смотрели в пустоту.
— Не могу решить… Сегодня я не могу думать… Что-то засело, шумит в моей голове, мечется, будто хочет вырваться наружу. Меня бьет озноб, и почти в то же время я обливаюсь потом, а ведь погода стоит хорошая. Октябрь, кажется, уже начался?
— Да, Гай, три дня назад. Думаю, тебе надо выйти, это отвлечет тебя и настроит на другие мысли.
— Выйти? Куда?
— В город, переодетым, как мы часто делали раньше. Между прочим, у цирка Максимуса появился новый публичный дом, и неплохой. Я был там. Девушки все как одна молоденькие, хорошенькие и очень чистые. Там есть термы и бассейн с холодной водой. Кроме того, у хозяина отличный винный погреб…
Лепид поцеловал кончики своих пальцев.
— Ну что же… — Калигула поднялся.
Эмилий Лепид был доволен. Чем чаще император предпринимал с ним такие прогулки, тем больше была надежда на какой-нибудь несчастный случай. Конечно, поблизости всегда находился отряд преторианцев, но они должны были держать определенную дистанцию, чтобы ни у кого не возбудить подозрения. Когда Калигула выпивал лишнего, он искал ссоры, становился вспыльчивым и грубым. Однажды ему уже досталось от пьяного гладиатора. Преторианцы зарубили несчастного на месте, но могли ведь и не успеть…
Октябрьская ночь была довольно прохладной, и два человека в коричневых накидках, пройдя немного пешком, подозвали носильщиков и велели доставить их к цирку Максимуса. Их сопровождал звук чеканных шагов преторианцев.
Лепид постучал в ворота публичного дома, выстроенного около цирка, и поднял зажатую между пальцами золотую монету. Дверь тут же отворилась. Молодой раб с накрашенным лицом низко поклонился.
— Добро пожаловать! Чего вы желаете? Вино, девушек, вкусный ужин? А может быть, пойдете в термы?
— Сначала кубок старого соррентийского, которое я пил здесь последний раз.
Лепид вопросительно посмотрел на Калигулу. Тот кивнул.
— Хорошо, а дальше будет видно.
Их проводили в небольшое слабо освещенное помещение, пропитанное запахами благовоний. Калигула опустился на мягкую скамью. Он недоуменно покачал головой:
— Я отправляюсь в публичный дом как обычный гражданин и могу иметь любую женщину Римской империи. Странно, не правда ли?
— Не так уж и странно. В этом прелесть таинственного и скрытого, чем ты всегда наслаждался. Сейчас приведут девушек.
Калигула почувствовал поднимающуюся изнутри волну жара, едва не перехватившую ему дыхание. Он выпил холодного, только что поднятого из погреба вина, и Лепид подумал, что угодил вкусу императора. Волна жара отступила так же быстро, как нахлынула, и Калигула почувствовал себя вдруг удивительно хорошо.
«Как легко можно было бы воспользоваться такой возможностью, чтобы меня отравить, — думал он. — Я должен быть осторожнее».
Эта мысль развеселила его.
— Я жалую тебя правом пробовать мою еду и вино, Марк Эмилий Лепид, но сегодня ты уже исполнил свои обязанности. Где же девушки?
Лепид хлопнул в ладоши, и тут же появились красавицы. У каждой был свой способ понравиться мужчинам. Одна прошлась медленно и небрежно, покачивая бедрами, демонстрируя полное отсутствие интереса к происходящему, другая пританцовывала, третья вышагивала как королева — на ней-то и остановил свой взгляд Калигула. Эта женщина выглядела не как проститутка, а скорее как благородная матрона, которая в задумчивости прогуливается по собственному саду. Он подозвал ее кивком головы:
— Как тебя зовут?
Девушка присела рядом с Калигулой.
— Пираллия.
— Ты гречанка?
— Мой отец из Неаполиса.
— Ну, это почти греческий город. Ты мне нравишься, Пираллия.
Девушку между тем нельзя было назвать красавицей. Лицо ее с темно-серыми глазами и узким носом свидетельствовало о гордом, строгом нраве, но красивой формы мягкий рот придавал ей необычное очарование женственности.
— Ты мне тоже нравишься, — сказала она и добавила немного погодя: — Ты сенатор.
Калигула не смог удержаться от смеха. Лепид никогда не видел, чтобы он так свободно и от души смеялся.
— Может быть, полководец? Трибун?
— И это тоже почти верно. Ах, Пираллия, ты стоишь заплаченных денег уже только потому, что рассмешила меня. Какими искусствами ты еще владеешь?
Женщина улыбнулась.
— Зависит от обстоятельств. Я могу помассировать твой затылок, пощекотать пятки,
могу играть на лютне и флейте…
Калигула так увлекся беседой с девушкой, что даже забыл, зачем они, собственно говоря, здесь.
— Принеси свою лютню и сыграй нам что-нибудь.
Пираллия вышла.
Тут же появился хозяин борделя:
— Вы чем-то недовольны?
— Нет, нет, очень довольны. С этой Пираллией ты приобрел целое состояние.
— Она не рабыня. Пираллия работает в моем доме, так сказать, внаем и может уйти когда захочет. Но благородные посетители как раз и ценят ее за образованность и веселый характер. Почему она зарабатывает деньги как проститутка, я не знаю.
Тут снова пришла Пираллия, присела и запела, тронув струны своей лютни, одну из любовных песен Гая Валерия Катуллы.
Когда она закончила, Калигула захлопал в ладоши.
— Если бы Катулл был жив! Он сочинял настоящие стихи; Сенека против него пресен.
Калигула взял Пираллию за руку:
— Давай воплотим в реальность предложение Катулла: подари мне тысячу и еще сто поцелуев.
Но прежде чем он смог встать, в голове его снова появился нарастающий шум, который скоро стал невыносимым. Император со стоном опустился на пол, извиваясь в судорогах. Его стошнило вином, и сквозь стон он едва смог выговорить:
— Позови… прето…
Лепид выскочил наружу, подозвал охрану и бегом вернулся обратно. Калигула лежал, скорчившись, на полу и почти не шевелился. Преторианцы осторожно вынесли его и уложили на носилки.
В дверях стояла Пираллия, держа свою лютню в руке, и наблюдала. Когда отряд преторианцев окружил носилки живой стеной, хозяин публичного дома пробормотал:
— Похоже, это был крупный зверь.
Пираллия молчала, рассматривая новую монету, которую ей успел сунуть в руку Лепид. Она внимательно посмотрела на изображение императора. Большие глаза, крупный нос, тонкие, плотно сомкнутые губы. Он не сенатор, сказал посетитель, но что-то вроде этого. А отряд преторианцев…
«Это был Калигула», — подумала Пираллия без особого волнения; статус мужчины никогда ее особенно не впечатлял. Этот человек почему-то вызывал в ней жалость, но она не знала точно почему. За его холодным взглядом таилась глубокая печаль.
Когда на следующий день новость о тяжелой болезни императора потрясла весь город, Пираллия поняла, что она узнала своего гостя.
Луций Анней Сенека расстался с женой полгода назад; брак превратился для ученого в клетку, из которой он обязательно должен был вырваться. Иногда Сенека навещал своих сыновей; они вместе с матерью жили у ее родителей. Случалось, что он тосковал по детям, но уже сама мысль о том, что ему снова придется выслушивать попреки жены, приводила его в ужас. Ученому нужны были мир и покой для работы: ей и только ей подчинялось все в его жизни, в том числе государственные обязанности, которые он выполнял. Сенека не задумываясь снял бы свою отороченную пурпуром сенаторскую тогу, если бы она оказалась ему в тягость.
В отличие от многих он не был очарован новым императором, и чувство это усилилось после поминального ужина во дворце. Разозлило ли Сенеку сравнение Калигулы его стихов со «штукатуркой без извести»? Как свободный от предубеждений мыслитель, он сам задавал себе этот вопрос и, порассуждав, пришел к выводу, что насмешка Калигулы его не задела. Он интересовался оценкой своих драматических и лирических трудов, и мнение большинства действительных знатоков литературы значило для него больше, чем слово правителя.
Сенека, соблюдая все формальности, пригласил Ливиллу посетить его имение в Тибуре, доставшееся ему по наследству от недавно умершего отца.
В своем любезном ответе Ливилла дала знать, что она принимает приглашение и заблаговременно сообщит о времени визита.
Она появилась в прекрасный солнечный день в конце сентября и первым делом похвалила чудесное расположение виллы, из сада которой едва виднелись дворцы и храмы Рима. Глубоко вздохнув, Ливилла сказала:
— Здесь, наверху, воздух совсем другой; как будто поднимаешься из глубокого подвала на природу. Почему ты не живешь здесь всегда?
— Я не могу оставить дом в Риме по двум причинам. Во-первых, там живет Корнелий Цельсий, у которого работают переписчики моих книг а во-вторых, я все еще сенатор. Кстати, я нахожу твое сравнение неплохим: Рим, как глубокий подвал, из которого поднимаешься на воздух, к свету.
— Иногда я так его ощущаю, пусть подвал и стал золотым, с тех пор как мой брат поднялся на императорский трон. Они с Друзиллой стали приверженцами какого-то безумного египетского культа, и тень их поведения ложится на нас с Агриппиной. Наши имена должны упоминаться в текстах присяги, и все акты императора начинаются словами: «Во благо и счастье Гая Цезаря и его сестер». Мне это неприятно, поскольку и так ходят странные слухи. Эти распоряжения, по правде говоря, касаются только воздаяния почестей его любимой Друзилле. Между тем уже появились забавные стишки про то, что Калигула развлекается в постели со всеми своими сестрами.
Сенека засмеялся:
— Не обращай внимания! Ты же знаешь, каковы наши римляне. А что Калигула, он знает об этом?
— Конечно, но его ничего не задевает. Даже наоборот: я думаю, что он этим гордится.
Сенека распорядился приготовить для своей гостьи роскошный обед только из морепродуктов. Он заранее велел втайне расспросить ее повара о пристрастиях Ливиллы в еде и так узнал, что она предпочитает всевозможные дары моря. На стол были поданы жареные и вареные лангусты с разнообразными подливками, скат в соусе из меда, перца и лука, но особенно хозяин был горд каракатицей, фаршированной смесью из телячьих мозгов, яиц, мясных шариков и резаного перца. Приготовление этого сложного блюда заняло всю первую половину дня. Присутствовали на столе и всевозможные моллюски с разными зелеными соусами, а замыкал этот великолепный парад копченый угорь с тмином и орегано, с красным вином и сушеными фруктами.
Хрупкая Ливилла съела так много, что Сенека немного испугался, но гостья, казалось, не страдала от переедания. Потом они пили легкое вино — неразбавленным и неприправленным.
Сенека попробовал и одобрительно кивнул:
— Не люблю, когда хорошие вина отравляют медом, корицей, перцем и прочим. Вино должно иметь вкус солнца, земли, ветра…
— Ты мечтатель, Луций Анней Сенека.
— Все поэты мечтатели.
Ливилла посмотрела в сад, где между темными силуэтами кипарисов и сосен висел красный диск солнца. Сенека залюбовался тонким профилем гостьи и хотел сказать ей о своих чувствах, но услышал такое, что сам онемел:
— Я хочу тебя, Луций Анней Сенека. Этого момента я ждала с тех пор, как шестнадцатилетней девушкой увидела тебя, когда ты читал в Одеуме свои стихи. Эта мечта никогда меня не оставляла, даже в холодной постели с Марком Виницием. Я представляла, что лежу в твоих объятиях, и это помогло мне пережить многое другое.
Сенека взял ее руку и поднес к губам.
— Ты опередила меня, Ливилла. Я как раз собирался просить тебя остаться со мной сегодня ночью.
— Ну вот, Фортуна нам снова улыбается. Когда мы оба произносили брачный обет, она отвернулась от нас…
— Она никогда не отворачивается надолго; наш пример это еще раз доказал. Мы нашли друг друга, потому что так было предопределено.
В комнату вошел слуга:
— Могу я зажечь лампы, господин?
— Не надо, Руфий. Иди спать и скажи остальным, что мне сегодня больше ничего не нужно.
Сенека поцеловал шею, губы и щеки Ливиллы.
— Представим, что мы в доме одни: юная пара, которая трепещет в ожидании своей первой ночи.
— Мне не надо ничего представлять. То, что было до этого, просто не в счет.
Сенека повел ее за руку в спальню, и Ливилла произнесла слова брачного обета: «Ubi tu Gaius, ibiego Gaia»
[8].
13
Тяжелобольной император третий день лежал в постели. Рим замер — все говорили вполголоса, и даже торговцы на рынке подзывали покупателей жестами.
Временами приступы лихорадки отступали, тогда Калигула открывал глаза, оглядываясь вокруг. У его постели дежурили два врача, но они не могли сказать наверняка, как называется болезнь императора. Никаких признаков отравления не было, а поскольку Калигулу мучили сильные головные боли, недуг его назвали лихорадочным воспалением мозга. Ему делали холодные компрессы, давали жаропонижающие средства и иногда обезболивающие настойки для облегчения страданий.
Бывали моменты, когда взор Калигулы прояснялся, он узнавал окружающих и мог назвать их по имени, но потом лихорадочное состояние возвращалось, заставляя больного метаться в постели и выкрикивать бессвязные слова. Потом он в изнеможении забывался коротким сном.
Образ Тиберия наполнял постоянной угрозой лихорадочные видения Гая. В бреду Калигула видел, как преторианцы стаскивали его с постели и тянули в сенат, хотя он постоянно кричал:
— Я император! Я император!
Преторианцы тащили Калигулу за волосы так, что он вскрикивал от боли. В курии над головами сенаторов возвышалась неподвижная статуя его деда Тиберия.
— Вот! Посмотри наверх! Это император! Он сидит там, наверху, и будет судить тебя.
Солдаты отпустили его, и Калигула подошел ближе. Это, несомненно, был старый Тиберий с обезображенным сыпью лицом: веки полуопущены, рот открыт. Казалось, он не дышит.
— Он умер! — закричал Калигула. — А если старик мертв, то император — я!
Тут безжизненная фигура поднялась и вдруг превратилась в Тиберия Цезаря, усыновленного Калигулой, который с насмешкой смотрел на него сверху:
— Я родной внук императора и имею право на трон!
«Кто же теперь принцепс? — думал Калигула. — Тот, который наверху, или я, или старый Тиберий действительно еще жив?»
Преторианцы потащили его за волосы наружу, и снова голову его пронзила резкая боль.
Калигула очнулся от бреда и взвыл:
— Моя голова, моя голова! Я больше не выдержу! Отпустите волосы, вы мне делаете больно!
Он обратился к стоявшему у постели врачу:
— Ты кто?
— Твой врач, император.
— Скажи мне, кто сейчас император в Римской империи?
— Конечно, ты, Гай Цезарь Август. Уже полгода.
Узкие губы растянулись в торжествующей улыбке.
— Я же говорил им. Значит, я был прав! А что с Тиберием Цезарем?
— Твой приемный сын жив и здоров.
— Что он делает? Где он?
— Я не знаю, император. Позвать преторианцев или ты хочешь видеть кого-то из друзей?
— Где Друзилла?
— Она провела двадцать часов у твоей постели и сейчас спит.
— Хорошо, хорошо. Скажи мне, врач, я поправлюсь?
Тот успокаивающе улыбнулся:
— Конечно, император. Но болезнь тяжелая и еще какое-то время ты проведешь в постели.
— Моя голова, — снова начал жаловаться Калигула.
Врач схватил серебряный стаканчик, накапал жидкость из склянки, разбавил вином и поднес к губам Калигулы.
Тот почувствовал, как боль постепенно отступает, а тело становится невесомым. В голове пронеслись последние ясные мысли: «Сны посылают нам боги, и Юпитер хотел мне, его земному посланнику, подать знак, предупредить — о Тиберии Цезаре, приемном сыне, и, если я умру, моем преемнике. Но я не умру!»
— Я не умру! — громко сказал. Калигула, повернулся на бок и уснул.
— Елена меня обманула, — простонал Сабин и посмотрел на дядю глазами полными упрека, будто тот был виноват в поступке Елены.
Оба сидели на тенистой лавочке в большом саду, который примыкал к гостинице и тянулся до самого театра.
— Елена хотела облегчить тебе разлуку, сын мой, — попытался утешить его Кальвий. — Она помолвлена, несет обязательства перед родителями и поэтому…
— Сбежала! — перебил его Сабин. — Сбежала, трусливый бесчестный солдат перед лицом врага.
Кальвий улыбнулся:
— Сравнение неудачное. Ты, в конце концов, не враг Елены.
— Но я был нарушителем спокойствия, который поставил под вопрос ее прекрасные планы о будущем. Помолвлены с детства, родители — друзья, отцы занимаются общим делом… Так брак превращается в торговую сделку! То, что Елена согласна стать ее частью, я не могу понять. Просто не могу! Она плакала, когда мы прощались, значит, я ей не безразличен.
— Определенно нет, — согласился Кальвий. — Но она ставит выше обязанности по отношению к семье, и это не кажется мне ни трусостью, ни бесчестием.
В Риме детям тоже часто приходится подчиняться воле родителей; не у всех же такие уступчивые отцы, как у тебя.
Сабин пожал плечами:
— Все случилось так, как случилось. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Твое лечение давно закончилось, дядя Кальвий. Когда мы плывем обратно?
— В конце августа. Я узнал, на корабле есть два свободных места.
— Хорошо, хорошо, — рассеянно сказал Сабин и снова вернулся к больной теме. — Но я не приму это так просто! Тут она меня недооценила!
— Что ты хочешь делать? — насторожился Кальвий.
— Еще не знаю. Может быть, пойду в армию, а потом в голову что-нибудь придет.
— Ты мог бы заняться делом своего отца.
— Вести прекрасные беседы с поэтами? Нет и еще раз нет! На это я сейчас не способен. Может быть, позже. Пожалуйста, пойми меня, дядя Кальвий, я должен с этим справиться по-своему.
— Понимаю, Сабин. А я избавился от своих головных болей. Хочешь узнать как?
Сабин кивнул.
— Меня давно интересовало, что делают жрецы с больными. Никто не рассказывает подробностей.
— Потому что этого нельзя делать, чтобы не рассердить богов. Правда, от жрецов никто не слышал категорических запретов, но большинство предпочитает не болтать. А я тебе расскажу. Итак, слушай: после свершения обрядов очищения и жертвоприношения жрец назначает время для беседы. Я должен был ждать два дня. Утром третьего дня меня принял жрец Асклепия. Он задавал вопросы, но сам говорил мало. Он внимательно слушал мой рассказ, делал пометки, но, казалось, болезнь моя его не интересовала. Жрец только кивнул, когда я сказал, что страдаю бессонницей и сильными головными болями. Он спрашивал о моем детстве, родителях и закончил разговор, когда узнал о смерти моей жены и сына. Что было потом, он не хотел знать. Следующие дни я провел с другими больными. Мы выполняли простые гимнастические упражнения, а между ними слушали мифы об Асклепии или старые священные песни, которые пел хор. Не надо быть верующим человеком, чтобы постепенно впасть в странное полусонное состояние оторванности от действительности. Все обычные заботы отступают все дальше и дальше, абсурдные мысли кажутся логичными, а логичные, наоборот, абсурдными.
— Я с трудом могу это себе представить, — заметил Сабин.
— Но так было. Сейчас, когда прошло время и я оглядываюсь назад, мне кажется это не менее странным, чем тебе. Жрецы, вероятно, внимательно за нами наблюдали, поскольку временами некоторые больные исчезали и появлялись другие. Так и мне велели через девять или десять дней — не могу сказать точно, потому что потерял тогда ощущение времени, — приготовиться к лечебному сну. Целый день я должен был поститься, и только к вечеру мы получили в Адитоне — длинном зале для отдыха на северной стороне храма — по куску хлеба и кубку питья. Причем напиток лишь частично напоминал вино, он был разбавлен какими-то лекарствами.
В Адитоне можно по-разному провести ночь. Внизу располагается большой зал, где больные спят на расстоянии десяти локтей друг от друга на простых жестких лежаках. На верхнем этаже есть отдельные помещения. Я, во всяком случае, устроился в большом зале и заснул так быстро, как никогда. Среди ночи — как долго я спал, не знаю — меня тихонько разбудили. Зал освещал приглушенный голубоватый свет, и в полусне я увидел, как между спящими передвигаются какие-то фигуры. Я выпрямился, и тут передо мной возник жрец в длинном праздничном одеянии. В одной руке он держал корзину, в другой — собаку на коротком поводке. Он опустился на колени, открыл корзину, и я увидел змею Асклепия, которая с тихим шипением поднимала голову. Ты можешь теперь высмеять меня, Сабин, но я уверен, что слышал сквозь шипение голос, который утешительно и успокаивающе обратился ко мне, однако слов я разобрать не мог. Потом коробку закрыли, жрец что-то сказал собаке и отпустил поводок. Пес, поставив лапы мне на плечи, молниеносно лизнул мое лицо. Я почувствовал странную пустоту внутри, как будто часть меня забрали. Я тут же снова заснул, а на следующий день мне сказали, что лечение завершено. Остальное ты знаешь сам: мои головные боли прошли, и с каждым днем я сплю все лучше. Правда, иногда болезнь будто хочет вернуться… Например, вчера я чувствовал слабость, которая обычно предшествует приступу головной боли. Но он так и не начался, а неприятные ощущения исчезли. Итак, я поблагодарил Асклепия денежным пожертвованием и с тех пор терпеливо жду, на что же решится мой влюбленный племянник.
— Прости, дядя Кальвий, — пристыженно произнес Сабин, — но ты знаешь, что влюбленные — неважно, счастливо или нет, — мало обращают внимания на окружающих. С этого момента я не буду жаловаться. Я рад, что по крайней мере для тебя это путешествие оказалось удачным.
— Ты считаешь, что было бы лучше, если бы ты не встретил Елену?
На этот вопрос Сабину нелегко было ответить. Он несколько раз порывался это сделать, но только и смог сказать:
— Я не знаю…
Суторий Макрон выжидал. Какой оборот примет течение болезни Калигулы? Когда он услышал от приближенных императора, что дела у него обстоят плохо, бывший префект начал действовать. Он отправился к Тиберию Цезарю, который жил с несколькими слугами в большом доме своих умерших родителей. Усыновление мало изменило его положение. Теперь он, правда, мог называться императорским сыном, но не имел ни должности, ни функций, ни влияния. Ему оказывали положенное по протоколу уважение, но в остальном почти не замечали.
Тиберию не было свойственно тщеславие, он неохотно выступал перед людьми и почти не имел друзей. На нем лежал отпечаток несчастливого детства. Когда Сеян хитростью погубил его отца, Тиберий был четырехлетним мальчиком, а когда по приказу императора за убийство мужа казнили его мать, ему исполнилось двенадцать, и с этим ударом он так и не смог справиться. Правда, Тиберий привез внука на Капри, но там он не желал его видеть. Мальчик жил со своим воспитателем на одной из двенадцати императорских вилл, разбросанных по острову, но ему всегда давали понять, что он в тягость. Неудивительно, что он вырос робким, никому не смотрел прямо в глаза и больше всего любил играть с собаками, своими единственными друзьями.
Макрон, конечно, знал, что его визит не останется незамеченным, но все же пошел на риск.
— Когда я в последний раз видел тебя на Капри, Тиберий Цезарь, ты был еще мальчиком, а теперь носишь тогу вирилия.
Тиберий опустил глаза.
— Да, это так, — сказал юноша, запинаясь.
— Нас могут подслушать?
— Нет, Суторий Макрон. Я живу здесь один с моими собаками.
— А слуги?
— Где-то в доме…
— Среди них могут быть шпионы, — Макрон открыл дверь. — Пройдемся лучше по саду, там любителей подслушивать видно издалека.
Они остановились под молодыми соснами, и Макрон, недоверчиво оглянувшись по сторонам, обратился к Тиберию:
— Я солдат и привык говорить без долгих вступлений. Калигула болен, очень болен. Никто не говорит этого вслух, но, кажется, он может умереть. Ты его приемный сын и, кроме того, любимый внук усопшего императора. Нет сомнений в том, что преемником станешь ты. Но есть еще Друзилла. Возможно, ты не знаешь, хотя Калигула не делает из этого тайны: он назначил ее единственной наследницей. Поэтому может случиться, что преторианцы провозгласят императором ее мужа, Эмилия Лепида. Даже если Друзилла заплатит каждому солдату по двести, а центурионам по тысяче сестерциев, она не станет намного беднее, пусть Калигула и промотал половину семейного состояния. Но Друзилла — женщина, поэтому твои права имеют преимущество. Что ты думаешь об этом?
— Я не хочу быть императором, — тихо ответил Тиберий, глядя в сторону.
— Ты забываешь о своих обязанностях! — строго сказал Макрон. — Существует долг, и его приходится выполнять независимо от желания. Твое преемство во всяком случае имеет прочную основу, а наследование трона мужем Друзиллы может развязать гражданскую войну, поскольку у Лепида много врагов. Я предлагаю тебе свою помощь, Тиберий Цезарь. Император до сих пор не назначил нового префекта преторианцев. Я был бы рад занять свою прежнюю должность и вместе с преторианцами выступить на твою защиту. Ни один солдат не поднимет меч за женщину, запятнавшую свою честь кровосмешением.
— Если только мешочек сестерций не вдохновит их на это.
Макрон горько усмехнулся.
— Ты прав, Тиберий. Как раз это я и хотел бы предотвратить.
Юноша подозвал одну из своих собак и любовно потрепал ее по шее.
— Войны я не хочу, но заявлю о своих претензиях на трон только у носилок с бездыханным телом Калигулы. Тогда я охотно приму твою помощь как префекта преторианцев, Макрон.
— Хорошо. Скоро все станет ясно.
Тиберий посмотрел вслед своему гостю, покидающему его сад.
— Почему я не родился сыном пекаря или столяра? — прошептал он в ухо своей собаки, и она посмотрела на него с такой любовью и пониманием, будто догадалась о смысле сказанных слов.
Книготорговец Корнелий Цельсий снова смог заключить в объятия своего сына.
— Ты возмужал и стал серьезнее, — заметил он.
— К тому же я кое-что пережил, но об этом мы поговорим позже.
— Могу себе представить, — сказала Валерия. — Ты сделал несчастными немало девушек.
Сабин усмехнулся.
— Почему несчастными? Как правило, я делаю их счастливыми. Нет, на этот раз все было по-другому, но пока мне тяжело об этом говорить. — Он повернулся к отцу. — Как идут дела? Как поживают наши поэты? Ты не открыл новые таланты?
— Поэты, к сожалению, не растут, как яблоки на деревьях, так, чтобы их можно было стряхивать. Сенека сейчас не очень прилежно работает. Говорят, у него роман с Ливиллой, средней сестрой императора. Впрочем, люди много болтают.
— Слухи редко рождаются на пустом месте.
— Может быть, но меня интересует Сенека как поэт, а не как любовник.
— Иногда одно порождает другое.
Цельсий засмеялся.
— Снова твоя любимая тема? Думаю, Сенека в этом не нуждается. От него всегда можно ожидать новых идей и открытий.
— Кассий Херея не спрашивал обо мне?
— Однажды он заходил к нам. Херея — ярый сторонник нашего нового императора, на которого молится весь Рим, считая его подарком богов, но об этом ты еще услышишь.
— В Эпидавре политикой интересуются мало. Там на первом месте другие заботы.
— Твой друг Херея расскажет тебе новости. Думаю, вы скоро встретитесь.
Сабин услышал в словах отца робкий вопрос, не оставил ли он свои планы стать солдатом. Но сейчас юноша не был в состоянии обсуждать это.
— Никакой спешки нет. Я бы хотел сначала снова ощутить вкус жизни в Риме. У тебя есть для меня работа?
Цельсий вздохнул с облегчением.
— И сколько! Я хотел уже нанимать еще одного переписчика. Давно пора просмотреть наши книги и составить их опись.
— Будет сделано! — засмеялся Сабин, — он был рад любой работе, чтобы отвлечься от грустных мыслей.
На седьмые сутки болезни император провел спокойную ночь, и к утру лихорадка отступила. То, что он победил болезнь, Калигулу не удивляло, ведь в снах ему не раз являлся Юпитер, который дал понять, что Гай Цезарь и он представляют единое целое в образе двух существ — Юпитера на Олимпе и императора на земле.
— То, что ты делаешь на земле, созвучно моим планам и намерениям, — объяснил грозный бог.
Калигула поднял глаза к потолку. Там, наверху, появлялся величественный лик отца богов и вел с ним долгие разговоры.
Болезнь очистила императора и превратила в бога; то, о чем он раньше только догадывался, теперь не вызывало сомнений. Осознание безграничных возможностей наполняло его душу. Он мог возвысить или унизить, он держал в своих руках чужую жизнь и смерть, мог наградить или покарать. Человек, рожденный повелителем или избранный народом, должен был подчиняться определенным законам, но двойник Юпитера, посланный на землю, должен был, будучи императором, вести себя как бог. Его решения не поддавались объяснению и стояли выше человеческой оценки. Он мог быть таким же капризным и своевольным, какими всегда были обитатели Олимпа.
Дрожь пронизывала императора перед пропастью возможностей. Прикажи он завтра казнить весь сенат — это будет божественный акт, не имеющий ничего общего с правосудием и законом.
Он чувствовал, как со всех сторон в него вливались таинственные силы, и собственный человеческий образ казался ему теперь лишь оболочкой, ведь божественное на земле никто не может постичь и принять.
Первый раз в жизни Калигула ощутил что-то похожее на счастье. Он осознал свою истинную природу и пребывал в полном согласии с собой.
Он был богом, повелевал на земле, а здесь кое-что надо было исправить.
Тиберий Цезарь. Макрон. Энния Невия. Император мысленно произнес эти имена и тихо засмеялся: «Они еще не знают, что уже мертвы: Тиберий, Макрон, Невия — имена мертвецов. Я как бог, конечно, знаю, вижу будущее. Уже разгораются костры, и урны готовы принять несколько горстей пепла».
Много имен мелькало в голове Калигулы — имена людей, которые еще жили, но, собственно, были уже мертвы. Калигула чувствовал, как его выздоравливающее тело наполнялось силой, а мысли витали, направляясь то в прошлое, то в будущее, — мысли всеведущего бога, высоко стоящего над людьми, которые, подобно червям, ползали внизу. И обращаться с ними надо как с червями: одних раздавить, других заставить зарыться в землю, третьих мучить в свое удовольствие.
Полеты мысли утомили Калигулу. Он зевнул, повернулся на бок и заснул.
На улице пылали костры радости, на тысячах алтарей дымились благодарственные жертвы. Калигула выздоровел! Рим спасен. Но люди еще не знали: император, который — против своей природы — старался быть хорошим, справедливым правителем, умер. Его место занял бог, жестокий бог.
Калигула принимал трибунов преторианцев. Они стояли перед ним навытяжку, построившись в ряд, и он долго их молча рассматривал. Самые верные из верных! Его главная опора! Холодный, жесткий голос императора еще не окреп, но без труда заполнил маленький зал.
— Трибуны! Император и народ Рима с гордостью смотрят на вас! Священная болезнь лишила вас на время возможности видеть меня, но вы верно несли свою службу. Теперь, когда я, как Феникс, восстал из пепла болезни, обновленный и постигший тайну, надо извести изменников. Я знаю, что вы храните мне верность, и она будет вознаграждена. Я благодарю вас!
Калигула смотрел на воинов. В парадных шлемах, украшенных перьями, и блестящих панцирях, они казались ему живой стеной, окружившей трон.
Его взгляд остановился на Кассии Херее, который был выше остальных на целую голову. Калигула имел превосходную память, и тут же вспомнил имя великана, чей высокий голос так его однажды позабавил. Взмахом руки он велел солдатам разойтись, отпустил всех слуг, за исключением нескольких германцев, своих личных телохранителей, а Херее велел остаться. Калигула поднялся и обошел стоящего навытяжку великана кругом, будто получше хотел рассмотреть его со всех сторон.
— Как тебе служба в новом звании, трибун? Я высокого мнения о людях, которые добились положения благодаря не происхождению, а мужеству, упорству и верности. Поэтому я предпочел тебя другим для исполнения императорского приказа, который… да, несколько щекотлив. Мой родственник Тиберий — сыном я больше не могу его назвать — совершил во время моей болезни государственную измену. Избавь меня от необходимости сообщать подробности, Херея, но все необходимые доказательства были мне представлены. Итак, слушай приказ: ты возьмешь одного центуриона и нескольких преторианцев, пойдешь в дом предателя и передашь ему мое личное приказание покончить с его позорной жизнью. Если у него не хватит для этого смелости, помогите ему. Вопросы?
Херея поднял в приветствии руку.
— Приказ ясен, император!
— Выполняй!
Херея за свою солдатскую жизнь бил много людей — глаза в глаза, меч к мечу.
Но подобных приказов он никогда не выполнял. Трибун ни секунды не сомневался в предательстве Тиберия Цезаря, но он же был так молод. У Хереи возникло ощущение, будто он собирался сделать нечто недостойное, но он вспомнил слова императора. Того, кто получал приказ от него, нельзя ни в чем обвинять. Трибун подозвал знакомого центуриона и приказал:
— Выбери шестерых солдат и следуй за мной!
Далеко идти не пришлось, дом приемного сына Калигулы находился на Палатинском холме.
В глазах старого слуги — он служил еще при Друзе и Клавдии Ливии — появился ужас, когда Херея потребовал проводить его к Тиберию.
— Что вы хотите от моего господина?
— Об этом я сообщу ему сам. Веди! — Херея повернулся к центуриону:
— А ты со своими людьми охраняй дом.
Тиберий сидел в саду и расчесывал своих собак, которые сразу же подняли лай.
— Иди с собаками в дом, — приказал он слуге.
— Приветствую тебя, Тиберий Цезарь. Трибун Кассий Херея с посланием от императора.
Херея замялся, но Тиберий спокойно сказал:
— Продолжай, трибун. Думаю, что уже знаю, о чем пойдет речь.
Херея опустил глаза.
— Ты должен… Тебя обвиняют в государственной измене, и император ждет, что ты сделаешь правильные выводы.
Казалось, юношу это ничуть не испугало.
— Калигула ждет этого? Он все еще считает меня опасным, хотя я почти не покидаю свой дом, не имею ни друзей, ни сторонников? Впрочем, тебя это не касается, трибун. Приказ есть приказ…
— Я сказал то, что должен был сказать.
Тиберий выпрямился и с достоинством сказал:
— Я пойду в дом. Ты со своими людьми жди в саду, пока слуга не известит вас.
Юноша хлопнул в ладоши. Появился слуга, лицо его было озабоченным.
— Вели убить собак, — приказал Тиберий. — Но так, чтобы они не страдали. Пусть их сожгут вместе со мной. А для меня приготовь ванну.
Старик понял, какую весть принес трибун, и заплакал.
— Не плачь, мой друг. Раньше или позже, это должно было случиться. Я не могу вам много оставить, потому что наследством распоряжается Калигула. Бумаги об освобождении тебя и других лежат в моей спальне. Вот, пожалуй, и все. Прощай, старик, ты верно служил моей семье, но ее больше не существует. Ты свободен.
— Я не хочу этой свободы — такой свободы! — закричал, всхлипывая, преданный слуга.
Тиберий ушел в дом.
Херея и его люди ждали в саду.
Центурион не выдержал:
— А если он убежит? В старых домах иногда бывают потайные подземные ходы.
— Куда он сможет убежать?
Воцарилось молчание. Наконец слуга открыл им дверь. Херея и центурион вошли. Слуги внесли тело Тиберия в спальню и положили на постель; запястья его были перевязаны. На полу лежали его собаки с перерезанным горлом.
Херея поднес свой меч к лицу юноши. Поверхность осталась блестящей. Потом он коснулся его руки. Она была холодной.
— Вы можете предать огню тело вашего господина и захоронить прах. О дальнейших распоряжениях вам сообщат.
В тот же день Херея рассказал все императору. Калигуле не терпелось узнать подробности.
— Он отказывался, молил о пощаде, кричал, плакал?
— Нет, император. Мне показалось, что он ждал приговора.
— Значит, нечистая совесть? У Тиберия были для этого основания! Больше он ничего не сказал?
— Нет. Все прошло очень быстро.
Император, похоже, был разочарован.
— Очень быстро? Так-так, очень быстро. Я позабочусь о том, чтобы в случае государственной измены все проходило не так быстро.
Калигула улыбнулся трибуну.
— Я тобой доволен, Херея. Хочешь служить в дворцовой охране? Плата гораздо выше, и служба интереснее. Ты со своим ростом будешь под стать моим германцам.
— Благодарю, император! Для меня это большая честь — быть так близко к тебе.
— Но и ответственность большая, трибун! Ты должен быть всегда настороже, днем и ночью, обращать внимание на любую мелочь, потому что измена рядится в неброское, скрытое.
— Кто может предать тебя, лучшего из всех императоров?
Холодные неподвижные глаза посмотрели на Херею с выражением удовольствия.
— Если бы так думали все, мой друг. Но, к сожалению, предатели есть, и ты скоро в этом убедишься.
Корнелию Сабину не так легко было справиться с пережитым в Эпидавре, как он надеялся. День за днем его мучили воспоминания и фантазии, превращаясь по ночам в сны. Он рисовал в своем воображении свадьбу Елены с Петроном. Конечно, представлял он при этом римскую свадьбу, свидетелем которой был уже не раз. Он видел Елену празднично наряженной невестой, видел, как в ее доме собираются гости, как жрец приносит в жертву овцу. Перед алтарем молодые произносили свой брачный обет, а потом начинался торжественный ужин с музыкой и танцами до поздней ночи.
Последний этап, самый болезненный, Сабин рисовал себе особенно подробно. В полночь жених поднимался, чтобы увести молодую жену. Свадебная процессия с музыкой и песнями отправлялась к его дому, бросая по дороге деньги и сласти собравшимся посмотреть на торжественный обряд. Впереди шли два факелоносца. Перед дверями все останавливались. Невеста мазала дверной косяк маслом и перевязывала ручку шерстяной лентой. Только после этого друзья новобрачного, стараясь поднять как можно выше, переносили ее через порог дома, который теперь становился и ее домом. За ними шли подружки невесты с веретеном и прялкой в руках, напоминая о древнем ремесле домашней хозяйки. Жених протягивал теперь уже своей жене горшок с тлеющими углями и кувшин с водой — символами семейного очага. Потом он удалялся в спальные покои, куда подружки немного позже приводили новобрачную. За дверями гости распевали песни, в то время как молодой муж развязывал пояс на тунике своей жены.
Каждый знал, что случалось потом, и Сабин знал. Но сейчас это выводило его из себя. В комнате для новобрачных Елену ждал не тот человек! Там должен был быть Корнелий Сабин.
Жаловаться родителям он не хотел, ведь в ответ они могли лишь снисходительно покачать головами; друзья ответили бы, скорее всего, насмешками, и Сабин решил пойти к Херее, надеясь найти понимание у него, более старшего и опытного.
Они очень долго не виделись, но Херея не произнес ни слова упрека. Его лицо светилось радостью встречи, однако он не мог не заметить, что его юный друг выглядит непривычно серьезным.
— Что с тобой? Ты выглядишь как крестьянин, у которого градом побило урожай.
— Это бросается в глаза? Тогда мне не придется долго подбирать слова. Я прошу тебя выслушать мою историю.
Так Херея узнал о пережитом Сабином в Эпидавре и его неудачных попытках справиться с этим. Он покачал головой.
— Даже и не знаю, что сказать. Мне кажется, что ты сейчас похож на засыхающее без воды растение. Тебе надо отвлечься. Как солдат, я бы посоветовал не оглядываться назад, а наступать! Если это возможно, поезжай в Эфес. Укради Елену! Делай что-нибудь!
От мягкого Хереи Сабин такого ответа не ожидал.
— Ты полагаешь, что мне нужно…
Тяжелая рука Хереи легла на его плечо.
— Не воспринимай мои советы дословно. Я только хотел сказать, что ты должен действовать.
— Я и сам знаю, но как это сделать? Отец будет очень недоволен, если я снова уеду.
Херея напряженно думал.
— Сделай вот что: вернись к своим старым планам, запишись в армию. В Азии у нас три легиона, один из них — в Эфесе. Пусть тебя переведут туда; учитывая твои связи, это будет несложно. Ты из известной патрицианской семьи, и многие молодые люди твоего круга начинали карьеру в армии. Если возникнет необходимость, я, трибун Кассий Херея, с удовольствием смогу подтвердить, что научил тебя владеть всеми видами оружия.
Сабин хлопнул друга по плечу.
— Что бы я без тебя делал! Твое предложение кажется мне самой лучшей, да нет, единственной возможностью. Я подам запрос на должность трибуна.
— Чтобы стать трибуном, мне понадобилось полжизни…
В словах Хереи послышалась горечь, но сказаны они были без зависти или упрека.
— Я знаю, Херея, что это несправедливо, но мы не изменим закон. Во всяком случае, это конкретное дело, и я не смогу себя потом упрекнуть в том, что не боролся за Елену.
Корнелий Цельсий, которого уже давно беспокоило подавленное состояние сына, облегченно вздохнул, хотя военная карьера по-прежнему не вызывала его одобрения.
— Я не на всю жизнь останусь в легионе, это я обещаю тебе, отец. Во всяком случае, нельзя сказать, что служить Риму солдатом для Корнелиев дело новое или недостойное.
Что мог Цельсий на это ответить? Он вздохнул и, как обычно, пробормотал:
— Ох уж этот сын!
Некий человек при дворе императора все больше выдвигался на первый план. Это был вольноотпущенник Каллист, обладающий незаурядными талантами, который, как казалось, мог выполнить любое поручение. Он производил впечатление скорее существа незаметного; маленький, толстый и немного неуклюжий, был со всеми любезен и всегда готов услужить. Каллист выполнял обязанности советника императора по финансовым вопросам, договаривался с архитекторами, организовывал театральные представления и праздничные шествия, был тайным и доверенным секретарем Калигулы. Полезный в решении самых разных дел, молчаливый и преданный, он скоро стал для императора незаменимым, и те, кто хотел говорить с Калигулой, поступали разумно, если сначала обращались к Каллисту. При этом никто не мог упрекнуть его во взяточничестве, хотя он брал и деньги, и подарки. Кто хотел видеть императора и предлагал его секретарю определенную сумму за помощь в организации аудиенции, встречал отпор. Кто знал Каллиста, делал это по-другому: ему излагали проблему, и, если существовали определенные шансы на успех, тот говорил, что ничего не обещает, но сделает все возможное. Когда проблема решалась, проситель пересылал ему деньги или подарки, и Каллист благодарил, не забывая упомянуть, что в этом не было необходимости. Так он скоро стал очень богат, при этом не нажив себе врагов.
Каллист не только владел придуманной Марком Туллием Тироном стенографией, но и разработал на ее основе собственную систему, Калигула очень часто забавлялся, диктуя секретарю так быстро, как только мог, но тот не пропускал ни слова и в конце диктовки без ошибок зачитывал текст. Это в полной мере отвечало нетерпеливому нраву императора, который не раз приказывал высечь писарей за нерасторопность.
Каллист всегда был к услугам своего повелителя, в том числе ночью. Именно в это время суток Калигула нуждался в нем, потому что спал он неспокойно, просыпаясь по нескольку раз за ночь. Тогда у него возникала потребность в деятельности, как на этот раз, когда он решил написать давно задуманное письмо префекту Египта Авиллию Флакку и послал за Каллистом.
— К твоим услугам, император.
На Калигуле был фиолетовый шелковый халат, украшенный вышитыми золотом египетскими иероглифами. Он запахнул его, поскольку после перенесенной болезни ел очень много и становился все толще.
— В Египте у нас два префекта, — заметил Каллист, и это прозвучало как утверждение.
— Правильно, — сказал Калигула и злорадно улыбнулся. — Один, так сказать, на случай, если с другим что-нибудь случится. Но Флакк все еще занимает свою должность и должен кое-что сделать для своего императора. Возьми, Каллист, грифель и пиши:
«Чтобы украсить Рим и подчеркнуть его статус центра мира, я бы хотел установить в некоторых местах египетские обелиски. Я желаю, чтобы ты переправил по крайней мере один из них как можно скорее в Рим. Если он окажется слишком тяжелым для обычных кораблей, вели построить подходящее судно. Кроме того, я хочу, чтобы ты навестил могилу Александра Великого. На нем надет золотой панцирь, копию которого ты распорядишься изготовить, и пришлешь мне…»
Император остановился и вопросительно посмотрел на Каллиста.
— Итак, Каллист, как продолжить? Потребовать оригинал или довольствоваться копией?
Ничто не могло вывести секретаря из состояния равновесия.
— На этот вопрос ответить несложно. Александр был когда-то хозяином мира, а теперь им являешься ты. Для мертвого ничего не изменится, если на его тело наденут копию. Золотой панцирь заслуживаешь ты, священный Август, и только ты.
Калигула победно улыбнулся. Ему нравилось, что Каллист не просто поддакивал ему, а умел логично обосновать собственное мнение.
— Значит, дальше: «…и пришлешь мне оригинал. Я отдал приказ построить на Марсовом поле еще один храм Исиды. Чтобы достойно освятить его, мне необходима статуя богини. Она должна быть из благородного камня и достигать в высоту как минимум десяти локтей. Заплати за нее не скупясь и сошлись на меня, если жрецы не захотят расстаться с изображением богини. Буду признателен тебе своей милостью, если выполнишь это распоряжение к моему удовлетворению».
— Это все?
— Да. Ты следишь за строительством на Марсовом поле?
Каллист кивнул:
— Через три или четыре месяца храм будет готов.
— Ложись спать, Каллист, — зевнул император.
— Желаю тебе доброй ночи, повелитель.
Каллист произнес это серьезно, хотя за окном уже занимался день.
Калигула лег в постель, но его мысли неустанно работали. Тут ему в голову пришло еще кое-что. Он снова позвал секретаря. Без следа усталости или недовольства тот появился у его постели.
— Император?
— Есть еще одно дело. Ты знаешь, что я уже несколько дней держу Макрона под домашним арестом. Это временная мера, и, думаю, сейчас должно произойти то, о чем я говорил. С одним из двух префектов Египта что-то случится… Я не стану посылать ему никаких гонцов. Отправляйся к нему ты и передай, что через три дня Макрону будет предъявлено обвинение в государственной измене.
— Больше ничего?
— Больше ничего.
Каллист удалился. Так как солнце уже осветило дома, дворцы и храмы, неутомимый секретарь отказался от дальнейшего сна. Он принял ванну и съел сытный завтрак. Усталость отступила, и Каллист в отличном расположении духа поднялся на носилки, чтобы нанести визит Макрону.
Мук совести Каллист не знал, что делало его таким похожим на своего господина, и в этом была их сила.
14
После того как Сабин решил вступить в легион, он принялся за исполнение своего плана со всем упорством, задействовав связи и знакомства. Корнелий Кассий, его родственник, был во времена Тиберия консулом и принадлежал к старейшим
сенаторам. Он поддержал прошение, и скоро Сабина вызвали на военную комиссию. Это испытание ввел еще император Август, так как от сыновей патрициев, которые таким путем стремились достичь высокого положения и авторитета, поступали горы ходатайств.
Когда Сабин вошел в помещение, один из военных сказал:
— Надеюсь, этот не из числа благородных юношей, не способных держать в руках меч…
Он сделал вид, что ничего не слышал, и встал навытяжку напротив троих офицеров.
Секретарь начал читать:
— Корнелий Сабин, двадцать шесть лет, сын Корнелия Цельсия и Валерии, патриций, ходатайствует о должности военного трибуна и хотел бы приступить к службе в азиатском легионе.
Один из офицеров усмехнулся:
— Хочет в Азию? Предполагаю, что в Эфес, потому что там лучшие проститутки?
Херея посоветовал Сабину никому не противоречить и всегда отвечать «так точно».
— Так точно! — лицо Сабина было беспристрастно.
Офицеры рассмеялись.
— По крайней мере, он честен.
— То, что ты умеешь обращаться со всеми видами оружия, подтверждает трибун Кассий Херея. Он заслуженный солдат, и у нас нет причин сомневаться в его словах. Посмотрим, что можно для тебя сделать. К тому же Корнелиям давно пришло время послужить империи с оружием в руках.
— Так точно! — снова сказал Сабин.
— Свободен!
За дверями он вздохнул с облегчением. Первый шаг был сделан. Сабин чувствовал, как его тревога улеглась, и к нему впервые за последнее время вернулась способность чему-то радоваться. Он хотел с кем-нибудь поговорить, но со дня своего возвращения из Эпидавра не встречался ни с кем из своих старых друзей, полностью отдавшись горю. Херея был на службе, а значит, ему оставалось отправиться в термы или публичный дом. При одной мысли о девушках Сабин почувствовал возбуждение. Как долго он не был с женщиной? Три месяца? Четыре? Невероятный срок по представлениям Сабина. Он раздумывал, не отправиться ли ему к Лидии, но, может быть, она в третий раз вышла замуж? «Нет, — сказал он себе. — Я не изменю Елене».
Итак, Сабин решил идти в публичный дом, ведь мужчины всего света согласятся, что с проституткой нельзя изменить честной женщине.
Когда появилась охрана у дома Макрона, бывший префект преторианцев сразу понял, что его планы пережить правление Калигулы провалились. С Невией он не стал делиться своими соображениями, но та все поняла.
— Выглядит так, будто ты должен отправиться не в Александрию, а в застенок. Что может еще означать охрана у дверей?
Она задала вопрос спокойно, но Макрон увидел в глазах жены страх. Обладая трезвым умом, он понимал, что боится она только за свою собственную жизнь. С тех пор как он застрял в Риме без дела, стало ясно, что для Невии муж ничего не значил, что ее надежды и тщеславные помыслы имели другое направление. Макрон не хотел спрашивать ее об этом, поскольку по-прежнему любил свою жену.
— Охрана у дверей? Если это и означает опасность, то только для меня. Ты не имеешь к этому никакого отношения.
Невия была готова признаться мужу в любовных отношениях с Калигулой, чтобы тот увидел, что император обманул и разочаровал не только его, но поборола этот порыв.
«Возможно, Калигула сохранил хоть немного благодарности, — подумала женщина, — и не станет вмешивать меня в эти дела».
Через два дня рано утром появился Каллист, секретарь императора. Макрону он не нравился с самого начала, и Каллист отвечал на его антипатию тем же, но не показывал своего отношения. Он вообще предпочитал держать чувства при себе.
— Приветствую тебя, префект! Прекрасный сегодня день.
Суторий Макрон молчал. Каллиста это не задело. Он продолжил:
— Император соблаговолил доверить мне выполнить одно поручение. Тебя обвиняют в государственной измене. Ты вступил в заговор с Тиберием Цезарем в то время, когда Август, больной и беспомощный, лежал в постели. Этому есть свидетели. Ты должен ответить за свое преступление перед сенатом.
— Разве запрещено разговаривать с людьми? Император делает из короткого визита вежливости заговор. Свидетели ошибаются.
Каллист беззаботно засмеялся.
— Для этого и существуют суды. Император справедлив. Все выяснится, если ты, конечно, не предпочтешь не дожидаться процесса. Солдаты часто нетерпеливы, когда речь идет об их чести.
Макрон понял намек.
— А как с Эннией Невией, моей супругой? Ее по крайней мере оставят в покое?
Каллист с наигранным сожалением покачал головой.
— Нет. Она считается сообщницей и должна держать ответ вместе с тобой.
— Это все?
Каллист кивнул.
— Да. Мне больше нечего добавить.
— Тогда уходи! Но запомни одно: и ты скоро будешь лежать на Гемониевых ступенях без головы!
Каллист не дрогнул.
— У тебя, во всяком случае, тут право первенства, — сказал он с сарказмом и удалился.
Макрон прокричал ему вслед проклятье, вышел из дома в сад и сел на скамью.
«Тебе даже не исполнилось сорока, Суторий Макрон, — думал он, — а твоя жизнь уже закончилась. Ты высоко взлетел, и падать будет больно».
Он допустил фатальную ошибку, приняв сторону Калигулы в заговоре против Тиберия.
Когда император потребовал следить за своим внуком, следовало очернить и уничтожить его. Тогда на трон поднялся бы Тиберий Цезарь, и он, Макрон, стал бы первым лицом, сильной рукой, поддерживающей молодого правителя.
От злобы и отчаяния он ударил кулаком по скамье.
— Но нет, я встал на сторону Калигулы, да еще и помог ему покончить со стариком!
Как следует поступить сейчас? Убить себя кинжалом, мечом, принять яд или вскрыть в ванне вены? А Невия? Даже ее не оставили в покое. Калигула будет уничтожать, пока не останется никого из тех, кому он обязан своим возвышением, кто напоминает о прежних временах. Макрон должен был понять это. Но теперь слишком поздно.
Макрон встал и выглянул за ворота. Там стояли охранники, смеялись, о чем-то говорили, но не спускали с дома глаз. Он мог бы броситься на них с обнаженным мечом, некоторых убить, пока не погиб бы сам — в бою.
Но к чему нападать на бедных солдат, которые просто выполняли приказ? Все должно произойти достойно. А как сказать Невии? Возможно, она еще лежит в постели. Он позвал слугу и велел ему разбудить госпожу. Невия тут же встала.
— У тебя был гость или я ошибаюсь?
— Да, приходил Каллист, секретарь императора. Меня обвиняют в государственной измене.
— Тебя? В измене… — от ужаса у Невии пропал голос.
— Ты же сама говорила, что охрана возле нашего дома выставлена не просто так? И Тиберий Цезарь наложил на себя руки не просто так? Мы недооценили нашего Сапожка, Невия, теперь он начинает расправляться с теми, в ком видит опасность.
— Что ты будешь делать? У тебя ведь столько друзей, среди них есть и сенаторы. Пусть дело дойдет до суда, выступи на процессе и расскажи правду.
Макрон усмехнулся.
— Правду? Кого интересуют старые истории? Дюжина свидетелей поклянется в обратном, чтобы заслужить расположение императора. Мы проиграли.
— Мы? — злобно переспросила Невия. — Что значит — мы? Я не имею к этому делу никакого отношения.
— Калигула думает иначе. Каллист ясно дал понять, что обвиняемся мы оба. Считают, что ты моя сообщница.
— Но это… это…
Из глаз Невии брызнули слезы.
— Я бы с радостью избавил тебя от этого, но он хочет уничтожить нас обоих. Калигула убежден, что ты много знаешь.
— Да! — закричала Невия. — Я знаю даже больше, чем ты думаешь. Это чудовище затащило меня к себе в постель, чтобы я повлияла на тебя. И я, глупая, сделала это — для тебя, для меня, для него. Мы ведь все хотели избавиться, от Тиберия, И вот благодарность!
Макрон язвительно засмеялся.
— Ты действительно ждала от Калигулы благодарности? То, что ты была его любовницей, ничего не меняет. Теперь я понимаю, почему он и тебя хочет убить. Все, что напоминает ему о тех временах, должно быть уничтожено. На Гемониевых ступенях скоро снова вырастут горы трупов.
— Значит, ты не хочешь ждать процесса? — спросила Невия, опять ровно и спокойно.
— Я не буду играть главную роль в этой комедии и тебе не советую. В любом случае мы закончим на плахе. Такой радости я ему не доставлю. Мы должны уйти из жизни сами.
Невия в ужасе посмотрела на мужа.
— Но… но не сейчас… — голос ее дрожал.
— Сейчас или завтра утром — какая разница?
Вдруг Макрона охватил страшный гнев.
— Если бы я смог оказаться сейчас перед ним, с мечом в руке, я бы… я бы…
Он не договорил. К чему бессмысленные мечтания?
Макрон посмотрел на свой меч, подарок императора Тиберия, но выбор его пал не на него, а на кинжал. Он глянул на Невию. К сердцу Макрона подступила волна жалости, и он понял, что по-прежнему любит ее, несмотря ни на что.
«Невия не заслужила такой смерти, — подумал он, — но я не могу ее оставить. Это означает отдать ее на расправу Калигуле».
Он взял кинжал, подошел к жене сзади, взял за волосы и, резко откинув ее голову, перерезал горло. Оружие выскользнуло из его руки на пол. Потом бывший префект личной охраны императора Тиберия взял меч и приставил острие к своему сердцу. Его последней мыслью была просьба к богине мести Фурии отплатить Калигуле за все.
Спустя несколько часов император получил весть о смерти Сутория Макрона и его жены Эннии Невии.
— Обоих надо похоронить подобающим образом, — сказал Калигула.
— Я позабочусь об этом, император, — подал голос его секретарь Каллист.
— А сейчас займемся более важными делами. Как продвигается строительство храма Исиды?
— Он почти готов. Самое позднее через десять дней храм будет освящен.
— К этому событию я придумаю что-нибудь особенное. Божественная Исида должна найти в Риме свой дом, достойный ее.
В холодных глазах Калигулы появилось странное выражение. Секретарь замер.
— Каллист, ты веришь, что я бог?
— Ты излучаешь что-то божественное, император. Все ощущают это…
— Недавно мне стало ясно, что я бог. Мне только сложно объяснить это людям. Внешне я выгляжу как человек — ем, пью, сплю, правда, очень мало… но внутри себя чувствую божественный огонь. Я ощущаю, как он горит и бушует в моей груди, моей голове, моих членах. Это ведь не свойственно человеку — спать только четыре часа в сутки? Говорят, боги не нуждаются в продолжительном сне. По ночам, когда совсем тихо, я слышу их шепот. Они беседуют, иногда произносят мое имя… Голоса становятся все отчетливее, Каллист, я надеюсь, что скоро смогу с ними разговаривать, как сейчас с тобой, и тогда я расскажу об этом всему миру. Люди построят в мою честь храм…
Каллист почувствовал леденящий холод в душе, но внешне сохранил спокойствие.
— Для нас, людей, божественное не всегда доступно. Нам необходимы объяснения, указания… Можем мы надеяться, что ты откроешься нам? Народ будет любить тебя еще больше, чем сейчас.
— Да-да, Каллист, вы узнаете об этом, многие даже почувствуют.
Император отправился в свои покои, где застал Друзиллу. Он кивком указал слугам на дверь, подошел к ней сзади и положил руки на маленькие, упругие груди сестры.
— Храм Исиды будет готов через несколько дней. Я бы хотел, чтобы ты появилась на празднике освящения в образе богини Луны. Я тебя вижу уже сейчас в длинных одеждах темно-синего цвета, расшитых золотыми звездами, на голове — серебряный месяц.
Он целовал ее затылок и уши, так сильно сжав ее грудь, что Друзилла вздрогнула.
— Ты же моя божественная сестра. Это должен быть праздник женщин. Я приглашу их всех — Агриппину, Ливиллу, весталок. — Восторг от собственных речей пьянил Калигулу. — Что ты на это скажешь? Новый зал для приемов готов, там смогут одновременно обедать пятьсот человек, и я хочу освятить его женским праздником!
— Прекрасная мысль, дорогой брат. Женщины Рима будут славить тебя как бога.
Калигула сиял.
— Как бога — да! Я хочу посвятить этот праздник двум богиням — Исиде и тебе. Мы божественная чета, Друзилла. Когда ты ночью лежишь рядом со мной, то превращаешься в Луну, и ты действительно очень похожа на ее статую в храме на Авентине. Может быть, нам следует справить там свадьбу, перед всем миром, чтобы и последний раб узнал, что ты моя жена навеки. Моя божественная жена, потому что однажды мне придется жениться на обычной женщине — по политическим соображениям — ты понимаешь? Мы должны быть разумными! Перед всеми твой муж — Эмилий Лепид, и если у тебя родится ребенок, он будет считаться его отцом.
Друзилла молчала. В глазах брата появился хорошо знакомый ей блеск.
— Ты принадлежишь мне, Друзилла? Мне одному?
Она улыбнулась.
— Ты ведь знаешь. Мы предназначены друг для друга богами, других мужчин для меня не существует.
Калигула резко притянул ее к себе, поднял тунику, она тихо застонала, почувствовав, как напрягся его фаллос.
Благодаря славе семьи Корнелиев к Сабину отнеслись с большим вниманием и уже в начале нового года сообщили о назначении трибуном. Служба его должна была начаться, как только в Азии освободится место трибуна, что ожидалось весной. Итак, Сабина считали теперь назначенным, но временно находящимся в отпуске трибуном.
Юноша пригласил Кассия Херею отпраздновать с ним состоявшееся назначение, которому, как считал сам Сабин, помогла его рекомендация.
— Я не солгал, когда говорил, что у тебя хорошая выучка. Ты ведь не раз выбивал у меня из рук меч.
Они сидели в винном погребке у моста Агриппы и смотрели на Тибр, чьи серо-коричневые воды пенились вокруг опор.
Сабин улыбнулся:
— Я по сей день теряюсь в догадках, было это моей заслугой или ты иногда, чтобы доставить мне удовольствие, не очень старался удержать меч.
— Разве в этом дело? Ты готов к солдатской жизни, а то, что сразу начинаешь трибуном, избавит тебя от необходимости выполнять не всегда разумные приказы командиров. Из-за этого даже у меня иногда пропадало желание быть легионером.
— Но у меня тоже будут начальники, например, проконсул Азии, легат моего легиона и старшие трибуны.
— Это ничто по сравнению с положением простого легионера, который подчиняется центуриону. Среди них встречаются иногда настоящие звери.
Сабин расхохотался.
— Ты должен это хорошо знать. Сам долго был центурионом…
— Но не зверем. Кроме того, все это уже позади.
Он поднял кубок.
— Выпьем за то, чего мы достигли.
Так друзья провели два часа, опустошив целый кувшин отличного фалернского.
— Это вино для особых случаев! — похвалил Сабин. — Но есть ведь повод поздравить и тебя, ты стал трибуном дворцовой охраны и теперь почти каждый день можешь видеть императора. Завидная должность.
Херея не поддержал радостного тона.
— Завидная? Как сказать. Ты находишь это завидным, когда император посылает тебя к приемному сыну с тем, чтобы ты сообщил ему, что он должен сам себя убить, иначе ему в этом помогут. Мне не пристало критиковать императорские приказы, но юноша показался мне совершенно безобидным.
— Ты имеешь в виду Тиберия Цезаря? Весь Рим говорит об этом, но многие считают произошедшее делом семейным, которое никого не касается.
— Да, можно посмотреть и так. Но я не считаю необычным, когда во время тяжелой болезни императора размышляют о его преемнике. Тиберий был, в конце концов, его приемным сыном. Если Макрон и обратился к нему с вопросом, согласен ли тот стать наследником, то это еще далеко не заговор.
— Не ломай себе голову, Херея. Собственные мысли и рассуждения делают тебе честь, но ты обязан подчиняться императору, и поэтому ответственность за все это несет только он.
— Ты прав, солдату не к лицу жалость. Император отвечает за все. Макрон и его жена Невия, Марк Селаний, его бывший тесть, несколько сенаторов, которые не были в восторге, когда Калигула стал преемником Тиберия, потом…
— Херея, Херея, — перебил Сабин, — к чему перечисления? Возможно, все эти люди действительно были заговорщиками, и лучше их казнить, чем доводить дело до гражданской войны.
— Я тоже говорю себе так, но просто одолевают мысли. Хотелось поделиться, а кроме тебя, больше не с кем. В армии такие вещи не обсуждают.
— И хорошо, что так. Тебе известны подробности самоубийства Марка Селания? Он ведь был далеким от политики человеком…
Херея покачал головой.
— Я знаю не больше, чем ты. Один пьяный центурион сказал, что Селаний был слишком богат. Император называл его золотой овцой, которую пришло время зарезать. Потом друзья заставили его замолчать. То, что ставят в вину Селанию, звучит по меньшей мере смешно. Он не пожелал сопровождать Калигулу, когда тот отправился за пеплом матери и брата, а море штормило.
Сабин, делавший в это время глоток вина, подавился и, громко кашляя, судорожно пытался вздохнуть. Херея постучал его по спине.
— Давай оставим эту тему. Народ обожествляет императора, и он заслуживает такую любовь. Калигула часто устраивает празднества, не ввел новых налогов, украшает Рим — это тоже что-то значит.
Херея согласно кивнул.
— Особенно когда сравниваешь его с Тиберием, этим скрягой. Деньги должны тратиться на людей. Я верю, что Калигула успокоится, когда избавится от всех своих настоящих и мнимых врагов. Во времена Октавиана было то же самое: уничтожив своих врагов, Август начал править спокойно и справедливо.
— Давай выпьем за это! — Сабин поднял свой кубок, и друзья выпили за здоровье императора Гая Юлия Августа Германика.
Римскому патрицию Кальпурнию Пизо исполнилось тридцать, когда он по настоянию отца принял решение жениться. Выбор его пал на Ливию Орестиллу, дальнюю родственницу. Она рано осиротела и принесла в брак как единственная наследница своих родителей богатое наследство. Но не только из-за этого Пизо хотел взять ее в жены. Она была достойной во всех отношениях партией.
Кальпурний Пизо считал своим долгом перед семьей отпраздновать пышную свадьбу, на которую он — в числе первых граждан города — пригласил и императора. Его дядю Пизо связывали с императором Тиберием дружеские отношения: в свое время он назначил его даже префектом Рима.
Калигула каждый день получал приглашения на всевозможные торжества, но лишь немногие из них почтил своим присутствием. Всегда выяснялось, что какие-то люди чего-то от него хотели.
— Как ты думаешь, Каллист, идти мне на свадьбу к Пизо?
Секретарь, как всегда, не дал однозначного совета.
— Я вижу множество причин отказаться и две причины принять приглашение. Во-первых, это очень благородная семья, а во-вторых, невеста Кальпурния весьма красива.
— Ах, Каллист, красивых женщин в Риме много, и почти все сочли бы за честь оказаться в моей постели. Я могу получить их всех, и это так скучно.
— Как минимум одна из них, император, тебе недоступна. Это Ливия Орестилла, потому что послезавтра она выходит замуж за Кальпурния Пизо.
Каллист говорил безразличным тоном, но он знал, как раздражался император, когда сталкивался с недосягаемым.
Калигула тут же оживился:
— Императору должно быть позволено все! Это божественное право возносит его высоко над всеми людьми, ты понимаешь это?
— Конечно, повелитель! Ты же знаешь, я делаю все, чтобы не докучать тебя земной суетой. Она для рабов, слуг, должностных лиц, секретарей и сенаторов. Император стоит выше всего этого!
Калигула рассмеялся.
— Твое счастье, что ты упомянул и сенаторов, в противном случае мне пришлось бы тебе об этом напомнить. А знаешь, почему я так высоко стою над людьми, почему даже консул или наставники в провинциях по сравнению со мной жалкие рабы? Я объясню. Пастухи, что пасут стада животных, сами не являются ни быками, ни козами, ни овцами — они люди, велением судьбы предназначенные для более высокой задачи. Я же веду за собой стадо поважнее, а именно род человеческий; значит, мое существо нельзя ставить рядом с людским высшим божественным предназначением.
— Ты объяснил словами то, что я… что все держат в мыслях.
Калигула милостиво кивнул.
— Хорошо, я буду присутствовать на свадьбе, но недолго.
И Каллист дал знать жениху, что тот может ожидать прибытия императора, но визит будет коротким.
Торжество было в разгаре, когда снаружи раздались звуки фанфар, и в окружении десяти преторианцев появились носилки императора.
Кальпурний Пизо проводил высокого гостя к его празднично украшенному месту, в то время как остальные приглашенные приветствовали императора восторженными возгласами. Калигула пребывал в дурном расположении духа, потому что Друзилла в последние дни несколько раз отказывала ему в своих ласках. Она, мол, плохо себя чувствует, он должен иметь терпение… Император считал все это отговорками и был раздражен. Теперь он с мрачным выражением лица полулежа устроился за столом, ничего не взял из предложенных блюд, но выпил один за другим несколько кубков вина. Глаза присутствующих были направлены на императора, все затихли в ожидании какого-нибудь пожелания Калигулы или другого высказывания.
— Покажи мне свою невесту, Кальпурний!
Жених взял за руку Орестиллу и подвел ее к Калигуле. Она же не видела никакой причины опускать перед императором глаза, дерзко посмотрела на него и даже осмелилась на улыбку.
Калигула, привыкший к согнутым спинам и опущенным взглядам, ответил на милую улыбку, и это случилось помимо его воли. Его раздражение прошло, и он стал внимательно рассматривать невесту. Она ему понравилась — даже очень понравилась.
Как всегда, когда Гай Юлий что-нибудь хотел иметь, его охватило опьяняющее сознание своей безграничной власти, позволяющее все. Он схватил руку едва ли сопротивляющейся Орестиллы и притянул к себе на ложе.
— Не подходи так близко к моей невесте, — предостерег Калигула со злорадной усмешкой и добавил: — Знаешь, Кальпурний, из твоей свадьбы ничего не получится, но я должен быть тебе благодарен, потому что ты только что подарил Риму императрицу.
Это слышали все. Присутствующие затаили дыхание. Была ли это очередная шутка Калигулы, грубая и безвкусная?
Пизо, который не мог осмелиться перечить императору, сразу же откликнулся на его слова. Он низко поклонился и сказал:
— Императорское слово возвысило меня. Я сказал — возвысило, потому что намного больше ценю оказанную мне честь привести тебе невесту, чем самому владеть ею.
Калигула довольно кивнул.
— От римского патриция я и не ожидал ничего другого. А теперь спросим Орестиллу.
От улыбки невесты не осталось и следа. Она тоже посчитала слова императора шуткой и не осмеливалась даже подумать, что все было всерьез.
— Но ты совсем не знаешь меня, император, Я боюсь, что разочарую тебя…
Калигула поднял руку:
— Оставь! Ты мне нравишься, и я хочу назвать тебя императрицей. Расходы на торжество я беру на себя, и прошу гостей проводить меня и мою невесту на Палатинский холм.
И снова раздались восторженные возгласы присутствующих в честь императора. А что им оставалось делать? Невеста Пизо превратилась в Орестиллу Августу и как первая матрона Римской империи теперь стояла гораздо выше их. Это положено было встретить криками ликования. Как штормовой ветер, пронеслась по Риму новость. Император Гай Август отобрал у Кальпурния Пизо невесту. Плебеи нашли это великолепным, потрясающим, неповторимым. Человек, который так обошелся с патрицием, заслуживал аплодисментов.
Друзилла надменно улыбнулась, когда Калигула представил ей свою невесту.
— Поздравляю, Орестилла, Это было неожиданно, не так ли? Да, у моего высокородного брата все происходит очень быстро — все!
Она знала Калигулу как никто другой и догадывалась, чего можно было ожидать от этого поступка.
Императору не терпелось.
Он затащил Орестиллу в свои спальные покои и бросил на ложе.
— Мы начнем с брачной ночи. Все формальности потом. Я сгораю от нетерпения, Орестилла, а ты?
— Да, да… — пробормотала девушка, наблюдая, как из одежд появляется волосатое чудовище.
За глаза императора часто называли козлом, но она не думала, что это прозвище так ему подходит. На долю оцепеневшей от ужаса Орестиллы выпало изнасилование, а после этого, когда император храпел рядом с ней, она почувствовала невыразимое омерзение.
На следующий день Калигула уже потерял интерес к своей «жене». Изнасиловав ее еще раз, он отослал несчастную обратно домой с приказом никогда больше не связывать свою жизнь с мужчиной.
— Женщина, которой довелось стать женой императора, пусть даже ненадолго, освящена и возвышена, так что прикосновение любого другого я посчитаю святотатством. Помни об этом!
Император не шутил, и оцепеневшая Орестилла не знала, как будет жить дальше.
— Ты некрасиво поступил с девушкой, — заметила Друзилла, но в голосе сестры не было упрека.
— Император поступает так, как хочет! Она и мизинца твоего не стоит, Друзилла. Для меня существует одна женщина, и эта женщина — ты.
15
С таким нетерпением ожидаемые Калигулой корабли из Александрии прибыли. Одним из них было судно невероятных размеров, построенных специально для перевозки статуи из Хелиополиса высотой почти семьдесят локтей. Правда, жрецы древнего египетского храма Солнца ворчали, когда Авиллий Флакк сообщил им о желании императора видеть статую в Риме, но деньги сделали их сговорчивыми. Флакк выплатил их из собственного кармана, поскольку понимал, как ненадежна его должность префекта, и хотел расположить к себе императора.
Другое судно доставило желаемую статую Исиды, кроме того, двух сфинксов, фигуру Сераписа в натуральную величину из черного камня и еще многое другое, что могло бы украсить храм богини.
Золотой панцирь, как писал Флакк, не был готов по причине недостаточного для изготовления времени, и должен был быть доставлен следующим судном. Калигулу, готового разбушеваться из-за этой новости, успокоил Каллист.
— Я понимаю это, император. Если работать по-настоящему тщательно, времени не хватит. Но никто не рассчитывал, что корабль со статуей прибудет так быстро. Где распорядиться поставить его?
— С этим можешь не торопиться. Возможно, я расширю маленький цирк в садах и прикажу установить ее там. Сейчас для меня важнее освящение храма Исиды. Когда оно состоится?
— Для большой процессии все готово. Египетские жрецы говорят, что сейчас, весной, самое лучшее время: природа просыпается, и солнце день ото дня поднимается все выше на небосводе.
— Хорошо, Каллист. Сделай все как можно быстрее. Я придумал для праздника нечто особенное.
«Кто теперь окажется в числе пострадавших?» — подумал Каллист с ужасом, ведь кто-то должен был расплатиться за выдумку.
У разбогатевшего Каллиста впервые появились мысли о том, что и он однажды сможет оказаться жертвой очередной «шутки» императора. Про себя он поклялся, что сделает все, чтобы этого избежать.
Процессия собралась на Марсовом поле. Явились певцы, музыканты и танцоры, одетые в белое жрецы и жрицы спустились с носилок. Костюм Друзиллы цвета темно-синей ночи с золотыми звездами притягивал к себе взоры как нечто чужеродное в этом белом море.
Впереди шли девушки с венками на головах, разбрасывая цветы из корзин и разбрызгивая вино и благовония. За ними следовали женщины и мужчины с факелами, лампами и свечами, что должно было указывать на Исиду как на госпожу небесных светил.
Музыканты играли на дудках, флейтах и барабанах, хор девочек и мальчиков исполнял древние священные строки во славу богини:
Здравствуй, звезда, освещающая путь Солнцу!
Здравствуй, мост, что ведет от земли к небесам!
Здравствуй, вода, наполняющая рыбацкие сети!
Здравствуй, свет, освещающий души!
Здравствуй, сила, поражающая врагов, будто громом!
Здравствуй, гроза злых духов!
Здравствуй, та, что несет всем людям радость!
Обритые наголо жрецы в длинных белых одеждах торжественно несли священные символы Исиды: лампу в форме корабля, маленький позолоченный алтарь, золотую пальмовую ветвь, крылатый жезл Эскулапа, вырезанную из дерева левую руку, золотой сосуд и кувшин с водой. Все они символизировали власть богини на земле и на небе. Жрецов сопровождали девушки и юноши, покачивающие курительницы с благовониями, которые окутывали процессию ароматным облаком.
На некотором расстоянии от них следовала группа переодетых богами жрецов и жриц. Среди них можно было узнать Анубиса с головой шакала, бараньеголового Амуна, бородатого Сераписа — он занял место Осириса и был хорошо знаком римлянам. Во главе группы шла Друзилла в образе Луны, что противоречило любым обычаям, поскольку египетская религия не знала такой богини. Собравшихся зрителей это, однако, ничуть не смущало. Они пришли посмотреть на занимательный спектакль, обещающий отвлечь их от серых будней.
Одна, полная величия и достоинства, позади всех божеств шествовала сама Исида, окутанная вуалью. Голову богини украшал солнечный диск в обрамлении коровьих рогов, а в руках она держала серебряную чашу. Два жреца позади нее несли главные символы Исиды: золотую корзину с месяцем и сосуд с водой из Нила.
Перед входом в новый храм процессия распалась, пропустив внутрь только жрецов. К их удивлению, богиня Исида сняла корону и вуаль, и все увидели лицо императора. Никто не осмеливался произнести ни слова, пока Калигула не пояснил:
— Боги изменчивы. Я принял для сегодняшнего праздника образ Исиды и останусь ею до полуночи.
Кто-то робко зааплодировал, некоторые пробормотали:
— Божественная мысль, замечательное перевоплощение…
Но выдумки Калигулы на этом не закончились. В честь богини вечером был назначен торжественный обед во дворце, на который пригласили только женщин. Идея вызывала у Калигулы восторг, и он сказал Друзилле:
— Раньше существовали только пиры для мужчин. Для Исиды, прекрасной богини, я превратил Рим в ее город, хочу здесь славить ее пол пиром для женщин. Что ты об этом думаешь?
— Это великолепно! Для всех римских женщин ты и так божество, но этим стяжаешь себе всеобщую любовь.
Как всегда, Друзилла поняла и одобрила все, что родилось в голове брата.
Дни напролет просиживал Калигула со своим секретарем Каллистом над списком приглашенных, чтобы не забыть ни одной достойной римлянки.
— Не забудь верховную жрицу Вест, — напомнил императору Лепид.
Калигула расхохотался.
— Старой деве вряд ли доставит удовольствие торжество, но ты прав, она должна присутствовать. Мне кое-что пришло в голову! Если я приглашу весталку, за столом должна сидеть и проститутка. Ты помнишь Пираллию?
Лепид нахмурился.
— Кто это?
— У тебя плохая память! Забыл тот вечер в публичном Доме, перед моей болезнью? Я выбрал ее тогда, но меня поразила божественная молния, и вы принесли меня обратно.
— Вспомнил! Высокая гречанка… Да, пригласи ее!
В тот вечер они были гостями императора, который все еще оставался в женском платье, — римские патриции бок о бок с проститутками, жрицами и представительницами знатных семей. Только Агриппина не появилась, так как ее муж, Доминиций Агенобарб, был болен, и супруга находилась рядом с ним.
Когда Агенобарб после рождения сына и по обычаю высоко поднял его, он заметил:
— Наш ребенок прославится на весь мир.
Они назвали мальчика Нероном.
Ливилла тоже была здесь. С каменным лицом сидела она рядом со своим братом, который в своем желании быть похожим на женщину производил весьма странное впечатление.
Верховная жрица Веста сидела на почетном месте неподалеку, наблюдая с едва скрываемым отвращением за происходящим. Ей исполнилось тридцать шесть, и через два года служба в храме богини Весты, которую она начала восьмилетней девочкой, для нее заканчивалась. Но при мысли о возвращении в мирскую жизнь весталку охватывал ужас. Она испытывала страх перед этим императором и его кощунственными шутками. Переодеться в Исиду! Хорошо, что это была чужеземная богиня. Жрица решила покинуть торжество, как только представится возможность.
Сорок два повара и сотня помощников с раннего утра были заняты приготовлением множества сложных блюд. Калигула старался лично убедиться, что все его идеи были правильно воплощены, и теперь, когда внесли угощение, радовался обескураженным лицам гостей.
На столе появились блюда с жареными поросятами, барашками, гусями, журавлями, голубями и рябчиками; часть из них была покрыта позолотой, одним птицам вернули их оперение, другие выглядели как обычное жаркое. Но тех, кто хотел отрезать от них кусочек, ждало разочарование, потому что вся снедь была изготовлена из дерева и обтянута поверх корочкой. И наоборот, под «золотым» покрытием скрывалась настоящая еда. Этот пока безобидный обман вызвал радостное возбуждение. Но потом, когда повар объявил куропаток и рябчиков с начинкой из фиников и орехов, начались уже не такие приятные сюрпризы. Финики оказались стручками, начиненными острым перцем, и тех, кто, скривив лицо, пытался залить пожар во рту вином, снова ждала неудача, потому что среди кувшинов с хорошим вином скрывались и наполненные разбавленным уксусом.
Император внимательно наблюдал за гостями, и в его неподвижных глазах горел злорадный огонек. Особое удовольствие ему доставили скривившиеся от боли лица тех, кто, с облегчением вздохнув, потянулся за безобидным на вид сладким блюдом с медом и орехами. Но к настоящим орехам были подмешаны похожие на них камни, и многие женщины, от души откусив, сломали себе зубы.
Верховная жрица весталок между тем удалилась. Она покинула зал, попрощавшись с императором едва заметным кивком. Поскольку этой неприкосновенной служительнице храма он ничего не мог сделать, Калигула удовлетворился уже тем, что разозлил ее. Император ел и пил без меры. Он запихивал в себя еду и заливал вином в таком количестве, как будто умирал от голода. Когда ему стало плохо, он велел поднести золотое блюдо и основательно прочистил желудок. Друзилла рассмеялась, а ее сестра Ливилла с отвращением отвернулась.
Калигула прополоскал рот и обратился к ней:
— За столом твоего друга Сенеки манеры, вероятно, лучше? Там не пируют, а вкушают, не пьют, а медленно тянут легкое разбавленное вино. Не так ли? Я даже могу себе представить, как какой-нибудь образованный раб цитирует при этом стихи твоего любовника. Этот Сенека мне противен! Передай это ему от меня. Он, кстати, не боится смерти?
— Ты тоже не бессмертен, — Ливилла поднялась из-за стола. — Или ты заговорен от яда и кинжала?
Неудержимая ненависть блеснула в его больших холодных глазах, и — как заметила Ливилла к своему удовлетворению — ненависть эта была смешана со страхом.
— Вот что я скажу тебе, сестра. У меня найдется для тебя не только остров, но и меч палача. Подумай об этом.
Ливилла вышла, не проронив больше ни слова.
Калигула проводил ее взглядом и зевнул; он начал скучать. Он же был женщиной! Существовало ли что-нибудь, что могло развлечь матрону? Чего жаждет женщина, когда одиночество и пустота наполняют ее сердце? Мужчины!
Калигула подозвал одного из преторианцев.
— Ах, Херея, тебе сегодня пришлось нести службу? Как ты чувствуешь себя в окружении женщин? Как петух в курятнике? С твоим тоненьким голосом у тебя прекрасно получится кукарекать. Попробуй-ка!
Херея смущенно оглянулся:
— Но ведь не перед всеми этими гостьями?..
— Да, ты прав. Мужчина не должен терять своего достоинства. Доставь во дворец моего сердечного друга Эмилия Лепида. Он еще никогда не видел своего императора в женском платье.
«Я тоже», — подумал Херея и впервые засомневался в здравом рассудке Калигулы. Потом он сказал себе: «Император еще молод и хочет все попробовать. Это каприз, желание посмеяться над женщинами на свой манер».
Лепида тут же нашли, потому что тот старался всегда быть поблизости в надежде, что император вспомнит о нем.
— Приветствую тебя, патриций! Император просит тебя прийти на праздник женщин.
«Я нужен ему только для каких-нибудь безумств, — думал Лепид, пока его слуга помогал ему одеваться. — Как долго еще будет это продолжаться?»
Калигула, увидев Лепида, обрадовался:
— Ах, любимый, наконец! Уведи меня отсюда, я сыта по горло обществом женщин! Хочу почувствовать мускулы мужчины. — Он ущипнул Лепида за плечо и восхищенно взвизгнул: — Какой он сильный! Друзилла, сестричка, пощупай-ка: настоящий мужчина, Геркулес, всегда готовый защитить нас, слабых женщин.
Голос Калигулы был тяжел от выпитого вина, и с пьяным упрямством он хотел доиграть роль женщины до конца. Половина гостей уже ушла, оставшиеся же поглядывали на разыгрывающуюся сцену с отвращением или смущением, с улыбкой или равнодушно.
Только Пираллия, проститутка, сочувствовала императору.
«Каким несчастным должен быть этот человек, чтобы так вести себя», — подумала она, желая, чтобы ей разрешили пойти с ним.
Друзилла смеялась. Она с такой силой ущипнула Лепида за руку — который, в конце концов, был ее мужем, — что тот вскрикнул.
— Чтобы ты почувствовал, что я еще здесь, — прошипела она ему в ухо и громко произнесла: — Как я завидую тебе. Уведи этого мужчину скорее прочь, женщины просто пожирают его глазами.
Калигула попытался изобразить переливчатый смех, но в результате получилось только глухое дребезжание.
— Ты слышал, любимый? Пойдем скорее отсюда.
Германцы-телохранители последовали за парой, сохраняя бесстрастные выражения на лицах. Эти люди получали от императора двойное жалованье, а нередко и подарки, и за это были готовы оказывать почести даже хрюкающей свинье.
Когда они оказались одни, Лепид ожидал, что Калигула оставит свою роль, чтобы вместе с ним провести где-нибудь веселую ночь. Но бронзовые шары водяных часов еще не пробили полночь, а до этого времени Калигула оставался женщиной.
— Будь ласков со мной, — проворковал он Лепиду. — Сделай меня счастливой, любимый.
Он выскользнул из женской одежды, упал при этом на пол и дополз на четвереньках до кровати.
— Изнасилуй меня, Лепид! Делай со мной что хочешь! Я вся твоя.
Лепид растерялся. Калигула повернулся к нему и заорал:
— Давай же, подойди и залезай в мою задницу! Это не в первый раз, но сейчас ты можешь все сделать по-настоящему.
Лепид медленно снял одежду, но вид ягодиц императора не возбуждал его. Как и все римские распутники, он имел подобный опыт, но то были круглые гладкие полушария, а здесь…
Калигула выпрямился.
— Значит, не получается, да? Моя божественная сущность приглашает тебя к мистическому воссоединению, преображается в женщину, а твой фаллос похож на дохлого червяка. Его с тем же успехом можно было бы отрезать, не правда ли? От такой негодной вещи надо попросту избавиться.
Калигула схватил свой кинжал, который всегда лежал рядом с ним в постели, и подошел к Лепиду.
«Если он коснется меня, выбью кинжал и задушу его», Как только Лепид об этом подумал, бронзовый шар водяных часов упал с мягким звоном.
Калигула прислушался, отложил кинжал и сказал:
— Теперь я снова мужчина! Фортуна была к тебе милостива, Лепид. И поскольку я опять мужчина, мы доведем дело до конца. — Он подтащил обнаженного Лепида к постели и приказал: — Ложись на живот!
Полупарализованный от пережитой угрозы, тот безвольно последовал указанию, а потом услышал голос Калигулы:
— Как женщину ты меня не хотел, тогда терпи как мужчину.
Лепид почувствовал, как император взял его, и в тот же миг в его голове вспыхнуло: «Ты слишком далеко зашел, Калигула. Это будет стоить тебе жизни».
На следующий день после «женского праздника» Ливилла послала Сенеке записку, в которой попросила о встрече в библиотеке Августа. Она появилась там около полудня, пряча лицо под вуалью, в сопровождении служанки.
Библиотеку учредил император Август. Он распорядился пристроить ее у Палатинского моста к храму Аполлона, намекая на роль бога как вдохновителя муз. В главном зале возвышалась статуя Аполлона с чертами лица Августа. В стенных нишах стояли выполненные в натуральную величину мраморные фигуры известных греческих и римских поэтов, философов и ораторов.
Сенека уже сидел за столом, внимательно изучая один из свитков. Ливилла присела рядом и осторожно коснулась его руки, но тут же приложила палец к губам.
— Не здесь, — прошептала она.
Сенека кивнул, поднялся и сунул в руку смотрителю несколько монет.
— Есть свободные залы для занятий?
Тот кивнул, задав один-единственный вопрос:
— Часа достаточно?
— Вполне.
В этих залах авторы читали свои новые произведения, по поводу которых потом велись дискуссии, выслушивалась критика. Когда за смотрителем закрылась дверь, Сенека поцеловал Ливиллу в губы.
— Случилось что-то важное?
— Ты в опасности, любимый. Вчера Калигула сказал слова, которые меня испугали. Он не любит тебя, я знала это давно, но до сих пор брат не выражался так определенно. Ты в опасности. Насколько я знаю Гая, он найдет способ обвинить тебя. Я боюсь за тебя, Луций.
Он держал ее руку, нежно поглаживая пальцами.
— Благодарю за предупреждение. Я отнесусь к нему серьезно. В разговоре с твоим братом нужно взвешивать каждое слово. Да, он не любит меня, я понял это давно. Каждый раз, выступая в сенате, он бросает на меня ядовитые взгляды, будто хочет спросить: «Как, ты еще жив?» Но что тут можно сделать?
— Скажись больным и уезжай куда-нибудь подальше. Оставайся там так долго, пока он не забудет тебя в охоте за новыми жертвами.
— Мне не придется притворяться, — сказал Сенека. — Я действительно болен. Два врача поставили мне один и тот же диагноз. Мне тяжело дышать, иногда я даже кашляю кровью. Оба советуют мне переехать на юг, но я не хочу покидать Рим, потому что боюсь потерять тебя.
— Луций, — в голосе Ливиллы появилась мольба, — речь идет о твоей жизни! В Риме тебе оставаться опасно! Уезжай, пока у твоего дома не появились преторианцы.
— Мой друг Серений предложил мне переехать к нему на Бавли, поскольку сам хочет провести лето на Родосе. Я мог бы там жить под вымышленным именем. В Риме напрасно будут искать сенатора Сенеку.
— Сделай так! Луций, сделай так! Уезжай прямо сегодня, а я навещу тебя в мае или в июне.
— Но твой муж? Что скажет на это Марк Виниций?
Ливилла рассмеялась.
— Разве тебе, сенатору, не известны новости?
Сенека стукнул себя по лбу.
— Да-да, но ведь твой муж получил назначение проконсула в Азии. Ты не едешь с ним?
— Нет, Калигула хочет, чтобы я пока осталась здесь. С какой охотой я подчиняюсь, ты можешь себе представить.
Серьезное, всегда задумчивое лицо Сенеки просияло.
— Если бы я верил в богов, то сказал бы сейчас, что Аполлон защищает меня, прикрывая своей ладонью, но я воспринимаю это как каприз судьбы.
— Ты не веришь в богов?
— Нет, но в божественную власть, которая присутствует повсюду, пронизывая всех и вся, — человека, животных, растения, но не подвластна нашему разуму.
— И все-таки я принесу жертву Фортуне. Ты должен бежать, Луций. Если Калигула справится о тебе, я скажу, что ты по совету врача уехал поправлять здоровье.
— Хорошо, Ливилла, так и сделаем. Это лето будет принадлежать нам — тебе и мне. Я люблю тебя, Ливилла, я люблю тебя!
Она радостно улыбнулась.
— Мой брат просчитался — боги всегда на стороне влюбленных!
— Боги, Бог, судьба… Любовь преодолевает все, сказал Вергилий, и я верю в это.
Корнелий Сабин отправился в Азию на одном из судов римского флота, где паруса ставили только при попутном ветре, в остальное же время оно приводилось в движение силой мускулов рабов.
Корабль вез нового проконсула Азии в Эфес, а его сопровождали трибуны, чиновники и, конечно, множество слуг.
Среди трибунов Сабин был самым младшим, и он не мог не заметить, как некоторые из старых солдат удивлялись, когда он представлялся им. Правда, никто не говорил ему этого в лицо, но Сабин догадывался, что они думали о нем: сын патриция, который со скуки или потакая желанию семьи решил немного поиграть в трибуна.
Но Сабина это не волновало. Мысленно он уже был в Эфесе, где жила Елена со своим мужем и не подозревала, что влюбленный римлянин летит к ней: «Я не оставлю ее в покое до тех пор, пока она не разорвет навязанный брак и не начнет со мной новую жизнь». Впрочем, Сабин сразу отогнал эти мальчишеские мечты. Разум говорил ему, что римский трибун не может увести жену греческого гражданина, иначе подвергнется судебному преследованию. Елена не являлась рабыней, предметом торга, она была членом богатой, достойной семьи своего города.
Римские военные вели себя очень осторожно в когда-то, правда, завоеванной, но нежно обласканной Элладе, чьей культурой в империи восхищались и многое из нее переняли. Говоря точнее, Эфес не принадлежал Древней Элладе, но был греческим городом, к тому же одним из самых крупных и богатых.
Поэтому римский трибун, врывающийся в греческую семью, рассматривался бы как враг: его бы тут же, закованного в цепи, отправили в Рим. Время похищения прекрасных гречанок миновало.
Конечно, он знал это, и, когда его разум, как всегда, победил разыгравшиеся фантазии, Сабин придумал план, как он сможет приблизиться к Елене. Впрочем, многие вопросы пока оставались без ответа, в то время как его нетерпение росло.
В безветренные дни он слышал стоны гребцов, выполнявших свою тяжелую работу, ритм которой задавали быстрые удары барабана. Рабы полностью теряли силу за несколько лет, и скамья гребца становилась их смертным одром. Однажды Сабин стал случайным свидетелем того, как одного из умерших оттащили и выбросили в воду. Его спину покрывали многочисленные шрамы, и две кровавые полосы свидетельствовали о свежих ударах плетью.
— У этого все позади, — сказал один из членов команды. — Все-таки они, тем не менее, цепляются за жизнь. Странно…
«Да, — подумал Сабин, — и правда странно. Рабы изо всех сил держатся за свое жалкое существование, а богач, Марк Гавий Апичий, чье состояние исчислялось тысячами сестерциев, принял яд».
Разные мысли посещали молодого трибуна во время длинного однообразного путешествия, но, как только на горизонте показался Эфес, всем его размышлениям пришел конец.
Сабину был хорошо известен большой порт в его родном городе, но то, что он увидел здесь, бесспорно, затмевало Остию. Необъятных размеров хорошо защищенная гавань располагалась довольно далеко от побережья, и путь к ней проходил через канал. Вплотную друг к другу бесконечным рядом выстроились суда: тяжелые грузовые с залатанными парусами многовесельные галеры, легкие быстроходные парусники со сложной оснасткой, а еще маленькие лодчонки торговцев и рыбаков. А между ними, как пестрые птицы, жались разноцветные парусники паломников со всех концов света, которых сюда привело желание отдать почести Артемиде Эфесской.
Во время недолгого пути по каналу представление о городе едва ли можно было получить, поскольку Эфес расположился меж двух горных хребтов, Пиона и Корессия, заслоняющих его с воды. На пристани проконсула и его свиту уже ожидали с мулами, ослами, носилками и носильщиками, чтобы доставить в Эфес, где для него был подготовлен роскошный дом.
Сабин и другие трибуны сразу отправились к расположению одиннадцатого легиона. Шестеро его командиров жили в просторных домах за пределами казарм.
Сабину представился помощник его предшественника, умершего от лихорадки после недолгой службы. Звали его Маринием, и он говорил на трудно понимаемой смеси греческого и латыни.
— Сколько тебе лет? — спросил у Сабина Корнелий.
— Что?
— Сколько лет — я имею в виду, сколько лет ты живешь на свете?
— Не знаю.
— Но ты должен знать, сколько тебе лет! Двадцать, тридцать, сорок?
— Может, тридцать?
Сабин оставил свои попытки отправиться осматривать жилище. О доме и саде заботились два раба, а ели легаты и трибуны все вместе в специально отведенной для них отдельной зале.
Легат был пожилым, от всего уставшим человеком. Он считал последние дни до конца службы и командование легионом переложил на плечи других — прежде всего своего заместителя, старшего по рангу трибуна.
В свое время Херея сказал Сабину, что с равными по положению наладить отношения проще, чем с центурионами, ведь именно они являются опорой легиона, и с ними-то новому трибуну и пришлось столкнуться уже в первые дни. Под его командованием находилось десять отделений, каждое из которых насчитывало восемьдесят легионеров с центурионом во главе. Другими словами, в распоряжении Сабина было восемьсот воинов, и все — старые опытные солдаты, поглядывающие на молодого начальника с нескрываемым недоверием.
Чтобы ближе познакомиться с ними, Сабин пригласил центурионов к себе на обед. В присутствии старшего по званию те вели себя сдержанно, и только у одного случайно вырвалось, что Сабин уж слишком юн для своего высокого поста.
— Как мне это понимать? — спросил Сабин. — Это критика или упрек? Молодость и старость не имеют ничего общего с заслугами человека, это этапы его жизни, и все.
— Извини, трибун, но уж очень это необычно.
— Ничего, привыкнете.
Но понадобилось время, прежде чем ветераны действительно приняли его в свой круг, и произошло это после поединка. Один из центурионов, старый солдат, прослуживший двадцать лет, был постоянно недоволен приказами трибуна, обходил их или менял по собственному усмотрению. Сабин обратился к легату за разрешением на поединок на тупых мечах и тут же его получил.
— Хорошая мысль, трибун, хорошая. Солдаты тут сидят без действия. Многие знают о настоящем бое только из рассказов ветеранов. В Азии все тихо на протяжении десятилетий, и наш легион скоро просто заснет. Итак, действуй! Покажи легионерам, на что способен юный трибун. Надеюсь, ты ничем не рискуешь?
— Не беспокойся, легат, я прошел хорошую школу.
Сабин передав центуриону свой вызов, в ответ на что тот рассмеялся.
— Тебе придется потренироваться, трибун. Сколько времени тебе понадобится — три дня, пять, десять?
Сабин спокойно улыбнулся.
— Мне не нужно время на подготовку. Если хочешь, сразимся уже завтра.
Но, похоже, центуриону это не нравилось.
— Как завтра? Два-три дня было бы неплохо поупражняться.
— Как хочешь. Значит, через три дня на тренировочной площадке.
Сабин, конечно, тоже хотел подготовиться и попросил лучшего бойца на мечах среди трибунов потренироваться с ним. Черноволосый сириец, гибкий и мускулистый, владел мечом, как скульптор своим инструментом, и три раза за час выбивал меч из рук Сабина, однако терпения не терял.
— Неплохо дерешься, Корнелий Сабин, но тебе не хватает знания тонкостей боя. Самое важное — определить, в чем противник тебе уступает. У ветерана наверняка есть какое-нибудь слабое место, которое он старательно скрывает. Возможно, он уже не так быстр или плохо укрывает корпус. Узнай это и считай, что наполовину выиграл.
Никто из солдат не хотел пропускать бой. Пусть даже легионеры недолюбливали центуриона за его преувеличенную строгость, но все втайне надеялись на его победу, потому что поражение потерпит трибун. Легат сам выразил готовность выполнить роль судьи, чтобы в случае необходимости вовремя прервать бой.
Центурион обрушил на Сабина град ударов. Старые тупые мечи с силой ударялись друг о друга, и звон разносился далеко за пределы площадки, но Сабин держался, каждый раз немного отступая назад, чтобы смягчить удары. Скоро ему открылось слабое место ветерана: ноги, исполосованные шрамами.
Они потеряли силу и подчинялись воле хозяина уже не так хорошо. Преимущество переходило от одного противника к другому, но Сабин чувствовал, как немеет его рука, в то время как центурион не ослаблял натиска. Тогда молодой трибун стал, принуждать его к поворотам и уверткам, пока тот не споткнулся и не упал на бок. При этом он легко ранил себя, однако хотел тут же продолжить поединок. Но легат поднял руку.
— Нет, друзья мои, я не могу этого допустить. Центурион ранен, и бой не может быть равным и справедливым. Вы оба дрались великолепно, каждый по-своему, и поэтому в этой честной борьбе нет ни победителя, ни побежденного.
Все оказались довольны результатом, и обоих ждали радостные возгласы тех, кто им сопереживал.
16
Муж Агриппины, распутник и пьяница Доминиций Агенобарб, по совету врачей отправился поправлять здоровье на горячие источники к югу от Рима. Но его организм был настолько разрушен чрезмерным употреблением алкоголя и тяжелой острой пищи, что, пробыв там всего несколько дней, он умер, никем не оплаканный, вызвав сожаление лишь пары проституток, которых Доминиций щедро вознаграждал за услуги.
Но все же он был патрицием, бывшим сенатором и консулом, поэтому его прах подобало захоронить со всеми почестями.
Траурная процессия двигалась через Аппийские ворота к захоронениям высокородных граждан. Склепы возвышались по обеим сторонам улицы и подчас превосходили размерами жилые дома. Это относилось и к мавзолею Доминициев, восьмиугольной мраморной башне. Рядом с ней высился костер, сложенный из поленьев и жертвенных даров родственников и друзей: кувшинов с ценными маслами, лавровых венков, цветов, фруктов, листов пергамента со священными изречениями.
Открывали траурную процессию музыканты с трубами, барабанами и флейтами, от которых было больше шума, чем музыки. За ними следовали факельщики и плакальщицы, и их причитания и стенания в сочетании с этой «музыкой» производили жуткую какофонию. Затем шли актеры. Они несли в руках восковые маски с чертами самых достойных предков покойного: полководцев, проконсулов, легатов, чьи имена и деяния часто упоминались, когда речь шла о Юлии Цезаре и императоре Августе. Всех их призывали принять последнего потомка, лентяя и гуляку Доминиция Агенобарба в царство теней.
За носилками шествовала с застывшим выражением лица Агриппина в сопровождении служанки с полугодовалым Нероном на руках. Она жаждала этого дня, когда наконец станет свободной, как никакого другого, и теперь все свои силы была готова отдать, чтобы ее сын не стал копией человека, тело которого сейчас укладывали на костер. Знак зажечь огонь должен был подать по старому обычаю сын умершего. Маленький Нерон с удивлением разглядывал необычное действо; Агриппина подняла руку ребенка, как будто тот в знак последнего прощания махнул отцу. Пропитанное маслом дерево вспыхнуло со всех сторон, и пламя стало быстро подниматься, вытягивая к носилкам, на которых покоилось тело умершего, прожорливые языки. Скоро они пробрались в одежды, въедаясь во вздувшуюся плоть и постепенно превращая безобразную телесную оболочку в чистый белый пепел.
Как того требовал обычай, Агриппина отыскала остатки костей, полила их вином и положила в серебряную урну.
По поручению императора процессию должен был сопровождать Эмилий Лепид.
— Как муж Друзиллы, ты принадлежишь к императорской семье, не так ли? Поэтому я возлагаю на тебя честь представлять меня на похоронах старого распутника. Но с достоинством, Лепид, с достоинством, ведь ты — пусть и на короткое время — будешь замещать меня.
Издевательское выражение лица Калигулы и насмешливые слова вызвали у Лепида такую злобу, что ему пришлось отвернуться, чтобы не выдать себя. Другом Калигулы Лепид никогда не был, скорее приятелем для пьянок и походов по борделям, но с той самой ночи, когда император обошелся с ним так низко, Лепид его ненавидел. Однако ему хватало ума не расходовать зря силу, порождаемую этой ненавистью. И Друзилла, его, так сказать, жена — любовница собственного брата, и рассудительная Ливилла, которую заботил только ее поэт, были для него бесполезны. Но Агриппина, старшая сестра императора, ненавидела брата.
«Значит, надо объединить нашу ненависть и тщеславие, — рассуждал Лепид, — и направить на свержение этого мнящего себя божеством сумасшедшего».
Агриппина поставила урну в нишу; процессия распалась, каждый пошел своим путем. Она как раз хотела вместе со служанкой сесть на двухместные носилки, когда к ней обратился Лепид.
— Если тебе понадобится помощь, Агриппина, я всегда готов поддержать тебя и словом, и делом.
Женщина обратила к нему свое строгое красивое лицо.
— Благодарю. Да, я хочу кое-что обсудить с тобой. Навести меня на днях, если тебе позволит время.
— Оно позволит, обязательно позволит. Прощай, Агриппина, и не печалься уж слишком.
Она слегка улыбнулась.
— Я справлюсь со своим горем.
Лепид проводил носилки взглядом, думая о том, что Агриппине и ее сыну досталось все наследство Доминиция, и она стала теперь самой богатой женщиной Рима.
В первые месяцы правления Калигула проявлял хотя бы поверхностный интерес к государственным делам, но с тех пор как он почувствовал свою божественную сущность, император считал занятия такими мелочами недостойными себя. Для этого существовал сенат, оба консула, наместники в провинциях со своими служащими. Август, творец Римской империи, отдал строительству этого многоступенчатого механизма долгие годы, и он был устроен так, что действовал без принцепса.
Император в постоянной борьбе со скукой напряженно выдумывал развлечения для себя, а заодно и для своего народа.
Цирк Максимуса, в императорскую ложу которого можно было попасть непосредственно из дворца, на протяжении многих лет служил для всякого рода игр. На первом месте стояли гонки на колесницах. Калигула был сторонником «зеленой» партии и делал своему любимому вознице Евтюхию немыслимые дорогие подарки. Травля зверей и гладиаторские бои по значимости занимали второе место и следовали друг за другом в особые праздничные дни.
Это противоречило бы природе Калигулы, если бы он, как его предшественники, даровал народу бесплатные зрелища. Слишком уж простым и маловозбуждающим казалось это императору. Для каждого представления он выдумывал особую «шутку» — так случилось и на этот раз.
Обычно нижние места предназначались для сенаторов и патрициев, а верхние — для простых граждан. Чтобы унизить ненавистную знать, Калигула велел распространить билеты на свободный вход с указанными на них нижними местами. Когда римляне благородного происхождения, претендующие на свое законное право сидеть вблизи арены, обнаружили места занятыми, дело дошло до жестоких столкновений, приведших к гибели нескольких десятков зрителей, что послужило, по мнению Калигулы, прекрасным вступлением к празднеству. Лицо его раскраснелось, холодные глаза блестели.
— Это уже другие игры, — заметил он Каллисту. — У моих предшественников трупы были только на арене, а у меня и среди зрителей. Забавно, не правда ли? Мне, между тем, еще кое-что пришло в голову. Ты помнишь, что во время моей болезни многие дали обет? И был один, который хотел бороться на арене с гладиаторами; еще кто-то даже предлагал свою жизнь. Что ж, я жив и здоров, а богов нельзя обманывать. Разыщи обоих, они смогут исполнить свой обет здесь, в цирке.
Когда император появился на трибуне, его встретили восторженными криками, но ликовали в основном плебеи, поскольку патриции и сенаторы чувствовали себя обиженными из-за пренебрежения их законными правами.
Представление началось с выступления группы артистов, которые запрыгивали на скачущих галопом лошадей, а потом выполняли стойку на руках или делали разные трюки и каждый раз уверенно приземлялись на ноги. Глотатели огня, акробаты и канатоходцы забавляли зрителей, но римская публика была избалована и вскоре начала скучать.
— Хотим видеть кровь! — послышался выкрик из последних рядов, его подхватили, и вскоре со всех сторон раздавалось: — Крови, крови!
Калигула наморщил лоб.
— Почему плебеи такие кровожадные? — спросил он Друзиллу. — Иногда меня одолевает желание схватить нескольких из них и заставить бороться друг с другом. Свою кровь они, конечно, не хотят видеть.
— Так сделай это! — подзадорила брата Друзилла. — В конце концов, ты император.
Калигула подозвал преторианца.
— Возьми с собой двоих и пройдись с ними по рядам: вытащи самых горластых.
Зрители стали беспокоиться, потому что на песке все еще прыгали акробаты, в то время как следующим номером ожидался выход диких зверей. Голодных львов, тигров и медведей натравливали на вооруженных деревянными мечами и кольями приговоренных к смерти преступников.
Когда преторианцы выловили около двадцати крикунов, Калигула распорядился объявить, что сегодня программа меняется, и гладиаторы сразятся с «добровольцами» из числа зрителей. Несчастных вооружили сетями, трезубцами и мечами, после чего преторианцы вытолкали их на арену. Конечно, тренированные гладиаторы легко с ними разделались, изрубив через несколько минут на куски.
Калигула закричал:
— Теперь течет кровь! Смотрите внимательно! Кто будет громко кричать, может там, внизу, захлебнуться собственной кровью.
Не все хорошо расслышали его слова в огромном цирке, но люди передавали новость друг другу, и вскоре поднялся ропот.
— Ты должен их успокоить, — прошептала Друзилла. — Было бы неразумно вызвать недовольство.
Калигула подал знак начинать травлю. Толпа бушевала и пронзительно визжала, когда лев отрывал руку одной из беззащитных, размахивающих деревянным мечом жертв или хватал за голову и волочил по песку другую.
Император зевнул.
— Не знаю, что они в этом находят. Зрелище очень безвкусное. Изысканная казнь, которая длится часами, — нечто другое, а это молниеносное расчленение…
Между тем настал полдень. Обычно в цирке делали двухчасовой перерыв, во время которого публика могла перекусить принесенной с собой едой, поскольку никто не хотел преждевременно покидать места. Император в сопровождении свиты удалился, чтобы перед обедом принять прохладную ванну. Стоял конец мая, а в это время в Риме случались очень жаркие дни, предвещавшие начало лета. Во время еды Калигула сказал Друзилле:
— Если сохранится такая жара, нам придется уехать на Бавли, на нашу летнюю виллу. Перестройка скоро закончится; тебе должно понравиться.
Друзилла сладко потянулась.
— Я хорошо переношу жару, и мне пока хотелось бы остаться в Риме.
— Как пожелаешь, любовь моя. Я позабочусь о том, чтобы мы не скучали.
В два часа пополудни солнце так нещадно жгло, будто хотело прогнать людей с улиц. В цирке стало жарко. Калигула, разыгрывая заботливого отца народа, распорядился раздать холодные напитки, что принесло ему благодарственные крики с трибуны. Потом наступила очередь очередной «шутки».
Тенты убрали, а выходы загородили вооруженные преторианцы. Кругом раздавались возгласы возмущения, долетали они и до ушей императора. Люди натягивали на головы свои тоги, защищаясь от палящих солнечных лучей, в то время как Калигула дал знак к следующему представлению.
На этот раз на арене появились немощные гладиаторы-инвалиды, нападавшие друг на друга с палками и разбитыми мечами. Между ними сновали карлики, калеки и безобидные животные: овцы, старые псы, обезьяны, ослы. Но публика смеялась, вместо того чтобы разозлиться, и Калигула вскочил, кипя от возмущения.
— Я не собирался их веселить! — гневно прокричал он.
Друзилла улыбнулась.
— Ты хотел их позлить? Тогда придумай в следующий раз что-нибудь получше.
Анней Луций Сенека очень серьезно отнесся к совету Ливиллы, но он был сенатором и не мог просто незаметно исчезнуть из Рима. Поэтому он уведомил сенат из Рима, что слабое здоровье вынуждает его оставить пост на полгода.
Приготовления к отъезду еще не были закончены, когда к нему явился посыльный с Палатина с просьбой Каллиста, секретаря императора, нанести тому визит.
Сенека был стоиком и привык в любых жизненных ситуациях сохранять душевное спокойствие, но эта новость его по-настоящему испугала: «Калигула узнал о моей просьбе и теперь тянет руки к моему горлу. Он поступит со мной так же, как с другими: сначала обвинит в оскорблении величия, а потом милостиво предложит самому покончить с жизнью». Сенека выпрямился. Если и так, Калигуле никогда не удастся запугать Луция Сенеку. Он спокойно пообедал и отправился на Палатинский холм.
Каллист принял его вежливо и с подобающим уважением.
— Здравствуй, сенатор! То, что ты так быстро ответил на мое приглашение, делает мне честь. Садись!
Слуга принес вино, воду, сушеные фрукты, орехи и печенье. Неожиданный приступ кашля с такой силой сотряс тело Сенеки, что у того на лбу выступил пот.
Каллист обеспокоенно смотрел на сенатора:
— Я знаю, что ты болен, и не стану долго задерживать. Наш божественный император принял к сведению твою просьбу и просил меня передать, что его меч дотянется и до самых отдаленных провинций. Он будет внимательно наблюдать за твоим дальнейшим поведением. Это все.
— Что имеет в виду император, говоря о дальних провинциях? Я проведу лето по совету врача недалеко от Неаполиса. Что касается остального, я не понимаю, чего принцепс от меня хочет и почему употребляет слово «меч». Я не знаю за собой никаких проступков.
— Я тоже, уважаемый сенатор, — сказал секретарь. Он разбавил водой вино, взял финик, прожевал, проглотил и аккуратно положил косточку в вазу.
— Это была, так сказать, официальная часть нашего разговора.
Несмотря на полноту, он с завидным проворством поднялся, открыл дверь и выглянул наружу, а затем тихо сказал:
— Мне хочется сказать пару личных слов Сенеке, которого я, как любой образованный римлянин, высоко ценю и уважаю как поэта и философа.
— На этот счет император придерживается другого мнения. Он сравнивает мои стили со штукатурной смесью без извести.
— Это его дело, — спокойно ответил Каллист. — Никто не может диктовать мне, каких поэтов ценить.
«Это ловушка, — размышлял Сенека. — Или я ему для чего-то нужен?»
Тут Каллист заговорил дальше.
— Чтобы мы друг друга правильно поняли: я верный слуга моего господина и строго выполняю все его приказы, пока он жив. Я хочу этим сказать, что и наш император может внезапно умереть… А поскольку я осторожный человек, то думаю и о времени, которое наступит потом. Это значит, что я хочу, чтобы никто не мог меня упрекнуть в злоупотреблении должностью, в том, что я собственноручно навлек на человека несчастье. Я исполняю волю принцепса, нравятся мне его решения или нет, но никто не должен говорить за моей спиной, что я использовал пост для личной мести. Так как я ценю тебя, послушай мой добрый совет: где бы ты ни был, в Риме или в том доме под Неаполисом, постарайся, чтобы посыльные от императора застали тебя в постели. И пусть рядом с ней стоит врач, когда в твоей спальне послышится топот преторианцев. Я не говорю, что так обязательно произойдет, но настроение императора изменчиво, и он может вдруг почувствовать желание отомстить Сенеке за то, что тот пишет в лучшем стиле.
— И это говоришь ты, правая рука императора?
Каллист улыбнулся.
— Ах, Сенека, что знаешь ты, да и другие, обо мне? Ты думаешь, что это просто — справляться с настроениями бога? Он мгновенно чувствует, когда ему начинают просто поддакивать, периодически хочет слышать совет, другое мнение. Но нельзя высказываться слишком определенно, иначе его охватывает приступ гнева, он может почувствовать себя опекаемым, за что многие расплатились своей жизнью. Да, он считает меня верным слугой, и я горжусь этим. Но настанет день, когда наши отношения станут опасны, а я не принадлежу к числу тех, кто готов для других пожертвовать своей головой.
— Хорошие слова, Каллист, но честен ли ты сейчас со мной?
— Я не упрекаю тебя в недоверии. В твоем положении я, наверное, вел бы себя так же. Но я ценю тебя, Сенека, я действительно ценю тебя. Кроме того, я всегда должен думать о том, что любой римлянин знает имя и произведения Гомера, но никто, даже ученые, не смогут назвать одного-единственного правителя из того далекого времени. Тогда должны были быть и знатные господа, и тираны. Память о них рассеялась как дым, тогда как о Гомере жива по сей день, будто он родился при Тиберии. Понимаешь, что я имею в виду?
— Думаю, да. Я приму во внимание твой совет.
Каллист кивнул.
— Разумное решение. Возможно, когда-нибудь мы поговорим при более благоприятных обстоятельствах — кто знает? И еще одно: этого разговора никогда не было. Если ты по какой-либо причине станешь утверждать, что я, помимо предупреждения императора, сказал тебе еще что-то, я все опровергну и найду тому свидетелей.
— Я понял, Каллист.
Секретарь поднялся и погладил свой двойной подбородок.
— Тебе, Сенека, посчастливилось родиться богемным, а мой отец был рабом. Когда вольноотпущеннику, такому, как я, удается добиться уважения и нажить состояние, ему вряд ли захочется рисковать. Понимаешь? Мне действительно важно знать, чтобы ты это понял.
— Я понимаю, уважаю и благодарю тебя, Каллист. И тоже надеюсь продолжить наш разговор при более благоприятных обстоятельствах.
— И я надеюсь! — с этими словами секретарь распахнул дверь перед своим посетителем.
Оказавшись на улице, Сенека взял носилки и велел доставить себя к медицинской школе. Его единственный домашний врач уже заметно постарел, и в Риме у него было очень много пациентов. Кроме того, он отличался чрезмерной обстоятельностью и болтливостью. Сенека подробно объяснил управляющему, кто ему нужен. Это должен быть молодой прилежный врач, еще не имеющий собственной практики, любящий путешествия и знающий свое дело.
— И поскорее, — подчеркнул Сенека. — Претенденты могут обращаться ко мне уже сегодня вечером.
Двое появились в тот же день, но совершенно ему не понравились. Утром пришли еще трое, и Сенека остановил свой выбор на Евсебии, молодом человеке, который уже три года был помощником одного известного у римского врача. Его умное открытое лицо и аккуратный вид сразу вызвали у философа симпатию.
— Ты должен уяснить себе одно условие, Евсебий. Никогда не ставь под сомнение диагноз моего домашнего врача. Я болен, и болезнь моя смертельна. Даже если ты с этим не согласен, когда тебя спросят, подтверди этот диагноз. Я не хотел бы нанести урон твоей чести врача, но у меня на то важные, жизненно важные причины.
— Могу я осмотреть тебя?
Сенека снял тогу. Молодой врач простукивал и прослушивал его, заставлял дышать то медленно, то быстро, что вызвало у больного приступ кашля. Сенека прикрыл рот платком, пока дыхание не восстановилось. Евсебий взял у него из руте платок и, увидев пятна крови, сказал:
— Я не могу не согласиться с мнением твоего врача.
— Хорошо. Мы поняли друг друга. Послезавтра отплываем в Бавли.
Эмилий Лепид выждал три дня, прежде чем сообщил Агриппине о своем визите. Он был мужем ее сестры, а значит, родственником, поэтому его появление не должно было вызвать подозрений. За домом Агриппины следили, но Лепида это не беспокоило. Он несколько раз упоминал о запланированном визите и не сомневался в том, что Калигула о нем тоже знал.
Агриппина приняла его в траурной накидке, разыгрывая в присутствии прислуги убитую горем вдову. Но, как только они остались одни, поведение ее изменилось.
— Приходится притворяться, хотя это недостойно. В доме полно шпионов, и никто не должен про меня говорить, что я как вдова патриция не выполнила в точности свои обязанности.
— Однако по тебе видно, что ты почувствовала облегчение. Надеюсь, Калигула пока не строит новых планов относительно твоего замужества.
— Во всяком случае, я буду настаивать на необходимости соблюсти обычай и год провести в трауре. Кто знает, что случится за это время….
— Да, Агриппина, об этом знают только боги. Но и нам, людям, дана возможность планировать свое будущее. Такие, как мы с тобой, не станут, сидя в тихом углу, выжидать, что за них решит судьба.
Агриппина насторожилась.
— Как это понимать?
— Нас могут услышать?
— Если ты будешь говорить тихо, нет.
— Я не трус, Агриппина, но опасаюсь за нашу жизнь.
— Особенно за свою, не правда ли?
— Агриппина, я говорю серьезно! Конечно, прежде всего меня заботит собственное благополучие: ведь у меня нет детей, и Друзилла — вовсе не моя супруга. Но есть близкие мне люди, чье падение я хотел бы предотвратить. Ты, Агриппина, тоже относишься к их числу.
Она улыбнулась.
— Перестань говорить намеками, Лепид. Если я правильно понимаю, нам в настоящий момент не грозит никакая опасность.
— Все может быстро измениться, Агриппина. Я часто провожу время с Калигулой и могу сказать тебе, что день ото дня он становится все менее предсказуемым, а его «шутки» переходят все мыслимые границы. Ни один обладающий разумом правитель до него не отваживался злить свой народ, он же испытывает терпение всех: сенаторов, патрициев, плебеев, вплоть до уличных бродяг, которым сначала раздает бесплатные билеты, а потом запирает в театре, чтобы они там поджарились на солнце. Пока он еще пользуется популярностью, пока они все еще славят его, но сенаторы живут в страхе, и многие патриции поспешили уехать из Рима в свои дальние имения. К тому же он каждый месяц выбрасывает на ветер тысячи сестерциев. Знающие люди говорят, что государственная казна через полгода окажется пустой. А что будет потом? Калигуле придется повысить налоги, стать наследником состоятельных римлян, которым послушный сенат вынесет смертный приговор. Известно, что он не считается и со своими родственниками. Ты теперь богата, Агриппина, да и у меня приличное состояние. Мы должны принять меры. Подумай о своем сыне!
Лепид умолчал о своей ненависти к Калигуле, злоупотребившему их дружбой, оскорбившему его мужское достоинство. Когда он вспоминал произошедшее той ночью, его одолевала такая жажда мести, что начинали трястись руки.
Агриппина обратила к нему строгое красивое лицо, так походившее на лицо их с Калигулой матери. Она унаследовала и ее сущность: была горда, даже надменна, честолюбива и, когда того требовали обстоятельства, хитра. Мужчины служили для нее только средством достижения цели, и если она делила с одним из них ложе, то едва ли испытывала страсть и удовольствие, а думала лишь о своем благополучии.
— Меры? Что ты имеешь в виду?
— Ответь сначала на мой вопрос, но, пожалуйста, откровенно. Ты любишь Калигулу как брата?
— Нет! — твердо сказала Агриппина. — Я люблю и ценю свою сестру Ливиллу, а его презираю и говорю об этом не только тебе. Он сам имел не раз возможность слышать мое мнение о нем.
— Но ты не чувствуешь себя в опасности?
— До сих пор, пожалуй, нет, но после рождения сына у меня появились сомнения. Калигула в любом родственнике мужского пола видит угрозу. Это давно известно.
— Да от них никого и не осталось, кроме дяди Клавдия, которого никто не принимает всерьез.
— Ты забыл моего сына, Лепид. Пока у Калигулы нет собственных детей, в любом из мальчиков нашей семьи он видит претендента на трон.
— Ты права. Что касается меня, я ничего не боюсь, пока Друзилла делит с ним ложе. Но если она ему надоест или он предпочтет ей другую, и я окажусь в опасности. Возможно, так далеко не зайдет…
Агриппина покачала головой.
— Я сестра обоим и уверяю тебя: пока жива Друзилла, никакая другая женщина не удержит Калигулу больше двух дней. Вспомни хотя бы Орестиллу.
— Ах, Агриппина, если бы Тиберий тогда выдал тебя замуж за меня, все могло бы быть по-другому.
— Я бы тоже предпочла тебя Агенобарбу, можешь быть уверен.
Лепид поклонился.
— Твои слова меня радуют.
Агриппина, которая видела в Лепиде возможного помощника и союзника, изобразила на лице теплую улыбку.
— Твои откровенные слова, Лепид, произвели на меня впечатление и вселили надежду — я имею в виду надежду на перемены.
— Ты красива, Агриппина. Если бы не траур, я мог бы…
Агриппина встала.
— На сегодня достаточно.
Она по-сестрински поцеловала его, отведя готовые обнять ее руки.
— Всему свое время, Лепид. Мы должны быть терпеливы, как бы тяжело нам это ни давалось.
Лепид остался доволен своим визитом. Теперь нужно было выжидать, пока ненависть к Калигуле не охватит все больше народа. Противников у него скоро будет так много, что Сапожок окажется не в силах всех убить.
Корнелий Сабин быстро привык к службе, которая едва ли требовала участия души и состояла в основном из ряда четко расписанных действий. Он выслушивал доклады, обсуждал с легатом повышения и выполнял много других обязанностей. Временами в Эфес прибывали знатные римляне, которых трибуны должны были встречать и потом с десятком солдат сопровождать в город. Короче говоря, Сабин служил добросовестно. Самое главное — он был в Эфесе.
Свой первый свободный день Сабин посвятил осмотру города. Его сердце — внушительных размеров агора — состояла из верхней и нижней частей и располагалась как раз в самом центре долины. Дома разросшегося за последние десятилетия города карабкались вверх по склонам Пиона и Корессия вплоть до того места, где отвесная скала делала дальнейшую застройку невозможной.
Для торговцев всеми видами товаров Эфес был золотым дном. Сотни лавок выстроились плотными рядами в тени аркад между храмом и огромным амфитеатром. Тут могли разместиться больше двадцати тысяч человек, и в дни празднеств, посвященных богине Артемиде, как заметил с гордостью один житель Эфеса, здесь не оставалось ни одного свободного места.
После первого беглого осмотра Сабин отправился к Портовой улице, протянувшейся почти на полмили немного в сторону от театра. По обеим ее сторонам в самых дорогих и самых лучших торговых лавках выставлялось на продажу все, чего жаждала душа пресыщенной городской знати.
Но Сабину не было дела до разноцветных шелков, миниатюрной глиняной посуды, изделий из благородной древесины, украшений, ароматических масел и всего остального, что с каждым днем делает богатый город еще богаче.
В многочисленных лавках покупателям предлагались исключительно предметы религиозного поклонения и освященные дары. На прилавках лежали фигурки Артемиды, выполненные из дерева или глины, камня или золота, рядом стояли большие статуи богини, высеченные из мрамора или отлитые из бронзы. Сабин лишь мельком посмотрел на Артемиду, поскольку его влек порт.
О Елене и ее семье он знал лишь то, что ее отец судовладелец, а будущий муж — трижды проклятый Петрон! — из семьи кораблестроителей.
Сабин был в отчаянии из-за того, что тогда, в Эпидавре, ему не пришло в голову спросить имя отца Елены. С чего он должен был начинать? В Эфесе, вероятно, существовала тысяча Елен, и он не мог, в конце концов, ходить по пристани и спрашивать о судовладельце, дочь которого зовут Еленой. Значит, оставался только этот Петрон, за которым она была замужем, если, конечно, тогда сказала ему правду.
Поразмыслив, Сабин подошел к одному из кораблей и спросил о Петроне.
— Петрон? Такого не знаем. Но если тебе понадобится переправить…
Сабин быстро отошел и стал пробиваться сквозь толпу к южной стороне порта. Там как раз ремонтировали парусник. Несколько полуобнаженных рабов отскабливали нарост из ракушек и водорослей с киля, другие стучали молотками и что-то пилили на палубе. Сабин обратился к надсмотрщику.
— Прости, если мешаю работать, но я здесь впервые и хотел бы знать, сколько у вас всего площадок для ремонта и постройки кораблей.
Не отрывая глаз от работы, мужчина с бородой пробормотал:
— Здесь, в порту, две. Дальше вниз, вдоль канала, есть еще несколько.
— Есть ли среди их владельцев человек по имени Петрон?
Бородач отрицательно покачал головой.
«Я по-прежнему ничего не знаю, — подумал Сабин. — По-видимому, начинать надо было по-другому».
В следующий свободный день он надел самую лучшую свою тогу, заказал дорогие носилки и велел доставить себя к портовому управлению. Стоящему в дверях охраннику Сабин сунул монету и сказал что-то о необходимости поговорить с начальником.
— О ком мне доложить, господин?
— Тит Цестий из Рима. Хочу приобрести парусник.
Начальник тут же принял его и поднял в знак сожаления руки.
— Боюсь, ты зря сюда пришел. Я отвечаю за портовые налоги, слежу за погрузкой и разгрузкой судов, определяю места причала. Тебе лучше пойти на площадку, где строят корабли, и высказать свои пожелания там.
— Но я думал, ты сможешь порекомендовать мне хорошего кораблестроителя. Кто-то называл мне имя Петрона — или какое-то похожее.
— Петрон? В нашем городе нет владельцев площадок с таким именем. Может, ты неправильно понял?
Сабин поблагодарил и вышел. Через минуту ему в голову пришла спасительная мысль.
Он отправился в одну из таверн, где портовый люд и слоняющиеся без дела горожане сидели, ели, болтали или просто наблюдали за пестрой толпой, и обратился к хозяину.
— Мне нужен посыльный. Ты можешь порекомендовать кого-нибудь?
Тот оглядел свое заведение и крикнул:
— Клеон! Подойди сюда!
Высокий молодой человек не спеша встал и лениво направился к ним.
— У господина есть для тебя поручение.
— Ты хорошо знаешь эти места? — обратился Сабин к подошедшему.
Клеон ухмыльнулся:
— Я здесь родился и еще ни разу не уезжал из Эфеса.
— Хорошо, пойдем.
На улице Сабин спросил:
— Здесь есть платные писари?
Клеон кивнул и попросил господина следовать за ним.
Писари ожидали под небольшими деревянными навесами:
— Чем можем помочь, господин?
— Мне кусок пергамента.
Сабин написал пару первых пришедших на ум строк Катулла, сложил пергамент и велел писарю поставить восковую печать, а потом протянул Клеону.
— В порту есть две площадки для ремонта кораблей и вдоль по каналу еще несколько, да ты это и без меня знаешь. На одной из них — не знаю точно, на какой — есть некий Петрон. Хорошенько запомни имя: Петрон. Расспрашивай о нем так долго, пока не найдешь. Передашь ему это послание. Сколько стоят твои услуги?
Клеон плутовато улыбнулся.
— Это может занять много времени, особенно если мне придется искать на площадках вдоль канала. С пятью сестерциями тебе точно придется расстаться.
Сабин кивнул.
— Договорились. Я буду ждать в твоей таверне. Когда вернешься, получишь еще пять. И я хочу знать, где ты найдешь этого Петрона.
— Понятно, господин. Я уже побежал.
Сабин отправился обратно в таверну, заказал мяса и кружку вина. Мясо оказалось слишком острым, он с трудом съел пару кусков, а остальное бросил бродячей собаке. Та ловко поймала подачку, моментально проглотила и, виляя облезлым хвостом, принялась выпрашивать добавку.
«Тоже имеет право на свое маленькое счастье», — подумал Сабин и заказал еще порцию.
Против ожиданий, вино оказалось сносным, и трибун Корнелий Сабин так и сидел, потягивая его и подкармливая пса. Время тянулось мучительно медленно. Он заказал еще вина и принялся наблюдать за плотным рядом судов, мачты которых, будто исполняя танец, покачивались на набегающих волнах. Тут появился запыхавшийся Клеон и упал на лавку.
— Поручение выполнено! Твое письмо передано в нужные руки. А мне не помешала бы кружка вина.
Клеон потер указательный и большой пальцы друг о друга. Сабин протянул ему оговоренную плату.
— Ты щедрый, господин. Итак, если ты пойдешь вдоль канала, тебе сначала встретятся два больших хранилища, потом — низкое строение, где сушат и вялят рыбу, его можно сразу узнать по запаху. Прямо за ним ты увидишь маленькую площадку; там лежит почти готовая баржа. Хозяина зовут Полюбий, и, похоже, там же работает Петрон. Во всяком случае, твое письмо тут же взяли.
— Ты хорошо выполнил свою работу, Клеон, и сможешь заработать еще, если и дальше будешь таким же проворным. Я хотел бы кое-что выяснить об этом человеке, но все должно пройти незаметно. Сможешь?
Лицо Клеона расплылось в широкой улыбке.
— Я бы давно умер с голоду, если бы не выполнял доверенное мне точно и в срок. Ты можешь на меня положиться, но это дело не быстрое, мне понадобятся два или три дня, а то и больше. Что ты хочешь узнать об этом Петроне?
— Все… Нет, собственно говоря, меня интересуют две вещи: я хочу знать, где он живет и на ком женат.
Клеон поднес кружку к губам и сделал жадный глоток.
— Хорошо. Это можно сделать. Придешь сюда через три дня?
Сабин немного подумал.
— Да, но только вечером, за час до захода солнца.
— Это обойдется тебе еще в десять сестерциев.
— Договорились. Собственно, я не замышляю ничего плохого…
— Я не любопытен, господин. Для чего тебе все это надо знать — твое дело. Я добываю сведения, а ты платишь.
Сабин встал.
— Хорошо. Через три дня встретимся.
Когда Ливилла вспоминала то лето, оно казалось ей самым счастливым временем жизни! Она долго думала, должна ли отправиться в путешествие тайно, но, в конце концов, гордость не позволила ей этого. Ливилла сказала о том, что уезжает, брату и попросила дать ей парусник.
— Значит, ты решила навестить друзей в Бавли. Надеюсь, что с этими людьми все в порядке. Моей сестре нельзя забывать о достоинстве и чести.
— Как это делает Друзилла… — двусмысленно заметила она.
Калигула направил пристальный взгляд на
Ливиллу.
— Что ты имеешь в виду?
— Не знаю, делает ли ей честь то, что она делит ложе со своим братом.
Калигула оставался на удивление спокойным:
— Ты не понимаешь. Вы все не понимаете. Наша связь — это желание богов. Она моя супруга и одновременно сестра, это священная форма брачного союза. Правители Египта следовали ей веками.
— Ты не фараон, а римский император. Но нам с тобой ссориться ни к чему. Меня это не касается. Так я получу парусник?
— Можешь взять один, а если хочешь — целый флот. Сестры императора должны путешествовать по-императорски.
— Одного достаточно, Калигула, спасибо.
Теплым летним днем Ливилла поднялась на борт. Проплыв мимо Антия, она остановилась в Анксуре, чтобы провести ночь. Древний город превратился в место летнего отдыха благородных особ, правда, не такое блистательное, как Байи или Бавли, но сюда было удобно добираться из Рима. На следующий день, обогнув мыс Мизений, где стояла часть римского флота, сестра императора добралась до маленькой гавани Бавли. Префект хотел сообщить о прибытии высокой гостьи, чтобы ей готовили достойный прием, но она отказалась.
— Нет! Я не хочу никакого шума и никакой торжественности. В Байи меня ждут друзья, и все должно пройти тихо.
В сопровождении двух служанок Ливилла прямо в гавани села на носилки и распорядилась доставить ее на виллу Серения. Дом был достаточно старым и к нему примыкал огромный сад. По обеим сторонам участок земли окаймляли ручьи, а заканчивался он в бухте, окруженной высокими скалами.
Сенека светился от счастья.
— Калигула отпустил тебя из-под своей опеки? Как долго ты сможешь здесь оставаться?
— Сколько захочу.
Она оглянулась по сторонам.
— Никогда не думала, что в переполненном людьми Байи можно найти такие уютные уединенные места.
— Серений любит эту виллу; здесь прошло почти все его детство.
— Могу понять, — сказала Ливилла. — Мы должны быть ему благодарны за позволение пожить здесь.
— Мы совсем одни, любовь моя. Немногочисленная прислуга нам не помешает. Из осторожности я привез врача, чтобы он дежурил у моей постели, в случае если нагрянут преторианцы. Его зовут Евсебий, и он тоже не будет нам помехой.
Сенека взял ее за руку:
— Пойдем, я кое-что покажу тебе.
Они спустились по окаймленной кипарисами и рододендронами извилистой тропе к бухте, а потом по мраморным ступеням к небольшому бассейну, где узкий ручеек, стекая со скал, впадал с тихим журчанием в море. Хозяева расширили природный бассейн и построили в скале грот, в нишах которого стояли мраморные фигуры сирен и нимф.
— Вода стекает с гор. Она просто ледяная, но прекрасно подходит для того, чтобы смыть соль после морских купаний. Ты умеешь плавать?
Ливилла рассмеялась.
— Еще как! Отец научил всех детей, а после его смерти мать следила за тем, чтобы мы регулярно плавали — и девочки тоже. Я с трех лет в воде и плаваю, как нереида!
— Сейчас посмотрим! — крикнул Сенека. — Поплыли наперегонки!
— Я думала, что ты смертельно болен…
Сенека засмеялся.
— Врач прописал мне регулярные морские ванны.
Он повел ее к маленькому пляжу, огороженному темными скалами. Держа друг друга за руки, они остановились. Тишину, пронизанную послеполуденным солнцем, прерывали только дыхание моря и далекий стрекот цикад.
— Если бы сейчас нимфы спустились к нам из своих ниш, я бы нисколько не удивилась, — тихо сказала Ливилла.
Сенека посмотрел на нее с изумлением.
— Как раз об этом я и думал. Во всяком случае, здесь сразу забываешь, что Рим вообще существует.
— Я уже забыла, — сказала Ливилла и разделась. — Поплывем в море?
— Нет, — ответил Сенека. — Я должен сначала тебя хорошенько рассмотреть. Теперь понимаю, почему нимфы остались стоять на своих местах. Они побоялись, что не смогут соперничать с твоей красотой.
Ливилла засмеялась.
— Ты хорошо знаешь, что хочет слышать женщина. Но нимфа могла бы и выиграть спор.
— Никогда, если бы я был судьей.
Сенека тоже разделся и притянул Ливиллу к себе.
— Я до сих пор не могу поверить, что держу тебя в объятиях, что мы можем быть вместе, в то время как Калигула, наверное, плетет в Риме свою смертоносную паутину. Он ненавидит счастливых людей…
Ливилла закрыла ему рот.
— Ни слова о Калигуле! Я бы хотела услышать сейчас его имя в последний раз. Он не заслуживает упоминания в таком прекрасном месте.
— Ты права, — согласился поэт и приник к устам Ливиллы долгим поцелуем.
Почувствовав сильное возбуждение, он уложил возлюбленную на теплый песок, и та была готова его принять. Они любили друг друга в маленькой бухте, а море своими волнами, как руками, нежно поглаживало их ноги.
Потом они долго плавали, и Ливилла действительно оказалась гораздо проворнее. Она так глубоко ныряла, будто принадлежала к свите самого Нептуна, бороздящего море с тритонами и нереидами. После купания они с криками окунулись в ледяную воду, обрызгивая друг друга, и снова выбежали на берег.
Ливилла встряхнула распущенными волосами, облепившими ее грудь и плечи. Взяв полотенце, Сенека насухо вытер ее тело, не забыв покрыть нежными легкими поцелуями плечи и затылок. Стоя сзади, он обхватил руками ее груди.
— Они как раз созданы для моих рук, подходят, будто сделаны на заказ.
— Как и должно быть у мужчины и женщины. Пока двое любят друг друга, каждый — лишь половина общего тела. Моя грудь жаждет твоих рук, мой рот — твоего поцелуя, а лоно — твоего фаллоса. Мы соединяемся и становимся одним телом — как было задумано богами.
— Ты ставишь под сомнение мое звание поэта, — улыбнулся Сенека. — Мне остается добавить к твоим словам, что я, соединяясь с тобой, сам себя чувствую богом. Этот подарок нам прислали с Олимпа, чтобы мы хоть на миг испытали божественное наслаждение. Но боги завистливы, они ограничили это чувство всего несколькими мгновениями.
Ливилла натянула тунику.
— И это говоришь ты, который не верит ни в каких богов!
— Я верю в божественное, не спрашивая, откуда оно приходит. А теперь пойдем в дом, сядем на террасе и встретим заход солнца соррентийским вином.
17
Клавдий Цезарь, дядя императора, знал, как нелегко ему будет сохранить свою жизнь во время правления племянника. Он старался находиться подальше от Рима, насколько это было возможно, и работал в своем загородном имении над многотомным историческим трудом.
И все же он являлся членом правящей династии, а это предусматривало выполнение определенных обязанностей. Клавдий был членом коллегии жрецов Августа и занимал ряд других почетных должностей.
Сразу после своего вступления на трон Калигула назначил его консулом, но сделал это не в знак уважения к дяде, а чтобы позлить сенаторов. Однако Клавдий правильно оценил опасность своего положения и старался изо всех сил производить и дальше впечатление далекого от мира рассеянного ученого. Он, который держал в памяти материал целых библиотек, делал вид, будто ничего не может запомнить, путал имена и события, разыгрывая в обществе Калигулы глупца, как от него и ожидали. Поскольку племянник постоянно отпускал в его адрес злорадные шутки, остальные, подыгрывая ему, тоже не проявляли по отношению к старику ни капли уважения.
Если становилось известно, что Клавдий приглашен к императорскому столу, все радовались в ожидании его появления: ведь присутствие заикающегося человека, лицо которого временами искажалось от нервного тика, обещало возможность повеселиться особым образом. По рассеянности — или он делал это нарочно? — Клавдий всегда появлялся последним, и все получали несказанное удовольствие наблюдать, как он, прихрамывая, обходит зал в поисках свободного места. Поскольку Клавдий работал допоздна, к полудню его одолевала усталость, и он часто засыпал за обедом. Тогда дворцовые весельчаки использовали его в качестве мишени для стрельбы косточками фиников и оливок. Когда же тот просыпался, делали невинные лица, и Калигула, бывало, спрашивал:
— Ну, дорогой дядя, какие ты видел сны? Может быть, о приключениях твоей супруги Плавтии? Ты и правда единственный, кто не знает о ее похождениях? Но мужья вечно узнают обо всем последними.
За столом раздавались взрывы смеха, и кто-то выкрикивал:
— Ну вот и он наконец тоже узнал!
Клавдий делал вид, что плохо слышит, и никогда не поддавался на эти уловки. Если его не желали оставить в покое, отвечал так, будто все воспринял как шутку или плохо понял сказанное. О неверности своей жены Клавдий давно знал, но это его не заботило.
Под маской глупца скрывался умный и проницательный наблюдатель, и от него не ускользнуло то, что популярность Калигулы в народе — особенно у знати — постепенно падала. У самого же Клавдия были друзья, которые воспринимали его вполне серьезно, сознавая, что тот лишь играет навязанную ему роль. Из их высказываний и намеков ученый сделал вывод, что правление Калигулы не будет долгим и надежды многих связаны с ним, Клавдием Цезарем. Но он был достаточно умен, чтобы не слышать подобных речей. Лицо его еще сильнее начинало подергиваться, а из бессвязных слов не было ясно, понят ли им намек.
Так стремление к самосохранению заставило Клавдия вести двойную жизнь: одну — глупца и заики, обделенного рассудком и слухом, и другую — ученого, изучающего в огромной загородной библиотеке историю народов, который никогда не заикался, когда беседовал с друзьями об интересующих его предметах или отдавал приказы их слугам.
Большую часть времени Калигула проводил в своем дворце. Лишь изредка он выходил на улицу переодетым, опасаясь быть узнанным и пасть жертвой вспыхивающего то тут то там народного недовольства. Но страх этот был безосновательным: растущей враждебности в высших кругах противостояла его по-прежнему большая популярность среди плебеев. Простолюдины быстро прощали ему «шутки», поскольку император давал им главное — хлеб и зрелища.
Однако в эти дни его вдруг одолело желание выйти на улицу переодетым, чтобы тайно принять участие в празднике бога Вулкана. Начиналось это народное торжество соревнованием по ловле рыбы на Тибре, а заканчивалось рыбным пиром, к которому по традиции император жертвовал вино.
Калигула уже потому хотел присутствовать на этом празднике, что его вклад в застолье был, как обычно, связан с «шуткой». Он распорядился среди бочек с хорошим вином доставить и такие, которые были бы наполнены уксусом или тухлой водой. Переодевшись со своими преторианцами в простых римлян, он со злорадством наблюдал, как, пробуя вино, многие морщились, выплевывали пойло, сопровождая это непристойной руганью. Тут и там вспыхивали драки, потому что более удачливые упрекали тех, кому не повезло, в неумении оценить отличное императорское вино.
— И ты называешь это вином? Или нас провел император, или его смотритель погребов. Это уксус!
Другой же не соглашался:
— Вам никто не угодит! Я, во всяком случае, был бы рад, если мог бы позволить себе пить такое вино каждый день.
— Тогда попробуй! — отвечал первый, выплеснув содержимое кружки в лицо собеседника.
И вот уже, к радости Калигулы, завязывалась потасовка.
На пути к Палатинскому холму внимание Калигулы привлекли уличные артисты, разыгрывающие представление. Тут были Макк, дурачок, Букко, хвастун и болтун, и Поссений, обманщик и вор. Букко, переодетый императором, в ярко-желтом плаще и с золотым лавровым венком на голове, громко распевал:
Я Цезарь, я такой один
По прозвищу Сапог,
Народам всем я господин,
Отец, судья и бог.
Моя сестренка — мне под стать,
Богиня по крови,
Всегда готовая мне дать
Божественной любви.
Так стань моею ты сейчас!
А там наступит срок:
Дитя появится у нас,
У римлян — новый бог!
Калигула рассмеялся, зааплодировал и послал одного из преторианцев наградить исполнителей.
— Узнай, кто написал эту песенку, — велел ему император.
Солдат вернулся назад и сообщил:
— Он сам ее придумал.
— Схватить и в застенок! — приказал Калигула.
Император долго раздумывал, как ответить на забавную песенку, и наконец нашел, по его мнению, блестящее решение. Часть театральных представлений состояла из греческих мифов и легенд, и, чтобы сделать их как можно более похожими на действительность, Калигула приказал не разыгрывать кровавые сцены, а предложить публике кое-что получше. Например, в легенде об Актеоне, тайно наблюдавшем за купающейся Артемидой, которого она в наказание превратила в оленя и которого потом разорвали на части собаки, актер должен был изображать несчастного лишь до критического момента. В заключительной сцене спектакля на подмостки выпустили одного из приговоренных к смерти, переодетого оленем, и на глазах у ревущих от восторга зрителей несчастного загрызла свора голодных собак.
Калигула велел сообщить автору веселых стихов, услышанных им на площади, что он удостоен чести играть Геракла в последнем акте следующей пьесы. Тот немного подумал и с ужасом понял, какая смерть его ожидает.
Итак, во время следующих театральных представлений зрителям были обещаны сцены о подвигах Геракла. Пришлось поломать голову, чтобы привнести жизнь в разыгрываемые сюжеты. Немейский лев был пусть старый и беззубый, но настоящий; гидру тоже изображала настоящая змея, а критский бык своими внушительными размерами и диким норовом вызвал восторг и аплодисменты публики.
Успешно выполнив все двенадцать поручений, Геракл готовился принести благодарственную жертву. Однако его супругу мучала ревность к прекрасной Иоле, и она посылала мужу пропитанный легко воспламеняющейся кровью кентавра плащ. В этой одежде Геракл должен был совершить жертвоприношение, но, как только надел ее, сгорел в муках.
Этот последний акт и было суждено сыграть горе-поэту. Ему пришлось надеть пропитанную маслом накидку, после чего он был подожжен. Объятый пламенем, несчастный принялся метаться, упал, извиваясь и корчась, снова вскочил, со стонами бежал по песку, пока наконец не рухнул замертво. Ему, во всяком случае, не было суждено, как Гераклу, в награду стать богом и переселиться на олимп. Его обугленный труп под насмешливые крики толпы выволокли с арены.
Калигула громко смеялся и похвалил артиста:
— Последний подвиг удался ему особенно хорошо. Жаль, что его нельзя повторить.
Публика бурно аплодировала представлению. Среди восторженных выкриков были слышны возгласы, прославляющие Калигулу. Плебеи гордились своим императором, так глубоко понимающим искусство и любящим театр.
Корнелий Сабин вовремя пришел на условленное место для встречи Клеоном. Тот уже сидел за столом, поднял кружку и сказал:
— Позволил себе выпить за твое здоровье. Закажи себе вина, и ты сможешь…
— Прекрати! — нетерпеливо перебил Сабин. — Твоя работа состоит не в том, чтобы ты напивался за мой счет, а в добыче новых сведений.
Клеон растянул губы усмешке:
— Работа закончена, господин, поэтому я могу промочить горло. Только обещанным дело не обойдется — самому пришлось платить за услуги…
— Я возмещу твои расходы, а сейчас рассказывай!
Клеон отодвинул кружку:
— Хорошо, господин. Итак, к делу! Поскольку люди на той площадке меня уже видели, я не хотел возбуждать любопытства и взялся за проблему с другой стороны. Расспросив кое-кого, я выяснил имена десятников; они оба свободные люди, а остальную работу выполняют рабы. У старшего есть семья, и он все вечера пропадает дома, а тот, что помоложе, холост и почти каждый день ужинает там же, на пристани. То, что я рассказываю тебе в двух словах, заняло у меня два дня расспросов и розысков.
Вчера я подсел за стол молодого десятника — его зовут Бойда — и завел с ним разговор. Я прикинулся щедрым, сказал, что выиграл в кости, пригласил его выпить со мной кружку самого лучшего вина. Это было недешево, господин, можешь мне поверить. Я проявил интерес к его работе, стал спрашивать о тонкостях, а потом, как бы между прочим, спросил, нет ли у Полюбия сына по имени Петрон, который должен унаследовать его дело. «Есть, — сказал Бойда, — но он ни на что не годится, увиливает от работы и доставляет старику много забот». — «Тогда его надо женить, — предложил я. — Когда он почувствует ответственность за семью, исправится». — «Да он уже женат! — Бойда стукнул кулаком по столу. — Но с парнем что-то неладно. Елена, его жена, однажды прибежала к Полюбию заплаканная и, похоже, жаловалась на Петрона». — Что ты на это скажешь, господин? Петрон и Елена — это имена, которые ты и хотел знать. Если я посчитаю все вместе…
— Подожди! — остановил его Сабин. — Ты забыл самое главное. Я должен знать, где находится дом этого Петрона.
Клеон смутился.
— Видишь ли, этого Бойда точно не знает, да я и не мог спросить напрямую. Только помню, что он сказал «неподалеку от Акрополя», а больше я ничего не мог из него вытянуть. Тебе еще нужна моя помощь?
Сабин подумал: «Почему бы и нет? Мне самому лучше пока там не показываться».
Клеону он сказал следующее:
— Я напишу письмо, но ты должен передать его только Елене. Когда найдешь ее дом, настаивай на том, чтобы она сама приняла у тебя послание.
— А если ее муж будет дома? Как мне выкручиваться?
— Сделай просто: сначала спроси Петрона, а если слуга скажет, что господин дома, извинись и быстро исчезни. Думаю, все получится. Или ты чего-то опасаешься?
— Рискованно. Может быть, они бросятся за мной и поймают, как какого-нибудь уличного вора.
Сабин прищурился:
— Догадываюсь, что ты справлялся с ситуациями и посложнее. Сколько я тебе должен?
— Двадцать сестерциев возместили бы мои расходы, если еще…
— Хорошо, двадцать.
Сабин выложил на стол деньги.
— Еще десять сестерциев — и не больше! — я предлагаю тебе за следующее поручение. Петрон ведь должен работать на площадке отца, не так ли? Во всяком случае, днем он вряд ли будет сидеть дома. Ты должен появиться после полудня, и, уверен, не будет никаких осложнений.
— Хорошо. Ты был щедрым, господин, и я отвечу тем же. Если мне и придется кому-нибудь платить, это мое дело. Я берусь выполнить эту работу за десять сестерциев.
Сабин хлопнул Клеона по плечу:
— Ты хитер. Но я должен признать, что до сих пор ты был достаточно ловким, чтобы я мог доверять тебе и дальше. Не сомневаюсь, что ты передашь письмо в нужные руки. Да, тебе придется дождаться ответа — письменного или на словах.
— Еще и это! — воскликнул Клеон с наигранным отчаянием.
Сабин достал чернила, налил в них немного воды, перемешал пером из тростника и написал на кусочке пергамента следующие строки:
«Приветствую и желаю здоровья Елене, жене Петрона.
Старый друг сейчас в Эфесе и хотел бы тебя видеть. Сообщи, где и когда это возможно. Я часто вспоминаю дни, проведенные в Эпидавре. КС.»
Римлянин сложил письмо несколько раз, перевязал его, капнул немного воска и запечатал своим перстнем.
— Пусть Гермес поможет тебе и защитит!
Клеон отмахнулся:
— Только на богов нельзя полагаться. Я надеюсь на себя, но благодарю тебя за доброе пожелание. Когда мы встретимся снова?
— Через четыре дня, в этот же час?
— Хорошо. Но может случиться, что мне понадобится больше времени.
Выпив еще вина, он исчез.
Новости радовали Сабина. Разве не сказал десятник, что Петрон ни на что не годится? Но за этим может скрываться и другое. А что, если оба так влюблены друг в друга, что Петрон увиливает от работы, чтобы подольше побыть с женой? Елена могла прибежать с заплаканными глазами и по другой причине. Оставалось только ждать ее ответа. Если такового не последует или она передаст что-то неопределенное, придется, пожалуй, оставить ее в покое. Если же будет готова встретиться… Сабин не осмелился додумать до конца, но знал уже сейчас, что не отступится, даже если они счастливо женаты, — никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось.
А лучше всего было бы, если бы на голову этого Петрона свалилась мачта. Тогда Елена оказалась бы свободной и могла бы с ним, Сабином, начать новую жизнь. Едва эта мысль родилась, Сабин тут же устыдился и постарался от нее избавиться. «Но это было бы прекрасным решением», — шептал ему внутренний голос.
— Нет! — твердо сказал он. — Должен быть и другой путь.
Калигула обожал лошадей, во всяком случае, он так утверждал. Иногда император неделями и не вспоминал о гонках на колесницах, но потом его одолевала такая сильная страсть, что он дни напролет проводил на ипподроме и даже спал в доме «зеленых». Этой партии принадлежала любовь императора, в то время как «голубым», «белым» и «красным» досталась его ревностная ненависть.
Он считал недостойным императорской чести самому принимать участие в гонках, но иногда, чтобы доставить себе удовольствие, мог промчаться с сумасшедшей скоростью по арене, управляя четверкой лошадей.
Своему любимому скакуну по кличке Инцитат он построил мраморную конюшню с яслями из слоновой кости и черного дерева. Однажды при свидетелях он заметил своему толстому секретарю Каллисту:
— Прежде чем назначить моего недоумка Клавдия еще раз консулом, я передам эту должность Инцитату. Почему бы и нет? У него гораздо больше мозгов, чем у моего дяди или у целого сената.
«Назначь его своим наследником, — подумал Каллист. — Тогда по крайней мере после твоей смерти многим не придется больше трястись за свою жизнь». Он сам пока еще не трясся, но чувство тревоги усиливалось тем больше, чем чаще император намекал на его богатство.
— Я становлюсь все беднее, потому что отдаю своему народу последнее, чтобы развлекать и кормить его. А что касается тебя, Каллист, слышал об удачной продаже поместья задолжавшего Туллия. Ты, кажется, получил несколько десятков тысяч сестерциев. Скоро мой секретарь станет богаче, чем я… Можно я тогда займу у тебя денег?
Такие речи были не по душе секретарю, и он уже позаботился о том, чтобы перевести накопленное на имя одного дальнего родственника — на всякий случай. Кто знает этого Калигулу…
В распоряжении же самого императора, казалось, находились неистощимые богатства. За два дня до запланированной поездки на Бавли он организовал торжественный прием в честь возничего Евтюхия. Были приглашены все поклонники «зеленых», а те, в свою очередь, могли привести с собой своих друзей и родственников.
Так императорский зал для приемов наводнили несколько сотен человек, онемевших от увиденной роскоши. В основном здесь собрались простые, грубоватые люди, которые неплохо разбирались в породистых лошадях и гонках, а в остальном были совершенно несведущи. Едой им служили в основном хлеб, фрукты да овощи, а жаркое или рыба украшали их стол только по праздникам. Теперь же перед ними выставили огромное количество невиданных блюд, названий которых они не слышали, кроме того, большинству они не пришлись по вкусу.
Калигула с явным удовольствием наблюдал за своими гостями, которые мучились с непонятными творениями поваров.
Он почти забыл про еду, так забавляли его все эти люди. Но как только император заметил, что многие жуют один хлеб и запивают вином, он послал по кругу распорядителя со строгим замечанием о том, что ему будет нанесено личное оскорбление, если угощение останется на столе.
И гостям поневоле пришлось съесть фаршированных имбирем кроликов, рагу из фазаньих и павлиньих мозгов, соловьиные язычки в желе. Когда же на серебряном подносе внесли блюдо, как две капли воды напоминающее настоящую русалку с милым личиком, обнаженной грудью и рыбьим хвостом, чудо-изделие искусных поваров приветствовали испуганным шепотом.
Калигула удовлетворенно кивнул.
— Удавшаяся трапеза! Я дал этим бедным рабам лошадей возможность хотя бы раз отобедать по-императорски.
Евтюхий, возничий, рассмеялся. Он был любимцем Калигулы и мог себе позволить некоторые вольности.
— Боюсь, что они не сумеют по достоинству оценить щедрость императора и большую часть съеденного оставят за дверями, в переулке.
Калигула пожал плечами.
— Тогда кое-что перепадет собакам. Ты на все лето останешься в Риме, Евтюхий?
Жилистый загорелый возница ухмыльнулся.
— Где же еще? Как бедный человек может заработать на загородный дом? Я хочу подготовить лошадей к осенним гонкам. Тебе не придется краснеть за «зеленых», император.
— Ты всегда старался исполнять свое дело как можно лучше, мой друг. Но и тебе нужен отдых. Я подарю тебе виллу на Албанских холмах. Дорога до Рима оттуда занимает не больше часа.
Евтюхий упал на колени и поцеловал руку своего благодетеля.
— Благодарю, император. Платой за твой подарок будет мое удвоенное усердие.
Казначей получил указание передать во владение возничего Евтюхия одно из земельных владений императора. Вместе с полями, лесами, рабами и скотом стоимость его составляла миллион сестерциев.
Императорский двор был уже несколько дней занят подготовкой к отъезду в Бавли, когда вдруг заболела Друзилла. Они с Калигулой провели целый день на Немейском озере, где состоялось торжество по поводу окончания строительства одного из двух роскошных императорских кораблей.
На обратном пути на Друзиллу неожиданно напал озноб. Ее зубы стучали, тело тряслось в лихорадке, а влажные глаза блестели.
Врачи решили, что надо подождать, пока болезнь проявится, но сестру императора по-прежнему мучила только лихорадка, которая то на несколько часов подряд сковывала ее леденящим холодом, то снова бросала в такой жар, что та откидывала одеяло и громко звала на помощь:
— Я горю! Помогите же мне! Не могу дышать — я горю!
Калигула был в отчаянии. В его холодных глазах поселился панический страх, а безграничный гнев на свою беспомощность не давал ему покоя. Он велел приводить все новых врачей, которым то грозил смертью и пытками, то обещал огромные деньги и земельные владения. Врачи делали все, чтобы обуздать лихорадку. Они оборачивали пылающее жаром тело Друзиллы прохладными простынями, а когда начинался озноб — теплыми одеялами. Лекари переворошили горы книг в поисках новых жаропонижающих средств, но Друзиллу от них рвало. Ее организм ничего не принимал, кроме воды, которую она жадно пила в перерывах между приступами. Они длились иногда по часу, а когда заканчивались, казалось, что болезнь отступила. Тело становилось расслабленным, и Друзилла говорила ровным, пусть все более слабым голосом.
Калигула сидел у ее ложа, держал за прохладную сухую руку и не мог поверить, что Друзилла, единственный человек, которого он любил, смертельно больна.
— Я умру? — спросила она во время очередной обманчивой передышки.
Калигула отчаянно помотал головой.
— Нет, любимая! Я не позволю! Боги не могут этого допустить! Лихорадка продержится еще несколько дней, потом станет слабее, и болезнь закончится долгим целительным сном. Так мне объяснили врачи, и я не вижу причин сомневаться в этом.
Друзилла попыталась улыбнуться, но у нее получилась только беспомощная гримаса — так она ослабела.
— Даже если я умру, буду рядом с тобой. Я Луна, ночная богиня. Я буду охранять тебя ночью, пока мы снова не встретимся на Олимпе, чтобы вместе с богами веселиться на вечном празднике, который не омрачают ни болезни, ни опасности, ни смерть. Ты только потерпи, мой любимый.
— Нет, — в отчаянии сказал Калигула. — Я хочу быть с тобой не на Олимпе, а здесь. Мы еще молоды, Друзилла, у нас впереди целая жизнь. Я запрещаю тебе покидать меня — просто запрещаю!
Друзилла закрыла глаза. Она оставила борьбу, хотела только спать, спать, спать. Тело ее было измотано приступами жара и холода. Даже камень рассыпается, если его много раз раскалять, а потом обливать холодной водой.
— Полежи со мной рядом, Калигула, пока я не усну.
Он скользнул к ней под одеяло и нежно положил руку на исхудавшее тело. «Если я буду ее держать, — думал он с тоской, — она останется здесь. Моя божественная воля удержит ее на земле. Я просто должен следить, чтобы она не ускользнула».
Калигула понимал, что в этой борьбе он слабее, ведь там наверху, среди звезд, сидел на троне другой брат-близнец, бородатый громовержец, и он мог оказаться победителем. Чтобы умилостивить богов, император велел принести в жертву целые стада быков, баранов и коз. Днем и ночью дымились жертвенные костры; летний Рим накрыло, как колпаком, плотным темным облаком, и повсюду распространился запах паленого мяса. Перед собранием жрецов Калигула дал обет снести после выздоровления Друзиллы храм Асклепия на Тибрском острове и построить новый в три раза больше.
Ничего не помогло, брат-близнец на Олимпе одержал победу. На рассвете седьмого дня Друзилла не проснулась. Император велел поставить рядом с ее постелью кровать для себя и все ночь прислушивался к ее тяжелому дыханию. Когда оно стало спокойнее и ровнее, заснул и Калигула. Через час его разбудили.
— Друзилла отправилась к богам, — сообщил молодой врач дрожащим от страха голосом.
Калигула подскочил, как от удара. Он бросился к ее постели и увидел сестру, будто в глубоком сне. Тень загадочной улыбки лежала на ее губах. Он погладил Друзиллу по щеке.
— Но она теплая, — сказал Калигула.
— Да, император. Твоя сестра умерла несколько минут назад.
— Оставь нас.
Облегченно вздохнув, врач удалился. Калигула долго рассматривал свою сестру и возлюбленную. Он откинул одеяло, и теперь перед ним лежало ее обнаженное тело, все еще очень красивое, все еще такое притягательное. Калигула легонько погладил ее грудь, живот, прохладное бедро и сказал:
— Такой тихой ты никогда не была, любимая.
Император опустился на колени и принялся покрывать нагое тело поцелуями, не пропуская ни единого места. Когда он склонился к лицу сестры, которое уже казалось восковым, страшная правда с такой силой навалилась на него, что он с плачем упала на мертвое тело, заливая его слезами, и рыдал так громко, что стоящий возле дверей солдат тихонько заглянул в покои. Увидев, что здесь происходит, он тут же скрылся.
Это были первые слезы, которые пролились из глаз Калигулы с тех пор, как он надел тогу вирилия, и до его смерти им суждено было оставаться последними.
На следующее утро Рим оповестили о смерти «божественной Юлии Друзиллы» и связанных с ней приказах императора.
— Все лавки с этого часа должны быть закрыты. Запрещено смеяться, устраивать свадьбы и другие торжества. Термы закрываются, в храмах в следующие три дня разрешается приносить жертвы только душам предков Друзиллы.
Будто преследуемый фуриями, бегал Калигула по дворцу, отдавал приказы, потом отменял их, а затем снова приказывал. Он созвал врачебный консилиум.
— Я хочу сохранить тело Друзиллы. Мне будет тяжело отдавать это божественное создание на растерзание пламени. Поэтому я решил забальзамировать ее, как это делали в Египте.
Врачи в страхе переглянулись. На протяжении столетий в Риме предавали тела умерших огню, и никто больше не владел искусством бальзамирования.
Один из врачей откашлялся и смущенно произнес:
— Император, знания о бальзамировании утеряны, в том числе в Египте. И насколько я знаю, к этому надо было приступать сразу, как только Юлия Друзилла скончалась. Теперь потеряно слишком много времени…
Калигула глубоко задумался, а потом сказал:
— Собственно, уже все равно. Значит, она должна быть сожжена. Я не стану принимать в этом участия, не могу, не могу…
В течение следующих дней Калигула ничего не ел, лишь пил неразбавленное вино и начинал делать это уже ранним утром. Император пил долго, пока не падал, засыпая на несколько часов, и снова принимался пить. Ночью охрана часто видела его блуждающим по залам огромного дворца, слышала, как тот разговаривал с какими-то невидимыми существами, которые сопровождали его или которых он встречал. Преторианцев охватывал ужас, когда Калигула в своих ярких, расписанных восточными узорами одеждах бродил по ночам и, как это теперь часто случалось, подолгу разговаривал с установленными в нишах статуями богов.
При сожжении Друзиллы он отказался присутствовать, и стоило Каллисту спросить, когда должна состояться траурная церемония, как Калигулу начинало трясти, будто в приступе лихорадки.
— Траурная церемония? Да, я хочу для Друзиллы подобающего торжества со всеми почестями, как положено моей божественной сестре. Она была больше, она была больше… Я уеду из Рима, императорский дом будут представлять или Агриппина, или Ливилла.
— Ливиллы сейчас нет в Риме…
— Да-да, я знаю. Как только ее муж уехал в Азию, она занялась этим своим любовником — без стыда. Я должен буду… Но все по очереди. Агриппина как старшая больше подходит; пусть она и возглавит процессию. Эмилий Лепид скажет траурную речь, с ним я уже все обговорил. Я же уезжаю, и, возможно, уже завтра.
После смерти Друзиллы неподвижные глаза Калигулы стали бегающими и ни на чем не задерживались. Он, который раньше мог пригвоздить человека взглядом так, что того прошибал пот от страха, теперь, казалось, смотрел сквозь других или мимо них.
— Я обо всем позабочусь, — заверил Каллист.
Император, наморщив лоб, погрузился в раздумья. Через некоторое время он сказал:
— Каллист, я бы хотел сейчас услышать твое личное мнение. Ты не должен стараться быть вежливым и угодить мне. Отвечай не как секретарь, а как обычный человек. Почему, я спрашиваю тебя, почему боги так поступили со мной? Почему они забрали у меня Друзиллу? Ведь это случилось не без причины. Я не думаю, чтобы это было просто капризом. О да, я спрашивал их в долгих ночных беседах, но они уходят от ответа… Что ты думаешь об этом, друг мой?
Каллист торжественно поднял руки.
— Ты спрашиваешь меня, бывшего раба? Если ты, тот, который ближе к богам, чем любой земной человек, если ты не получил ясного ответа…
— Ты неправильно понял меня, Каллист, — остановил его Калигула, сохраняя не свойственное ему терпение. — Я не требую, чтобы ты проник в круг богов — тебе это и не пристало, а просто хочу услышать твое мнение как человека.
— Тогда, император, я думаю следующее. Боги были настолько очарованы Друзиллой, что решили забрать ее себе. Так часто бывает: любимцы богов умирают молодыми. Может быть, они хотят избавить их от мучений старения, от всех тех страданий, которые выпадают на долю людей в течение жизни. Это следует и из того, как она умерла — после короткой болезни, без боли. Друзилла просто уснула. Я сказал «болезни»? Но врачи не выявили ничего, что указывало бы на обычную болезнь. Мне это кажется очень странным.
Калигула слушал, опустив голову.
— Ты умный человек, Каллист. Думаю, что ты очень близок к истине, очень.
Спустя два дня император отправился на Немейское озеро, недалеко от которого в прошлом году построил себе великолепную виллу. Но там он пробыл недолго: горе не давало успокоиться и гнало его дальше — в Антиум, Астуру и Путеоли. Девять дней провел он в Неаполисе, а дальше дорога привела Калигулу в Сиракузы. Он этот древний город любил. По его приказу полуразрушенные храмы снова отстроили, восстановили греческий театр и городские стены.
Перед народом предстал совсем другой Калигула; после смерти Друзиллы он не брил бороду и не стриг волосы в знак скорби, которую на этот раз ему не приходилось разыгрывать. Боль утраты любимой сестры была его спутницей во время всего путешествия, не проходило и часа, чтобы он о ней не думал. Одна картина особенно настойчиво являлась Гаю Цезарю: это был момент, когда прекрасное тело Друзиллы лежало на костре, и языки пламени ласково поглаживали его, чтобы потом заглотить в свое огненное чрево и превратить в пепел.
Когда это происходило на самом деле, император был, далеко от Рима. Траурную процессию возглавляли Клавдий Цезарь и Агриппина. В первых рядах шествовал Эмилий Лепид, «муж» Друзиллы, которому теперь приходилось играть роль убитого горем вдовца.
Уже несколько недель он был любовником Агриппины, но этих двух людей свели не симпатия или страсть, а тщеславие, ненависть и общая цель. Они оба считали, что Калигуле нужно умереть, а целью Агриппины был императорский трон и утверждение наследником ее сына Нерона. План выглядел, конечно, дерзким, но вполне осуществимым. Клавдий, слабоумный старик, для этого никак не годился, Ливилла и ее нелюбимый супруг сразу исключались, а значит, оставалась Агриппина, старшая дочь Германика, переполненная жгучей ненавистью, гордая и властная, как и ее мать. Поскольку она сама не могла стать преемницей брата, ей нужен был мужчина из достойной семьи. Эмилий Лепид подходил на эту роль как нельзя лучше. Он считался другом Калигулы и в качестве супруга Друзиллы уже принадлежал к императорскому дому. Да, перспективы осуществления плана у них были отличные, но при условии, что удастся переманить на свою сторону значительную часть армии, ведь только таким путем Лепид мог бы после смерти Калигулы получить ВЛАСТЬ.
При первой же встрече с Агриппиной после траурного торжества он посвятил ее в свои планы:
— Смерть Друзиллы может принести нам и выгоду, и опасность. Теперь Калигула обратит свое внимание на других женщин, на одной из них женится и может стать отцом. Тогда нам придется устранить не только его, но целую семью, а это дурное начало. Значит, необходимо действовать быстро. Сначала нам понадобится поддержка в армии, и для этого, я думаю, есть подходящий человек: Лентулий Гетулик, легат в верхнегерманских землях. Это четыре легиона! И что важно: они окажутся в Риме быстрее, чем солдаты из других провинций. Прежде чем в Сирии, Азии или Африке узнают, что вообще произошло, власть будет в наших руках. Солдаты боготворят Гетулика, а муж его сестры — наместник Паннонии, и он ненавидит императора. В чем причина этой ненависти, я понял из нашей с ним тайной переписки. Когда Сеяна убрали, Гетулик числился у Гая Цезаря в списке приговоренных к смерти. Только дружеские отношения с Тиберием спасли ему жизнь. С тех пор Калигула затаил на него злобу; кроме того, он ревнует к популярности Гетулика в армии. Я воспользуюсь отсутствием императора и на следующей неделе отправлюсь в Германию.
Агриппина напряженно слушала. Ее строгое красивое лицо слегка раскраснелось.
— Странно, что ты, которого все знали как друга Калигулы, превратился в его заклятого врага. За что ты его так ненавидишь?
— Есть причины, — уклончиво ответил Лепид. — Да и роль мнимого супруга Друзиллы меня унижала. Очень быстро превращаешься в мишень для насмешек. Но как я мог защищаться? Калигула топит любое сопротивление в крови, ты знаешь это не хуже меня. Теперь Друзилла мертва, и я уже вижу, как палач точит топор для моей шеи.
— Мне нравятся решительные люди, готовые биться за свою жизнь. Но сенат состоит сплошь из дрожащих овец, которых Калигула режет одну за другой. Что стало с мужчинами Рима? Иногда начинаешь тосковать по временам Республики, пусть тогда и текло не меньше крови.
— В сегодняшнем положении дел виноват император Тиберий. Он превратил сенат в это стадо, и теперь у нашего Сапожка нет никаких проблем.
Агриппина улыбнулась.
— Но это не помешает нашим планам. Они примут императора Лепида так же, как Калигулу, в случае если за спиной у тебя будет стоять значительная часть армии.
А восторг народа легко покупается подарками.
— Это важный момент. Калигула беспрепятственно растрачивает государственную казну, и скоро она окажется пустой. Где его преемник возьмет деньги на подарки? У нас остается мало времени, Агриппина.
— И все же поспешность — плохой помощник. Должна ли я посвятить в планы Ливиллу? Она так же, как и мы, ненавидит Калигулу.
— Только когда я вернусь из Германии. Чем более широкие круги охватывает заговор, тем он сильнее, но и опасность тоже растет. Любой, кто к нам присоединится, может оказаться предателем. Ливиллу я, конечно, не имею в виду, но не доверяю ни одному римлянину. Мне будет достаточно иметь за спиной германские легионы.
Лепид притянул к себе Агриппину и поцеловал.
— Давай поговорим о чем-нибудь другом.
Та усмехнулась.
— Ты хочешь сказать, пойдем в постель? Ничего не имею против…
Тело Агриппины не знало жажды мужчины — ни этого, ни любого другого, но она считала разумным привязать его к себе и физически. Эмилий Лепид показал себя отличным любовником: в его сильных руках она чувствовала себя женщиной, а не куском плоти, которую грубо используют, как это было во время ее жизни с Агенобарбом.
«Мир праху его», — подумала старшая сестра императора, отвечая на настойчивые ласки Лепида.
18
Незадолго до отъезда Калигулы Кассий Херея попросил его об отпуске по личным причинам. Подавленный, неразговорчивый император кивнул.
— У тебя кто-то болен? — рассеянно спросил он.
— Семейные проблемы, император. Недавно скончался мой старший брат, и у его вдовы сложности с хозяином земли. Я бы хотел сам все выяснить.
Что-то похожее на огонек любопытства вспыхнуло на бледном лице Калигулы.
— Не позволяй обходиться с тобой недостойно, Херея! Ты трибун моей личной охраны и можешь сослаться на меня, если хозяин обижает твою родственницу. Землевладельцы слишком разбогатели. Они же просто овцы, и я скоро займусь их стрижкой.
— Конечно, император, и большое спасибо.
То, что Калигула особенно заботился о благополучии своей охраны, гарантируя верность людей, которые находились рядом днем и ночью, было всем хорошо известно. Без их защиты он чувствовал себя как без одежды. Тогда Калигула еще не совершил ошибки, испытывая их преданность циничными шутками.
Херея решил ехать как императорский трибун, в сопровождении преторианцев. Те были благодарны ему за возможность внести в службу разнообразие с удовольствием отправились на Албанские холмы.
С тех пор как родители Хереи умерли, он не виделся с родственниками. Но теперь скончался и его старший брат, оставив жену с тремя детьми. Землевладелец Кассий Бабул, вступив во владение поместьем умершего несколько лет назад отца, ввел другие порядки. Старший Бабул управлял по старинке, и, если его арендаторы отрабатывали в силу каких-либо причин меньше обычного, он не выгонял их с земли. Решение всегда можно было найти. Его же сын думал только о наживе.
«Если курица больше не высиживает яиц, ее пора зарезать» — так гласило правило молодого Бабула.
Херея растрогался, когда перед его взором
предстал почти не изменившийся, знакомый с детства пейзаж. На перекрестке дорог по-прежнему рос орешник, из которого он много лет назад вырезал пастушьи дудочки, а рядом с домом все еще журчал ручей, где он часами просиживал с примитивной удочкой.
Порция, его невестка, была измученной, раньше срока состарившейся женщиной, которая жила в постоянном страхе оказаться вместе с детьми без куска хлеба. Ее старший сын в свои пятнадцать лет был почти так же крепок и силен, как взрослый мужчина, но не достиг совершеннолетия, поэтому Бабул его не опасался. Порция встретила Херею с облегчением и надеждой.
— Я бы не стала просить тебя о помощи, если бы положение не было таким отчаянным. Конечно, мы задерживаем выплаты, но в том нет нашей вины! Твой брат долго болел и не мог работать, да к этой беде добавились еще два засушливых лета подряд.
Если бы мы уплатили аренду полностью, то просто умерли бы с голоду. Бабул хочет купить побольше рабов, чтобы они обрабатывали землю, думает, что так будет выгоднее.
Наша судьба его не заботит. Через своего слугу он передал, что мы можем отправляться в Рим просить милостыню, что в этом нет ничего позорного. Император, мол, кормит тысячи людей, и нам тоже достанется.
Херея покачал головой.
— Я не позволю этому Бабулу сделать из вас уличных попрошаек. Когда вы должны съехать?
— Он все предусмотрел. Урожай мы можем собрать, а потом он в нас не нуждается.
Херея усмехнулся:
— Боюсь, с расчетами он поспешил. Я застану сейчас Бабула дома?
Порция кивнула:
— Лето он всегда проводит здесь. Его на месте ты наверняка найдешь. Но прежде вы должны подкрепиться. Вино, свежий хлеб, немного сыра…
— Охотно.
Херея устроился со своими преторианцами в тени дерева. Они с удовольствием выпили вина, разбавленного ключевой водой, и поели свежеиспеченного хлеба с козьим сыром.
Дом Бабула располагался на возвышении, откуда открывался вид на храм Фортуны. По числу помещений для рабов можно было судить о солидных доходах Бабулов, принадлежащих к числу самых крупных землевладельцев между Тускулией и Пренестой.
Слуга-сторож поспешно вышел навстречу вооруженным людям.
— Трибун Херея желает видеть Кассия Бабула. Немедленно!
— Конечно, господин. Я доложу.
Херея спешился:
— Не трудись. Я сам доложу о себе. — Он повернулся к своим людям и приказал: — Охраняйте вход. Пока я нахожусь внутри, никто не должен входить или выходить из дома!
Кассий Бабул оказался мужчиной средних лет. Он как раз отдыхал с книгой в руках в саду.
— Извини, Бабул, что врываюсь к тебе, но моё время ограничено, а дело срочное. Меня зовут Кассий Херея, трибун личной охраны императора.
— Кассий?.. — переспросил землевладелец.
— Да, Кассий Херея. Мой отец арендовал землю твоего отца, поэтому по старому обычаю мы прибавляем твое имя к нашему. Речь пойдет о Порции, моей невестке, муж которой, мой старший брат, как тебе известно, умер. Значит, ты хочешь выгнать Порцию с тремя детьми из Дому?
Бабул смутился.
— Так резко я бы не стал выражаться. Они долго не платят, я попросил их поискать заработок в другом месте.
Херея засмеялся:
— Поискать заработок в другом месте — как изысканно ты выражаешься. Но смысл тот же. Ты хочешь лишить вдову с тремя детьми дома и куска хлеба!
— Моего дома… — вставил Бабул.
— Да, твоего. Но Порция с детьми не твои рабы, а свободные римляне, пусть и зависимые от тебя. Между прочим, прежде чем император отправился на юг, он почтил меня разговором. Он считает, что землевладельцы стали слишком богатыми и нужно бы за ними проследить. Империя нуждается в деньгах, Бабул. Император отвечает за общественное благосостояние. Но это к слову. Я хочу выкупить у тебя арендуемый Порцией дом и землю. Твои предложения?
Бабул, напуганный появлением Хереи, все же попытался протестовать.
— Но я не хочу продавать! Пусть Порция остается, я готов подождать с платой за аренду, но продавать не стану.
Херея снисходительно улыбнулся, чувствуя легкое головокружение от своего положения, которое давало ему власть над другими.
— Ах, Бабул, ты усложняешь дело. На улице поджидают мои солдаты, и стоит мне сказать одно слово, как тебя схватят за оскорбление величия.
— Но я не оскорблял императора…
— Его лично нет, но меня, продолжение его властной руки… Ты отказываешь мне в законном желании, а это похоже на оскорбление. Хочешь посмотреть на римские застенки изнутри? Пройдут месяцы, прежде чем император вернется, и за это время тебя, возможно, уже не будет в живых.
Бабул сдался. Он продал дом по низкой цене, и Херея с Порцией стали его собственниками в равных долях.
На доходы трибуна Херея, конечно, не мог позволить себе покупку, но император был щедр и расплачивался за щекотливые поручения. Правда, Херея неохотно думал о том, что ему уже пришлось выполнить — нет, что ему приказывали делать, но он заставлял себя не рассуждать по поводу императорских приказов. Однако тяжесть в душе все же оставалась, иногда причиняя боль, и возможность отомстить таким людям, как Бабул, хоть как-то помогала с ней справиться.
Корнелий Сабин и другие трибуны одиннадцатого легиона не были привязаны к строгому расписанию службы. Они находились в распоряжении легата только до полудня, а потом в случае необходимости посвятить личным делам остаток дня достаточно было предупредить центурионов.
Из шести трибунов только два были старыми, все повидавшими солдатами, для остальных же служба здесь была лишь ступенькой к более высоким должностям, и перешагивали ее обычно без усилий. Другими словами, трибунов в легионе всерьез не воспринимали. Центурионов это только радовало. Каждый из них чувствовал ответственность за вверенных ему солдат, знал их имена, возраст, был в курсе семейных отношений и многого другого. От трибунов подобного не требовали.
Сабин служил с охотой, но так же охотно надевал после полудня обычную тогу.
В день встречи с Клеоном он с трудом сдерживал нетерпение. Задолго до назначенного времени молодой трибун принялся мерить пристань шагами; краем глаза наблюдая за разгрузкой судов, он держал в поле зрения вход в таверну, чтобы не пропустить появление Клеона. В конце концов Сабин занял место за столом и заказал мясо и вино. Тут и появился Клеон, упал на лавку рядом с ним и потянулся за кружкой.
— Можно? Ну и работенку ты задал мне, господин. Трудность состояла уже в том, чтобы найти дом. Никто не знал, где живет Петрон, потому что они поселились там с женой совсем недавно. Ты найдешь его к востоку от театра на склоне Пиона. Спроси, где дом жреца; он жил там до них.
Клеон зевнул и показал пальцем на мясо.
— Да ты ничего не ешь! Не голоден? Может, меня угостишь?
Сабин кивнул.
— Прежде чем начнешь жевать, закончи свой рассказ. Ты передал письмо?
Жадно заглатывая мясо, Клеон кивнул с набитым ртом.
— Конечно. Возможно, то, что я так кратко все описываю, повредит мне.
Клеон посмотрел на Сабина, ожидая похвалы.
— Хорошо. А дальше?
— Случилось так, как мы и рассчитывали. Петрона не было дома, слуга проводил меня в покои, и я смог передать Елене письмо.
Клеон многозначительно замолчал и без приглашения схватил очередной кусок.
Сабин стукнул кулаком по столу.
— Да почему я должен вытягивать из тебя каждое слово! Ты получил ответ?
Клеон вытер губы.
— Елена разорвала шнурок, сломала печать и читала, наморщив лоб. Потом глаза ее расширились от удивления, как у ребенка, который выпрашивал, одну медовую палочку, а получил целую корзину сладостей. Так я случайно узнал твое имя, господин.
— Каким образом? — озадаченно спросил Сабин.
— Когда Елена дочитала, она спросила меня: «Ты знаешь Корнелия Сабина? Где он живет? Как долго он уже здесь? Что делает в Эфесе?» Сразу столько вопросов, а я не мог ответить ни на один. Тогда она взяла твое письмо и что-то нацарапала на обратной стороне. Вот.
Сабин прочитал: «До полудня, нижняя агора, на рыночной площади».
Трибун покачал головой.
— Она забыла написать, когда: завтра, послезавтра, через три дня?
— Она не назвала день? — спросил Клеон. — Не понимаю…
— Елена написала, где и в какое время, но не указала, в какой день. Она сказала что-нибудь еще?
— Нет, господин. Просто отдала мне письмо и больше ничего не сказала. Если здесь нет никакой тайны, могу я узнать, что она написала? Может быть, о чем-то догадаюсь?
— До полудня, нижняя агора, на рыночной площади, — прочел Сабин вслух.
— Есть две возможности. Или она второпях забыла назвать день, или каждый день делает там покупки. Там обычно продают зелень, мясо, хлеб.
— Да, вполне возможно. Клеон, ты здорово мне помог. Вот твои десять сестерциев и десять сверху, чтобы ты обо всем сразу забыл. Наслаждайся мясом и вином. Прощай!
Клеон хмыкнул:
— Я не знаю тебя, господин. Никогда не видел.
Он взял кружку и поднес ее к губам.
Время до полудня Сабину как раз не подходило. Ему надо было или сказать легату об отлучке, или воспользоваться свободными днями. Но нетерпение не позволяло долго ждать, поэтому он придумал историю о дальнем старом и больном родственнике, который якобы жил какое-то время в Эфесе и теперь возвращался домой, в Рим. Ему требовалась помощь Сабина.
Легат насмешливо улыбнулся, и по его глазам Сабин понял, что тот не поверил ни единому слову.
— Как долго, трибун?
— Три-четыре дня…
— Хорошо, четыре дня. Но знай, что в случае необходимости ты должен будешь вернуться в легион.
Сабин пообещал и на рассвете следующего дня отправился в город.
Нижняя агора с двойной колоннадой длиной в триста локтей пользовалась определенной известностью. В центре ее на мраморном возвышении красовались заметные издалека солнечные часы. Они позволяли определить время с точностью до пятнадцати минут. Была она и излюбленным местом встреч. По обеим сторонам ряда аркад тянулись многочисленные торговые лавки, и городское управление строго следило за тем, чтобы здесь покупатели могли найти самый лучший товар. Тот, кого интересовали засахаренные фиалки или розовые лепестки, редкая рыба или дичь, приходил сюда. Овощи и фрукты отличались отменным качеством, а в распоряжении каждого мясника находился минимум один раб, обязанностью которого было отгонять от товара мух. Правда, и стоило здесь все дороже, но Эфес не знал недостатка в богатых людях, и провизия не залеживалась.
Вид пестрой бурлящей толпы привел Сабина в отчаяние. Как мог он разглядеть здесь Елену? Трибун вспомнил слова Клеона, что она, должно быть, приходит сюда за покупками для семьи, и стал бродить вдоль прилавков с зеленью, хлебных и мясных лавок. Пару раз Сабину казалось, что он видит знакомую стройную фигуру, и он нетерпеливо протискивался сквозь плотную толпу, но только для того, чтобы увидеть незнакомое лицо. К полудню торговцы стали закрывать свои лавки, и толпа заметно поредела.
Сабин отправился в один из переполненных рыночных трактиров. Он заказал овощной суп с мясом, и, не присаживаясь, стал есть. Суп оказался отменного вкуса, но он скоро опустил ложку.
В Эфесе насчитывалось больше четверти миллиона жителей, несколько тысяч из них приходили на нижнюю агору за покупками.
Сабин вышел на улицу. Может быть, Елена специально предложила это место, чтобы избежать встречи? Трудно поверить. Тогда она просто могла написать, чтобы он оставил ее в покое. Может, она думала про ближайший день, когда соберется за покупками, и считала, что найти ее не составит труда?
Надо было сделать по-другому. Здесь, на рынке, он только теряет время. И тут его осенило: все было так просто! Он должен утром пойти к ее дому и следить за ним, а когда Елена, скорее всего со служанкой, пойдет за покупками, то «случайно» встретит его.
Сабин отправился обратно в казармы, вызвал своих центурионов и приказал всем выстроиться на внеочередную проверку. Пыл молодого трибуна так поразил солдат, что они молча, без язвительных комментариев, подчинились. Наморщив лоб, Сабин со всей тщательностью проверил обмундирование, просмотрел список больных, распорядился о паре легких наказаний — и все это для того, чтобы время прошло побыстрее.
Ливилла и Сенека не хотели знать о том, что происходит за пределами скрытого от глаз сада, но однажды к Луцию обратился слуга:
— Господин, я знаю, что не должен нарушать твой покой, и не стал бы тебя беспокоить, но новость серьезная. Юлия Друзилла, сестра императора, скончалась. Принцепс, должно быть, был очень подавлен и уехал из Рима, никто не знает, где он.
— Благодарю за известие. Если император появится на Бавли, дай мне знать.
Сенека задумался, сообщить Ливилле о смерти Друзиллы или промолчать, чтобы не омрачать их радости, но все же склонился к первому.
Далеко за полдень они, обсохнув после купания в бухте, отправились на террасу, чтобы немного перекусить.
— Луций, — попросила Ливилла, — почитай мне вслух.
— Хорошо, — согласился Сенека, — но сначала ответь на один вопрос. Как ты относишься к Друзилле? Ты презираешь сестру, ненавидишь из-за ее образа жизни или все еще любишь?
— Странно, что ты об этом спрашиваешь: мы ведь хотели исключить разговоры о Риме. Мне жаль сестру, когда думаю о том, что ей приходится делить ложе с Калигулой.
— Возможно, она делала это охотно.
— Почему делала? Она что, сбежала от него?
— Можно сказать и так. Да, она сбежала в другой мир. Она мертва, Ливилла. Неожиданно умерла.
— Умерла? Друзилла? Но… но она так молода…
— Смерти возраст безразличен. Она берет тех, кто ей нравится. Калигула, похоже, уехал из Рима на юг — никто не знает куда.
— Друзилла… Ребенком она была сама по себе, не принимала участия в наших играх. Выбрасывала своих кукол в сточную канаву. Ей больше нравилось что-то живое: собаки, ослы… С этой девочкой приходилось непросто: ни увещевания, ни наказания не помогали. Агриппина всегда была гордой, но слушалась разумных слов, я — мягкой и покорной, лишь бы меня оставили в покое, но Друзилла…
Ливилла посмотрела на Сенеку, и глаза ее наполнились слезами.
— Калигула разрушил ее, уничтожил, но будет мстить за этот удар судьбы всем, кто любит, кто счастлив…
— Мы должны это предусмотреть.
— Предусмотреть? Тогда нам придется отправиться вслед за Друзиллой. Если Калигула задумал уничтожить человека, он найдет его и в Риме, и в Африке, и в Германии, и в Азии. Он найдет его!
Сенека покачал головой.
— Я имел в виду другое. Помимо нас есть еще другие люди, которые тоже чувствуют себя в опасности, и с каждым днем их становится все больше. Они боятся, а страх — это сила, которую нельзя недооценивать. Пока он направлен внутрь, страх разрушает нас самих, но придет день, когда он станет непреодолимым, вырвется наружу и уничтожит того, кто его породил.
— Да, об этом я тоже думала. Надо заставить Калигулу бояться, сделать так, чтобы он нигде не чувствовал себя в безопасности.
— Над ним уже довлеет страх. Его защита — это только стена из германцев, которые ни слова не знают по латыни. Но он щедро платит им, поэтому они готовы идти за ним в огонь и в воду. Недавно он даже произвел одного германца в трибуны Декстера, который, как дрессированная собака, следует за ним по пятам.
Ливилла почти не слышала Сенеку. Она кожей ощущала угрозу, исходящую от ее ужасного брата, ощущала как меч, на волоске висящий над ними, — над Луцием, ее друзьями, Агриппиной и над ней самой. Эта угроза и еще смерть Друзиллы разбудили в ней жажду жизни, любви, объятий, солнца и моря. И мужчины.
— Луций, я хочу заняться с тобой любовью прямо сейчас, под открытым небом.
Он понял, откуда у нее этот порыв, и поддался желанию женщины встретить опасность, играя в древнюю игру, что останавливала время, прогоняла страх и творила жизнь — снова и снова жизнь.
Ливилла упала она в объятия Сенеки, сгорая от желания. Рука об руку они спустились к морю и бросились на песок, срывая с себя одежду. Они любили друг друга, отдаваясь солнцу и ветру рядом с прибоем, и чувствовали, как наполнялись силой, становились недосягаемыми для опасности, угроз и смерти.
Калигула стал страшен. Желая показать народу свое горе, он намеренно запустил собственную внешность и на многих производил впечатление существа, поднявшегося из Тартара. Его тонкие темные волосы свисали длинными сальными прядями до плеч. Щетину он позволял сбривать каждые три-четыре дня, и тогда взору окружающих открывалось мертвенно бледное лицо, отекшее, обвисшее, а его холодные глаза оживлялись лишь тогда, когда император выдумывал очередную циничную шутку. Горе утраты ничуть не ослабило его аппетит. Он еще больше и чаще набивал себя едой, так обильно сдобренной острыми приправами, что ему обжигало горло. Пожар внутри император заливал неразбавленным вином, но до беспамятства напивался редко. Как правило, он пребывал в состоянии пьяного раздражения, и рабы тряслись от страха, едва завидев Калигулу.
Восторженный прием в Сиракузах улучшил его настроение. После того как Калигула пожертвовал миллион сестерциев на восстановление храмов, театра и общественных сооружений, его здесь считали благодетелем и назвали почетным горожанином. В честь его присутствия устраивались разные зрелища, и император сразу объявил о готовности взять расходы на себя. Кроме того, он приказал учредить игры в знак памяти божественной Друзиллы.
Почти ежедневно императора можно было видеть в одном из театров, где попеременно проводили гладиаторские бои, травлю зверей или разыгрывали классические представления.
Калигула являлся народу в разных нарядах. Однажды публике было позволено лицезреть его в золотом панцире Александра. Потом он появился в расшитом золотом пурпурном плаще, лавровом венке. Люди могли видеть его только издалека, поэтому на многих он производил очень сильное впечатление. Иногда из толпы выкрикивали: «Богоподобный Август!», что настраивало Калигулу на милостивый лад. Поскольку люди признали его божественность, император хотел облегчить им возможность почитать его: так, в Сиракузах у него появилась мысль построить храм своей божественной сущности. Идея так понравилась ему, что Калигула тут же приказал готовиться к отплытию, чтобы скорее заняться ее осуществлением.
В середине сентября императорская флотилия подошла к гавани Остии. Калигула со своим секретарем Каллистом сразу же сел за разработку новых указаний, которые потом представил сенату как свои собственные.
Сначала речь шла о Друзилле. По отношению к ней Калигула чувствовал себя виноватым из-за своего побега из Рима. Итак, сенату было предложено следующее:
1. Освятить Юлию Друзиллу как Пантею — общую богиню.
2. Установить ее статую в храме Венеры и учредить жречество.
3. Объявить день рождения Друзиллы общественным праздником.
4. Ввести правило, в соответствии с которым все женщины во время торжественных событий должны взывать к Пантее.
С оповещением собственной божественности Калигула решил подождать, пока не осуществит еще один план. Он задумал собрать в Риме все самые лучшие изображения богов Греции, ведь только там, где жил брат-близнец верховного божества, они могли найти достойное поклонение. Итак, приказ его гласил: разыскать во всех греческих городах наиболее ценные изображения Зевса. Он, живая копия громовержца, хотел, чтобы статуи носили его голову.
— Это, пожалуй, лучший способ, — сказал Каллисту император, — донести до людей, что произошло и в какое великое время они живут. Статуи будут установлены в храмах, на форуме, на сакральной улице и перед общественными зданиями. Поскольку у них будут мои черты лица, люди постепенно привыкнут к тому, что он и я — единое целое. Только тогда я отдам приказ о строительстве храма Гая. Все в свое время! Нельзя ожидать, чтобы люди сразу все поняли.
— Единственно правильный путь! — согласился Каллист, в душе ужаснувшись.
Какие последствия еще повлечет за собой обожествление? Он запретил себе рассуждать на эту тему, утешаясь тем, что так далеко не должно зайти. Кроме того, существовали и другие заботы. Денег в казне оставалось всего на несколько месяцев, но не стоило рассчитывать, что император станет ограничивать себя в тратах. Каллиста бросало в дрожь при мысли о том, решением каких задач придется заниматься ему и другим.
«Надо будет искать новые источники дохода, — думал он с ужасом. — Калигула решит стать наследником богатых римлян — конечно же, с моей помощью».
Каллиста бросило в пот. Нет, его не мучили угрызения совести, но он думал о себе, думал о времени, которое наступит потом. Он, во всяком случае, рассчитывал пережить правление императора-безумца, что было возможно только в том случае, если его не в чем будет упрекнуть.
Императорский секретарь все чаще думал о Клавдии Цезаре. Недавно он с ним разговаривал. Это случилось после очередного неприятного обеда, где Клавдию снова пришлось терпеть насмешки Калигулы.
Они случайно встретились в саду. Завидев старика, Каллист поклонился.
— Здравствуй, Клавдий Цезарь! Решил немного подышать свежим воздухом после долгой трапезы? Нашему императору свойственно особенное гостеприимство.
Клавдий Цезарь не сдержался:
— Г-гостеприимство! Да, так т-тоже можно сказать. Почему он н-не заведет придворного шута? П-почему я должен забавлять его? К-когда он наконец оставит меня в покое?
Старик опустился на скамейку рядом с фонтаном, и Каллист попросил разрешения присесть рядом. Клавдий кивнул.
— Я знаю, что происходит на этих обедах, и нахожу возмутительным, что с тобой так обращаются. Поневоле в голову приходят странные мысли, и начинаешь мечтать о других временах — других обстоятельствах…
Клавдий поднял глаза. Его изборожденное морщинами лицо нервно подергивалось.
— Что т-ты имеешь в в-виду?
— Я тоже на своем месте не так счастлив, как может показаться, уважаемый Цезарь. Император требует многого, я должен делать то, чего потом стыжусь. Тогда я мечтаю, чтобы его место — прости, что так говорю, — чтобы его место занял ты. Правда, это только мечты, к тому же неслыханные, ведь кто может заменить его, божественного?
Но Клавдий уже все понял и почувствовал облегчение из-за того, что и другие, пусть намеками, осторожно выражают недовольство Калигулой.
— М-мы должны в-выждать, Каллист. Ф-фортуна дает и забирает обратно. Иногда в-времена м-меняются с-сов-сем н-неожиданно — так н-нас учит история.
Эмилий Лепид держал Агриппину в курсе переговоров с претором Лентулием Гетуликом, командующим войсками в Верхней Германии. Письма свои он пересылал через вольноотпущенного торговца овощами в Субуре, а тот, в свою очередь, передавал их через одного раба Агриппине. Поскольку эти люди не умели читать, опасности предательства или разоблачения не существовало.
В одном из писем Агриппина прочла следующие строки:
«Мои приветствия и пожелания здоровья!
Путешествие только началось, а я уже скучаю по тебе, Риму, привычным удобствам. То, что здесь называют летом, представляет собой ряд прохладных дождливых дней, когда лишь изредка, на пару часов, пробивается слабый солнечный свет, не способный даже высушить нашу промокшую одежду. Я нахожусь сейчас в центральном лагере верхнегерманских легионов, похожем на настоящий город. Лентулий Гетулик занимает здесь самое внушительное здание, и несколько комнат предоставил в мое распоряжение. Он сам за последние годы очень изменился, и в свои сорок с небольшим выглядит почти на шестьдесят. Похоже, Лентулий здесь очень скучает: начал сочинять стихи, эпиграммы и даже трудится над каким-то историческим произведением. Но, чтобы продолжить над ним работать, он должен попасть в Рим с его библиотеками. По мнению претора, Калигула специально держит его подальше от Рима: выжидает удобного момента, чтобы уничтожить. Едва разговор заходит о временах Тиберия, на глазах Лентулия появляются слезы. „Да, — говорит он. — Вот это был император: служил империи и народу, не жалея себя. Настоящий принцепс в полном смысле этого слова“. Конечно, ему не суждено было стать свидетелем последних лет правления этого принцепса, поэтому Тиберий сохранился в памяти Гетулика самим совершенством, тем более что старик предостерегал его от своего возможного преемника. Такие его мысли нам на руку. Я тоже принялся восхвалять Тиберия и описал ему пару „шуток“ нашего Сапожка. Претор был настолько возмущен, что подскочил и взревел: „Почему никто не подойдет к чудовищу и не воткнет ему в грудь кинжал? Неужели в Риме не осталось мужчин?“ Я ответил ему, что многие с радостью бы воспользовались его предложением, но Калигула знает об этом и окружает себя плотной стеной германцев.
„Да он к тому же трус, — с презрением заметил Гетулик. — Вот до чего опустился гордый Рим — позволяет управлять собой ничтожному безумцу“. Тут мне пришлось рассмеяться, и я объяснил, что о правлении и речи не идет, этим заняты за него другие, а сам он живет ради удовлетворения своей похоти и других удовольствий, тратя на пиры огромные деньги.
Своим рассказом я привел Лентулия в бешенство, и через несколько дней достиг того, к чему стремился. Осторожно изложив ему наш план, я упомянул вас с Ливиллой, рассказал о вашей поддержке, а в конце добавил, что без его солдат наш план неосуществим. Гетулик мрачно засмеялся: „Вот, значит, до чего дошло? Без меня и германских легионов никуда?“
Конечно, я ответил утвердительно, а потом дал понять, что в случае отказа никто его не осудит, но он должен быть готов к тому, что станет следующей жертвой. Тогда претор схватился за меч и воскликнул, что нужно обернуть оружие противника против него же и самого Калигулу отдать палачу: „Он должен стать следующей жертвой! Он должен ею стать, если Рим хочет остаться благородным!“
Ты видишь, любимая, убедить Гетулика оказалось делом несложным. О способах осуществления плана наши мнения разошлись. Лентулий считает, что Калигулу надо заманить в Германию и уничтожить здесь, а потом с его верными легионами мы сможем войти в Рим, чтобы взять власть в свои руки.
План неплох, но я склоняюсь к тому, чтобы устранить Калигулу в Риме. Тогда у сената не будет много времени для рассуждений, он сразу сможет принести клятву мне как новому принцепсу. Пока Гетулик со своими войсками доберется до Рима, пройдет немало времени, и дело может кончиться гражданской войной. Кроме того, существует еще твой дядя Клавдий, и немало людей захотят видеть преемником его как единственного оставшегося члена императорской семьи. В любом случае действовать поспешно нельзя.
Будь и ты осторожна, любимая. Не доверяй никому и уничтожь письмо, как только его прочитаешь».
Но на это Агриппина не могла решиться, потому что перечитывала вдохновляющие строки снова и снова. Иногда она рисовала в воображении картины из будущего, как она, императрица, рядом с Эмилием Лепидом Августом идет по сакральной улице под прославляющие крики толпы, а потом принимает благословение жрецов.
Во второй свободный день Сабин велел разбудить его до восхода солнца и отправился в город.
За домом Петрона следить было легко, так как к нему вел один подход. Молодой трибун бродил кругом, но далеко от дома не отходил.
«Я, римский трибун, — думал он, насмехаясь над собой, немного пристыженно, — жду около дома возлюбленной, как зеленый юнец. Все влюбленные безрассудны».
Скоро в доме началось какое-то движение. Потом молодой, хорошо одетый мужчина в сопровождении слуги вышел на улицу.
«Должно быть, Петрон», — подумал Сабин, глядя им вслед.
Час спустя появилась пожилая полная женщина с мальчишкой, который нес корзину.
«Наверное, повариха с поваренком», — предположил Сабин, и его надежда увидеть Елену постепенно угасала, но он решил ждать. Солнце уже стояло высоко, когда из дома выскочила маленькая пушистая собачонка. Звонко тявкая, она бросилась к Сабину, обнюхала его, а потом хотела побежать обратно к Елене, которая как раз показалась на пороге. Сабин, недолго думая, схватил собачку и поднес хозяйке.
— Я кое-что нашел. Похоже, это принадлежит тебе, красавица.
Елена остолбенела от неожиданности.
— Сабин, Сабин, — только и смогла сказать она и осторожно оглянулась. — Ты не должен здесь оставаться. В этом квартале меня все знают. Приходи послезавтра в это время к храму Артемиды. Ты найдешь меня справа от входа.
Елена взяла собаку и скрылась в доме.
Сабин готов был закричать от счастья, когда заглянул в ее янтарные глаза, услышал голос, когда она протянула к нему свои тонкие, длинные руки, чтобы забрать песика.
Обратно он шел как во сне. Теперь Сабин не мог сидеть вместе со всеми за обеденным столом, хотел побыть один и подумать. Он отправил своего слугу за вином и сушеными фруктами, а потом отпустил до вечера. И вдруг ему пришло в голову, что завтра его последний свободный день. Он ринулся в трапезную, откуда как раз выходил легат с двумя трибунами. Тот смерил Сабина недовольным взглядом.
— Я думал, что трибун Корнелий занят срочными делами, а он слоняется по лагерю. И вчера ты был здесь, перепугал… Собственно, я ничего не имею против, но тогда не надо было просить об отпуске.
Сабин извинился и попросил перенести свой свободный день на послезавтра…
— Бессмертные боги! — недовольно воскликнул легат. — Здесь не собрание бездельников, а легион Римской империи. Тебе надо было выбирать другое занятие, Корнелий, если с этим ты не справляешься.
— Понимаю твое недовольство, легат, — ответил Сабин, — но мне очень нужен послезавтрашний день. Потом я сделаю все, что ты посчитаешь нужным.
— Хорошо, но потом забудь на некоторое время о личных делах.
Храм Артемиды стоял на священной земле около Эфеса. Со своими ста двадцатью семью колоннами он считался самым большим в мире. Семь раз храм разрушали и потом снова отстраивали, и он становился все более величественным. Древнее изображение богини — легенда говорила, что оно упало с неба, — людям показывали издалека, только в дни особых торжеств. Это была фигура размером всего в два локтя, безыскусно вырезанная из кипарисового дерева. Помазывания священными маслами на протяжении столетий сделали ее лицо, руки и ноги черными. Тело богини окутывали украшенные золотом и драгоценными камнями одеяния, которые чистили и меняли по нескольку раз в год.
Сабин был здесь с самого раннего утра. Он нанял проводника, и тот ему все подробно объяснил. Так Сабин узнал, что богине служит сотня жрецов и рабов. Бывают времена, когда людей сюда приходит так много, что приходится нанимать еще и помощников. Храм окружали плотным полукругом торговые лавки. Маленькие фигурки богини — Сабин уже видел такие в городе — предлагались здесь из всевозможных материалов: черного дерева, камня, бронзы, серебра и золота. Мастера трудились над их изготовлением прямо на месте, и отовсюду слышался звон молотков.
Проводник беспрерывно говорил, называл даты, рассказывал о чудесах, что сотворила богиня, но время приближалось к полудню, и Сабину не терпелось от него отделаться. Поэтому, расплатившись, он отправился к лавкам, торгующим благовониями, где можно было купить ароматическую смолу в виде порошка или кристаллов. Там царило такое столпотворение, что Сабин изумился. Жаркое время давало о себе знать разнообразием запахов. Откуда-то тянуло вонью от останков жертвенных животных, а из глубины храма доносился легкий аромат благовоний, к которому примешивался запах жаркого, вина и чеснока из близлежащих трактиров.
Сабин двигался вместе с толпой, поглядывая вокруг в поисках знакомой высокой фигуры, и вдруг совсем неожиданно Елена возникла прямо перед ним. Прикрывая лицо рукой, она оглядывалась по сторонам. Сабин тронул женщину за плечо.
— Елена!
Та вздрогнула и повернулась к нему.
— Сабин…
Взяв за локоть, он вывел Елену из толпы к ступеням храма.
— Я так рад, что нашел тебя. Как ты живешь, Елена?
— Что ты делаешь в Эфесе? Ты здесь из-за меня?
— Да, так и есть. Я теперь трибун одиннадцатого легиона. Попросил перевести меня в Эфес, чтобы встретиться с тобой.
Женщина нетерпеливо оглянулась.
— Здесь так много людей! Давай пойдем в другое место.
— Хорошо. Мы могли бы перекусить в трактире и поговорить.
Елена кивнула. Пройдя мимо торговых рядов, они вышли к улице трактиров и трапезных. Их хозяева вывешивали цены перед дверями на больших деревянных досках, а для неграмотных нанимали зазывал, наперебой выкрикивающих свои предложения.
— Полный обед всего за пять сестерциев! Суп, мясо, вино и хлеб — столько, сколько сможешь съесть! Всего пять сестерциев!
Дешевые заведения расположились в начале пыльной улицы. За ними следовали те, где можно было насладиться едой в тени деревьев, но, конечно, и заплатить приходилось побольше.
Сабин выбрал стол подальше от глаз и предложил своей спутнице сесть. Сам расположился напротив и, взяв ее за руку, сказал:
— Этой минуты я ждал с тех пор, как покинул Эпидавр.
Елена оглянулась по сторонам и отдернула руку.
— Я не думала, что ты способен на такое, Сабин. Ты меня очень удивил. Но чего ты добиваешься? Я уже полгода замужем. Петрон ревнив. Это будет, похоже, наша первая и последняя встреча. Как ты меня вообще нашел?
— Я нашел тебя, потому что должен был найти, и не верю, что это наша последняя встреча. Елена, я люблю тебя! Клянусь тебе Артемидой Эфесской, что буду любить тебя, пока жив! Ты не можешь быть счастлива с этим Петроном — я просто в это не верю!
Их перебил слуга, который спросил о пожеланиях посетителей и сразу же перечислил все блюда, что имелись в наличии.
— Голуби на вертеле, жареные почки барашка, молочный поросенок, курица и кабанье мясо…
Сабин вопросительно посмотрел на Елену. Та пожала плечами.
— Может, пару голубей…
— Пару голубей, поросенка для меня, а к ним вино и воду.
Слуга исчез.
— Что с нами будет дальше, Елена? — спросил Сабин.
— И ты спрашиваешь меня? С нами вообще ничего не может быть! Я не понимаю, чего ты хочешь. Я замужем…
— Да, я знаю. Это можно изменить. Я тебя уже спрашивал, счастлива ли ты с Петроном, и спрашиваю еще раз. Ты счастлива?
Янтарные глаза гневно блеснули.
— Счастлива, счастлива — да что это значит? Люди женятся и становятся родителями — больше от жизни нечего ожидать!
Сабин засмеялся:
— Больше нечего? Да ты скромна! Вы, значит, уже полгода женаты? Хорошо, а как обстоят дела с детьми? Живот твой совсем плоский… Ты просила Артемиду о плодовитости, она ведь за это отвечает.
— Какое тебе дело? — рассердилась Елена. — Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Что ты вообще о себе думаешь? Ты приезжаешь в Эфес, выслеживаешь меня и ведешь себя так, будто я только тебя и ждала. Ты слишком много о себе мнишь, Сабин.
— Возможно, но моя любовь дает мне на это право.
— Твоя любовь! А как насчет моей? Любовную пару составляют, как известно, двое. Тут ты один, Сабин, со своей любовью, на которую я не могу ответить. Забудем обо всем! Ты отправишься обратно в легион, а я — домой. Здесь не Эпидавр, здесь другие порядки. Говорят, в Риме к браку относятся не очень серьезно. Но здесь не Рим, тут живут по старым законам. Я замужем, Сабин, и этим все сказано.
Сабин вздохнул:
— Возможно, я неправильно начал, сразу без стука открыв дверь. Как я слышал, твой свекор не очень доволен сыном, потому что тот отлынивает от работы, болтается непонятно где — во всяком случае, так поговаривают в порту.
Елена опешила.
— Откуда ты знаешь? Люди в порту действительно об этом говорят?
— Если нет, то откуда бы тогда я узнал? Но твой муж молод, все еще изменится.
— Ничего не изменится! — вырвалось у Елены наболевшее признание.
Слуга принес, и они молча принялись за еду. Сабин отхлебнул вина.
— Ты любишь его? Или послушалась родителей, которые хотели объединить ваши семьи?
Елена сполоснула руки в маленькой глиняной миске, потом почистила пальцы долькой лимона и ответила:
— Я тебе уже объясняла в Эпидавре, что мы помолвлены с детства. Но хочу быть откровенна: брак я представляла себе по-другому. Петрон неплохой человек, конечно, У него даже есть определенные достоинства, но он… он…
Сабин взял ее за руку.
— Ты не должна мне обо всем рассказывать, во всяком случае, не сейчас. У нас еще будет много времени.
— Ах, Сабин, я бы хотела, чтобы ты был не Корнелием Сабином из Рима, а Петроном из Эфеса. Тогда все было бы по-другому.
— Это мне льстит, но такие желания лишены всякого смысла. Я Корнелий Сабин из Рима и хочу им остаться. Я люблю женщину по имени Елена, гречанку с янтарными глазами, и здесь, на этом священном месте, клянусь, что добьюсь того, что она станет моей.
— А как со мной? — упрямо спросила Елена. — Мои желания не в счет? Ты даже не знаешь, хочу ли я быть с тобой. А Петрон? Мне его задушить или отравить? А моя семья, родственники, друзья? Что ты, собственно, предлагаешь, Корнелий Сабин? Это в римских обычаях? Неудивительно, что многие греки называют вас за глаза варварами.
— Ты задала дюжину вопросов, и на многие из них я пока не могу ответить. Но чувствую, Елена: ты несчастлива с Петроном. Он не тот человек, которого ты ждала, и тебе страшно подумать, что с ним придется провести всю жизнь. Не говори сейчас ничего. Я знаю, что прав, и еще знаю, что мы найдем решение.
Елена молча взяла кружку и вылила немного вина на землю.
— Артемиде, великой и могущественной! — тихо сказала она и поднялась. — Служанка ждет меня у храма; будет лучше, если ты не станешь меня провожать. Я часто прихожу сюда, чтобы жертвовать Артемиде. Если хочешь, мы можем встретиться, но прежде я пошлю тебе в лагерь записку.
Сабин встал.
— Это непросто. У меня не так много свободных дней. Можно, я напишу тебе?
— Да, передавай письма через Клонию, мою служанку. Я доверяю только ей. Прощай, Сабин.
Он смотрел ей вслед, пока высокая фигура не скрылась за деревьями.
«В случае необходимости я оставлю легион, — рассуждал Сабин. — Веские причины всегда найдутся. Но на что тогда жить? Дядя Кальвий, несомненно, поможет, возможно, и отец тоже». Но он не хотел рассчитывать на старших.
Что же дальше? Всегда встречаться с Еленой в трактирах и тавернах невозможно. Надо найти место, где им никто не мешает. В окрестностях храма располагалось немало постоялых дворов для путешественников — дешевых и дорогих, самые состоятельные имели возможность снять целый дом. Сабин решил прогуляться и присмотреть что-нибудь подходящее.
Хозяин дома, который понравился молодому римлянину, мужчина средних лет, был немногословен. Он живет один с прислугой и рабами, а дом слишком большой, поэтому некоторые помещения можно сдавать внаем.
— И на один день тоже можно? — спросил Сабин.
Тот равнодушно пожал плечами:
— Почему нет? Но стоить это будет дороже.
— А если сниму на большой срок?
— На какой? На сколько месяцев?
— Скажем, на полгода…
Домовладелец долго считал на пальцах, шевеля губами и покачивая головой, пока наконец не предложил:
— Если заплатишь сразу, могу сдать тебе жилье за тридцать денариев.
— Похоже, ты принял меня за очень богатого? — с насмешкой спросил Сабин. — Двадцать.
— Двадцать пять!
— Двадцать два. Два денария из них я заплачу тебе прямо сейчас, остальные — когда приду снова. Но комната должна быть чистой!
— Значит, ты приведешь женщину…
— Угадал.
Сабин положил монеты на стол и вышел. Если Елена откажется прийти сюда, получится, что он напрасно потратился. Тогда придется искать другие пути. В любом случае, отступаться он не намерен.
19
Калигула проснулся весь в поту, с головной болью и неприятным привкусом во рту. Солнце уже поднялось высоко, его лучи проникали сквозь щели в тяжелых пурпурных занавесях.
Этот свет мешал, Калигуле казалось, что солнце хочет досадить ему. Император схватился за серебряный колокольчик. Слуга тут же появился в дверях. Калигула со злостью показал ему на занавеси, но тот, неправильно истолковав жест, раздернул. Приступ гнева вернул Гаю Цезарю голос:
— Задвинь обратно, баран! Я не хочу сейчас солнца!
Он со стоном повалился обратно на постель. Головная боль притупилась, но мерзкий привкус мертвечины сохранялся.
— Вина на травах и воды!
Выполоскав рот, император сделал несколько глотков и почувствовал, как его измученный желудок сопротивляется.
«Человеческое тело не пригодно для удовольствий, когда их много, — с горечью подумал Калигула. — Почему божественный близнец не дал мне больше сил? Веселые пиры уже начинают мстить — головной болью, коликами в желудке, вонью во рту и хриплым голосом».
Но вчерашний вечер доставил ему столько удовольствия! Недавно Калигула пришел к выводу, что верность народа императору должна превосходить все остальные чувства, и сразу решил это проверить. Один сенатор — по-видимому, неисправимый республиканец — позволял себе сомнительные разговоры о принципате вообще, а Калигула воспринял их как личное оскорбление. Человека приговорили к смерти, но его старший сын выступил против и тоже был казнен. Жену и мать осужденных, брата и двух сестер Калигула пригласил на следующий день во дворец к обеду. Он приказал поставить на стол лучшие блюда и вина, успокаивал их, отпускал шутки, но те сидели с каменными лицами, почти не притрагивались к еде, и от императора не ускользнуло, что юноша с трудом подавляет свою ненависть к нему.
«Ты тоже уже покойник, — подумал хозяин. — Пусть твоему телу и позволено сейчас сидеть за императорским столом».
— Это был приговор сената! — не в первый раз воскликнул Калигула. — Разве может принцепс действовать вопреки решению сенаторов? Это было бы против всех правил!
Аппетита у них не прибавилось, но вот заставить их выпить император мог. Сначала они должны были поднять кубки за здоровье обоих консулов, потом — богов на Олимпе, весталок, императорских сестер, его дяди Клавдия Цезаря и, конечно, много раз за него самого, Гая Августа.
Поскольку Клавдий как раз находился в Риме, Калигула приказал доставить дядю во дворец, представил его своим гостям и велел — как ученому рабу — почитать греческих поэтов.
Клавдий заикался, и в конце концов одна из сестер казненных улыбнулась. Она тут же притихла, как только мать угрюмо глянула на нее, но Калигула же радостно зааплодировал.
— Хоть кого-то мне удалось рассмешить! — торжествовал он.
Потом он напился так, что все последующие события для императора покрыла густая пелена тумана. Он
только помнил, что собирался затащить в постель более красивую из сестер, но опьянение помешало.
«Это просто поправить», — подумал Калигула, ощущая тяжесть в чреслах. Уже два дня он не имел женщины, потому что не мог решить, какую из них осчастливить. Все они — от двенадцатилетней рабыни до благородной матроны, матери семейства, — ждали только его кивка. Он мог владеть всеми! Представление о том, какие лица при этом будут у некоторых господ заставило его рассмеяться.
Это случилось вскоре после его возвращения с Сицилии. Друзиллу провозгласили Пантеей, а его одолело жгучее желание женщины. Звать рабыню представлялось божественному Августу недостойным, и он пригласил во дворец патрициев, известных своими красавицами-женами. Так он мог выбирать спокойно, не торопясь.
Среди приглашенных присутствовал Валерий Азиатик, чья жена особенно заинтересовала Калигулу, потому что он видел, как та пыталась спрятаться, чтобы ее не заметили. Другие бросали на него томные взгляды, делали все, чтобы привлечь внимание императора, но сегодня он хотел осчастливить жену Валерия Азиатика, известного своим богатством, чувством юмора и полным отсутствием тщеславия.
Он поднялся и вытащил Валерию из-за спины мужа.
— Смотрите, смотрите, кто тут прячется, не желая порадовать императора!
Валерия покраснела и опустила голову. Ее супруг делал вид, будто наблюдает самую что ни на есть обыденную сцену, не произнес ни слова и выжидал.
«Его счастье, — подумал Калигула, — что он знает меня и понимает, чего делать никак нельзя».
Он отвел упирающуюся Валерию в соседние покои. Она была красива, эта молоденькая патрицианка, но не сделала ни одного движения ему навстречу, и удовольствия Калигула не получил. Когда все кончилось, женщина разрыдалась. Император отвел ее обратно и толкнул к мужу.
— Получай, Валерий! Пора бы тебе научить ее, как следует угождать мужчине. Что толку в хорошеньком личике, если внутри холодно и сухо?
Смущенные лица остальных так воодушевили Калигулу, что он послал слугу за деньгами. Их он бросил несчастной на колени и произнес:
— Император оплачивает и такие услуги! Но только медью, потому что ни золота, ни серебра ты не стоишь! Тебе еще многому надо научиться!
Окрыленный приятными воспоминаниями, Калигула откинул одеяло и встал.
И правду говорят про проституток, что они — лучшие любовницы. Они не застывают ни от страха, ни от благоговения, их зады так весело танцуют, что это доставляет настоящую радость.
Тут ему вспомнилась гречанка Пираллия. Перед ним сразу возник ее образ, стройная фигура, серо-зеленые глаза, блестящие каштановые волосы. В ее присутствии императора свалила священная болезнь, после которой он почувствовал себя богом, она стала свидетельницей того значительного события. При этом он так и не прикоснулся к ней.
Сладко зевнув, Калигула взялся за колокольчик.
— Занавеси отодвинуть! Ванна готова? Пришлите Каллиста!
Слуга, почувствовав доброе расположение императора, робко улыбнулся.
— Все готово, император! Каллист ждет твоего пробуждения.
В тот же миг вошел секретарь, поклонился и протянул несколько свитков пергамента.
— Некоторые важные решения…
— Нет, Каллист, не сейчас! Проводи меня в термы, тебе наверняка тоже надо освежиться.
Каллист подавил тяжелый вздох. Он уже искупался сегодня, но ему ничего не оставалось, как сделать это еще раз.
В огромном дворце располагались две бани. Одна под открытым небом, ее использовали только летом; для холодного времени года существовали термы поменьше, воду там можно было быстрее подогреть. Туда они и отправились.
— Мы растолстели, Каллист, — заметил император, раздеваясь.
— Я не люблю худых людей, — ответил секретарь. — При виде тощего человека сразу закрадывается подозрение, что он или болен, или скуп.
Император рассмеялся:
— Или и то и другое!
Он погрузил свое волосатое толстое тело в воду, блаженно постанывая.
— Лето прошло, народ ждет от меня зрелищ. Достаточно ли у нас зверей?
Каллист погладил огромный живот:
— Медведи, волки, львы, слоны, тигры — всего вдоволь.
— А корм для бестий? Человеческое мясо?
— Застенки переполнены. Но приговоренных к смерти, похоже, недостаточно — или только для одного представления. Остальные — мелкие воришки, драчуны, буяны…
Калигула улыбнулся.
— Мы поступим благородно. Дай им в руки меч и пусть борются. Кто выживет, отправится на свободу, а остальных не жалко. Рим как чудовищное чрево, день за днем рождает все новых мошенников. Нам нет нужды жалеть, Каллист, ни животных, ни людей.
Эмилий Лепид вернулся в Рим в приподнятом настроении. Правда, они с Гетуликом так и не смогли прийти к единому мнению, где должно произойти покушение на Калигулу, но безусловную готовность преисполненного ненависти легата принять участие в свержении императора Лепид посчитал успехом. Точное время тоже не было установлено. Легат еще хотел привлечь на свою сторону мужа сестры, наместника в Паннонии Гая Кальвизия Сабина, а Лепид рассчитывал на то, что растущая страсть Калигулы убивать породит новых врагов, которые пополнят круги заговорщиков.
Для себя Лепид разработал особый план. Он хотел попытаться снова вернуть доверие Калигулы, войти в его ближайшее окружение, чтобы из его высказываний и намеков вовремя сделать правильные выводы.
Тут никаких проблем не возникло, и скоро он вновь сопровождал императора во время ночных походов по публичным домам. На следующий день они обычно вместе отдыхали в термах, цирке или в театре, но император никогда не заговаривал о вещах, которые так интересовали Лепида. Это настораживало и пугало. Часто случалось, что один из круга друзей Калигулы, повеселившись в его компании, возвращался, ничего не подозревая, домой, где его уже поджидали преторианцы. Несколько дней спустя труп его сжигали на костре. Причем император до последнего момента делал вид, будто этот человек — его лучший друг, кричал на прощание: «До завтра!», когда тот уже шел в руки палачей.
«Так может произойти и со мной, — думал Лепид. — Завтра или даже в ближайшие часы». Как мог, он постарался обезопасить себя. Купил на чужое имя на окраине города дом, чтобы бежать туда в случае малейшей угрозы.
Калигула все свое окружение держал в напряжении, проявляя чудеса перевоплощения. Люди, которым он много месяцев назад цинично предсказывал закат жизни, все еще здравствовали, а те, кто спокойно праздновал с императором, наслаждаясь его расположением, уже превратились в пепел.
Калигула объяснял это по-своему. Так принято у богов! Они не оповещают о своих намерениях, а просто действуют по настроению.
— Фортуна и Юпитер не утруждают себя сообщением о решениях. Я поступаю так же.
Лепид передал эти слова Агриппине. Ее строгое красивое лицо вспыхнуло от гнева:
— Он сумасшедший! Какое-то время я думала, что он играет роль бога, а теперь вижу, что брат действительно себя им считает. Да он почти достоин жалости.
Лепид вскипел:
— Жалеть тирана? Этот человек превратился в палача всех римских патрициев. И он убивает просто по настроению — как это делают боги! Кстати, ты говорила с Ливиллой?
Агриппина кивнула:
— Я осторожно намекнула. С тех пор как она с Сенекой, сестра опасается за него. Калигула ненавидит поэта и ищет повода его уничтожить. Ливилла сказала, что если человек становится настолько опасным, то наша обязанность, пусть он и приходится нам братом, остановить его.
— Смелые слова, — довольно заметил Лепид. — Теперь у Калигулы нет поддержки в семье. Как к этому относится Клавдий? Что ты о нем думаешь?
Агриппина насмешливо скривила рот.
— Добрый дядя Клавдий! Знаешь, что говорила о нем собственная мать? Природа начала его создавать, но, к сожалению, так и не закончила. Если кто-то казался ей ограниченным, бабушка обычно говорила: «Он глупее моего сына Клавдия». Он не представляет опасности, но и помощи от него ждать не приходится. Когда ты станешь императором, отправь его из Рима в загородный дом, и этим окажешь ему величайшую услугу. В сомнительном случае Клавдий, конечно, примет нашу сторону, потому что Калигула унижает его и издевается над ним так, что другой бы давно закололся.
— Значит, все в порядке. Помешать может только одно: если кто-нибудь присоединится к нам в приступе гнева и ненависти, а потом испугается и всех выдаст. Поэтому я не знаю, что лучше: держать круг заговорщиков как можно более тесным, чтобы избежать такой опасности, или расширить его до таких размеров, чтобы у всех появилось ощущение безопасности. Те, кто еще колеблется, тогда скажут: если против него сотни, и я не останусь в стороне.
— И то и другое имеет свои преимущества. Все же будет лучше, если мы посвятим в свои планы не больше дюжины людей, и только таких, кому можем доверять. Надо избегать тех, кто хочет присоединиться к заговору ради денег или должности. Они продадут нас. А я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, любовь моя.
«Потому что тогда твоим мечтам придет конец», — подумал Лепид, а вслух сказал:
— Нам понадобятся деньги. Основную работу наш Сапожок сделает сам. С каждым приговором, с каждой «шуткой» врагов у него становится все больше. Чем более похожим на бога он себя мнит, тем неосмотрительнее становится. Возможно, однажды он выйдет на улицу без охраны, потому что услышит шепот богов о своем бессмертии. Это совсем упростит нам дело.
Агриппина скептически покачала головой.
— На это лучше не рассчитывать. Ты снова часто бываешь рядом с Калигулой. Посмотри на него повнимательнее: его отличная память и острый язык едва ли пострадали. Он хорошо разбирается в людях, а его постоянное недоверие и подозрительность сделали его сверхосторожным. Было бы большой ошибкой недооценивать моего брата.
Лепид взял Агриппину за руку и посмотрел на кольцо с камнем Германика.
— Если бы императором стал твой отец, нам не пришлось бы теперь ставить на карту свою жизнь, чтобы убрать его невменяемого сына.
— Не думай о том, что могло бы быть, а направь свой взор на то, что будет — что должно случиться! Фортуна не любит тех, кто сомневается и постоянно говорит о прошлом. Боги не в силах изменить настоящее, но будущее, Лепид, будущее находится в наших руках.
20
Для Корнелия Сабина оказалось нелегким делом назначать встречи с Еленой в свободные дни. Проще всего было бы видеться вечерами, когда служба заканчивалась, но она не могла уходить в это время из дома, не возбудив подозрений. Они какое-то время переписывались, пока не определили подходящий день. Встретиться договорились у храма Артемиды, как в первый раз, и Сабин с таким нетерпением ждал этого дня, словно школьник начала вакаций. Но случилось непредвиденное, и трибуну пришлось вспомнить, что в далеком Риме на троне сидит император, чьи воля и безумие добрались до отдаленных провинций.
Легат созвал всех трибунов и сообщил следующее:
— Только что из Рима поступило распоряжение. По приказу нашего императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика в Рим должны быть доставлены из перечисленных храмов статуи богов.
Далее следовал список, но никто уже внимательно не слушал.
Старший по рангу трибун попросил слова:
— Извини, легат, если я задам несколько вопросов. Ты считаешь разумным лишать город, дружественный Риму, его святынь? Разве в Риме недостаточно изображений Юпитера или мастеров, которые могли бы их изготовить?
Легат смущенно откашлялся:
— Вопрос о том, считаю я это разумным или нет, не стоит. У императора должны быть причины для подобного приказа, и ни мне, ни вам не пристало обсуждать его решения. Мы получаем приказ принцепса и выполняем его. А мой приказ одиннадцатому легиону звучит так: защищать прибывших из Рима во время выполнения задания. Отвечают за это два наших юных трибуна с двумя центурионами. Остальные всегда должны быть наготове. Это означает, что никто в ближайшие дни не имеет права покидать лагерь. Все!
Это было тяжелым ударом. Сабин послал своего слугу Лариния за вином, запер дверь и пил, проклиная императора с его безумными приказами. Он опустошил почти весь кувшин, когда в голову пришло, что надо известить о сложившемся положении Елену.
— Приказ из Рима, любимая! Ничего нельзя поделать. Я в отчаянии, несчастен и зол…
Хоть она и женщина, но должна понимать, что военный приказ не исполнить нельзя. Но он не мог понять! Какое отношение имели к нему статуи Зевса? Почему он с мечом в руках должен был потворствовать этому святотатству? «Потому что ты трибун одиннадцатого легиона, Корнелий Сабин», — ответил он сам себе.
Надо было взять себя в руки! Строптивых трибунов тоже наказывали. Он мог навредить себе.
Задача перед ними стояла и правда неприятная. Слухи о намерениях императора быстро распространились по всему Эфесу, и люди начали волноваться. Открыто никто не сопротивлялся, это было бы опасно, а только исподтишка выражали недовольство, и очень сильное.
На первом месте в списке стоял древний храм Зевса в центре города. Огромные размеры статуи поставили римлян перед неразрешимой проблемой. Извлечь громовержца можно было, только разрушив часть храма. Чиновники посоветовались, но решения не нашли и обратились к Сабину.
— Если в приказе императора не упоминается о разрушении храма, значит, надо послать в Рим просьбу о более подробных указаниях.
Все согласились и отправились к другому храму, вход в который охраняли особенно красивые статуи Зевса и Геры.
Как только они приблизились, сразу собрались люди. Из толпы раздавались дерзкие и оскорбительные выкрики.
— Что Рим обворовывает наши провинции, известно всем, а теперь он решил отобрать и наших богов?
— Убирайтесь, варвары!
Сабин старался не обращать на это внимания, но про себя соглашался с людьми. Он со своими солдатами оттеснил народ с площади, но отдал приказание мечи из ножен не вынимать. Между тем подъехала арба, запряженная двенадцатью волами, и рабочие принялись обвязывать статую Зевса веревками.
Сабин и его воины окружили их плотной стеной, и теперь трибун молил всех богов, чтобы Елена случайно не стала свидетельницей происходящего. Прошло несколько часов, прежде чем мраморного бога аккуратно уложили на солому, привязали веревками, и арба под свист кнутов тронулась к пристани.
В храме бога Посейдона они опять столкнулись с трудностями. Рядом со статуей бородатого бога морей, занимавшей центральное место, здесь были установлены изображения Зевса и Плутона — властителей неба и земли, моря и подземного мира.
Храм открывался только в дни праздников, и никто не знал, где находится ключ. Главный жрец был в отъезде, а его заболевший помощник лежал в постели, ни о чем не зная. Между тем наступил вечер, и римлянам пришлось уйти ни с чем.
На следующее утро Сабин с одобрения легата взломал тяжелую дверь. Зайдя в полутемное помещение, они зажгли факелы и обнаружили пустой постамент Зевса — сама скульптура исчезла. Начальник приехавших из Рима грязно выругался и бросился в дом больного жреца, угрожая ему процессом оскорблении величия, но врач и слуги поклялись, что хозяин уже много дней не вставал с постели.
Однако самое трудное им еще только предстояло. В главной святыне города — в храме Артемиды — наряду с изображениями разных богов стояли и статуи Зевса, которому дочь титана Лето подарила близнецов Артемиду и Аполлона.
Новость о том, что римские легионеры хотят осквернить любимый храм горожан, молниеносно облетела Эфес. Она не могла оставить равнодушными жителей большого богатого города. Артемида считалась покровительницей Эфеса, и многие боялись, что богиня разгневается, если они допустят в храме такое святотатство.
Сто пятьдесят легионеров оказались лицом к лицу с толпой в несколько тысяч человек. Люди окружили святыню живой стеной, и, судя по всему, не собирались отступать перед вооруженными воинами.
Сабин посоветовался с другими трибунами и начальником римлян. Он не хотел брать на себя ответственность за кровавую бойню. По мнению же старшего трибуна, они, в конце концов, не воевали с Эфесом, и без четкого приказа в случае необходимости пройти к статуям по трупам ничего предпринимать не следовало.
Солдаты вернулись в лагерь и нашли у легата полную поддержку своим действиям.
Приехавшим из Рима пришлось возвращаться домой с весьма скудной добычей. Возглавляемый эту делегацию человек, правда, высказал неопределенные угрозы, но они ни на кого не произвели впечатления.
Легат посчитал так:
— Император достаточно благоразумен и не одобрит бойню из-за нескольких статуй. Я убежден, что мы найдем понимание.
Это высказывание подтвердило то, как плохо легат знал своего императора.
Сабин вздохнул с облегчением. За мужественное и разумное поведение он получил в награду семь свободных дней, тут же послал записку Елене, и она согласилась встретиться.
Довольный и счастливый, он отправился в снятое жилье. Хозяин привел комнату в порядок и обставил ее, но Сабин тут же передвинул кровать в дальний угол, чтобы она не бросалась в глаза, стол поставил к окну, подсунув под его ножку монету, поскольку тот качался. Хозяин дома мрачно наблюдал за его действиями.
— За двадцать денариев в полгода нельзя рассчитывать на шикарную обстановку, — заметил он.
— Я этого и не требую. Но рассчитываю на то, что табурет не развалится, когда к нему прикоснешься. Попробуй-ка, присядь на него!
Хозяин молча унес табурет. Сабин вытащил мешочек с двадцатью денариями, высыпал на стол и сел на скамью. Он посмотрел в окно и залюбовался зеленью обрамленного кустарником луга, видом похожего на шар холма, чьи террасообразные склоны покрывали заросли виноградника.
— Вот тебе табурет. Надеюсь, теперь ты доволен. Деньги, я так понимаю, для меня?
Сабин кивнул.
— Ты можешь позаботиться о еде и вине?
— Зависит от того, чего ты хочешь. Вина у меня достаточно, хлеб, сыр, фрукты и орехи тоже есть. Если захочешь мяса, скажи заранее. Можно быстро пожарить курицу, кролика…
— Завтра у меня будет гость. Приготовь вино, хлеб, фрукты и холодное мясо.
— За это придется заплатить отдельно.
— Я и не думал, что ты мне что-то подаришь. И еще: поставь в комнату цветы! Должно же что-нибудь цвести в твоем саду.
— Посмотрю.
К приходу Елены все было готово. Оставалось только ждать.
Из всех провинций империи прибывали суда со статуями богов из разоренных храмов. Их доставляли в Рим морем.
Для статуи Юпитера из Афин подходящего судна нашлось, и пришлось мастерить шестнадцатиколесную арбу, чтобы фигуру в десять локтей привезти в Рим на волах. В ходе путешествия с богами случилась метаморфоза — на родине их почитали как Зевса, Посейдона, Кроноса и Геракла, а границ Рима они достигли под именами Юпитер, Нептун, Сатурн и Геркулес, чтобы здесь, потеряв свои головы, получить новые — божественного императора Гая Августа.
Калигула лично заботился об установлении статуй; самые красивые он отобрал для храма, который собирался подарить «своим римлянам».
— Я представляю себе это так, — объяснял император Каллисту. — У храма должно быть свое жречество. Мы учредим его на добровольные пожертвования. В центре установят статую в человеческий рост из чистого золота с моими чертами лица. Осталось только найти подходящее имя. Что ты думаешь о Юпитере Геминии?
Каллист откашлялся.
— Близнец Юпитера? Звучит хорошо и соответствует действительности, но опасаюсь, что народ не поймет внутренней связи. Я бы выбрал имя более ясное. Юпитер существует в разных проявлениях, как Юпитер Оптимус Максимус, Тонанус (громовержец), Фулгур (мечущий молнии). Если ты позволишь мне сделать предложение, то возьми имя Юпитера Латиария. Это латинский Юпитер, издавна знакомый и понятный римскому народу.
— Юпитер Латиарий, — задумчиво повторил Калигула. — Твой острый ум снова проявил себя; ты сделал хорошее предложение, Каллист. Да, как Юпитера Латиария мой народ должен почитать меня, возносить мне молитвы, приносить жертвы.
Для римских скульпторов наступили счастливые дни. В мастерских днем и ночью стучали молотки, чтобы головы императора увенчали сотни статуй из мрамора и бронзы. Все работали по общему образцу, одобренному лично Калигулой. Правда, этот лик едва ли имел сходство с настоящим императором. Не было видно и следа лысины, величественно-спокойный взгляд больших застывших глаз был направлен в божественные дали, а тонкие сжатые губы изменили свою форму.
Такой обожествленный Калигула взирал на свой народ в храмах и общественных зданиях, возвышался над головами сенаторов, так что при входе каждый сначала видел своего императора, обозревал сакральную улицу от Римского храма до арки Августа. Статуи поменьше и поскромнее, изготовленные в Сирии, достались отдаленным кварталам города, охраняли вход на ипподром, украшали термы. Изображения предшественников постепенно исчезли, и только Октавиан остался стоять в местах, связанных с его памятью, — перед форумом Августа, его мавзолеем и прежним домом.
Калигула любил повторять:
— Тому, кто не хранит Августа в своем сердце, фигуры из бронзы или камня не помогут.
Эмилий Лепид наблюдал за развитием событий с чувством удовлетворения.
— Твой брат уничтожает себя собственными руками, — сказал он Агриппине, навестив ее. — Он озадачил народ своей богоподобностью, но римляне скоро пресытятся этим самолюбованием. Отвратительнее всех ведет себя, как всегда, сенат. Почти каждый день там разворачиваются дебаты, какие титулы ему еще можно присвоить и какие почести воздать. Между тем — я знаю из надежных источников — казна вот-вот опустеет, и Калигуле придется думать как ее пополнить. Императора, который увеличивает налоги, народ будет любить меньше, даже если он велит установить свои изображения перед каждым публичным домом. В следующем году, уже через два месяца, в силу вступят новые указы, и мы заметно продвинемся к своей цели.
— Ты очень осторожен, — сказала Агриппина, — но прежде чем эти меры осуществятся, пройдет немало времени. Я думаю, что мы не можем больше ждать.
Лепид погладил ее руку.
— Полгода, любимая. Через полгода многое изменится. Нельзя рисковать успехом из-за нетерпения.
Вошел слуга.
— Извини, госпожа, но посыльный императора желает говорить с Эмилием Лепид ом.
— Пусть войдет!
Посыльный, согнувшись в глубоком поклоне, сообщил:
— Император хочет немедленно видеть тебя, патриций. На улице уже ждут носилки.
Лепид испугался, но старался не подавать виду. С тех пор как заговор шел полным ходом, он не мог так же свободно и беззаботно, как раньше, являться перед Калигулой. Внутри поселился страх того, что холодные неподвижные глаза заглянут ему в душу и обнаружат там предательство. Лепид осознавал невозможность этого, знал, что за маской божественности Калигулы скрывался коварный, жестокий человек, полный подозрительности и недоверия, который не мог спать по ночам, панически боялся грозы и из скуки совершал странные вещи, — все это он знал, но магический блеск императорской власти и жалкому существу дарил неземное свечение, наделял несуществующими качествами, приподнимая над другими.
— Здравствуй, Лепид! — Калигула пребывал в добром расположении духа. — Я хорошо поспал сегодня после обеда и готов превратить ночь в день. Как в старые времена, Лепид! Чего мы только тогда не устраивали!
Лепид, стараясь избегать взгляда Калигулы, изобразил восторг.
— Отличная идея, мой император. Мы могли бы освежить воспоминания и снова начать оттуда, где когда-то начали, — в публичном доме у цирка Максимуса.
— Ты тогда порекомендовал хорошее вино, которое там подают.
— И отличных девушек…
Калигула удивленно покачал головой.
— Будто у меня в этом есть необходимость — бог в публичном доме!
«Бог, — подумал переполненный ненавистью Лепид. — Скоро увидишь, какой ты на самом деле смертный, мой божественный Сапожок».
Он почтительно улыбнулся.
— Бог спускается к людям, переодетый, неузнаваемый… Пусть они ощущают дрожь, когда он приближается. Сколько смертных женщин осчастливил Юпитер в разных проявлениях: как бык, лебедь, сатир, золотой дождь и в образе человека…
Калигула направил взгляд неподвижных глаз на друга.
— Нет необходимости знакомить меня с греческой мифологией. Я знаю ее так же хорошо, как ты.
Лепид многословно извинился, и они тронулись в путь.
Публичный дом нисколько не изменился, вино по-прежнему оставалось отличным, девушки — красавицами, но одной из них не хватало.
— Где Пираллия? — нетерпеливо спросил Калигула.
— Она свободная и приходит сюда, когда захочет. Послать за ней?
— Нет, — ответил Калигула. — Впрочем, передай, что император ожидает ее на Палатине.
На лице хозяина появилось недоумение:
— Император? Господа, вероятно, шутят.
Лепид подмигнул Калигуле.
— Ни в коем случае. Мы друзья императора и говорим то, что он нам приказал.
Калигула добавил:
— Даже очень хорошие друзья…
В ту же минуту он почувствовал досаду. Почему этот осел его не узнает? Ведь тысячи статуй украшают храмы и улицы…
Калигула забыл, что внешне он ничем не походил на приукрашенные изображения.
Они выбрали себе других девушек и забавлялись до самого утра. «Как в старые времена, — тешил себя надеждой Лепид. — Кажется, он доверяет мне». Патриций жестоко ошибался, поскольку для вездесущих шпионов Калигулы не были тайной ни его путешествие в рейнские земли, ни встреча с Гетуликом, ни частые посещения Агриппины.
В начале октября Луций Анней Сенека снова появился в сенате. До ворот курии его сопровождал врач Евсебий, и скоро разнесся слух, что дни поэта и философа сочтены.
Здание сената повсеместно называли курией Юлия, потому что Юлий Цезарь полностью обновил и расширил его. Сенаторы заседали в узком высоком зале, лишенном всяких украшений, сидя на простых деревянных скамьях. В центре возвышался подиум для обоих консулов, один из которых председательствовал в сенате. Высокое мраморное кресло на подиуме предназначалось императору. Это место почти всегда пустовало во времена правления Тиберия, но с того дня как любитель ораторского искусства Калигула стал принцепсом, здесь часто звучал резкий громкий голос. Слова императора градом обрушивались на головы сенаторов, заставляя их пригибаться все ниже.
На сегодня была назначена речь императора, и никто из сенаторов не осмелился не прийти. Даже стариков и больных доставили в курию их рабы, ведь горький опыт научил патрициев тому, что Калигула держал в памяти каждое пустовавшее место, и многим, кто испугался пройти легкий путь до курии, пришлось преодолеть тяжелый путь в застенки, а потом на казнь.
Император любил заставлять сенат ждать, но в этот раз появился прежде, чем сенаторы успели занять свои места.
— Патриции! — начал Калигула свою речь. — Сегодня я должен сообщить вам нечто важное, от чего — скажу без преувеличения — зависит дальнейшее существование империи. В своей неустанной заботе об общественном благосостоянии я в последние месяцы поддался желанию быть щедрым, не побоялся пожертвовать во благо народа и процветания империи последнее. Словом, государственная казна пуста, и ваша задача — ее пополнить. Я знаю, многое в нашем государстве не облагается налогами. Каждый, я подчеркиваю, каждый обязан вносить свой вклад в процветание империи, которая его защищает. И еще одно: со времен Августа существовал добрый обычай упоминать принцепса в завещаниях богатых римских граждан. К сожалению, он был предан забвению, и я хочу возродить его во благо государства.
Император сделал паузу, внимательно рассматривая безмолвных сенаторов в пурпурных тогах и традиционных красных туфлях с серебряными пряжками, а потом его голос, как плеть, хлестнул по их согнутым спинам.
— Кроме того, мне не нравится, что представителей римской знати все чаще можно встретить в цирке или в театре, а не за исполнением своих обязанностей. Они должны служить для плебеев примером достойной, наполненной трудами жизнью. А вы, сенаторы, радуетесь тому, что Рим становится распутным и бездеятельным. Но принцепс видит вас насквозь, никого не упускает из виду, ни одного из вас! В течение десяти дней я жду от вас предложений о новых налогах. Рим должен стряхнуть с себя лень, вновь осознать свою высокую роль. Почаще обращайтесь к Вергилию, который сказал о Риме: «Он, который так высоко поднял свою главу, как стройные кипарисы поднимают свои вершины над низкорослым кустарником».
С этими словами император поднялся и с легким поклоном удалился.
Сенека был возмущен. Этот распутник и бездельник дает другим наставления! Он оглянулся. Сенаторы приглушенными голосами, полными страха и трепета, говорили о новых требованиях императора.
Тут Сенека заметил недалеко от себя Валерия Азиатика.
Их взгляды встретились, и философ, удивленно подняв брови, улыбнулся старому другу. Азиатик подошел.
— Выйдем, Сенека. Мне нужен глоток свежего воздуха. Лживые слова этого человека, называющего себя божественным, отравили атмосферу.
Они хорошо знали друг друга, и Валерий не скрывал в присутствии друга своей неприязни к Калигуле. Он был уверен, что тот разделяет ее. Они прошли вверх по улице, до того места, где располагалась хорошо известная им таверна. Сенаторы заказали по кубку вина.
— Чтобы прогнать гадкий привкус, который остался после этой речи. О, музы! И он еще цитирует нашего Вергилия!
Сенека оглянулся:
— Тише, Валерий. Мы здесь не одни.
— Никто не знает, о ком я говорю. Или ты увидел кого-то подозрительного?
— Нет, но шпионы снуют повсюду.
— Хорошо, тогда поговорим тихо. Ясно, что наш Сапожок поистратился. На безумные кутежи ушло все, что оставил Тиберий, и теперь Калигула надеется, что граждане Рима оплатят его дальнейшие распутства. Любопытно, какие налоги придумают сенаторы. К тому же он хочет получать наследство. Нам знакомо это со времен Тиберия с тогдашними процессами по делу об оскорблении величия. Кто себя послушно убьет сам и оставит половину имущества императору, спасет семью от разорения, а приговоренный к смерти потеряет все. По этому рецепту хочет стряпать и Гай. Если он останется на троне еще на несколько лет, весь сенат найдет последнее пристанище на Гемониевых ступенях, в то время как это чудовище будет растрачивать наше состояние.
Сенека кивнул.
— Ты сказал то, что думают многие, но каждый втайне надеется, что его это не коснется.
— Надежда может оказаться обманчивой. Нашими с тобой именами, думаю, начинается его список.
Сенека пожал плечами:
— Что касается меня, могу согласиться. Но я не настолько богат. Возможно, это спасет мне жизнь.
— Как надолго? — усмехнулся Валерий.
— На время, которое позволит нам его пережить.
— Твои слова да услышит Юпитер.
— Калигула назвал себя Юпитером Латиарием. Надеюсь, твое достойное желание не дойдет до его божественного слуха.
Сабина разбудили первые лучи солнца, ласкающие его лицо. Дни в конце сентября были такими теплыми, что он забыл закрыть ставни. Трибун встал и подошел к окну. На пастбище мирно паслись мул и лошадь, дальше, у подножия холма, начинались виноградники, и он видел, как сборщики с корзинами разошлись по всему склону и приступили к работе. Сабин наслаждался этой картиной, пока не появилась служанка, чтобы увести мула. Она увидела стоящего у окна мужчину и весело ему подмигнула. Сабин оделся и вышел во двор. Он спросил повстречавшегося раба, где можно помыться. Тот на едва понятном молодому римлянину греческом объяснил, что здесь моются раз в неделю, и этот день не сегодня.
— Но у вас же должен быть колодец?
Раб показал рукой в сторону. Да, на заднем дворе оказался колодец и рядом — каменное корыто. Там уже виденная им девушка как раз поила своего мула. Она с ужасом наблюдала, как незнакомец забрался в чан и принялся мыться. Не часто увидишь человека, который добровольно ранним утром плещется в холодной воде. Служанка предположила, что тот, вероятно, дал какой-нибудь обет и теперь пытается умилостивить Артемиду.
Сабину же было неважно, что о нем подумают. Освежившись, он отправился в город. На пути из дома ему встретился хозяин, и Сабин напомнил ему о цветах и еде.
— К полудню все должно быть готово!
— Если ты заплатишь, — пробурчал тот, — получишь все, что захочешь.
Жизнь у храма уже бурлила. Сабина тут же обступили хорошо знакомые запахи ладана, пота и паленого мяса. На этот раз искать долго не пришлось. Елена ждала его на условленном месте в сопровождении служанки Клонии, которая недоверчиво оглядела молодого трибуна.
Они купили ладан; его можно было выбрать из восьми сортов. У входа в храм стояли жертвенные чаши, в которые Елена разложила крупицы, и теперь от них поднимался ароматный голубой дымок. Она пробормотала ритуальные слова, подняла руки, какое-то время молча молилась и обратилась к Сабину.
— Я прошу Артемиду о ребенке и поэтому могу приходить в храм каждые четыре дня.
Они вышли. Сабин шел сзади и смотрел на тонкую хрупкую фигурку Елены. Как в этом теле мог разместиться ребенок? Во всяком случае, он радовался, что проклятому Петрону до сих пор не удалось зародить в ней новую жизнь.
— Куда пойдем на этот раз? — поинтересовалась Елена.
— Домой!
— Домой? Как это?
— Я снял недалеко от храма комнату. Из окна видно пастбище, виноградники…
— Я не пойду! Я не могу позволить чужому мужчине отвести себя в его дом.
— Но, Елена, я тебе не чужой. Или ты хочешь меня обидеть?
Янтарные глаза пристально посмотрели на него, и Сабин почувствовал легкую дрожь. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы тут же не обнять и не поцеловать Елену.
— Нет, обидеть тебя я не хочу, Сабин, нет. Я… я рада, что ты здесь.
Эти слова привели Сабина в восторг:
— Ведь я в Эфесе только из-за тебя.
Ее лицо тут же гневно вспыхнуло:
— Но ты римский солдат! Ты знаешь, что недавно ваш император велел ограбить наши храмы? И, как говорят, не только наши, но и в Азии тоже. А еще рассказывают, что он покушался даже на Юпитера Олимпийского, да только статуя оказалась слишком велика, и ее не смогли сдвинуть с места. Что ты, римлянин, скажешь об этом преступлении?
Сабин поднял руки.
— Разделяю твое возмущение и согласен, что это преступление. Но мне, римскому трибуну, не пристало обсуждать приказы. За это несет ответственность сам император.
— Я слышала, что в Риме статуям отбивают головы, чтобы заменить их на императорские.
— Я тоже об этом слышал, но думаю, что это только слухи. Калигула просто высоко ценит греческое искусство, как большинство римлян. Давай побеседуем о чем-нибудь другом. Как поживает Петрон? Отец пока не выгнал его?
— Об этом я бы как раз не хотела говорить. Далеко до твоего дома?
— Еще несколько шагов, и мы на месте.
Домовладелец сдержал обещание. Окно украшала герань, а в старом кувшине с отбитой ручкой красовались какие-то цветы. Ждал их и накрытый стол: в простые глиняные миски были разложены сушеные фрукты, стояло кислое молоко и разделанная птица. На пол хозяин поставил корзину со свежим хлебом и высокий кувшин с вином. Сабин потер руки:
— Что ты скажешь при виде этой роскоши? Ты голодна?
Елена посмотрела по сторонам:
— Хорошо, что ты придумал снять комнату. Здесь мы сможем спокойно поговорить, и мне не придется все время оглядываться и бояться, что кто-нибудь меня узнает.
Сабин наполнил кружки вином.
— Наверное, в Эпидавре, ты и представить этого не могла? — спросил он.
— О чем ты?
— Что однажды в Эфесе ты окажешься моей гостьей, будешь сидеть со мной за одним столом.
— Должна тебе признаться, Сабин, что тогда не приняла тебя всерьез. Я думала, что ты завлекаешь девушек своими голубыми глазами, хватаешь то, что идет в руки. Теперь, когда ты приехал сюда из-за меня, я сожалею об этом.
Сабин взял хлеб из рук и попытался притянуть ее к себе. Она не поддалась, уперевшись руками ему в грудь.
— Это ничего не меняет. Я замужем и твоей быть не могу.
Сабин отпустил женщину.
— Давай сначала поедим.
Но, похоже, у Елены не было аппетита. Она раскрошила хлеб между пальцами, вяло пожевала куриное крылышко, откусила кусочек фенхеля и положила плод обратно. Сабин же так увлекся трапезой, что не сразу заметил, как мало ела его гостья.
— Тебе не нравится?
— Нет-нет, нравится. Все очень вкусно, но я не голодна.
Он поднял кружку:
— Тогда, может, выпьешь вина?
Елена послушно поднесла свою кружку к губам и сделала маленький глоток.
— Я хочу тебе кое-что сказать… — робко начала она.
Сабин вытер губы.
— Смелее! Расскажи мне, что у тебя на душе, — попытался он ее ободрить.
— Ты был свидетелем моих жертвоприношений Артемиде, и я назвала тебе причину.
— Ты хочешь ребенка…
— Да, но все просьбы к богине бессмысленны.
— Бессмысленны? Как это понимать? Ты бесплодна?
— Надеюсь, что нет. Они бессмысленны, потому что… потому что…
Елена опустила голову и тихонько заплакала. И Сабин погладил ее по волосам.
— Ты уже начала, договаривай, тебе станет легче.
Елена собралась с силами:
— Почему бы тебе об этом и не знать. В конце концов, не я должна стыдиться. Итак, бессмысленно просить Артемиду о ребенке, если муж не в состоянии произвести потомство.
— Не в состоянии? — озадаченно переспросил Сабин. — Чего ж ему не хватает? Из него сделали евнуха?
Елена невольно рассмеялась.
— Нет, все необходимое у моего супруга есть, но женщины его не привлекают. Почти каждый вечер он пьет со своими друзьями, и с ними все время проститутки — и женщины, и мужчины. Петрон, похоже, предпочитает последних.
Сабин покачал головой.
— Я знаю римлян, которые тоже больше любят мужчин, но у них есть дети.
— Он пытался, — вздохнула Елена. — По крайней мере сначала, но из этого ничего не получилось. Я долго думала, сказать ли его отцу, но так и не решилась. Конечно, они все считают виноватой меня, и я не могу больше выносить взгляды его родителей. Как только мы встречаемся, они сразу смотрят на мой живот, а лишь потом приветствуют меня. Петрон неплохой человек, не сильно ограничивает мою свободу, но ему нельзя было жениться.
Сабин громко рассмеялся, поперхнулся и осушил свою кружку.
— Извини, я смеюсь не над тобой, а над всей этой запутанной историей. Как часто я завидовал Петрону, проклинал его в мыслях, и теперь слышу, что ты живешь рядом с ним девственницей.
— Почти так…
— В нашей власти изменить это обстоятельство…
Елена замолчала, отхлебнула вина, посмотрела на Сабина долгим взглядом и тихо сказала:
— Тогда, в Эпидавре, ты был прав, когда говорил, что нельзя выходить замуж за друга детства. Это все равно что брать в мужья брата. Но что я могла сделать? Если бы родилась мужчиной, могла бы в крайнем случае уйти из семьи, пробиваться в жизни без помощи родителей. Но как поступить девушке? У нее есть только две дороги — повиноваться или стать проституткой.
— Ты права, Елена, но Фортуна была к тебе благосклонна, ведь теперь у тебя есть я.
Она не очень сопротивлялась, когда Сабин усадил ее к себе на колени и поцеловал. Он почувствовал, как тело женщины, сначала такое напряженное, стало мягким и податливым, и Елена со всей страстью ответила на его поцелуй. Молодой римлянин поднялся, чтобы задвинуть засов и закрыть ставни. Комната погрузилась в мягкий полумрак, и Елена, сняв одежду, прошептала:
— Я хочу этого. Пусть это произойдет.
Когда глаза привыкли к темноте, Сабин смог разглядеть ее стройное белое тело, увидел блеск в широко раскрытых глазах, которые спокойно смотрели на него. Тело юноши пылало огнем, содрогаясь от нетерпения, но он заставил себя успокоиться, опустился перед Еленой на колени и, едва касаясь губами ее обнаженного тела, покрывать его нежными поцелуями. Кончиками пальцев он ласкал ее грудь, живот, медленно спустился к лобку, но, ощутив легкое сопротивление, не стал проявлять настойчивость, терпеливо выжидая, когда тело женщины проснется, наполнится желанием. И вот она положила руки ему на плечи, прижалась к нему животом. Щеки ее пылали. Елена прошептала:
— Я хочу тебя, Сабин, любимый, сейчас, сейчас…
Этого мгновения Корнелий Сабин так долго ждал, так долго молил о нем всех богов! За все время в Эфесе он не прикоснулся ни к одной женщине, чем навлек на себя шутки других трибунов. Семя его, переполнив чрево Елены, блестело теперь на ее животе и бедрах.
Он тихо засмеялся:
— Сберег для тебя, любимая. И надеюсь, что это не все. Мы отметим наш праздник любви сегодня еще не один раз. Можешь благодарить за это Артемиду.
Елена блаженно раскинулась на постели и улыбалась:
— Вот как это бывает… — произнесла она слабым голосом.
— Да, так это может быть, любовь моя. Тебе пришлось Долго ждать.
— Петрон — жалкое подобие мужчины, бесстыдный развратник, — это прозвучало почти весело.
— Он не должен был жениться на тебе. Теперь ты знаешь, чего он тебя лишает.
— Он такой, какой есть, и этого не изменить.
Сабин засмеялся:
— К счастью, любовь моя, к счастью. Я не хочу тебя ни с кем делить.
Елена, которая в этот день стала настоящей женщиной, чувствовала себя в гармонии с природой и настолько довольной жизнью, что была не в состоянии думать о будущем, полностью отдаваясь своей страсти.
То, что Сабин сотворил с ее телом, было для нее открытием и все же казалось таким естественным, как еда и питье, сон и пробуждение. Его поджарое тело, терпеливая ласка, взгляд веселых голубых глаз — все это стало вдруг таким близким и знакомым, будто давно являлось частью ее жизни.
Тяжело дыша, они оторвались друг от друга; наслаждаясь сладкой усталостью, Сабин положил руку на блестящий от пота живот Елены.
Вдруг комната наполнилась светом. Сабин возмущенно выпрямился, посмотрел в окно и весело рассмеялся. Лошадь заскучала, гуляя по лугу, и решила полюбопытствовать, что творится в доме, толкнув головой ставни. Она потянула носом воздух, вздохнула и снова ушла прочь.
Елена тоже развеселилась:
— Лошадь так возмутило то, что здесь происходит среди белого дня, что она даже вздохнула.
Сабин закрыл ставни на крючок.
— Но сначала она принюхалась и, возможно, подумала: «Здесь пахнет человеческой любовью — отвратительный запах. Аромат жеребца куда приятнее».
— Кому что нравится.
Сабин поцеловал ее в плечо.
— Мне нравишься ты. Я люблю тебя, Елена.
— Чем это кончится, Сабин?
— Все только началось. Ты будешь и дальше приносить жертвы Артемиде, а я ждать тебя здесь. На твою служанку можно положиться?
— Клония всегда заботилась обо мне. В доме она единственный человек, которому я доверяю. Правда, ей не по нраву то, что я делаю, но она ведь женщина, любила мужчин, рожала детей — и должна меня понять.
— Ты любишь меня, Елена?
Она закрыла глаза, будто в раздумье.
— Дай мне время, Сабин. Мне надо во всем разобраться. Если подумать, сейчас ты единственный мужчина, которому я благодарна. На отца я злюсь из-за того, что он отдал меня Петрону, а Петрон вообще не мужчина, которого может любить женщина. Правда, по закону он является моим мужем, но волей богов им стал ты. Возможно, это ответ Артемиды на мои жертвоприношения. Она, конечно же, знает, что рядом с Петроном я никогда не забеременею, даже если каждый день буду жертвовать ей быка. Поэтому она свела нас вместе, как свойственно богине, которая отвечает за любовь и потомство.
Сабин покачал головой:
— Ты кое-что забыла: мы познакомились до твоего замужества, до того, как ты стала совершать пожертвования.
— Что ты знаешь об Артемиде! Она умеет творить чудеса и знает сердца людей. Ты вообще веришь в богов, Сабин?
— Любимая, есть занятие поинтереснее разговоров об Олимпе. Времени у нас не так много. Давай используем его с толком!
Елена приподнялась на подушках:
— Который сейчас час?
— Два часа до захода солнца.
— Я должна идти. Где здесь можно помыться?
— Во дворе, у колодца. Ты найдешь там много благодарных зрителей из числа рабов.
Он натянул тунику, открыл дверь и громко крикнул:
— Нам нужна вода! Полный кувшин!
Через некоторое время в дверь постучали. Сабин, чуть-чуть приоткрыв ее, втянул кувшин в комнату. Елена долго и тщательно мылась, а потом поправляла прическу.
— Когда ты снова придешь? У меня еще есть пять свободных дней.
— Послезавтра начинается подготовка к осеннему празднику Артемиды. Девушки и женщины будут украшать храм цветами и фруктами. Думаю, что тогда и смогу прийти к тебе.
— Чтобы снова отпраздновать наш праздник любви, — с улыбкой произнес Сабин.
— Посмотрим… — неопределенно ответила Елена, поскольку не хотела показать, как рада будет возможности встретиться с ним снова.
Свои свободные деньги Кассий Херея решил использовать для покупки соседних неосвоенных земель. Император Август превратил Транстибериум в новый городской квартал, который тогда представлял собой пашню с несколькими крестьянскими дворами. Часть этой территории, поделив на маленькие участки, населили бедные горожане, а часть получили люди состоятельные, построившие здесь роскошные виллы с пышными садами. Одна из них принадлежала когда-то Юлию Цезарю, и здесь жила во время визитов в Рим царица Египта Клеопатра. Земля все время дорожала, и Херея понял, что действовать надо быстро. Он расширил свой дом, пристроив крыло, а у садовника появилась собственная хижина.
— Трибун дворцовой охраны императора не должен жить как простой ремесленник, — сказал он Марсии. — Нам придется чаще принимать гостей, отвечать на приглашения других офицеров. Кстати, я хочу на участке земли, который мы выкупили у Бабула, построить дом. Когда-нибудь он станет твоим вдовьим наследием.
— Ни слова об этом! Поосторожнее с такими речами, боги могут разгневаться! Я вовсе не хочу становиться вдовой.
— Но, Марсия, — попытался он успокоить ее, — я почти на пятнадцать лет старше тебя, и это вполне естественно…
— Нет! Не желаю ничего слышать.
«Так она хочет сказать мне, что любит меня», — растроганно подумал Херея и поцеловал жену в обе щеки.
Она рассмеялась.
— Между прочим, посыльный принес тебе письмо.
Херея взял в руки свиток и сломал печать.
— От Корнелия из Эфеса! Ему давно пора дать о себе знать. Сначала я прогляжу его сам, а потом прочитаю тебе вслух.
Марсия улыбнулась.
— Ты просто хочешь проверить, что подходит для моих ушей? Ладно, уходи. У меня есть занятия поважнее разговоров с тобой.
Херея посмотрел на жену с высоты своего огромного роста, как собака глядит на хозяина. Он очень любил ее и готов был на все, чтобы сделать Марсию счастливой. Сейчас же трибун притворился обиженным и с ворчанием удалился.
Чтение давалось ему проще, чем письмо, и Херея с удовольствием углубился в послание друга, которое оказалось немаленьким.
«Приветствую и желаю тебе здоровья, друг Херея.
Сначала хочу поблагодарить за совет поступить в армию и отправиться в Эфес. Я нашел Елену, и теперь она стала мне женой, но, конечно, не по закону. Елена замужем за трижды проклятым любителем мужских задниц, который ни на что не годится в работе и ночи напролет развлекается в публичных домах. Ты знаешь, что я ничего не имею против любителей мальчиков — и среди Корнелиев такие встречались, но они не имеют права жениться. Семейство об этом догадывается, но все равно с упреком поглядывает на Елену, поскольку ее живот не растет. Но скоро все изменится. Представь себе, Херея, она оказалась девственницей спустя полгода жизни в браке!
Служба здесь нетрудная. Наш легат скоро уйдет на покой, и не особенно заботится о дисциплине. После поединка с одним из центурионов я нашел с ними общий язык — надо признать, что без твоих уроков это могло бы обернуться трагедией.
Небольшое волнение вызвала делегация из Рима, которую прислал Калигула, чтобы вывезти из здешних храмов статуи богов. Конечно, эфесцы возмутились, и дело едва не дошло до столкновений. Я знаю, что ты искренне предан императору, и у него, конечно, много достоинств, но этот приказ заставил меня сомневаться в его мудрости. Ни Август, ни Тиберий не допустили бы такого, потому что всегда придерживались древнего принципа римской империи: „Щадить побежденных, подавлять мятежников“. А где в Эфесе мятежники? Люди трудятся, благодарят богов за мир и беспрекословно платят высокие налоги, чтобы римские плебеи могли жить безбедно. Возможно, Калигула прислушался к вредным советам. Я бы на его месте поостерегся ссоры с Эфесом. Это древний город, Херея, и говорят, что здесь проживает, не считая рабов, двести пятьдесят тысяч человек. Столетиями тут почитают богиню Артемиду, ее храм много раз перестраивали, и он становится все красивее и больше. Сейчас это почти маленький город. Здесь служат сотни жрецов и жриц.
С почитаемой в других греческих городах Артемидой, или нашей Дианой, великая эфесская богиня имеет мало общего. Я еще помню, как мы смеялись, когда ее называли девственной охотницей или повелительницей диких зверей. Здешняя Артемида напоминает кого угодно, но не девственную охотницу. Эта богиня покровительствует браку и плодовитости, поэтому ей в основном поклоняются женщины и девушки. Мужчины приходят сюда только для того, чтобы выбрать жертвенных животных для своих бесплодных жен. И какие только жертвы здесь не увидишь! Каждое утро к храму приводят и приносят быков, овец, коз, баранов, кукарекающую и крякающую птицу. Я не говорю уже о том, что храм служит одновременно и местом сделок. Ты можешь здесь взять заем, заложить имущество, дать деньги под проценты.
Эфес в основном населен греками, но сегодня это римская провинция. Август, как известно, его любил и многое сделал, чтобы придать Эфесу должный блеск, однако характер города остался греческий. Здесь не ведут себя на улицах так бесцеремонно, как в Риме; эфесцы сдержаннее, воспитаннее и приветливее друг с другом. Правда, никто не говорит сейчас на языке Гомера и Еврипида, и я долго учился понимать их речь.
Тебе пришлось побродить по свету, Херея, и ты знаешь, как любят римляне называть другие народы варварами, и иногда по праву. В случае с Эфесом все наоборот. Местный народ вежлив, и ты не услышишь никаких оскорбительных намеков, но чувство, что римляне здесь воспринимаются как варвары, будет сопровождать тебя постоянно. В чем-то эфесцы правы. Рим был маленькой деревушкой, когда здесь уже кипела городская жизнь, а то, что латиняне переняли у греков всех богов, знают все — пусть мы и дали им другие имена.
Что станет дальше со мной и Еленой, не знаю. Я живу от одной встречи с ней до другой, прогоняя мысли о будущем. Мое предложение развестись с Петроном не нашло у нее отклика. Елена очень привязана к Эфесу и ко всем своим родственникам, а Рим представляется ей городом разбойников, в чем она частично права. Возможно, она хочет, чтобы я остался в Эфесе и терпеливо ждал, пока ее супруга задушит в объятиях любовник. Конечно, это было бы неплохо, но я не тешу себя подобными надеждами.
Мне хочется, чтобы ты был рядом и мог что-нибудь посоветовать.
Попроси за меня Фортуну быть к нам милостивой и напиши побыстрее ответ.
Надеюсь, что у Марсии и детей все хорошо. Передай своей жене привет от вашего Сабина».
Херея свернул свиток и задумался. Его беспокоила одна фраза: «Что станет дальше со мной и Еленой, не знаю!» Какой-нибудь выход всегда можно было найти, но друг его находился в сложном положении. Сабин хотел от него, Хереи, совета, но советовать влюбленным сложно. Если бы все происходило в Риме, он уговорил бы Сабина потребовать развода. Но римскому трибуну в Эфесе необходимо помнить об осмотрительности, так же как и гречанке Елене, которая заботилась о чести семьи.
Херея хотел ответить на письмо как можно скорее, но это означало для него тяжелый труд и требовало целого свободного дня. Он пошел к Марсии и прочел вслух послание Сабина, а потом спросил:
— Как бы ты поступила на его месте?
— Мужчина лучше бы смог ответить на твой вопрос, но я могу встать на место Елены. Я бы сделала все, чтобы оградить семью от неприятностей. К тому же из письма не ясно, любит ли она его так же, как он ее. То, что жена содомита хотела бы иметь в постели нормального мужчину, я хорошо понимаю, но в том, чтобы она ради Сабина оставила все — семью, друзей, родину, сомневаюсь.
— Не хотел бы я оказаться на его месте, — сказал Херея и принялся размышлять, что же посоветовать влюбленному другу.
21
Пятнадцатого октября в Риме должен был состояться древний праздник, настолько древний, что никто уже и не знал, чему он был посвящен. Начиналось торжество с гонок возничих на Марсовом поле. Императора пригласили, послав на Палатин делегацию. Поскольку в этот день ничего интересного не предвиделось, Калигула ответил согласием, и теперь на ипподроме поспешно сооружали трибуну и украшали ее сосновыми ветвями и лавром.
— Я никогда не принимал участия в этом торжестве. Что там должно происходить? — спросил император у Каллиста.
— Ничего интересного, — ответил тот. — Каждый квартал города представляет свою колесницу. Выигравшую лошадь убивают. Народ приписывает ее крови магическое действие. Потом два квартала соревнуются за обладание лошадиным черепом. Тот, кто выигрывает, может украсить им свое главное общественное здание. Это, собственно, все.
Калигула зевнул:
— Похоже, я умру со скуки. У тебя нет для меня ничего поинтереснее?
— Отменить твое согласие, император?
— Да, пошли вместо меня Клавдия, тогда у народа будет по крайней мере над чем посмеяться. Что есть еще?
Каллист полистал прошения и обратил внимание на одно имя:
— В Риме находится Меммий Регул, наместник в Македонии и Ахайе. Он достойный слуга императора, ты сам много раз подтверждал его в должности. Регул недавно овдовел, а теперь женился вновь и завтра уезжает в Ахайю. Он просит тебя об аудиенции. Кстати, он взял в жены красавицу Лоллию Павлину.
— Лоллия Павлина… — задумчиво повторил Калигула.
— Да, ее отец, консул Марк Лоллий, умер несколько лет назад, и она получила богатое наследство. Регул — счастливчик, сам-то он происхождения скромного.
— Но честный человек: во время процесса над Сеяном имел немалые заслуги. Он принадлежит к небольшому числу наместников, из чьих провинций не поступает жалоб. Меммий заслуживает быть принятым — и жену пусть приведет с собой.
«Вот как, — подумал секретарь. — Ясно, в чем дело. Едва услышал, что жена — красавица, так сразу захотел ее увидеть».
Каллист знал своего господина и пожалел Регула, но все же отправил ему приглашение на ужин с императором.
Калигула пригласил только самых близких друзей, поэтому столы накрыли в маленьком зале.
Император милостиво приветствовал Меммия Регула, но при виде его жены остолбенел. Да, она была очень привлекательна: правильный овал лица, большие темные глаза, но в Риме красивых женщин хватало. Калигулу поразило ее сходство с Друзиллой. Глаза Павлины загадочно блестели, а тихий мелодичный смех — как у любимой сестры — звучал волшебно.
Частично иллюзии сходства способствовал, конечно, вечерний полумрак, но императора она околдовала. Против обыкновения он обошелся без грубых шуток и циничных замечаний, пригласив гостью присесть рядом, угощал лучшими кусочками.
Присутствующий на ужине Эмилий Лепид с удовольствием наблюдал за происходящим, думая, что, если Калигула отберет у Регула жену, в кругу заговорщиков станет на одного человека больше.
Сначала все шло, как обычно. Император старался произвести на Павлину впечатление и весь вечер беседовал только с ней. При этом он блистал тем, чем владел лучше всего: искристой отточенной речью. Павлина впитывала каждое его слово и радовала Калигулу умными вопросами. Такого гармоничного, полного наслаждения вечера друзья Гая Цезаря не припоминали. Стол ближе к полуночи убрали, и император неожиданно вежливо простился с наместником и его женой. Лепида, которому казалось, что Калигула грезит наяву, он задержал.
— Мне нужен твой совет, Лепид. Я хочу любой ценой заполучить Павлину, но без насилия и не вызывая ее недовольство. Эта женщина — это нечто особенное, и я не хочу ее сердить. Придумай что-нибудь.
— Я понял, император, что Регул, как и прежде, пользуется твоим расположением. Ты хочешь оставить его на должности наместника?
— Да, Лепид, — недовольно сказал Калигула. — Да, это так! Регул старателен, и его трудно заменить. Не надо его трогать, я хочу только его жену.
— Тогда надо обоих принудить к разводу.
— Нет, — настаивал Калигула. — Никакого принуждения, никакого насилия.
— Хорошо. Тогда нужно что-нибудь придумать, что сделает брак недействительным. Боюсь, все получится только за счет Регула. Пусть кто-нибудь засвидетельствует, что он тайно женат, или он должен поклясться, что не может жить в браке.
— Нет. Это выставит его на посмешище, обесчестит. Какие причины еще могут быть?
— Мать Павлины еще жива… Регул должен подтвердить, что является отцом Павлины. Он на двадцать лет старше, так что вполне мог бы им быть.
Калигула просиял:
— Правильно, Лепид! Регул подтвердит в суде, что когда-то был любовником матери своей жены и только сейчас обнаружил их сходство. Брак будет признан недействительным! Ты можешь все устроить — от моего имени, конечно?
— С удовольствием, Гай. Прости, император!
— С глазу на глаз ты можешь называть меня Гаем. Мы ведь давно знаем друг друга и много пережили вместе.
«Да, Сапожок, — с ненавистью подумал Лепид, — это было. Но то, что я теперь замышляю, произойдет без твоего ведома, хотя тебе и отведена главная роль».
Он с улыбкой поклонился:
— Я сделаю все, Гай, и хочу уже сейчас пожелать тебе счастливого брака. Да благословят тебя боги!
Калигула протянул Лепиду руку для поцелуя.
— Лоллия Павлина Августа — звучит неплохо.
Эмилий Лепид радовался. Регул должен был возненавидеть того, кто разрушит брак, а он постарается сделать все, чтобы разжечь эту ненависть. С таким намерением Лепид отправился на следующее утро к Регулу. Он начал издалека, притворяясь смущенным.
— Я пришел по поручению императора. Речь идет об одном щекотливом деле — я не знаю, как начать…
Плебей Регул умел владеть собой. Он потратил полжизни, чтобы добиться нынешнего высокого положения, проглотил за это время немало обид, и гордость патриция была для него понятием чуждым. Ему часто приходилось идти на уступки, и он был намерен поступать так и дальше.
— Чего бы император от меня ни потребовал, он всегда сможет рассчитывать на согласие. Я много раз доказывал, что это не пустые слова, и во времена Тиберия. Не секрет, что в черном списке Сеяна мое имя стояло в самом начале.
Лепид поднял руки:
— На тебя никто не нападал, а ты уже защищаешься. Император ценит твои заслуги и дал мне вчера понять, что в Римской империи дела шли бы гораздо лучше, будь в ней больше таких людей, как ты. Нашему принцепсу понравилась твоя жена — настолько, что он хочет сделать ее императрицей. Страсть его выше всякого рассудка, и он поручил мне подготовить соответствующее предложение при условии, что ты вообще согласен отпустить Павлину.
Регул рассчитывал на что угодно, только не на это.
— Но… но как он себе это представляет? Мне ее прогнать, развестись? По какой причине? Конечно, я понимаю, что в Павлину можно влюбиться, но есть брачный договор, свидетели…
— Ах, Регул, сложно это было бы, если бы Павлину захотел у тебя забрать кто-то другой, но император, как бог, стоит над всеми людьми и законами. Калигула решил, что тебе следует заявить о том, что Павлина твоя дочь. Ведь нельзя же жениться на собственной дочери.
Регул поперхнулся:
— Павлина — моя дочь? Но нельзя же…
— Конечно, можно. Восемнадцать лет назад ты был любовником ее матери. Брачный договор аннулируют, и ты станешь ее отцом. И как таковой выдашь ее за императора. Вот так просто.
— Что я за это получу?
— Теперь мы друг друга понимаем. Император подтвердит тебя в должности на дальнейшие пять лет. В твоих провинциях будут введены самые низкие налоги, что скоро сделает тебя еще богаче. Все бумаги с подписями и печатями я принес с собой, тебе остается только дать согласие.
— Я согласен!
Лепид был разочарован.
— Хочу спросить… Просто из любопытства. Куда подевалась твоя гордость свободного римлянина?
— Служить императору и выполнять его распоряжения — вот моя гордость.
«Ну что же, — подумал Лепид. — Едва ли такой человек годится в заговорщики. Но ничего, найдем других».
Лоллию Павлину никто о согласии не спрашивал. Через девять дней она стала супругой императора.
Второй год правления императора Гая Юлия Цезаря Августа подходил к концу. Среди простого люда он по-прежнему был популярен, но римская знать смотрела на него с растущим недоверием и страхом. Сенат послушно искал возможности скорейшего осуществления «пожеланий» императора. Расширенный еще Юлием Цезарем до девятисот человек, этот институт власти состоял из патрициев и плебеев. Новых сенаторов избирали, но со временем их должности стали передаваться по наследству от отца к сыну.
Так возникли сенаторские семьи, члены которых со времен республики имели определенные привилегии. Независимо от происхождения они наслаждались богатством и уважением. Внутри сената существовали различные группировки, среди которых самыми влиятельными были консульские.
Калигула смотрел на сенаторов как на заклятых врагов, подозревая в каждом предателя и заговорщика — неважно, происходил он из плебеев или из патрициев. При этом недовольные друг другом сенаторы объединялись, когда император — на что он имел право — пополнял их ряды новым человеком. Такого встречали настороженно.
Август всегда подчеркивал значение и уважал сенат, но его силы и авторитета хватало на то, чтобы удерживать власть в своих руках. Тиберию сенат достался сговорчивым и послушным, чем воспользовался и Калигула, за спиной которого стояли десять тысяч преданных ему преторианцев.
Калигула решил выслушать налоговую комиссию. В нее входили его секретари Каллист и Геликон, некоторые вольноотпущенники и несколько слепо преданных императору сенаторов, назначенных на эту должность лично им самим.
Принцепс пристально смотрел на сидящих перед ним людей, и многим из них, судя по всему, было неуютно под этим взглядом. Чуть погодя они услышали резкий голос императора.
— Я, как и боги, никогда не останавливаюсь на полпути. Реформа должна стать всеобъемлющей, какой империя не знала ни во времена республики, ни при моих предшественниках. При этом я исхожу из той мысли, что каждый человек, каждый раб, каждое действие, процесс или предмет в Римской империи в соответствии с обстоятельствами должны нести бремя налогов. Все на территории государства наслаждаются мирной жизнью, и своей свободой римские граждане обязаны сильной власти. Это касается и собственников, владеющих людьми, животными и разным имуществом. Но сильное государство нуждается в деньгах для армии, для служащих, для должного блеска, который оно распространяет, чтобы служить примером для других. Теперь перейдем к практике. Конечно, налоги существовали и до сих пор, но мне видится произвол в том, что одних они касались, а других нет. Сейчас охваченными окажутся все. Отныне супружеским парам придется платить за возможность сожительства. Кому посчастливилось жить и трудиться в Риме, в будущем должен оплачивать свое счастье. Это касается всего — от проживания до продажи крестьянами здесь скота и продуктов. Восьмую часть дохода должны отправлять в государственную казну также поденщики и нищие. Я сторонник справедливости, и если вам показалось, что реформа коснется только простого люда, то вы ошибаетесь. Она охватит и знатные, сенаторские и консульские семьи. Покупка каждого раба, виллы, личных терм, произведений искусства, статуй, мозаик, аттических ваз будет облагаться налогом. Кто хочет сохранить свое благородное имя, должен вносить ежегодную плату, чтобы его не вычеркнули из списков патрициев. До сегодняшнего дня каждый, кто вел дело в суде, ничего не платил государству. Пора положить этому конец: теперь четвертая часть оспариваемого будет отходить в казну, а также в тех случаях, когда спорщики достигнут согласия.
Калигула замолчал, оглядев присутствующих. Все сидели с опущенными головами. Он продолжил:
— Каждый из вас получит копию проекта решения сената, и я жду от вас предложений о путях проведения реформы. В конце скажу несколько слов о штрафах: для плебеев достаточно будет десяти ударов плетью, но богатым нарушителям закона грозит в лучшем случае изгнание и потеря половины состояния, а при тяжелых проступках — смертная казнь и продажа семьи в рабство. Это все.
Когда в следующем году началась налоговая реформа, популярность Калигулы заметно упала, особенно среди тех, кого она коснулась: мастеров, торговцев, поденщиков, а также нищих, воров и сводников, которые сначала не хотели верить в свои новые обязанности. При этом распоряжения вывесили по всему городу, а тем, кто не умел читать, содержание пересказывали.
Все это, как и многие другие идеи Калигулы, преследовало далеко идущие цели. Конечно, он знал, что с мелких торговцев, сводников и проституток много не возьмешь, но новый закон развязывал ему руки для открытой борьбы с богатыми людьми. Кто не проявил достаточной сообразительности, поплатился своим состоянием или даже жизнью.
Состоятельные семьи принимали соответствующие меры. Тому, кто был богат, но не занимал высоких должностей, приходилось проще. Они отправляли свои деньги в провинции — Лузитанию, Армению, Месопотамию… Там вырастали роскошные виллы, которые скрывающиеся обживали под чужими именами, надеясь переждать страшные времена. Сборщики налогов и там обнаруживали беглецов, однако случалось такое не часто, да и подкупить служителей закона не составляло труда. Тяжко пришлось тем, кто занимал видные посты или происходил из известного рода. Многие пытались избежать смерти, составляя завещание, в котором треть или половину имущества отдавали императору.
То, что при этом можно было просчитаться, доказывало случившееся с Секстием Помпеем. Этот очень богатый человек достиг шестидесяти лет, похоронил жену и обоих детей. Теперь он жил один, любил хорошую еду, развлечения и собрал большую библиотеку. Все, к чему он стремился, — в полном покое наслаждаться всем этим и, когда придет его время, мирно умереть в своей постели.
Рим покидать он не хотел и поступил как нельзя более разумно, обратившись к Каллисту. Секретарь императора незамедлительно принял Помпея, поскольку таким богачам не пристало ждать долго. Он открыто изложил свое дело.
— Но ведь это совсем просто! — воскликнул Каллист. — Тебе не надо думать о семье; император, конечно, знает об этом. Я устрою тебе аудиенцию, и ты скажешь Калигуле, что почтешь за счастье завещать свое состояние ему. Подбери соответствующие благодарственные слова; упомяни обязанности истинного римлянина по отношению к принцепсу, подчеркни, что это твоя свободная воля. Ты можешь также вскользь пожаловаться на слабое здоровье и то, что врачи тебе дорого стоят. Ведь это действительно так? Кроме того, я бы уже сейчас сделал ему маленький подарок, скажем, миллион сестерциев…
— Для меня это немного, — сказал Помпей. — И ты думаешь, что тогда император оставит меня в покое? Я имею в виду до того момента, как… как придет мое время?
Каллист улыбнулся:
— За кого ты принимаешь нашего принцепса? За вымогателя или даже за убийцу?
Помпей побледнел.
— Нет, во имя всех богов, конечно нет! Я это так сказал, не подумал…
— Да я ничего и не слышал.
Император пригласил Помпея на обед. Он находился в прекрасном расположении духа, смеялся, шутил и несколько раз справился о здоровье гостя.
— Для шестидесятилетнего ты выглядишь очень бодрым. Не собираешься жениться еще раз?
— Нет, император. Я живу теперь лишь воспоминаниями и хотел бы провести последние годы в уединении, изучая исторические труды. Да и здоровье мое оставляет желать лучшего. Я уж и не знаю, сколько еще времени боги отпустили мне.
Калигула узнал от Каллиста о размерах состояния своего гостя. Оно насчитывало триста миллионов сестерциев, и пока Помпей был жив, эти миллионы принадлежали ему. О старике грустить некому, рассуждал император, завещание составлено… К чему тогда ждать?
Калигула громко рассмеялся, и Помпей испуганно поднял на него глаза.
— Что тебя так развеселило, император?
— Мысль о том, что я в любой момент могу отрубить тебе голову. Надо только кликнуть преторианцев, и — опс!
Калигула провел указательным пальцем по своей тонкой шее. Помпей замер в ужасе, а император продолжил:
— Конечно, я этого не сделаю. Зачем? Человек, который все свое состояние завещал императору, заслуживает всяческого уважения. К тому же ты сказал, что не совсем здоров. Больные достойны сочувствия, не так ли? Выпьем еще вина, а потом ты должен меня извинить.
Помпей облегченно вздохнул. Это была не очень удачная шутка, вот и все.
Император сам налил гостю вина.
— Этому фалернскому десять лет! Выпьем за Рим, наших богов и твое здоровье!
Помпею вино не понравилось: у него был какой-то странный привкус. Он, во всяком случае, пил и получше. Вдруг желудок охватило огнем, у старика вырвался глухой стон, кубок выпал из рук, и откуда-то издалека до него донесся голос императора.
— Что случилось, Помпей? Вино не пошло тебе на пользу?
Последние слова он уже не расслышал — рухнул на пол, извиваясь всем телом, захрипел и скоро притих.
Калигула позвал охрану:
— Уберите! Кажется, он подавился. Пусть о нем позаботятся врачи.
На следующее утро в Риме стало известно, что Секстий Помпей подавился костью и умер.
Эмилий Лепид внимательно следил за ходом событий. Он продолжал вести тайную переписку с Лентулием Гетуликом, которому обо всем рассказывал. Легат должен был чувствовать возрастающую с каждым днем опасность попасть в смертельный водоворот. Гетулику пришлось принять в легион нескольких трибунов, назначенных лично Калигулой, и опасения его оправдались: император прислал шпионов. Легат вел себя как ни в чем не бывало, но в голове его сложился определенный план. Он хотел заманить императора на Рейн, например, под предлогом возможного бунта германских племен, который необходимо предотвратить. Положение при этом нельзя было изображать слишком опасным, чтобы ненароком не отпугнуть Калигулу, но обязательно указать на то, что император — сын любимого здесь всеми Германика — сможет снискать себе славу полководца.
Опасная переписка между обоими заговорщиками велась через надежного человека, и письма Лепид сразу уничтожал, прочитав их вслух Агриппине.
Агриппина играла с маленьким Нероном, когда вошел Лепид. Прелестный малыш делал свои первые шаги.
Лепид улыбнулся:
— У меня к тебе дело. Гетулик прислал письмо.
Агриппина приложила палец к губам, бросив взгляд на служанку. Она передала мальчика рабыне и велела ей уйти.
— Мы должны избегать любого риска. Возможно, ее спросят, как часто она слышала имя Гетулика в моем доме, кто знает?
— Ты права, любимая, нужно быть осторожными. Я прочитаю тебе только самое важное. Кстати, он никогда не называет Калигулу по имени, только «он» или «ему». Итак, слушай:
«…я по-прежнему считаю, что все надо сделать подальше от Рима. Правда, его будут сопровождать преторианцы, но больше тысячи человек он с собой не возьмет. Если же останется в Риме, пусть все случится там. Самым благоприятным будет начало лета, тогда я со своими войсками быстро перейду через Альпы. Вы можете рассчитывать на пять моих легионов и — в случае если сюда придет тайное известие о кончине, — еще на пять легионов моего тестя Априния. Он чрезвычайно осторожен и не допустит участия своих легионеров в мятеже, но поклялся Марсом, что поддержит тебя, когда дело дойдет до вопроса о преемнике. Значит, путь свободен, и мы можем уже в этом году добиться поставленной цели. Жду твоего сигнала».
Лепид опустил свиток и вопросительно посмотрел на Агриппину.
— Что скажешь?
На лице женщины ничего не отразилось, только глаза блестели как в лихорадке.
— Я посмею обрадоваться, только когда труп чудовища будет пылать на костре и преторианцы присягнут Эмилию Лепиду. Но не забудь о нашем договоре! Мы поженимся, ты усыновишь Нерона и провозгласишь его своим наследником. Это мое условие!
— Мы ведь все давно обговорили! Кроме того, я хочу взять тебя в жены не только из-за общих планов, а потому что люблю. Никогда об этом не забывай!
Агриппина смотрела на лицо любовника, не лишенное красоты, но со следами распутства. Раньше она считала его просто бездельником, ни на что не способным, кроме как тратить деньги Калигулы. Это была ошибка: Лепид показал себя мужественным и очень неглупым человеком, ведь он знал, что их затея могла стоить ему головы. Агриппина уважала его и была готова закрепить брачными узами его право на трон, но сердце ее целиком принадлежало сыну, и только ради него она старалась.
Пираллия провела лето с богатым поклонником в Неаполисе и по возвращении узнала о приглашении во дворец. Она чувствовала себя отдохнувшей и готовой к новым приключениям.
Об императоре в последнее время не рассказывали ничего хорошего, хотя приезжающие в Неаполис римляне изображали его выходки и шутки скорее как оригинальные.
Как она должна была отнестись к приглашению? Они виделись лишь однажды, но Пираллия помнила каждую мелочь. Он посмотрел на нее своими странными неживыми глазами и потом сказал: «Ты нравишься мне, Пираллия», на что она ответила: «Ты мне тоже нравишься».
Но не внешность возбудила в ней симпатию; Пираллия верила, что за этой маской неподвижности скрывается несчастный человек. А как он от души рассмеялся, когда она назвала его сенатором!
Позже он приглашал ее на какой-то праздник, но тогда она могла видеть его лишь издалека. И вот теперь приглашение прийти на Палатинский холм. Может быть, опять какое-нибудь торжество? Она спросила хозяина публичного дома, но он ничем не смог ей помочь, а снова повторил:
— Мне сказали, чтобы я передал тебе, как только ты появишься, что тебя ждут во дворце. Больше ничего не знаю.
Пираллия отправилась туда на следующее утро. Вход загородил преторианец.
— Кто передал тебе это и когда?
— Я была в отъезде и узнала обо всем только вчера. Кто это был, не знаю. На всякий случай доложи императору, что я приходила.
Солдат громко рассмеялся.
— Императору! А почему не богу? Кто-то просто подшутил над тобой. Забудь об этом.
Но Пираллия упорствовала:
— Пошутил? Не верю. Во всяком случае, я знакома с императором лично. Когда построили храм Исиды, он и меня пригласил на праздник…
— Ты знакома с императором лично?
— Да. Мы как-то разговаривали.
Преторианец задумался.
— Я запишу твое имя и передам секретарю. Пусть решают во дворце. Где тебя можно найти?
Пираллия объяснила и ушла. Ее имя попало в длинный список просителей. Каллист обратил внимание на пометку напротив: «Утверждает, что знает императора лично и должна явиться во дворец».
Секретарь застонал. Вечные попытки пробраться во дворец! И в основном это были женщины, которые питали надежду обратить на себя внимание. Каллист отодвинул листы в сторону. Мусор!
Почему все это должно проходить через его руки? Существовали, в конце концов, еще дюжины писарей и секретарей, но никто из них не осмеливался принимать решение.
Каллист лукавил. Он был занят на службе по двенадцать, иногда пятнадцать часов, но в этом-то и состояла власть: знать обо всем, решать, о чем докладывать императору, а о чем нет.
Он очень удивился, когда несколькими днями позже Калигула вдруг сам спросил:
— Некая Пираллия не просила в последнее время об аудиенции? Она давно уже должна была объявиться.
Каллист поморщил лоб.
— Пираллия? Прости, император, но столько имен… Сейчас проверю.
После коротких поисков имя нашлось. Бледное лицо Калигулы раскраснелось, глаза метали молнии.
— Почему я об этом ничего не знаю? День за днем ты называешь мне тысячи имен, но как раз эту женщину назвать забыл. Это непростительная ошибка, Каллист!
Толстый секретарь сжался, будто хотел стать невидимым. Калигула любил такие сцены покорности и смирения, а Каллист превосходно их исполнял.
— Божественный император, прости! Твоя сверхчеловеческая память сохранила имя, на которое я, старый осел, не обратил внимания. Сегодня же пошлю этой женщине приглашение во дворец.
Буря улеглась.
— Я все время забываю, что имею дело с людьми. Ты стараешься, Каллист, я знаю. Позаботься о том, чтобы Пираллия пришла к ужину.
Калигула был зол. Новая супруга его глубоко разочаровала, и он не знал, что с ней теперь делать. Сначала он надеялся, что нашел в ней вторую Друзиллу, баловал сверх всякой меры, осыпал подарками. Но сущность Лоллии Павлины совершенно не соответствовала вкусу Калигулы. Став императрицей, она хотела вести светский образ жизни, с пышными приемами, великолепными выходами в театр, торжественными посещениями храмов. От Друзиллы в ней не было и следа, Лоллия скорее являлась ее противоположностью: вела себя сдержанно, никогда не теряла головы.
Калигула же так ценил в Друзилле непредсказуемое, переливчатое, постоянно меняющееся настроение, неожиданные причуды, которыми она могла украсить его досуг. Сверх того, Павлина оказалась холодной женщиной.
— Нет, так ведут себя только звери. Я не стану этого делать! Прекрати немедленно!
Уже несколько недель Калигула не заходил в ее спальню, и как раз это, казалось, пошло Лоллии на пользу. Она цвела как роза, начинала свой день на рассвете, а ее секретарь каждое утро приносил целый список дел.
Пираллия пришла во дворец точно за час до захода солнца. На этот раз перед ней повсюду распахивались двери. Император принял ее в маленькой трапезной, в которой бывали только самые близкие ему люди. Женщина хотела опуститься на колени, чтобы поцеловать руку Калигулы, но тот встал ей навстречу:
— Оставь! Это же не государственный прием, а скромный ужин среди друзей. Кроме тебя, здесь будут только Лепид, Азиатик, актер Мнестр и возничий Евтюхий.
— И никаких женщин?
— Нет, только ты. Я хочу познакомить тебя с моими друзьями. Лепида ты уже встречала, а вот Мнестра… не знаю, можно ли представить его как мужчину? Он выступает в женских ролях так убедительно, что теряешься в догадках, кто же он на самом деле? Весь Рим говорит о том, что он мой любовник, но это неправда.
Пираллия улыбнулась.
— А если бы и так? Наверняка Мнестр достойный любви человек.
— Да, Пираллия, он такой! А какой актер! Я недавно собственноручно высек одного плебея, потому что тот шумел во время представления. Мнестр великолепен!
Пираллия с любопытством оглядывалась по сторонам.
Калигула чувствовал, что эта женщина спокойна, довольна жизнью. Это притягивало, поскольку было необычно. Ему было странно, что есть люди, которые не страдают от скуки, не вспыльчивы, не жестоки и не злорадны, которых не мучают какие-то необъяснимые желания.
Даже в его присутствии Пираллия излучала спокойствие и уверенность, будто не император пригласил ее разделить с ним трапезу, а она его.
Когда гости собрались, Пираллия всех внимательно оглядела.
Первым пришел Лепид. Его она уже видела. При его появлении у Пираллии возникло странное чувство. Хитрый, внимательный взгляд Лепида походил на лисий, и в зал он заходил, будто принюхиваясь. Ее не ввело в заблуждение мнимое смирение. Гречанка почувствовала в этом человеке силу и решительность.
Потом вместе пришли Валерий Азиатик и Евтюхий — наверное, случайно. Сенатор шел с высоко поднятой головой впереди возничего. Его поклон не был глубоким, а красивое лицо не отражало эмоций.
Евтюхий глупо заулыбался, когда ему представили Пираллию, и что-то пробормотал.
Мнестр немного опоздал, но это было привилегией человека искусства. Он вошел танцующей походкой, будто на сцену, бесконечно долго целовал руку императора, приветствовал остальных сердечным пожатием и скривился, будто от отвращения, когда его познакомили с Пираллией. Как ни великолепно Мнестр владел своими эмоциями на сцене, в жизни это ему давалось с трудом, и каждое движение души актера легко читалось по его лицу.
Хотя и Азиатик, и Лепид вели себя с императором уважительно, Пираллия чувствовала их скрытое презрение к нему. Несмотря на приветливый тон обоих, она видела, что те только притворяются преданными друзьями.
Калигула излучал радушие, но не отказывал себе в удовольствии отпускать привычные циничные шутки. Одна из них досталась Евтюхию, проигравшему последние гонки:
— Я подумываю, не сделать ли из тебя гладиатора. Возничий, который вредит авторитету «зеленых», мне не нужен. Ты готов сразиться с голодным львом? Что скажешь?
Евтюхий побледнел и пробормотал, заикаясь:
— Это д-должно б-быть шутка, император? Даже Евтюхий не может выигрывать все гонки до единой.
Следующим по очереди оказался богач Азиатик:
— Я намереваюсь сделать так, чтобы никто в Римской империи не имел средств больше императора. Это просто непозволительно!
— Кто может иметь больше, чем ты, Цезарь? К тому же ты распоряжаешься всем и всеми.
— Ты так считаешь? Между тем казна пуста. Я беднее некоторых вольноотпущенных. Вот подумываю ввести новый налог, который должен ограничить любое состояние миллионом сестерциев. Сколько денег у тебя, Азиатик?
— Денег? Не знаю, ты спрашиваешь о домах и землях?
— И об этом тоже. Угощайтесь, друзья мои! Мы же не хотим наскучить Пираллии разговорами.
Он хлопнул в ладоши.
— Позовите музыкантов и певцов!
В числе прочих продемонстрировал свое искусство и дуэт из Нумидии — темнокожие мужчина и женщина с благородными тонкими чертами лица. Они пели песню о любви на своем родном языке, которого никто не понимал, но всем было ясно, о чем идет речь. Они пели своими телами. Голосами, движениями ног, рук, мимикой они рассказали историю любви пары, которым Фортуна уготовила все: разлуку, ревность, радостное примирение, страсть, гнев, отчаяние. Даже Мнестр восторженно рукоплескал им, ведь он был актером, а не певцом. Потом появились акробаты, но настолько плохие, что Калигула, зевнув, обратился к Мнестру.
— Не будешь ли ты любезен здесь, в тесном кругу друзей, продемонстрировать свое искусство, чтобы достойно завершить этот вечер?
Мнестр презрительно посмотрел на Евтюхия и заметил:
— Я не уверен, что здесь все в состоянии оценить его так же, как ты, император.
Калигула сразу понял, кого тот имел в виду. Он рассмеялся и поддержал предположение актера:
— Да, Мнестр, вполне возможно, что Евтюхию большее удовольствие доставляют ржание и пританцовывание лошадей. О вкусах не спорят. Но в лице других ты найдешь достойных ценителей. Итак, сделай нам одолжение!
Мнестр встал, поправил складки тоги, откуда-то извлек маленькое зеркало и, тщательно проверив свой внешний вид, предстал перед взорами немногочисленной публики.
— Я покажу вам сцену из трагедии о Кинирасе и Мирре.
Актер знал, что это одна из любимых пьес императора, и теперь превратился в Кинираса, сына Аполлона. Он стал отцом ребенка собственной дочери и убил себя, когда осознал преступление.
Мнестр играл обе роли. Движения его тела и мимика ясно выражали все, что происходило. Только Евтюхий следил за действием ничего не понимающими глазами и потихоньку зевал, однако к аплодисментам присоединился: Мнестр должен был видеть, что и он, возничий, тоже разбирается в актерском мастерстве.
Неожиданно Калигула подал знак, что обед окончен. Он взял Пираллию за руку и повел через дворцовые залы в спальню. За ними раздавались шаги германских телохранителей. Когда они подошли к дверям, трибун Кассий Херея спросил у императора пароль на предстоящую ночь.
Подняв на него глаза, Калигула сделал несколько жеманных движений, имитируя женщину.
— Трибун с голосом евнуха, что мы выберем на сегодня? — император опустил взгляд, как пристыженная девушка, и пропел: — Приап.
Херея беспристрастно повторил:
— Приап, император!
Когда Калигула исчез с Пираллией в спальне, Херея задал себе вопрос, что это было: безобидная шутка или оскорбление. Впрочем, германцы ничего не поняли, а император, возможно, хотел рассмешить женщину. И Херея решил не обращать внимания.
— Думаю, ты обидел трибуна, — заметила Пираллия.
Калигула сделал удивленное лицо.
— Обидел? Бог не может обидеть. Все, что идет от богов, благо или горе, человек должен принимать смиренно и с благодарностью.
Пираллия заметила угрожающий блеск в его неподвижных глазах, которые
внимательно наблюдали за ней. Он хочет испытать ее, непременно выяснить, как она относится к его божественности.
— Должно быть, ты прав, император.
— Раздевайся! И зови меня Гаем Йовисом, потому что я близнец Юпитера, мы поделили с ним мир: он правит на Олимпе, а я — здесь. У всех статуй в Риме мое лицо. Народ имеет право узнавать своего бога. И не только в Риме! Я отдал приказание во всех провинциях построить храмы живому Юпитеру, Гаю Йовису, и установить там мои изображения. Люди с удовольствием это делают, Пираллия, правда! Ты знаешь, как они называют меня на греческом? Зевс Эпифанос Неос Гайос. Звучит неплохо, не так ли?
Пираллия разделась и теперь стояла у ложа нагой, но Калигула не обращал на нее внимания. Длинными шагами он мерил спальню, то исчезая, то снова появляясь между колоннами. И говорил, говорил, не останавливаясь.
— Только с иудеями возникли сложности. Это бунтарский, своевольный народ. Они чтят свою религию превыше всего. Их можно распять, обезглавить, все равно не уступят. Но я справлюсь и с ними! Недавно к Каллисту поступила жалоба, что там был разрушен императорский алтарь. Мой алтарь! За такое преступление я хотел уничтожить весь город, но Каллист отсоветовал. Он считает, что Юпитер должен наказывать только виновных, потому как большая часть горожан регулярно приносила жертвы к этому алтарю. Поскольку некоторых из преступников схватили, я уступил. Их распяли, а потом сожгли.
Калигула довольно засмеялся, представив сцену казни.
— Достойное наказание, не так ли? Но этим не кончится. Все иудеи должны знать, кто их господин, кому они должны поклоняться. Я поручил Публию Петронию, сирийскому легату, установить в храме Иерусалима статую Зевса Эпифаноса Неоса Гайоса — мою статую. В этом бессмысленном храме, в котором нет ни одного изображения бога! Можешь ты себе представить, Пираллия, — пустой храм! — Император поднял руки. — Но скоро он не будет пустым, и иудеям станет ясно, кому нужно молиться.
— Гай, мне холодно, — перебила его Пираллия.
— Холодно? Я никогда не мерзну! Божественный огонь подогревает меня, горит внутри и днем и ночью, не дает мне спать. Людям нужно семь — восемь часов сна, а я обхожусь тремя. Ночи так долго тянутся, Пираллия, и для бога тоже. Да, ложись, ложись!
Он говорил, пока раздевался, говорил, когда ложился сам. Пираллия обняла его оплывшее, сплошь покрытое волосами тело, но не испытала отвращения. Она не испытывала отвращения ни к одному мужчине, с которым ложилась в постель, а отдавалась Пираллия, только если ей этого хотелось.
Мысленно она представила себе, что Пан заманил ее в свою нору и теперь хочет соблазнить. Эта фантазия возбудила женщину. Он считает себя богом, так ведь и Пан — лесной бог.
Пираллия оказалась отличной любовницей, как Калигула и подумал уже тогда, при их первой встрече. Не знающая стыда, с готовностью откликалась она на все его желания, но не с рабской покорностью, а весело, подстегивая его и возбуждая снова и снова.
Калигула пришел в восторг.
— Я разведусь с Павлиной — уже давно хотел, и женюсь на тебе. Если Римской империей правит бог, все должно быть необычно. Я был первым принцепсом, который взял в жены свою сестру, буду и первым, кто женится на проститутке. И горе тому, кто осмелится шутить над этим! Клетки в цирке Максимуса полны диких зверей! Шутники быстро окажутся на арене с мечом в руке перед разъяренными львами.
Пираллия не нашлась, что сказать на это, а Калигула не унимался.
— И никаких процессов, все будет происходить без проволочек. А лица моих сестер! Я уже сейчас вижу перед собой обеих, как они сидят за свадебным столом. Сморщенный нос высокомерной Агриппины и покачивание головой Ливиллы. Так ей и надо! Не будет ложиться в постель с плохим поэтом! По мне так лучше проститутка. И, конечно же, сенат! Все они будут, как дворовые собаки, вилять перед тобой хвостами, умоляя дать им поцеловать руку.
Калигула потянулся к колокольчику.
— Я велю явиться Каллисту. Пусть составит брачный договор.
— Секретарь пусть спит, Гай. Такое может сотворить только бог; проститутка ложится в его постель, а встает с нее императрицей. Великолепная мысль, конечно, но сначала ты должен развестись. Это будет плохим примером народу, если принцепс станет жить с двумя женами. Ты знаешь, что чернь быстро все перенимает.
— Да, ты права. Сначала развод. Но наша брачная ночь продолжается, Пираллия, мое тело жаждет тебя.
Он притянул гречанку к себе, и она подумала; «В сущности, все мужчины, как дети. И тот ребенок, большой, жестокий, взбалмошный ребенок».
22
Корнелий Сабин чувствовал себя как бог на Олимпе. Временами он думал, что лучшего с ним и случиться не могло, и молил Фортуну, чтобы это состояние продлилось как можно дольше.
Между тем уже началась зима, но если в Риме в это время года бывало довольно холодно — даже шел снег, то здесь, в Эфесе, стояла приятная теплая погода.
В храме Артемиды настало затишье, поскольку штормы и ураганы, которые в ноябре и декабре хозяйничали в море, препятствовали кораблям, а приезжих стало меньше. Большая часть торговцев исчезла, половина трапезных и трактиров закрылась.
Тихое, мирное время, но Елене оно принесло неудобства.
— Теперь я должна быть вдвойне осторожна. К храму приходят только эфесцы. Кто-нибудь из них может меня узнать. Да и положение мое изменилось.
Ее янтарные глаза смотрели серьезно и рассудительно, так что Сабин неуверенно спросил:
— Что у тебя случилось, любимая? Почему твое положение изменилось? Тебя кто-то видел?
Елена встала и подошла к окну. Послеполуденное солнце опускалось к горизонту. Откуда-то доносилось воркование голубей.
Она медлила с ответом, повернулась к Сабину спиной и, наконец, произнесла, не поворачивая головы:
— Скоро я не смогу приходить, хотя хотела бы.
Сабин поднялся и подошел к окну, взял Елену за плечи и развернул к себе.
— Что случилось, Елена? Пожалуйста, скажи мне.
В ее больших красивых глазах появились слезы.
— Ах, Сабин, это удивительная новость, но нам она принесет столько сложностей! Я беременна. Уже два месяца.
Молодой трибун стоял, как громом пораженный.
Елена спокойно продолжала.
— Скоро я не смогу этого скрывать, и у меня не будет причины приходить сюда.
— Ты должна бежать вместе со мной, — наконец очнулся Сабин. — Я не вижу другого выхода. Петрон спросит, от кого ребенок…
Елена покачала головой.
— Не спросит. Временами он приходит ко мне — в основном, когда пьяный — и что-то пытается сделать. Конечно, у него ничего не получается, но внушить ему, что это его ребенок, будет несложно.
— Вот, значит, как? Счастливая семья собирается у колыбели долгожданного наследника, а Петрон принимает поздравления по случаю отцовства! Так не пойдет, Елена! Мы любим друг друга! Ты ведь приходила сюда все это время не потому, что хотела ребенка, а потому, что любишь меня! Или…
Она вздохнула.
— Я только сказала, что ты мне нравишься, а о любви говорил ты.
У Сабина перехватило дыхание. Он попытался что-то ответить, но не смог произнести ни слова. Римлянин схватил кружку с вином и начал жадно пить, но подавился и так закашлялся, что едва не задохнулся.
Елена принялась колотить его по спине.
Через минуту Сабин хрипло сказал ей:
— Хорошо, о любви говорил только я, но ты мне показала свои чувства! Не меньше дюжины раз! Это все было притворством, ты уже тогда думала о семейных планах? Эти чудесные планы я могу разрушить, расскажу Петрону о наших отношениях. Что ты тогда будешь делать?
Елена не всхлипывала, блестящие капельки слез беззвучно катились по ее щекам.
— Что же мне делать? — тихо спросила она. — Беременной ехать в Рим, к твоим родителям, которые даже не подозревают о моем существовании? Как ты себе это представляешь? Есть законы, которые соблюдают и в Риме, в том числе брачный обет. Ты хочешь, чтобы мы, как прелюбодеи, предстали перед судом? Ты знаешь, каким наказанием это грозит? Они дадут мне родить ребенка, а потом казнят. Тебя же выгонят из легиона, и всю оставшуюся жизнь ты будешь работать в каменоломнях или на галерах. Отец Петрона — уважаемый человек. Судья поступит с нами по всей строгости. Этого ты хочешь?
Сабин знал, что она права и что ему придется отказаться от любви. Другого пути нет. Но все его существо сопротивлялось необходимости потерять Елену.
— Петрон не выполняет супружеских обязанностей, и ты по закону могла бы развестись. Весь Эфес знает, что он спит с мужчинами, и даже твои родители, если они тебя любят, не захотят видеть свою дочь в таком браке.
— Я все это знаю, Сабин, но теперь Петрон может использовать мою беременность в свою пользу, и я не смогу отрицать перед судом, что он спал со мной, пусть из этого и мало что получилось. А если признаю, что это твой ребенок, нас представят как прелюбодеев. Дай мне сначала родить моего ребенка! Потом будет видно.
— Твоего ребенка? Нашего! Не забывай об этом!
— Как я могу забыть? Зачатого в счастье и любви…
— Теперь и ты заговорила о любви.
— Ты мне очень нравишься.
— Во всяком случае, не настолько, чтобы ты чем-то рисковала. Лучше ты устроишься под защитой своей семьи; глупый Сабин скоро будет забыт. Правда, он подарил наследника вашему роду, но через несколько лет ты и сама поверишь, что его отцом был Петрон. Возможно, родится девочка… Тогда твои родственники будут ждать сына, и тебе придется подыскать нового любовника. Может, ты снова вспомнишь глупца Корнелия Сабина!
— Ты говоришь гадости! — гневно воскликнула Елена. — Думаешь, для меня все так просто? Выносить и родить ребенка, в конце концов, не шутка. Все, мне пора идти!
— Значит, мы видимся сегодня в последний раз? — спросил Сабин спокойным голосом, предвещающим опасность.
— Если захочешь, встретимся еще. Сегодня я скажу Петрону, что беременна, и поэтому теперь должна отблагодарить Артемиду. До того времени твой гнев уляжется, и мы спокойно поговорим о нашем будущем.
Для Сабина засветился слабый лучик надежды.
— Ты хочешь еще раз обо всем подумать?
— Конечно, я подумаю еще. Можешь мне поверить, что от одной мысли о необходимости прожить с этим человеком еще десять или двадцать лет, меня бросает в дрожь. Но мы не должны оскорблять друг друга, Сабин, это не приведет ни к чему хорошему.
Молодой трибун повеселел.
«Так она дала понять, что любит меня», — подумал он, и отчаяние рассеялось, вот только сомнение не хотело покидать его.
— Встретимся через три дня в обычное время?
— Если я не дам знать, что что-то случилось, — да.
Сабин проводил Елену до храма.
— Ты должна понять мое волнение, любимая. Я всю свою жизнь бросил к твоим ногам, отправился в легион против воли родителей, с таким трудом добился, чтобы меня перевели в Эфес, и все ради тебя! Когда мужчина узнает, что все было напрасно, что его просто использовали, чтобы…
Елена остановилась и прикрыла ему рот ладонью.
— Опять ты говоришь гадости, — упрек тем не менее прозвучал нежно.
Сабин поцеловал возлюбленную, и она пошла к храму, где ее, как обычно, поджидала служанка.
На обратном пути в казармы Сабин еще раз обо всем подумал. Он не мог отделаться от подозрения, что Елена, возможно, пока не осознавая этого, хотела оставить его.
Рим готовился к сатурналиям. Этот древний праздник бога Сатурна, посвященный началу посева, принял в городах такие формы, что едва ли кто помнил о его первоначальном значении. Длился он семь дней. Император с семьей торжественно приносил жертву перед храмом Сатурна. Все дарили друг другу свечи и маленькие деревянные фигурки.
Ни один римлянин — ни бедный, ни богатый — не имел права оставаться в стороне от сатурналий, и город веселился, доходя в этом веселье до безумства.
Калигуле праздник не нравился, но он и здесь хотел все сделать по-своему и продлил сатурналии на один день, порадовав плебеев.
Праздники начались утром семнадцатого декабря торжественным жертвоприношением перед храмом Сатурна. Императорская семья шествовала вместе со жрицами, консулами и сенаторами к возвышающемуся на западном конце Сакральной улицы храму. Он находился всего в двух шагах от Палатина, поэтому процессия двигалась очень медленно, чтобы народ успел увидеть величественную картину.
Возглавляла процессию жреческая коллегия, за которой шли весталки, оба консула и двенадцать самых именитых сенаторов. За ними следовал император. Взгляд Калигулы был мрачен, бледное лицо являло собой зрелище, вселяющее страх: ввалившиеся виски, мертвые глаза и плотно сжатые губы, бесцветные настолько, что их с трудом можно было различить. Он смертельно скучал и был зол на то, что ему пришлось принимать участие в этом глупом спектакле, где не происходило ничего интересного и который нельзя было приправить хорошей «шуткой».
За ним хромал дядя Клавдий, лицо его временами подергивалось, Ливилла и Агриппина несли в жертву Сатурну роскошные букеты цветов.
Сатурн, покровительствующий крестьянам, был перенят римлянами у греков и являлся подобием Кроноса, отца Зевса.
Ворота в храм в эти дни стояли открытыми, и Калигула мог различить в глубине освещенного факелами помещения возвышающуюся статую бога. Он держал в поднятой руке серп — символ урожая, ноги его были обмотаны красными шерстяными повязками, которые жрецам надлежало торжественно снять.
У императора мелькнула мрачная мысль: «Если бы ты ожил, брат Сатурн, махнул бы своим серпом по головам сенаторов…» Но Сатурн не был таким великим и могучим, как Юпитер, Нептун или Марс. Ему как покровителю крестьян и урожая приносили в жертву фрукты, овощи и молодое вино.
Калигула так быстро пробормотал молитвы, что никто ничего не понял, и заторопился со своими германцами в сторону Палатина. Жрецам он прокричал:
— В остальных церемониях меня заменит Клавдий Цезарь, а я должен заняться государственными делами!
Государственные дела Калигулы состояли в эти дни в том, чтобы вместе с Каллистом найти решения, как пополнить изрядно опустевшую казну. Толстый секретарь составил список неженатых и бездетных богатых патрициев. Поскольку таких было немного в Риме, список получился коротким, но в нем стояло имя Корнелия Кальвия. Дядя Корнелия Сабина принадлежал к тем, кто так интересовал Калигулу: он был богат и не имел жены и детей.
Эмилий Лепид решил использовать веселое, беззаботное время сатурналий, чтобы обговорить со своими друзьями-заговорщиками дальнейшие действия. Он пригласил их в Остию в дом своего бывшего раба, получившего вольную.
Первыми прибыли Агриппина и Ливилла. Обе знали, что Лепиду удалось привлечь на их сторону Валерия Азиатика, бывшего консула. Азиатик высказывался в кругу доверенных друзей откровенно:
— Как могут благоговеть перед Римом провинции, не говоря уже о его врагах, если трон позорит безумный и похотливый убийца? Мы должны вернуть Риму его честь и достоинство.
При этом все понимали, что Валерий жестоко оскорблен и хочет отомстить за тот час, когда Калигула в присутствии гостей увел его жену в соседнюю комнату и изнасиловал. Азиатик поклялся, что не успокоится, пока развратник жив. Во времена Тиберия, который ценил его как очень умного человека, Азиатик занимал много важных должностей, Калигула же оставил его без каких-либо обязанностей, и Валерий узнал через доносчиков, что его имя тоже стоит в списке возможных врагов государства, подлежащих скорому уничтожению.
Сатурналии были в разгаре. На улицах Остии царило оживление. И здесь, как в Риме, выбрали короля рабов, которого его «подданные» несли теперь под громкие крики и смех на открытых носилках по улицам. Парадное выступление «его императорского величества» сопровождали музыканты из числа дворовых мальчишек с пастушечьими дудочками и помятой медной посудой, в которую они колотили изо всех сил. Многие рабы слонялись по улицам и орали, давая выход злости на свое жалкое существование. Семь дней в году они были свободны от работы, и надо было выпустить все, что накопилось за двенадцать месяцев.
Эмилий Лепид провел гостей в дом.
— Нам придется самим себя обслуживать, поскольку рабы гуляют. Именно поэтому мы назначили встречу на сатурналии.
Валерий Азиатик, устроившись на ложе, обратился к тому, кого Калигула назвал своим лучшим другом:
— Ты обещал сегодня сюрприз. Не мучай же нас, показывай.
Лепид исчез в соседней комнате и вернулся с хорошо знакомым всем присутствующим человеком:
— Удивлены? Да, это Корнелий Лентулий Гетулик, легат в Германии, историк и поэт, и, что сейчас особенно важно, заклятый враг Калигулы.
Валерий поднялся и обнял легата.
— Бессмертные боги! Я рассчитывал на все, только не на то, что снова встречу тебя!
Он обратился к остальным:
— Мы знакомы давно, но, с тех пор как Гетулик надел плащ генерала, у него не осталось времени для друзей.
Гетулик — коренастый мужчина среднего роста в возрасте около сорока лет, был совершенно не похож на солдата. Правильные тонкие черты лица и немного меланхоличный взгляд выдавали в нем поэта и мыслителя. Он улыбнулся Азиатику.
— В последнее время у меня появилось сомнение, стоит ли служба Риму и его императору того, чтобы забывать о друзьях.
— Риму мы все желаем самого лучшего, о Калигуле этого сказать не можем. Наш Сапожок… — сказал Лепид.
— Мы должны примерить Риму другой сапог, — перебила Агриппина.
— Ты как раз подвела нас к теме, Юлия Агриппина, — кивнул Гетулик.
— Но сапог сидит прочно, — продолжил мысль Валерий Азиатик, — а прежде чем примерять новый, старый надо выбросить. Но как?
— Мы должны принудить его отречься, — высказала Ливилла свое мнение.
— Отречься? — глаза Агриппины блеснули. — Как ты себе это представляешь? Он прячется за спинами доверенных, хорошо оплачиваемых преторианцев, а его германцы любого разорвут на куски. Калигула никогда не отречется! Когда хотят разделаться с крысой, ее убивают. Так поступим и мы. Каждый день, который приблизит это событие, спасет жизни достойных людей.
Валерий захлопал в ладоши.
— Браво, Агриппина! Достойные слова, и я присоединяюсь к ним. Его смерть спасет Рим от еще более страшной беды. Вопросов два — где и как?
Ливилла упрямо покачала головой.
— Я не могу одобрить убийство собственного брата. Разве это не опасно — пользоваться его же методами?
Агриппина рассмеялась.
— Боги отняли у тебя разум, сестра? Или это влияние поэта, с которым вы совершаете полеты на Пегасе в высоты, недоступные нам, простым смертным? Так разреши мне, как старшей, вернуть тебя с небес на землю. Возможно, в какой-нибудь театральной пьесе события могут завершиться не так трагично, но это не сцена, а жизнь, и она проходит на римской земле.
Ты сказала, что мы хотим действовать его же методами. Правильно! Но мы это делаем не для того, чтобы набить карманы деньгами ни в чем не повинных людей, а для того, чтобы спасти их, а еще для того — почему я должна об этом молчать? — чтобы спасти себя. Я ни секунды не сомневаюсь, что и наши имена стоят в списке приговоренных к смерти.
Ливилла опустила голову.
Лентулий Гетулик повернулся к Азиатику:
— Итак. Где и как?
Ливилла снова вмешалась в разговор:
— Император знает о том, что ты в Риме?
Гетулик посмотрел на нее с удивлением.
— Ты считаешь меня глупцом, и предполагаешь, что я явился тайно? Похоже, ты неправильно оцениваешь место легата. За каждым моим шагом наблюдают и потом комментируют очень многие, не говоря уже о шпионах Калигулы. Нет, я здесь официально с докладом для императора. И именно с этим докладом связаны мои надежды. Скажу сразу: в Германии все так же мирно и спокойно, как в соседней комнате, но Калигуле я представлю положение дел иначе. Скажу ему, что многие признаки указывают на подготовку мятежа. А дальше напомню, как его любили в войсках отца и что солдаты помнят, почему он получил имя Германика. Легионеры, скажу я, хотят наконец видеть своего императора, к тому же он получит возможность снискать военную славу. Возможно, мне удастся поговорить и о походе в Британию.
Гетулик осмотрел присутствующих.
— Что скажете о моем плане?
— Неплохо, — похвалил Лепид. — Действительно неплохо. Если Калигулу и можно выманить из Рима, то только так. Но твой план не продуман до конца. Хорошо, предположим, император отправится в Германию по каким-либо соображениям, но как будут развиваться события дальше? Ты хочешь мирных германцев толкнуть на войну в надежде, что Сапожок падет в сражении?
Тут все рассмеялись, и Гетулик поднял руку:
— Вы правы, это только половина плана. Когда Калигула окажется в Германии, у него начнется солдатская жизнь. Там нет дворцов, только палатки, весь лагерь как на ладони. Я позабочусь о том, чтобы его охрану — хотя бы при определенных обстоятельствах — заменили на наших людей. — Тут Гетулик провел указательным пальцем по своей мускулистой шее.
— Прекрасный план! — воскликнула Агриппина. — Но почему все так сложно? Почему его обязательно нужно заманивать в Германию? Разве нет среди вас настоящего мужчины, который мог бы воткнуть меч в его грудь? Вы ведь все солдаты, по крайней мере были когда-то. С Цезарем такое произошло в сенате — на глазах у всех!
Ливилла остановила разгневанную сестру.
— Тебе-то не придется этого делать. Кроме того, ты знаешь, что Калигула — в отличие от Цезаря — не смеет и шагу ступить из дворца, не окружив себя живой стеной охраны. Наш брат запретил приближаться к своей священной персоне, а больше всего ему льстит, когда перед ним падают ниц, как принято было во времена фараонов. Он не боится только Мнестра и Евтюха, от остальных же держится подальше, потому что боится кинжала, который охранники могли по недосмотру оставить у приглашенного на аудиенцию. Ты говоришь, что кто-нибудь должен с мечом явиться перед ним. Ты не знаешь, что все оружие отбирают перед тем, как впустить к нему? У всех! Даже у самых доверенных друзей и у военных, которые, как Гетулик, приходят с докладом. Агриппина, то, что ты говоришь, невыносимо!
Та улыбнулась и, казалось, совсем не обиделась.
— Смотрите-ка, моя спокойная сестричка сейчас, похоже, разгорячилась…
— Надо признать, что она права, — вмешался Гетулик.
Тут лицо Агриппины исказилось ненавистью.
— Если Калигула, как говорят в Риме, обнимает актеров, может быть, эта привилегия распространяется и на поэтов? Они ведь в чем-то похожи… Не мог бы справиться с этим заданием твой, скажем, Луций Сенека? Говорят, он тоже недолюбливает императора.
Ливилла ответила, не повышая голоса:
— Пока я называю Лепида твоим другом, требую, чтобы и ты называла Сенеку моим другом, и говорила о нем уважительно. Кроме того, имя Сенеки стоит в черном списке Калигулы, и это только вопрос времени, когда он пришлет в его дом преторианцев. А уж принимать он его и подавно не станет. Значит и это невыполнимо.
Агриппина в ярости повернулась к сестре:
— Я не позволю…
Спор остановил Гетулик.
— Достаточно. Вернемся к делу. Ливилла сказала то, что все мы — и ты, Агриппина, — давно знаем: в Риме к Калигуле не подступишься, если только мы не наведем его врача на мысль подсыпать тому яда, но я считаю это очень опасным. Нам придется выманить паука из паутины, и чем дальше Калигула от Рима, тем будет проще. Послезавтра я иду на Палатинский холм, а потом обо всем подробно расскажу. Ты, Эмилий Лепид, чаще всего бываешь с ним и имеешь на него определенное влияние. Прошу тебя при возможности поговорить с ним о походе в Германию и необходимости окончательно присоединить Британию к Римской империи, чтобы довести до конца дело, начатое Цезарем. Польсти Калигуле, сказав, что он затмит славу Цезаря как полководца.
Лепид скептически покачал головой.
— Он труслив для такого похода. Я хорошо знаю Калигулу, чтобы утверждать это. Ликующие по случаю прибытия императора войска в Германии — это ему по душе, но все остальное, увы…
— Решение должно быть, нам нужно только набраться терпения.
С этим все согласились, и вскоре разошлись.
Кассию Херее приходилось в последнее время нелегко. Его безусловная преданность, благодарность и даже любовь к императору с каждым днем все больше ослабевали. Своим званием и всем, что имел, он был обязан императору, который в последнее время делал все, чтобы неприятно удивить трибуна преторианцев. Если тогда Херея решил, что странный пароль — всего лишь каприз Калигулы, то теперь ему приходилось с горечью признавать, что тот выбрал его мишенью для постоянных насмешек, и это больно задевало его.
Он мучился и не мог никому довериться. Марсии — потому что никогда не говорил с ней о трудностях своей службы, друзьям — потому что они и так обо всем знали. Да и не могло это стать темой их разговоров. В атлетическом теле Кассия Хереи жила ранимая душа, и постоянные уколы оставляли в ней глубокие следы. С другой стороны, император, казалось, как и прежде, доверял ему, считая свои шутки безобидными, доступными пониманию солдат.
Позавчера Херея снова заступил на службу и, как часто случалось в последнее время, со страхом попросил назвать пароль. Император не всегда подтрунивал над ним, и трибун от всего сердца надеялся, что когда-нибудь это прекратится совсем.
Калигула пребывал в мрачном расположении духа и мог его улучшить, только когда оскорблял или унижал других. К тому же он был пьян. Он с трудом держался на ногах и появился в дверях личных покоев, опираясь на руку слуги.
— Смотрите-ка, мой храбрый Херея! Геркулес с голосом нимфы… Ты не спишь с мужчинами, Херея? Скажи своему императору правду.
Калигула подошел совсем близко, и Херея ощутил запах вина.
— Нет, император! — отчеканил он, и собрал все силы, чтобы не потерять самообладание.
Калигула не собирался прекращать забаву.
— Или ты евнух? Кто-то оторвал твой символ мужественности? Тогда голос становится высоким. Но этого не может быть, я вижу по твоей щетине — ты действительно мужчина.
Калигула засмеялся, отступил назад и пропел преувеличенно тоненьким голосом, чтобы все услышали:
— А теперь мое сокровище хочет узнать пароль, не правда ли? Я долго об этом думал, и мне пришло в голову кое-что подходящее. Амор!
Херея повторил:
— Сегодняшний пароль императора — Амор!
Калигула удалился. Херея стоял, не в силах пошевелиться. Он чувствовал гнев, гнев из-за несправедливости, что его, верного, заслуженного легионера, высмеивают так не по-солдатски. Он ничего не имел против крепких армейских шуток, к которым привык. Но это?
Херея рассказал об этом случае своему начальнику — префекту преторианцев Аррецинию Клеменсу, но не нашел участия у этого слабого, угодливого человека.
Клеменс не проявил никакого интереса к жалобе своего трибуна.
— Не преувеличивай, Кассий Херея! Император просто любит пошутить, что здесь такого? Я знаю, что он высоко ценит тебя. Ведь доверял же тебе принцепс выполнение тайных поручений?
— Да, префект, — только и оставалось ответить Херее.
Конечно, Клеменс был рабски предан Калигуле и выполнял все его приказы — в последнее время и такие, которые совсем не входили в обязанности преторианцев. Как раз это и удручало Херею. Почему он, прослуживший всю жизнь солдатом, должен собирать налоги? Но именно такой работы становилось в последнее время все больше. Император все чаще поручал секретарю Каллисту то тут, то там силой, под страхом оружия, заставить строптивых заплатить положенное. Преторианцам это удавалось, и трибун мог забрать себе и своим солдатам десять процентов полученного.
Таким образом, Калигула придумал довольно подлую систему, при которой преторианцы хоть и не любили выступать в роли сборщиков налогов, но охотно шли на это из-за денежной премии.
Что бы только Херея не отдал за возможность обсудить положение дел с Сабином, своим единственным настоящим другом! Все получилось не так, как он надеялся. Как он, выходец из плебеев, гордился, что получил высокое звание трибуна, как гордился, что добился этого собственными силами, что с таким трудом одолел грамоту. Но он так и остался плебеем, человеком, который поднялся из самых низов. Знатные сослуживцы не приняли его в свой круг, но не это заставляло страдать Херею, а бесконечные обиды и оскорбления императора и злоупотребления, которыми он занимался на службе.
«Сабин, Сабин, — шептал Херея про себя. — Если бы ты знал, как ты мне нужен!»
23
Калигула не торопился принимать легата Гетулика. Каждый раз он назначал новое время для аудиенций, будто хотел задержать его в Риме как можно дольше.
— Он хочет вселить в меня неуверенность? — спрашивал легат своих друзей. — Или почувствовал неладное и теперь следит за мной? Я уже сомневаюсь, стоит ли навещать своих родственников и знакомых, боюсь навлечь на них подозрения.
Лепид успокоил его:
— Во дворце не упомянули тебя ни словом, и я не заметил ничего подозрительного. Калигула капризный и взбалмошный. Слово «обязанность» ему чуждо, и так же, как ты, важные послы ждали аудиенции по нескольку месяцев, потому что наш Сапожок не был расположен к государственным делам. Не беспокойся, Гетулик. Если я почувствую хоть малейшую опасность, сразу дам тебе знать.
Через несколько дней после этого разговора, ближе к ночи, император прислал преторианцев за Гетуликом. Тот уже лег спать, когда послышалось бряцанье оружия. У легата мелькнула мысль, что план раскрыт и его поведут на допрос, но центурион сразу же объяснил, что император наконец нашел время принять его и приглашает на поздний ужин.
Февральская ночь выдалась довольно холодной, и от дыхания марширующих по улице преторианцев поднимались в воздух облачка пара. Дворец и прилегающая к нему территория ярко освещались лампами, золотой свет которых распространял повсюду уютное тепло.
Калигула приветливо встретил Гетулика, проявил живой интерес к его докладу, спрашивая о том и об этом, и легату было нетрудно изложить свои предложения. Когда он заговорил о Британии, Калигула слушал особенно внимательно.
— Я уже слышал мнение Клавдия, который отлично знает историю. Он считает, что созданные Цезарем отношения с Британией основательно изменились. Он мог тогда обложить часть варварских правителей данью, за что гарантировал им поддержку в борьбе с врагами. Но со временем там не осталось ни одного римлянина, дань давно перестала выплачиваться, и все вернулось к прежнему состоянию. Но можно ли с них что-то взять, легат?
— Ты прав, божественный император, но знающие люди утверждают, что в Британии и есть залежи олова, свинца и серебра. Потребности Рима в олове высоки, как ты знаешь, и толковый, мало-мальски честный арендатор мог бы тебе принести только благодаря ему годовой доход в несколько сотен миллионов сестерциев, не говоря уже о свинце и серебре. Да еще в Британии плодородные земли, с которых можно собирать богатые урожаи. Обо всем этом говорится в записках Цезаря, а он знал о том государстве не понаслышке.
Калигула задумался:
— Ты говоришь, только от добычи олова несколько сотен миллионов сестерциев? Речь идет о серьезных доходах, Гетулик, и я обещаю, что подумаю над решением.
Легат поклонился.
— Благодарю за согласие заняться моим предложением. Добавлю, что в Германии и Галлии неспокойно. Пока ничего серьезного: то тут, то там вспыхивают волнения, безобидные стычки, которые не составляет труда подавить. Но опасаюсь, что все может осложниться, если их сразу не остановить. Если ты лично, божественный Цезарь, появишься в легионе, это придаст всей кампании — я не осмеливаюсь назвать это походом — определенный вес. Германские легионы мечтают видеть своего императора. Многие солдаты знали еще твоего отца и свою верность ему теперь передали сыну, тебе. Я осмелюсь сказать, что у них есть право, да, потребность продемонстрировать тебе свою преданность. Не разочаровывай их, император, и прости мне мою самонадеянность, если я перед отъездом вселил в них определенную надежду.
Мудрый Гетулик нашел правильный подход. Память об отце была для Калигулы святой, и то, что легионеры хотели видеть сына когда-то любимого ими генерала, прозвучало убедительно.
Калигула сразу передал Каллисту свиток с предложениями легата. Слуге он прокричал:
— И скажи, что он должен внимательно все прочитать; я бы хотел обсудить это с ним в ближайшие дни.
Потом он обратился к Гетулику:
— Ты слышал мое распоряжение, и я обещаю, что не забуду о твоих предложениях. Но планы обширны и требуют основательного рассмотрения. Я доверю их и Юпитеру, моему брату, и решение императора, близнеца Юпитера, правящего на Земле, во многом зависит от его совета.
Гетулику говорили о безумстве Калигулы, но он не был готов к такой безграничной переоценке императором своей персоны и на мгновение оторопел.
Калигула прищурился:
— Ты долго жил в провинции, и твое неведение простительно. Боги открыли мне: я земной брат-близнец Юпитера.
Неподвижные глаза его загорелись лихорадочным огнем.
— Ах, Гетулик, так тяжело вам, людям, дать понятие о божественном. Пойдем, я тебе хочу кое-что показать.
Пошатываясь, Калигула встал из-за стола, и сразу же поднялись все гости, думая, что ужин закончен. Но он на ходу махнул рукой и крикнул:
— Ешьте и пейте дальше, сколько вам хочется. — Нам с легатом надо кое-что обговорить.
Перед дверями дежурили высокие мускулистые преторианцы, и Калигула приказал им не выпускать ни одного гостя, пока он не вернется. Двое солдат должны были сопровождать его и легата, освещая путь факелами. Они шли по мраморному полу, вдоль колоннады и через сад, пока не оказались перед маленьким храмом, недавно воздвигнутым на Палатинском холме. Калигула любовно погладил стройную колонну из красного египетского мрамора.
— Использовали только все самое лучшее — только лучшее!
К ним торопились заспанные слуги — или это были жрецы учрежденного Калигулой культа своей божественной персоны? Император жестом отослал их, быстро поднялся по лестнице и прокричал преторианцам, чтобы те осветили статую. Гетулик онемел, когда перед его взором предстала в человеческий рост золотая статуя императора Юпитера Латиария. Созданное лучшими скульпторами изображение имело лицо Калигулы. Большие, сделанные из опала и оникса глаза смотрели вдаль в величественном покое, стройное тело, густые волосы, красиво очерченный рот не соответствовали оригиналу. Статуя была такой, каким Калигула хотел себя видеть.
Гетулик молчал, и император рассмеялся:
— Ну что, мой друг, у тебя пропал дар речи! Но это только отблеск того, что я чувствую. Бессмертные боги — да, я равный им! И я разговариваю с ними каждый день, так часто, как захочу. Пойдем!
Калигула пошел вперед. Гетулик с трудом поспевал за ним. Пройдя вдоль колоннады, они пересекли сад, но на этот раз дорога поднималась вверх, пока они не оказались на террасе, построенной на крыше.
— Смотри, легат, что я приказал соорудить.
Калигула подвел Гетулика к деревянному устройству.
— Ночью ты не сможешь этого увидеть, но я объясню тебе цель. Это начало моста, который проходит над храмом Августа и соединяет мой дворец с Капитолием. Так я могу в любое время в стороне от любопытных взглядов навещать моего брата-близнеца. Мы ведем долгие разговоры. Я построил лестницу к его уху, ведь никто не должен слышать, о чем мы говорим!
Император наклонился.
— Тогда я могу, как сейчас тебе, шептать на ухо. Его ответы слышу только я, потому что его голос беззвучен, но я воспринимаю его как эхо в своей голове.
Гетулик увидел в больших неподвижных глазах Калигулы искорки сумасшествия и понял, что император верит, что говорит правду. Он действительно верит, что слышал голос Юпитера.
— Могу ли я со всем почтением спросить, в чем состоит ваш разговор, или это тайна между тобой и твоим божественным братом-близнецом?
— Почему ты хочешь это знать? — с недоверием поинтересовался Калигула.
— Потому что я человек, — скромно ответил Гетулик, — и меня мучает любопытство, что обсуждают между собой боги.
«Надеюсь, я не слишком много себе позволил», — подумал Гетулик, но Калигула с готовностью и без колебаний принялся разъяснять.
— Понимаю и могу лишь сказать, что это касается как личных дел, так и государственных. Юпитер рассказывает мне время от времени, кто мои враги, а кто друзья, и я могу вовремя принять меры.
Гетулику пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить разговор, сохраняя спокойствие.
— Враги, император? Но откуда у тебя враги? Народ почитает тебя как бога, которым ты и являешься. Войска, как один, стоят за твоей спиной, и патриции…
Калигула оборвал, его резким движением руки.
— Патриции трясутся за свои деньги и больше всего хотят отправить меня к Орку. Они попросту отказываются от обязанности покрывать государственные расходы и пытаются обмануть меня на каждом шагу. Тут приходится действовать со всей суровостью, легат. Кое над кем уже занесен меч палача — одни знают об этом, другие нет. Кстати, когда затевается заговор, Юпитер дает мне знак, и тогда я должен только выждать, чтобы в нужный момент нанести удар.
Калигула смерил Гетулика долгим взглядом. Его лицо с ввалившимися висками, тонкими губами и впалыми щеками казалось в свете факелов ликом демона. Выдержанный, умный Гетулик едва не пал перед императором на колени, потеряв самообладание, чтобы пробормотать признание: «Да, божественный, заговор есть, и я в нем участвую…»
Но легат не верил ни в демонов, ни в разговаривающие статуи Юпитера. Он заставил себя улыбнуться и с благоговением произнес:
— Это достойно зависти! Счастливый Рим! Твой император долго будет служить нашему общему благу!
— Для некоторых это может обернуться несчастьем! — процедил сквозь зубы император и повел своего гостя обратно во дворец.
Корнелий Сабин, как и раньше, исполнял службу, но делал все машинально. Жизнь в легионе шла своим чередом, и, казалось, никто ничего не замечал. Только Мариний, который хорошо изучил своего господина, почувствовал в нем перемену. Однажды утром, брея Сабина, он решил поговорить с ним:
— Могу я задать тебе один вопрос, господин?
— Если ты при этом не порежешь мне щеку…
— Ты не такой как раньше, господин. Похоже, что-то произошло, что-то мучает тебя. Ты больше не смеешься, не пьешь вина и не чувствуешь вкуса еды. Что случилось? Прости, что я говорю это, но иногда ты кажешься мне тенью, поднявшейся из царства Орка.
— Ты нашел почти ученые слова, чтобы описать мое состояние, Мариний. Меня и вправду можно сравнить с тенью. Почему бы тебе не знать, друг мой? Речь идет о женщине.
Мариний вздохнул.
— Господин, это быстро пройдет. Ты найдешь себе другую.
Сабин горько улыбнулся.
— Звучит так, будто у тебя уже есть похожий опыт.
— Да это известно всему свету.
— Но я не целый свет! — Сабин резко встал.
— Подожди, господин! Я еще не закончил с шеей…
Тот отмахнулся.
— Не надо! Сейчас я должен сопроводить одного высокого гостя в город, к порту.
Но это не было правдой. Такой приказ получил другой трибун, да кого это волновало? Сабин уехал из города. Чтобы никому не попасться на глаза, он выбрал дорогу вдоль западной стены, через поля и луга, пока не выехал на тропу.
Тут он снял с себя шлем и панцирь, положил их под куст и надел темно-коричневый плащ с капюшоном, в котором был неузнаваем.
Елена хотела принести Артемиде благодарственную жертву, что означало для них последнюю встречу. Сабин долго раздумывал, имеет ли смысл подвергать себя этой невыносимой пытке, но какой влюбленный действует с позиции смысла и разума?
Сабин вспомнил о книге с правилами жизни, которую он должен был переписывать для своего отца. В ней поэт Публилий сказал: «Только любовь может вылечить раны, которые нанесла». В нем жила отчаянная надежда, что что-то может произойти и изменить намерение Елены. Вдруг Петрон, заподозрив неладное, выгонит ее из дома? Тогда его объятия окажутся ее единственным пристанищем…
Зима прошла, в храм снова начали прибывать люди, и все трапезные и трактиры открыли свои двери для посетителей.
Сабин увидел, как Елена выходит из храма, где принесла жертву. Поискав его глазами, она подошла к Клонии, и обе женщины медленно направились к торговым рядам с ладаном. Все было, как всегда, и Сабин не мог поверить, что это их последняя встреча. Если бы он исповедовал стоицизм, как дядя Клавдий…
Трибун присоединился к женщинам. Елена узнала его, кивнула Клонии и они оба пошли в сторону от храма, не проронив ни слова, пока не оказались в доме. Как только Сабин закрыл дверь на засов, Елена с рыданиями бросилась в его объятия. Глупая надежда охватила его душу.
— Елена? Ты… ты решила уйти от мужа?
Она молча качала головой, и слезы ручьями стекали по ее щекам.
— Петрона как подменили, — всхлипывая, сказала женщина. — Узнав про беременность, он стал таким милым и заботливым, почти все время дома, так трогательно беспокоится о моем состоянии.
— Значит, он верит, что это его ребенок, — произнес Сабин ровным голосом, не предвещающим ничего хорошего, — думает разыграть теперь заботливого отца семейства.
Голос его набирал силу.
— Да, но разве ты не замечаешь, что это всего лишь комедия? Такие, как он, не меняются — никогда!
Гнев и отчаяние Сабина прорвались наружу.
— Но он как раз это делает, — робко протестовала Елена. — По крайней мере, пытается.
— Притворство! Если он станет отцом, семья простит ему прежнее поведение. Скажут, что он остепенился, осознал новые обязанности. Пусть только твой — нет, наш — ребенок родится, и Петрон снова примется за старое. А что станет со мной, Елена?
— Не кричи так, а то сбежится весь дом. Теперь, когда Петрон впервые за время нашего брака начал вести себя как подобает, я должна бежать от него? Не могу! Я не могу так поступить!
Сабин тяжело дышал. Он не знал, что должен был сказать, не говоря о том, что сделать.
— Значит, все кончено?
Елена молчала.
— Или ты нашла какой-нибудь выход?
Сабин бросил взгляд на ее ссутулившуюся фигуру, и его одолело безумное желание переломать эти тонкие руки и ноги, чтобы его возлюбленная не могла принадлежать никому другому. Но она никому другому и не принадлежала. Как женщиной и женой владел Еленой он, и в ее теле жил ребенок, зачатый им — Корнелием Сабином из Рима, а не Петроном, содомитом из Эфеса.
— Что же будет дальше? — спросил молодой римлянин.
Елена выпрямилась и повернула к нему мокрое от
слез лицо.
— Жизнь пойдет своим чередом. Я не могу привыкнуть к мысли, что больше не увижу тебя. Когда мой ребенок родится…
— Наш ребенок.
Она вытерла слезы и робко улыбнулась.
— Да, наш ребенок.
Калигула начал внимательно следить, как серьезно воспринимают другие его божественность. Недавно по его приказу схватили одного галльского сапожника, который звонко рассмеялся, увидев Калигулу в костюме Юпитера. На вопрос, что его так развеселило, тот ответил с прямотой свободного мастерового: «Вся эта ерунда». Калигула сам засмеялся, услышав такие слова, и распорядился: «До сапожников моя божественность пока не дошла. Отпустите его. Глупцу еще придет время узнать правду».
Теперь с подобным снисхождением было покончено. Калигула любил устраивать своему окружению проверки, и горе тому, кто их не выдерживал! Важно было ответить быстро, ведь император считался мастером риторики и обладал отличным чутьем речевого подтекста.
Сенатора Луция Вителлия император во время ужина спросил, не заметил ли тот, что он, Калигула, только что обменялся мыслями с богиней Луной. Вителлий, мастер лести и человек большого ума, ответил с глубоким поклоном:
— Только вам, богам, дано видеть и слышать друг друга.
Эти слова принесли умному сенатору признание и разрешение войти в круг ближайших друзей императора.
Не так расторопен оказался актер Апеллий, когда Калигула поинтересовался, стоя перед статуей Юпитера, кого тот больше почитает: своего императора или его брата-близнеца. Апеллий, который привык повторять заученные тексты, мешкал с ответом. Императору его размышления показались слишком долгими, и он приказал жестоко высечь актера. С довольной улыбкой прислушиваясь к воплям бедняги, он сказал:
— Апеллий, я должен признать, что твой голос красиво звучит, даже когда ты орешь.
Не только приближенные к императору люди, но и весь народ почувствовал, как ревностно Калигула относится к своей божественности.
По его приказу в провинциях был введен культ императора, и скоро от Испании до Азии не осталось ни одного крупного города, где бы в храме или на форуме не красовались статуи божественного Гая Цезаря.
Никаких трений при этом не возникало, поскольку никто не имел ничего против того, чтобы почитать на одного бога больше и жертвовать по праздникам еще перед одной статуей горсть ладана. Никто, кроме иудеев. Императоры Август и Тиберий были достаточно умны, и уважали своеобразные религиозные традиции этого народа, но Калигула настоял на том, чтобы в синагогах установили его изображения. Повсюду, где пытались это сделать, доходило до столкновений; особенно серьезным оказалось положение в Александрии, где рядом с тысячами иудеев жили греки и египтяне.
Иудеи отправили в Рим послов, которые долго и напрасно добивались аудиенции у императора. Препятствовал их приему высоко ценимый Калигулой секретарь Геликон: он родился в Александрии и ненавидел иудеев. Секретарем его только называли, на деле же всю основную секретарскую работу выполнял Каллист, а на Геликона скорее приходился груз обязанностей компаньона Калигулы. Он всегда был в распоряжении императора, возникало ли у того желание пойти в термы, сыграть в шахматы, прокатиться на лошадях или примерить новую тогу.
Возглавлял делегацию иудеев знаменитый философ Филон, благодаря острому уму которого им и удалось наконец добиться приема у римского императора. Калигула как раз осматривал свою новую виллу, когда к нему подошел Филон и глубоко поклонился. Император приветствовал его словами:
— Значит, вы и есть те самые люди, которые сомневаются в моей божественности? Вы мужественны, этого отрицать нельзя, поскольку только самоубийцы могли бы осмелиться явиться мне на глаза с такими бесстыдными речами.
Филон не смутился:
— Мы обладаем мужеством и уверенностью законопослушных подданных, император. Разве не александрийские иудеи принесли самые большие жертвы, когда ты взошел на трон и во время твоей болезни — намного большие, чем положено по закону?
— Это всем хорошо известно, но одно вы упустили: не оказали чести моей божественности.
Не дождавшись ответа, Калигула продолжил обход виллы и, казалось, уже забыл про иудеев, но вдруг он обернулся:
— Почему вы не едите свинины, Филон? Объясни мне.
Филон принялся рассказывать о религиозных законах, но Калигула уже не слушал, продолжая свой путь. Снова несчастные иудеи потянулись за ним, в то время как император внимательно рассматривал мраморные колонны атриума и отдавал распоряжение о вставке хрустальных пластин в окна.
Еще только раз обернулся он к настойчивым просителям.
— Я не могу вам помочь. Вы так же, как остальные, должны подчиниться нашим законам. Я знаю, что вы поступаете подобным образом не со зла, а по глупости, потому что иначе узнали бы во мне того, кем я являюсь — бога!
Иудеям пришлось возвращаться ни с чем, но, к счастью, римские учреждения в Александрии, желая сохранить мир и действуя с позиций разума, не очень внимательно слушали о том, стоят статуи императора в синагогах или нет.
Возможно, и Калигула не вернулся бы к этому вопросу, если бы взбунтовавшиеся в Ямнии иудеи не разрушили императорский алтарь. Прокуратор Геремний Капитон немедленно проинформировал Рим об этом преступлении, и Калигула вскипел от злости. Его друг Геликон, ненавистник иудеев, подлил к тому же масла в огонь, так что император решил, что расплата за этот из ряда вон выходящий проступок должна быть соответствующей. Поскольку Каллист с Геликоном отсоветовали ему полностью разрушать город, Калигула обдумывал — вместе с Геликоном — другие меры наказания.
— Нужно выяснить, что будет для них самым страшным ударом, что заставит сильнее всего страдать. Ты должен знать, Геликон, в чем особенности этого народа, так придумай что-нибудь.
Геликон сразу откликнулся:
— Сначала вспомним, что для иудеев священно. Конечно, Иерусалим. Это город их древних царей и проповедников, а также самой большой святыни — построенного Геродотом храма. Ни один чужеземец не имеет права туда заходить, а его внутренние помещения доступны только главным жрецам. Осквернение этого храма станет несчастьем для иудеев всего мира.
Калигула подумал, и улыбка тронула его бесцветные губы.
— Отлично! Я прикажу установить внутри храма колоссальную статую Юпитера с моим лицом. Иудеям придется почитать меня и одновременно Юпитера.
— Божественная мысль! — восторженно воскликнул Геликон. — Это научит строптивый народ уважать Рим и его богов.
Император кивнул.
— Тебе, Геликон, я поручаю привести мой приказ в исполнение.
Геликон отправил легату Сирии Публию Петронию письмо, в котором высказал требование изготовить статую императора в образе Юпитера высотой не меньше пятнадцати локтей, чтобы потом установить ее, при необходимости — с применением силы, в большом Иерусалимском храме. Калигула добавил пару строк, в которых превозносил заслуги легата во времена Тиберия, и — частично с похвалой, частично с угрозой — высказал пожелание, чтобы приказ был выполнен поскорее.
Гай Юлий Каллист, вольноотпущенный раб Калигулы, как велел древний обычай, прибавлял к своему имени имя господина. Свободу, влияние и состояние он приобрел благодаря усердию, уму и скрытности. Чтобы знать больше других, Каллист создал и оплачивал из своего кармана хитроумную шпионскую сеть, которая подчинялась только ему.
От него не укрылось, что в кругу друзей сестер императора с участием Эмилия Лепида и Валерия Азиатика что-то назревало — что-то, направленное не против него, всемогущего секретаря, но против императора. Ему периодически сообщали то о том, то об этом, что подпитывало его подозрения. Но Каллист не думал доносить на заговорщиков, пока они не попытаются привлечь к участию его. Хотя тут опасаться секретарю было нечего, потому что все знали его как верного и неподкупного слугу императора. Таковым Каллист и был. И все же заговору с целью уничтожения Калигулы он препятствовать бы не стал. Его разум подсказывал, что мнимая божественность, произвол и беспредельная жестокость императора когда-нибудь перейдут границы и будут стоить ему головы. Это было только вопросом времени, и он считал вполне вероятным, что меч или яд найдут дорогу к Калигуле, несмотря на охрану, слуг, пробующих еду, и преторианцев.
Каллист же и не думал заканчивать свою жизнь вместе с императором.
Он хотел спасти нажитое за время правления Калигулы и при этом сохранить честное имя. Каллист не был ни жестоким, ни мстительным, ни злопамятным. Вся его сила, ум, изворотливость были направлены на то, чтобы не нажить себе в Риме ни одного врага, выполняя при этом волю Калигулы. Дело это было чрезвычайно сложное, но до сих пор ему удавалось. Для времени, которое наступит «потом», Каллист воздвиг две основные опоры. Одной из них являлся Клавдий Цезарь, которому он всегда был готов оказать услугу и по возможности ограждал от нападок и обид. На ехидный вопрос Калигулы, почему же он так прикипел душой к бестолковому Клавдию, тот отвечал:
— Твой дядя, император, так беспомощен и неловок в жизни, что вызывает сочувствие и желание его поддержать. Я знаю, что он ни к чему не способен, кроме научных трудов, но здесь он по крайней мере чего-то достиг.
Слова «ни к чему не способен» усыпили бдительность Калигулы.
Клавдий Цезарь временами выказывал в свойственной ему неловкой манере благодарность Каллисту, и тот знал, что на «потом» у него в запасе есть заступник.
Второй опорой была тайная помощь семьям пострадавших. Он часто предупреждал жертву об опасности, если таковая ему самому не грозила, и пытался спасти состояние для семьи несчастного всеми возможными путями. Копии анонимных писем Каллист заботливо припрятывал в своем отдаленном имении: они должны были «потом» спасти его жизнь и состояние.
В последнее время появилась возможность выстроить еще одну опору, но Каллист не был уверен в ее прочности. Речь шла о Нимфидии, его дочери. Несколько месяцев назад девушке исполнилось четырнадцать лет, и Калигула настоял на том, чтобы отец представил ее во дворце. Нимфидия не отличалась красотой, но была хорошо сложена и умна. Император похвалил ее, и Каллист никак не мог решить, переживет ли он с семьей эру императора легче, если Нимфидия станет его любовницей. Каллист любил дочь, однако обладал достаточно трезвым умом и понимал, что не сможет препятствовать желанию Калигулы, если таковое появится. Но при необходимости он мог разжечь это желание, только не знал, принесет ли это пользу «потом».
Каллист собрался с силами и отодвинул тревожные мысли в сторону. За окном лил весенний дождь, различимый через северные окна храм Юпитера Капитолийского сейчас скрывала серая завеса. Секретарь со вздохом достал список имен одиноких римских богачей. В это время дня его обычно не тревожили, в случае же неожиданного появления императора надежный слуга должен был предупредить Каллиста.
Он взял чистый свиток папируса, раскрыл и обмакнул каламий
[9] в бронзовую чернильницу.
24
Корнелий Кальвий жил на окраине города. В последнее время он был занят тем, что разбирал свою разросшуюся библиотеку. Раньше он хотел передать ее Сабину, но, поскольку тот отправился служить в Эфес, Кальвий решил все еще раз обдумать.
— Не понимаю, что случилось с племянником, — вслух рассуждал он. — Вырос в окружении книг, уже ребенком познакомился с самыми известными поэтами и вдруг бросился в объятия Марса, будто все это ничего не значит.
Слуга Диотимий, который помогал ему разбирать свитки, ученый, так же, как и Кальвий, умудренный годами человек, задумчиво погладил бороду:
— Я бы сказал, что как раз потому, что Сабин вырос среди книг, его потянуло в другую сторону. Молодые люди стремятся испробовать жизнь во всех ее проявлениях, посмотреть, что есть вокруг. Поверь мне, господин, Сабин вернется к книгам.
Кальвий покачал уже почти полностью облысевшей головой.
— С ним все так запутано! Он прислал несколько писем, и ни в одном из них не чувствуется восторга от военной жизни. Племянник просто умалчивает об этом, подробно рассказывая о своеобразии Эфеса, храме Артемиды и тех, кто еще его посещает. Причем делает это так искусно, что у меня возникло подозрение, а не переписаны ли строки у Геродота. Но нет, как выяснилось, я ошибался.
Кальвий вздохнул, отодвинув в сторону пыльный свиток. Он не упомянул о недавнем признании Сабина в том, что любовь обращается с ним как с непослушным рабом, которого временами приходится пороть. Так было написано в письме, но это могло быть и шуткой.
— Давай закончим, не могу больше дышать книжной пылью, — предложил Кальвий.
Тут в дверь вошел управляющий:
— Для тебя только что принесли письмо, господин.
— Откуда пришел посыльный?
— Это был поденщик, он сказал только, что получил поручение от какого-то незнакомца.
Кальвий кивнул и удалился со свитком в свои покои. Там он сломал печать и прочел:
«Достопочтенный Корнелий Кальвий! Друг, желающий тебе добра, настоятельно рекомендует покинуть Рим в ближайшее время. Твоя жизнь в опасности, которая исходит сверху. Ты ученый человек, и я могу напомнить строки Овидия, который так описал твое нынешнее состояние: „Pendere filo“. Да, жизнь твоя действительно висит на шелковой нити, поэтому позаботься о том, чтобы преторианцы нашли дом пустым. Сразу же уничтожь это письмо!»
Кальвий перевернул свиток. Дешевый папирус и печать ничего не говорили об авторе. Ошибки в письме отсутствовали, и написано оно было ровным беглым почерком.
Кальвий озадаченно покачал головой. Опасность, которая исходит сверху? К тому же намек на преторианцев. Это могло указывать только на императора и сенат. Но его не в чем было упрекнуть, ни в одной мелочи.
Кальвий не принимал участия в политической жизни, но и от него не укрылось, что в последнее время участились процессы по делам об оскорблении величия, и часто они касались людей, которых он хорошо знал и не мог поверить в их виновность. Как убежденный стоик, Кальвий сохранял спокойствие, но он хотел знать, что происходит, и решил обратиться за разъяснениями к своему родственнику Бальбию, сенатору.
Через два дня они встретились. Вид у Бальбия был затравленный, и он несколько раз спросил носильщиков, действительно ли за ними никто не шел. Когда-то он быстро соображал и так же быстро говорил. Необдуманное высказывание едва не стоило ему жизни во времена Тиберия, с тех пор Бальбий стал сверхосторожным.
Когда Кальвий передал ему в руки послание, тот, окинув его быстрым взглядом, в страхе выронил, будто обжег пальцы. Сенатор оглянулся и спросил шепотом:
— Ты доверяешь рабам? Нас никто не услышит?
— Если будешь говорить тихо, никто. Итак, что это значит?
— Я уже видел несколько подобных писем. Никто не знает, откуда их доставляют, но автор должен быть хорошо информирован, поскольку никогда не ошибается. Я знаю двоих, кто не послушался его совета и оказался на Гемониевых ступенях.
— Но в моем случае это должно быть ошибкой! Я не общаюсь ни с одним политиком, ни в чем не участвую. Время моего сенаторства давно позади: после смерти Августа я добровольно оставил службу. В чем меня можно упрекнуть?
— Ты богат, Кальвий, — сказал сенатор.
Кальвий засмеялся:
— И это преступление?
— Для Калигулы — да…
Бальбий сам испугался своих слов и тут же добавил:
— Забудь, что я сказал, и воспользуйся советом. Поезжай под вымышленным именем куда-нибудь подальше от Рима, и оставайся там, пока воздух здесь не станет чище. Я и многие другие надеемся, что ждать уже недолго.
— Я подумаю, — ответил Кальвий, по-прежнему оставаясь спокойным.
— Не раздумывай долго, Фортуна в последние дни стала особенно капризной.
Корнелий Кальвий, тщательно все взвесив, решил не принимать случившееся всерьез и остался в Риме, успокаивая себя словами Вергилия: «Один раз умирает каждый».
Калигула снова боролся со своим заклятым врагом — скукой. Он торопил наступление лета, чтобы на своем роскошном корабле совершить плавание вдоль берега и посетить недавно построенные виллы между Антиумом и Путеоли, наслаждаясь восторженными криками собравшегося народа…
— Ничего, совершенно ничего не происходит! — жаловался он недавно Геликону. — Дела у людей идут слишком хорошо, потому что нет никакой опасности, не грозят никакие катастрофы. Во времена Августа, например, случился разгром Вара, а сейчас? Ни войны, ни голода, ни землетрясения, ни пожаров! От этого можно прийти в отчаяние!
— Фортуна держит свою руку над Римом, защищая от напастей, император, и мы должны быть ей благодарны. Но я уверен, что скоро ты найдешь выход и удивишь свет потрясающими идеями.
Калигула ценил мнение Геликона, и сейчас эти слова подстегнули желание выдумать что-нибудь небывалое, удивительное, драматическое, приправленное злорадством, но сразу в голову ничего не приходило. Он злился и, чтобы отвлечься, велел высечь пару рабов. Те столь страстно занимались любовью в дворцовых термах, что при появлении императора не смогли вовремя прекратить свои игры.
— У вас прекрасно получается развлекаться друг с другом, можете теперь продолжить по-другому.
И оба были вынуждены пороть друг друга до крови. Зрелище возбудило Калигулу, и он велел послать за Пираллией, которая теперь, чтобы при необходимости всегда быть под рукой, жила во дворце. То, что она все равно уходила и приходила без разрешения, когда вздумается, нравилось императору. Он не выносил угодливых, скучных женщин, в них он ценил — в противоположность мужчинам — определенную строптивость.
Но в этот раз Пираллия оказалась на месте, и они вместе отправились в спальню, где их ожидало роскошное ложе императора, покрытое шкурами молодых волков.
— Мой фаллос жаждет твоего тела, Пираллия! Сейчас ты единственная настоящая женщина во всем Палатине — возможно, даже во всем Риме.
Пираллия тихонько засмеялась.
— А ты, Гай, умеешь делать комплименты. Даже если бы ты был сапожником или булочником, мог бы своими речами заманить в постель любую женщину.
Теплый блеск появился в неподвижных глазах.
— Теперь ты сделала мне комплимент, во всяком случае, необычный. Сапожник, булочник… Не могу себе представить.
— Или сенатор… — поддразнила Пираллия.
Калигула глухо засмеялся:
— Тогда лучше булочник или сапожник!
Он подошел к ней сзади и, обхватив грудь, крепко сжал ее. Гречанка почувствовала покрытое волосами тело, и, как всегда, это прикосновение возбудило ее. Она развернулась, поцеловала его соски, ощутила напряженный фаллос любовника и упала на ласкающие кожу волчьи шкуры.
— Давай же, Гай, быстрее! Возьми меня!
Калигула вошел в нее напористо, как легионер, насилующий пленницу, грубо проникая в тело, будто хотел добраться до внутренностей.
И любил Калигула со всей жестокостью, потому что получал удовлетворение только тогда, когда мучил кого-то. Но Пираллии нравились его грубые ласки. Потом она озабоченно рассматривала синяки на бедрах.
— Смотри, что ты сделал со мной, жестокий!
Калигула польщенно смеялся. Что бы ни сказала эта женщина, она не могла его обидеть, и он снова подумал, как ему повезло, что он встретил Пираллию.
— Все-таки я женюсь на тебе — всему Риму назло!
— А Лоллия Павлина?
— Я давно должен был с ней развестись, но она стала мне так безразлична, что я и думать забыл о своей жене.
— Пираллия Августа — почему бы и нет? Но у императрицы есть еще и обязанности, и я думаю, что не подхожу на эту роль. Я ведь только проститутка.
Но Калигулу уже занимали другие мысли, и он не слушал Пираллию.
— Мне нужен твой совет. Что бы ты сделала, если бы от тебя ожидали чего-нибудь необычного, удивительного… Не раздумывай долго, просто скажи, что первое придет в голову.
Пираллия откинулась на ложе и скрестила руки за головой.
— Меня содержал некоторое время один человек. Мы плыли из его имения на Сицилию… Когда мы на лодке переезжали из Региума в Мессану, он сказал: «Если бы у меня было много денег, я соединил бы оба берега огромным мостом». И это было бы действительно чем-то необыкновенным, удивительным.
— Огромный мост… — повторил Калигула в задумчивости. — Я соединю мои виллы в Бавли и Путеоли акведуком длиной в три мили, над морем… Да, я сделаю это! Но он будет не из камня или дерева — тогда придется слишком долго ждать, это будет мост из кораблей.
Корнелий Сабин не хотел лишаться комнаты у храма Артемиды, считая это дурным знаком, как если бы он совсем отказался от Елены.
Он по-прежнему нес службу в легионе, равнодушно, без внутреннего участия, но обязанности свои выполнял хорошо. Только в свободное время молодой трибун все чаще уединялся в своей комнате с кувшином вина.
Между тем в одиннадцатом легионе появился новый легат, молодой человек из римской семьи, который вел себя как самый настоящий император. В своей приветственной речи он сказал:
— При моем предшественнике, у которого, конечно, было немало заслуг, легион погряз в рутине. Я этого терпеть не собираюсь. Болезни, замещения и просьбы о дополнительном свободном времени — все, что выходит за рамки службы, — только с моего одобрения. Если наш божественный император задумает посетить провинции, перед ним должен предстать легион, которым он сможет гордиться, как мы гордимся нашим императором Гаем Юлием Цезарем Августом Германиком!
Сабин воспринимал энергичную речь как что-то далекое, не имеющее к нему отношения. Он тоже любил императора, о котором в легионе рассказывали много хорошего, пусть некоторые вещи и казались легионерам странными. Оказание императору при жизни божественных почестей было чем-то новым, но многие думали, что делается это для устрашения провинций, и поэтому принимали. Легионеры узнали, что в храмах Эфеса — даже великой Артемиды — теперь воздавали божественные почести и Калигуле в образе Юпитера.
Сабина все это не волновало. Он был занят проблемами, которые, как и положено безнадежно влюбленным, казались ему жизненно важными. Сослуживцы посоветовали ему поменьше пить, пока молодой легат не выпустит пыл, и Сабин послушался. Но на трезвую голову с удвоенной болью до его сознания дошло, что он навсегда потерял Елену. Навсегда! Навсегда! Трибун не мог проговаривать эти слова без слез. Он сам себя мучил, сожалел о Елене, одновременно чувствуя небывалую злость к Петрону, который благодаря Корнелию Сабину скоро станет отцом.
Шесть дней Сабин держался, а утром седьмого снова начал пить. Это был выходной день, и легат не мог воспрепятствовать трибуну проводить свободное от службы время по своему усмотрению.
Мариний с озабоченным лицом поставил перед ним кружку, с мольбой глядя в глаза Сабину, будто хотел сказать: «Не пей слишком много!»
— Не смотри на меня так, Мариний! В конце концов, сегодня я могу делать, что хочу. Другие отправляются в публичный дом или проигрывают деньги в кости. А я пропиваю!
Вино было выпито, и в его затуманенной голове родилась слабая надежда. Зачем терять мужество? Он же был солдатом! Разве не советовал ему Херея много раз действовать решительно? Меч из ножен и вперед! Возможно, Елена уже передумала и просто не имела возможности сообщить ему.
— Мариний, приготовь одежду. Я иду в город.
Слуга, который видел, что его господин едва держится на ногах, принялся упрашивать:
— Прими сначала холодную ванну, господин, это освежит и отрезвит тебя. А может, мне проводить тебя в город?
Сабин упрямо покачал головой.
— Не хочу трезветь, сейчас как раз хорошо… Хочу кое-что сделать… Пошел прочь, Мариний! В таком деле провожатые не нужны.
Трибун доехал до рыночной площади, передал лошадь смотрителю и сказал, что скоро вернется.
Бесцельно бродил он в толпе, натыкаясь то на одного, то на другого, искал глазами знакомую высокую фигуру покинувшей его возлюбленной. Он настолько был уверен, что сегодня встретит ее, что даже не удивился, когда в нескольких шагах увидел ее со служанкой и молоденькой рабыней у прилавков с орехами и сушеными фруктами. Она показывала пальцем на товар, в то время как проворный торговец насыпал выбранное в ее корзину.
Сабин завороженно наблюдал за этой сценой, и на секунду в пьяном тумане родилось представление, будто Елена делает покупки для его собственной семьи. Он даже, казалось, услышал ее голос:
— Сегодня вечером будет угощение с соусом из фиников, перца и меда. Тебе понравится!
Когда она отвернулась от прилавков, Сабин увидел, что плащ Елены подчеркивает ее округлившийся живот. Мысли снова вернулись в действительность. Он знал, что Елена покупает фрукты для своей семьи, обязанной своим счастьем ему, римскому трибуну.
Он нагнал ее и преградил путь.
— Здравствуй, прекрасная Елена! Делаешь покупки для Петрона, который и не подозревает, что в его гнездо подбросили кукушонка.
Женщина молчала. Сабин засмеялся.
— Я подбросил в гнездо кукушонка, в теплое, уютное гнездо… А твой муженек все еще воображает, что сам сделал тебя беременной? Может, объяснить ему, как все случилось?
Громкая речь привлекла внимание людей, некоторые остановились и смотрели, что будет дальше. Елена попыталась пройти мимо, но Сабин крепко схватил ее за руку. Он чувствовал под своими пальцами тонкие кости и сжимал ее запястье, пока та тихо не вскрикнула.
А Сабин уже не мог остановиться.
— Она могла стать супругой римского трибуна, — громко говорил он, — а теперь замужем за греческой теткой в образе мужика. И вот теперь его жена ждет ребенка. Как же это у него получилось?
— Оставь меня и исчезни! — закричала Елена со злостью, в то время как Клония пыталась закрыть ее собой.
— Тебе бы так было удобнее, да? Просто исчезнуть из твоей жизни, чтобы ты спокойно могла жить дальше со своим кукушонком. Но я не оставлю тебя в покое — никогда!
— Тогда я попрошу Артемиду, чтобы она избавила меня от такого испытания — она ведь исполнила мое желание о ребенке.
Елена произнесла это с такой издевательской насмешкой, что Сабин ударил ее по щеке, желая стереть эту улыбку с лица. Клония позвала на помощь, а Елена, потирая лицо, наградила Сабина взглядом, полным презрения:
— Бить беременную женщину! Чего еще можно ждать от римского солдата!
На громкие крики подошли двое греков, присматривающих на рынке за порядком.
— Здесь не обижают женщин, — предупредил один из них, а второй обратился к Елене:
— Это твой муж или родственник?
Она отрицательно покачала головой.
Тогда церемониться с Сабином не стали. Его оглушили, взяли под мышки и уволокли прочь. В себя он пришел в доме смотрителя рынка и ощупал внушительную шишку на голове.
— Вы напали на римского трибуна, и это вам дорого обойдется. Меня зовут Корнелий Сабин!
Толстый смотритель был невозмутим.
— Об этом я как раз хотел тебя спросить. Вероятно, трибун одиннадцатого легиона? Хорошо, но это не дает тебе права оскорблять женщину и тем более ее бить. Я сообщу твоему легату.
Сабин на ватных ногах вышел на улицу. Ему было все равно, даже если он будет уволен со службы. Тем лучше! Все равно он уже сам решил попросить об увольнении. Решение оставить армию пришло совсем неожиданно. Но что еще держало его здесь? Он должен вернуться в Рим и сделать все, чтобы забыть Елену. Красивых женщин кругом хватало! Что такого особенного было в Елене? Худая, высокая, желтые глаза, узкое лицо, дерзкий рот… В Риме таких сотни, тысячи…
Но он тут же должен был признаться, что эта Елена — его Елена — была единственной.
Спустя два дня Сабина вызвали к легату.
— Трибун Корнелий Сабин? Ты, вероятно, догадываешься, о чем пойдет речь? Итак, ты оскорбил беременную женщину на виду у всех, ударил, не давал пройти — и все это в нетрезвом состоянии. У тебя есть что добавить или ты хочешь опровергнуть донесение?
— Нет, все правильно, легат, я только хотел бы поправить: я не мешал ей идти дальше.
— Почему ты так поступил? Ты знаешь ту женщину?
Сабин решил, что не станет больше создавать Елене сложностей, и поэтому ответил:
— Нет, я видел ее в первый раз. Вероятно, я был слишком пьян, или она напомнила мне проститутку, с которой мы повздорили когда-то, — я не знаю.
Легат невесело усмехнулся:
— Проститутку! Было бы хорошо! Речь идет о Елене, жене Петрона, чьи родители принадлежат к самым достойным семьям Эфеса. Аккуратные добросовестные налогоплательщики, без которых нашей огромной империи было бы нелегко. Хотел бы я, чтобы она оказалась проституткой! Это избавило бы нас от многих неприятностей. По непонятным причинам ни Елена, ни ее муж не пожелали подавать на тебя в суд — вероятно, хотели этим подчеркнуть свое доброе отношение к Риму, но, я думаю, что они все-таки рассчитывают на твое наказание, и вполне оправданно.
Молодой легат смерил Сабина надменным взглядом, будто хотел сказать: тебе меня упросить не удастся, даже не пытайся.
— Я бы хотел воспользоваться возможностью и попросить об увольнении из легиона.
На это легат никак не рассчитывал, и на его лице появилась растерянность.
— Увольнении? Как это понимать? По какой причине?
— По личной.
— По личной причине и чтобы избежать наказания?
— Нет, легат, ты можешь сначала наказать меня, а потом распорядиться об увольнении.
— Твои родители живы?
— Да. Мой отец — Корнелий Цельсий из Рима.
— Он одобряет твое прошение или еще ничего о нем не знает?
— Нет, моему решению предшествовали долгие размышления, и оно не связано с Е… с этой женщиной.
Легат задумался. Он не мог ни на что решиться.
— Корнелий Сабин, я скажу тебе откровенно, что для меня это дело слишком щекотливое. Я не хочу портить себе карьеру, потому что Корнелии — влиятельные люди в Риме, и кто знает, что думает твой отец по этому поводу. Я не могу уволить тебя из легиона, и о мере твоего наказания должен принять решение сам император, наш верховный полководец. Ты дашь мне слово чести, что не предпримешь попытки к бегству, и я отпущу тебя в Рим без охраны. Пусть там решают твою судьбу. Договорились, трибун?
— Договорились, легат!
25
В конце мая Калигула решил ехать на юг, чтобы там осуществить свою безумную идею строительства грандиозного моста между Бавли и Путеоли. Он весь горел от нетерпения, и дюжина секретарей строчили с утра до вечера приказы и распоряжения. Невзирая на возможные последствия, император затребовал в свое распоряжение все суда, в том числе предназначенные для перевозки зерна. Противоречить никто не осмеливался. Только Каллист высказал опасение, прикрыв его иронией:
— Боюсь, император, что плебеи отнесутся без понимания к твоей божественной идее. Если прекратится бесплатная раздача хлеба, чернь может обозлиться.
Калигула отмахнулся:
— Им не повредит немного поголодать. И вообще, пора решить эту неприятную проблему. Почему, собственно говоря, государство должно кормить жалких бездельников? Я удивляюсь! Кто придумал этот обычай?
— Законом он стал во времена триумвирата Помпея с Цезарем и Крассом, но и до них существовали государственные и личные пожертвования на нужды обездоленных.
Глаза Калигулы сверкнули ненавистью.
— И я знаю, почему! Во времена республики патриции покупали голоса на выборах. У бога нет в этом необходимости. Я независим от черни, меня избрали на Олимпе.
— Конечно, император, и все же некоторые вещи нельзя изменить в один миг.
— Раз так, мой дорогой Каллист, мы заставим римских бездельников немного поголодать, чтобы они постепенно начали привыкать к худшим временам.
Дальнейшим пожеланием Калигулы было сопровождение всей его семьи и друзей. Среди приглашенных оказался и Лентулий Гетулик, легат Верхней Германии, и Валерий Азиатик, и даже Сенека, опальный поэт. Все они должны были принимать участие в спектакле императора. Лоллии Павлине, почти забытой им супруге, Калигула позволил короткое время еще раз побыть императрицей, но роль свою она должна была разделить с Пираллией.
Сенека, в душе республиканец, заметил, обращаясь к Ливилле:
— Вот они, достижения принципата! Император может позволить себе все! Нет закона, который привлек бы его к ответственности или заставил обратиться за советом. Во времена республики ни один консул, ни один член триумвирата не осмелился бы так поступить с народом. Я тоже не сторонник раздачи бесплатного хлеба, но сие узаконено более ста лет назад.
— Как раз это и сподвигло моего брата не принимать их во внимание. Он всегда все будет делать наперекор.
— Возможно, однажды он зайдет слишком далеко…
— На это мы и надеемся, — сказала Ливилла так тихо, что Сенека не расслышал.
Весь римский флот был собран, чтобы сопроводить роскошное судно императора на юг. Военные и транспортные суда выстроились за стовесельной галерой, на которой красовалось пурпурное знамя империи с римским орлом. Весенний ветер надувал паруса всех цветов и оттенков. Из-за своих размеров огромный корабль императора едва передвигался, но его строили специально для путешествий вдоль берега, и он довольно быстро мог пристать в любом месте.
Гордый, как маленький мальчик, который показывает свои игрушки, вел император Пираллию по палубе корабля. Маленькие и большие залы тянулись вдоль ряда аркад, построенных по кругу, чередуясь с искусно разбитыми миниатюрными садами, крошечными фонтанами из бронзы и мрамора. Вся мебель была изготовлена из ценных пород дерева и слоновой кости, но даже восхищенной Пираллии бросилась в глаза небрежная работа мастеров. Нетерпеливый император постоянно торопил их, подбадривая подарками. Поэтому, хотя при работе и использовались самые дорогие материалы, но от многого, увиденного на корабле, создавалось впечатление наскоро изготовленных декораций, которые разберут после представления.
Позолота на деревянных колоннах и стенах уже местами отошла, но Калигула, казалось, ничего этого не замечал. Они с Пираллией спустились ниже, где император с гордостью продемонстрировал ей маленькие термы с тремя ваннами: для холодной, теплой и горячей воды. И здесь поспешная работа давала о себе знать: цветная мозаика уже начала крошиться, а детали, выполненные из чистого золота, казались аляповатой подделкой, столь грубо они были изготовлены.
— Чем не отблеск Олимпа? — с гордостью спросил довольный Калигула.
— На этот вопрос я не смогу ответить, потому что никогда там не была, — дерзко ответила Пираллия. Император любил ее неуважительные, дерзкие замечания и пропустил насмешку мимо ушей.
— Но тебе ведь здесь нравится?
Пираллию тронул просящий о поддержке тон маленького ребенка, который так гордится своей игрушкой.
— Я просто потеряла дар речи от восторга и удивления. Другого такого корабля, пожалуй, во всем свете не найдешь. Думаю, что знаменитые парусники Клеопатры просто меркнут перед блеском этого.
Взгляд Калигулы смягчился.
— Ты умеешь говорить приятное, Пираллия. Я тоже считаю, что превзошел Клеопатру. Внизу нет ничего интересного: только печи для подогрева воды и кухня. Посмотрим, что наверху.
Там, под белыми навесами, гостей ждали удобные лежаки, а на маленьких столиках — вазы с фруктами и орехами.
Как только они появились, все с благоговением склоняли головы перед божественным императором, но Лоллия Павлина отвернулась, увидев Пираллию. Калигула тут же заметил ее презрительный жест и с насмешкой сказал:
— Павлина, любимая, не отворачивайся, ведь я хочу представить тебе почетную гостью. Моя подруга Пираллия, которую я давно бы сделал своей женой, если бы она захотела.
Император устроился на лежаке и приказал Павлине занять место справа от него.
— А ты, Пираллия, садись слева.
Потом он обратился к Эмилию Лепиду, который стоял неподалеку:
— Как тебе нравится, друг мой? Самая скучная и самая глупая женщина в Риме рядом с моей умной, пылкой возлюбленной. А между ними император, соединяющий противоположности своей божественной персоной.
Лепид подошел ближе.
— Красиво сказано, император. Жизнь была очень скучна, не будь этих противоположностей.
Зевнув, Калигула поднялся.
— Она и так достаточно скучна. Завтра мы бросим якорь в Антиуме, моем родном городе. Придумай что-нибудь, Лепид, я хочу порадовать народ. Нужна шутка.
— Добрая или злая?
Калигула рассмеялся.
— Конечно, добрая, потому что я там родился.
Он подхватил Лепида под руку и отошел с ним в сторону.
Пираллия, по-прежнему сидевшая рядом с Павлиной, почтительно спросила:
— Могу ли я удалиться, Августа?
— Даже должна, но сначала я хочу тебя кое о чем спросить.
Она произнесла это злобно, не глядя на Пираллию. Та сидела опустив голову и молча ждала вопроса.
— Что ты делаешь, чтобы развеселить императора, расположить его к себе?
Подмешиваешь какое-нибудь любовное зелье или это твое искусство проститутки, в котором я ничего не понимаю?
— Ни то, ни другое, Августа, — ответила Пираллия спокойно. — Но мне нравится император, возможно, я даже люблю его, и он, похоже, это чувствует.
Павлина резко развернулась и озадаченно посмотрела на собеседницу.
— Ты любишь императора? — спросила она, не в силах поверить услышанному.
— Возможно. Во всяком случае, я принимаю его странности, всегда рядом, когда он нуждается во мне.
— Не понимаю… Он делает тебе подарки?
— Небольшие. Оплачивает услуги, как обычно платят проституткам.
— Ты находишь правильным, что он предпочитает тебя своей супруге?
— Я к этому не стремлюсь. Он дважды предлагал мне брак, но я не согласилась. Я не хочу вытеснить тебя, Августа, но не могу и отказаться приходить к нему. Какие у меня могут быть на то причины?
Павлина отвернулась, но немного погодя примирительно сказала:
— Теперь ты можешь идти.
Пираллия поклонилась.
— Ты не должна ненавидеть его, Августа. Он странный и одинокий человек. Ты не должна его ненавидеть…
Не дожидаясь ответа, гречанка ушла.
Калигула приказал позвать к нему Гетулика. Легата обуял внезапный испуг, но император принял его в прекрасном настроении:
— Я беседовал со своим братом Юпитером, потом к нам присоединился Марс. После этого разговора я твердо решил предпринять поход в Германию, а заодно завоевать Британию.
«А я позабочусь о том, чтобы ты потерял при этом голову», — думал Гетулик, восторженно расхваливая решение императора.
Стояла великолепная летняя погода, когда они причалили в Путеоли, где в гавани уже теснилось множество кораблей. На следующие дни были назначены игры, поскольку у Калигулы не хватало терпения ждать.
Публия Петрония, легата Сирии, возмутил императорский приказ. Как бывший префект Египта и проконсул Азии, он хорошо знал иудейский народ, чтобы понять, что может повлечь за собой это распоряжение. Заслуженный солдат и политик, он никогда не злоупотреблял своим положением. Император Тиберий высоко ценил в нем надежного и неподкупного служащего, часто называя римлянином старой закалки. Выше верности императору он ставил верность Риму, всей великой империи, поэтому, получив опасный, лишенный здравого смысла приказ, выждал несколько недель, прежде чем созвал старейших представителей иерусалимских семей.
И снова прошло немало времени, пока к нему прибыла делегация старейшин, депутатов городского представительства и ученых мужей. Он пригласил к себе самых главных: верховного жреца, главу города и судью. Все они входили в синедрион — высший совет иудеев, который заседал в Иерусалиме и при римском господстве.
Петроний предложил бородатым старцам в длинных шерстяных плащах сесть и сообщил:
— Император Гай Юлий Цезарь Август передал мне приказ, который я не хочу излагать вам дословно, но в нем говорится, что в храме Иерусалима должна быть установлена статуя императора в образе Юпитера высотой в человеческий рост, как и в остальных главных храмах по всей империи. Император до сих пор, как и его предшественники, уважал вашу религию, но в Ямнии был разрушен его алтарь, поэтому принцепс видит необходимость отмены милостиво предоставленного вам исключения из правил. Это означает, что вам придется смириться с установкой его статуи в храме Иерусалима и в будущем отдавать почести в виде даров и жертвоприношений. Изготовлением статуи императора займутся мастера Сидона, и я сам позабочусь о четком и полном выполнении приказа.
Старцы молча смотрели в пол. Они молчали долго, пока верховный жрец не сказал:
— Бог не допустит этого. Чего хочет император добиться своим приказом? Как все покоренные Римом народы, и мы молимся в наших храмах о благополучии императора, нашего верховного господина на земле, Мы платим налоги. Мы точно соблюдаем все предписания, законы и договоры. Все предшественники Гая Юлия Цезаря Августа поступали с нами так же. Почему этот император требует того, что иудеи не могут сделать?
— Это наказание за преступление в Ямнии.
— Почему он наказывает за это преступление иудеев в Иерусалиме?
— Не знаю, и не мое дело обсуждать приказы императора — мое дело их выполнять.
— Не можем ли мы откупиться? — спросил судья.
У Петрония блеснул луч надежды. Безмерно расточительный Калигула должен был пойти на это соглашение.
«Почему нет, — подумал он. — Большинство проблем решает золото».
— Я передам ваше пожелание императору. Возможно, он согласится, но не стоит сильно надеяться — не все на свете покупается.
«И это я должен был сказать», — думал Петроний, однако он сам дорого бы заплатил, лишь бы не выполнять чреватый последствиями приказ. Он знал иудеев как надежный, прилежный народ, исправно пополняющий римскую казну. Было бы очень неразумно его злить, но политическая мудрость, вероятно, императору не была свойственна.
Легат хотел попрощаться с гостями примирительной шуткой:
— Если дойдет до того, что однажды статуя императора окажется в храме Иерусалима, это принесет вам выгоду: не придется больше молить бога о благополучии императора, вы сможете обращаться прямо к богоподобному Гаю в образе Юпитера.
Жрец возразил:
— Бог сказал Моисею: «Я господин, твой Бог, и ты не должен поклоняться никаким другим богам, не должен создавать себе никаких подобий как среди того, что есть на небе, так и среди того, что есть на земле и в воде». Этим Яхве хотел нам сказать, что не потерпит рядом с собой никаких богов, что Он — единственный.
Нам разрешено почитать императора как человека, как главу государства, но не более того.
Петроний поднял руки в знак извинения.
— Это была шутка, но я вижу, что ваша религия не терпит подобного. Идите с миром и не теряйте мужества.
День и ночь тысячи людей были заняты тем, что связывали между собой веревками и цепями бесчисленные баржи, парусники и галеры. Переходами от корабля к кораблю служили деревянные мостки, которые засыпали землей, превращая в вал.
День за днем Калигула контролировал ход работ, обещал деньги и подарки, и только на них расходы должны были составить миллионы сестерциев. На восьмой день император принял готовую работу и принес жертву Нептуну. Потом он облачился в золотой панцирь Александра, приказал покрыть себя императорским пурпуром и водрузил на голову венок из дубовых листьев. В сопровождении всей преторианской гвардии, родственников и всего императорского двора он двинулся в Путеоли по улице длиной в три мили.
Вместе с сенаторами шел и Луций Сенека, наблюдая спектакль со странным удовлетворением. Как убежденный стоик, он не показывал своих чувств, но как ученый размышлял: «Будь Калигула жестоким, капризным, но экономным тираном, приумножающим мощь империи, конца его господству не было бы видно. Но чем больше он тратит, тем быстрее пустеет казна, вынуждая императора прибегать к непопулярным мерам. Это приведет к росту числа врагов, которые его и свергнут».
Отношения Сенеки и Ливиллы в последнее время изменились. Нет, это было не охлаждение. Их встречи становились все реже и не всегда заканчивались на ложе любви. Из странных намеков Ливиллы о том, что скоро многое должно измениться, Сенека сделал вывод, что Калигула потребовал от сестры ограничить или даже прекратить отношения с ним. Он не сомневался, что, если бы проявил любопытство и расспросил Ливиллу, она поделилась бы с ним. Однако он этого не делал, но не из гордости или отсутствия интереса, а потому, что все свои силы, всего себя должен был отдавать работе. Сенека трудился над новым изложением драмы Эдипа, и герои ее — Лаия, Иокаста, Полибий — заслоняли от него окружающий мир. Вот и сейчас этот гигантский безвкусный спектакль не мог отвлечь его от драмы, которая сцена за сценой разворачивалась в его голове.
Кассий Херея в парадной форме маршировал с тремя другими трибунами в составе германской охраны. Он от души радовался пышному спектаклю и был просто счастлив на несколько недель избавиться от дворцовой службы. Здесь у императора не было времени и возможности подшучивать над ним, да и от щекотливых поручений преторианцы оказались на время избавлены.
Лентулий Гетулик, командующий верхнегерманскими легионами, следовал за императором в составе придворной свиты, но мысли его были далеко. Теперь, когда принцепс решился на военный поход, легат должен был разработать конкретный план, как быстрее и безопаснее достигнуть цели заговора. У Гетулика не было личных причин для ненависти к императору, но он чувствовал, как росла подозрительность Калигулы, который завидовал его популярности в войсках. Где бы легат ни останавливался, его тут же окружали шпионы Калигулы, так что он перестал доверять даже тем, кого знал давно, опасаясь, что некоторые из них куплены и докладывают о каждом его слове в Рим. В остальном же Калигула, как сын Германика, представлялся не просто разочарованием, а позором для каждого заслуженного легионера. Ничто не могло поколебать решимости Гетулика разрушить это печальное подобие императора.
За пышно украшенным конем Калигулы шли его ближайшие друзья и немногочисленные оставшиеся в живых родственники. С трудом ковылял позади Ливиллы и Агриппины Клавдий Цезарь. В свои пятьдесят он выглядел согбенным старцем, которому существование стало в тягость.
В нескольких шагах от Агриппины следовал ее любовник Эмилий Лепид. Он думал о том, что, окутанный в императорский пурпур, на прекрасном коне должен был восседать он, а не это чудовище, которого судьба загадочным образом вознесла на трон.
Лепиду не надо было подогревать свою ненависть: он не мог забыть ту ночь, когда Калигула изнасиловал его. Бывало, что Лепид сам развлекался с юношами или мужчинами, но по своей воле, и это приносило ему удовольствие. Кроме того, он был убежден в несостоятельности Калигулы как принцепса и считал его позором для всей империи, сената и, наконец, для семьи. Лепид знал от Каллиста, во что обошлись нынешняя затея и как пострадала торговля и все хозяйство, оставшись без судов. «Чем дольше он остается на троне, — думал бывший муж Друзиллы, — тем сложнее будет привести в порядок дела государства».
Уже поговаривали, что император задумал совершить поход, а это было важным шагом для заговорщиков. Лепид хотел предпринять все возможное, чтобы остаться в Риме и заняться подготовкой к престолонаследию, как было предусмотрено их планом. Они с Агриппиной привлекут сенат на свою сторону. Основной проблемой были преторианцы, но старшая сестра Калигулы изъявила готовность выделить значительные денежные средства для их убеждения. Деньги в последнее время стали самым сильным аргументом, и даже тупые германцы понимали это.
В гавани Путеоли торжественную процессию встречала ликующая толпа. Ее рев заглушал звуки фанфар, которыми в городе хотели встретить высокого гостя. Калигула принимал почести, как и положено богу. Спектакль, в котором он играл главную роль, разгорячил его, бледное лицо раскраснелось, глаза оживились. Это был действительно триумф богоподобного императора, делающий подарок своему народу. В течение получаса он позволил толпе наслаждаться лицезрением своего величественного образа, а потом удалился на недавно построенную виллу.
На следующий день Калигула планировал вернуться на колеснице в сопровождении юного принца Дария, который со времен Тиберия жил в Риме заложником, обратно на Бавли. На этот раз точные предписания, кто должен следовать в свите императора, отсутствовали.
Калигула в короткой тунике стоял на колеснице. Перед ней вышагивал в роскошном иноземном наряде принц Дарий из Парфии, которая являлась не провинцией, а зависимым от Рима государством. Еще при Августе было условлено, что парфийский наследник должен расти и воспитываться в Риме. Это служило гарантией, что его царствующий отец никогда не поднимется против Рима. Кроме того, эти юноши превращались в настоящих римлян и оставались навсегда верными союзниками своей второй родины. Поэтому принц Дарий не считал оскорбительным принять участие в торжественной процессии в качестве статиста.
Приблизительно в середине моста возвышалась трибуна, обтянутая пурпуром. Поднявшись на нее, Калигула обратился к народу:
— Вы спросите, что побудило Цезаря протянуть над морем мост длиной в три мили? Чтобы показаться в своем божественном блеске? Нет, друзья мои! Я хотел этим разрушить определенные сомнительные предсказания.
Как вы знаете, мой предшественник и дед император Тиберий верил звездам. За несколько лет до смерти он спросил своего астролога Тразиллия, кого они предсказывают его преемником, и тот ответил, что точно не знает, но как нельзя пересечь пролив Байи, так и Гаю Цезарю невозможно стать императором. Сегодня я доказал, что не звезды, а боги решают судьбы людей. Вам посчастливилось, что среди вас живет бог в образе императора Римской империи — Гая Цезаря!
История предсказания Тразиллия была, конечно, выдумкой, но не мог же Калигула поведать всем, что построить мост надоумила его проститутка.
Калигула продолжал свою речь еще какое-то время, говорил о великих временах, славе империи, которую он множит день и ночь в неустанных трудах, и упомянул назначенный на осень поход в Британию и Германию.
Эмилий Лепид и Гентулик слушали с удовольствием. Теперь все было решено и сказано народу. Закончив речь, император пригласил всех на праздничную трапезу, подготовленную здесь же, на пяти самых крупных судах.
К вечеру мост осветился огнями — так началось одно из самых пышных пиршеств Калигулы.
Обед состоял из двадцати перемен блюд. Жареных дроздов, перепелок, голубей, уток, фламинго вносили в порядке возрастания размера, так же как и четвероногую дичь в соусе из толченого перца, сосновых семян, фенхеля и меда: сначала мясо кроликов и зайцев, потом — кабанов, косуль, а в завершение — оленя. Поскольку пировали посреди моря, и блюд из самых редких сортов рыбы тоже было предостаточно. Например, рагу из медуз и еще восьми видов рыбы, приправленное вином, маслом, медом, чесноком, кориандром, перцем и орегано. Поскольку места на кораблях было недостаточно, гости сидели, и только Калигула расположился на позолоченном ложе с Лоллией Павлиной и Пираллией по обеим сторонам. Они, против ожидания императора, не спорили, наоборот, мирно беседовали, как старые подруги, обмениваясь репликами через голову Калигулы. Скоро его это стало раздражать, и он подсел к Азиатику и Лепиду.
Те почтительно подвинулись, и Калигула сказал:
— Посмотрите-ка на обеих! Женщины то ссорятся друг с другом, то мирятся, и ни один мужчина не в состоянии понять, почему.
Друзья рассмеялись, а потом Азиатик сказал:
— Божественный Цезарь, пир удался тебе, как никогда. Можно только позавидовать собственному счастью присутствовать здесь. Но чего-то все-таки не хватает…
Калигула поднял брови и впился неподвижными глазами в лицо Валерия.
— Чего же не хватает? — спросил он зловеще.
Азиатик оставался спокоен.
— Не хватает щепотки перца. Я хочу этим сказать, что нам не хватает шуток, которыми ты привык сдабривать праздничные трапезы.
Калигула рассмеялся, и напряжение ушло:
— Если так, можете успокоиться, потому что об этом я побеспокоился. Но не хочу ничего выдавать, пусть это будет для вас неожиданным.
Сидящие за столом настороженно переглянулись, ведь никто не знал, кого эта неожиданность застанет врасплох.
Калигула распорядился после полуночи погасить все огни и убрать последнее судно в ряду кораблей. Таким образом, мост до берега не дотянулся. Многие из приглашенных на пир жили в близлежащих имениях. Они собрались домой, однако пути на сушу не было — последний парусник отошел в море. Многие попадали в воду, и те, кто не умел плавать, несмотря на крики о помощи, утонули. Калигула запретил вытаскивать неудачников.
После восхода солнца корабль вернули на место, но до того момента уже утонуло сорок семь гостей «радушного» императора.
— Надо было учиться плавать, — с насмешкой сказал Калигула и потом целый день радовался удавшейся «шутке».
26
Надежды Корнелия Сабина отправиться в Рим уже со следующим судном не оправдались. Легат, похоже, забыл о его заявлении, и трибун продолжал нести службу по-прежнему. Тоска по дому все сильнее заявляла о себе. Он решил, что возьмет себя в руки: пить будет только в свободные дни и запретит себе мысли о Елене. Конечно, сказать было легче, чем сделать. Тогда Сабин, чтобы отвлечься, стал драться на мечах, принимать участие в гонках на колесницах, играть, развлекаться в публичных домах и скоро приобрел славу самого веселого и неутомимого в развлечениях парня в легионе. Всех проституток Сабин взял за правило называть Еленами, а когда его спрашивали о причине, отвечал:
— Все просто: была одна женщина по имени Елена, которую я любил больше всех на свете. Когда же она предпочла мне содомита, я присвоил ей титул главной проститутки Эфеса и поэтому всех распутниц называю ее именем.
Лето близилось к концу, а приказ о возвращении в Рим все не поступал. В один из последних дней августа легат приказал Сабину явиться.
— Я не забыл тебя, Корнелий Сабин, но в этом частично и состоит твое наказание. Как раз потому, что ты хочешь вернуться в Рим, я оставил тебя еще на несколько месяцев в легионе. Не беспокойся — в середине сентября в Остию отправляется корабль. На нем есть место и для тебя.
Сабин решил, что в Риме начнет новую жизнь, будет работать вместе с отцом. С него было довольно жизни в легионе и гречанки Елены, которая так горько разочаровала его.
От возвышенных чувств Калигулы, пережитых в Путеоли, не осталось и следа, когда Каллист встретил его в Риме словами:
— Император, мне жаль, что приходится утруждать тебя, но наша казна пуста. Годовой налоговый доход полностью израсходован. Я не знаю, как финансировать оставшиеся до конца года три месяца, если только… если ты… я не осмеливаюсь произнести этого: если ты не ограничишь себя в расходах.
Калигула отвесил секретарю пощечину.
— Вот мой ответ! — гневно воскликнул он. — И запомни одно: можно быть или императором, или бережливым! Будучи принцепсом и к тому же богом, я не собираюсь ограничивать себя. Ты понял?
Каллист униженно склонил голову в поклоне:
— Это был весомый аргумент, император!
Тот рассмеялся:
— Поскольку тебе, похоже, в голову ничего не приходит, я сам позабочусь о новых источниках доходов и, можешь быть уверен, что-нибудь придумаю!
Каллист также пожаловался, что у него недостаточно денег на корм диким зверям, приготовленным для зрелищ.
На это император распорядился проводить его в главную городскую тюрьму, где, как он мрачно заметил, было достаточно мяса, чтобы кормить хищников.
Когда насмерть перепуганный начальник тюрьмы хотел представить ему списки приговоренных, Калигула отмахнулся.
— На это нет времени — звери голодные. Распорядись сначала отправить на корм сотню этих бритоголовых. Рим едва ли станет о них горевать.
Так убийцы, обманщики, воры и дюжина схваченных по ошибке невиновных оказались обреченными на сомнительное удовольствие защищать свою жизнь на арене в безнадежной борьбе с львами, медведями и волками. Многие даже похвалили императора за прекрасную идею, рассудив, что благодаря этому простому и дешевому способу удастся не лишать римлян любимого развлечения — травли зверей.
Двумя днями позже император неожиданно появился в сенате и выступил с короткой речью:
— Я обращаюсь к вам, чтобы устранить некоторые неясности. В Риме вошло в привычку порочить моего предшественника Тиберия Августа. Многие ссылаются при этом на мою критику императора Тиберия, но что позволено принцепсу, то является запретом для его подданных! К тому же сейчас стало ясно, что его часто обвиняли напрасно: многое из того, что осуждалось, оказалось делом рук других. Этому пора положить конец! Тот, кто в будущем посмеет чернить правление моего достойного предшественника, будет обвинен в оскорблении величия. Я сам позабочусь об этом и не позволю ни одному юристу себя переубедить. Я также отдал распоряжение — ради справедливости — снова возбудить прекращенные после смерти Тиберия процессы.
Таким было вступление к долгой череде судебных процессов и жестоких казней. Началось все с осуждения молодого сенатора, который осмелился поинтересоваться, каким образом возможно возбуждение процессов, если все акты сожгли по приказу императора после его вступления на престол. Это стоило ему головы, так же как и мужественному Титу Руфу, который бросил сенату упрек, что тот думает одно, а говорит другое.
Богатых людей подхватило вихрем страшного танца смерти. После казни претора Юния Приска, правда, выяснилось, что он не оставил никакого состояния. Когда Каллист сообщил об этом своему господину, тот только презрительно отмахнулся.
— Иногда попадаются и пустые орехи. Приск ввел меня в заблуждение и умер напрасно. Остались другие.
Среди других был и Корнелий Кальвий, дядя Сабина. Не все, чьи имена значились в черном списке, приходили в суд. К некоторым просто посылали домой преторианцев, чтобы угрозами принудить покончить жизнь самоубийством. Это давало им право сохранить часть состояния для семьи, и еще они должны были благодарить императора за предоставленную милость.
В эти дни префект преторианцев Клеменс вызвал Кассия Херею.
— У меня есть для тебя поручение, трибун, довольно простое и очень выгодное. Ты должен завтра утром навестить бывшего сенатора Корнелия Кальвия. Выяснилось, что он был осужден во времена Тиберия, но тогда дело закрыли. Старик безумно богат, одинок — поэтому сделай все, чтобы яд пришелся ему по вкусу.
С трудом удалось Херее скрыть свое замешательство. Он должен заставить совершить самоубийство дядю Сабина, своего лучшего друга! Херея никогда не видел Корнелия Кальвия, но знал его по рассказам друга, знал и о том, что Сабин должен был стать его наследником. До сих пор Херея выполнял похожие приказы, убеждая себя в том, что император понимает, что делает, и сам за это несет ответственность. Богатое вознаграждение помогало, в свою очередь, задавить подобные мысли в зародыше. Но теперь… Херея многим был обязан Сабину и знал, что не сможет смотреть тому в глаза, если согласится выполнить приказ. Но что было делать? Во всяком случае, ему следовало сначала согласиться.
— Я выполню приказ императора. Все сделаю и доложу о результатах.
Клеменс кивнул:
— Вот видишь, Херея, как ценит тебя принцепс и как мало значат его безобидные шутки.
Херея пытался собраться с мыслями. Отказ исключался, это бы все усложнило и могло навредить Марсии и детям. Может быть, ему удастся уговорить другого трибуна, подкрепив просьбу деньгами? Но тот наверняка поинтересуется причиной и позже использует то, что узнает против него. Рискованно. Оставалась только болезнь. Но просто так лечь в постель и заявить, что болен, он не мог. К нему пришлют врача, и обман раскроется. Болезнь должна быть настоящей, неоспоримой. Например, травма, которая вынудит его оставаться дома.
Херея, который как раз шел к казармам, резко остановился. Он нашел решение! Да, так все и должно быть — только так! В казарме трибун нашел знакомого центуриона:
— Завтра мы навестим одного господина и объясним, что горячая ванна и вскрытые вены будут для него самым приятным способом избежать застенков и палача. У этого богатого человека нет ни жены, ни детей, а значит…
Глаза центуриона блеснули.
— Спасибо, трибун! Для меня большая честь выполнять твои приказы. Могу я выбрать солдат или ты сделаешь это сам?
Херея на минуту задумался.
— Возьми надежных людей, будьте готовы с утра.
Дома Херея сказал Марсии:
— В ближайшие дни я редко буду дома, поэтому сейчас хочу залатать крышу. Ты ведь говорила, что она протекает?
Жена покачала головой.
— Авл уже давно все починил, разве ты не знал?
Херея сделал удивленное лицо.
— Нет. Возможно, я забыл. Мне, кстати, надо все-таки самому проверить.
В глубине сада стоял дом Авла, ветерана, которого Херея знал со времен службы в Германии. Он был хорошим солдатом, но не смог продвинуться по службе из-за своей несообразительности. Херея взял Авла к себе, и теперь он был кем-то вроде сторожа, присматривал за немногочисленными рабами и заботился о саде. Несмотря на отсутствие острого ума, он обладал очень важным качеством: непоколебимой верностью семье Хереи. За них он готов был отдать жизнь.
— Авл, старина, как жизнь?
— Приветствую тебя, трибун! Ничего нового нет! — доложил ветеран и вытянулся по стойке смирно.
Херея улыбнулся:
— Авл, ты уже давно не солдат. Радуйся, что у тебя все позади. Мы старые друзья. Какой я тебе трибун.
— Так точно, трибун! — не сдавался Авл.
Херея вздохнул.
— У меня беда, Авл. Я не могу тебе все рассказать, но ты должен сломать мне ногу, причем прямо сейчас!
Авл опешил.
— Не понимаю шутки, трибун.
— К сожалению, это не шутка! Слушай внимательно. Ты возьмешь лестницу и приставишь ее сзади дома к стене, потом сходишь за тяжелым молотком и принесешь его сюда. Договорились?
— Так точно, трибун.
Херея тем временем подобрал во дворе две деревянные планки, которыми Авл ровнял грядки, и занес их в дом.
Скоро появился Авл с молотком в руках.
— Марсия тебя не видела?
Авл помотал головой и со страхом посмотрел на своего господина. Для него трибун был высшим существом, пусть и называющим его своим другом.
Херея уселся на пол и подложил под ногу лежащие рядом планки.
— Теперь оберни молоток платком, чтобы не повредить кожу.
Ветеран так и сделал.
— Бей по ноге вот в этом месте, между досками!
Авл не шевелился.
— Что такое? — нетерпеливо спросил Херея.
— Я… я не могу…
— Не можешь?! — заорал Херея. — Тогда я приказываю тебе как трибун. Давай, но не очень сильно, слышишь?
— Так точно, трибун.
Приказ подействовал. Послышался глухой треск, и Херея до крови прикусил губу, чтобы не закричать от боли. Но он решил довести дело до конца.
— Теперь отнеси меня во двор, к лестнице. Если нам повстречается Марсия, помалкивай. Говорить буду я.
Авл с трудом поднял своего рослого господина и потащил к дому. Чтобы подавить стон, Херее пришлось собрать все свои силы, потому что нога волочилась по земле, причиняя адскую боль. Авл осторожно положил его у лестницы.
— А теперь беги к Марсии и кричи изо всех сил: «Херея упал с крыши!» И говори всем, кто бы тебя ни спросил, именно это, понял?
Авл кивнул. Точный приказ не требовал рассуждений, тут все было ясно.
Прибежала встревоженная Марсия, а за ней дети.
— Херея, что случилось?
— Я… я упал с лестницы. Ох, моя нога… Похоже, сломал. Пошли раба в легион, пусть пришлют врача, и побыстрее.
Херею осторожно занесли в дом и уложили. Через два часа появился врач и осмотрел больную ногу. Херея сжал зубы.
— Простой перелом, трибун! Тебе повезло. При открытом переломе мне пришлось бы забрать тебя в лазарет, а так будешь лежать дома.
Врач наложил шину и распорядился:
— В ближайшие три дня никаких движений! Если боль усилится, сразу посылай за мной.
— Как это могло случиться? — спросила Марсия, когда врач ушел, с упреком глядя на Авла.
Тот виновато опустил голову.
— Так получилось, госпожа, что я… я взял молоток и…
Херея тут же вмешался:
— Ты рассказываешь неправильно, Авл. Я уже стоял на крыше. Нагнувшись к тебе, я потерял равновесие и рухнул. Ведь так все было?
Авл облегченно вздохнул:
— Так точно, трибун!
Несмотря на сильную боль, Херея чувствовал облегчение. Теперь он сможет смотреть другу в глаза, а это стоило сломанной ноги.
Каждый сенатор во время судебных процессов мог выступать в качестве защитника, хотя во многих случаях, когда обвинял император, дело это было весьма опасное.
Один дальний родственник попросил о такой услуге Сенеку.
Его обвиняли в неуплате налогов, он же утверждал, что один из его вольноотпущенных рабов сам за его спиной вел дела и подделывал бумаги. Сенека собрал доказательства невиновности родственника, выступил с длинной отточенной речью, и ему удалось спасти своего подзащитного. Калигула выслушал две трети речи, а потом молча встал и ушел.
Поэт в тот же день обратился к Каллисту, что в данной ситуации было единственно правильным. Тот принял Сенеку с мрачным выражением лица.
— Я слышал, что император разгневан твоей речью. Иди домой, Луций Сенека, и ложись в постель. Если в ближайшие дни он не тронет тебя, отправляйся лечиться куда-нибудь подальше.
Сенека послушался совета. Он позвал Евсебия и все рассказал ему. Врач приготовил для него потогонное средство. Потом они зарезали курицу и испачкали ее кровью несколько платков, которые бросили рядом с постелью.
На следующий день явились преторианцы. Евсебий преградил им путь к постели.
— Вы хотите схватить умирающего или, может быть, заразиться от него? У Сенеки последняя стадия болезни легких, и будет чудом, если он переживет осень.
Преторианцы доложили обо всем императору. Калигула наморщил лоб:
— Я это уже не раз слышал. Что-то он долго умирает… Не разыграл ли он вас?
— Нет, император, — заверил трибун. — Сенека лежал весь в поту, а на полу я заметил платки в кровавых пятнах.
— Хорошо, тогда скоро он отправится к Орку. Мнит из себя великого оратора, потому что два-три сенатора похлопали ему в ладоши. Мне аплодируют тысячи.
Сенека выждал еще неделю. Он обсудил с Евсебием место лечения.
— Что касается болезни легких, врачи расходятся во мнениях. Одни рекомендуют морской воздух, другие расхваливают целительные свойства горного, а ты сам уже побывал в Египте.
— Евсебий, ты ведешь себя так, будто я действительно болен. Я притворялся, чтобы спасти жизнь.
— Все же ты не совсем здоров: часто кашляешь, иногда тебя лихорадит, быстро устаешь и жалуешься на потерю аппетита. Прежде всего, я беспокоюсь, как ты перенесешь зиму. Холод и сырой воздух могут убить тебя.
— Не холодная зима грозит мне гибелью… Что ты думаешь о Сицилии? Зимы там мягкие, и воздух свежий. Через несколько дней я мог бы уже быть там.
Евсебий кивнул:
— Мне поехать с тобой?
— Да, твое присутствие не повредит, если меня там найдут.
Перед отъездом Сенека навестил Ливиллу. Она грустно улыбнулась.
— Это настоящее чудо, что ты еще жив… что мы все еще живы.
— Да, но все может измениться в любой день.
— Почему ты ничего не хочешь предпринять? — накинулась на него Ливилла. — Или ты готов как баран пойти на заклание? Стоицизм — это хорошо, но ты, Луций, похоже, вообще ни о чем не хочешь думать.
«Сейчас она похожа на Агриппину, — подумал Сенека. — Все-таки сестры есть сестры».
— У нас была любовь, — сказал поэт, — и что с ней стало? Когда мы видимся, сразу начинаем спорить, когда я хочу тебя поцеловать, ты отстраняешься, говоришь, что есть дела поважнее.
Лицо Ливиллы смягчилось:
— Но ты ведь понимаешь, Луций, мы боремся за свою жизнь! Не только ты и я; есть много людей, которые не собираются дать тирану раздавить себя. Присоединяйся к нам. Мы должны что-то сделать, и сделать быстро!
Сенека стоял на своем:
— Из меня плохой заговорщик. Я поэт и философ и буду вам только в тягость.
— А может быть, ты просто трус?
— Кем бы я ни был, Ливилла, я болен. Послезавтра по совету врача я уезжаю в горы и хотел с тобой попрощаться.
«Да, возможно, я и правда трус, — рассуждал Сенека, — но постоянный страх за жизнь не даст мне работать. А работа для меня — самое важное».
Корнелий Кальвий провел спокойный размеренный день. Он был настолько богат, что мог позволить себе иметь огромный сад на Квиринале, хотя цены на землю здесь были чрезвычайно высоки. Привычки его давно сложились — Кальвий каждый вечер плавал и сейчас, после ужина под открытым небом, собирался немного почитать из «Истории Карфагена» Корнелия Кальвуса. Помешал этим планам трибун преторианцев.
— Я разговариваю с достопочтенным Корнелием Кальвием, бывшим сенатором?
Кальвий удивленно поднял на него глаза:
— Это так. Что случилось? Это касается моего племянника Сабина?
— Нет, господин, только тебя. Императорский суд выдвинул против тебя обвинение, которое я должен передать.
Кальвий взял в руки свиток:
— Что это может быть, трибун? Я еще при Тиберии оставил службу и с тех пор не интересуюсь общественными делами.
— Меня это не касается, ты обо всем прочитаешь в обвинении. Мне же приказано тебе передать, что наш божественный император не хочет огласки и дает тебе возможность в течение двух дней выбрать другой путь. Тогда ты сможешь распорядиться третью своего состояния, а две трети завещать Августу. В случае судебного приговора он получит все твое состояние.
Кальвий заставил себя улыбнуться.
— Значит, я осужден прежде, чем начали процесс? В мои времена все было по-другому… Ну что же, благодарю тебя, трибун. Надеюсь, с адвокатом я могу посоветоваться?
Преторианец пожал плечами:
— Если считаешь необходимым… Но только в доме, который с этого момента находится под моей охраной.
— Я уже узник?
— Ты под домашним арестом, Корнелий Кальвий.
Когда трибун удалился, к Корнелию подошел слуга.
— Господин…
— Не сейчас, друг мой. Я позову тебя позже.
Кальвий развернул свиток. То, что он прочитал, казалось, имело отношение к кому-то другому. Речь шла о налоговом преступлении, неясном обвинении из времен Тиберия, оскорблении величия…
«Это, должно быть, ошибка», — сказал себе Кальвий. Он смутно помнил, что еще за несколько лет до смерти Тиберия один его дальний родственник обвинялся в чем-то подобном. Вдруг его с ним перепутали?! Корнелии были большим родом, тут вполне можно было запутаться. Конечно, Кальвий знал, что процессов и казней в последнее время стало очень много, но он был уверен, что за каждым из пострадавших была какая-то вина. В конце концов, в Римской империи существовали закон и право.
Кальвий отправил посыльного к адвокату, который с давних пор вел дела Корнелиев, и попросил его о срочном визите утром следующего дня. Потом он лег в постель, но так и не прикоснулся к «Истории Карфагена», предпочтя ей так хорошо ему знакомый свиток с письмами Эпикура. Бессознательно он нашел то место, где греческий философ размышляет о смерти.
«Приучи себя к мысли, что смерть не может причинить нам боль. Все хорошее и плохое связано с восприятием, смерть же отменяет его. Она отменяет жажду бессмертия и наслаждение конечностью жизни. Нет ничего ужасного в жизни для того, кто осознал, что в „нежизни“ нет ничего ужасного. Поэтому в этом нет смысла, когда кто-то говорит, что не боится смерти, потому что она приносит страдание только в ожидании. Пока мы живем, смерти нет, а когда она приходит, нет нас».
Кальвий повторил:
— Пока мы живем, смерти нет, а когда она приходит, нет нас.
«Звучит убедительно, но, в сущности, это софистика», — подумал Кальвий и почувствовал глубоко внутри огромную жажду жизни, жажду продолжения бытия. Он хотел еще прочесть столько книг, столько кругов проплыть в бассейне, столько всего обговорить с Сабином. Но все же Кальвий был стоиком, поэтому смог скоро уснуть и проснулся только на рассвете.
Чуть позже пришел адвокат, у которого Кальвий хранил свое завещание.
— Ну, Корнелий Кальвий, ты хочешь изменить завещание? Возможно, в пользу какой-нибудь женщины?
Кальвий засмеялся:
— Нет, мой дорогой, никакой женщины нет, и завещание мое хочет изменить другой.
Он протянул адвокату обвинительный акт. Тот озадаченно прочитал его, потом пробежал глазами еще раз.
— Это правда?
— Ни единого слова! — твердо ответил Кальвий. — Ни один пункт не имеет ко мне никакого отношения. При Тиберии существовал еще один Корнелий Кальвий, и его в чем-то обвиняли, но я не знаю, чем кончилось дело и жив ли он.
Адвокат вздохнул:
— Можно выяснить, но боюсь, что в суде это тебе не поможет.
Он перечислил некоторые процессы и назвал имена обвиненных.
— Все они были, насколько я знаю, так же невиновны, как и ты. Возможно, ты, Кальвий, проводя дни в уединении, ничего об этом не слышал, но мы живем в ужасное время.
— Рассказывай это подробнее, — попросил Кальвий. — Ты хорошо знаешь меня, чтобы быть уверенным в моем молчании.
— Я имею в виду, что эти обвинения касаются прежде всего богатых римлян — таких как ты, Кальвий. Императору нужны деньги, и он придумал новый способ получать их.
— А если я рискну начать процесс?
Адвокат горько улыбнулся:
— Они только этого и ждут. Подкупленные свидетели все подтвердят, тебя осудят, а твое состояние полностью получит император. Треть ты можешь спасти, если…
— Если наложу на себя руки?
Собеседник кивнул.
— Что будет, если завещание не переписывать? Если я ничего не оставлю императору?
— Он все исправит. Ловкие чиновники сосчитают твой налоговый долг в размере всего состояния. Но этот путь требует времени, а Калигула нетерпелив. Поэтому и предлагает завещать ему две трети.
— И он так делает всегда?
— До сих пор…
— Хорошо, тогда измени мое завещание, как требуется, пока я напишу письмо племяннику, и пусть оно полежит у тебя до его возвращения. Но припиши одно условие: дом и сад должны достаться Сабину. Рабов я отпускаю.
С этими словами он удалился в свои покои, чтобы без спешки написать короткое письмо Сабину. Кальвий знал, что больше они не увидятся.
Несмотря на непостоянство натуры и без конца меняющееся настроение, Калигула обладал превосходной памятью. Он никогда не забывал имена и события и, выступая с долгими речами в сенате, не пользовался записями секретаря. И юную Нимфидию император тоже не забыл. Однажды он спросил Каллиста:
— Три месяца назад ты представил мне свою дочь. С тех пор я ничего о ней не слышу. Она в Риме?
— Конечно, император. Я нанял домашнего учителя, который учит ее всему необходимому.
Император двусмысленно ухмыльнулся:
— Действительно, всему необходимому? Ей ведь уже пятнадцать. Пришло время познакомиться с радостью и искусством любви.
Каллист знал своего господина и был готов к разговору.
— Она еще ребенок.
— Отцы всегда так говорят. Она очаровательная девушка, насколько я помню. Приведи ее как-нибудь на Палатинский холм. Мы вместе поужинаем.
— Как пожелаешь, император.
У Каллиста были хорошие отношения с его одаренной дочерью, и разговаривал он с ней как со взрослой. Ее мать, тоже вольноотпущенная рабыня, давно умерла, но Каллист не помнил, чтобы когда-нибудь вел с ней такие умные беседы. Отец, не колеблясь, сразу решил подготовить Нимфидию к тому, что ее ожидало.
— Мы все в его руках, моя дорогая, и едва ли можем бороться с его капризами. Он хочет тебя видеть, и не имеет смысла отговаривать его или, тем более, надеяться на то, что он об этом забудет. Возможно, он оставит тебя в покое, но может и заставить лечь с ним в постель. Я тебе уже рассказал, что происходит между мужчиной и женщиной, поэтому подчинись, если он этого потребует, и прикинься по возможности глупее, чем ты есть. Скрывай свое отвращение, но не очень старательно. Тогда ты ему быстро прискучишь, но он не разозлится на нас — ни на тебя, ни на меня. Мы должны пережить это время, Нимфидия, вместе и не должны потерять его расположение. Придет время, и я позабочусь о том, чтобы весь Рим узнал, что ты пожертвовала своей невинностью против воли. Тогда ты сама сможешь выбрать себе мужа. Отчаиваться нельзя! В этом ничего страшного нет, поверь мне. Все быстро закончится, и знай, что я всегда рядом, всегда слежу, чтобы с тобой не случилось ничего плохого. Мы переживем это время, поверь.
Нимфидия внимательно слушала отца, и ее свежее личико не выдало ничего из того, что она думала.
— Ты говоришь об императоре так, как будто его правлению скоро придет конец, но Гай Цезарь совсем молод, и надо ожидать…
— И правда, он молод, но у него много врагов — мы должны быть ко всему готовы, даже к самому худшему.
— То есть к чему? — с любопытством спросила Нимфидия.
Каллист наклонился к самому уху дочери.
— Что он еще долго будет править…
Нимфидия поцеловала отца в обе щеки.
— Мы со всем справимся, — сказала девочка.
27
Легат выполнил свое обещание: в начале сентября Корнелий Сабин поднялся на борт военного корабля и уже через две недели сошел на берег в порту Остии. Путь до Рима он преодолел верхом.
Родители были очень рады, но Сабин чувствовал, что их что-то гнетет. На их лицах читалась глубокая печаль…
— Что с вами? Что-нибудь случилось?
Отец кивнул.
— У нас беда, Сабин: твой дядя Кальвий скончался.
Молодой трибун застыл в ужасе:
— Но… но я недавно получил письмо… Когда он умер?
Цельсий посмотрел на Валерию, и та сказала:
— Три недели назад, но он не был болен. Кальвий сам решил уйти из жизни.
— Он сам… Но это на него так непохоже! Дядя был настоящим стоиком, принимал жизнь такой, какая она есть! Я не понимаю…
— Лучше тебе обо всем расскажет его адвокат. Тебе все равно придется обратиться к нему по поводу завещания.
Сабин собирался сначала навестить своего друга Херею, но смерть дяди заставила его обо всем забыть.
Адвокат старался держать себя в руках:
— Такое несчастье, Сабин, что от нас ушел твой дядя Кальвий. Его отличали старые римские добродетели, и, несмотря на свое богатство, он вел скромную жизнь. Единственной роскошью, которую он себе позволял, были книги.
Адвокат явно ждал вопросов.
— Но почему он решил уйти из жизни?
— Ты спрашиваешь, почему? У Кальвия не оставалось выбора. Император прислал к нему преторианцев с обвинительным актом; ты можешь его прочитать, я сделал себе копию. Дальше все шло обычным путем: или процесс и позорная казнь с потерей всего состояния, или добровольная смерть и завещание, которое лежит перед тобой. Здесь сказано, что твой дядя завещал две трети своего имущества императору, а треть — тебе, с условием, что вилла и все, что там находится, должно тоже стать твоим.
Сабин не мог поверить тому, что слышал:
— Этого не может быть! Этого не должно быть! Где же закон и право? Почему дядя не обратился к самому императору?
Адвокат вздохнул:
— Да, видно, что тебя больше года не было в Риме. Думаю, ты не станешь на меня доносить, поэтому объясню положение дел. Император успел растратить накопленное Тиберием, и теперь ему, чтобы покрыть расходы, не хватает даже недавно введенных налогов. Поэтому он сосредоточил свое внимание на богатых римлянах: придумывает преступления, копается в старых актах времен Тиберия, а иногда просто посылает преторианцев в дом и забирает состояние под каким-нибудь предлогом. Твой дядя не имел ни жены, ни детей, к тому же был богат, то есть был удобной жертвой, скажем поосторожнее, императорской денежной политики. Конца, к сожалению, этому не видно, и те, у кого была возможность бежать, давно покинули Рим.
Сабин сидел как громом пораженный, напрасно пытаясь собраться с мыслями.
— Но… но императора ведь все так любят… В войсках его боготворят! Я просто не могу поверить!
— Тебе придется поверить, когда ты поживешь здесь подольше. Советую прежде всего признать завещание и переселиться в дом дяди. Возможно, скоро снова наступит время права и закона, а не…
Адвокат отвернулся к окну, и Сабин услышал, как он тихо сказал:
— Если бы кто-нибудь при Августе осмелился предсказать, что после его смерти все, что создал великий император, пойдет прахом, его бы выгнали из города. Даже при Тиберии уважали закон, пока Сеян не подчинил себе Рим, да и тогда устраняли только тех, кто стоял у него на пути к власти. Теперь же пострадать может любой. Римских патрициев отправляют на арену гладиаторами просто по воле настроения, из-за каприза. Эсий Прокулумер, потому что был красивым статным человеком с густыми волосами — Калигула ведь уже почти лысый. Других бросают диким зверям, потому что они дерзнули сделать меткое замечание, сочинить насмешливое стихотворение или не пришли в трепет перед божественностью императора. Список длинный, Сабин, и с каждым днем становится все длиннее. Завтра это может коснуться меня, послезавтра — твоего отца или тебя… Отправляйся обратно в Эфес и дожидайся там лучших времен — ничего другого я не могу тебе посоветовать.
— Если бы я не знал, что ты еще до моего рождения был адвокатом семьи и всегда помогал добрым советом, я бы подумал, что у тебя помутился рассудок. Но так…
— Тебе приходится мне верить, — закончил адвокат. — Я описал тебе положение дел таким, каким оно, к сожалению, является, а теперь решай сам, что будешь делать. Я всегда готов помочь и тебе, и твоим родственникам. И еще я должен тебе кое-что передать.
Он протянул Сабину прощальное письмо Корнелия Кальвия.
— Вот письмо твоего дяди.
— Можно я прочитаю прямо здесь?
— Конечно.
Адвокат оставил его одного. Сабин развернул свиток и углубился в чтение:
«Приветствие и пожелание счастья моему любимому племяннику Корнелию Сабину.
Жаль, что я должен обращаться к тебе из царства теней, но у меня не остается выбора. Я прощаюсь с жизнью не по своей воле; причины не хочу называть, поскольку ты сам скоро все узнаешь. Сабин, я достаточно пожил и жалею только о том, что не увижу больше тебя и не прочту некоторых книг.
Куда я отправляюсь, не ведаю, об этом не дано знать ни одному человеку до самого его конца. Как писал Лукреций: „Ведь мы ничего не знаем о сущности души; неизвестно, есть ли она в нас во время рождения, или возникает потом и распадается после смерти вместе с телом, или уходит в царство Орка…“
Как бы то ни было, мой дорогой Сабин, я желаю тебе счастья, а Риму — освобождения от произвола, беззакония и угнетения. Пока ты хранишь память обо мне в своем сердце, я буду жить».
Сабин бесцельно бродил по улицам Рима, очутился вдруг у моста Эмилия, пересек его, зажатый со всех сторон носилками, телегами, торговцами и благородными матронами, за которыми следовали рабыни с корзинами.
На другой стороне начинался Транстибериум, и у Сабина появилась цель. Хереи, конечно, в это время дома не было, но он мог поздороваться с Марсией, расспросить о новостях и, возможно, дождаться друга. Он расскажет ему правду. Трибун видит императора почти каждый день и, возможно, нарисует ему совсем другую картину — вдруг дяде Кальвию было что скрывать.
Вход он нашел не сразу, потому что теперь тропа вела мимо садового домика Авла. Он как раз собирался сорвать огромную дыню, когда его окликнул Сабин.
— Твой господин дома?
— А что тебе надо? — дерзко спросил ветеран.
— Рабы не задают вопросы, а отвечают на них!
Авл не испугался:
— Может быть, но я не раб, а ветеран германского легиона. А ты кто?
— Трибун Корнелий Сабин. Херея дома?
Авл кивнул:
— Я доложу о тебе.
Марсия встретила его в дверях и от радости неловко обняла.
— Ах, Сабин, как часто мы тебя вспоминали, особенно в последние недели, с тех пор как Херея лежит в постели.
— Он болен?
— Нет, упал с лестницы и сломал ногу. Вот удивится, когда увидит тебя!
Херея сидел, подоткнутый со всех сторон подушками, а его обмотанная нога лежала на табурете. При виде друга его широкое добродушное лицо расплылось в улыбке.
— Наконец-то! Я так рад тебя видеть, Сабин!
Они с таким чувством трясли друг другу руки, что Херея едва не свалился.
— Я оставлю вас одних, — сказала Марсия, но они, похоже, ее не слышали.
— Из тебя получился настоящий мужчина, — поддразнил его Херея, а Сабин парировал:
— А из тебя — инвалид, которому скоро пора на покой. Просто свалился с лестницы, как маленький мальчик…
Тут лицо Хереи стало серьезным.
— Нет, все было по-другому. Ты уже ходил к своему дяде?
— Кальвий мертв. Ты не знал об этом?
— Нет, но мог бы и догадаться. Зачем нам обманывать друг друга, Сабин? Друзьям надо говорить правду — всю правду.
И Херея рассказал о
полученном приказе и о том, как ему удалось уклониться от его выполнения.
— Во имя Кастора и Поллукса! Ты дал Авлу размозжить тебе ногу, чтобы только… Херея, Херея, ты же не думал, что я стану тебя упрекать, если ты выполнишь приказ? За него несет ответственность тот, кто отдал.
— Не очень-то я в этом уверен, — сказал Херея, — когда думаю о том, что приходится делать преторианцам по воле императора.
— Значит, все, о чем я недавно узнал, верно? Вымышленные обвинения, бесчисленные казни, убийства и самоубийства?
Херея мрачно смотрел перед собой.
— Как я могу судить, виноват кто-то или нет? Император перечитывает старые акты и выдвигает все новые обвинения. Я не сенатор и не адвокат — что я могу сказать на это? Ты задаешь вопросы не тому человеку, который может на них ответить, Сабин. Ты ведь патриций! Послушай, о чем говорят в твоей семье, может, они больше знают.
— Если все эти люди действительно виновны, тогда возникает вопрос, почему римляне за такой короткий срок так изменились? За сорок лет правления Августа не было никаких процессов по делу оскорбления величия, никого не казнили за налоговые преступления и не заставляли завещать все состояние императору в благодарность за разрешение совершить самоубийство. Что-то здесь не так.
На Херею жалко было смотреть, таким несчастным стало выражение его добродушного лица.
— Я сам ничего не понимаю. Императору нужны преторианцы, только чтобы собирать налоги или заставить кого-нибудь угрозами покончить с жизнью. А меня он к тому же высмеивает.
Он сказал другу о том, о чем не решался рассказать даже Марсии.
— Высмеивает? Как это понимать?
Херея стал говорить тише:
— Он дразнит меня из-за высокого голоса, называет помесью Геркулеса и Венеры, выбирает непристойные слова для паролей, чтобы унизить перед другими. Больше всего мне хочется просто бежать со службы.
— Не делай глупостей, Херея. Ты можешь попросить перевести тебя в другое место; возможно, Калигула уже завтра прекратит свои издевательства.
Херея покачал головой.
— Не прекратит. Ты не знаешь этого человека. Любого, кто кажется счастливым и довольным, он ненавидит. Император велел убить одного сенатора, потому что у него были густые, красивые волосы. По ночам он танцует по дворцу, переодевается Юпитером, Венерой, Исидой или Луной и спрашивает всех, чувствуют ли они, что перед ними бог. И горе тому, кто даст неправильный ответ: он может считать себя счастливчиком, если окажется на галерах или в каменоломнях. В основном его жертвы заканчивают жизнь на арене: им разрешают защищаться деревянными мечами, сражаясь с голодными львами. Только плебеи еще восторгаются Калигулой, но и с ними он уже не считается. Три дня назад во время обеда он приказал прямо в зале казнить двенадцать преступников, утверждая, что это возбуждает аппетит. Я долго не мог поверить, но теперь знаю точно — Калигула сумасшедший. Мы все служим жестокому, безумному тирану, который при любой возможности говорит: «Пусть они меня ненавидят, лишь бы боялись». Чем это может закончиться, Сабин? Что мы должны делать?
— Я не знаю. Возможно, мне самому придется в ближайшее время предстать перед императором; легат переложил решение на него.
И Сабин рассказал историю про Елену. Херея сочувственно положил руку ему на плечо.
— Тебе пришлось немало пережить, бедняга. И теперь ты хочешь оставить службу?
— Да, вероятно. Пока жду, чем закончится мое дело. А тебе еще раз спасибо за мужество и дружбу, пусть дяде Кальвию это и не помогло. Что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Сабин, как и было предписано, явился в преторианские казармы. Дежурный трибун просмотрел записи.
— Оскорбление и избиение беременной женщины на рынке… Вот это да, о чем ты думал? А еще из патрициев! Я передам твое дело императорской комиссии. Тебе дадут знать, когда и куда явиться.
Решения о мерах наказания за преступления, если они касались патрициев, император обычно принимал сам. Калигула, которого едва ли заботили государственные дела, имел слабость ко всему, что было связано с наказаниями, поэтому регулярно просматривал списки.
— Что у нас тут? — его указательный палец остановился на одном из имен.
— Корнелий Сабин, который в Эфесе ударил и оскорбил беременную женщину. Хочет добровольно уйти из легиона.
Калигула повернулся к Каллисту.
— Этот Корнелий Сабин не имеет отношения к Кальвию? Ты знаешь, этот богатый человек, который завещал мне часть своего состояния.
— Кальвий был обвинен в преступлении и добровольно выбрал смерть. В благодарность за то, что его сразу не схватили, он оставил тебе две трети состояния.
— И треть какому-то дальнему родственнику. Достань-ка акты.
Каллист развернул завещание и прочитал:
— Треть моему племяннику Корнелию Сабину, которому я также оставляю дом на Саларской улице.
— Он! — воскликнул император. — Я хочу видеть этого трибуна. Пригласи его в ближайшие дни к обеду, по-простому, без церемоний. А я между тем подумаю о мерах наказания.
Сабин рассчитывал на разговор в военном суде и немало удивился, получив приглашение от императора к обеду.
Калигула, следуя очередному капризу, пригласил в тот день только женщин, среди которых были Пираллия, Ливилла и жрица храма Исиды. Сам он появился очень поздно и выглядел так, будто только что проснулся.
Император без конца зевал, но тут же успокоил собравшихся за столом:
— Не вы, дорогие гости, заставляете меня зевать, а почти бессонная ночь, которую я провел в неустанных трудах на благо империи. И боги иногда устают. Это ведь не свойственно человеку — довольствоваться тремя-четырьмя часами сна? Сколько ты сегодня спал, Корнелий Сабин?
— Восемь часов, император.
Калигула победно оглядел гостей.
— Слышали? Уже из этого следует божественность моей природы. Сабин — трибун одиннадцатого легиона в Азии, прислан легатом в Рим для решения вопроса о его наказании. Но вас, женщин, это не касается, да и не заинтересует.
Он обратился к Ливилле.
— Что-то я давно не видел тебя, сестра. Как дела у твоего поэта? Он еще не отправился к Орку?
Ливилла ответила спокойно.
— Сенека по совету врача отправился в Альпы, потому что только горный воздух может ему помочь. Но надежда не велика…
— Жаль, он мог бы подарить миру еще столько книг… Впрочем, таких поэтов, как он, полно. Присмотришь себе другого.
— Предоставь решение мне. Тут я обойдусь без твоих советов.
Калигула улыбнулся:
— Прости, дорогая, не буду настаивать. Пираллия, ты не сыграешь нам что-нибудь на лютне?
— Нет, Гай, — дерзко ответила гречанка. — Я не люблю играть на пустой желудок.
Калигула рассмеялся, будто услышал очень веселую шутку. Он хлопнул в ладоши, и сразу же внесли блюда.
Ливилла между тем рассматривала Сабина, чьи пышные каштановые волосы и сверкающие голубые глаза немало возбудили ее интерес.
«В нем есть что-то юношеское, — думала она, — и в то же время чувствуется опыт общения с женщинами».
Он казался ненамного старше ее, но такое вряд ли могло быть, ведь в двадцать два года никто не становится трибуном. Их взгляды встретились, и ни Ливилла, ни Сабин глаз не опустили. Калигула, от которого ничто не могло утаиться, заметил, как они переглядываются.
Он обратился к Сабину.
— Берегись Ливиллы, трибун. Собственно, она замужем; ее мужа я отправил из Рима в провинцию, но она предпочла остаться: видишь ли, литературные интересы, правда в основном не к произведениям, а к их авторам.
Он зло рассмеялся и в шутку погрозил сестре пальцем.
— Я осталась по твоему желанию, Гай. Ты, похоже, об этом забыл.
— Бог никогда ничего не забывает! — вспылил Калигула, заглатывая огромный кусок мяса.
После обеда Пираллия взяла лютню и спела несколько любовных песен. Сабин радовался, что все проходит так непринужденно, и почти забыл, что сидит за одним столом с человеком, заставившим дядю Кальвия вскрыть себе вены.
Калигула хлопнул в ладоши и объявил:
— Трапеза окончена! Мне надо кое-что обсудить с глазу на глаз с трибуном.
Поднимаясь из-за стола, Ливилла посмотрела на Сабина, и ему показалось, что взгляд этот приглашал его к новой встрече.
То, что Калигула назвал разговором с глазу на глаз, не совсем являлось таковым, потому что два высоченных германца так и остались неподвижно стоять за спиной императора.
— Итак, трибун, ты напал в Эфесе на рынке на беременную женщину. Верно?
— Не то чтобы напал, император. Я хотел ей кое-что сказать, а потом…
Император остановил его жестом:
— Можешь не оправдываться. Я люблю дерзких людей — конечно, если их дерзость направлена не на меня. Ничто я не ценю в себе больше, чем отсутствие стыда. Я считаю это качество высшей добродетелью. От штрафа ты освобождаешься: с гречанкой, похоже, ничего плохого не случилось. Ты уже принял наследство дяди? По-своему он был достойным человеком и искупил вину, уйдя из жизни, по древнему римскому обычаю. При этом он не забыл своего императора, упомянув его в завещании. Могу только надеяться, что примеру Кальвия последуют другие.
В этот момент Сабину стало ясно, что сидящий напротив него человек собирался погубить Рим, что он ни перед чем не остановится в стремлении получить имущество патрициев и конец этой жуткой игре в смерть придет только с его концом. Теперь он видел, что Херея сказал правду и адвокат тоже не лгал. Мертвые неподвижные глаза изучали Сабина, как необычный предмет.
— Я тебе задал вопрос.
— О, прости, император. В твоем божественном присутствии мой рассудок помутился. Не мог бы ты повторить вопрос?
— Ты хочешь оставить службу?
— Не совсем так, император, потому что отныне я желаю служить только тебе, стать преторианцем, чтобы быть поблизости от твоей божественности и в знак благодарности за то, что ты оставил мне часть наследства.
Калигула никак не ожидал такого, и выглядел озадаченным.
— Почему нет? Среди моих преторианцев давно не было Корнелиев; кроме того, два трибуна стали старыми и оставляют службу.
Сабин упал перед императором на колени и поцеловал унизанную кольцами руку.
— Встань. Трибунам не подобает так себя вести.
— Это только потому, что я счастлив… — Сабин почувствовал себя на сцене.
— К службе приступишь, когда мы вернемся из Германии. В конце сентября я собираюсь выступить в поход, покорить Британию и завершить дело, начатое Юлием Цезарем. Пусть пока твое имя внесут в список преторианцев.
Отъезд императора произошел неожиданно, потому что все рассчитывали, что он дождется весны. Вместе с ним в огромном обозе отправились в германские земли актеры, певцы, проститутки и гладиаторы. Свита протянулась на полмили, включая хозяйственную поклажу и целые возы актов, за которыми присматривали дюжины секретарей, писарей и их помощников. Поскольку Калигула должен был отсутствовать в Риме больше года, все правительственные бумаги он увез с собой. Император и не думал выпускать власть из своих рук хотя бы на день. Официально его замещали два консула, но каждый знал, что их должности со времен Августа не значили ничего.
Принцепса сопровождали его сестры, Эмилий Лепид и, конечно, Лентулий Гетулик, главнокомандующий верхнегерманскими легионами.
Лоллию Павлину, императрицу, Калигула оставил дома, но взял с собой Цезонию, свою новую возлюбленную, которую он просто забрал у мужа.
Милоний имел мастерскую, где шили кожаные изделия: сапоги, сумки, седла и сбрую, и очень хотел получить большой заказ от армии. Для этого он давал взятки секретарям Калигулы и в конце концов его с Цезонией пригласили к императору. С Палатинского холма Милоний возвращался с заказом, но без жены.
Жадная до наслаждений, капризная, жестокая и бесстыдная, сейчас Цезония была на последних месяцах беременности. Калигула много раз говорил, что женится на ней еще до появления на свет младенца.
Заговорщикам очень редко удавалось собраться вместе, причем Гетулик был недоволен тем, как развиваются события.
— Мне все это не нравится! Я узнал, что Калигула приказал перебросить войска из отдаленных провинций на Рейн и выплатил командирам большие деньги. Ни один из них мне незнаком. Когда мы доберемся до места, положение может измениться; возможно, я больше не увижу свои верные легионы.
— Не волнуйся, — попытался успокоить его Лепид. — Император собирается завоевывать Британию, и ты не останешься без солдат.
Гетулик покачал головой:
— Я в это не верю, Калигула слишком труслив. Чувствую, что-то происходит. Вы же видите, что он нигде не появляется один: едет в закрытых носилках и окружает себя стеной охраны. Как только прибудем на место, надо сразу же действовать!
— Думаю, Гетулик прав, — сказала Агриппина. — Калигула не спускает глаз с меня и Ливиллы и постоянно делает намеки, которые мне не нравятся. Это может быть и совпадением, но, когда дело касается его жизни, мой брат проявляет удивительную прозорливость, и мы не должны этого недооценивать.
Снаружи послышались голоса, которые становились все громче, и в палатку вошел трибун.
— Госпожу Агриппину и госпожу Ливиллу император просит к ужину.
— Хорошо, трибун, можешь идти! — распорядился Гетулик, а Ливилла прошептала:
— Мне страшно! Калигула — как паук, который постоянно за нами наблюдает, ждет, что мы вот-вот попадемся в его сети.
— Мы должны разорвать сеть! — решительно сказал Лепид. — И я верю, что нам это удастся. Калигула никакой не Бог, а каждый человек, будь он императором или рабом, смертен.
В начале октября они достигли цели своего путешествия. Случилось то, чего так боялся Гетулик: его легионы перебросили вверх по Рейну, в Борбетомаг. Никто из преданных ему солдат не вышел приветствовать легата — казалось, что он ступил на чужую землю.
Император расположился в доме, служившем Гетулику резиденцией на протяжении девяти лет, а ему сказал:
— Это ненадолго, друг мой. Через несколько недель я буду уже по ту сторону Рейна, и ты снова сможешь вернуться сюда.
— Где мои войска, император? Почему их перебросили?
Калигула направил на него взгляд своих неподвижных глаз, от которого легата прошиб пот. Еще ни у кого в жизни он не видел таких холодных глаз. Может быть, император и вправду был богом?
— Мы не сможем покорить Британию двумя легионами. Нужно было освободить место для недавно прибывших войск. Когда мы уйдем, ты сможешь снова привести сюда свои легионы.
— Если ты разрешишь, император, я бы хотел отправиться к ним сейчас же, чтобы убедиться, что там все в порядке. Мои солдаты будут беспокоиться…
Калигула притворно улыбнулся.
— Беспокоиться? Почему? Каждый знает, что рядом с императором ты в полной безопасности. Подожди еще несколько дней, пока мы здесь устроимся, тогда я тебя отпущу. Завтра в полдень я собираю трибунов на совет.
Гетулик колебался: или сразу седлать коня и мчаться в Борбетомаг, чтобы во главе преданных ему частей выступить против Калигулы, или дождаться, пока император его отпустит.
Если он уедет прямо сейчас, это будет предупреждением, и его попытаются поймать, в то время как через несколько дней он просто вернется к своим солдатам. Поразмыслив, Гетулик принял второе решение, теша себя надеждой, что, возможно, во время завтрашнего совета узнает важные новости. Все же его насторожило, что он не мог встретиться ни с Лепидом, ни с сестрами императора. Каждый раз ему говорили, что они не могут отлучиться, и он должен подождать. Не специально ли Калигула держал их подальше друг от друга? А может быть, их уже схватили?
Легат прошелся по берегу Рейна, где вырос целый палаточный город с торговцами, акробатами, фокусниками и маленькими тавернами. Гетулик осторожно подошел к палатке, но не заметил ничего подозрительного. Солдаты охраны спокойно стояли у входа и переговаривались. Увидев легата, оба вытянулись перед ним по стойке смирно.
— Кто-нибудь обо мне спрашивал?
— Нет, легат!
— Не заметили ничего странного?
— Нет, легат!
Успокоенный Гетулик выпил вина и лег спать. Он верил скорее не в богов, а в высшую власть и утешал себя мыслью, что судьба не допустит, чтобы этот распутник и враг Рима продолжал и дальше позорить императорскую власть.
Эмилий Лепид и правда не мог отлучиться, потому что Калигула не отпускал его от себя. Он постоянно просил его совета по самым незначительным вопросам и давал поручения, которые мог выполнить любой раб. Это насторожило Лепида, и он решил, что при первой же возможности все обсудит с Гетуликом. Но ему не удалось встретиться ни с ним, ни с Агриппиной или Ливиллой. Как будто догадываясь о его желании, император сказал:
— Моих сестер тебе придется извинить: им требуется время, чтобы привести себя в порядок после долгого путешествия. Нам гораздо проще, не так ли? Трудности и мытарства не уродуют мужчин, а напротив, делают привлекательнее.
— Я не женщина, Гай, и поэтому не знаю, как действуют на них уставшие мужчины.
В глазах Калигулы блеснули странные огоньки, и Лепид подумал: «Паук, который в безграничной страсти убивать подкарауливает жертву».
— А я знаю! Как и всем богам, мне знакомы ощущения и мужчин, и женщин, ведь любое божество двуполо. Отсюда постоянные преобразования; вы меня уже видели в образе и Луны, и Юпитера, и Нептуна. Помнишь праздник богини Исиды? Тогда я был женщиной среди женщин, и только один человек не хотел этого принять.
Лепида охватил страх. Почему Калигула заговорил об этом сейчас?
— Ты быстро превратился обратно в Гая, — сказал он с кажущейся легкостью, будто эта тема его не волновала.
— Да, мы поменялись ролями. Я снова стал мужчиной, а вот ты…
Калигула зло рассмеялся и добавил:
— Грехи молодости! Сейчас у нас есть дела поважнее.
Лепид чувствовал, как внутри закипают гнев и ненависть. Если бы у него был под рукой кинжал… Голыми руками удавить не получится, за спиной императора — германцы. Чтобы не сказать лишнего, Лепид молчал и ждал. Калигула похлопал его по плечу.
— Но вопреки этому — или благодаря? — мы остались друзьями. Сегодня ты мне больше не нужен, Лепид. Иди спать.
Он шел к палаточному городу. Была ли это любимая игра императора — игра кошки с мышкой — или действительная угроза?
Перед палаткой Гетулика охрана скрестила копья.
— Легат спит и приказал ему не мешать.
— Мне он позволит ему помешать, не сомневайтесь, — решительно произнес Лепид, но солдаты не шелохнулись.
Он так устал, что не стал с ними спорить.
— Завтра будет достаточно времени.
Милония Цезония, беременная возлюбленная императора, уже лежала, когда он вошел. Ее темные волосы раскинулись по подушке, большие глаза в отличие от глаз Калигулы отражали все ее эмоции и чувства. Она откинула одеяло и погладила большой выпуклый живот.
— Здесь дремлет будущее Рима, — сказала она. — Я надеюсь, что боги подарят тебе мальчика.
— Поскольку ты родила прежнему мужу трех девочек, может случиться, что наша династия получит наследника. Но это неважно, у нас будут другие дети.
Глаза Цезонии блеснули:
— Но мы ведь занимаемся этим не только ради детей или?..
Калигула рассматривал ее раздавшееся тело, и у него появилось безумное желание. Что если разрезать живот, чтобы посмотреть, какого пола ребенок? Потом можно снова зашить, и ничего не останется, кроме шрама. Он же сможет завтра оповестить: «Я решил подарить Риму и всему свету наследника» — и все бы потом, после рождения мальчика, удивлялись его дару предвидения.
— Не смотри так, будто хочешь меня съесть!
Калигула снял одежду.
— Повернись: ты теперь мне больше нравишься сзади.
Цезония повиновалась. С необычной мягкостью Калигула проник в нее, обхватил уже потяжелевшие груди и сильно сдавил их. Он чувствовал, как желание поднимается в нем тяжелым сладким облаком.
— Я люблю тебя, Цезония, — простонал он. — Не знаю почему. Ты немолода, некрасива, и все же ты первая женщина после Друзиллы, которую я действительно люблю. Поэтому я женюсь на тебе, прежде чем родится ребенок.
Он отпустил ее, и Цезония улеглась поудобнее.
После короткой паузы Калигула с усмешкой сказал:
— Я уже радуюсь тому, какие будут завтра лица у моих солдат: одни порадуются вместе со мной, другие удивятся, а третьи возмутятся. Они все время забывают, что я бог! Впрочем, иногда я и сам это забываю.
28
Каллист вместе с префектом Клеменсом вел государственные дела, когда император бывал в Риме.
Его отсутствием секретарь хотел воспользоваться, чтобы продолжить ткать тонкую сеть из слухов, выслеживаний, подслушиваний и других «добрых» дел.
Главную роль тут играл Клавдий Цезарь, который с облегчением вздохнул, когда племянник наконец исчез из Рима. Он удалился в свое имение на Албанских холмах, чтобы там продолжить в тишине и покое труд над историческими сочинениями. Правда, временами ему приходилось бывать в Риме, чтобы посетить библиотеку. Как член семьи, он имел доступ к домашнему архиву императора, хранившемуся в просторных подвалах Палатина, и Каллиста, конечно, каждый раз информировали о его приходе.
В конце ноября Каллист воспользовался такой возможностью и пригласил старика к себе. Они прекрасно понимали друг друга, тем более что толстый секретарь, не скупясь, делал комплименты историку и выказывал ему всяческое уважение.
— Как хорошо поговорить с тобой, зная, что Калигула не ворвется неожиданно и не выкинет очередную «шутку».
Каллист вздохнул.
— Ты прав, Клавдий Цезарь. Я тоже смог многое доделать за время отсутствия императора. Но речь не об этом. Я уже многие годы дружески привязан к тебе и могу быть с тобой откровенным больше, чем с кем-либо. В этом случае дело касается и тебя, уважаемый Клавдий. Я, конечно, надеюсь, что все сказанное останется в этих стенах.
— Но… Ну разумеется.
Каллист подошел к двери и рывком распахнул ее.
— Свидетелей ни в коем случае быть не должно. Я долго колебался, могу ли довериться тебе, но должен это сделать, прежде чем император вернется.
Морщинистое лицо Клавдия становилось все более испуганным. Каллист видел, что старику пришлось собрать все свои силы.
— Да давай же, Каллист, говори! — потребовал он с несвойственной ему прямотой.
Секретарь отвернулся:
— Если бы это было так просто… Значит, мне дали понять, что для меня будет похвальным и выгодным, если ты… то есть если я тебя…
Каллист замолчал.
— Если я умру? Меня надо, попросту говоря, убрать, чтобы племяннику больше никто не мешал. Я прав?
— Приблизительно так все и есть…
— И кто же должен это устроить?
— Боюсь, что имели в виду меня.
— Кто имел в виду?
— Мне обязательно называть имя?
— Нет, можешь не утруждать себя. И что ты думаешь делать?
Каллист поднял руки.
— Ничего. Я ничего не буду делать. И мне удастся найти для этого убедительные аргументы, поверь!
Клавдий засмеялся, и лицо его исказила ужасная гримаса.
— Я знаю тебя как разумного человека и поэтому верю. Но разве это не опасно?
— Было бы опаснее последовать указанию вопреки моему глубокому уважению к тебе. С твоим племянником скоро может что-нибудь… что-нибудь случиться, ты понимаешь — никто не застрахован от разных несчастных случаев. Тогда из императорской семьи останешься только ты, и с тобой связываю свои надежды не один я…
— Мне не хватает тщеславия, чтобы стать императором, да и желания. Единственное, чего я хочу, — чтобы меня оставили в покое и я мог бы полностью посвятить себя работе. В ней все мое тщеславие!
— Я хорошо понимаю тебя, Клавдий, и просто хотел указать на такую возможность. С моей стороны, во всяком случае, ты можешь ничего не опасаться, и я обязательно предупрежу тебя, если почувствую что-то неладное.
Клавдий попрощался, глубоко тронутый заботой и симпатией Каллиста. Тот же с удовлетворением подумал: «Вот так завоевывается расположение людей». Клавдий Цезарь был его самым ценным залогом на то время, когда преемник Калигулы, кто бы им ни стал, начнет сводить счеты с приспешниками тирана.
Корнелий Цельсий только покачал головой, узнав о планах сына. Как они с Валерией радовались возвращению Сабина из Эфеса, когда он во всеуслышание объявил, что с солдатской жизнью покончено, что он сыт ею по горло и собирается посвятить себя делу отца. И все снова переменилось после его встречи с Калигулой.
— Император сожалеет от всего сердца, что дядя Кальвий от отчаяния выбрал добровольную смерть, и заверил меня, что обвинительное заключение было составлено независимой комиссией. Калигула был таким любезным, и когда он предложил мне стать трибуном преторианцев, я не смог отказаться.
Обычно мягкий Цельсий стукнул кулаком по столу.
— Проклятье, баранья твоя голова! Тебя слишком долго не было в Риме, чтобы понимать, что здесь творится! В застенках появился еще один палач, потому что прежний не справляется с работой. Гора трупов на Гемониевых ступенях растет, а ты осмеливаешься говорить о любезном императоре!
Сабину пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не обнять отца, но он не должен был выдать себя, если хотел добиться цели, которую поставил перед собой.
— Недовольные и предатели есть всегда. Возможно, Калигула обходится с ними слишком жестко, но все исправится, когда он почувствует, что его власти ничто не угрожает.
Цельсий в отчаянии обратился к жене.
— Ты только послушай его! Может быть, тебе удастся донести до сына, что нельзя служить тирану, не запятнав свою честь. Неужели наши поэты и философы ничему тебя не научили? Посмотри, что написано в римском праве: «В счет не подозрение, а доказательство». Калигула действует иначе, потому что для него существуют только подозрения и доносы. Ты действительно веришь в виновность дяди? Император хотел присвоить его состояние, и только чтобы хоть что-нибудь спасти для тебя, Кальвий принял смерть. Ты собираешься поступить на службу к убийце и грабителю.
— Цельсий! Так не говорят об императоре! — напомнила Валерия, но муж не собирался останавливаться.
— Я должен открыть нашему сыну глаза, прежде чем он совершит самую большую глупость в жизни!
Чтобы успокоить родителей, Сабину пришлось приоткрыть завесу своей тайны.
— То, что ты рассказываешь о Калигуле, для меня не новость. Херея все подтвердил, и я могу только сказать, что вы еще многого не знаете. Возможно, я собираюсь стать трибуном преторианцев, чтобы отвести от семьи опасность. Император сказал, что уже давно никто из Корнелиев не служил во дворце. Это прозвучало как упрек, будто наша семья уклоняется от определенных обязанностей.
И еще он намекнул, что я должен заслужить доставшуюся мне от дяди часть наследства. Калигула, должно быть, решил, что у Корнелиев есть еще чем поживиться, ведь где много, там может быть еще больше. Ты думаешь, отец, что я смогу спокойно смотреть, как преторианцы уводят тебя из дома? Император уже бросил палачам и таких, кто победнее тебя. Если я буду служить ему, возможно, нас минует беда. Я хочу вкрасться в доверие к тирану. Отсюда мое рвение.
Родители переглянулись и какое-то время молчали. Потом Цельсий откашлялся и тихо сказал, запинаясь:
— Вот как, Сабин, этого мы не могли знать — я имею в виду, если бы ты сказал сразу…
— Я не хотел говорить, чтобы не подвергать вас опасности! Неужели вы не понимаете?
— Конечно, Сабин. Твои намерения исключительно благородны, но и опасны. По мне, так лучше бы ты остался служить в Эфесе.
— Я не могу делать вид, что ничего не происходит. Мы — патриции, и нас все это не может коснуться, потому что Калигула всегда будет нуждаться в деньгах.
— Ужасно… — прошептала Валерия и закрыла лицо руками.
— Да, мама, ужасно, но и против тиранов можно бороться.
Цельсий испуганно поднял на сына глаза:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Пока ничего.
Сабин проследил за тем, чтобы его имя внесли в списки преторианцев и решил воспользоваться свободным временем, чтобы принять дядино наследство.
Он долго разговаривал с управляющим Кальвия Луциллием — сыном греческого вольноотпущенного раба. Старик провел Сабина через весь дом.
— Как водится у благородных людей, наш господин отпустил всех рабов. Оставишь ли ты их работать за плату? Они будут решать, останутся ли, когда узнают, собираешься ли ты жениться, будешь ли принимать гостей…
Сабин положил ему руку на плечо.
— Посмотрим. Если хочешь, можешь и дальше оставаться здесь управляющим или из-за возраста…
— Нет-нет! — перебил его Луциллий. — Я так долго жил в этом доме, что был бы рад возможности умереть здесь.
— Кто говорит о смерти, приманивает ее.
Старик улыбнулся:
— Судьбу не обманешь. Одни постоянно рассуждают о смерти и живут до восьмидесяти лет, другие — как Эпикур — игнорируют ее и умирают молодыми.
— Раз мы коснулись этой темы… Ты можешь рассказать мне о смерти дяди подробнее?
Лицо Луциллия помрачнело.
— Он любил тебя как сына, поэтому ты имеешь право знать. Проводив адвоката, господин позвал меня, объяснил положение вещей и сказал, что собирается делать. Я приготовил ему горячую ванну. Я хорошо знал Кальвия и понимал, что он не потерпит никаких возражений. Он пожал мне руку и уверил, что обо всех позаботился, а потом ушел в термы. Я принялся ждать… Как долго продлилось ожидание, не могу тебе сказать, но мне показалось, что вечность. Твой дядя вскрыл себе вены… Мы сожгли его тело в саду, а урну поставили в фамильный склеп.
— Благодарю за твой рассказ, Луциллий. Реши сам, кого оставлять из вольноотпущенных. Пока я живу один, мне понадобятся только несколько садовников, повар и посыльный. На следующей неделе я переселюсь сюда.
— И дом снова оживет.
— Возможно, ты прав…
Он и правда хотел по возвращении домой завести семью назло Елене и чтобы поскорее забыть ее. Но с тех пор, как его дядя стал жертвой императорской жажды наживы, у него закралась мысль, которую он сначала пытался прогнать, но она упорно возвращалась снова и снова, занимая все больше пространства, принимая все более отчетливые черты. Это было желание убить Калигулу, и Сабин рисовал себе, как просто сможет его осуществить, будучи трибуном дворцовой охраны. Правда, никакого твердого намерения или конкретного плана у него не было. Он просто поддался заманчивой игре воображения, рисуя картины будущего, когда Калигула уже освободит трон. Как Рим станет славить убийц тирана! Их статуи выставят на площади, в храмах принесут жертвы, моля о благополучии освободителей, их осыпят золотом и присвоят почетные звания.
Калигуле к тому времени исполнилось двадцать семь лет. Сабин подсчитал, что даже если он проживет вдвое меньше своего предшественника, то выносить его придется еще лет тринадцать.
Он познакомил со своими расчетами Херею и сообщил другу, что по личному желанию императора вступил в преторианскую гвардию, чем немало его удивил.
— Ты хорошо подумал? Чего ты этим добьешься? Я думал, что тебе сполна хватило службы в Эфесе.
— Верно, хватило, и отец тоже возмущен моим решением. Но я объяснил ему почему, а теперь говорю и тебе: это своего рода способ самозащиты. Если я буду рядом с императором, то смогу о многом вовремя узнавать, чтобы предотвратить или уменьшить опасность. Посмотри, что произошло за два последних года! Калигула поубивал сотни людей, в том числе и самых безвестных, которых едва знаешь и быстро забываешь. Что будет дальше? Когда Калигула вернется, ему снова понадобятся деньги. Этот никому не нужный поход надо будет окупить, и он не прекратит свою расточительную жизнь. Ты знаешь, что он построил своему любимому жеребцу конюшню из мрамора? Животное жрет из золотого корыта, его сбрую украшают драгоценные камни, а обслуживает коня дюжина рабов. Он даже грозил сенату назначить жеребца консулом в следующем году.
— Это все детское дурачество…
Сабин возмутился:
— Ты называешь это дурачеством? Как раз за эту конюшню, возможно, мой дядя должен был отдать жизнь! За ночные пиры стоимостью в миллионы сестерциев, за недалекого возницу Евтюхия, которому Калигула подарил два миллиона, за мост из Путеоли, за всякий вздор! И за это день за днем умирают люди, чей мизинец дороже целого лысого чудовища, называющего себя к тому же богом!
Херея тяжело вздохнул.
— Ты прав, трудно сказать что-нибудь в оправдание императора, кроме того, что он наш принцепс, что мы присягали ему в верности, а в армии его до сих пор любят.
— Потому что они его не знают, и он постоянно подкупает офицеров денежными премиями. Тебе он тоже хорошо платит, это мне понятно, но как он с тобой обращается: унижает тебя перед твоими подчиненными, использует преторианцев как палачей и сборщиков налогов. Прости мне мою прямоту, но люди о вас не лучшего мнения.
— Да я все знаю! Думаешь, мне это нравится? Но что я должен делать? Угрожая мечом, заставить императора начать лучшую жизнь или убить его?
— Да, — тихо произнес Сабин, — это было бы лучшим решением.
Херея постучал пальцем по лбу.
— С ума сошел! Придумай-ка что-нибудь получше.
Сабин решил сменить тему разговора, но семя было брошено, и он надеялся, что однажды оно прорастет.
Совет должен был состояться в доме легата, который император ранним утром окружил тремя рядами охранников.
Гетулика и Лепида доставили под надзором в зал для совещаний. Он был небольшим, и приглашенные трибуны и примипилы — центурионы высшего ранга — сидели тесно друг к другу на складных стульях. Впереди было сооружено что-то наподобие сцены, на которой стояли кресло и два простых стула. Гетулика и Лепида проводили в первый ряд, причем места их находились далеко друг от друга. Оба чувствовали опасность и беспомощность положения. Но Эмилия Лепида все же не покидала надежда, что они отделаются обвинениями и упреками, ведь доказательств не было — не должно было быть!
Император заставил себя долго ждать. Прежде чем он появился, оба стула на сцене заняли Доминиций Корбулон, консул этого года, сводный брат Цезонии, и Сульпиций Гальба, бывший консул и наместник, образец лояльного и неподкупного служащего.
Потом перед собравшимися предстал и Калигула, одетый полководцем: в броне, красных сапогах и пурпурном плаще, прикрывавшем толстое обрюзгшее тело. Все поднялись в приветствии. Император лениво отмахнулся и опустился на импровизированный трон. За ним, как обычно, высилась охрана германцев, у каждого из которых правая рука с готовностью обхватывала рукоятку меча.
По знаку Калигулы со своего места поднялся консул Корбулон и прокричал в зал:
— Прежде чем мы займемся обсуждением положения, нам следует разоблачить двух предателей, которые находятся среди нас. Если у них хватит мужества добровольно признаться, то я предлагаю им выйти вперед.
Зал погрузился в мертвую тишину, не слышно было и шороха, все смотрели прямо на императора. Тот ухмыльнулся и произнес:
— Не трудись, консул, оба слишком трусливы.
Он указал рукой в первый ряд.
— Тут сидят они и трясутся за свою жизнь! Эмилий Лепид и Лентулий Гетулик, встаньте! Выйдите на два шага вперед, чтобы каждый мог полюбоваться на предателей.
Он махнул преторианцам.
— В цепи их! — император поднялся. — Вам, почтенным офицерам моей армии, я обязан объяснением, ведь предатель Гетулик до сегодняшнего дня был легатом легионов Верхней Германии, которых я не без причины перебросил в другое место. Потому что, к сожалению, они поддерживали потерявших честь и достоинство предателей, надеялись вместе с Гетуликом устранить меня, чтобы поднять на престол другого предателя — Эмилия Лепида. Верно я говорю, Лепид? Или это пустое подозрение, которому нет доказательств?
Лепид молчал, опустив голову. Император зло рассмеялся.
— Отсутствие ответа — тоже ответ! Кто из вас думает, что заговор этих изменников раскрыт только сейчас, может успокоиться. За обоими я наблюдал уже в Риме, и у меня есть ряд писем, которые ясно и убедительно говорят об их виновности. Это письма Гетулика Лепиду и от Лепида к Агриппине, моей сестре, которая — как и Ливилла — замешана в позорном предательстве. Агриппина была любовницей Лепида и надеялась рядом с ним стать императрицей. Но мы не станем осуждать этих людей, прежде чем тяжесть их предательства не станет очевидной каждому из вас. Поэтому сейчас я зачитаю отрывки из тайной корреспонденции предателей и изменников.
Калигула протянул руку к лежащим перед ним свиткам и выбрал один из них.
— Итак, слушайте! Год назад, когда предатель навещал легионы Гетулика, он написал Агриппине: «Я тоже принялся восхвалять Тиберия и описал ему пару „шуток“ нашего Сапожка. Генерал был настолько возмущен, что подскочил и взревел: „Почему никто не подойдет к чудовищу и не воткнет ему в грудь кинжал? Неужели в Риме не осталось мужчин?“»
Калигула сделал паузу, с удовлетворением слушая возмущенный ропот собравшихся. Движением руки император потребовал тишины.
— Слушайте дальше. Вот: «Своим рассказом я привел нашего вояку в бешенство и через пару дней достиг того, к чему стремился. Осторожно изложив ему наш план, я упомянул ваши с Ливиллой имена, рассказал о вашей поддержке, а в конце добавил, что без его солдат наш план рухнет. Гетулик мрачно засмеялся: „Вот, значит, до чего дошло? Без меня и германских легионов никуда?“ Похоже, что Лепид убедил его в том, что против него в Риме готов обвинительный акт, на что тот ответил: „Тогда старый воин схватился за меч и воскрикнул, что нужно обернуть оружие противника против него же и самого Калигулу отдать палачу“». Не стану больше докучать вам болтовней предателей, поскольку хочу обнародовать все письма, которые попали мне в руки. Что касается двух легионов Гетулика, то я обещаю, что пройдусь по их рядам железной метлой. Я наведу там порядок, как Геркулес в Авгиевых конюшнях! После этого оба легиона будут переданы новому легату Сульпицию Гальбе.
Гальба поднялся и сказал по-военному коротко:
— Я отплачу за оказанную честь верностью и отвагой, император!
Все громко захлопали, и с некоторых мест раздались выкрики:
— Смерть предателям!
Калигула потребовал тишины.
— Эмилий Лепид и Лентулий Гетулик, вы подтверждаете, что вместе с моими сестрами и другими заговорщиками ставили целью устранить меня и провозгласить принцепсом Лепида? Соответствуют ли зачитанные письма правде или являются подделкой?
Лентулий Гетулик собрал всю свою гордость и выкрикнул:
— Подтверждаю и надеюсь, что другие доведут наше дело до конца!
Лепид погрузился в тупое безразличие. Его планы рухнули; он ничего не чувствовал, кроме ненависти к Калигуле, и прошипел, будто выплевывая слова по отдельности:
— Провалитесь вы все к Орку — все вместе взятые!
Дело было настолько ясным, что не требовало провозглашения приговора. В конце консул Доминиций Корбулон оповестил о строжайшем запрете императора оказывать любые почести его родственникам, особенно сестрам, за нарушение которого будут грозить высокие штрафы.
Со своими ненавистными сестрами Калигула рассчитался без свидетелей.
— Ну что, Агриппина Августа, будущая императрица, любовница государственного изменника Лепида, время прекрасных мечтаний позади. Это относится и к тебе, Ливилла, хотя я не могу представить, что моя смерть могла принести тебе какую-нибудь выгоду. Ты хотела выйти замуж за своего поэта-инвалида? Тогда ты все равно скоро стала бы вдовой — нет, я понимаю, кто тебя надоумил.
Он показал на Агриппину, пристально глядя на нее переполненными ненавистью глазами.
— Эта мегера, чье существо состоит из жадности, тщеславия и властолюбия. Лепида можно считать счастливчиком, что он не стал твоим мужем. Счастье в несчастье, называю я это. Собственно, я должен вас обеих отдать в руки палачу, но в память о нашем отце я дарю вам жизнь. Но не радуйтесь слишком рано: красивой эта жизнь не будет! Сенат выдвинет против вас обвинение в государственной измене и нарушении супружеской верности, и только моей милости вы должны быть благодарны, что избежите смертной казни. Я подыщу для вас острова, по сравнению с которыми подземелье Орка покажется наиприятнейшим местом. Там вы сможете до конца дней размышлять о том, к чему приводит измена. И не забывайте: у меня для вас найдутся не только острова, но и мечи!
На краю лагеря была сооружена деревянная трибуна, настолько высокая, чтобы каждый со своего места мог хорошо видеть происходящее. Калигула в своей обычной спешке назначил казнь обоих предателей на один день. Агриппину и Ливиллу принудили наблюдать за ней, стоя со связанными руками.
Гордо и спокойно поднялся Гетулик на возвышение, опустился на колени и склонил голову. Когда палач натренированным ударом отделил ее от плеч, Ливилла отвернулась, Агриппина же внимательно за всем наблюдала без видимого волнения.
Ее любовник Лепид, по жизни кутила и сластолюбец, даже и не думал молча встретить свой последний час. Он громко крикнул Калигуле:
— И ты скоро окажешься на моем месте, ты, старый развратник, любитель залезть в чужую задницу. Мы скоро с тобой…
Охранник ударил его эфесом по зубам. Лепид выплюнул кровь вместе с осколками зубов, выпятил зад в сторону Калигулы и принялся вихлять им, как дешевая проститутка. Палач схватил его за волосы и заставил склониться. Но Лепид не собирался вести себя смирно, и первый удар пришелся ему по плечу. Только после третьего удара голова его покатилась по деревянному настилу.
Агриппина прокричала Калигуле:
— Это было достойное прощание, ты его заслужил! Надеюсь, предсказание скоро исполнится!
Ее быстро увели, и толпа начала расходиться. Ни один не сомневался, что предатели получили по заслугам. Император и полководец должен быть строгим и справедливым, каковым и являлся Калигула в их глазах.
Император сразу же послал в Рим подробное сообщение о происшедших событиях. Сенат принес благодарственную жертву за его спасение и направил на Рейн делегацию, чтобы выразить свое поклонение божественному. К несчастью Клавдия Цезаря, именно ему поручили ее возглавлять.
Он пожаловался Каллисту:
— Почему не пошлют кого-нибудь помоложе? Я тяжело переношу путешествия, кроме того, я не уверен, что Калигула обрадуется моему появлению. Теперь, когда ты знаешь, что он хочет отделаться от меня… Возможно, он думает, что я тоже был замешан в заговоре, и прикажет меня потихоньку убрать. Только потому, что все сенаторы слишком трусливы, выбрали меня…
— Успокойся, Клавдий Цезарь! Мне все видится
по-другому: поездка, наоборот, может стать для тебя выгодной. Возможно, император поручил кому-нибудь в Риме убрать тебя — прости мне ужасное выражение, но император сам употребляет его довольно часто. Если же ты окажешься в пути с официальной миссией, с тобой ничего не случится. И не торопись возвращаться! Притворись старым, больным человеком, которого утомило путешествие и которому необходимо поправиться в дальнем имении. Так мы выиграем время, Клавдий Цезарь, и, надеюсь, скоро наступят дни, когда мы сможем свободно вздохнуть — ты, я, изгнанные сестры императора, патриции, сенат, да и весь Рим!
Каллист владел даром убеждения, и Клавдий, немного успокоенный, отправился в дальний путь.
Прошло два месяца, а нога Хереи все еще оставалась слабой. Боль не уходила, и он едва мог ступить на ногу. Врач задумчиво качал головой.
— Не понимаю! Кости срослись, остался только обычный отек. Возможно, воспаление еще продержится какое-то время, к тому же зимнее время не благоприятствует заживлению. Будет лучше, если ты отправишься на Путеоли, к источникам. Советую тебе купаться там пять-шесть раз в день, причем твоя больная нога должна каждый раз не меньше получаса оставаться под водой. Как правило, в таких случаях скоро наступает ощутимое улучшение или полное выздоровление.
— Я должен сам за все заплатить?
Врач кивнул.
— К сожалению, трибун. Если бы это произошло на службе… Но не думаю, чтобы пребывание там стоило тебе слишком дорого. Я напишу распоряжение, и ты сможешь остановиться в военном госпитале, где тебе предоставят и еду. Тебе надо будет оплатить только ванны и дорогу.
— Но не настолько уж я бедный, — скромно сказал Херея.
— Дело не в этом. У вас, преторианцев, жизнь не самая легкая, и я считаю справедливой денежную поддержку в случае болезней. Итак, трибун, сделай как я тебе советую, и через несколько недель ты забудешь, что у тебя когда-то была сломана нога.
Херея обо всем рассказал Сабину, и тот тут же воодушевился.
— Я поеду с тобой! — закричал он. — Что может быть лучше возможности зимой понежиться на источниках?
Лицо Хереи засветилось от счастья.
— Я так рад, Сабин! Но как я попаду на Путеоли? Так долго скакать на лошади с больной ногой я не смогу.
Сабин отмахнулся:
— Не беспокойся! В том, что случилось с тобой, все-таки виновата моя семья, и я смогу хоть чем-то отплатить за твою дружбу. Мы наймем барку и спустимся на ней по Тибру до Остии, а оттуда до Путеоли нас домчит парусник. Когда прибудем на место, снимем виллу вблизи серных источников, так, чтобы ты мог добираться до них пешком. Мне тоже не повредит немного отдохнуть от Рима. Когда Калигула вернется, времени принимать лечебные ванны не останется.
— Тогда мы вместе будем служить во дворце, и ты станешь свидетелем, какие шутки император отпускает на мой счет, — с горечью произнес Херея.
— Не думай об этом! Займемся лучше приготовлениями. Когда мы отправляемся?
— После новогоднего праздника девятого января. Ко дню Марса, двадцать седьмого февраля, мы должны вернуться. Марсия не очень обрадуется…
— Мы вместе скажем ей. К тому же она будет довольна, когда получит обратно здорового мужа.
Херея улыбнулся и сказал со знанием дела:
— Ах, Сабин, ты никогда не был женат. Женщины часто мыслят совсем в другом направлении, нам, мужчинам, остается только качать головой.
Калигула долго думал, как отомстить Агриппине за происшедшее. Блестящая мысль пришла в голову неожиданно. Тела обоих казненных были сожжены, а прах помещен в бронзовые урны. Император разрешил семье Гетулика поставить его прах в родовой мавзолей, а с останками Лепида он поступил так, сказав Агриппине:
— Что ж, поскольку твой любовник переселился к Орку, его семейство захочет получить урну с прахом. Я разрешаю тебе доставить ее в Рим и передать им. Это значит, что все путешествие ты будешь держать ее на коленях. Потом вам с Ливиллой придется подождать приговора в городской тюрьме. Вы все меня недооценили, не так ли? Это может быть смертельным — недооценивать Бога. Я все слышу, все вижу, все знаю. Боги провожали меня сюда и поддерживали, и так будет и впредь.
Агриппина повернулась к брату спиной и сделала вид, что думает о своем. Правда, она слышала слова, но не осознавала смысла, поскольку ненависть к этому человеку, заполнившая душу, готовая разорвать тело, заглушала все остальные чувства.
Она и сейчас не оставляла надежды, что новые заговорщики изведут проклятого урода, про себя она называла Калигулу ослом, потому что тот оставил ее жить. Возможно, ей уже в Риме удастся вырваться из застенков? Только бы добраться до состояния, ведь купить можно было любого. Но она достаточно хорошо знала брата, чтобы догадаться, что он тут же присвоит все ее деньги и имущество.
Калигула хотел превратить в спектакль отправление сестер обратно в Рим и одновременно показать легионерам, что он не смог заставить себя отнять жизни у сестер-предательниц. Для них была подготовлена огромная телега, запряженная мулами, на которой они могли спать.
Охрану сестер Калигула поручил ста пятидесяти солдатам. Преторианцы выстроились, образовав коридор, и Агриппина с Ливиллой должны были пройти по нему, прежде чем подняться на телегу. Агриппина, как всегда, шествовала с гордо поднятой головой, держа в руках довольно тяжелую бронзовую урну с прахом. А Ливилла со дня казни погрузилась в молчание и хранила его по отношению ко всем.
Когда сестры заняли места, Калигула молча отвернулся, центурион подал знак и процессия двинулась в путь.
Через два дня прибыла делегация с поздравлениями из сената и попросила аудиенции императора. Калигула как раз разговаривал с Сульпицием Гальбой, новым легатом Верхней Германии.
— Значит, Гальба, ты уверен, что Гетулик обманул меня и никаких мятежников в Германии нет?
На суровом солдатском лице легата, про которого говорили, что он бережлив, неподкупен, ведет спартанский образ жизни, появилось подобие улыбки.
— Гетулик обманул тебя, император, чтобы тебя — в твоей отеческой заботе об империи — заманить в Германию. Вангионы по ту сторону Рейна ведут себя совершенно спокойно, это подтвердили офицеры твоих германских легионов. Нет ни малейшей причины предпринимать что-то против них.
— Но, Гальба, — почти заискивающе произнес Калигула, — я не могу вернуться в Рим, не оповестив народ о своей победе. Ты не должен думать, что я гонюсь за военной славой, но народ всегда идентифицирует себя с принцепсом и после его победоносного боя возвещает: «Мы победили!» Поэтому существует, я бы сказал, государственная необходимость… Ты понимаешь?
— Я хорошо понимаю тебя, император, и осознаю эту политическую необходимость. Но что делать?
— Придумай что-нибудь! В конце концов, ты бывший консул и наместник, так воспользуйся своей головой!
Гальба не был высокого мнения об императоре и больше всего желал бы проводить взбалмошного и капризного принцепса обратно в Рим.
«Ему нужна битва», — подумал Гальба и уже наметил определенный план.
— Слушаюсь, император! — отрапортовал он.
— Хорошо, а теперь о другом… Что случилось? Чего ты хочешь?
С недовольным видом он повернулся к секретарю, который что-то шептал ему на ухо.
Калигула благосклонно улыбнулся.
— Не нужно шептать, можешь спокойно говорить в полный голос.
Секретарь склонил голову и сообщил:
— Только что прибыла делегация сената, чтобы поздравить императора с раскрытием заговора.
— Видишь, Гальба, они знают, как должны себя вести. Кто возглавляет делегацию?
— Клавдий Цезарь, император, твой дядя.
Тут с лицом Калигулы случилось что-то страшное. От природы бледное, оно приобрело восковую окраску, злоба исказила его черты, превратив в демоническую маску. Дыхание императора перехватило от гнева, и он никак не мог начать говорить.
— Что? Они осмелились… осмелились прислать мне старого идиота, которому давно пора убраться со свету! Разве я недостаточно ясно приказал не воздавать в будущем никаких почестей моим родственникам, никак их не выделять? Я похож на мальчика, за которым должен присматривать дядюшка? Почему он вообще до сих пор жив? Освободите меня наконец от него! Сейчас же бросьте этого слабоумного в Рейн!
Ошарашенный секретарь выскочил наружу, а Гальба бросился за ним.
Перед воротами ждал изможденный дальним путешествием Клавдий Цезарь в радостном предвкушении обеда и отдыха в удобной постели. Тут охрана схватила старика, который едва сопротивлялся, и потащила к берегу.
Гальба наблюдал за сценой издалека и прошептал своему адъютанту:
— Быстро разыщи людей, которые хорошо плавают! Они должны сразу же вытащить его из воды!
Парализованного от ужаса Клавдия швырнули прямо в одежде в воду. Гальба подошел, чтобы проконтролировать, как его спасут. Когда промокший и трясущийся Клавдий предстал перед ним, он сказал:
— Здравствуй, Клавдий Цезарь! Император не в настроении, отсюда такие прискорбные меры. Могу ли я предложить тебе свою палатку и горячую ванну?
Узнав о спасении дяди Гальбой, император накинулся на легата:
— Как ты осмелился нарушить мой приказ?
Гальба сделал удивленное лицо:
— Твой приказ был выполнен — Клавдия бросили в реку. Но ты не сказал, что его надо убить, или я ошибаюсь?
Калигула невольно рассмеялся.
— Нет, я этого не сказал. Ты хитрая лиса, Гальба, и далеко пойдешь. Но впредь смотри не перестарайся!
И с остальными делегатами Калигула обошелся немилостиво. Он принял только некоторых из них и сказал, что позорно присылать императору делегацию в двенадцать человек, из которых половина шпионы.
И жалкая кучка посланцев снова вернулась в Рим, что повергло сенат в глубокую растерянность, поскольку все надеялись обрадовать императора. В спешке достопочтенные отцы принялись за составление новой, в три раза большей делегации, чтобы настроить Калигулу на мирный лад.
Валерий Азиатик, главный заговорщик, оставался вне всяких подозрений. Ни оба казненных, ни сестры императора не упомянули его имени. О раскрытии заговора он узнал в Риме и теперь ждал, сохраняя спокойствие стоика, служителей правопорядка из сената. Но его не трогали, и Азиатик постепенно вернулся к прежнему образу жизни. Собственно говоря, он был разочарован развитием событий не только из-за крушения планов свержения тирана, но и потому, что его как заговорщика похоже, никто не воспринимал всерьез. Он не мог представить, чтобы его имя не было названо хоть в какой-то связи. Или другие считали Азиатика столь незначительной персоной? Идею выйти перед сенатом и обвинить самого себя он тут же отбросил, как ребячески глупую. Правда, он не исключал, что Калигула знал о его роли и приберегал расправу до своего возвращения. Азиатик сам себе дивился. Почему он, лишенный всякого политического тщеславия, вообще стал заговорщиком? Неужели только потому, что Калигула переспал с его женой? Если он и думал тогда, что позор этот требовал отмщения, то сегодня все казалось таким незначительным, учитывая, скольких женщин Калигула изнасиловал, скольких невинных послал на арену или казнил.
Он вздохнул и посмотрел из окна в маленький, искусно разбитый сад, где вечернее солнце, как огромный спелый фрукт, повисло меж ветвей старых дубов.
— Я должен был помнить о словах Эпикура: «Живи скрыто», а это значило уход от политической жизни, обращение к кругу близких по духу друзей, чтобы таким образом достигнуть восхваляемого им состояния душевного мира и покоя.
Так же, как Азиатик, думали тогда немало римлян, которым казалось бессмысленным сопротивляться защищенному тысячами хорошо оплачиваемых преторианцев принцепсу. Они попрятались в своих имениях, читали греческих философов и выжидали.
Сульпиция Гальбу отличала совсем другая позиция. Его неустанно гнало наверх жгучее тщеславие, заставляя добиваться всех должностей, какие только Римская империя приберегла для прилежных и целеустремленных патрициев. Он уже был сенатором и консулом, а теперь хотел доказать, что и должность легата ему по плечу. Неважно, служил ли он способному или неспособному императору, жестокому или мягкому, — главным для него была должность. Назначенный главнокомандующим верхнегерманскими легионами, он делал все для удовлетворения императора. По его приказу он очистил оба легиона от ненадежных и подозрительных людей. С трудом удалось Гальбе удержать принцепса от того, чтобы не проредить шеренги солдат, казнив каждого десятого. В конце концов, это были его люди, и новому легату не хотелось омрачать вступление в должность массовыми убийствами.
Он отвлек императора инсценировкой «германского мятежа». Подобрав несколько десятков светловолосых германцев, Гальба велел переодеть их в шкуры и отправить в леса по берегам Рейна. По сигналу те должны были двинуться к реке, изображая мятежников. Когда все было готово, легат предстал перед Калигулой с докладом.
— Мне жаль, император, что приходится прерывать твой послеобеденный отдых, но по другую сторону Рейна было замечено странное передвижение вооруженных людей. Если ты сам хочешь возглавить дозорное отделение…
Калигула сразу сообразил, что имел в виду Гальба. Он поспешно поднялся.
— Эта моя обязанность как императора.
— Возможно, дело дойдет до столкновений…
— Ты думаешь, меня это пугает? — с возмущением спросил Калигула. — Не забывай, кем был мой отец и что я вырос в военном лагере.
— Кто может забыть об этом! — с восторгом воскликнул Гальба. — Только забота о твоей драгоценной жизни заставила меня предостеречь тебя.
— Не будем терять времени, легат, вперед!
Во главе когорты всадников император переправился на другую сторону Рейна, и скоро они столкнулись с «врагом». Переодетые легионеры с ревом, размахивая мечами, бросились на них из леса. В своих рогатых шлемах, покрытые шкурами, они являли собой устрашающее зрелище. Но мужественное войско скоро загнало их обратно в темный, покрытый пеленой тумана лес, где они, дрожа от холода, ждали обратного превращения в легионеров.
Император же праздновал великую победу. Под звуки фанфар в триумфальном факельном шествии «победоносное войско» вернулось в лагерь. Калигула щедро раздавал подарки и награды храбрым легионерам, и сенату в Рим немедленно доложили о победе над германскими повстанцами, так что запуганным достопочтенным отцам пришлось подготовить еще одну торжественную делегацию. Весь Рим ликовал, празднуя победу, в честь которой были устроены внеочередные игры.
В конце ноября император со своими войсками отправился в Галлию, где в городе Лугдуне намеревался провести зиму. Город этот лежал на судоходной реке Родон, являлся центром западных римских земель, а также узловым пунктом важнейших торговых путей. Была здесь и императорская резиденция.
На отвесном холме высоко над городом возвышался дворец, и Калигула, похоже, был им удовлетворен.
— Правда, на Рим не похоже, но я не ожидал, что в провинции можно так прилично устроиться.
Со дня на день Цезония должна была разрешиться от бремени, поэтому она решила воспользоваться хорошим настроением императора, чтобы напомнить об обещании жениться.
— Ты права, время пришло. Наш ребенок должен, в конце концов, появиться на свет как императорский наследник.
Как обычно, все происходило в великой спешке. И декрет о разводе с Лоллией Павлиной, и документы о браке с Милонией Цезонией были подготовлены и подписаны одновременно, в один день.
В стремлении показать всему свету, что центр Римской империи временно переместился в Лугдун, Калигула пригласил сюда своих вассалов, правителей Палестины, Коммагены и Мавретании — Агриппу, Антиоха и Птолемея.
Спустя несколько дней после прибытия император уже устраивал игры, соревнования, травлю зверей и гладиаторские бои, желая показать себя с лучшей стороны собравшимся со всех уголков страны галлам.
29
Места в округе Путеоли активно посещались в основном летом, поэтому Сабин легко нашел подходящую виллу вблизи источников, бивших в центре потухшего вулкана, который выбрасывал в разных местах кипящую грязь. Ее-то в охлажденном виде или смешанную с водой употребляли в различных лечебных целях. К тому же в стенах кратера были выдолблены пещеры, служащие паровыми ваннами.
Над всей территорией стоял запах сероводорода, но к нему люди быстро привыкали, вообще переставая воспринимать его уже через пару дней.
Херея точно следовал предписаниям врача: принимал по пять раз в день серные ванны, делал примочки из лечебной грязи и скоро действительно почувствовал улучшение. Сабин сопровождал его к источникам минимум раз в день, но сам предпочитал парные в пропахших сероводородом пещерах, после чего он мог от души наплаваться в бассейне с холодной водой.
Проводя время вместе, они часто заводили разговоры, которые стали настоящим испытанием для их дружбы. Херея был убежден, что чем меньше он будет говорить о ставшей в тягость службе, тем быстрее поправится, но Сабин постоянно возвращался к мысли, что служить жалкому подобию императора недостойно римлянина и как раз обязанностью солдата является изменить это обстоятельство.
Херея какое-то время прислушивался к его речам, давал неопределенные ответы, пока ему это окончательно не опостылело.
— А теперь прекрати болтовню! Я родился в крестьянской семье, потом всю свою жизнь прослужил солдатом и все время должен был учиться делать одно: подчиняться. Ты вырос в других условиях, не один год просидел на школьной скамье, разбираешься в истории и литературе, можешь красиво изложить свое мнение, обосновать, доказать, а мне для этого не хватает знаний. Что мне понятно, так это преимущества республиканского строя. Я думаю, что пришло время ввести его снова.
Сабин дружески пихнул Херею в бок.
— Ты только не обижайся, если я снова возвращаюсь к той же теме. Странно, что с Августом пришел конец Республике, но монархия юридически не была введена, хотя фактически существовала. Настоящей монархии не нужны были бы ни ежегодно меняющиеся консулы, ни сенат — пары назначенных самим императором советников вполне хватило бы для той же цели. Старые республиканцы, чтобы избежать ненавистной монархии, придумали кое-что полезное: в тяжелые неспокойные времена должен был назначаться диктатор, но власть его ограничивалась шестью месяцами. А поскольку потом ему предстояло отчитаться об исполнении обязанностей, то он не мог, как наш Сапожок, дать волю своим страстям. Принцепс — пусть он и остается им всю жизнь — должен быть первым среди равных, а не свободным от обязательств расточителем, которого подданным приходится почитать, как бога. Таким развитием мы обязаны Августу, но он никогда не злоупотреблял своим высоким постом, забывая, что его преемникам такая задача может оказаться не по плечу. Август, хитрая лиса, был достаточно умен, чтобы отказаться от титула короля, да он даже сохранил многие республиканские должности. И Калигула использует это, чтобы при республиканской форме правления пожизненно выступать в роли диктатора. Что отличает его тогда от короля? Лишенный власти сенат? Два подставных лица, называемых консулами? Лучше всего было бы убедить Сапожка надеть корону. Тогда возмущенный Рим, может быть, вспомнил бы о старых временах и избавился от жирного, лысого, капризного и жестокого «бога». Думаю, что лишь немногие стали бы сопротивляться введению Республики, тем более что все для этого уже под рукой: сенат, консулы, цензоры. Остается только восстановить их в прежних правах. Я, во всяком случае, нахожу мысль вполне симпатичной, потому что уже сама республиканская форма правления — гарантия права и справедливости. Теперешнее же положение просто невыносимо.
Херея подлил обоим вина.
— Может быть, но мы ничего не в состоянии изменить, — сказал он, не сдавая позиций.
Тут Сабин разозлился.
— Неужели до твоей солдатской головы не доходит, что только мы и можем это изменить? Я имею в виду не нас двоих, а преторианцев. Сенаторы пригибаются все ниже, пусть даже один за другим оказываются на Гемониевых ступенях. Оба консула — дряхлые старики, и Калигула самовольно меняет их одного на другого. На кого он опирается? Только на преторианцев! Без них он был бы давно мертв, признай это.
— Не кричи, я не глухой. Ты недоволен императором, я и пара других преторианцев, пусть они об этом и не говорят. Но ты знаешь, сколько их всего? Десять когорт по тысяче человек в каждой! Если ты не привлечешь на свою сторону хотя бы половину, тогда лучше сразу расстаться со своими планами. Да, мой дорогой, Август позаботился о том, чтобы самый глупый и неспособный преемник чувствовал себя так же уверенно, как бог на Олимпе. Я бы хотел тебе напомнить еще и о том, что заговор Гетулика провалился, хотя в нем принимали участие сестры императора. Я бы, во всяком случае, не стал пытаться снова.
— Потому что тебе не хватает фантазии, — вызывающе произнес Сабин и продолжил: — Я плохого мнения о сложных, больших заговорах, в которые втянуты целые легионы. Это должен быть договор нескольких человек без конкретного плана, которые просто выжидают подходящего момента. Где-нибудь в Палатине, когда Калигула бродит ночью по замку и один или несколько его противников как раз несут службу, его толстое брюхо может пронзить кинжал.
Херея засмеялся.
— А следующий удар поразит убийцу! Нет, друг мой, этой идеей ты никого не соблазнишь. Когда сам приступишь к службе во дворце, поймешь, что я прав. А теперь хватит, мне порядком надоела эта тема.
— Я не могу оставить ее, потому что все время думаю о дяде и его трагическом конце, а еще о том, что однажды то же может случиться с родителями, или с тобой, или со мной…
Херея пробормотал нечто невразумительное и снова наполнил кружку, но теперь только свою.
Сабин увидел, что тот разозлился, и предложил:
— Да хватит об этом! Может, пригласить парочку красавиц, чтобы отвлечься?
— Нет, — буркнул Херея, — мне сегодня не до них; к тому же во время службы в легионе я их перепробовал столько, что до сих пор сыт. Да и нога опять болит, наверное, из-за твоей болтовни.
— Я уже замолчал, — примирительно сказал Сабин. — Но с кем мне еще поговорить о таких вещах, если не с лучшим другом?
Тут он задел слабое место Хереи, чье мрачное лицо сразу же просветлело.
— Хорошо, Сабин, но это не должно быть нашей единственной темой. Забудем о ней хоть ненадолго — договорились?
Сабин кивнул и задумчиво посмотрел в пустую кружку.
Жизнь в Лугдуне император начал с невероятной помпой. День за днем он давал приемы, торжественные трапезы, театральные представления, устраивал травлю зверей и всяческие игры. Огромные суммы он добывал путем продажи с аукциона имущества Агриппины. Калигула дал Каллисту поручение доставить в Галлию предметы хозяйства, украшения, рабов, лошадей и прочее. Секретарю было знакомо нетерпение его господина, и он конфисковал всех тягловых животных в Риме, которые могли ему понадобиться. Скоро едва обозримый обоз тронулся в путь на запад.
В Лугдуне собрались все богатые жители Галлии, горящие нетерпением заполучить что-нибудь из имущества императорской семьи. Калигула сам принимал участие в аукционе и наблюдал, как Аргус добивался, чтобы продажи осуществлялись по как можно более высоким ценам. Поскольку многие из вещей принадлежали когда-то его покойным родителям и братьям, он разыгрывал перед возможными покупателями трогательные сцены. Так, когда вниманию присутствовавших были предложены искусно вырезанные из дерева длинный стол и скамьи, на которых возлежали обедающие, Калигула подскочил, погладил мебель и произнес:
— Из дома моей любимой матери! За этим столом, украшенным драгоценными камнями, когда-то собирались Германики, император Тиберий, другие члены нашей семьи. Нет, я не могу его отдать, слишком много воспоминаний связано с этой вещью…
В зале аукциона послышалось тихое гудение; многие рисовали в воображении, как продемонстрируют удивленным гостям стол, за которым сидели члены правящей династии и даже сам император.
— Сто тысяч сестерциев! — выкрикнул кто-то, но тут же была предложена еще более высокая цена:
— Сто пятьдесят тысяч!
— Двести тысяч!
— Триста тысяч!
В конце концов, за восемьсот тысяч сестерциев счастливым обладателем императорской мебели стал богатый владелец рудников.
Сидящему рядом с ним другу Геликону император прошептал:
— Хлам стоял на какой-то забытой вилле и стоит самое большее сорок тысяч.
Геликон тихонько засмеялся.
— Когда имущество Агриппины распродадут, тебе надо будет позаботиться о подвозе. В нежилых императорских виллах пылятся горы такого хлама времен Августа и Тиберия. В Риме его едва ли удастся продать, но здесь…
В неподвижных глазах Калигулы заблестели огоньки. Геликон был прав: недалеким провинциалам не составит труда всучить все что угодно, лишь бы когда-то это принадлежало императору.
И по приказу Калигулы из Рима доставлялись обоз за обозом. В конце концов любой галльский богач мог похвастаться каким-нибудь предметом, бывшим некогда в собственности императора.
В это время Цезония родила дочь, которую по желанию Калигулы назвали Друзиллой. Успешные аукционы так распалили его алчность, что он и из рождения наследницы хотел выжать денег, не стесняясь заявлял во всеуслышание, что к его императорским тяготам добавились еще обязанности отца, что он будет рад принять пожертвования на воспитание и будущее приданое Друзиллы. В вестибюле дворца поставили две пустые амфоры, и каждый мог внести свою лепту. Писари помечали размер пожертвований, и того, чей взнос в течение недели оказывался самым высоким, приглашали к императорскому столу.
В Лугдуне Калигула вел себя сдержаннее — «шуток» не позволял, потому что не хотел прерывать постоянный денежный поток из открытых вновь источников.
Скоро в Лугдун прибыли и правители-вассалы. Для приглашения Агриппы и Антиоха не было никаких политических причин. Их обоих император, что называется, сделал сам, это были его творения, и время от времени они обязаны были являться, чтобы преклонить перед ним колени. Агриппа вырос в Риме заложником и причислялся к кругу самых близких друзей Калигулы, который потом «подарил» ему управляемую римскими прокураторами империю его деда. Агриппа показал себя умеренным и умным правителем: он старался не испортить отношения ни с Римом, ни со своими иудейскими подлинными.
Антиоха из Коммагены еще Тиберий посадил на трон в его маленькой, расположенной к северо-востоку от Сирии стране, а Калигула только утвердил его в должности.
Король Птолемей из Мавритании приходился внуком Марку Антонию и царице Клеопатре, а значит, родственником Калигуле. Император хотел наконец познакомиться с «кузеном» и пригласил вежливо, со всеми почестями, в Лугдун. Настоящей же причиной было то, что Геликон, близкий друг Калигулы, в поисках новых путей выхода его ненависти к евреям выяснил, что в Мавритании возник ряд портовых городов, в которых евреи вели оживленную торговлю.
— Дань Мавритании едва ли соответствует богатству страны, — сказал Геликон, зная, что слова его разбудили алчность Калигулы. — Я справлялся: там есть много портовых городов, в которых торговля идет отлично. Суда ходят и в Нумидию, и в Египет, и в Испанию. Этот Птолемей правит уже семнадцать лет, ни разу не показывался в Риме и ведет себя так, будто является полновластным правителем. Думаю, тебе надо как-нибудь посмотреть на него поближе, император.
Калигула сразу ухватился за идею и отправил приглашению родственнику.
Птолемей прибыл в Лугдун первым в сопровождении пышной, ярко разодетой свиты. Король оказался статным красавцем в возрасте сорока лет и с таким достоинством и естественностью носил свой расшитый золотыми львами пурпурный плащ, будто родился в нем. Это гордое королевское явление с самого начала разозлило Калигулу, пусть Птолемей и преклонил перед ним колени, и положил к его ногам золотую корону, а потом покорно взял ее обратно.
— Сейчас он разыгрывает раболепную покорность, — прошипел Геликон в императорское ухо. — При этом принадлежит к самым богатым североафриканским королям и должен бы платить дань в десять раз большую.
— Прилежный человек, — произнес Калигула с насмешливым восторгом и скривил лицо, — надо бы его проверить получше.
— Это не он такой прилежный. Птолемей передал правление вольноотпущенникам, среди которых должны быть и евреи, и живет только своими научными исследованиями, как делал и его отец, король Юба. Так что золотой поток вполне можно направить в наши кассы…
— Ты имеешь в виду, если я сделаю Мавританию римской провинцией и назначу туда наместника… У Птолемея есть сын?
— Насколько я знаю, нет.
Калигула потер руки, неподвижные глаза засветились алчными огоньками.
— Я все обдумаю. Завтра, во всяком случае, я устраиваю для моего кузена игры. А потом посмотрим.
Геликон чувствовал удовлетворение. Он знал, что богатство мавретанского короля Калигула не оставит больше в покое, не говоря о том, что этот кузен своей высокой стройной фигурой и королевской осанкой еще больше подчеркнул омерзительность жирного, лысого, тонконогого Калигулы.
На следующее утро император открыл в амфитеатре игры. Он сказал короткую речь, подчеркнув, что посвящает их своему любимому кузену, царю Птолемею.
Царь поднялся, его великолепная фигура была хорошо видна с любого места, а расшитый пурпурный плащ празднично сверкал в лучах утреннего солнца. Галлы восторженно приветствовали его, поскольку он был правителем государства, и образ его вызывал восхищение, хотя лишь немногие знали, где находилась Мавритания.
Эти безобидные аплодисменты ядом проникли в грудь Калигулы. Почему плебеи славят этого чужестранца? Разве не сидит божественный Император у всех на виду в своей ложе?
Неужели они не догадываются, что достаточно его кивка и этот набитый соломой король будет лишен милости и покровительства Рима?
Преисполненный яда, как гадюка, готовая к смертоносному удару, Калигула покинул театр раньше времени. Он позвал трибуна Декстера, жестокого мускулистого германца, который с удовольствием исполнял роль палача.
— Убери этого Птолемея! — строго приказал Калигула. — Чем быстрее принесешь его голову, тем выше будет твоя награда.
Декстер ухмыльнулся.
— А причина, император? К сожалению, все всегда хотят знать, почему должны лишиться головы, — как будто императорский приказ сам по себе недостаточное основание.
— Просто скажи ему, что актер, исполнив роль, должен удалиться со сцены. Мавритания становится римской провинцией, а смещенных правителей нельзя оставлять в живых — это грозит осложнениями. Или скажи еще что-нибудь, но принеси мне его голову.
Декстер взял дюжину солдат и отправился в гостевое крыло дворца, где Птолемей как раз принимал ванну. Военные грубо оттолкнули слуг, и Декстер подошел к королю. Тот поспешно повязал полотенце вокруг бедер.
— Срочная новость?
— Да, господин, которую я должен устно передать тебе от императора. Он решил сделать Мавританию римской провинцией, и царь ей больше не нужен. Поэтому я должен принести ему твою голову.
Птолемей попытался улыбнуться.
— Но это какая-то ошибка! Вчера мы разговаривали с Гаем как друзья…
Декстер кивнул одному из своих людей, который схватил короля за волосы, принудил опуститься на колени и откинул его голову назад.
— Вчера — не сегодня, — сказал трибун и перерезал ему горло.
Птолемей широко раскрыл глаза, начал хрипеть, поток крови хлынул на пол, попал на руки Декстера. Трибун же спокойно выжидал, пока конвульсии перестанут сотрясать тело, и тогда умелым движением отделил голову от туловища. Декстер вымыл руки в ванне, а потом приказал:
— Заверните голову в его пурпурный плащ. Все-таки она королевская…
Солдаты засмеялись, а один из них сказал:
— Обрезали, как настоящего еврея!
Калигула рассматривал и после смерти все еще сохранявшую красоту голову Птолемея.
— Ну, господин кузен, Мавритания не станет по тебе скучать. Мы пошлем туда прокуратора и разберемся с твоими богатствами. Сожгите труп вместе с головой и отправьте урну с прахом семье. Мы не станем лишать его близких последнего утешения.
Через две недели прибыл Агриппа, царь Палестины. Другу юности Калигулы нечего было бояться: солнце императорской милости по-прежнему ярко светило над его головой. Он громко рассмеялся, узнав о судьбе Птолемея.
— Наверное, он боялся быть обложенным высокой данью, а ты сразу же забрал у него голову. Как нескромно! Разве так поступают с любимым кузеном?
Калигула равнодушно ухмыльнулся.
— Это был самый лучший и самый короткий путь.
Агриппа положил руку на плечо своего друга.
— Если захочешь превратить Палестину в провинцию, Гай, оставь мне мою голову — я охотно переберусь в Рим, где мне гораздо больше нравится, чем в Цезарии или Иерусалиме.
— Меня тебе бояться нечего, — успокоил Калигула, — я знаю, что могу на тебя положиться и никогда не увижу в рядах своих врагов.
— Когда я вспоминаю, на какой тонкой ниточке висела моя голова при Тиберии…
— Он умер вовремя…
— Во имя хромого Вулкана, боги всегда были на нашей стороне, Гай. Когда я узнал, как ты быстро разоблачил всех заговорщиков и подавил мятеж, я едва поверил своим ушам. Они должны воздвигнуть тебе в Риме храм и почитать как бога…
Калигула польщенно улыбнулся.
— Это не должно омрачать нашу старую дружбу. Как ты отнесешься к тому, что я сегодня приглашу в Палатин красавиц из лучших борделей Рима?
Агриппа восторженно захлопал в ладоши.
— Отличная мысль!
Сенат, конечно же, проинформировали о прибытии обеих сестер императора, но никто не обратил на это внимания. Каждый из достопочтенных боялся гнева Калигулы или его подозрений в причастии к заговору Лепида. Поэтому Агриппину и Ливиллу сразу доставили в городскую тюрьму, которая стояла в центре Рима на Аргентарийском холме.
Калигула специально распорядился поместить их сюда, а не в фамильную темницу на Палатине, чтобы унизить обеих, а особенно гордячку Агриппину. Сенаторы действовали очень быстро. Уже на следующий день было зачитано обвинение, основными пунктами которого являлись участие в заговоре и нарушение супружеской верности. По приказу императора сестер разместили отдельно друг от друга, поскольку, как с насмешкой заметил Калигула, он не исключал, что Агриппина и здесь вместе с Ливиллой начнет плести новые интриги.
Агриппина, которая вела себя неожиданно спокойно, выразила только одно желание: она хотела видеть сына Нерона, в чем император ей тут же отказал. Двухлетнего ребенка отдали на воспитание родственникам отца, и он, в соответствии с возрастом, забыл о далекой матери. Доминиции же, с тех пор как стало известно о провалившемся заговоре, боялись даже упоминать имя Агриппины. Но она и с этим справилась. Ее несгибаемая гордость не позволяла проявлять никакой мягкотелости. Мать Нерона была уверена, что снова увидит сына, пусть не сейчас, а возможно, через два-три года.
— Ты не должен был оставлять меня в живых, братишка, — шептала она с ненавистью, поскольку это вселяло надежду: она продолжала жить, был жив ее сын, и Агриппина верила, что однажды Риму придется рассчитывать на них.
Спустя четыре дня сенат единодушно утвердил продиктованный Калигулой приговор: пожизненная ссылка сестер на Понтийские острова, отчуждение всего имущества и лишение всех почестей и привилегий. Агриппину ждал остров Пандатериа, где семь лет назад в одиночестве и отчаянии скончалась ее мать, Ливиллу — Понтия, самый большой остров из этой группы. Когда ей разрешили взять с собой корзину книг, она, пожав плечами, почти с радостью подумала о предстоящем изгнании. Так же как и Агриппина, она надеялась, что Калигуле недолго осталось сидеть на троне. Приговор был обнародован на форуме, а потом и во всех городских кварталах. Сабин, который как раз шел навестить родителей, увидел собравшуюся вокруг глашатая толпу. Он остановился и какое-то время слушал комментарии людей.
— Так этим девкам и надо! Покушались на жизнь императора да к тому же лазили по чужим постелям — тьфу! Было бы лучше засечь их насмерть.
Сабин услышал только пренебрежительные и злорадные замечания, но многие из собравшихся стояли молча, очевидно, не желая высказывать свое мнение. Он пошел дальше, заглянул по пути в таверну и заказал вина. Лицо Ливиллы так четко стояло у него перед глазами, как будто он видел ее вчера. Он все еще слышал звучание ее тихого приятного голоса, когда она ответила на едкое замечание Калигулы:
— Предоставь решение мне, тут я обойдусь без твоих советов.
Ничего особенного в Ливилле не было, и ее гордая сестра производила большее впечатление, и все же — Сабин сделал хороший глоток — и все же что-то в ней притягивало и возбуждало его любопытство. Но теперь она была все равно что мертва, потому что едва ли кто-то возвращался с печально известных островов.
— Если бы я мог ей помочь, — мрачно прошептал он, — как-то поддержать…
До наступления весны Калигула выручил от продажи имущества Агриппины и Ливиллы, а также сотен обозов со скарбом с заброшенных императорских вилл больше восьмидесяти миллионов сестерциев. Геликону он заметил:
— Я должен был стать торговцем. Меня можно назвать крупнейшим дельцом Римской империи, который за пять месяцев заработал восемьдесят миллионов!
— Ты гениален в любом отношении. Твоя божественная природа превращает любое банальное действие в достойное восхищения, поэтому ты так успешен.
— Да, но теперь пора с этим кончать! В конце концов, я император и намереваюсь завоевать Британию. В апреле мы двинемся на север, к Галльскому проливу. Мне сообщили, что британские правители переругались, поэтому будет несложным натравить их друг на друга и победить.
— Не очень-то я в этом уверен, — трезво оценил ситуацию Геликон, а Калигуле сказал: — Они еще никогда не имели дела с богом и будут в подобострастии целовать тебе ноги.
Но мысли Калигулы уже приняли другое направление.
— Сенат будет озадачен! Я запретил господам в дальнейшем оказывать мне почести: прискучило, да и отвлекает сенаторов от обязанностей. Моя победа в Британии загонит их в тупик; ведь, с одной стороны, я буду претендовать на триумф, а с другой — им запрещено отягощать меня поздравлениями.
Мысль развеселила его.
— Как всегда, они снова поведут себя неправильно, и я уже вижу, как катятся их головы. Сенаторские, Геликон, головы патрициев! Палачи в Риме покрылись жиром от безделья, но я их заставлю шевелиться!
Неприятный холодок пробежал по спине Геликона. Да, он был любимцем императора, но понимал, что однажды тоже может оказаться в немилости. Как и Каллист, он сколотил немалое состояние и порой задумывался, что будет «потом», гадая, доведется ли насладиться нажитым. Поэтому он старался изо всех сил стать для императора незаменимым: ведь игрушку, которую ценят, так легко не выбрасывают.
Из Гезориака пришло известие о том, что там собрался римский военный флот, после чего император со своими легионами двинулся на север. Они прошли Бельгию, северную часть Галлии, добрались до столицы Дурокартор. Отсюда путь их проходил исключительно по равнинной территории. При типичной для этого времени года погоде, когда дождь сменялся солнцем и ветром, войска пересекали просторные пшеничные поля. Колосья уже зеленели, деревья и кустарники стояли в пышном весеннем цвету. Настроение у солдат было хорошее, поскольку они не знали никаких лишений, обычных для походов, вот только Калигула в вечном нетерпении постоянно торопил их. Наконец он вырвался вперед и поскакал во главе когорты всадников, первым достигнув крепости Гезориак. Флот был готов к походу, и император отдал приказ о немедленной отправке разведывательных судов.
— Плывите вдоль берега, выясните, не происходит ли каких-то перемещений военных частей, потом я приму решение.
Через несколько дней корабли вернулись. Разведчики не заметили ничего подозрительного, и только одно маленькое судно варваров попросило их о помощи. Это был Админий, сын короля Британии Циннобелия. Отец прогнал его, и теперь тот искал защиты у Рима.
Калигула сразу же принял его. Юноша довольно прилично мог изъясняться на латыни и рассказал поразительную историю.
Его отец владел обширными территориями в Центральной Британии, разрушил установленный там Юлием Цезарем порядок и насильно присоединил к своим землям находящееся под защитой Рима племя триновантов. Где бы он ни был, повсюду разжигал противоримские настроения, и скоро в Британии не осталось ни одного римлянина, за исключением женатых на местных жительницах ремесленников. Против него организовали движение короли западных и северных земель, опасаясь планов Циннобелия постепенно подчинить себе всю Британию. Админий с самого начала был против политики отца, считал, что только в союзе с Римом у его страны есть будущее.
Калигула внимательно следил за рассказом гостя и иногда прерывал его короткими вопросами.
— Предположим, ты сидишь на троне своего отца — как ты поведешь себя?
Админий прямо посмотрел в глаза Калигулы.
— Я не тешу себя надеждой, что этот трон долго устоит без помощи Рима. Я как вассальный король положил бы мою страну к твоим ногам и стал бы просить поддержки в объединении всех британских племен.
Калигула оглядел офицеров.
— Что вы на это скажете? Ясное предложение, над которым следует подумать.
Один из них попросил слова:
— Но как мы можем доверять его предложению, император? Мы не знаем наверняка, что произошло; возможно, Админий просто повздорил со своим отцом и с нашей помощью хочет занять его трон.
Калигула пожал плечами.
— А если и так? Он, во всяком случае, готов подчиниться Риму, а его отец работает против нас. Чем больше растет власть Циннобелия в Британии, тем опаснее он становится как противник.
Он обратился к принцу:
— Ты слышал возражения офицера, но я решил пока поверить тебе и милостиво принять твое предложение покориться Римской империи.
Админий упал на колени и поцеловал руку императора.
— Благодарю, император! Под защитой римского щита я вижу начало новых, золотых времен для моей страны. Убийственные гражданские войны закончатся, страна наконец объединится.
Калигула вскочил и
воскликнул:
— А теперь ты должен увидеть, принц Британии, какой мощный у тебя покровитель!
Легатам и трибунам было дано приказание построить войска на пляже и установить баллисты и другие боевые машины.
Между тем император пригласил гостя к столу, расспрашивая об обычаях, нравах и религии его родной страны.
Ближе к вечеру представление можно было начинать. Солдатам, обслуживающим боевую технику, было приказано метать камни и огненные стрелы в море. Калигула вышагивал с принцем Админием по пляжу.
— Ты видишь? — кричал он. — Смотри внимательно! Это Рим! Римская мощь и сила! Твой отец должен был бы видеть мои легионы и боевые машины! Вид их поверг бы его в отчаяние, ты не думаешь?
Админий не знал, что и сказать. Он находился под сильным впечатлением, осознавая, что никто на острове не в силах сопротивляться мощи такой армии.
— Когда ты начнешь поход, император?
— Когда начну? Не сегодня и не завтра! Ты же покорился мне, ты молод, ты будущее. Посмотрим…
Император обратился к трибунам:
— Прикажите своим людям собирать ракушки! Пусть наполнят ими шлемы и кошели! Это наши военные трофеи. Мы не должны возвращаться в Рим с пустыми руками!
Офицеры переглянусь, не зная, было ли это шуткой.
— Давайте! Чего вы еще ждете? — в гневе закричал Калигула, пришпорил коня и поскакал к расступающимся солдатам.
— Давайте-давайте! Берите сколько унесете!
Воины выполнили то, что от них требовалось, наполнив шлемы всем, что лежало на пляже. На следующий день император приказал возвести маяк в честь «победы» над Британией. Каждый легионер получил подарок в размере сотни денариев, и ликованию не было предела. Офицеры, приняв в десять раз больше, перешептывались:
— Наш император немного сумасшедший, но у него щедрая рука.
— Он может теперь себе это позволить, — высказался пожилой трибун, — напав на Британию, он израсходовал бы в десять раз больше, а пара тысяч из наших рядов удобрила бы своими телами чужую землю. А так мы все остались в живых да к тому же с подарками. Разве можно желать большего? Да здравствует император Гай Юлий Цезарь Германик!
Вечером Калигула устроил в честь своего гостя торжественную трапезу. Пил без меры, опрокидывая кубок за кубком, опьянев, встал.
— Сколько тебе лет, Админий?
— Как раз двадцать, император.
— В двадцать лет со мной тоже было так: я ждал, когда же освободит трон старик, который просто не хотел умирать. Пять лет я должен был высиживать в ожидании, пока это не случилось. Тут требуется терпение, мой юный друг, много терпения!
Он придвинулся ближе к своему гостю, и тот почувствовал, как в лицо ударило кислыми винными парами.
— Но когда ты наконец дождешься, когда ты, принц, усядешься на трон, к которому так давно стремился, тогда мир распахнется перед тобой и все окажутся у твоих ног — все! Вдруг воздух вокруг тебя становится тонким, как в горах, и у тебя появляются сотни друзей и при этом не остается ни одного. Они косятся на твой пурпур, а их жены убеждают их, как замечательно он мог бы смотреться на них, и тогда отовсюду, из каждого угла, пахнет бедой. Кому ты можешь еще доверять? Знати никогда не доверяй, потому что каждый считает себя достойным твоего места. Ты можешь создавать своих людей из вольноотпущенников, которые думают только о деньгах, а не о троне: он все равно для них недоступен. Они связаны с тобой в счастье и несчастье, им ты можешь доверять. Но другие, патриции, отпрыски древних родов, ненавидят и презирают тебя, плетут интриги и заговоры. Здесь нужен железный кулак, Админий! Руби им головы, и если возможно, то сразу дюжинами! Попадутся невиновные — не жалей! Чем их будет меньше, тем надежнее окажется твой трон. В конце концов ты останешься один, без единого настоящего друга, опираясь только на тех, кого создал сам, но трон твой стоит твердо, и те, кто останутся, возненавидят тебя, но будут бояться. Страх, Админий, — главный инструмент правителя, не забывай! Плебеев можно держать в узде раздачей хлеба и играми, но знать — только страхом. Я пью за тебя, Админий, будущий король Британии, который не должен забывать, что над ним есть еще боги и римский император, — и ты спокойно можешь называть их одним именем.
После этого разговора, который обернулся скорее монологом Калигулы, Админий засомневался, правильный ли путь он выбрал и не лучше ли было объединиться с отцом.
С помощью охранников Калигула, шатаясь, направился к императорской палатке, перед входом его вырвало, и он недовольно отодвинул в сторону руки помощников.
— Я могу идти и один, оставьте меня в покое!
Калигула тяжело упал на постель к Цезонии. Императрица проснулась.
— Сегодня я покорил Британию, любимая, для тебя! Принц Админий — мой союзник, он — будущее. Да, Цезония, твоему супругу удалось завоевать остров варваров без единого взмаха меча. Милая шалость, не правда ли? Они обязаны мне в Риме триумфом — должен ли я принять его?
Заспанная Цезония поняла только половину из сказанного, но она твердо знала одно: нужно как можно скорее оказаться в Риме, ведь только там она могла насладиться своим новым рангом.
— Великолепно, Гай! Без единого взмаха меча? Тогда мы сэкономили кучу денег и можем истратить их на более приятные вещи. Я горжусь тобой! Когда мы возвращаемся?
Но Калигула уже уснул. Его пьяный храп заполнил палатку, и Цезония спрятала голову под подушками. В Риме все пойдет по-другому, там в ее распоряжении будет часть Палатинского дворца, и ей лишь иногда придется выносить его присутствие в своей постели.
Цезония Августа! Цезония Августа! Калигула обещал выпустить монеты с ее профилем. Она была супругой властителя мира и родила ему ребенка — за это можно было и храп послушать, и он теперь звучал в ее ушах сладкой песней.
На следующий день Админий исчез вместе со своими людьми. Калигула не придал этому значения.
— Возможно, он сам испугался собственной храбрости и снова залез в гнездо отца. Об этом можно не беспокоиться — Британия из-за внутренних распрей сама себя уничтожит и превратится для нас в легкую добычу. Но сенату придется уже сейчас присвоить мне звание Британика.
Калигула послал в Рим гонца с известием о победе, где оно было передано сенату в присутствии обоих консулов.
30
В Римской империи многие желали зла императору, и у всех были на то очевидные причины. Существовали сотни людей, которых он оскорбил, унизил, казнил близкого родственника или друга. А еще была в Риме кучка идеалистов. Их толкали на заговор не личные мотивы, а стыд за все происходящее. Эти люди с тоской вспоминали золотые времена Августа, который бесстрашно выходил на форум без охраны и принимал меры предосторожности только для того, чтобы его не задавила восторженная толпа. Он привык говорить:
— Меня заботит не то, что некоторые обо мне плохо говорят, а то, что они плохо делают.
Он запретил обращение «господин» и настоял на том, чтобы сенаторы оставались сидеть, когда он входил в курию. Никого не привлекали к ответственности за смелое изречение или даже дерзость.
Когда Секст Папиний, его отчим Аниций Цереал и императорский чиновник Бетилиен Басс затевали разговор о далеких золотых временах, конца ему не было видно. Никто из них не питал особой ненависти к Калигуле и не искал личной выгоды, но всех их мучило чувство стыда за Рим, и они считали любого другого приличного римлянина гораздо более подходящим на должность императора, чем жестокий полубезумный расточитель. Весть о крушении заговора повергла их всех в глубокую печаль.
— Слишком много людей знали об этом, — выкрикнул Папиний, — если целые легионы оказались задействованными!
Отчим попытался его успокоить:
— Легионеры ни о чем не догадывались. Они просто подчинялись легату Гетулику, который, скорее всего, посвятил в свои планы только некоторых офицеров.
— И все же, — возбужденно размахивал руками Папиний, — нельзя императора убить в окружении собственного войска, преданность которого он постоянно подпитывает деньгами. Это должно, как с Цезарем, произойти в сенате. В курию его сопровождают самое большее четыре, а то и два охранника. Хорошо нацеленная стрела, умелый взмах мечом…
— Говорить легче, чем сделать, — со знанием дела заявил сенатор Цереал, который часто видел Калигулу в сенате.
— Что же тут сложного? — с вызовом спросил юный Папиний.
Его отчим терпеливо объяснил:
— Император никогда не показывается один на людях. Германцы окружают его плотной стеной и всегда держат меч в готовности, зорко наблюдая за каждым движением. Кроме того, никому не разрешается приближаться к нему с оружием. Мы должны сначала найти его слабое место, а потом думать об исполнении.
— В театре! — воскликнул Папиний. — Там он сидит на виду у всех в своей ложе…
Сенатор рассмеялся.
— …окруженный дюжиной преторианцев. Нет, не пойдет. Уж тогда лучше в курии. Мы должны привлечь на свою сторону некоторых сенаторов, но и это непросто. Хотя большинство его ненавидит так, что он давно пал бы замертво, если бы ненависть могла убивать; да, ненавидят, но слишком трусливы — почти все. Значит, надо найти таких, кто к тому же обладает мужеством.
Папиний покачал головой.
— Я плохо думаю о крупных заговорах, к которым долго готовятся. Чем меньше людей знают о нем, тем в большей мы безопасности. Удар надо нанести неожиданно, когда представится удачный случай. Может быть, мы должны привлечь его врача; быстродействующий яд, сильное снотворное… Он почти не спит и по полночи бродит по дворцу. Это и есть слабое место!
Отчим кивнул:
— Правда, если ты находишься во дворце. Нет, мы должны действовать по-другому. Я знаю некоторых сенаторов, которые питают к нему жгучую ненависть. Попробую там осторожно прощупать почву.
— Когда император ожидается обратно?
— Летом, самое позднее в августе.
Цереал задумчиво произнес:
— Несчастный Лепид недооценил его популярность в армии. Что могут знать легионеры в Азии и Африке о его истинной сущности? При любой возможности он одаривает их, и они трижды подумают, прежде чем совершить опасный шаг. Теперь рейнские легионы вычищены и отданы под командование Сульпицию Гальбе, верному, надежному человеку императора. Калигула, может быть, и сумасшедший и считает себя богом, но у его безумия есть логика. Это могут быть не только шпионы, но и постоянное недоверие, возможно, его трусость, ведь страх делает его изобретательным и дальновидным.
— Но когда-нибудь с ним это случится, — воскликнул Папиний, — и надеюсь, что умирать он будет долго и мучительно, чтобы прочувствовать все, что испытывали его жертвы.
Цереал поднял руки.
— Мне все равно, как он умрет, лишь бы побыстрее.
На обратном пути в Рим Калигула еще раз нанес короткий визит германским легионам. Он до сих пор не простил им, что те из верности своему командиру были готовы выступить против него, императора. Правда, Сульпиций Гальба поменял почти всех трибунов, центурионов и часть солдат, но мстительная натура Калигулы не чувствовала удовлетворения. Поэтому он велел новому легату явиться и потребовал от него казни всех оставшихся легионеров Гетулика. Гальба, старый солдат, был возмущен, но сохранял внешнее спокойствие.
— Если ты хочешь услышать мое скромное мнение, император, то я не советовал бы тебе так поступать. Люди не захотят понять, почему их наказывают смертью за то же, за что других, признанных виновными, просто выкинули из легиона.
Калигула смерил ледяным взглядом офицера, дерзнувшего иметь мнение, отличное от его, императора и бога.
— Значит, ты противоречишь мне, — с тихой угрозой в голосе проговорил он.
— Нет, император, я не противоречил, я изложил свое мнение. Если в будущем это будет запрещено офицерам, то надо издать соответствующий указ.
Калигула провел в детстве и юности достаточно времени в армии, чтобы понимать — с офицерами нельзя обходиться так же, как с римскими сенаторами и патрициями.
— Ты прав, Гальба, и император должен прислушиваться к обоснованным советам. Хорошо, я смягчаю свой приговор и милостиво разрешаю казнить каждого десятого из тех, кто служил Гетулику. Позаботься о том, чтобы они собрались на тренировочном плацу — без оружия!
И с этим Гальба не был согласен, зная, что потеряет всякий авторитет, позволь он случиться подобному. Легат собрал трибунов и примипилов и без утайки сообщил им о намерении императора.
— Солдаты должны выстроиться на краю лагеря, вдоль палаток, чтобы их не смогли окружить со всех сторон. Дайте им понять, что собирается сделать император. Когда появятся преторианцы, они легко смогут спрятаться в палатках или при необходимости вооружиться. Я, во всяком случае, и не подумаю отдавать на расправу лучших людей.
Поскольку о прямом нарушении императорского приказа речь не шла, офицеры единодушно выразили согласие.
Итак, легионеры знали, что им грозит опасность, и выстроились вдоль лагеря. Калигула наблюдал за ними издалека и приказал когорте всадников окружить людей, а потом убить каждого десятого. Когда легионеры — а их было почти пять тысяч человек — завидели приближающихся всадников, они исчезли между палаток.
Гальба обратился к Калигуле:
— Боюсь, что они что-то заподозрили и вооружатся, потому что не чувствуют за собой вины. Дело может кончиться кровавой бойней! Я только надеюсь, что мне удастся надлежаще защитить тебя.
Теперь Калигула испугался.
— Прикажи всадникам возвращаться, Гальба, но предупреди своих людей, что наказание только отложено. Если они в следующие двенадцать месяцев продемонстрируют примерное поведение, я прощу их.
— Это настоящее решение, мой император! Я передам людям твои слова и могу заверить, что они будут так же верно служить тебе, как и все остальные.
Прежде чем император продолжил свой путь, из сената прибыла делегация, чтобы поздравить его с «победой» в Британии и просить как можно скорее вернуться в Рим.
— Да, я вернусь! — мрачно выкрикнул император, похлопал по мечу и добавил: — И его принесу с собой!
Делегаты втянули головы, с опаской поглядывая по сторонам. Повсюду стояли солдаты охраны, готовые к нападению, и каждый знал, что стоит императору кивнуть, как его голова покатится на песок.
Но Калигула продолжил свою речь:
— И скажите достопочтенным отцам, что я возвращаюсь к тем, кто этого желает, то есть к народу и всадникам, но не к сенату! Я не желаю видеть ни одного сенатора, встречающего меня у ворот, и не хочу от них никаких почестей. Я сам с форума оповещу народ о своей победе, это заменит мне любую честь со стороны льстивого, пропитанного ненавистью сената.
Вздохнув с облегчением, делегация вернулась в Рим, но императорское послание посеяло среди сенаторов страх и подозрительность. Некоторые из достопочтенных отцов предпочли тихонько исчезнуть, но большинство остались и ждали, как стадо овец, теша себя надеждой, что их только остригут, но не убьют.
Серные ванны так благотворно подействовали на больную ногу Хереи, что он скоро снова смог приступить к службе, однако в отсутствие императора особенно делать было нечего. Половина преторианцев отправилась вместе с ним в поход, унося часть страха, который тяжелым ядовитым облаком нависал над Римом.
Преторианцы во времена Калигулы во многом потеряли свой авторитет, и Херея чувствовал это на каждом шагу. Когда он в сопровождении своих людей шел или ехал верхом по городу, окна и двери закрывались, бродяги прятались, а матери звали своих детей домой. Как будто он, Херея, когда-нибудь обидел ребенка!
И Марсии пришлось это почувствовать, когда она вместе с рабыней шла на рынок. Ее толкали, задевали, плохо обслуживали, а соседки просто избегали ее. Это тяготило Херею больше всего, потому что причина была ему ясна, но какое отношение ко всему этому имела его жена?
Префекту Аррецину Клеменсу часто поступали жалобы, что преторианцев используют как палачей и сборщиков налогов, и надо было дать понять императору, что пора изменить положение дел.
Изменить? Но как? Клеменс прекрасно знал, что Калигулу едва ли заботили подобные проблемы, поскольку он придерживался мнения, что те, кому так хорошо платят, должны быть готовы и кое-что вытерпеть. Но безусловная верность префекта императору к тому времени уже пошатнулась. С тех пор как один сенатор оговорился, обратившись к нему, как к «верховному палачу», Клеменс задумался. Правда, тот человек сразу же извинился и умолял не докладывать императору, но у префекта осталось что-то похожее на горький привкус правды. Поскольку Клеменс часто по долгу службы общался с Каллистом, он упомянул случай, не называя имени сенатора, и откровенно рассказал о частых жалобах его людей.
Каллист отправил писаря вон из комнаты и пригласил Клеменса присесть поближе к нему. Толстый секретарь понизил голос и сказал:
— Думаешь, я об этом не знаю? Когда мне льстят и по сотне раз на дню приглашают к торжественным трапезам и на праздники, так это не потому что я такой милый человек. Ведь каждый ребенок знает, как ценит меня император, знают люди и то, что он недавно лишил девственности мою дочь Нимфидию, а она к тому же забеременела. У нас незавидное положение, Клеменс, поскольку и от меня император требует вещей, о которых я лучше промолчу. Я не солдат и многое могу смягчить, иногда даже не делать, а тебе приходится выполнять приказы без всяких отговорок. Заговор Лепида провалился, Клеменс, но за ним последуют другие, и я не уверен, что боги предотвратят их. Что тогда? О нас будут судить по нашим делам, Клеменс, и обижаться будет не на кого. Думал ли ты об этом?
— Я не тупой великан с куриными мозгами, который бездумно подчиняется приказам, как велениям богов. И я тоже размышлял и не хочу скрывать перед тобой свои опасения. Когда император вернется, опять закружится смертельная пляска под прежнюю музыку, но мы, преторианцы, не должны больше служить палачами.
Каллист одобрительно кивнул.
— Я вижу, что и тебе неуютно на твоем месте. Если хочешь, дам тебе совет: подумай о будущем и выполняй только то, что приказано, ни на йоту больше! Позаботься о том, чтобы императорские приказы звучали при свидетелях, а если не получается, то приходи ко мне и пожалуйся. Тогда я потом подтвержу, как претила тебе такая служба, а ты заверишь, что всегда находил у меня поддержку и понимание. Если мы будем держаться вместе, Клеменс, то выстоим и приобретем заступников на будущее.
Клеменс молча пожал Каллисту руку и поднялся.
— Я только сожалею, что все зашло так далеко, но кого тут винить?
— Некого, потому что он всех нас обманул сначала и только потом показал свое истинное лицо.
— Иногда я завидую Макрону, что ему не пришлось переживать наши тяжелые времена. Но так не может долго продолжаться, Каллист, ведь боги не должны допустить этого. Своими выходками он каждый день совершает богохульства. Почему они терпят это? Почему Юпитер позволяет глумиться над собой его мнимому брату-близнецу?
Каллист пожал плечами.
— Год назад меня пригласили на один симпозиум, где появился и Сенека и прочел кое-что из своих произведений. Одно предложение мне особенно запомнилось: «Никто не может быть уверен в милости богов настолько, чтобы осмеливаться ожидать следующего дня». Если это верно, то относится ко всем, Клеменс.
Каллист показал на стоящий у окна бюст императора и повторил:
— Ко всем!
Такой тесный поначалу круг заговорщиков, состоявший из Цереала, Папиния и Басса, удивительно быстро разрастался. Цереалу удалось привлечь на их сторону трех сенаторов из уважаемых семей. Все они жили в постоянном страхе, что их имена окажутся следующими в черных списках, поскольку были богаты и уже получили анонимные письма с предупреждением. Но у них было много родственников, и бежать они не могли, опасаясь мести Калигулы их семьям.
Со всеми тремя Цереал вел похожие разговоры.
— Когда император вернется, он выполнит свое обещание и займется чисткой сената. Он устроит кровавое побоище. Возможно, даже отменит сенат.
— Но это уже похоже на монархию, которую не хочет ни один честный римлянин. У вас есть конкретный план?
— Нет, но мы должны держаться испробованного на Цезаре метода: все должно произойти в сенате. Позже мы обсудим это подробнее.
Сенатор кивнул.
— Можете на меня рассчитывать.
Заговоры подобного рода, в которых задействованы люди из разных сословий, как правило, преждевременно раскрываются, потому что обязательно отыскивается предатель или им вдруг становится кто-то из участников. Но здесь все было по-другому.
Самого юного заговорщика, Секста Папиния, переполняла жажда деятельности и восторг, особенно когда к ним примкнули такие важные мужи. Его юношеский пыл создал иллюзию, что пол-Рима теперь на их стороне, и он становился все более неосмотрительным. Старое римское изречение гласило: «За мысли никого не наказывают», и Папиний, похоже, так и решил, но совершил ошибку, излагая свои мысли вслух. В кругу друзей это позволительно, рассуждал Папиний с юношеской беззаботностью. Кроме того, он полагал, что все, открыто или тайно, придерживаются того же мнения.
И он высказался на одном из симпозиумов. Это произошло 23 мая, в день Марса. Папиний уже много выпил и напомнил веселой компании, что император посвятил Марсу Ултору — Марсу Карателю меч, вероятно, предназначенный для собственного убийства, а потом добавил:
— Что бы делал Калигула, если б узнал, сколько других мечей и кинжалов ждут его. Только для них ему пришлось бы построить целый храм Марса.
Папиний рассмеялся — такой забавной показалась ему мысль. Некоторые тоже посмеялись, но робко. Папиний же разглагольствовал дальше:
— Представьте себе, если собрать все это оружие, то получится, вероятно, не меньше обоза.
Большинство присутствующих приняли это за дерзкую шутку и постарались пропустить мимо ушей, только сыну вольноотпущенника, молодому торговцу зверями для цирка, шутка показалась весьма странной. По его мнению, не было императора лучше Калигулы. Часто он получал заказы с императорского двора на доставку медведей, львов и волков, и платили ему всегда хорошо и вовремя. Поэтому он поинтересовался именем шутника. «Да это Секст Папиний, приемный сын богача Аниция Цереала», — был ответ.
— Чтобы человек из хорошей семьи отпускал такие шутки… — мрачно пробормотал торговец и хорошенько запомнил это имя. «Возможно, пригодится, чтобы расположить к себе императора».
В конце мая Калигула во главе конницы преторианцев достиг границ Рима, в то время как пешие войска отставали на несколько дней. Он намеренно не входил в город, чтобы посеять в сенате страх и панику. Кроме того, он хотел разыграть перед народом набожного императора, приняв участие в древнем продолжавшемся три дня культе арвальских братьев. Святилище находилось на правом берегу Тибра и было посвящено богине земли Дее Дие, чей культ, согласно легенде, ввел еще Ромул.
Облаченные в белые одеяния жрецы приняли принцепса со всеми надлежащими почестями, но без помпы. Братья происходили из лучших римских родов и несли почетные обязанности жрецов всю свою жизнь. Ежегодно они избирали из своих рядов магистра, который теперь, полный достоинства, вышел навстречу императору, обнял его и провел в низкое вытянутое строение, где братья жили во время совершения ритуала, который представлял собой чередующиеся в сложной последовательности песнопения и молитвы. Во время церемоний жрецы надевали на голову белые повязки и венки из колосьев, потому что должны были просить бога полей Марса о плодородии, а также пробудить духов урожая. Правда, Марс вот уже двести лет как принял черты бога войны и сражений, но значительно раньше его почитали как покровителя полей и нив. Это звучало и в священном обращении к нему жрецов:
— Марс, Марс, отведи от нас порчу и болезни, призови всех духов урожая — всех, одного за другим! Помоги нам, Марс!
Завершались празднества торжественным ходом вдоль близлежащих полей и нив. Император в белоснежной тоге вышагивал как почетный жрец вместе с остальными, и его голову также украшали венок из колосьев и белая повязка.
Но мысли его пребывали не здесь, а в Риме, где трясся от страха сенат. Как он ни жаждал стоять триумфатором, так же как отец, на украшенной квадриге, а впереди сенаторы в праздничных тогах с пурпурными полосами, а еще жрецы, чиновники, военные, служители храмов с жертвенными животными — как он ни жаждал предложить вниманию толпы этот спектакль, но желание лишить такой возможности сенат не покидало его. Пожалуй, самой яркой чертой его натуры была страсть к общественным выступлениям, и он наслаждался картиной триумфального шествия, созданной в воображении. Вот он, одетый в пурпурную тогу, в руках скипетр с римским орлом, въезжает через триумфальные ворота цирка Фламания, чтобы оттуда проследовать через праздничные ворота к цирку Максимус и дальше по Сакральной улице к Капитолию, совершая жертвы богам, слушая восторженные крики народа. Но это значило уступить сенаторам, ведь и им представилась бы возможность насладиться триумфом. Нет! Калигула решил отказаться от сей почести и ограничиться овацией, что в народе называлось «малым триумфом».
Овация была назначена на 31 августа, день его рождения. Денег, конечно, на нее не пожалели — надо было настроить императора на милостивый лад. Некоторые германцы должны были выступить в роли пленников, Калигула даже привез с собой несколько галльских князей, намереваясь выдать их за «королей варваров». Им пришлось месяцами отращивать волосы, чтобы выглядеть по-настоящему дикими. В Риме никто не должен был заметить подлога. Галеру с тремя рядами весел, на которой он совершил короткую прогулку по Атлантике, разобрали на части, переправили через Альпы и теперь представляли ее как «военный корабль» императора.
Сенаторы глубоко вздохнули, поскольку Калигула их не совсем игнорировал. Собственно, овация в конце августа отличалась от большого триумфального шествия только тем, что император был облачен в претексту
[10], а голову его украшал миртовый венок.
Когда процессия остановилась у базилики Юлии, Калигула осыпал собравшуюся толпу свежеотчеканенными денариями и сестерциями с его изображением. Плебеи с такой жадностью на них набросились, что многие старики и инвалиды оказались задавленными насмерть. На телегах, запряженных мулами, везли корзины с ракушками — доказательство «победы над Нептуном» и свидетельство пребывания императора в Галльском проливе.
Плебеи, в основном те, кому достались монеты, орали до хрипоты, выражая восторг. К тому же император возвестил о проведении в следующие дни бесплатных игр. Снова раздались радостные возгласы, но скоро Калигула показал свое истинное лицо.
На игры в цирке Максимус собрались и те, кто страдал от нововведенных налогов: грузчики, проститутки, мелкие ремесленники, перевозчики и уборщики улиц. Им представилась редкая возможность видеть императора — пусть и издалека, и они дали выход своему недовольству, громко выкрикивая:
— Никто не понимает новых законов!
— Твои налоги давят нас!
— Бери деньги у богатых, а не у нас!
Калигула некоторое время слушал выкрики, а потом послал преторианцев восстанавливать порядок. Но чернь разбушевалась и, по всей видимости, не собиралась успокаиваться. Император отдал короткий приказ и удалился. С обнаженными мечами преторианцы бросились на недовольных, устроив кровавое побоище, которое унесло жизни более сорока человек. Сотню остальных схватили и превратили из ремесленников, поденщиков и хозяев дешевых трапезных в гладиаторов. Лишь немногим из них суждено было пережить следующие дни, но потом уже никто не осмеливался на подобные выступления.
Следующее распоряжение еще больше отравило воздух в Риме. Рабы, которые раньше не имели права даже свидетельствовать в суде, теперь могли доносить на своих хозяев по поводу утаивания доходов и нарушений налоговых выплат. За это они получали свободу и восьмую часть конфискованного имущества. Соблазн был велик, и многие рабы получили возможность отомстить господам.
Сразу после прибытия в Рим императора Сабин приступил к службе во дворце. Уже спустя несколько дней префект Аррецин Клеменс приказал всем трибунам собраться.
Со времен Тиберия преторианская гвардия состояла из десяти когорт по тысяче человек и десяти отрядов всадников общей численностью триста человек, каждую из которых также возглавлял трибун. Вся гвардия подчинялась двум префектам, но только один из них, Клеменс, действительно выполнял функции начальника, другой же — пожилой, заслуженный человек — просто носил высокий титул.
Кто-то из трибунов всегда отсутствовал, и поэтому сейчас перед Клеменсом стояли навытяжку только девять из них. Префект едва ли походил на военного человека, но был тщеславен и проницателен.
— Господа, к сожалению, я собрал вас по неприятному поводу. Речь идет о сестрах императора и их охране на Понтийских островах. Назначенный самим императором командующий караульного отделения на Понтии центурион Авл Приск позволил подкупить себя Юлии Ливилле, передавал ее письма и сообщения, чем, я произношу это с огромным сожалением, опозорил преторианскую гвардию. Его изобличили, он во всем признался, и император желает, чтобы мы, его товарищи, вынесли ему приговор. Вы знаете, как доверяет нам император и что он всегда вознаграждает нашу верность привилегиями и подарками. Приск не только совершил государственную измену, но и обманул доверие императора, чем запятнал честь всей гвардии. За это может быть только одно наказание: позорная смерть! Я предлагаю государственного изменника Приска привязать к столбу и бичевать, пока не умрет. Кто согласен, поднимите руки.
— Разреши мне вопрос, префект, — взял слово Сабин. — Был ли случай тщательно расследован? Приск признался добровольно?
Клеменс недовольно сморщил лоб.
— О, наш новенький сомневается в правомерности процесса. Но позволь указать тебе, что ни один преторианец или даже простой легионер не может предстать перед военным судом без тщательного дознания и выяснения всех обстоятельств дела. Доволен?
Сабин кивнул, и Клеменс повторил свое требование. Все девять рук поднялись.
— Другого я не ожидал и сразу же доложу императору о нашем приговоре. А теперь к другому вопросу: император поручил мне найти подходящего человека на место Приска. Ситуация вам понятна. Служба на Понтии сравнима с отбыванием ссылки и не приносит чести. Поэтому я прошу предложить центуриона, которого неплохо было бы проучить, но в остальном верного и надежного. Через год его отпустят.
Сабин поднял руку. На лице префекта появилась вымученная улыбка.
— Ты, похоже, решил испытать мое терпение, трибун? Слушаю тебя.
— Меня самого неплохо бы проучить, префект, поскольку мой предыдущий вопрос был немыслим, и я прошу за него прощения. Поэтому я готов добровольно отправиться на Понтию.
Это было выше понимания префекта, и он посмотрел на Сабина с недоумением.
— Ты, трибун? Не годится, Корнелий Сабин, ссыльных на Понтии всегда охраняла манипула во главе с центурионом. Ты слишком низко ценишь свой ранг, Сабин. Я не могу послать трибуна на остров охранять женщину. Император будет в ярости, и мне придется нести ответственность. Нет, выбрось это из головы.
Но Сабин не сдавался.
— Я прошу тебя только о том, чтобы ты предложил мою кандидатуру. Скажи императору, что тем самым я хочу выразить особую признательность за оказанную милость. Он знает, о чем идет речь.
Клеменс вздохнул.
— Хорошо, почему бы и нет? Но я уже сейчас могу сказать, что ты получишь отказ.
На обратном пути Херея прошептал:
— Ты ведь делаешь это не без причины, Сабин. Что ты задумал? Скажи мне!
Сабин молчал.
— Ты больше мне не доверяешь? Что случилось с тобой? Ты рискуешь впутаться в такое…
Сабин остановился.
— Я не рискую впутаться. Я иду на это с открытыми глазами и точно знаю, что делаю. Но едва ли мне все удастся. Потерпи, друг мой, мы скоро обо все поговорим.
Через день Калигула приказал явиться к нему трибуну Сабину, которого тщательно обыскали в поисках оружия, а потом провели узкими коридорами в личные покои императора.
— Ты должен исполнить роль Париса и решить, какая из дам тебе больше нравится, — выпалил навстречу ему Калигула. Сабин оглянулся, но не заметил никого, кроме императора в короткой до смешного тунике и пары молоденьких рабынь, занятых его одеждой.
— Терпение, Сабин, я продемонстрирую тебе красавиц одну за другой.
Потом он исчез за расписанной узорами ширмой. Озадаченный Сабин остался стоять у дверей. За ширмой послышался шорох и вдруг перед ним появилось существо, окутанное в темно-голубые одежды с золотыми звездами. Лицо скрывала вуаль, а на голове красовался серебряный месяц. Мелкими торжественными шагами видение проплыло перед Сабином, покружилось, как в танце, и откинуло вуаль. Но под ней было не человеческое лицо, а серебряная маска женщины.
Существо исчезло, и немного погодя из-за ширмы появилась Венера в белых просторных одеждах, серебряных сандалиях и под вуалью. В одной руке она держала зеркало, другой же манерно поправляла складки одежды. Она протанцевала вокруг Сабина, вздыхая, в восторге от собственной красоты, а потом тоже исчезла.
Следующей и последней оказалась Минерва, в полном обмундировании: лицо спрятано за золотой маской, грудь и плечи защищены эгидой с головой Медузы в центре и змеями по краям. Она прошла твердой военной походкой, с гордо поднятой головой, и звуки ее шагов разносились по всему залу.
Сабин сразу догадался, что за всеми тремя масками скрывался император, но кого он должен был выбрать? Согласно мифологии, Парис отдал яблоко Афродите, но что-то подсказывало ему, что Калигула требовал приз не для нее. В голове пронеслось молнией: Луна! Конечно, это была Луна, ведь не случайно маска показалась ему такой знакомой: она напомнила Сабину Друзиллу, чьи изображения в Риме можно было встретить на каждом шагу. Он вздохнул и теперь спокойно ждал появления императора. Тот не замедлил предстать перед трибуном в ярких, расписанных восточными узорами одеждах с бахромой. Неподвижные глаза с любопытством смотрели на Сабина.
— Ну, Парис-Сабин, кому бы ты отдал яблоко?
— Кто бы стал сомневаться! — с уверенностью произнес Сабин. — Золотое яблоко должно принадлежать прекрасной и таинственной богине Луне.
Широкий, мрачный лоб императора разгладился, в глазах читалось удивление.
— Ты уверен?
— Еще как, император, — дерзко ответил он. — Возможно, ты сделал бы другой выбор, но раз уж я Парис…
— Да-да, хорошо. Возможно, я тоже выбрал бы ее, но тебя это не касается. Ты добровольно вызвался служить на Понтии, ты, трибун Корнелий… Кстати, я помиловал Приска, сегодня утром ему отрубили голову. Люди даже в таких случаях должны чувствовать, что это того стоит — быть преторианцем, пусть речь идет и о собственной казни. Зачем тебе это надо, Сабин? Ты хочешь быть ближе к Ливилле или, может быть, ей удалось передать тебе весточку?
Неподвижные глаза внимательно следили за ним, и Сабин знал, что от них не утаится ни единое движение лица или тела.
— Нет, император, я уже объяснял, что хотел бы этим выразить благодарность за оказанную мне тобой милость в передаче наследства дяди. Мне все равно кого охранять, Ливиллу или Агриппину, я с такой же радостью выполню другое малоприятное задание. Но я не стану от тебя скрывать, что с большим удовольствием остался бы в Риме: я поселился теперь в большом красивом доме дяди, здесь живут мои родители, друзья и подружки…
Калигула зло рассмеялся.
— Только не иди теперь на попятную, трибун! Мне с самого начала понравилось твое предложение, я просто хотел тебя испытать. И скажу почему. Возможно, ты тогда не заметил или уже забыл, как Ливилла рассматривала тебя во время нашей трапезы. Она тихоня, но всегда гонялась за мужчинами, и я имею в виду не только поэта Сенеку. Ты предан мне, Сабин, я это заметил. Ты не из тех Корнелиев, которые делят имущество между клиентами
[11], чтобы избежать ценза, ты на моей стороне, я знаю это со дня нашей первой встречи.
— Ты читаешь в сердцах, император, — скромно произнес Сабин.
— Если бы я умел делать это лучше! — воскликнул Калигула. — Я многого мог бы избежать. Но вернемся к Ливилле. В своих письмах, которые передавал этот подлец, она просила родственников мужа, друзей и бывших клиентов о помощи, чтобы я ограничил срок ее изгнания. Мне, конечно же, известно, что произойдет, если я помилую ее. Она мобилизует всех противников твоего императора, сделает все, чтобы меня уничтожить. Ты не знаешь моих сестер, Сабин: если Агриппина и худшая из них, то и Ливилла не менее решительна. Но я и не подумаю о том, чтобы помиловать этих мегер раньше времени. Возможно, что обстоятельства вынудят меня однажды обеих…
С ухмылкой палача Калигула рассек правой рукой воздух.
— От тебя, Сабин, я не ожидаю, чтобы ты избегал Ливиллы, — совсем наоборот. Но помни, что она подозрительна и у нее острый ум. Не дай себя одурачить! Ты не должен навязываться ей — это разбудит подозрительность Ливиллы. Делай так, будто я послал тебя на Понтию в наказание или по воле настроения. Ты должен вкрасться к ней в доверие, Сабин, это главное. Ты ведь сын издателя Корнелия Цельсия? Лучшего и желать нельзя. Ливилла боготворит поэтов и все, что связано с книгами. У вас будет тема для разговоров на много дней, но не забывай вытягивать из нее как можно больше. Я не хочу знать, что она планирует, поскольку Понтия не лучшее место для замышления заговоров. Мне нужны имена заговорщиков, которых я еще не знаю. Многие из них ускользнули от меня — не сомневаюсь. Эти люди все еще на свободе, плетут новые интриги. Когда они все будут уничтожены, когда у Гидры не останется больше голов, тогда в Риме наступит Элизиум, Сабин, я обещаю тебе. Но до той поры я буду беспощаден, и виновные будут платить жизнью и состоянием — кем бы они ни были!
Возбужденный своей речью, Калигула, как тигр в клетке, принялся метаться от стены к стене, при этом его пестрые шелковые одежды распахнулись и взору Сабина предстали тонкие волосатые ноги императора. Жирное тело, длинная худая шея и бледное лицо с высоким мрачным лбом и неподвижными глазами так отталкивающе подействовали на него, что трибун почувствовал приступ тошноты. Но он радовался, что теперь маска пала и он понял, что движет императором, чего он хочет, чего боится и что планирует.
— Я сделаю все, что в моих силах, но…
— Ты не должен там долго оставаться, — сказал Калигула, — я не хочу, чтобы ты чувствовал себя измученным. В конце концов ты вызвался добровольно, и, поверь мне, я сумею оценить твое рвение. Ты проведешь на острове два месяца, самое большее три. Достаточно времени, чтобы выяснить, доверяет она тебе или нет. Ты молод и красив, Сабин, наверняка у тебя много женщин…
— Но ни одной настоящей, император. Мне не посчастливилось найти такую, как Цезония Августа.
Император польщенно засмеялся.
— Такого счастья на твою долю не выпадет, его суждено испытать только богам, потому что Цезония неповторима — да, она такая единственная. Но это не значит, что другие для меня не существуют. Я могу за день осчастливить пять женщин, даже дюжину — сила богов, ты понимаешь. — Калигула остановился и странно посмотрел на Сабина. — Я говорю с тобой, как с равным. Итак, хватит, пора заканчивать! Ты знаешь, что должен делать. Завтра утром тебя заберут и доставят в Остию, а оттуда на остров.
Сабин был рад, что ему не пришлось целовать ноги императора, что вошло в последнее время в обычай. Все казалось ему странным сном. Император доверял Сабину, даже на какое-то время снял маску и показал свое истинное лицо.
Или это было таким же театральным выступлением, как сцены с переодеванием? Может, он просто заманивал его в ловушку, как многих других, которых хвалил и поощрял, а чиновники в суде между тем составляли на бедолаг обвинительные акты? Но Сабин должен был пойти на риск, как охотник, которому надо очень близко подойти к зверю, чтобы убить его.
Торговец зверями, которому во дворце всегда платили много и в срок, запомнил каждое слово, услышанное на симпозиуме. Он доложил дежурному преторианцу о своих наблюдениях, повторив то, что сказал Папиний:
«Что бы делал Калигула, если б узнал, сколько других мечей и кинжалов ждут его?»
Офицер зафиксировал донос и передал дальше. В конце концов он оказался у Аррецина Клеменса, префекта преторианцев, который, чтобы самому не нажить неприятностей, был обязан дело расследовать, и Секста Папиния арестовали. Юноша запутался в своих показаниях, противоречил сам себе, что становилось все более подозрительным, поэтому о случившемся решили доложить императору.
— Пытать, пока он не назовет имен, и следите, чтобы не умер! — приказал Калигула.
Допрос учинили в застенках Палатина, потому что император хотел сразу быть в курсе событий. Знающие свое дело палачи подняли Папиния на дыбу, ломая суставы. Голова мученика болталась от боли из стороны в сторону, он кричал, стонал, что-то лепетал, но не ответил ни на один вопрос. Тогда второй палач схватился за плеть с вплетенными шипами. Натянутая кожа лопнула уже при первых ударах, заставив Папиния издать жуткий рев. После двадцати ударов его спина и ягодицы превратились в кровавую массу.
— Прекратить! — приказал наблюдавший за допросом преторианец. — Император хочет, чтобы он остался в живых.
— Ну, Папиний, назови имена! Кто держит наготове мечи и кинжалы, ты должен знать. Тебе надо назвать всего пару имен, и мы отвяжем тебя и позовем врача.
От боли Папиний искусал губы и язык, и из его наполненного кровью рта доносилось только неясное бормотание. Они отвязали его, поднесли кружку вина к потрескавшимся губам. С трудом сделал он несколько глотков, вздохнул тяжело и закрыл глаза.
— Ты не спать должен, а говорить! — заорал преторианец и подал знак палачам. Те сразу же подвесили Папиния на дыбу и снова принялись за дело. Юноша теперь только тихо поскуливал, а скоро совсем затих.
— Если вы его убьете, император укоротит вас на голову, — пригрозил преторианец.
Но что было делать? Папиний не желал говорить, поэтому его оставили в покое и доложили императору о положении дел.
— Тогда попробуем по-другому. Арестуйте его отца и доставьте сюда. Как его имя?
— Его зовут Аниций Цереал, император.
Цереала сразу же
привели в пыточную, где он нашел сына в полусознательном состоянии, похожего на кусок разодранного мяса. Он в ужасе отвернулся.
— Я хотел бы поговорить с императором.
Калигула сразу принял его.
— Ну, сенатор, похоже, твой сын вынашивал планы государственной измены. К сожалению, пытка не развязала ему язык, но ты видел, что от него осталось. Боюсь, не много. Ты ведь тоже замешан в заговоре, Цереал? Или сын не посвятил тебя?
Сенатор Аниций Цереал знал, что его будут пытать так же, как сына, и знал, что сил выдержать жуткие пытки у него не хватит. Его приемный сын был все равно потерян, он должен был — если переживет мучения — умереть от меча палача. А остальные, примкнувшие к ним?
Цереал не был ни героем, ни стоиком. Он стал заговорщиком — так он по крайней мере убеждал себя, — только поддавшись уговорам сына, и не понимал, почему должен вместе с другими идти ко дну.
— Ты что, онемел? — прикрикнул на него Калигула.
Цереал поднял глаза, посмотрел в искаженное пороком и обжорством лицо, содрогнувшись от бесчувственного взгляда, и понял, что была одна-единственная возможность выпутаться из этой злополучной истории. Он должен был выдать заговорщиков, предоставив себя воле императора.
— Могу я поговорить с тобой с глазу на глаз, император?
Калигула прогнал всех, и только два германца остались стоять рядом с ним, как две колонны.
Калигула отмахнулся.
— Эти не считаются, они не знают латыни. Итак?
Цереал поставил на карту все.
— Я обо всем расскажу, император, если ты при свидетелях пообещаешь освободить меня от наказания. И еще одно: поскольку я о заговоре только знал, но не принимал участия, преступление мое состоит исключительно в молчании. Ты как отец поймешь, что я не мог заставить себя донести на сына. Я заклинал, его отказаться от этой затеи снова и снова! Но юность безрассудна, и, к сожалению, я не имел успеха. У меня слабое сердце, император, я не перенесу и самой легкой пытки. Тогда ты окажешься снова ни с чем и будешь каждый день бояться за свою жизнь. Поэтому, если я заговорю, то потребую не только безнаказанности, но и высокого вознаграждения, которое позволит мне спокойно и без забот провести остаток дней в моем загородном имении.
— Если ты поможешь полностью раскрыть заговор, я пообещаю тебе при свидетелях безнаказанность и вознаграждение. Сотни тысяч сестерциев достаточно?
— Ты невысоко ценишь свою жизнь, император. Для меня же она бесценна, поэтому будет справедливо, если мы увеличим сумму договора в десять раз. За миллион сестерциев ты узнаешь все.
Калигула уже начал терять терпение, но втайне должен был признать правоту сенатора. Что такое миллион по сравнению с его бесценной жизнью?
— Хорошо, Цереал, я согласен.
Позвали Каллиста, который вместе с писарем составил договор, и все имена стали известны. Преторианцы, не мешкая, рассыпались по всем направлениям, чтобы арестовать изменников. Калигула же честно выполнил все пункты договора, и Цереал получил обещанную премию за предательство.
Арестовали Бетелена Басса, нескольких сенаторов и всадников. Почти все они сразу же признали вину, и только нескольким пришлось «помочь» пыткой.
Калигула праздновал триумф. Победа — победа по всему фронту! Он хотел превратить казнь изменников в массовое зрелище и долго обсуждал это со своими советчиками. Местом проведения казни были выбраны ватиканские сады, куда пригласили очень много зрителей.
31
Дул попутный ветер, и маленький парусник императорского флота летел по волнам, как на крыльях. Для Сабина было загадкой, как такое маленькое суденышко могло отыскать в открытом море крошечный остров? Корабельный префект только рассмеялся, когда Сабин спросил его об этом:
— Да, есть всякие способы, хотя главное, конечно, опыт. Сначала я ориентировался на мыс Кирки, а там поверну по солнцу на юг и буду плыть до самого острова Понтия, где мы тебя и высадим. В тридцати милях от него к востоку лежит Пандатериа — наша следующая цель.
Он знает, что там живет Агриппина, но остерегается произносить ее имя.
— Что ты там будешь делать?
Префект повернул к нему обветренное лицо, ухмыльнулся и пожал плечами.
— Ничего, что бы касалось тебя, трибун.
Сабин хлопнул его по плечу и снова принялся смотреть на воду. Когда вдалеке показался остров, он спросил:
— Где мы причалим?
— С восточной стороны есть маленькая гавань. Там живет только пара рыбаков.
— Какого размера этот остров?
— Где-то пять миль в длину, а пересечь ты его сможешь в самом широком месте за полчаса. И все-таки это счастье быть сосланным сюда, а не на Пандатерию или Синонию: те острова не больше двух акров, за час можно обойти все.
— Спасибо за пояснения. К счастью, я отправился сюда добровольно и долго не останусь.
— Но провести здесь всю жизнь… — префекта передернуло. — Да, ничего хорошего, но пока человек живет…
— …он надеется! — закончил Сабин.
В гавани их уже ждали легионеры, которые, правда, не знали, что им пришлют в начальники трибуна, но рассчитывали получить кого-нибудь вместо Приска.
Слуга помог Сабину надеть броню, шлем и сандалии и проверил быстрым взглядом состояние короткого меча.
— Вот они удивятся, господин, — сказал он, — когда увидят, что на место центуриона прибыл трибун.
— Легионер не удивляется, Руф, а подчиняется, центурион ли его командир или трибун.
— Так точно, трибун!
И все-таки они немало удивились, собравшиеся легионеры. Ни один из них не был здесь добровольно, каждый когда-то проштрафился и под угрозой позорного увольнения из легиона должен был пробыть здесь какое-то время.
Один из солдат вышел вперед и отрапортовал:
— Приветствуем тебя, трибун! Декурион Квинт Кукулл и его двенадцать легионеров построены в честь твоего прибытия!
Сабин подавил улыбку, потому что у слова «Кукулл» было еще значение «дурачок» или «лентяй».
В Риме его познакомили со списком солдат охраны. И напротив имени декуриона он прочитал: «Около пятидесяти лет, мужественный, всегда готов лезть в драку, вспыльчивый, был неоднократно разжалован, в конце концов служил декурионом сирийского легиона. Рекомендовано обращаться жестко, но справедливо».
«Да, — подумал Сабин, — внешность твоя о многом говорит, мой друг». Два глубоких шрама — один ото лба к правой щеке, другой от левой щеки к подбородку — рассекали широкое лицо. Раны эти так искажали его рот, что казалось, будто Кукулл всегда ухмыляется. Его левый глаз был мутным и, по всей вероятности, слепым, правый угрюмо смотрел на Сабина.
В гавани стояли наготове две лошади: для трибуна и для декуриона.
— Могу я спросить, трибун, что произошло с Приском, с центурионом Авлом Приском?
— Конечно, Кукулл, это никакая не тайна. Он был приговорен военным судом к бичеванию до смерти, но император смягчил наказание и приказал отрубить ему голову.
— А я думал, я думал… — бормотал декурион.
Но Сабин не обратил на это внимания. Дорога стала подниматься вверх, пока они не достигли равнины, обрамленной скалами, на которой в отдалении друг от друга стояли два дома. Декурион показал на них рукой.
— В том, который поменьше, живет ссыльная Ливилла, большой дом — это наша казарма, за ней — отсюда его не видно — еще один маленький дом, где жил центурион. Догадываясь о твоем прибытии, я распорядился навести там порядок.
Оставшиеся две дюжины легионеров выстроились перед казармой и приветствовали своего нового начальника.
«Сорок человек для охраны одной женщины», — подумал Сабин, удивляясь, какой опасной считал Калигула сестру.
Он спрыгнул с лошади и прошелся вдоль ряда солдат. В основном это были заслуженные, видавшие виды легионеры, по чьим лицам читались истории целой жизни. Вот, например, хитрый лис с маленькими бегающими глазками, который каждый раз все же оказывался немного глупее начальников, за что и расплачивался. А другой с его отсутствующим взглядом и недоверчивым лицом походил на лодыря, всегда готового увильнуть от любого дела, в чем его и уличали. Дальше стояли мелкие воришки, вечно недовольные и обиженные мятежники, драчуны и пьяницы.
Сабина проводили до его дома, который выглядел весьма запущенным. Внутри стоял запах пыли, пота и отходов.
— Распахни ставни, Руф, пусть вонь выветрится, а потом приготовь мне ванну.
Декурион ухмыльнулся, и Сабин хотел уже накинуться на него, но остановился: возможно, причиной ухмылки были шрамы.
— Ты свободен, декурион. Я позову тебя позже.
Прошел почти час, пока Руф нагрел достаточно воды, чтобы наполнить помятую медную ванну. Со вздохом погрузился Сабин в уже почти остывшую воду и принялся себя намыливать. Воняло страшно, и он с отвращением понюхал серый жирный кусок мыла. Да, жизнь Приска на острове была далека от цивилизованной. Неудивительно, что он мечтал о лучшей, достичь которую ему должна была помочь Ливилла. Пока Руф вытирал его, Сабин рассуждал вслух:
— Парни ждут, что я их построю, выступлю с короткой речью, пригрожу, назначу наказания, а потом все опять пойдет своим чередом.
— Да, трибун, в частях так обычно и бывает.
Сабин засмеялся:
— Откуда знать это такому зеленому юнцу, как ты? Я уже служил в одиннадцатом легионе в Эфесе, когда ты еще сосал материнскую грудь.
— Так точно, трибун.
В этот момент Сабин вдруг осознал, что вся его военная жизнь была ошибкой и всегда диктовалась обстоятельствами, которые ничего общего не имели с карьерой. От скуки он начал тренироваться с Хереей, и это было началом. Потом, поскольку Херея стал его другом, он подружился и с его занятием, с военным делом, а когда надо было разыскать Елену, сделал следующий шаг. Сабин стукнул себя кулаком по лбу. Казалось, что Марс положил на него глаз и не дает снять броню и шлем. Он уже почти сделал это, но тут умер дядя, и он решил отомстить за его насильственную смерть.
А теперь прибыл сюда, должен был разыгрывать начальника и командира для кучки опустившихся солдат, показывать им, что такое римский трибун и что шутки с ним плохи. Но этим он займется завтра, а сейчас надо было навестить Ливиллу. Руф хотел побежать за ним, как преданная собачонка, но Сабин остановил его.
— Иди в казарму, Руф, и скажи остальным, что мне не нужно сопровождение.
Небо помрачнело, поднялся холодный резкий ветер, куда ни кинь взгляд — кругом безрадостная картина. На маленькой скалистой площадке чахла пара иссушенных летним солнцем кустов, отчаянно цепляющихся за скалистую поверхность. К югу открывался вид на долину с редкими виноградниками, но на расстоянии они казались такими же серыми, как сумрачное небо и бескрайнее море.
Тропа к дому Ливиллы немного поднималась вверх, и он прошел уже почти половину, когда позади послышалось покашливание. Сабин обернулся и увидел декуриона, приближавшегося к нему торопливой походкой.
— Трибун, трибун… — прохрипел запыхавшийся Кукулл, — тебе, наверное, незнакомы здешние правила, но никому независимо от ранга не разрешается разговаривать с пленницей один на один, никому…
— Декурион! — рявкнул Сабин. — Ты обязан стоять по стойке смирно, когда обращаешься ко мне! Кроме того, меня не интересуют твои правила! Уже давно существуют другие, о которых мне сообщил император лично. Завтра на утренней перекличке вы все о них узнаете. Ты свободен!
Единственный глаз декуриона светился ненавистью, но он выполнил приказ и отрапортовал:
— Слушаюсь, трибун!
Охрана у двери в дом с любопытством разглядывала Сабина.
— Я ваш новый начальник, трибун Корнелий Сабин. Завтра на перекличке вы узнаете о новом порядке. Пока я разговариваю с узницей, прогуляйтесь вокруг дома на расстоянии не меньше тридцати локтей. Понятно?
— Понятно, трибун!
Сабин постучал в обитую железом дверь, и она приоткрылась.
— Кто это? — услышал он голос из глубины дома.
— Трибун Корнелий Сабин, госпожа, назначенный императором на место Приска. Могу я войти?
— Пусть войдет, Миртия!
Рабыня пропустила его в дом. Небольшое помещение было уютно обставлено простой мебелью; первое, что бросалось в глаза, — полки с книгами.
— Да, ты устроила здесь настоящий кабинет ученого, госпожа.
Ливилла сидела у окна, разглядывая гостя.
— Мы случайно не знакомы, трибун?
С гладко зачесанными волосами, в простом платье, Ливилла едва ли выглядела привлекательной, но ее большие, умные глаза излучали силу и самоуверенность.
— Не то чтобы знакомы, мы встречались за обедом у императора.
— Ах да, тот самый молодой, старательный трибун, который так хотел на службу к императору.
— Если у тебя сложилось такое впечатление, госпожа…
— Здесь нет никакой госпожи, трибун, а только пожизненно сосланная Юлия Ливилла, которая проклинает свою судьбу за то, что родилась сестрой чудовища.
Сабин не стал развивать тему.
— Возможно, ты бы с большим удовольствием стала моей сестрой? Мой отец хранитель библиотеки, и такая любительница чтения, как ты, была бы для него желанной дочерью.
Ливилла улыбнулась, и показалось, будто лицо ее озарил луч света.
— Ах, трибун, я бы с радостью на это согласилась, тогда мне бы не пришлось сидеть здесь. Ты разговариваешь со мной один, а это запрещено. Не боишься, что император заподозрит тебя, как Авла Приска? Кстати, что с ним стало?
— Пепел, — кратко ответил Сабин.
— Можно было и не спрашивать. Что ж, Сабин, ты все исполнишь лучше, как верный слуга своего господина.
— Надеюсь, Юлия Ливилла. Я могу сообщить тебе, что император проявил милость и изменил строгие предписания. Ты можешь покидать дом, когда захочешь. Охранники будут сопровождать тебя, но на расстоянии. Мне разрешено навещать тебя и разговаривать с тобой, когда ты захочешь, а также передавать твои письма, которые я прежде должен тщательно проверять. Если тебе нужна еще одна служанка…
— Нет, моей верной Миртии мне достаточно. Все равно следующая служанка будет шпионкой. Но все же братишка здорово облегчил мне существование — вопрос только, с какой целью. Удовольствие он вряд ли хотел мне доставить. Кстати, как идут дела у божественного повелителя мира, с которым Юпитер говорит, как другие со своим поваром?
— Сенат в страхе дрожит, народ радуется.
— Ему плохо придется, когда однажды задрожат все.
— У тебя есть еще вопросы или пожелания?
— Нет, трибун, я рада, что ты здесь. Приск был глупее и скучнее тебя; он заслужил свое место в урне.
— Возможно, ты права, Юлия Ливилла, я не знал его. Можно, я завтра навещу тебя в полдень? Мы могли бы вместе прогуляться.
— Хорошее предложение, трибун. Итак, до завтра!
«Она скучает и рада любой перемене, — думал Сабин. — Конечно, она хочет прощупать испытать меня, а я ее. — Только не перестараться, — принял он решение. — Потребуется время, чтобы сломать ее недоверчивость и дать понять, что мы оба хотим одного».
Заговор Папиния страшно взволновал императора; даже когда он был раскрыт и все участники схвачены, он долго не мог успокоиться. Если личные мотивы Агриппины и Лепида были ясны, то причины нового заговора оказались для него непостижимы. Они признались, что хотели предотвратить превращение принципата в монархию, потому что он, Гай Цезарь, ведет себя как настоящий монарх, который ни с чем и ни с кем не считается, а сенат превратил в стадо угодливых подпевал.
Калигула не понимал этих людей. Разве сенаторы при Августе и Тиберии не были послушными помощниками принцепса? Это Август, его высокочтимый предшественник, отобрал власть и значение у сената, которыми они владели в дни Республики, а он, Гай Цезарь, просто продолжил традицию. Каждый знал, что только так можно было предотвратить гражданскую войну, потому что сенаторские семьи постоянно враждовали между собой, а поле их битвы называлось Римом. Основанный Августом принципат положил этому конец раз и навсегда. Такие аргументы представил Калигула в монологе с самим собой, а Цезония была его единственной молчаливой слушательницей.
— Они обвиняют меня в том, что я расточитель, растрачиваю государственную казну на личные цели. У императора не может быть личных целей! Если я строю себе то тут, то там виллу, то для того, чтобы придать еще больший блеск Римской империи: ведь любому ребенку понятно, что я не могу одновременно в них во всех жить. Это безмозглое стадо баранов не понимает значения символов. Если я трачу на государственный торжественный обед пару миллионов сестерциев, то с той же целью: я демонстрирую вассалам мощь и блеск империи, перед которой они должны трепетать в страхе! Трепетать и платить, да! Я держу империю, не даю ей развалиться — я, я, я, принцепс!
Цезония рассматривала себя в зеркало, слушая Калигулу.
— Но мне этого объяснять не надо, любимый. Я знаю, что ты прав, и многие, возможно, даже гораздо больше людей, чем ты думаешь, к счастью, тоже это знают.
Калигула на секунду остановился и снова забегал из угла в угол.
— У римских патрициев, похоже, короткая память. Они что, хотят вернуть времена, когда старый, озлобленный император сидел на Капри, а Сеян размахивал над Римом кровавым бичом? Я, во всяком случае, не собираюсь уступать этой челяди, пусть они замышляют еще сколько угодно заговоров.
Гнев оживил его неподвижные глаза, бледное лицо раскраснелось.
— Иногда мне кажется, что всех их подстрекают сверху, чтобы я не знал покоя, чтобы всегда нуждался в них.
— В ком — в них?
Калигула зло рассмеялся.
— Кто же еще? Толстый Каллист и Клеменс, префект преторианцев.
Он остановился и стукнул себя по лбу.
— Конечно, я же хотел допросить обоих и сделаю это немедленно.
Он стремительно вышел. По лицу Цезонии скользнула улыбка. Каким важным казался он себе, как трясся за свою жизнь. Для нее существовали только здесь и сейчас. Фортуна капризна, и Калигула тоже. Если он прогонит ее завтра, как Орестиллу или Павлину, то она, во всяком случае, хотела бы в полной мере насладиться статусом Августы. Но беспокоиться было нечего: она была нужна ему, как растению вода, а рабу плетка. Она могла быть довольной, и таковой она и была.
На следующее утро Каллисту и Клеменсу передали приказ явиться к императору. Он принял обоих восклицанием:
— Вот он я и отдаю себя в ваши руки! Если я заслужил смерть, так убейте меня. Но тогда я паду по собственной воле, а не жертвой тайного заговора.
Калигула вырвал у одного из германцев меч и бросил его к ногам Клеменса, охране же приказал выйти.
— Итак, мы одни. Клеменс, тебе надо только поднять меч и нанести удар, если считаешь, что я достоин смерти. Вы оба мои самые близкие доверенные, и если уж принять смерть, то от вас. Или вам не хватает смелости? Тогда я сделаю это сам, но с вашего согласия.
Он поднял меч и приставил острие к груди. Каллист знал, что все это дешевый спектакль, и у них не будет возможности уйти. Германцы за дверями тут же изрежут их на куски. И Калигула понимал, что они знают это.
«Иногда тебя совсем несложно раскусить, Сапожок, — думал Каллист, — и что тебе кажется таким хитрым и умным, на самом деле по-детски глупо и театрально».
Клеменс не выказывал своих чувств, но в голове его промелькнули похожие мысли: если он сейчас воткнет меч себе в грудь — а ведь какая заманчивая картина, — они не смогут живыми покинуть дворец.
И они сделали единственно правильное в их положении — упали перед императором на колени, целуя его руки.
— Кем бы мы были без тебя? — воскликнули они в один голос. — Только благодаря тебе мы сильны и пользуемся влиянием. Да подарят тебе блаженные боги долгую жизнь!
— Встаньте! Я знал, что могу на вас положиться. Подготовьте в ближайшие дни казнь изменников и постарайтесь, чтобы весь Рим надолго запомнил ее.
Между праздником жертвоприношения Янусу и Юноне 1 октября и посвященным Юпитеру праздником вина 11 октября никаких религиозных торжеств в Риме не проходило. Поэтому Калигула передвинул казнь на 6 октября, желая превратить ее в предупреждающее зрелище с большим числом участников. Плебеи, конечно, исключались, ведь они явились бы просто развлечься и сделали бы неправильные выводы.
Нет, на эту казнь он пригласил консилиум сената, представителей самых значительных патрицианских семей и еще ряд персон, чье присутствие считал необходимым.
О желании явиться на казнь заявила и Цезония, известная пристрастием к жестоким играм, будь то травля зверей, бои гладиаторов или пытки и казни, что так ценил в ней Калигула, ведь ей не приходилось ради него притворяться: их вкусы совпадали.
Ватиканские сады тянулись вдоль Тибра от мавзолея Августа на запад и с древних времен являлись собственностью императорской семьи. Калигула приказал построить там стадион, дорожку для скачек и другие спортивные сооружения. Там же возвышался и обелиск из Гелиополя
[12], для перевозки которого пришлось строить специальный корабль.
Здесь на закате солнца должна была состояться расправа над заговорщиками, и преторианцы с факелами окружили императорскую ложу и предназначенное для казни место. После того как все зрительские места были заняты, прошло добрых полчаса, прежде чем раздались фанфары и появился император с императрицей, сопровождаемые друзьями и придворными, среди которых были Геликон, танцор Мнестр, Каллист, Азиатик и придворные дамы Цезонии. Затем ввели приговоренных, закованных в тяжелые цепи. Секста Папиния пришлось нести, настолько он был плох. За ним появились Басс, трое сенаторов и еще дюжина так или иначе причастных к заговору. Для каждого вбили в землю столб, к которому потом привязали за руки. Герольд императорского суда вышел вперед и зачитал приговор:
— Все обвиняемые признаны государственными изменниками за участие в заговоре против императора и приговорены к бичеванию и обезглавливанию.
Тут Калигула не смог больше сдерживать себя и, вскочив, заорал со своего места:
— Ну что, дело того стоило? Вы думали, что легко убить императора, вы — трусливые и коварные подлецы? Вы хуже черни, вы отбросы человечества! Теперь вам придется почувствовать на собственной шкуре, к чему приводит предательство принцепса!
Он дал сигнал и, тяжело дыша, снова опустился на место. С приговоренных содрали одежду, и за каждым встал преторианец с тяжелой плетью. Потом раздались удары по обнаженным спинам и послышались первые стоны и крики, в то время как Калигула злорадно смеялся.
— Вот они, звуки прелестной музыки! Бейте крепче, чтобы ваши инструменты звучали лучше. Что там с Бассом, почему я не слышу ни звука?
Перед этим целый день лил дождь, и преторианец, который занимался Бассом, все время поскальзывался. Калигула заметил это и крикнул:
— Подложите ему под ноги одежду, чтобы он крепче стоял.
Солдату бросили свернутую тогу осужденного, и он принялся стегать с большим рвением.
Кассий Херея вместе с другими трибунами стоял у ложи императора и наблюдал за извивающимися в мучениях обнаженными телами, на которых тяжелые кожаные плети оставляли кровавые борозды. Картина не была новой для Хереи, ведь в легионе ему много раз приходилось видеть бичевания. Но причиной всегда бывали конкретные проступки, а число ударов ограничено и известно заранее. Здесь же били до потери сознания. Кроме того, он вообще сомневался в вине некоторых осужденных. Как долго еще будет продолжаться кровавая пляска? И почему преторианцы должны были работать палачами? Потому что его, главного палача, все сложнее было удовлетворить.
Тут и там потерявших сознание снимали со столбов и укладывали на землю. Потом им давали нюхать крепкие эссенции, чтобы они пришли в себя и прочувствовали свой конец. Вот уже несколько раз Калигула напоминал палачам:
— Они должны чувствовать, как умирают! Я не желаю легких смертей!
Потом замученных передали в руки других преторианцев, натренированных в казнях подобного рода, которые сильными ударами стали отделять головы от истерзанных тел. Когда дошла очередь до Секста Папиния, привели его отца, купившего жизнь предательством.
Император прокричал ему:
— Встань впереди, Аниций Цереал, чтобы лучше видеть, как умирает сын.
Палач поднял меч, и Цереал закрыл глаза, но Калигула заметил это.
— Стойте, так не пойдет! Ты раскрыл заговор и должен получить удовольствие, наблюдая за справедливой карой.
Сенатор вновь открыл глаза и увидел, как опустился меч, увидел кровавое изуродованное тело своего сына и резко отвернулся, игнорируя слова императора.
Калигула злорадно смеялся.
— Отпустите его! Пусть наслаждается своей предательской наградой и радуется купленной смертями жизни.
А потом наступила тишина. Мерцающий свет танцевал над телами казненных. Земля вокруг столбов была истоптана и пропитана кровью.
Император поднялся.
— Теперь я чувствую себя лучше, — крикнул он. — Такой акт возмездия оставляет приятное ощущение. Император исполнил свой долг, Рим спасен. Посмотрим, помирюсь ли я с сенатом. Во всяком случае, я злюсь теперь лишь на немногих.
Сенаторы молча опустили головы. Кого он имел в виду? Кому суждено испытать императорский гнев? И страх, постоянный спутник достопочтенных отцов, так и остался, но каждый надеялся, что ему повезет больше других.
Когда Калигула поднимался на носилки, взгляд его упал на Херею.
— Смотрите-ка, наша Венера в броне! Не слишком ли пострадала твоя нежная душа от увиденного, трибун? Если да, то я мог бы одеть тебя в женское платье и передать придворным дамам моей Цезонии. Правда, тебе, с твоим нежным голоском, будет нелегко перекричать ее бас.
До этого момента свидетелями унижений Хереи были только его товарищи — сегодня же его страдания стали достоянием всех.
— Я даю тебе три дня отдыха, мой сладкий зайчик, чтобы ты пришел в себя от пережитого.
Император со смехом уселся на носилки. В оглушенном от стыда и гнева мозгу солдата молнией пронеслось: «Смерть! Ты заплатишь за эти слова жизнью, принцепс, сегодня палач нашел своего палача».
В сенате гадали дни напролет, какую же честь оказать императору, чтобы поздравить с раскрытием заговора. Наконец одному сенатору пришла в голову счастливая идея подтвердить божественность императора указом и причислить его к римским богам. В дополнение было решено построить новому божеству храм с собственным жречеством и ритуалом. Император милостиво принял решение к сведению и заявил, что удивляется, почему этого не случилось раньше. Он сразу же почувствовал возможность извлечения из идеи денег и издал распоряжение, согласно которому вступление в жреческую коллегию было связано с денежным пожертвованием в размере от пяти до десяти миллионов сестерциев — в зависимости от ранга и состояния будущего жреца. Первым кандидатом по воле императора оказался его дядя, Клавдий Цезарь, чей «добровольный» взнос должен был составить восемь миллионов.
Вконец растерявшийся Клавдий не был настолько богат, чтобы сразу же предоставить требуемую сумму. Он отправился к Каллисту и пожаловался на свое несчастье.
— Восемь миллионов! Где же мне их взять? У меня есть только дом в Риме да вилла на Тибре. Могу я просто отказаться?
Каллист вздохнул и сочувственно улыбнулся.
— Отказаться? Нет, я бы не советовал. Это может навести императора на прежние мысли, что самые лучшие родственники — мертвые родственники. Ты должен раздобыть эти деньги, тут ничего не поделаешь. И я кое-что придумал. Собери вместе все, что есть в твоих домах, без чего можно обойтись: мебель, лампы, статуи, вазы — и выстави на продажу. Я между тем распространю слух, что все это — ценности из императорского дворца, и подсажу пару человек на аукцион. Они должны будут в случае низких предложений просто поднимать руку, а если вещь достанется им, то оплачу ее я, потому что уверен, что в недалеком будущем ты мне все вернешь сполна.
Лицо Клавдия исказила очередная гримаса, он вздохнул и произнес:
— Ты настоящий друг, Каллист. Без твоей помощи меня бы, наверное, уже не было в живых. Надеюсь, что смогу с тобой однажды расплатиться.
Каллист поднял руки.
— Как бы мы жили без надежды? К сожалению, мы не можем делать деньги из воздуха, как наш божественный император, поэтому должны уметь помочь себе по-другому.
Сенаторы не забыли, что сказал император в ватиканских садах после массовой казни: «Посмотрим, помирюсь ли я с сенатом. Во всяком случае, я злюсь теперь лишь на немногих».
Тут, конечно, возникал тревожный вопрос: кем были эти немногие? Просочились сведения, что один из осужденных назвал под пыткой одно имя, а именно имя сенатора Скрибония Прокула. Но он уже очень давно исчез из Рима. Пытали раба Прокула, но тот сказал лишь, что его господин уехал по срочному делу в свое имение в Апулию. Поскольку это произошло еще до раскрытия заговора, бегством его отъезд назвать было нельзя, да и других доказательств вины Скрибония тоже не нашли. Отправленные в Апулию преторианцы нашли гнездо пустым. От мажордома они узнали, что Прокул вот уже пять дней как отбыл обратно в Рим. И ничего не подозревающий сенатор стал считаться виновным уже потому, что его разыскивали, но не могли найти.
Император едва знал этого Скрибония, но чувствовал к нему страшную ненависть и желание поскорее уничтожить, будто тот был единственным нарушителем его душевного покоя. Но Калигула не хотел нового процесса: он решил поручить сенату освободить его от этого предателя.
— Это как с воспаленной раной: чтобы спасти все тело, надо отрезать больную руку или ногу.
На этот раз все должно было произойти в курии, на глазах сенаторов. Когда Скрибоний в соответствии с обычаем и традицией сообщил о своем прибытии и хотел на следующий день занять место в сенате, Калигула приказал по сигналу напасть на него и убить.
Император нанял вольноотпущенника Протогенеза только для того, чтобы тот вел черные списки будущих приговоренных и периодически вносил поправки. Он сидел у входа в курию, в то время как сенаторы робко приветствовали всем известного учетчика смертников и быстро проходили на свои места. Когда появился Прокул, Протогенез сказал ему полным упрека голосом:
— Меня-то ты приветствуешь, но ты ненавидишь императора!
После этих слов убийцы набросились на Прокула и изрезали его своими ножами почти на куски. Особенно усердные сенаторы подбегали и кололи своими грифелями тело умирающего, который так и не понял, почему его убили, как дикого зверя на арене. Вскоре появился и император, к ногам которого сенаторы с гордостью подтащили кровавые останки несчастного. Калигула довольно кивнул и провозгласил:
— Можете считать, что я помирился с вами! Надеюсь, из ваших рядов выкорчевано все, что могло бы нанести вред империи.
Калигула снизошел до примирительного жеста, освободив обвиненного ранее в оскорблении величия консула Помпея Пенна. Его возлюбленную Квинсилию наградили за молчание под пыткой восемью тысячами сестерциев. Когда уже поседевший консул хотел поцеловать в знак благодарности руку императора, Калигула убрал ее и вытянул ногу.
«Он остается верным себе», — думал Валерий Азиатик, который оказался свидетелем этой сцены. Азиатика, по-прежнему входящего в узкий круг приближенных императора, никто не заподозрил в причастности к заговору, и совершенно справедливо, поскольку он, хоть и знал о нем, только благосклонно наблюдал издалека. Азиатик считал богов изобретенной человеком фикцией, потому что Олимп, по его мнению, являлся лишь отражением земных отношений, и никто из богов не мог служить образцом, так же как и никакое религиозное или философское видение мира не могло быть поднято до высот идеала. Но он по-прежнему придерживался стойкого убеждения, что Рим не мог позволить долгое время выносить на троне мнящего себя божеством полусумасшедшего.
Поэтому как-то само собой получилось, что он присоединился к кругу сенатора Анния Виниция, который с одобрения Каллиста и Клеменса готовил новый заговор. Эти люди не были идеалистами, поскольку в основе их действий лежали конкретные мотивы. Но ни планов, ни договоренностей, как надлежало вскрыть гнойный нарыв, пока не существовало.
Даже в страшном сне не могло присниться Виницию, Каллисту, Клеменсу и всем остальным, что кому-то из них придется убить Калигулу собственными руками. Все они уже давно позаботились о будущих временах, надежно припрятав нажитое.
На одном симпозиуме циничный Азиатик высказался довольно ясно по этому поводу:
— Мы все желаем нашему Сапожку хорошего палача, и в Палатине не сыщется ни одного человека нашего ранга, который бы думал по-другому, но никто не желает этим палачом быть. Кому хочется войти в историю убийцей императора? Убивать можно только ему, нашему жестокому богу, для которого понятия справедливости давно не существует. Он заменил его новым, обозначающим его высшую добродетель — да, так он считает! — понятием «бесстыдство». Сам себя он видит мерилом всех и всего, и даже перед нашими великими поэтами не сдерживает своего спесивого высокомерия. Он не стесняется называть Вергилия невежественным, а историка — Ливия болтуном и пройдохой.
— К сожалению, это недостаточное основание для убийства, — сухо заметил Клеменс.
Азиатик засмеялся.
— Конечно, нет, поскольку всем вам кажется достаточным основанием то, что он всех нас схватил за горло. И могу только согласиться. Это даже противоестественно — позволить угрожать себе и, возможно, даже лишить себя жизни такому низкому, жалкому человеку. Это все равно как если бы вонючая крыса нападала на благородного скакуна.
Виниций от души рассмеялся.
— Во имя богов! Ты сравниваешь нас со скакунами. Метафору с крысой еще можно назвать меткой, но скакуны…
— Большинство сравнений всегда неудачны, мне просто ничего другого не пришло в голову. Но вернемся к теме: кто это сделает? Каждый день, проведенный в бездействии, может привести нас на Гемониевы ступени. Никто этого не хочет, но что делать? Собственно, продвижение дела целиком зависит от тебя, Клеменс. Ты единственный, кому позволено носить в его присутствии оружие, и Калигула до сих пор считает тебя своим доверенным другом и слугой.
— К сожалению, все изменилось, — поспешил защитить себя Клеменс. — С того момента, как он разыграл перед нами с Каллистом сцену самоубийства, он больше не подпускает меня близко и делает все, чтобы натравить нас друг на друга. Подтверди, Каллист.
Толстый секретарь согласно кивнул:
— Все точно. Не проходит и дня, чтобы император не сделал о Клеменсе какого-нибудь пренебрежительного замечания. Потом он обычно выжидает моего одобрения, которое я, конечно же, высказываю, чтобы не привести его в бешенство.
Клеменс добавил:
— А мне он постоянно жалуется, что на Каллиста больше нельзя положиться, и интересуется, кого бы я предложил на его место. Пока мне удавалось отговориться тем, что императорский секретарь и префект преторианцев выполняют настолько разные задания, что мой совет окажется, скорее всего, никчемным.
Виниций воскликнул:
— Но как раз так он и добьется, что мы объединимся против него, вместо того чтобы возненавидеть друг друга и шпионить за всеми. Кроме Геликона и переписчика, кандидатов в покойники, у Калигулы больше не осталось преданных людей во дворце. Оба знают, что падут вместе с ним, поэтому всегда будут его поддерживать.
Он обратился к Клеменсу:
— Вам, преторианцам, легче. Вы всегда можете сослаться на приказ, и следующий император поспешит прежде всего осыпать вас деньгами и подарками.
— Может быть, но за это нам приходится выполнять всю грязную работу, которой никто не позавидует, — спокойно ответил Клеменс.
Каллист согласно кивнул.
— Верно, и мы снова коснулись нашей темы: кто выполнит всю грязную работу? Хотя я бы скорее определил это как героический подвиг освободителя.
Вопрос был адресован Клеменсу, который вдруг стукнул себя кулаком по колену:
— Конечно! Почему я сразу о нем не подумал? Я знаю одного подходящего человека, но имя его называть не хочу, потому что пока не уверен в его согласии. Обо всем расскажу вам в ближайшие дни.
С тех пор как император женился, он не часто беспокоил Пираллию. Она с его согласия переселилась из дворца в маленький старый дом недалеко от форума Цезаря, который приобрела на подаренные Калигулой деньги. Прежнее ремесло Пираллии пришлось оставить, так как это было желанием императора. Он сказал, ей с серьезным видом:
— Кто хоть однажды ложился в постель с богом, не должен осквернять себя связями с обычными людьми.
Иногда ее приглашали на пиры и праздники, где она играла на своей лютне и исполняла дерзкие песенки. Если иногда после этого Калигула брал ее в свои покои, так только для того, чтобы скоротать бессонные ночи. Он метался по своему обыкновению из угла в угол и говорил, говорил без остановки, перескакивая с одной темы на другую. При этом он беспрестанно пил, пока, утомленный речами и вином, не засыпал далеко за полночь. Пираллия же, следуя его желанию, должна была оставаться рядом, и она не могла не любить этого неугомонного, одержимого, жестокого и сумасшедшего человека. Всему, что он совершил, она находила оправдание, а однажды даже сказала прямо в лицо:
— Я верю, Гай, что большинство нарушений права и жестокостей, в которых тебя винят, вынашиваются твоими приближенными во дворце. Они подсовывают их тебе, чтобы укрепить свое положение, получить собственную выгоду.
Калигула ответил на удивление спокойно:
— Не строй иллюзий, Пираллия. Ты представляешь меня — не знаю почему — в гораздо более мягком свете. Но я не жесток и не нарушаю право, потому что просто не могу. Я император, Пираллия, а императору позволено все. Что он делает, то и справедливо, а его жестокость — это только предусмотрительность, чтобы отпугнуть других.
Когда Пираллия в одну из таких ночей тихонько освободилась из объятий спящего Калигулы и вышла, ей повстречалась Цезония в сопровождении придворных дам. Понятие ревности было императрице чуждо, и она никогда не обращала внимания, с кем Калигула отправляется в постель. Пираллия ей даже нравилась, потому что никогда не пыталась оказывать на императора влияние. И она крикнула ей, приветливо улыбаясь:
— Пираллия! Приятную ли ночь ты подарила императору? Какое было настроение у нашего господина?
— Была ли ночь для него приятной, я не знаю — император говорил три часа подряд, а потом уснул на моем плече. У меня затекло все тело от неудобного положения. Я получила мало удовольствия…
Цезония громко рассмеялась.
— Мне это хорошо знакомо. Хочешь позавтракать со мной?
От этого предложения Пираллия отказаться не могла, тем более что в животе у нее действительно было пусто. Они устроились в маленьком обеденном зале, и Цезония выпроводила свою свиту за дверь.
— Эти гогочущие гусыни постоянно бегают за тобой, нуждаешься ты в них или нет.
— Мне бы это тоже было в тягость, и я рада, что тогда отговорила императора от его планов жениться на мне.
Цезония посмотрела на нее скорее со смехом, чем удивленно.
— Что? Он хотел на тебе жениться?
— Да, на мне, на проститутке, если ты это имеешь в виду.
— У меня нет никаких предубеждений, Пираллия, — желая успокоить ее, произнесла Цезония. — Когда бедная девушка продает себя богатому жениху, она ведет себя, собственно, как проститутка. Я ничего не имею против таких, как ты. В этом мире мужчин женщины должны помнить о своей выгоде, и тем из них, что стремятся наверх, нужны мужчины.
— Трудно не согласиться. Тебе, во всяком случае, удалось то, чего не смогла добиться ни одна твоя предшественница: ты удержала императора. Не могла бы ты повлиять на него, чтобы он стал немного осторожнее? Предусмотрительнее?
Я имею в виду в обращении с людьми. Боюсь, что двумя заговорами дело не кончится, что императору по-прежнему грозит опасность.
Порочный рот Цезонии растянулся в омерзительной ухмылке.
— Тут ты стучишь не в те двери. Мне он нравится таким, какой есть, и я бы не хотела, чтобы он менялся. Но, к счастью, надежды на такую перемену не существует. Я знаю, как они его ненавидят и боятся, и не верю, что кто-то еще отважится затевать против него заговоры. Ночь в ватиканских садах была для всех хорошим уроком.
— Такие люди найдутся.
— Я не боюсь.
— Я боюсь за него…
— Если он падет, то и я вместе с ним, но не в моих правилах забивать себе голову мыслями о завтрашнем дне. Ты любишь его, Пираллия, не так ли?
— Да, а ты?
— Я не боюсь его и думаю, что это он ценит гораздо выше.
— Я бы хотела, чтобы во всем Риме у людей не было причин его бояться… — тихо сказала Пираллия.
32
Уже при первой встрече Сабин догадался, что с Квинтом Кукуллом отношения у них будут непростые. Между делом он познакомился поближе с историей его долгой военной жизни.
Начало у нее было многообещающим. Кукулл родился в Галлии, в семье богатого винодела, но занятие отца его не привлекало, поэтому, предоставив права наследия младшему брату, он вступил в галльский легион. Голова у Кукулла была светлая, он умел хорошо читать и писать, что помогло ему быстро дослужиться до центуриона, хотя Кукуллу и приходилось постоянно расплачиваться за свой вспыльчивый драчливый нрав. Спину его так же густо покрывали шрамы, как борозды — свежевспаханное поле, ведь у него был самый длинный штрафной список в легионе. Будучи центурионом, он ударил трибуна, с трудом избежал свидания с палачом, был приговорен к бичеванию, после чего понижен в ранге до простого солдата и переведен в африканский легион. Там он неоднократно проявлял себя в подавлении мятежных берберских племен, потерял глаз и получил в лицо два удара мечом. Тогда его повысили до декуриона, командира эскадрона всадников. В жарких сухих африканских землях он пристрастился к вину и играм. Однажды, играя в кости, Кукулл решил, что его обманули, напал на своего дружка и едва не лишил того жизни, после чего драчуна отправили на неопределенный срок охранять ссыльных. Но не прошло и недели, как он не поладил с Сабином.
Кукулл был жестким и весьма нелюбимым начальником и часто так донимал своих людей, что те уже подумывали о его убийстве. Кроме как стоять на карауле, других задач у солдат на Понтии не было, но Кукулл «ради дисциплины» безжалостно дрессировал своих людей. Он заставлял их упражняться в борьбе, по нескольку раз обегать остров, шагать строем, и горе тому, кто пытался отлынивать или недостаточно старался. Плеть редко оставалась висеть на стене, поскольку легионерам приходилось тяжело расплачиваться
за испорченную жизнь Кукулла. Удары, полученные за время службы, он сторицей возвращал подчиненным, поэтому на острове всегда были три-четыре человека, которые, лежа на животе, ждали, когда затянутся раны.
Узнав, что происходит, Сабин приказал декуриону явиться к нему.
— Декурион, без штрафов, конечно, не обойтись, это я знаю. Что людей, включая тебя, перевели сюда не без причины, мне тоже известно. Но я думаю, что ты слишком вольно размахиваешь плетью, поэтому в будущем хотел бы, чтобы ты докладывал мне заранее о любом, пусть самом незначительном, наказании. Понятно?
Страшно было смотреть, как все тело декуриона надувалось и приподнималось от гнева. Он знал, что трибуну нельзя безнаказанно противоречить, но сейчас это знание боролось с его мрачной, вспыльчивой натурой. Сабин догадывался, что происходит у него внутри, и предостерегающе положил руку на меч.
— Так, я жду!
— Так точно, трибун! — с трудом выдавил из себя Кукулл и развернулся кругом.
— Стой, декурион, я еще не отпустил тебя.
Кукулл повернулся к нему лицом и встал по стойке «смирно». Похоже, он сумел взять себя в руки, но правый глаз просто искрился от злобы и ненависти.
— Если ты, против ожидания, поведешь себя неразумно, не выполнишь мой приказ, я уже сейчас заявляю о твоем возможном разжаловании в солдаты, каковым ты и останешься до конца дней.
— Так точно, трибун!
— Свободен!
Между тем прошел почти месяц, а Сабину не удалось ни на йоту сблизиться с Ливиллой. Казалось, она играла с ним в кошки-мышки: только позволит себе неосторожное высказывание и тут же утверждает обратное. Понятно, что женщина полагала, что Сабин прислан шпионить за ней, да и пусть бы так, ведь Калигуле он всегда мог рассказать какую-нибудь сказку. Но он принял решение убедить Ливиллу в том, что стоит на ее стороне, она должна была назвать ему имена людей, на которых он мог бы рассчитывать в Риме.
При этом он чувствовал ее симпатию, читал в глазах интерес к нему как к мужчине, — да, что-то похожее на готовность, которая сигнализировала: ты можешь получить мое тело, но мысли — нет.
«Может быть, стоит попробовать этот путь, — размышлял Сабин, — возможно, раскинув перед ним бедра, она бы и рот раскрыла?»
Подходило время их обычной прогулки, а удивительно хорошая для этого времени года погода могла бы послужить причиной ее продлить.
Пока он собирался, в дверь постучали.
— Солдат Аппий просит выслушать его, — доложил Руф.
— Пусть войдет!
Молодой легионер вошел в дом и отдал честь.
— Приветствую тебя, трибун! Могу я просить разрешения поговорить с тобой?
— Да, Аппий, но покороче. Руф, сними его меч и поставь у дверей — я научился быть осторожным. Итак, говори!
— Я — то есть мы, конечно, узнали о твоем распоряжении по поводу штрафов, поэтому решили разъяснить тебе положение. После того как Приска забрали, Кукулл получил тайное поручение шпионить за его преемником — значит, за тобой.
Сабин совершенно не удивился, он догадывался, что подозрительный Калигула кому-нибудь обязательно поручит следить за ним. Но Кукуллу?
— Откуда ты это знаешь, Аппий?
— Кукулл как-то напился и хвастался мне и еще троим, что он — настоящий господин на острове, пусть новенький и трибун. Потому что ему поручили выслеживать парня, то есть тебя, и обо все докладывать.
— Ты не сообщил мне ничего нового, Аппий. Я давно знал об этом, но даю всем вам четверым строгий приказ молчать. Кукулл уже давно позабыл о своей пьяной болтовне, забудьте и вы. И все же я благодарю тебя, Аппий, ты все сделал правильно.
Сабин достал двенадцать денариев и положил на стол перед солдатом.
— По три на каждого, и, если узнаете что-нибудь еще, обращайтесь ко мне.
Аппий многообещающе ухмыльнулся.
— Слушаюсь, трибун!
Сабин отнесся к новости не так беззаботно, как могло показаться Аппию. Теперь ему пришло в голову, что часто Кукулл бродил вокруг дома Ливиллы и все пытался узнать, о чем же они говорят. Сабин считал это просто любопытством, но все оказалось серьезнее. Ему виделось неразумным поручать такое дело буйному пьянице, но, возможно, в Риме недостаточно хорошо знали Кукулла или болезненно подозрительный Калигула постепенно начал терять ориентацию.
Сабин встал и вышел за дверь. Слабое ноябрьское солнце изо всех сил старалось сквозь резкий ветер донести до острова тепло, но напрасно. Поежившись, Сабин получше запахнул шерстяной плащ и заторопился к дому Ливиллы. Она встретила его, как всегда, с приветливым равнодушием.
— Подходящий день для долгой прогулки.
— Я тоже так подумал. А еще для подробного разговора.
Они выбрали тропинку, которая вела сначала на север, а потом, резко повернув, шла вдоль берега по западной стороне. Сабин начал разговор сразу, без витиеватых вступлений.
— Я знаю, что ты считаешь меня шпионом Калигулы, по крайней мере предполагаю это. Может быть, ты пересмотришь свою оценку, когда я расскажу тебе короткую историю.
В Риме жил человек из богатой уважаемой семьи. Когда-то он служил сенатором, но с годами полюбил жизнь уединенную. Уже в преклонном возрасте он по любви женился на молодой женщине, которая подарила ему сына, но умерла от родов. Прошла всего пара недель, как заболел ребенок и вскоре отправился за матерью. Человек едва не покончил с жизнью от горя, но как поклонник стоицизма решил принять свою судьбу и жил дальше книгами и научными исследованиями.
Ливилла навострила уши.
— Возможно, я знаю этого человека?
— Нет, не думаю. Но слушай дальше. У него был взрослый племянник, которого он любил как сына и собирался оставить ему в наследство все свое состояние. И племянник ценил дядю, они были с ним очень близки. Но потом племяннику пришлось надолго отправиться в Эфес, а по возвращении он узнал, что дядя по собственной воле ушел из жизни. Он стал искать причины такого поступка и выяснил, что император положил глаз на богатство старика, приказал состряпать на него обвинительный акт, пригрозил казнью и потерей всего состояния, если тот сам не убьет себя, сохранив треть богатства для племянника. Вот так тот человек и сделал выбор. А теперь ответь на вопрос, Юлия Ливилла: если учесть, что племянник душевно здоров, что он должен был почувствовать, узнав правду? Возненавидел ли он императора или остался ко всему равнодушен и даже похвалил в душе императорский суд?
Ливилла остановилась и вопросительно посмотрела на Сабина:
— Я не знаю, зачем тебе понадобилась эта обычная для нынешних времен история, но молодой человек, должно быть, возненавидел императора, если предположить, что дядю он любил.
Сабин кивнул:
— Любой разумный человек дал бы такой же ответ. Ну что ж, этот племянник стоит перед тобой, Ливилла. Если хочешь, можешь по-прежнему считать меня шпионом императора.
— Как звали твоего дядю?
— Корнелий Кальвий, Когда я вернулся из Эфеса, то твердо решил оставить службу в легионе и заняться делом отца. Но мысль о мести была настолько сильна, что я с рабской благодарностью за оказанную милость попросил императора взять меня на службу во дворец. Я понял, что только у охранников Калигулы есть возможность убить его. Оба провалившихся заговора научили меня этому. Чтобы добиться доверия императора, я сам предложил себя на место Приска. Но он очень подозрителен, и сегодня я случайно узнал, что Кукуллу поручено следить и за мной, и за тобой. Вот в таком мы положении, госпожа. Решение за тобой: ты можешь поверить мне, и мы через некоторое время продолжим разговор, а можешь донести на меня, и тогда моей жизнью распорядится палач.
Ливилла положила руку на его плечо.
— Выдавать я тебя не стану, а вот продолжим ли мы разговор, еще не знаю. Завтра я сообщу тебе о своем решении. Договорились?
— Договорились.
Остаток пути они прошли молча.
Когда Сабин подходил к своему дому, навстречу ему выбежал Руф.
— Господин, господин, случилось что-то страшное. Кукулл ударил легионера, и он лежит будто мертвый, не двигается…
Сабин бросился бежать к казарме, где лежал пострадавший, а рядом с ним угрюмо стоял Кукулл. Декурион сразу же начал оправдываться.
— Я же не знал, что парень не перенесет легкого удара! Сразу же упадет и прикинется мертвым!
— Что называется легким ударом? Чем ты его?..
— Плоской стороной меча по голове, чуть-чуть!
Сабин склонился над солдатом, который тяжело, прерывисто дышал. На левом виске волосы были испачканы кровью, и Сабин осторожно ощупал это место, обнаружив не шишку, а заметную впадину.
— Ты проломил ему череп, Кукулл.
Он обратился к другим легионерам:
— Заберите у него оружие и заприте в подвале. Я потом подумаю, что с ним делать. На острове есть врач?
— Да, господин. На западной стороне живет врач, но я не знаю…
— Не болтай долго! Доставь его сюда и скажи сразу же, что у парня проломлен череп.
Кукулл без сопротивления позволил себя разоружить и увести.
«Я, по крайней мере, избавлюсь от шпиона», — подумал Сабин. Он остался в казарме, пока не пришел врач. Старик выглядел перепуганным и дрожал от волнения.
— Как мне называть тебя, медикус?
— Лакид из Хиоса. Но я уже много лет здесь и…
— Но ты врач?
— Был когда-то, но меня сослали сюда еще при Тиберии и запретили заниматься медициной.
— Тиберий давно мертв, и в этом случае можно сделать исключение. Я постараюсь, чтобы с тебя сняли обвинение. Но сейчас… — Сабин показал на пострадавшего.
Врач осмотрел рану.
— Да, череп проломлен с левой стороны. Осколки давят на мозг, надо делать трепанацию…
— Делай, что считаешь нужным!
Врач покачал седой головой:
— У меня нет необходимых инструментов.
Он покопался в своей кожаной сумке.
— Можно было бы попытаться…
— Во имя богов, попытайся! — взмолился Сабин.
— Хорошо. Мне нужна горячая вода, острый нож для бритья и два человека, которые его подержат. Любое движение может оказаться смертельным.
Итак, один из помощников держал голову больного, которую врач осторожно побрил в области раны. Потом он тщательно вымыл руки, ошпарил инструменты и крестообразно разрезал воспаленную кожу над раной и откинул кусочки кожи пинцетом. Крошечным шпателем он вынимал кусочек за кусочком раскрошенную кость.
— Все не так плохо, как я думал, — довольно пробормотал он. — Теперь мне нужно больше света! Подержи твою лампу поближе к ране — да, вот так.
Врач посмотрел через дыру величиной с денарий на беловатую мозговую оболочку, осторожно ввел пинцет и извлек обломок кости с острыми краями.
— Вот она, злодейка! Теперь на его мозг ничто не давит, и парень должен хорошенько отдохнуть.
Врач наложил жесткую повязку и спросил:
— Есть у вас перец или уксус?
И то и другое по очереди держали под носом больного, пока тот не пришел в себя.
— Остальное сделают молодость и его крепкий организм, — сказал врач, собирая свои инструменты.
Сабин повторил свое предложение лично попросить императора об освобождении врача.
В ясных, умных глазах старика блеснули насмешливые огоньки.
— Откуда ты знаешь, что я хочу оставить остров? Не старайся, Калигула давно отменил мое наказание, только я решил остаться. Но гонорар свой я хотел бы получить. Заплати мне сотню сестерциев или красивый свежеотчеканенный денарий, если найдется.
Сабин протянул ему аврей и еще раз поблагодарил.
— Если через два дня не наступит улучшения, молитесь Гиппократу, меня же не беспокойте. Через три дня я сам загляну еще раз.
Сабин обратился к своим людям:
— Хотя дверь в подвале и прочная, я бы хотел оставить пару крепких парней охранять Кукулла.
Ноябрь в Риме проходил тихо. Воздух стал заметно прохладнее, бурная городская жизнь теперь протекала в теплых домах, и шумные улицы притихли. Если в октябре календарь был полон праздников, то в ноябре существовал только один официальный праздничный день: в тринадцатый день месяца во время полнолуния отмечался праздник Юпитера.
В этот день фламин
[13] Диалис, жрец Юпитера, приносил в жертву отцу богов белого барана. В римской государственной религии фламин считался самым высоким и уважаемым священником, поскольку над ним стоял только верховный жрец, однако он был связан целым рядом ограничений и условий, происхождение и значение которых терялись в глубине веков. Так, фламин Диалис мог брить бороду только медным ножом и носить белоснежную тогу, которую соткала его жена. Никому нельзя было дотрагиваться до его тела, и когда он выходил, то слуги окружали его и прутами отгоняли всех, кто слишком близко к нему пробирался.
Смотреть на покойников и на могилы ему также строго запрещалось, как и на марширующих солдат. Кроме того, он не должен был есть кислый хлеб, сырое мясо, прикасаться к собакам, ездить верхом, иметь узлы на одежде, работать или даже смотреть на работающих, клясться и еще много чего, что казалось бессмысленным, но было освящено древним обычаем.
В ноябрьские иды, 13 ноября, император возвестил о своем желании присутствовать во время жертвоприношения, что происходило нечасто. Фламин Диалис презирал этого человека, в котором видел безбожного узурпатора, подделавшего завещание Тиберия и вызывающего отвращение своей порочной игрой в близнеца Юпитера. Но в последнее время стали давать о себе знать дурные предзнаменования, и жрец не без злорадства видел, что боги начали гневаться. На Палатине молния попала в квартиру управляющего и спалила ее. Конечно же, это могла быть только карающая рука Юпитера. Недавно из Геллы принесли весть, что в корабль, предназначенный для перевозки колоссальной статуи Зевса, тоже ударила молния, и тот утонул, объятый пламенем. При этом многие люди из храма говорили, что ясно слышали рокочущий смех.
Такие мысли бродили в голове жреца, пока он вместе со своими помощниками ожидал перед храмом Юпитера Капитолийского жертвенное животное. Когда приедет император, он не знал, поскольку тот являлся всегда неожиданно или не являлся вообще без всякого объяснения причин. Во всяком случае, он, фламин Диалис, не собирался из-за этого сумасшедшего переносить жертвоприношение.
Тут появились служители, которые вели великолепного белого барана, сопротивлявшегося изо всех сил. По знаку фламина все двери в храм распахнули, чтобы изображения богов приняли вид жертвы.
Священное действо должно было проходить в полной тишине, допускалось только исполнение негромкой мелодии на флейте.
В то время как успокоившееся животное стояло перед воротами храма, жрец, который должен был совершить заклание, зачитывал священные тексты, составленные на древней латыни, так что едва ли кто-то их понимал. Он читал медленно и старательно, поскольку из-за одной-единственной ошибки церемония могла потерять силу. Потом он подошел к животному, окропил его вином и обмазал смесью соли с дробленым зерном. При этом он натянул свою тогу на голову, чтобы принести жертву, защитив себя подобием вуали.
Когда он это сделал, снаружи послышались торопливые шаги, и в дверях появился император, переодетый Нептуном, в золотой бороде, размахивающий бронзовым трезубцем.
— Сегодня я сам хочу принести жертву моему брату! — прокричал он в звенящей тишине. Он показал на барана. — Этого мало, Юпитер требует большую жертву!
Он взмахнул тяжелым трезубцем и обрушил его на голову жреца, который уже стоял с ножом в руке, готовый перерезать барану горло. Тот упал на пол, у присутствующих вырвался крик ужаса. Фламин Диалис сразу же отвернулся, поскольку ему нельзя было видеть смерть.
— Надеюсь, что тебе придется ответить за это преступление, принцепс!
Калигула зло рассмеялся.
— Я за все могу ответить и, если бы захотел, мог бы принести в жертву брату вас, да боюсь его обидеть. Потому что он желает безупречных животных, а не жирных и хромых бритоголовых стариков.
С ухмылкой показал он на лежащего на полу жреца.
— Кто хочет, может исследовать печень этого существа на предмет предзнаменования.
И со смехом, размахивая трезубцем, он удалился вихляющей походкой.
Руф разбудил своего господина, тряся за плечо.
— Просыпайся, трибун! Похоже, в казарме что-то случилось.
Сабин подскочил с постели и выглянул в окно. Серое низкое небо сыпало мелким дождем, и он едва ли мог что-то разглядеть. Он быстро натянул тунику и надел броню.
— Скорее мой меч!
Выбежав на улицу, он услышал громкие голоса и крики, увидел снующих туда-сюда легионеров. Один из них бросился к нему.
— Трибун! Трибун! Арестованный сбежал! Кукулл задушил одного охранника, другого ударил так, что он все еще лежит без сознания.
— Куда он побежал?
— Никто не знает, вероятно, на запад, чтобы спрятаться в сосновом лесу.
Сабин покачал головой.
— На этом острове у него нет ни малейшей возможности скрыться. Дайте знать людям в гавани. Он или попадется на воровстве еды, или одумается и сдастся сам.
Между тем его обступили легионеры, и один из них сказал:
— Думаю, у Кукулла вообще отсутствуют мозги.
Другой предложил:
— Мы должны разбиться на группы по четыре человека и прочесать остров. Далеко он не мог уйти.
— Добровольцы есть? — с ухмылкой спросил Сабин.
Все опустили головы, переступая с ноги на ногу. Наконец пятеро подняли руки.
— Нет, я не стану рисковать вашими жизнями. Кто знает, на что способен этот сумасшедший в приступе бешенства. Мы не на войне и должны быть осторожнее. Выставьте двойную охрану и, если что-то заметите, сразу докладывайте мне.
Солдаты давно отвыкли от человеческого обращения и от того, чтобы начальников заботили их жизни, поэтому трибун своим решением удивил их, пробудил к себе симпатию.
Сабин наскоро принял ванну, вооружился копьем и мечом и вместе с Руфом отправился к дому Ливиллы, чтобы рассказать о случившемся. Обескураженные охранники стояли перед дверями и, дрожа от страха, сообщили, что Кукулл проник в дом и теперь ждет там трибуна.
— Во имя Марса! Но почему же вы не схватили его? — заорал Сабин.
— Но… но… но он там крепко засел и…
— Трусы проклятые! — выругался Сабин и распахнул дверь.
Кукулл уютно устроился за столом: короткий меч в правой руке, кинжал в левой. Ливилла и Миртия стояли у окна, вероятно, он приказал им следить за дорогой. Декурион медленно выпрямился, и Сабин только сейчас со всей ясностью увидел, насколько здоровым и сильным он был.
— Я ждал тебя, трибун, чтобы хорошенько рассчитаться. Ты можешь добровольно сложить оружие, и я доставлю тебя, как арестованного, в Рим с докладом о твоем предательстве. Пусть император решает, что с тобой делать.
— О чем ты говоришь? Ты убил одного из своих людей, двух других смертельно ранил… и хочешь меня… Похоже, пьянство лишило тебя рассудка. Сложи оружие и отправляйся обратно в подвал. Это мой приказ трибуна!
Кукулл угрожающе рассмеялся.
— Может, ты и трибун, но у меня есть поручение следить за тобой, и то, что я увидел и услышал, в Риме вызовет немалый интерес.
Ливилла вопросительно посмотрела на Сабина, и в глазах ее читался вопрос: «Может ли этот человек быть для нас опасным?»
«Да, — подумал он, — еще как. Кукулла нельзя отпускать с острова живым».
— Ты несешь чушь, Кукулл, и знаешь это. Чтобы задержать меня здесь, ты придумываешь истории, но ты не на того напал. Положи меч и кинжал на пол и дай охране отвести тебя обратно.
Сабин увидел, как здоровый глаз Кукулла вспыхнул бешеной злобой, и в тот же момент декурион накинулся на него. Он попытался защититься копьем, но Кукулл ударом меча разрубил бы его на куски. Сабин бросился за дверь, подальше от дома, к скалам.
Руф прокричал ему, убегая в сторону казармы:
— Я позову подкрепление!
Сабин надеялся, что усиливающийся дождь создаст больше проблем одноглазому, чем ему. Тяжело дыша, Кукулл преследовал его огромными шагами, и Сабин понял, что не дождь, а бешеная злоба и неудержимая ненависть декуриона должны стать его помощниками. Если уж выражение «слепой от злобы» и подходило какому-нибудь человеку, то в первую очередь Кукуллу. С неистовой мощью он накинулся на Сабина, размахивая мечом, но его удару не хватало техники, поскольку он думал только о том, чтобы убить врага, не задумываясь, как к нему подойти. И снова пригодилась Сабину суровая школа друга Хереи; он играючи парировал едва ли прицельные удары противника, отступая при этом шаг за шагом к отвесным скалам. И тут Сабин оступился, допустил мельчайшую ошибку. Тотчас же меч Кукулла рассек его правое плечо, но он не почувствовал боли, концентрируясь на движениях напирающей молотильной машины. Кукулл все еще держал в левой руке кинжал, и Сабину удалось выбить его. Случайно ли тот нагнулся за кинжалом? В борьбе на мечах он не давал ему никаких преимуществ, но Сабин воспользовался моментом и нанес глубокий удар в его левое плечо.
Кукулл взвыл, уронил кинжал и набросился, как безумный, на трибуна. Тот отпрыгнул с быстротой молнии в сторону, воткнув меч в неприкрытое левое бедро противника. Кукулл упал, но оружие не выронил, попытался выпрямиться снова. Тут послышались голоса и топот ног бегущих на помощь, но Сабин крикнул так громко, насколько хватало сил:
— Не подходите! Я справлюсь сам!
Кукуллу удалось подняться на ноги, но по его левому бедру кровь текла ручьем, и Сабин загнал его туда, куда хотел, — на край обрыва. Из-за сильной потери крови правая нога декуриона подгибалась, и ему пришлось опереться на меч. Сабин использовал шанс, выбив оружие из рук великана. Кукулл рухнул, оглядываясь в поисках меча, но тот съехал по камням и со звоном полетел вниз.
— Сдавайся, Кукулл!
Тот еще раз приподнялся, бросил пристальный взгляд на Сабина, на стоящих за ним людей, медленно перевернулся, встал на четвереньки, как большой тяжелый жук, подполз к краю скалы и скатился вниз, в пропасть.
Сабин повернулся к промокшим под дождем легионерам.
— Кто хочет, может спуститься вниз и, если есть необходимость, добить его. Принесите потом его труп к казарме, я подойду туда позже.
Перед домом Ливиллы не было охраны, похоже, происшедшее заставило солдат забыть, зачем они находились на острове.
— Он мертв? — встретили его вопросом.
— Похоже, опасности он больше не представляет.
Ливилла подошла ближе.
— Да ты в крови! — Она подтащила его к окну и осторожно приподняла рукав. — Вы дрались?
Сабин кивнул.
— Рана неглубокая, но проходит от локтя почти до кисти руки. Миртия, принеси что-нибудь для перевязки!
Он подошел к двери.
— Юная девственница спасает раненого героя, так? Нет, уж слишком банально — ты не юная девственница, а я не герой. Если бы Кукулл немного думал головой, я бы сейчас лежал под дождем, а так его погубила собственная злоба. В казарме обо мне позаботятся, и завтра я навещу тебя снова.
Ливилла смотрела на него с насмешливой улыбкой, как смотрят женщины на упрямых мужчин.
— Как хочешь, Сабин. Но все же юная девственница благодарит героя за чудесное спасение. Собственно, я должна тебе со вчерашнего дня дать ответ. Я верю тебе, Сабин, в душе доверяла уже с самого начала, но в моем положении без осторожности нельзя. Ты же знаешь, как непрочно сидит моя голова, ведь однажды Калигула наверняка придет к выводу, что самая лучшая сестра — мертвая сестра. Пусть теперь о тебе позаботятся, поговорим обо всем завтра.
Он кивнул и вышел под дождь, где его ждал насквозь промокший Руф. Сабин распорядился:
— Передай, чтобы снова выставили охрану, а потом пойди обсохни!
33
Префект преторианцев Аррециний Клеменс долго размышлял, стоит ли посвящать трибуна Кассия Херею в тайные планы заговорщиков, пока однажды сам не стал свидетелем очередной жестокой насмешки Калигулы.
Тогда он улучил удобный момент и отвел подчиненного в сторону.
— Здесь никто не слышит, трибун, но сначала спокойно оглянись по сторонам! Осторожность сегодня не помешает, и то, что я хочу сказать тебе, лучше скажу без свидетелей.
Херея не двигался и смотрел на него отсутствующим взглядом.
— Префект?
— Сначала сядь, не упрямься, я пришел к тебе с просьбой. Позавчера я снова слышал и видел, как император обходится с тобой, и представил себе, что ты при этом должен чувствовать.
Херея поднял на него глаза.
— Вот как? Сразу сумел представить? А когда я год назад жаловался, ты сказал, что император просто шутит, что он молод и еще изменится. Откуда вдруг взялось сочувствие, префект?
— Потому что положение изменилось. Того, на что мы все надеялись, как ты знаешь, не случилось. Как раз наоборот. Когда Калигула поднялся на трон, я думал, как и ты: это начало перемен, теперь для Рима наступят золотые времена. Я был назначен преемником Макрона, верил в его предательство и служил императору с таким же восторгом, как и все остальные. Тебя он назначил трибуном, меня — префектом, у всех были причины чувствовать себя счастливыми и благодарными. Положение наше похоже: все пережили примерно то же самое. Ты думаешь, мне нравится, когда из вас делают палачей и сборщиков налогов? Мы его покорные слуги, которым неплохо платят, но которых народ ненавидит, сенат боится, а патриции презирают. У меня тоже есть гордость, Херея, и с некоторых пор я ношу платье префекта без восторга. Да и у других ощущения похожие, только немногие по-прежнему думают, что император сполна вознаграждает за грязную работу, к которой принуждает нас. Положение стало настолько невыносимым, что мы должны изменить его. Ты разделяешь такое мнение, Херея?
У того гудело в голове, поскольку он никак не ожидал услышать подобное от префекта.
— Кто это мы, префект?
— Сейчас не могу сказать, остановимся пока на этом. Итак?
— Даже если я подтвержу, что положение невыносимо, что изменится? Сенат помалкивает, поджав от страха хвост, его верные псы — Каллист, Геликон, Протоген и кто там еще — напичкали Рим шпионами. С чего начать, как подкопаться?
— Поскольку я заметил твою готовность, то поясню кое-что. Все давно не так, как ты думаешь. У Калигулы нет больше друзей, а от верных псов, как ты их называешь, кроме Геликона да Протогена, немного кто остался. Сенат, правда, помалкивает, но в рядах его образовалась крепкая оппозиция. Я не могу тебе сейчас назвать имен, только скажу, что наш божественный император смотрится довольно одиноко на своем высоком троне. Воздух вокруг него становится все более разреженным, дышать ему все труднее. Думаю, он чувствует это, но на этот раз речь не идет о заговоре пары идеалистов, на этот раз против него поднялся весь Рим. Плебеи не в счет, хотя и среди них растет недовольство. Люди боятся идти в цирк, ведь там они запросто могут оказаться гладиаторами на арене. Ненависть сгущается вокруг императора, Херея, и нам это только на руку. Подумай обо всем, а когда примешь решение, приходи ко мне снова.
Херея припомнил свои разговоры с Сабином, как тот сказал: «… День за днем умирают люди, чей мизинец дороже целого лысого чудовища, называющего себя к тому же богом!» И он, Херея, называл это детским дурачеством, но теперь его мнение изменилось. Калигула был позором! Позором для каждого, позором для всего Рима! Но недоверие все же оставалось, и он решил, что, прежде чем продолжить разговор с префектом, посоветуется с Сабином. Долго тот не пробудет на острове, и, когда он вернется, они вместе подумают, как поступить.
Херея дал понять Клеменсу, что тот может рассчитывать на него, но он хотел бы лично познакомиться с парой участников и от них услышать, что было задумано, когда и где.
— Наш девиз «Скоро!» Мы не хотим и не можем больше ждать, потому что каждый из нас не уверен в том, что завтрашний день не окажется для него последним. Прежде чем Рим сломается, надо сломить его!
— Согласен с тобой, префект.
Во всем Риме было известно, что Калигула невысокого мнения об астрологии уже потому, что его предшественник находил ее такой важной наукой. Калигула хотел во всех отношениях быть другим, неповторимым, единственным, божественным.
Тразиллий, астролог Тиберия, между тем уже умер, но в последние годы он пригласил в помощники молодого Суллу, который стал его учеником и теперь сам консультировал многих римлян. Временами император под вымышленным именем поручал составить ему гороскоп, но был настолько убежден в своей божественности, что считал себя стоящим над судьбой и не придавал прогнозам большого значения.
Несмотря на свои безумства и причуды, Калигула обладал тонким чутьем перемен. Он ощущал кожей, что вокруг что-то происходило, но что? Не то чтобы он чувствовав угрозу для себя, нет, в новый заговор он не верил, но что-то незримо менялось — что-то, чего нельзя было увидеть невооруженным глазом. Он поговорил об этом с Цезонией, которая, однако, ничего не замечала.
— Как раз потому, что ничего не происходит, любимый, что все в страхе поджали хвосты, что ты наконец уничтожил врагов, ты считаешь, что должен исполнить нечто таинственное и непонятное. Твоя тонкая натура ощущает, что ничего не происходит, абсолютно ничего, и как раз это и кажется странным. Представь себе, что ты целый день сидишь у журчащего источника, который вечером останавливается. И тишина почти болью отдается в ушах, потому что плеск воды стал таким привычным для твоего слуха. Вот и мы сейчас оказались в такой тишине.
— Умное, почти философское объяснение; возможно, так оно и есть. Может быть, всех испугал мой смелый поступок у алтаря Юпитера? Не сделать ли это традицией? Жертвовать моему брату вместо белого барана жирного сенатора? Юноне — патрицианку вместо козы? Марсу — всадника вместо скакуна? Что ты об этом думаешь?
Цезония зевнула. Такие беседы нагоняли на нее скуку.
— Раньше, наверное, так и было, но сегодня не получится; мы должны ограничиться менее торжественными услугами палача. Ты просто скучаешь, я вижу. Пусть Сулла составит тебе гороскоп, может быть, он что-то подскажет.
— Я велю ему составить твой гороскоп, чтобы узнать, когда и как я от тебя отделаюсь. Почему я до сих пор женат на тебе, для меня загадка.
Цезония засмеялась, как обычно, громко и раскатисто.
— Может быть, ты боишься, что жизнь твоя тогда станет еще скучнее? Кстати, ты не забыл об обещании сенату устроить торжественную примирительную трапезу? Ты все время ее переносишь, и совершенно зря. Сейчас, когда они едят у тебя из рук, сенаторы заслуживают особого вознаграждения.
— Я не забыл, — нетерпеливо заверил ее Калигула, но мысли его были заняты гороскопом. — Ты же знаешь, что я думаю об астрологии. Возможно, что-то в этом есть.
И снова Сулла получил от Каллиста заказ составить гороскоп одному неизвестному чиновнику, рожденному в Антиуме 31 августа в 765 году после основания Рима. Конечно, астролог давно знал, кем являлся анонимный заказчик, ведь дата рождения императора была известна любому мало-мальски образованному римлянину. Он быстро выполнил заказ, поскольку гороскоп Калигулы давно лежал готовым и оставалось только составить прогноз на следующие месяцы. В начале года звезды не обещали ничего хорошего, особенно тревожным было положение Марса в восьмом доме, поэтому Сулла не мог не предупредить о возможности насильственной смерти.
Калигула, обычно такой суеверный и опасливый, не придал значения предостережению, но Суллу пригласил, чтобы выяснить подробности.
— Для меня слова «возможность насильственной смерти» звучат недостаточно точно. По-моему, это бессмыслица! Меня убьют или я останусь в живых? А может быть, существует третья возможность?
Сулла поднял испещренное морщинами лицо ученого от свитка, над которым ему приходилось из-за слабого зрения низко сгибаться.
— Звезды благоприятствуют действиям, но не принуждают. В астрологических прогнозах это учитывается прежде всего, император. Ты говоришь о третьей возможности? Я назову тебе и четвертую, и пятую. Кто, собственно, говорит об убийстве? Насильственная смерть предполагает, что ты, возможно, оступишься и проломишь себе затылок, упадешь с лошади или с тобой случится какой-то другой несчастный случай. Некоторые умирают из-за того, что им на голову падает черепица с крыши — и это тоже насильственная смерть. Кроме того, мой прогноз составлен только для Рима, это значит, что в Эфесе или Александрии ты подвергнешься совсем другим влияниям. Наступает благоприятное время для твоих путешествий, и ты можешь, если хочешь, уйти от опасности.
— Когда точно мне грозит опасность?
Сулла снова согнулся над свитком.
— Где-то в середине или конце января.
Император засмеялся, но не зло и не громко, а скорее недоверчиво.
— Значит, у меня есть два месяца на размышления. Благодарю, Сулла, за твои разъяснения, но все равно я считаю астрологию бесполезной наукой. Она приносит пользу только тем, кто ею занимается, потому что наполняет их кошельки.
Сулла с улыбкой поднял руки.
— Посмотрим…
В глазах Калигулы блеснули злые огоньки, когда он сказал:
— Ты и для себя тоже составляешь прогнозы? Скажем, на сегодняшний день?
— Конечно, император. Приглашение принцепса — это весьма значительное событие, поэтому я сначала обратился к звездам.
— Что же они тебе сказали? Предупредили, что за дверями стоит преторианец, который в следующий момент отрежет тебе голову?
Сулла не дал напугать себя.
— Тогда я, наверное, просчитался. Во всяком случае, я не обнаружил опасного аспекта в ближайшие дни.
По выражению лица Калигулы было видно, как он наслаждался этим разговором, хотя спокойная реакция Суллы его несколько разочаровала.
— Ты не просчитался, потому что угроза исходит не от звезды Юпитера, а от бога Юпитера — от меня! Я стою над звездами, над судьбой, потому что я и есть судьба!
— Конечно, император, для многих ты стал судьбой.
— Хорошо, что ты это понимаешь. Иди домой, Сулла, продолжай вытягивать деньги из дурачков. От меня же ты ничего не получишь, но можешь рассказать, что я воспользовался твоими услугами. Как астролог императора, в будущем ты сможешь требовать тройной гонорар. Итак, я заплатил тебе, ничего не заплатив.
— Твоя экономность известна во всем Риме, император.
Тут Калигула едва не подавился от смеха. Все еще задыхаясь, он произнес:
— Это… это лучшая шутка, которую я когда-либо слышал. Сулла, я по-прежнему милостиво к тебе настроен, и твой прогноз был правильным: сегодня с тобой ничего не случится.
Сулла глубоко поклонился, но не мог не заметить, что император особенно подчеркнул слово «сегодня».
Калигула не забыл о своем приказе установить в иерусалимском храме статую Нового Юпитера. Паблий Петроний, легат Сирии, представил ему подробный доклад об изготовлении в Сидоне колоссальной статуи и проинформировал о предложении иудеев заплатить за неисполнение приказа.
Алчность Калигулы и постоянную потребность в деньгах на этот раз побороло тщеславие. Он просто должен был, как бог, присутствовать в храме этого строптивого народа. И неважно, готовы ли были евреи расплатиться пятью или пятьюстами талантами золота — он настоял на точном исполнении приказа, о чем и сообщил легату.
Умный и выдержанный, Петроний вынужден был сделать следующий шаг и отправился с готовой статуей в Птолемей, в город-порт на юге Сирии, где расположились на зимовку два легиона армии Ефрата. Они должны были войти в Иерусалим, чтобы там — если надо, то с применением силы — исполнить повеление принцепса.
Петроний считал все это безумием, капризом самовлюбленного тирана. Политическое безрассудство претило ему, но он не видел возможности обойти приказ.
Окруженный горами, Птолемей лежал с западной стороны от Галилеи на равнине Меггидо, и в оживленном городе быстро разнеслась новость о том, зачем прибыл Петроний.
Сотни иудейских семей вышли к городским воротам с просьбой выслушать их. Петроний принял делегацию из трех человек, которые, как когда-то в Антиохии, изложили ему причины волнений и недовольства, умоляя понять их. Благоразумный Петроний серьезно отнесся к их просьбам и мольбам. Он оставил статую в Птолемее и отправился с немногочисленным сопровождением в Тиберию на озеро Генезарет, куда призвал явиться иудейских старцев. Он хотел разъяснить им смысл и цель приказа, который сам считал безумным. Петроний решил, что будет держать речь не только перед ними, но перед всеми собравшимися евреями в амфитеатре.
— С давних времен целью Римской империи было сохранять мир с подчиненными народами и ко всем без исключения относиться одинаково. В этом мы видим акт справедливости, и наши провинции от Испании до Азии, от Норика до Африки платили нам непоколебимой верностью и доверием закону, который одинаков для всех. Я повторяю: для всех — без исключения! Вы прибыли в Тиберий, чтобы требовать от меня невозможного, то есть разрешить сделать вам исключение. Император издал указ, который означает лишь оказание любезности Гаю Юлию Цезарю и к тому же не стоит ни одного обола. Он хочет знать — как это было и при Тиберии, и при Августе, — что в провинции его почитают, и не в последнюю очередь для того, чтобы народы, которые он не всегда и не все может навестить, стали ему ближе и понятнее. Ни один народ, на востоке или на западе, на севере или на юге, не воспрепятствовал этому, все отдают дань уважения императору. Ни один народ, кроме вас, иудеев! Как это можно назвать? Пренебрежением, строптивостью или даже бунтом? Таким поведением вы сами ставите себя в стороне от других народов империи, сеете беспокойство и раздор. А от меня вы еще и требуете поддержки в вашем непослушании.
Он сделал паузу, и тут же раздались выкрики из толпы:
— Мы покорились императору, но он не Бог!
— Мы не молимся людям — это самое страшное богохульство!
— Император терпит религии германцев и египтян, почему же так относится к нашей? Она самая древняя в мире, и мы можем потребовать уважения наших древних обычаев и законов.
Петроний поднял руки, выжидая, когда наступит тишина.
— Император уважает все религии и не запретил ни одного культа. Разве он не даровал вашему главному городу особый статус, разве не ввел туда самые малочисленные войска? Вместо благодарности вы возмущаетесь и грозите навлечь гнев императора на свои головы, а заодно и на мою. И я должен выполнять распоряжения своего господина, а если я уклонюсь от этого ради вашей защиты, то мне грозит позорная смерть, и по праву. Император — мой верховный главнокомандующий, и, если он сочтет правильным, я буду вынужден от его имени начать с вами войну. Вы хотите разрушить римский мир? Ваш Бог хочет, чтобы страдали женщины и дети, чтобы убивали мужчин?
Тут толпа закричала в один голос:
— Мы готовы страдать за закон, возложенный на нас Богом!
— Тогда вы действительно хотите войны, хотите бороться с императором? — растерянно спросил Петроний.
Бородатый, одетый в белое жрец попросил слова:
— Нет, легат, войны мы не хотим. Дважды в день мы жертвуем нашему Богу, моля о благополучии императора, но, если он настаивает на том, чтобы его изображение установили в храме, мы принесем в жертву себя — тогда ему придется всех нас убить. Мужчину за мужчиной, женщину за женщиной, каждого ребенка.
— Это ваше решение? — обратился Петроний к собравшимся.
— Да! — раздалось со всех сторон.
Петроний отвернулся. Он не мог не восхититься этим народом, который готов был пожертвовать собой, лишь бы не нарушать законы своего Бога. Он ушел обратно во дворец, бывшую резиденцию тетрарха Герода Антипы, правившего Галилеей и Переей, пока Калигула не сместил его, заменив дружком Агриппой.
— Что случилось с этим народом? — спросил он одного из сопровождающих офицеров. — Они готовы ради пустого места отдать себя на заклание — по крайней мере, это читается в их глазах. Непонятный, невидимый Бог значит для них все. Как мне быть, что я должен делать?
— Когда мы войдем в Иерусалим во главе пары легионов, иудеи трусливо подожмут хвосты, — предположил трибун.
Петроний покачал головой.
— Не думаю. Они пожертвуют себя своему Богу. Мне так показалось уже тогда, в Антиохии, когда я разговаривал с их учеными мужами. С ними обо всем можно договориться, уморить налогами, но тут они не отступают ни на йоту. Сейчас речь идет не о свободе, чести или владениях, а о чем-то высоком, что для нас остается закрытым.
— Слава Юпитеру! — сказал офицер, и в голосе его прозвучала насмешка.
Петроний вздохнул:
— Завтра я еще раз попробую с ними поговорить, может быть, найду путь к пониманию. Нельзя, чтобы так продолжалось. Узнав, что от них требуется, эти люди больше пальцем не пошевелят. Сбор урожая затянулся на несколько недель, торговля замерла, все хозяйство тоже, а я должен нести за все ответственность. Стоял бы император сегодня на моем месте, он бы задумался, стоит ли силой добиваться своего. Во имя богов — я обращаюсь и к иудейскому Богу — мы должны договориться, и скоро. Позаботься о том, чтобы завтра в полдень они снова собрались в театре. Я найду решение, пусть это даже будет моим последним решением в должности легата Сирии.
За три года правления Калигула растратил всю оставленную Тиберием государственную казну — ее оценивали почти в четыре миллиарда сестерциев — и при этом не создал для Рима ничего существенного. Он не построил ни одного общественного здания, лишь довел до конца сооружение нескольких начатых Тиберием строений. Это были храм Августа и театр Публия Помпея на Марсовом поле. Величайший государственный муж подарил Риму первый театр из камня, потому что серьезные и нетребовательные республиканцы стыдились сооружать из крепкого материала здание для развлечений. И Помпей был сыном своего времени, он дополнил фривольный поступок строительством маленького храма Венеры Победительницы на верхнем этаже зрительских трибун, придав светскому сооружению сакральное значение. К театру должен был прилегать двор с длинными колонными залами, где публика могла бы прятаться от дождя. Но Помпей, великий соперник Цезаря, начал строительство только на закате жизни, поэтому многое осталось недоделанным. Между колоннадами курии Помпея Юлий Цезарь погиб от ножей врагов, после чего помещения замуровали и театр почти не использовали. При Тиберии работы возобновились, но завершить строительство было суждено Калигуле, который представил все так, будто самое красивое римское сооружение являлось лишь его творением.
Устроенный Помпеем в театре праздник освящения стал легендой, о которой все еще рассказывали, хотя уже прошло девяносто лет, что для тщеславного Калигулы послужило поводом для ревности к давно усопшему Помпею. Каллисту пришлось копаться в
архивах до тех пор, пока он не нашел официальных записей об упомянутом событии.
— Праздники длились семь дней. Они начались спортивными соревнованиями римских юношей и продолжились театральными и музыкальными представлениями. Кульминацией же явились бои с дикими зверями, во время которых убили пятьсот львов.
— Пятьсот? — переспросил Калигула, недоумевая.
Каллист, преисполненный злорадства, утвердительно кивнул.
— Да, император, пятьсот. Так здесь написано. После этого были устроены первые в Риме бои слонов.
По выражению лица императора было видно, как лихорадочно работал, его мозг.
— Пять сотен львов раздобыть не получится; у Помпея были другие возможности. Мы заменим зверей людьми.
Каллист окаменел. Такие короткие замечания императора не обещали ничего хорошего. Он попытался осторожно прощупать почву.
— Ты имеешь в виду, что на этот раз все пройдет без зверей?
— Нет, нет, — оживленно объяснил Калигула, — так я не думаю. Пара львов, тигров и леопардов должна появиться, медведи и волки тоже. Люди просто ждут этого. Я хотел сказать, что упор мы сделаем на гладиаторов, а между ними разыграем сцены из мифологии с кровью и криками — как любят плебеи. Ты знаешь эти пьесы, они все время одни и те же, и ни одному писаке не придется ничего выдумывать. Геркулес сгорает в Нессовой одежде, Актеона разрывают на части собаки; легенду про Аттия, когда парня лишают достоинства, зрители тоже любят. Многие при этом так пищат и извиваются! Кстати, давно не разыгрывали сказание о Прометее, а ведь забавная вещь.
— Да, император, конечно. Только сцена с орлом довольно сложна, потому что нелегко заставить птицу выклевать у человека печень.
— Так придумайте что-нибудь! Пусть хищник поголодает, а исполнителю роли Прометея надрежьте живот в нужном месте. Если бы я был орлом…
«Но ты всего лишь крыса, — подумал Каллист, — трусливая, кровожадная, от которой следует поскорее избавиться».
— Затраты будут большими, — заметил Каллист, как бы между делом.
— Нет, мой друг, на этот раз мы немного сэкономим. Отсюда мое предложение задействовать как можно больше людей. Освободите тюрьмы! А если заключенных не хватит, пусть преторианцы схватят пару дюжин бродяг — в Риме их предостаточно. Таких не жалко, заодно сэкономим на раздаче хлеба. Раз уж мы затронули тему расходов: от тебя, Каллист, я ожидаю к празднику ощутимую поддержку, ведь лучи славы твоего господина и тебя согревают. Подари пару львов, стаю волков и двух гладиаторов. Я не против, если смотритель театра заявит об этом во всеуслышание. Ты становишься все богаче, Каллист, но я не вижу, чтобы ты пользовался деньгами. Живешь-то ты хорошо, но все равно должен был собрать значительное состояние. Деньги надо пускать в оборот, Каллист, только тогда расцветают торговля и хозяйство. Если ты сидишь на них как курица на яйцах, то что от них проку? Посмотри на меня! Рим цветет и развивается, потому что я трачу деньги на людей. Господин должен служить примером слуге, так что равняйся на меня.
Толстый секретарь начал потеть. Чем дольше Калигула говорил на эту тему, тем неуютнее ему становилось. Чтобы отвлечь императора, он разыграл обиженного.
— Ты несправедлив ко мне, император. Не хочу утомлять тебя подробностями, но за многие услуги, которых я добиваюсь для тебя, мне приходится платить из своего кармана, например, шпионам и доносчикам, нанятым, чтобы защитить тебя. Кроме того, регулярные пожертвования на твой храм и симпозиумы, которые я устраиваю не для собственного удовольствия, а чтобы быть в курсе настроений в Риме, — немалые суммы.
Калигула улыбнулся, но неподвижные глаза его оставались холодными.
— Я знаю, что ты много для меня делаешь, но иногда думаю, что мог бы делать и больше.
Когда император наконец ушел, Каллист почувствовал необходимость сразу же принять ванну. Он весь взмок от пота, и при этом его била дрожь.
— Ты случайно не заболел? — с волнением поинтересовался у секретаря раб-банщик, и забота его была искренней, поскольку Каллист никогда не скупился на подарки.
— Нет, нет, просто перетрудился. Служба у императора беспокойная, знаешь, я ведь служу богу, а ему надо отдавать и тело, и душу день и ночь.
Но ни горячая ванна, ни долгий массаж, ни вино не рассеяли тревогу Каллиста. Он отправил к префекту Клеменсу посыльного с просьбой явиться к нему.
Оба заговорщика встретились в Палатине, в служебных помещениях Каллиста, поскольку личное свидание могли истолковать как заговор. В случае же внезапного появления императора они сразу могли бы представить беседу деловой.
— Я в тревоге, — начал разговор Каллист. — Он все чаще делает замечания, которые мне не нравятся. Может быть, Геликон что-то нашептал ему. Как бы там ни было, но мне не по себе.
Какими бы разными ни казались эти два человека и внешне, и внутренне, но теперь они были в одной упряжке и поэтому информировали друг друга о любых высказываниях императора, пусть даже самых безобидных.
— У меня сходные ощущения. Не хочу тебя тревожить, но при нашем последнем разговоре с Калигулой император не ограничился намеками. Если слова его и не прозвучали как приказ, то были похожи на настойчивое предложение.
Каллист с беспокойством посмотрел на префекта.
— Говори же! Что он сказал, вспомни каждое слово.
Клеменс нагнулся к нему и прошептал:
— Он сказал: «Клеменс, если я, чтобы испытать твою преданность, прикажу тебе схватить Каллиста — как ты поступишь?» Я ответил без колебаний: «Конечно, все исполню, император, Ведь Каллиста сразу же отпустят». Видел бы ты, как он набросился на меня, закричал, откуда я могу знать, что тебя сразу отпустят. Я прикинулся самой невинностью: «Ты ведь сам сказал, что все это только для испытания моей преданности, а не из-за виновности Каллиста». Его глаза были как кинжалы, когда он сказал: «Возможно, Каллист давно виновен и только прикидывается верным слугой. Возможно, и ты с ним заодно, кто знает…» Я сказал, что если он все еще сомневается в моей верности, то пусть обвинит меня в суде; тогда мою невиновность сразу же докажут. Но ты его знаешь, он тут же переключился на другую тему. Я уверен, что император не успокоится, пока нас обоих не уберет — сначала тебя, потом меня.
У Каллиста пробежал мороз по коже.
— Ничего не поможет, мы должны его опередить. Есть новые планы?
— Я разговаривал с Кассием Хереей, одним моим трибуном. Его имя должно быть тебе знакомо, поскольку он стал в последнее время постоянной мишенью императорских насмешек. У парня слишком высокий голос, а выглядит он как настоящий Геркулес. Бесконечные издевки так измучили его, что он готов взяться за кинжал. Правда, он не дал определенного ответа, но из его слов можно было сделать вывод о согласии. Херея поставил условие познакомиться с другими участниками заговора. Предлагаю, чтобы ими стали ты и Винициан. Когда он увидит, как далеко зашел заговор, то уже не станет колебаться. Каллист, это идеальный человек! Для таких, как он, солдатская честь стоит превыше всего, и он страдает многие месяцы от обид императора, а недавно это произошло на виду у всех.
Каллист кивнул.
— В ту ночь в Ватиканских садах. Я слышал об этом. Не выпускай Херею, Клеменс, подогревай его возмущение — приговорили мы Калигулу давно, а теперь нам нужен палач.
34
Программа освящения театра Помпея была наконец готова, причем Геликону не удалось добиться осуществления своего особенно подлого предложения. Этот императорский дружок, который следовал за Калигулой тенью и умел использовать жестокость и мстительность того для своих целей, высказал идею набрать часть актеров-смертников из числа римских евреев.
— У тебя для этого есть веские причины, император, когда слышишь, как этот народ тебя не уважает и даже противиться установлению твоего изображения в храме.
Калигула знал о неприязни Геликона к евреям.
— Нет, Геликон, на это я не пойду. Каллист описал мне римских иудеев как людей, верных императору, хороших работников и аккуратных налогоплательщиков. Я не собираюсь резать корову, которую могу доить. Пусть лучше выловят пару дюжин из черни. Эти паразиты только жрут на государственные деньги.
— Нельзя сердить народ сверх меры. Если плебеи объединятся, то могут стать опасными.
Калигула отмахнулся.
— Те времена давно прошли. Последние народные мятежи случались еще во времена Республики; Август положил им конец, и ты увидишь: народ с восторгом будет приветствовать меня, когда я открою игры в театре Помпея. Когда гладиаторы скрестят мечи, потечет кровь и внутренности повываливаются из растерзанных тел, когда львы зарычат и замычат быки, плебеи тут же забудут о маленьких неприятностях, которых им это стоило. Это племя забывает и размножается очень быстро. Нет, Геликон, меня это не беспокоит.
Игры назначили на начало декабря. В это время календарь не обещал никаких праздников, зато потом римлян ожидали консуалии
[14] и сатурналии. Конечно же, новость о том, что император собирается подарить своим подданным трехдневные игры, быстро разлетелась по всему городу. За бесплатные входные билеты — маленькие деревянные дощечки с номерами рядов и сидений — разыгрывались настоящие бои. Кому не повезло их раздобыть, тот пытался купить у более счастливых, и перед театром развернулась настоящая торговля, в то время как более удачливые зрители уже занимали места.
Император появился, как обычно, с большим опозданием. Но публика не возмущалась, поскольку была занята потреблением бесплатных напитков и еды и разговорами друг с другом. Но вот воздух пронзил резкий звук двенадцати фанфар, извещающих о прибытии императора, и шум празднично настроенной толпы мгновенно стих.
Калигула, как это часто случалось в последние дни, уже с утра был пьян, но пребывал в прекрасном расположении духа. Он поприветствовал, собравшихся небрежным движением руки и упал на скамью в императорской ложе. Празднично одетый магистрат — в руке жезл из слоновой кости, на голове золотой венок — бросил белый платок на арену, и игры можно было считать открытыми.
Как требовала старая традиция, которой никто так не придерживался, как Калигула, сначала выступали гладиаторы-калеки, демонстрирующие увеселительные бои на деревянных мечах и другом непригодном оружии, пока публика не начала выражать протест. И тогда на арену вышли серьезные бойцы, а с их появлением запахло кровью.
Это были настоящие, специально обученные гладиаторы, которые долго тренировались на соломенных чучелах, прежде чем их выпустили биться друг с другом.
Пышно разодетые, в строгом порядке проследовали они на арену под восторженные крики зрителей, являя собой в своих пурпурных плащах и блестящих парадных шлемах с высокими плюмажами из красных перьев поистине воинственное зрелище.
Гладиаторы остановились напротив императорской ложи, подняли правую руку и проскандировали хором:
— Идущие на смерть приветствуют тебя, император.
На этот раз представление начали самниты — тяжеловооруженные борцы, чьи мечи сразу же наполнили арену громкими звуками ударов о большие, богато украшенные бронзовые щиты. Одновременно боролись три группы, все — с остервенением и злобой. Они дрались за свою жизнь, и для тех, кто победил бы несколько раз, она могла стать очень неплохой. Восторженные зрители осыпали их подарками, красавицы богачки тянули в постель, и чем дольше им удавалось оставаться в живых, тем лучше шли их дела. Они могли выкупить свою свободу, приобрести дом и — если вовремя остановятся — состариться в кругу семьи в почете и уважении. Изображения самых знаменитых из них скульпторы увековечивали в камне, и они служили образцом молодым римлянам. Купленные смертью десятков смертей товарищей по оружию слава и богатство нисколько не смущали большинство граждан, остальные же держали свое мнение при себе.
Внизу, на песке, сейчас сражался Кар, гладиатор среднего роста, который едва ли мог похвастаться мускулами, но был гибок и вместо грубой силы демонстрировал молниеносную быстроту реакции. Маленьким прытким чертенком танцевал он вокруг своего противника, высокого громилы, которого послал ему жребий. Именно жеребьевкой определялись пары, что было справедливым, но, на радость публике, часто сталкивало неравных борцов. Все с замиранием сердца следили за Каром, чья маленькая фигурка кружилась вокруг великана-противника, напоминая изворотливую крысу, прыгающую вокруг угрюмого волка. Куда бы великан ни ударил, Кар был уже в другом месте и наносил маленькие, резкие, хитрые удары. Тот уже весь был покрыт кровоточащими ранами, ругался, бешено размахивая мечом, и каждый раз ударял в пустоту или по щиту, подставленному с быстротой молнии.
Тут Кар осмелел, позволил себе дерзко кивнуть императору, который тоже милостиво ответил кивком, стал обращаться с противником как с буйволом, позволяющим тянуть себя за кольцо в любом направлении. Публика неистовствовала, Кар ухмылялся, великан пыхтел и решил воспользоваться легкомыслием противника. Когда Кар с быстротой молнии нанес ему удар в левое плечо, тот притворился, что получил серьезное повреждение, застонал, покачнулся, и Кар поддался на уловку, поднял меч, приветствуя красавиц в ложе. Его противник неожиданно выпрямился и одним ударом отрубил ему руку чуть ниже локтя. Она все еще сжимала меч, когда упала на песок, забрызгав все кругом кровью. Кар смотрел вокруг глупыми удивленными глазами, как маленький мальчик, у которого забрали любимую игрушку. Рев возмущения прокатился по рядам зрителей. Как мог Кар дать себя обмануть этому болвану? Он еще не чувствовал боли, но думал о своем красивом доме, нажитом богатстве и возлюбленной из благородной семьи. Всем этим можно было наслаждаться и с одной рукой, и он бросился на песок, поднял оставшуюся левую руку и надеялся на милость публики. Но Кар просчитался. Люди были разочарованы им. Другой боролся честнее, раны его кровоточили, но на его грубом, покрытом потом и пылью лице играла гордая улыбка. Великан приставил острие меча к затылку лежащего противника и оглянулся вокруг. Большинство дам держали палец повернутым вниз, и он слышал выкрики, славящие его и позорящие повергнутого. Теперь все смотрели на императора, который весело показал знак смерти, чтобы потом продолжить оживленный разговор с Цезонией. Так меч вонзился в затылок Кара, и его жилистое, стройное тело еще долго вздрагивало на песке, будто жизнь с трудом покидала его. Скоро появились переодетые в Харона рабы. Они добили несчастного ударом молота по голове и потащили по пропитанному кровью песку прочь с арены.
Гладиаторские бои продолжили фракийцы — две пары, которые боролись на сиках — кривых мечах, защищаясь маленькими круглыми щитами-пармами. Но парни оказались настолько робкими, что в страхе причинить друг другу вред только танцевали кругами да поднимали столбы пыли. Император зевал, публика выкрикивала оскорбления и угрозы:
— Если вы и дальше будете спать, мы просидим тут до вечера!
— Шевелитесь, сони!
В конце концов пришлось послать за служителем, секшим рабов, который так долго ударами бича натравливал трусливых борцов друг на друга, пока те не изъявили готовность драться насмерть.
Восторженными криками приветствовали эсседариев, сражающихся на боевых колесницах. Все они были вооружены длинными мечами, которыми на ходу пытались столкнуть своих противников на землю, ранить их или перерубить поводья. Этого было достаточно для победы, и до убийства дело, как правило, не доходило.
Поскольку между сражениями выступали фокусники, акробаты и канатоходцы, игры затягивались почти до ночи. Калигула никогда не досиживал до конца, но к последней битве с сетями неизменно появлялся снова.
На арене появились ретиарий, который держал сеть и размахивал тяжелым бронзовым трезубцем, и мирмиллон — гладиатор в галльском вооружении с изображением рыбки на острие шлема. Их сражение напоминало борьбу рыбака и его добычи, причем ретиарий пытался набросить на мирмиллона сеть, чтобы он запутался в ней и не мог больше сопротивляться. Тот же делал все, чтобы этого не случилось, отбиваясь коротким мечом. Силы были распределены поровну, и борьба была настолько увлекательной и напряженной, что свое искусство демонстрировала только одна пара.
На этот раз победу одерживал ретиарий, потому что его добыча уже наполовину запуталась в сети, и теперь мирмиллон пытался помочь себе трезубцем. Он, как бешеный, работал мечом, надеясь разрубить сети, но у него ничего не получалось. Это, конечно, вызвало всеобщий смех, поскольку пойманный в шлеме набекрень так отчаянно барахтался, что являл собой по-настоящему жалкое зрелище.
Метатель сетей светился от радости, предвкушая свою победу. Один удар трезубцем, и противник должен был беспомощно рухнуть на песок. Но и другой так храбро и честно сражался, что завоевал симпатии многих зрителей. Поэтому все смотрели на императора — он должен был решить судьбу сражающихся.
— Хорошие борцы стали редкостью, — прошептал Клеменс ему на ухо, — на следующие дни понадобятся еще.
Калигула кивнул и поднял палец вверх. Театр взорвался неистовыми аплодисментами, и даже ретиарий почувствовал облегчение, ведь побежденный был его другом, с которым они часто тренировались. Он помог мирмиллону выбраться из сетей, они подняли руки в знак приветствия и по кровавому песку зашагали прочь с арены.
На следующий день были запланированы театрализованные представления по мифологическим сюжетам, которые всегда заканчивались трагической смертью героя.
— Таким образом, я несу просвещение в народ, и за это сограждане должны быть мне благодарны, — цинично заметил Калигула, в то время как на сцене сооружали деревянную башню высотой в тридцать локтей.
Первой должна была разыгрываться сцена «Полет Икара», в которой наибольший интерес представляло, конечно, падение. От платформы башни над верхними рядами к стене натянули трос, и вот уже появился он — Икар, сын искусного зодчего Дедала, который на крыльях, сделанных отцом, слишком близко подлетел к солнцу, и скрепленные пчелиным воском перья рассыпались. Пока актер трагичным голосом рассказывал о судьбе Дедала, запертого с сыном по приказу царя Миноса в высокой башне на Крите, несчастный, исполняющий роль Икара, поднимался по лестнице. Неприкрытый страх смерти стоял в его глазах, расширенных от ужаса, но удары кнута не давали остановиться, загоняя все выше. Наверху его поджидал мускулистый помощник, который высоко поднял «Икара» и укрепил на тросе.
Актер декламировал:
Юноша, гордый Икар,
дерзкой мечтой окрыленный,
вызов греховный богам
он в безрассудном порыве
бросил, задумав взлететь
и небесного свода коснуться.
Взмыл прямо к солнцу,
но лишь опалил себе крылья,
выше орлов воспарив,
камнем о воду разбился…
На этом месте помощник подтолкнул «Икара», и тот заскользил по воздуху на расправленных крыльях, пока на другом конце не отвязали трос, и тогда он с криком разбился о край сцены. Восторженные крики были наградой поучительному и достоверному исполнению, в то время как раб проломил молотом череп неподвижно лежащему актеру.
Пока башню разбирали и строили новые декорации, возбужденную публику развлекали глотатели огня, женщина-змея и пара карликов, но никто не обращал внимания на такие безобидные выступления. Император распорядился раздать фруктовый сок и хлеб, чем вызвал давку и ругань среди плебеев, в то время как лучшие люди с достоинством оставались сидеть на своих местах.
Между тем сцену превратили в засаженный деревьями и кустарниками лес, и каждый мало-мальски образованный зритель догадался, что здесь встретит свою злую судьбу Актеон. Из него кентавр Херон воспитал настоящего охотника — с этого места начиналось действие на сцене.
Буря восторга пробежала по рядам зрителей, когда их взорам предстал кентавр. Гримеры долго натаскивали пару карликов, пока из них не получился превосходный получеловек-полуконь.
Юный, очаровательный Актеон был одет, к радости зрительниц, только в маленький кожаный фартучек, прикрывающий чресла, и он демонстрировал свое ладное, подтянутое тело со всех сторон. Какой контраст с Хероном, кентавром! Со своими маленькими кривыми ручками и ножками и пухлой физиономией Херон действительно выглядел как существо, выбежавшее из леса. Херон учил Актеона бросать копье и стрелять из лука, но долго на сей сцене исполнители не задерживались. И вот молодой воспитанник кентавра уже бредет по лесу, останавливается, прислушивается, бежит дальше, пригнув голову, и вдруг замирает. Между деревьями показался маленький пруд, в котором купается божественная Артемида с нимфами. При виде обнаженных женщин плебеи приходят в бурный восторг.
Актеон очарован настолько, что решается подойти поближе еще на пару шагов, и, о горе, одна из нимф замечает его. С возмущенными криками показывает она Артемиде на юношу. Тогда божественная охотница топает в гневе ногой и произносит проклятье.
Красавец-актер, исполнивший роль воспитанника кентавра, молниеносно исчезает за сценой: дальше должен играть приговоренный к смерти преступник. Правда, Актеон еще не совсем потерял человеческий образ, но на голове его выросли оленьи рога, а тело покрылось коричневой шерстью.
Артемида с нимфами исчезла, и Актеон, как затравленный, выбежал на середину сцены не только потому, что так требует сценарий, нет, за ним гналась стая голодных псов. Двое из них сразу набросились на беднягу, стащили оленью шкуру и принялись рвать на куски руки и грудь, остальные грызли его ноги. С душераздирающими криками пытался он защитить лицо, но две дюжины волкодавов морили голодом неделю, и скоро от Актеона ничего не осталось. Зрители снова восторженно хлопали, а кто-то прокричал:
— Они с удовольствием слопали бы еще одного!
— Цезарь, ты плохо кормишь зверей!
— Может, найдется еще парочка сенаторов пожирнее!
Последние слова Калигула хорошо расслышал, и тут же выразил согласие:
— И не только парочка! По мне, так пусть сожрут хоть весь сенат. Но я не хочу, чтобы они переели, бедные собачки. Они нам еще пригодятся.
Плебеи ответили на «шутку» взрывом хохота и рукоплесканий, в то время как сенаторы в своих ложах втянули головы в плечи. Многие тогда подумали: «Я знаю подходящий корм для бестий», — поглядывая на императорскую ложу, где сверкал пурпуром плащ тирана.
С трудом удалось сторожам загнать тварей обратно в клетки острыми длинными палками и бичами. То, что осталось от Актеона, рабочие соскребли в угол и присыпали сверху песком.
Следующая драма была взята из истории Рима, и каждый раз во время ее представления зрители заключали пари. В ней рассказывалось о герое Гае Муции, который проник в лагерь этрусского царя Порсенны, чтобы убить его и освободить Рим. Город уже очень долго держал осаду этрусков, и силы были на исходе. Но Муций по ошибке заколол королевского секретаря, был схвачен и доставлен к Порсенне. Разгневанный царь пригрозил римлянину пытками и смертью, но тот лишь с презрением сказал:
— Я покажу тебе, как мало пугают меня твои угрозы.
Слова эти произносил исполняющий роль Муция, протягивая при этом руку в огонь, и держал, пока она не обугливалась. Приговоренный к смерти преступник мог, таким образом, спасти свою жизнь, но ему нельзя было кричать или допускать, чтобы от боли исказилось лицо. Публика заранее заключила пари, выдержит этот человек муки или сдастся, простившись с жизнью.
— А как ты думаешь, Цезония? Справится он с ролью Муция или слугам Харона придется проломить ему череп?
Цезония широко зевнула.
— По-моему, это просто скучно. Что ты в этом находишь? Лучше я вернусь во дворец и приму ванну. Я замерзла и завидую этому человеку: он, по крайней мере, руку может погреть.
Калигула воскликнул сквозь громкий смех:
— Погреть руку! Отлично! — Он обернулся к своим друзьям. — Вы слышали? Погреть руку!
— У Августы, несомненно, есть чувство юмора, — заметил Азиатик, сидевший с неподвижным лицом, а Геликон добавил:
— Похоже, что Муцию стало уже слишком тепло.
Первые секунды человек на сцене мужественно выдержал, но, когда кожа вздулась пузырями и пламя стало въедаться в плоть, лицо его исказилось от боли. Он знал, что его жизнь зависит от его выдержки, и левой рукой постарался продвинуть правую еще глубже в огонь, но боль была сильнее страха смерти, и с громким криком он выдернул руку обратно.
— Трус! Плакса! Слабак! — раздалось из рядов публики. Сзади к нему подошли служители Харона и потащили прочь.
— Плакса!
— Слабак!
— Нет, нет — я попробую еще раз, я выдержу! — сопротивлялся несчастный.
Все посмотрели на ложу императора.
— Он наскучил мне, — повторила Цезония и перевернула палец вниз. Калигула и его придворные льстецы сделали так же, и большая часть зрителей, прежде всего те, кто поставил на неудачника, последовали их примеру. Тут же тяжелый молот опустился на голову Муция, и он рухнул на песок.
Цезония встала. С нее было достаточно. Но Калигула решил остаться, чтобы посмотреть кастрацию Аттия.
— Это как раз для тебя, любовь моя. Парни выглядят так растерянно, когда их лишают мошонки, ты обязательно должна это увидеть.
Цезония рассмеялась громко и бесстыдно.
— Мне больше нравится, когда у них все на месте!
Калигула с гордостью огляделся по сторонам. Вот эта женщина в его вкусе, в своем бесстыдстве она ему ни в чем не уступала.
— Хорошо, тогда увидимся завтра на травле зверей, это придется тебе больше по вкусу.
Солдаты по-своему богобоязненны и любят праздничные церемонии. Относилось это и к суровым, видавшим виды воинам, отбывающим штрафную службу на Понтии.
— Теперь, когда все позади, мы могли бы устроить Кукуллу достойное прощание, я имею в виду…
— Нет! — решительно заявил Сабин, прервав легионера. — Кукулл опозорил солдатскую честь. Он убил подчиненного, обращался с вами как со скотиной, вызвал меня, трибуна, на поединок! Что же нам теперь, позвать плакальщиц и причитать над его останками? О каких его славных делах вы можете рассказать? Прах Кукулла без всяких церемоний будет развеян над морем.
Это произошло два дня назад, и теперь Сабин наконец нашел время нанести обстоятельный визит Ливилле.
Как всегда, лицо ее не выдавало движений души, но ему показалось, что вела она себя более открыто и оживленно.
— Миртия, посиди за дверью и последи, чтобы никто не приближался к дому. Ты можешь помешать нам только в случае опасности, слышишь?
Миртия равнодушно кивнула и исчезла.
— Приветствую моего храброго героя, — поддела она Сабина, и он парировал.
— Надеюсь, юная девственница пришла в себя после пережитого ужаса?
Ливилла улыбнулась.
— Мне приходилось переживать еще и не такие ужасы. Вот мы и коснулись нашей темы. Мы ведь оба хотим, чтобы ужас наконец прекратился. Но что я могу сделать в моем положении? Через несколько недель ты возвращаешься в Рим, а я не уверена, суждено ли мне покинуть этот остров живой.
— Уверен, что суждено, Ливилла! Я, во всяком случае, сделаю все, чтобы это произошло как можно скорее.
— Я помню о нашем предпоследнем разговоре, когда ты сказал, что есть только одна возможность убить Калигулу: это должен сделать человек из личной охраны императора. Ты сказал просто для красного словца или действительно готов на это?
Сабин кивнул:
— Да, Ливилла, в последнее время я даже вижу в этом смысл жизни. И не только желание мести толкает меня на убийство, нет, просто я чувствую потребность искоренить зло. При этом я не особенно мстителен и не стремлюсь стать героем. Я тебя разочаровал? Возможно, я хочу заставить расплачиваться императора за то, чего он не знает и в чем не виноват? Кто настолько хорошо понимает самого себя, чтобы разобраться в том, что им движет? Да и отобранное наследство не имеет никакого отношения к моему порыву; оставшейся третьей части мне более чем достаточно. Я знаю лишь одно: пока Калигула жив, мне не будет покоя.
— Хорошо, значит, я поняла тебя правильно. Но, надеюсь, тебе ясно, что заговор одного человека лишен всякого смысла? Даже если тебе удастся убить императора, его прихлебатели позаботятся о том, чтобы ты ненадолго пережил его, и выберут преемника, который нам не понравится. Нет, Сабин, Калигула стал настолько всем ненавистен, что не составит большого труда поднять против него половину Рима. Я же в своем теперешнем положении могу сделать одно: назову имена, которые ты должен будешь запомнить. Никаких записей! Людей немного, но к ним ты сможешь обратиться, когда вернешься в Рим.
— Если они еще живы…
— Надеюсь.
Ливилла сняла с полки небольшую книгу, переплетенную на новый манер, с пергаментными листами.
— Это список семей римских патрициев; кстати, я тогда сразу же нашла имя твоего дяди. Оно по-прежнему приведено здесь, как и имена других жертв убийцы — Сапожка. Сейчас я по очереди укажу тебе некоторые из имен, запоминай.
Сабин присел рядом с ней. Склонив головы друг к другу, они смотрели в книгу. От Ливиллы исходил манящий женский аромат, и он, поддавшись его магическому действию, невольно поцеловал ее в щеку. Та удивленно подняла на него глаза.
— Мы заговорщики или любовники?
— Скорее первое, но можем превратиться во второе. Ливилла, я сделан не из дерева! Больше месяца у меня не было женщин, и я не испытывал в них потребности. Но сейчас, когда ты сидишь рядом со мной… Факел нельзя подносить так близко к иссохшему дереву.
— Кто тут дерево, а кто факел?
— Факел, конечно же, ты.
— Хорошо, тогда я не буду больше вводить тебя в соблазн.
Она встала и села напротив него.
— Теперь иссохшее дерево вне опасности. Итак…
Она переводила палец от одного имени к другому, Сабин молча впитывал каждое из них, пока не прочитал «Валерий Азиатик». Он поднял глаза.
— Этого человека я знаю! Он считается лучшим другом императора. Ты не ошибаешься?
— Нет. Когда-то Калигула во время симпозиума увел его жену в спальню, а потом рассказывал всем за столом о своих впечатлениях. Азиатик, хотя и не признается, не простил ему этого. Император по-прежнему считает его своим другом, не ждет от него никакой опасности, поэтому он очень важен.
— Ты ведь замужем, Ливилла. Как твой муж относится к императору? Почему ты не называешь его имени?
Она презрительно отмахнулась.
— Марк Виниций — слабый, трусливый человек! Скажу, пожалуй, помягче: он добродушный и податливый, не любит драться и всегда выбирает путь полегче. Какое ему до меня дело? Тиберий сделал его моим мужем; Калигула считает его безобидным и отправил в провинцию, где тот служит тихо и спокойно. Он никому не нужен, никому не мешает — одним словом, он никто! Может быть, он не догадывается, что происходит в Риме, и все еще думает о Калигуле как о лучшем императоре.
— Хорошо, забудем о нем. Могу я спросить, что заставило тебя желать смерти брата?
— У тебя есть право знать. В заговоре Лепида на то были другие причины, но сейчас это только моя воля к свободе — свободной жизни в Риме, по собственному вкусу, без надзора, без страха доносов. Ценой такой свободы может быть только смерть Калигулы. Пока брат жив, он не помилует ни меня, ни Агриппину. Насколько я его знаю, он давно подумывает о том, как от нас удобнее избавиться. Я подозревала, что именно с твоей помощью он собирался это сделать.
— Теперь я развеял подозрения.
Она улыбнулась, встала и произнесла:
— Пожалуй, ты прав. Хочешь выпить вина?
— Да, с удовольствием. Если покушение провалится, любой легионер подтвердит, что трибун Сабин и узница Ливилла проводили вместе долгие часы, и мы с тобой окажемся в одной связке.
— Но это произошло по настоятельному желанию императора, чтобы выведать у меня побольше.
— Конечно, однако он поймет это так, будто ты меня совратила.
Ливилла удивленно подняла брови.
— Совратила?
Сабин рассмеялся:
— То есть уговорила примкнуть к заговорщикам, совратила на совершение предательства. Хотя я ничего не имел бы против совращения в его классической форме.
— Я не раз обжигалась, Сабин, мне не везло с мужчинами.
— Скажем, Виниция тебе навязали…
— Я думаю о Сенеке, о философе.
— Мне он хорошо знаком: часто бывал у отца.
— И что ты о нем думаешь?
— Остроумный, всегда любезен — приятный человек.
Ливилла с горечью кивнула.
— Конечно. О нем можно сказать только хорошее. Но когда я попросила его выступить с нами против Калигулы, он струсил, мол, это задача не для ученого и поэта, он не годится для заговоров, а кроме того, имя его стоит в черном списке императора.
— Похоже на правду, я много раз слышал, с каким презрением Калигула о нем отзывался.
— А я спасла ему жизнь, постоянно напоминая Калигуле, как только разговор заходил о нем, что Сенека страдает чахоткой и вот-вот умрет. Я думала, что люблю его, — нет, я любила его, но для него это было только игрой, возможностью разнообразить жизнь… А как у тебя обстоят с этим дела, Сабин? Тебе родители уже выбрали невесту, или ты предпочитаешь пока оставаться свободным?
Сабин тяжело вздохнул.
— Я сам выбрал себе невесту, из-за нее отправился в Эфес, но она не захотела расстаться со своим мужем, предпочитающим мужчин, даже после того как я подарил ей ребенка. Тогда она отдала предпочтение спокойной семейной жизни, а я, как глупый юнец, остался ни с чем, потратив впустую год…
— Впустую? Годы любви нельзя считать потраченным впустую! Пусть твоя любимая и отвернулась от тебя — но даже боги не в состоянии отобрать у тебя воспоминания.
— Можно посмотреть на это и так. А что если тебе попытаться со мной, Ливилла?
— Ты красивый и мужественный, и уже этим превосходишь обоих моих мужчин, поскольку Виницию не хватает смелости, а Сенека — урод.
Сабин не понял, что же она нашла в нем уродливого, но ничего не сказал. Он притянул к себе Ливиллу и самозабвенно поцеловал в губы. Женщина пыталась высвободиться из его рук, но не сильно старалась. Сабин, почувствовав ее податливость, скользнул левой рукой под тунику и нежно провел по стройному, прохладному бедру. Ливилла отстранилась, подошла к дверям, закрыла их на засов, а потом плотнее притворила и ставни.
— Почему бы нам не соединить судьбы во всех отношениях? Ты нравишься мне, Сабин, ведь ты принес новую надежду.
Он видел в сумеречном свете, как она быстро сняла тунику, и подумал, какое же у нее юное и стройное тело, будто Ливилле едва исполнилось семнадцать. Он снял броню и медленно подошел к ней.
— Что же ты, Сабин, раздевайся, я уже и не помню, как выглядит обнаженный мужчина.
Сабин выскользнул из одежды. Как с направленным против нее оружием стоял он, таким напряженным и крепким был его фаллос. Она взяла его в руку и осторожно погладила.
— Да ты настоящий Адонис, друг мой, такой красивый и гладкокожий, У тебя было много женщин?
Сабин притянул Ливиллу к себе, нежно поцеловал ее маленькие крепкие груди.
— Не очень много. Я, как осел, хранил верность моей любимой.
— Так и должно быть, когда кого-то любишь.
Сабин поднял женщину на руки и уложил на постель. Она обхватила его крепкими стройными бедрами, и он нежно ласкал ее влажное лоно.
— Иди ко мне, Сабин! Возможно, ты последний мужчина, который меня любит, а я последняя женщина, которая тебя обнимает. Мы оба живем с кинжалом у горла…
Он с силой проник в нее, сжимая бедра, и она с готовностью и желанием подстроилась под его ритм, крепко схватила за поврежденную руку, но Сабин не чувствовал боли, а только страстные движения ее тела, что все плотнее прижималось к нему. С небывалым счастьем излил он свое семя в эту женщину, которая извивалась под ним, как змея в слишком тесной для нее клетке.
Потом они пили вино из одной кружки, и Ливилла сказала с улыбкой.
— Как будто свадебная ночь.
— Да, любимая, надеюсь, тебе понравится на Понтии. Этот остров стал таким популярным за последние годы, Байи и Бавли просто меркнут по сравнению с ним. Мы прекрасно проведем здесь время.
Ливилла захихикала и подхватила игру.
— Говорят, что здесь отдыхает сама сестра императора.
— Что ты говоришь! Тогда мы попали в лучшее общество. Возможно, стоит подумать о том, чтобы построить здесь дом?
Ливилла, обычно такая сдержанная, закрыла рот рукой, чтобы подавить приступ громкого смеха.
— Как хорошо, когда можешь по-настоящему, от души, посмеяться, — сказала она, переводя дыхание.
Сабин выпрямился.
— Мне показалось, что я что-то слышал…
Оба насторожились. Секунду спустя они услышали тихий стук в дверь и голос служанки.
— Госпожа, госпожа, охрана хочет знать, не случилось ли чего. Они говорят, что в это время трибун с арестованной выходят на прогулку…
— Во имя хромого Вулкана! — выругался Сабин. — Солдаты хуже водяных часов, и если что-то происходит не в свое время, они тут же начинают нервничать.
Он быстро натянул одежду.
— Я должен успокоить парней, иначе у нас будут трудности.
Ливилла натянула на себя одеяло, прикрывая наготу, и Сабин отодвинул засов. Он достаточно долго находился среди военных, чтобы знать, как поступить в таком случае.
— Вы что, сошли с ума? — накинулся он на охранников. — Я пытаюсь допросить узницу, потому что император хочет наконец иметь результаты, а вы мне мешаете! Ваши мозги, похоже, поразил молнией Юпитер! С этого момента вы оба под арестом на десять дней! Идите!
Пристыженные и растерянные охранники удалились.
— Руф, позаботься о новой охране! Я, конечно, не Кукулл, но такая глупость должна быть наказана.
— Люди беспокоились о тебе, — робко заметил Руф.
— Знаю, но в этом случае я не мог поступить по-другому.
Он зашел обратно в дом, где Миртия как раз поправляла хозяйке волосы. Ливилла подняла на него глаза.
— Может быть, трибун, мы успеем еще совершить нашу обычную прогулку?
Сабин с нежностью посмотрел на нее.
— С удовольствием, если она опять состоится в садах Венеры.
— Почему бы и нет? Если тебе там понравилось…
— Еще как! — восторженно воскликнул Сабин.
— Миртия, мы продолжим позже. Посиди еще немного перед дверью и покарауль нас.
По лицу рабыни скользнула едва уловимая улыбка, но проницательная Ливилла заметила ее.
— Можешь не скрывать своей улыбки, Миртия, я прекрасно знаю, о чем ты подумала, и уверена, что ты за нас рада.
— Конечно, госпожа, я всегда радуюсь твоему счастью.
— А теперь исчезни, мы сгораем от нетерпения.
Ливилла снова заперла дверь.
— Она преданная душа и была единственной, кто сразу согласился отправиться со мной в ссылку. Как только я окажусь в Риме, отпущу ее. Да, после смерти Калигулы немногие будут награждены, в основном придется раздавать наказания. Я не завидую преемнику Калигулы — кто бы им ни стал.
Сабин, который как раз собирался снова раздеться, сказал:
— Не надо стараться заглянуть так далеко в будущее, тем более что настоящему нам есть что предложить.
Ливилла засмеялась и поцеловала его.
— Ты прав, давай продолжим нашу прогулку.
Перед домом между тем появились новые охранники, которым Руф сообщил строгим голосом об отмене прогулки трибуна с заключенной.
35
Геликон, греческий вольноотпущенник, был человеком без совести и морали. Им двигала единственно забота о собственном благополучии, а лишь затем о благополучии императора, правда, не из дружеских чувств, а по той причине, что образованный, умный, свободный от иллюзий придворный прекрасно осознавал тесную связь своей судьбы с судьбой императора. Единственным чувством, которому он временами поддавался — вопреки всякому разуму, — была ненависть к иудеям.
Геликон родился в свободной греческой семье в Александрии. Его отец, запутавшись в долгах, был вынужден отдать кредиторам двух из пяти своих сыновей. Подобные вещи происходили чуть ли не каждый день и никого не удивляли. Геликон попал, к одному еврею-виноделу, который терпеть не мог греков и давал рабам прочувствовать свою ненависть в полной мере, что в Александрии тоже было делом обычным, потому что в огромном городе жили греки, иудеи и египтяне, причем последние примерно в равных количествах, тогда как греки пользовались значительным численным превосходством. Между ними постоянно случались столкновения — особенно между иудеями и греками, — поводом для которых были прежде всего различия в религии, обычаях и нравах. Бывало и такое, что иудеи с египтянами поднимались против греков или все вместе — против римлян. Нетрудно догадаться, что должность префекта Египта не пользовалась популярностью из-за постоянной опасности обжечься в вечно бурлящем котле Александрии.
Геликон попал на службу во дворец еще при Тиберии, но старый император не оценил острый ум юного грека, и тот оставался в тени, пока на трон не поднялся Калигула. Вскоре новому императору стало ясно, что лучшим средством развеять скуку или изобрести новую «шутку» был Геликон, который поддерживал его во всех преступлениях и вдохновлял на новые. Таким образом, Геликон быстро приобрел власть, став незаменимым для Калигулы. А поскольку император щедро одаривал тех, кого создал сам, он нажил большое состояние, но не приобрел ни одного друга. Те, кому он был нужен, конечно, заискивали перед ним. В остальном же после своего господина Геликон слыл самым ненавистным человеком в Риме. Он знал это и так же, как и глубоко презирающий его Каллист, хотел позаботиться о будущих временах.
Поскольку, несмотря на все таланты, его мстительность и презрение к людям мешали приобрести друзей или заступников, все, что он имел, были деньги и имущество. Геликон владел несколькими миллионами сестерциев, домом в Риме и рыбным промыслом в Остии.
Что же он должен был делать, чтобы спасти жизнь? Бывший раб ясно ощущал, как широкие круги придворных и сенат постепенно отворачиваются от Калигулы, читал по их подобострастным лицам желание скорейшего свержения императора и постепенно начал подготовку к новым временам.
Его как лучшего друга, как тень императора ждал в случае удачного заговора меч палача. А значит, Геликон должен был исчезнуть, переродиться в другого человека, и он использовал для этого все возможности. В тайнике в своем городском доме он хранил шкатулку со всем необходимым для превращения в римского военного врача Тита Аттика, служившего некогда в
расформированном теперь африканском легионе. Все это подтверждали документы, подлинность которых ни у кого не могла вызвать сомнения. Между делом Геликон приобрел такие обширные познания в медицине — Калигула называл его лучшим врачом в Риме, — что без труда мог исполнить свою роль.
Постепенно он распродал имущество в Риме, а деньги привез в Афины. Именно там, в могущественном городе Древней Эллады, он и хотел затеряться, чтобы в безопасности насладиться нажитым богатством.
Прекрасный план и вполне выполнимый, если выбрать нужный момент. Но в этом-то и состояла сложность. Насколько разумным было бы исчезнуть еще при живом Калигуле? Император нашел бы его в любом уголке мира, пусть и под вымышленным именем. Значит, оставалось ждать его свержения. Но не будет ли тогда слишком поздно? Не покарает ли меч, ударивший Калигулу, и его, Геликона?
Долго пришлось ломать ему голову, чтобы выбрать предположительно правильный путь. Когда же Геликон почувствовал усилившийся настрой против императора, ощутил, что момент решающего удара вот-вот наступит, он решил бежать.
Для побега он выбрал третий день игр. Первые два дня Геликон провел бок о бок со своим господином в императорской ложе, непрерывно кашляя и чихая, поэтому ни у кого не возникло подозрений — даже у Калигулы, — когда на следующий день он остался дома по причине болезни.
На этот день император запланировал нечто особенное. И он, и Цезония должны были отправиться на Марсово поле верхом на конях, переодетые Марсом и Минервой. Но императрица выступала не как покровительница искусства и ремесел, а как воинственная богиня города Рима, согласно греческой мифологии: в шлеме, вооруженная мечом и щитом. Конечно, шлем был отлит из чистого золота, а щит украшали драгоценные камни величиной с орех. На ее пышной груди покоилась золотая эгида с изображением головы Медузы в центре и извивающихся змей по краям.
Калигул а в доспехах Марса выглядел скорее смешно, чем воинственно, хотя его тонкие ноги и скрывали золотые накладки. Его толстое, оплывшее тело с трудом втискивалось в броню Александра, но великолепный шлем с развевающимися перьями закрывал лысину. Лицо же Калигулы с неподвижными глазами, высоким мрачным лбом и плотно стиснутыми губами прекрасно подходило для образа бога мести и войны.
За стеной преторианцев, выстроившихся вдоль улицы, срывала голоса чернь, восторженно приветствуя императора, при этом слышались и двусмысленные выкрики — в основном в адрес Цезонии.
Ликующая толпа ревела как всегда, преторианцы исправно несли свою службу, гарантируя надежную защиту. Все было как обычно, но Калигулу так и не посетило чувство божественной всевластности, как это бывало в случае парадных выходов. Под многочисленными тогами и плащами ему мерещились мечи и кинжалы, которые только выжидали подходящего момента. Это ощущение мешало рождению возвышенного чувства, и настроение императора было скверным, когда он вошел в свою ложу. Только Геликон мог бы развеселить его, но тот лежал в постели. Стоило ли ему по-прежнему доверять? Или Геликон тоже носил под тогой кинжал заговорщика?
На сегодняшний день была назначена травля хищников как завершающий и высший момент праздника освящения. Для боя со зверями на арену отправляли осужденных преступников, которые должны были встретить здесь ужасную смерть к восторгу дикой, кровожадной публики. Но их было недостаточно, чтобы заполнить целый день, поэтому бои со зверями разбавляли выступлениями настоящих дрессировщиков.
Представления начались выходом на арену слона, который должен был обмотать хоботом человека и бросить его в бассейн с водой. Все оставались при этом целыми и невредимыми, хотя рабы и дрожали от холода в промокшей одежде.
Публика хлопала, терпеливо ожидая начала настоящего зрелища.
Потом появился тореро из Испании, но зрители не оценили по достоинству его натренированного, четкого ритуала убийства. Сначала его помощники выкриками и уколами длинных копий приводили в ярость огромного черного быка. Тот начинал готовиться к нападению, громко пыхтел, бил копытами по песку. Тореро — он был вооружен длинным тонким мечом и щитом, обтянутым красным, — танцевал вокруг своей жертвы, напрасно пытающейся поднять его на рога. И вот наступал момент, когда бык в изнеможении останавливался, чтобы собраться с силами. В этот момент тореро наносил ему удар через опущенный затылок в сердце. Бык вздрагивал, плевал кровью и, как подкошенный, падал на песок. Что-то в этом было, но высоко драматичный эффект человеческой смерти отсутствовал. И вот наконец долгожданный момент настал. В центре арены установили бутафорское дерево.
— Убийцы и грабители спасаются от леопардов! — возвестил глашатай, и тут же оба преступника предстали вниманию публики, безоружные, и каждый понимал, что настоящей борьбы ждать не приходится. В растерянности стояли они, глядя на бледное зимнее солнце. Конечно, эти люди знали, что их привели сюда умирать, но отчаянно цеплялись за последнюю надежду: возможность спастись на дереве. Когда дикие пятнистые кошки, пригнув головы, мягкой походкой проскользнули на арену, они оба бросились бежать к дереву и попытались забраться. Но по задумке места должно было хватить только одному. Кроме того, дерево сделали тонким и низким, чтобы и более удачливый не мог уберечь ноги от атак леопардов.
Между мужчинами завязалась драка: они остервенело колотили друг друга, пока одному из них не удалось одержать верх и спрятаться в кроне дерева. Изголодавшиеся звери тут же набросились на его поверженного противника, который еще не пришел в себя и даже не защищался. Острыми, как кинжалы, клыками они вырывали куски мяса, пожирая их под одобрительные крики толпы.
— Тебе вкусно, киска?
— Жулик немного жестковат, правда?
— Не забудь про другого, на дереве!
Но леопардам хватило одной жертвы, поэтому смотрители загнали их обратно в клетки. Вместо них появилась пара львов. Звери нерешительно ступили на незнакомую территорию, понюхали песок и тут же учуяли запах крови. Им пришлось поголодать, и сейчас их инстинкт был направлен на поиск добычи.
Беглец на дереве начал трястись от страха, сделал неловкое движение, отчего сук под ним обломился. Он упал на песок, тут же вскочил и быстро и проворно, как обезьяна, вскарабкался по стволу выше, пытаясь добраться до следующего сука, но тот оказался настолько тонким, что едва ли выдержал бы ребенка, поэтому ему пришлось просто поджать под себя ноги.
Львы с интересом пронаблюдали за его действиями и осторожно обошли дерево кругом. Через некоторое время лев остановился, зевнул и улегся на песок. Львица же приблизилась, посмотрела наверх, обнаружила добычу, поднялась на задние лапы и ударила когтями по притаившемуся человеку, который в отчаянии бросил взгляд наверх: но там были только тонкие, слишком тонкие ветви. Между тем львице удалось разодрать мужчине ногу, тот вскрикнул, подтянул ее выше, а хищница тут же занялась другой ногой. Бедолага попытался подтянуться на тонком сучке, но тот сломался, и человек рухнул прямо на львицу. Зверь отпрыгнул с возмущенным фырканьем, чтобы потом с довольным урчанием наброситься на легкую добычу. Преступнику повезло, потому что львица сразу проломила ему затылок. Теперь и царь зверей с готовностью присоединился к трапезе. Они вместе рвали на части мертвое тело, пока от него не остались кучка костей да клочья одежды.
— В общем-то, все время одно и то же, — проворчал Калигула. — Неужели в театре нельзя придумать что-нибудь новенькое? Кроме того, все случается слишком быстро. Не успеешь оглянуться, парней уже сожрали. Нужно, чтобы было больше напряжения или для разнообразия выпустить какую-нибудь женщину.
— Твое пожелание, похоже, сейчас исполнится, — сказала Цезония и показала на арену.
Там уже убрали дерево и установили крест в человеческий рост. Ввели пару, и женщину сразу же привязали к кресту. Мужчине вручили кинжал и деревянный меч, в то время как глашатай зачитывал обвинение.
Обоих приговорили к смерти: чтобы жить вместе с любимой женщиной, осужденный убил свою жену, а потом вместе с любовницей они избавились и от ее мужа. На них выпустили стаю голодных волков, но так легко звери не могли добраться до жертвы, поскольку мужчина преградил им путь и защищал свою возлюбленную меткими, сильными ударами. Но деревянное оружие едва ли подходило для того, чтобы нанести хищникам ощутимый вред, и самые отважные подкрадывались все ближе, хватая несчастного за ноги. Какие бы ни были на то причины, но симпатии публики оказались на стороне мужественного защитника, который убивал не из корысти, а из любви.
Вдруг к его ногам упал меч. Кто-то из публики, может быть родственник или друг, бросил на арену острое оружие. Оно ударило одного волка, который с воем отбежал в сторону, и другие тоже отступили на несколько секунд. Мужчина воспользовался моментом, отбросил в сторону деревяшку и схватил настоящий меч.
— Спасибо, спасибо! — закричал он зрителям, которые подбадривали его восторженным ревом. Волкам же теперь пришлось тяжело. Самый напористый лишился головы, у второго оказалась перерезанной глотка, так что кровь брызнула фонтаном. Поскольку волки принадлежат к немногочисленным видам животных, которые пожирают друг друга, оставшаяся стая набросилась на убитых собратьев, мужчина же внимательно следил за ними, держа оружие наготове. По его икрам стекала тоненькими струйками кровь, но серьезных повреждений не было. Требования публики сохранить обоим жизнь становились все громче.
— Жизнь! — скандировала людская масса, поднимая палец вверх. Теперь все взоры устремились на императора, поскольку по старой традиции он должен был исполнить волю народа. Но тот по каким-то причинам медлил.
— Я не позволю вынуждать меня, — ворчал он. — Если я сейчас пойду у них на поводу, то это увеличит соблазн убивать своих мужей и жен из-за любовников. Нет, я не могу их помиловать!
Выкрики звучали все настойчивее:
— Жизнь! Жизнь обоим!
Волки оставили на время свои атаки, наблюдая с безопасного расстояния за своим противником, который успокаивал подругу, не сводя при этом с них глаз.
— Думаю, что лучше на этот раз уступить, — сказала Цезония, — можно приговорить обоих к работе в каменоломнях. Люди просто хотят, чтобы их оставили живыми.
— Хорошо! — проворчал Калигула и показал палец вверх. — Оба еще пожалеют, что не сдохли здесь, на арене.
Театр взорвался криками ликования и восторга.
— Хвала Цезарю!
Волков тут же убрали и отвязали женщину. Она обняла и поцеловала своего возлюбленного, и они покинули арену, держа друг друга за руки.
Император поднялся.
— Я проголодался.
Он посмотрел на бушующую массу людей.
— Когда-нибудь им придется расплатиться за это, — пробормотал он.
Возможность предоставилась в этот же день. Император намеревался провести в театре еще и послеполуденное время, ведь суду удалось уличить двух всадников из уважаемых семей в оскорблении величия, и Калигула помиловал их, превратив в гладиаторов. Им разрешили с настоящим оружием противостоять львам, тиграм, леопардам, медведям и волкам, поскольку по старой традиции всех предусмотренных для травли зверей надо было обязательно убить. Если это не удавалось людям, то их натравливали друг на друга до тех пор, пока цель не оказывалась достигнутой.
Но оба всадника оказались никуда не годными. Один из них, человек в годах, никогда не держал в руках оружия и без сопротивления дал львице себя загрызть. Другой храбро боролся, но поскользнулся в луже крови, чем тут же воспользовался его противник, огромный бурый медведь, который задавил его лапами.
— Замечательно! Я могла бы пойти в театр и посмотреть там какую-нибудь скучную трагедию Еврипида.
Калигула в задумчивости посмотрел на Цезонию неподвижными глазами.
— Я мог бы послать вниз тебя с твоими придворными дамами, переодетыми фуриями, да боюсь, что хищники разбегутся в страхе, завидев вас.
Цезония устало отмахнулась.
— Тебе удавались «шутки» и получше. Мне кажется, что травлю надо закончить массовой битвой. Все, что осталось от людей и зверья, выгнать на арену и натравить друг на друга бичами.
Лицо Калигулы оживилось.
— Хорошая идея! Каждый против каждого!
Он отправил трибуна с соответствующим приказом к распорядителям игр. Но выяснилось, что почти все борцы были убиты, животных же осталось около сотни.
Между тем публика начала беспокоиться, негодуя на затянувшуюся паузу.
Вечно готовые бунтовать плебеи выкрикивали насмешливые замечания. Калигула, который обычно не обращал внимания на такие вещи, приказал префекту Клеменсу:
— Распорядись, чтобы схватили самых горластых, и пошли их на арену! Минимум дюжину, слышишь!
Приказ с трудом поддавался выполнению, поскольку все сразу стихли, как только показались преторианцы. Поэтому солдаты схватили первых попавшихся, правда, обращая внимание на то, чтобы те были помоложе и покрепче. Поднялся шум, люди кричали, что они невиновны, что позорно так обращаться со свободными римлянами, сжимая кулаки, выкрикивали они проклятия в сторону императорской ложи.
Калигулу трясло от возмущения. Что позволяли себе эти крысы, эти навозные мухи! Протесты и критику императора! Он заорал:
— Отрезать им языки, а потом бросить зверям на арену!
Он выкрикнул это так громко, что его могли слышать почти все. Все стихло: страх повис над рядами зрителей.
Лишившиеся языков, с перепачканными кровью, искаженными от боли лицами, шатаясь, появились люди на арене. Им под ноги бросили мечи и копья, а потом открыли клетки со зверями.
Глаза Калигулы оживились.
— Если бы Рим имел один язык и одну шею! — крикнул он с сожалением. — Как просто было бы тогда править!
Цезония лениво улыбнулась.
— Как они притихли — и с языками, и без. Они дрожат от страха перед тобой, боятся тебя больше, чем всего остального.
Она устроилась поудобнее.
— Смотри, сейчас начнется, сейчас они зашевелятся.
Одетые с головы до ног в кожу и броню погонщики ударами бичей натравливали людей и животных друг на друга, пока не завязалась настоящая бойня. Те, что без языков, — пару минут назад еще законопослушные мастеровые, ремесленники и поденщики, — от боли, злости и страха смерти превратились в мужественных борцов, которые теперь хотели продать свою жизнь как можно дороже. Немало разъяренных хищников упало в предсмертных судорогах на песок, прежде чем двенадцать человек один за другим оказались жертвами атак диких зверей.
Плебеи быстро забыли, что там, внизу, за свою жизнь боролись невиновные из их рядов, и от восторга кричали до хрипоты. Но когда дурман рассеялся, и мертвые тела, поддев крюками, стали по кровавому болоту выволакивать с арены, к людям вернулись рассудок и ощущение реальности. Втянув голову в плечи, покидали они театр, и многие из них принесли жертвы домашним богам за то, что на этот раз несчастье их миновало. Были и такие, кто тут же забыл о случившемся, но сотни способных думать этот акт насилия поверг в шок. О каком удовольствии могла идти речь, если любое посещение театра грозило смертельной опасностью? Было понятно, когда принцепс без лишних церемоний обходился со своими настоящими и мнимыми врагами, но хватать просто так невинных людей — тут он определенно зашел слишком далеко!
Каллист давно наблюдал за Геликоном, поскольку опасался влияния этого человека на императора и хотел быть в курсе каждого его шага. Поэтому от него не укрылось, что тот втайне распродавал имущество, он даже знал, что Геликон переводил деньги в Геллу. Делал ли он это по чьему-то поручению или улаживал собственные дела? Что-то затевалось, а ожидать от императорского любимчика можно было всего.
Недавно один из шпионов Каллиста донес следующее: Геликон в кругу доверенных лиц сказал, что толстяка давно пора заколоть, он, мол, уже созрел для этого. Каллист не сомневался, что речь шла о нем, и притаился, подглядывая и подслушивая, чтобы опередить Геликона, вовремя раскрыть его планы. Император тоже занервничал и задумался, когда любимчик неожиданно исчез.
Когда в то утро ему сообщили, что Геликон один, в неброской одежде, отправился на барже в Остию, Каллист решил, что пришло время нанести удар.
Довольный, но немного взволнованный стоял Геликон на носу тихоходного судна, которое наряду с грузом предоставило на своем борту места паре дюжин пассажиров. Он чувствовал себя в безопасности среди всех этих простых людей. Даже если кто-то и видел его в цирке или на ипподроме рядом с императором, то на таком расстоянии, что узнать его было просто невозможно.
Геликон продал собственность в Остии за девяносто процентов стоимости и хотел лично позаботиться о получении остатка суммы. Он тут же справился о наличии свободного места на корабле, хотя в это время года мало кто из капитанов решался отправиться в открытое море. Но что-то вынуждало его действовать быстрее, подсказывало, что надо поскорее заметать следы.
В полдень судно причалило в Остии. О носилках, мулах, лошадях можно было договориться прямо здесь, на берегу Тибра, потому что деловой и портовый центр находился в часе пути от пристани. Пока Геликон торговался с носильщиками, к нему подошли два человека, одетые в длинные коричневые плащи.
— На пару слов, господин, — обратился к нему один из них, приглашая жестом отойти с ним в сторону. — Есть еще одна возможность добраться отсюда до города — мы покажем тебе.
В пестрой толпе людей Геликон забыл об осторожности и последовал за людьми. В то время как один из них на что-то показал, отвлекая Геликона, другой воткнул ему нож в затылок. Геликон захрипел, покачнулся; убийцы затащили его в кусты, срезали с пояса кошель, вскочили на привязанных неподалеку лошадей и исчезли.
Никто ничего не заметил, только носильщики какое-то время озирались по сторонам в поисках возможного заказчика.
— Парень куда-то пропал, — заметил один, пожимая плечами. — Может, он пошел по нужде и скоро подойдет?
Некоторое время спустя убитого нашли. Поскольку на медной табличке, привязанной к поясу, стояло имя бывшего военного врача Тита Аттика, труп доставили в казарму в Остии, где какой-то трибун, часто бывавший во дворце, внимательно присмотрелся к нему и сказал:
— Он кажется мне знакомым. Возможно, я встречал его в Риме.
Потом на левой руке покойника заметили кольцо друга императора с изображением переплетенных рук и надписью «Гай».
— Думаю, что мы должны сообщить об этом во дворец, — высказал свое мнение трибун.
На следующий день Калигула получил известие о гибели его друга Геликона, который стал жертвой грабителей. Вот только странным показалось, что воры оставили золотое кольцо, а убитый путешествовал под чужим именем.
Калигула был вне себя. Но не смерть Геликона так расстраивала его, а его предполагаемое предательство.
Каллист, которому поручили разобраться с наследством, доложил императору странную вещь: оказалось, что Геликон оставил совсем немного.
— Это особенный случай, император. Геликон распродал все свое имущество и весьма запутанными путями переправил деньги за границу. Он готовился начать новую жизнь под именем Тита Аттика. В его доме после долгих поисков была обнаружена шкатулка, в которой хранятся подделанные документы, подтверждающие его жизненный путь врача.
Каллист с удивлением заметил, что обычно неподвижные глаза императора начали беспокойно моргать. К тому же его словоохотливый господин, похоже, находился в состоянии, о котором говорят, что у человека пропал дар речи. Предательство Геликона оказалось для него тяжелым ударом. Каллист сделал опечаленное лицо, но на самом деле от всего сердца наслаждался ситуацией.
— Он хотел… — проговорил Калигула, запинаясь. — Геликон хотел… Выглядит так, что он — можно предположить — планировал что-то необычное… Может быть, для моей защиты? Или чтобы что-то выведать? Это же возможно, Каллист, или?..
— Это была бы одна из сотни возможностей, — неторопливо произнес секретарь.
Калигула не обратил на его слова внимания, продолжая мысль.
— Он начал действовать, и кто-то из его или моих врагов раскрыл его и убил. Каллист, я думаю, что затевается новый заговор!
Последнее предложение прозвучало почти беспомощно и даже с нотками смирения.
— Нет, император, не думаю. В смерти Геликона я вижу стечение многих не понятных мне до конца обстоятельств. Вместе с Клеменсом мы создали сеть шпионов — для твоей безопасности, — и если бы что-то такое планировалось, мы бы тут же узнали. Ты можешь быть совершенно спокоен.
Но как раз этого Каллист и не хотел. Его упоминание о совместной работе с Клеменсом должно было вселить тревогу в императора, ведь тот делал все, чтобы рассорить секретаря и префекта.
— Значит, вы работаете вместе? — спросил Калигула с подозрением.
— Так было всегда, — с удивлением ответил Каллист. — Мы оба не в состоянии заменить силу и действие твоей божественной персоны, но, пока ты был в Германии, мы по крайней мере пытались это сделать. Я признаю, что не особенно люблю Клеменса, да и он обо мне не лучшего мнения, но, когда дело касается благополучия империи и возможности снискать твою милость, личное отставляешь в сторону.
— Значит, ты не веришь в очередной заговор?
Каллист пожал плечами.
— По крайней мере на это ничто не указывает.
— Протоген на службе?
— Конечно, во всяком случае, он не уведомлял об уходе. Передать ему твой приказ явиться?
— Нет, я сам навещу его.
В развевающейся тоге Калигула быстро прошел мимо охраны, пересек сады и колоннады, не обращая внимания на согнувшихся в низком поклоне слуг. Рабочее место Протогена находилось в старом мрачном здании времен Республики, где заседал и императорский суд. При появлении Калигулы все забегали и засуетились, поскольку никто не мог припомнить, чтобы император когда-нибудь заходил сюда. Дверь оказалась заперта, и Калигула приказал личной охране сломать ее.
Помещение было прибранным, и все выглядело как всегда. Калигула собственноручно переворошил свитки с актами, но не смог найти нужного.
— Список! Список! — визжал император. — Где список?
Собрались несколько человек из суда. Один из них отважился на ответ:
— Мы не знаем, император. Протоген никому не разрешал вмешиваться. Возможно, он еще придет…
— Он никогда не отсутствовал без предупреждения, его всегда можно было найти в любой момент, днем и ночью. Проверить его дом!
Там обнаружили следы поспешного отъезда. Не хватало одежды, обуви и многого другого, что могло потребоваться человеку в длительном путешествии. Слуге он только сказал, что по поручению императора должен надолго уехать.
Калигуле оставалось лишь смириться: Протоген, добросовестный контролер черных списков, исчез, а вместе с ним и важные документы.
Геликон мертв, Протоген сбежал. Император с болью ощутил, как не хватает ему двоих друзей — нет, не друзей, помощников. У него была превосходная память, у Протогена — еще лучше. Правда, он вел списки, но имена казненных, узников, подозреваемых, а часто и членов их семей он держал в голове и никогда не ошибался.
Почему он сбежал? Как и Геликону, ему нечего было бояться. Калигула доверял им так, как никому другому, и никогда не жалел об этом, хотя обстоятельства смерти Геликона вселяли подозрение. Не заметил ли чего-нибудь странного в поведении Протогена Каллист?
Толстый секретарь с сожалением поднял руки.
— Нет, император, но я не часто имел с ним дело.
«Пусть анонимное предупреждение и написано мной, — подумал он со злорадством. — Вот ты и потерял обе свои опоры, Сапожок. Теперь у тебя остались только светловолосые пустоголовые германцы, но они — это всего лишь инструменты, которыми может воспользоваться и другой».
Калигула бросился обратно в свои личные покои. Там находилось нечто напоминающее рабочий кабинет, которым он изредка пользовался, чтобы в тишине сделать кое-какие личные записи.
— Вон! Встаньте у дверей! — приказал он охране.
Дрожа от волнения и нетерпения, он открыл чернильницу, взял чистый папирус и написал большими буквами «Gladius» — Меч. Придавив край свитка золотой фигуркой Венеры, взял второй и аккуратно вывел «Pugio» — Кинжал. Меч и кинжал — этими двумя словами он хотел удержать то, что исчезло вместе с переписчиком приговоренных к смерти. Он сам себе дивился, как много имен хранилось в его памяти — имен, которые давно должны были быть написаны на погребальных урнах. Они оказались в списке, озаглавленном словом «Меч», под словом же «Кинжал» выстроились имена подозреваемых, против которых следовало выдвинуть обвинение. Это была увлекательная игра — обдумывать, в какой список поставить то или иное имя. При этом он представлял, чем мог заниматься человек, чью судьбу он решал в эту минуту. Например, Аппий Галл, который никогда не открывал в сенате рта, но Калигула читал мысли по его лицу. Этот толстый сенатор каждый день желал ему кинжала в грудь или яда в вино, но только вида не подавал. Ни одного двусмысленного замечания, ни одного проявления неуважения, ни одного противоречия — ничего, к чему можно было бы придраться. «Но что-нибудь обязательно найдется», — решил император, и Галл попал в список «Меч». Калигула представил, как толстяк уютно расположился у себя дома в ожидании ужина. Возможно, он хотел отведать поросенка в вине — ведь у этих людей не было фантазии, — и вот мечтал об этом поросенке и не знал, что уже рубят деревья для костра, на котором сожгут его труп, не знал, что собирается поужинать, возможно, последний раз на свободе. «Я не только Юпитер, я еще и фатум для многих людей, — эта мысль обрадовала Калигулу. — Это значит: наша жизнь — меч в руках судьбы».
Калигула злорадно рассмеялся и вписал еще два имени в список, помеченный словом «Меч». Он не знал близко этих людей, только помнил, что оба стоят во главе благородных семей. Судьба настигла вас, друзья, и ни один бог вам не поможет.
Император отложил перо и наслаждался чувством абсолютной власти, которого уже давно не испытывал.
36
Паблий Петроний, легат Сирии, много раз в своей жизни попадал в сложные ситуации, но знал, что выход из них всегда можно найти. Однако на этот раз он такого выхода не видел. Какие компромиссы мог он предложить иудеям? Они хотели всего или не желали ничего, и Петроний, который хорошо знал их религию, понимал, что они не могут, не должны действовать по-другому, если не хотят прогневить своего Бога.
Со дня разговора с иудеями в театре Тиберия Петроний много раз пытался найти пути согласия с ними, но все напрасно. Он говорил с верховными жрецами, фарисеями и саддукеями, описывал трудности своего положения, объяснял, что если здесь он — господин, то в Риме — раб. В ответ его противники сочувственно качали головами, и несколько раз легат думал, что близок к решению проблемы, но они опять предлагали свое: выполнение принудительных работ, деньги, переселение и, в конце концов, бросили на весы свою жизнь и жизнь своих близких.
Паблий Петроний был близок к отчаянию. Между тем со дня его приезда прошло уже две недели, а к сбору урожая люди до сих пор не приступали.
Петроний, несмотря на отчаянное положение, сохранил ясность ума и понимал, что у него есть только три возможности: он мог установить статую, применив силу, понимая, что за этим последует мятеж, броситься на меч или уступить иудеям, приняв на себя ответственность за последствия.
Легат выбрал последнее и созвал собрание. Снова евреи заполнили театр до отказа, и снова к ним вышел Петроний и ждал, пока стихнет ропот.
— Иудеи! Я римлянин, а значит, принадлежу к воинственному народу. Мужество с давних пор считается у нас одной из главных добродетелей, и вы показали мне, в какой степени обладаете им. Я долго размышлял и решил последовать вашему примеру, ведь, для того чтобы нарушить приказ императора, требуется много мужества. Возможно, мне удастся с помощью вашего бога переубедить Гая Цезаря, и я буду первым, кто обрадуется вашему спасению. Если нет, тогда я готов отвечать за последствия, и утешением мне будет сознание того, что я не совершил несправедливости. Да помогут нам ваш и мои боги — покоримся их воле.
— Благослови тебя бог, праведник!
— В сердцах иудеев ты всегда будешь на почетном месте!
— Да спасет тебя бог, Петроний!
Под такие выкрики легат покинул театр, в тот же день отправился в Птолемею и собрал там свои войска. Он знал, что многие центурионы не одобряли его решения, но каждый из них получал один и тот же ответ:
— Это мой выбор, и в случае неблагоприятного исхода отвечать за него буду я.
В начале декабря легат прибыл в Антиохию. Отсюда он написал по-военному краткое письмо императору, в котором просил проявить понимание и милосердие:
«Я верю, император, что действовал в твоих интересах, уступив иудеям.
В противном случае все могло бы обернуться мятежом по всей стране, и, если урожай в следующем году будет скудным, а для этого предположения я имею все основания, это окажется крайне невыгодно для снабжения Рима зерном и получения налогов.
Поэтому, император, я распорядился установить твою статую в гавани Птолемеи, где те, кто прибыл на римских судах, будут обращаться к тебе с молитвой о хорошей погоде и прибывающие чужестранцы смогут приветствовать тебя. Надеюсь, что действовал в соответствии с твоими ожиданиями».
Ветра в эти дни дули благоприятные, и письмо быстро доставили в Рим, где Каллист тут же прочел его императору — как и все важные послания.
Когда секретарь, закончив чтение, поднял глаза, его охватил ужас от вида перекошенного в приступе злобы лица принцепса, который прохрипел задыхаясь:
— Это… это… неповиновение! Как осмелился этот слабый, трусливый, коварный человек действовать против моей воли? Я… я… Нет, на этот раз вина лежит не на иудеях, а на Публии Петронии, которого я с этого момента буду называть государственным изменником. Это дерзость — считать меня богом погоды! По крайней мере у иудеев появится кое-что, над чем можно посмеяться. Но скоро им будет не до смеха, об этом я позабочусь! Напиши ему письмо, Каллист, с коротким требованием ответить за преступное поведение. Позднее мы поговорим о его преемнике.
Каллист молча поклонился. Он написал письмо, отдал его на подпись императору и затягивал с отправкой так долго, пока не началось время зимних штормов. Сделал это он не тайком, а предварительно обговорив все с Клеменсом, чтобы потом, после известных событий, они могли бы выступить в защиту друг друга.
Корнелий Сабин переживал в эти дни душевный подъем, и не в последнюю очередь из-за любовных отношений с Ливиллой; ведь он вырос в семье патрициев и не мог не поддаться магии августейшего имени. Ливилла была женщиной императорского рода и оказалась не простой любовницей, всегда принимающей избранника с распростертыми объятиями. Каждый раз Сабин должен был соблазнять ее заново, а она не всегда проявляла желание. Правда, ей не хватало жгучей страстности Елены; Ливилле была свойственна скорее внутренняя игра эмоций и настроений.
Приближалось время разлуки, поскольку прошло уже почти три месяца, и Сабин ждал только следующего судна. Во время последней прогулки он сказал:
— Мне будет тяжело прощаться с тобой, но я знаю, что мы обязательно встретимся. Не могу сказать, почему я так в этом уверен, — просто это знаю. Но жизнь наша к тому времени станет другой, изменятся обстоятельства, поэтому будущее наше свидание меня не радует. Здесь я командир легиона и почти властелин острова. В Риме же ты снова будешь жить на Палатине, и если мне придется уйти из гвардии дворцовой охраны, тогда и на возможность встретиться рассчитывать не придется. Да я и не уверен, что ты захочешь этого.
Ливилла, как обычно, слушала, не прерывая ни словом, ни жестом, и только потом ответила:
— Быть уверенным можно только в смерти. Твои последние слова я поняла как вопрос. Я тоже не могу сказать, что будет потом. Ты должен понять меня, Сабин: за всю мою недолгую жизнь Фортуна нечасто была милостива ко мне. Когда мне было два года, умер мой отец, которого я едва помню. В двенадцать у меня отобрали мать, больше я ее так ни разу и не увидела. Брата Друза, которого я любила больше всех, Сеян уморил голодом в палатинских застенках; Нерон умер здесь, на Понтии, и он тоже жертва Сеяна. Беда шла за бедой, Сабин, а ведь я не из камня. Удары судьбы ранят так же, как меч, и тоже оставляют шрамы: только одни — на коже, а другие — в душе. Любой воин знает, как они иногда болят. Я разучилась по-настоящему радоваться, не говоря уж о том, чтобы в чем-то быть уверенной. Как было с Калигулой, какие надежды нас окрыляли и что из этого получилось, мне нет необходимости тебе рассказывать. Я не люблю много говорить, Сабин, но ты стал моим возлюбленным, ты мне очень нравишься, и я хотела объяснить, почему не желаю строить предположений на будущее.
Сабин покачал головой.
— Длинная речь, но ответа я так и не услышал.
— Я не могу тебе его дать, и как раз это и пыталась объяснить.
— Ты сказала, что я тебе очень нравлюсь, но нравиться кому-то — не значит быть любимым. Я единственный мужчина на острове, который годится на роль любовника сестры императора, неплохо выгляжу, молод и мог бы стать спасителем тебя и твоей сестры. Причин достаточно, чтобы понравиться тебе.
Ливилла печально улыбнулась.
— Но, Сабин, разве это не достойные причины для женщины, чтобы отдаться мужчине? Чего ты ждешь от меня? Тебе бы больше пришлось по душе, если бы я сказала: «Трибун Корнелий Сабин, я не общаюсь с людьми твоего ранга»? Это же глупо. Конечно, я тосковала по мужчине, но думаешь, твой предшественник или, скажем, Кукулл мог оказаться в моей постели?
— Им ты не могла доверять. У нас же одна цель.
Ливилла согласно кивнула.
— Да, это так! Прекрасная причина объединиться и скрепить союз печатью Венеры, раз уж заговорщики оказались мужчиной и женщиной.
— Иногда я думал, что ты могла бы стать моей женой…
Ливилла ответила звонким смехом.
— Да, это было бы необычным предложением для супруги Марка Виниция. Ах, Сабин, давай больше не будем об этом! Все это пустые слова, они не помогут дать нам решения. Если Фортуна будет к нам благосклонна, Калигула скоро попадет в яму, которую копал для других. И если нам суждено остаться в живых, то в Риме найдется возможность для встречи. При условии, что мы оба этого захотим. Оба! Слышишь?! Но на этот вопрос пока нет ответа. А теперь хватит! Пойдем в дом, Сабин. Я хочу тебя.
Сабин горько вздохнул.
— Остается надеяться, что это желание не пройдет у тебя и в Риме.
— Не знаю, останусь ли я той же. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Во всяком случае, ты больше не злишься на меня?
— Почему я должен злиться, если мы так нравимся друг другу…
— Едва скажешь правду, как ответом тебе будет насмешка.
— Многое легче переносится с насмешкой.
— Смотри, снова появляется солнце. Дни опять становятся длиннее, но, с тех пор как ты здесь, они мне кажутся короткими. Сабин, у меня есть предчувствие, что этот год станет для всех нас счастливым.
— Значит, Сапожку он принесет несчастье…
Ливилла кивнула.
— Я желаю ему всех несчастий на свете. Пусть появится новая Пандора, которая откроет рядом с ним свой ящик.
— Как известно, кое-что должно при этом остаться…
— Да, надежда. Пусть так и будет! Без надежды, без поддержки, ненавистный всему миру, он должен отправиться в мир теней. Если боги справедливы, то все те, кого он послал туда, встретят его и будут мучить вечно.
— Я не такой мстительный. Мне достаточно видеть его труп на костре. Я хочу, чтобы мы его пережили и были вместе.
— Не надо больше говорить, Сабин. Пойдем в дом.
В начале января Калигула неожиданно решил совершить путешествие на Капри. Это случилось после разговора с Пираллией, когда он, чтобы показать, что ничего не страшится, поведал ей о предсказании астролога. Правда, он панически боялся грома и молнии, но об этом мало кто знал.
— В январе со мной может случиться несчастье, так сказал бородатый Сулла. Интересно, почему же он не предупредил меня о Лепиде или Папинии? Оба покушались на мою жизнь, но тогда звезды молчали.
Пираллия села в постели, прикрывая грудь пурпурным одеялом.
— Твой дед, император Тиберий, верил во власть звезд. Все в Риме тогда говорили об этом.
— И что же? Народ понимал его со всеми этими глупыми суевериями?
— Нет, не думаю. Люди смеялись над этим. Что за человек был твой дед? Когда он покинул Рим, я была совсем маленькой и никогда его не видела.
Калигула не хотел вспоминать Тиберия — сейчас он думал о другом. Ему в голову пришла мысль, как убежать из грозящего опасностью Рима.
— Я не люблю о нем говорить, но могу предложить тебе посмотреть, как он жил, и суди о нем сама. Мы вместе отправимся на Капри. Только вдвоем. Хочешь?
Как всегда, когда он бывал с Пираллией, Калигула казался более уравновешенным, а мрачные черты лица становились мягче.
— Цезония будет недовольна, — предположила она.
— Цезония не ревнива. Кроме того, я делаю то, что хочу. Одиннадцатого января она должна принять участие в празднестве Карменты
[15]. Это женский праздник, и хорошо, когда императрицу видят ее подданные.
Пираллия улыбнулась.
— Конечно. Я буду рада поехать. Зимой на Капри наверняка гораздо лучше, чем в Риме. К тому же предсказание Сулла… Значит, мы соединим приятное с полезным.
Калигула немного помолчал и сказал:
— Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь знал. Мы просто незаметно исчезнем из Рима. Сенаторы будут в изумлении, не будут знать, что делать. Начнут приносить жертвы, моля о моем возвращении.
— Совсем незаметно вряд ли получится, — засомневалась Пираллия.
— Нет, конечно нет. Я скажу Каллисту и Клеменсу и возьму с собой центурию преторианцев.
Пираллия весело рассмеялась.
— Но это же сто человек! Незаметнее не получится?
— Для Рима это немного. Мы поплывем на простых кораблях. Даже преторианцы не будут знать, куда мы плывем.
Во время путешествия Калигула несколько раз повторял, что они плывут как обычные люди, и, похоже, это доставляло ему удовольствие. На море было неспокойно, но они следовали строго вдоль берега, не теряя его из виду. Антий, Астура, мы с Кирки, Анксур, Синуэсса и Вольтурнум остались позади.
В Кумах сделали остановку. Когда-то Калигула велел выстроить здесь виллу над морем, которую теперь с гордостью показывал Пираллии.
— Дом так удачно расположен на скалах, что к нему ведет только одна тропа, которую могут охранять лишь несколько воинов, — он показал на север. — Там, напротив, ущелье Сибиллы, но об оракулах я такого же мнения, как и об астрологах.
— Спроси оракулов и сравни их предсказание с тем, что сказал Сулла. Проверить не помешает.
Калигула молчал в нерешительности. Он не верил оракулам и одновременно боялся их, но не мог выдать своего страха перед Пираллией.
— Почему бы нет? — наконец сказал император. — Окажем завтра честь Сибилле. В это время года у нее немного дел. Кстати, ты знаешь, что этот город основали твои предки? Раньше он назывался Киме и был первым греческим поселением на италийской земле.
— Тогда Кумы можно считать частью Дельф.
— Правильно, моя умная красавица! Или красивая умница? Что тебе больше нравится?
— Не такая уж я умная. А красоте моей скоро придет конец. Мне уже немало лет. В этом возрасте женщины имеют детей, дом…
— Ну что же, дом и деньги у тебя есть, а матерью ты еще можешь стать.
Пираллия улыбнулась.
— Еще одна причина обратиться к оракулу. Как ты явишься к нему завтра, Гай — как римский император или простой человек?
— Ни то, ни другое, я просто явлюсь. Но со мной будут преторианцы, и жрица сделает из этого выводы.
Утро выдалось холодным и ясным, но воздух в Кумах был мягче, чем в Риме. Тут и там уже расцвели цветы и кустарники. Калигула и Пираллия ехали бок о бок на мулах вдоль виноградников и оливковых рощ. Сам город скрывала высокая крепостная стена, так что он почти не был виден.
Преторианцы позаботились о том, чтобы они оказались единственными, кто поднимался по крутой дороге к Акрополю. В храме Аполлона их ждали.
— Аполлону можно приносить в жертву только быка, овцу или козу, причем предпочтение почему-то отдается козам. Мои люди уже доставили наверх козла, — сказал Калигула.
— Я знаю, почему. Отец рассказал. Он узнал об этом от одного богатого человека, которого сопровождал в Дельфы. Они называют это священным трепетом перед Аполлоном. Думаю, мы сами все увидим.
Жрецы подошли, чтобы почтительно поцеловать руку императора, и Калигула заявил с притворной скромностью:
— Я здесь простой человек, почтенные жрецы Аполлона. Не как император хочу обратиться к оракулу, а как Гай Цезарь.
Жрецы поклонились и отошли. Привели белого козла, на которого один из жрецов вылил ведро священной воды из источника. На секунду животное замерло от неожиданности и удивления, чтобы потом встряхнуться.
— Он дрожит! — закричали жрецы. — Посмотрите на священную дрожь перед Аполлоном!
Калигула подмигнул Пираллии, и оба отступили назад, пропуская жрецов. Через минуту козел с перерезанным горлом вздрагивал на полу, истекая кровью.
Потом они спустились в грот Сибиллы. За маленьким, украшенным колоннами входом начинался длинный, прорубленный в туфовом камне проход, от которого отходили боковые галереи с видом на море.
Калигулу злили любые правила, если их предписывали соблюдать другие, и теперь он громко разговаривал, даже не думая понизить голос. Жрецам пришлось смириться.
— Такие траты из-за старухи, которая якобы смотрит в будущее. В Дельфах все, наверное, по-другому, Пираллия? Думаю, что там идут не в гору, а под гору. Здесь, конечно, все таинственнее, потому что кажется, будто спускаешься в подземный мир…
— Император, — не выдержал старый жрец. — Я прошу тебя замолчать. Мы приближаемся к святилищу.
Калигула громко рассмеялся.
— Хорошо-хорошо, умолкаю. Не будем мешать Сибилле размышлять в тишине над ее выдумками.
Проход заканчивался маленьким залом с выдолбленными в каменных стенах сиденьями. Тяжелый красный занавес, расшитый золотыми лавровыми листьями, скрывал святилище от глаз посторонних.
— Задай вопрос, — хором сказали четыре жреца.
Калигула насмешливо улыбался, но игру поддержал.
— В начале года меня может
подстеречь опасность. Я хочу знать, откуда ее ждать.
— А ты? — обратились они к Пираллии.
— Мое будущее находится в руках богов и императора — это я знаю, а больше ничего знать не хочу.
— Кажется, моя Пираллия умнее, чем я, — одобрил Калигула ее ответ.
Два жреца исчезли за занавесом, а оставшиеся приглушенно объяснили:
— Сейчас Сибилла просит Аполлона о помощи. Услышав голос бога, она повторит все сказанное. Иногда она кричит так громко, что голос ее разносится по пещере.
На этот раз криков они не услышали. Ждать пришлось довольно долго, но вот жрецы появились снова и протянули Калигуле свиток.
— Ответ Аполлона устами Сибиллы.
Калигула взял свиток и потянул Пираллию к выходу.
— Пойдем! Здесь можно окоченеть.
Когда они шли обратно, Пираллия спросила:
— Тебе не интересно узнать ответ богов?
— Я сам бог! Если Аполлону есть что мне сказать, он обратится ко мне.
Хотя он и разыгрывал беззаботность, гречанка все поняла. Суеверный страх заставлял императора медлить.
Позже, когда они сидели на террасе и пили вино, глядя на морские волны, которые с грохотом разбивались о скалы, Калигула сам вспомнил о свитке. Он достал папирус, развернул, прочитал и разразился громким смехом.
— Ты только послушай, Пираллия: «Остерегайся человека по имени Кассий!» Вот как звучит предсказание, и в своей глупой простоте оно действительно неподражаемо. Тут сказано: «Остерегайся человека по имени Кассий», а не просто «Кассий»! Конечно, смысл его символичен, и оно относится к одному из убийц Цезаря. Точнее, оно могло бы звучать так: «Остерегайся человека по имени Брут!» Или еще проще: «Остерегайся убийцу!» Но я это делаю все время, и, насколько я знаю свой сенат, скоро в нем родится новый Кассий, или Брут, или предатель.
— А если предсказание относится к вполне определенному Кассию?
— Но, Пираллия, Кассиев в Риме тысячи. На какого из них я должен обратить внимание? Это все вздор! Мы могли бы не трудиться навещать оракула.
Тут Калигула на секунду задумался.
— Может, это Кассий Лонгин, которого я недавно назначил проконсулом Азии? Строптивый и коварный человек… Он не может мне простить, что я отобрал у него Друзиллу и отдал ее Лепиду. Да, от него вполне можно ожидать нового заговора. Вдали от Рима он мог собрать сторонников…
Калигула погрузился в мрачные размышления, и Пираллия, которая знала, к чему могла привести подозрительность императора, постаралась отвлечь его.
— Но ты же сам сказал, что в Риме тысячи людей носят имя Кассии, и предсказание называет его как символ предательства вообще. Теперь я, как и ты, склоняюсь к мнению, что эти жрецы вместе с их Сибиллой просто используют глупость и доверчивость ищущих совета и помощи.
Калигула был рад оторваться от своих мыслей.
— Не правда ли, ты тоже так считаешь? Все это ложь! Забудем!
Но Калигула не забыл о предсказании и по возвращении сразу же приказал схватить Кассия Лонгина и доставить в Рим. Пираллии он ничего об этом не сказал.
На следующий день они продолжили путь в Неаполис, а оттуда — на Капри. Калигула послал вперед дюжину преторианцев, чтобы те позаботились о порядке на старой императорской вилле. Он хотел, чтобы Пираллии там понравилось.
37
Когда Корнелий Сабин прибыл в Рим, император уже два дня как отплыл на Капри. Навестив родителей, он доложил о своем приезде Аррецинию Клеменсу. Они относились друг к другу с недоверием, поскольку Сабин считал префекта верным слугой императора, а тот, в свою очередь, был уверен, что трибун отправился на Понтию, желая продемонстрировать Калигуле свое глубокое почтение. Разговор шел о пустяках. Сабин описал свою бесцветную, пустую службу на острове, а префект делал вид, будто ничего не произошло, разыгрывая озабоченность отсутствием императора.
— Отправиться в это время года на Капри! Но упрямство нашего повелителя всем известно. Я распорядился каждый день приносить жертвы за его счастливое возвращение.
— Достойное решение, — сказал Сабин, стараясь добавить в голос удивления.
После того как каждый рассказал другому свою ложь, Клеменс утвердился во мнении, что трибун — опасный человек, за которым нужно присмотреть, а Сабин решил, что неплохо бы избавиться не только от императора, но и от префекта.
С Хереей они встретились во дворце на службе и решили выбрать свободный вечер для откровенного разговора.
— Мне прийти к тебе? — спросил Херея.
— Нет. Боюсь, что за моим домом следят.
— У меня немного неуютно, но хлеб и вино найдутся, — предложил Херея.
Сабин не понял намека, но, когда пришел к другу, понял, что тот имел в виду.
— Где твой цербер, ветеран Авл? Где Марсия и дети?
— Может, ты сначала присядешь?
Херея освободил лавку, на которой лежал его парадный шлем и что-то из одежды.
— Все в беспорядке, с тех пор как Марсия с детьми переехала. Я оставил только одного молодого раба, но он дни напролет занят в саду и на кухне. Сейчас как раз жарит для нас мясо, по-простому, без всяких премудростей.
— Что случилось, Херея? Я хочу знать правду!
Херея наклонился ближе и тихо сказал:
— Начинается, друг мой. Я отправил Марсию в наш загородный дом, чтобы с ней и детьми ничего не случилось, если дело дойдет до мятежа. Но теперь я узнал, кто с нами, мне кажется, что никакой опасности нет.
— О чем ты?
Херея сделал удивленное лицо.
— Как о чем? О свержении императора! Ты же все время пытался меня привлечь к этому. Теперь я с вами!
— Почему?
— Потому что с нами весь Рим!
— Если бы так. Я разговаривал с Арренцием Клеменсом, и у меня сложилось совсем другое мнение.
Херея рассмеялся.
— Во имя всех богов, Сабин! Откуда ему было знать, что ты из числа врагов Калигулы? Он, должно быть, принял тебя за его верного слугу, когда ты вызвался служить на Понтии. Скоро ты все поймешь. Клеменс, Каллист, Азиатик, Виниций и с ними две трети сената согласны, что Калигула должен умереть. Когда он вернется с Капри, мы сделаем это.
Сабин не мог прийти в себя от удивления.
— Не могу поверить…
— Можешь! Не сомневайся. Я откладывал окончательное согласие до твоего возвращения. Мы оба из числа тех, кому позволено с оружием приближаться к императору, поскольку являемся его защитой и опорой, — Херея не смог удержаться от смеха, когда говорил это. — Как он удивится, когда почувствует наши мечи на своем божественном теле!
— Значит, ты твердо решил…
Трибун кивнул.
— Да. Наконец-то я смогу отомстить за многолетние унижения, а к ним я отношу не только его насмешки. Мы, преторианцы, должны восстановить свою честь перед римлянами, перед сенатом, перед армией.
— Клавдий Цезарь с нами?
— Этого я не знаю. О нем речи не было. Преемником племянника он вряд ли станет. Было бы лучше отправить его после свержения Калигулы в загородное поместье и восстановить республику. Он ученый и будет рад, если его оставят в покое.
Сабин покачал головой.
— Восстановить республику? Как ты себе это представляешь?
— Очень просто! — восторженно воскликнул Херея. — Сенат, оба консула, преторы — все республиканские должности сохранены. Зачем нам принцепс? Сенат и консулы примут государственную власть, как когда-то. Консулов избирают на год, за это время ни один не успеет стать тираном.
— Звучит заманчиво, но я не уверен, что все преторианцы согласятся с этим. Центурионы получают большое жалованье и имеют привилегии. С республикой этому придет конец. Преторианцы окажутся вообще никому не нужны, ведь личную охрану впервые ввел Август именно для защиты принцепса. Мы останемся не у дел.
— Сенат что-нибудь придумает! Например, можно будет распустить вспомогательные легионы и заменить их преторианцами. Кроме того, часть их пригодится для поддержания порядка в Риме. Нет, Сабин, тут решение найти несложно.
— Хорошо. И как мы будем действовать?
— Договоримся с Клеменсом о встрече, куда должны будут прийти Каллист, Азиатик, Виниций и другие. Обсудим все вместе.
С тех пор как Калигула исчез из Рима, заговорщики встречались без опаски. В городе дышалось легче и свободнее, как будто он догадывался, что его ждут перемены. Ярые сторонники Калигулы среди сенаторов теперь притихли. Самым тихим стал недавно назначенный консулом Помпоний Секунд, который во время каждой трапезы во дворце между переменой блюд опускался к ногам императора и целовал его сандалии. В конце концов Помпиний сказался больным и больше не появлялся в общественных местах.
Для подробного обсуждения дальнейших действий главные заговорщики собрались в малом торжественном зале претория. Входы и выходы охраняли надежные люди.
Здесь были тридцать мужчин, среди них сенаторы Виниций и Азиатик, секретарь Калигулы Каллист, префект Клеменс, а также трибуны Херея и Сабин.
От участия Клавдия Цезаря отказались, чтобы не привлекать внимания.
Собрание открыл Азиатик. Он считал себя искусным оратором и старался воспользоваться любой возможностью, чтобы доказать это другим.
— Месть сладка, — начал свое выступление сенатор. — Так сказал один наш поэт, но я не могу с ним согласиться. Месть, может быть, и хороша, и оправданна, но мы собрались здесь потому, что считаем жизнь бесценным даром и не готовы пожертвовать ею ради удовольствия сума-с-шедшего тирана. Поэтому наше намерение я хочу назвать не местью, а необходимостью во благо всех и не в последнюю очередь для сохранения достоинства Рима. Да, друзья мои, Рим вот-вот потеряет к себе уважение под властью императора, сожалеющего, что его народ имеет не одно-единственное горло, которое он мог бы перерезать себе на радость. Что ж, у Калигулы только одно горло и одно сердце, и достаточно одного удара, чтобы нас всех от него освободить.
Мы нанесем этот удар во время учрежденных в честь нашего великого Августа Палатинских игр. Все присутствующие здесь принимают в них участие. Нашей задачей будет отвлечь охрану императора, когда Калигула направится из театра во дворец или из дворца в театр. Клеменс назначит в личную охрану нашего друга, трибуна Кассия Херею, и он — по своему личному желанию — нанесет первый удар.
Сабин воскликнул:
— Тогда за мной второй удар — у меня на это есть причины. Кроме того, мы с Хереей друзья, и я хочу его поддержать.
— Почему бы нет! — согласился Азиатик. — Чем больше ударов получит Калигула, тем лучше.
Слова попросил Каллист.
— Никто не знает, вернется ли император к Палатинским играм. Он, должно быть, отправился с Пираллией на юг, предположительно, на Сицилию.
— Тогда придется собраться еще раз и снова принять решение. Как только Калигула вернется в Рим, он в наших руках. Если же он, по примеру своего деда Тиберия, переедет жить на Капри, подобраться к нему будет сложно. Но это маловероятно. В любом случае мы узнаем о его планах заранее и примем меры.
Каллист повернулся к трибунам:
— Вам обоим я обещаю, что Рим будет славить вас как героев.
Сабин поднял руку:
— Я тоже хочу напомнить слова поэта: «Не хвали день до наступления вечера» и поэтому прошу — конечно, и от имени моего друга Хереи — о героях пока ничего не говорить. Не будем гневить Фортуну.
Когда Клеменс остался с Каллистом наедине, он сказал:
— У Корнелия Сабина светлая голова, и он не теряет чувства реальности среди восторгов. Херея же слишком много говорит о республике. Что ж, посмотрим. Да, вот еще что. Не надо забывать о сестрах императора. Хорошо, что сенат тогда единогласно внес решение…
Каллист улыбнулся:
— Нас никто ни в чем не сможет упрекнуть…
— Так и должно быть, — кивнул Клеменс. — Какие тут могут быть упреки?
Вилла Евне на Капри после смерти Тиберия сама стала жертвой. Калигуле, Пираллии и преторианцам не удалось ее вновь оживить.
Император взял Пираллию за руку и повел через аркады, длинные переходы и атрии, показывая украшенные фресками жилые помещения, термы, скрытые в скалах комнатки, потайные лестницы и выходы.
— Тиберий всегда боялся заговоров, хотя здесь у него не было на это ни малейших оснований. Астролог Тразиллий постоянно запугивал его мрачными предсказаниями. Этому лжецу удалось втереться в доверие к императору, и тот чувствовал себя в опасности, если толкователя звезд не было поблизости. Я бы давно отправил эту дряхлую Кассандру к Орку. Пойдем, я покажу тебе кое-что другое.
И снова они шли длинными переходами, вдоль колоннад, откуда местами открывался изумительный вид на море и отвесные скалы. Оказавшись в небольшом зале, к которому примыкал запущенный сад, Калигула остановился в нерешительности.
— Это было здесь? Все кажется мне незнакомым, и я ничего не узнаю.
Пираллия молча ждала. По пустым холодным комнатам бродил сырой морской ветер, и она мерзла.
Калигула разглядывал настенные фрески.
— Подвиги Геркулеса! Конечно, именно здесь Тиберий надел на меня тогу вирилия. Мне было тогда девятнадцать лет, и старик устроил торжественную церемонию, но в остальном он не сделал ничего. Он ненавидел меня, больше любил старших внуков. Друз с Нероном тоже здесь надели свои мужские тоги, но их по всей форме приняли в сенате, и народ получил подарки в день их совершеннолетия.
Воспоминания омрачили лицо Калигулы. Он зло рассмеялся.
— И что им это дало? Они все мертвы! Все мертвы, превратились в тени, которые изредка всплывают в мыслях живых.
Злорадный смех заполнил все пространство, отдаваясь эхом в пустом зале, и Калигула начал танцевать.
— Тени, они все превратились в тени — мертвые тени… — запел он.
Пираллию охватил ужас.
— Пойдем, Гай, — попросила она. — Уйдем отсюда! Мне холодно.
Калигула остановился.
— Надо танцевать, тогда согреешься. Но ты права, здесь действительно прохладно. Я приказал приготовить термы, там мы и погреемся.
Пираллии часто приходилось бывать в богато обставленных домах, но термы Тиберия ее удивили. Бассейны с холодной, теплой и горячей водой сияли разноцветным мрамором ценнейших пород: белоснежным персидским и пятнистым фригийским для стен, зеленым для лестницы, сицилийским коричневым для колонн с миниатюрной позолоченной капителью. Бассейн с холодной водой был отделан голубым ляписом, с горячей — красным порфиром, а с теплой — желтой яшмой. Искусная мозаика украшала их дно изображением Нептуна с нимфами, дельфинами, кораблями и играющими в воде крылатыми духами.
— Пойдем погреемся, — предложил Калигула.
Они зашли в помещение, заполненное густыми клубами пара, которые милостиво прикрыли безобразное жирное тело императора.
«А ведь ему еще нет тридцати, — подумала Пираллия. — Он должен больше заниматься физическими упражнениями, меньше есть и пить…»
— Иди сюда, моя нимфа! — позвал Калигула, и она села на колени к покрытому потом волосатому чудовищу. Он принялся мять ее грудь и ласкать гладкий лобок.
— Где же ты оставила волосы своего грота Венеры?
— Это новая мода из Египта, и ее переняли многие женщины в Риме. Так чувствуешь себя совсем нагой — это приятное ощущение.
Она отдалась императору в наполненном горячем паром помещении, а потом они нырнули в бассейн с теплой водой, смыли пот и еще долго плескались в холодном бассейне.
— Может быть, я не должен говорить тебе, Пираллия, чтобы ты не загордилась, но я люблю тебя. Цезонию люблю, потому что мы во многом похожи, так же было и с Друзиллой, моей божественной Пантеей. А в тебе, Пираллия, я ценю спокойствие. Если бы я сейчас позвал преторианцев и приказал им отрубить тебе голову, знаю, что ты с улыбкой подставила бы им шею. Многие называют меня жестоким, потому что меня раздражают жалкие, раболепные создания, трясущиеся в страхе за свою жизнь. Таких людей я могу выносить, только когда мучаю и унижаю их, и, пока мне это доставляет удовольствие, я буду с ними так поступать.
— Но, Гай, ведь такими делаешь их ты! Они отзываются на твое поведение страхом, раболепием и иногда предательством. Это круг ужаса, который только ты, как сильнейший, можешь разорвать.
— Стоит ли тогда вообще жить — быть императором, быть божественным и всевластным? Ты не понимаешь этого, Пираллия, хотя и умна. Пойдем наверх, в перистиль. Если еще не очень холодно, мы сможем поужинать под открытым небом.
Калигула по своему обыкновению запивал еду огромным количеством вина.
— Не построить ли нам тут любовное гнездышко? — спросил он, с трудом ворочая языком. — Мой дед знал, что делал, когда переселился сюда. Так он отделался от сената и правил, отдавая письменные распоряжения. Но может случиться, что кто-нибудь в Риме сосредоточит большую власть и предаст императора. Тогда это был Сеян, а сейчас может стать Каллист или Клеменс. Я уже думал, не стоит ли мне перенести свою резиденцию в Александрию. Египет ведь императорская провинция, и город Птолемея вполне может сравниться с Римом.
Разговаривая, он размахивал руками и опрокинул кубок. На полу, как лужа крови, растеклось темно-красное винное пятно. Калигула засмеялся.
— Выглядит так, будто кого-то обезглавили.
Тут же принесли другой кубок, и он продолжил:
— И про Антий, место моего рождения, я тоже думал. Там люди чтут меня по-настоящему, а не только потому, что я даю им хлеб и зрелища. Прочь из Рима! Этот город мне опротивел.
Пираллия улыбнулась:
— И все-таки тебе его будет не хватать. Рим — сердце мира, и там, где оно бьется, должен быть и император.
— При Тиберии оно тоже билось.
— Но какой ценой! Ты же не хочешь, чтобы новый Сеян отобрал у тебя власть?
Калигулы тяжело поднялся и громко отрыгнул.
— Я — бог, я — Юпитер, Нептун, Марс, Геркулес, я справляюсь со всем и со всеми…
Он оступился и упал на ложе. Вдруг горло императора сдавило, и его начало рвать. Пираллия отвернулась, а прислуживающие за столом тут же бросились все убирать и чистить.
«Калигула делает много мерзостей, но у меня не получается его ненавидеть», — подумала женщина.
В ту ночь император видел сон. Он был в Палатинском дворце и хотел пойти лечь спать, и в это время сопровождающие его преторианцы превратились в римских богов. Тут были Меркурий в крылатом шлеме, Марс в воинском облачении, двуликий Янус, мрачный Сатурн, блистательный, подобный солнцу, Аполлон и другие, которых он не знал.
— Где Юпитер? — спросил Калигула.
Аполлон показал наверх.
— Нам поручено доставить тебя к нему.
Вместе они поднялись на золотой корабль, пурпурные паруса которого развевались на ветру. Как гонимое потоком воздуха перышко, взмыл корабль к небу. Калигула видел проплывающий внизу ночной Рим. Палатинский холм с нагромождением дворцов, храмы и далеко протянувшийся четырехугольник ипподрома быстро уменьшались и скоро совсем исчезли. Калигула знал, что корабль приближается к Олимпу. Когда он начал опускаться, ночь обернулась солнечным днем. И вот он увидел их, сидящих за золотым столом, и сопровождавшие Калигулу боги поспешили занять среди них свободные места. Перед этим неземным великолепием император упал на колени и с удивлением узнал двенадцать главных богов греческого Олимпа: во главе стола восседал Зевс, громовержец, повелитель мира и ветров, шторма и молний, защитник дома, семьи и дружбы, покровитель права и государства. Рядом с ним сидела Гера, его сестра и жена, затем Посейдон и Деметр, Аполлон и Артемий, Арес и Афродита, Гермес и Гелла, а в конце стола хромой бог огня и ремесел Гефест и Гестия, богиня семьи и домашнего очага.
Как гром, прозвучал голос отца богов:
— Гай Цезарь, подойди к моему трону!
От страха и трепета Калигула не мог пошевелиться. Наконец он собрал все свои силы и медленно двинулся к трону громовержца. Чем меньше становилось между ними расстояние, тем больше возвышался над ним бог, и когда Калигула предстал перед сияющим золотом троном, то показался букашкой, замершей перед великаном. Он не осмеливался поднять на всемогущего глаза и застыл в смиренном молчании, склонив голову.
Снова раздался громкий голос, заполняя пространство вокруг, будто весь мир должен был внимать ему.
— Ты называешь меня своим братом-близнецом, Гай, заявляешь людям, что в тебе живет земная половина Зевса. Ты лжешь, Гай! Ты человек, маленький, смертный человек, который кормит нас, принося в жертву простых горожан, ремесленников и крестьян. Я показал тебе Олимп и круг богов, чтобы ты познал свою ничтожность и не осмеливался больше присваивать себе достоинство, которым не обладаешь. Прими это как подарок и отправляйся обратно к смертным, где тебе и место.
Калигула не двигался. Слова повелителя мира эхом звучали у него в голове, и он хотел только одного — вернуться скорее назад, к людям, где он сам был господином.
— Как я попаду обратно? — прошептал он, со страхом глядя на обутую в золотую сандалию ногу громовержца.
Нога шевельнулась, Калигула почувствовал сильный толчок, его обступила темнота, и он ощутил, что падает на Землю, а вокруг свистит ветер.
Он с криком подскочил на постели, и тут же к нему подбежал дежуривший преторианец.
— Император? Есть приказания?
— Где я? — пролепетал Калигула.
— На Капри, на вилле Евне.
— Ах так, хорошо. Иди и приведи Пираллию! Стой, нет, пусть она спит. Сколько времени?
— Три часа после пополуночи, император.
— Хорошо, отправляйся обратно.
Утром Калигула сказал Пираллии, что приказал готовиться к обратному путешествию, и добавил:
— Я видел странный сон. Мне нужно вернуться в Рим и присутствовать на Палатинских играх.
Пираллия спросила о том, что именно ему приснилось, но Калигула отделался отговорками.
Итак, император вернулся быстрее, чем его ждали. Он сразу же оповестил патрициев и сенат о давно обещанной примирительной торжественной трапезе, назначив ее на 16 января.
С Каллистом, которому он доверял больше, чем другим, Калигула говорил о своих планах относительно торжества открыто.
— Я хочу видеть их всех, понимаешь? Сенат, знать, военных, и за каждым из них буду внимательно наблюдать. Ты знаешь, что я прекрасно разбираюсь в людях, умею читать по их лицам. Я сумею определить, кто и как ко мне относится. И когда я составлю список, мой друг, в нем окажутся имена всех моих врагов. Жаль, что Протоген исчез, но мне сможешь помочь ты.
Он довольно улыбнулся.
— Это будет следующий большой процесс, и после него я смогу ходить без охраны. Я вижу на твоем лице удивление. Ты мне не веришь. Не сомневайся — я всегда выполняю то, что собирался сделать. Много раз это доказывал.
По спине Каллиста пробежал холодок. Если император говорил серьезно, потекут реки крови, и как бы самому не попасть в смертельный водоворот. Мысли цеплялись одна за другую и путались: только бы не сказать лишнего!
Каллист задумчиво кивнул, сохраняя внешнее спокойствие.
— Отличная мысль, император. Но не приводил ли ты сам много раз пример с гидрой? Где срубаешь три головы, вырастают шесть, и если срубишь дюжину…
— Нет, Каллист, числа неправильные, как и многие сравнения, — перебил его Калигула. — Конечно, Геркулесу пришлось нелегко с легендарной гидрой, но я имею дело с людьми, с трусливыми людьми. Я знаю, как опасно, когда страх становится слишком большим: тогда он может переродиться в ненависть и презрение к смерти. На этот раз, Каллист, я уничтожу всех, кто может испытывать ко мне страх, ненависть, презрение или вынашивать предательские мысли, а заодно семьи, друзей и сторонников этих людей.
Мертвые глаза Калигулы заблестели в фанатичном восторге. На бледных щеках появился румянец. Он склонился и притянул секретаря ближе к себе.
— Я хочу снова спать спокойно, Каллист, но пока знаю, что в этом трижды проклятом Риме вынашивают планы убийства, мне не будет покоя.
— Но, император, — попытался образумить его Каллист, — так спокойно, как сейчас, еще никогда не было. Клянусь жизнью дочери, что после последнего суда над преступниками в империи все тихо. Ни один заговор или план убийства не могут долго оставаться втайне — ты доказывал это уже дважды.
— Может быть, может быть, сейчас плоды еще не созрели, но рубить надо у корней, понимаешь?
Каллист поднял руки:
— Да, император. Что я должен делать?
— Пока ничего, Каллист. Мы продолжим разговор после торжества.
«Надеюсь, что нет, — подумал секретарь мрачно. — Может случиться, что ты не переживешь этого торжества, Сапожок».
В тот же день Каллист совещался с Клеменсом.
— Мне он ни на что не намекал, но охрану вечером шестнадцатого приказал удвоить.
Секретарь довольно кивнул.
— Боится! Это хороший знак. Тот, кто боится, теряет осмотрительность. Раньше он не посвящал меня в свои планы, а теперь страх заставляет его делать это. Может быть, его удастся убить во время обеда. Постарайся, чтобы наши люди были поблизости. Калигула должен умереть у всех на глазах.
Клеменс задумался.
— Тебе все кажется гораздо проще, чем есть на самом деле. Он давно уже не подпускает к себе ни одного римского преторианца. Личная охрана императора состоит только из германцев, трибун Фрисий Ланий подчиняется только его приказам. В Германии он отличился многочисленными казнями так называемых предателей из легиона Гетулика. Это принесло ему расположение императора и прозвище Ланий
[16]. Ты должен учитывать, что он рядом с Калигулой всегда и везде, особенно во время торжественных обедов. Я могу в этот вечер назначить на службу трибунов Херею и Сабина, на всякий случай, если предоставится возможность подобраться к Калигуле, но ни в чем не уверен.
— Я понимаю, — с горечью сказал Каллист. — Но подумай о том, что с каждым днем наши головы все менее крепко держатся на плечах. Калигула больше ни перед чем не остановится, он дал понять, что у него на уме.
— До этого не должно дойти. Мы будем настороже. Я не хочу отправиться к предкам раньше, чем Калигула.
38
В большом зале стояли длинные столы. На возвышающейся трибуне блестел золотом стол императора — чудесное творение мастеров-резчиков — с отделкой из слоновой кости и шлифованного камня.
Во время таких торжественных обедов Цезония сидела рядом с императором, а места напротив предназначались для сменяющих друг друга гостей, которые удостаивались чести быть приглашенными Калигулой. За спиной императора охрана образовала плотный полукруг, чтобы и мышь не смогла проскочить незамеченной, а впереди, у основания трибуны, в три ряда выстроились германцы, и любой осмелившийся без приглашения приблизиться к императору, неминуемо должен был натолкнуться на меч или копье.
Уже несколько недель император звал к столу только тех, кого считал абсолютно безобидными, а ими были прежде всего поэты и возничие.
Сегодня напротив него сидел Клавдий Цезарь, которого доставили с загородной виллы, чтобы продемонстрировать согласие и единство в императорской семье. С тех пор как Ливилла и Агриппина отправились в ссылку, она состояла только из Калигулы, Цезонии и Клавдия.
В начале обеда император приказал явиться Каллисту. Калигула показал рукой в зал.
— Мне кажется, некоторые места остались пустыми. Возьми двух писарей и сверь списки приглашенных с присутствующими. А потом перепиши всех, кого нет. Эти имена мне особенно любопытно узнать…
«И я знаю почему», — подумал Каллист, прикидывая, как бы затянуть с выполнением поручения.
Прежде чем внесли первые блюда, Калигула уже выпил несколько кубков вина, что только усилило его тревогу.
— Император, ты хотел открыть примирительный обед короткой речью, — напомнил Каллист.
Когда дело касалось выступлений, Калигула чувствовал себя уверенно, поскольку считал себя лучшим оратором эпохи. Но сегодня он забыл подготовиться, а кроме того, вино уже ударило в голову.
Мысли его роились, как пчелы в улье, и привести их в порядок было тяжело.
Император встал, и тут же наступила тишина. Один из гостей опрокинул кубок с вином, который со звоном покатился по мраморному полу.
— Схватить! — крикнул Калигула. — Это оскорбление величия! Схватить и заковать в железо — пригодится на следующих играх!
Германцы вывели несчастного. Теперь воцарилась такая тишина, что было слышно биение сердец.
— Я решил проявить милость и отпраздновать с вами, патрициями и сенаторами Рима, примирение.
Калигула остановился, выпил еще глоток вина и мрачно посмотрел на опущенные головы и неподвижные лица. Как он их всех ненавидел!
— Но примирение не любой ценой! Я знаю, что половина из вас скорее желает видеть меня мертвым, чем сидящим за этим столом, и скоро выясню, кто принадлежит к ней. Возможно, это послужило бы примирению, если бы мои враги сознались добровольно. Тогда бы я проявил милость и просто прогнал их из Рима. Кто хочет воспользоваться предложением, прошу.
Калигула обвел присутствующих холодными, неподвижными глазами, заглядывая при этом каждому в лицо — эту способность он приобрел благодаря долгим тренировкам. Но старался император напрасно, поскольку многие просто опустили головы.
«Может быть, это худшие? — раздумывал Гай Цезарь. — Они не хотят, чтобы я определил по глазам, у кого нечиста совесть. А вдруг те, кто встретил мой взгляд, сделали так, чтобы обмануть, разыграть невиновность? От этого можно прийти в отчаяние!»
Калигула отвел взгляд. Он почти физически ощутил, как ненависть, жажда мести и страх хлынули на него из зала. Принцепсу понадобились все силы, чтобы подавить желание их всех, без разбору, женщин и мужчин, старых и молодых, схватить и тут же обезглавить.
— Значит, никто не хочет сознаться… Что ж, я так и думал…
Валерий Азиатик, который по-прежнему считался другом Калигулы и сидел ближе всех к нему, встал.
— Позволь мне сказать, император. Я думаю, что у тебя просто нет врагов. Мы все сидим здесь, наслаждаемся твоим гостеприимством, благодарные за оказанную нам честь… Меня обижает, когда ты предполагаешь, что половина из нас — предатели. Разве мы давали повод для таких упреков?
Калигула попытался успокоиться.
— Да-да, я знаю тебя, Азиатик… Ты всегда был на моей стороне. Но почему ты говоришь за других? Ты им доверяешь?
— Некоторым, да…
— Вот именно! — воскликнул император. — Некоторым и я доверяю. Но те многие, которых я не знаю или знаю плохо?
— Но подозрительность должна иметь границы, — сдержанно сказал Азиатик.
Калигула зло рассмеялся.
— Если бы я думал, как ты, меня давно уже не было бы в живых.
Херея, который вместе с Сабином стоял неподалеку от императора, размышлял во время этого разговора, принесет ли удачу неожиданный удар. При этом он оставался абсолютно спокойным — сердце билось ровно. Император возлежал за своим столом, а перед ним стояли германцы с мечами наготове. К столу можно было броситься бегом или подойти не спеша, как будто желал сообщить что-то важное. Или еще лучше — наклониться к Клавдию, будто новость предназначена для него. Потом молниеносно вытащить меч и попытаться нанести удар через стол. В тот же момент его растерзают охранники, и возможности ударить еще раз, для верности, не будет. Херея отбросил эту мысль. Глупо так поступать, не говоря уже о том, что германцы по приказу Калигулы устроят среди гостей кровавое побоище. Нет, подходящий момент еще не наступил.
Похожие мысли занимали Корнелия Сабина, которого Клеменс разместил поблизости от Хереи на тот случай, если ему понадобится поддержка.
Сам Клеменс между тем возносил молитвы к Марсу, чтобы тот уберег трибунов от соблазна напасть на Калигулу, поскольку место это не подходило для запланированного покушения. Самым страшным из всех возможных вариантов был бы неудачный удар.
Император жестом велел Азиатику замолчать. Начали вносить блюда, красные и белые вина пенились в кубках. Чем дольше продолжалось торжество, тем меньше воды гости добавляли в вино, которое потихоньку освобождало от напряжения скованные страхом тела, прогоняло вечно витающий в присутствии Калигулы призрак смерти.
Каллист выполнил поручение и установил, что из четырехсот десяти приглашенных не явились пятьдесят два. Восемнадцать прислали представителей с извинениями, а вот причины отсутствия других предстояло еще выяснить.
В то время как гости ели и пили, раздались звуки фанфар, требуя внимания. Вперед вышел распорядитель и возвестил, что император приготовил для них сюрприз — выступление трибуна своей личной охраны.
Между столами засуетились рабы, посыпая проходы песком. Затем раздалась глухая барабанная дробь, и в зал ввели десять человек, закованных в тяжелые цепи. Они образовали полукруг и опустились на колени. Распорядитель объявил:
— Трибун Фризий заявляет, что готов обезглавить всех в течение трех минут, причем каждого — одним ударом. Кто сомневается, может делать ставки против него.
Распорядитель достал грифельную доску и выжидательно посмотрел в зал.
— Тысяча сестерциев против!
— Пятьсот сестерциев против!
Калигула подал знак, и распорядитель возвестил:
— Пятьдесят тысяч сестерциев за Фризия!
Большинство делали ставки против Дания — просто для того, чтобы его позлить. Огромный рыжеволосый Фризий был повсюду печально известен и всем ненавистен.
Когда ставки были сделаны, вперед вышел Фризий и нарочито медленно снял шлем и панцирь. Маленькие глазки злобно поблескивали из-под низкого лба, когда Фризий поднял тяжелый, длинный меч, а раб перевернул песочные часы.
Распорядитель крикнул: «Начинай!» — и Фризий с грацией танцора приступил к своей работе мясника. Головы приклонивших колени одна за другой покатились на песок, и казалось, что спор уже выигран. Но десятый осужденный втянул голову в плечи, и меч раскроил ему затылок. Человек упал, но голова осталась у него на плечах. На это Фризий не рассчитывал. Он в гневе поднял свою жертву за волосы и отделил голову от туловища. Потом Фризий расправился с двумя оставшимися узниками, обернулся к гостям и победно поднял перепачканный кровью меч.
— Нечестная работа! — крикнул кто-то из гостей.
— Ты проиграл, Ланий!
— Мясника на мясо!
Великан опустил меч и в поисках поддержки посмотрел на императора. Тот зло усмехнулся.
— Ты проиграл, Ланий, и это стоило мне пятьдесят тысяч сестерциев. За это тебе придется расплатиться. Следующие полгода ты будешь получать втрое меньше. Выплатите победителям их выигрыш!
Ланий покинул зал в ярости. Пострадала его слава!
Незадолго до полуночи императорская чета удалилась, а Клавдий Цезарь остался и еще больше часа разговаривал с гостями, заикаясь. Он почувствовал, что отношение к нему изменилось. В последнее время никто не осмеливался шутить с ним. Его заикание не вызывало больше дерзких или снисходительных усмешек, каждый встречал его вежливо и с уважением. Скромный в повседневной жизни ученый даже предположить не мог, почему.
«Может быть, — размышлял он, — Калигула не допускает, чтобы высмеивали члена императорской семьи? Хороший это знак?»
Клавдий знал, что жизнь его висит на волоске, но постоянная угроза притупила чувства и ощущения, превратив его в стоика. На следующий день он попросил племянника отпустить его, но Калигула настоял на присутствии Клавдия на Палатинских играх. В конце концов, их учредили в честь Августа, и его долгом по отношению к семье было принять в них участие.
— Ну что же, ведь они продлятся всего три дня, — согласился Клавдий, но Калигула тут же развеял его мечты.
— Я решил продлить их еще на три дня, потому что хочу выступить как танцор.
Клавдий от удивления вытаращил глаза и пролепетал, заикаясь:
— Т-ты — к-как т-танцор? Но, но…
Калигула потрепал его по плечу.
— Что тебя удивляет, дядя? Я всегда имел успех, когда танцевал во время обедов с патрициями. Почему же я должен лишать народ этого удовольствия?
Клавдий вздохнул.
— Значит, шесть дней? Если ты считаешь это необходимым, Гай…
Спустя два дня после обеда примирения между Калигулой и Каллистом состоялся короткий разговор.
— Как обстоят дела со списком отсутствующих? Кто не явился без причины? Должен ли вмешаться императорский суд?
— Не было тридцати восьми человек. Девять из них мертвы, семнадцать прислали письменные извинения, так как не могли прийти по причине болезни или из-за срочных семейных дел, двенадцать находились в отъезде, и их вовремя не уведомили.
— Хорошая работа, Каллист. И все же семнадцать неявившихся надо как следует проверить. Настолько ли они были нездоровы, а семейные дела так неотложны? Может быть, они просто сказались больными? Нас ждет много работы, Каллист, скоро покатится много голов. Но сначала игры.
— Да, сначала игры, — многозначительно сказал Каллист.
Калигула недоверчиво посмотрел на него.
— Как надо понимать твое замечание?
Толстый секретарь спокойно ответил:
— А что сейчас может быть важнее, чем Палатинские игры? Их ждет весь Рим.
— Надеюсь, — сердито сказал Калигула и заторопился к выходу, но потом вернулся.
— Еще кое-что. Проконсул Азии должен быть схвачен и доставлен в Рим.
— Кассий Лонгин? Могу я спросить, в чем его обвиняют?
— Его зовут Кассий! Кроме того, он мне не нравится!
И император покинул комнату.
«Многих зовут Кассиями, — удивленно подумал Каллист, — если это теперь преступление, то кто станет следующим? Тот, кого зовут Луцием, Публием или Секстом?»
— Следующим станет Гай, — прошептал секретарь императора и мрачно посмотрел на дверь, через которую вышел Калигула.
В память об умершем и обожествленном императоре Октавиане Августе его жена Ливия учредила игры, которые ежегодно проходили на Палатинском холме в специально построенном для этого театре. Искусные мастера возвели деревянное строение, где, несмотря на ограниченное пространство Палатина, могли разместиться десять тысяч зрителей. Для императора между театром и дворцом был построен узкий крытый проход.
Палатинские игры не относились к числу дорогостоящих зрелищ, когда на арене сотнями убивали людей и животных.
Это был скорее развлекательный праздник, посвященный памяти великого Августа. Вниманию зрителей предлагали одноактные пьесы, серьезные и веселые, вперемешку с музыкальными представлениями, а хор исполнял длинный гимн Августу.
Поэтому и публика собиралась в Палатинском театре другая. Римские граждане среднего и высшего сословий считали своей обязанностью почтить таким образом память божественного Августа — даже если порой они скучали. Конечно же, и плебеям удавалось попасть сюда, но те приходили не из-за представления, а в надежде на бесплатную еду и вино.
В первый и последний дни игр в память об Августе совершались жертвоприношения, в которых принимал участие император. Калигула до сих пор появлялся в театре эпизодически: приходил к определенному часу, какое-то время оставался, а потом быстро исчезал, причем за ним всегда следовали преданные охранники.
Накануне вечером император заявил, что последний день игр он собирается провести в театре, и Клеменс поставил в охрану в дополнение к германцам когорту преторианцев во главе с Хереей и Сабином.
Посреди императорской ложи установили алтарь, на котором Калигула собственноручно должен был принести жертву божественному Августу. Бывший консул Ноний Аспрен, исполняющий ныне обязанности жреца, держал предназначенного для этого петуха, и Калигула сильным ударом перерубил птице шею. Брызнувшая при этом кровь залила плащ Аспрена.
Ничто не веселило Калигулу больше, чем ситуации, когда люди оказывались в неловком положении.
Он громко рассмеялся и заметил, не считаясь со священностью ритуала:
— Выглядит так, будто я пожертвовал Августу консула. Тебе надо обратиться к гаруспику
[17], Аспрен, поскольку такой знак не сулит ничего хорошего.
Это происшествие так порадовало Калигулу, что он пребывал в хорошем настроении до самого обеда. Окружающие редко видели его таким веселым, и всех, кто ему встречался, он одаривал шуткой.
Кассий Херея, чей пост находился рядом с ложей императора, тоже не остался без его внимания.
— Обещаю тебе, Херея, сегодня ты сможешь выступить на сцене в роли Минервы. Из тебя с твоим тоненьким голоском и мускулистой фигурой получится прекрасный исполнитель воинственной богини. Мы подберем для тебя подходящий костюм.
Калигула со смехом опустился на свое место.
«Я сыграю сегодня другую роль, император, — подумал трибун. — А ты в этой пьесе будешь главным действующим лицом».
Последний день игр открылся сочинением Катулла «Мим Лавреол». Конечно, заурядная кровавая драма была написана не знаменитым Валерием Катуллом, умершим молодым еще при Августе, а современником Калигулы, жаждущим аплодисментов плебеев.
«Мим Лавреол» представлял собой спектакль в трех действиях, повествующий о полной приключений жизни разбойника и грабителя, который держал в страхе окрестности Рима во времена Октавиана, а закончил существование распятым на кресте. Актеры изо всех сил старались изобразить происходящее как можно ближе к жизни. Когда разбойника наконец поймали и зачитали приговор, лицедея заменили настоящим преступником, которого прутами и пригвоздили к кресту.
Для следующего представления герольды потребовали полной тишины, потому что в главной роли выступал любимец Калигулы Мнестр. Пьеса, действие которой происходило на Кипре в городе Паф, называлась «Кинирас и Мирра».
Мирра страстно влюбилась в своего отца, правителя Кипра, напоила его и явилась перед ним переодетой и с другой прической, как незнакомая девушка. Старик поддался ее чарам и провел с ней одиннадцать ночей. Каждый раз на рассвете девушка исчезала, но однажды она проспала восход солнца, и Кинирас узнал дочь, которая тут же бросилась бежать. Отец преследовал ее, угрожая мечом, но той удалось уйти, в то время как правитель оступился и поразил себя собственным оружием. Мирру покарали боги.
Благодаря искусству Мнестра Кинирас произвел на публику очень сильное впечатление, но во время сцены смерти актер исчез, а очередному приговоренному помогли покончить жизнь самоубийством. Конец прекрасной Мирры должна была сыграть детоубийца — она умирала, пораженная молнией Юпитера, то есть два стрелка из лука пустили ей в спину горящие стрелы.
Эта сцена пришлась публике по вкусу. Плебеи требовали продолжения, но Калигула приказал объявить перерыв и поднялся со своего места.
— Я голоден, — заявил он.
Гай Цезарь покинул императорскую ложу и по переходу направился во дворец. Рядом располагалось небольшое помещение
для актеров, где ждала своего выступления группа мальчиков — танцоров из Азии. Калигула не преминул сообщить им о своем желании продемонстрировать вечером собственное танцевальное искусство.
Сопровождающим его патрициям он приказал:
— Идите вперед. Я приду позже.
Валерий Азиатик, Клавдий Цезарь и другие послушно выполнили требование, в то время как охрана на почтительном расстоянии ждала у дверей. Калигула вышел в крытый переход к дворцу.
Херея и Сабин не выпускали его из виду. Обменявшись взглядом, они прошли мимо германцев, и Херея бросил на ходу:
— У нас важные новости для императора! Секретное донесение!
Херея первым нагнал его, вытащил меч и на какую-то секунду заколебался.
— Ну же! — крикнул Сабин, и Херея нанес императору сильный удар в шею.
Калигула зашатался и повернулся к ним: его лицо выражало безграничный ужас.
— Что вы делаете?.. — хрипел он; из раны хлынула кровь.
Сабин на мгновение замер, заглянув в глаза императора. Они утратили холодность и неподвижность, ожили, стали похожими на человеческие и, расширившись от ужаса и боли, смотрели на молодого трибуна.
— За Кальвия и Ливиллу! — сказал сквозь зубы Сабин и нанес удар.
Император с криком упал на пол.
— Охрана… — из последних сил прошептал тиран.
Тут подоспели другие заговорщики, и на бездыханное тело обрушился град ударов.
Один из них крикнул: «Это за мою жену!» и несколько раз воткнул кинжал в самый низ живота лежащего бездыханным Калигулы.
Другой орал: «Это за моего сына!» и пытался при этом, дрожа всем телом, отрезать правую руку Калигулы.
Прибежали и германцы с обнаженными мечами.
— Где… где император? — крикнул Ланий, оглядываясь по сторонам.
Заговорщики отступили назад, и один из них показал на труп Калигулы.
— Вот он! Сомнительно, чтобы брат-близнец оживил его.
Германец с криком ярости набросился на заговорщиков, а за ним бросились в бой его люди.
Завязалась драка, в которой были жертвы и с той и с другой стороны.
Херея и Сабин, как и было условлено, спрятались в доме Германика на Палатине, где должны были находиться, пока не схлынет возбуждение.
Фризий Ланий с криком: «Месть за императора!» убил трех не причастных к покушению сенаторов, в том числе Нония Аспрена.
Остановил побоище бесстрашный Валерий Азиатик. Германцы знали его как друга императора, поэтому опустили мечи, чтобы выслушать. Он обратился к Фризию:
— Скажи своим людям, что смерть императора произошла с согласия сената и одобрения народа. Ваша верность будет вознаграждена, но то, что вы тут делаете, я не могу одобрить. Уберите мечи и отправляйтесь в казармы. Я говорю здесь при свидетелях, что вы не будете ни наказаны, ни уволены со службы. Следующему принцепсу наверняка понадобится охрана.
Фризий объяснил своим людям положение, и они, поколебавшись, убрали оружие.
Азиатик же заторопился к форуму, где уже бушевала толпа и требовала выдать ей убийц. Он поднялся на ростру, с давних пор служащую в римском форуме трибуной ораторам. Там стоял Аррециний Клеменс. Он улыбнулся Азиатику.
— Вот такие они! Недавно по приказу Калигулы дикие звери растерзали дюжину невиновных из их рядов, а сегодня они требуют смерти его убийц. Поговори с ними ты, Азиатик, боюсь, что я не найду подходящих слов.
Валерий вышел вперед и поднял руку. Ему долго пришлось ждать, пока толпа успокоится.
— Граждане Рима! Принцепс Гай Цезарь мертв, и я — его бывший друг — не побоюсь сказать, что он заслужил смерть, заслужил тысячу раз. Разве вы забыли, какими налогами он обложил самых бедных из вас? Поденщики, грузчики, мастеровые, мелкие торговцы и даже проститутки должны были оплачивать его кутежи заработанными в поте лица деньгами, не говоря уже о состоятельных гражданах, которых он приказывал убивать, чтобы завладеть их имуществом. Сенат, я обещаю вам, отменит эти несправедливые налоги. Требуете ли вы по-прежнему казнить убийц императора?
Толпа молчала, слышен был только неразборчивый ропот.
— Хорошо! А если этот вопрос еще раз возникнет, скажите, что убийца Калигулы — я. Да, римляне, я был бы горд и счастлив, если бы моя рука принесла освобождение от тирана.
Толпа начала расходиться, поскольку упоминание о налогах возымело действие. Только уличные бродяги и бездельники еще пошумели какое-то время, но вскоре и они исчезли.
После смерти тирана Рим пребывал в оцепенении, и многие использовали ситуацию в своих личных целях.
Почти все преторианцы из тех, кто нес в тот день службу во дворце, после убийства императора заторопились к форуму, но у многих любопытство победила алчность. Они остались, чтобы обыскать дворец в поисках легкой добычи: серебряного кубка, позолоченной лампы или вазы из яшмы.
Преторианец Тит увидел нишу, вход в которую закрывали тяжелые шторы. Тит заметил какое-то движение в глубине, рывком отдернул занавес и крикнул:
— Иди сюда, моя голубка!
Но «голубкой» оказался старик, который дрожал всем телом и, заикаясь, спросил:
— В-вы х-хотите и меня у-убить?
Преторианец сразу узнал дядю Калигулы Клавдия Цезаря и встал перед ним навытяжку.
— Почему мы должны убивать тебя, Клавдий Цезарь? Мы все тебя любим и всегда жалели, когда Калигула был с тобой несправедлив. Я приветствую тебя как нашего нового императора.
Клавдий не мог собраться с мыслями.
— Я — и-император? Н-не знаю, х-хочу ли я этого…
Несмотря на сопротивление старика, Тит решительно вывел его на площадь, откуда в паланкине его доставили кратчайшим путем в преторию.
Преторианцы были довольны собой.
— Мы молодцы. Защищаем нового императора, пока сенат не утвердил его.
Но Клавдий не хотел соглашаться на навязываемую ему роль. Он изложил свои мысли так:
— Я горжусь оказанной мне честью, но боюсь, что не могу стать новым императором. Я бы хотел в мире и покое работать над моим произведением…
— Но, Клавдий Цезарь, — возразил ему один из преторианцев, — тебя никогда не оставят в покое. Следующий император, кем бы он ни был, будет видеть в тебе постоянную угрозу. У тебя есть только один путь: ты сам должен стать императором.
Клавдий понял, что преторианцы желают нового императора, а не республику. Этому не приходилось удивляться, ведь они были гвардией принцепса. В конце концов он согласился.
В доме Германика шла похожая дискуссия, но большинство собравшихся склонялись к необходимости восстановления республиканской формы правления.
Сабин с удивлением наблюдал за своим другом Хереей, едва узнавая его. Участие в заговоре полностью преобразило Кассия Херею: он говорил без остановки, возбужденно размахивая руками, и теперь повторял уже в третий или в четвертый раз:
— Я за восстановление республики! Для этого ничего не придется менять или подготавливать. Преторианцев можно превратить в стражей порядка в городе. Пожилые отправятся на покой, некоторые молодые перейдут в другие легионы. Больше такой возможности не будет! Оба наших консула вместе с сенатом смогут уже завтра принять власть в свои руки.
Азиатик и два присутствующих здесь трибуна согласились с Хереей.
— Кассий не политик, но хорошо понимает ситуацию. Почему мы должны идти на риск, соглашаясь на нового принцепса?
— Вы забываете Августа, — взял слово Каллист. — В конце концов именно он сделал из Рима то, что есть сейчас.
— Правильно, — согласился сенатор Виниций, один из главных заговорщиков. — Однако Август был и остается исключением. Калигула доказал, как долго и безнаказанно можно злоупотреблять этой властью. Кто заверит нас, что следующий император будет лучше. Он может быть даже хуже…
Сабин усмехнулся:
— После Калигулы такое сложно представить.
— Но возможно, — настаивал на своем Херея.
— Возможно все, — согласился Сабин. — Кто может стать преемником?
— Клавдий Цезарь, — не задумываясь ответил Каллист.
На лице Азиатика появилась насмешливая улыбка.
— Клавдий — достойный человек, но думаю, что у него нет ни способностей, ни желания принять наследство племянника.
— Кто знает? — Каллист вопросительно поднял руки. — В наших долгих беседах он рассматривал такую возможность.
В ходе разговора назывались и другие имена. Ясность внес появившийся немного позже Клеменс.
— Кажется, у нас снова есть император. Клавдий Цезарь находится сейчас в претории и выразил готовность стать преемником.
— Без одобрения сената? — резко спросил Виниций.
— Конечно, нет, — поспешил успокоить Клеменс. — В конце концов, ему никто не присягал. Преторианцы только хотели, чтобы на завтрашнем утреннем заседании Клавдий был назван как возможный преемник.
На том и закончилось собрание в доме Германика.
Херея и Сабин отправились вместе с Клеменсом в преторию. Туда префект приказал явиться всем трибуна и центурионам, чтобы обсудить сложившееся положение.
— Что делать с Цезонией? — Херея задал вопрос, который интересовал всех.
Мужчины смущенно переглянулись.
— Будет лучше, если она исчезнет из Рима, — сказал один из трибунов.
— Ссылка? — спросил Клеменс.
— Возможно, тут нам поможет Юлий Луп.
Взгляды всех устремились на центуриона Лупа, который вышел на несколько шагов вперед.
— Твое понижение, конечно, отменяется, трибун Луп, — улыбнулся Клеменс.
Цезония преследовала Лупа и издевалась над ним из-за какой-то мелочи и даже уговорила Калигулу отправить центуриона на галеры.
Луп встал.
— Я позабочусь о Цезонии, префект.
Он отобрал несколько человек и отправился с ними на Палатинский холм.
Цезония с верными слугами заперлась в своих покоях, но когда Луп приказал ломать дверь, вышла ему навстречу.
— Ах, так это бывший трибун Луп! Пришел, чтобы отомстить! Я очень жалею, что Калигула тогда помиловал тебя.
— С сегодняшнего дня я снова трибун.
С этими словами Луп ударил ее мечом. Рабыни с криками бросились прочь, а трибун вошел в дом. В большом зале тихонько плакала годовалая Друзилла. Луп схватил ребенка и швырнул о стену.
— Надо положить конец проклятому отродью! — в припадке бешенства закричал он. — И если бы у них было десять детей, я убил бы всех!
Пираллия не была на Палатинских играх и узнала о смерти Калигулы только ближе к вечеру. Она надела плащ с капюшоном и побежала на Палатин. Все вокруг казалось вымершим, только несколько преторианцев стояли на площади. Один из них узнал Пираллию.
— Смотрите-ка, Пираллия ищет своего возлюбленного. Боюсь, от него немного осталось. Ты можешь найти его останки в театре.
— Проводи меня. Я хорошо заплачу.
Преторианец кивнул:
— Достойные слова!
Калигула по-прежнему лежал на том же месте, где его нашла смерть, а вокруг — еще несколько тел погибших в драке. Пираллия склонилась над умершим. Глаза Гая Цезаря были широко открыты; он смотрел холодно и неподвижно, как при жизни. Гречанка попыталась закрыть их, но тело уже одеревенело, и ей удалось сделать это только наполовину.
— Достань одеяло, возьми еще несколько человек и перенесите тело в мой сад — здесь недалеко, — сказала Пираллия.
Узнав о смерти Цезонии и Друзиллы, она велела принести к себе в сад и их тела, где их потом предали огню.
Так властелин мира закончил свою жизнь в саду около дома проститутки, и она оказалась единственной, кто пролил о нем слезы.
ЭПИЛОГ
На следующий день собралась курия — десять самых знатных патрицианских родов. С улицы здание окружили преторианцы, и их становилось все больше. Это был приказ префекта Клеменса, чтобы защитить патрициев, а также для того, чтобы продемонстрировать поддержку большинством преторианцев нового императора Клавдия Цезаря. Народ поддерживал их, поскольку республиканская форма правления была плебеям непонятна. Они хотели повелителя, на которого можно смотреть с благоговением, иногда добродушно подшучивая, во славу которого можно кричать, надрывая глотки, повелителя, который дает хлеб и устраивает зрелища.
Сенат бурлил. Согласие было достигнуто только в том, что убийцы тирана Кассий Херея и Корнелий Сабин достойны чести, причем консул Сатурний в своей речи поставил обоих выше Брута и Кассия Лонгина, поскольку то, что они сделали, совершено не для личной выгоды, а для спасения чести и достоинства Рима.
В остальном мнения разделились. Одни хотели восстановления республики, другие — власти императора, как это было на заре истории Рима, но большинство склонялись к продолжению принципата.
Когда ближе к полудню попросил разрешения выступить префект Клеменс, ситуация наконец разрешилась.
— Достопочтенные сенаторы! Большинство преторианцев выступили в поддержку Клавдия Цезаря как нового принцепса. Теперь я узнал, что и большинство сенаторов разделяют это мнение, поэтому прошу сенат принять соответствующее решение, чтобы я мог привести своих людей к присяге Клавдию Цезарю.
Итак, решение было принято. Ученый и историк Клавдий Цезарь поднялся на римский императорский трон как Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик. Он провел реформы государственного управления, вернул семьям казненных отнятое Калигулой имущество и освободил из ссылки своих племянниц Агриппину и Ливиллу. Хотя новый император и распорядился убрать все бюсты и статуи предшественника, но провозгласить damnation memorae — забвение — отказался. Клавдий передоверил ведение государственных дел более способным к политике людям, в том числе Каллисту, чьи усилия по спасению многих патрициев от преследований Калигулы были по достоинству вознаграждены. Дочь Каллиста, Нимфидия, усыновила ребенка свергнутого императора — Сабина Нимфидия, ставшего при правлении Нерона префектом преторианцев. Он был убит при попытке подняться на императорский трон после смерти Нерона.
Спустя несколько недель после убийства Калигулы Кассий Херея был обвинен в желании устранить вместе с Калигулой и Клавдия, Херея не пожелал оправдываться, и его казнили. За ним последовал и Юлий Луп, без прямого приказания убивший Цезонию и Друзиллу.
Корнелий Сабин оставил преторианскую гвардию и уединился в своем унаследованном от дяди доме. Узнав о казни друга, он попросил аудиенции у императора Клавдия, но был принят не им, а Ливиллой.
— Садись, Сабин, и выслушай меня. Ты так же хорошо начитан, как и я, и должен знать из истории, что убийцы тиранов долго не живут, хотя и восхваляются народом и знатью: первые их быстро забывают, а вторые всегда помнят, что один из них — пусть они его боялись и ненавидели — нашел свою смерть от их руки. Да, они считают поступок справедливым, но совершивший его должен исчезнуть. Вас обоих сравнивали с Брутом и Кассием, но забыли упомянуть, чем оба закончили. Они совершили самоубийство, преследуемые позором и презрением. И для тебя, Сабин, императорский суд подготовил обвинение, но мне удалось приостановить его. Я не забыла дни на Понтии, мой друг.
— Это делает мне честь, Ливилла, но могу предположить, что ты не хочешь, чтобы они вернулись.
— Даже если бы и хотела, не могу. Мой супруг снова живет в Риме, а дядя Клавдий ревностно следит за добродетелью своих племянниц. Начни новую жизнь, Сабин, и попытайся забыть все, что произошло.
— Забыть, что Херею казнили? Забыть, что меня хотели судить, будто я совершал преступление? Как ты себе это представляешь?
— Ты должен попытаться, Сабин. Другого совета я не могу тебе дать.
Через неделю Сабин получил подписанный императором приговор, гласивший, что его изгоняют из Римской империи. В качестве места поселения он мог выбрать любую провинцию или вассальное государство. Сабин рассмеялся и бросил приговор в огонь.
Он вспомнил, как Херея говорил ему: «Нас будут славить, наши статуи и бюсты украсят улицы и храмы…» — «И женщины Рима падут к нашим ногам», — мысленно продолжил Сабин.
На следующее утро управляющий нашел своего господина, бывшего трибуна Корнелия Сабина, мертвым. Он бросился на меч.
Ненадолго пережила его и Ливилла, которая год спустя пала жертвой мести Мессалины, третьей супруги императора Клавдия. Ее сестре Агриппине, после того как саму Мессалину казнили, удалось стать следующей, четвертой, женой императора и принудить его усыновить Нерона, который потом и стал его преемником. Властолюбивая мать мешала ему, и на пятом году своего правления он приказал ее убить.
Валерий Азиатик, умный, уравновешенный стоик, попытался организовать новый заговор и при попытке ареста совершил самоубийство.
Префект преторианцев Арренций Клеменс поднялся во время правления Клавдия до должности консула; уже пожилым человеком он пал жертвой произвола императора Доминиция.
Луций Сенека вернулся в Рим и возобновил отношения с Ливиллой. Мстительная Мессалина добилась его ссылки на Корсику, но Агриппина через восемь лет вернула поэта обратно. Он стал воспитателем ее сына Нерона, который потом вынудил Сенеку совершить самоубийство.
Мужественный поступок легата Публия Петрония был вознагражден в полной мере. Из-за штормовых ветров известие о кончине императора он получил на двадцать три дня раньше, чем письмо Калигулы с приказом о самоубийстве. Впоследствии он стал ближайшим советником императора Клавдия, при котором умер в почете и уважении.
Пираллия после смерти Калигулы исчезла. Агриппина похвалила и наградила ее за временное захоронение Калигулы. Его останки, а также прах Цезонии и Друзиллы выкопали и перенесли в мавзолей Юлиев. После этого Пираллия покинула Рим, и с тех пор никто про нее ничего не слышал.
Зигфрид Обермайер[18]
КЛЕОПАТРА
КЛЕОПАТРА

ПОД ЗНАКОМ ЗМЕИ
Книга I
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОМОЩЬ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

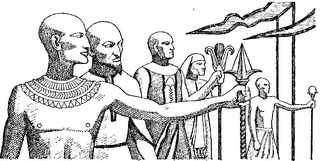
Глава 1
С незапамятных времен Сиена, самый южный город египетского царства, не удостаивался посещения фараонов. Хотя письменных свидетельств об этом не сохранилось, считается, что последним здесь останавливался Рамзес II
[19] на церемонии освящения двух храмов — в честь него и его царственной супруги Нефертари.
Конечно, о прибытии Клеопатры было объявлено заранее, чтобы город мог как следует подготовиться к встрече такой высокой гостьи. Правитель города повелел украсить дом городского совета гирляндами цветов, ветвями сикомора и тамариска.
В назначенный день все знатные граждане Сиены ожидали в порту прибытия царского флота. Немногочисленная греческая колония состояла из наместника, из командующего пограничным флотом, его офицеров, нескольких чиновников, а также двух врачей — меня и моего отца. Правитель города был египтянином, так же как и жрецы почитаемых здесь богов. Во главе их стояли советы жрецов храма Исиды
[20] на острове Пилае и храма Осириса на соседнем острове Бигге.
Они выглядели очень величественно: головы обриты, поверх белых одеяний наброшены леопардовые шкуры. Им не уступали и жрецы храма Хнума
[21] из Элефантины. Жрецы храмов поменьше, в честь Амона
[22], Сохмет
[23], Хатор
[24] и некоторых местных богов, держались несколько скромнее.
Роскошный корабль Клеопатры с позолоченными мачтами, развевающимися знаменами и цветными парусами был заметен уже издалека. Царский корабль окружали маленькие быстроходные барки личной охраны. Копья, мечи и секиры угрожающе сверкали под лучами послеполуденного солнца. Слышны были фанфары, возвещающие о прибытии высокой гостьи. Насколько просто, как увидел я позже, одевалась царица в своей греческой столице, настолько величественной предстала она сейчас: Владычица Обеих Земель и дочь Солнца — подобно фараонам во времена Древнего Египта. На голове ее сверкала золотая корона предков, в скрещенных на груди руках она держала скипетр и бич. Ее позолоченное бронзовое кресло окружали курители фимиама в белых одеждах. Они окутывали Клеопатру серовато-белыми клубами душистого дыма, которые быстро развеивал северный ветер. Сильные нубийские рабы в набедренных повязках вынесли золоченый трон с царицей на берег. Ее египетские подданные, согласно старинному обычаю, простерлись ниц в пыли. Мы, греки, склонились в глубоком поклоне.
— Поднимитесь, поднимитесь! — услышали мы ее звучный, немного резкий, но приятный голос.
Уже в двадцать лет Клеопатра владела многими языками, превосходно и без акцента говорила на древнем языке своей страны. На нем она и обратилась сейчас к правителю города и его чиновникам. Затем она приветствовала по-гречески нас и протянула наместнику для поцелуя руку, украшенную драгоценными перстнями и браслетами.
Мы собрались в доме городского совета. Рядом с троном царицы стоял диойкет Протарх, ее верховный визирь. Он развернул свиток и начал читать. Это тоже была традиция: с достаточно длинным приветствием к своим подданным фараоны никогда не обращались сами. Это была речь от имени «моего возлюбленного брата и супруга», занятого своими царскими делами в Александрии при поддержке мудрого регентского совета, который, как она надеется, вскоре станет излишним. Царица вспомнила и своего отца
[25], примкнувшего теперь к сонму божественных, чью помощь и поддержку свыше она явственно ощущала. Упомянула она также и праздничную церемонию возрождения быка Бухиса
[26] в Гермонте, в которой она принимала участие. В этом царском обращении, которое читал диойкет, брат и сестра представали царственной супружеской парой, живущей в мире и согласии. Однако некоторые из присутствующих хорошо знали, что в действительности все обстоит несколько иначе. Затем Клеопатра побеседовала коротко с каждым из присутствующих.
Мы с отцом также предстали перед ее троном. Распорядитель заглянул в свой список и представил нас: «Полковой врач Геракл и его сын Олимп, тоже врач».
Услышав мое имя, она сказала, слегка наморщив лоб:
— Прилежный, прилежный молодой человек. Я полагаю, ты ассистируешь отцу во время трудных и ответственных операций?
— Да, госпожа, но он в состоянии уже и сам поставить диагноз и провести лечение, — ответил за меня Геракл.
Пока царица обратила взор на моего отца, я отважился немного рассмотреть ее. Трудно было судить о ее лице: оно было подкрашено по египетскому обычаю и выглядело поэтому несколько застывшим, как разрисованная маска мумии. Большие выразительные глаза были темно-серыми, как и у меня, — наследство македонских предков. Волосы скрывал пышный завитой парик. Ее узкий с легкой горбинкой нос выдавался далеко вперед, однако не настолько, чтобы сделать ее некрасивой. Рот ее был не слишком мал и не слишком велик, очень красивой и благородной формы, со слегка выдающейся верхней губой, что придавало ее лицу нечто женственно-кокетливое. Ее насмешливый голос заставил меня прервать созерцание:
— Ну, Олимп, ты изучаешь мое лицо как врач или хочешь написать мой портрет?
— Ни то, ни другое, о госпожа. И я прошу прощения за мою дерзость. Не каждый день случается увидеть царицу.
Она рассмеялась, сердечно и беззаботно:
— Ты прав, Олимп, но кто знает, куда еще приведет тебя твоя судьба.
Это, вероятно, была бы моя единственная встреча с Клеопатрой, если бы не случай, который произошел на следующий день.
Утром, еще до восхода солнца, моему отцу пришлось отплыть на юг. Одно из пустынных племен предательски напало там на пограничный отряд, имелись убитые и раненые.
— Ты остаешься здесь, Олимп. Пока царица в Сиене, мы не можем покидать ее сразу оба.
В этот день Клеопатра выразила желание осмотреть знаменитые каменоломни, где с незапамятных времен добывали розовый гранит, из которого возводились постройки во многих городах страны. Ваятели создавали из него прекраснейшие произведения на религиозные и житейские темы, и благодаря прочности камня они дошли до нас спустя тысячелетия.
Царица отправилась в путь в легком паланкине. Ее сопровождали наварх царского флота, отряд личной охраны и несколько служанок. Каменоломни находились на краю города, и вскоре вся процессия была уже на месте. Наварх, мужчина довольно преклонного возраста, ехал верхом на осле. Слезая с него, он угодил ногой в щель между камнями, упал и получил сложный открытый перелом лодыжки. Его сразу же доставили на корабль, куда поспешно прибыли и два врача: личный врач Клеопатры и постоянный корабельный врач. При открытых переломах, когда кость раздроблена в нескольких местах, вряд ли найдется врач, который не выступит за ампутацию. К этому вынуждает целый ряд причин, и прежде всего воспаление конечности, из-за чего возникает риск отравления всего организма и угроза смерти.
Когда наварх услышал, что ему собираются отнять ступню, он воспротивился и потребовал привести третьего врача, а именно — полкового врача Геракла, моего отца. За ним был послан в наш дом слуга. Однако мне пришлось объявить ему, что отец на несколько дней отправился к южной границе. Но я объяснил, что я тоже врач и могу осмотреть поврежденную ногу. Слуга окинул меня оценивающим взглядом и, вероятно, нашел слишком юным. Однако я уже собрал все необходимое и поспешил вместе с ним на корабль.
У постели командующего флотом сидела Клеопатра.
— Где твой отец? — строго спросила она. — Мы велели доставить сюда его, а не тебя.
Я объяснил, в чем дело.
— Молодой врач необязательно должен быть хуже, — сказал раненый слабым, прерывающимся от боли голосом.
Я внимательно осмотрел поврежденную ногу. Кость была сломана почти под прямым углом. Несколько острых обломков, прорвав кожу, торчали как иглы.
— Мне необходимо тщательнее обследовать рану. Это очень болезненная процедура, но я постараюсь закончить ее побыстрее.
Наварх через силу улыбнулся:
— Смелее, смелее! Хуже уже не будет…
Приказав двум его слугам держать больного покрепче, я попытался придать поврежденной ноге правильное положение. Раненый заскрежетал зубами, затем застонал и наконец, не выдержав, закричал.
— Прекрати сейчас же! Зачем мучить его! — поднялась царица.
— Потому что без этого не обойтись, — ответил я спокойно. Впрочем, я уже увидел все, что мне было нужно, и, прощупав ногу, установил, что голеностопный сустав был в общем-то цел и поврежден был только незначительный участок.
— Я считаю, что ногу можно спасти. Конечно, она перестанет гнуться и не сможет выдерживать нагрузки, но все же это позволит избежать ампутации.
Личный врач царицы ничего не сказал и только презрительно фыркнул. Корабельный врач в сомнении покачал головой:
— Ты уверен в этом? При такой ране почти неизбежно возникает антониев
[27] огонь. И тогда придется ампутировать не только стопу, но и всю голень. Тебе приходилось уже сталкиваться с этим?
— И не один раз, уважаемый коллега, а несколько дюжин, — усмехнулся я, возможно, довольно дерзко. — Здесь, на границе, войска постоянно подвергаются нападению нубийцев или разбойничьих племен, кочующих по пустыне. И я лучше других знаю, какие повреждения может причинить праща, секира или палица. Если бы мы каждый раз прибегали к ампутации, в армии Вашего Величества остались бы только одноногие и однорукие солдаты.
Клеопатра уже начинала гневаться.
— Если ты настолько же искусен во врачебном ремесле, насколько дерзок в обхождении, — строго улыбнулась она, — то ты далеко пойдешь. Наварх должен сам принять решение, потому что дело касается только его.
Раненый закрыл глаза. Его бледное лицо, покрытое капельками пота, исказила болезненная судорога.
— Я доверяю врачу Олимпу, — сказал он тихо.
— Хорошо, — сказал я, — но раненый не сможет отправиться в дорогу вместе с вами. В нашем доме есть специальная комната для больных. На некоторое время ему придется остаться здесь. Может быть, на месяц, может, чуть дольше.
— Царица… — начал личный врач, но она прервала его:
— Пусть будет так, как решил наварх. С ним останется двое слуг, а его корабль будет ждать в порту, пока он снова не поправится. А тебе, Олимп, я скажу только одно: если этот человек умрет, советую тебе поскорее скрыться где-нибудь в Нубии. Ибо тогда в Египте не будет для тебя спокойной жизни.
Я склонился в глубоком поклоне:
— Да свершится воля твоя, о госпожа.
Много позже, в одной из доверительных бесед, я как-то спросил царицу, действительно ли она осуществила бы свою угрозу, если бы главнокомандующий умер.
— Может быть, — пожала она плечами. — А может быть, и нет. Ты ведь знаешь, как своевольны цари. Но тогда политическое положение в стране было очень сложным. Когда спустя месяц передо мной вдруг появился главнокомандующий, я уже почти забыла о нем.
Наварху и двум его слугам была отведена лучшая комната в нашем доме, и я сделал все, чтобы спасти его ногу и его жизнь. Мой отец вернулся только через несколько дней. Все это время мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Я давал раненому специальное обезболивающее средство. Я не стану приводить здесь его рецепт, потому что обещал это отцу. Скажу только, что в его состав входит сок трех разных растений, мед, масло и перебродившее ячменное пиво.
Когда вернулся отец, я подробно описал ему весь случай, с волнением ожидая его приговора.
— Я бы сделал все точно так же, — сказал он. — Но, надеюсь, ты понимаешь, что некоторый риск все же остается. Могут еще возникнуть некоторые осложнения.
Но, очевидно, Сохмет и Асклепий
[28] были к нам благосклонны: никаких ухудшений и осложнений не возникло, и спустя двадцать пять дней строжайшего постельного режима командующий флотом смог наконец в первый раз покинуть свое ложе.
— Это просто чудо, — пробормотал он. Однако при первой же попытке ступить на больную ногу он убедился, что это не совсем так, и издал сдавленный крик и длинное проклятие. Мне стоило большого труда успокоить его.
— Конечно, так, как раньше, уже не будет, — предупредил я. — Тебе всегда придется опираться на палку или костыль. Но ведь нога спасена, господин наварх. Это все же лучше, чем быть безногим калекой.
— Мой сын прав, о господин, — поддержал меня отец.
Наварх хромая добрался до кровати и осторожно сел.
— Да-да, я понимаю. Но для меня это так неожиданно.
Это были обычные жалобы наших пациентов: нога не гнется, плечо перекошено, бедро осталось кривым. Но постепенно они привыкали к этому: человек ведь ко всему может привыкнуть, пока у него остается надежда.
В день отъезда командующий флотом настоял на том, чтобы дойти до порта самому, без помощи слуги. Он опирался, конечно, на палку, но преодолел все расстояние сам. Он велел дать нам пять золотых стотеров, но мой отец вернул их.
— Мы оба служим царице: ты на воде, я на суше. Было бы неправильным принимать за это плату.
Командующий флотом упрямо покачал головой:
— Я не возьму их обратно! Пусть они пойдут на больных, которые не служат в войске и не имеют денег.
— Хорошо, наварх, пусть так и будет, — кивнул мой отец.
Я проводил моего пациента на корабль. Он сел на стул и отставил палку.
— Тебе, Олимп, я обещаю одно: я похвалю царице твое искусство, потому что ты этого заслуживаешь. Вместо того чтобы избрать более простой путь: отнять мне ногу и избежать тем самым возможных осложнений, ты отважился лечить такую опасную рану по всем правилам твоего ремесла и с большим терпением. Такие врачи, как ты, нужны нам в Александрии в мусейоне
[29], чтобы они передавали свои знания и опыт молодым.
Я улыбнулся, польщенный.
— Но я и сам еще очень юн. Вряд ли мусейон примет такого учителя. Может быть, лет через десять…
— Когда бы это ни произошло, тебе всегда будут рады, — кивнул командующий флотом.
Я не воспринял этот разговор всерьез и вскоре забыл о нем. Благодарные пациенты обещают много — каждый врач знает это. Но потом болезнь и боль забываются, и остается только радоваться, если они хотя бы здороваются с тобой при встрече.
Я уже упоминал, что согласие между царствующими супругами было только фикцией, чтобы успокоить и убаюкать народ. Однако жители Александрии быстро раскрыли этот обман. Даже среди образованных граждан Сиены возникли некоторые волнения по поводу создавшейся ситуации.
Многие римские и греческие авторы подробно описывали эти беспокойные годы после смерти Птолемея XII Авлета. Но, как мне кажется, все они при этом черпали свои сведения не из первоисточников. И хотя их сообщения нельзя назвать неправильными, все же я нахожу в них множество пробелов.
Одно можно утверждать наверняка: Клеопатра, как явствует из ее слов и дел, всегда видела Владычицей Обеих Земель только себя одну. Ее сестра Арсиноя и оба брата были в ее глазах только пешками, мимолетными тенями на полотне истории, творцом которой — в Египте или где-нибудь еще — она хотела видеть только себя.
Покойный фараон завещал, чтобы она правила страной вместе с одним из своих братьев. Поначалу так и было. Но вскоре Клеопатра ясно дала понять, что она не намерена делить власть со своим десятилетним братом-супругом Птолемеем XIII. С этим, однако, не мог согласиться стоявший за его спиной регентский совет во главе с «приемным отцом» Потином. Прежде чем ее малолетний брат успел подрасти и стать серьезным конкурентом в борьбе за власть, она сделала все, чтобы затмить его и заслужить любовь народа.
Вернувшись в Александрию, Клеопатра вновь заняла трон рядом с братом. Потин и регентский совет покорились, но втайне продолжали строить свои козни. Год выдался неурожайный. Регентский совет «от имени царя и царицы» издал декрет, который предписывал все собранное в Среднем Египте зерно свезти в Александрию, не посылать ни в коем случае в бедствующие районы. Это должно было ослабить и подорвать авторитет Клеопатры в Нижнем и Среднем Египте. По-прежнему угрожала опасность из Рима: в бушевавшей там гражданской войне могли одержать верх те силы, которые выступали за захват египетских земель.
Когда я сегодня, спустя всего четыре десятилетия, взираю на Рим и остальные страны, мне трудно поверить, что из этой смуты мог вырасти такой прочный и длительный мир. Сейчас почти невозможно представить, что всего несколько десятилетий назад на улицах Рима сражались друг против друга сторонники триумвиров Цезаря, Помпея и Красса
[30].
Красс был убит в одном из походов против парфян. Теперь борьба за власть разыгрывалась только между Цезарем и Помпеем. Сторонники последнего в Риме были, казалось, сильнее. Однако Цезарь изгнал его, и Помпей попытался получить поддержку в Египте. Его приняли там очень любезно, так как его отец всегда помогал покойному Птолемею Авлету, в том числе и звонкой монетой. Однако Клеопатра, как она сама мне потом подтвердила, ни на минуту не допускала мысли о том, чтобы поспешить к нему на помощь. Ибо от своих шпионов она знала, что Цезарь прочно удерживает в руках власть над Римом и Италией. Поэтому она сделала единственно возможное, а именно — ничего. И переложила на регентский совет ответственность за шестьдесят кораблей, солдат и продовольствие, которые он предоставил Помпею. Часть бежавших с ним сенаторов бурно благодарили Птолемея XIII. В ответ на это Помпей формально был назван опекуном юного царя. Прекрасная, волнующая игра, которую Клеопатра не могла больше наблюдать спокойно, потому что всерьез опасалась за свою жизнь. Ночь спустя она бежала из города и вместе с верными ей войсками двинулась в Палестину, к северной границе своего государства.
Узнав об этом, Цезарь стал к ней более внимателен. Она выступила против Помпея, а Цезарь помнил старое правило: враг моего врага мой друг. С этого момента Цезарь встал на сторону Клеопатры и благоволил ей до самой смерти.
Однако предстояло еще победить Помпея. Цезарь, гениальный полководец, закрепил за Италией Иберийский полуостров, затем вернулся форсированным маршем и принудил Помпея к решающей битве при Фарсале в Фессалии. Это произошло в третье лето правления моей царицы. Помпей был наголову разбит и бежал в Египет, чтобы просить у юного царя помощи и поддержки. Однако намерения Птолемея тем временем изменились. Его «приемный отец» Потин убедил его, что для Египта было бы невыгодным надолго стать ареной гражданской войны, которую ведут римляне. К тому же это стоило бы слишком дорого…
Несколько верховных римских военачальников были подкуплены. И когда Помпей поднялся на корабль, чтобы плыть в Египет, они убили его. Одновременно на корабли Помпея напал египетский военный флот, и часть из них была потоплена, а остальные поспешно ушли в открытое море.
Теперь пробил час единственного оставшегося в живых члена триумвирата. Красс и Помпей были мертвы. И уже спустя четыре дня после убийства последнего Юлий Цезарь высадился в Александрии с одиннадцатитысячным войском. Его встречала царская делегация, которая преподнесла ему перстень с печаткой и забальзамированную правую руку Помпея. Цезарь держался холодно. Помпей, хотя и был его врагом, но все же был римлянином. Не пристало поэтому вмешивать в их спор египтян. Цезарь довольно явно выразил свое недовольство, но дал понять, что гнев его можно смягчить — например, с помощью денег. Он нуждался в них, чтобы продолжить борьбу против сыновей и сторонников Помпея. Далее Цезарь напомнил, что покойный правитель Авлет просил его во имя всех богов, а также согласно договорам, заключенным в Риме, проследить за выполнением его завещания — что Цезарь и собирался теперь сделать в качестве римского сенатора и проконсула. Первым делом он направил быстроходное судно в Палестину с просьбой к Клеопатре вернуться и принять правление вместе со своим братом. С этим, однако, не могли согласиться круги, стоящие за спиной теперь уже двенадцатилетнего Птолемея. С помощью этой царствующей марионетки они хотели бы и дальше проводить свою политику, оставаясь у власти и денег. Таким образом, обратный путь в Египет был для Клеопатры закрыт. Ей пришлось высадиться на берег тайно, переодевшись на одном из маленьких судов в порту.
Много разного сообщают о ее возвращении в страну. Сама она по этому поводу ничего не рассказывала, и никто, в том числе и я, не решался спрашивать ее об этом. Обычно его описывают так. Опасаясь, что ее узнают даже в переодетом виде, она подкупила некоего сицилийского торговца Аполлодора, судно которого стояло в порту, и уговорила спрятать ее в свернутом ковре, а ковер этот доставить Цезарю в качестве подарка от Клеопатры. Так и было сделано, и двадцатипятилетний консул был настолько очарован ею, что позволил вовлечь себя в осуществление ее планов. А планы эти были направлены прежде всего на то, чтобы Клеопатра стала единственной правительницей на египетском троне. Это было, однако, нелегко. В Александрии — а именно от нее все и зависело — царили антиримские настроения, которые умело разжигал председатель регентского совета Потин. Римлян — будь то солдаты или мирные граждане — оскорбляли на улицах, чаще на словах, но случалось и действием. Греки презрительно называли их неотесанными варварами, тиранами и захватчиками. Со своей стороны, римляне тоже были не лучшего мнения о греках и считали их коварными, бессовестными, наглыми, сварливыми и неспособными к действию.
Цезарь понимал, конечно, что, если он хочет изменить положение дел в свою пользу, начинать надо с Потина. Однако он не хотел излишне торопиться. Выполняя волю покойного Авлета, он подчеркивал, что владыками Египта являются Клеопатра и ее брат и супруг Птолемей. К этому времени юный царь уже достаточно повзрослел, чтобы понять, что Цезарь и его сестра — любовники, а он, как говорится, только пятое колесо в телеге.
Гнев его стал очевиден, когда он — по собственной воле или подстрекаемый Потином — выбежал из дворца в сопровождении друзей и родственников и, сорвав со своей головы корону, принялся кричать, что его сестра стала наложницей Юлия Цезаря, а его предала и хочет убить. Это возбудило волнения в городе. Однако римские легионеры осторожно, но решительно снова вернули правителя во дворец, и Цезарь добился примирения с братом и сестрой. Он был настолько умен, что сделал еще и вот что: он пообещал передать Птолемеям принадлежащий римлянам Кипр и провозгласить на нем правителями сестру Клеопатры Арсиною и ее младшего брата Птолемея XIV. Позднее историки высказывали предположение, что Клеопатра таким образом хотела устранить нелюбимых брата и сестру. Это полностью соответствует истине. Тем более что Цезарь в дальнейшем содержал их обоих под стражей в Брухейоне, царском квартале, и не предпринимал ничего для их отправки на Кипр. Римский сенат был бы очень возмущен, если бы он просто так, совершенно безвозмездно, подарил им эту провинцию.
Тем временем Потин, «приемный отец» юного царя и настоящий правитель за его спиной, вынашивал планы убийства Юлия Цезаря. Однако его выдал собственный цирюльник, который, думая о будущем, полагался больше на Цезаря, чем на своего господина. Потин был схвачен и казнен на следующий же день, ввиду особой тяжести его предательства. Приговор был подписан царем и царицей. Хотя бумага и все стерпит, трудно поверить, что Птолемей послал на смерть своего «приемного отца». Впрочем, все возможно, и Клеопатра обмолвилась как-то, что он сделал это по принуждению Цезаря, чтобы избежать ссылки.
Глава 2
Слухи об этом событии были у нас в Сиене несколько преувеличены. Хорошо осведомлен оказался правитель Теритекас из Мерое — так он и его предшественники называли прежде Куш, который греки зовут сегодня Эфиопией. Он использовал беспорядки в Александрии, чтобы вновь захватить часть Египта, — да, он дерзко утверждал, что ему должны быть подвластны все земли до первого порога.
У меня и моего отца тогда хватало работы. После каждого боя всегда были раненые. Наконец командующий пограничным войском приказал нам переселиться в укрепленный лагерь южнее первого катаракта
[31], так как там постоянно нужна была наша помощь. Он находился в ста двадцати стадиях к югу от пирамиды Рамзеса II, и по пути в лагерь я впервые увидел это величественное сооружение. Четыре монументальные статуи фараона были по грудь занесены песком. Пирамида его
супруги Нефертари была поменьше и тоже наполовину скрыта песчаным барханом. Кивнув на них, отец сказал:
— Вот, Олимп, взгляни! Ушло былое великолепие Древнего Египта. Прежде здесь жили сотни людей, которые ухаживали за этой святыней и заботились о том, чтобы Сет
[32], властелин пустыни, не задул ее своим раскаленным дыханием. Сегодня историки даже не знают, почему Рамзес повелел сделать четыре своих статуи и какие божества помимо него здесь еще почитались. От прошлого остались только легенды о великой любви фараона к Нефертари, потому что только ее позволял он изображать рядом с собой. Остальных его четыре или пять жен помнят только по именам. Если тебе случится побывать в Фивах, попроси показать тебе гробницу Нефертари. Правда, она разграблена, и мумия царицы пропала, однако ты найдешь там самые прекрасные рисунки, какие когда-либо видел. Вот, смотри! — Он указал на небо. — Теперь над занесенным храмом Нефертари кружат коршуны. Знаешь ли ты, что только главная супруга фараона могла носить головной убор из перьев коршуна, посвященный богине Нехбет
[33]. Твоя мать много рассказывала мне о старинных обычаях Египта…
Он замолчал и отвернулся. Я не стал его больше расспрашивать: он всегда плакал, когда вспоминал мою мать.
В пограничном отряде нас ждали с нетерпением, Прокурарх Маринос был тяжело ранен и передал командование своему первому офицеру. Камень из пращи попал ему в висок. Кость была пробита, раненый едва мог говорить, часто вскрикивал и почти не открывал глаз.
— Надо вскрыть череп, чтобы удалить из мозга обломки кости.
То, о чем так просто сказал мой отец, было особым искусством. Лишь немногие обычные врачи могут это сделать, но каждый военный врач должен быть с этим хорошо знаком. При этой операции кожу вокруг раны надрезают, отводят назад и осколки кости осторожно удаляют специальной лопаточкой и пинцетом. При этом врач должен действовать осторожно и уверенно, чтобы не повредить мозг. У Мариноса операция прошла довольно легко: кость была, только пробита, но не раздроблена на куски.
А затем настал тот несчастливый день, когда наша с отцом жизнь резко изменилась. Из Александрии пришел долгожданный приказ усилить пограничное войско. Выздоравливающий Маринос отправился в Сиену набрать солдат и разузнать кое-какие важные новости. Последние десять — двенадцать дней обстановка была довольно спокойной, и наши разведчики сообщали, что в неприятельском лагере почти нет никаких передвижений. Но каким-то образом нубийцы узнали, что наш командир уехал, к тому же в сопровождении двух дюжин солдат.
Кочевники напали на нас рано утром, еще до восхода, солнца: в отличие от городских жителей, они не испытывают страха перед темнотой и используют ее в своих целях. Мы не знали, сколько их было. Они налетели на нас, как саранча, и большинство наших людей были перебиты, прежде чем успели взяться за оружие. Предводитель неприятельского войска, казалось, заранее знал, что в нашем лагере есть врачи. Он приказал окружить нашу палатку, в то время как рядом в госпитале были убиты все раненые. На ломаном греческом он спросил нас, действительно ли мы оба врачи. Когда мой отец подтвердил это, он велел нас связать и увести. Еще прежде, чем Ра
[34] вернулся из своего ночного странствия по подземному царству, все было кончено.
Сказать, что с нами обращались плохо, было бы неправдой. Обычно воины из Мерое не берут пленных. Однако мы были исключением, и, видимо, все было заранее спланировано.
Так началось наше путешествие вверх по Нилу, которое показалось нам бесконечным. На втором и третьем порогах лодки пришлось перетаскивать по суше, но все прошло быстро и без потерь.
Еще отец правителя Теритекаса перенес свою резиденцию севернее, в город Напата, лежащий около четвертого катаракта. При фараоне-воине Тутмосе III эта область принадлежала Египту. Теперь времена изменились, граница передвинулась значительно севернее, и государство Теритекаса занимало большую, хотя и малонаселенную территорию.
Говорящий на ломаном греческом нубиец был нашим спутником и стражем и сопровождал нас до самой Напаты. От него мы узнали, что правитель срочно нуждается в хорошем, образованном греческом враче.
— Ваш правитель полагает, что эту проблему можно решить силой? — возмутился отец. — Напасть на лагерь, перебить множество людей и увезти двух врачей в качестве военной добычи. Может быть, мы вообще не хотим работать на твоего правителя. Мы свободные греки и принесли клятву нашему, — слово «нашему» он подчеркнул, — правителю.
Нубиец невозмутимо улыбнулся:
— Какому правителю, Геракл? Авлету? Его сыну Птолемею? Его дочерям Беренике и Арсиное? Или, может быть, Клеопатре, седьмой в роду? Все они были правителями; правда, совсем недолго, но все же. А Египтом со времен Авлета в действительности правит римский сенат. Ему ты не присягал?
Мой отец устало покачал головой. Мы сидели под навесом, перед нами тянулась бесконечная пустыня. Время от времени мы проплывали мимо какой-нибудь деревни: ее жители, отощавшие и оборванные, неподвижно стояли на берегу, разглядывая наше судно. Наконец отец сказал:
— Как военный врач я давал присягу династии, а не какому-то определенному лицу. Правители приходят и уходят — так было всегда.
— Его величество правит уже больше десяти лет, его почитает народ, уважают министры, любит семья…
— Да-да, хорошо, — прервал его отец.
Столица Напата производила странное впечатление. Казалось, что находишься в Древнем Египте, но все выглядело маленьким, жалким и грубым. Как будто какой-нибудь третьеразрядный мастер за несколько дней построил город в том стиле, который поверхностно усвоил в Египте. Здесь были храмы с пилонами и стенами, покрытые непонятными иероглифами, были статуи правителей или богов — грубое, неумелое подражание египетским. Дворец правителя находился на окраине города. Построенный из необожженного кирпича, он был маленьким и скромным, однако в нем всегда царило оживление. Вдали видны были и пирамиды: жалкие сооружения с отвесными стенами, вероятно, не выше шестидесяти — семидесяти футов.
Нас поселили в государственной тюрьме. Но наш спутник заверил, что это только для нашей же защиты — в стране не любят чужеземцев, даже если это греки. А правитель как раз уехал на охоту и вернется не раньше чем через пять-шесть дней.
Хотя отец мой стал молчалив и ничего не говорил о нашем положении, я знал, что он постоянно об этом думает и ищет какой-нибудь выход.
Наша тюрьма, впрочем, вовсе не была какой-то ужасной мрачной клеткой, хотя и находилась на самом верхнем этаже здания, которое, очевидно, служило казармой. Мы жили в двух маленьких комнатках с одним окошком, выходившим на запад. Из него видны были пирамиды на горизонте. Их темно-коричневые зубцы вонзались в небо, как шипы какого-то гигантского высохшего растения. Чтобы как-то убить время, мы вели бесконечные разговоры обо всем и ни о чем. Время от времени отец спрашивал меня, слегка усмехаясь:
— С Сатис теперь, видимо, все уладится?
Я только пожимал плечами, стараясь не показать, что меня задевают его остроты.
За полгода до нашего отъезда на границу на одном из ежегодных симпосиев
[35], которые правитель Сиены устраивал для знатных семей, я познакомился с его дочерью Sat-Eset. Ее египетское имя означало «Дочь Исиды», я называл ее Сатис. Девушке было четырнадцать лет. Она впервые участвовала в таком празднике вместе со своими родителями и старшими братьями. Наш правитель был человеком широких взглядов и, видимо, помнил, что в Александрии правили греческие цари. Поэтому он ввел обычай, по которому после обеда молодежь должна исполнять греческий танец.
В этом танце юноши и девушки, стоявшие друг против друга, брались за руки и выполняли довольно сложные танцевальные шаги и движения. Для того чтобы танец этот доставил удовольствие нашим родителям и близким, нам пришлось сначала несколько дней репетировать. Девушки уже через несколько часов поняли, что надо делать, а молодым людям для этого понадобился целый день. Некоторые (и я в том числе) так и не смогли бы справиться с этим без женской поддержки.
К тому времени, как на симпосии мы встали друг против друга, мы с Сатис были знакомы семь дней и я по уши влюбился в нее. Я был далеко не невинным юношей, не раз спал с женщинами, с продажными тоже — в Сиене среди них встречались совершенно очаровательные. Но сейчас было что-то совсем другое, что-то новое, чего раньше не было. Когда я сегодня пытаюсь представить себе Сатис, мне ничего не удается. Она была маленькая, изящная, с трогательными тонкими руками и красивой крепкой грудью, не слишком большой и не слишком маленькой. Ее лицо? Это было красивое египетское лицо, старательно подкрашенное, с большими темными глазами, посаженными немного косо — похожее на лица многих молодых египтянок. В этом показательном танце были фигуры, в которых надо было брать друг друга за руки или хлопать в ладоши — при этом по телу моему каждый раз пробегала дрожь, как будто я прикасался к некоей священной статуе божества. Мой отец как-то продемонстрировал мне опыт с бронзовым стержнем. В мае или апреле, когда свирепствует хамсин
[36], его выставляют на несколько часов на улицу. Если после этого дотронуться до него голой рукой, почувствуешь странный удар. Что-то похожее я чувствовал и когда меня касались руки Сатис, а когда она робко поднимала на меня свои огромные глаза, я краснел и отводил взгляд — это я-то, который уже имел опыт с гетерами.
Мы обменялись всего парой слов, хотя я, наполовину египтянин, довольно бегло говорил на языке этой страны. Наше танцевальное представление можно было счесть удавшимся. Во всяком случае, зрители были благосклонны и не заметили наших ошибок. Все это было вскоре забыто, но образ Сатис остался в моем сердце. Мне хотелось снова увидеть ее, поговорить с ней, дотронуться до нее, быть с ней рядом. Обычно такие вещи молодые люди держат от родителей в тайне, но у меня с отцом были совсем другие отношения: если меня что-то волновало, он тоже узнавал об этом, я искал у него совета и помощи. Поэтому я прямо и откровенно сообщил ему, что твердо решил жениться на Сатис.
Это известие слегка ошарашило отца. Он закрыл дверь и уселся напротив меня.
— Конечно, Олимп, я понимаю твои чувства. Я тоже был влюблен в египтянку и сделал все, чтобы она стала моей женой. Ты плод нашего недолгого супружества, нашей любви. Но это было в Александрии. В этом городе все. народы живут вместе. Евреи женятся на египтянках, египтяне на гречанках и гречанки на евреях. Здесь, мой мальчик, все не так просто. Конечно, в Сиене я как врач пользуюсь заслуженным уважением, иначе нас не приглашали бы на ежегодные симпосии. Но ты мог бы заметить, что обычаи здесь строже. Со времен персидского господства здесь, на Элефантине, живут евреи, греки здесь тоже есть — как ты, я или офицеры пограничного войска. Но прежде всего здесь живут египтяне — уже несколько тысячелетий. Это их земля, их страна. Старые обычаи живы и почти не изменились. Для правителя Сиены мы иностранцы, которые приходят и уходят, которых, конечно, уважают, но с которыми не вступают в семейные отношения. Ты хочешь, чтобы я пошел к правителю города просить для тебя руки его дочери? Я многое готов для тебя сделать, но здесь мы бессильны. Конечно, было бы глупо просить тебя забыть эту девушку, но в данном случае тебе придется самому решать эту проблему. Даже если Сатис захочет — а я в этом очень сомневаюсь, — ее родители никогда не дадут согласия на то, чтобы она вышла замуж за грека.
— Наполовину грека, не забывай об этом! — возразил я упрямо.
Геракл беспомощно поднял руки:
— Ах, Олимп, я не забываю об этом. И доказательством служит то, что я так и не женился больше.
А теперь мы с отцом сидим в тюрьме в Мерое, а я все не могу забыть Сатис. И во мне живет подобие надежды — возможно, это только из гордости или упрямства, — что моя любовь найдет ответ.
Потом вернулся с охоты правитель Теритекас, и суровая действительность прогнала призраки прошлого. Когда нас собрались вести на первую аудиенцию со связанными руками, мой отец запротестовал:
— Если я должен служить правителю как врач, я хочу предстать перед ним свободным человеком. Сохмет будет разгневана, если ее слуги предстанут в оковах.
Мой отец нашел верный ход, потому что здесь — позже мы чувствовали это на каждом шагу — очень чтили древних египетских богов. Вероятно, это осталось еще с тех времен, когда правители Куша почти целое столетие правили также и Египтом; мой отец немного знал об этом. Итак, нас развязали и повели в зал для аудиенций, где у дверей нас уже ждал распорядитель. Он довольно хорошо говорил по-гречески и засыпал нас правилами и предписаниями, большинство из которых мы не поняли. Ясно было одно: нам следовало трижды пасть ниц перед правителем — при входе, в середине зала и у трона — и так замереть, пока правитель милостиво не разрешит нам встать на колени.
Отец кивнул, пробормотав что-то, и мы вошли.
— Мы ограничимся низким поклоном, — шепнул он.
Мы трижды низко поклонились, а перед троном преклонили колени.
Зал показался мне невероятно большим, должно быть, он тянулся через весь дворец, и при этом был так богато обставлен, что у меня даже голова закружилась. Дворец Клеопатры в Брухейоне, который я увидел позже, был не менее великолепен, но драгоценности там встречались довольно редко, так что глаз мог ими насладиться. Здесь же украшений было так много, что ты просто тонул в них.
Рядом с Теритекасом на троне сидела его тучная супруга. Оба они, в отличие от своих придворных, были почти такими же светлокожими, как египтяне. Вероятно, это оттого, предположил мой отец, что в этом роду правители всегда брали в жены египтянок, возможно, из политических соображений. Если между Кушем и Египтом воцарялся мир, фараон присылал правителю Мерое среди других подарков и «принцессу» для его гарема. Конечно, это была не настоящая принцесса, а просто какая-нибудь красивая воспитанная девушка, которая, возможно, состояла с фараоном в каком-то очень далеком родстве.
Одеяние правителя и его супруги было наполовину египетским, наполовину варварским. Их короны напоминали египетские, но покрывала были не белые, как у фараона, а украшенные разноцветными блестками, бахромой и кисточками. Наряд этот дополняла шкура леопарда, наброшенная на плечи правителя. Это был мужчина в самом расцвете сил, его открытое и приветливое лицо вызывало симпатию. Его супруга, напротив, держалась строго и надменно. Обращаясь к нам, она смотрела свысока и куда-то в сторону и использовала выражения, уместные только по отношению к рабам. Правитель говорил по-египетски и собирался обратиться за помощью к переводчику, но отец опередил его:
— Ваше величество, я достаточно хорошо говорю на языке этой страны, как и мой сын — его мать была египтянкой.
Сейчас я никак не могу точно вспомнить, о чем же мы говорили с царствующей парой. Вероятно, Теритекас говорил о том, как он рад видеть в Мерое таких искусных и прославленных врачей. Он надеется, что мы останемся здесь подольше, чтобы передать наше мастерство местным лекарям. Правитель обращался к нам так, как будто мы прибыли добровольно и совершенно свободны. Но высокомерие супруги совершенно не соответствовало его речам. Она сказала о распоряжениях, которые будут нам переданы, о строгой охране и суровых штрафах в случае, если что-то помешает нашей спокойной жизни.
После этого она больше не обращалась к нам и вела себя так, как будто нас и не было. Я не мог сдержать улыбки — Амани-Рена выглядела как увешанный блестками бочонок и едва помещалась на троне. Не обратив внимания на ее неприязненные речи, правитель по-прежнему оставался приветлив. У его ног сидел наследник трона принц Акинидад, и с ним рядом другие его братья и сестры.
Спустя некоторое время заиграла музыка, однако еще до начала симпосия нас вывели из зала. Причина этого вскоре выяснилась.
Нас привели в маленькую, скупо освещенную комнату. В центре ее стояла кровать, на ней сидел кронпринц. Его отец стоял у окна и беседовал с каким-то почтенным и образованным на вид господином с белой окладистой бородой. Мы поклонились. Правитель кивнул в ответ.
— Хватит церемоний, господа. Я приказал похитить вас во время набега. Собственно говоря, и сам набег был предпринят только ради этого, поскольку я прекратил войну с Египтом. Встань, мой мальчик, и подойди к окну, — сказал он, повернувшись к сыну.
Кронпринц поднялся и, прихрамывая, направился к отцу. Левая нога у него была странно искривлена и заметно короче правой.
— В семь лет Акинидад упал с лошади и сломал ногу. Видимо, несмотря на все старания наших врачей, кости срослись неправильно. Виновных я велел казнить. Но теперь мальчику уже десять лет, он должен будет наследовать трон после меня. — Теритекас в отчаянии развел руками. — Хромой король! Мои воины будут смеяться за его спиной и могут даже выйти из повиновения. Я бы все отдал за то, чтобы вылечить наследника.
Мой отец ничего не ответил, взглянул на принца и указал на кровать. Акинидад понял его и лег. Пока отец ощупывал его ногу, стройный миловидный мальчик оставался серьезным и невозмутимым. Место перелома можно было легко обнаружить. Должно быть, при срастании кости наложились друг на друга на ширину двух или даже трех пальцев.
— Пришлось бы еще раз ломать и затем укладывать все правильно, — сказал я по-гречески.
— Это будет не очень легко — прошло целых три года, — ответил отец.
— Придется делать надрез…
Отец кивнул:
— К счастью, перелом находится не очень далеко от пятки, поэтому разрез будет не таким глубоким.
Потом он повернулся к правителю.
— Я не очень хорошо говорю по-гречески, — сказал тот сразу же, — но я все понял. Значит, есть возможность выправить ногу?
— Да, но ему будет очень, очень больно.
В глазах кронпринца мелькнул страх. В надежде он взглянул на отца. Но тот твердо сказал:
— Если ты хочешь стать правителем, ты должен это вытерпеть.
— Нельзя ли сделать это немного… немного более приятным образом? — обратился он к нам.
— Возможно, ваше величество, — ответил я. — Для этого нам нужны некоторые лекарства. Мы смешаем их и дадим принцу — тогда все пройдет легче.
Правитель, казалось, не особенно поверил мне и взглянул на отца.
— Мой сын прав, но мы не смогли захватить с собой наши лекарства…
— Кто в этом виновен? — резко спросил правитель. Но это был скорее риторический вопрос.
— Как придворный врач его величества я, вероятно, смогу вам помочь, — вмешался в разговор белобородый. — Я соберу моих коллег, и вместе мы сможем найти какой-нибудь выход…
— Я надеюсь на это, — прервал его правитель. — Потому что до сих пор никто из вас так и не смог выправить ногу принцу.
Старый врач только молча поклонился.
Глава 3
Прежде чем мы с отцом смогли заняться ногой кронпринца, обнаружились еще кое-какие сложности. Не с придворными врачами — о нет, те были только рады снять с себя ответственность. Да и правитель, казалось, был доволен, что они не вмешиваются. Дело было в супруге правителя: Амани-Рена настаивала на том, чтобы наблюдать за операцией. Она хотела проследить за руками этих иностранцев, чтобы точно знать, что они делают с кронпринцем. Это она велела нам передать, поскольку мы были недостойны того, чтобы говорить с ней лично.
Мой отец был категорически против. Правитель, который был, видимо, не в лучших отношениях с супругой, был с ним согласен. Супруга не смогла ничего добиться и за это возненавидела нас. С этим нам пришлось смириться. Но отец потребовал от правителя, чтобы, если операция пройдет успешно, мы могли свободно уехать, когда принц выздоровеет.
— А если операция будет неудачной или если кронпринц умрет после нее — что тогда? — спросил правитель.
— Тогда я буду отвечать за это. Но моего сына ты отпустишь.
— Ты смеешь мне приказывать? — гневно нахмурился правитель. — Другие поплатились за это головой.
— Мы не другие, — усмехнулся отец, — а единственные здесь врачи, которые, возможно — да, я говорю возможно, — могли бы помочь твоему сыну.
Правитель счел ниже своего достоинства дальнейшее обсуждение. Он согласился на предложение моего отца и даже хотел составить письменный договор.
— Мне вполне достаточно вашего слова, — возразил мой отец.
Теритекас был, видимо, потрясен, и, мне кажется, уже с этого момента между ним и отцом завязалось что-то вроде дружбы — насколько это вообще возможно между правителем и его подданным.
Из-за свирепствовавшего три дня хамсина нам пришлось отложить операцию. Мой отец говорил, что во время пустынных бурь рука у врача не такая спокойная, а больные слишком раздражены и чувствительны.
Мы использовали это время, чтобы с помощью местного кузнеца изготовить необходимые инструменты: острый тонкий нож, специальное тонкое долото, тонкий молоток, маленькую пилу, щипцы — каждого по две штуки, чтобы исключить всякий риск.
Единственный, кому позволено было присутствовать при операции (четверть часа вначале и немного по окончании), был любимый воспитатель кронпринца. Мой отец постарался сделать все, чтобы операция была менее болезненной и не повредила здоровью мальчика.
Мы крепко привязали мальчика, так что он не мог пошевелиться и помешать нашей работе. Воспитатель при этом был рядом с ним, но должен был уйти, как только Акинидад заснет. Перед операцией отец целый час кипятил инструменты в вине, чтобы никакая грязь не попала случайно в рану.
Быстрым движением ножа он обнажил кости, слегка освободил их и осторожно начал отделять друг от друга. Надкостная ткань очень чувствительна, и принц проснулся. Он открыл глаза, жалобно застонал, потом начал громко кричать и пытаться освободиться от веревок.
Внезапно он затих.
— Пощупай шейную вену! — быстро приказал мне отец.
Я нашел ее большим и указательным пальцем под подбородком и отчетливо услышал удары сердца.
— Бьется слабо, но ровно.
Отец кивнул:
— Хвала Асклепию — на какое-то время он впал в забытье.
Мы осторожно отделили кости и придали им нужное положение. Затем я зашил рану. Чтобы кости вновь не сместились, необходимо было оттянуть стопу. Для этого мы обвязали голень веревкой, пропустили ее по маленькому колесику и к концу привязали камень.
После этого мы снова разрешили войти воспитателю. Он сразу же испуганно спросил о состоянии принца, почему он перестал кричать.
— Он просто без сознания и скоро очнется, — успокоил его отец.
Вскоре принц вновь застонал, и воспитатель стал успокаивать его, взяв за руку.
Потом в течение многих дней кто-нибудь из нас должен был постоянно следить, чтобы нога занимала правильное положение и кости не сдвинулись. Каждый раз, когда мы проверяли, как срастается кость, мальчику было очень больно. Но он подчинялся, был очень мужественным и терпеливым. Видно было, как он гордился, когда мы хвалили его отцу. На третий день воспалилась небольшая, но очень глубокая рана. Принц весь горел. Мы использовали все. жаропонижающие средства, делали холодные компрессы на голову, грудь и икры. Наконец рана стала затягиваться. Кости срослись правильно. Теперь мы смогли вздохнуть спокойнее. Лицо правителя тоже становила с каждым днем все спокойнее и приветливее.
Теритекас осыпал нас милостями и подарками. Мы перебрались в прекрасный дом неподалеку от дворца, получали приглашения в дома знати, где время от времени бывал и сам правитель. Он прислал нам в подарок двух юных рабынь — скорее для нашего ложа, чем для помощи по хозяйству. Отец со своей скрылся в спальне в тот же вечер.
Мою рабыню звали Натаки. Ей было лет четырнадцать. Она не говорила ни по-гречески, ни по-египетски, зато довольно мило играла на трехструнной кифаре и пела коротенькие веселые песенки. Она хорошо танцевала, и было приятно при этом смотреть на ее стройное гибкое тело. Танцуя, она рассказывала какую-нибудь историю, иногда изображая зверей, так что я легко мог узнать птицу, антилопу, волчицу или змею.
Не знаю, может, и правда потому, что решил хранить верность Сатис, но я не приглашал эту девочку в постель, а пытался хоть немного научить ее греческому. Я не мог спать с девушкой, с которой и словом нельзя обменяться. Мне вспоминались гетеры в Сиене, которые даже в самые страстные минуты умудрялись рассказывать веселые истории.
— Ну, какова в постели твоя крошка? — спросил отец через несколько дней, немало меня смутив. Однако я никогда не обманывал его, и теперь тоже сказал все как есть. До сих пор вижу его озадаченное лицо.
— Ты… ты… нет, это невозможно. Вместо этого ты учишь ее греческому… — Он не мог дальше говорить от смеха.
— Как только мы сможем немного понимать друг друга, мы все наверстаем, — сказал я твердо.
Геракл покачал головой:
— Если правитель узнает об этом, он заменит ее, решив, что она тебе не понравилась.
— От кого он может это узнать?
— Нельзя быть уверенным, что эти девушки присланы нам только для удовольствия. Может быть, они служат шпионами, чтобы правитель был лучше осведомлен о нас.
Теперь рассмеялся я:
— Эти глупышки служат шпионами? Что же они смогут сообщить, если не понимают ни слова в наших разговорах?
— Да, видимо, ты прав…
Во всяком случае, я следовал своему плану, и только когда Натаки — она вообще очень быстро всему училась — начала немного понимать по-гречески, я позвал ее в постель. Видимо, она уже с ранней юности была обучена искусству любви. Ей удавалось продлить часы удовольствия на всю ночь и разбудить мой уснувший натруженный фаллос в третий и даже в четвертый раз.
Отец, конечно, не мог не заметить перемен.
— Ты должен быть немного экономнее, — сказал он, ухмыляясь. — Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Когда ты в последний раз менял повязку, то просто дрожал от усталости и невольно причинил мучения принцу. Ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать, но ты, видимо, этого даже не заметил.
Я попросил у отца прощения и с трудом объяснил Натаки, что, для того чтобы я мог хорошо лечить, мне необходимо Хотя бы четыре часа сна.
Наконец пришел день, когда Акинидад в первый раз смог встать. По этому поводу мы с отцом поспорили. Я считал, что еще слишком рано, и напомнил ему похожий случай.
Отец покачал головой:
— Тогда это был взрослый человек, почти сорока- лет. У десятилетнего мальчика кости срастаются намного быстрее. Принц мог бы встать уже четыре или пять дней назад.
Конечно, я подчинился. Прежде чем явить «чудо» перед глазами царствующей семьи, мы решили попробовать без зрителей. Акинидад тоже очень волновался. Он встал на правую ногу и, опираясь на меня, осторожно поставил левую на пол. Постепенно он наступал на нее все увереннее и уже без моей поддержки пересек комнату. Конечно, он еще заметно прихрамывал, но теперь левая нога у него выправилась и стала такой же длины, как и правая.
Затем мы перенесли принца во внутренние покои, где уже собралась вся его семья: родители, дяди и тети, двоюродные братья и сестры. Супруга правителя делала вид, что не замечает нас. Но когда она увидела, что ее сын подошел к ней почти не прихрамывая, она соизволила произнести:
— Он, конечно, еще немного хромает, но я думаю, что эти врачи могут быть нам полезны.
— Нога еще слаба, ваше величество. Должно пройти некоторое время, прежде чем кронпринц сможет бегать так же, как другие мальчики, — сказал мой отец правителю, склонившись перед ним в низком поклоне. Тот понял намек и не смог сдержать легкой улыбки.
Уже на следующий день мой отец был приглашен на прием и перед всем собравшимся двором объявлен «верховным царским врачом» и правителем области Нага. Затем, когда мы остались в узком кругу, правитель рассказал о своих планах и намерениях:
— Область Нага уже давно нуждается в хорошем правителе. Она состоит из маленького города на Ниле, вокруг него расположено несколько деревень и плодородные поля. Эта награда — больше, чем просто почетный титул, это выражение моей благодарности.
— Это для меня большая честь, но мы ведь договорились, что сможем уехать с сыном, когда кронпринц будет совсем здоров.
Правитель кивнул:
— Против этого я не возражаю. Но я хотел бы спросить тебя, верховный врач Геракл: что ждет тебя в Египте? Тебя и твоего сына там скорее всего считают погибшими. Вместо вас в войске уже давно другой врач. Так что тебе остается стать только частным врачом или надеяться на царскую милость. А в Александрии сейчас хватает и других забот. Ты уже немолод, Геракл, и тебе тяжело будет начинать все сначала. Другое дело — твой сын, перед которым открыты все пути. Здесь ты друг правителя, его верховный врач, правитель Наги. Ты мог бы передать свое искусство другим врачам. Можно было бы создать в Напате школу, где ты обучил бы своим знаниям более юных. Что ты скажешь на это?
Отец задумчиво кивнул:
— Могу я посоветоваться с сыном? Он-то, во всяком случае, может уехать?
Правитель поднялся:
— Ты тоже, если ты этого пожелаешь.
В этот вечер мы говорили с отцом допоздна.
— Если как следует все обдумать и взвесить, правитель прав. В Египте меня вряд ли ждет что-то хорошее. А тебе сейчас самое время становиться самостоятельным. Ты же не можешь всегда оставаться моим помощником, тебе надо идти своей дорогой. Итак, Олимп, я решил остаться здесь. А тебе я советую ехать в Сиену, чтобы разведать обстановку. Только не говори сразу с правителем города о Сатис, прошу тебя. Ты ведь можешь взять с собой свою рабыню, тогда тебе не будет одиноко в постели, и душа твоя будет спокойнее. Если для тебя не найдется места в Сиене или Элефантине, езжай дальше, в Мемфис или Александрию. В столице молодому врачу найти место достаточно легко.
Мне было трудно согласиться с решением отца. Хотя он, конечно, был прав: здесь он был знатным, уважаемым лицом, а в Египте ему пришлось бы все начинать сначала.
— Но тогда мы больше никогда не увидимся…
Невольно слезы побежали у меня по щекам. Отец ласково
потрепал меня по плечу, и я увидел, что глаза его тоже влажно блестят.
— Кто может знать это? Мерое собирается заключать мир с Египтом. Может быть, во время поездки правителя в Египет я буду его сопровождать. Во всяком случае, я ведь не покидаю этот мир, а Нил всегда был прекрасной дорогой.
Оставалось еще спросить Натаки. Конечно, я мог бы этого и не делать, ведь она была моей рабыней. Но я не хотел насильно увозить ее на чужбину. Она еще не настолько хорошо понимала по-гречески, так что мне пришлось попросить помощи переводчика.
Тот сначала не понял, чего я от него хочу:
— Рабыня? Зачем же ты хочешь у нее спрашивать? Она должна тебе повиноваться, вот и все!
— Я все же хотел бы спросить.
Он перевел, хотя и неохотно. Лицо Натаки исказилось, и она заплакала, выкрикивая что-то.
— Она говорит, что не хочет, чтобы ее продавали кому-то другому.
— Но ведь об этом и речи нет, — перебил я. — Я только спрашиваю, хочет ли она ехать со мной в Египет. Если она захочет остаться здесь, я, конечно, отпущу ее.
Переводчик ухмыльнулся:
— Это чужие обычаи, у нас такого нет. Раз раб, то всегда раб.
Потом он спросил ее.
— Она хочет ехать с тобой, все равно куда.
Я улыбнулся ей:
— Это будет для тебя не очень легко, Натаки. Тебе придется выучить греческий и египетский и привыкнуть к чужому для тебя миру.
Эту длинную фразу переводчик перевел всего несколькими словами, но я не стал особенно задумываться над этим. Потом Натаки рассказала мне, что он сказал только:
— Ты должна во всем слушаться своего господина.
Правитель устроил в мою честь прощальный прием, на
котором даже его супруга почтила нас своим недолгим присутствием и пожелала мне счастья и милости богов. Затем правитель пригласил меня в соседнюю залу. Он предложил мне присесть на скамеечку у его ног и сказал то, чего я совсем не ожидал:
— Олимп, на днях мне пришло в голову, как ты мог бы пригодиться мне в Египте. Тебе это тоже могло бы принести пользу. Ты станешь моим послом и передашь фараону мое предложение мира.
Он указал на свиток, который лежал перед ним:
— Послание написано по-египетски. Ты мог бы перевести его на греческий, а потом я поставлю свою печать и подпись. До границы тебя доставит лодка, а дальше доберешься сам — кошелек с добрым нубийским золотом облегчит тебе путь. Ну, что ты на это скажешь?
— 39 —
— Я очень благодарен тебе, ваше величество. Стать послом для меня очень почетно. Мой отец уже знает об этом?
— Да, я сказал ему. Он тоже считает, что это принесло бы тебе пользу. Твой статус посла сохранится до тех пор, пока ты не передашь этот свиток фараону или его супруге — понятно? — слегка усмехнулся он.
— Да, ваше величество.
Я перевел на греческий это небольшое послание. В нем Теритекас предлагал установить между Мерое и Египтом нейтральную, свободную от войск зону шириной в сто стадии.
После того как правитель подписал греческий текст, он передал мне еще какой-то предмет:
— Мой подарок фараонам. Это печать Бокхори, последнего египетского фараона, после которого власть над объединенным Египтом принял мой предшественник Шабако. Печать вырезана из лазурита, на ней стоит его царское имя Вакаре.
Он положил печать в полотняный мешочек и передал мне. Я принял ее с поклоном:
— Прекрасный подарок, ваше величество.
Мы с отцом решили, что он не будет провожать меня к лодке. Прощаться при всех было бы слишком мучительно. Я твердо верил, что мы еще увидимся, и это облегчало боль расставания. Напоследок отец сказал мне:
— Когда приедешь в Александрию, навести твоего дядю и попроси показать тебе могилу твоей матери.
Конечно, мы обсудили и то, что я должен буду сказать командующему пограничным войском, когда возвращусь к нему из плена один, без Геракла.
— Я мог бы сказать, что ты умер по дороге в Напату, — предложил я.
— Нет, не стоит испытывать богов.
— Но, отец, ты ведь…
— Да, да, мы не очень много говорили с тобой о вере, но жизнью и смертью распоряжается некая высшая сила, и мне не хотелось бы искушать ее. Нет, будет лучше, если ты объявишь, что ты посол правителя Мерое, и что мое освобождение зависит от того, как ты выполнишь его поручение. Это снимет все подозрения и облегчит твой путь: египтяне тоже заинтересованы в том, чтобы заключить мир.
Глава 4
— Так ты жив? — удивился командующий, когда ему доложили о моем прибытии. Это был уже новый командующий, и о нас он знал только понаслышке. Конечно, в войске был уже новый врач, но работы у него было не очень много. Хотя мир еще не был объявлен, но военные действия между Египтом и Мерое прекратились. В Александрии хватало других проблем. В своем договоре о мире правитель Теритекас предлагал то, что сложилось уже и само по себе. Он отводил свои войска ниже первого катаракта, так что получался свободный коридор в несколько дюжин стадий. Мне было позволено сообщить об этом заинтересованным должностным лицам. Командующий был очень обрадован.
— Мы давно мечтали о том, чтобы эта граница стала мирной. А теперь наши надежды сбываются. Да помогут тебе боги, — сказал он.
Мы поплыли дальше. Сидя рядом со мной в лодке, Натаки широко открытыми глазами смотрела на новый для нее мир и обеими руками держала кифару, свою единственную собственность. Когда мы проплывали мимо величественной пирамиды Рамзеса, она была настолько поражена и испугана, что спряталась за мою спину. Ничего подобного в Напате, конечно, не было. Я ободряюще улыбнулся ей:
— Нам встретится еще много удивительного, Натаки. Ты не должна все время прятаться за моей спиной.
Вряд ли Натаки поняла меня, но она послушно сказала:
— Да, господин.
В Сиене я с удивлением отметил, что меня никто не узнает, хотя со времени нашего отъезда прошло меньше года. В нашем доме жили теперь сборщики налогов. Сатис два месяца назад вышла замуж за отпрыска одного знатного и уважаемого рода.
Так что мы с Натаки сняли скромную комнату при храме Сохмет. Его служитель был обязан давать приют любому врачу. Я не хотел сообщать, что являюсь послом, чтобы не привлекать излишнего внимания. Я нанес визит правителю города и поздравил его с удачным браком дочери. Он, конечно, не знал о моей безнадежной юношеской любви и весь сиял от гордости, что в его внуках, как он сказал, будет течь кровь древних фараонов.
Затем мы отправились дальше, и я никогда больше не бывал в этих местах.
Мы стремительно плыли вниз по Нилу. В Фивах нам пришлось сменить лодку. Я решил воспользоваться случаем и осмотреть знаменитый город, но вскоре понял, что для этого мало трех или пяти дней.
Натаки сопровождала меня повсюду. Я купил ей длинное платье, которое подчеркивало стройность ее фигуры. Мы сняли комнату в доме правителя города Фив. Поначалу он с недоверием оглядел меня и мою рабыню, но когда я сообщил, что являюсь послом, он принял нас радушнее. Однако его тоже тяготили заботы.
— Ты увидишь сам, что город, которым я управляю, умирает. Конечно, здесь еще живет много людей, но, с тех пор как сирийцы разрушили Фивы шесть столетий назад, он так и не смог больше подняться, и сила Амона угасает год от года. Его культ еще сохранился, но время его прошло. И на ежегодный «праздник долины», посвященный этому богу, стекаются уже не толпы паломников, а только горстка любопытствующих. Серапис
[37] — вот новый верховный бог, но я думаю, придет когда-нибудь такой день, когда и его тоже забудут.
Когда потом мы бродили с Натаки по городу, я увидел, что правитель не преувеличивал. Некогда величественная городская стена, которую Гомер называл «стовратной» — хотя, конечно, столько ворот здесь никогда не было, — была выщербленной, как челюсть старика. Повсюду лежали груды камня и кирпича, и никто не знал, откуда они берутся. Перед громадным храмом Мут
[38] сидел служитель и за небольшую плату позволял желающим войти внутрь, туда, куда прежде допускались только фараоны или верховные жрецы. Я также воспользовался этой возможностью, но Натаки оставил ждать снаружи.
Служитель поднял факел, и я увидел божественную супругу Амона, в одеянии из птичьих перьев и с двойной египетской короной на голове. Моя греческая половина противилась тому, чего требовала половина египетская. В этой стране каждый знает историю о великолепном (пышном) празднике в честь Амона, когда бог прилетает из своего храма, лежащего на севере, в дом своей супруги Мут, в «южный гарем», и вступает с ней в священную связь. Этот праздник длится около двадцати дней, в нем участвует весь народ, и всех угощают несказанно богатые жрецы бога Амона. Все это уже в прошлом.
Мы шли с Натаки по Аллее сфинксов, и я думал о том, что в этом священном месте жрецы встречали лодку, в которой прибыл бог Амон, и, окуривая его благовониями, с пением и танцами провожали к его «южному гарему».
Сирийцы не разрушили храм Амона, но город был обескровлен, жрецы потеряли свою власть и богатство, и храм пришел в запустение. Его величественные стены, пилоны, статуи богов и фараонов были наполовину занесены песком.
Прежде чем мы отправились из города дальше, я вспомнил совет отца посетить гробницу Нефертари на восточном берегу. Там я, как обычно, собирался оставить Натаки ждать снаружи, но служитель решил, что я заплатил за двоих, поэтому мы вместе вступили под обширные своды гробницы любимой жены фараона. На стенах можно было прочесть ее титулы: «Повелительница обеих земель», «Божественная супруга» и даже «Повелительница всех стран».
Да, здесь становилось ясно: она бесспорно была повелительницей в сердце этого великого фараона, украсившего Египет грандиозными постройками от нубийской границы до дельты Нила. На стенах Нефертари была изображена среди богов: вход в гробницу охранял бог солнца с головой скарабея, празднично одетую царицу окружали Исида, Нефтида
[39] и Гор
[40], священные тексты должны были помочь ей при переселении в царство Осириса.
— Смотри, Натаки, вот что может любовь. Остальные жены фараона Рамзеса забыты, только для нее сооружена такая великолепная гробница. Его забота сопровождает ее и после смерти.
Натаки ничего не ответила, но по ее глазам видно было, что она поняла, о чем я говорил: о женщине, которая здесь почти уподобляется божеству.
Потом я спросил у служителя, какова же тогда гробница самого Рамзеса, если усыпальница его супруги столь великолепна. Тот только пожал плечами:
— Неизвестно. Его гробница до сих пор не найдена. Может быть, он приказал построить ее в дельте, где жил в последние годы перед смертью или где-то неподалеку от Мемфиса.
В день отъезда правитель города сказал нам на прощанье, что сейчас, после разлива Нила, в Абидосе проходят священные игры, которые продлятся еще дня четыре, до начала сева.
— Тебе как греку это, может быть, кажется не таким интересным, но игры в Абидосе это нечто особенное.
— Моя мать была египтянкой, и мне близки боги этой страны. Если удастся…
Да, это удалось.
Мы увидели, как Исида снова собрала тело своего супруга, растерзанное на клочки богом Сетом. Только фаллоса не хватало, потому что Сет швырнул его в Нил и там его съела щука. Но могущественная Исида сделала новый из глины, оживила его с помощью волшебных заклинаний, приставила к мертвому телу и была оплодотворена Осирисом. Когда жрица, запрокинув голову, начала сладострастно стонать, Натаки не удержалась и захихикала. Я крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула, но никто не обратил на это внимания.
Через семь или восемь дней мы достигли озера Мареотида под Александрией. Отсюда на маленькой лодке можно было доплыть по каналу до гавани Евноста на востоке Александрии. Однако мы вышли у городских стен, наняли двух ослов и отправились в квартал неподалеку от Западных ворот, которые в народе называют еще Ворота Луны. Я надеялся, что там сохранилась еще лавка моего дяди — он был горшечником.
Когда мы шли по кварталу, где прошло мое детство, я узнавал каждую улицу, каждый дом, как будто уехал отсюда только вчера. Ничего или почти ничего не изменилось, и лавка горшечника — моего дяди Персея — выглядела так же, как двенадцать лет назад — или уже тринадцать?
Перед ней расхваливал товар мальчик лет четырнадцати:
— Кувшины из Сицилии, расписные блюда и чаши из Розуса, прекрасная посуда из Эллады. Сегодня дешевле, чём всегда!
Голос у
мальчика ломался, и некоторые слова звучали низко, а некоторые по-детски звонко. Судя по возрасту, это вполне мог быть Гектор. Когда я уезжал, он еще лежал в колыбели.
— Почему это сегодня дешевле, чем всегда? — спросил я его.
Он взглянул на меня смутившись:
— Потому что… да, потому что мы воюем с римлянами.
Теперь и я был сбит с толку:
— Что ты говоришь? Война с Римом? Но на это совсем не похоже!
Из мастерской показался мой дядя Персей, слегка потолстевший, пальцы его были вымазаны глиной. Похоже было, что он по-прежнему сам делает дешевую посуду.
— Чем могу служить, господин?
— Персей, ты не узнаешь своего… своего племянника? — ухмыльнулся я.
Он вытаращил глаза:
— Олимп? Но ведь… да, а где же твой отец?
Он оглянулся, как будто надеялся увидеть спрятавшегося Геракла.
— Отец остался еще в Мерое как пленник правителя и одновременно его личный врач. Я постараюсь сделать все, чтобы его освободили.
— Ты должен рассказать нам об этом подробнее. А это кто? — указал он на спрятавшуюся за моей спиной Натаки.
— Служанка, я привез ее из Мерое.
Когда Персей велел отвести ее на половину рабов, бедняжка чуть не расплакалась.
— Я скоро пришлю за тобой, Натаки! — крикнул я ей вслед.
— Твоя служанка? — ухмыльнулся Персей.
Я предпочел сменить тему и спросил, как поживает его жена.
— Она пошла на рынок, скоро вернется.
Он сообщил, что из шестерых его детей в живых осталось только двое — Гектор, которого я уже видел, и дочь Аспазия. Потом он свернул на политику и рассказал все, что произошло за последнее время. Я узнал, что положение теперь обострилось и все сводится к тому, за или против римлян выступать. Тут мой дядя патетически воздел руки и разразился упреками:
— Там, в Брухейоне, в правительственном квартале, сидит Юлий Цезарь, и он не только сидит, он еще и лежит в постели с Клеопатрой, захватившей трон. Ее бедные братья стали римскими пленниками. Потин, воспитатель фараона Птолемея, казнен, так же как и Ахилл, стратег войск фараона.
Я покачал головой:
— О том, что Цезарь в Александрии, я услышал еще в пути. Но как могло все дойти до такой смуты? Он ведь собирался только проследить за тем, чтобы было выполнено завещание Авлета и Клеопатра правила вместе с Птолемеем.
— Да, он сделал это, еще бы. Но наш фараон на самом деле его пленник. При этом он во всем поддерживает Клеопатру — конечно, не в ущерб интересам Рима.
— А я думал, что народ выступает за Клеопатру. Птолемей ведь еще ребенок…
— Ребенок? Ему уже почти четырнадцать, и он давно знает, что делает. Во всяком случае, чего он точно не хочет, так это продать страну римлянам, и поэтому народ его любит.
Я не стал рассказывать Персею о своем поручении подробно. Сказал только, что должен передать одно известие из Сиены фараону и его супруге, и спросил, как добраться до Брухейона.
— Ты с ума сошел? Правительственный квартал так охраняется, что и мышь не проскочит. — Он замолчал и наморщил лоб. — Известие, говоришь? А что за известие, о чем?
— Ах, ничего важного, так, проблемы пограничного войска. Но я одного не понимаю: когда мы переплыли через озеро Мареотида и причалили у южной городской стены, ничто не говорило о войне. Ворота почти не охраняются, все спокойно, никаких солдат.
Он кивнул:
— Война — это, пожалуй, сильно сказано. Все военные действия происходят между Большой Гаванью и дворцовым кварталом. В остальном жизнь здесь идет, как и раньше. — Он снисходительно улыбнулся. — Ты слишком долго жил в провинции, Олимп. В таком городе, как Александрия, подобные стычки не нарушают общего покоя. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, чем все кончится: Цезаря прогонят обратно в Рим или убьют здесь, смотря по обстоятельствам, и его Клеопатра уедет с ним в Рим или погибнет здесь, смотря по обстоятельствам. С чужеземцами мы здесь всегда умели справиться.
Я покачал головой:
— И это говорит гражданин города, где живут три народа?
— Я имею в виду — с нездешними чужеземцами.
Глава 5
Я не до конца поверил дяде и на следующий день попытался все же попасть во дворец. Однако, когда дорогу мне преградила вооруженная стража, которая потребовала пропуск, я оставил эту затею. В сложившейся ситуации объявить себя послом правителя Мерое означало бы вызвать еще большее недоверие. Так что я решил воспользоваться случаем и побывать в знаменитой библиотеке, основанной Птолемеями.
— Ты действительно врач? — недоверчиво спросил меня смотритель. Тогда я показал ему медную табличку, написанную моим отцом. В ней говорилось:
Олимп с успехом перенял врачебное искусство у меня, его отца Геракла, полкового врача в Сиене, затем дал клятву в храме и последующие пять лет работал вместе со мной как врач.
Это вообще-то было не совсем правдой, потому что делало меня на несколько лет старше, но отец сказал, что такие круглые цифры вызывают больше уважения, чем, например, «три с половиной года».
Библиотека была основана знаменитым учеником Аристотеля
[41] Деметрием из Фалерона при Птолемее II Филадельфе. В мое время в ней хранилось уже около миллиона рукописей.
Смотритель взглянул на меня все так же недоверчиво; но позволил войти. Когда я осведомился, какие труды знаменитых учеников Гиппократа
[42] Бакхейоса из Танагры и Аполлониоса из Китиона здесь имеются и можно ли взглянуть на книги Темизона из Лаодайкии, он поклонился и указал мне на соответствующие отделы.
Странно это было: снаружи, всего в нескольких стадиях отсюда, шла кровавая борьба за трон и власть, а здесь, в знаменитом храме науки, сновали мужи со свитками в руках и под мышкой, в то время как другие стояли у пультов и делали какие-то заметки или выписки…
В дом дяди я вернулся уже под вечер. Теперь меня встретила также и его жена Деметра, которая вместе с приветствиями обрушила на меня и упреки. От рабыни Натаки никакого толку, она ничего не понимает, ничего не умеет делать на кухне или по дому, настолько глупа, что даже пол подмести не может. Я знал, что она права, потому что Натаки была обучена пению, танцам и искусству любви, а не работе на кухне. Однако я возмущенно спросил Деметру, кто дал ей право использовать мою рабыню для какой-то грубой работы. Это подарок правителя Мерое храму Сераписа в Александрии, ее учили тому, чтобы она могла петь и танцевать в храме, она уже почти что жрица. Вся это наскоро придуманная ложь несколько поумерила тетушкин пыл, однако она не сдалась так просто: ей об этом почему-то никто не сказал, а из Натаки слова не вытянешь.
— Она говорит только на священном языке храмовых жриц Мерое, — храбро сочинял я дальше, — и вскоре я отведу ее в Серапейон.
Потом я спросил Персея, могу ли я пожить у него в доме еще некоторое время, пока не выполню свое поручение. Деметра опередила его с ответом:
— Здесь, в доме, к сожалению, совсем нет места, Олимп. У нас ведь двое детей и пять рабов. Ты мог бы, конечно, спать в комнате Гектора, но…
— Но это же совсем легко уладить, — нарочито бодрым тоном вмешался Персей. — Некоторые наши соседи перед войной бежали в свои поместья. Двое из них оставили мне ключи и доверили сдать их дома хорошим людям, при этом совсем недорого, почти даром.
Я выбрал дом на другой стороне улицы. Он действительно стоил не так уж много, но я подозревал, что Персей и это немногое берет себе. Довольно скоро я обнаружил, что Натаки вполне может приготовить несложные блюда и содержать дом в относительном порядке. Из ее сбивчивых объяснений я понял, что она не хотела работать у Деметры, потому что только я ее хозяин и могу ей приказывать.
Весть о том, что произошло в Брухейоне, облетела весь город с быстротой ветра.
Ганимед, новый стратег войск фараона, сделал все, чтобы вытеснить римлян из дворцового квартала. Он сформировал новый флот, оцепил Брухейон и прилегающие улицы и решил отравить римлян водой. Для этого он наполнил их колодец соленой водой из озера. Однако легионеры за сутки вырыли новый колодец. Вероятно, это противостояние продолжалось бы еще некоторое время, но тут появилось подкрепление, которого давно ждал Цезарь. Это был наварх Евфранор, который занял остров Фарос и часто совершал опустошительные набеги на расположенные там виллы богатых александрийцев.
Чтобы захватить наконец Большую Гавань, Цезарь занял искусственную насыпь перед волноломом, которая связывала Фарос с материком, и приказал возвести там укрепления. Когда затем римские корабли поменяли свои позиции, солдаты, ничего не понимая, решили, что их собираются бросить на произвол судьбы. Они в панике прыгали в море и плыли за кораблями. О том, что произошло дальше, сообщает в своих воспоминаниях римский центурион
[43] Аул Хиртий: «Невзирая на угрожающую ему опасность, Цезарь сколько мог приказами и призывами удерживал своих воинов на насыпи. Увидев, что все оставили его, он также сел в свою лодку. В нее сразу же набилось столько солдат, что она не могла отчалить. Тогда Цезарь прыгнул в воду и поплыл к стоявшим вдалеке кораблям. Оттуда он послал лодку за оставшимися солдатами и вывез почти всех. Однако его собственный перегруженный корабль затонул вместе со всеми, кто там находился».
Позднее историков всегда поражало, как Цезарь смог проплыть такое расстояние почти в полном вооружении. Сам он говорил, что все было бы гораздо легче, если бы ему не приходилось одной рукой держать над водой важные документы и если бы при этом его не обстреливали египтяне.
Во время всех этих событий сестре Клеопатры Арсиное удалось бежать к египетскому войску. Единственным пленником. остался Птолемей XIII, которого Цезарь охранял как важного заложника. Этот четырнадцатилетний мальчик вел себя как избалованное дитя и постоянно жаловался. Тем неожиданнее показалось решение Цезаря дать ему свободу. Цезарь насмешливо объяснил, что главнокомандующий войск должен быть вместе со своими солдатами. Легко понять, что стояло за этим. Войском фараона предводительствовал Ганимед, который подчинялся недавно появившейся Арсиное; а теперь прибавился еще и Птолемей. Мудрый Цезарь хотел таким образом посеять вражду и соперничество между ними, но пока эти планы были еще не столь очевидны.
В начале марта по требованию Цезаря к восточной границе у Аскалона подошел запасной полк. В нем было немало солдат из Иудеи — я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему многие александрийские евреи встали на сторону Цезаря и Клеопатры. Митрадат из Пергамона провел полк тайными тропами к Александрии, Цезарь выступил ему навстречу, и оба войска встретились недалеко от озера Мареотида.
Римское военное искусство вновь одержало победу. Египетское войско было окружено и разбито в решающей битве 27 марта. Фараон Птолемей попытался бежать через канал.
Но его лодка была перегружена и пошла ко дну. Он не смог освободиться от своего тяжелого золотого облачения и утонул.
Победитель Цезарь с триумфом вернулся в Александрию. Однако упорно ходили слухи, что Птолемей бежал и собирает новое войско в Палестине. Римлянам не оставалось ничего другого, как осушить канал. Тело фараона в золотых доспехах было выставлено в Александрии на всеобщее обозрение. Народ примирился с тем, что правительницей станет Клеопатра, правда — как требовал обычай — вместе с другим своим братом, двенадцатилетним Птолемеем XIV, который, собственно, должен был бы стать правителем Кипра.
Сегодня уже известно, что римский сенат требовал от Цезаря немедленно объявить Египет римской провинцией. Цезарь, вероятно, так бы и сделал, но как раз в это время Клеопатра родила ему сына Цезариона. Кроме него сыновей у Цезаря не было. Поэтому ловкий римлянин нашел целый ряд причин, по которым Египет не мог быть присоединен немедленно. Он напомнил сенату, что Клеопатра всегда оказывала поддержку римскому войску, и предупредил, что в сложившейся ситуации не следует будоражить народ, чтобы не вызвать восстания. В Риме к нему прислушались. Таким образом Клеопатра наконец утвердилась на троне, а ее младший брат выступал соправителем только формально, в особо важных случаях.
Теперь пришло мое время. 9 апреля по римскому стилю моя просьба об аудиенции во дворце была удовлетворена. Некоторые могут спросить, что же делал я все это время, с середины октября, когда прибыл в Александрию.
Во-первых, я исполнил наказ отца и посетил гробницу моей матери. Дядя Персей смутился, когда я спросил о ней, и я вскоре понял почему. Моя мать была похоронена в старом египетском некрополе, на южной окраине города. Сторож сразу же сказал мне, что плату за содержание уже давно не вносили, и в следующем году ее мумию должны убрать отсюда.
— Убрать? Куда убрать?
— Теперь в пустыне есть общая гробница, там хоронят тех, о ком никто больше не заботится.
Я заплатил за тридцать лет вперед и щедро наградил сторожа. Он открыл мне ее гробницу. Я увидел деревянный саркофаг, на котором изображено было ее лицо.
— Прекрасная работа, — похвалил сторож, — наверное, мастер из Майюма — с ними никто не может сравниться. Должно быть, стоит больших денег.
Я ничего не ответил, с волнением рассматривая прекрасное лицо с большими темными глазами, взгляд которых был устремлен в потусторонний мир. Дядю я не стал упрекать: своя семья была ему гораздо ближе, чем мертвая жена пропавшего где-то брата.
Что касается денег, то правитель Теритекас так щедро одарил меня на дорогу, что мне хватило бы их еще надолго. Время пролетело для меня очень быстро, почти каждый день я посещал библиотеку и мусейон.
Мусейон, лежащий к югу от библиотеки, давно уже был жилищем не муз, как о том говорило его имя, а ученых. Это было здание с обширной крытой галереей, залом для занятий, большим обеденным залом, а также множеством маленьких кабинетов для занятий и исследований. Правда, и для муз нашлось место: здесь читали стихи и учили риторике. Но основными были занятия по физике, геометрии, географии и медицине.
Во время военных действий часть библиотеки пострадала от пожара. Позднее злые языки утверждали, будто бы Цезарь сам велел ее поджечь. Но это была просто подлая клевета: Цезарь относился к книгам с большим уважением и сам был одаренным автором. Вероятно, несколько горящих стрел, которыми римские корабли обстреливали восточную часть города, попали в библиотеку. Огонь удалось быстро потушить, но около четверти рукописей погибло: в основном из отделов лирики, комедии и трагедии. Естествознание, к счастью, не пострадало, и спустя несколько дней я смог продолжить свои занятия.
Учителями в мусейоне были крупные и уважаемые ученые. Город назначал им жалованье и кормил их, а они обязаны были каждый месяц проводить в мусейоне определенное количество занятий.
Скажу еще несколько слов о моей спутнице Натаки. Мне не хотелось бы больше называть ее рабыней, потому что она довольно быстро научилась всему, что полагается делать жене, хотя, правда, исполняла это несколько небрежно и как бы между делом. Я имею в виду, что жаркое было иногда подгоревшим, овощи переваренными, а суп подавался уже остывшим. С чистотой у нее тоже не всегда было ладно, хотя она и очень старалась. Почему так получалось? Просто Натаки была истинное дитя муз Терпсихоры и Мельпомены.
Моя ложь дяде о том, что моя рабыня предназначена для Серапейона, оказалась почти пророческой, как выяснилось во время посещения этого знаменитого святилища. Некоторые представления о нем остались у меня еще с детства, но взрослый человек многое видит по-другому.
Центральный храм построен на искусственной насыпи, к его главному входу ведет сто ступеней, затем через внешние дворы, залы с колоннами и внутренние дворы вы проходите к Селле, где стоит монументальная статуя Сераписа работы Бриакса. Он похож на Зевса, с пышными волосами и бородой, на голове он держит калатос — меру зерна. В левой руке у него посох, а правая касается Цербера, трехголового пса преисподней. Таким образом, скульптор упомянул обо всем, что подвластно этому греческо-египетскому богу. Его сходство с Зевсом указывало на то, что он отец богов, мера зерна — на то, что он покровительствует земледелию, а Цербер — на власть над потусторонним миром, потому что под именем Серапис подразумевался также бог мертвых Осирис.
Мы пришли как раз накануне одного из многих посвященных Серапису праздников. Во внешнем переднем дворе танцовщики и танцовщицы под музыку и пение готовились к завтрашнему торжеству, и посмотреть на это могли все желающие. В конце концов сюда набилось так много зевак, что служителю пришлось закрыть ворота.
Натаки нетерпеливо подпрыгивала, ей ничего не было видно из-за стоящих впереди людей. Стоило мне отвлечься, как она отпустила мою руку и проскользнула вперед, где можно было рассмотреть все как следует.
С того самого дня Натаки не давала мне покоя. Я должен был узнать в храме, не нужна ли им еще танцовщица, кроме того, она могла бы еще петь и играть на кифаре.
— Натаки, — сказал я, — ты моя рабыня, и я не намерен тебя отдавать. Кроме того, ты еще не очень хорошо говоришь по-гречески, к тому же и твоя темная кожа может помешать.
Она стояла совсем впереди и видела среди танцовщиц двух или трех девушек с темной кожей. Ее греческий день ото дня становился все лучше, а ее нежный голос часто хвалили еще в Напате. Она ведь останется моей рабыней, даже если будет время от времени танцевать в храме. А бог за это будет к нам благосклонен.
Через несколько недель я сдался. Верховная танцовщица Серапейона приняла нас весьма благосклонно. Нет, черная кожа не будет препятствием: Серапис — это бог всех египтян. Сейчас пока у них достаточно нубийских танцовщиц, но это может быстро измениться.
Потом она проверила Натаки в танце, пении и музыке и кивнула:
— Прекрасное тело, хорошие способности, но нужно будет еще многому научиться. Я занесу Натаки в наш список и потом сообщу тебе, Олимп.
Натаки была довольна, а я не очень серьезно воспринял это обещание. Но прошло совсем немного времени, и Натаки стала ученицей. Каждый третий день она ходила в Серапийон и была несказанно горда своим длинным белым одеянием и тем, что на улице ей почтительно уступают дорогу — ей, маленькой рабыне!
Как ни странно, при этом она стала уделять хозяйству больше внимания: теперь редко что-нибудь подгорало и в доме стало значительно чище. Она как бы благодарила меня за мое согласие, и ночи у нас были такими же радостными и страстными, как и всегда.
Одевшись во все самое лучшее, 9 апреля по римскому календарю я подошел к воротам Брухейона — правительственного квартала. Он располагался на мысе полуострова Лохиада, к северу и востоку от Большой Гавани. Площадь его составляла восемьдесят пять стадий — это было почти треть города. Пока по приказанию Клеопатры перестраивали дворец ее отца, она жила в бывшей резиденции своего утонувшего брата.
Там она и приняла меня около полудня, в окружении друзей и придворных.
Теперь я увидел Клеопатру-гречанку. Она понравилась мне больше, чем тогда, в Сиене, когда ее лицо было скрыто под толстым слоем грима. Ее облик и сейчас стоит у меня перед глазами. Она была почти не подкрашена, волосы ее были собраны в узел, и единственным знаком ее достоинства был тоненький золотой обруч на лбу, украшенный спереди изящной змейкой. Она устремила на меня свои лучистые темно-серые глаза:
— Видишь, Олимп, наша встреча произошла раньше, чем думали мы тогда, в Сиене. Ты приехал как посол правителя Мерое? Расскажи мне об этом подробнее.
Я описал ей в общих чертах, что произошло, решив, по совету отца, придерживаться правды. Когда она спросила меня о нем, я ответил:
— Он предпочел долгому нелегкому путешествию почетный титул личного врача в Мерое. У него не очень хорошее здоровье, и для него лучше сухой южный климат.
Правительница слегка кивнула:
— Я понимаю. Ну а теперь покажи наконец, что ты прячешь под своим плащом?
Все засмеялись, и я слегка покраснел. Она велела прочитать послание правителя, затем сказала, что хочет ответить на него подобающим образом. Взяв протянутую мной печать фараонов из лазурита, она явно обрадовалась и без труда расшифровала картуши с именем фараона Вахкаре Бакенринефа и объяснила друзьям, что греческие историки называют его Бокхорис.
— Ну а теперь о тебе, Олимп.
Это имя, сказала она, не подходит ко мне, ученику Гиппократа. С этих пор при дворе я буду Гиппократом, врачом, а прежним именем меня будут называть, только если я чем-нибудь провинюсь.
Она прошептала что-то на ухо секретарю, и тот мгновенно исчез. Потом она стала расспрашивать меня о Мерое, и время пролетело незаметно. Вдруг дверь открылась, и появился наварх. Он передал слуге свою трость и прихрамывая подошел ко мне.
— Лучше не выходит, — сказал он, извиняясь, — но я все еще стою на своих собственных ногах, и за это я хотел бы еще раз поблагодарить тебя, Олимп.
— Мы только что дали ему почетное имя Гиппократа, — вмешалась правительница. Наварх сел — только он имел право делать это, не спрашивая особого разрешения.
— Я служу живым укором твоим коллегам, которые тогда хотели отрезать мне ногу.
Клеопатра небрежно кивнула:
— Пора отправить их на покой. Я хочу, чтобы мой двор стал моложе. Начинается новое, лучшее время! От тебя, Гиппо, я жду, чтобы ты стал учителем в мусейоне, эта должность придает врачу вес и уважение. Ты не побоялся того, на что не отважился никто из твоих старших коллег. Я люблю смелых, дорогой Гиппо.
Я поклонился:
— Может быть, уважаемые учителя в мусейоне сочтут меня слишком юным, но я последую твоему совету, царица.
— Ты не пожалеешь об этом, мой Гиппо.
На этом аудиенция закончилась, но я получил приглашение на симпосий, который Клеопатра и Юлий Цезарь устраивали для своих друзей перед совместным путешествием на юг.
Против ожидания, на праздник был приглашен только совсем небольшой круг греков, египтян и римлян — всего двадцать или тридцать мужчин и женщин.
Юлий Цезарь сидел не слишком далеко от меня. Каждый, кто видел его хоть раз, уже не забудет его облика.
У него было худое лицо, две глубокие морщины пролегли от крыльев носа к узкому, слегка искривленному рту. Под высоким лбом мыслителя сверкали умные темные, но слишком близко посаженные глаза, смотревшие одновременно недоверчиво и саркастически. Его нос был таким же, как у Клеопатры, — узким и тонким.
Я не принимал участия в разговорах, потому что совсем оробел в присутствии Цезаря. Внезапно я заметил, что острый взгляд его темных глаз устремлен на меня.
— Твой новый гость, басилисса, молчалив как рыба. Я слышал, что ты приехал из Нубии, молодой врач, расскажи нам немного о ней.
— Хорошо, господин, — пробормотал я, в смятении обдумывая, что было бы интересно услышать Цезарю. Наконец я кое-как начал, описал правителя и его жену, рассказал о лечении кронпринца.
— Стоп-стоп, — прервал меня Цезарь, — об этом я хотел бы услышать подробнее. Ты и твой отец действительно вновь ломали ногу, хотя она уже срослась, пусть даже криво и неправильно?
— Мы сделали это по желанию правителя, господин. Это очень опасная операция, и я бы на нее не отважился. Но в данном случае…
Цезарь засмеялся и взглянул на Клеопатру:
— Желание правителя является приказом, не правда ли? Мы, римляне, не любим, когда нам приказывают, поэтому Мы отказались от правителей еще несколько столетий назад.
— Но, Цезарь, — улыбнулась в ответ Клеопатра, — даже в республике должен быть кто-то, кто приказывает, что делать. Народу нужна твердая рука.
— У нас есть сенат — он и приказывает.
Она кивнула и взглянула на него с наигранным любопытством:
— Почему же тогда в этом году ты провозгласил себя диктатором? Чем же это отличается от правителя?
— Басилисса, сейчас ты притворяешься, что ничего не знаешь, но тебе вряд ли кто поверит. Нашему юному другу я объясню: в трудные времена сенат передает всю полноту власти одному доверенному лицу. Но при этом всегда на ограниченный срок, в моем случае это один год. Так что через несколько месяцев я вновь стану простым сенатором.
Это прозвучало так, как будто он и сам не совсем верил в это.
Я набрался мужества и попросил Цезаря сказать что-нибудь на латыни.
— Охотно, юный врач. Это старинная римская поговорка, которую тебе стоит запомнить: «Природа лечит, а врач только помогает ей» — «Medicus curat, natura sanat». Вообще, я советую тебе изучать латынь, она наверняка тебе пригодится.
Пол-Александрии собралось в гавани в устье Нила, где стоял царский флот, готовый к отплытию на юг. Юлий Цезарь появился в пурпурной тоге, с золотым лавровым венком на голове. Клеопатра была одета наполовину по-гречески, наполовину по-египетски: в короне предков и в парике, на плечах широкий воротник, ее красиво ниспадающее одеяние было заткано золотыми лотосами — это был один из символов власти в Верхнем Египте. Царский корабль предназначался для плавания по Нилу, поэтому был несколько уже, чем обычно, но зато очень длинный. Он блистал роскошью: золото, серебро, слоновая кость и благородные сорта мрамора превращали его в плавучий дворец, с тронным залом, храмом Исиды, маленькими садами и комнатами для ближайшей прислуги. Позднее я побывал на этом корабле и знаю, о чем говорю.
Корабль сопровождало такое множество лодок, что весь город спорил потом, было их «только» триста или все же четыреста, как позднее сообщали историки.
Когда я после обеда вернулся домой, меня ожидало три новости: одна плохая, одна чуть получше и одна очень хорошая. Плохую сообщил мне мой дядя, карауливший меня у дверей. Оказывается, владелец дома возвращается в Александрию, и я должен немедленно переселиться. Я строптиво возразил, что мне потребуется два-три дня для того, чтобы найти новую квартиру. Он ведь получил от меня деньги и сам должен улаживать дела с хозяином дома.
Увидев, что меня не уговорить, он, причитая, удалился в свою мастерскую. Немного спустя появилась его пятнадцатилетняя дочь Аспазия, хорошенькая, но очень робкая. Она передала мне свиток с царской печатью.
— Это принесли тебе сегодня утром.
Это известие оказалось хорошим. Я сломал печать и прочел:
«Олимпу, называемому Гиппократом, сыну полкового врача Геракла из Александрии.
За твои заслуги царица Клеопатра назначает тебя придворным и личным врачом. Кроме того, с сегодняшнего дня ты член коллегии учителей в мусейоне, где должен будешь передавать свои знания ученикам. Твое жалованье будет составлять двенадцать сотен драхм в год».
От радости по спине у меня побежали мурашки. Хвала Сохмет и Асклепию: достичь такого в неполные двадцать пять лет!
— Натаки, Натаки!
Но никто не отозвался. Тут я вспомнил, что сегодня она целый день занята на уроке танца в храме и вернется только к вечеру.
Вместе с ней пришло и третье, не такое радостное известие. Обычно, когда Натаки собиралась сказать что-то неприятное, она называла меня кириос и разыгрывала из себя маленькую, дрожащую от страха рабыню. Сегодня же все было иначе, потому что за ней стоял могущественный Серапейон.
— Верховная танцовщица сказала, что меня примут в храм, только если я буду посвящать занятиям все свое время. Я должна жить в храме и быть всегда в их распоряжении. Но я ответила, что так не получится, я принадлежу господину Олимпу, а он, конечно, не согласится…
Маленькая Натаки взглянула на меня снизу вверх, влажный блеск ее темных глаз напоминал зерна граната.
— А кто же тогда будет следить за домом? Мне придется покупать новую рабыню — это стоит немалых денег. В таком случае храм должен выкупить тебя.
Она покачала головой:
— Этого они не сделают. Серапейон привык брать, а не давать.
— Это не твои слова, — удивился я.
— Нет, господин, так говорят там.
«Жрецы и храмы везде одинаковы, — подумал я. — Везде те же протянутые руки, всегда готовые что-нибудь отнять, конечно, во имя бога, который оказывается очень сведущим».
Потом я вспомнил, что там, на столе, лежит мое назначение, и у меня есть все основания благодарить Сохмет, Асклепия или еще кого-нибудь из богов.
— Ну хорошо, я подумаю. Но теперь мы должны привести здесь все в порядок, потому что на днях возвращается хозяин.
Я пошел к дяде, чтобы попросить у него в помощь двух рабов и заодно сообщить ему о моем назначении. В конце концов, он и его семья были у меня здесь единственными родственниками, и это был мой долг… Или это была только гордость: показать горшечнику, как высоко взлетел его племянник? Едва я вошел, как дядя снова набросился на меня, но, увидев белоснежный царский папирус, смирил свой гнев.
— Что? Ты… ты… Но разве ты не слишком молод для этого? — покачал он головой. — Стать личным врачом царицы и учителем в мусейоне?
— Это зависит не от возраста, а от знаний. Можно быть плохим врачом в шестьдесят лет и хорошим в двадцать.
Персей созвал всю семью, и я получил поздравления от тети и двоюродных брата с сестрой. Дядя наморщил лоб и сказал:
— Тогда вся история с домом выглядит совсем иначе. Это ведь, в конце концов, почетно — приютить у себя царского врача. Собственно говоря, это хозяин должен был бы тебе заплатить…
— Не стоит преувеличивать! Мне нужны только два раба, чтобы помочь привести дом в порядок. А как учитель в мусейоне я легко найду себе что-нибудь еще.
Всю следующую ночь лил дождь, и к утру улицы превратились в сточные канавы. Я взял носилки и велел Натаки бежать рядом, так что вскоре она выглядела не лучше, чем вывалявшаяся в грязи свинья. Я все еще был рассержен наглым вымогательством жрецов и пытался отомстить таким неподобающим и смешным образом.
Когда мы добрались до Серапейона, Натаки попыталась как-то почиститься, но это ей не особенно удалось. Верховная танцовщица, вероятно, не была готова к тому, что я отпущу Натаки.
— Так получилось, — сказала она слегка смущенно, — что нам нужно место для другой ученицы, тоже нубийки, но из очень уважаемой семьи, которая уже давно живет здесь. Конечно, Натаки очень способная, но ей придется немного подождать, год или чуть больше…
К этому моменту я уже твердо решил отдать Натаки в храм. Я знал, что это ее самое сокровенное желание, и воспользовался своим высоким положением:
— Достопочтенная иерейя, я как раз хотел передать Натаки в дар Серапейону. Хотя сейчас она моя рабыня, но происходит из семьи правителя Мерое, которая по знатности намного превосходит любой нубийский род.
Жрица что-то хотела сказать, но я грубо перебил ее:
— И еще: ее величество царица недавно назначила меня своим личным врачом. Стоит ей только пожелать, и ты с утра до вечера будешь скрести пол в храме.
Конечно, это была только пустая угроза. Я прекрасно знал, что священнослужители неприкосновенны да ще для фараонов.
Однако жрица не возразила мне.
— Почему ты сразу не сказал об этом? — спросила она. — В этом случае для Натаки, конечно, не будет препятствий, бог благосклонно примет подарок.
Мне очень не хотелось расставаться с моей маленькой искусной подругой. Но как я мог ей препятствовать, когда фортуна протягивала ей руку?
Несколько дней спустя приехал хозяин дома. Мой дядя, вероятно, так запугал беднягу, что он предложил мне остаться у него, пока я не найду чего-нибудь подходящего. Однако, кроме жены, с ним приехали еще шестеро детей от двух до двенадцати лет и трое рабов. Так что стало довольно тесно и беспокойно, поскольку кто-нибудь из детей непременно орал — и днем и ночью.
Глава 6
В следующий раз я пришел в мусейон уже как государственный учитель. Простат заставил меня прождать около получаса и отнесся к моей просветительской деятельности снисходительно.
— У личного царского врача вряд ли найдется время, чтобы проводить здесь занятия. Впрочем, это и не нужно. Просто, если возникнет необходимость, мы за тобой пошлем, хорошо?
Конечно, я понял, что он хотел этим сказать: как личный врач царицы я буду больше занят при дворе, чем в мусейоне. Однако мне стало обидно, что он считает мое появление здесь необязательным, и я решил доказать ему, что мне есть что передать ученикам.
— Ты, может быть, слышал, уважаемый простат, что я спас царскому наварху ногу, когда он ее очень серьезно повредил. Я мог бы рассказать ученикам об этом случае. Еще более важной считаю я операцию, которую мы провели в Напате вместе с моим отцом. Нам удалось выпрямить ногу, которая криво срослась после перелома и стала короче, при этом после перелома прошло уже немало времени.
Его лицо стало замкнутым.
— Я филолог, и ничего в этом не понимаю. Поговори лучше с эпистатом медицинского отдела.
Тот оказался ко мне более внимателен и назначил соответствующий учебный курс на апрель и май.
— Приготовься к вопросам, потому что вместе с теми, кто действительно интересуется медициной, придет много и просто любопытных, которых привлечет твоя должность царского врача.
В оставшееся до курса время я решил по совету Цезаря заняться латынью. Он принес извинения властям города за пожар и обещал восполнить утраченные рукописи. Для этого он велел привезти на корабле из Рима тысячи томов из своей личной библиотеки. Часть недостающих книг он купил на свои собственные средства. Это сильно укрепило его авторитет в Александрии, что отразилось и на отношении к Клеопатре. Тем более что, несмотря на все опасения, Египет не превратился после этой победы римлян в римскую колонию, а у власти, как и прежде, осталась династия Птолемеев.
Цезарь и Клеопатра вернулись из своей поездки на юг в начале лета. Я уже вел занятия в мусейоне. Как и предупредил простат, места для всех учеников не хватало, и каждую лекцию мне приходилось повторять по нескольку раз. Новую квартиру я нашел довольно быстро. Теперь я жил ближе к мусейону, но и не так далеко от Ворот Луны, так что я не терял связи с моими родственниками.
Дядю Персея мое новое назначение чуть с ума не свело. Совсем недавно он ругал царицу «римской проституткой», а теперь не уставал хвалить ее и называл не иначе как «истинная мать страны», «воплощение Исиды» и «светоч на троне». Кроме того, он стал одержим одной идеей и весьма докучал мне некоторое время. Я получал двенадцать сотен драхм в год, у меня было звание личного врача и должность учителя в мусейоне — все это делало меня лучшим мужем для его дочери Аспазии. Он начал издалека, но когда я никак не отреагировал на это, то решил действовать напрямик.
— Она как раз в самом подходящем для замужества возрасте, красивая и здоровая — чего ты еще хочешь?
Все это было верно, и я даже не очень принимал ее за родственницу, поскольку она родилась через восемь лет после того, как мы с отцом уехали из Александрии. Но все же я отговаривался тем, что я ее брат, а, с врачебной точки зрения, браки между родственниками нежелательны.
— Посмотри на нашу царицу. Сотни лет Птолемеи женились на своих сестрах, и ничего, — возражал он.
— Это были браки на папирусе, и, насколько я знаю, от них никогда не рождались дети. Клеопатра и Птолемей Тринадцатый тоже были супругами, но можешь ли ты представить себе их в постели?
Он упрямо качал головой:
— Жениться на двоюродной сестре никогда не считалось чем-то необычным. Насколько я знаю, это нигде не запрещено.
— Я еще не собираюсь жениться, пойми же, Персей!
Глаза его недоверчиво сузились:
— А, мы теперь недостаточно подходящее общество для господина личного врача? Услышал бы это твой отец, он бы тебе задницу отшлепал!
Что мне было ему ответить? Здесь, в Александрии, Персей был главой семьи, и я обязан был оказывать ему уважение. Потом он изменил тактику. Очевидно, он хотел потихоньку, безо всякого нажима убедить меня в том, что Аспазия будет для меня самой лучшей женой. Он каждый раз посылал девушку на рынок, который находился неподалеку от моей новой квартиры, хотя ей приходилось полчаса идти до него. Персей точно рассчитал, когда я обычно бываю дома, и именно в это время неожиданно появлялась Аспазия, передавала мне привет от дяди и всегда приносила какой-нибудь гостинец с рынка: гранат, корзиночку фиг, свежую курочку. Обедал я обычно в мусейоне, а дома только иногда перекусывал, поэтому курочек мне приходилось раздаривать соседям. Наконец я попросил Аспазию не приходить больше. Из глаз ее тут же брызнули слезы.
— Конечно, я бы лучше ничего не делала, — всхлипнула она, — но отец вбил это себе в голову. Я бы лучше совсем убежала, если б только знала куда.
Аспазия была похожа на мать, такая же пухленькая и аппетитная — полная противоположность стройной, порывистой и искусной в любви Натаки. Вероятно, поэтому в голову мне все настойчивее приходили мысли, которые очень порадовали бы моего дядю.
Я успокаивающе погладил ее по руке:
— У меня возникла неплохая идея. Скажи своему отцу, что я должен подождать возвращения царицы и не могу действовать без ее согласия. Тогда он хотя бы на несколько недель оставит нас в покое. А потом еще что-нибудь придумаем.
С наступлением сумерек я отправился в небольшой публичный дом, где бывал уже много раз и раньше. Там. была одна гетера Аспазия — вряд ли, впрочем, это было ее настоящее имя, — которая быстро все поняла и сумела утолить мою тоску.
Мне недоставало Натаки, и не только по ночам. Я вспоминал ее приветливое лицо, как она быстро все схватывала, и ее сокрушенную физиономию, когда я ругал ее за что-нибудь или она чего-то не понимала. Я даже подумывал завести еще одну нубийскую рабыню, но боялся разочарования. Правда, Натаки навещала меня время от времени, но это была уже скорее будущая жрица, чем прежняя подруга, и, когда я хотел заманить ее в постель, она кокетничала и убегала.
Мне не терпелось вступить в свою новую должность при дворе, и когда однажды утром стало известно, что сегодня ожидают возвращения царицы, известие это подействовало на меня, как глоток возбуждающего вина. Сердце мое забилось сильнее, тоска прошла, и я вновь осознал свое новое положение: я Гиппократ, личный врач ее светлости, божественной правительницы Египта.
За несколько часов до прибытия царицы я уже был в гавани, одетый в свое лучшее платье, но не увидел ничего, кроме множества кораблей. Спустя какое-то время стало известно, что Клеопатра вместе с Цезарем высадились непосредственно у дворца. Я тотчас же попросил доложить о себе, ожидая аудиенции, но слуга в сомнении покачал головой:
— В ближайшие недели царица никого не принимает, она вот-вот ждет ребенка.
Цезарь не смог присутствовать при его рождении: ему пришлось срочно ехать в Понт усмирять правителя Фарнака. Он справился с ним быстро, так что весть о его победе дошла до нас скорее, чем сам победитель добрался до Италии, где не был уже два года.
Со времен Александра Македонского ни один из полководцев не одержал столько стремительных побед и не снискал столько славы. Осенью, когда Цезарь прибыл в Рим, он мог отпраздновать четыре триумфа: две победы в Египте и две в провинциях. Сестре Клеопатры Арсиное выпала при этом неблагодарная роль: она сопровождала триумфальное шествие закованная в серебряные цепи и представляла побежденных Птолемеев. Обычно таких знатных пленников потом убивали в темнице. Но Цезарь был жесток, только когда это было необходимо, в нем не было ни ненависти, ни жажды убийства. Арсиноя смогла потом спокойно уехать в Лидию, где нашла приют в храме Артемиды Эфесской.
Через десять дней после рождения Птолемея Цезаря, или Цезариона, — маленького Цезаря, как его прозвали в народе, — царица приняла меня в своем вновь отстроенном дворце на полуострове Лохиада. Никогда прежде я не видел такого великолепия. На первый взгляд это роскошное здание состояло только из мрамора, эбенового дерева, слоновой кости, золота и серебра. Колонны, пол и стены были сделаны из агата, порфира, яшмы и лазурита. Тонкая резьба на потолках из эбенового дерева была инкрустирована слоновой костью и полудрагоценными камнями. На стульях, лежанках и окнах сверкали золотом и пурпуром драгоценные ткани.
Царица заметила мое безмолвное изумление.
— Тебе нравится, Гиппо? Да, Египет богат и может достойно содержать своих правителей. Можешь ли ты сразу приступить к своим обязанностям?
Я поклонился.
— Ничего другого, басилисса, я не жду с таким нетерпением.
Она засмеялась и обратилась к стоявшей рядом придворной даме Шармион:
— Стоит ли этому верить? Или это только комплимент?
Высокая, очень светлокожая суровая красавица не улыбнулась, а только строго взглянула на меня:
— Комплименты мужчин ничего не стоят, моя госпожа. Их надо поскорей забывать и смотреть только на их дела.
— Слышишь, Гиппо? Нашу Шармион не так-то легко провести. Ну а теперь приступай к своим обязанностям. Я велела подготовить для тебя квартиру недалеко от дворца.
— Ты рад, Гиппо? — спросил евнух Мардион, заботливый друг Клеопатры. — Наверное, тот твой комплимент был настоящим.
— Да, Мардион, я очень рад: теперь у меня есть дело, и я нашел свое место.
— А как же твои занятия в мусейоне? — спросила Клеопатра.
— Я прочел две лекции о переломах, а еще последовал совету благородного Юлия Цезаря и учу латынь.
Казалось, это ее обрадовало.
— Это правда? В Александрии немного найдется людей, которые владеют этим языком. То, что среди них и мой личный врач, меня особенно радует.
С переездом на новую квартиру я испытал большое облегчение. В закрытый, хорошо охраняемый Брухейон мой дядя проникнуть не мог. Здесь меня не будет беспокоить Аспазия. Она была рада этому не меньше меня. Бурная придворная жизнь заставила меня вскоре позабыть своих родственников. Только теперь я увидел, какую ответственную должность получил я по прихоти царицы. Да, именно по прихоти, потому что мои заслуги были, конечно, не столь велики, чтобы занять такой высокий пост.
Но Клеопатра действительно, как и обещала, решила «омолодить» свой двор. Несмотря на протесты, она удалила весь круг придворных, бывших еще при ее отце, и распустила регентский совет своего погибшего брата. Ее теперешний супруг и младший брат Птолемей XIV был, можно сказать, узником в золотой клетке: он получал все, чего пожелает: девочек для постели, с которыми этот тринадцатилетний мальчик еще не мог как следует управляться, товарищей для игр, бассейн, в котором приятно было плескаться в жаркий день, — все было у него, кроме одного: власти.
Случай сделал его моим первым пациентом. Птолемеи никогда не были великими воинами или полководцами, но принцев обязательно обучали искусству владеть оружием Под наблюдением учителя Птолемей и еще несколько мальчиков его возраста сражались
затупленными мечами. В пылу сражения Птолемей сорвал с головы шлем. Прежде чем он снова надел его, противник атаковал его и наполовину отсек левое ухо. Из раны хлынула кровь. Поднялся переполох Рыдающего от ужаса противника тут же заковали в кандалы. Напрасно он громко кричал:
— Я не хотел этого! Я этого не хотел! Мне очень жаль!
Его никто не слушал, и телохранители увели мальчика прочь.
Сразу же послали за мной, и я, захватив все необходимое, поспешил к Птолемею. Когда кровотечение наконец прекратилось, я несколькими стежками зашил рану. Маленький правитель сидел при этом не шелохнувшись, только громко дышал.
— Скоро все зарастет, так что и следа не останется, — пообещал я ему.
Потом я добился, чтобы освободили его слишком горячего противника.
Даже по самым скромным подсчетам при дворе было не меньше двухсот человек. Был, конечно, и еще один врач. Но царица, по свидетельству ее приближенных, предпочитала обращаться за помощью или советом ко мне. Я занимался делом, хорошо знакомым мне еще с Сиены, хотя сейчас речь шла не о солдатах, а в основном о болезнях другого характера.
Гораздо больше беспокойства доставляли мне поначалу бесконечные интриги. Я оказался среди тех, кто был наиболее близок к царице, и меня постоянно умоляли передать ей ту или иную просьбу и при этом пытались всунуть мне в руку кусочек золота или серебра. У меня, как и у всякого человека, есть свои слабости и пороки, но меня никогда нельзя было купить. Я не понимал, как следует вести себя в подобных случаях, и обратился за советом к Мардиону. Тот, казалось, вовсе не удивился.
— Очень хорошо, Гиппо, что ты обратился ко мне, прежде чем утруждать царицу. Такова жизнь при дворе: чем ближе стоишь ты к трону, тем больше привлекаешь тех, кто от него удален. Поэтому вот тебе мой совет: пусть твои руки останутся чистыми, никогда не бери денег или подарков. Если просьба кажется тебе справедливой, подойди ко мне, и мы все обсудим. В особенно серьезных или срочных случаях ты можешь обратиться сразу к царице, но прежде хорошо подумай, стоит ли дело того.
Этому совету — за некоторыми исключениями — я следовал все время моей службы при дворе и никогда не раскаивался в этом. Несколько раз я, правда, принимал подарки, но при этом заранее знал, что царица не откажет в просьбе.
Кончилось лето; в уставший от зноя город наконец пришла осень. Прохладный ветер с моря приятно овеивал узкий полуостров Лохиаду и открытый с двух сторон царский дворец.
В конце сентября попутный северный ветер доставил в гавань быстроходную узкую галеру из Рима. На борту ее прибыло посольство от Юлия Цезаря к царице.
Она приняла послов в тронном зале, вместе с фараоном Птолемеем XIV, в окружении придворных. Справа от нее стоял верховный визирь Протарх и другие высокопоставленные чиновники, за ее троном расположился небольшой круг друзей, в числе которых был и я. Посол сената с [Глубоким поклоном передал верховному визирю два свитка. Протарх преклонил перед троном колени и передал их царице. Та взглянула на обращения и оставила меньший свиток себе, а больший передала дальше своему брату.
Птолемей был милый живой юноша, но, очевидно, он уже смирился со своей незначительной ролью, потому что сразу вернул свиток верховному визирю. Клеопатра кивнула ему, и Протарх сломал печать, развернул пергамент и прочел:
— «Юлий Цезарь, диктатор, и римский сенат к Птолемею Филопатору, правителю Египта, и Клеопатре, правительнице Египта,
Сенат Рима считает необходимым укреплять дружбу между нашими двумя странами. От имени диктатора Юлия Цезаря и обоих консулов Рима и Италии мы приглашаем тебя, царь Птолемей, и тебя, царица Клеопатра, нанести нам визит».
Клеопатра внимательно выслушала и обратилась к Птолемею:
— Ну, мой высокочтимый супруг, следует ли нам принять это приглашение?
Молодой человек вздрогнул. Он довольно редко изображал правителя рядом со своей сестрой, и по большей части это была молчаливая роль. Теперь, когда спросили о его мнении, он растерянно оглянулся в поисках помощи. Все отводили взгляд, и он наконец сказал:
— Мы должны — я полагаю, нам следует принять приглашение.
Клеопатра слегка поклонилась:
— Благодарю, мой супруг, и, конечно, присоединяюсь к твоему решению.
Это вовсе не прозвучало как насмешка, а было сказано спокойным, исполненным уважения тоном. Однако, я думаю, все присутствующие в зале восприняли эту ситуацию весьма иронично. Все знали, что Птолемей не обладает ни властью, ни значением и только в редких случаях может выступать как марионетка правителя.
— А мне — мне можно тоже вместе с тобой в Рим? — выпалил вдруг Птолемей, пораженный тем, что внезапно оказался в центре событий.
К счастью, в этот момент римские послы уже удалились; это было, так сказать, среди своих, там и тут слышались тихие смешки. Вероятно, Клеопатра зашла слишком далеко, когда произнесла:
— Этот вопрос я как раз хотела задать тебе — могу ли я сопроводить правителя Египта в Рим?
Птолемей был уже достаточно взрослым, чтобы услышать в этих словах насмешку.
— Ты никогда не спрашивала у меня разрешения, Клеопатра, почему же теперь ты это делаешь?
— Потому что таково мое желание, — сказала она и прибавила: — Ты можешь теперь удалиться, если хочешь.
Так как это приглашение исходило не от частного лица, а от римского сената — пусть даже и под давлением Цезаря, — с политической точки зрения было необходимо, чтобы правящие Египтом супруги появились вместе.
— Малыш нам не помешает, — сказала Клеопатра позже, в кругу друзей. — В сущности, он еще ребенок.
— Он не всегда им останется, — задумчиво заметил Протарх, — через два-три года он превратится в молодого мужчину.
— Некоторые умирают очень рано, не правда ли, мой Гиппо, смерть не обращает внимания на возраст.
— Да, это так, моя царица.
Царица дала понять, что совместное путешествие с Птолемеем — это хорошо обдуманный ход. Сторонники ее утонувшего брата с нетерпением ждали совершеннолетия ее теперешнего супруга. И если бы он в это время остался в Александрии, вполне возможно, что вокруг него образовалась бы оппозиция. Поэтому Клеопатра сочла за лучшее не выпускать брата из поля зрения.
В последующие недели все было охвачено подготовкой к путешествию. Брухейон гудел, как улей перед вылетом. Однако во дворце Птолемеев уже в течение нескольких столетий все было превосходно организовано, и слуги прекрасно справлялись со своими обязанностями. Так что еще до того, как задули свирепые осенние ветры, средиземноморский флот египетских фараонов поднял свои якоря.
Мы вместе с еще двумя врачами, одним фармацевтом и двумя помощниками, а также с сундуком различных медицинских препаратов шли в кильватере царского корабля, так сказать, на расстоянии голоса. Плавание проходило спокойно, погода была хорошей. Недалеко от Сицилии на нас чуть было не напали пираты, но, увидев множество судов на горизонте, поспешно скрылись.
В самом Риме, как известно, нет гавани, и морские суда не могут пройти по Тибру. Поэтому в устье Тибра нас ожидало около сотни лодок. Гавань в Остии тогда уже стала довольно мелкой и годилась только для небольших кораблей.
Я потерял царицу из виду и узнал позднее, что Цезарь ожидал ее с носилками, переодетый простым центурионом. То, что это приглашение выражало лишь его волю, а послушный сенат только служил отговоркой, стало ясно уже из того, как нас разместили. Как важные государственные гости Клеопатра и Птолемей должны были бы занять покои в резиденции для высокопоставленных гостей на Палатине. Однако нас буквально спрятали — я не могу подобрать другого слова — на окраине Рима, в уединенных и обширных Садах Цезаря. Они находились на другой стороне Тибра, и посторонним туда не было доступа. В этом громадном парке было множество вилл, похожих на дворцы. И именно на этой стороне Тибра жили простолюдины: портовые рабочие, поденщики, лодочники, мелкие торговцы и разные темные личности. Но их район был расположен намного выше по Тибру, примерно на высоте Авентинского холма.
Вскоре после этого, в ноябре, Цезарю снова пришлось выступить в поход. Сторонники Помпея собрали новое войско в Испании и предприняли последнюю попытку захватить власть. Никто не сомневался в том, что Цезарь разобьет і их и в начале следующего года вернется в Рим.
Спустя несколько дней после прибытия Протарх собрал всех нас в большом триклинии
[44]. Кто-то может спросить, как это царица отважилась оставить египтян, уехав вместе со своим соправителем-супругом и верховным визирем, и это в тот момент, когда она еще не очень утвердилась на троне и опасалась переворота. Однако ответ прост: главный повод для переворота, а именно своего брата Птолемея, она специально взяла с собой, а верховного визиря заменял в ее отсутствие евнух Мардион. Он был абсолютно неподкупен и в высшей степени достоин доверия. Позднее ему часто приходилось исполнять такие поручения. А когда однажды Клеопатра хотела щедро наградить его, он отказался и сказал, что имеет все, что нужно, а самой хорошей наградой были бы любовь и доверие его царицы. Такие люди, как он, встречаются очень редко, и любой правитель счастлив, если в его окружении есть такой человек.
Итак, Протарх по поручению царицы обрисовал нам в общих чертах наше положение.
— В апреле этого года Юлий Цезарь был провозглашен диктатором на десять лет, так что наша царица будет вести переговоры только с ним. При этом речь пойдет прежде всего о том, чтобы возобновить союз, который был заключен тридцать лет назад между покойным отцом нашей великой царицы и Цезарем — тогда еще консулом. Ее величество хочет воспрепятствовать тому, чтобы здесь победили те силы, которые хотели бы считать Египет римской провинцией. Само собой понятно, что Цезарь хочет также увидеть своего сына. Он официально признает Птолемея Цезаря своим сыном. И наконец, я должен вам сказать, что египтян — так называют здесь нас всех, даже если мы греки, — не очень приветствуют в Риме. Прошел слух, что Цезарь хочет жениться на нашей царице и вместе с ней управлять обеими странами и всеми провинциями, которые им принадлежат. И поговаривают, что он даже собирается объявить себя полновластным правителем — в глазах республиканцев это худшее из подозрений, которые только могут пасть на государственного деятеля. Даже попытка подобного считается самым тяжким преступлением и карается смертью. Поэтому будьте осторожны и никогда не выходите в город поодиночке, а только группами не менее четырех человек. Как только Цезарь вернется из Испании, раздоры вспыхнут с новой силой.
Трапезная опустела, но меня Протарх попросил остаться.
— Еще несколько слов, Гиппо. Для тебя у царицы есть особое поручение. Ты ведь уже неплохо знаешь латынь, поэтому можешь незаметно подслушать, какие разговоры ходят в городе. Оденься как римлянин и походи по баням, трактирам, библиотекам, посещай театральные представления — все, что доступно обычному гражданину. Я дам тебе также письменное разрешение посещать заседания сената. Оно действительно до конца нашего пребывания здесь.
Я взял этот небольшой документ, на котором стояла личная печать Цезаря.
Протарх положил руку мне на плечо.
— Ты молодой, умный, ловкий и сделаешь все как надо. Однако будь осторожен. Навостри глаза и уши. И если ты вдруг заметишь в Риме какую-нибудь перемену в настроениях, сразу же сообщи об этом. Слышишь — сразу же!
А я-то испугался было, что мое пребывание в Риме ограничится тем, что я буду лечить придворных от комариных укусов или гулять по Садам Цезаря.
С этого времени я почти каждый день отправлялся на своем муле до Понса Субликия — старейшего моста в Риме — и дальше пешком до древнего рынка Форум Боариум. Вокруг этой шумной площади стояло несколько небольших храмов, в том числе и храм Геркулесу Победителю. Перед ним возвышалась громадная позолоченная статуя славного Геракла. Здесь я завтракал в одном из многочисленных трактиров и шел дальше, через Викус Тускус или Кливус Вик-ториае к Форуму Романорум, где я регулярно бывал на заседаниях сената. Однако люди там вели себя осторожно, и я вряд ли мог услышать что-нибудь полезное. Когда входил Юлий Цезарь, сенат превращался в согласную с ним толпу. Даже если кто-нибудь выражал сомнение или несогласие, то говорил такими намеками, что ничего нельзя было понять. Моя латынь, конечно, становилась лучше с каждым днем, но все же я еще не мог вникать во все тонкости.
Впрочем, моей латыни было вполне достаточно для того, чтобы понимать выкрики толпы на боях гладиаторов. Однако там я тоже не мог услышать ничего по поводу политики. Собравшаяся публика жаждала только увидеть потоки крови — в этом она не изменилась и по сей день.
Театральные представления устраивались на каждом углу. Здесь можно было увидеть все: от импровизированной сатиры до классических комедий и трагедий. Сатира — это было как раз то, что могло бы мне пригодиться. О тех, кто управлял государством, здесь говорили такое, что в Александрии это сразу бы сочли оскорблением власти. Мне стоило большого труда сдержаться, когда упоминалась «одна египетская распутница», которая так вскружила голову одному римлянину, что он не может больше отличить черное от белого, горячее от холодного. Конечно, имен при этом не называли, но все понимали, о ком и о чем идет речь.
Я принимал также участие в народных праздниках, которые следовали в декабре один за другим: Агонии, Консуалии, Сатурналии, Опалии
[45] и, наконец, 23 декабря Ларенталии — день умерших.
Самым занятным показались мне Сатурналии, которые празднуют в семнадцатый день месяца. Тогда все господа прислуживают своим рабам и устраивают для них пышные симпосии. Тот же, кто не хочет этого делать, заранее уезжает в поместье и передает все дела управляющему.
Я постоянно прислушивался к разговорам в трактирах, на праздниках, к жарким спорам на улицах и слышал подтверждение тому, о чем говорил нам Протарх. Цезаря упрекали за то, что он пригласил Клеопатру, и за то, что в своей политике оказывает ей предпочтение. Все полагали, что это неспроста, и диктатор с египтянкой что-то задумали. Часто цитировали знаменитого оратора Марка Туллия Цицерона
[46]. Он не слишком лестно отзывался о нашей царице и упрекал ее в высокомерии и в том, что она погрязла в восточной роскоши и заразила этим Юлия Цезаря.
Через несколько недель я поделился с Протархом опасениями, что Клеопатра может быть только поводом, чтобы повредить Цезарю. Против него, вероятно, существует тайная и довольно многочисленная оппозиция. Он подтвердил это:
— Так считает и царица. Она много раз предупреждала об этом диктатора, но он, кажется, не принимает этого всерьез. Он говорит, что в республике всегда существует оппозиция против того, кто правит в настоящий момент.
Потом пришла зима, и все мы ужасно мерзли. В Александрии тоже с декабря по февраль случаются холодные дни, но их сменяют все более продолжительные оттепели. И уж конечно там не бывает шеймона — ветра, который приносит холод, бури и даже снег.
Пятнадцатого февраля в Риме праздновали Луперкалии. Этот причудливый праздник, как и многие другие праздники года, свидетельствует о том, что римляне изначально были земледельческим народом. Это праздник очищения и плодородия. Он устраивается в честь бога Фавна. В этот день его жрецы-луперки бегают в козлиных шкурах по улицам и стегают козлиными ремнями женщин, которые желают детей или просят легких родов. При этом римлянки, известные обычно своими строгими правилами, обнажают низ живота и подставляют его жрецам. Те, которые все же стыдятся этого, подставляют под удары только руки. Конечно, в это время на улицах всегда множество мужчин, желающих насладиться этими возбуждающими играми.
Зимой почти все наши придворные страдали от простуд. И я выяснил, что местные лекарственные средства защищают от них гораздо лучше, чем египетские. Здесь были и такие, которых я совсем не знал в Египте, например, мята и ромашка.
Наша царица оставалась совершенно здорова. Правда, ей не приходилось мерзнуть: Цезарь велел установить в ее покоях две дюжины маленьких бронзовых печек, в которых днем и ночью жгли древесный уголь.
Наконец пришла весна. Дни становились все теплее. Рим, казалось, смирился с присутствием Клеопатры, тем более что Цезарь опроверг слухи о том, что он собирается разводиться со своей любимой и высокочтимой супругой Кальпурнией, чтобы жениться на египетской царице. Это все только злобная клевета его врагов. Египет может быть очень выгодным поставщиком зерна, и Цезарь хотел бы создать такие выгодные для Рима условия, чтобы он брал дань с Египта.
Волнения вокруг нее поутихли, и Клеопатра решила воспользоваться этим, чтобы пригласить самые знатные семейства Рима на весенний симпосий. Поводом послужило победоносное возвращение императора Юлия Цезаря из Испании, Все складывалось очень удачно, антипатия и предубеждения почти исчезли, а те, кто еще питал против нее подобные чувства, все равно пришли из любопытства.
Мне выпала честь сидеть за столом царицы вместе с протестом — дегустатором. Однако он пробовал только то, что подавалось на стол не из кухни Клеопатры, — вино, воду, соки и фрукты.
Триклиний в доме был слишком мал для стольких гостей, поэтому Клеопатра распорядилась поставить столы и ложа на открытом воздухе, теплый майский день очень благоприятствовал этому. Почему римляне едят лежа, мне непонятно и по сей день, тем более что такое искривленное положение тела в высшей степени вредно при приеме пищи. К сожалению, следует добавить, что римляне переняли этот дурной обычай от нас, греков.
Глава 7
До этого никто из нас не знал, как относится Цезарь к своему маленькому сыну. Они встречались всегда только во внутренних покоях, а царица ничего об этом не говорила. Но сегодня малыша вместе с перепуганной нянькой позвали к столу, чтобы продемонстрировать изумленным гостям, как хорошо он уже бегает.
Цезарь улыбнулся, вышел из-за стола и, присев на корточки, ласково позвал:
— Иди, иди ко мне…
Он протянул руки, и нянька отпустила толстощекого малыша. Тот встал на свои пухленькие ножки и нерешительно оглянулся на кормилицу. Крепкая молодая женщина ободряюще улыбнулась ему, тогда он тоже улыбнулся и зашагал, пошатываясь и расставив руки, но быстро и целеустремленно. Цезарь подхватил его, поднял вверх и сказал так, что все слышали:
— Вот он смотрит на своего отца сверху вниз, но теперь это для сыновей обычное дело. Почему же я должен стать исключением?..
Все поняли, что это была публичная демонстрация: Цезарь не стал бы открыто говорить о том, что хотел бы скрыть от общественности. В таких случаях он не лгал, а просто умалчивал.
О том, что он при всех объявил себя отцом, будет знать завтра каждый мальчишка на улице — именно так и было задумано.
Малыш с нянькой снова исчезли в доме, Клеопатра улыбнулась им вслед. Во время всей этой сцены она хранила молчание, и на ее замкнутом лице не заметно было ни радости, ни удовлетворения. Одно можно было сказать точно: совершенно не важно было, действительно ли Цезарь зачал этого ребенка или нет — он взял его на руки, а это по древнеримским обычаям означало, что он признал его сыном.
Сидишь ты за столом или лежишь, но рано или поздно взгляд твой начинает неторопливо блуждать вокруг, ибо только голодные упорно смотрят в свою тарелку. Я заметил молодую женщину, которая сидела — нет, лежала — за соседним столом почти напротив меня и, очевидно, уже давно смотрела в мою сторону. К этому моменту все несколько оживились, потому что в присутствии Цезаря, Клеопатры и Марка Антония чувствовалась легкая праздничная натянутость, даже некоторое стеснение. Да, здесь в первый раз среди гостей был также Марк Антоний, но я видел его только издали.
Теперь все они втроем ушли в дом, вероятно, чтобы обсудить что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. Когда я встал, чтобы слегка размять ноги, женщина за соседним столом что-то сказала сидевшему с ней рядом мужчине, дернув его за рукав. Они тоже поднялись, и мы все встретились у небольшого мраморного фонтана в виде нимфы, которая сидит на стволе упавшего дерева и держит в правой руке чашу, откуда струится вода. Я подставил обе руки под струю и освежил свое пылающее лицо. Когда я выпрямился и обернулся, эта парочка оказалась передо мной, и мужчина сказал с улыбкой:
— Теперь даже для вас, египтян, слишком жарко. Если ты пробудешь здесь до августа, Гиппократ, ты еще затоскуешь по прохладной Александрии. Меня зовут Луций Квинтиллий, а это моя жена Клаудиа. Я много раз бывал в твоем городе и знаю, о чем говорю.
— Откуда ты знаешь мое имя?
— Каждый, кто сидит за столом царицы, конечно, привлекает к себе внимание, так что довольно скоро мы узнали, что ты ее личный врач.
Квинтиллий был высоким, довольно полным мужчиной с залысинами на лбу и с хитрым, но добродушным лицом. Его жена была на голову ниже и показалась мне значительно моложе его — ей было, наверное, немного больше двадцати.
— Как тебе понравился Рим, Гиппократ? Здесь красивее, чем в Александрии?
Поначалу я не нашел в Клаудии ничего примечательного. Она была одета изысканно, но скромно, лицо ее было почти совсем не подкрашено — обычная римлянка довольно строгих нравов.
Между нами завязался не очень оживленный, но интересный разговор: Квинтиллий был торговцем зерном и много путешествовал. Под конец он сказал:
— Теперь я почти никуда не езжу, заседаю в сенате и, может быть, скоро стану народным трибуном.
— Что будет стоить тебе немалых денег, мой дорогой, — с легкой насмешкой заметила его супруга.
Но Квинтиллий только спокойно улыбнулся.
— Деньги в мешке никому не нужны, они должны обращаться среди людей.
В конце нашего разговора я получил приглашение от Квинтиллия посетить их дом. Он просил посмотреть его пятилетнюю дочку Клаудиллу, которая отказывается от еды и все худеет и худеет. Я охотно согласился, потому что не хотел упускать возможности увидеть дом римского гражданина. Конечно, прежде я спросил разрешения у Протарха, как делали мы все, когда нам надо было отлучиться в Рим. Он поговорил с царицей и передал мне ее решение:
— Тебе непременно следует принять приглашение. Квинтиллий богат, как Крез, и у него большие связи. Он хотя и плебей, но на стороне Цезаря. Попытайся осторожно разведать его планы и намерения.
— Я попытаюсь, но не уверен, что мне это удастся. Этот человек гораздо опытнее меня.
— Ты тоже неглуп, Гиппо, не скромничай.
Вилла Квинтиллия была окружена огромным садом. Все здесь дышало богатством и достатком. Старый дворецкий приветствовал меня, как если бы я прибыл с визитом к правителю какой-нибудь страны.
Клаудиа встретила меня в маленьком, защищенном от солнца атриуме. Даже беглого взгляда вокруг было достаточно, чтобы понять, что здесь не принято скупиться. Атриум окружали изящные разноцветные колонны, вытесанные из дорогих сортов мрамора.
Мы расположились в бронзовых креслах, покрытых парчой.
— Квинтиллий разговаривает о делах с одним из своих друзей. Он скоро будет, а пока тебе придется довольствоваться моим обществом.
— Придется? Мне позволено! Беседа с женщинами всегда была для меня чем-то более значительным, чем разговор с мужчинами. Я сам мужчина, и поэтому могу предполагать, что они подумают или скажут. Беседа с женщинами гораздо увлекательнее и часто полна неожиданностей.
Во имя Сераписа — что я такое несу? Откуда вдруг такие грубые комплименты?
Клаудиа погрозила мне пальцем:
— Это звучит очень лестно, но ведь на самом деле все не так?
Появление хозяина дома избавило меня от необходимости отвечать. Сегодня Клаудиа показалась мне совсем иной, чем тогда, в Садах Цезаря. Она была очаровательнее и кокетливее, и лицо ее было искусно подкрашено.
— Гиппократ! Какая радость! Мой повар превзошел сам себя, чтобы удивить и порадовать нашего египетского гостя.
И действительно, вскоре мы приступили к обеду, который состоял из доброго десятка блюд. К каждому блюду подавалось другое вино, конечно, смешанное с водой. Часа через три такой трапезы я попытался подняться и с трудом произнес:
— Прежде чем я еще выпью вашего превосходного вина, я хотел бы осмотреть вашу дочь, иначе потом, боюсь…
— Ну конечно! — хлопнул меня по плечу Квинтиллий. — Как я мог забыть!
Клаудилла оказалась худенькой, хрупкой девочкой, на вид ей было года четыре. На самом же деле недавно она отпраздновала свой шестой день рожденья. Родители беспокоились, что она совсем не росла. С первого взгляда было видно, что у ребенка малокровие. Но почему? Я предположил, что, возможно, из-за неправильного питания, и это потом подтвердилось.
Я обследовал девочку, но не заметил никаких отклонений, кроме болезненной худобы.
Поговорив с родителями, я выяснил, что они обращались ко многим врачам, и почти все советовали кормить девочку сытными и питательными блюдами.
— Хорошенько приправленными, — добавил Квинтиллий.
Я просто всплеснул руками от ужаса:
— Пичкать приправами такой маленький и еще нежный организм — какая чудовищная ошибка! Неудивительно, что от этого ее тошнило. Клаудилла уже несколько лет питается неправильно, и, если так и дальше будет продолжаться, я опасаюсь за ее жизнь.
Супруги испуганно взглянули на меня.
— А врачи… — начала Клаудиа, но я прервал на полуслове:
— Врачи, очевидно, забыли, что речь идет о хрупком ребенке с чувствительным желудком. Я советую вам не кормить девочку один-два дня, а потом только поить ее легким медовым напитком — сколько ей захочется.
Клаудилла обрадованно захлопала в ладоши:
— О да! Я люблю медовый напиток!
— Когда она через некоторое время проголодается, дайте ей все, что она захочет, каким бы нелепым ни показалось вам ее желание. Орехи с медом, молоко, виноградный сок, соленые фисташки — давайте ей все, — что она попросит, и столько, сколько ей захочется. Потом кормите ее чем-нибудь легким. Больше фруктов, салаты, орехи, молоко, сладкие каши, нежирная птица или рыба, если она захочет. Но ни в коем случае не свинина, дичь или жирная птица! И никаких приправ! Ни перца, ни шафрана, ни кориандра, и как можно меньше соли. От малокровия я приготовлю вам вкусное лекарство, его надо принимать каждый день по три раза. Если вы будете выполнять эти рекомендации, уже через четыре недели Клаудилла поправится на пять — восемь либер — запомните мое слово!
Квинтиллий вскоре простился с нами, так как его еще ждали сегодня дела, но он сказал, что вскоре надеется вновь увидеть меня. Из приличий я тоже собирался проститься, но Клаудиа удержала меня.
— Вечер еще далеко, дорогой Гиппократ. Выпей бокал вина на дорогу.
У меня шумело в голове от выпитого до этого вина, но Клаудиа показалась мне вдруг такой прелестной, такой по-женски привлекательной, что я остался. Потом я пил вино большими глотками, а она только слегка пригубила, рассматривала меня, смеясь, и расспрашивала о жизни и обычаях в Египте.
Клаудиа отослала рабыню и сама прислуживала мне за столом. Вдруг она оказалась только в короткой тунике. В такой ходили обычно рабыни, а для римлянки она считалась нижней одеждой, в которой неприлично появляться перед посторонними.
— Стало жарко, устроимся поудобнее…
Вино шумело у меня в ушах, и сквозь этот шум голос ее доносился как бы издалека. Но я все отчетливо слышал и понимал каждое слово.
— Ты спросишь, почему у нас только одна дочка. Я у Квинтиллия вторая жена. Первая умерла семь лет назад при родах. Она подарила ему двух сыновей. Теперь они уже взрослые и вместе с отцом управляют делами. Я бы тоже еще могла родить ему детей, но он боится за меня. В голове у него только его дела, и единственное желание его — заработать денег. Я младше Квинтиллия на двадцать лет. Сегодня я бы ни за что не вышла за него, но все мы крепки задним умом, правда?
Она присела рядом и положила голову мне на плечо. При этом рука ее пробралась под мою тогу, приподняла тунику и нежно сжала фаллос.
Неужели мне это только кажется? Я не шевелился, боясь спугнуть наваждение. Каждый мужчина знает, что слишком большое количество вина гасит пламя любви. Увидев, что я не могу ответить, опытная Клаудиа рассмеялась:
— Ах, понимаю! Слишком много вина, но ведь мы не в последний раз видимся!
Потом она, должно быть, усадила меня в носилки, потому что очнулся я, только когда носилки доставили меня к воротам Садов Цезаря.
Наутро я проснулся с дикой головной болью и ужасным вкусом во рту. Пришлось принять средство, которое я обычно давал другим в подобных случаях: бокал крепкого вина, смешанного с уксусом и солью.
Нужно ли мне сообщать Протарху или царице о том, как прошел вчерашний день? Пока я размышлял над этим, явился посыльный от Протарха с приглашением зайти к нему для разговора.
— Что скажешь, Гиппо? Удалось ли что-нибудь разведать? — с любопытством взглянул на меня визирь. — Как прошел вечер?
— Мы выпили несколько бокалов превосходного вина, а потом я так опьянел, что почти ничего не могу вспомнить.
— Это не должно больше повториться, Олимп! Римляне только и ждут удобного случая, чтобы на нас что-нибудь повесить. Впредь будь осмотрительнее — понял?
Он назвал меня Олимпом — значит, был рассержен.
Это задело мою гордость.
— Не надо меня упрекать, — невольно вырвалось у меня. — Клаудиа сидела рядом со мной полуобнаженная и ласкала мой фаллос. Все эти рассказы о строгих нравах римлянок — просто легенда!
Протарх не успокоился, пока не вытянул из меня все до мелочей.
— А теперь послушай, что я обо всем этом думаю, — сказал он потом. — Квинтиллий считается сторонником Юлия Цезаря. Но многое свидетельствует о том, что он изменил свои взгляды. Он хочет стать народным трибуном. Для того чтобы его выбрали, он должен выражать мнение большинства, а оно, как и прежде, направлено против нашей царицы и все в большей степени против Цезаря. Эти люди готовы пойти на все, чтобы вызвать к нам недоверие. Я думаю, Квинтиллий заранее спланировал твое совращение. Если бы ты не был так пьян и ответил на желание Клаудии, Квинтиллий ворвался бы и застукал тебя на месте преступления. Тебе предъявили бы обвинение, и весь Рим бушевал бы от возмущения. Эти дикие александрийцы подбираются к нашим уважаемым женам — вот как это называлось бы. Они не отважатся напасть прямо на нашу царицу или на меня, верховного визиря. Вместо хозяев достанется ослу. Ты далек от политики, но. как личный врач довольно близок к Клеопатре. Стало быть, можешь служить подходящей жертвой. Будь осторожен, Гиппо, будь осторожен! Лучше пять раз быть слишком недоверчивым, чем один — слишком доверчивым. Конечно, ты и дальше можешь лечить ребенка Квинтиллия, но смотри, чтобы ты не попал еще раз в подобную щекотливую ситуацию.
Я упрямо покачал головой.
— Просто не могу поверить! Может быть, Бахус решил подшутить надо мной, и мне все это привиделось? Было ведь уже темно, горело только два или три светильника…
— Вот-вот! — воскликнул Протарх. — С чего бы замужней римской женщине отсылать прочь рабов и оставаться вдвоем с чужим человеком в полутемной комнате? Значит, ты был к этому времени еще не настолько пьян, раз заметил это.
— Но что мне теперь делать? Если я поверю этому, то буду держаться настороженно, и хитрый Квинтиллий это сразу же заметит.
— Гиппо, я одно хочу тебе сказать. Может быть, все совсем не так, как я думаю. Я просто высказал подозрение, впрочем, как видишь, не без оснований. Может быть, ты и правда просто понравился Клаудии, и она захотела получить от тебя то, чем давно пренебрегает Квинтиллий. Но я был бы плохим советником для нашей царицы, если бы удовлетворился этим объяснением. Это моя работа — быть недоверчивым, и особенно в нашем теперешнем положении. Итак, постарайся не оставаться больше с Клаудией наедине и обращай больше внимания на то, что ты врач.
Конечно, легко говорить, но на деле все гораздо сложнее. Примерно так думал я, когда спустя три дня вновь пришел обследовать мою маленькую пациентку.
Клаудиа вела себя как заботливая мать, вокруг мелькали хлопотливые рабы, в детской, в углу, сидела няня Клаудиллы.
Все мои опасения показались мне необоснованными, и мое замешательство постепенно исчезло. Малышке было уже намного лучше, она выглядела бодрой и радостной.
— Она глотает подряд фисташки с медом, фруктовые соки, кашу, сладкие супы, как будто мы ее целый месяц не кормили, — сообщила Клаудиа. — Если так дальше пойдет, скоро она станет толстой, как тыква.
— Как только ее организм получит все необходимое, она станет есть поменьше. Но ей и впредь следует избегать жирных и острых блюд и принимать лекарство, которое я дал.
— Хочешь чего-нибудь перекусить? Немного фруктов или вина?
«Чего тут бояться?» — подумал я и согласился. Должен признаться, что Клаудиа все больше мне нравилась. Она была не из тех женщин, что привлекают внимание с первого взгляда. Но чем дольше я смотрел на нее, тем больше мне нравилась ее непринужденная живость и легкое кокетство. Это прелестное создание дышало юной свежестью, и ее вполне можно было бы принять за дочь Квинтиллия.
Мы сидели в саду, благоухающем цветами, Клаудилла играла в мяч со своей няней.
— Ну как наши дела, Гиппо, — тихо спросила меня Клаудиа. — Он ведь встает высоко, когда ты трезв?
Я подумал, что, вероятно, ослышался, потому что уже в следующее мгновение раздался ее громкий голос:
— Тебе надо повыше подбрасывать мяч, Клаудилла, иначе твоя няня его не поймает.
Я решил сделать вид, что ничего не слышал, и сказал:
— Клаудилле идет на пользу диета и лекарство, которое я дал. Кажется, сил у нее прибавилось.
Клаудиа улыбаясь кивнула и прошептала:
— У тебя тоже, Гиппо. Тебе не стоит слишком много пить, иначе все потеряешь. Ты уже побывал в окрестностях Рима? Знаешь Остию?
— Нет, то есть да. Мы видели ее издали, когда заходили в гавань.
Она кивнула:
— Да, Остия — прекрасный городок. Недавно тетя оставила мне там в наследство маленький дом. Он стоит пустой, и нужно прибрать его, чтобы продать или сдать. Мм могли бы там увидеться.
Интересно, что за этим кроется? Я не мог забыть предостережений Протарха, и от этого испытывал неловкость.
— У тебя такой вид, как будто ты лимон съел. Что с тобой? Я тебе не нравлюсь?
— Конечно, ты мне нравишься, Клаудиа, даже очень. Но, — тут я несколько сгустил краски, — ты себе представить не можешь, как все строго у нас при дворе. Мы служим царице, а ее слово закон. Здесь, в Риме, она ничему не доверяет. О каждом своем шаге мы должны докладывать ей или кому-нибудь из вышестоящих. Во всем ей видится политика.
Большие удивленные глаза взглянули на меня:
— Но нам ведь нет никакого дела до политики, Гиппо. Ты врач, я простая женщина, нам просто приятно быть вместе, и ничего больше.
— Ну да, — вяло согласился я. Ну о чем тут было говорить? Клаудиа волновала меня. Я представил себе, как расширяются ее глаза на вершине желания, как она стонет и обнимает меня. Уже от одних мыслей фаллос мой взволновался, и я заерзал на месте, опасаясь, как бы она не заметила этого.
— Что с тобой, Гиппо?. Тебя что-то беспокоит?
— Хорошо, — сказал я, — давай попытаемся. Я скажу, что в Остии готовят ценное лекарство из рыб и водорослей, которое я хотел бы испробовать.
— Ну да! Было бы странно, если бы ты не смог ничего придумать. В следующий раз мы обсудим все подробнее.
В хорошенькое же положение я попал. Кого-нибудь все равно придется обманывать: или Протарха с царицей, или Клаудиу.
«Тебе вовсе не обязательно лгать, — нашептывал мне Эрос, или, как называют его римляне, Амур. — Скажи, что ты отправляешься в Остию, поищи и правда там лекарства, а встреча с Клаудией произойдет как бы случайно, как будто ты ничего не знал заранее».
Я последовал совету бога любви, а Протарх проявил большое понимание.
— Хорошо, Гиппо, возьми самого лучшего коня и спокойно отправляйся. Я понимаю, тебе здесь скучно: ни больных, ни женщин…
Он дружелюбно усмехнулся, и его суровое лицо смягчилось. Интересно, сколько ему было лет? Я никогда не отваживался спросить его об этом, но он служил при дворе еще во времена Авлета.
— Ах, — заметил я, — хвала богам, что у нас нет больных. А что касается женщин — тут на каждом углу лупанарий. Тот, у кого есть деньги, может запросто совершить здесь путешествие вокруг света.
— Я что-то не совсем понимаю…
— Там есть гречанки, сирийки, еврейки, девушки из Азии, Германии, Галлии, Испании, да, даже из Африки. В Риме живет множество народностей, но особенно это чувствуется в лупанарии.
— Я не особенно в этом разбираюсь. Мне еще никогда не требовались проститутки. Ну хорошо, Гиппо, я сообщу царице о твоем отъезде. Вообще, к празднику Марса в конце мая в Рим вновь возвращается Марк Антоний. Царица хотела бы устроить в его честь симпосий. Некоторое время он был у Цезаря в немилости, однако тот, кажется, намекнул нашей царице, что они оба хотят помириться. «Цезарь о нем очень высокого мнения», — обмолвилась как-то Клеопатра.
— А из-за чего вышла ссора?
— Ах, ты же знаешь, оба они очень своенравные и упрямые — только Цезарь хитрее.
— И он иногда уступает.
— Так и есть, Гиппократ.
Один или два дня спустя отмечался праздник, посвященный Юпитеру Олимпийскому, на котором присутствовал и Цезарь. На этот раз император решил предстать при всех своих регалиях — такое редко бывало.
Легионеры оцепили Виа Сакру, по которой он проезжал: император и диктатор, в пурпурной мантии победителя. На почти лысой голове его сверкал золотой лавровый венок. Перед ним шагали двадцать четыре ликтора со своими ужасными фасциями
[47], в некоторых из которых торчали топорики. Их окружали трибуны в великолепных одеяниях. И посреди всей этой процессии серьезно и скромно — не знаю, как ему это удавалось, — выступал Цезарь. За ним, окруженный жрецами и весталками, шагал Великий понтифик — тогда эту должность занимал Гай Октавий.
К храму подвели двух белых быков, предназначенных в жертву верховному богу. Гай Октавий выглядел довольно тщедушным: среднего роста, худощавый и бледный. Но черты лица его были правильными и красивыми и свидетельствовали о большом чувстве внутреннего достоинства. Странно, что ни один пророк не смог как следует разглядеть этого болезненного человека и никто не воскликнул: «Вот шествует будущий владыка мира!»
На этом празднике наша царица в первый и единственный раз открыто появилась перед всеми, когда ее приветствовал сенат на Капитолии. Потом она снова не покидала Сады Цезаря, так что со временем все забыли, что она живет по ту сторону Тибра и при дворе ее почти две сотни человек, что довольно расточительно. Такие скромность и сдержанность давались ей нелегко, но она как умная женщина не хотела играть на руку противникам Цезаря.
Следующий мой визит к Квинтиллию был совсем коротким. Я осмотрел малышку, нашел, что все в порядке, и выпил с супругами из вежливости бокал сильно разбавленного вина. Клаудиа вышла проводить меня и успела шепнуть день и час нашей встречи в Остии.
Правильно ли я ее понял? Дом находится недалеко от храма Нептуна, напротив лавки торговца фруктами и вином Марсия.
«В таком маленьком городке, как Остия, я легко ее найду», — подумал я, отправляясь в путь в назначенный день. Шестнадцать римских миль до Остии я преодолел довольно быстро. Но когда показались первые дома, передо мной открылась неожиданная картина. Со стороны моря город выглядел довольно маленьким и скромным, Я и не подозревал, что на самом деле он растянулся на добрую милю. Правда, строения здесь были не такие величественные, как в Риме, и не выше двух этажей.
Не очень широкая главная улица пересекала город с востока на запад, сворачивала к югу и оканчивалась у гавани. Вокруг царило оживление. В толпе гораздо чаще латыни слышалась разноязыкая речь, потому что здесь жили и работали сирийцы, греки, евреи, галлы, африканцы, жители Азии и разных ближних и дальних провинций.
Мою плохую латынь понимал здесь не каждый, и все отвечали по-разному. Храм Нептуна находился то в гавани, то около Форума, а то на юге города. Я кружил по улицам и переулочкам, ведя под уздцы свою лошадь, и был близок к отчаянию. Уже под вечер я отыскал скромный храм Нептуна в гавани, где рыбаки, мореходы и все, кто связан с морем, приносят этому богу свои скромные жертвы.
Голодный и усталый, я забрел в ближайший трактир, выпил две кружки неразбавленного и довольно кислого вина и попросил поджарить мне кусок мяса. Когда хозяин принес мне его, я спросил, не знает ли он Марсия? Усмехнувшись, он кивнул в угол:
— Вон он сидит, пропивает свою дневную выручку.
Я поскорей проглотил мясо и подошел к столу.
— Марсий?
— Я Марсий, — хрипло сказал он. — Что тебе нужно?
Конечно, он знал пожилую даму, которая несколько лет
была у него постоянной покупательницей.
Я сделал вид, будто собираюсь купить дом, но он стал отговаривать:
— Даже если я лишусь будущего покупателя, я тебе не советую. Гавань в Остии мелеет, и с этим ничего не поделаешь. Большие грузовые суда вынуждены вставать на якорь далеко в море, так что разгружать их довольно сложно. Правда, здесь не все связано с морской торговлей и мореплаванием. Какая-то часть города может прекрасно обойтись и без гавани. Но это все уже не то.
Марсий проводил меня к нужному дому. Нигде не было видно ни огонька, и я уже подумал, что Клаудиа решила вернуться домой.
Я переночевал в трактире — в виде исключения, как сказал хозяин — на ужасно неудобной скамье. Наутро я захотел еще раз взглянуть на дом.
Уже издалека я увидел, как она выходит из носилок и слуга помогает ей открыть дверь. Потом она отослала его и скрылась в доме. Я не спеша направился туда, оглянулся по сторонам, распахнул дверь и услышал чей-то приглушенный крик.
— Клаудиа?
— Гиппо?
Мы шепотом обменялись парой фраз, и: я узнал, что она ждала меня с шести до двенадцати, а потом отправилась переночевать к родственникам, потому что боялась оставаться в пустом доме.
— Тебе надо было сказать мне, что здесь целых три храма Нептуна…
— Но всего один Марсий, — возразила она.
— Я нашел его только к вечеру.
Мы взглянули друг на друга и рассмеялись.
— На этот раз Амур нам не помог. Сегодня уже слишком поздно, вот-вот вернется мой слуга.
— Отошли его и скажи, что за это время нашла покупателя и будешь ждать его после
полудня.
— Меня ждали дома еще вчера вечером. Квинтиллий отправит посыльного, а мне не хочется рисковать. Но через две недели он поедет на денек в наше поместье, тогда мы поищем какое-нибудь укромное местечко в Риме. Придумаем что-нибудь — слышишь, неудачливый любовник? И не смей ходить к проституткам. Сбереги для меня свою силу, она тебе еще понадобится…
Меня вновь удивила откровенность и даже некоторая вульгарность Клаудии, когда мы оставались наедине. В обществе она вела себя гораздо сдержаннее и казалась воплощением древнеримских добродетелей женщины.
Между тем все неправдоподобнее казалось, что Квинтиллий выставляет свою соблазнительную жену в качестве приманки. Тогда он вряд ли бы выбрал Остию — в Риме было бы гораздо удобнее.
Итак, мы расстались. На ближайшем рынке я узнал, где здесь хорошая лекарственная лавка, и купил там что-то не выбирая. Впрочем, Протарх все равно не стал бы этим интересоваться.
Врач, он же и аптекарь, — сириец лет пятидесяти — прекрасно говорил по-гречески и вступил со мной в разговор. Речь зашла о проблеме обезболивания и об опасностях, которые с этим связаны.
— Все дело только в дозировке, — утверждал сириец, — и именно поэтому большинство врачей считают мандрагору, которую издавна использовали греки, опасным снадобьем. Когда усыпляешь человека, чтобы он ничего не чувствовал даже при длительной и болезненной операции, каждый раз при этом рискуешь его жизнью, потому что все обезболивающие средства — это яды. Одна и та же доза в одном случае может быть слишком мала, а в другом — слишком велика.
Я рассказал о различных обезболивающих средствах, которые применяют в Египте, но все они были ему незнакомы, за исключением мандрагоры.
— А что бы ты посоветовал? — спросил я тогда.
— Здесь применяют мак. Его головку срезают, пока семена еще не поспели, и получают из нее молочко — меконий. Затем его варят — чем дольше, тем гуще оно становится и тем сильнее действует. Но и здесь нужно быть очень осторожным. Немного превысишь дозу — и твой пациент уснет вечным сном.
Я уже слышал кое-что об этом снадобье. Но в Александрии его почти не использовали — слишком дорого и сложно было его приготовить. Сириец рассказал мне, какими должны быть дозы для здоровых и ослабленных пациентов, для детей и взрослых, молодых и тех, кто постарше. Я купил его так много, что аптекарь дал мне его еще бесплатно на пробу.
— Если его в небольшом количестве смешать с медом, получится поистине живительная влага. Он действует почти как вино, но на следующее утро голова не болит, нет никакой тошноты и неприятного вкуса во рту.
Я попробовал предложенную ложечку, поначалу ничего не почувствовал и сел на коня. Постепенно меня охватило легкое окрыляющее чувство, как бывает, когда выпьешь немного вина, но еще не опьянеешь. Дорога домой промелькнула как одно прекрасное мгновенье. Но когда я прибыл в Хорта Кайзариа, все прошло, и я храбро принял вторую дозу.
Два дня спустя мне представился случай опробовать это снадобье на моем пациенте. Один из офицеров личной стражи Клеопатры еще в Александрии был известен как азартный возничий. Не было таких скачек, в которых бы он не участвовал. С позволения Клеопатры он и в Риме не расстался со своим увлечением и даже завоевал несколько призов в Большом Цирке. Неизвестно, что послужило причиной несчастья. Во всяком случае, он на полном ходу вылетел из повозки и попал при этом под колеса трех или четырех мчавшихся сзади колесниц. Ноги у него были поломаны в нескольких местах и удерживались только на сухожилиях.
Он испытывал ужасные страдания, и я не видел никакой возможности сохранить ему ноги. Я посоветовался с придворным врачом и римским лекарем. Оба они считали, что я совершенно прав. Тогда я приготовил все необходимые инструменты и дал несчастному дозу мекония, достаточную для взрослого. Он почти сразу уснул. Операция прошла довольно быстро.
До сих пор я не знаю, отчего умер этот офицер: от потери крови или от того, что доза оказалась для него слишком большой. Во всяком случае, к вечеру он был мертв. Царица считала, что это было для него лучше, чем влачить потом жалкую жизнь калеки. Но кто знает, может быть, несчастный предпочел бы все же остаться живым, хотя и без ног.
Глава 8
Начало римского месяца мая было отмечено обильными ливнями. Все вокруг были рады этому, потому что римляне до сих пор остаются земледельцами, и вряд ли найдется состоятельная семья, у которой бы не было поместья. А мы, египтяне, только мерзли и мокли и старались поскорее проскользнуть по улице. Странно — в Александрии я никогда бы не назвал себя египтянином, не то что здесь — может быть, это отличало нас, александрийских греков, от других наших соплеменников, которые собрались здесь из самых разных стран.
Клеопатра изменила свои планы: может быть, она получила на этот счет какие-нибудь указания. Она не стала устраивать праздник в честь Марка Антония, а приняла его неофициально, в своем доме, в кругу друзей.
Мое первое впечатление от него было двояким. С самого начала этот тридцатипятилетний человек показался мне грубым, воинственным, настоящим служителем Марса, сурово бряцающим оружием. Но когда я услышал его речь, мнение мое изменилось. Он был обаятельным и остроумным собеседником, хорошо говорил по-гречески и в шутку называл себя «римским героем в тени Цезаря». Видимо, в юности у него был сломан нос, и теперь у основания осталась заметная горбинка, его волевой подбородок отчетливо выдавался вперед, а узкий рот был мягким и чувственным, как будто боги специально собрали в его облике столько противоречивых черт. Однако он был мужественно красив, а когда улыбался — что он делал часто и охотно, — то становился очень привлекателен. Весь Рим говорил в то время о его недавней третьей женитьбе на Фульвии, для которой это замужество также было третьим. Эта женщина пользовалась в Риме дурной славой, ее считали алчной, властолюбивой и расчетливой. И многие римские матери полагали, что их собственные дочери были куда более достойны выйти замуж за этого героя Рима.
О своей размолвке с Цезарем он говорил совершенно открыто и при этом добавлял, что находился тогда под влиянием его противников, а теперь понял свою неправоту и хотел бы примирения.
— Я говорю это вам, грекам из Александрии, — обратился он к нам, — перед лицом вашей царицы, не в угоду ей или вам, но пусть боги подтвердят мою искренность: Рим никогда не видел более великого человека, чем Юлий Цезарь. И если я говорю, что стою в его тени, то я хотел бы продолжить, что каждый только стоит в тени этого великого человека, который сделал для Рима больше, чем все цари, консулы и» полководцы за семьсот лет, прошедших со времени основания города.
Клеопатра захлопала в ладоши и засмеялась.
— Рим заслужил такого человека, — ответила она.
Спустя несколько дней я услышал о Цезаре нечто настолько противоположное, что казалось, речь идет о двух разных людях. Это неожиданное высказывание исходило от Луция Квинтиллия, который до этого никогда не говорил о политике.
Он прислал за мной, потому что Клаудилле снова стало плохо после еды. Потом оказалось, что девочка просто объелась: заботливые родители, не доверяя моим советам, давали ей не только все, что она захочет, но и столько, сколько она съест.
— Теперь к ней снова вернулся аппетит, и вам, родителям, придется немного сдерживать ее, потому что дети, когда им что-то нравится, часто переоценивают возможности своего желудка.
Когда мы потом вышли в атриум, Квинтиллий попросил жену:
— Клаудиа, не оставишь ли ты нас вдвоем на полчасика? Я хотел бы заняться с Гиппократом тем, что до сих пор пытался избежать, а именно поговорить о политике.
Шел дождь, поэтому мы расположились под навесом. Слуга поставил перед нами изящный столик с кувшином вина.
— А теперь послушай, — обратился ко мне хозяин дома. — Мы будем говорить без свидетелей, потому что в случае чего я заявлю, что ни о чем с тобой не говорил. Некоторые из моих клиентов — вольноотпущенные — перед судом подтвердят, что в это время я был где-нибудь в другом месте.
Он усмехнулся, и все его притворное простодушие исчезло. Теперь он скорее напоминал волка в засаде. Но потом он успокаивающе похлопал меня по плечу:
— Но до этого не дойдет, потому что вскоре ситуация так или иначе разрешится. Я думаю, пришло время раскрыть карты и рассказать тебе о Юлии Цезаре. Это великий или, вернее, был великий человек, защитник и хранитель Рима. Но диктатура вскружила ему голову, и теперь он может послужить причиной гибели Рима. Ты видел его несколько раз и даже, говорят, беседовал с ним в Александрии. Он, конечно, произвел на тебя впечатление. Но теперь, после победы в Испании, изобилия почестей и титулов, Цезарь перестал ориентироваться в обстановке, утратил чувство меры и умение владеть собой — те республиканские добродетели, за которые мы все его уважали. Теперь он почти не снимает своей пурпурной мантии, позволяет чествовать себя как полубога, а недавно он даже заявил: «Республика — это ничто, всего лишь имя, без ощутимого облика».
Ты служишь при дворе в стране, где вот уже три тысячелетия правят цари. Поэтому ты, вероятно, даже не подозреваешь, каким гибельным это может оказаться для Рима, которым издавна управляли сенаторы и народ. Сенат как покорная собака прислушивается к словам своего господина. До недавних пор я тоже был с ними, я признаю это. То, что Цезарь собирается жениться на вашей царице, — это просто глупый слух, ни один разумный человек не поверит этому. Но что нашла в нем Клеопатра — он ведь на тридцать лет старше ее? Он использует женщин, как в театре используют гладиаторов. Каждую, кто ему понравится, он не стесняясь затаскивает в постель. Ему все равно, замужем она или нет. Хочешь услышать имена? Это прекрасная Постумия, замужем; совсем молодая Лоллия, замужем; немного полноватая, но соблазнительная Тертулла, жена сенатора Марка Красса. Он не побоялся даже овладеть Мусией, женой своего врага Гнея Помпея — а может, именно это и послужило причиной их вражды. Он до безумия увлекся Сервиллой, матерью сенатора Марка Брута, и подарил ей громадную жемчужину стоимостью в шесть миллионов сестерций. Брут с тех пор несколько настороженно относится к нашему диктатору. Еще имена? Я назову тебе только некоторые. Это темнокожая, но необычайно красивая царица Евное из Мавритании. Ее супруга из политических соображений вежливо удалили, когда Цезарь увлек ее к себе в палатку во время своей африканской кампании. Но, впрочем, довольно. Ведь Цезарь обращает внимание не только на женщин. Еще совсем молодым, во время своего первого военного похода, он забрался в постель к царю Никомеду. Слухи? Это все уже настолько общеизвестно, что наш великий, но, к сожалению, рано умерший поэт Гай Валерий Катулл
[48], который вовсе не был противником Цезаря, сочинил в насмешку стихотворение. Хочешь послушать? Я немного его помню.
Словно два подлеца развратных спелись,—
Хлыщ Мамурра и любострастник Цезарь!
Что ж дивиться? Обоих тоги в пятнах —
Тот в столичной грязи, а тот в формийской.
Пятна накрепко въелись, их не смоешь.
Хворь одна у двоих: они — двояшки.
Спят в постельке одной. Учены оба!
В каждом поровну тать и соблазнитель.
На девчонок идут единым строем.
Словно два подлеца развратных спелись!
[49]
Довольно грубо — не правда ли? Но тогда в Риме подобные стихи рассказывали повсюду. Цезарь, как всегда, поступил очень умно: он удалил своего избранника из Рима, а Катулла простил и в знак примирения пригласил на симпосий. Ты спросишь, какое отношение все эти истории имеют к политике?
Давай остановимся на женщинах. Тут, видимо, наибольшее внимание привлекла к себе история с Клеопатрой. Заставляет задуматься тот факт, что Цезарь публично признал своим ее сына. Он мог бы сохранить это в тайне. Но когда такой человек, как Цезарь, делает что-то перед всем миром, с этим непременно связаны какие-то политические интересы. Я вижу твой вопросительный взгляд. Так вот, этому есть только одно подходящее объяснение: согласно его замыслам, Цезарион должен стать основателем династии. Он хотел бы жениться на Клеопатре по египетскому обычаю. Конечно, здесь это не считалось бы законным. Но тем не менее это был бы венец всей его жизни — Владыка мира! Диктатор Рима и всех его провинций, владыка Востока и Запада, включая Испанию, как формальный фараон также и владыка Юга до истоков Нила. Если они присоединят еще потом Каппадокию, Армению, Палестину, Нумидию и Мавританию, то им будет подвластен весь наш цивилизованный мир. И кто тогда сможет ему помешать надеть корону на свою лысую голову? Кто?
— Ты мог бы гордиться, что римлянин пошел так далеко, — возразил я.
Он покачал головой.
— Мы не желаем быть подданными одного царя, а хотим определять свою судьбу совместно с консулами, сенатом, патрициями, плебеями и римским народом. Цезарь должен с этим считаться, нравится это ему или нет. Во всяком случае, было бы неразумно не прислушаться сейчас к голосу народа. Можешь сообщить все это своей царице. Но имей в виду, что так считаю не только я, но и сенат с народом.
— Такое доверие — для меня большая честь, Квинтиллий…
Он поднял руки.
— Ты врач и друг дома. Ты можешь намекнуть своей царице, что, если Цезарь не станет умереннее, его вполне могут свергнуть. И тогда у нее не окажется здесь ни одного сторонника и Египет вскоре станет еще одной римской провинцией. Там уже стоят наготове три римских легиона.
— Они находятся под командованием Цезаря.
— Пока еще да, но ведь не навсегда.
Мне не удалось еще раз увидеть Клаудиу. К тому же я торопился поскорее сообщить царице все, что здесь услышал.
Я не стал называть никаких имен, тем более что половину из них сразу же забыл, упомянул только о царице Евное.
Она презрительно покачала головой:
— Меня совершенно не волнует, что там было у Цезаря с маленькой провинциальной правительницей. Меня, а не ее он вызвал в Рим, и не с Мавританией, а с Египтом он заключил договор о дружбе. Все это только мрачные наговоры его недоброжелателей. Если бы народ не любил его, разве стали бы устраивать в его честь театральные представления и гладиаторские бои? И почему же тогда сенат продлил его диктатуру на десять лет и осыпал его почестями? Передай своему Квинтиллию, пусть он рассказывает эти сказки своей дочке, а взрослых оставит в покое.
На этот раз политическая дальновидность оставила Клеопатру… Но это можно объяснить тем, что она жила в Риме довольно изолированно и общалась только с Цезарем и его друзьями.
Конечно, я был на стороне Клеопатры и испытывал к Квинтиллию что-то вроде презрения. К тому же мне казалось, что это как-то оправдывает то, что я его обманываю.
Я зашел к нему снова за два дня до его отъезда и сказал, что царица очень благодарна ему и как следует обдумает сложившуюся ситуацию. У меня была к нему одна просьба. Я почти каждый день бывал в городе на театральных представлениях, гладиаторских боях или конных состязаниях. И каждый раз мне приходилось уходить с них пораньше, потому что до Садов Цезаря ехать было довольно далеко. Нет ли у него в конторе какого-нибудь места, где можно было бы иногда переночевать. Я почти сразу пожалел о своей просьбе. Его лицо светилось дружелюбием и доброжелательностью.
— Ну конечно, Гиппо, у меня есть меняльная лавка в переулке за храмом Цереры. Там работает один из моих вольноотпущенных. Из предосторожности он запирает ее за" полчаса до захода солнца. Ночью там довольно спокойно. Каморка, конечно, убогая, но для сна подойдет.
Когда я рассказал об этом Клаудии, она звонко рассмеялась.
— В делах его никто и на сестерций не может обмануть, а тебе он позволил так его одурачить.
Мне стало неловко.
— Но откуда он мог бы узнать?..
— Меня проводит моя старая рабыня, — громко продолжала она, не обратив внимания на мой вопрос. — Она единственная, кому я могу довериться. Остальным я скажу, что переночевала у подруги — да, так и сделаем.
В Александрии солнце греет ровно и спокойно. Даже в июле и августе жару часто смягчает прохладный морской ветер. В Риме все иначе. Не успели утихнуть майские ливни, как на смену им пришел июньский зной. Утренний прохладный воздух очень быстро нагревался, так что наши первые любовные встречи были и в прямом смысле очень жаркими. Но что может помешать двум влюбленным?
Маленькая таверна за храмом Цереры действительно оказалась довольно убогой. Крохотная меняльная лавка выходила на улицу, за ней был узкий длинный проход, где стояла неопрятная кровать, рядом с ней кувшин с водой, на табуретке лежал какой-то прогорклый сыр и кусок заплесневевшего хлеба.
К счастью, я пришел немного пораньше, наполнил кувшин свежей водой из ближайшего фонтана, выбросил сыр и поправил дырявое покрывало. Впрочем, это почти ничего не изменило. При свете коптилки все вокруг казалось каким-то нереальным.
Вдруг скрипнула дверь, и в каморку тихонько проскользнула Клаудиа. Она сбросила укрывавший ее плащ и предстала передо мной совсем юной девушкой, задыхающейся и возбужденной. Стола и туника упали к ее ногам, и неверный свет коптилки, казалось, ласкал ее прекрасное тело. Одежды сами спали с меня, мы бросились на кровать и слились в объятии…
Когда Клаудиа разбудила меня, занимался рассвет. Мы наскоро уничтожили следы нашей бурной ночи. Снаружи Клаудиу уже нетерпеливо ожидала старая рабыня. Они исчезли в лабиринте переулков, а я побрел к конюшням возле моста Субликиус. Там я взял своего мула и в какой-то полудреме поехал вдоль Тибра к Садам Цезаря.
Там у фонтана я наткнулся на Птолемея, который состязался со своей стражей в стрельбе из лука. Он выглядел усталым и недовольным. Я поклонился — впрочем, не так низко, как Клеопатре. Перед этим призрачным правителем никто не склонялся слишком низко.
— Ваше величество, прости, что я мешаю, но у тебя нездоровый вид. Ты плохо себя чувствуешь?
— А, Олимп, личный врач моей благородной супруги.
Он всегда называл меня этим прежним именем и ясно
показывал, как недоверчиво относится к новому кругу друзей Клеопатры.
— Я не то что нездоров, я болен! Вот уже несколько дней у меня жар, но врач не знает, в чем дело.
Я ничего не сказал насчет его врача, который больше полагался на магию, а в современной медицине понимал не больше, чем какой-нибудь помощник лекаря.
— Если ты позволишь, я осмотрю тебя.
— Да, ты можешь это сделать? — язвительно спросил он. — Или тебе надо сначала спросить разрешения у моей светлейшей супруги?
— Надо ли мне это сделать?
— Ну, я не знаю, — неуверенно ответил он и сразу превратился в растерянного ребенка.
— Давай пойдем в дом.
У него действительно был жар, не очень, правда, сильный. Но при этом у него ничего не болело, и он жаловался только на постоянную усталость.
— У тебя просто малярия. Местные врачи советовали избегать тех районов города, которые лежат в низине, потому что там скапливается болотный воздух, вызывающий лихорадку. Но к тебе это не может иметь отношения — ты ведь никуда не выезжал из Садов Цезаря?
— Нет, только однажды, с милостивого позволения моей супруги. Антоний пригласил меня на симпосий в свой дом у Палатина — он устроил его только для мужчин, вот было здорово! Там я почувствовал, что я правитель Египта, а не просто какой-то довесок к моей супруге.
— Твой недуг называется тоска. Он вызван просто скукой. Когда мы вернемся в Александрию, ты снова будешь здоров.
Он поднялся.
— Если бы мы только вернулись! На меня возлагают надежды сторонники моего умершего брата. Они хотят, чтобы Египтом, как повелось издавна, правил царь. Конечно, вместе с супругой, но она стоит на втором месте. И поверь мне, Олимп, так и будет, если только мы уедем наконец из этого проклятого Рима.
— Ты не боишься, что я передам этот разговор царице?
Он хитро улыбнулся.
— Но как раз этого я и хочу! То, что я тебе сейчас сказал, она и так слышала от меня. Она мне даже не возражала, а только сказала: «Посмотрим».
— Да, из Александрии доходят плохие вести, — подтвердил Протарх, когда я заговорил с ним об этом. — Хотя Мардион еще контролирует положение, но существуют круги, которые поддерживают Птолемея — теперь, после его совершеннолетия. Правда, четырнадцатилетний мальчик во многом еще совсем ребенок, и им легко можно управлять. При Клеопатре его сторонникам вряд ли что-нибудь светит, поэтому они возлагают большие надежды на юного царя. Я посоветовал царице возвращаться в Египет, а Птолемея оставить здесь под присмотром Цезаря. Но она считает это полумерой и, кажется, ждет какого-то решения, о котором пока и мне ничего не говорит. В крайнем случае я поеду в Александрию, чтобы самому наблюдать за ситуацией.
Цезарь бывал у нас довольно часто, однажды он пришел даже вместе с Марком Антонием и Гаем Октавием. Но я как личный врач в этих встречах не участвовал и нимало не страдал от этого. Чем меньше теперь на меня обращали внимания, тем было лучше, потому что как раз в это время я был озабочен поисками удобной квартиры для нас с Клаудией. В хорошем районе они сдавались так дорого, что я решил делать вид, будто собираюсь купить квартиру, но прежде хотел бы пожить в ней несколько дней за небольшую плату. Таким образом я смог бы довольно часто менять квартиры — это было бы более безопасно.
Для начала я выбрал небольшую изысканно обставленную виллу в Викус Фабриции, недалеко от дома Клаудии, однако в таком районе, где ее никто не знал. Я никогда не расспрашивал ее, какие объяснения находит она для того, чтобы отлучиться из дому. По-моему, она не особенно соблюдала осторожность, так что даже постоянно занятый Квинтиллий в конце концов заметил бы нашу связь.
После нашей четвертой или пятой встречи на вилле я предложил сменить квартиру.
— Но ведь здесь так удобно! — капризно надула губки Клаудиа. — Пока Квинтиллий не уехал, я, конечно, не могу уходить из дома на ночь, но существуют тысячи отговорок, чтобы исчезнуть на несколько часов днем.
Тогда я сговорился с хозяином, что поживу у него «на пробу» десять дней и прибавил ему еще несколько динариев сверху. В Сады Цезаря я ездил через день, но там не особенно во мне нуждались.
Цезарь уехал в Испанию еще на два месяца. Когда он вернулся в конце лета, то не стал скрывать от сената и народа своих замыслов. Он хотел возвести храм Марса невиданной величины, где можно было бы разыгрывать морское сражение. Он планировал также создать латинские и греческие библиотеки и устроить большой театр у подножия Тарпейской скалы. Он собирался осушить Понтийские болота, вызывавшие лихорадку, провести дорогу через Апеннины от Адриатического моря до Тибра, расчистить от песчаных заносов гавань в Остии и прорыть канал через Коринфский перешеек — то, что намеревались сделать многие правители до него, но никому еще это не удалось.
Спустя некоторое время бдительный Протарх заметил мое отсутствие.
— Мне кажется, что с некоторых пор ты чаще бываешь в Риме, чем здесь. Это связано с какой-нибудь женщиной, или ты себя не щадишь, чтобы добыть для нашей царицы побольше сведений о настроениях в народе? — спросил он слегка насмешливо.
Я попытался отделаться ничего не значащим объяснением:
— И то и другое, досточтимый Протарх. Я познакомился с одной молодой вдовой, которая служит в доме у Сервилия. Ты знаешь: это старинный род патрициев. Женщина она очень разговорчивая, и таким образом я очень много узнаю. Судя по тому, что я слышу, положение Юлия Цезаря становится все более неблагоприятным.
— Тебе только так кажется, — хитро улыбнулся Протарх. — У тебя односторонние сведения. Из других источников мне известно прямо противоположное.
Я сам поразился тому, как легко я солгал. Конечно, род Сервилиев очень известен, но он так разветвлен, что вряд ли Протарх решит меня как-то проверить.
— Вообще же, тебя хотела видеть царица. Но дело не такое спешное. Она будет ожидать тебя завтра днем около четырех.
На следующий день я остался в Садах Цезаря. Я сгорал от любви и с беспокойством ждал встречи с царицей. В последнее время я видел ее редко и мне казалось даже, что она исключила меня из числа своих приближенных друзей. Впрочем, я был так влюблен, что меня это мало заботило. Я даже подумывал о том, чтобы оставить службу у Клеопатры и навсегда поселиться в Риме.
Царица встретила меня очень благосклонно и сама заговорила о наших отношениях:
— В последнее время тебе, вероятно, кажется, что царица рассердилась за что-то на своего врача и отдалила его от себя. Это совсем не так, дорогой Гиппо. Но сейчас положение таково, что нам приходится скрываться ото всех, даже от друзей. К Цезарю и его приближенным приковано всеобщее внимание, ничто не остается незамеченным. Нам постоянно приходится прибегать к хитрости и обману, потому что Рим, в отличие от Александрии, открытый город. То, что легко утаить в закрытом Брухейоне, в Риме быстро выходит на свет, потому что диктатор должен отчитываться перед народом и сенатом.
Ну а теперь о другом. Как человек, близкий Цезарю, как мать его сына я могу стать мишенью для отравленных стрел его врагов. Там, где не смогут поразить его, попытаются поразить меня. Не то чтобы я боялась, но было бы неразумно не предусмотреть этого. С тех пор как мы приехали, мне приходят подарки — как правило, от его сторонников, которые таким образом заискивают перед ним или пытаются извлечь для себя какие-нибудь выгоды. Один из секретарей Цезаря проверяет эти дары и устанавливает, от кого они получены. В последнее время мне присылают очень дорогие подарки: елей, изысканное вино или редкие кушанья. При этом отправитель иногда не назван или оказывается вымышленным. Я хочу, чтобы ты определил, не отравлены ли эти подношения.
— Но как я должен это сделать, царица?
— Очень просто: Цезарь прислал мне пятерых добровольцев. Это приговоренные к смерти преступники. Таким образом у них появляется возможность сохранить жизнь. Ты опробуешь на них эти подарки и по возможности установишь, что за яд в них использован.
Не сказать, чтобы меня очень порадовало это задание, особенно теперь, когда в Риме меня с нетерпением ожидала возлюбленная. Я отправил посыльного с сообщением, что в ближайшие дни не смогу увидеться с Клаудией, ибо дела требуют моего присутствия при дворе. Я строго наказал посыльному передать это известие только хозяйке дома. Мне не хотелось возбуждать недоверие Квинтиллия.
Трое из приговоренных были обычными жалкими бездельниками, которые по какому-то недоразумению оказались замешаны в тяжких преступлениях — убийстве, разбое, осквернении храма. В последнем случае смертью каралось любое преступление: как раскрашивание статуи бога, так и ограбление храма. Двое других были довольно знатными горожанами, но плебеями. Они совершили преступление против патрициев: один изнасиловал дочь какого-то сенатора, другой, повздорив с чьим-то богатым сынком, ударил его и случайно убил.
Мои познания о ядах были невелики и основывались на опыте, который я приобрел в Сиене: укусы ядовитых змей и скорпионов.
Местом проведения теперешнего печального эксперимента была выбрана какая-то кладовая, вырытая в одном из холмов за тенистой сосновой рощей. Осужденные сидели со связанными руками на полу, за каждым из них стоял стражник. Нам предстояло опробовать вино, инжир, вяленое мясо и проверить несколько видов елея.
Первую кружку благородного вина, вроде бы не вызывающего никаких подозрений, я предложил человеку средних лет, который держался очень спокойно и, видимо, совершенно случайно угодил в такой переплет. Печать на кувшине на вид была совершенно целой. На ней было вытеснено «698», таким образом, поскольку сейчас шел 708-й год, вину было десять лет. Я не представлял, как можно было ввести яд в сосуд, который был запечатан так плотно и так давно.
Тем временем другой осужденный разделся до пояса, чтобы опробовать различные сорта елея. При третьей пробе его кожа медленно покраснела. Он в испуге вытаращил глаза, начал стонать и жаловаться. Я приказал смыть отравленный елей вином, но это не помогло, и его увели. Увидев такое, остальные стали отказываться что-либо пробовать, и приходилось заставлять их силой. Однако все оканчивалось благополучно. Выбранный мной осужденный попробовал благородное вино и одобрительно причмокнул:
— Превосходное вино, из тех, что предназначено для царей или сенаторов.
Он выпил кружку и попросил наполнить ее вновь.
— Не лучше ли сначала немного подождать… — попытался я предостеречь его.
— Зачем? Со мной ведь ничего не случилось. И я смогу рассказывать потом, что пробовал вино, которое пьет Клеопатра.
Выпив третью кружку, он вдруг схватился руками за живот, подпрыгнул, упал на пол и изогнулся так, будто лежал на раскаленных углях. На губах его выступила кровавая пена, глаза закатились, и через несколько минут он умер.
Трое остальных преступников благополучно пережили испытание, смеялись, шутили и не выказывали никакого сострадания к своему собрату, только что умершему в мучениях на их глазах.
— Лучше бы я велел попробовать это вино вам, негодяи! — воскликнул я гневно.
— Нас ты не удостоил такой чести, — возразил мне тут же один из них. — Ты предпочел этого красавчика.
Я устыдился и вышел, ничего не ответив. До сих пор не знаю, что стало с тем несчастным, который опробовал елей. С этого времени царица отсылала все подарки назад, а продукты для ее стола доверенные люди закупали на рынках, не вызывающих подозрений. А немного спустя со мной произошло нечто, заставившее меня подумать, что фортуна повернулась ко мне спиной.
Владелец дома, который я снимал, вскоре заподозрил, что я просто использую его как дешевое место для свиданий. Этого он не мог стерпеть.
— Во имя Меркурия, покровителя всех плутов и мошенников! Многие пытались меня провести, но до такого еще никто не додумался. Спасибо, это для меня урок, но наши отношения будем на этом считать законченными.
Пока я искал новую квартиру, Клаудиа нашла новое место для наших встреч — безопасное и удобное, как нам показалось. Она велела послать за мной, объявив, что страдает от болей в области живота. «Какое-нибудь женское недомогание», — сказала она. Я попросил Квинтиллия быть рядом, потому что не хотел, чтобы меня в чем-нибудь заподозрили. Но добродушный и доверчивый тогда еще Квинтиллий только отмахнулся:
— Ты друг дома, Гиппо. К тому же личный врач Клеопатры стоит вне подозрений. Я вполне могу вас оставить…
И, не дожидаясь ответа, Квинтиллий вышел.
— Мне стыдно, — тихо сказал я, — он принимает меня как друга, а я… а мы…
— И ты ему еще сочувствуешь! — прошипела Клаудиа, взгляд ее перестал светиться любовью. — Он сам все это заварил, пусть теперь сам и расхлебывает!
Конечно, у Клаудии ничего не болело. Просто от одной из своих овдовевших подруг она узнала, что недалеко от Vicus Honoris есть небольшая купальня, где можно принимать лечебные ванны. Подруга рассказала, хихикая, что внутри есть также помещения и для других целей. Правда, цены там очень высокие, но зато можно чувствовать себя в полной безопасности.
Все оказалось именно так. Дом пропах травами и целебными грязями. Большинство приходивших сюда посетителей были озабочены только своим здоровьем, поэтому никого не удивляло, когда закутанная в покрывало женщина сходила с носилок и скрывалась в одной из задних ванных комнат.
Одну из этих дам звали Клаудиа, а в комнате ее ждал я. Цена была бессовестно высокой. Но за это хитрый владелец обещал максимум безопасности. В каждой такой специальной комнате была потайная дверь на улицу, а в углу на всякий случай стояла ванна, наполненная душистым травяным отваром.
Когда я сегодня вспоминаю о часах, проведенных с Клаудией, в нос мне всегда ударяет смесь ароматов тимьяна, лаванды, мяты и сосновой хвои.
На всякий случай мы предусмотрели план бегства. Если в дверь постучат четыре раза, Клаудиа тут же должна забраться в ванну, а я нажать на кнопку вверху на бронзовой раме зеркала. Тогда откроется узкая дверь в тесный темный проход, который ведет в чей-то заброшенный сад, а оттуда можно выйти в какой-то маленький переулочек с низенькими домами.
Впрочем, мы и так не упускали возможности использовать прекрасную травяную ванну и вовсю плескались и дурачились в ней.
Я до сих пор не могу понять, как могло произойти то, что случилось потом. Это был наш восьмой или десятый «банный день», когда снаружи вдруг четыре раза постучали. К сожалению, это произошло в тот момент, когда природа сильнее человеческого разума, когда не видишь и не слышишь ничего, и чувствуешь только страстное слияние с любимым телом.
Вместо второго предупредительного стука дверь распахнулась и в комнату ворвался разъяренный Квинтиллий в сопровождении двух солдат из городской милиции. Я спрыгнул с кровати. Квинтиллий набросил тогу на Клаудию и повел ее к выходу.
— Займитесь им хорошенько, — бросил он не оборачиваясь, — но он нужен нам живым.
Оба милиционера набросились на меня со своими деревянными дубинками. Один все норовил попасть мне в низ живота. Но я изо всех сил прикрывал руками свое мужское достоинство, так что большинство ударов приходилось на плечи, голову и грудь. Вскоре я потерял сознание от удара в висок, однако меня окатили холодной водой и быстро привели в чувство.
— Так не пойдёт, дружище, — ухмыльнулся один из истязателей, — хочешь легко отделаться. Мы свое дело знаем!
Другой громко засмеялся и обрушил град ударов на мою спину и ноги. Так как убивать меня все же было нельзя, то через некоторое время они прекратили избиение, вымыли свои окровавленные дубинки в благоухающей травами ванне, выволокли меня на улицу и бросили на спину мула, как какой-нибудь мешок. Тут я второй раз потерял сознание и пришел в себя уже только в темнице.
Глава 9
Тюрьма, где я оказался, находилась, видимо, где-то между Палатином и Большим Цирком. Из шуток надсмотрщиков я понял, что тех, кто был осужден на участие в гладиаторских боях или на схватку с животными, нужно было только перевести «через дорогу». С древних времен Рим не нуждался в палачах, потому что приговоренные к смерти умирали самыми разными способами, к удовольствию жадной до зрелищ толпы. Они погибали в сражениях с животными, потому что деревянная дубинка — ненадежное оружие против голодного льва; они изображали умирающих героев: Актеона, которого терзают собаки, Геркулеса, сжигаемого на погребальном костре, или Орфея, которого убивают вакханки. Некоторые становились гладиаторами, и тогда у них даже появлялся шанс выжить, если они убьют в поединке своего менее удачливого собрата по несчастью.
Квинтиллий рассказал властям следующую историю: врач Олимп, называемый Гиппократом, проник к нему в дом, заявив, что он может исцелить его дочь Клаудиллу. Постепенно он втерся в доверие домашних и убедил его жену Клаудиу, что от ее недомогания могут помочь лечебные ванны. Под предлогом, что хочет проверить правильность приготовления ванны, он проник в купальню и там попытался силой взять Клаудию. Владелец купальни услышал ее крики о помощи, вызвал милицию, и преступник был схвачен.
Видимо, Квинтиллий скрыл сначала, что я был личным врачом Клеопатры. Меня бросили в переполненную темницу, где в ужасной тесноте ожидали своей участи две или три дюжины несчастных — возможно, среди них были и невиновные. Я лежал там в ужасной грязи, тело мое и голова были разбиты, раны кровоточили. Мои соседи не ждали уже от жизни ничего, кроме ужасной, часто медленной и мучительной смерти, и вели себя соответствующим образом. Сильные вырывали из рук слабых заплесневелый хлеб, а с наступлением сумерек тесная камера превращалась в сумасшедший дом. Старшие насиловали младших, а тех, кто сопротивлялся, избивали, пока они не покорялись. Пока мою привлекательность портили раны, меня не трогали, но, как только они затянулись, пришла и моя очередь. Я не испытывал никакой ненависти, только бесконечный стыд и унижение, когда двое здоровенных парней схватили меня, а еще пять или шесть насели на меня сзади.
— О, — воскликнул один из них, — наконец-то можно что-то почувствовать. Все остальные задницы уже изъезжены и растянуты, как старый колесный обод.
Каждый день кого-нибудь уводили умирать в Большом Цирке на потеху толпе, и вместо него появлялись другие. Часы казались днями, а дни тянулись, точно недели. Я не знаю поэтому, как долго я пробыл в этом аду, прежде чем меня перевели в маленькую и даже довольно чистую камеру. Позже я узнал, что Протарх заметил мое долгое отсутствие, и так как он знал, что я часто бываю у Квинтиллия, то послал к нему узнать обо мне. Торговцу пришлось все рассказать, и таким образом из безвестного иностранца я превратился в политическую фигуру — ведь личный врач царицы, которая так тесно связана с Римом, это вам не кто-нибудь.
Цезарь, со своей стороны, добился, чтобы это происшествие не получило широкой огласки, потому что Квинтиллий был одним из самых влиятельных его противников. К тому же, как он сам признался мне позже, он просто не мог поверить в изнасилование. Он нанял мне опытного адвоката, которому ничего не стоило доказать, что Клаудиа и до меня много раз нарушала супружескую верность, и свидетелями этого может выступить половина Рима.
Когда этот адвокат пришел ко мне, я впервые узнал, в чем же меня обвиняют, и был просто ошарашен.
— Я изнасиловал Клаудиу? Но ведь это она приложила все усилия, чтобы сделать меня своим любовником. Еще в первый мой визит к ним она сама забралась ко мне под тунику, стоило только Квинтиллию выйти. Но как же мне быть?..
— Доказать это невозможно, — перебил меня адвокат, — но мы можем предъявить похожие случаи из жизни Клаудии и сделать из этого соответствующие выводы. В интересах обеих партий уладить это дело без суда. Наше римское право, в сущности, неплохая вещь, но не для тех, у кого нет поддержки. Тогда ты полностью во власти судей, а им тоже приказано не особенно церемониться с мелкими мошенниками, ведь театры и арены постоянно нуждаются в свежем человеческом мясе. Хороший адвокат наверняка защитит тебя от смертной казни — даже если ты убил своего отца или осквернил храм. Итак, Гиппократ, мужайся, через несколько дней я вытащу тебя отсюда.
Эти слова возродили меня к жизни. То, что я видел здесь до сих пор, заставило меня сильно усомниться в возможности выбраться отсюда живым, разве что на гладиаторскую арену или в Большой Цирк. Не все доживали до такого исхода: ежедневно от голода, насилия или других причин умирали два-три человека, которых, может быть, даже стоило назвать счастливцами.
Ужасные воспоминания об этой римской тюрьме продолжали преследовать меня в кошмарах и много лет спустя. И еще: по сей день я не могу посещать гладиаторские или звериные бои, потому что каждый раз думаю о том, что и сам чуть не стал их жертвой.
Когда мой адвокат все настойчивее стал разбирать личную жизнь Клаудии, а Цезарь намекнул Квинтиллию, что мог бы временно запретить торговлю зерном с Египтом, возникли предпосылки для компромисса. Мое дело было закрыто, а наказание мне следовало назначить в соответствии с египетскими законами. Таким образом я вновь был свободен и Протарх сразу же отчитал меня, как нашкодившего мальчишку.
— Разве не говорил я тебе с самого начала, что не следует связываться с Клаудией? Но когда член чешется, разум смолкает — не так ли?
Я не ожидал такой вульгарности от добропорядочного Протарха, но вынужден был только виновато кивнуть, поскольку он был совершенно прав.
Со страхом ждал я встречи с царицей. Но у Клеопатры, видимо, уже созрел какой-то план, потому что она отнеслась ко мне снисходительно и с сочувствием..
— Сам того не зная, ты сослужил нам хорошую службу. Этот случай ясно показал, что определенные круги почуяли выгодное дело и потеряли всякую осторожность. Теперь мы с Цезарем сможем дать им достойный отпор. Меня вовсе не удивляет то, что эта римская проститутка затащила тебя в постель. Ты молодой красивый мужчина и наверняка лучший любовник, чем старый Квинтиллий, который охотнее спит с мешком золота, чем с женой.
Я засмеялся облегченно, поблагодарил ее за сочувствие и, набравшись храбрости, спросил о том, какое наказание меня теперь ожидает. Тут она сделала строгое лицо, отчего на лбу ее появилось несколько мелких морщинок.
— А наказание я назначаю тебе следующее: ты и впредь будешь ежедневно продолжать знакомиться с Римом. При этом ты не будешь более вступать ни в какие отношения с римлянками, какое бы положение в обществе они ни занимали. Каждую ночь ты будешь проводить здесь, в Садах Цезаря. Твое дело прекращено. И тот, кто знает о нем, поостережется что-нибудь говорить, чтобы не рассердить Квинтиллия. Так что ты будешь, как и прежде, посещать театры, термы и библиотеки, регулярно ходить в сенат. Впрочем, до нашего возвращения домой осталось, вероятно, не так уж долго, но многое может измениться.
Это были пророческие слова, хотя сбылись они совсем не так, как мы этого ожидали.
Я попытаюсь коротко описать то, что привело к событию, случившемуся в мартовские дни в год 709-й от основания Рима.
Осознание переданных ему диктаторских полномочий постепенно делало умного и сдержанного Цезаря все более легкомысленным. Так, например, он принял как-то делегацию сената, сидя перед храмом Венеры Родительницы, что было воспринято как оскорбление. Немало врагов — по крайней мере среди патрициев — он нажил себе, когда в храме Венеры на новом форуме Юлия он повелел установить рядом со статуей богини любви позолоченную фигуру Клеопатры в человеческий рост. Конечно, это вызвало слухи о том, что он хочет жениться на египетской царице.
В последнюю осень своей жизни Цезарь был очень болен. Все знали, что он страдает эпилепсией. Однако это нисколько не вредило ему, потому что эта болезнь почиталась священной. Обычно он за несколько минут чувствовал приближение приступа и успевал вовремя удалиться. Но, кажется, эта болезнь сделала его невнимательным и беспечным, потому что он стал позволять такие вещи, которые еще год назад категорически запретил бы. Его отношение к сенату, который народ ненавидел, сделало его чрезвычайно популярным. Плебс чествовал его как своего героя, и он допускал это.
Когда на празднике Юпитера в середине января он возвращался домой в окружении ликующего народа, кто-то на его глазах увенчал одну
из его статуй лавровым венком — знаком царского достоинства. Тотчас же двое из народных трибунов схватили того, кто это сделал, и сорвали венок. Вне себя от гнева, Цезарь отстранил обоих трибунов от должности и приказал сразу же отпустить этого человека. Сенат и убежденные республиканцы восприняли это как доказательство того, что Цезарь всерьез стремится стать царем. Цезарь ничего не возразил и тем сделал большую ошибку.
На последующих затем Луперкалиях один из консулов, желая подольститься к Цезарю, несколько раз пытался надеть на него царскую диадему. Однако тот со смехом противился этому и велел передать диадему в дар Юпитеру Капитолийскому. Но это уже не помогло — несчастье стало неотвратимо. Неизвестно, насколько это соответствовало действительности, но по Риму распространилось известие, что персов может победить только один царь — и это было на руку Цезарю, который собирался весной выступить в поход против парфян.
В февральские дни назревал заговор, но подготавливался он сверху, и в народе о нем ничего не знали.
Впоследствии говорили, что было множество предостерегающих предзнаменований. Правда, как подтвердил мне позже Антоний, все это не соответствует истине. Но даже если предзнаменования и были, — не такой человек был Юлий Цезарь, чтобы отказываться от своих планов.
Ничто не могло бы помешать ему пойти в сенат в этот день 15 марта — разве что его болезнь. Но как раз в этот день он почувствовал себя лучше и в пять часов дня вышел из дома. По дороге кто-то тайком сунул ему список участников заговора — до сих пор неизвестно, кто это сделал. Но Цезарь подумал, что это обычное прошение, и решил просмотреть его вместе с другими бумагами дома на досуге. Говорят, что гадание по внутренностям жертвенных животных также предсказывало в этот день что-то неблагоприятное — но это уж доказать невозможно.
Утверждают, что знаменитый прорицатель того времени Спуринна в этот день также предостерегал Цезаря, чтобы он не ходил в сенат. Но известно, что он делал это и раньше. Спуринна встретил Цезаря у входа в курию. И когда тот сказал, что вот сегодня пятнадцатое, а с ним ничего не случилось, Спуринна взглянул на него укоризненно и заметил: «Но ведь день еще не кончился».
Я пришел пораньше, и смотритель, как всегда, наморщив лоб, долго изучал мой пропуск. При этом я заметил, что это заседание проводится не в старой курии на Форуме, а в, большом зале театра Помпея — видимо для того, чтобы вместить всех, кто хотел присутствовать при появлении Цезаря. Мне удалось занять на скамье довольно удобное место, так что я ясно видел выражение лица Юлия Цезаря, когда он вошел в курию. У меня не было никаких видений, но мной овладело вдруг какое-то странное чувство нереальности: как будто я сижу в театре, а на сцене происходит что-то непостижимое и загадочное.
Цезарь сел. Его худое, изборожденное морщинами лицо выражало собранность, доброжелательность и вместе с тем некоторое пресыщение, как будто он хотел сказать: «Все это: мне наскучило, кончайте же скорей, ведь есть дела поважнее». На заседании присутствовали в основном самые известные сенаторы.
К Цезарю подошел вечный проситель Кимбер Тиллий и о чем-то спросил его. Цезарь покачал головой и отмахнулся правой рукой: видимо, ответ был отрицательным. Тогда Тиллий, как будто в гневе, схватил его за плечи. Цезарь громко воскликнул: «Это насилие!» По залу пронесся какой-то ропот. Далее все произошло так быстро, что едва можно было уследить. Кто-то сзади ударил Цезаря кинжалом, и две дюжины мужчин набросились на него. Он без звука рухнул на пол, голова его была чем-то прикрыта, тога в кровавых пятнах. В том, что он упал к подножию статуи Помпея, многие увидели перст судьбы.
Потом началось нечто невообразимое. Все ринулись к выходу, многие из сенаторов были полумертвыми от страха. Я тоже поспешил выбраться из этого хаоса. У меня не было ни малейших сомнений в том, что Цезарь мертв. Но все же, опасаясь принести недостоверные известия, я притаился за колонной и подождал, пока не пришли несколько рабов, чтобы унести тело. Они положили Цезаря на носилки. Теперь видна была его голова с полуоткрытыми глазами на бледном, забрызганном кровью лице. Одна рука бессильно свесилась и покачивалась в такт торопливым шагам рабов. Глядя на это бессильное покачивание, я не смог сдержать слез. Только что это был властелин половины мира — и вот уже мертвое тело, кусок мяса, ничем не отличающийся от тех, что ежедневно дюжинами выносят из Цирка и сбрасывают в Тибр. Конечно, с диктатором этого не произойдет. Но не все ли равно мертвому телу — вознесется оно вверх с душистым дымом костра или волны Тибра вынесут его в море, где его сожрут хищные рыбы.
Рим встревоженно бурлил, на каждом углу взволнованные толпы громко обсуждали это событие. Я изо всех сил подгонял моего мула. Но, как оказалось, я был не первым, кто принес царице это ужасное известие.
Клеопатра была потрясена, однако оставалась спокойной и деловитой, как будто ей просто сообщили о смерти какого-то старого сенатора. Она велела нам взять с собой только самое необходимое и сказала, что судьба Египта зависит теперь от того, насколько быстро мы исчезнем. В сущности, это было бегство, но происходило оно очень организованно, без паники и проволочек.
Тогда Клеопатра уже знала то, что сообщила нам только позже: согласно завещанию Цезаря, его наследником был объявлен Гай Октавий. Цезарь завещал ему три четверти своего состояния и даже усыновил его. С этих пор в официальных документах он именовал себя Гай Юлий Цезарь, сын божественного Цезаря. Теперь он был на пути к Риму, и Клеопатра понимала, что отныне из ее тайного врага, который всегда был противником политики Цезаря в Египте, он превратился в явного. Хотя Марк Антоний ничего не унаследовал по завещанию, но в последний год он был назначен консулом вместе с Цезарем и таким образом держал в своих руках ключи от власти. Ясно было, что в будущем это должно было привести к жестокой борьбе между Антонием и Октавием. Вряд ли богатый Египет сможет избежать участия в этой распре. Клеопатра открыто сказала нам, что должна выбрать, чью сторону примет, но для этого надо подождать развития событий. Мы отчетливо услышали, как Протарх заметил в ответ:
— Если я чего-то и не одобряю, царица, так именно этого решения.
— Ах, Протарх, — ответила она со своей очаровательной, пленительной улыбкой, — я происхожу из рода божественных царей, и моя советница Исида уверена, что мне не следует ничего опасаться — так же, как и вам.
По тому, как она это произнесла, видно было, что эти слова были сказаны не просто так, а выражали ее твердое убеждение.
Через три-четыре дня наше судно было готово к отплытию. Из Рима доносились угрозы в наш адрес и в адрес Цезариона, двухлетнего сына Цезаря. Сейчас нельзя было и думать о том, чтобы объявить его законным наследником. Царица понимала, что ей надо подождать момента, когда она сможет оспорить завещание у преемников Цезаря.
Все это было более чем ясно, и, я думаю, задержись мы еще на несколько дней, наши дома в Садах Цезаря просто подожгли бы.
Эти два месяца до смерти Цезаря — январь и февраль — были необычайно холодными, поэтому многие из наших придворных были больны. Все мы чувствовали себя не особенно хорошо и радовались, что отправляемся наконец в обратный путь. Царь Птолемей серьезно простудился в эту зиму. Приступы лихорадки, от которых он страдал еще летом, теперь стали гораздо сильнее. Я всерьез опасался за его жизнь.
Когда во время нашего плавания я решил поговорить об этом с царицей, она отослала всех, так что мы остались вдвоем.
— Я хотела бы поговорить с тобой о том, что касается всего Египта, но должно остаться в тайне. Ты пришел, чтобы выразить мне свое беспокойство о здоровье моего супруга. Знай же, что я разделяю его, но мое беспокойство иного рода. Садись, Гиппо, — указала она на скамейку у подножия своего большого, привинченного к полу кресла. — Нам предстоит долгий разговор.
Я сел. Снаружи доносились пронзительные крики ка-ких-то морских птиц. На море было легкое волнение, и корабль покачивало.
— Море неспокойно, — сказала Клеопатра, — но в такое время года в этом нет ничего необычного. А теперь пусть наши мысли так же быстро, как эти птицы, перенесутся в Александрию. Ты знаешь, что я все время поддерживала связь с Мардионом и что в августе туда отправлялся на несколько дней Протарх. Известия приходят неутешительные. В последнем сообщении уже говорится о перевороте, который готовится после прибытия нашего флота. Определенные круги, враждебно настроенные к Риму, хотят, чтобы Птолемей правил один. Об этом можно было бы говорить, если бы он был старше, опытнее и крепче здоровьем. Но ничего этого нет. При нем Египет скоро падет к ногам римлян, как спелый плод, тем более что Цезарь мертв, и мы не знаем, будут ли его наследники соблюдать заключенные договора. Короче, дорогой Гиппо, если Птолемей прибудет в Александрию живым, возникнет угроза гражданской войны.
Она помолчала, чтобы эти слова дошли до меня должным образом.
— Но кто же может помешать ему прибыть в Александрию живым? — спросил я, все еще ни о чем не подозревая.
— Мы оба сделаем это, Гиппократ. Я попрошу тебя прервать его жизнь, а ты найдешь подходящее средство,1 чтобы сделать это безболезненно. Он ведь и так болен, и, пока мы доплывем до Александрии, эта болезнь вполне может привести к смерти. Его сторонники будут сетовать и причитать, с плачем сопроводят его к Семе, похоронят там и отвлекутся. Таким образом мы сможем предотвратить гражданскую войну и я стану управлять "Египтом вместе с моим сыном Птолемеем Цезарем.
— Этого я не могу, царица. Перед алтарями Сохмет и Асклепия я присягал на верность клятве Гиппократа. В ней говорится, что я никому, даже по его просьбе, не стану давать яд или советовать что-нибудь по этому поводу. Я прошу тебя, царица, освободить меня от этой обязанности.
На лице ее мелькнула печальная улыбка.
— Ты не нарушишь своей клятвы, Олимп Гиппократ, потому что спасешь столько людей, сколько, может быть, не всякий врач может спасти за свою жизнь. Речь ведь идет не только о тебе, мне или Птолемее. Речь идет о миллионах жителей Александрии и Египта. Сотни из них, а может быть, даже тысячи, обречены на смерть, если Птолемей останется жив. Ты можешь взглянуть на все это по-другому. Представь себе Египет как гигантский организм, у которого начал гнить какой-нибудь незначительный член, например палец. Воспаление может перекинуться на кисть, руку и охватить потом все тело. Но этого можно легко избежать, если врач вовремя отсечет палец.
— Ты полагаешь… ты полагаешь, восстание неминуемо, если…
Клеопатра подняла руку и позвонила в серебряный колокольчик.
— Позовите Протарха! — приказала она слуге.
Верховный визирь вошел, поклонился и вопросительно
взглянул на царицу.
— Протарх, расскажи нашему Гиппократу о твоем пребывании в Александрии, можешь говорить обо всем открыто.
— Нашему Мардиону старались не мешать в его правлении, чтобы он ни о чем не догадался. Но ему удалось перехватить двух шпионов, и таким образом он узнал о готовящемся перевороте. Ядро заговорщиков составляют члены бывшего регентского совета Птолемея Тринадцатого. Эти господа вовсе не отказались от своих первоначальных замыслов и только ждали, пока младший брат достигнет совершеннолетия. По имеющимся у Мардиона сведениям, число их сторонников все более возрастает, так, например, за них может выступить часть греков в Александрии. Совершенно уверенно можно утверждать, что назревает гражданская война. Последствия ее непредсказуемы, но Мардион считает, что по сравнению с ней война с римлянами покажется простой перебранкой.
— Хорошо, Протарх, благодарю. Ты можешь идти.
Она требовательно посмотрела на меня.
— Спаси жизнь, Гиппо, спаси жизнь — ты можешь это сделать!
— Почему ты не поручишь это какому-нибудь другому врачу?
:—Потому что ты мой друг, а только друзей можно просить о чем-нибудь подобном. Другому врачу мне придется: приказывать. А многие считают, что они вправе чего-то требовать от человека, отдающего такие приказания. Ты ничего не получишь за это — ни денег, ни новой должности, только мою благодарность. И помни: для моих друзей я сделаю все, так же как и для моих врагов — чтобы их уничтожить.
Странным образом именно эти слова убедили меня. Конечно, если бы она приказала мне, я бы послушался. Но она хотела не этого. Так что я ухватился за мысль спасти свою страну от кровопролития и позднее не имел оснований усомниться в правильности такого решения. То, что сообщил Протарх, соответствовало действительности — назревал кровавый переворот. Конечно, можно сказать, что я нарушил клятву Гиппократа, — но ведь во имя высшей цели. Я и сейчас убежден в этом, и этот поступок не тяготит мою совесть, хотя я и не люблю о нем вспоминать.
Нужно было устроить так, чтобы Птолемей умер незадолго до прибытия в Александрию и мертвое тело недолго бы находилось на борту.
Нам предстояло еще несколько дней пути, так что можно было все спокойно обдумать. Я решил, что лучше всего использовать меконий. В сделанных мной в Остии записях значилось, что доза в один скрипул (1,14 г) является смертельной для взрослого человека. Это вещество имеет очень резкий горьковатый вкус и очень плохо растворяется в вине или воде. После целого ряда неудачных попыток мне удалось подмешать его в необходимом количестве в горячий медовый напиток.
Когда я сегодня вспоминаю об этом, то, несмотря на все доводы рассудка, на душе у меня становится тяжело. Но тогда я был совершенно спокоен, как будто приготавливал обычное лекарство.
За день до предполагаемого прибытия я обследовал юного царя. Он страдал от морской болезни, со всеми ее обычными симптомами, почти не мог спать, а приступы малярии еще усилились. Птолемей беспокойно ворочался на своем ложе и тихо стонал.
— Его величество страдает от постоянной дурноты и совсем потерял сон, — шепотом сообщил его личный слуга.
Я кивнул.
— Поэтому я приготовил лекарство, чтобы, когда мы завтра прибудем, царь был свежим и отдохнувшим.
Птолемей был миловидным юношей, правда, немного изнеженным и полноватым. Несколько месяцев назад он открыл, что его фаллос годится не только для отливания воды. Поэтому все свое время он проводил с любимой рабыней, которая сидела сейчас на корточках у его кровати. Я отослал ее, но она вместе со слугой и двумя телохранителями осталась в дверях, наблюдая, как я наливаю лекарство.
Эту рабыню звали Ирас, ее привезли из Сирии, и она была искусным парикмахером. Во время своего последнего визита Антоний подарил ее Клеопатре. Таким образом, эта милая веселая девушка служила обоим: царице своими руками, а царю своим лоном. Клеопатра очень ценила ее, но не возражала против того, чтобы она услаждала ее брата в постели. До тех пор, пока он не требовал власти, она охотно позволяла ему такие удовольствия.
Я сделал крошечный глоток и предложил попробовать также слуге.
— От него наступает некоторая усталость, но ведь это же снотворное, — сказал я улыбаясь.
По стенам и потолку каюты танцевали пурпурные отблески заходящего солнца. Море было теперь спокойным, и судно едва продвигалось. Я присел на кровать и протянул кубок.
— Прекрасное снотворное, царь. Когда завтра мы достигнем берега, от твоей морской болезни не останется и следа.
Он приподнялся.
— Подай же его, Гиппо, я весь высох, как старый сандал.
Он хотел взять кубок, но рука его дрожала так сильно,
что я испугался, как бы он не расплескал содержимое.
— Я помогу, царь, — сказал я успокаивающе и поднес кубок к его губам. Он с жадностью выпил, и я промокнул ему губы салфеткой.
— На вкус неплохо. Я пробовал лекарства, которые были гораздо более горькими.
«Смертельный напиток тоже может быть сладким», — подумал я.
Птолемей снова лег.
— Меня почти не тошнит, — сказал он, — ты неплохой врач, Гиппократ. Почему ты не давал мне этого лекарства раньше?
— Я должен был сначала приготовить его, ваше величество.
Он ничего не ответил и закрыл глаза.
Я повернулся к остальным:
— Теперь дайте его величеству спокойно поспать, чтобы завтра, когда мы прибудем, он был отдохнувшим. — Я повернулся к рабыне: — Особенно это касается тебя.
— Да, господин, — прошептала она, тихонько засмеявшись.
Около полуночи меня разбудил один из телохранителей. Птолемея:
— Скорее, скорее — царь как-то странно хрипит…
Мы оказались у его ложа почти одновременно: Клеопатра,
Протарх и я. Птолемей с трудом вздохнул последний раз, затем тело его слегка вытянулось, а голова откинулась набок.
Я осмотрел его.
— Видимо, это произошло от малярии. Никто еще не умирал от морской болезни, даже если бы захотел. Он слишком долго болел, тело его совсем ослабело.
— Мой дорогой супруг мертв, — прошептала Клеопатра, воздев руки, — народ скорбит о нем.
Потом она вышла — с радостью и облегчением, как я подозреваю.
На следующий день вдали показался Фарос, который, как будто огромный палец, указывал нам путь в гавань. Клеопатра велела поднять траурный флаг. Возможно, кое-кто из сторонников Птолемея решил, что это умерла Клеопатра, однако они не долго оставались в заблуждении. Протарх разослал дюжину глашатаев, которые должны были объявить, что царь Птолемей XIV Филопатор отошел к Осирису, и приказал установить сорокадневный траур.
Клеопатра просто поблагодарила меня и сказала, что я поступил как друг, и она этого никогда не забудет.
Пока бальзамировали тело мертвого царя, Клеопатра вместе с друзьями обследовала Сему, чтобы выбрать место для гробницы. Это царское кладбище было заложено еще Птолемеем Вторым, когда он велел перенести сюда из Мемфиса тело Александра Великого. Чтобы предотвратить разрушающее воздействие грунтовых вод, Сема была расположена на гряде холмов и защищена еще земляной насыпью. Вокруг нее располагались гробницы знати, храмы, жертвенники, так что постепенно Сема превратилась в отдельный район города. Внутри, вокруг могилы Александра, рядами тянулись гробницы Птолемеев. Их было уже пять или шесть дюжин, потому что здесь лежали не только цари и их жены, но и их рано умершие дети и другие родственники.
Еще прежде, чем я осмелился высказать просьбу посмотреть могилу Александра, царица сама заговорила об этом:
— Хотя мои предки ввели обычай, по которому увидеть гробницу могут только лица знатного происхождения, но вы, мои друзья, для меня ближе всех царей в мире.
Саркофаг Александра был установлен в восьмиугольном, покрытом куполом помещении, по стенам которого были изображены двенадцать подвигов Геракла, причем по облику этот герой напоминал Александра Великого. Он покоился в хрустальном саркофаге, который, однако, был не особенно прозрачен. Сквозь легкую дымку можно было увидеть завернутое в пурпурную царскую мантию тело, лицо, закрытое покрывалом, золотые латы мерцали на груди, в центре их отчетливо было изображено солнце.
Стоит ли мне сказать здесь о том, что скрыла Клеопатра? Я чту историческую правду и хотел бы заметить, что всего за пятьдесят лет до того, как мы его увидели, этот саркофаг был из чистого золота. Птолемей XI Александр, постоянно нуждавшийся в деньгах, велел переплавить его и заменить хрустальным. Этот царь, кроме того, убил Беренику III, свою мачеху и соправительницу. Но народ так любил ее, что александрийцы вытащили его из дворца и убили. Царица, видимо, предпочла не рассказывать нам об этих бесславных событиях.
Глава 10
Александрийцы всегда принимали живое участие во всем, что касалось царского дома. О погребении было объявлено заранее. Торжественная процессия должна была проследовать из Брухейона к Семе, городу мертвых. По пути траурное шествие должно было отклониться на восток и пройти через несколько населенных кварталов.
Мумия покоилась в позолоченном и богато расписанном саркофаге, который несли двенадцать юных жрецов. За ними следовали живые изображения или символы египетских и александрийских богов. Несли статую в человеческий рост, изображавшую бородатого Сераписа с Цербером у ног, Исиду и Нефтиду представляли храмовые танцовщицы, а Гора, Анубиса и Птаха — переодетые жрецы. Улицы оглашались пронзительными криками плакальщиц, музыканты Серапей-она наигрывали ритуальные мелодии, а у ворот в Сему я вновь увидел мою Натаки, которая танцевала с таким отрешенным видом, что и на себя была не похожа.
Церемонию «Отверзания уст» производил верховный жрец храма Птаха из Мемфиса, который, как и прежде, считался первым жрецом в Дельте — хотя это и не нравилось Серапейону. Этот магический обряд сообщает мумии новую жизненную силу и состоит из множества отдельных действий. Я назову только самые важные из них: приносится очистительная жертва, мумию окуривают фимиамом и помазывают елеем, затем по саркофагу проводят пером и касаются лица теслом, — кроме того, забивают ягненка и благословляют саркофаг его правой передней ногой, что должно придать умершему новую телесную силу.
Вся церемония погребения продолжалась бесконечно долго, но все же к вечеру завершилась. Саркофаг опустили в гробницу под приветственные крики толпы:
— Да живет Осирис Птолемей!
— Да живет он в радости миллионы и миллионы лет!
— Да воскреснет он вновь, подобно Осирису!
— Да поплывет он по небу в солнечной ладье Ра!
Тут меня все же охватило сожаление, что этот молодой
человек умер так рано, и я от всего сердца пожелал ему обрести новую жизнь в новом, лучшем мире.
Потом внезапно возникла новая проблема, правда, не такая большая. Клеопатре все больше нравилась ее новая служанка. Она не только искусно обращалась с волосами, но была еще прилежной, умной и умела держать язык за зубами. Даже строгая Шармион подружилась с этой веселой малышкой и по-матерински опекала и учила ее.
В одном из доверительных разговоров Клеопатра сказала:
— Я хотела бы, чтобы Ирас всегда была рядом со мной — но не только потому, что я ее очень ценю, есть причина и поважней. Если она беременна от Птолемея, то я первой должна узнать об этом, чтобы принять соответствующие меры. Нельзя, чтобы стало известно, что она носит под сердцем ребенка моего брата, ребенка, которого не должно быть. Тогда вновь возродятся надежды сторонников Птолемея, а я хочу предотвратить это. Есть только две возможности: я велю убить девушку или объясню ей, что она не должна рожать этого ребенка, если хочет спасти свою жизнь. Так как я ее очень ценю, то склоняюсь ко второй возможности. Ты что-то хочешь сказать, Протарх?
— Только то, что я согласен с тобой, царица!
Теперь мы действовали вместе. Мне следовало найти
надежное средство, а царица должна была пока рассказать Ирас о том, что ей предстоит.
Я никогда раньше не сталкивался с подобными случаями и решил узнать об этом в мусейоне. Мне удалось разыскать среди врачей специалиста по женским болезням, но ведь о том, что меня интересует, нельзя было спрашивать открыто. Я вспомнил, как отец говорил мне, что любое средство, которое применяют для усиления схваток, если роды слишком медленные, может вызвать также преждевременные схватки и роды или смерть ребенка.
Я представился личным врачом царицы, в ответ на что мой собеседник осведомился, не являюсь ли я также преподавателем?
— Да, — ответил я, — но мои многочисленные обязанности при дворе не позволяют мне уделять преподаванию много времени.
Затем я скромно и с достоинством попросил совета.
— Знаете, конечно, личный врач царицы необязательно должен присутствовать при родах, но, если все же это случится, мне хотелось бы знать, что предпринять, если схватки будут недостаточно сильными.
Врач прочел мне какую-то длинную запутанную лекцию, процитировал целый ряд противоречивших друг другу авторов, но так и не сказал ничего существенного. Мне пришлось несколько раз возвращать его к интересующему меня вопросу, пока я наконец не узнал то, что хотел. Он назвал несколько средств, однако их было очень трудно получить и, кроме того, они были довольно опасны. Таким образом, осталось два испытанных и сравнительно безопасных средства: пророщенное отравленное зерно пшеницы, ржи и ячменя — для орального применения или впрыскивание, во влагалище масла можжевельника. Я подробно записал оба этих способа и приобрел оба средства тут же в мусейоне, где была лучшая лекарственная лавка во всей Александрии.
В Брухейоне мне сообщили, что Ирас уже ждет меня. Она, как и Шармион, жила в непосредственной близости от царицы, в одном из небольших покоев, предназначенных для ее ближайших слуг. Во взгляде ее больших черных глаз сквозили одновременно испуг и упрямство, а ее маленькое красивое, слегка полноватое тело тревожно вздрагивало. В волнении она села, потом встала, подошла к окну, затем к двери. Я попытался успокоить ее:
— Царица уже объяснила тебе, почему не должен родиться этот ребенок. Ты ведь ее личная служанка и привлекаешь столько же внимания, как и какое-нибудь государственное лицо. При дворе всем известно, что в последний месяц ты была любовницей умершего царя. Ты не можешь, как какая-нибудь рабыня на кухне, незаметно родить этого ребенка где-нибудь в уголке. О твоей беременности всем станет известно. Отпрыска Птолемея с нетерпением ждут сотни, если не тысячи противников нашей царицы, и не только в Александрии. Конечно, плохо, если это девочка, но гораздо хуже и опасней будет, если ты родишь мальчика, Птолемея Пятнадцатого. Но тут ведь ничего нельзя предсказать.
— Обо всем этом царица уже сказала мне, — прошипела она, — и сделала это гораздо лучше и деликатнее, чем ты, грубый чурбан. Я уже знаю, что должна избавиться от ребенка, так давай лучше поговорим о том, что предстоит для этого сделать.
Я дал ей три тщательно отмеренных дозы отравленного зерна, решив обойтись пока без масла можжевельника. Когда начались преждевременные схватки, очень болезненные, царица послала за опытной повитухой. Только на следующий день я узнал, что должна была родиться девочка.
Ирас, которая до этого смотрела на меня как на врага, теперь быстро изменила свое отношение ко мне и стала даже слегка кокетничать — думаю, тогда еще просто из желания подурачиться. Трудно представить себе большее различие, чем между ней и Шармион. Высокая, сероглазая, спокойная и молчаливая македонянка была полной противоположностью этой маленькой, пухленькой, живой, черноглазой сирийке, которая была очень разговорчивой, но никогда — и за это она до конца оставалась любимой служанкой Клеопатры, — никогда не выдавала тайн своей госпожи.
Итак, у нашей царицы появились условия для спокойного и долгого правления. Но предстояло уладить еще две проблемы: одну — внутреннюю и одну — внешнеполитическую. Последняя так и осталась неразрешенной до самой смерти Клеопатры, а первую оказалось довольно легко разрешить. Те, кто полагали, будто сторонники Птолемея XIV успокоятся после его смерти, сильно ошибались. Вскоре поползли слухи о том, что царица устранила своего брата, чтобы потом вступить в сговор с Римом и добыть трон для Цезариона. Те, кто распространял эти слухи, были не особенно осторожны, так что шпионам Клеопатры вскоре удалось выйти на трех самых важных из них. Они сразу же были схвачены за государственную измену и оскорбление ее величества. Конечно, было бы очень легко потихоньку убить их в тюрьме, но Клеопатра настаивала на открытом процессе.
Двое из обвиняемых во всем сознались, третий долго запирался, но ежедневные порции палочных ударов заставили его стать сговорчивее. На всех заседаниях суда я выступал как свидетель, однако царица подготовила для меня и еще одну роль. Но сначала был вынесен приговор. Конечно, он звучал не иначе как «смерть через сожжение заживо» — обычное наказание для серьезных преступлений против царского величества.
После оглашения приговора я выступил перед судом, объяснив, что должен сделать это, чтобы защитить свою врачебную честь. Во время заседаний на меня много раз указывали как на возможного исполнителя, поскольку было бы логично предположить, что царица для устранения своего брата и супруга использовала личного врача. Судьи, предупрежденные обо всем, охотно подыгрывали мне в этом спектакле.
— Господа судьи, я хотел бы назвать четырех свидетелей, которые могут подтвердить, что в тот вечер перед смертью царя Птолемея я ни на минуту не оставался с ним наедине и дал ему только безвредное снотворное. Это могут засвидетельствовать оба его телохранителя, рабыня Ирас, а также личный слуга царя.
На следующий день эти четверо бодро произнесли перед судом то, что должны были сказать. При этом им даже не пришлось лгать. Телохранитель подтвердил, кроме того, что я сделал «изрядный глоток» снотворного. Слово «изрядный» было, пожалуй, единственным преувеличением и неправдой.
Затем я попросил смягчения приговора, потому что, если, бы обвиняемые услышали этих четырех свидетелей раньше, они, вероятно, не стали бы распространять такие бессмысленные подозрения. Суд, получивший указание от царицы, заменил смертный приговор десятью годами принудительных работ на строительстве храма в Стране Тростника, в Верхнем Египте.
Весть о таком милосердии скоро разнеслась повсюду, вызвав любовь и симпатию к царице, хотя некоторые и считали, что она проявила излишнюю мягкость и снисходительность.
Время от времени в царском дворце собирался «Малый Совет», на котором обсуждались внутренние вопросы, в основном касающиеся жизни двора или положения в Александрии. В них принимали участие люди, наиболее приближенные к царице: Протарх, Мардион, неизменные Шармион и Ирас, несколько высокопоставленных придворных и я.
В отличие от этого, «Большой дворцовый Совет» был скорее торжественным мероприятием, в котором участвовало от сорока до шестидесяти человек. На нем обсуждались важные политические вопросы и принимались решения. Но все они сначала рассматривались в узком кругу.
В эти дни самым важным был вопрос, на чьей стороне должен выступить Египет — на стороне убийц Цезаря или на стороне его друзей и наследников.
— Я не знаю, кто из них победит, — как и никто не знает об этом. Но для меня как для матери единственного сына Цезаря есть только один путь: я должна поддержать его друзей и тех, кто мстит за него. Сейчас в Египте находятся четыре его легиона, и я пошлю их на помощь тому, кто будет преследовать Брута, Кассия и всех остальных до тех пор, пока они не поплатятся за свое злодеяние.
В тот момент таким человеком был Корнелий Долабелла. Сразу после смерти Цезаря он выступил на стороне его врагов, но затем перешел в лагерь Антония. Теперь этот Долабелла пытался остановить и уничтожить Кассия в Сирии. К нему и отправила Клеопатра эти четыре легиона. К сожалению, это было не самое удачное решение: Долабелла был разбит и покончил с собой, а его войска перешли на сторону Кассия. Узнав об этом, царица отозвала назад флот, который также послала было в поддержку Долабелле. Мы опасались, что теперь Кассий обратит свои взоры к богатому Египту, ведь ему нужны были деньги, чтобы продолжать борьбу. Обстановка складывалась для нас не лучшим образом, тем более что все зависимые от Рима клиентальные княжества на Востоке поддерживали Брута и Кассия. Клеопатра опасалась за свой трон и всерьез обдумывала, не стоит ли ей из политических соображений тоже перейти на их сторону. Однако, узнав, что Серапион, ее наместник на Кипре, объединившись с ее сестрой Арсиноей, которая все еще жила в Эфесе, хотят свергнуть ее и возвести на трон Арсиною, она отказалась от своего плана и решила немного выждать.
Когда Кассий настоятельно потребовал от Клеопатры, чтобы она направила ему в поддержку денег, войско и корабли, она велела ответить ему, что убийца Цезаря заслуживает только одного — смерти. Вскоре на весах судьбы перевесила чаша другой стороны. Друзья Цезаря наконец стали более благоразумными, оставили свои споры и образовали против Брута и Кассия триумвират из Марка Антония, Октавия и Лепида. Последнего, впрочем, можно было и не считать, ибо он был слишком ненадежен и слаб характером, но двое других были полны решимости заставить убийц Цезаря сложить оружие.
Клеопатра, которая всегда относилась к Октавию с недоверием, пересилила свою неприязнь и собрала им в поддержку довольно значительный флот. Неожиданно для всех, командование этими судами она приняла на себя.
Мы отплыли из Александрии при благоприятной погоде и направились к Южной Адриатике, где должны были соединиться с кораблями Октавия и Антония. Это было в апреле или мае. Обычно в это время море довольно спокойно. Но в этот раз все было иначе. Едва мы удалились от берега миль на пять, как налетел сильный ураган. Не было времени даже спустить паруса на нашей триреме. Буря свирепствовала так, что мне показалось, будто с неба протянулся кулак, чтобы быстро разнести в щепки наш флот. Быстрее других опомнился капитан флагманского корабля, на котором находились Клеопатра и ее друзья. Он приказал рубить главную мачту и, подгоняя гребцов ударами кнута, добился того, что спустя немного времени мы добрались до спасительного берега. Две трети нашего флота затонуло, погибло большинство моряков.
Клеопатра так расстроилась из-за этой неудачи, что тяжело заболела, и только через две недели мне удалось снова поставить ее на ноги с помощью диеты и мягких, успокаивающих лекарств. Вообще за все время, пока я был личным врачом царицы, это был единственный случай, когда она серьезно заболела. Клеопатра сразу отдала приказание о постройке нового флота, но, прежде чем он был готов, Брут и Кассий были разбиты в двух решающих битвах при Филиппах в Македонии. Вскоре убийцы Цезаря один за другим покончили с собой.
Клеопатра торжествовала.
— Теперь мы на стороне победителей, и речь идет только о том, смогут ли Октавий и Антоний и дальше действовать сообща. Месть сладка, скоро это почувствуют и Серапион с Арсиноей. Эти двое выбрали не ту лошадь, но мы не будем слишком торопиться. Гиппо, я хотела бы еще поговорить с тобой кое о чем.
В этом не было ничего необычного, она часто просила меня оказать услугу ее друзьям или придворным, если дело касалось лекарств или врачебной помощи.
— Нет, Гиппо, мне нужен не врач и не лекарство, а твоя помощь в одном очень щекотливом деле. Как я уже говорила, несколько дней назад я получила известие о том, что убит Антипатр, наместник римлян в Иудее и Галилее. Прежде чем римляне назначат его преемника, я хотела бы заявить о своих правах на эти области. Со времен Птолемея Пятого Египту принадлежали вся Палестина и часть Сирии. Позже он потерял их из-за политических неудач. Мы — друзья и союзники римлян, и для них ничего не изменится, если наместником там стану я. Теперь же на эти области претендует Ирод, старший сын Антипатраа. Я хочу сделать ему предложение, а ты передашь его — в совершенной тайне. Если я подниму этот вопрос открыто, в Риме сразу же насторожатся. Посмотри на этого Ирода и попытайся выведать его намерения. Если он умен, он примет мое предложение.
Она замолчала. Я ждал более точного объяснения, но его не последовало.
— Могу я задать вопрос, царица?
— Смелее, Гиппо, мы ведь одни!
— Как звучит твое предложение, которое мне предстоит передать? Или это должно остаться тайной, и я отдам только запечатанный свиток?
Она улыбаясь покачала головой.
— Ты вообще ничего не будешь передавать, потому что существует опасность, что тебя задержат на границе и обыщут твой багаж. Ты получишь только табличку с моей печатью — в подтверждение того, что ты путешествуешь по моему поручению. Мое предложение ты передашь Ироду на словах. Оно гласит: «Клеопатра, царица Египта и Кипра, предлагает тебе, Ирод, сын Антипатраа, объединить с Египтом земли Идумеи, Иудеи и Галилеи, как повелось издавна. Я назначу тебя там моим постоянным наместником и сама буду платить дань моим римским союзникам. В случае, если ты принимаешь мое предложение, я буду просить согласия на него у триумвиров Гая Октавия и Марка Антония. Мой посол Олимп уполномочен передать мне твой ответ на словах». Ты сможешь запомнить этот текст?
— Я запишу его и выучу. В качестве посла я снова превращаюсь в Олимпа?
Она пожала плечами.
— Просто это звучит весомее. При имени Гиппократ на ум приходят лекарства и болезни. И вот еще что: путешествовать ты будешь в одиночку — так легче остаться незамеченным, Тебя будет сопровождать только один слуга.
Чтобы ты мог доказать, что путешествуешь по моему поручению, тебе нужно какое-то объяснение. Ты можешь говорить, что должен купить бальзам из Иерихона, конечно, для меня лично и, разумеется, самого лучшего качества.
Каждый, кто имел дело с лекарствами и благовониями, конечно, знает об этом легендарном бальзаме. Его лучшие сорта ценятся вдвое дороже серебра, и римляне облагают большими налогами торговлю этим ценным веществом.
Кроме того, царица поручила мне приобрести в Иерусалиме подходящий подарок для Ирода. Для этого я должен был обратиться к египетскому торговцу посудой — человеку, который вот уже много лет представляет в этом городе разнообразные интересы нашей страны.
При прощании Ирас опечалилась так, будто я отправлялся на казнь.
— Ах, Гиппо, ты уезжаешь в чужую, дикую страну и оставляешь меня тут совсем одну! Милый друг, что мне делать без тебя? Я буду каждый день приносить богам жертву за твое благополучное возвращение.
Я не мог поверить своим ушам и теперь взглянул на Ирас совсем по-новому. Неужели я ей действительно так дорог? Она нравилась мне — и даже очень, но в тот момент меня волновали совсем иные мысли. Я не сомневался, что справлюсь с этим поручением. В те времена я был еще очень молод, жаждал приключений и был рад предстоящему занимательному путешествию в древнюю страну, когда-то принадлежавшую Египту. Но, видимо, я ожидал слишком многого, потому что поначалу это путешествие меня разочаровало.
Один из парусников флота Клеопатры через два дня доставил меня в Рафию, город на границе Египта и Идумеи, откуда, собственно, и происходил Ирод. Он был арабом, а не евреем, однако несколько поколений назад жители Идумеи приняли — хотя и не совсем добровольно — иудейскую веру.
Иудеем был также и мой попутчик Салмо, родом из Иерусалима. Собственно говоря, его звали Шеломо, а греки переделали это в Саломон.
— Но, — сказал он, представляясь мне, — имя этого мудрого правителя всегда казалось мне слишком длинным, праздничным и торжественным. Так что зови меня, как все, — Салмо.
Он прибыл в Александрию три года назад, вместе с войском, которое прислал Антипатр, и осел здесь, как и многие другие евреи. Со временем он обзавелся семьей и теперь служил младшим офицером в царских войсках. Клеопатра дала мне в провожатые одного из иерусалимских евреев, чтобы мне легче было там ориентироваться. Салмо был высоким худощавым мужчиной, как почти все евреи, он умел читать и писать и очень хорошо знал историю своего народа. Без него уже на границе в Рафии меня ожидали бы большие трудности, потому что иудейские сборщики податей, видимо, превосходят всех прочих по навязчивой тщательности и дотошности расспросов.
Почему я путешествую по поручению царицы, а не заведу собственное дело? Какое количество бальзама я намерен купить и как собираюсь его перевозить? Только по суше? Или также на корабле, и если да, то из какой гавани? Каким образом собираюсь я оплатить товар? Золото? Серебро? Или обмен на другой товар? Или и то и другое? Если да, то в какой пропорции?
Они перерыли наш багаж сверху донизу, но Салмо шепотом приказал мне не мешать им. Потом он в цветистых выражениях похвалил старание и усердие служащих, представился евреем на службе у египетской царицы и — я даже не заметил, как — сунул этим господам несколько кусочков серебра. Мы получили папирус с печатью — что-то вроде пропуска, который подтверждал, что мы официально проверенные путешественники и едем по своим делам.
Так что мы спокойно поехали на своих мулах дальше вдоль берега, переночевали в древнем городе Аскалоне и у Асдода свернули на восток, в направлении Иерусалима.
В Аскалоне Салмо обнаружил недалеко от гавани увеселительное заведение с девочками, но когда мы хотели войти туда, еще в передней на нас пахнуло таким ужасным запахом, что мы поскорей выбежали обратно.
— Наверное, это лупанарий для моряков, которые за долгое плавание так изголодались по женщинам, что им ничего не может помешать.
Вместо этого мы завернули в трактир и пробовали там местное вино, пока языки наши не начали совсем заплетаться.
По пути Салмо рассказывал мне историю народа Израиля, сократив пять книг Моисея до удобных историй, однако на Антипатре и его сыновьях он остановился подробней. «Потому что, — сказал он, — если ты не будешь этого знать, господин, в Иерусалиме тебя не воспримут всерьез, и царица с таким же успехом могла бы послать вместо тебя какого-нибудь мула».
Я поднял руку, собираясь наказать его за дерзость, но он смеясь увернулся.
— Нельзя бить свободного еврея, даже за безобидную шутку.
Мне ничего не оставалось, как тоже рассмеяться и пообещать исправиться.
Глава 11
Мы прибыли в Иерусалим в начале мая, где-то между пессахом и праздником недели. Как оказалось, Ирода не было в городе: он отправился куда-то в Азию на встречу со своим другом Антонием, к которому после смерти Брута и Кассия с согласия Октавиана перешли римские восточные провинции. Он отправился, так сказать, с инспекцией, намереваясь посетить все важнейшие города подвластной ему обширной области. Вряд ли нам имело смысл последовать за ним, ведь никто не знал, где именно пребывает сейчас Марк Антоний и где должна была произойти его встреча с Иродом. Ожидали, что Ирод вернется месяца через два, а до тех пор мне следовало терпеливо ждать его в Иерусалиме.
Теперь мое поручение представилось мне довольно бессмысленным. Ирод, видимо, был не прочь возобновить былую дружбу с Антонием, а в это время я должен переманить его от Рима и представить в выгодном свете союз с Египтом.
У меня оставалась единственная надежда на то, что вспыльчивый и надменный Ирод поссорится с Антонием, и тогда это предложение покажется ему достойным внимания. При этом вовсе не понадобится обманывать римлян, потому что договор с Клеопатрой будет касаться только Египта и Палестины. Рим при этом ничего не теряет, но царица восстанавливает прежние границы государства. Я не стал больше ломать себе голову. У меня было поручение, которое я должен был выполнить, хотя,
откровенно говоря, я немного побаивался этого жестокого араба. Подобные тираны иногда выражают свой ответ тем, что велят изувечить или убить послов.
От Салмо мне в это время проку было немного, потому что почти каждый день он под каким-нибудь важным предлогом просил его отпустить. Сначала это были многочисленные члены его большой семьи, которых он должен был навестить, потом — друзья, а кроме того, он просто хотел походить и прислушаться, что нового говорят о политике. Тогдашний Иерусалим не очень меня впечатлил, может быть, потому, что я прибыл из Египта, где немало было больших городов и старше, и красивее его. Тому, кто, как я, знал Фивы, Мемфис и Александрию, не особенно понравился бы этот город с кривыми улочками и узкими вонючими переулками. Храмы, разрушенные вавилонянами, тоже не являли собой прекрасного зрелища, видимо, их восстанавливали только по необходимости. Говорят, при Ироде город стал совсем другим, но об этом мне ничего не известно.
Я чувствовал себя здесь немного потерянным, по-арамейски я ни слова не понимал. Правда, общаться я мог с помощью греческого: этот язык понимали в лавках покрупнее и им владели все образованные люди.
Салмо нашел для нас две комнаты на одном постоялом дворе недалеко от дворца Хасмонеев. В Нижнем Городе, у так называемых Мусорных ворот, он обнаружил также довольно чистый лупанарий. «Приятное разнообразие среди этой неизменности», — подумал я и пошутил:
— Ну теперь я действительно должен пойти в Иерусалим, чтобы переспать с какой-нибудь еврейкой, хотя их и в Александрии немало.
На лице Салмо вновь появилась его обычная дерзкая ухмылка, к которой я уже успел привыкнуть.
— Закон здесь запрещает иудейкам проституцию. Ты можешь найти там девушек из Сирии, Месопотамии, Азии, Эллады… Но если ты хочешь лечь в постель с иудейкой, тебе придется жениться на ней или подцепить какую-нибудь вдову — это для иностранца не так-то просто.
В последние дни я стал замечать, что Салмо выглядит каким-то растерянным и затравленным, не отпускает больше никаких шуточек и часто настороженно выглядывает в окошко.
— Что, обесчестил какую-нибудь девушку и боишься теперь ее отца и братьев? — пошутил я.
Но он даже не улыбнулся.
— Нет, это совсем другое…
Вскоре я все же узнал, в чем дело. Однажды утром, еще до того, как мне удалось предпринять поход в лупанарий, ко мне пришли двое солдат из городской стражи и спросили, состоит ли у меня на службе Иона бен Наум. Я ответил, что нет и что моего слугу зовут Саломон, или Салмо. Тогда они попросили меня пройти с ними, чтобы опознать этого человека.
Убежденный в том, что произошла какая-то ошибка, я проследовал за ними в городскую тюрьму — мрачное здание на севере Верхнего Города. То, что лежало там скорчившись на полу на гнилой соломе, мало походило на моего слугу Салмо. Стражники грубо рванули его кверху, и я увидел разбитое лицо с одним закрытым и одним наполовину приоткрытым глазом. Губы его опухли и потрескались, нос был сломан в двух местах, подбородок в крови.
— Салмо? — спросил я дрожащим голосом.
Из распухших губ вырвался какой-то неясный хрип, но я все же узнал его по волосам и по одежде.
— Это действительно мой слуга Салмо, но почему он…
— Сейчас ты это узнаешь!
Их начальник говорил на ломаном греческом. Не то чтобы он был недружелюбен, но в его действиях сквозила такая скука и равнодушие, что понятно было: ему ежедневно приходится сталкиваться с подобными делами.
Меня привели в здание суда, которое находилось неподалеку от дворца Хасмонеев. Спустя примерно полчаса появился какой-то молодой усердный чиновник, видимо что-то вроде следователя, и начал расспрашивать меня. Сначала он хотел знать все обо мне, и я продолжал изображать из себя торговца — надеюсь, убедительно. Да, я здесь по пути в Иерихон, захотел остановиться на несколько дней, чтобы посмотреть знаменитый Иерусалим и дать возможность моему слуге навестить друзей и родственников. Табличка с царской печатью, кажется, не особенно его впечатлила — похоже, он счел ее фальшивой. Затем я должен был сообщить ему все, что знаю о Салмо, — это было совсем немного. Чиновник кивнул.
— Я тебе верю. Но Иона — так в действительности зовут твоего слугу, это выяснилось, когда его хорошенько допросили, — скрыл от тебя важную часть своей жизни. Прежде чем он стал солдатом и принял имя Саломон, он принадлежал к шайке разбойников пресловутого Эцехии. Он один из немногих, кому удалось уйти от суда. Это следует исправить. Впрочем, все дальнейшее тебя не касается. Иона бен Наум долго значился в розыскных списках. К сожалению, он был так неосторожен, что решил вновь встретиться со своими родственниками и старыми друзьями. Так как Ирод и первосвященник Гиркан сейчас в отъезде, рассмотрение этого дела мы отложим до их возвращения.
— Могу ли я сделать что-нибудь для Салмо, то есть для Ионы? Он был мне хорошим слугой, и я хотел бы…
— Ирод уже на пути к Иерусалиму. Вероятно, он прибудет на следующей неделе. Если хочешь, подожди его, но ты ничем не сможешь помочь Ионе.
Я проклинал мое поручение и всей душой стремился назад в Александрию, назад в Брухейон, где каждый меня знает и где я пользуюсь большим уважением как личный врач царицы. Здесь я всего лишь какой-то нежелательный иностранец, язычник, вызывающий отвращение у иудеев. То, что я почитаю моих богов скорее по традиции, чем по велению сердца, не имело здесь никакого значения. Многие ученые греки древности в своих сочинениях говорили не о богах, а о божестве. Вера иудеев в единого Бога привлекала меня, хотя их связанные с этим правила и обычаи казались мне скорее отталкивающими. Вся их религия представляла собой нагромождение заповедей и запретов, из которых только немногие можно было как-то разумно объяснить.
Когда я в каком-то трактире потребовал кружку молока, хозяин почти лишился чувств и только растерянно кивнул на мою тарелку с колбасой. Ладно, к этому я привык, но с какой стати от меня, иностранца и язычника, требовать соблюдения Субботы — с этим я никак не мог согласиться. Снова и снова я невольно нарушал эту заповедь, и каждый раз получал предупреждение — будь я иудеем, меня бы высекли на переднем дворе храма, как происходило каждую неделю по нескольку раз с мелкими нарушителями закона.
Я очень беспокоился о моем слуге Салмо. Может быть, они убьют его там в тюрьме. Судя по тому, как он выглядел, он вполне мог умереть и от ран. Когда я попытался узнать что-нибудь о нем, мне ответили, что меня своевременно известят. О чем? Этого они не сказали.
Настало время позаботиться о подарке для Ирода и его брата. Египетский торговец внимательно изучил выданное мне царицей удостоверение и со вздохом сказал:
— Ирод любит роскошь и обладает хорошим вкусом. Так что подарок должен быть дорогим и изысканным. Я посмотрю.
Он достал мне золотой столовый прибор для смешивания вина с водой: два прекрасных кувшина, украшенных изысканной резьбой и четыре таких же бокала. Из уважения к иудейским традициям, выгравированный орнамент изображал различные элементы растений, а ни в коем случае не людей или животных.
Ирод и его брат Фасаил возвратились из Азии в июне. Прибытие их было обставлено чрезвычайно пышно. В этот день не было и намека на непопулярность Ирода. На всем пути его следования улицы были заполнены ликующими толпами. Правда, где-то на заднем плане я замечал и людей, лица которых не выражали особенного восторга, но ведь известно, что пятерых громко кричащих людей во всем квартале слышно, а целую сотню молчащих совсем незаметно. Вокруг было много людей, говоривших по-гречески, так что я уже в первые часы услышал, что привезли с собой Ирод и Фасаил от Антония: титул правителей. Он назначил их обоих тетрархами Иудеи, они получали власть над Идумеей, Иудеей, Галилеей и Самарией. Правда, для Фасаила этот титул не имел особого смысла: все знали, что он является лишь тенью своего брата, и сам он считал это совершенно справедливым.
Я не рассчитывал на аудиенцию в ближайшее время, но, видимо, на этот раз печать царицы все же возымела свое действие. Спустя четыре дня после возвращения Ирод принял меня в своем доме. Я заранее попросил знакомого торговца, чтобы он передал мой подарок через час после начала аудиенции. При въезде Ирода в город я в общем-то и не увидел его, теперь же он предстал передо мной, приветливо улыбающийся, и легким кивком ответил на мой глубокий поклон.
— Я приветствую тебя, Олимп из Александрии, и хотел бы извиниться, что заставил тебя так долго ждать.
Это был человек, о котором говорили, что он погубил себя, войдя в историю. Он был строен, среднего роста, хорошего сложения. На бронзовом от загара лице с правильными чертами выделялись миндалевидные глаза и высокий гладкий лоб. Щеки и подбородок скрывала лишь короткая черная бородка. Это было необычно для высокопоставленного иудейского сановника: здесь вокруг все были бородачами. Возможно, этим он хотел подчеркнуть, что он не иудей. Этот человек излучал силу и достоинство. Взгляд его был спокоен и тверд, но при этом странно пуст, может быть, оттого, что зрачки были совершенно незаметны в черноте его глаз. Он протянул руку и спросил:
— Где послание твоей царицы?
Все смотрели на меня с любопытством: Ирод, оба чиновника позади него и даже телохранитель у двери.
— Согласно воле царицы, я должен передать его устно и, если ты позволишь, без свидетелей.
Он оглядел меня, делая вид, что раздумывает.
— Хорошо, я согласен. Может быть, мне стоит позвать моего брата, тетрарха Фасаила. Но нет, не надо, я потом все ему сообщу.
Я сказал все, что следовало, и, учитывая положение дел, был готов к тому, что Ирод высокомерно высмеет это. Но я плохо его знал. Он с вежливым вниманием выслушал меня спокойно и до конца.
— Это надо обдумать, Олимп, — сказал он. — Очень заманчивое предложение: объединить наши земли, так чтобы они находились под властью одного правителя — досточтимой царицы Клеопатры, — разумеется, с согласия Рима и под защитой его оружия. Я стал бы тогда проконсулом Иудеи, — заранее можно сказать, что Рим согласится с этим, — а это не намного меньше, чем тетрарх. Однако, дорогой Олимп, пока твоя царица обдумывала это решение, колесо истории уже повернулось дальше — не без нашего участия, конечно, но — позволь мне такое сравнение — мы при этом приложили разве что мизинчик.
Он приветливо улыбнулся, с готовностью изображая человека, которого фортуна неожиданно одарила своими милостями.
— Как ты знаешь, мой уважаемый отец, наместник Антипатр, после смерти Цезаря выступил в поддержку претора Кассия, и мы, его сыновья, соответственно тоже. Но ведь каждый может заблуждаться. Теперь мы исправили свою ошибку, и несмотря на ревностные старания синедриона очернить нас перед Антонием, первосвященник Гиркан был настолько умен, что предложил назначить тетрархами меня и Фасаила.
Он улыбаясь воздел руки, будто это безмерно поразило его. Я дерзко поинтересовался:
— То, что члены синедриона не особенно умны, они доказали уже своим приговором против тебя. Все в стране были рады избавлению от этого произвола разбойников, но вместо заслуженной благодарности тебе пришлось покинуть страну. Ты тоже признаешь за ними право на заблуждение?
Казалось, его вовсе не смутил мой несколько неподобающий вопрос.
— Я признаю это право за отдельным человеком, а не за собранием из семидесяти одного мужчины. Они могли бы посовещаться и прислушаться не к глупцам, а к наиболее умным из них. Ну, там видно будет.
При последних словах лицо его изменилось: из-под спокойной вежливой маски на мгновение проглянула хищная волчья морда с оскаленными клыками и сверкающими глазами. Мне послышалось даже легкое угрожающее рычание, или мне это только показалось?
Он снова приветливо улыбнулся.
— Таков мой ответ, Олимп. А теперь я тоже возьму на себя роль посла и передам тебе известие от Марка Антония. Он приглашает твою царицу, досточтимую Клеопатру, провести лето в Тарсе, на Киликии. Так как Цезарь теперь мертв, необходимо вновь обсудить отношения между Римом и Египтом. Твоей царице предстоит нелегкое дело, но с ее тонким политическим чутьем она наверняка найдет верное решение.
Это было сказано очень вежливо, но его черные как ночь глаза подозрительно сверкнули. Что в них мелькнуло — ирония? А может быть, радость или даже злорадство? Я не знаю. Возможно, удовлетворение от того, что его зерно надежно упрятано в амбарах, в то время как Клеопатре вновь предстоит бороться за свою страну. К счастью, появление посыльного избавило меня от ответа.
Ирод искренне обрадовался подарку. Его лицо просияло, и он в изысканных словах выразил свою благодарность и похвалу. Я решил воспользоваться этим благоприятным моментом.
— Смею ли я просить тебя, правитель?
— Смелее, не стесняйся! Мне было бы приятно оказать любезность послу ее величества.
Я в нескольких словах рассказал о судьбе моего слуги Салмо, не очень надеясь, правда, что смогу что-нибудь сделать для него. Ирод выслушал меня с невозмутимым видом.
— Теперь он сидит или, вернее, лежит в городской тюрьме и ждет приговора. Однако синедрион не хотел ничего предпринимать до твоего возвращения.
— Это очень мудро с его стороны, очень мудро. Я очень рад, Олимп, что могу оказать тебе эту небольшую услугу. Иона бен Наум, который зовется теперь Саломоном, решил исправиться и поступил в солдаты на службу к моему отцу. Как тетрарх Иудеи я могу помиловать его еще до вынесения приговора, и я сделаю это теперь же. Саломон может быть свободен уже сегодня.
Прежде чем я смог как подобает выразить свою благодарность, в зал вошел человек, поразительно похожий на Ирода, но все его черты были несколько мягче. Стройного Ирода с его узким красивым лицом можно было уподобить разящему мечу, в то время как Фасаила — ибо это был он — следовало сравнить скорее с затупленным ножом. Он был ниже, полнее, лицо его было несколько шире, а карие глаза излучали мягкость и благодушие.
— Фасаил!
Ирод сердечно обнял брата и представил меня ему. Затем он в нескольких словах изложил цель моего приезда и упомянул также о случае с моим слугой. Фасаил слушал, кивая головой.
— Ты, как всегда, поступил правильно, я сам не мог бы сделать лучше.
Лицо Ирода просияло от удовольствия, как будто он с нетерпением ожидал согласия старшего брата.
Затем меня милостиво отпустили. Я получил в подарок красный, красиво расшитый кошель с двадцатью четырьмя ауреями, а царице преподнесли десять кувшинов превосходного иерихонского бальзама. На одной стороне новеньких золотых монет была отчеканена голова Антония, а на другой — богиня победы Виктория с лавровым венком и пальмовой ветвью. «Если усматривать в этом подарке некоторую политическую подоплеку, — подумал я, — то она довольно мирная, потому что Виктория с пальмовой ветвью символизирует миролюбивую, готовую к переговорам победительницу».
Ирод сдержал свое слово. Салмо вернулся через два дня. Он был очень слаб и весь изранен. У него был выбит глаз и сломано два или три ребра. Но, несмотря на это, он пытался шутить, хотя и не совсем удачно:
— Вообще-то я уже готов был оказаться на кресте, а не под твоим крылышком…
Что-то удержало меня от того, чтобы предстать его единственным спасителем, так что я сказал:
— По поводу назначения Ирода и Фасаила тетрархами была объявлена амнистия, и ты как раз под нее попал.
— Амнистия? — взглянул он на меня с сомнением. — Это совсем не похоже на Ирода, и я что-то не заметил, чтобы еще кого-то отпустили.
— Конечно, во время аудиенции я называл твое имя и напомнил, что со слугой посла нельзя обращаться как с каким-нибудь подлым разбойником. Я упомянул также, что ты был солдатом у Антипатра — ну, и все это вместе…
— Солдатом! Теперь это все прошло! Одноглазый уже не может хорошо управляться с луком, копьем или мечом. Мне, видимо, придется стать поденщиком. Во всяком случае, я благодарен тебе за то, что остался в живых, и попытаюсь как-нибудь доказать это на деле.
У меня возникла идея.
— Послушай, Салмо, — воскликнул я, — это очень легко сделать. Хочешь быть моим слугой? Для этого достаточно будет и одного глаза. Тогда тебе не придется становиться поденщиком, и ты сможешь и дальше кормить семью. Я научу тебя всему, что должен уметь помощник врача. Это интересная и ответственная работа.
— Ты доверишь мне это?
На его разбитом, израненном лице промелькнуло что-то вроде отчаяния и страха. Мне стало жаль его, и я почувствовал, что почти полюбил его за время нашего путешествия.
— Да, — твердо сказал я, — и это, и многое другое. А теперь давай поскорее собираться в обратный путь.
Впрочем, до этого мне предстояло еще побывать на помолвке Ирода и хасмонейской принцессы Мариамны. Она была внучкой первосвященника Гиркана, и Ирод хотел таким образом породниться со старинным, уважаемым в Иудее родом. Хотя тетрарх еще был женат на Дорис, матери своего сына Антипатра, однако эта Дорис уже стала для него не важна и вскоре должна была получить отставку. Его сын Антипатр, названный в честь отца Ирода, терял при этом право первородства и становился незаконнорожденным.
По поводу помолвки было устроено пышное празднество, на котором Ирод впервые предстал как правитель, в цветном, необычайно пышном облачении. Маленькая стройная Мариамна была молчалива и скрывала свое лицо под покрывалом. Распорядитель передвигал ее то туда, то сюда, точно куклу. Невесте было всего одиннадцать, так что свадьба должна была состояться только через несколько лет.
Обрадованный, что теперь наконец-то можно ехать, я вернулся на постоялый двор и приказал Салмо раздобыть для нас трех хороших мулов. Но не успел он вернуться, как явился посыльный от Ирода и передал мне письмо из Александрии. Оно было скреплено двумя печатями: Клеопатры и Протарха.
«Олимпу, Нашему послу в Иерусалиме… Наша милостивая повелительница, царица Клеопатра, отправляется в августе в Таре по приглашению славного, одержавшего много побед полководца Марка Антония. Царица предлагает тебе отправиться туда сразу из Иерусалима, чтобы заранее засвидетельствовать императору наше глубокое уважение, и подготовить все к прибытию царицы».
Итак, Марк Антоний носил теперь титул императора, который присваивали полководцу, одержавшему много важных побед.
Текст был написан по-гречески, но внизу было несколько строк на египетском:
«Присмотрись к Антонию и постарайся разведать его намерения. К.»
Прочитав послание, я спросил себя, не было ли оно прежде открыто в доме Ирода. Впрочем, это, кажется, было уже не важно.
Когда Салмо вернулся с мулами, я хлопнул его по плечу и сказал нарочито бодрым голосом:
— Твоей семье придется еще немного подождать: судьба в образе нашей царицы направляет наш путь на север, а не на юг. Мы оправляемся в Таре, столицу Киликии.
Он воспринял это известие спокойно.
—Жена и так вряд ли меня ждет, да и не такое уж это далекое путешествие. Вот только неплохо было бы послать им немного денег.
Я вытащил кошель с ауреями и протянул ему пять золотых.
— Подарок Ирода послу и его слуге. Наш египетский торговец может все устроить. Но скажи ему, чтобы он направил деньги во дворец, а не сразу твоей семье. Чиновники там надежные и передадут их твоей жене.
Мы отправились из Иерусалима в Тир, древний портовый и торговый город, а оттуда на небольшом паруснике отплыли в Таре, который, против ожиданий, был расположен несколько в глубине страны, на реке Кидн. Парусник доставил нас в маленький речной порт, где было очень оживленно, и суда толпились, как овцы в загоне. Оттуда мы на лодке добрались до города.
Марк Антоний занимал древний дворец сатрапов и властителей Киликии. В дворцовом квартале царило оживленное движение, как в Риме между Форумом Романорум и Форумом Боариум, и повсюду слышалась разноязыкая речь.
Марк Антоний принял меня уже на следующий день.
Глава 12
С приездом Марка Антония сонный Таре оживился. Все постоялые дворы — и хорошие и плохие — были переполнены. Однако Салмо удалось разыскать на рынке еврейского торговца вином, который за хорошую плату предоставил нам комнату на несколько дней.
Евреи жили в Тарсе в отдельном квартале, в котором были две синагоги, несколько школ, бани и кошерные лавки. Я снова с удовольствием отметил, что этот народ очень любит чистоту и — в противоположность свободным грекам — даже среди богатых людей у них считается зазорным не владеть никаким ремеслом.
В доме торговца вином мы немного отдохнули с дороги, а потом разыскали баню и основательно вымылись. На следующий день я отправил Салмо с письмом во дворец, к императору Марку Антонию.
«Олимп, чрезвычайный посол ее величества царицы Клеопатры, почтительнейше просит о краткой аудиенции».
Я был готов к тому, что ответа придется ждать несколько недель и никак не предполагал, что буду принят уже на следующий день. Сегодня я знаю, что тогда Египет был для Антония первоочередной проблемой, потому что часть сенаторов в Риме выступала за его немедленный захват.
В ответе, подписанном секретарем Антония, говорилось:
«Марк Антоний, император, приглашает посла Олимпа сегодня вечером на симпосий».
Я больше предпочел бы разговор с глазу на глаз, но, возможно, все еще было впереди. В последний раз я видел Антония пять лет назад в Риме, и его облик отчетливо запомнился мне.
Теперь же я его почти не узнал. Его широкое суровое лицо избороздили глубокие морщины, под покрасневшими глазами появились мешки, верхняя губа ввалилась, вероятно, потому, что не хватало нескольких передних зубов. На помятом лице отражались следы разгульных ночей. Впрочем, все это никак не выражало его физического состояния. Он был высок, силен и мускулист. Рядом с ним Октавий показался бы слабым карликом. Он быстро и решительно шагнул мне навстречу, сильно пожал руку и сказал громким, слегка хриплым голосом:
— Олимп! Я вижу, вместе с именем ты сменил и призвание! В Риме я знал тебя как личного врача Гиппократа, а теперь ты стал политиком. Ты решил навсегда оставить врачебное искусство? Политика — это опасное ремесло, и многим оно стоило жизни, как ты увидел за последние годы.
— Конечно, император, но я стал послом только на время и скорее случайно. Я по-прежнему остаюсь врачом, а имя я сменил по желанию царицы, которая решила, что Олимп — не очень мне подходит, и назвала меня в честь моего великого предшественника.
Он хлопнул меня по плечу — так сильно, что оно болело у меня еще несколько дней.
— Как бы там ни было, я рад тебя видеть. У тебя есть какое-нибудь послание или грамота царицы?
Я ожидал этого вопроса и был готов к нему.
— Нет, император. Все, что нужно, она обсудит с тобой сама, когда прибудет. Я прибыл, только чтобы подготовить все к ее встрече. Но могу сказать, что царица едет сюда с доверием и готовностью поддержать Рим, который связывает с Египтом договор о дружбе.
Антоний громко и сердечно рассмеялся.
— Охотно этому верю! Что был бы Египет без Рима? Но не забывай, что этот договор с Клеопатрой заключил божественный Цезарь.
— И она была верна ему и после его смерти, когда поддержала его друзей и наследников, выступивших против убийц — сначала Долабеллу в Сирии, потом тебя, Октавия и Лепида против Брута и Кассия. В том, что ее флот погиб во время бури, ты должен обвинять богов, а не ее.
— Да, богов! — усмехнулся император. — На них нельзя положиться, и, однако, мы все равно чтим их. Ну, хватит об этом — в честь твоего прибытия я решил устроить симпосий. Надеюсь, он тебе понравится и запомнится.
Конечно, я возгордился этим, пока не увидел позднее, что Антоний по каждому поводу устраивал попойки. Впрочем, это слово не подходит для симпосиев, которые Антоний превращал в настоящие представления.
Когда мы вошли в небольшой праздничный зал, все гости, собравшиеся там — их было около двадцати, — поднялись перед своим полководцем. Антоний представил меня им как чрезвычайного посла из Египта и затем познакомил меня с каждым из них в отдельности. Все они были высшими офицерами из легионов Антония, старые братья по оружию и застолью, все примерно ровесники императора, которому тогда уже минуло сорок лет. Кое-кто из них почти не скрывал своей неприязни к «египтянину» — это они позднее отговаривали Антония от союза с Клеопатрой.
Потом Антоний дружески обнял меня за плечи и повел к деревянному подиуму в торце зала, где разместились музыканты.
— Анаксенор! — крикнул Антоний. — Встань и покажись!
Тот поднялся, бережно отставил свою кифару и спустился
с помоста. Это был некрасивый полноватый мужчина. Он поклонился, и на его помятом, сильно накрашенном лице появилась рабская улыбка.
— Это наш кифарист, лучший в мире, и это не только мое мнение. Он обходится мне очень дорого, но ты ведь стоишь того, не правда ли?
Анаксенор льстиво улыбнулся и поклонился еще несколько раз.
— Для маленького музыканта нет большего счастья, чем служить тебе, император, большего никто и не мог бы ждать от жизни.
Антоний громко рассмеялся.
— Маленький музыкант! Да это все равно что назвать талант золота жалкими грошами!
Антоний повсюду славился своими шутками, но эти его слова, как я вскоре понял, были самой настоящей правдой. В Азии каждый ребенок знал имя Анаксенора, а в его родном городе Магнезии ему воздвигли памятник перед театром. Антоний постепенно передал ему доходы от четырех городов и приставил к нему личную охрану. Должно быть, назначенным для нее офицерам это показалось не очень почетным заданием.
Затем мне был представлен еще флейтист Ксютос, который держал свою флейту, точно скипетр, и с таким достоинством сошел с помоста, как будто был королем, спускающимся со своего трона.
Конечно, император собрал у себя лучших поваров Тарса. Подаваемые блюда, хотя и не такие утонченные и изысканные, как при дворе в Александрии, были приготовлены смело и иногда даже с нарочитой простотой. В основном это были дичь и птица. Видимо, Антоний не особенно любил блюда из речных и морских обитателей. К моему удивлению, слуги разбавляли вино тремя частями воды. Но, оказывается, это делалось, чтобы избежать преждевременного опьянения. Зато после еды все гости могли как следует подналечь на неразбавленное вино.
Музыканты играли спокойные, умиротворяющие мелодии. Анаксенор необычайно виртуозно вступал время от времени с сольными партиями, которые гости встречали громкими аплодисментами. Сомневаюсь, что они действительно так нравились этим грубым воякам. Просто они знали о пристрастиях своего императора, и поскольку они почитали его как бога, то старательно хлопали его любимому музыканту. На самом деле, это была чисто солдатская пирушка. Блюда подавали молодые легионеры. Их лица были невозмутимы, но, когда они приближались к императору, руки их начинали дрожать, а глаза светились.
Причины этого легко объяснить. В последующие дни моего пребывания в Тарсе я много раз наблюдал, как Антоний обращается со своими легионерами. Вот он возвращается после дня, проведенного в суде, и, спрыгивая с лошади, кричит часовым у ворот:
— Ребята, я так голоден. Я не могу ждать, пока там повара приподнимут свои задницы. Я лучше поем с вами.
Потом он садился за стол с этими простыми вояками и уплетал ржаную кашу из походной кухни. Когда Антоний находился вне дворца, любой из его людей мог обратиться к нему безо всяких церемоний. Он не выказывал ни малейшего высокомерия, добродушно шутил и серьезно рассматривал все доклады или прошения, даже если они могли показаться ему не столь уж важными.
Впрочем, вернемся к симпосию, на который я возлагал столько надежд. Казалось, что он уже подходит к концу. Антоний предался старым воспоминаниям со своими офицерами. Я вежливо слушал, но все это меня совершенно не трогало. Тем временем убрали посуду, все выглядело так, как будто праздник окончился. Я уже отвернулся, чтобы украдкой зевнуть, но тут меня разбудила внезапная барабанная дробь.
Дверь распахнулась, и появилось множество полуодетых рабынь в коротких хитонах
[50]. Их узкое платье было присобрано так, что одна грудь была обнажена, как у легендарных амазонок. Каждая из девушек несла факел, чтобы осветить процессию фокусников, которые на ходу кувыркались, глотали огонь, жонглировали различными предметами. Музыканты освободили подиум, и теперь на нем показывали свое удивительное искусство акробаты.
Молодые легионеры, прислуживавшие нам, исчезли. Теперь их заменили киликийские дворцовые рабы. Они внесли маленькие запыленные кувшины, в которых обычно хранят только старое драгоценное вино. Подняв один из кувшинов, Антоний прочитал на печати:
— «Двенадцатилетний Самос — а здесь девятилетнее вино из Родоса».
Эти вина были густыми, как масло, сладкими и почти черными. Слуги подали к ним острую и очень соленую закуску: обжаренные кусочки баранины, вывалянные в соли и в меде, колбасу, которая просто горела во рту, перченые фиги и финики, соленые орешки, маринованный лук, огурцы и фрукты.
Потом фокусников сменила толпа сильно накрашенных актеров. Они представили что-то вроде театра теней с довольно смелыми шутками. Гвоздем программы стала сцена, представляющая один из подвигов Геракла, — и неспроста. В ней рассказывалось о том, как царь Феспий предлагает герою 50 своих дочерей. На сцене появился мускулистый великан Геракл. Он подошел к покрытому мехом ложу, прежде чем опуститься на него, приподнял хитон и показал свой фаллос, видимо, искусственно удлиненный, который по размерам сравним был с бычьим. Затем вошли дочери царя. Геракл, осчастливливая каждую, использовал разнообразные позы: спереди, сзади, стоя, лежа. Впрочем, поскольку вариантов было все же не так много, то некоторые из них повторялись. Но самой важной была завершающая сцена, когда Геракл встречает самую младшую дочь царя. К этому моменту снова были зажжены все факелы. Геракл поднял прекрасную девушку как некий приз и осторожно положил ее на ложе. Он ловко снял с нее хитон и взмахнул им, как трофеем. Потом опустился на ложе, лаская грудь девушки. При этом видно было, как набухает его могучий фаллос, который он, как копье, нацелил в ее открытое лоно.
Если предыдущие сцены были сыграны немного торопливо, то теперь все происходило медленно и торжественно: Ксютос, флейтист, сопровождал действие медленной мелодией, затем тихо вступили барабаны, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. И в том же ритме двигалась пара да сцене, пока оба не издали ликующий крик: Геракл — низкий и хриплый, девушка — высокий и протяжный — пронзительный крик страсти, который долго еще звучал в ушах.
Затем девушки с факелами закрыли эту любовную пару занавесом, и если теперь снова все хлопали и ликовали, то уже не только из желания понравиться императору.
Вышел ритор и торжественно объявил:
— От этой связи рождены были близнецы Антей и Гиппей, и от первого ведет свой род наш высокочтимый император Марк Антоний. Слава ему! Слава! Слава!
Увлекшись представлением, я уже не соблюдал меру в вине и пил его бокал за бокалом, как воду. Несмотря на открытые окна, в зале было душно и жарко, к тому же соленые и острые закуски возбуждали дикую жажду. Я вздрогнул от того, что кто-то вдруг хлопнул меня по плечу. Я услышал хриплый пьяный голос императора:
— Ну, посол Олимп, как тебе нравится мой симпосий — или, вернее сказать, твой симпосий? Встреча с моими предками возбудила тебя немного? Меня — да! Теперь еще немного терпения — самое лучшее впереди.
После следующих двух выступлений мужчины-танцовщики исчезли. Из музыкантов остались только барабанщик и флейтист. Может ли музыка быть непристойной? Я не знаю, но то, что оба они потом заиграли, звучало как некое озвученное инструментами соитие: оно было ритмично, сладко, волнующе и медленно нарастало. Теперь появились девушки. Они протанцевали вокруг Антония, затем вокруг меня, почетного гостя.
— Возьми себе одну из них, Олимп, или две, или три…
Мой затуманенный вином взгляд не мог уловить особой
разницы между ними: одна была чуть повыше, другая чуть меньше, одна рыжеволосая, другая темненькая, у одной грудь большая, у другой средняя или маленькая. Я выбрал себе наугад одну из них, стройную и рыжеволосую, которая сразу же села мне на колени, выпила глоток вина и съела финик.
Спустя некоторое время воины уже развлекались с девушками, отбросив всякий стыд. Видимо, они уже не в первый раз занимались этим вместе со своим жизнерадостным императором. Разговоры постепенно умолкли, слышался только шепот, стоны и вздохи.
Ксения — так звали мою красотку — потихоньку щебетала что-то и ласково поглаживала меня. Мне стало жарко и душно, захотелось на воздух или в ванну.
Я встал и обратился к одному из офицеров, который как раз направлялся к двери.
— Что, Олимп, хочешь освободить место для нового вина?
— Нет, я хотел бы искупаться — вместе с Ксенией…
— А, ты, оказывается, сибарит. Ну, бери девушку, я покажу вам.
Небольшая баня была устроена во внутреннем дворе. Офицер разбудил раба, но я велел ему только принести два полотенца и снова отослал его.
— Сегодня я сам буду банщиком, — галантно сказал я, и мы вместе вошли в наполненную теплой водой ванну. Потом мы расположились на удобных отполированных лежанках. Мое опьянение еще не совсем прошло, меня охватило чувство приятной расслабленности. Мне было хорошо с Ксенией. Не то чтобы я испытывал сильный прилив страсти, скорее мне хотелось с ней поговорить, тем более что мне уже очень давно не выпадало случая поговорить с женщиной.
К чести греческих гетер можно заметить, что почти все они имеют некоторое образование. Многие умеют читать и писать, могут играть на лире, петь или декламировать и танцевать.
Я задавал Ксении самые разные вопросы, и она, видимо почувствовав мою потребность в беседе, подробно на них отвечала.
Таким образом, передо мной предстала картина разорения семьи владельцев небольшого поместья, которая беднела на протяжении трех поколений.
— Уже моему дедушке пришлось разделить наследство с тремя братьями и при этом заботиться еще о двух сестрах. Причиной упадка нашей семьи послужила ее плодовитость. В других семьях тоже бывает много детей, но, как правило, половина или две трети из них умирают. У нас же все оставались живы. Вот так и получилось, что от больших владений осталось только маленькое поместье. А когда моя бабушка родила еще семерых детей — четыре сына и три дочки, — оно стало совсем крохотным. Мой отец вынужден был выполнять работу поденщика, особенно во время сбора урожая. Ему не повезло: у него родились только дочки. Конечно, он мог бы нанять работников, но на это у него не было денег. Вот он и продал меня и одну из моих сестер — мы были самыми младшими — как рабынь. Сестру — владельцу какого-то поместья, а меня — в школу гетер Ксантиппы.
— В школу гетер? — переспросил я. — Что ты имеешь в виду? Это что — более красивое название какого-нибудь увеселительного заведения?
Ксения тихо рассмеялась и грациозным движением отбросила назад свои прекрасные волосы.
— Вообще, ты, конечно, прав: иногда за этим названием скрывается именно такое заведение. Но в данном случае это не так, и мой отец хорошенько проследил, чтобы я не попала в одно из них. Ксантиппа сам называет себя корыстным человеком, который думает только о том, как побыстрее заполучить побольше денег.
Она взглянула в окно, где бледно-розовая заря возвещала о близком начале дня, и быстро поднялась.
— С восходом солнца мы уйдем, и я хотела бы взглянуть, как там остальные. Пойдешь со мной?
У дверей в зал спали часовые, никого из слуг не было видно. Антоний и большинство его офицеров уже ушли, только семь или восемь храпели на ложах. Девушки сидели на краю подиума, дремали, зевали и тихонько переговаривались.
Ксения кивнула мне и подсела к ним. Несмотря на бессонную ночь, она казалась мне милой и желанной, так что я совсем не прочь был бы совершить с ней путешествие по садам Афродиты. Я подошел и поцеловал ее в щечку.
— Мы еще увидимся?
— Это зависит только от тебя. Ты ведь можешь как-ни-будь заглянуть в нашу школу гетер. Там есть на что посмотреть…
Кое-кто из девушек захихикал.
— Почему бы и нет, — сказал я неопределенно и направился к двери. По пути я споткнулся о разбитый кувшин и едва удержался на ногах, что вызвало у девушек новый приступ веселья.
Конюх тоже спал, так что я сам отвязал своего мула и поехал навстречу занимающемуся дню.
Салмо встретил меня словами:
— Как раз когда ты вчера ушел, прибыл срочный посыльный.
Он протянул мне свиток, на котором стояла египетская государственная печать.
Это было уведомление для меня о том, что вчера прибыло официальное египетское посольство, а спустя примерно пятнадцать дней прибудет и царица. Назавтра меня приглашали на совещание, которое должно было состояться на одном из кораблей.
— Ну, теперь мы с тобой просто частные лица, Салмо. Я личный врач царицы, а ты мой будущий помощник. Теперь уж мы найдем, как скоротать время.
Я подумал, что хорошо было бы навестить Ксению в ее школе гетер. Но последующие дни выдались такими напряженными, что было не до этого.
В прибывшем посольстве я не увидел никого из своих знакомых. Все это были люди новые, которых раньше почти никто не знал и которые теперь, получив высокую должность, вышли в свет.
Посол, совсем молодой еще человек, происходил из старинного македонского рода. Возможно, Клеопатра хотела таким образом оказать услугу его семье. Он принял меня на своем корабле, который пришвартовался в устье Кидна, и держался высокомерно. Я намеренно не обращался к нему по имени — тем более что это великолепное имя, в конце концов, было не его заслугой, — а называл его «господин посол».
— Надеюсь, тебе удалось разведать намерения Марка Антония, чтобы царица могла лучше подготовиться к встрече.
Так начал он наш разговор, но я не собирался ему лгать.
— Антоний не был бы императором всего восточного Рима, если бы он рассказывал все первому встречному. Прежде всего, он хочет выяснить, насколько наша царица поддерживала его противников — речь идет о том, не давала ли она денег Кассию, — но, поскольку этого не было, я думаю, проблем тут не возникнет. Напротив, выяснится, что она сразу сначала тайно, а потом явно была на стороне Октавия и Антония и даже пожертвовала ради них своим флотом.
— Значит, ты считаешь, что никакой опасности нет?
— Напротив, и заключается она в том, что среди советников императора также могут найтись враги Птолемеев, которые постараются создать у него невыгодное впечатление о нас. Но, говорят, император любит женщин, а у нас, к счастью, на троне прекрасная царица, и, я думаю, это поможет положительному решению наших проблем.
Молодой посол взглянул на меня осуждающе и сморщил нос, как будто мои слова дурно пахли.
— Не знаю, подобает ли тебе так говорить о нашей божественной царице.
— Если это непозволительно ее личному врачу, то кому же тогда? — дерзко улыбнулся я.
Он тут же потерял всю свою уверенность и пробормотал:
— Прости, но я забыл, что ты…
— Тогда запомни это на будущее. Это может оказаться очень полезным для твоего продвижения по службе.
Он предпочел ничего не отвечать, не зная, насколько близко я состою при царице. К счастью, он вспомнил еще кое-что.
— На нашем корабле оставлено несколько кают для тебя и твоих рабов. Царица желает, чтобы ты въехал в город вместе с ней.
— Очень мило с ее стороны. Но у меня только один слуга, и никаких рабов — так что нам вполне будет достаточно двух кают. Мы переедем сюда на днях.
Конечно, мне пришлось присутствовать на приеме, который устроил император для нового посольства. Но он был не особенно торжественным: Ангоний казался рассеянным и все время думал о чем-то другом. Когда все стали прощаться, он кивнул мне, чтобы я задержался. Это не укрылось от посла, и, наверное, в голове его зародились самые дикие подозрения. Может быть, я подкуплен Антонием или даже предал интересы царицы. Вероятно, он предложил мне должность личного врача — конечно, за двойную оплату, — и я за это выдал ему какие-нибудь государственные тайны.
О том, что молодой, неопытный посол действительно питал такие подозрения, я узнал позднее от самой Клеопатры. Она сердечно посмеялась над этим, и я вместе с ней.
Антоний подвел меня к окну и раздраженно отослал секретаря, который хотел о чем-то спросить его:
— Ради Орка
[51], только не сейчас. Неужели вы не можете на пять минут оставить меня в покое!
— Олимп, — вполголоса обратился он ко мне. — Сегодня утром произошла одна неприятность. Как всегда, некоторые господа, стоит им только освободиться от службы, не находят ничего лучшего, чем засесть в ближайшем трактире и до утра накачиваться вином. Если бы речь шла только о простых воинах, это было бы полбеды, но в этот раз, как мне доложили, два центуриона и два декуриона устроили потасовку в трактире. — Он недоверчиво огляделся и продолжал шепотом: — В этой борьбе — назовем это так — был убит один местный торговец кожами, а двое наших людей были серьезно ранены. В данный момент мне совсем нежелательно возбуждать всеобщее недовольство. Вдове торговца предложили соответствующую сумму за причиненное несчастье, и она согласилась принять ее. Наших раненых я велел доставить сюда и прошу тебя оказать им помощь. Если я доверю их нашим полковым врачам, они всем разболтают об этом, и некоторые горячие головы тут же начнут подумывать о мести. Я знаю моих людей, такое уже бывало. Так что, мой друг, посмотри их и реши, что можно для них сделать.
Должно быть, это прозвучит странно, но я испытал невероятное облегчение, услышав эту просьбу. Я почувствовал себя как рыба, которая долго мучилась на суше, пока ее наконец не бросили снова в воду.
Оба раненых были декурионами. Они лежали на кроватях, бледные, неподвижные, все в крови. Должно быть, они Сражались в первых рядах, защищая своих начальников. Я тут же послал за Салмо, а сам пока осмотрел раненых. Один из них был без сознания, дыхание его было нерегулярным, а лицо временами искажала болезненная гримаса, но, видимо, это был всего лишь рефлекс. Прощупав, я установил, что череп его был пробит в двух местах: рана с левой стороны надо лбом была величиной со сливу и довольно серьезная, а на затылке — чуть меньше, размером с денарий. О прочих его ранах я не стану говорить: их было много, но опасности для жизни они не представляли.
У другого,
видимо, было повреждено легкое: дыхание его было прерывистым, а на губах выступила кровавая пена. Это выглядело страшнее, чем могло быть на самом деле. Если в рану не попала никакая инфекция, то подобные пациенты обычно выживают по одной простой причине: природа создала нас с двумя легкими, а, как показывает опыт, для жизни вполне достаточно и одного.
Тем временем подошел Салмо, и я поручил ему раздобыть необходимые лекарства и инструменты.
Антонию я сообщил:
— С тем, у кого повреждено легкое, не будет особых проблем: рана затянется и он прекрасно сможет жить дальше и с одним легким. У другого же, к сожалению, череп пробит в двух местах. Если ничего не предпринять, он наверняка умрет, а если я вскрою череп, у него появится слабая надежда избежать этого.
Я специально немного преувеличил опасность, потому что знал, насколько рискованна подобная операция: при ней выживает только один из пяти пациентов.
— Сделай все, что можешь, — только и сказал Антоний и добавил, уходя: — С этим человеком мы вместе воевали еще в Галлии.
Необходимые мне инструменты я нашел только в лавке ювелира. Я представился там личным врачом императора, и испуганный владелец тут же дал мне необходимые ножи и молоточки: «В подарок нашему досточтимому императору Марку Антонию».
Декуриону, у которого было повреждено легкое, я наложил на рану тугую повязку и велел ему откашливаться так часто, как только он сможет. Затем мы занялись тем, кто был ранен в голову. Я вдруг подумал, что мне впервые придется производить вскрытие черепа самому. Раньше со мной всегда был мой отец, который делал всю самую тонкую работу. Прежде чем приступить к операции, я велел сообщить Антонию, что состояние декуриона очень тяжелое. Когда Салмо вернулся, мы крепко связали больного и придвинули его кровать к окну.
Операция длилась почти два часа. Наконец все кусочки кости были удалены. Они вошли довольно глубоко и, возможно, причинили какие-то повреждения, но все это могло выясниться только позже. Рана была довольно обширной, ее нельзя было просто зашить. Поэтому я поместил в нее серебряную пластинку. Я велел также позолотить ее, потому что знал, что золото приживается легче, чем серебро. Скажу наперед, что через несколько месяцев декурион поправился, раны его зажили, но он остался немым. Он мог издавать различные звуки и понимал все, что ему говорили, но речь так и не вернулась к нему.
— Между нами, — усмехаясь, сказал мне Антоний, — я всегда мечтал о таком человеке. Он не умеет ни читать, ни писать и понимает все, что ему поручишь, — это же просто идеальный личный слуга.
Тем временем мы с Салмо перебрались на корабль и здесь каждый день ожидали прибытия нашей царицы, а вместе с этим и решения будущей судьбы Египта, а также — поскольку мы были при дворе — и нашей собственной судьбы.
Наконец гонцы известили, что царский флот прибудет через день — это было в середине сентября.
В оставшиеся свободные дни я решил посетить школу гетер. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы как-то скоротать время. Я не знаком со скукой, и даже если у меня нет никакой работы, все равно мир для меня настолько интересен, что время летит скорее слишком быстро, чем слишком медленно.
Действительно, о школе гетер Ксантиппы знал в Тарсе каждый ребенок. Она находилась на северной окраине города. Салмо настоял, что будет сопровождать меня «на всякий случай». Вскоре мы оказались у ворот длинного приземистого здания, и привратник, когда мы спросили о Ксантиппе, равнодушно махнул нам рукой куда-то внутрь. Вдали мы увидели четырех девушек, которые играли на лугу в мяч, а еще две других наблюдали за ними. Это была прекрасная мирная картина, повсюду щебетали птицы, за лугом сверкало озеро или изгиб реки. К нам подошла какая-то женщина постарше.
— Чем мы можем служить господам?
Я заранее заготовил предлог:
— Вскоре сюда прибывает царица Клеопатра из Египта. Мы состоим при ее дворе и хотели бы узнать, нельзя ли здесь найти девушек, которые умели бы декламировать и петь, а также играть на лире или кифаре?
Женщина с любопытством взглянула на нас.
— Так вы египтяне?
— Меня зовут Олимп, я грек, живу при дворе в Александрии. Мой слуга Салмо родом из Иудеи. Наша царица тоже происходит из греков, но, конечно, среди нас есть и египтяне.
Ее любопытство, казалось, было удовлетворено. Она кивнула.
— Хорошо, тогда тебе лучше обсудить все с Ксантиппой. Я провожу тебя.
Салмо остался, сказав, что хочет прогуляться по саду. Он был хорошим слугой и не выходил из роли.
Ксантиппа уютно расположился в одном из многочисленных атриумов этого обширного здания и неторопливо поднялся при нашем появлении. Пожалуй, быстрее он и не мог бы двигаться — настолько был тучен. Складки его подбородка терялись в широкой тунике, поверх которой он набросил теперь тогу.
Я представился и сказал, что, будучи чрезвычайным послом Египта, видел на одном из праздников во дворце императора его девушек и близко познакомился с одной из них, Ксенией.
— Возможно, наша царица тоже устроит здесь большой симпосий, и нам поручено подготовить все, что для этого необходимо: танцы, пение, музыку. Поэтому я хотел спросить…
Ксантиппа хлопнул в ладоши и сказал:
— Присядем. Знаешь, я не люблю стоять, ну, о ходьбе и говорить не приходится.
Он опустился на стул, который по размеру походил скорее на ложе. Вошел слуга, и Ксантиппа приказал принести вина, воды и «чего-нибудь из еды».
— Да, благородный Олимп — какое красивое имя! — ты правильно сделал, что пришел ко мне. В настоящее время у меня шестьдесят четыре девушки и женщины от пятнадцати до тридцати лет. Среди моих прелестных дам есть и такие— их, наверное, десять или двенадцать, — которые вполне могут украсить вечер музыкой, пением или декламацией и, конечно, обладают обширными литературными познаниями. Они прочтут что-нибудь из Гомера или Аристофана, а если нужно, то и что-нибудь более легкого содержания. Танцевать они тут все умеют, но есть около двадцати девушек, которые особенно хорошо владеют этим искусством. Как видишь, мы можем исполнить все пожелания царицы.
— Я в восхищении, почтенный Ксантиппа, — и был восхищен, еще когда Ксения так живо описала твой дом и все его достоинства. Позволь мне один вопрос: в чем секрет твоего успеха?
Он устало взмахнул правой рукой, и это выглядело так, будто в воздух взмыл окорок, к которому подвешены были еще пять упругих колбасок.
— Тут нет никакого секрета. Причина моего успеха в моей лени. С детства я мечтал о том, чтобы разбогатеть и при этом поменьше работать. Когда я стал юношей, то встретил человека, которому это удалось. Я спросил его, как ты меня сейчас, как он добился такого успеха. По его мнению, чтобы разбогатеть не работая, надо найти людей, которые бы выполняли всю тяжелую работу за тебя. Но, как он сказал, они должны делать это охотно, у тебя им должно быть лучше, чем где-нибудь еще. С тех пор я стараюсь устроить все именно так и не думаю,
что здесь найдется хотя бы одна девушка, которая работает для меня с неохотой или чувствует себя рабыней. Они появляются здесь лет в пятнадцать, и поначалу этот дом становится для них школой, потом, в зависимости от способностей, они набираются опыта и обучаются танцам, пению, музыке и литературе. Я покупаю их у родителей, а иногда и на невольничьем рынке или еще где-нибудь. От всего, что они у меня зарабатывают, я откладываю десять процентов. Те, кто живут здесь до тридцати лет, получают потом свидетельство об освобождении и неплохую премию. Половина девушек уходит отсюда немного раньше: некоторые выходят замуж, а некоторые могут быстрее собрать деньги для своего освобождения, потому что я еще торгую детьми.
— Что? Детьми? Но как…
Он успокаивающе засмеялся.
— В этом нет ничего дурного. Конечно, рано или поздно почти у каждой из моих девушек рождается ребенок. Таре — большой город, и здесь есть множество супружеских пар, которым капризная богиня Тихе
[52] отказала в счастье иметь потомство. Они покупают здесь новорожденного ребенка, который даже никогда не узнает свою мать, и могут воспитать его, как собственное дитя. Эти младенцы происходят, как ты понимаешь, от хороших родителей: матери их — прекрасные юные девушки, а отцы — в основном солдаты или люди из лучших домов, как правило, молодые и полные сил. За каждого отданного ребенка девушки получают очень большую премию, так что, родив двух или трех, они могут освободиться.
— Хорошо, но если она не захочет отдать своего ребенка?
— Тут есть две возможности: или он становится рабом в моем поместье и воспитывается на мои средства, или она находит родственников, которые взяли бы его к себе. Такое случается, но очень редко. Да, здесь обо всем заботятся. Есть даже врач, который по желанию девушки поможет ей вовремя избавиться от плода. Но я не очень это одобряю, потому что при этом некоторые девушки умирают или тяжело заболевают.
— И все это… все это вы устроили из лени?
— Ну да! Посмотри на меня: разве я похож на человека, который много работает? О, наконец-то!
Этим возгласом было встречено появление серебряного подноса, уставленного холодными закусками, а также корзины с хлебом и кувшина с вином. На подносе возвышались целые горы птицы, колбас, маринованного лука, огурцов и каперсов, нарезанного сыра и прочей снеди. Когда я собрался задать еще один вопрос, он предостерегающе взмахнул рукой:
— Я не люблю говорить за едой — это мешает наслаждаться ее вкусом.
Я уже позавтракал и теперь съел только самую малость, Ксантипп же приступил к делу основательно, и когда он вдруг остановился, поднос был почти пуст.
— Во имя хитроумного Гермеса, у меня почти совсем пропал аппетит. Но все равно это так вкусно, и для меня нет ничего труднее, чем оторваться от еды. А сейчас я немного вздремну, дорогой Олимп. Если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня найти.
Глава 13
Изо всех событий, которые я здесь описываю и еще опишу, наибольшее удивление у меня вызывает пребывание Клеопатры в Тарсе. Я никогда не верил, что Антоний будет очарован ею до такой степени, что позволит себя склонить к решениям, которые незадолго до этого казались ему совершенно неприемлемыми. Если бы на его месте был Октавий, то уже тогда история повернулась бы иначе.
В день ожидаемого прибытия Клеопатры наш посол уже с утра представлял собой сплошной комок нервов. Он заикался от волнения, кричал на всех, несколько раз чуть не заплакал и с видимой неохотой попросил меня о разговоре.
— Олимп, скажи мне, пожалуйста, скажи, чего ждет от меня царица? Я не знаю, что я должен ей представить. Какой-нибудь рапорт? Может, мне надо организовать какой-нибудь комитет для праздничной встречи или, наоборот, незаметно примкнуть к ее свите? Мне просто не хватает опыта…
— Для начала тебе следует успокоиться. Царица поручила мне первому представить ей устное сообщение, затем она встретится с тобой и твоими людьми. Ты просто ответишь на ее вопросы.
Оказалось, что это тоже его не устраивает.
— Почему это ты первый? Ведь официально я…
— Хорошо, — прервал я его, — тогда я предлагаю нам обоим-выехать навстречу ее кораблю, как только он появится на горизонте, и пусть ее величество сама решает, кого из нас принять первым.
С этим он согласился. Самые быстрые гребцы Тарса — как они сами себя называли — были наготове, ожидая только нашего знака. На верхней мачте самый зоркий матрос из команды посольского корабля непрестанно вглядывался в даль, чтобы сразу же известить нас, как только покажутся пурпурные паруса.
Это произошло вскоре после полудня. Посол и я сразу же перебрались по веревочной лестнице в лодку, и «самые быстрые гребцы Тарса» так налегли на весла, что их суденышко удивленно заскрипело и застонало. Не прошло и часа, как мы достигли царского корабля. Он был настолько великолепен, что даже у глупца не осталось бы сомнений в том, что на его борту находится царица Египта, самая богатая правительница в мире.
Издалека сияли пурпурные паруса, которые отражались в почти неподвижной воде, как темные лужи крови; позолоченная корма сверкала на солнце, как какая-то небывалая драгоценность. Наши быстрые гребцы были так поражены всем этим, что даже не спросили свою плату. Мы уже взобрались на палубу, когда я вспомнил об этом и бросил им в лодку обещанный аурей.
Царица уже ждала нас и приняла сразу обоих. Позади нее стояли Шармион и Ирас, слева от нее — кто-то незнакомый, а справа — маленький кругленький и улыбающийся во все лицо добрый Мардион. Видно, как рад он был вновь меня увидеть. Ирас тоже обрадовалась, ее черные глаза заблестели, но — как всегда на официальных приемах — она сохраняла самообладание, чтобы не вызвать неодобрения Шармион, ее старшей подруги, которая держалась так величественно, как будто это она была царицей. Диойкет Протарх, как мы узнали, остался в Александрии в качестве регента.
Худощавый человек рядом с царицей представился нам Квинтом Деллием, секретарем и доверенным лицом императора. Я уже много раз слышал его имя. Как оказалось, это именно он доставил царице в Александрию приглашение Антония. Этот человек совершенно мне не понравился. У него было узкое, какое-то лисье, лицо и бегающий взгляд. С другой стороны, он держался скромно и изображал верного и преданного слугу своего господина. Если я говорю «изображал», то это, как будет видно позже, не без основания.
Клеопатра задала нам только самые общие вопросы и сказала в заключение:
— Я сама сделаю выводы о положении в Тарсе, но ты, Гиппократ, должен рассказать мне подробнее о твоей поездке в Иерусалим, и, кроме того, для тебя есть несколько писем.
Таким образом, посол не мог почувствовать себя задетым, потому что он не имел никакого отношения к Иерусалиму и Ироду. Здесь мы простимся с этим человеком, который так ненадолго появился на страницах нашего повествования, что я даже не стану упоминать его имени. Через полгода он снова вернулся к частной жизни, потому что умер его отец, и он как наследник и глава семьи посвятил себя управлению его обширными владениями.
Вскоре Клеопатра пригласила меня в свои покои. Сначала на шею мне бросилась Ирас и спросила:
— Ну, Гиппо, девушки в Иерусалиме и Тарсе были довольны тобой? Они, наверное, давно мечтали о таком красивом греке с серыми глазами.
Странно, но в это мгновение мне показалось, что я ожидал именно встречи с Ирас, что это ей, а вовсе не царице выехал я навстречу. Я горячо поцеловал ее, и она обвила меня, точно лиана, которая ни за что больше не расстанется со своим хозяином.
— Для этого у вас будет еще достаточно времени, — услышали мы звонкий приветливый голос Клеопатры, и мы отпрянули друг от друга, как застигнутые врасплох рабы.
— Ирас, мне надо обновить прическу, а ты тем временем расскажи мне об Ироде и Антонии, хотя дело с тетрархом и не уладилось, а было только отложено.
— Влияние и авторитет Ирода серьезно возросли. Его брат, советники, первосвященник, синедрион — все склоняются перед ним. Недавно он прогнал свою первую жену, чтобы породниться с родом Хасмонеев. Я присутствовал на помолвке, и мне показалось, что Хасмонеи презирают его, но преклоняются перед ним из страха. В противоположность тебе, царица, он ошибся и поддержал Кассия, но теперь ему все же удалось склонить Антония, чтобы он назначил его тетрархом. В будущем нам не следует выпускать этого человека из поля зрения, потому что у меня создалось впечатление, что он не удовольствуется своим теперешним положением.
— Да, — сказала Клеопатра серьезно, — с этим человеком у нас еще будут проблемы. Но теперь, как я слышала, у него и у самого их хватает. Палестине угрожают парфяне, а Хасмонеи хотят помешать его браку с Мариамной. Таково последнее сообщение моего торговца.
— Дельный человек. Кувшины с иерихонским бальзамом уже получены?
— И часть из них уже использована, — откликнулась Ирас, сооружая царице высокую замысловатую прическу.
Клеопатра засмеялась.
— Слышишь? И когда я вдыхаю аромат этого бальзама, я хочу еще больше.
— Тебе стоит только еще заказать его, царица.
— Я имею в виду не только бальзам, дорогой Гиппо…
— Я понимаю, ваше величество.
Хотя я так и ответил, но ничего при этом не понимал, мне просто не хотелось показаться глупцом.
— Теперь что касается императора Марка Антония. В Александрии я велела сообщить, что отправляюсь сюда по дружескому приглашению императора, однако это совсем не так. Моим друзьям и приближенным я сказала правду, и ты тоже должен ее знать. То, что передал мне Квинт Деллий — ты уже познакомился с ним сегодня, — было приказом прибыть в Таре и объяснить, почему я будто бы поддерживала Кассия. Мне пришлось сначала дать понять Деллию, что нельзя ничего приказать царице, которую весь Египет почитает как божество, как единое воплощение Исиды и Сераписа. Деллий — ловкий и изворотливый человек, он сразу уступил и откровенно — так, во всяком случае, это выглядело — описал характер и нрав императора. В глубине души Антоний добр, любит женщин и легко поддается уговорам. Если я ловко воспользуюсь этим, он ни в чем не сможет мне отказать — да, про него говорят даже, что при женщинах он совершенно теряет разум. Я должна предстать перед ним не смиренной просительницей— впрочем, этого я и так не собиралась делать, — а во всем блеске царского величия и женского очарования. Привлекательна я, Гиппо, красива?
Ирас умоляюще выглянула из-за спины Клеопатры и слегка кивнула. Во имя Афродиты Пенорожденной, даже если бы она была безобразной, как крокодил, я никогда не сказал бы ей этого.
— Ты полна очарования, царица, и величественной красоты, и я убежден, что Антоний будет на твоей стороне. Я не устаю благодарить Сераписа, что он возвел на египетский трон не мужчину, потому что, мне кажется, к ним Антоний не так добр и внимателен. Впрочем, ты ведь уже успела познакомиться с ним в Риме. Тогда он находился в тени Цезаря, а теперь в нем появилось нечто царственное — хотя римляне и избегают таких сравнений. На самом деле он ведь гораздо выше царя какой-нибудь маленькой, зависимой от Рима страны: он правитель половины мира, ему доступны все богатства Востока. Он причастен ко всему — будь то доходы от храма в Эфесе или от невероятно богатого города Антиохии или дань Ирода из Иудеи. Через несколько лет он сможет распоряжаться весьма значительным состоянием.
— Да, — подхватила Клеопатра, — об этом и речь! Провинции истощены гражданской войной. Деньги только начинают стекаться — слишком медленно. Антоний же нуждается в них сейчас, немедленно. Деллий подтвердил это.
— Он мог бы получить их с помощью силы…
— Как раз это мы и хотим предотвратить, не так ли, Ирас? В конце концов, женщины всегда умнее мужчин.
— Да, это так, ваше величество. Мужчина часто еще не продумает до конца то, что женщина уже сделает.
Клеопатра одобрительно кивнула своей приближенной даме, которая снова принялась укладывать ее темные волосы.
— Письма, ваше величество.
— Хорошо, что ты напомнил мне о них, Гиппо. Тебе пришли два письма из Мерое, их передаст тебе мой секретарь.
По времени написания эти письма отстояли друг от друга на семь месяцев. Одно из них было от моего отца. Он сообщал, что по-прежнему занимает высокое положение, но правитель Теритекас тяжело болен, а правительница всеми силами пытается помешать тому, чтобы его лечил только он. Снова применяется старое бесполезное шаманство и колдовство, и правительница пытается взять всю власть в свои руки, при участии своего сына Акинидада, которому, по ее словам, Геракл должен быть благодарен за то, что его еще вообще пускают во дворец. В последних строках говорилось:
«Я начинаю всерьез подумывать о том, чтобы вернуться в Сиену и окончить свои дни как простое частное лицо. Почему ты пишешь мне так редко? Я получил до сих пор только два письма и очень рад был бы узнать о тебе побольше».
Мне стало стыдно. Хотя за все это время я отправил в Мерое четыре письма, но, очевидно, два из них где-то затерялись.
Второе письмо было от секретаря правительницы Амани-Рены. В нем коротко и скупо сообщалось о том, что правитель Теритекас подобно богу вознесся к солнцу, а его бывший личный врач спустя три недели последовал за ним в страну Запада и был похоронен вблизи царской гробницы.
Меня охватила скорбь, и я вспомнил отца, каким видел его в последний раз, когда мы попрощались и он не захотел провожать меня до лодки, чтобы не устраивать сцен перед посторонними.
Я стоял на палубе царского корабля, и ветер уносил мои слезы в море. Что-то нежно коснулось моих плеч, и я обернулся.
Передо мной стояла улыбающаяся Ирас, которая сразу же стала серьезной.
— Ты плачешь? У тебя какое-нибудь горе? Это из-за писем, да?
— Да, Ирас, мой отец умер в Мерое. Я так надеялся еще когда-нибудь увидеть его…
Она прижалась ко мне и была такой маленькой, что я мог увидеть сверху ее темные волосы.
— Мы, живые, печалимся о мертвых, потому что нам недостает их, и их отсутствие причиняет нам боль. Но сами они ушли в мир, где нет забот, боли и страха — мы скорее должны завидовать им, чем сожалеть о них.
— Ты говоришь, как какой-нибудь греческий философ…
— А ты не ожидал от глупой Ирас ничего подобного — так ведь? Иногда царица приглашает по вечерам поэтов и философов из мусейона, и они читают нам лекции. Кое-что мне так нравится, что я запоминаю это.
— Ах, Ирас, я хотел бы… я хотел бы спать с тобой!
В притворном гневе она нахмурила лоб и отвесила мне легкую пощечину.
— Как это похоже на вас, мужчин! Вместо того чтобы благородно и с достоинством предаться печали, вы бросаетесь на шею ближайшей женщине и хотите оказаться с ней в постели. При этом мы ведь едва знакомы.
— Но, Ирас, мы ведь познакомились еще в Риме, пять лет назад. Я смотрел на тебя чаще, чем на других женщин! Я даже не знаю…
— Смотрел! — воскликнула она. — Видел, но не пробовал. В Александрии ты, наверное, оставлял все деньги у каких-нибудь проституток. Довольно!
— Ирас, — сказал я нежно, — ты мне всегда нравилась, но теперь я люблю тебя.
Должен согласиться, что эти слова были не совсем искренними, но они сорвались с моих губ, прежде чем я успел об этом подумать.
— Хватит об этом! В конце концов, нам надо обсудить кое-что поважнее. Завтра утром царица хочет во всем величии появиться в Тарсе без всякого предупреждения, чтобы это было неожиданностью для Антония. Ее корабль будут сопровождать еще шесть судов. Она хотела бы, чтобы ее ближайшие друзья — а ты к ним безусловно относишься — были при этом рядом с ней. Тебе нужно подойти к распорядителю, который оденет тебя и укажет каждому, где он должен будет стоять.
— Слушаюсь, госпожа, — пробормотал я, склонившись в нарочито глубоком поклоне.
Она дала мне вторую пощечину, на этот раз посильнее, и удалилась — прямая, гордая и, видимо, переполненная презрением к мужчинам такого сорта. Ее маленький упругий задик при этом очень отчетливо обозначился под гиматием, который она — намеренно или нет — запахнула потуже.
Все было подготовлено и заранее предусмотрено. Еще в Александрии для меня было сшито великолепное платье. В качестве подарка прилагалась еще золотая цепь с медальоном, на одной стороне которого была изображена царица, а на другой — жезл Асклепия с обвившейся вокруг него змеей.
Река Кидн образует у Тарса лагуну, так что нашим баркам, украшенным цветами и парчой, не пришлось следовать в кильватере царского корабля, как утятам за уткой. Две барки плыли перед кораблем, две — по бокам, а две остальные — позади позолоченной кормы. Ветер величественно надувал пурпурные паруса, покрытые серебром весла нежно и беззвучно погружались в воду, как будто лаская ее. Все это происходило в такт воодушевляющей музыке, которая уже издалека отчетливо, но не резко и не навязчиво объявляла о приближении Исиды. Греческие историки единодушно изображают Клеопатру в одеянии Афродиты. Однако никого из них не было при этом, иначе они непременно заметили бы, как пылал золотой солнечный диск в ее диадеме с уреем
[53], упомянули бы, что в левой руке она держала серебряный систр
[54], а ее одеяние из золотой парчи было завязано на груди в узел Исиды. Конечно, издалека все это было видно не так отчетливо, и, возможно, Клеопатра как раз и хотела предстать в облике почитаемой здесь богини Афродиты, которая явилась к потомку Геракла, воскресшему Дионису. В образе Диониса несколько месяцев назад Антоний въезжал в Эфес. Его восторженно приветствовали жители города, одетые вакханками, нимфами и сатирами. Я знаю, что римляне без особого воодушевления относятся к таким маскарадам, и Октавий никогда не стал бы устраивать ничего подобного.
Впрочем, в любом случае, представлялась Клеопатра Исидой или Афродитой, свита ее была вполне достойна богини.; Ее сопровождали несколько дюжин прекраснейших девушек, одетых нимфами и нереидами. Дым из многочисленных кадильниц окутывал великолепный корабль с богиней белыми душистыми клубами. Ветер относил их к берегу, и собравшиеся там люди, вдыхая их, чувствовали торжественность момента и приходили в экстаз.
Клеопатра неподвижно возлежала на золотом ложе, украшенном драгоценными камнями, под тяжелым пурпурно-золотым балдахином. Она была подкрашена по египетскому обычаю, и взгляд ее был неподвижен и прям, как у статуи богини.
Царица угадала вкусы греческого населения Киликии. В одно мгновение город опустел: все устремились в гавань. Антоний как раз устраивал на центральной площади заседание суда, но вскоре обнаружил вдруг, что он остался в кресле судьи в полном одиночестве. Ничего подобного с ним еще не случалось: он, император всех римских восточных провинций, самый могущественный человек во всем нашем греко-римском мире, остался совершенно один, как какой-нибудь осмеянный и освистанный актер, на выступление которого никто больше не хочет смотреть.
Однако он тут же нашелся: отправил посла на корабль Клеопатры и пригласил ее на торжественный обед. Она велела поблагодарить за приглашение и передать, что у нее уже все готово для встречи, и она была бы счастлива первой приветствовать его.
Еще раньше мы с послом сняли прекраснейший дом недалеко от гавани, и слуги Клеопатры за несколько часов обставили его с таким великолепием, что прежний владелец и не узнал бы его теперь.
Стоит заметить, что из сорока грузовых судов, сопровождавших Клеопатру, одна треть была занята мебелью, посудой, коврами, мешками и сундуками с золотыми и серебряными слитками, жемчужинами, монетами и тому подобным.
Клеопатра велела накрыть для гостей двенадцать столов. Все они, а также стулья и лежанки были настоящими произведениями искусства, изготовленными из лимона, кедра или эбенового дерева и инкрустированными золотом, серебром и слоновой костью. Посуда затмевала все, что я видел до сих пор — даже в Александрии. Это была тончайшая александрийская ковка, богато украшенная драгоценными камнями. Стены залы царица приказала завесить коврами, сотканными из золотых и серебряных нитей.
Шармион, Ирас, Мардион и я сидели за столом с царицей. Она — во главе стола, напротив нее — Антоний и его ближайшие друзья, среди которых был, к сожалению, и Квинт Деллий с его лисьей физиономией.
Император был очень удивлен, снова встретив меня здесь: он не знал, что я принадлежу к ближайшему окружению царицы. Но его не особенно заботили этикет и субординация, и он тут же принялся расхваливать меня как врача.
— Мы все очень ценим нашего Гиппо, — сказала Клеопатра и улыбнулась мне.
В этот вечер о политике не было сказано ни слова. Разговор тек легко и свободно. С присущим ей остроумием и обаянием Клеопатра направляла разговор в нужное ей русло, не забывая при этом демонстрировать уважение к успехам императора. Она восхваляла божественного Юлия Цезаря, но не впадала в ошибку и не оскорбляла его врагов. Она намекнула — и весьма отчетливо, — что в ее глазах более достойным наследником был бы Марк Антоний и что Цезарь незадолго до своей смерти хотел изменить завещание в его пользу.
Разве не следовало поверить этому? В конце концов, она была его возлюбленной и близким человеком. По лицам друзей императора я видел, как жадно впитывают они ее слова.
Я сказал, что в этот вечер не было разговоров о политике, но сегодня мне ясно, что политика уже вершилась тогда.
В этот вечер Клеопатра очаровала Антония и привлекла его на свою сторону. Может быть, во время праздника некоторые из его друзей еще колебались или были недоверчивы, но Клеопатре удалось завоевать всех этих суровых мужчин, просто подарив каждому из них посуду, из которой они ели, и ковры, на которых они лежали. Это было сделано как бы между прочим, без всякого жеста, как если бы речь шла о корзине фиг или кувшине вина. А между тем стоимость каждого такого подарка составляла жалованье высшего офицера минимум за десять лет службы.
Ответный праздник, устроенный императором, выглядел намного скромнее: ведь у него просто не было средств на подобное великолепие. Чтобы не отстать хотя бы в одном, он велел собрать лучших поваров города. Но из этого ничего не вышло: все они пытались создать нечто необыкновенное, и в результате стол был уставлен блюдами, которые привлекали глаз, но разочаровывали язык.
Клеопатра, казалось, не замечала ничего этого и хвалила почти все кушанья. Но тот, кто знал ее, мог понять ее иронические замечания. Про какое-то рагу из рыбы, мяса, медуз и улиток она сказала: «Поистине смелая композиция. Этот повар проявил немалое мужество, и ему, вероятно, следовало бы избрать карьеру военного».
О каком-то совершенно переперченном блюде она отозвалась: «Какой огонь! Это блюдо способно разжечь небывалые страсти — или склонить к вину непьющего».
Большинство из присутствующих не понимали этих намеков или понимали их неправильно. Но Антоний, несмотря на все его шумное солдатское веселье, был достаточно умен, чтобы уловить насмешку в словах Клеопатры. Но — как случалось мне неоднократно замечать и позже — императора никогда не обижала ирония, добродушная насмешка или даже смелая шутка. Напротив, он старался поддержать ее, что, правда, не всегда у него получалось.
За несколько дней Клеопатре удалось полностью расположить к себе императора и его важнейших советников. И, кроме того, даже для посторонних стало очевидным, что Антоний разделил с ней ложе. Это полностью соответствовало тому мистическому восприятию мира, которое присуще было местным жителям. Они считали совершенно правильным и справедливым, что если Афродита в человеческом облике спускается на землю и встречает здесь Диониса, то эта божественная пара должна отпраздновать свадьбу. Конечно, все знали, что император женат, что его жену зовут Фульвия и она ждет его в далеком Риме. Но это относилось к двум совершенно различным уровням: мистико-религиозному и политико-земному.
Весь Таре был охвачен упоением этой встречи, и «священный брак» между Исидой-Клеопатрой и Дионисом-Антонием был отпразднован после во многих постелях. То же Самое происходило в египетском городе Бубастисе во время семидневного праздника в честь Бастет, богини любви и радости. Весь город превратился в какое-то ложе любви, отовсюду слышались страстные вздохи и стоны. Никогда прежде или потом здесь не было зачато так много детей, как в эти дни.
Салмо тоже поддался этому настроению и предложил посетить школу гетер. Впрочем, я и без этого предложения хотел повидать Ксению. Я как раз одевался, чтобы отправиться на вечерний праздник, когда услышал, что снаружи кто-то зовет меня по имени.
— Посмотри, кто там, — приказал я Салмо. В дверях появилась маленькая непоседливая Ирас, улыбающаяся и хитро посверкивающая черными глазами.
— Царица отпустила меня на сегодня. Не хочешь сделать то же самое с Салмо?
Может, это был намек?
— Салмо, ты слышишь просьбу благородной Ирас? Так что отправляйся в эту, гм, школу и возвращайся на корабль не позже завтрашнего утра.
Салмо улыбнулся и отвесил глубокий поклон.
— Я передам ученикам привет от тебя, господин.
— Школа? — удивленно спросила Ирас, когда он вышел. — В какую школу собрался идти твой слуга?
Я махнул рукой.
— Тут в еврейском квартале есть какая-то школа при синагоге — я не очень хорошо в этом разбираюсь. Итак, сегодня ты больше не понадобишься царице?
Она звонко рассмеялась.
— Нет, потому что раздеться ей поможет кое-кто другой, который все-все для нее сделает — лучше, чем смогли бы мы с Шармион.
— И у которого есть кое-что, чего нет ни у одной из вас, — это всего лишь одна мелочь…
Она взглянула на меня округлившимися глазами.
— Что это может быть? У тебя это тоже есть?
Я взял ее руку и засунул под свой хитон.
— Вот здесь…
Вообще-то Ирас тоже собиралась пойти на праздник, который устраивал в честь египетских гостей правитель Тарса. Но из этого ничего не вышло.
Маленькая непоседливая Ирас оказалась выносливой, требовательной и щедрой возлюбленной. Как и ее госпожа, она была уверена, что мужчины созданы прежде всего для того, чтобы служить женщинам — в постели, в политике или в семье.
— То, что мы, женщины, умнее, ты можешь заметить уже по тому, что все самое опасное, трудное или утомительное мы предоставляем мужчинам. Вы можете погибать в войнах, сражаться в цирке и расплачиваться головой за ошибки в политике. Наиболее хитрые из вас выживают, и тогда мы позволяем им лечь с нами в постель. Император Антоний — лучший пример этому. Если бы победил Кассий, то…
Она многозначительно замолчала.
— Ну и как это относится ко мне? Я не воин, не государственный деятель, не гладиатор, никого не побеждал и ни перед кем не склонял головы…
— Божественная Исида — это ведь только пример. Ты стал врачом царицы и тем самым избран из тысячи других. Это тоже своего рода победа.
Глава 14
В завершение этого блистательного пребывания в Тарсе Клеопатра пригласила императора Марка Антония в Александрию, чтобы провести там зиму. Не всем понравилось, что он так легко принял это приглашение. В Риме рассчитывали, что император начнет кампанию против парфян и победоносно — в этом тоже были уверены — завершит ее.
Я был рад предстоящему возвращению в Александрию и тому, что снова смогу жить в своей красивой и удобной квартире в Брухейоне. Да, мне даже захотелось вновь повидать моих родственников. В этом отношении Салмо проявлял большую сдержанность, и я заподозрил даже, что он женился в Александрии только ради того, чтобы не возвращаться в Иерусалим, где его разыскивали как разбойника.
Нам уже пора было выступать, чтобы успеть как следует подготовить все к приезду Антония в декабре. Как раз в это время меня вызвала к себе царица. Когда я увидел, что рядом с ней нет ни Ирас, ни Шармион и вообще никого из слуг или телохранителей, по спине моей пробежал холодок. Последний раз, когда мы встречались подобным образом, речь шла о смерти царя Птолемея. А что сейчас? Может, мне снова предстоит стать чрезвычайным послом?
По правилам придворного этикета нельзя первым обращаться к царице. А она, как обычно, сначала завела какой-то ничего не значащий разговор.
— Мы многого здесь достигли, Гиппо, во всяком случае, больше, чем я отваживалась мечтать. Этот визит императора в Александрию упрочит наш союз "и покажет всему миру, под какой защитой находится Египет и как окрепла его связь с Римом, которую установил еще мой отец.
— Могу я кое-что добавить, царица?
Она милостиво кивнула, и я сказал:
— Так как ты время от времени велишь мне превращаться в политика, это побуждает меня теперь высказать одно замечание, касающееся политики. Тебе не следует забывать о Фульвии, жене императора. Она обладает большим политическим влиянием и иногда даже действует самостоятельно — до сих пор всегда в интересах императора. В Тарсе все обстояло так, что весь мир был убежден: ты приехала по просьбе Антония. Но теперь, когда он посетит тебя в Александрии, Фульвии станет ясно, что ваши отношения носят не только политический характер. Тогда она может предпринять что-нибудь против тебя…
Клеопатра спокойно взглянула на меня.
— Мы с тобой друзья, Гиппо, и говорим без свидетелей. Поэтому я не стану обращать внимание на самоуверенность твоих слов и отвечу тебе. Да, Фульвия может стать опасной, я уже думала об этом. Но она ненавидит Октавия по причинам очень личным, которых я не могу тебе назвать. К тому же я не становлюсь у нее на пути. Как только Антоний вернется в Рим, он станет ее законным и неоспоримым супругом. Она родила ему двух сыновей, и я не собираюсь ни мешать этой семье, ни тем более разрушать ее. В настоящее время меня беспокоит не Фульвия, а Арсиноя, моя сводная сестра, которую мой отец не в добрый час зачал с какой-то никому не известной наложницей. Однажды она уже проявила неслыханную дерзость, отважившись захватить священный трон Египта, совсем ненадолго, правда, но я хочу позаботится о том, чтобы такого не повторилось. Арсиноя честолюбива и теперь в Эфесе только и ждет какого-нибудь удобного момента. Египетский трон занят, но, может быть, она надеется на Кипр, который Цезарь пообещал ей тогда из политических соображений. Эта женщина стоит у меня на пути, Гиппо, и Антоний тоже сразу разглядел это. Она должна умереть, другого выхода нет. Но в этом случае я не доверяю императору. Он пообещал распорядиться, чтобы ее казнили, но добавил, что делает это неохотно и не видит в ней никакой опасности. Что ты об этом думаешь?
Меня будто по голове ударили. Ведь всем известно было, как надежно заперта Арсиноя в храме в Эфесе и как строго ее охраняют. Что она могла сделать и кому помешать?
— Я считаю, что император прав, и думаю, мне понятны его сомнения. Арсиноя не обладает властью, она уже почти стала жрицей Артемиды, она не замужем…
Лицо Клеопатры посуровело, черты его исказились, и вместо очарования Исиды на нем проступила отвратительная гримаса Эринии
[55], которую римляне называют Фурией.
— Ах, уважаемый Олимп, я прекрасно понимаю, что происходит в голове у мужчин! — Ее указательный палец уткнулся мне в низ живота. — Вот что затуманивает ваш рассудок! Лучше бы Прометей повелел расти вашему фаллосу на голове — тогда связь была бы отчетливей. За подобное предательство все остальные поплатились бы головой — будь то мальчик, мужчина или старик. Но красивой женщине все прощается. Даже если ты думаешь не так, то все равно твой совет никуда не годится. Арсиноя всегда была настроена против меня. И если бы сейчас она была здесь, а я в Эфесе, то она поступила бы точно так же.
Я не сдержался:
— Ты упрекаешь нас, мужчин, в том, что служит на пользу тебе, нам и всему Египту.
К ней вернулось ее очарование, и она снисходительно рассмеялась.
— Это не упрек, Гиппо, а констатация того, что есть на самом деле. Мне это, несомненно, принесет выгоду, но Арсиное это ничем не поможет — ее судьба уже решена. Я хотела бы, чтобы ты сопровождал комиссию Антония и присутствовал при казни Арсинои. Из истории известны случаи, когда доза яда оказывалась слишком мала, человек оживал, и сторонники укрывали его где-нибудь в безопасном месте. Я желаю ей безболезненной смерти, но я должна быть в ней уверена, и ты отвечаешь за это. Корабль отправляется послезавтра на рассвете, при любой погоде. Нам нельзя терять времени. Серапион, этот предавший нас наместник Кипра, тоже не уйдет от судьбы, которую заслужил. Хотя он и бежал в Тир, но я уже отдала приказание о том, чтобы его казнили. Помни о моем девизе: для моих друзей я сделаю все. И для моих врагов я тоже сделаю все — все, чтобы их уничтожить. Так будет, дорогой Гиппо, пока я живу и царствую.
С моей стороны было бы глупо и неразумно пытаться уговорить такую женщину, как Клеопатра, отменить или хотя бы смягчить свое решение. Так что мне оставалось только спросить с иронией:
— Но в этот раз мне не придется стать палачом, или эту роль ты для меня тоже предусмотрела?
На лбу ее появились гневные морщины, которые, правда, тут же исчезли.
— Тебя все еще мучит это? Ты ведь не был тогда палачом, потому что Птолемей не совершал никакого преступления. Опасность исходила со стороны его приверженцев. И если ты до сих пор не видишь, что своими действиями ты предотвратил кровавую гражданскую войну, тогда в тебе отсутствует всякая искра политического разума.
— Может быть, и так, царица. А когда это дело будет улажено, куда ты пошлешь меня потом? Может быть, в Рим, чтобы свергнуть Октавия?..
— Тебе не откажешь в остроумии, Гиппо, — звонко рассмеялась она. — Нет, потом ты сразу же вернешься в Александрию. Я нуждаюсь в каждом из моих друзей — врагов у меня и так хватает.
«Да, — подумал я, — и, казнив Арсиною, ты создашь себе новых врагов».
Я был милостиво отпущен. Как я замечал уже, Клеопатра прощала своим друзьям даже дерзость, насмешки и рискованные шутки, если это происходило без свидетелей.
Приказание о казни Арсинои официально исходило от Марка Антония. Эфес относился к подвластным ему областям. Но каждому было ясно, кто побудил его к этому решению.
Комиссия состояла из легата Валерия Прокула, одного секретаря, одного декуриона, двух солдат, врача Гиппократа и его слуги Салмо.
Антоний без лишних возражений согласился с тем, чтобы включить меня в эту комиссию в качестве наблюдателя.
— Клеопатра права, — сказал он мне, — никому нельзя доверять. Я не настолько знаком с Прокулом, чтобы за него положить руку в огонь. Кто знает, не собрала ли там Арсиноя новую армию своих сторонников и не попытается ли она подкупить комиссию. Но ведь ты неподкупен и абсолютно верен — так описала тебя царица. Я знаю, это нелегкая задача, но это необходимо. Да поможет тебе Асклепий!
Валерий Прокул уже с первого взгляда произвел на меня неприятное впечатление, и за время нашего путешествия оно еще усилилось. Он был рассержен этим поручением и считал, что вполне достаточно было бы послать в Эфес какого-нибудь посла с написанным приговором. Возможно, он и был прав, но я думаю, что Антоний специально поручил это дело высокопоставленному чиновнику, чтобы приговор выглядел более официальным. Ведь речь шла все же о принцессе, которую на короткое время ее сторонники даже провозгласили царицей.
Благодаря силе наших гребцов и попутному ветру через десять дней мы достигли Эфеса. Этот прекрасный город на весь мир известен своим величественным храмом Артемиды, Полногрудой — или пышногрудой — Дианы, которая, впрочем, имеет мало общего со своими
греческими или римскими соответствиями.
Эфесская гавань была вполне сравнима с Александрийской. Здесь стояло на якоре множество больших и малых судов, и насколько хватало глаз тянулись склады и верфи.
Я все время думал о ничего не подозревающей молодой женщине, которая нашла убежище в храме Артемиды и к которой неумолимо приближалась смерть. Чтобы отвлечься, я решил немного подразнить Салмо. Когда мы вошли в гавань, я указал на многочисленные суда и величественные здания:
— Всем этим Эфес обязан какой-то несуществующей богине. Но ведь это странно. Каждый год сюда стекаются многие тысячи людей, которые надеются получить помощь. Они произносят молитвы, жертвуют фимиам, золото или скот, и большинство из них, как я полагаю, возвращаются домой довольными. Неужели все они в плену иллюзий? А может быть, что-то в этом есть?
На покрытом шрамами лице Салмо появилось какое-то скучающее выражение.
— В этом ничего нет, господин, — абсолютно ничего. Эти люди молятся каменным идолам. Свет знания не коснулся их. Но, может быть, Господь в своей милости услышал их просьбы и простил им, что они обращают их не к тому, кому следует.
— Хорошо, Салмо, но ведь в Эфесе живет и немало иудеев. Почему же они не пытаются привлечь к своему богу больше верующих? Вспомни только о культах Исиды и Митры! Они распространились по всему миру, с юга на восток, и с каждым годом число их поклонников возрастает.
— Господь избрал из всех народов нас, иудеев, а не греков, римлян, сирийцев или парфян. И мы должны беспрекословно подчиниться его воле.
Благодаря сопроводительному письму императора, для нас открыты были все ворота и двери. Согласно предписанию, это поручение следовало исполнить безотлагательно. Однако Прокул разыскал вначале находящегося здесь легата провинции Азия, чтобы как надлежит сообщить ему о приказании императора. Я не присутствовал при этом. Мы договорились, что встретимся на следующий день в три часа утра на ступенях храма Артемиды.
Я вместе с Салмо отправился побродить по оживленному городу. Здесь, в отличие от Александрии, почти не было широких улиц, которые пересекались бы к тому же под прямым углом. Конечно, большая улица, ведущая к гавани, верхняя и нижняя агора, одеон и большая рыночная площадь — все это могло служить ориентирами, но, к сожалению, мы свернули в одну из многочисленных боковых улочек и переулочков. Так что теперь оставалось ориентироваться только на разницу в высоте, поскольку весь город расположен был на склонах горы.
Вечером мы сняли комнату в одной из лучших гостиниц для паломников, которая находилась при храме, и даже Салмо, которому внушали отвращение идолы, не мог не восхититься этим величественным храмом, который был расписан с таким необычайным искусством. Мы обошли все это громадное здание и насчитали около ста тридцати колонн, тридцать шесть из которых возвышались по фасаду храма. Внизу они были украшены разнообразными рельефами.
Изображения богини повсюду выглядели одинаково, но были выполнены в различную величину и из различных материалов: от простых фигурок высотой около пяди из слоновой кости, серебра, золота или мрамора до громадных статуй, во много раз превосходящих человеческий рост. Они производили странное впечатление: у каждой было по три ряда грудей. Одежда и головной убор богини были усеяны символическими изображениями животных и каких-то фантастических существ.
Невольно я почувствовал священный трепет, тогда как Салмо только с отвращением отворачивался. Как грек и наполовину египтянин я был воспитан в священном благоговении перед изображениями богов, хотя мой отец и говорил, что люди поклоняются не каменному изображению, а власти, которую оно олицетворяет.
Здесь были почти одни только женщины, которые молились Артемиде и приносили ей жертвы, потому что эта полногрудая богиня была покровительницей плодородия, брака и семьи.
К вечеру стало душно. Дым многочисленных жертвенников уже не возносился к небу, а стлался по земле, затрудняя дыхание.
Ночью меня разбудила гроза. Но она вскоре кончилась, и я вновь уснул под монотонный шум ливня.
— К утру дождь еще не кончился. Небо было затянуто тяжелыми тучами, и определить время по гномону
[56] было невозможно. Я сказал Салмо, что ему не надо меня сопровождать, но велел ему быть снова здесь около полудня. Конечно, я пришел слишком рано и совсем продрог, дожидаясь Прокула и его людей. Они появились в сопровождении центурии тяжело вооруженных легионеров. Это вызвало всеобщее возбуждение, поскольку в Эфесе до этого еще не видели римских войск.
— Наместник считает, что мы должны быть осторожны… — объяснил Прокул.
Мы направились к восточной стороне храма, к которой примыкали квартиры жрецов, склады и хозяйственные постройки.
Арсиноя жила в небольшой вилле, окруженной плотной изгородью. Прокул безо всякого промедления отодвинул в сторону кого-то, преградившего ему путь, и приказал солдатам окружить виллу. Затем он скрылся в доме вместе с декурионом и двумя воинами. За ними последовал секретарь, к которому, не дожидаясь приглашения, присоединился и я.
Арсиною, видимо, застали в саду. Я видел, как она появилась в атриуме с двумя служанками. Валерий Прокул прочел ей смертный приговор, и еще до того, как она смогла что-нибудь ответить, оба воина набросили ей на шею шнурок и задушили. «По крайней мере, — подумал я, — все это произошло быстро, и она не успела испытать страх смерти».
Прокул подозвал меня повелительным жестом:
— Ну, лекарь, посмотри, мертва ли она.
Я склонился над скрюченным телом и посмотрел на посиневшее лицо с полуоткрытыми глазами и вывалившимся языком. На всякий случай я поднес ей ко рту зеркальце и пощупал шейную вену.
— Принцесса Арсиноя мертва.
Я выпрямился. Прокул кивнул секретарю, и тот составил короткое подтверждение, которое подписали я и легат. На обратном пути он укоризненно заметил:
— И для этого мне надо было ехать в Эфес!
Когда мы вышли из дома, он сказал, что мне придется самому позаботиться о возвращении в Александрию. Он должен еще на несколько дней остаться здесь, а затем отправиться в Таре. Галера принадлежала флоту Антония, и гордость не позволила мне просить о чем-то этого отвратительного типа.
— Теперь мы полностью предоставлены самим себе, — сказал я Салмо.
Тот только ухмыльнулся.
— Я мог бы выдержать здесь еще несколько дней. Ты видел вчера указатель у большого фонтана недалеко от верхней агоры?
Я покачал головой.
— Какой указатель?
— Прости, господин, но, кажется, ты бродишь по улицам совершенно глухой и слепой. Там на пьедестале стоял бог Приап и, вытянув руку, указывал на расположенный напротив публичный дом. Туда же в общем-то указывал и его длинный твердый фаллос…
— Ты бесчувственный, как камень, Салмо. В то время как меня вчера весь день мучили мысли о судьбе бедной Арсинои, тобой движут какие-то похотливые желания. Мне стыдно за тебя!
— Ты просто не можешь отделить одно от другого, господин. Голова может преспокойно размышлять о несчастных судьбах, в то время как фаллос с удовольствием отдается другим страстям. Но что теперь — мы еще остаемся?
«Почему бы и нет? — подумал я, — Зайдем мы в публичный дом или уедем сразу — Арсиною ведь уже не оживишь. Я ей не родственник и не знакомый, стало быть, для скорби нет никакой причины».
— Ну хорошо, мы можем здесь задержаться на два-три дня. Давай-ка взглянем, что нам предложат в твоем публичном доме…
Дом находился недалеко от верхней агоры. Хотя он стоял и не на главной улице, благодаря указателю каждый мог найти его без особого труда. Это было двухэтажное здание в конце одной из улочек с красивым мраморным фасадом. Перед ним стоял пышно одетый привратник с фигурой атлета. Он взял с нас плату и открыл дверь. Мы вошли и оказались в прихожей, где нас встретил почтенный старый господин, скорее похожий на библиотекаря. Он очень важно и слегка свысока представился нам как pornodidaskalos, что следовало перевести как наставник гетер — в данном случае это просто означало «хозяин заведения».
То, что дом, куда мы попали, был весьма дорогим, можно было понять уже по одному его виду. Внутри были ванны, украшенные мрамором и мозаикой, уборные с льющейся водой и, наконец, колоннада, по бокам которой были расположены двери из кедрового дерева. На них обозначены" были имена гетер и предлагаемые услуги. Например: «Архедика услаждает ртом и имеет сильный язык», «Елена, выносливая всадница», «Гликерия, горячая, как кобылица», «Герпилий выжмет тебя, как лимон».
К дверям были прикреплены маленькие серебряные стрелы, которые можно было поворачивать. Наставник объяснил:
— Если стрела указывает вниз, значит, дама занята, если вверх — она свободна, а если она повернута горизонтально, значит, у гетеры перерыв, чтобы она могла искупаться, поесть или привести себя в порядок. По твоему желанию мы прикажем позвать ее.
Сначала, конечно, нам пришлось заплатить. Цена была так высока, что я уже подумывал, не лучше ли за те же деньги купить рабыню. Однако, подавив свое раздражение, я заплатил за нас обоих, и каждый выбрал себе по двери, где стрелка указывала вверх.
Я не обратил внимания на написанный девиз, но эта рыжеволосая, приветливо улыбающаяся девушка, должно быть, прошла неплохую атлетическую подготовку: ее стройное тело было мускулистым, как у олимпийца. Она сбросила свой хитон, как какой-нибудь борец, приблизилась ко мне легким танцующим шагом, ударила кулаком между ребер и заломила за спину руку. Когда я громко запротестовал, она смеясь сорвала с меня одежду и бросила меня на кровать. Даже любовный акт она провела как поединок на ринге, и в завершение своим мускулистым, крепким и натренированным лоном выжала из моего фаллоса все до последней капли. На прощанье она дала мне увесистый шлепок под зад, после которого у меня остались несколько синяков. Выбравшись наружу, я прочел на двери: «Как бы ты ни был силен, Кирена тебя поборет».
Когда потом я рассказал о своем приключении Салмо, он чуть не задохнулся от смеха.
— Тебе следовало все же сначала прочесть надпись на двери! Мне больше по душе кроткие кошечки, которые не хотят от мужчины ничего, кроме того, чтобы он за деньги положил их на лопатки. Мы, иудеи, предпочитаем простую и сытную пищу. Наш уважаемый Моисей не очень одобрял проституцию, а мудрый Саломон, мой тезка, сказал: «Кто любит мудрость, радует своего отца, а кто свяжется с проститутками, потеряет свое имущество». Впрочем, от этого ты меня уберег, мой великодушный господин, и я благодарю тебя за твое приглашение.
— Это стоило мне целого состояния. В будущем я буду осмотрительнее. Ну а теперь пойдем в гавань и поищем какой-нибудь корабль.
После долгих расспросов мне удалось найти парусник, который уже завтра готовился выйти с грузом в Галикарнас и мог прихватить еще нескольких пассажиров. Капитан предупредил, что если ветер усилится, то отплытие будет отложено.
К счастью, этого не произошло, и на следующий день мы уже плыли на юг, вдоль берега, между непрерывными цепочками островов и островков. Ветер постоянно менялся, и иногда казалось, что он дует со всех сторон одновременно. Все силы наших гребцов уходили в основном на то, чтобы сохранить курс.
Мы с Салмо оба страдали от морской болезни. Однако на третий день, прежде чем наши души окончательно отделились от тела, мы прибыли в Галикарнас.
Там мы отыскали корабль, отправлявшийся на Кипр, а при благоприятной погоде и дальше, в Александрию. Этот остров теперь относился к провинции Киликия и поэтому принадлежал Антонию. Я возблагодарил Фортуну за такую удачу, но забыл замолвить словечко также перед владыкой ветров Эолом. Поначалу он был к нам весьма милостив, так что мы без всяких происшествий добрались до Пафоса, гавани на западном берегу Кипра. Капитан сказал, что такой удачей надо воспользоваться, поэтому мы сразу же отправились дальше на юг. Однако в этот же вечер поднялся такой сильный юго-западный ветер, что капитан приказал свернуть большой парус и вытащить весла, после того как некоторые из них уже были разбиты. Впрочем, при этом он сохранял спокойствие.
— Это мне знакомо. Если ветер не ослабеет, мы пристанем где-нибудь к берегам Иудеи, например у Сидона или Тира, а может быть, и дальше к югу, у Аполлонии или Аскалона.
Он оказался прав. Ветер дул все последующие полтора дня и подгонял наше судно с маленьким, наполовину изодранным дополнительным парусом в сторону Иудеи. Затем установился относительный штиль, и гребцам пришлось снова взяться за весла. Мы действительно прибыли в Аскалон, один из самых южных городов Иудеи, и вздохнули наконец с облегчением, потому что оттуда нам оставалось всего пять или шесть дней пути по суше.
Как только мы сошли на берег, Салмо бросился целовать землю, а я воскурил горсть фимиама на жертвеннике в маленьком храме Исиды. На радостях я так щедро заплатил капитану, что Салмо счел меня мотом.
Уже в гавани мы обратили внимание на необычное затишье, да и весь остальной город тоже как будто вымер. Владелец судна назвал нам два. хороших постоялых двора, но ни на одном из них никто не отозвался на наш стук. Какой-то старик, вышедший из дома напротив, сказал:
— Они все убежали в Египет, хотя я не верю, что вражеские войска дойдут сюда.
— Что? Какие войска? Разве не Ирод больше правит страной?
Старик взглянул на меня так, как будто я свалился с Луны.
— Да. А где вы были?
— В Эфесе, на Кипре и в открытом море.
— Ну, заходите, я канатчик, и в случае чего вы можете переночевать в моей мастерской.
Его жена встретила нас приветливо. Когда мы умылись, она принесла нам сыр, сушеную рыбу, хлеб и вино. Мы принялись за еду, а канатчик начал рассказ о последних событиях.
Пока мы были в Эфесе, парфянские войска переправились через Евфрат, напали на слабый римский гарнизон в Сирии и захватили его. Тут сын прежнего иудейского царя Аристобула, Антигон, решил не упустить момент и с помощью парфян прогнать Ирода с «трона своих отцов». Он предложил парфянам тысячу талантов и пятьсот женщин, если они убьют Ирода вместе с семьей и возведут на трон его, Антигона.
— Теперь Ирод укрылся в своей крепости Масада, а Антигон находится на расстоянии одного перехода от Иерусалима, — закончил наш хозяин. — Таковы наши последние новости. Большинство самых осторожных моих сограждан, — впрочем, видимо, и самых богатых, — бежало в Египет, потому что в Александрии находятся три римских легиона, и парфяне, видимо, туда не сунутся.
— Да, похоже, Ироду не повезло: вчера тетрарх, сегодня беглец, а завтра…
— Стой, чужеземец! Не будем опережать богов: только они знают о завтрашнем дне.
Салмо снова скривился, но повел себя как вежливый гость и промолчал. Мне пришло в голову, что мы сейчас как раз в Идумейской области, откуда родом Ирод и где он, видимо, пользуется большим доверием. Желая польстить нашему хозяину, я сказал:
— Ирод сильный и могущественный правитель. С помощью римлян он победит парфян и вернет себе трон. В конце концов, ведь Марк Антоний его друг, и парфяне — их общий противник.
Канатчик кивнул.
— Да, все так, но Антоний — ты, вероятно, об этом еще не знаешь — вовсе не выступает в поход против этого противника, а забавляется в постели с египетской царицей. Разве так можно выиграть войну?
Он считал, что я торговец из Тарса и еду в Александрию, чтобы приобрести там различные предметы роскоши.
— Он должен вспомнить о своем долге, — уверенно сказал я.
Однако действительность убедила меня в обратном. Когда в середине декабря мы наконец добрались до Александрии, Антоний все еще гостил у царицы, и в Брухейоне праздники следовали один за другим. Я отпустил Салмо и разрешил ему оставаться с семьей, пока я сам не пришлю за ним.
Антоний, то ли следуя доброму совету, то ли по собственному разумению, прибыл в город не как полководец, а как личный гость. Он держался скромно и дал понять александрийцам, что любит греков и уважает независимость их царицы. Это не осталось незамеченным, и благодаря своим сердечным и располагающим манерам Антоний завоевал много друзей.
Клеопатра выслушала мой отчет слегка рассеянно. Казалось, ей не очень понравилось, что Арсиноя умерла так быстро. Когда я описал ей, как это произошло, на лбу ее появились хорошо знакомые гневные морщинки. Но вскоре к ней вернулось великодушие, и она похвалила римлян за их быстрые действия.
Во время моего последнего путешествия я постоянно мечтал о скорой встрече с Ирас и был уверен, что теперь мы сможем продолжить наши любовные отношения, которые начались в Тарсе. Конечно, она тоже обрадовалась мне, но была такой же рассеянной, как и ее госпожа. Мне так и не удалось застать ее одну, а когда я прямо попросил об этом, она была просто возмущена и резко ответила:
— Мы здесь не в Тарсе, уважаемый Гиппократ, а в Брухейоне, в резиденции Ее Божественного Величества. На нас смотрят тысячи глаз, и, даже если бы я захотела, я не смогла бы поступить так необдуманно.
— А ты хочешь?
— Ах, о чем ты только думаешь! — насмешливо сказала она, на бегу поцеловав меня в щеку. Однако, как я смог вскоре установить, причину ее сдержанности звали Алекс, он прибыл из Лаодикеи в Сирии. Во время своего путешествия на юг Антоний на несколько дней задержался в этой крупной гавани и, познакомившись с Алексом, принял его в число своих приближенных.
Я встретился с этим человеком несколько дней спустя на симпосии, который Клеопатра устроила по поводу моего возвращения и ее «победы» над Арсиноей. Я и по сей день стараюсь быть справедливым к этому Алексу, но даже спустя столько лет не могу вспоминать о нем без горечи. Забегая вперед, скажу, что это был красивый, представительный мужчина, примерно моего возраста, то есть около тридцати, он умел хорошо держаться, был начитан, образован, вежлив, обходителен и превосходный оратор. Правда, он был не так красноречив, как Цицерон, но обладал даром убеждения и на каждый довод мог привести свой, лучший, аргумент. У него был только один-единственный недостаток, который я открыл гораздо позже: он был так же фальшив, как свинцовая драхма.
Протарх произнес короткую забавную речь о разносторонности врача Гиппократа, который, будучи Олимпом, справился со щекотливыми политическими поручениями. Теперь наконец Арсиною, пытавшуюся захватить трон, постигла заслуженная кара, и таким образом ничто больше не мешает плодотворному и устремленному в будущее развитию Египта и Рима.
Дольше и громче всех ему аплодировал Алекс. Он являл собой безупречную картину вежливого и образованного грека. Его хламида правильными складками ниспадала вокруг крепкого, но отнюдь не полного тела, волосы его были не слишком длинными и не слишком короткими, в разговоре он признавал правоту собеседника, а затем ловко указывал на ее относительность.
Я сразу заметил, что Ирас с жадностью ловит каждое его слово, смеется и кивает на все, что он скажет, а ее темные глаза смотрят на него с такой откровенной страстью, что я вспыхнул от гнева. Однако я сдержался и попытался в разговоре раскусить Алекса, но он каждый раз так ловко уходил от ответа, что к концу беседы я знал о нем не больше, чем сначала. Я выяснил, что он получил очень хорошее образование, не узнав, правда, где. Он упомянул также, что часто помогал в делах своему отцу, забыв пояснить, какого рода дела это были.
Клеопатра, Антоний, Протарх, Мардион и даже Шармион смотрели на него, как евреи на Мессию. Позже Мардион, умный и рассудительный евнух, сказал мне, что Алекс настолько не понравился ему, что он уже тогда решил за ним присматривать.
Неискренность этого человека, правда, вовсе не бросалась в глаза, а скрывалась где-то в глубине. Его лицемерие можно было обнаружить только в разговоре с глазу на глаз, когда он отзывался о том или ином человеке. Так поначалу он сделал вид, что я очень понравился ему. Он восхищался моей деятельностью в Иерусалиме, Тарсе и Эфесе и говорил, что я являюсь живым примером того, сколь многое может сделать ловкий и умный человек.
Мардиону же он, напротив, замечал, что не понимает царицу, которая, вместо того чтобы оставить при дворе такого хорошего и искусного врача, как я, отсылает его куда-то с какими-то незначительными политическими поручениями, которые можно было бы доверить любому другому. Это только один из многих примеров того, как проявлялась его хитрая и лицемерная сущность. И если бы не случай, то остальные, вероятно, так и не узнали бы о ней.
Пока Антоний был при дворе, развлечения не прекращались, и Клеопатра была готова на все, чтобы показать, что она идеальная спутница для него. Она, которая обычно поручала все военные мероприятия своим надежным стратегам, часами принимала с ним вместе парады войск, не выказывая при этом никакой скуки. Она, которая никогда не проявляла ни малейшего интереса к охоте, вместе с ним по нескольку дней преследовала в пустыне газелей, антилоп и другую дичь. Нас забавляла его уверенность в том, что в западной пустыне он сможет поохотиться на львов. Всем известно было, что вот уже несколько столетий эти звери не водятся на севере Египта, а если здесь и можно было их встретить, то только в гавани, в клетке, в качестве товара, приготовленного для отправки на римские цирковые арены.
Царица пошла и еще на одну уступку. Когда мы, ее ближайшие друзья, предлагали ей простую и незамысловатую игру в кости, она была страшно оскорблена. С Антонием же она могла играть в них часами — на золото и серебро. Очень радовалась, если ей везло, и с сияющими глазами сгребала к себе монеты.
В этой связи я хотел бы упомянуть, что за время своего царствования Клеопатре удалось увеличить государственную казну. Ей пришла гениальная мысль изымать все монеты, которые были в обращении при ее предшественниках, и заменять их бронзовыми. Так как иностранные деньги были строжайше запрещены к обращению, то это не привело к обесцениванию монет, потому что драхма остается драхмой, из какого бы металла ни была она сделана. Таким образом, в казну Клеопатры стекалось достаточно золота и серебра, и, несмотря на постоянные займы Антонию, она по-прежнему считалась самой богатой правительницей среди всех, которые управляли подвластными Риму государствами.
Многие историки рассказывают, что царица, переодевшись рабыней, сопровождала Антония во время его ночных похождений. Они устраивались в каком-нибудь трактире, ели и пили вместе с поденщиками, портовыми рабочими и матросами. Иногда случались и потасовки, и, несмотря на постоянное присутствие личной охраны императора, не всегда они кончались для него благополучно. Я не участвовал в этом и не знаю, насколько это соответствует действительности.
Зато я был свидетелем одного розыгрыша, который всех нас очень позабавил. Я уже говорил, что по характеру Антоний был в общем-то добродушен, однако это добродушие сочеталось в нем с настоящей манией величия, тщеславием. Он во всем хотел быть самым лучшим, самым умным и самым сильным. При этом, например в игре в кости, для него был важен не сам выигрыш — что значили для Антония какие-нибудь пятьдесят золотых, — а то, насколько благосклонна к нему Фортуна.
Как-то раз он решил показать, что и в рыбной ловле ему тоже нет равных. Он взял удочку, заготовил побольше наживки и устроился на террасе дворца, выходящей к морю. То ли место было выбрано неудачно, то ли удочку он забрасывал слишком близко, но только улов его был так мал, что он пустился на хитрость. Он заплатил рыбакам, и они ныряли и подцепляли рыбу ему на крючок. Таким образом, к удивлению и восторгу зрителей, он вытаскивал одну рыбу за другой. Больше всех восхищалась царица, говоря, что этому баловню судьбы удача сопутствует во всем, будь то завоевание новых земель, женщин, охота или рыбалка. Широкое лицо Антония так и сияло. Он предложил Клеопатре еще раз продемонстрировать друзьям его удивительные способности на следующий день.
Назавтра все собрались на террасе, исполненные любопытства. Некоторые даже наблюдали с лодок. Антоний, сильно размахнувшись, забросил удочку. Однако Клеопатра, от которой не укрылся его обман, тоже, в свою очередь, подкупила рыбаков, чтобы они позаботились о его удочке. Вскоре император вытащил первую добычу — и что же? Это оказалась какая-то вяленая рыба, по виду скорее напоминающая кожаную сандалию. Антоний счел было себя оскорбленным, но потом искренне рассмеялся вместе со всеми. Он был не из тех, кто обижается на безобидные шутки.
Иногда эта пара покидала уединенный Брухейон, чтобы во всем своем великолепии предстать перед народом. Так было, например, во время поездки в Каноб, великолепный город в нескольких милях к востоку от Александрии. Кто-то из предшественников Клеопатры приказал прорыть туда канал. И когда раздались фанфары и показался сверкающий золотом и серебром корабль под тяжелыми пурпурными парусами, на берега его высыпали тысячи людей, которые любовались августейшей парой и восторженно приветствовали ее. Да, они выражали свой восторг, потому что Клеопатра благодаря своей ловкой политике снискала любовь народа, а Антоний олицетворял собой Рим как гарантию мира и защиты. Уже Авлет построил в Канобе роскошную виллу, которая потом, при его дочери, стала еще больше и красивее. Здесь устраивали праздники в самом узком кругу, я тоже иногда принимал в них участие. Однако они не шли ни в какое сравнение с праздниками, проходившими во дворцах Лохиады.
Так прошел весь январь, и не было вечера, в который бы не устраивалось что-нибудь. Фокусники, актеры, музыканты, танцоры и танцовщицы, акробаты, шуты, маги — которых в Александрии всегда было великое множество — были желанными гостями в Брухейоне, и никто из них не уходил оттуда без щедрого вознаграждения.
Я присутствовал на многих из этих праздников, но в основном был озабочен тем, чтобы вновь завоевать благосклонность Ирас. Возможно, я не стал бы так стараться, если бы она просто продолжила наш начавшийся в Тарсе роман. Но теперь я относился к ней как к какой-то драгоценности, которую кто-то отнял у меня и которую надо вернуть любой ценой. Она не отказывала мне категорически и даже вроде бы не отвергала, но, можно сказать, держала в неведении. Я так и не выяснил, была ли она в постели с Алексом. Когда я однажды прямо спросил ее об этом, она сказала, что, как приближенная царицы, она должна заботиться о своей репутации и не может одаривать вниманием каждого. Это был довольно расплывчатый ответ. Что же касается Алекса, то, судя по всему, он ухаживал за Ирас, чтобы таким образом войти в круг ближайших друзей царицы.
Мардион, евнух, который неизменно был моим доброжелательным наставником и другом, настоятельно советовал мне спокойно подождать развития событий.
— В настоящее время царице не до нас. Шармион говорит, что она снова в положении. Антоний же разрывается между женщиной, которую он любит, — а то, что он ее действительно любит, не укроется даже от евнуха, — и своим настоятельным долгом, который становится все неотложней.
В конце февраля пришло известие, которое смогло наконец вырвать Антония из его любовного гнездышка. Протарх сообщил его нам на срочно созванном «малом совете».
— До сих пор император Марк Антоний полагал, что парфяне не станут открыто выступать против Рима, а предпримут активные действия в Иудее, ожидая реакции римлян. Однако нашелся предатель в лице Квинта Лабения, который предоставил парфянам деньги и войско, чтобы — вдали от Рима — завоевать звание императора. Это подвигло парфян на то, чтобы выступить в поход, направленный, с одной стороны, под командованием парфянского принца Пакороса, против Сирии и, с другой стороны, под командованием предателя Лабения, против Азии. Все, что угрожает Риму, угрожает и нам. Поэтому наша светлейшая царица предоставила в распоряжение Антония некоторое количество денег, войск и вооружения. Он поручил мне сообщить вам, что завтра вечером он устраивает прощальный симпосий для своих друзей при дворе в Александрии. Отсутствие на нем без уважительной причины будет воспринято императором как личное оскорбление.
Теперь мы все принадлежали к основанной Клеопатрой и Антонием гетерии
[57], которую они назвали «Неподражаемые». В основном все это исходило от Антония: даже будучи сорокалетним императором и владея половиной мира, он сохранял детскую страсть к маскарадам, розыгрышам и не всегда остроумным шуткам. Я и сейчас вижу, как он в тот вечер, когда мы все были одеты в маскарадные костюмы, представлял морского царя Главка. Он был в набедренной повязке с привязанным рыбьим хвостом, тело выкрашено в голубой цвет. В радостном опьянении он танцевал, падая на пол, делал вид, что плывет, рассматривал снизу проходящих женщин и отпускал непристойные замечания по поводу увиденного.
Царица, в зеленом парике и облегающем платье из серебряных чешуек, выступала с ним в паре, представляя нереиду. С большим тактом она смеялась над его шутками, пропуская мимо ушей непристойные замечания и не замечая, двусмысленных жестов.
Я был в маске шакалоголового бога Анубиса. Ирас и Алекс изображали Филемона и Бавкиду
[58], что представлялось мне не особенно уместным. Их очень похоже загримировали под старичка со старушкой, и вначале они придерживались своей роли, горбились и прихрамывали. Но потом расслабились, забыли обо всем и веселились, как молодые.
Теперь время праздников и маскарадов давно прошло, колесо истории повернулось, и ничего не осталось от той веселой компании кутил и выдумщиков.
Глава 15
Я был для Алекса опасным и докучливым соперником, и он постарался заранее избавиться от меня, хотя сейчас и невозможно это доказать. Его влияние на Марка Антония было так велико, что тот слепо следовал его советам, и прежде всего в том, что касалось личных дел, потому что Алекс был настолько умен, чтобы не вмешиваться в политику. Таким образом, он потихоньку обольстил их обоих — и Клеопатру и Антония. Однако на симпосии все вышло совсем не так, как ожидал этот интриган.
В тот вечер я чувствовал себя мальчиком, который присоединился к своим товарищам по играм и вдруг понял, что они без него что-то задумали. Он заметил, что все многозначительно переглядываются и перешептываются, а вслух говорят о чем-то постороннем, как будто речь шла вовсе и не о нем. Каждый время от времени попадает в такие ситуации, и никто при этом не чувствует себя уютно.
Мне было предоставлено в этот вечер лучшее место — между Антонием и Клеопатрой; неподалеку от нас сидели или, вернее, лежали Алекс и Протарх: в угоду римлянам мы заменили наши удобные стулья на kline, лежанки. Со временем греческая Александрия приобретала все более египетский характер, потому что потусторонний мир Осириса был все же не таким мрачным, как царство Аида, и есть и пить сидя было удобнее, чем лежа.
Антоний заговорил о военных врачах и при этом, как обычно, назвал меня прежним именем.
— Я слышал, твой отец был военным врачом где-то на юге, и от него ты научился этому ремеслу — нет, этому искусству.
— Ты прав, император. Уже с десяти лет мне приходилось держать раненых во время перевязок, и к пятнадцати — шестнадцати годам я стал полноценным помощником моему отцу. Однако у этого дела есть и обратная сторона: тогда я научился лечить в основном раненых, но думаю, что с тех пор уже наверстал все, чего мне недоставало.
Антоний поднял кубок:
— Пью за твоего искусного отца, который вырастил такого же умелого сына.
Мы выпили, и император продолжил:
— Мы, римляне, переняли от эллинов многое, но, к сожалению, у нас еще не вошло в обычай, как в Александрии, чтобы войско сопровождал врач. Бедные парни все еще вынуждены рассчитывать на своих сведущих в медицине товарищей или, если им повезет, на врача из ближайшего города. Октавий и я уже говорили об этом на последнем триумвирате, и, как ты знаешь, Олимп, в моих легионах уже служат несколько более или менее хороших врачей. — Он громко засмеялся. — Ты уже имел случай увидеть, каковы они. — Он указал на своего личного слугу, того самого немого декурия, который стоял позади него. — Он давно уже превратился бы в пепел, если бы я доверил его моим лекарям. Теперь, когда нам предстоит новый, долгий поход… — Он вздохнул и смущенно взглянул на царицу.
Она подхватила:
— …ты должен позаботиться о своих солдатах не хуже, чем это делается у греков или у нас, египтян. И мы тут решили, дорогой Гиппо, что ты должен принять командование над этими лекарями, стать чем-то вроде главного врача, который сможет помочь им в трудную минуту или посоветовать что-нибудь.
Ах вот оно что! За всем этим наверняка стоял Алекс. Против своего обыкновения, он не принимал участия в разговоре.
— Но ведь я личный врач царицы, у меня есть здесь свои обязанности, здесь мои друзья…
— Все останется по-прежнему, Гиппо, ведь поход еще не начат. Ты должен будешь сопровождать императора, только когда начнутся боевые действия.
Антоний обвел всех растерянным взглядом, задержавшись на Алексе. Тот только слегка пожал плечами.
— Я думал, он должен теперь же…
— Но, Антоний, я не могу так надолго остаться без моего личного врача, ты ведь должен это понимать.
«Мой дорогой Алекс, — подумал я, — это не совсем соответствует твоим планам…»
Я до сих пор не знаю, кто кого обманывал в этот вечер, или они просто хотели подшутить надо мной — так сказать, любовные забавы властителей? Может быть, таким образом Клеопатра вознаградила меня за верную службу и разрушила план Алекса удалить меня от двора.
Во всяком случае, я вздохнул с облегчением, расслабился и, вероятно, выпил немного больше, чем следует, потому что шутки мои становились все смелее. К счастью, в нашем узком кругу никто на них не обижался.
Но в одном Алекс все же оказался победителем: Ирас стала его возлюбленной, и я наблюдал потом за этими голубками. Странно все-таки устроено: то, что недостижимо, мы ценим сильнее. И я думаю, что никогда еще не любил я Ирас так сильно. В том, что произошло, я винил не ее, а Алекса, который увлек легковерную Ирас с помощью своих гнусных интриг. Хитрый Алекс, однако, представлял дело так, будто это она долго преследовала его, пока он наконец не поддался на уговоры. Ирас же, напротив, говорила, что никогда и никто не любил и не уважал ее так, как он.
Клеопатра не вмешивалась в эти любовные интриги. Правда, как-то раз в утешение мне она заметила, что Ирас подобна бабочке, которая сегодня опускается на один цветок, а завтра на другой. Это меня вовсе не утешило, и постепенно я совершенно перестал получать удовольствие от жизни при дворе. По моей просьбе царица предоставила мне длительный отпуск; мне следовало только оставаться в Александрии, чтобы меня в любой момент могли найти. Я решил навестить наконец моего дядю Персея и его жену Деметру.
Персей встретил меня ворчанием.
— Если бы в городе не ходили рассказы о том, как ты веселишься вместе с царицей и императором, мы уже могли бы решить, что ты умер. Ты отрекся от имени, которое дал тебе отец, от своей семьи и предков…
Видно было, что гнев его не настоящий, а говорит он так скорее от досады и раздражения. Я успокаивающе положил руку ему на плечо.
— Я ни от чего и ни от кого не отрекался. Новым именем меня назвала царица, и его употребляют только при дворе. То, что я не отрекаюсь от своей семьи, доказывает уже одно мое присутствие здесь. Мне было не так уж легко выхлопотать этот отпуск. Не забывай, что я придворный и личный врач и у меня много разных обязанностей, не говоря уж о том, что царица соблаговолила несколько раз посылать меня с разными политическими поручениями. Я был в Иерусалиме, Тарсе, Эфесе…
— Мы ведь знаем, как ты занят, — вмешалась Деметра, — и гордимся, что наш родственник смог занять такое высокое положение. Другие извлекли бы из этого свою выгоду, но мы…
Она многозначительно замолчала.
— Как это понимать?
Весь этот разговор происходил на пороге. Наконец вслед за Персеем мы прошли в дом и расположились на тенистой террасе, которая выходила в маленький садик. Было около полудня, пыльные кусты и трава были залиты солнцем.
— Теперь бы самое время дождю, — сказал Персей.
— Когда же это было, чтобы в мае шел дождь?
Деметра покачала головой.
— Тебя так долго не было, и теперь, когда ты наконец появился, вы говорите о погоде! Раз уж у нас в семье есть врач, скажи ему сразу, что у тебя болит, Персей.
Только теперь я заметил, что мой дядя выглядит нездоровым: вялый, одутловатый, с мутными и усталыми глазами.
Он отмахнулся:
— А, пройдет. Я просто все время устаю, сплю три или четыре раза в день и постоянно хочу пить. И вот еще, взгляни.
Он снял сандалии и показал мне ноги. Они были посиневшими и как будто отмерли.
— Пальцы чешутся и горят, но, когда я скребу их, они почти ничего не чувствуют. Что это может быть?
У меня возникла ужасная догадка: симптомы были настолько однозначными, что их распознал бы любой ученик лекаря. Персей страдал сахарной болезнью, а против нее не было никакого средства. Эта болезнь поражает чаще всего старых мужчин. Спустя несколько месяцев — иногда и дольше — больной впадает в глубокое забытье и через несколько часов умирает. Но ничего этого я не мог и не хотел сообщать. Я успокаивающе улыбнулся.
— Эти признаки могут означать или очень много, или ничего. Если ты позволишь мне погостить у тебя несколько дней, я понаблюдаю тебя, и, возможно, что-то выяснится. Для полной уверенности мне надо будет еще посоветоваться с коллегами в мусейоне.
Казалось, это его немного успокоило, и с тем я и отправился. Может быть, врачи уже нашли какое-нибудь лекарство? До сих пор мне дважды приходилось сталкиваться с этой болезнью при дворе, но в обоих случаях дело касалось каких-то не очень важных людей, и мы предоставили всему идти своим чередом.
В мусейоне меня уже почти забыли. Мне стало немного стыдно, что я продолжаю получать жалованье учителя, но уже почти два года здесь не показываюсь. Впрочем, я же не виноват, что царице пришло в голову использовать меня в другом качестве.
Как личный врач царицы, я быстро нашел нужного специалиста. Я описал ему симптомы и высказал предполагаемый диагноз. Он кивнул.
— Исходя из твоих слов, я пришел бы к такому же выводу. Но тебе стоит все же понаблюдать твоего дядю еще несколько дней. Что касается лечения, то есть разные методы, но я не знаю ни одного, который бы на самом деле был действенным. Все, что тебе остается, — это облегчить твоему дяде последние дни, давая все большую дозу мекония.
Вернувшись, я не выказал Персею своего беспокойства, пообещал понаблюдать за его состоянием и перевел разговор на другую тему, начав расспрашивать про Аспазию.
— Мы слишком избаловали девочку. Она капризна, непослушна и требовательна. Осенью она выходит замуж за сына одного из наших соседей — того, у которого ты некоторое время жил. Ну а теперь о другом. Сегодня утром мы говорили, что ты мог бы кое-что сделать для нас при дворе, Дела. наши сейчас идут не так хорошо, как раньше. Это связано, с одной стороны, с высокими налогами, а с другой — с запретом на серебряные монеты. Ты ведь знаешь, что многие из моих покупателей — приезжие из Азии, Сирии, Рима, Иудеи. И они всегда расплачивались серебром, а иногда и золотом- А теперь они меняют его на бронзовые монеты и удивляются, что не могут купить на них больше того, что раньше покупали за серебро. Это не очень благоприятствует торговле. В последнее время доходы мои явно уменьшились, а расходы, наоборот, стали больше. Семья все растет. Гектор в прошлом году женился, и жена его ждет ребенка. Мне уже пришлось продать двух рабов…
— Зато Аспазия отделится, если выйдет замуж.
Он вздохнул.
— Если, если… Девушка такая строптивая, знал бы ты, каких трудов нам стоила эта помолвка.
— Прежде она была такой робкой и скромной, впрочем, я видел ее еще ребёнком…
Он невесело усмехнулся.
— Всё это в прошлом. Она у нас единственная дочь и ведет себя как какая-нибудь принцесса. Да ты и сам это увидишь, когда она соизволит закончить свой послеобеденный отдых. Итак, Олимп, можешь ли ты что-нибудь сделать для нас? Какой-нибудь царский заказ меня бы очень выручил. У меня до сих пор хранится на складе прекрасная посуда из Розуса. Для моих обычных клиентов она слишком хороша. Пойдем, взглянешь.
Персей оказался прав. Посуда была совершенно замечательная. Тарелки, блюда, кувшины, кубки, изящные амфоры — все было очень искусной работы и покрыто красивой разноцветной росписью.
…. — Это действительно царская посуда. Заверни мне два или три образца, я попытаю счастья при дворе.
На обратной дороге мы повстречали Аспазию. За прошедшие годы из девочки-пампушки она превратилась в стройную, уверенную в себе красавицу с, высокой грудью, темными, отливающими медью волосами и глазами, которые так вызывающе глядели на каждого мужчину, как будто говорили: «Я могла бы стать твоей, но не хочу!»
— Твой брат Олимп оказал нам честь своим посещением.
Я расцеловал мою сестренку в обе щечки, и она приняла это с величием и равнодушием статуи богини.
— Я рад услышать, Аспазия, что скоро ты станешь замужней дамой. Позволь пожелать тебе много здоровых детишек.
Она недовольно приподняла красивые брови.
— Дети? Замужество? Не так сразу. Не со всем, что решают мои родители, я могу согласиться. Может быть, я, как и твоя рабыня, стану жрицей какой-нибудь богини — например, Исиды. Это прекрасная, наполненная жизнь. И я не обязана посвящать всю свою жизнь пьяному грязному мужу и орущим детям.
Персей заметно побледнел, и на лбу у него выступил пот.
— Аспазия, ты… Я запрещаю тебе так говорить. Твой жених не пьет и вовсе не грязен. И какая же семья без детей. Так не пойдет!
Бедняга взглянул на меня, как бы ожидая поддержки, ведь я был ее братом и, кроме того, такой важной персоной. И я сказал свое веское слово:
— Не думаю, что быть танцовщицей в храме так уж легко. Ты обязана соблюдать строгое послушание и повиноваться любому приказу — без гнева, без споров и возражений. Натаки могла бы многое рассказать об этом: ее синяки появлялись не от танцевальных упражнений, а от палки ее учительницы.
Тут я, конечно, сгустил краски, но мне хотелось сломить эту стену упрямства.
Однако на Аспазию все это, похоже, не произвело никакого впечатления.
— Ну, может быть, я все же выйду замуж. А теперь расскажи мне лучше о жизни при дворе, Олимп, чтобы я убедилась, что есть еще что-то, кроме гончарных товаров, квартала у Ворот Луны и жениха, который моложе меня.
— Во имя всех богов,
она снова о том же. Она старше всего на какой-то неполный год, ну и что же из того?
Чтобы прекратить этот семейный скандал, я принялся рассказывать о жизни при дворе и заметил, как навострила ушки Аспазия, когда я описывал разные веселые и забавные случаи, которые происходили, пока здесь гостил Антоний. Аспазия расспрашивала о подробностях туалетов придворных дам, хотела знать все о царице, как выглядит она вблизи, что она ест и пьет, какие у нее привычки и многое другое.
— Аспазия, я ведь не горничная царицы, а ее личный врач, и, поскольку она ни разу еще не болела, на некоторые из твоих вопросов я не могу ответить. — Тут мне пришла одна идея. — Хотела бы ты разок увидеть царицу вблизи?
— Конечно! — воскликнула она. — А разве это возможно?
— А почему нет? — сказал я невозмутимо. — Как личный врач могу ведь я представить свою родственницу? Клеопатра очень внимательна к своим друзьям, я не вижу в этом ничего сложного.
Персея и Деметру очень вдохновил этот план, но я взял с них обещание никому не говорить о нем раньше времени. Насколько я знал Деметру, она бы сразу после этого разговора побежала к соседке рассказать, какое счастье выпало Аспазии.
В голове у меня созрел план, который я хотел осуществить во время ближайшего визита к царице, когда меня будет сопровождать Аспазия. Но прежде я на всякий случай разузнал, действительно ли это не вызовет никаких затруднений.
Когда мы вошли в Брухейон, где каждый узнавал меня и почтительно здоровался, Аспазия совсем притихла.; В двойных носилках нас доставили на полуостров Лохиаду, и моя родственница во все глаза взирала на великолепные башни, дворцы и сады, мимо которых мы следовали, пока носильщики не опустили нас перед легендарным дворцом Клеопатры.
— Это… это… как у богов…
Да, Аспазия была права. Даже те, кто жил в Александрии довольно богато, растерялись бы от такого великолепия. Я, который сотни раз выходил и входил сюда, иногда останавливался и восхищенно любовался какой-нибудь деталью, которую не замечал до сих пор. Так, например, только через несколько месяцев я открыл, что обратная сторона главных ворот не просто выложена плитами из слоновой кости, но все они покрыты еще тончайшей резьбой, изображающей различные сцены из мифа об Исиде.
Добавлю, что мне было приятно появиться во дворце с Аспазией. В ее глазах, широко распахнутых от удивления и восхищения, я отчетливо видел, какого положения я здесь достиг. Ни один из стражей не преградил мне путь копьем, все дворцовые рабы почтительно приветствовали меня, а когда мы вступили в небольшой уютный зал для приемов, нам не пришлось ждать и никто не задержал нас. Эта комната предназначалась скорее для неофициальных, без особого церемониала, встреч с людьми, которых приводили друзья Клеопатры.
Первой появилась Ирас. Она изумленно улыбнулась, а потом сделала вид, что она уже заранее знала о нашем приходе, чему я, однако, не поверил. Она окинула Аспазию оценивающим взглядом и подчеркнуто насмешливо поздоровалась:
— Смотрите, смотрите, врач Гиппократ снова почтил нас! Ты стал редким гостем, мой дорогой. А кто это с тобой?
Со стороны забавно было наблюдать, как маленькая изящная Ирас покровительственно взглянула на высокую Аспазию.
В этот момент меня будто демон подтолкнул, и я, то есть, точнее, он, сказал:
— Это моя родственница Аспазия, недавно мы обручились.
Аспазия с женским тактом подыграла мне, потому что почувствовала — как сказала она мне потом, — что я хочу уязвить эту женщину.
Ирас была совсем не то, что Шармион, никогда не выказывающая своих чувств. На ее лице отразились испуг и удивление, и это доставляло мне невероятное удовольствие, хотя я по-прежнему любил ее. Да, я любил ее, и в то же время мне хотелось задеть ее.
— Вы помолвлены? Вот это новость! Царица… она…
Царица появилась незаметно и подхватила:
— Так что же я? — спросила она приветливо.
Так как никто не отвечал, она повернулась к нам.
— Гиппо — какая радость! Как твои родственники — благополучно? А это твоя родственница Аспазия?
Пораженная тем, что слышит свое имя из уст царицы, Аспазия упала на колени и склонила голову.
— Да, — выдохнула она, — меня зовут Аспазия, Божественное Величество.
Клеопатра улыбнулась своей неповторимой веселой и радостной улыбкой.
— Полно, встань, мы ведь не на аудиенции.
Из-за беременности Клеопатра была одета в просторное платье, и только узкий обруч со змеей-уреем у нее вокруг лба говорил о ее высоком положении.
— И он с ней помолвлен! — воскликнула Ирас, как будто тем самым я совершил какое-то преступление.
Божественная царица не выказала ни малейшего удивления и с приветливым равнодушием спросила:
— Это прекрасно, я рада за вас. И когда же свадьба?
— Это зависит еще от родителей Аспазии, мы должны сначала…
— Хорошо, хорошо — там будет видно.
— Могу я еще кое о чем поговорить с царицей?
Она кивнула.
— Ирас, проводи Аспазию к выходу, мы не надолго.
— Тебе следовало бы заранее сообщить мне об этом, Гиппо, — ведь так принято между друзьями, — сказала она мне с легким упреком.
— Прости, царица, но это получилось вдруг само собой, так сказать, гром среди ясного неба…
Она прекрасно знала людей и сразу поняла, в чем дело.
— Это чтобы досадить Ирас? Подумай хорошенько, Гиппо. Я полагаю, что она вскоре расстанется с Алексом. Скоро ему предстоит отправиться к Марку Антонию, и кто знает, когда он вернется вновь, и вернется ли вообще…
— Я буду своевременно извещать тебя обо всем, царица.
Потом я показал ей три образца посуды из Розуса, которую передал мой дядя, и увидел, как вспыхнули ее серые глаза.
— Это великолепно, действительно великолепно! Да, я возьму всю партию. Мне и без того уже стало казаться однообразным все время угощать гостей из серебряной посуды.
— Или из золотой, как в Тарсе…
Она засмеялась.
— Да, это был особый случай, и я не хочу возводить его в привычку.
Я коротко рассказал ей о болезни моего дяди и попросил разрешения понаблюдать его некоторое время, пока я не узнаю точно, возможно ли исцеление или эта болезнь неизлечима. Она милостиво позволила это и, со своей стороны, предложила мне устроить в квартале неподалеку от дворца лечебницу, где я мог бы принимать больных и где меня можно было бы легко найти, если я понадоблюсь во дворце. Это вполне соответствовало моим желаниям.
— Твоя божественная природа позволяет тебе читать в сердцах людей. Я не осмеливался просить тебя об этом.
— Я вижу, что ты здесь скучаешь. Двор у нас молодой, больных почти нет, а у каждого из наших придворных постарше есть свой собственный врач. Тот, кто не упражняется в своих умениях, в конце концов теряет их.
Я выразил благодарность, и у меня зародилась надежда, что грозившая мне служба в качестве главного врача при войске Антония будет предана забвению.
На обратном пути Аспазия долго молчала, а потом сказала:
— Я понимаю, конечно, что наша помолвка была придумана только для Ирас, но если хорошенько все взвесить…
— Аспазия, твой отец уже пытался однажды сосватать нас — и очень тебя прошу, давай не будем больше об этом. К тому же ты ведь уже помолвлена.
— Если бы ты знал с кем, ты бы так не говорил.
Мне предстояло довольно скоро узнать это, поскольку
Хаймон, тот самый соседский сын, заходил в гости через каждые два-три дня. Его отец торговал дорогими пряностями. Он закупал их в большом количестве, а затем в своем магазинчике сортировал их и упаковывал в мешочки или маленькие глиняные кувшинчики. Поэтому Хаймон, которому довольно много приходилось всего перетирать и перемалывать, постоянно был покрыт серо-зеленой пряной пылью и пах, в зависимости от того, с чем он в последний раз имел дело, шафраном, кориандром, перцем, тмином или вообще какой-то невообразимой смесью. Аспазия держалась с ним высокомерно, однако застенчивый и молчаливый юноша, казалось, вовсе не замечал этого. Он только восхищенно взирал на Аспазию влажными глазами и совсем не понимал или просто не хотел понимать ее колких замечаний. Мне было жаль его, но я не видел, как можно ему помочь, тем более что в то время я был поглощен заботой о дяде. Я расспросил множество врачей — все они знали, что это за болезнь, но никто не умел ее лечить.
Наряду с постоянно усиливающейся жаждой Персея мучил ненасытный голод. Однако несмотря на то, что ел так много, он сильно похудел, у него выпали зубы и волосы, а на теле появились нарывы. Деметра в отчаянии пыталась позвать еще других врачей, но они только качали головой и подтверждали мой диагноз. Наконец он впал в забытье, но прежде у нас состоялся еще короткий разговор.
— Мой конец уже близок, Олимп. Принеси жертву Осирису, чтобы все это не было так мучительно и продлилось бы недолго. Вчера со мной говорила Аспазия. Она попросила у меня прощения и сказала, что не хочет выходить замуж за Хаймона. Она хочет теперь тебя, Олимп, тебя. За Гектора я не волнуюсь, с ним все будет в порядке. Я не могу принуждать тебя жениться на Аспазии, но позаботься о ней, когда я умру. Ты теперь по возрасту и по положению глава нашей семьи, я доверяю ее тебе.
В последние дни, чтобы он не испытывал боли, я давал ему большие дозы мекония. Он умер во сне, ранним утром. Я оставил семью горевать и пошел сообщить эту печальную новость соседям. Потом я объявил Хаймону и его отцу, что Персей хотел бы расторгнуть помолвку и что его последним желанием было отдать Аспазию мне в жены. Они, конечно, были очень изумлены, но из-за моего высокого положения не стали мне возражать. Мне показалось, что Хаймон даже вздохнул с облегчением, потому что наверняка со страхом ожидал того дня, когда ему придется делить стол и кровать со своенравной Аспазией. Я же был старше его на восемь лет, воображал, что имею некоторый опыт общения с женщинами, и был уверен, что смогу с ней поладить.
Мы решили подождать, пока пройдет девяносто дней — и кончится траур. Тем временем, мне предстояло найти помещение для своей лечебницы. Моя должность личного врача открывала передо мной все Двери, и вскоре я отыскал кое-что подходящее на восточной окраине Брухейона. Неподалеку протекал судоходный канал на юг. Район этот граничил с прилегающим еврейским кварталом, где жил Салмо со своей семьей. Он точно описал мне местоположение своего дома: к северу от Канобских Ворот, наискосок от молитвенного дома, по соседству с булочником…….
Все же мне пришлось немного поблуждать, прежде чем я отыскал узкий двухэтажный дом. Дверь слегка приоткрылась, и женский голос спросил, что мне нужно. Поговорить с Салмо? Так он сейчас в молельном доме, заменяет там заболевшего Шаммеса, слугу в синагоге. А кто его спрашивает? Услышав мое имя, она распахнула дверь.
Меня поразило ее сходство с Ирас, только она была немного полнее. Маленькая, кругленькая, она вызывающе уперла руки в бока и воскликнула громким и немного резким голосом:
— А, господин личный врач удостоил нас чести! Салмо ни о чем другом не говорит, кроме как о расчудесной службе у тебя. Давно пора чем-нибудь занять его. После того как он потерял место в войсках, он только целыми днями слоняется, пьет вино, считает мух на стене и гоняет детей…
— Стоп-стоп! Он вовсе не потерял место, а просто получил отпуск как мой слуга и помощник. Если бы мне не пришлось заботиться о моем больном родственнике, то…
— И все равно, — прервала она меня, — мужчина без работы — это самое ужасное. Это хуже, чем самая тяжелая болезнь. Я надеюсь только, что ты…
Ее голос долго еще звучал мне вслед, пока я шел к молельному дому. Салмо был занят наверху, в галерее, предназначенной для женщин, и я услышал, как он ворчит себе под нос:
— И почему эти бабы во время молитвы грызут семечки?! А пахнет-то здесь, как в какой-нибудь лавке с бальзамами я духами! Ах, как бы я всех этих баб…
— Что бы ты с ними сделал, Салмо?
Голос смолк, и сверху показалась его голова.
— Наконец, наконец! — воскликнул он громко и заспешил по лестнице вниз.
Мы обнялись.
— Ты меня совсем забыл, — упрекнул он, и его здоровый глаз стал влажным.
Я так хлопнул его по спине, что она затрещала.
— Нет, Салмо, не забыл, просто был очень занят разными семейными делами.
Я рассказал ему о болезни и смерти дяди и о моей помолвке.
— Нет! — воскликнул он. — Как можешь ты поступать так безрассудно! Тебе следовало бы сначала спросить совета у меня, опытного женатого мужчины!
— Ты слишком дерзок для слуги, но я уже привык к этому. Я не собираюсь здесь, в храме, обсуждать с тобой недостатки и преимущества семейной жизни. Как только все здесь закончишь, приходи ко мне в мою новую лечебницу.
— Тотчас же! Я теперь же могу уйти отсюда! Для этой дурацкой работы они быстро найдут кого-нибудь другого. Глупцов на свете все еще хватает. Ты и сам в этом убедишься, если всерьез собираешься…
Я замахнулся. Салмо, ухмыльнувшись, пригнулся, но замолчал. Я вспомнил о его самоуверенной жене и ее пронзительном голосе и подумал, что мой слуга, должно быть, повсюду чувствует себя лучше, чем дома.
Чтобы иметь под рукой все, что может понадобиться при работе, я приобрел всевозможные ножи, скальпели, пинцеты, иглы, пилы и многое другое. Я заказал у столяра специальный шкаф, велел установить его напротив окна и часами занимался только тем, что подписывал многочисленные ящички. За этим занятием и застал меня посыльный из царского дворца — Клеопатра, моя царица, должна была вот-вот родить. Она велела послать за мной не столько ради моего врачебного искусства — для этого уже подготовлены были повивальные бабки, — а потому, что хотела, чтобы в этот трудный час с ней рядом были все ее старые друзья.
Стараниями жрецов комната, где должны были проходить роды, была превращена в подобие какого-то храма. Напротив кровати был устроен алтарь Исиды. Изголовье кровати охраняла статуя в человеческий рост египетской покровительницы родов Фоерис. Она была изображена в виде беременного бегемота, и ее левая рука опиралась на иероглиф «защита». Царица коротко поздоровалась со мной. Хотя по лицу ее промелькнули первые признаки пока еще слабых схваток, она не утратила своей склонности к иронии.
— Если бы Прометей возложил задачу продолжения рода на мужчин, то мир давно вымер бы, потому что никто из вас, герои, не согласился бы во второй раз переживать муки и опасности родов.
Что мне оставалось на это ответить? Рядом с ее постелью находилась Ирас. Ее черные глаза, казалось, прожигали меня насквозь. Как и все мужчины, я стоял у кровати роженицы в смущении и растерянности и мечтал поскорее убраться отсюда.
— Боги да хранят тебя, царица, — пробормотал я.
Она улыбнулась, но внезапные схватки исказили ее лицо
гримасой боли.
— Если боги откажутся, — сдавленно проговорила она, — у меня ведь останется еще личный врач…
В это мгновение я как никогда любил мою царицу и знал, что останусь верен ей до самой смерти, что бы ни случилось. Может быть, это звучит слишком торжественно, но я сдержал свою клятву.
Ирас отвлекла меня от этих размышлений.
— Выйди! — прошипела она. — Сейчас же!
— Я принесу жертву Серапису… — пробормотал я и бросился к двери.
Все друзья царицы собрались в передней. Здесь царила такая же атмосфера, как в святая святых храма. Не слышалось ни одного громкого слова, вероятно, из уважения к Пжерениптаху, верховному жрецу из Мемфиса, который пользовался в народе большим почетом, имел власть и мог оказывать влияние на царицу, которой он — как и его отец — всегда был верен. Его должность вот уже более двух столетий передавалась в семье по наследству.
Пжерениптаху было около пятидесяти, но уже тогда он был неизлечимо болен. Он страшно исхудал, так что остался почти один скелет, и при ходьбе ему приходилось опираться на двух молодых жрецов. По желтоватому цвету его лица я определил, что он, вероятно, страдает болезнью печени или желчи.
У окна шепотом беседовали Протарх и Мардион. Алекс, конечно, тоже был здесь. Он говорил с пожилым распорядителем, точнее, это был монолог, в который время от времени старику удавалось вставить несколько слов.
Заметив меня, Протарх дружески кивнул мне, а Мардион приветливо улыбнулся.
— Мы как раз говорили о положении в Иудее. Вчера вечером оттуда прибыл корабль и доставил интересные известия. Многие из них могут оказаться недостоверными, но одно очевидно: Ироду пришлось укрыться от парфян в своей крепости Масада и теперь он, вероятно, попытается пробраться оттуда в Рим, чтобы его друг Антоний выручил его. В Иерусалиме власть захватил Антигон, в то время как Фасаил, старший брат Ирода, попытался перетянуть парфян на свою сторону. Я надеюсь, скоро мы узнаем об этом подробнее.
— Об этом я слышал еще на обратном пути из Эфеса, — сказал я. — Ирод должен победить. Взглянув на него, понимаешь, что он способен на все. Что слышно про Марка Антония? Наша царица рожает его ребенка, а он в это время где-то скрывается.
— Тише, — прошипел Мардион, и его обычно приветливое лицо стало серьезным и строгим.
— Сразу видно, что ты давно уже не был при дворе: похоже, ты и понятия не имеешь, как тут обстоят дела в последнее время.
— Объясни ему все, Мардион, — прошептал Протарх, — я позову вас потом.
Мы вышли в маленький уютный дворцовый садик. Он был укрыт со всех сторон, и его радостную тишину нарушало только тихое журчание фонтана с нимфами. Мардион, маленький, кругленький, мог бы сойти за старшего брата Ирас. Несмотря на свой спокойный и рассудительный характер, он был очень деятелен, а свою речь часто подкреплял выразительными жестами. Он отослал прочь раба, который занимался осенней подрезкой кустов.
— Марка Антония стараются пока не упоминать, — вполголоса начал Мардион свое объяснение. — О войне с парфянами до сих пор ничего не слышно. Они сидят в Иудее и остерегаются провоцировать римлян. К тому же у Антония возникли осложнения с его супругой Фульвией. Она вместе с Луцием Антонием, братом императора, затеяла ссору с Октавием — конечно, под предлогом упрочения положения своего супруга в Италии, но скорее для того, чтобы выманить его из Египта. Дело кончилось неудачей, ей пришлось бежать, и осенью она умерла на пути в Элладу. Октавий благоразумно не стал ссориться с императором, помирился с ним и возобновил триумвират. Он настоял также, чтобы Антоний женился на его старшей сестре. Она вдова, он вдовец — стало быть, этому ничто не препятствует, разве что наша царица. Можешь представить, каково ей было, когда она несколько дней назад услышала об этой женитьбе. Она хочет любой ценой вернуть Антония, и я подозреваю, кого она пошлет к нему, — человека, который уже имеет некоторый опыт в качестве чрезвычайного посла.
Я испугался.
— Нет, Мардион, на этот раз нет. Антоний ценит меня как врача, но я не смогу уговорить его приехать в Египет — царица должна понимать это.
— Успокойся, Гиппо! Это ведь только предположение. А кому, по-твоему, можно было бы доверить такое поручение?
Я ответил, не раздумывая ни мгновения:
— Алексу, конечно. Каждый знает, какое большое влияние он имеет на императора. Если кому-то и удастся привезти Антония в Египет, то это только Алексу из Лаодикеи.
Мардион кивнул.:
— Ты прав, и я не понимаю, как до сих пор эта мысль никому еще не пришла в голову. Но этот человек сделался здесь таким незаменимым, что без него, очевидно, никто теперь не может обойтись. Я знаю, тебе он не нравится, это. можно понять. Я и сам не принадлежу к числу его друзей. Этот человек сияет, как позолоченный медный кувшин, о котором думаешь, что в нем может быть только самое лучшее вино. Но под тонким слоем позолоты скрывается обычный металл, а в кувшине — какая-нибудь подслащенная медом кислятина.
Я засмеялся.
— Удачное сравнение, хотя большинство видят в Алексе только его позолоту.
— Хорошо, Гиппо, я на твоей стороне. Передам все это Протарху, и если он одобрит, то мы представим это предложение царице как нашу совместную идею.
Ближе к вечеру царица Клеопатра родила двух близнецов. Мальчик получил имя Александр Гелиос, а девочка — Клеопатра Селена. Царица, земное воплощение Исиды, и тут была последовательна и произвела на свет из своего чрева луну и солнце.
Глава 16
После рождения близнецов для меня наступило трудное время. Мне приходилось разрываться между царским дворцом, моей новой лечебницей и моей нареченной, Аспазией, которая с нетерпением ожидала нашей предстоящей свадьбы и представляла себе, какое блестящее положение займет она при дворе, став женой личного врача.
С помощью Мардиона мне удалось привлечь на свою сторону Протарха. Мы довольно скоро убедили его, что для того, чтобы вновь привезти Антония в Египет, трудно отыскать более подходящего человека, чем Алекс. А тот тем временем, ни о чем не подозревая, наслаждался благосклонностью царицы и ее горничной Ирас и совсем не замечал при этом, что многие из тех, кто ценил его раньше, теперь отвернулись от него, потому что почувствовали, что за его. всеведением и приветливостью скрывается только честолюбие и желание понравиться.
Прошло четыре недели, а от Антония все еще не было никаких известий. Постепенно и осторожно мы убедили царицу, что есть только один человек, который способен напомнить Антонию о его долге отца и любовника и вырвать его из рук Октавия, и этот человек — Алекс,
Не знаю, почему Клеопатра, которая никогда ничего не боялась, в этот раз не решилась сказать Алексу о своем поручении с глазу на глаз. Может быть, она просто сочла нужным, чтобы при этом присутствовали все ее друзья. Во всяком случае, она собрала всех нас и сообщила это и еще кое-что.
После того как слуги убрали посуду и принесли кувшины с водой, медом, соком и вином, Протарх поднялся со своего места, чтобы сообщить нам, что через несколько недель ожидается прибытие одной высокой особы.
— Ну-ну, Протарх, не столь уж высокой, — перебила его царица. — Наш Гиппо знает этого господина, и потому я хотела бы, чтобы он присутствовал при этой встрече, если это будет возможно. В интересах государства — в особенности принимая во внимание Рим — я не хотела бы ни на мгновение остаться наедине с Иродом, тетрархом Иудеи. При каждом нашем разговоре должно присутствовать минимум два свидетеля, не считая придворного летописца, который должен все подробно записать. А теперь Протарх сообщит вам, с чем едет к нам Ирод.
Протарх принял строгий вид министра и извлек какие-то записи.
— Да, друзья, Ирод оказался в незавидном положении. Он посетит Александрию, а затем отправится дальше в Рим, чтобы просить триумвират оказать ему помощь. При этом он рассчитывает прежде всего на свою дружбу с Марком Антонием. Мы знали, что он вынужден был бежать от Антигона, которого поддерживают парфяне, но теперь стали известны подробности. Ирод поспешил в Иерусалим на помощь своему брату Фасаилу. Однако войско их было слишком мало, и они оказались запертыми в царской крепости. Тут между братьями возник спор. Фасаил хотел выиграть время и вступить в переговоры с парфянами, Ирод же не видел в этом никакого смысла, поскольку они, как явные враги римлян, очевидно, поддержат выступающего против Рима узурпатора Антигона. Однако Фасаил не захотел отказываться от своего плана, покинул надежную царскую крепость и отправился в главную ставку парфян для переговоров.
Там его вначале приняли с почетом, но потом схватили и бросили в оковах в темницу. Узнав об этом, Ирод подкупил охрану и в одну из ночей предпринял побег. Но когда до Иерусалима оставалось всего несколько миль, его настигли парфяне. Ироду и его людям удалось справиться с ними. По пути в крепость Масаду произошло еще несколько стычек с парфянами, но из всех он выходил победителем. В безопасности он оказался только после того, как пересек границу Идумеи, своей родины. Здесь народ поддерживал его, и многие добровольно примкнули к его войску. В Масаде Ирод оставил семью под защитой младшего брата, Иосифа, а сам с небольшим войском двинулся к Петре, чтобы потребовать у короля набатеев Малха денег, которые дал ему когда-то в долг Антипатр, отец Ирода. С помощью этих денег он хотел выкупить у парфян своего брата, однако не успел этого сделать. Парфяне выдали Фасаила и Гиркана узурпатору Антигону. Тот велел отсечь первосвященнику оба уха, после чего, по еврейским законам, тот не мог больше занимать своего высокого поста. Фасаила должны были казнить. В отчаянии он попытался бежать, но, в оковах, сорвался со скалы и погиб. Получить деньги с царя набатеев Ироду также не удалось. Малх действовал заодно с парфянами, которые приказали ему схватить Ирода или, по крайней мере, выслать его из страны.
Протарх на минуту остановился и отпил воды.
— Здесь наши интересы неизбежно совпадают. У Ирода остается только одна надежда — на то, что ему удастся получить помощь от Марка Антония, который сейчас находится в Риме. Все пути туда перекрыты парфянами — кроме одного, который проходит через Египет.
— Мы встретим Ирода с почетом, — вновь перебила Клеопатра своего верховного визиря, — но дадим ему понять, что у него нет ни власти, ни трона, ни страны, ни денег и он очень нуждается в нашей помощи, а также в помощи Рима. Если он пожелает, мы позволим ему следовать дальше, но один из нас будет сопровождать его к Антонию, чтобы представить нашу готовность оказать помощь в правильном свете. И это будешь ты, Алекс из Лаодикеи.
Сердце мое подпрыгнуло от радости, когда Клеопатра произнесла эти слова. Они прозвучали как приговор. Если бы она была наедине с этим льстецом, он привел бы ёй целый ряд аргументов и уговорил бы ее. Но теперь это был ясный и однозначный приказ, против которого немыслимо было протестовать или возражать при стольких свидетелях.
Ирас и бровью не повела, и я подумал, что царица, видимо, заранее предупредила ее об этом.
Алекс же превзошел самого себя. Он медленно поднялся, его красивое лицо сияло, как будто ему объявили о высокой награде. Молитвенно сложив руки, он глубоко поклонился и произнес ясным чистым голосом:
— Ты не могла сделать мне лучшего подарка, чем послать в Рим с этим необычайно важным поручением. Я вновь увижу моего лучшего друга, и это на время сгладит мне боль от разлуки с вами, дорогие друзья.
На время! Он уже подготавливал нас к своему возвращению. «Напрасно ты так уверен, друг мой, — мрачно подумал я. — Путь до Рима не близкий, и не только от тебя зависит, вернешься ли ты обратно».
Потом с Алексом беседовал Протарх, который сообщил ему, в чем конкретно будет состоять его поручение. Он должен постараться встретиться с Антонием наедине и уговорить его лишить Ирода власти и поделить его страну между Римом и Египтом. Раньше Клеопатра посылала меня в Иерусалим, чтобы я склонил Ирода к соглашению за спиной Рима, теперь же она требовала от Антония, который был ее любовником и отцом ее детей, отказать Ироду в поддержке и разделить его страну. Чтобы обсудить детали этого плана, Антонию следовало немедленно приехать в Египет или назначить Клеопатре встречу где-нибудь в Сирии или. Азии.
Все это по секрету сообщил мне Протарх незадолго перед своей смертью, но слухи об этом ходили уже и раньше.
Ирод прибыл в Александрию в начале ноября. Его сопровождали две сотни верных ему идумейских солдат из его личной армии. Он держался так, будто по-прежнему был полновластным тетрархом Иудеи, а вовсе не беглецом, нуждающимся в помощи.
Клеопатра как умная женщина поддержала его игру. Перед стенами дворца гремели фанфары, улицы были празднично украшены, и все, кто жил в Брухейоне — от конюха до военачальника и от посудомойки до придворной дамы, — празднично одетые, приветствовали высокого гостя ликующими возгласами.
Если Ирод и был поражен таким приемом, то ничем не выдал этого. В белоснежном арабском одеянии он гарцевал на горячем вороном скакуне, а солдаты окружали его живой стеной, ощетинившись пиками и звеня мечами. Тетрарх провел в Александрии около двенадцати дней, и Клеопатра сдержала свое слово: все их разговоры происходили при свидетелях, и о каждом придворный летописец подготовил подробный отчет, заверенный им и свидетелями.
Как и полагается, они обращались друг к другу «царица» и «тетрарх» и были изысканно вежливы. Ни от кого не укрылось, что Ирод понравился нашей царице как мужчина. Она показала себя с лучшей стороны, была очаровательна, заботлива и внимательна и воздерживалась от иронических замечаний. Видно было, что Ирод восхищен ею не только как женщиной примерно его возраста — обоим тогда было около тридцати, — но и как умной, образованной и пользующейся всеобщей любовью царицей. Она бегло говорила по-иудейски и арамейски, знала его страну, как будто сама родилась там, и ему, казалось, доставляло удовольствие расхваливать красоту и богатство своей страны так, будто он хотел положить все это к ее ногам.
На четвертый день его пребывания к столу правителей были приглашены Ирас и я. Поодаль на полу сидел придворный летописец, держа на коленях свиток и перья— мотив, так часто повторяющийся в древнеегипетской живописи и барельефах.
Меня снова поразила кошачья грация Ирода, он сидел так свободно и непринужденно, как будто обсуждался план увеселительной поездки в Каноб, а между тем речь шла о его жизни и будущем. Может быть, я ошибаюсь, но в выражении его лица проглядывало легкое презрение. Возможно, это было презрение к двору, которым правит царица, презрение, вероятно, также и к нам, мужчинам, которые допускают это. С точки зрения араба или иудея, это действительно была немыслимая ситуация, потому что согласно их обычаям женщина не может занимать никаких государственных постов, в то время как в Египте и во времена древних династий, и при Птолемеях на троне нередко бывали царицы.
— Олимп, ты — здесь?
Его темные глаза раскрылись от удивления. Я поклонился.
— На этот раз как личный врач царицы. При дворе меня зовут Гиппократом.
Ирод усмехнулся.
— Вы, греки, очень предприимчивы, не так ли? Это стоит понимать и как комплимент твоим предкам, царица.
Клеопатра улыбнулась своей лучезарной обаятельной улыбкой, и по залу как будто пронеслось дыхание божественной Исиды.
— История не стоит на месте, Ирод. Богатство греческих диадохов
[59] померкло с тех пор, как взошло солнце Рима. Благословен тот, кого оно приветливо озаряет.
— Как тебя, царица.
— В Египте издавна почитают Солнце как величайшее божество, которое требует постоянных жертв. В твоем теперешнем путешествии в Рим я вижу мало смысла по двум причинам. Во-первых, поездка по морю в это время года связана с большим риском, и, во-вторых, ты спокойно можешь подождать прибытия императора Антония здесь, и у меня есть к тебе предложение: ты мог бы стать стратегом моих иудейских войск…
Гладкое, бронзовое от загара лицо Ирода оставалось неподвижным. Он задумчиво погладил свою короткую черную как смоль бороду.
— Конечно, это почетно, очень почетно. Но священники в Иерусалиме осудили бы меня, если бы я перешел на службу в Египте, где, по их словам, поклоняются ложным богам. Что же касается Антония, то не стоит забывать, что ему принадлежит только треть власти в Риме, где по-прежнему управляет триумвират из Антония, Октавия и Лепида. Он — друг моей юности, я ценю и люблю его, но я не должен упускать из виду действительное соотношение сил, и я даже предполагаю, чего он ждет от меня. Поэтому, царица, я должен ехать в Рим, как бы это ни было опасно.
В начале декабря он отправился дальше, и Алекс вместе с ним. Наконец-то Ирас снова заговорила со мной, но то, что я услышал поначалу, были лишь жалобы и упреки.
— Ну, теперь ты наконец счастлив: избавился от Алекса, не так ли? Что он тебе сделал? Разве он не был другом каждому, начиная от царицы и кончая стражником у дверей? Ты что, мстишь из ревности — а сам при этом собираешься жениться на другой?
Что тут можно было ответить — тем более что я уже и сам не понимал: почему я женюсь на Аспазии и действительно ли я все еще люблю Ирас?
— Так это я отослал Алекса? — воскликнул я, раздосадованный собственным замешательством. — Послать его к Антонию царице посоветовали Мардион и Протарх — люди уважаемые и стоящие вне всяких подозрений. По зрелом размышлении я согласился с ними. Да, я ревновал, но ты так вешалась ему на шею и так за него схватилась, что я изменил свои планы. Аспазия — юная и очень милая девушка, совсем почти дитя, и я предпочитаю взять в жены женщину, у которой я буду первым мужчиной, а не одним из многих, как, например, у тебя.
Это было, конечно, довольно грубо, и в ответ она дала мне две звонкие пощечины — справа и слева, — а потом разрыдалась и убежала. Поверите ли, меня вновь начала терзать безумная ревность к преемнику Алекса, которого в то время еще даже и не было.
Вскоре я вновь на некоторое время удалился от двора: мне дали небольшой отпуск по случаю того, что я стал женихом. До сих пор мне не доводилось бывать на греческой свадьбе, а египтяне — это я знал еще по Сиене — женятся безо всяких пышных церемоний: просто составляют брачный договор и устраивают пир для друзей и родственников.
Здесь, в Александрии, мне все разъяснила моя тетя Деметра, приговаривая при этом со слезами в голосе: «Ах, если бы был жив мой Персей…»
Персея заменил его сын Гектор, мой дорогой брат, с лица которого не сходила какая-то чванливая усмешка, вероятно, потому, что он уже был женат и чувствовал свое превосходство надо мной. Ему я заплатил выкуп за невесту. Раньше он состоял обычно из каких-нибудь продуктов, но теперь, особенно в городах, это была просто некоторая денежная сумма. Деметра и Гектор согласились, чтобы она была не очень большой, потому что я до сих пор так и не нажил себе состояния, а кроме того, я ведь возвысил Аспазию: в качестве моей жены ее допустят ко двору, а в таком государстве, как Египет, это многое значит.
Сперва был устроен праздник для друзей, соседей и родственников. В конце его Аспазия торжественно сожгла перед маленьким домашним алтарем Сераписа свои детские игрушки в знак того, что она стала уже совсем взрослой. Потом был обильный свадебный обед, во время которого гости, особенно молодые, слишком много всего съели и выпили, так что потом, к ужасу Деметры, заблевали весь дом. Около полуночи свадебная процессия должна была направиться к моему дому. Однако с этим было сложнее. У меня, конечно, были квартира в Брухейоне и моя новая лечебница, но они вовсе не рассчитывались на семью, там были всего лишь две скромные спальни — для меня и Салмо. Только в последний момент мне удалось снять напротив моей лечебницы квартиру побольше, которую Аспазии предстояло обставить по своему вкусу.
Таким образом, с позволения царицы, передача невесты ее мужу состоялась в Брухейоне. Царица проявила при этом свойственные ей щедрость и великодушие. К сожалению, с этого и начались все недоразумения в нашей семье.
Эпифаланий, ритуальную свадебную песнь перед спальней новобрачных, исполняли певцы придворного храма Исиды, который находился рядом с дворцом Клеопатры. Она была сложена на стихи любимой поэтессы царицы, Сафо
[60], которая жила на Лесбосе около шестисот лет назад и которую потом назвали «девятой музой».
Потолок поднимайте!
О Гименей!
Выше, плотники, выше!
О Гименей!
Входит жених, подобный Арею —
Выше самых высоких мужей!
[61]
Пение хора продолжалось несколько часов и сопровождало мои попытки лишить девственности Аспазию, что оказалось не так-то легко.
Едва мы сели на нашу широкую кровать, она прошептала, приложив пальчик к губам:
— Какая красивая песня!
Хорошо, мы прислушались к превосходному пению многоголосого хора — едва ли во всей Александрии можно было услышать еще что-либо подобное. Примерно через полчаса она медленно сняла свой украшенный цветами наряд невесты и осталась в скромном хитоне, который прикрывал ее аж до колен. Я уже устремился к ней, «подобно Аресу», но тут она отпрянула, воскликнув:
— Мои волосы! Я хочу распустить их! Где зеркало?
Мы вместе обыскали всю спальню, но разве можно найти
его в жилище холостяка!
— Я помогу тебе, — предложил я.
— У мужчины, — сказала она насмешливо, — это вряд ли получится.
— Позволь мне попробовать…
Против этого она не стала возражать, и я принялся за работу при слабом свете лампады. Освободить ее забранные кверху волосы оказалось невероятно трудно. То и дело она вскрикивала от боли, но наконец они темной волной заструились по спине. Но только я собрался снять с нее и хитон, как она молча отказала мне.
— Аспазия, — терпеливо сказал я, — мы теперь муж и жена, и это мое законное право — нет, это наш общий долг — вступить в супружескую связь. Я хочу сказать, что Гименей, покровитель семьи и брака, которого они там снаружи славят, только тогда сможет принять и благословить наш брак, когда он совершится по-настоящему.
Но как я ни старался объяснить ей — в конце концов мне все же хотелось взять мою собственную родственницу не силой, а только с помощью понимания и терпения, — все оказалось бесполезно. Тогда я просто схватил ее за волосы и прошипел:
— Если ты сейчас же не разденешься, я сегодня же отошлю тебя обратно к твоему брату! И никакого свадебного пира, который собиралась устроить для нас завтра царица.
— Что? Царица — для нас, здесь, в Брухейоне?
— Да, и с очень почетными гостями.
Только тогда Аспазия наконец разделась, легла в кровать и покорно закрыла глаза. Но к этому времени я уже порядком устал. Когда мы входили в спальню, мой фаллос был бодр и готов к действию, теперь же, после столь затянувшихся стараний, во мне пропало всякое желание. Я жадно выпил бокал вина, лег рядом с Аспазией и сказал:
— Ты добилась того, чего не удалось еще ни одной женщине. Спи теперь, а завтра мы продолжим этот разговор.
— А свадебный пир?
— Состоится!
Я проснулся первым, прижался к ее обнаженному телу, раздвинул слабо сопротивляющиеся ноги и легко вошел в нее. Она тихо вскрикнула, проснулась, взглянула на меня расширенными от ужаса глазами и попыталась вырваться. Однако я не выпустил ее и довел дело до конца.
Почему я рассказываю об этом так трезво и равнодушно? Потому что до сих пор, с какой бы женщиной это ни происходило, любовный акт возбуждал во мне радость и желание — будь это с Натаки, Ирас или проститутками в Иерусалиме, Тарсе или Эфесе. Теперь же у меня было такое чувство, как будто я выполняю какую-то тягостную обязанность. Оставалось только надеяться, что со временем Аспазия изменит свое отношение. Во всяком случае, я постарался сделать все, чтобы облегчить ей это, и утешал себя тем, что с девственницей все совсем по-другому, чем с опытной женщиной.
Теперь, во всяком случае, имелось пятно крови на простыне, которое, как и надлежит, со смешками рассматривали ее подружки.
Клеопатра устроила для нас поистине царский пир в бывшем дворце ее брата и супруга. Обед состоял из одиннадцати блюд и сопровождался пением, музыкой и танцами. Больше всего мне запомнился поданный целиком кабан. Шкура его была обсыпана золотой пудрой, а под ней скрывались вкусные поджаристые кусочки.
Когда обед уже подходил к концу, появилась царица, в праздничном одеянии и в короне с уреем. Она пожелала нам обоим счастья и в качестве подарка вручила мне жезл Асклепия из чистого золота, весивший почти половину птолемеевского таланта. Аспазия получила золотую цепочку с медальоном, из карнеола, на котором был вырезан портрет царицы.
Перед уходом Клеопатра сказала, указав на мой подарок:
— Оба мы живем под знаком змеи — и врач и царица.
Она имела в виду змею, обвившую жезл Асклепия, и священную змею-урея на ее короне, которая с древних времен охраняла царей и символизировала также огненный глаз Ра, бога Солнца.
Этот обед, дорогие подарки и явная благосклонность царицы ввели в заблуждение Аспазию, которая решила, что и в дальнейшем жизнь наша будет проходить подобным образом: в золотом сиянии царской милости. Бедняжка была горько разочарована, когда в действительности все оказалось иначе. Я не собирался в угоду Аспазии попусту тратить свою жизнь при дворе, где моя должность личного врача была, конечно, очень почетной, но где в моей помощи почти не нуждались. Больше всего на свете я любил мою профессию, хотел, как и прежде, совершенствоваться в ней и исцелять людей.
Мы остались в Брухейоне еще на несколько недель. Аспазия приложила все усилия, чтобы завести здесь друзей. Это было для нее не так уж трудно, потому что она была, если хотела, очаровательной и приветливой, могла мимоходом болтать обо всем и ни о чем и при этом упомянуть вскользь, что прежде ее отец, а теперь ее брат были поставщиками посуды для царского стола. Она по-прежнему не испытывала никакого удовольствия от любовного акта и в четырех случаях из пяти находила целый ряд отговорок. Если у других женщин неблагоприятные дни случались раз в месяц, то бедную Аспазию природа мучила через каждые десять дней, а кроме того, у нее могла еще болеть голова или желудок, и все это мешало ей разделить со мной ложе. В это время я узнал еще одну сторону женской природы: по лицу мужчины они могут понять, что с ним происходит. Я торжественно клянусь, что никогда и никому не рассказывал и даже не намекал о своих проблемах с Аспазией. И все же Ирас прямо заговорила со мной о том, что так тяготило меня в то время. Она полностью изменила свое отношение ко мне. Если сразу после отъезда Алекса она обвиняла меня во всем, то теперь мне иногда казалось, что достаточно было бы двух-трех слов, чтобы возобновить между нами отношения, которые начались в Тарсе,
Это было в тот день, когда я лечил любимого садовника нариды — он чуть не отрезал себе палец садовыми ножницами. К счастью, палец вновь сросся, только перестал, двигаться.
Ирас была рядом, и потом мы вместе вышли в сад и уселись на красивую скамью из порфира и алебастра.
— Глядя на тебя, нельзя сказать, что в твоей семейной жизни все обстоит благополучно, — начала она разговор.
Я покраснел от смущения.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты не справляешься с Аспазией…
— Или она со мной! — возразил я.
— Это все равно. Во всяком случае, ты несчастлив, это каждый заметит. — Я горько рассмеялся.
— О нет, Ирас, не каждый. Ты первая, кто заговорил со мной об этом.
— Стало быть, я права?
Я кивнул.
— Почему я должен это скрывать от тебя? Я слишком поторопился с женитьбой и теперь думаю, что пошел на это только из уважения к
семье.
— И ты примирился с тем, что будешь несчастным всю свою оставшуюся жизнь?
Это прозвучало как вопрос, и я ответил на него другим:
— А что я должен делать? Убить Аспазию? Отослать ее обратно к матери? Поколотить ее, чтобы она образумилась? Что ты мне посоветуешь?
— Займи ее чем-нибудь! Здесь полно услужливых рабов, и для жены личного врача может быть выполнено любое желание. У вас есть крыша над головой, есть что подать на стол, вы можете не отказывать себе в развлечениях. Прогулка на лодке? Пожалуйста! Игра в мяч прохладным вечером, поездка в Фарос, чтобы проиграть там в кости несколько драхм, — для этого всегда можно найти время и спутника. Мы с Шармион каждый день стараемся выкроить хотя бы часок посвободней, а твоя жена не знает, куда ей деть двенадцать часов днем, да и ночью она, похоже, тоже ничем не занимается.
Я молча опустил голову.
— Я права?
Большие темные глаза взглянули на меня с необычайной серьезностью. Я пошутил:
— Мы могли бы заставить ее ревновать…
— Как?
— Если бы ты впустила меня в свою комнату…
— Нет, — ответила она твердо и решительно. — Ты женат, и царица это вовсе не одобрила бы.
— Антоний тоже был женат, в то время как спал с царицей.
Этого мне не следовало говорить. Глаза ее загорелись от возмущения.
— Как ты смеешь сравнивать себя и меня с нашей божественной царицей и с императором? Врача и горничную — с Исидой и Дионисом? Неужели ты это серьезно?
— Успокойся, Ирас, это была шутка — довольно неудачная, прости.
И все же я и по сей день убежден, что Ирас уступила бы моей настойчивости, если бы я тогда проявил ее.
Наконец в моей лечебнице все было готово. Салмо не терпелось выступить в роли моего помощника, специально снятая квартира давно ожидала нас. Однако Аспазия с помощью хитрости и всевозможных интриг все задерживала наш отъезд из Брухейона. Ей даже удалось привлечь на свою сторону строгую Шармион, которая, в отличие от Ирас, не замечала, как обстоят у нас дела.
Высокая и стройная македонянка спросила меня однажды, почему мне так не нравится жизнь при дворе и зачем мне непременно нужна практика в городе.
— Здесь тебя все ценят, и царица к тебе благосклонна. Твоя жена тоже считает, что твое место здесь, а не за Стенами дворца. Из десяти твоих пациентов восемь обратятся к тебе просто из любопытства, потому что ты личный врач царицы.
— Я и останусь им, — заверил я ее, — а моя лечебница устроена с согласия царицы.
В качестве последнего средства, чтобы уговорить меня, Аспазия решила стать на некоторое время послушной и разыграла в постели страсть, которую она едва ли испытывала. В результате она забеременела, однако жалованье личного врача не было рассчитано на растущую семью.
Бедная Аспазия — именно ее старание уговорить меня любым способом и привело в конце концов к тому, что мы должны были переехать на нашу новую квартиру в городе, и ей пришлось стать домашней хозяйкой, а не блестящей придворной дамой, как она мечтала.
Ей пришлось примириться с этим, а ее беременность пригодилась ей в качестве предлога, чтобы вновь меня отвергать. На одном из семейных праздников, не помню, по какому поводу, Аспазия познакомилась с Рут, женой Салмо. И представьте себе, жена моего слуги сразу же отлично поладила с моей, несмотря на различие в их общественном положении. Моя лечебница находилась с восточной стороны Брухейона, недалеко от еврейского квартала, так что они могли видеться довольно часто.
Мои надежды на то, что рождение ребенка внесет наконец порядок в нашу семью, оказались напрасными — скорее, случилось совсем наоборот. Несмотря на обращение к харитам
[62] и щедрые жертвы перед их алтарем, роды были долгими и болезненными. Схватки продолжались около двадцати часов, и под конец у бедной Аспазии не было даже сил кричать.
Во всем этом она обвинила вовсе не ребенка, а меня — так сказать, первопричину. Как только она пришла в себя, то поклялась мне, что ни за что не будет терпеть подобные мучения во второй раз. И если уж я не могу без этого обойтись, то мне придется использовать для любовных утех какую-нибудь рабыню. В ответ на такое однозначное высказывание я только покачал головой.
В одном только я добился своего: я покончил с нашей семейной традицией давать мальчикам имена олимпийцев. Я назвал своего сына Герофилом, в честь знаменитого врача, жившего в Александрии при Птолемее I. Это он объяснил, что наши мысли и чувства зарождаются не в сердце, а в мозгу, он понял, чему соответствуют удары пульса, и с помощью многочисленных операций на трупах изучил строение внутренних органов человека. Медицина обязана ему. очень многим. И таким образом мой мальчик получил не только великое имя, но и пример для подражания.
Что же касается моей семейной жизни, то Аспазия оказалась заботливой матерью и прилежной хозяйкой, однако она никогда не простила мне, что я разрушил ее мечты о прекрасной и беззаботной придворной жизни и обрек ее на жизнь за стенами Брухейона.
Салмо был единственным, с кем я мог бы обсудить эту проблему, но он советовал мне всегда только одно:
— Заставь ее — это твое законное право супруга! Когда у нас родился первый ребенок, с Рут тоже случился подобный припадок, однако я объявил ей, что буду ежедневно бить ее — и однажды я это действительно сделал, — пока она не образумится. И должен сказать, что теперь она вполне охотно идет со мной в постель.
Я покачал головой.
— Нет, так я не могу. Не верю, что битьем можно чего-нибудь добиться. Может, она и пустит меня в кровать, но просто покорно раздвинет ноги и будет лежать, как труп, — нет, уж лучше я пойду в публичный дом.
Время от времени я так и поступал, но потом моя жизнь изменилась настолько, что семья сначала отошла на задний план, а потом мне и вовсе стало не до нее.
Глава 17
К этому времени все яснее становилось, что Алекс оказался предателем по отношению к царице. Может, и не следовало бы так думать и говорить, но ведь на него возлагали такие надежды, когда посылали в Рим, а за все эти месяцы от него только и слышали, что отговорки, извинения и просьбы о терпении.
Зато кое-кто другой оказался в Риме более удачлив — а именно Ирод, свергнутый тетрарх Иудеи. Сенат утвердил его правителем, с помощью римлян он вернулся в свою страну, захватил Иерусалим и приказал казнить узурпатора Антигона.
Не в характере нашей царицы было впадать в гнев, бушевать и обвинять остальных в том, что от них никак не зависело. Но из разговоров в дружеском кругу ясно было, как огорчил ее такой поворот событий. Однажды она сказала:
— Почему, думаете, я отговаривала Ирода ехать в Рим и предлагала ему здесь должность стратега? Как раз потому, что подозревала, что этот умный, красноречивый и умеющий настоять на своем человек легко обведет римлян вокруг пальца. Я так и вижу, как он, тщательно взвешивая каждое слово, убеждает сенаторов, что у Рима нет большего противника, чем Антигон.
Она поднялась, изящным жестом погладила несуществующую бороду и низким голосом заклинающе воскликнула:
— Антигон плюет на величие Рима, он высмеивает ваши усилия изгнать парфян, которые по-прежнему распоряжаются в Иудее, как у себя дома. Доколе вы, уважаемые отцы, будете терпеть в Иудее правителя, посаженного парфянами?
Клеопатра снова села и продолжила нормальным голосом:
— Так он всех привлек на свою сторону — сенат, триумвиров, самые влиятельные семейства. Он стал опасным соседом, этот Ирод, который называет себя царем Иудеи, но которому подвластны также Галилея, Самария, Перея и Идумея. Где-то в далеком Риме, может быть, кажется, что не так уж важно, управляет он двумя, тремя или четырьмя из этих диких земель, но нам-то лучше знать! Ирод не удовольствуется этим и протянет свою руку на север и запад. Попомните мои слова — он еще заявит свои притязания на Сирию и Кипр. Конец этому может положить только один человек — Марк Антоний. И он сделает это, как только я представлю ему ситуацию с нашей точки зрения.
Однако вот уже два года Антоний находился вдали От Египта. Когда я сегодня с позиции историка размышляю о положении дел в то время, я вижу целый ряд важных обстоятельств, которые мешали его приезду в Александрию.
После смерти Фульвии он должен был напрячь все свои силы, чтобы добиться примирения с Октавием, и это удалось ему — правда, ценой женитьбы на Октавии. Октавий понимал, что без императора он не сможет справиться со всеми трудностями, которые перед ним стояли. В этом году, 714-м после основания Рима (650-м до рождения Христа), главную проблему представлял Секст Помпей. Сегодня история говорит о нем как о некоей второстепенной фигуре, но тогда этот человек заставил сенат провести не одну ночь без сна. Этот младший сын великого Помпея, разбитого Цезарем, с тех самых пор метался по Европе как загнанный зверь — рыцарь удачи и искатель приключений. До сих пор он каким-то образом оставался в живых и не испытывал недостатка в сторонниках из числа прежних республиканцев. За несколько лет до этого он даже разбил флот Октавия, а позже сражался на стороне Марка Антония. Таким образом, сенату ничего не оставалось, как назначить Секста наместником Сицилии, Сардинии и Ахеи. В обмен на это ему пришлось пообещать, что он не будет больше препятствовать свободному проходу по морю. Этот Секст Помпей был воплощением не заживших еще ран недавней гражданской войны, и в его лице продолжал жить Помпей Великий. Он и сам способствовал тому, чтобы о нем ходили легенды, и не только сравнивал себя с Нептуном, владыкой морей, но и называл себя его сыном.
Когда он начал чинить препятствия в снабжении Рима зерном, Октавий и Антоний встретились с ним в Мизии. Они были готовы пойти на уступки, если впредь он будет вести себя спокойней. В придачу к уже имевшимся у него островам Антоний передал ему еще Пелопоннес. Затем Марк Антоний отправился дальше в Афины, куда за ним последовала и его супруга Октавия с новорожденной дочерью Антонией.
Эти восемнадцать месяцев, которые Антоний провел с Октавией в Афинах, были для Клеопатры особенно мучительными. Они превосходно разыгрывали из себя идеальную супружескую пару. Антоний, как в силу своих склонностей, так и руководствуясь разумом, представился римлянином, который любит и ценит греческую культуру и которому нравится греческий образ жизни. Он был объявлен гимнасиархом — так называли устроителя торжественных представлений. В честь него проводимые в августе общеафинские игры стали называться Антонеями. Император придумал и еще кое-что, что не только разгневало Клеопатру, но и безмерно разочаровало ее. Он, который в Тарсе вместе с ней представлял Диониса и Исиду, теперь приказал афинским жрецам объявить его и Октавию божественными супругами, воплощением Афины и Дионисия. Узнав об этом, наша царица впервые дала волю гневу и превратилась просто в какую-то разъяренную мегеру.
— Неужели этот вероломный человек совсем забыл, что уже участвовал однажды в подобном представлении? Разве Октавия не знает, что она всего лишь жалкая подражательница? Она родила ему дочь — какая-то римлянка какую-то дочь! Что в этом такого особенного? Или он напился из Леты, реки забвения? Иначе он всегда помнил бы, что здесь живут двое его близнецов, рожденные божественной царицей. Мое терпение имеет границы, и скоро я пошлю в Афины гонца, который представит ему все возможные последствия такого поведения.
При этих словах я поднял голову, поскольку к тому времени моя семейная жизнь приносила мне одни страдания и даже Салмо говорил мне время от времени, что необходимо что-то менять.
Как соотносится это с моим предыдущим заявлением о том, что больше всего в жизни я люблю мою профессию и хотел бы быть врачом — только врачом? Это легко объяснить. Как и предсказывала мудрая Шармион, большинство из моих пациентов приходили ко мне из любопытства, чтобы посмотреть на врача, который столь приближен к царице. Они придумывали какой-нибудь незначительный повод, и мне приходилось делать вид, будто я всерьез принимаю их жалобы. Менее состоятельные больные почти не обращались ко мне, боясь, что не смогут оплатить высокие гонорары личного царского врача. Лишь немногие доверялись мне, не думая ни о чем подобном, и я был так благодарен им, что некоторых лечил бесплатно, а других — за символическую плату в одну драхму. Так что я, как и Салмо, мечтал о переменах, о каком-нибудь деле, для которого потребуется что-то большее, чем титул личного врача.
Но до этого было еще далеко. Царица назначила Антонию определенный срок и хотела использовать оставшееся время, чтобы вместе с Цезарионом предстать перед народом южных областей и посетить храм Хатор в Тентире, который она поддерживала уже в течение нескольких лет, отправляя большие пожертвования на его строительство. Это путешествие было специально запланировано на январь и февраль, когда население в Стране Тростника не занято посевом или сбором урожая, когда плоды и зерно только созревают.
Упоминал ли я уже, что египтяне знают только три времени года: разлив, появление всходов и сбор урожая? Последние два — это, по существу, зима и лето.
Мы отплыли в составе флота из четырнадцати кораблей. По пути мы делали небольшие остановки в Мемфисе, Гераклеополе, Кинонполе, Гермуполе и Ликополе, чтобы приветствовать местную знать. Сиятельная царица представала во всем блеске своей власти, на голове ее сверкала двойная корона Верхнего и Нижнего Египта. Окруженная толпой жрецов, под звуки торжественной музыки, окутанная облаком благовоний, она милостиво улыбалась с возвышающихся носилок. Ее слуги собирали прошения, жалобы и подарки, и все это происходило с торжественной неторопливостью, чтобы простой народ мог как следует рассмотреть свою царицу.
При каждой такой остановке придворным поручалось подмечать любую несправедливость и неблагополучие и затем, по возможности, все это тут же на месте выяснялось и исправлялось.
Путешествие в Тентиру несколько затянулось, а по прибытии нас ожидала неожиданность, о которой мы и предположить не могли.
Прием был великолепен: как надломленные стебли цветов, склонился к земле ряд бритоголовых жрецов, когда двенадцать сильных нубийцев снесли на берег двойные носилки с царицей и восьмилетним Птолемеем Цезарем — сыном Юлия Цезаря. Хор храма запел праздничную песнь, послушники и послушницы в белоснежных одеждах усыпали путь царицы цветами. Сильный слуга принес из храма три бронзовые чаши с древесным углем, и один из жрецов время от времени обрызгивал их благовониями, так что в конце концов они окутали царскую чету плотным облаком.
Однако, когда наша процессия достигла храма, мы увидели совсем не то, что ожидали. Клеопатра с Цезарионом приготовились вступить в адитон
[63] — этой привилегии удостаивались только правящие цари и верховный жрец. Мы прошли великолепный портик с двадцатью четырьмя мощными колоннами, но там, где должен был открыться собственно сам храм, не было ничего, кроме строительных лесов и помостов. Только помещение дарохранительницы было уже готово: оно стояло под открытым небом, на всеобщем обозрении. Одним словом, храм Хатхор в Тентире состоял в то время из портика, дарохранительницы и мощной южной стены. Вскоре мы увидели, почему она была уже достроена. Клеопатра и Цезарион ровным шагом вышли из адитона, где стояли ковчеги с изображением Хатор, ее супруга Гора и их сына Ихи
[64].
Жрецы подвели нас к внешней стороне южной стены. Ее украшал великолепный, вероятно уже завершенный, барельеф, на котором было изображено, как Клеопатра и уже взрослый Цезарион приносят жертву богам. Картина была торжественной, выразительной и величественной, способной внушить благоговение народу, который мог видеть храм только снаружи.
Только потом царице объяснили, почему строительство продвигалось так медленно: причины были в неурожаях, болезнях и прочих трудностях. Во всяком случае, нас заверили, что постройка храма продолжается и к следующему приезду царицы он, вероятно, будет завершен.
В Александрии мы узнали важные известия. Против ожиданий, Марк Антоний в предстоящем походе против парфян решил возглавить войско не сам, а передал командование своему верному военачальнику Публию Вентидию, который в последние годы был его наместником в Азии и Сирии. Этот человек проявил себя талантливым полководцем и одержал уже целый ряд побед. Он выбил предателя Лабиена из захваченных им областей и, что еще важнее, захватил и убил парфянского принца Пакора в битве при Антиохии.
Между тем Октавию удача явно не сопутствовала. Дважды его флот был разбит мятежным «сыном Нептуна» Секстом Помпеем. После этого он попросил помощи у Антония. Они договорились о встрече в Брундизии. Прибыл туда только Антоний, а Октавий не смог — вероятно, потому что ему пришлось отправиться на подавление вспыхнувшего в Галлии восстания. Следующая встреча была назначена в Таранте; на этот раз Октавий появился, правда, со значительным опозданием. Они не доверяли друг другу, однако одному из них удалось уговорить другого, и таким образом был заключен договор. Согласно ему, Антоний должен был предоставить в помощь Октавию сто двадцать кораблей, в ответ на что Октавий передавал ему для участия в парфянской кампании четыре легиона, то есть около двадцати тысяч солдат. Октавий принял командование над кораблями, однако вместо двадцати тысяч легионеров передал Антонию только две тысячи, остальных он пообещал прислать попозже, однако не сделал этого. Таким образом, добродушный и доверчивый Антоний вновь был обманут. В честь этой встречи были отчеканены монеты с изображениями обоих участников договора, так что весь мир мог убедиться в согласии и единстве во взглядах обоих властителей. Это просто факты истории, и великий Август простит мне, что я не изменил их, а изложил все, как было.
Октавия присутствовала при этих переговорах. Собираясь отплыть на восток с оставшимися судами — их было еще сто восемьдесят, — Антоний взял жену с собой. Однако когда они по пути сделали остановку на Коркире
[65], он вдруг стал уговаривать ее вернуться в Италию, объясняя, что осенью! поездка морем связана с риском, а ей надо быть осторожней, ведь она ждет ребенка. И вообще, это вовсе не увеселительная прогулка, а начало нового военного похода против парфян.
Вы можете спросить, откуда я знаю, что сказал император своей жене, и я охотно объясню вам. Мне сообщил об этом Алекс, когда мы встретились с ним в Антиохии. Он рассказал и много другого, но об этом позже, чтобы не нарушать хода событий.
Антоний отплыл с Коркиры в Селевкию, которая служила портом для города Антиохии, расположенного в некотором отдалении от побережья. Оттуда он послал в Александрию гонца, причем им оказался не кто-нибудь, а его друг и доверенное лицо Гай Фонтей Капито.
Он прибыл в Египет сырым октябрьским днем и тут же был допущен к царице. Сразу после разговора с послом царица велела собраться всем своим друзьям, как если бы речь шла о праздновании какого-нибудь триумфа. Она была вполне довольна полученным известием. На это могут возразить, что требование приехать в Антиохию могло означать и что-то негативное. Ведь вполне возможно было, что Антоний объединился с Октавием в Таранте и заключил тайное соглашение о захвате Египта и лишении царицы власти. На это указал осторожный Протарх.
— Я позволю себе высказаться немного резко, пусть это даже рассердит тебя или лишит меня твоей благосклонности. Ты не видела Антония вот уже четыре года, он женился на сестре Октавия и мог совершенно изменить свои взгляды. Он может писать тебе красивые письма, чтобы ты считала себя в полной безопасности, но, когда ты приедешь в Антиохию, он прикажет тебя схватить, чтобы твоей царственной персоной украсить в Риме свой триумф. Тебе не приходила мысль о чем-нибудь подобном?
Клеопатра спокойно выслушала эти подозрения, не выказав ни малейшего признака гнева. На ее красивом умном лице мелькнула улыбка, и она погрозила пальцем своему визирю.
— Протарх, Протарх, ты ведь знаешь, что только старым друзьям я позволяю высказывать подобные подозрения. Ну а теперь, я спрашиваю вас всех: кто еще согласен с ними? Как ты, Гиппо?
— Протарх заботится о тебе, и в одном я согласен с ним: когда хотят захватить или сохранить власть, часто прибегают к таким старым испытанным средствам, как хитрость, предательство и коварство. Из всех здесь присутствующих — за исключением царицы, конечно, — я знаю императора лучше всех, и он должен был бы сильно измениться, если теперь вдруг выбрал одно из названных средств. Конечно, над этим мог потрудиться Октавий, но я просто не верю, чтобы Антоний мог погубить мать своих детей. Если бы в Риме затевалось что-то против нашей царицы, он скорее прислал бы предупреждение, чем приглашение.
Я сказал так не из желания угодить царице, но потому, что действительно был убежден в этом.
Клеопатра, вопреки своей обычной осмотрительности, казалось, разделяла мои взгляды.
— Это начало новой эры! — воскликнула она, и ее серые глаза сверкнули. — Если Ирод думает, что царский титул дает ему право на всю Палестину, то он ошибается! Я не хочу осуждать римский сенат и триумвират, но считаю, что они несколько переборщили, объявив царем Иудеи сына какого-то неизвестного вождя арабского племени. Теперь, когда он женился на Мариамне и получил доступ ко двору, он распоряжается, как тиран, который ни перед кем не обязан отчитываться. Какого-то Ананеля, происходящего из совсем не знатного рода жрецов, он назначил первосвященником, потому что тот послушен ему и, как собака, готов выполнить любую его команду. И Рим это допустил! Друзья мои, я обещаю вам, что позабочусь о том, чтобы поставить Ирода на свое место. Он должен почувствовать и понять, что между им, выскочкой, и царицей из древнего священного рода Птолемеев лежит пропасть, которую не в силах преодолеть даже всемогущий Рим.
Да, в тот вечер она много говорила, наша царица, и все мы объясняли это тем, что она была обрадована известием из Антиохии. Весь двор охватило радостное нетерпение, сборы были поспешными — ведь император ждал. На этот раз царицу должны были сопровождать все ее друзья. На время своего отсутствия она назначила диойкетом одного из немногих своих старых придворных. В будущем она часто так поступала, и я даже не могу перечислить имен всех ее министров и заместителей. Ее выбор всегда был очень удачен, никто из них не обманул и не предал ее.
Я разыскал Гектора, моего брата и шурина, а также Деметру, мать Аспазии, и в нескольких словах рассказал им о своих планах. Они впервые услышали, что наша семья уже давно существует только на папирусе. По виду Деметры сразу ясно было, что она считает свою бедную дочь обманутой неверным мужем.
— Прежде чем ты выскажешь свои подозрения, Деметра, я сразу хотел бы сказать, что здесь не замешана другая женщина, потому что ты, может быть, захочешь сосчитать всех проституток, с которыми я побывал, но твоя дочь сама давно принуждала меня к этому. Я даю Аспазии свободу, пусть найдется мужчина, которому удастся то, что не вышло у меня. Но я хочу сохранить своего сына. До тех пор, пока Аспазия живет с вами, вы можете воспитывать ребенка, а когда я вернусь, я буду регулярно навещать Герофила и, когда ему исполнится семь лет, позабочусь о его образовании.
Аспазия, казалось, была рада своему возвращению в родной дом. На прощанье она сказала мне:
— И не забывай, Олимп, что ты, как и прежде, женат! Я твоя жена и останусь ею!
— Разве ты когда-нибудь была ею? — возразил я.
Жена Салмо между тем была беременна, и я предложил
ему остаться в Александрии до рождения ребенка.
— Ты всегда можешь последовать за мной, ведь до Антиохии всего несколько дней пути.
Нет, этого он не захотел и разыграл перед своей женой верного слугу. Однако я полагаю, что на его решение в не меньшей степени повлияли любопытство и жажда приключений.
Книга II

Глава 1
Наш отъезд и путь до Антиохии остались в моей памяти одним сплошным праздником — праздником, который продолжился и в роскошной сирийской метрополии. Да, этот город может сравниться с Александрией, Эфесом или Римом. С моим родным городом у него есть нечто общее: своим возникновением и расцветом он также обязан одному из полководцев великого Александра. В данном случае это был Селевк Никанор. Он велел основать город на левом берегу Оронта, в нескольких милях от портового города Селевкии и назвал его именем своего сына Антиоха. Его преемники перенесли туда свою резиденцию. Однако подлинного расцвета город достиг, только когда Сирия стала провинцией Рима, а Антиохия — ее столицей. Этот город построен на речном острове, улицы его так же, как и в Александрии, пересекаются под прямым углом, а перекрестки украшены великолепными триумфальными арками. На севере города расположен бывший царский дворец, сейчас там живет римский наместник. Неподалеку от дворца находится необыкновенно красивая Базилика, построенная Юлием Цезарем.
Это трехэтажное, украшенное колоннадой здание служит городу местом собраний, там проходят также заседания суда. Перед ним возвышается бронзовый монумент диктатора. Внутри статуя богини Рима — поменьше, но зато из чистого золота — свидетельствует о славе и могуществе этого государства.
Юлий Цезарь действовал очень мудро, оставляя по себе добрую славу и в провинциях. Из этого теперь извлекаем выгоду мы все — и прежде всего его преемники и наследники Октавий и Антоний. Но и мы, союзники, тоже купаемся в лучах его славы.
Наше прибытие в гавань Селевкию и въезд в Антиохию были гораздо менее пышными, чем несколько лет назад в Тарсе. Объяснение этому простое: в Тарсе, столице довольно незначительной провинции Киликии, встреча Клеопатры и Антония, представших в образе Исиды и Диониса, была чем-то совершенно необычным, главным событием года.
Такой большой город, как Антиохия, в которой было около пятисот тысяч жителей, этим вряд ли можно было удивить. Наша царственная пара была достаточно умна, чтобы не выступать здесь в одеждах богов, — это вызвало бы только насмешки черни. Жители больших городов, будь то Рим или Александрия, склонны к цинизму и неуважению. То, что наводит на провинциалов священный трепет, здесь скорее вызвало бы лишь насмешки.
Так что в Антиохии нам была устроена не официальная, но очень сердечная встреча. Все было почти по-семейному, и это понятно — ведь Антоний приветствовал мать своих детей. Мы присутствовали при их встрече в большой зале дворца наместника.
Старому вояке не удалось скрыть свое волнение. Его изборожденное морщинами лицо было бледным, глаза блестели, рот дрожал, и видно было, как нелегко ему сдержать себя и не броситься тут же на шею своей возлюбленной. Он слишком много шутил, смеялся и говорил, а Клеопатра ловила каждое его слово с тем же вниманием, с каким маленькая девочка слушает своего отца. Спустя немного времени оба они удалились, и слуги проводили каждого из нас в отведенную ему комнату. На этот раз весь наш двор удобно разместился в обширном помещении старой царской крепости.
Не знаю, случайно ли так вышло, но моя дверь оказалась рядом с дверью Ирас, и то, что началось в Тарсе, здесь продолжилось так, как будто и не было никогда эпизода с Алексом в Александрии.
Да, он был здесь, красивый, вежливый, образованный и предупредительный Алекс, но он уже не играл такой важной роли. Клеопатра откровенно выказывала ему свое нерасположение. Однажды я даже услышал, как она сказала ему, что посылала его к Антонию не затем, чтобы удержать того подальше от Александрии, что превосходно удавалось Алексу целых четыре года. Алекс, горячо жестикулируя, стал что-то говорить в свою защиту, но я, к сожалению, уже не мог этого разобрать, потому что они отошли слишком далеко.
Ирас также откровенно была с ним холодна, и, если дело доходило до разговора, она безжалостно окатывала его волной насмешек и колкостей, так что происходило почти невероятное: Алекс лишался дара речи. На его блестящем жизненном пути наступил спад. И как раз, когда мое злорадство уже готово было перерасти во что-то вроде презрительного сочувствия, этому любимцу фортуны снова удалось всплыть. Для сравнения мне вспоминается басня о лягушке, которая упала в кувшин с молоком. Стенки его были гладкими, и ей никак не удавалось выбраться. Но вместо того, чтобы сказать себе: «Ничего не поделаешь, придется утонуть — это ведь лучше, чем часами мучиться барахтаясь», она все же не теряла надежды: барахталась и плавала, плавала и барахталась — до тех пор, пока все молоко не превратилось в кусок масла, по которому она и выбралась наружу.
Так и Алексу вновь удалось встать на ноги, потому что он неизменно оставался приветливым и веселым, открыто признавая свои неудачи. Если его встречали насмешками, он сердечно смеялся вместе со всеми — да, если нужно было, он даже сам над собой смеялся. Таким образом ему вновь удалось заполучить теплое местечко за столом Клеопатры. Но вновь привлечь к себе Ирас он так и не смог.
Она навсегда выбрала. Я чувствовал, что после Клеопатры я для нее самый главный человек на свете, однако понимал, что этим я обязан не только своему обаянию, но и сложившейся благоприятной ситуации. Ирас была совсем не похожа на величественную и молчаливую Шармион, и ее настроение зависело от успеха и счастья ее госпожи. Если после ужина та каждый раз уединялась с Антонием и по понятным причинам не нуждалась больше в своей горничной, это побуждало к действию и Ирас. Мы вместе покидали обеденную залу, при этом моя возлюбленная каждый раз бросала в сторону Алекса насмешливо-презрительный взгляд. Я тоже проходил мимо него, высоко задрав голову, еще немного — и я закричал бы, как петух, который шествует за своей любимой курочкой.
Хотя все знали о наших отношениях, Ирас требовала соблюдения внешних приличий. Так, к примеру, я мог проводить ее только до дверей комнаты, а затем должен был отправляться в свою спальню. Только подождав полчаса, я мог войти к ней — она специально оставляла свою дверь открытой, — но при этом никто из слуг не должен был меня заметить. Она уже ждала меня — с распущенными волосами, в легком хитоне, благоухающая духами и бальзамами, должно быть позаимствованными у Клеопатры. На столике стоял кувшин превосходного вина, фрукты, жареные орешки и имбирное печенье — для усиления желания. Но все это излишне для тридцатилетнего мужчины, если он любит свою спутницу и если его фаллос волнуется, стоит ему только подумать о ней.
Сначала мы выпивали несколько бокалов неразбавленного вина, обсуждали дневные новости, слегка ругали то или это, причем, как я заметил, никогда мы не отзывались плохо о царице или императоре, впрочем, для этого и не было никаких оснований.
Вино подогревало нас. Мы играли друг с другом, обнимались и целовались, при этом руки наши сами пускались в странствие, а проворные пальцы блуждали повсюду. Эта была древняя игра, которая известна человечеству с начала дней, но для влюбленных она всегда новая, каждый раз новая.
Днем Ирас могла быть нетерпеливой, резкой и насмешливой, но все менялось, стоило нам только остаться наедине.
Тогда она становилась терпеливой возлюбленной, любопытной, неустанной и неистощимой на выдумку, заставлявшей вновь и вновь звучать мое и свое тело. Соитие оказывалось для нас часто чем-то второстепенным или просто естественным завершением долгого странствия, которое каждый раз преподносило нам новые сюрпризы. Но иногда нам не хватало на это времени — когда ее или нас обоих призывали неотложные дела. Тогда мы поспешно срывали друг с друга одежду и набрасывались друг на друга, рыча, как дикие кошки.
Однако в основном времени у нас было достаточно, чтобы продолжать любовную игру до поздней ночи. Ничто не мешало нам, прекраснее трудно было бы устроить: при молчаливом согласии царицы, не слишком обремененные обязанностями, мы жили почти дверь в дверь и с радостью встречали каждый новый день. Правда, иногда ночью мою любимую вызывала к себе царица — например, когда ей нужно было после долгого утомительного и официального симпосия привести себя в порядок, чтобы встретить Антония во всеоружии своей красоты. Кроме того, Клеопатра в этом мире, где правят мужчины, любила время от времени поговорить с подругой, которой она доверяла. Всем известно, что при этом она предпочитала Ирас, потому что строгая Шармион так заботилась о царском достоинстве своей госпожи, что при дворе даже ходила поговорка: Шармион царственнее, чем сама царица. Все же она была очень умная и образованная женщина и для серьезных бесед подходила гораздо больше, чем моя легкомысленная Ирас, которая, напротив, была непревзойденной собеседницей для легкой и непринужденной болтовни — ведь и царицы не могут быть всегда настроены серьезно и торжественно.
Когда около полуночи или даже час-два спустя Ирас возвращалась из царских покоев, ей вовсе не хотелось ложиться одной в холодную постель. Поэтому под покровом ночной тишины она незаметно проскальзывала в мою комнату и забиралась ко мне в кровать. Меня обдавало холодом, когда она приподнимала край одеяла. Была середина зимы, и в Антиохии, которая находилась на севере Сирии, ночи были такие холодные, что лужи на улице поутру были покрыты тонкой корочкой льда.
Итак, Ирас забиралась ко мне в постель, а я еще не уснул или уже проснулся от холода, мы крепко обнимались, и это теплое мягкое женское тело казалось мне продолжением моего собственного, моей недостающей половиной, отсутствие которой — стоило мне только представить это — было бы для меня столь же болезненным, как если бы я лишился руки или ноги.
То, о чем знал уже весь двор, не укрылось и от Алекса. Поскольку он находился тогда в отчаянном положении и ни Антоний, ни Клеопатра не оценили его воображаемых заслуг, он решил предпринять что-нибудь, чтобы снова — там или тут — стать persona grata. Все знали, что весной Антоний собирается наконец выступить в поход против парфян, а изнеженный Алекс, конечно, предпочитал жить скорее во дворце, чем в палатке, поэтому он решил снова добиться признания при дворе Клеопатры. Кратчайший и наиболее успешный путь к ее ушам проходил через обеих ее горничных. И Алекс сделал все, чтобы вновь покорить сердце своей бывшей возлюбленной.
Но сначала — и над этим долго еще потом смеялись как над особенно удачной шуткой — он попытался завоевать неприступную Шармион. Начал он довольно неплохо, то и дело преподносил ей маленькие, но изысканные подарки, делал тонкие комплименты и — это было довольно умно задумано — предстал в роли слуги, пытающегося служить двум господам, который при этом потерпел неудачу. Он взывал к непоколебимому чувству справедливости, которое было присуще Шармион. И она уже готова была обратить на него внимание из чувства сострадания, но тут вдруг сама она влюбилась. Тому, кто знал эту женщину, покажется маловероятным, чтобы она позволила какому-нибудь мужчине дотронуться до себя.
От Ирас я знал, что Шармион не против любовных утех, но, как говорила она сама, главную роль при этом должна играть она, а партнер должен следовать ее желаниям. До сих пор, однако, если Шармион и допускала до себя время от времени какого-нибудь мужчину, то это сохранялось в полнейшей тишине и тайне.
Но теперь, видимо, поддавшись всеобщей эйфории, жертвой которой стал даже мой слуга Салмо, Шармион, похоже, не осталась равнодушной к ухаживаниям одного из высших офицеров, состоящих при императоре. Речь идет о трибуне Луции Метеллии. Он был командующим легиона и принадлежал к числу тех немногих офицеров Антония, которые вне службы предпочитали носить обычную тогу — без широкой пурпурной полосы, на которую они имели право по своему званию. Этот молодой человек представлял собой редкий случай офицера, которого одинаково ценили как начальники, так и подчиненные.
Метеллий происходил из благородного Лигурийского рода. Он очень быстро продвинулся по службе, хотя для солдата он был слишком образованным, мягкосердечным и недостаточно грубым. Помимо этого он обладал каким-то почти болезненным чувством справедливости, был абсолютно верен командирам, а в отношениях с доверенными ему солдатами проявлял выдержку и терпение. Он был кумиром своих солдат, которые охотно возвели бы ему алтарь, прежде всего за то, что он никогда не приводил в исполнение наказание, наложенное центурионом, не проверив его справедливость.
Луций Метеллий был высоким худощавым парнем, который всегда ходил слегка сутулясь и со своими добрыми умными глазами и неуверенными движениями никак не мог олицетворять идеал римского офицера. Никто не знает, каким образом он познакомился с Шармион, даже Ирас ничего не могла бы сказать об этом. Они принадлежали в общем-то к разным кругам, и Луций был не из тех, кто принимал участие в пьяных симпосиях императора. Я могу предположить, что он, вероятно, часто выступал в роли посыльного между своим легатом и императором. А последний часто находился в обществе царицы, при которой была также одна из ее придворных дам.
Так что здесь Алекс промахнулся, и когда служанка Шармион принесла назад его подарки, он прекратил свои старания. Но почему бы ему было не попробовать еще раз с Ирас, ведь однажды ему уже удалось оттеснить меня?
Конечно, я заметил его настойчивость и с удовлетворением и злорадством наблюдал, как Ирас отказала ему и поставила его на место. Спустя несколько недель мы сошлись на том, что если Ирас освобождается поздно, то я жду ее в ее комнате. Таким образом, ей не придется утром испытывать неудобство, потихоньку прокрадываясь к себе.
Однажды ночью я, как и раньше, проснулся от холода, когда кто-то приподнял одеяло. Я подвинулся в сторонку, освобождая место Ирас, однако вместо ее доверчивого теплого и мягкого тела я почувствовал, что меня ощупывает чья-то рука.
— Ирас, — услышал я чей-то шепот, но спросонья еще ничего не понял и только пробормотал:
— Холодно, иди же скорее в постель.
— Ирас, это ты? — снова послышался чей-то голос.
Теперь я уже окончательно проснулся, поднявшись, схватил протянутую руку и как следует повернул ее. Гость громко вскрикнул, вырвался, и я увидел, что это Алекс. Вскочив с постели, я заехал кулаком по его красивому лицу и довольно сильно врезал ему между ног. Он взвыл и бросился из комнаты, как будто за ним гналась стая волков. Придя в себя, я было подумал, что это Ирас позвала его к себе ночью или подала ему какую-то надежду. Однако это противоречило всякому здравому смыслу, ведь она знала, что я жду ее в ее постели.
Вскоре появилась и она сама. Когда я рассказал ей о том, что произошло, она чуть не задохнулась от смеха. По ее словам, когда Алекс стал добиваться ее, она в насмешку предложила ему попробовать, сказав, что ее дверь всегда для него открыта.
— В насмешку — ты понимаешь? Однако он был настолько самоуверен, что принял это за чистую монету, и я очень рада, что ты с ним так расквитался.
Конечно, Алекс все понял, однако он и виду не показал, когда появился за столом на следующий день. Ему удалось даже представить свой заплывший синяк под глазом как расплату за свое геройство. Он объяснил, что попытался уладить спор между караульным и императором и угодил при этом меж двух огней — тут он болезненно улыбнулся.
— Как друг и слуга императора, попадаешь иногда в неприятные ситуации, а поскольку они бывают весьма грубыми, приходится быть не слишком чувствительным и щепетильным.
— Ах, бедняжка, — притворно посочувствовала Ирас. — Надеюсь, тебе больше ничего не повредили? Если нужно, Гиппо охотно поможет тебе.
— Нет-нет, — заверил Алекс, — только глаз.
Однако вышел он все же слегка прихрамывая.
Я уже упомянул, что мой слуга Салмо стал жертвой этой всеобщей эйфории, в чем в общем-то не было его вины. Рядом с моей спальней находился небольшой врачебный кабинет. В обязанности Салмо входило появляться там к трем часам дня. Все остальное время он был свободен. Он, как обычно, снял квартиру в еврейском квартале и угодил при этом в ситуацию, которая оказалась одновременно опасной и смешной.
В поисках квартиры он забрел в дом некоего человека, который похоронил одну за другой нескольких жен. Он жил вместе с двумя дочерьми и, как Салмо узнал позднее, — вероятно, слишком поздно, — пользовался сомнительной репутацией. Поскольку каждый раз, когда он женился, ему приходилось, по еврейскому обычаю, платить выкуп за невесту, то он, по идее, должен был бы с каждым разом становиться все беднее. Однако на самом деле происходило наоборот. Его первая жена, будучи единственным ребенком в семье, унаследовала все отцовское состояние. Обе его следующих супруги были богатыми вдовами, а четвертая жена, совсем молодая, умерла при родах. Пошли слухи, что трех своих первых жен он уморил из жадности и обогатился за их счет.
Обе его дочери происходили от первого брака. Время от времени он использовал их, чтобы заключить фиктивную помолвку одной из них с каким-нибудь мужчиной, а потом, при ее расторжении, требовал от него возмещения ущерба. Однако Салмо поначалу ничего об этом не знал. Он снял довольно дорогую комнату в доме этого человека и вскоре заметил, что Дебора, младшая из его дочерей, строит ему глазки. Как еврей он, конечно, знал, что у человека, который переспит с незамужней девушкой, есть только три выхода: жениться на ней, заплатить большой штраф или подвергнуться публичному наказанию.
Салмо уже почувствовал, что в этом доме царит беспутство и девушки ведут отнюдь не тот скромный образ жизни, который предписывает закон Моисея, но он объяснял это влиянием большого города, в котором к строгим еврейским обычаям стали относиться немного легкомысленно.
Это произошло на третью или четвертую неделю нашего пребывания в Антиохии: однажды утром Салмо не пришел ко мне. Сначала меня это не обеспокоило: мало ли что могло задержать его в этом огромном городе. Однако его не было весь день, не появился он и на следующее утро. Я сообщил об этом Мардиону и отправился на поиски.
Я легко нашел нужный дом, поскольку этот подозрительный вдовец был, казалось, так же известен всему кварталу, как какой-нибудь уважаемый раввин. Услышав его имя, люди морщились, и пару раз я даже слышал замечания вроде таких: «Этот знает, как прийти к деньгам и миновать судью» или: «Он сделал из своих дочерей проституток, но подаст жалобу на всякого, кто так их назовет».
Редко кто называл его по имени — Даниэль, как будто его сограждане боялись
запачкаться при этом. Они звали его: «богатый вдовец» или — с неприязнью — «наглый сутенер».
Как я уже сказал, найти дом оказалось очень легко. Слуга открыл мне дверь и позвал хозяина.
Описать этого Даниэля мне довольно трудно, поскольку он выглядел совершенно заурядно. Таких типов здесь, в еврейском квартале, можно встретить на каждом углу, их полно на рынке или в любом трактире. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста, не толстый, не худой, он носил короткую бороду и украшенный вышивкой темно-коричневый халат. В лице его тоже не было ничего привлекающего внимания, если не считать того, что глаза смотрели совершенно безо всякого выражения — ни приветливо, ни враждебно, безо всякого любопытства, ни строго и ни доброжелательно.
Я представился, назвав свое имя и звание, и спросил, живет ли еще здесь мой слуга Саломон. Он любезно кивнул.
— Саломон или Салмо, как он сам просил его называть, конечно, еще живет здесь.
— А где он сейчас?
— Я запер его в погребе до прихода рабби, который должен рассудить, какую кару он должен понести за свой проступок.
Я чуть язык не проглотил.
— Ты… ты так просто взял и запер Салмо в погребе? Слугу личного врача Ее Божественного Величества царицы Клеопатры из Египта?
— Да, так он о себе говорил. По крайней мере, тут он сказал правду.
— Что это значит? В чем ты его обвиняешь?
— Он пообещал жениться на моей дочери Деборе, но, похоже, и не думает выполнять обещание.
Я покачал головой.
— Он не мог обещать жениться на твоей дочери, потому что в Александрии его ждет жена и двое, нет, трое детей. Салмо женат, и я смело положу за него руку в огонь.
Даниэль равнодушно пожал плечами.
— Этого я никогда и ни для кого не стал бы делать — я имею в виду класть руку в огонь. Вообще же у меня есть письменное подтверждение его намерения жениться на Деборе.
— Что? Он объявил об этом письменно?
Даниэль кивнул.
— Как и принято у культурных народов — все равно, к какой культуре они принадлежат. Мы, евреи, составляли наши договоры письменно еще в те времена, когда греки и римляне не знали ни языка, ни письма.
— А, — усмехнулся я, — я вижу, ты образованный человек, Даниэль, докажи мне теперь, что ты еще и честный человек.
Он тотчас поднялся.
— Конечно, конечно. Сейчас я принесу документ.
Он подошел к окну, склонился над тяжелым, обитым железом сундуком и заскрипел ключами и задвижками. Вернувшись, он положил передо мной пергамент, покрытый еврейскими письменами.
— Я не знаю еврейского языка и письма. Прочти мне.
— Как пожелаешь. Итак. Саломон бен Наум из Александрии и Даниэль бен Симон из Антиохии заключили следующее соглашение: Саломон согласен и готов взять в жены Дебору, дочь Даниэля, в течение этого года и считает этот договор доказательством и знаком того, что он помолвлен с Деборой.
Составлено в Антиохии в 4-й год правления императора Марка Антония и в 338-й год после победы Селевка Никанора.
— Вот подписи Саломона бен Наума и моя, — сказал Даниэль, сунув документ мне под нос.
Указательным пальцем он постучал по подписи Салмо, и это прозвучало похоже на барабанную дробь. Мне бросилось в глаза, что текст написан очень убористо и мелко, хотя почти треть пергамента оставалась свободной и вовсе не надо было экономить место.
— Хорошо, — сказал я, — а теперь я хотел бы услышать мнение Салмо.
Слабое подобие улыбки промелькнуло на лице Даниэля, но глаза его по-прежнему ничего не выражали.
— Он уже выразил свое мнение своей подписью, которая говорит ни о чем ином, как о том, что он хочет жениться на Деборе.
Он снова постучал пальцем по пергаменту. Я покачал головой.
— Иногда бывает, что подписываешь одно, а имеешь в виду совсем другое.
— Тогда он нечестный человек.
— Или его обманули. Итак, я еще раз прошу позволить мне поговорить с Салмо.
— В первый раз ты не просил меня… Впрочем, почему бы и нет? Но я считаю уместным, чтобы при этом присутствовала и Дебора.
— Потом — пожалуйста. Но теперь я хотел бы поговорить только с тобой и с Салмо.
Даниэль поднял маленький серебряный колокольчик и слегка позвонил.
Слуга ввел Салмо почти сразу же, как будто все уже было заранее подготовлено. Когда он увидел меня, лицо его просияло так, как будто я принес ему весть о помиловании.
— Господин! Наконец-то! Я уже думал, что ты забыл про меня. Надеюсь, ты не поверил этому лгуну и отъявленному мерзавцу?
— Стоп, Салмо, стоп! Прежде всего, это тебя обвиняют в том, что ты пытался в доме Даниэля бен Симона его дочь Дебору…
— Что? — взволнованно перебил он меня, и его оставшийся глаз гневно сверкнул. — Что это я пытался? Эта ветреница чего только не делала, чтобы забраться в мою Постель. В конце концов, я ведь мужчина, а потом приходит этот пройдоха и, как каждый здесь знает, лживый подлец и…
Теперь вмешался Даниэль, который до сих пор выслушивал гневную тираду Салмо совершенно безо всякого выражения на лице. Он поднял пергамент и сказал:
— Прежде чем ты выдумаешь для меня новые оскорбления, взгляни на это.
Салмо упрямо покачал головой:
— Меня не проведешь, ты уже подсовывал мне это в погребе.
— Ты подписал этот договор? — спросил я.
— Да, похоже, что это моя подпись. Но этот текст… этот текст мне незнаком, то есть Даниэль говорил об этом, но я его высмеял…
Терпение мое начало иссякать, в то время как хозяин дома сидел так спокойно и невозмутимо, как будто речь шла о чем-то совершенно постороннем, а не о замужестве его дочери.
— Салмо! — перебил я резко. — Это твоя подпись? Да или нет?
— Да, господин, я поставил ее на этом пергаменте, но под другим текстом.
— Что? Что ты имеешь в виду?
— Даниэль хотел, чтобы я подписал договор о том, что снимаю у него комнату. Я сказал, что нигде еще не видел, чтобы для договора на несколько недель тратили целый пергамент, однако он настоял на своем. Еще больше я удивился, когда он пришел с пергаментом, который стоил, наверное, столько же, сколько моя комната здесь за четыре недели. Но Даниэль сказал, что любит порядок, а этот кусочек пергамента все равно уже давно лежит у него просто так и поэтому…
Салмо взглянул на меня, умоляя понять его.
— Что мне было делать, господин? Не спорить же с ним из-за каких-то нескольких строчек, где говорилось, что я, Саломон бен Наум, настоящим удостоверяю, что снимаю комнату в доме Даниэля минимум на шесть недель и готов платить за нее столько-то. Если мне придется уехать раньше, я должен буду заплатить ему за оставшееся время половину платы. Вот что я подписал, и больше ничего.
Теперь мне сразу стало ясно, почему на пергаменте оставалось еще так много места. Даниэль соскоблил короткий договор о сдаче комнаты и вписал туда брачный контракт. При этом надо было, чтобы под ним оказалась подпись Салмо. Я взял пергамент и провел по нему пальцем. Он был старательно разглажен, и нам было бы очень трудно уличить Даниэля в обмане. Однако я был убежден, что Салмо здесь заманили в ловушку.
Я повернулся к Даниэлю.
— Странно только, что брачный договор написан так мелко и тесно, хотя на пергаменте осталось еще много пустого места. Как ты можешь объяснить это?
— Очень просто, — спокойно ответил Даниэль, — я специально оставил место для того, чтобы все это потом заверил рабби.
— Ага, но почему же ты не позвал рабби сразу же, чтобы он был свидетелем? Тогда он сразу расписался бы внизу, и все было бы по правилам.
— В тот день рабби не было, мы заходили за ним.
Я решил, что пришло время показать когти и зубы.
— Даниэль бен Симон, ты именно тот, кем назвал тебя мой слуга, а именно отъявленный мошенник, который к тому же использует своих дочерей для вымогательства и обмана. Я требую, чтобы ты вместе со мной пошел во дворец наместника, и там римские чиновники, у которых большой опыт в разоблачении всякого рода обманов, как следует проверят этот пергамент. Здесь ясно видно, что ты загладил прежний текст и вставил вместо него новый, подлиннее.
Даниэль мгновенно попытался выхватить у меня контракт, но я был готов к этому. Я спрятал его под гиматием и грубо ударил его по руке.
— Да, Даниэль, не на того ты напал. Я личный врач царицы Египта и друг императора, и я легко могу разоблачить тебя, чтобы ты наконец получил по заслугам. Такие люди, как ты, очень опасны и не должны разгуливать на свободе. Я думаю, судья заинтересуется и твоей прежней жизнью, поскольку она тоже выглядит довольно подозрительно. Говорят, ты спровадил на тот свет трех жен…
Теперь наконец он потерял свое старательно сохраняемое спокойствие.
— Болтовня! Слухи! — взревел он, покраснев. — Это все клевета завистников! Ни один суд в мире не поверит этому!
— Может быть, ну а как с этим? — Я похлопал рукой по спрятанному пергаменту. — Это ведь очевидный ловко задуманный обман.
— Дебора подтвердит, что все это правда.
— Хорошо, — сказал я и снисходительно улыбнулся. — Тогда позови Дебору.
Это была его последняя отчаянная попытка выбраться из петли, но мне было совсем не жаль этого мерзавца, и я хотел увидеть, как он упадет в яму, которую сам же и вырыл.
Салмо был прав: Дебора оказалась весьма легкомысленной особой с ярко накрашенным лицом и хитрым взглядом. Любая греческая гетера или римская меретрисса приняла бы ее за свою подругу.
— Обещал ли этот господин, Саломон бен Наум, жениться на тебе, после того как ему удалось наконец заманить тебя в постель?
— Да-да, — пробормотала она, — сначала мы собирались обручиться…
С меня было довольно.
— Кончайте наконец этот жалкий балаган. Даниэль, я хочу, чтобы ты велел сейчас же подать двойные носилки и чтобы мы — я и Салмо и ты с Деборой — выяснили это дело в суде. Я заранее радуюсь в ожидании того момента, когда тебя вздернут над городскими воротами в назидание прочим мошенникам.
— Прочь отсюда! — прикрикнул на дочь Даниэль.
Дебора исчезла, и Даниэль, казалось, вновь обрел свое
обычное спокойствие.
— Прости, Саломон, — с притворной беспомощностью воздел он вверх руки, — но все это произошло только из-за отцовской любви и — я признаю это — непростительного потакания настроениям моей дочери. Она влюбилась в тебя, а от любви не открыли еще лекарства. Мне следовало бы быть умнее и настоять на своем…
Теперь мне действительно стало жаль этого человека. Он действовал как загнанный лев, который рыча пытается укрыться в спасительной пещере и в отчаянии выталкивает вперед себя львенка, пытаясь спасти собственную шкуру.
— Даниэль, Даниэль, из-за своей алчности ты превратил Дебору в проститутку, а теперь пытаешься еще и свалить на нее всю вину. Покажи же себя мужчиной и отцом и сам расхлебывай кашу, которую заварил.
С таким же успехом я мог обращаться к стене или дереву, поскольку Даниэль не прекращал попыток повыгоднее выпутаться из этой истории.
— Мы могли бы оставить контракт так, как он есть, и я дописал бы несколько строк, что помолвка расторгнута по моему желанию и по желанию Деборы.
Салмо ухмыльнулся:
— Но тогда придется платить штраф, дорогой Даниэль. Если договор расторгнут по вине одной из сторон…
— Ага, — торжествующе закричал Даниэль, вскочив, — так ты признаешь этот договор?
— Хватит! — заорал я. — Мы идем в суд, и пусть Даниэля повесят. Ничего другого он не заслуживает.
Тут наконец он сдался, заплатил Салмо пять золотых, и мы вместе сожгли этот фальшивый контракт. Когда мой слуга язвительно ухмыльнулся, пряча деньги, Даниэль заплакал.
По дороге во дворец наместника Салмо подробно рассказал мне, каким образом Даниэль устроил все это мошенничество. Я слушал его несколько сбивчивое объяснение и не мог удержаться, чтобы вновь не сравнить его с неловким и простодушным мальчишкой, за которым все время надо приглядывать. Но, впрочем, подобный случай мог произойти с кем угодно.
— Я уже в Иерусалиме понял, что нельзя оставлять тебя одного в большом городе, — сказал я строго. — Там мне пришлось вызволять тебя из тюрьмы, а здесь ты угодил в лапы мошенника, о котором знает весь город.
Странно было видеть на его покрытом шрамами мужественном лице выражение, какое бывает у виноватого мальчишки.
С этого времени Салмо жил в помещении для слуг во дворце наместника и каждый раз, когда отправлялся в город, сообщал мне об этом.
Да, что бы там ни было, наша жизнь в Антиохии была просто прекрасной. Но боги, как известно, не любят, когда у людей все идет слишком хорошо. И скоро нам с Салмо пришлось признать, что фортуна отвернулась от нас и мы оказались во власти ужасного бога Ареса, которого римляне называют Марсом.
Глава 2
Царица Клеопатра не любила хранить секреты и чувствовала потребность всеми своими радостями и успехами делиться с друзьями. Мы все стали участниками ее триумфа, вновь возвеличившего государство Птолемеев. Это произошло в декабре того важного и богатого событиями года, и я не могу не упомянуть об этом хотя бы в общих чертах, даже если тем самым вновь всколыхну споры о том, не слишком ли большой подарок сделал ослепленный любовью Антоний «этой египтянке», как называли ее противники. Все зависит от того, с какой точки зрения на это посмотреть. По мнению Клеопатры, границы ее расширились еще недостаточно, и она с удовольствием отхватила бы от земель Ирода кусок побольше, но в этом пункте Антоний с ней не согласился.
Договор между царицей и императором был торжественно оглашен во дворце императора. В Рим были посланы два гонца — из соображений безопасности, независимо друг от друга, — чтобы объявить уважаемым отцам о решении императора.
Я до сих пор помню эту сцену во всех подробностях. В большом аудиенц-зале дворца наместника были установлены два трона — не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга, так чтобы чиновники, которым поручено было огласить договор, могли выйти вперед, не заслонив при этом царственную пару. Громким голосом они объявили все условия соглашения. Согласно ему, к Клеопатре переходили земли на юге — гавань Акко, и небольшое государство Итурея, лежащее к западу от границы с Финикией, и часть Декаполя, а на севере — от Переи и дальше — значительная территория в Азии, где Антоний передавал ей часть Киликии. Там находились великолепные кедровые леса — это дерево незаменимо было при постройке кораблей, дворцов и крепостей. Кроме того, еще раз было подтверждено ее право на владение островом Кипр.
Расширение земель во многом затрагивало интересы Ирода. К Клеопатре переходили многие прибрежные города, так что у царя Иудеи оставался только один выход к морю — город Газа. Но это еще не все. Клеопатра хотела любым способом ослабить Ирода, а если возможно, то и уничтожить его. Поэтому она, хотя это оказалось не так уж просто, уговорила Антония передать ей пальмовые рощи под Иерихоном, славившиеся своим замечательным бальзамом. Ирод объявил, что он согласится на это, но только при условии, что Клеопатра вернет ему эти рощи, взамен на что он будет ежегодно платить ей щедрую дань. Это был очень умный ход, поскольку таким образом царю удавалось избежать, чтобы египетские чиновники хозяйничали всего в каких-нибудь двадцати милях от его столицы. Клеопатра и позже не скрывала, что рассматривала Ирода как враждебного соседа и стремилась к его устранению.
Однако и это было еще далеко не все. Она потребовала и получила часть государства набатеев, прежде всего область, где находилось Асфальтовое озеро. Не стоит и говорить, как важен асфальт при изготовлении лекарств, бальзамирующих и строительных материалов, а также для некоторых других целей.
Накануне Клеопатра по секрету предупредила нас, чтобы во время всей этой церемонии мы не приветствовали ее рукоплесканиями.
— Могло бы показаться, будто эти земли я выманила у императора хитростью, а это вызвало бы неодобрение в Риме.
Она улыбнулась своей приветливой и очаровательной улыбкой.
— Я знаю, что вам не терпится выразить свою радость, но на этот раз я прошу вас быть сдержаннее. Вы сможете поздравить меня позже, когда мы останемся одни.
В новом году по повелению нашей царственной пары были отчеканены монеты с их изображением. При этом римский чеканщик настолько подчеркнул нос царицы, что мы уже опасались, не привлечет ли она его к ответу. Но она только рассмеялась.
— Может быть, вовсе не так уж плохо, что меня изобразили на денариях в таком невыгодном виде. Римляне скажут себе, что Антоний скоро порвет с этой египетской царицей, ведь такую ужасную женщину нельзя выносить дольше, чем того требует политика.
Каждый из нас получил по тугому кошельку с новыми серебряными монетами и в придачу еще дюжину золотых, которые были отчеканены только для небольшого числа друзей, а не для широкого обращения. Салмо тоже получил свою часть, и я сказал:
— Видишь, я стал теперь богатым человеком — на зависть этому мошеннику Даниэлю.
Могу только снова заметить, что за свою жизнь мне не часто удавалось заработать много денег. А если это все же и случалось, то они вновь быстро исчезали.
В тот раз я потратил часть новеньких серебряных монет на подарок Ирас. У одного известного ювелира я заказал тяжелую цепочку и изящный медальон в форме богини Бастет с кошачьей головой, который весил добрых две унции. Ирас была так восхищена, что носила его день и ночь: иногда это оказывалось небезопасным. Моя возлюбленная предпочитала позу амазонок, при этом Бастет так раскачивалась, что однажды чуть не выбила мне глаз. Поэтому мне пришлось попросить Ирас снимать ее на время нашей любовной борьбы. Позже она поступала так же, если сердилась на меня, но это продолжалось недолго и спустя немного времени Бастет вновь сверкала на ее груди.
Алекс все же не оставлял попыток добиться внимания Ирас. Одновременно со мной ему пришла мысль о подарке. Однако тут произошло маленькое недоразумение. Сначала он решил узнать у Шармион, какую богиню Ирас особенно почитает. Она ответила ему коротко и резко: «С головой кошки». Он не отважился больше беспокоить Шармион, а обратился к одному из немногих египтян при нашем дворе, и тот сказал, что это, должно быть, Сохмет, супруга бога Птаха из Мемфиса. Он попросил его поточнее описать эту богиню и потом велел изготовить ее серебряную фигурку. Он передал ее Ирас со словами — как она сама мне рассказывала — «Пусть эта Сохмет, о высокочтимая, днем и ночью направляет и охраняет тебя».
Я уже упоминал раньше, что египтяне очень почитают и уважают Сохмет. Но это богиня войны, болезни и уничтожения. Она покровительствует врачам, но едва ли может стать подходящим подарком для возлюбленной.
Ирас, видимо, от царицы научилась быстрым и остроумным ответам. Она вернула ее Алексу, сказав: «Но, Алекс, ты что-то напутал. Мою богиню зовут Бастет, и она покровительствует влюбленным, а твоя Сохмет скорее подходит для нашего врача Гиппократа. Преподнеси ее ему, и, может быть, тебе удастся завоевать его дружбу».
Алекс почувствовал себя как какой-нибудь земледелец, которого царский управляющий ругает за то, что он привез ячмень вместо пшеницы, и которому за это теперь грозит плеть. Однако парень не растерялся и достойно вышел из положения. Он приказал переплавить фигуру и отлить из нее Исиду, которая была бы похожа на царицу. На пьедестале он велел выгравировать по-гречески, латински и египетски: «Клеопатре, царице царей».
С материальной точки зрения этот подарок для нашей-царицы не представлял никакой ценности, но сам этот жест ей понравился, и таким образом Алексу потихоньку вновь удалось втереться в доверие.
Еще раньше в одной из доверительных бесед царица попросила нас сделать подарок не ей, а императору. Я охотно признаю, что воспользовался при этом идеей Алекса. Мы долго ломали голову и обсуждали самые неожиданные предложения, вплоть до того, чтобы устроить в честь Антония представление в цирке, но для этого необходимо прибытие проконсула, не говоря уж о том, что здесь не особенно почитали этот римский обычай.
Я подумал о подарке Алекса царице и спросил себя, кого из богов Антоний особенно почитает. Тут мне вспомнился симпосий в Тарсе и представление, посвященное Гераклу.
— Геракла! — воскликнул я. — Вот кого! Император возводит свое происхождение к этому герою. Он устраивает представления в его честь, и ему приятно, когда о нем говорят. Однако мы будем не говорить, а действовать!
Я предложил в большом храме Зевса, находившемся в Антиохии, возвести алтарь в честь Геракла и установить рядом бронзовую статую в человеческий рост, которая была бы похожа на императора. Самое забавное, что одновременно с нами та же мысль пришла и Клеопатре, которая предложила Городскому собранию — оно называлось здесь «сенат» — возвести в честь императора алтарь Гераклу. И Совет старейшин тоже как раз собирался спросить у Клеопатры, будет ли приятно императору, если в его честь построят небольшой храм. Она смеясь рассказала нам об этом.
— Эти уважаемые отцы привыкли действовать быстро. Мне пришлось объяснить им, что в Риме, чтобы тебя признали божественным, надо не только иметь много заслуг, но и умереть, как это произошло с Юлием Цезарем. Так что мы остановились на том, что в восточной части храма Зевса будет сооружен алтарь Гераклу с бронзовой статуей этого бога в человеческий рост.
— Которая будет иметь сходство с императором, — прибавил я.
— Это уж как вы решите. Это ваша идея, ваш подарок. Я тоже подарю Антонию кое-что. Мой подарок тоже будет иметь человеческий облик, но по размеру меньше, гораздо меньше, чем ваш.
Ирас и Шармион загадочно усмехнулись, тогда глупые мужчины не сразу поняли, о чем идет речь. Первым, конечно, сообразил Мардион, евнух.
— Новый потомок божественного рода! — радостно воскликнул он. — Наши лучшие пожелания — тебе, царица! Да хранят тебя боги!
— Счастья тебе и защиты богов! — подхватили мы.
Мы уже собрались уходить, но Клеопатра остановила
нас, подняв руку.
— Я еще не отпустила вас и хочу сообщить вам еще кое-что. Со следующего года я собираюсь ввести новый отсчет времени моего правления. За начало этой новой эры будет принят первый год моего регентства с моим любимым сыном Птолемеем Цезарем, потомком божественного Цезаря, который шлет нам свое благословление с высот Олимпа.
К середине февраля алтарь Геракла в храме Зевса был готов. Он обошелся нам довольно дорого, поскольку в этом большом городе, как ни странно, не так-то легко оказалось отыскать искусного скульптора. К тому же, чтобы выполнить эту работу, ему надо было видеть Антония вблизи. Это взялась уладить Клеопатра. Она пожаловалась императору, что портреты на монетах выполнены грубо и совсем не похоже. В следующий раз она хотела бы поручить их чеканку более опытному мастеру, чтобы весь мир мог увидеть подлинное изображение своих повелителей. Антоний сразу же согласился с этим. Таким образом Скопа, так звали этого искусного скульптора, резчика по камню и мастера бронзового литья, смог приступить к работе. Он запретил нам присутствовать при этом и только однажды сделал исключение для уважаемого Протарха.
— Во имя всех богов, скажу я вам, этот парень не выказывает ни малейшего уважения к Антонию. Он безо всякого стеснения прикладывает к его голове свой угольник, бегает вокруг него с острым циркулем, как будто хочет его заколоть, и обматывает его вокруг живота измерительной лентой. Антоний только усмехается и недоумевает, ведь на монетах он будет изображен не в полный рост, а о настоящих намерениях этого ваятеля он ничего не знает. А тот дает своему языку гораздо меньше воли, чем рукам, и бормочет только что-то о пропорциях и sectio aureo — да, он употребляет какое-то непонятное латинское выражение.
— Золотое сечение? — перевел я. — Это какой-то термин у ваятелей, но я тоже не знаю, что он означает.
Как бы там ни было, Скопа выполнил свою работу точно к сроку. На церемонии открытия алтаря император появился в пурпурной тоге и золотом лавровом венке. Его сопровождала Клеопатра, это было одно из немногих ее официальных появлений в Антиохии.
Я уже говорил, что жители больших городов почти ни перед чем не испытывают священного трепета. Однако на этот раз антиохийцы показали себя с лучшей стороны.
Императоров, консулов, префектов, сатрапов и клиентальных правителей здесь можно было встретить почти каждый день, но египетская царица — это было что-то необычное. А может быть, дело было также в том, что все знали: этот алтарь возведен на деньги города, стало быть, и на те, которые получены от налогов. Поэтому каждый хотел взглянуть на подарок, в котором он также принял участие.
Антоний опустился на колени перед статуей, на пьедестале которой была сделана надпись: «Своему божественному предку с уважением и благодарностью от Марка Антония, имп.».
Вечером мы отпраздновали это событие в узком кругу. Ирас, желая подразнить Алекса, позаботилась, чтобы император узнал, кому пришла в голову идея этого подарка. Да, Алекс уже снова был тут. Он был для нашего общества тем же, чем соль для бульона: никто особенно не любил его, но все ему благоволили.
Антоний выразил мне особую благодарность, подмигнул и сказал:
— У меня есть еще кое-что специально для тебя, Олимп, или, если хочешь, Гиппократ. Тем самым я выполню наконец обещание, на которое ты, вероятно, рассчитывал, а я забыл о нем.
Он протянул мне медную дощечку и я прочел: «Олимп, называемый Гиппократом, личный врач Ее Величества царицы Египта, с этого момента и до окончания парфянской кампании назначается главным врачом всего римского войска в звании трибуна с соответствующим жалованьем. Все другие врачи, участвующие в этом походе, должны подчиняться главному врачу Олимпу, называемому Гиппократом.
Дано в Антиохии в пятый год правления императора Марка Антония».
Голова моя гудела, как потревоженный улей, а язык стал сухим, как старый пергамент.
— Похоже, он не рад, — язвительно заметил наблюдавший за мной Алекс.
— Вероятно, он проглотил язык от радости, — сказала Клеопатра, и это прозвучало не особенно иронично.
Мне пришлось откашляться и дважды попытаться ответить, прежде чем язык наконец меня послушался.
— Это большая честь, награда, которую я очень ценю…
Я считал, что здесь не обошлось без интриг со стороны
Алекса, которого потом сочли чуть ли не предателем и который потерял всякое влияние при дворе. Неужели это он напомнил императору о его тогдашнем обещании? Может быть, он переменил тактику и решил удалить меня от двора, чтобы вновь завоевать расположение Ирас? Возможно, у меня и возникло такое подозрение, но позже я узнал, что оно совершенно безосновательно. Антоний, солдат душой и телом, просто не мог представить себе, что кто-то может не оценить высокой чести служить в римской армии, да еще в звании, которое он учредил специально для меня. Действительно, в римских легионах на было врачей. Правда, время от времени их сопровождали какие-нибудь военные лекари, но это зависело скорее от желания и приказаний легата легиона. Вот уже несколько лет весь мир говорил о парфянском походе — последнем большом сражении, предстоящем римскому войску, перед тем как добиться окончательного — как тогда полагали — мира.
В Риме многие порицали императора за то, что он- все откладывал кампанию, которую давно уже мог победоносно завершить. Его нерешительность приписывали пагубному влиянию «египтянки», и многие друзья Антония советовали ему порвать с ней. Я знаю это от него самого, и он всегда подчеркивал, что медлил вовсе не из-за Клеопатры, а просто выжидал удобного момента, чтобы быть уверенным в победе. И такой момент наконец наступил.
Правивший до этого парфянский царь Ород — его сын был побежден и казнен римлянами — отрекся от престола. Его преемник Фраат начал с того, что убил своего двадцатидевятилетнего брата, чтобы устранить других претендентов на трон. Его отец, старый царь, не одобрил такого в ответ на что этот милый сын приказал убить также и его. Многие парфяне были возмущены этим и покинули страну. Среди них был также Монес, один из самых влиятельных вождей племен.
Однако вернемся к тому празднику, который Антоний устроил для своих друзей в честь освящения алтаря Гераклу.
Немного овладев собой, я увидел сияющие лица друзей, которые готовы были порадоваться вместе со мной и которых смутил мой испуг. Я вновь обрел способность чувствовать. Меня затопила волна доброжелательности и дружеского расположения, и настроение мое еще больше изменилось от короткой речи, которую произнес император:
— Светлейшая царица! Мои дорогие друзья! В жизни отдельного человека, рода, племени, народа или государства возникают иногда трудности, которые можно разрешить, хорошенько все обдумав, или смягчить, пойдя на взаимные уступки. Противостояние с парфянами, к сожалению, не относится к таким. Когда царь Митридат продвинул границу своего государства на запад, он уготовил своим преемникам плохое наследство: споры с Римом. Если сталкиваются друг с другом два камушка, то более легкий отлетает в сторону, если два камня — то тот, что поменьше, откатывается, а если это две скалы, то меньшая из них под давлением большей разваливается на куски и превращается в пыль, которую развеивает потом ветер. Вы знаете, дорогие друзья, что я имею в виду. Скала парфянского царства преграждает нам, римлянам, путь на восток. И у нас не остается иного выбора — мы должны разрушить эту скалу. До сих пор победа всегда оставалась за нами, и сейчас, с парфянами, будет так же.
Антоний остановился, выпил вина и взглянул на меня.
— Сегодня мы поздравляем тебя, Олимп-Гиппократ, с тем, что ты избран, чтобы стать участником этой великой истории, ты запомнишь это на всю жизнь.
Он поднял бокал.
— За Рим, за Египет, за победу!
Все поднялись и выпили стоя. Только наша царица осталась сидеть, и по движению ее губ я понял, что она прошептала: «За Египет, за победу!» Или, может быть: «За Антония, за победу!»
Все в свитах Клеопатры и Антония были уверены, что римская армия победит. Да и в самой армии, как увидел я позднее, каждый солдат также был уверен в победе.
Спустя немного времени секретарь императора спросил, нет ли у меня каких-нибудь пожеланий в связи с моим новым назначением. «Только одно, — ответил я, — чтобы мой слуга Салмо мог сопровождать меня в качестве адъютанта». В каком звании? Во имя Ареса — что же я понимал тогда в римской армии и ее званиях? Я знал только, что милее — это простой солдат, что над ним стоят опций, центурий и трибун и все они подчиняются легату легиона.
Слегка поразмыслив, я дерзко ответил, что мое звание главного врача армии по своей исключительности можно сравнить разве что со званием императора, поскольку ему подчиняются все легионеры, а мне — все врачи в войске. Поэтому мой первый помощник должен быть, по крайней мере, в звании центуриона.
Секретарь даже рот открыл от удивления.
— Что-что? — пролепетал он наконец. — Ты сравниваешь себя с божественным императором? Себя, простого врача?
— Я личный врач ее царского величества, царицы Клеопатры из Египта, и главный врач римского войска. Если ты не хочешь окончить свою жизнь в каменоломнях или на галерах, я требую, чтобы ты извинился за «простого врача».
Сразу видно, как звание изменяет характер. До того, как мне вручили табличку с моим назначением, я вовсе не был таким самоуверенным.
Секретарь склонившись пробормотал что-то вроде: «Я должен спросить господина». Через два дня Салмо официально был назначен моим адъютантом в звании опция.
— Итак, римским офицером ты не стал, — хлопнул я его по плечу, — но опций — это все же помощник центуриона, так что ты выше простого легионера, что, конечно, отразится и на твоем жалованье.
Салмо с отвращением поморщился.
— Я уж надеялся, что навсегда распрощался с солдатской жизнью, а теперь ты снова втянул меня…
— Стоп, Салмо, стоп! Ты ведь сам хотел участвовать в кампании и просил замолвить за тебя словечко перед императором. Как старый солдат ты ведь должен знать, что штатские…
— Я вовсе не это имел в виду, господин, и, конечно, жалованье тоже мне не помешает. Надеюсь, мне не придется иметь дело с мечом, копьем, луком и стрелами. Когда нам надо начинать?
— Не знаю, когда Антоний со своими легионами выступает отсюда, а мы должны начать уже сейчас, потому что нам предстоит набрать врачей, позаботиться обо всех необходимых инструментах и лекарствах. Еще нам надо принести присягу — да, к сожалению, это тоже.
— Мне… мне снова придется надеть форму?
Я усмехнулся:
— Конечно, ведь твое новое звание не обозначено у тебя ни на лице, ни на затылке.
Времени у нас оказалось предостаточно, и в этом императора тоже потом упрекали. Почему, когда решение уже было принято, он оставался в Антиохии еще целых три месяца? Прошли январь, февраль и март, и только в середине апреля войска пришли в движение. Повсюду слышался укоряющий шепоток, что египетской любовнице удалось задержать Марка Антония в своей постели и теперь шансы на успешное завершение похода сильно уменьшились. Почему? Потому что парфянский отце- и братоубийца получил возможность упрочить свое господство и потому что римскому войску из-за такого позднего выступления, возможно, придется зимовать в каком-нибудь необжитом горном районе. То, что оба этих опасения оказались справедливы, мы узнали только много позже. Однако тогда любого, кто осмелился бы их высказать, сразу объявили бы паникером и даже предателем.
Поначалу я опасался, что не смогу найти в Антиохии ни одного хоть сколько-нибудь опытного врача, который согласился бы разделить все тяготы и опасности этого похода. Однако оказалось наоборот: желающих объявилось множество, правда, две трети из них были недостаточно хорошо подготовлены или оказались слишком стары. Я не мог представить, чтобы человек, которому уже почти шестьдесят, готов не раздумывая отправиться на поиски приключений, в этот поход, конца которому пока еще не предвиделось. Все они, как один, твердили, что хотят послужить на пользу Рима и не допустить, чтобы парфяне дошли до Иерусалима, убивая, разоряя и сжигая все на своем пути. Конечно, они не тронут Антиохию, но кто знает, что будет дальше.
Салмо подмигивал мне всякий раз, когда слышал подобные объяснения в различных вариациях, поскольку все эти бравые врачи хотели показать себя истинными патриотами Рима, хотя вовсе не являлись таковыми. Настоящий врач быстро распознает под маской подлинные мысли людей. В действительности этими господами руководили совершенно другие чувства.
Так, один хотел вырваться из своей семьи, где дочери, сыновья, невестки и зятья, внуки, племянники и братья чуть было совсем не сожрали его, поскольку каждый хотел от него что-то получить. Другой запутался в долгах, поскольку ему пришлось исполнять все прихоти своей требовательной любовницы. Его жена узнала об этом и предъявила еще большие претензии.
Один, показавшийся мне с первого взгляда весьма симпатичным, из-за своей алчности допустил непростительную врачебную ошибку, и немного позже его арестовали за это.
Однако время от времени к нам приходили и достаточно молодые врачи, пригодные для службы в армии, которые уже несколько лет занимались врачебной практикой, и прежде всего хирургией. Ими действительно руководила жажда приключений и желание увидеть другие страны. Они надеялись уцелеть среди всех опасностей и лишений и к тому же разбогатеть.
В эти дни и недели у императора было мало времени, но я смог добиться аудиенции по поводу платы военным врачам и объяснить ему, что эти люди, которые до сих пор зарабатывали весьма неплохо, не согласятся терпеть все невзгоды и опасности, если им не будет обещано за это достойное вознаграждение — во всяком случае, не меньше того, что они до сих пор получали, и значительно больше того, что получают офицеры соответствующего ранга. Антоний сразу согласился с этим и, улыбнувшись, сказал, что, теперь это легко устроить. Я понял, что он имеет в виду, потому что в нашем кругу давно; было известно» что Клеопатра: выделяет значительную сумму на этот поход.
Мне пришлось постараться, чтобы подготовить в достаточном количестве все необходимые инструменты и лекарства. Для каждого врача я велел изготовить по два одинаковых набора инструментов. Здешние кузнецы оказались весьма прилежными, и почти все заказы были готовы в срок.
Но труднее всего пришлось мне с восемью медиками, которых Антоний, собираясь в предстоящий поход, захватил с собой из Италии. Трое из них наотрез отказались подчиняться мне, египтянину, — не из-за того, что я был слишком молод, нет, ведь тогда мне было уже тридцать три года, но из-за того, что это было ниже их достоинства — подчиняться подданному зависимого от Рима государства. Антоний на этот раз был последователен и поставил их перед выбором: или следовать моим указаниям, или возвращаться в Рим. Один из них остался, а двое отправились обратно.
Мой слуга Салмо — теперь в звании опция — тоже стал начальником и в качестве моего первого помощника получил в свое подчинение четырех слуг — для выполнения грубой работы.
Вначале предполагалось, что во время похода Алекс будет одним из двух личных секретарей императора, но этому интригану каким-то образом удалось отвертеться. Антоний поручил ему наблюдать за настроениями при египетском дворе и в случае какого-нибудь промедления побудить царицу к возможно большей помощи деньгами и вещами. Вопрос в том только, пришла ли эта идея в голову самому Антонию или красноречивый Алекс убедил в этом императора.
Прощание с Ирас было просто душераздирающим. Она рыдая умоляла меня добиться у Клеопатры, чтобы меня оставили. При этом я убежден, что на самом деле она вовсе не желала этого. Вся ее природа восставала против того, чтобы ставить под сомнение решение таких высокопоставленный; особ, как царица или император. Она пообещала постоянно приносить жертвы всем богам, от которых зависит наше благополучное возвращение из похода — греческому богу войны Аресу и его египетскому соответствию богу Монту, а также Сохмет, Асклепию и Серапису, который вообще отвечал за любое дело.
Лично я не очень верил в то, что может быть какой-то толк от наших молитв и жертв перед каменными или бронзовыми изваяниями, — об этом я и сказал Ирас.
— Делай то, что подскажет тебе сердце. Жрецы много берут и многое обещают, а их боги вовсе не так могущественны. Было бы гораздо лучше, если бы ты пообещала мне, что не будешь больше обращать внимания на Алекса.
Она поклялась мне в этом богиней Бастет и — что касается Алекса — сдержала свою клятву.
Глава 3
В середине апреля мы выступили на север, чтобы в маленьком городке Цойгма на Евфрате соединиться с остальным войском. Поначалу мне было непривычно чувствовать себя римским трибуном, я даже носил на боку gladius — короткий меч с широким клинком, чтобы, как полагал император, по крайней мере внешне больше походить на римского офицера и чтобы легионеры уважали меня. Согласно моему положению, мне полагался также красный плащ — офицерская накидка, предназначавшаяся скорее для парадов. Однако я предпочитал скромную пенулу — шерстяной плащ, легкий, но прекрасно согревающий в суровом климате. Император настоял также на кассисе — бронзовом шлеме, украшенном султаном из перьев, но в походе я носил легкий галеа из кожи, служивший одновременно защитой от ветра и непогоды. На моем нагрудном панцире из крепкой дубленой кожи были изображены не воинственные символы, как у других офицеров, а жезл Асклепия со змеей.
Дорога до Цойгмы была не особенно трудной. Несколько дней нам понадобилось, чтобы пересечь долины горы Амана, но по сравнению с тем, что нам еще предстояло, это была просто увеселительная прогулка.
Салмо, как мне казалось, вновь понравилось быть солдатом. Он пользовался своим положением опция и весьма ловко обращался с подчиненными. Втайне легионеры уважали его гораздо больше, чем меня, заключив по его изуродованному лицу, что он участвовал уже во множестве сражений. Салмо поддерживал эти предположения, рассказывая многочисленные случаи из своей прежней солдатской жизни — один невероятнее другого. Его репутации очень помогло то, что он какое-то недолгое время служил при Юлии Цезаре — это поднимало его над остальными офицерами его ранга, хотя, конечно, и среди легионеров тоже были те, кто участвовал в египетском походе.
В Цойгме, маленьком сонном городке, император приказал разбить лагерь, чтобы подождать подхода остального войска. Как известно, в каждом легионе около 5000 человек, он состоит из десяти когорт по 500 человек или из 50 центурий по 100 человек. В некоторых легионах было по 4000 человек, так что там центурии состояли из 80 солдат. В каждой палатке жили от восьми до десяти солдат, у них был общий мул для перевозки поклажи и ручная мельница, на которой мололи зерно для пульса — густой каши, отвратительной на вкус, которой с давних пор питалось в походах римское войско.
Я, как главный врач, вместе с моим адъютантом Салмо занимал отдельную небольшую палатку, а наши помощники жили в соседней палатке вместе с погонщиком мулов.
Антоний послал к парфянскому царю Фраату мятежного предводителя Монеса с предложением мира, которое было встречено весьма благосклонно. Не могу сказать точно, чего хотел этим добиться Антоний, но, во всяком случае, его должно было насторожить, что этот отце- и братоубийца так легко отпустил этого мнимого предателя Монеса.
Канидий Красс, один из приближенных к Антонию полководцев, заключил с армянским царем договор о военной помощи. Таким образом, Артавасд обязан был дать в поддержку римлянам 6000 всадников и 7000 пехотинцев. Как только эти войска подошли, Антоний немедленно выступил.
Относительно численности римского войска у историков никогда не возникало споров. Так что я называю цифры, которые были известны тогда и в которых до сих пор никто не усомнился.
У римлян было шестьдесят тысяч легионеров и десять тысяч всадников, кроме того, еще около тридцати тысяч солдат, прибывших из римских провинций и клиентальных государств. Стало быть, всего около ста тысяч солдат, под командованием опытных легатов и под предводительством не менее опытного императора Марка Антония.
Понятно, почему среди солдат царило приподнятое настроение. О парфянах они говорили исключительно как о каких-то «паразитах», которые вскоре должны быть уничтожены. Это были просто какие-то грязные, невежественные варвары, которые на удивление долго оказывали сопротивление Риму, но теперь этому будет положен конец.
Уверенность в победе охватила каждого, от простого
солдата до легата. Уже в Антиохии Марк Антоний показал, что считает этот поход почти удавшимся. Однако эта непоколебимая уверенность в победе сделала императора беспечным и неосторожным — к чему он и без того был склонен. Так, ему не пришло в голову оставить на земле своего нового «союзника», армянского царя Артавасда, часть римских войск или хотя бы потребовать у него каких-нибудь высокопоставленных заложников. Возможно, это произошло из-за отсутствия времени, поскольку приближалась зима, а путь до Фрааспы, столицы Парфянского царства, предстоял еще долгий.
В Каране, одном из крупных армянских городов, к нам присоединилось войско победоносного легата Канидия Красса.
А затем начались трудности. Из Караны мы отправились на юго-восток. Местность становилась все гористее, и продвигаться с тяжелым обозом и громоздкими осадными, машинами было все труднее. Потребовались все силы и изобретательность наших первопроходцев, чтобы преодолеть горный перевал, при этом несколько людей и животных погибли или были покалечены.
Тут потребовалось не только наше врачебное мастерство, но и наша совесть, поскольку тяжело раненных людей нельзя было оставлять в чужой стране и нам с тяжелым сердцем пришлось ускорить их смерть. В других обстоятельствах, при хорошем уходе и соблюдении покоя, они могли бы выжить, но нам необходимо было двигаться дальше, а это только причинило бы несчастным новые бесполезные страдания.
Салмо успокаивал меня, что так всегда бывает на войне и с этим ничего нельзя поделать. Я надеялся, что в будущем Сохмет будет к нам более благосклонна, однако здесь, в чужой стране, свирепая богиня, видимо, не имела никакой. власти.
С трудом нам удалось достичь Матианского озера, где император приказал сделать остановку и созвал всех высших офицеров на совет. Это озеро греческие историки называют Капавта, и тот, кто полагает, что оно богато рыбой и на его берегах можно хорошо отдохнуть, сильно заблуждается. Вода в этом горьком озере настолько соленая, что совершенно не пригодна для питья, и в озере нет ничего живого. Некоторые из наших легионеров попытались выкупаться в нем, однако горе было тем, кому эта страшная вода попала в глаза или на раны. Люди выскакивали на берег с громким воплем. Я велел им промыть глаза и раны разбавленным вином и добился у императора строжайшего запрета на купание.
Салмо находил все это забавным и смеялся над бедными парнями, которые от боли танцевали как безумные.
— Мне все это знакомо. У нас в Иерусалиме тоже есть соленое море, и ни один иудей не станет в нем купаться по доброй воле.
Итак, мы собрались в просторной палатке императора. Антоний был, как всегда, уверен и весел, сравнивал воду озера с водами подземной реки Леты, которая также заставляет забыть обо всем. Конечно, все мы весело посмеялись над этой шуткой. Потом Антоний поднял руку:
— Шутки в сторону, друзья мои. Мы должны полностью изменить нашу стратегию. В этой гористой местности наш обоз продвигается слишком медленно, и эта задержка может нас погубить. Поэтому я решил разделить армию. С завтрашнего утра две трети наших всадников и пехотинцев спешным маршем двинутся к столице. Это будут солдаты, прибывшие из Рима. Кто будет нападать на наш обоз?
Зачем варварам осадные машины, катапульты и баллисты, которые они ни собрать, ни обслужить не сумеют?
В палатке раздался одобрительный смех.
— Этот обоз будут охранять вспомогательные войска — армяне и понтийцы.
Последние были солдатами союзного царя Полемо из Понта. Оба царя присутствовали на этом совете, и от них вряд ли укрылась некоторая доля презрения, заключавшегося в словах императора о том, что их войска пригодны скорее не для сражений, а для охраны обоза. То, что командование арьергардом он поручил своему легату Оппию Статиану, тоже должно было возбудить недовольство обоих царей, над которыми был назначен надсмотрщиком простой легат.
Антоний сильно навредил себе этими неосмотрительными речами, но я полагаю, что говорил он так вовсе не для того, чтобы унизить обоих царей и их народы, а скорее, чтобы произвести впечатление на своих офицеров.
Когда я спросил его, сколько врачей должно остаться в обозе, он сказал:
— Врачи? Зачем? Они нужнее на поле битвы и отправятся с нашими войсками, поскольку парфяне охраняют свою столицу, а не рыщут, к счастью, в этих горах. Так что оставь здесь трех-четырех, этого будет достаточно.
Почему же никто не возразил ему? Ведь при этом присутствовали такие опытные полководцы, как Минатий Планк и Канидий Красс, или такие близкие друзья императора, как Квинт Деллий и Фонтей Капито, также умные и опытные люди, которые могли хотя бы высказать свои сомнения. Но нет, тот, кто не выразил своего согласия вслух, просто промолчал.
Таким образом, на следующее утро мы двинулись к столице, оставив в обозе около трехсот повозок с разобранными осадными машинами, среди которых была вызывавшая всеобщее удивление баллиста длиной в восемьдесят локтей, которая могла метать целые каменные глыбы на расстояние в добрую половину стадии.
Бодрые и уверенные в победе, мы легко преодолели горный переход и уже через день оказались у стен парфянской столицы Фрааспа. Тут лица у многих вытянулись, и намерение с ходу взять город штурмом показалось нам просто невыполнимым. Он был окружен такой высокой стеной, что верх ее можно было увидеть, только запрокинув голову. Теперь нам просто необходимы были осадные машины, однако на их прибытие приходилось рассчитывать не раньше, чем через пять-шесть дней.
— Мы не можем бездействовать! — воскликнул Антоний и приказал начать строительство насыпи, по которой можно было бы преодолеть стену и ворваться в город. Однако-каменистая почва этому не способствовала, и на третий день насыпь была немногим выше какой-нибудь укрепленной: дороги. К тому же со стен и башен на легионеров обрушивалась лавина стрел, а снизу невозможно было попасть в стрелков, укрывавшихся за бойницами и зубцами стен.
На четвертый день прискакал вестовой, который даже не соскочил, а скорее упал с лошади, воскликнув:
— Смерть! Все погибло! Машины сгорели! Статиан мертв! Цари мертвы! Все погибло!
Антоний, взяв две сотни людей, устремился к месту-трагедии. Я также последовал за ним, забыв обо всякой опасности. Салмо, как всегда рассудительный, советовал мне оставаться на месте, потому что живой главный врач для римского войска предпочтительнее, чем мертвый герой. Но я обозвал его трусом и приказал сопровождать меня, потому что там могла ведь понадобиться наша помощь. Он вздохнул и жалобно возвел глаза к небу, видимо призывая Яхве в свидетели моей глупости и своей невиновности.
Позже выяснилось, что «перебежчик» Монес быстро переметнулся вновь на сторону Фраата, который все же обладал теперь реальной властью над парфянами. Чтобы доказать свою верность, Монес с отрядом в пятьдесят тысяч всадников напал на наш плохо охраняемый арьергард и уничтожил его за несколько часов. При этом командующий им Статиан погиб. Как сообщил посыльный, армянский царь вовремя скрылся, а Полемо из Понта попал в плен.
Обоз был разграблен, а то, что осталось, вместе с баллистами было предано огню.
Уцелели лишь немногие, израненные и искалеченные. Из врачей в живых остался только один. Теперь нам предстояло выполнить наш печальный долг и осмотреть поле боя, чтобы подобрать всех, кого еще можно было спасти, и добить остальных, избавив их от мучений. А среди них были не только те, у которых были отрублены руки или выпущены кишки и которые умоляли о скорейшей смерти. Нет, многие взывали о спасении. Они хотели жить — жить пусть даже без рук или с одной ногой, или ослепнув, или я то и другое. Были и те, которых можно было бы спасти — таких, правда, было меньшинство, — они потеряли только один глаз или только одну руку или были ранены тяжело, но не смертельно. Однако они понимали, что стали только обузой для римской армии, и уговаривали нас умертвить их и сообщить императору, что они до конца исполнили свой долг.
Конечно, мы разубеждали их в этом, причем Салмо это удавалось гораздо лучше, чем мне. Он говорил, например:
— Ты вовсе не бесполезный груз, дорогой друг, а, наоборот, очень дорогой. Мы оказались далеко в чужой стране, и пополнения не будет. Осада Фрааспы потребует много жертв. Ты еще сможешь выздороветь — мой господин сумеет тебе помочь, — а мы нуждаемся в каждом солдате. Если мы убьем тебя сейчас, то это будет похоже на дезертирство, — понятно?
Солдат вытягивался по стойке «смирно», насколько это возможно лежа, и отвечал: «Понятно, опций!»
Да, Салмо наслаждался своим рангом и своим авторитетом, никогда не злоупотребляя им. Мы потерпели поражение, и Антоний поклялся отомстить этому предателю Монесу.
Осадные машины, в которых мы теперь больше всего нуждались, стали теперь только грудой обгоревших обломков, и император возложил все надежды на насыпь. Однако со стен города нас непрерывно днем и ночью обстреливали камнями и стрелами, к тому же стояла нестерпимая жара. Все это затрудняло строительство насыпи.
Нам, врачам, приходилось в основном лечить раны от стрел и тепловой удар. С последним легко справиться, если положить пострадавшего в тень и облить его ледяной водой. Но откуда здесь было взять тень и ледяную воду? Так что мы переносили больных в нашу душную палатку, а запас воды был так мал, что мы просто клали им на лоб влажную тряпку.
Гораздо хуже обстояло дело с ранами от стрел. Парфяне, очевидно, пропитывали их медленно действующим ядом, который потом проникал в тело и отравлял его. Тех, кто был ранен в руку или ногу, еще можно было спасти, сделав глубокий надрез вокруг раны, тех же, кому стрела попала в шею, грудь или живот, можно было считать погибшими.
Все большей проблемой становилось и продовольствие. Римлянам приходилось удаляться все дальше от лагеря, чтобы хоть что-то раздобыть в маленьких селах или у пастухов. При этом они нередко попадали в засады и погибали.
Марк Антоний делал все, чтобы спасти ситуацию. Он продолжал надеяться, что царь Фраат примет решительную битву, но тот был достаточно умен и предпочитал выжидать в своем укрепленном и снабженном всем необходимым городе, пока у римлян не иссякнут запасы продовольствия, воды и терпения.
Пшеница давно" кончилась, пульс теперь приходилось готовить из ячменя, который вообще-то предназначался для наших лошадей. Антоний приказал убить часть лошадей и передать их поварам для разделки. Однако римским легионерам непривычен был вкус лошадиного мяса, так что многие предпочитали голодать, чем есть своих скакунов. Это так разгневало императора, что некоторые из этих людей предстали перед судом и их жестоко высекли за неподчинение приказу. Того, кто знает, что в римской армии использовали бичи, усаженные свинцовыми шариками и узелками, не удивит, что некоторые из этих несчастных умерли во время наказания. Тем же, кто выжил, пришлось несколько дней пролежать на животе, пока не подействовали наши бальзамы и раны не начали заживать. Все очевиднее становилось, что дисциплина начала падать, поскольку людям не оставалось ничего иного, кроме ожидания, а для солдата нет ничего хуже, чем бездействие. Строительство насыпи было прекращено, потому что прошло бы еще несколько месяцев, прежде чем она поднялась бы до высоты городских стен, и слишком много солдат погибли бы при этом от вражеских стрел.
Чтобы взбодрить людей, император выслал за добычей десять легионов и три преторианские когорты. Может быть, этим он надеялся выманить врага для решающей битвы. Этот расчет оправдался, правда, совсем не так, как он ожидал.
Сначала парфянские всадники окружили наше войско, но, едва почуяв наше превосходство, умчались на своих быстрых конях. Антоний попытался преследовать их, но его люди заблудились в незнакомой местности, так что часть их отыскалась только спустя несколько дней.
Тридцать пленных и около восьмидесяти убитых — такова была наша дань врагу. Потрепанное и угнетенное войско вернулось в лагерь, преследуемое парфянскими лучниками, которые посылали свои стрелы, сами при этом находясь на безопасном расстоянии. Оставшийся в лагере небольшой гарнизон должен был охранять дамбу, но так пострадал от вылазок парфян, что ему пришлось окопаться в лагере. И без того рассерженный император разгневался еще больше и решил подвергнуть солдат децимации
[66] за трусость.
Друзья пытались отговорить его от этой крайней меры по восстановлению дисциплины. Канидий Красс считал, что в лагере оставалось слишком мало солдат, а ведь это была не их вина.
Однако Антоний, всегда прислушивавшийся к советам своих друзей, на этот раз был непреклонен. Канидий Красс предложил мне попытать счастья.
— Ты врач и египтянин, знаешь императора уже давно и можешь использовать аргументы, непозволительные для римского офицера.
— Ты имеешь в виду что-то определенное, Канидий Красс?
— Нет, — ответил он, — я предоставляю это тебе. Египетскому придворному непременно должно что-нибудь прийти в голову.
Он сказал это очень почтительно, конечно, не желая оскорбить меня, но в его словах слышалось превосходство римлянина.
— Но я римский офицер в звании трибуна, — возразил я, — пожалуйста, не забывай об этом!
— На время, Олимп, — колко усмехнулся он. — По окончании этого похода ты вернешься в Александрию и снова станешь личным врачом твоей царицы.
— Так было решено.
— Вот именно, и поэтому я повторяю свою просьбу.,
Что мне оставалось делать? Я попросил аудиенции и
вскоре был принят.
Император выглядел постаревшим, под глазами у него набухли мешки. Он стоял склонившись над столом и вполголоса диктовал что-то своему секретарю. В палатке стоял тяжелый запах пота и кислого вина.
Он отослал секретаря и предложил мне присесть.
— Глоток вина, Олимп? Или что-нибудь поесть?
Я присел на раскладной стул.
— Нет, спасибо, император, я не хочу тебя надолго задерживать. Я хотел бы только просить тебя отменить децимацию. При определенных обстоятельствах она, конечно, необходима, но здесь ты просто устроишь перед врагом зрелище, которое принесет нам только вред.
Антоний поднял сумрачное лицо и проворчал:
— Зачем ты вмешиваешься в дела военных? Кто подговорил тебя на это?
— Никто, император, только собственные размышления. Поставь себя на место царя Фраата. Он будет смотреть с башни на казнь, потирать руки и говорить: «Этот человек, должно быть, одержим Ахриманом
[67] — он делает мою работу и сам уничтожает своих людей».
Антоний ударил кулаком по столу, так что упала чернильница и скатились на пол два стила. Не обратив на это внимания, он взревел:
— Мне совершенно все равно, что подумает и сделает этот отцеубийца! Может быть, он как раз узнает, что такое римская дисциплина, и устрашится.
Я покачал головой.
— Как раз наоборот. Он поймет, что мы уже на пределе и не продержимся здесь даже до зимы. Его шпионы донесут ему, что половина наших людей больны и к тому же давно голодают.
Вместо ответа Антоний указал мне на дверь в палатке, и я вышел.
На следующее утро началась казнь. Тяжеловооруженные преторианские когорты — отборные войска — окружили плотным кольцом место, куда затем явились несчастные защитники, разбившись в группы по десять человек. Большинство из них от страха всю ночь не могли сомкнуть глаз И выглядели уставшими и истощенными, потому что нам пришлось наполовину сократить дневной паек. На лицах людей отражались различные чувства, с которыми они шли на предстоящую казнь. Ведь никто не знал, что его ждет, и можно было увидеть оптимистов, упрямые лица тех, кто говорил себе: «Будь что будет, я не сдамся», и отчаяние тех, кто не доверял фортуне и опасался самого худшего.
Мне было жаль бедных парней, поскольку я никогда не мог согласиться с подобной формой правосудия. Ведь вполне возможно, что жребий выпадет как раз нескольким храбрецам, которых заставил отступить только перевес сил противника, в то время как некоторым из тех, кто струсил, повезет и они останутся в живых.
Жеребьевку производил один из тех немногих, кто не был солдатом, чтобы ничто не могло повлиять на ее исход. Итак, один из погонщиков мулов проходил со шлемом от десятки к десятке. Каждый должен был отвернувшись вытянуть свой жребий, и те, кому доставалась одна из девяти белых палочек, были спасены. Остальные же должны были выйти и опуститься на колени перед карнификсом. Это был не профессиональный палач, а просто один из самых сильных и ловких легионеров, гордившийся тем, что может одним ударом снести голову с плеч.
И они выходили, большинство даже не медля, только некоторые качали головой, не в силах понять, как это фортуна изменила им. Они опускались на колени перед карнификсом, наклоняли голову, тот замахивался, и только в нескольких случаях ему потребовалось больше одного удара.
Я видел только начало казни, а потом ушел прочь, провожаемый укоризненными взглядами.
Должен ли я здесь похвалить дисциплину в римском войске и восхититься мужеством осужденных на смерть, которые, вытянув черную палочку, выходили из строя так молодцевато, будто им предстояло получить награду? Египетский солдат, возможно, бросился бы в ноги полководцу, умоляя его смягчить наказание и обещая исправиться. Но здесь многие вынуждены были расплачиваться за «преступление» немногих, за нескольких бедных парней, потерявших мужество, когда на них надвинулись превосходящие силы врага.
Некоторые из легионеров, с которыми я потом беседовал, отзывались о децимации весьма положительно. Да, считали они, время от времени необходимо устраивать что-нибудь подобное, и к тому же в римских легионах всегда существовал такой обычай. Никто в войске не держал зла на императора за эту казнь и не считал его извергом.
Сначала меня удивляло подобное отношение, но, подумав, я нашел это не таким уж странным. Эти люди испытывали прежде всего огромное облегчение и благодарность за то, что черная палочка досталась не им. Конечно, они сочувствовали своим менее везучим товарищам, но чувство счастья от того, что они еще раз уцелели, перевешивало все остальное. После этого люди особенно старались превзойти друг друга в исполнении своего служебного долга, не говоря уже о том, что они больше ценили приказы вышестоящих командиров и видели в них божественное Провидение. Так было и в Египте: приказы и решения того, кто восседал на троне фараонов, не подлежали сомнению или критике. Все, что исходило от повелителя или повелительницы «обеих земель», было с согласия и одобрения богов, и никто не осмелился бы противиться им.
И все-таки даже эта казнь не смогла изменить нашего положения, которое становилось все более критическим. Солнце секло раскаленными лучами палатки римлян и высушивало их настолько, что позднее, при разборке, они рассыпались, как старое печенье, но и это было еще не все.
Глава 4
Вместе с летним зноем появились мириады мух, а с ними и множество заразных болезней. Конечно, я не хочу утверждать, что здесь есть какая-то прямая связь, но до сих пор медицина не может до конца объяснить, откуда берутся эти болезни и почему зачастую они вновь так же быстро исчезают. Греки называют это лоймос, римляне — пестиленция, но начинается все одинаково: небольшая лихорадка и понос, затем рвота, боли в животе, потом больной теряет сознание и через шесть-семь дней умирает.
Главная причина этих заболеваний заключается, по-моему, в пользовании загрязненной водой, в особенности если ее берут не из-под земли, а из прудов или озер. В холодное время года это не так опасно, но летом она загрязнена личинками мух, водорослями и тому подобным. Стоит только набрать такой воды в сосуд, как она быстро протухает. Даже если процедить ее или прокипятить, все равно какая-то часть вредных веществ в ней остается, не говоря уж о том, что для многотысячного войска такие меры просто невозможно применить.
Болезни, голод и постоянные вражеские нападения совершенно обессилили римское войско. Враг нападал не только со стороны города, но и с тыла.
Из пятидесяти врачей и их помощников половина были убиты, умерли от болезней или пропали без вести. Нас с Салмо чуть было тоже не постигла такая участь.
С приходом весны даже в этой каменистой пустыне появилась какая-то растительность, и мы, врачи, время от времени совершали вылазки, пытаясь отыскать какие-нибудь целебные травы. Однажды утром мы с Салмо и еще двумя помощниками тоже отправились в такую экспедицию. Нас охранял небольшой вооруженный отряд. С тех пор как во время подобных экскурсий несколько врачей были убиты, император приказал, чтобы их постоянно сопровождало не меньше половины центурии, то есть от сорока до пятидесяти человек. Состояние наших людей было таково, что каждый хотя бы наполовину здоровый солдат необходим был для защиты лагеря. Я решил, что не стоит брать с собой такую большую охрану, поэтому с нами была только дюжина воинов.
Когда мы достигли места, то уже издали заметили, что неподалеку расположился на привал отряд примерно из десяти парфян. Они тоже почти сразу же заметили нас, вскочили, набросили свои кожаные латы, надели шлемы и схватились за оружие.
Латы служили прекрасной защитой от стрел. Они были сделаны из кожи, а их подкладка — из серики, материала, который в Риме почти неизвестен и который в Парфии благодаря торговым связям распространен достаточно широко.
Даже если стрела пробьет кожу, серика останется неповрежденной и растянется, обволакивая стрелу. Если стрела не задела никаких жизненно важных органов, ее может вытащить и сам раненый.
Наши люди еще совещались, стоит ли им вступать в бой, когда на нас обрушились первые стрелы. В ближнем бою солдат, вооруженный мечом и пикой, победит любого лучника. Они понимали это и обстреливали нас издалека. Для тяжеловооруженного легионера стрелы не очень опасны, от них его защищают латы и наколенники, но, если пострадают наши лошади, врагу очень легко будет окружить и разбить нас.
На мне была форма военного трибуна, а эти солдаты были приучены в трудных ситуациях полностью доверять своему командиру. Сейчас некогда было объяснять им, что я всего лишь врач и моя униформа служит скорее для красоты. Я беспомощно оглянулся в поисках моего Салмо, который все же дольше был в солдатах.
Салмо усмехнулся, и его здоровый глаз дерзко сверкнул. Лежа рядом со мной, он прошептал:
— Вели увести лошадей за линию огня, а потом мы будем дразнить парней до тех пор, пока у них не кончатся стрелы.
— Лошадей за линию огня! — крикнул я.
Несколько легионеров вскочили и отогнали лошадей назад. Один из них при этом был ранен в шейную вену. Рана была не смертельной, но он истек кровью и вскоре умер.
Мы, остальные, вскочили и побежали вперед, прикрываясь щитами и время от времени вновь припадая к земле. Так мы постепенно приблизились к парфянам, у которых к тому времени действительно кончились стрелы. Когда мы напали на них с диким криком, они молниеносно исчезли за одним из холмов. Мы услышали крики, а затем они вернулись с подкреплением.
— Смываемся! — крикнул Салмо. — Скорее прочь отсюда!
К счастью, это была пехота, и еще прежде, чем они
подошли к нам, мы вскочили на лошадей и умчались.
В лагере я сообщил императору о том, что с нами приключилось.
— Если еще раз случится что-нибудь подобное, — резко сказал он, — ты будешь разжалован в помощники врача!
В его словах не прозвучало ни малейшей иронии, и я воспринял их всерьез. Но я все спрашивал себя, что бы я стал делать, если бы действительно завязался бой: взялся бы за меч или бежал бы, бросив своих людей? Ответить на это я не смог, но потом, когда возникали действительно опасные ситуации, я действовал, как всякий человек, который хочет выжить.
К началу сентября положение в лагере настолько ухудшилось, что мы с оставшимися врачами решили поговорить об этом с императором. По моей просьбе коллеги собрали сведения о последних потерях, так что я смог представить императору соответствующие цифры.
— Сколько людей погибло в боях или попало в плен, тебе, император, известно лучше. За последние четыре месяца от ран и болезней умерло около девяти тысяч пятисот человек. Малярия по-прежнему свирепствует в лагере, и каждый день от нее умирает от тридцати до пятидесяти солдат. Правда, когда спадет жара, она исчезнет, но тогда придет зима с ее ночными заморозками, а твои легионеры уже так ослаблены, что парфяне разобьют их всего за несколько часов. Я считаю своим долгом, император, сообщить тебе все это.
Марк Антоний сильно постарел за эти несколько месяцев. Его и без того морщинистое лицо теперь стало похоже на потертый кошель с двумя потускневшими монетами на нем: глаза потеряли свой блеск, губы горестно сжаты.
— Благодарю тебя, Олимп. Но я тоже предпринял кое-что, и вскоре все должно как-то разрешиться.
Движением руки он попросил остальных выйти, затем, помолчав немного, задумчиво взглянул на меня.
— Ты всегда был верен мне и умел держать язык за зубами — так что почему бы и не рассказать тебе? Я приказал распустить среди парфян слух, что на следующей неделе к нам в подкрепление должны подойти пять отборных легионов Октавия. Это должно обеспокоить Фраата, и я со дня на день жду от него парламентеров. Как только они прибудут, я сообщу тебе, трибун.
Я встал и поклонился.
— Благодарю, император!
Через некоторое время действительно прибыли послы и от имени своего царя пригласили нас явиться для переговоров. Антоний был достаточно умен и не стал соваться в логово льва, а послал вместо себя двух легатов и двух доверенных лиц — Минатия Планка и Канидия Красса, а кроме того двух секретарей, которые должны были все записать, — одним из них был я.
— Раскрой глаза и уши, Олимп, и как следует рассмотри этого Фраата. Я думаю, ты лучше меня разбираешься в людях и по его лицу сумеешь прочесть то, о чем он умалчивает.
Не сказать, чтобы меня особо порадовало это поручение. Фраат слыл человеком жестоким и если был не в духе, то вполне мог приказать посадить меня на кол — такая казнь использовалась в его стране довольно часто. Осужденного сажали на острый кол, который медленно пронизывал все тело и выходил где-нибудь в районе плеча. При этом острие было слегка закруглено, так чтобы оно не повредило внутренние органы, и несчастный оставался в живых еще несколько дней, испытывая невероятные мучения.
Обо всем этом я думал, проходя через небольшие ворота в город и далее к царскому дворцу. Здесь, так же как и в Александрии, дворцовый квартал был отделен от города. Снаружи он выглядел совсем не пышно, и тем великолепнее оказались его внутренние покои. Стены были завешены пестрыми варварскими коврами, на которых были изображены сцены из жизни богов и царей. Когда я говорю «богов», то это не совсем точно, потому что парфяне следовали религии Заратустры, который — как Моисей у иудеев — отказался от древнего многобожия, и в основе его учения лежала вечная борьба добра и зла.
Царь Фраат восседал на искусно сделанном золотом троне, спереди по углам его украшали фигуры двух рычащих львов. На повелителе была тиара парфянских царей, его подбородок и щеки обрамляла искусно завитая и уложенная борода, так что прочесть что-либо по его лицу было довольно трудно.
Едва мы поклонились ему, он на ломаном греческом обратился к нам с язвительной речью, содержание которой я передаю только в общих чертах.
— Смотрите, смотрите, наконец-то они явились, посланники благородного Антония, который слишком труслив, чтобы самому предстать передо мной. Теперь-то причина этого очевидна: он боится меня, боится непобедимого парфянского войска. В отчаянии он приносит сотни собственных солдат в жертву бессильным римским богам — божествам из камня, чьи имена улетучатся, как дым перед ликом вечного Ахура Мазды, — царь поклонился, произнося это имя, — который победит в конце духа зла Ангро-Майнью.
Он и дальше продолжал говорить в том же тоне, насмехаясь над нашими осадными машинами, которые как раз годятся, чтобы сгореть в костре, согрев на несколько часов храбрых воинов. В продолжение всей этой речи он держал на коленях великолепно сделанный лук, поигрывая тетивой, натягивая и отпуская ее. Окончив говорить, он требовательно поднял руку, и тотчас к нему поспешил раб и, опустившись на колени, передал ему колчан со стрелами. Повелительным жестом он велел нам отойти в сторону и выпустил одну стрелу. Мы обернулись и увидели, как в открытых воротах рухнул наземь связанный полуголый человек. Снаружи втолкнули еще второго, третьего и четвертого. Все они были убиты меткими выстрелами царя под громкое ликование придворных. Потом все тела вынесли и поспешно вытерли кровь с мраморных плит.
— Это были римляне! — торжествующе воскликнул Фраат. — И так же, как я уложил их одного за другим, так же и мое войско уничтожит вашу армию — солдата за солдатом!
Он отложил лук и, подавшись вперед, продолжал спокойным, почти льстивым голосом:
— Но Ахура Мазда
[68] дает вам возможность спасти остатки римского войска — передайте это вашему императору! — если он немедленно уведет все свои войска. Я даю вам три дня срока — после этого любой римский солдат, оказавшийся в пределах досягаемости наших стрел, будет убит! Вы поняли? Три дня, а потом чтобы я больше не видел и не слышал ни одного римлянина, чтобы и духу вашего здесь не было!
Возглавлявшие нашу миссию Минатий Планк и Канидий Красс переглянулись. Планк слегка пожал плечами, а Красс, известный своим мужеством, выпрямился и сказал:
— Могу ли я ответить, мой царь?
— О чем тут еще говорить?
— Сначала одно общее замечание. Судя по твоим словам, ты считаешь себя победителем римлян. На это я должен сказать тебе — также и от имени императора, — что решающего сражения не состоялось и поэтому победитель не может быть назван.
При этих словах по рядам придворных пробежал возмущенный ропот. Однако это, казалось, вовсе не смутило Красса.
— И во-вторых, история доказывает, что Рим быстро оправляется после любой неудачи, потому что боги, которых ты оскорбляешь, определили Риму властвовать над миром. Риму — а не грекам, галлам, германцам, не сирийцам, не македонянам и не парфянам! Мы вернемся вновь, и если до этого тебя еще не свергнут с трона, то это сделаем мы — с тобой или с твоим преемником. Римское войско уже завоевало большую часть мира, и Парфия не будет исключением.
В зале воцарилась тишина, все затаили дыхание. В голове у меня шумело. «Сейчас, — думал я содрогаясь, — должна решиться наша судьба. Нас всех поставят на стену и сразят стрелами, а Антонию останется только беспомощно взирать на это».
Фраат внимательно выслушал все, и я не поверил своим ушам, когда он сказал:
— Канидий Красс, я должен поблагодарить тебя! Ты предоставил мне возможность хоть раз в жизни увидеть мужественного римлянина. Ты мой враг и сознаешь это — почему же ты должен говорить иначе? Мне неизвестно будущее народов, но я знаю, что ни одному царству не суждено богом возвыситься над другими, даже если и кажется, что Риму уготована власть над миром. Вы никогда не завоюете Парфию — при мне или моем преемнике. Итак, Красс, не забудь сказать твоему императору, что у него есть три дня, чтобы увести свое войско. Если этого не сделает он, это сделаем мы. Но если он выполнит мои условия, то я готов объявить перемирие.
Мне стало так дурно, что я с трудом мог заставить себя вести дальше свои записи. Страх холодной рукой сдавил мне внутренности. Теперь, когда опасность миновала, желудок мой подкатил к горлу и меня чуть не стошнило. Только чрезвычайным усилием удалось мне сдержаться, пока мы не оказались за воротами города, а там я поскорее бросился в сторону. Красс засмеялся:
— Тебе тоже стало плохо при виде этого пугала и от его глупых речей? Жаль, что ты не заблевал ему тронный зал!
Я был благодарен Крассу за то, что он обратил в шутку весь мой страх. Хотелось бы сказать о нем несколько слов. В последующие годы он всегда был самым верным сторонником Антония.
Канидий Красс происходил из какого-то незнатного рода и был типичным «homo novus» («человеком новым»). Он стал консулом и легатом, а затем, при Антонии, проявил себя способнейшим полководцем. На первый взгляд в нем не было ничего примечательного: он был коренастый, довольно низкого роста и почти лысый. Лицо его выражало ум и железную волю. Он прекрасно владел собой, никогда не повышал голоса и не показывал своих чувств — ни радости, ни гнева, ни горечи, ни воодушевления. Никогда он не поддерживал обличительных разговоров против Октавия и тем не менее — даже когда от этого зависела его жизнь — не перешел на его сторону.
Антоний был достаточно умен, чтобы принять требование парфянского царя. Он приказал как можно скорее свернуть лагерь. При этом пришлось оставить вновь изготовленные катапульты — зачем они были нам в пустыне? Солдаты явно вздохнули с облегчением, однако никто и не подозревал, что самое трудное ждало нас еще впереди.
Царь Фраат повел себя как настоящий варвар — коварно и вероломно. Римская империя всегда точно соблюдала заключенные договоры, даже когда это было довольно трудно, — и от этого во многом зависели ее успехи и процветание. Парфяне же любыми средствами пытались нанести нам возможно больший урон.
Антоний буквально кнутом погонял своих людей, так что уже утром третьего дня ему удалось оставить лагерь.
У нас было довольно много больных, и надо было придумать, каким образом можно было транспортировать их. Нельзя было оставлять их на поругание парфянам, которые обрекли бы их на мучительную смерть.
Я приказал частично разобрать бесполезные теперь катапульты и соорудить из них что-то вроде саней. Изготовить их было проще, чем повозки, к тому же в пути им не грозили никакие поломки колес. Наши кони, против ожиданий, были в хорошей форме. Растительность в этой полупустыне была убогая, но все же ее хватало им на пропитание. Почти треть всадников погибла в боях или от болезней, поэтому у нас было достаточно лошадей, чтобы вывезти всех наших раненых и больных.
Я не побоюсь сказать, что Антоний при свидетелях неоднократно хвалил мои действия и распоряжения и говорил, что из меня получился бы неплохой римлянин, потому что я умею ухватить самую суть и действовать, не заботясь о собственной персоне. Мне и в голову не приходило возражать ему. Я просто вел себя как врач, который чувствует ответственность. И если я заботился о благополучии римской армии, то не в последнюю очередь потому, что от нее зависела судьба нашей царицы.
Едва мы оставили лагерь, как с тыла на нас напали парфяне, подобно стае волков. Нам пришлось обороняться, никто не предполагал, что Фраат так скоро нарушит свое слово.
Антоний считал, что это был самостоятельный отряд, который еще не знал о заключенном перемирии, и что парфяне не будут больше досаждать нам. Это вполне соответствовало его добродушной натуре — он склонен был доверять даже парфянскому царю, известному своим вероломством.
В этой схватке убитых было немного, но у нас прибавилось раненых, которые еще более затруднили наш отход.
Антоний, впрочем, не был уверен в своих предположениях, поэтому обратно решено было возвращаться кружным путем, через «дружественную» или, во всяком случае, менее опасную Армению. Таким образом, сначала нам предстояло идти на север до пограничной реки Араке, а оттуда вдоль Евфрата — в Сирию.
У нас не было проводника, который знал бы эту местность, и мы блуждали вслепую по этой «terra incognita», вновь и вновь подвергаясь нападениям отрядов парфян. Они делали все, чтобы затруднить наше отступление. Если мы приближались к ущелью, то могли быть уверены, что вверху притаились вражеские лучники, которые только и ждут, пока мы разделимся на небольшие группы. Поскольку тропа была узкой, по ней нельзя было двигаться быстро, и мы являлись для них прекрасной мишенью.
После нескольких таких нападений, когда мы понесли большие потери, император приказал, чтобы каждый раз, перед тем как мы войдем в ущелье, более сильные и ловкие легионеры очищали бы сначала его склоны от врагов.
Этот метод оказался очень успешным, даже несмотря на то, что наш авангард нес при этом большие потери. Затем парфяне изменили тактику и стали запирать проходы завалами из камней. Чтобы разобрать их, требовался не один час, и это как раз соответствовало намерениям врага — задержать нас до наступления зимы.
Порой мне казалось, что мы просто не сможем пережить еще одну зиму. Добывать продовольствие становилось все труднее, жители окрестных сел спасались бегством, едва заслышав шум нашего войска. Так что зачастую нам приходилось питаться только травами и кореньями. В отличие от скота, человек не очень хорошо переносит подобную пищу. Вскоре наши люди обнаружили траву, которая на первый взгляд была вполне съедобной и даже вкусной, но оказывала какое-то странное действие на рассудок.
Человек, попробовавший ее, вел себя так, будто опорожнил два кувшина вина: бормотал какую-то чушь, и если вовремя не дать ему рвотное, то через несколько часов он умирал. Врачам пришлось строго-настрого запретить рвать эту траву, пока все не поняли наконец, насколько она опасна.
Враги придумали еще одну хитрость. По пути мы будто бы случайно встречали каких-нибудь торговцев, которые сносно говорили по-гречески и, казалось, хорошо знали местность. Они приветливо указывали нам дорогу, однако потом мы обнаруживали, что она была неверной. Нам приходилось возвращаться, и мы вновь теряли время.
Но и это было еще далеко не все. Когда мы спускались в долину с нашими усталыми, измученными и голодными лошадьми, мы обнаруживали только сгоревшие поля пшеницы и зараженные или отравленные колодцы и источники. Иногда они были забросаны трупами, среди которых нередко попадались также тела римских легионеров. При других обстоятельствах это разожгло бы в солдатах гнев и боевой дух, но сейчас каждый хотел как можно скорее убраться из этой проклятой страны.
Разве можно упрекать бедных парней в том, что некоторые из них переходили на сторону врага, видя в этом единственное спасение. Истощенные, измученные жаждой, больные или искалеченные, они с трудом пробирались по этой безжалостной пустыне, каждый день подвергаясь всевозможным опасностям и зная, что на следующем привале их, может быть, ждет отравленная вода, а утолить свой голод они смогут только крошечной порцией мяса и для этого им придется убить очередного коня или мула.
Каждому было ясно, что дезертиров и перебежчиков ждала позорная смерть, и все же подобные случаи время от времени происходили, до тех пор пока не стало известно, как поступали с этими несчастными. Парфяне ради забавы подвергали их мучительной смерти: ослепляли, отрезали уши, носы и гениталии и отсылали к нам обратно. Так что желающие спастись бегством теперь предпочитали лучше голодать вместе с товарищами.
Когда наши с Салмо лошади погибли, император сразу же приказал дать нам других, потому что, сказал он, здоровье и подвижность его врачей для него важнее, чем удобство нескольких легионеров. Теперь даже многие из офицеров шли пешими, чтобы сберечь силы истощенных и измученных коней, в надежде, что мы когда-нибудь встретим несгоревшее поле пшеницы и пригодную для питья воду. Однако цель эта казалась невообразимо далекой. К тому же враг вовсе не собирался оставлять нас в покое, и мы несли все новые потери. В конце концов несколько опытных офицеров предложили императору при следующем нападении образовать «черепаху».
Потренировавшись несколько раз, легионеры вскоре смогли на практике применить этот прекрасный способ защиты.
При этом легковооруженные солдаты; вьючные животные и всадники собираются в центре, а тяжеловооруженные воины образуют снаружи вокруг них что-то вроде прямого угла и, опустившись на левое колено, поднимают свои большие выпуклые щиты, так чтобы между ними не оставалось ни малейшего зазора. Центр прикрывают воины с плоскими щитами, и лишь по чистой случайности стрела может поразить кого-нибудь.
Парфянским лучникам издалека показалось, что это их выстрелы повергли солдат наземь. Они отбросили свои луки и устремились вперед, чтобы добить врага длинными пиками. Однако римляне вдруг вскочили и устроили им ужасную резню. Лишь немногим удалось спастись бегством, но они рассказали остальным об этой римской хитрости, так что больше уже парфяне на нее не попадались.
В таких обстоятельствах даже мне приходилось иногда защищать свою жизнь с оружием в руках.
Тяжелее всего пришлось нам, когда среди врагов уже разнеслась весть о нашей «черепахе». После первой атаки лучники откатились назад и на нас бросились сотни тяжеловооруженных парфян. Прежде чем нам с Салмо удалось пробиться к центру, на нас накинулись двое парфян с длинными кривыми мечами.
В Салмо проснулся прежний боевой дух, он спрыгнул с лошади и с такой силой вонзил копье в напавшего на него врага, что оно отбросило того на несколько шагов назад.
Мне, с моим коротким широким мечом, пришлось труднее, но страх смерти пробудил во мне силы, о которых я и не подозревал. Противник ранил меня в запястье, и я, пошатнувшись, выронил меч. Салмо поспешил мне на помощь со своим копьем. Парфянин повернулся к нему. Не раздумывая, я выхватил из сумки костеподъемник и метнул его в лицо врагу. Те, кому знаком этот инструмент, знают, каким грозным оружием он может стать. Задев противнику скулу, он угодил ему в глаз. Охваченный жаждой убийства, я нанес ему еще удар по черепу. Вскинув руки, парфянин с хрипом рухнул наземь.
Вынув из него свой медицинский инструмент, превратившийся в оружие, я вытер остатки мозга о плащ, совсем как после проведенной операции, Салмо куда-то исчез, бой несколько отодвинулся, парфяне, казалось, отступают. Я отыскал свой меч, хотел поднять его и тут только заметил, что моя правая рука бессильно повисла и с нее течет кровь. Подняв меч левой рукой, я спрятал его обратно в ножны и затем осмотрел рану. К счастью, кость была не задета, но порез был настолько глубок, что только через несколько дней я вновь смог пользоваться рукой.
Тогда я не осознавал этого, и только позднее мне стало ясно: война, особенно если она длится так долго, все более ожесточает людей, и вещи, которые возмутили бы тебя раньше, теперь совершенно не трогают. Как раз это произошло с римлянами. И тем не менее еще находятся те, кто говорит о нравственной ценности войны, ссылаясь при этом на философа Гераклита
[69] и его
губительное утверждение: «Война — отец всех вещей». Война, по их мнению, обостряет чувства, способствует пробуждению творческих сил и быстроте действий и служит движению человечества вперед.
Может быть, для каких-нибудь высших офицеров это и верно, но для массы простых солдат война не приносит ничего, кроме увечий, страданий, а часто и смерти. Сражения все больше и больше отупляют их, и чужие страдания с каждым разом трогают все меньше — они превращаются в бесчувственные машины для убийства.
Не знаю, как долго мы еще были в пути — может быть, десять дней, а может, двенадцать или четырнадцать. Все были измучены усталостью, голодом и жаждой, страдали от ран и болезней. Через каждые несколько стадий кто-то падал, обессилев. Иногда, на его счастье, товарищи поднимали его и — сами совершенно ослабевшие — волокли еще некоторое время, а потом, если он так и не приходил в себя, все же бросали. Лошадей и мулов не хватало даже для больных, и многие животные были так слабы, что им не род силу был и малейший груз, так что приходилось просто вести их.
Мы с Салмо часто сопровождали отряды, отправлявшиеся на поиски продовольствия, потому что только таким способом можно было время от времени хотя бы наполовину наесться. Парфия не такая страна, где плоды можно просто срывать с деревьев. Все, что удавалось нам получить, приходилось добывать силой — разбоем, грабежом или в сражениях.
В тот день рано утром мы напали на стоянку пастухов, которые еще спали и не слышали, как мы подошли. Все они сломя голову бросились бежать. Однако мы и не думали преследовать их, а набросились на то, что они оставили: молоко, сыр, хлеб и несколько мешочков сушеных фиников и фиг. Мы без разбора хватали все, что попадалось под руки.
Никто и не думал о том, чтобы поделиться с другими или принести что-нибудь войску. Каждый кусок сыра и глоток молока, каждый финик означал возможность выжить.
Центурион торопил нас:
— Прочь! Нам надо поскорее убираться! Если парфяне застанут нас здесь, нам конец!
— Он прав, — сказал Салмо, — надо сматываться!
Тут взгляд мой упал на кучу необработанных овечьих шкур, испускавших отвратительную вонь. Мне показалось, что там что-то шевельнулось, и из любопытства я решил взглянуть на них поближе. Спрыгнув с лошади, я несколько раз ткнул в эту кучу мечом. Кто-то взвизгнул, и из-под окровавленных, облепленных мухами шкур высунулась тонкая рука. Салмо схватил ее и вытянул на свет девочку лет двенадцати или четырнадцати, которая сразу же закрыла глаза и задрожала.
На ней была короткая полотняная рубашка: что-то вроде простой туники без рукавов. Она стояла перед нами, вся перепачканная кровью и навозом, и чресла мои наливались неодолимой похотью. Пока я был голоден, страдал от жажды и постоянно должен был бороться за жизнь, во мне, разумеется, отсутствовало всякое стремление к противоположному полу. Но теперь я был сыт, и желание охватило меня с такой силой, что я не раздумывая сорвал с девочки одежду и силой овладел ею, повалив на вонючие шкуры. Меня не трогал ни жалобный визг девочки, ни присутствие Салмо, ни угроза нападения парфян.
Потом я встал и обратился к Салмо, который стоял от меня в нескольких шагах, повернувшись спиной:
— Давай займись! Кто знает, когда ты снова встретишь девушку.
Он обернулся и спокойно ответил:
— Я понимаю, мы на войне, но ты совершил противное Богу дело. Тот, кто обесчестил девушку, должен превратиться в камень — так говорит наш Господь. Здесь некому судить тебя, но Господь покарает твоих потомков до третьего колена.
— Я не иудей, Салмо, и меня нельзя судить по законам вашего бога. И кроме того, теперь она уже не девушка, так что ты можешь спокойно взять ее. Потом, если вдруг парфяне тебе кое-что отрежут, ты пожалеешь, что упустил такую возможность, скажешь: «Если бы только…»
— Нет, — оборвал меня Салмо, — не пожалею. Ты не понимаешь меня, господин. Пойдем лучше!
Девочка, скорчившись, лежала на куче вонючих шкур и тихо плакала. Я даже не обернулся, уходя, и не почувствовал ни сострадания, ни сожаления.
Это только еще одно свидетельство того, как война, нужда и опасность заставляют человека измениться и выявляют в нем все самое дурное и достойное презрения.
Наконец, скорее мертвые, чем живые, мы достигли пограничной реки Аракса, бурной и широкой. Пока наши пионеры — также голодные, обессиленные или больные — искали возможность переправиться через реку, мы со страхом ожидали очередного нападения парфян. Казалось немыслимым, что враг упустит эту последнюю возможность. Однако ничего не случилось, и наши солдаты смогли соорудить какое-то подобие переправы из росших на берегу деревьев и кустов. Они связали их канатом и закрепили его на том и другом берегу. Это был шаткий и ненадежный мост. Он почти полностью скрывался под водой, когда по нему проходили лошади или повозки, однако все же выдержал. Несколько людей утонуло, упав в воду, но в конце концов все мы оказались на той стороне. Царь выслал нам навстречу небольшой отряд, который радушно снабдил нас всем необходимым. Я слышал, как Антоний сказал своим офицерам: «У Артавасда нечиста совесть! Он хочет оправдаться за свое предательство. Подыграем ему и будем держаться с ним как с другом и союзником».
Этот расчет оказался верным. Нам в избытке предоставили все, в чем мы нуждались, так что вскоре обнаружились даже отрицательные последствия этого. Люди объедались и пили вино, как воду, притом что желудки их были ослаблены и не могли справиться с этим. Это, конечно, было не смертельно, но многие при этом совершенно ослабели, так что люди, тридцать дней терпеливо сносившие лишения, теперь пали жертвой излишеств.
Антоний был не из тех, кто относится к опасности легкомысленно и беспечно. Здесь, в Армении, он решил устроить смотр своих войск и попытался рассмотреть факты, ничего не приукрашивая. Я присутствовал в кругу легатов и трибунов, когда он сказал:
— Мы потеряли около двадцати тысяч пеших солдат и четыре тысячи всадников — не только в боях, но и от болезней и лишений. Каждый легионер, погибший и оставшийся в чужой земле, для меня словно часть моего тела, как болезненная рана, которая не скоро еще заживет. Мы выдержали более восьмидесяти сражений с парфянами и в большинстве из них победили и все же не можем считать противника побежденным. Природа предоставила царю Фраату мощное оружие, против которого бессильны его враги: страна его очень обширна и сурова. Трусливый, но умный, он уклонился от прямого столкновения и теперь, должно быть, считает себя победителем. Однако мы далеко не побежденные! В конце концов Рим восторжествует, потому что боги с нами!
Речь императора была хорошо обдуманной, но любой мог вычислить, что в этом бессмысленном и бесславном походе он потерял две пятых своей армии.
Те из солдат, кто дожил до этого дня, теперь могли вздохнуть с облегчением — так, по крайней мере, нам тогда казалось. Все мы полагали, что теперь сможем спокойно перезимовать в Армении, где нас накормят и дадут все необходимое. Однако неутомимый Антоний решил собрать всех, кто мог еще выдержать путешествие, и немедленно отправиться с ними дальше к побережью. Это означало, что нам предстоит преодолеть холодные горные перевалы, где бушуют метели, и только где-то в районе Эдессы мы вновь сможем рассчитывать на то, что станет теплее. Здесь, в Армении, должны были остаться только больные и раненые, а их было немало — по моим подсчетам, от шести до восьми тысяч.
Император предоставил мне самому решать, останусь я в Армении или вместе с ним отправлюсь к сирийскому побережью, где в маленьком портовом городке Левке Коме, к северу от Сидона, его будет ждать царица Клеопатра.
Салмо давно уже стал мне скорее другом, чем слугой, и я спросил у него совета.
— Останемся здесь! — предложил он не раздумывая. — Надежную зимнюю квартиру стоит предпочесть всему остальному. Бог знает, что еще задумал Артавасд вместе с этим коварным царем. Может быть, он только и ждет, пока Антоний достигнет гор, чтобы там окончательно его уничтожить. Здесь нас хотя и немного, но армянский царь не решится схватить нас, потому что опасается расправы со стороны императора. Здесь я, по крайней мере, чувствую себя надежнее и предпочел бы остаться.
— Ах, Салмо стал труслив и предпочитает теплое местечко походным кострам и зимнему переходу, — съязвил я.
Однако мой слуга остался спокоен:
— Нет, просто я пытаюсь решить, что было бы лучше для нас обоих.
— Я тоже, и именно поэтому мы поступим иначе. Путь Антония проходит через места, куда парфянский царь не рискнет сунуться. Ведь не забывай, что это не парфяне напали на Рим, чтобы подчинить его, а именно римляне вот уже несколько столетий мечтают захватить Парфянское царство, несмотря на всю тщетность своих попыток.
Салмо ухмыльнулся:
— Да, в этот раз у них снова ничего не вышло, но продолжай, господин.
Я насмешливо поклонился:
— Спасибо, благородный Саломон, что ты мне позволяешь. Иногда я действительно спрашиваю себя, кто из нас хозяин, а кто слуга. Итак, мы отправляемся с Антонием в Сирию, потому что я не доверяю Артавасду. Он снова
перейдет на сторону парфян, потому что они ближе к нему, чем римляне. А когда это случится, я не дам и ломаного гроша за жизнь оставшихся здесь солдат. Почти все они больны, ранены и слабы, так что не могут служить серьезным противником. Артавасд знает это, и, вероятно, он уже решил передать их Фраату в качестве доказательства своей верности. Антоний должен как следует поторопиться, чтобы предотвратить такой поворот событий.
— Поворот, который существует только в твоей голове, господин, — если ты позволишь мне подобное замечание. Никто из нас не знает, что произойдет на самом деле. Но твои подозрения небезосновательны, это стоит признать. Итак, мы отправляемся вместе с императором?
— Непременно, Салмо, и через несколько месяцев ты увидишь, что я спас нам жизнь.
Позднее оказалось, что ничего из того, что мы подозревали, не случилось, и отмечу только, что этот путь с Антонием был еще более тяжелым.
За несколько дней до нашего выступления император пожелал обойти палатки с больными и ранеными.
— Знаешь, Олимп, — откровенно сказал он, — я хотел бы узнать, какое настроение у людей. Ведь полководец во многом зависит от того, насколько его ценят солдаты. Вовсе не достаточно, сидя на коне, отдавать распоряжения офицерам. Нет, каждый из моих легионеров должен чувствовать, что я забочусь о его благе и что мне небезразличны его мысли по поводу создавшейся ситуации.
— Но тем не менее это не повлияет на твои планы…
Антоний беззаботно и радостно засмеялся.
— Конечно нет, но мне действительно не все равно, что думают и чувствуют люди.
Поверите вы мне или нет, но у Антония в самом деле слезы стояли в глазах, когда он увидел страдания больных и услышал их жалобы. Для каждого он находил доброе слово и уверял, что печется только об их благе.
Антоний настолько расположил к себе людей, что они, в свою очередь, стали убеждать его не заботиться о них, а думать о собственном благе.
Если до сих пор путешествие наше (я употребляю это слово, чтобы не говорить «отступление») было трудным из-за постоянных лишений и угрозы нападения врагов, то теперь нашим единственным врагом была природа. У нас было все необходимое: провиант, сильные, выносливые лошади, теплая одежда и опытные проводники, но мы оказались бессильны перед безжалостной яростью природы.
На нас с Салмо были одеты по два шерстяных плаща, а на ногах — штаны — этот странный вид одежды, который встречается только у варваров, живущих в суровом климате. Даже лица наши, по совету местных жителей, были защищены шерстяными накидками. И все же за этот короткий переход через горы Западной Армении мы потеряли в процентном отношении больше людей, чем за время всего долгого похода в Парфии.
В этот раз лучше пришлось тем, кто ехал верхом на муле, потому что эти неприхотливые и выносливые животные — помесь осла и кобылы — лучше приспособлены для путешествия по горным тропам. А наши лошади — это дети степей, в горах они становятся неуверенными и пугливыми и то подолгу застывают на одном месте, то несутся, не разбирая дороги. Многие из них поэтому разбивались, нередко даже вместе со всадниками.
То и дело кто-нибудь замертво падал с лошади, совсем замерзнув. Мне как врачу интересно было, не спасет ли от холода вино — если, например, пить его понемногу в течение всего дня. Оказалось, что хотя после первых нескольких кружек по телу разливается приятное тепло, но затем холод чувствуется еще сильнее, так что хочется еще выпить вина. Многие так и делали, однако потом, опьянев, они падали с лошади, засыпали и замерзали.
Салмо, и всегда бывший неприхотливым, довольно хорошо перенес этот зимний переход, тогда как я несколько раз был близок к тому, чтобы упасть и больше не подняться. — Хуже всего пришлось на второй или третий день, когда мы достигли одного высокогорного перевала. Идти приходилось большей частью пешком, потому что на тропе, покрытой глубоким или обледенелым снегом, даже наши мулы застревали или скользили.
Шаг за шагом я с трудом продвигался вперед, промерзнув до костей, несмотря на теплую одежду. Снежинки облепили отверстие для рта на моей накидке, так что мне нечем стало дышать. Я откинул ее, но теперь возникла опасность отморозить нос, щеки и губы. У нас был выбор: или пройти перевал засветло, или заночевать здесь — тогда мы наверняка замерзли бы на этой бесприютной высоте.
Салмо, должно быть, почувствовал, что мне плохо, потому что старался не терять меня из виду. Чтобы как-то отвлечься, я стал думать, как выглядит теперь мой сын Герофил и насколько он подрос. Но легче всего представлялась мне ночь с Ирас. В мыслях я покрывал поцелуями все ее тело, от кончиков пальцев до лба, пытаясь вспомнить каждую мелочь: маленькую сладкую родинку слева от пупка и родимое пятнышко на левой груди, две ямки на ягодицах и дерзко топорщившийся кустик волос на лоне.
Однако все мои мысли куда-то пропали, просто вытекли, как вино из разбитой кружки, и вместе с ними исчезли и последние силы. Я упал и остался лежать. Салмо брел, почти совсем ослепнув от снега, споткнулся об меня и тоже упал. Поднявшись, он потянул меня за руку:
— Тебе нельзя здесь оставаться, господин. Вставай — пойдем! Ты должен встать!
Я ни о чем не думал. Мне вдруг стало так хорошо, возникло счастливое чувство погружения куда-то. Мне захотелось просто отдаться этой природе, которая оказалась сильнее, — как отдается женщина своему возлюбленному. При этом в голове моей мелькали какие-то странные мысли.
А затем до меня вновь донесся голос Салмо — требовательный, настойчивый, мешающий.
— Если ты останешься лежать, это будет стоить тебе жизни, господин. Ты скоро замерзнешь! До перевала остался еще час пути, а может, и меньше. Ты должен дойти — во имя Сохмет и Асклепия!
Странно: то, что Салмо заклинал меня именами ненавистных ему богов, как-то встряхнуло меня.
— Если твой Яхве
[70] услышит это… — пробормотал я.
— Я произношу эти слова только ради тебя, — мрачно сказал Салмо, помогая мне подняться.
Каким-то образом мне удалось прошагать еще два или три часа, пока мы, спустившись в долину, не достигли какого-то лесочка. Ветер стих, и снега почти не было. Мы повалились на землю и, набросив на себя шкуры и одеяла, почти тут же заснули.
Оставшуюся часть пути можно было считать просто отдыхом. Снег и мороз остались позади, в плодородных долинах Евфрата уже зацветал миндаль и колосились озимые. В городах и селениях Антония встречали как победителя, здесь он переживал бесчисленные маленькие триумфы еще до того, как устроил свой большой триумф в Александрии.
Глава 5
Переход через заснеженную Армению стоил Антонию еще восьми тысяч человек, погибших от холода или на опасных горных тропах.
Мы шли по весенней Сирии и наслаждались видом цветущих деревьев миндаля, сливы и вишни. И в это время Антоний объявил вдруг, что он не собирается идти в Александрию, как было запланировано раньше, потому что царица сама выступила ему навстречу. Почему местом встречи был выбран крохотный портовый городок Левке Коме к северу от Сидона, император, похоже, и сам не знал.
Сгорая от нетерпения поскорее увидеть Клеопатру, Антоний взял самых быстрых и сильных лошадей и отправился вперед, на юг, оставив медленно двигающееся войско.
— Ты, Олимп, поедешь со мной! Может быть, царица нуждается в личном враче…
Я был с этим согласен, потому что соскучился по Ирас, как новобрачный солдат, который, полный нетерпения, стремится домой из похода. Однако наша спешка была напрасной. В гавани Левке Коме — что означает «Белая Деревня» — покачивались в ожидании погоды только несколько рыбацких лодок и береговой парусник.
Через несколько дней прибыл личный обоз императора, и вскоре к его услугам был готов небольшой палаточный лагерь. В центре его красовался великолепный прайториум, украшенный широкими пурпурными лентами, на которых золотом был вышит римский орел.
Нетерпение императора все возрастало. По его приказу самые зоркие легионеры днем и ночью всматривались в морскую даль. Тому, кто первым заметит парус или сигнальный огонь, была обещана премия в тысячу сестерциев, что соответствовало двумстам пятидесяти драхмам: для солдата это было значительное состояние.
Чтобы как-то скоротать время, каждый вечер устраивались бесконечные симпосии, где до бесчувствия напивались, играли и занимались любовью. Антоний считал, что, пока рядом нет его царицы, он вовсе не обязан изображать из себя порядочного человека. Он велел пригласить из Сидона и Тира актеров, жонглеров и акробатов. Однако их мастерство было таким же скромным, как и города, из которых они прибыли, и вскоре он вновь прогнал их.
Странно: во время похода, преодолевая постоянное напряжение, этот человек всегда был образцом самоотверженности и дисциплинированности, а сейчас, снедаемый тоской и нетерпением, он стал ленивым и раздражительным. От него несло потом и кислым вином, нередко он напивался уже за завтраком и изводил свою личную охрану нелепыми приказаниями. Все это замечали, но никто не осмеливался возражать ему, чтобы не рассердить еще больше.
Наконец его ожидание закончилось. Это случилось в самом начале мая — всем было приказано освободить гавань, чтобы в нее мог войти флот царицы. Однако места все равно оказалось недостаточно, и часть кораблей встала на якорь снаружи, неподалеку от берега.
В «Белой Деревне» не нашлось ничего хотя бы отдаленно напоминающего царское жилище, поэтому резиденция царицы была устроена на ее великолепном корабле, сиявшем позолоченной кормой, пурпурными парусами и обитыми серебром веслами.
Встреча царственных особ — не важно, в каких они друг с другом отношениях, — это всегда событие официальное, и Антоний сделал все, чтобы придать этой сцене как можно более церемониальный характер. Но те, кто стоял вблизи, видели, что это не всегда ему удавалось. Вместо того чтобы поцеловать ее в щеку, он поцеловал Клеопатру в губы, забыв при этом о времени и о тех, кто был вокруг, пока наконец славный Мардион не заставил его очнуться, громко заговорив о чем-то незначительном. Руки его заметно дрожали, впрочем, я подозреваю, — скорее от чрезмерного /потребления вина, чем от волнения, — а может, и от того, и от другого.
Все это время я видел Ирас только издалека, а она, видимо из-за официальности обстановки, не замечала меня или делала вид, что не замечает. Теперь же она куда-то исчезла. Вместо нее ко мне подошел прекрасный Алекс и, взглянув на меня украдкой, шепнул:
— Где я могу поговорить с тобой наедине?
Мы пошли в мою палатку, где Салмо как раз наводил глянец на наш медицинский инструментарий. Я отослал его. Однако Алекс, как человек воспитанный и образованный, не торопился. С притворным интересом он вежливо расспрашивал меня о походе, однако по его пустому взгляду видно было, что он вряд ли слушает мой рассказ.
Вскоре он перебил меня:
— Нам тоже нелегко пришлось все это время. Царица очень волновалась, и нелегко было ей угодить. О вашем походе говорили то одно, то другое, а никаких сообщений о победе не было. Кроме того, три месяца назад умер Протарх.
Я вздрогнул: этот неизменно благоразумный, чувствующий свою ответственность, а иногда по-настоящему строгий канцлер и первый министр царицы — умер? Между нами всегда сохранялась дистанция, но он нравился мне: он никогда не фальшивил и не интриговал.
— Как это могло случиться? Он был нездоров?
Алекс грациозно взмахнул рукой, украшенной двумя перстнями. На одном из них — с лазуритом — вырезано было изображение царицы, а на другом — голова бога Сераписа, которого легко было узнать по калафу — головному убору в виде корзины зерна. Движения Алекса были так размеренны, что я отчетливо рассмотрел все эти детали.
— Я не врач, Олимп, а твои коллеги тоже не смогли прийти ни к какому выводу, сказали только, что из-за чрезмерной нагрузки у него возникла сердечная недостаточность. Он умер очень быстро: утром его нашли склонившимся над своим письменным пультом. Должно быть, это случилось с ним ночью за работой — счастливец. Всем нам стоит по желать такой смерти.
Последние его слова прозвучали слегка ненатурально. Было что-то фальшивое в его тоне, как будто он думает при этом только о себе, а моя кончина вовсе его не волнует. Впрочем, может, я и несправедлив к нему, но замечу наперед, что его смерть вовсе не была такой мирной, как он надеялся.
Алекс вздохнул.
— Но не об этом я хотел поговорить с тобой.
Он замолчал, рассматривая меня с вежливым любопытством. Я пытался сохранить спокойное выражение лица, но язык мой против воли произнес:
— Что-нибудь с Ирас?
Алекс неторопливо кивнул.
— Я твой друг и хотел бы только подготовить тебя. Ты и так узнаешь о нем на завтрашнем симпосии.
— О нем?
— Да, об учителе и воспитателе Цезариона и Александра Гелиоса — им теперь двенадцать и шесть лет. Николай, родом из Дамаска, очень образованный человек, и не только кабинетный ученый. Он регулярно занимается с Цезарионом физическими упражнениями и настаивает, чтобы мальчик проводил на воздухе не меньше трех часов в день.
— Очень похвально, — заметил я нетерпеливо, — но при чем тут я?
— Это касается Ирас, а ты ведь ее возлюбленный. Так что это и тебя касается.
Все это он сказал тоном терпеливого учителя, который пытается что-то объяснить своему ученику.
— Ну — и?
— Николаю вовсе не достаточно быть только воспитателем принцев. Он хочет также стать приближенным царицы и иметь влияние на нее — так, во всяком случае, мне представляется. А Ирас, видимо, не питает к нему антипатии, хотя и не поощряет его открыто. Впрочем, все это мне не совсем ясно, и теперь это уж твоя забота. На мою поддержку тебе нельзя рассчитывать, поскольку Антоний требует, чтобы я присутствовал в его свите, что для меня, конечно, лестно, и вообще…
— Да-да, я знаю, как тебя ценят, вовсе не надо это снова повторять. Во всяком случае, спасибо за предупреждение. Я буду действовать по собственному усмотрению.
Он хотел добавить еще что-то, но я уже встал и направился к двери. Конечно, это не очень вежливо, но по этой части прекрасного Алекса никто не сможет превзойти.
Когда я вошел, у царицы была Шармион, которая, как всегда, улыбнулась мне высокомерно и в то же время очень приветливо. Клеопатра погладила по руке свою горничную.
— Шармион, ты знаешь, как неохотно я отсылаю тебя, но я бы хотела остаться с Олимпом наедине. Сядь перед дверью и никого не впускай.
— Даже императора?
Я видел, что Шармион задала этот вопрос вполне серьезно.
Клеопатра вздохнула:
— В конце концов, должны быть и исключения. Итак — на пост!
— Стены у палатки тонкие, — обратилась она ко мне, — так что лучше будем говорить шепотом. Шармион не склонна к забавам, ирония ей не свойственна. Но она способна оценить шутку. Твоя Ирас совсем другая… Ну а теперь о главном: мне ведь не стоит напоминать тебе, что ты должен быть верен мне, а не императору?
— Нет, царица, не стоит.
— Не сердись, — улыбнулась она. — Ты один из немногих, кому я могу доверять. Этот поход был неудачным — так ведь?
— Да. По крайней мере, в нем не было одержано больших побед, о которых стоило бы сообщать. Я участвовал в нем с начала и до конца и могу сказать тебе — хотя я и не очень разбираюсь в военных делах: вовсе не от императора зависело то, что решающей битвы так и не произошло. Царь Фраат благоразумно уклонялся от нее, потому что он знает свою страну и понимает, что любая армия, дошедшая до его столицы, будет находиться уже на пределе своих возможностей. Она едва ли будет способна на длительную осаду. Самая большая удача этого похода состоит в том, что Антоний все же смог вывести свои легионы назад и потерял при этом только треть людей. Это звучит цинично, но на самом деле это не так. Тот, кто там был, поймет меня.
Клеопатра задумчиво взглянула на меня.
— Как ты думаешь кто повинен в этой неудаче?
— Римская государственная политика! Вот уже почти полвека они пытаются покарать парфян за злодеяния царя Митридата, который когда-то приказал убить по всей Азии около восьмидесяти тысяч римлян и италийцев. Даже призыв Помпея и ужасное самоубийство тирана не смогли ничего изменить. В итоге парфяне и по сей день остались непобежденными. Если Антоний и предпринял этот поход, то прежде всего потому, что этого ждал от него весь Рим.
Клеопатра кивнула.
— Так думаю и я, однако в Риме видят все иначе.
— Антоний сам должен дать отчет перед сенатом! У него много сторонников, он превосходный оратор и сумеет сказать там правду.
— Посмей только дать ему подобный совет! — предостерегающе сказала Клеопатра. — Он попадет под влияние Октавия и предоставит ему право решать судьбу Египта. Тогда нас вряд ли ждет что-то хорошее!
— Не думаю, — заметил я, но мне были понятны опасения Клеопатры.
Царица поднялась.
— А теперь позаботься лучше о себе и о своей Ирас. По случаю твоего возвращения я предоставила ей два свободных дня.
Ирас ждала меня у моей палатки и беседовала с Салмо. Мы поцеловали друг друга в щеку, и она сказала шутя:
— Твой слуга Салмо понимает, что женщина заслуживает внимания, и знает, как нужно себя с ней вести. Сразу видно, что иудеи были культурным народом уже в те времена, когда греки еще были троглодитами и охотились на диких свиней.
Я усмехнулся:
— Это тебе Салмо нашептал — не сама же ты придумала.
Салмо невозмутимо посмотрел на нас:
— Вам, наверное, хочется побыть вдвоем… — и поспешно удалился.
Я охотно согласился с этим — у меня не было ни малейшего желания вести долгие разговоры. Во мне еще совсем свежа была память о войне, и я знал, как ненадежна земля под ногами человека, которому постоянно угрожают несчастья, болезни или смерть, — профессия врача располагает к подобным размышлениям.
— Говорят, Николай из Дамаска ухаживает за тобой — это правда?
Она кокетливо поправила темные волосы, и ее черные глаза вызывающе сверкнули.
— Может быть — мне-то что? За мной ухаживают многие, но редко кто думает при этом обо мне, а не о царице.
Говоря это, она играла с золотой фигуркой Бастет, которая висела у нее на шее. Я заметил это, но от волнения не придал этому никакого значения.
— Ирас, я хочу знать правду. Значит ли Николай для тебя что-то? Исполняешь ли ты все, что он хотел или хочет?
— Ох, а что же он хочет? Я это знаю? Во всяком случае, в моей постели его не было — если ты это имеешь в виду.
— Но ты могла быть и в его…
— Гиппо, Гиппо, не разыгрывай из себя ревнивца! Николай — ты увидишь его вскоре, — Николай, конечно, симпатичный мужчина, но это кабинетный ученый, который говорит так напыщенно, что его с трудом можно понять. Он скорее подошел бы Шармион…
— Ах, Ирас, я так рад, что этот поход закончился. Не проходило и дня, чтобы я не скучал о тебе.
— Ты лжешь, как все мужчины!
— Теперь наконец я могу не заботиться о том, чтобы выжить… Женщина не может себе представить, каково это, когда голод, жажда и изнеможение набрасываются на тебя, подобно диким зверям, и ты не знаешь, что будет дальше, и сопротивляешься из последних сил, а потом происходит что-нибудь еще…
Она обняла меня своими сильными руками и поцеловала.
— Бедняга… Обещай мне, что никогда больше не позволишь втянуть себя в такое рискованное дело. Если Антоний потребует тебя, обратись ко мне. Я не отстану от царицы, пока она не выполнит моей просьбы.
Пока она говорила это, руки ее забрались мне под хитон и начали игру, которая закончилась тем, что мы оба сорвали друг с друга одежду и я приник к сладостному телу моей возлюбленной, повторяя: «Я люблю тебя — я желаю тебя — я хочу тебя — тебя и никого другого!»
Потом мы, тяжело дыша, лежали рядом, и Ирас тихо попросила:
— В следующий раз ты ведь не будешь так торопиться? Царица освободила меня не на два часа, а на два дня. Не выпускай все стрелы сразу, прошу тебя.
Я засмеялся.
— У меня еще кое-что осталось. А куда мне было их выпускать? У парфян нас ждали повсюду только пустые деревни, засады, голод, лишения и смерть. При нашем приближении все женщины от восьми до восьмидесяти лет спешили спрятаться. Так что наших возлюбленных звали «пика» и «катапульта» — можешь мне поверить.
Она засмеялась.
— К пике и катапульте я не буду ревновать, и все же мне больше понравится, если ты не будешь иметь с ними дела.
— Мне тоже, Ирас, мне тоже!
Спустя два или три дня я познакомился с Николаем и полностью согласился с тем, как его оценила моя возлюбленная. Это действительно был педантичный кабинетный ученый средних лет, очень умный и уверенный в своих знаниях и заслугах. Как и Алекс, он был прирожденным придворным, правда, не обладал гибкостью последнего. Он любил щегольнуть своими познаниями и был упрям, но сразу же отступал, если кто-нибудь вышестоящий настаивал на своем мнении.
Правда, некоторые из этих его черт я заметил только с течением времени. Очевидно, учителем он был все же неплохим и пользовался авторитетом у Птолемея Цезари-она — сына Цезаря. Высокий худой юноша был похож на своего отца только фигурой, а черты лица он взял у матери, и в них сквозило еще что-то детское — это было еще заметнее, оттого что Цезарион придавал такое большое значение своей только что пробившейся бородке.
Теперь это был сын Юлия Цезаря, который, будучи Птолемеем XV, делил трон со своей матерью, не принимая ни малейшего участия в управлении страной — даже позже, когда он стал взрослым, все оставалось так же. На монетах Египта и многих других восточных государств была отчеканена голова Клеопатры — вместе с Антонием, — а ее соправитель был обойден. Позднейшие историки и вовсе не узнали бы о его существовании, если бы не обнаружили на важных документах рядом с печатью его матери и его царскую печать.
Этой весной я, как никогда прежде, тосковал по моему родному городу с его библиотеками, мусейоном, роскошными садами, храмами и дворцами. Я соскучился по моей врачебной практике, мне надоело лечить раны. Я заметил за собой и еще одну странность. В походе я быстро свыкся с различными неудобствами в отношении чистоты и гигиены. Все мы воняли, как козлы, и иногда бывали в таком состоянии, что могли обратить в бегство даже стадо свиней.
Теперь, когда все это было позади, меня вдруг стали раздражать отхожие места на берегу, отсутствие бани и ужасная теснота в этом разрастающемся день ото дня палаточном городке.
Однако Клеопатра хотела подождать, пока не будут получены деньги, которые она обещала для выплаты премии легионерам. Насколько я знаю, премия составляла около ста сорока сестерциев для простого легковооруженного солдата и более тысячи сестерциев для офицеров. Сам я получил две тысячи, Салмо — восемьсот.
Весной вернулись также солдаты, остававшиеся на зиму в Армении. Вместе с ними войско оказалось настолько многочисленным, что денег Клеопатры не хватило.
Марк Антоний был полководцем, который чувствовал себя отцом своих солдат. Он скорее умер бы, чем нарушил свое обещание, и он не успокоился до тех пор, пока последний солдат не получил свои сто сорок сестерциев.
Клеопатра, которая все больше опасалась, что Октавий отнимет у нее Антония и схватит его, сделала все, чтобы отговорить его от поездки в Рим. Она пообещала Алексу большую сумму, если ему удастся в этом отношении повлиять на императора. Этому неожиданно помогло известие, пришедшее из Рима. Октавий устроил там грандиозный триумф в честь своей недавней победы над Секстом Помпеем на суше и на море. Правда, при этом не упоминалось о том, что победа была одержана в основном сухопутными войсками и что победой на море он обязан только смелым нововведениям Агриппы
[71].
Это известие как раз позволило Клеопатре найти нужные доводы. Она намекнула императору, в каком свете предстанет он перед сенатом со своим неудавшимся парфянским походом, — ведь его невольно будут сравнивать с удачливым Октавием. Сила его на Востоке, и он найдет поддержку здесь, а не где-либо еще.
Антоний наконец увидел, что поездка в Рим таит в себе опасности, которые отсюда невозможно предусмотреть, и отказался от нее. Он сам собрал недостающую сумму, обложив налогами ряд подчиненных ему городов.
Теперь, когда, казалось, все было позади и к царице вновь вернулось ее обычное счастливое настроение, Антоний получил письмо от своей супруги Октавии, которая сообщала о том, что собирается приехать к нему на помощь.
Я узнал об этом от Алекса, у которого император попросил совета.
Октавия считала, что она как верная супруга — конечно, в этом ее поддерживал Октавий — должна отправиться на Восток с золотом и двумя тысячами отборных солдат.
От такого печального известия у царицы внезапно открылась лихорадка, сопровождавшаяся постоянной дурнотой и болями в желудке. Поскольку здесь, в лагере, не было еще ни одного случая малярии, я не сомневался, что это недомогание вызвано страхом и беспокойством.
Все дальнейшее я передаю со слов Алекса, которые кажутся мне достойными доверия. В случае, если бы Антоний потерпел неудачу, Алексу также пришлось бы проститься со всеми надеждами, поэтому он делал все, чтобы уговорить его развестись с Октавией.
Таким- образом бедный Антоний был поставлен перед необходимостью сделать выбор: или Рим и Октавия, или Египет и Клеопатра. При этом наша царица имела преимущества, поскольку она была рядом и склонила целый ряд своих и его друзей к тому, чтобы они повлияли на Антония.
К этому добавлялось и еще одно: непонятные отношения с Арменией. Чтобы окончательно склонить царя Артавасда на свою сторону, Антоний предложил устроить помолвку его дочери с шестилетним Александром Гелиосом и по этому поводу пригласил его в Александрию, чтобы тут вместе отпраздновать это событие. Он отправил своего доверенного Квинта Деллия в столицу Армении Артаксату. Однако тому не удалось добиться от царя ясного ответа. Когда затем Антоний узнал от шпионов, что Артавасд поддерживал связь с Октавием, император решил захватить Армению, чтобы предотвратить нежелательный поворот событий. Возможно, тем самым он хотел также исправить свою ошибку в прошлой неудачной кампании, и потом, уже с «присоединенной» Арменией в тылу, вновь выступить против парфян.
Он собирался начать поход весной и поэтому теперь был занят реорганизацией своей армии. Относительно Октавии он тоже принял решение и написал ей в Афины, чтобы она отправила солдат и деньги, сама же возвращалась в Рим, потому что он собирается в новый поход.
После этого Клеопатра тут же выздоровела, и Ирас снова стала регулярно навещать меня в моей палатке.
Я уже давно заметил правило: если между Клеопатрой и Антонием царили мир и гармония, — Ирас была послушной и страстной возлюбленной. Однако если что-то мешало их согласию, она превращалась в нимфу Эхо, как воплощенный отзвук своей госпожи.
Однажды вечером мы сидели за ужином в тесном дружеском кругу. Снаружи завывал зимний ветер, непрестанно сотрясая стены нашей большой палатки.
Император, как всегда изрядно хлебнувший вина, был полон уверенности и воодушевления.
— Этот поход будет совсем не таким, как прошлый. Мы выступим весной и пересечем горы в мае или июне — безо всякого льда и снега, мы будем лучше вооружены и у нас будут исключительно дружеские намерения. Как только мы подойдем к столице, я предъявлю царю ультиматум: полное повиновение, выдача царской казны и прочный союз с Римом или я возьму всех членов царской семьи в заложники. Так задумано, и так будет! В этот раз, дорогой Олимп, это будет не военный поход, а увеселительная прогулка, это я тебе обещаю!
Тут меня чуть удар не хватил, и я только пробормотал:
— Но… но, император, я думал, я должен только в парфянской кампании… а теперь…
Антоний оглушительно рассмеялся.
— Но ведь теперешний поход является частью парфянского. Без союза с Арменией — как бы он ни был заключен — мы никогда не сможем одолеть парфян. Ты снова будешь главным врачом и трибуном…
Дальнейшего я не слышал, потому что мне стало дурно и я поскорее выбежал вон. Я отправился в свою палатку и попросил Салмо извиниться за меня и сказать, что я заболел. Я твердо решил не участвовать в этом новом военном походе и для начала обратился через Ирас к царице. То, что сообщила мне моя возлюбленная, звучало обнадеживающе.
— Наша царица настроена благосклонно, поскольку она точно узнала, что Октавия находится на пути в Рим. Правда, ей не особенно нравится мысль об этом походе: в данный момент она считает его излишним. С другой стороны, она рада, что Антоний нашел занятие, которое удержит его вдали от Рима. Ну а теперь то, что должно остаться между нами: именем всех римских, греческих и египетских богов он пообещал ей отпраздновать триумф в Александрии.
Я удивленно поднялся на постели.
— Что? Какой триумф?
— Он убежден, что завоюет Армению. По римскому обычаю, победитель может публично отпраздновать свой триумф — тебе ведь это должно быть известно!
Ее черные глаза нетерпеливо сверкнули.
— Конечно, Ирас, только я что-то стал медленно соображать. Но если намерение императора действительно таково, значит, он окончательно выбрал Египет: после этого возвращение в Рим для него было бы равнозначно самоубийству. Но какое все это имеет отношение ко мне?
— Не будь таким нетерпеливым! Я описала царице твое состояние и сказала, что ты глубоко разочарован и считаешь, что место личного царского врача при египетском дворе, а не в римском военном лагере. Потом я сообщила ей то, о чем ты просил.
— Правда?
— Да, я сказала, что, если император будет настаивать на твоем участии в походе, ты попросишь отставки и позволения вернуться в Александрию, чтобы там вновь открыть свою лечебницу. На это царица засмеялась и сказала, что так легко она тебя не отпустит и хочет, чтобы Алекс остался с Антонием, а ты — с ней. Почему — об этом она лучше скажет тебе сама.
Я обнял мою Ирас, и мы отпраздновали нашу «победу» бурными объятиями.
Царица встретила меня очень приветливо, однако заметила:
— Никогда не пытайся больше шантажировать меня, дорогой Гиппо! Твоя должность не имеет ничего общего с поденной работой — это задание на всю жизнь. Правда, ты можешь просить меня об отставке, но я не удовлетворю твою просьбу. Я передала императору твое желание, которое полностью совпадает с моим: оставить тебя при дворе. Вскоре у меня будет для тебя важное задание, которое вновь потребует от тебя как врачебного искусства, так и дипломатической ловкости.
Увидев мое вопросительное лицо, она покачала головой:
— Не будем сейчас говорить об этом, Гиппо, — всему свое время.
Я полагал, что, отказавшись участвовать в армянском походе, я тем самым избежал большой опасности. Однако на самом деле, хотя и остался рядом с царицей, но — при некоторых обстоятельствах — я рисковал еще больше.
Глава 6
Таким образом, я не принимал участия в армянском походе императора Марка Антония. Однако в нем участвовал один из врачей, знакомых мне по парфянской кампании — как ни странно, военная служба доставляла ему какое-то непонятное удовольствие. Он-то и рассказал мне об этом походе.
Все действительно произошло так, как задумал Антоний. Царь Артавасд повел себя как союзник и позволил римским легионам беспрепятственно пройти по Армении.
Дойдя до столицы Артаксаты, Антоний тут же сбросил маску. Он направил царю послание, в котором говорилось, что его трусливое поведение в парфянской кампании обмануло его и стоило крови многих римлян. Теперь он пришел, чтобы получить возмещение и требует выдачи царской казны и сдачи всех важнейших крепостей страны. Конечно, царь ответил на это отказом и передал корону своему старшему сыну, которого в тот момент не было в городе. Артаксата была так хорошо укреплена, что Антоний даже с помощью своих осадных машин не смог бы взять ее в ближайшее время. Прошлый опыт тяжелой армянской зимы побуждал его добиться разрешения ситуации еще до конца года. Как ему удалось выманить недоверчивого Артавасда из города, вероятно, никогда не выяснится до конца. А мой свидетель, военный врач, может сообщить только слухи, которые ходили тогда по лагерю.
Было две версии. Одни говорили, что Антоний нашел предателя среди армянских вождей племен, который обманул Артавасда, послав ему известие, будто его сын Артакс побежден римлянами, его отряд разбит и положение безнадежно. По другой версии, Антоний предложил ему заключить союз против парфян и выразил настоятельное желание, чтобы он вновь взял корону у своего сына и принял участие в новом военном походе.
Я склоняюсь к первой версии, поскольку всем известно, что Артавасд был крайне недоверчив. И если уж он отдавал себя в руки врагов, на это должны были существовать очень веские причины.
Как бы там ни было, Антонию удалось перехитрить царя. Вместе со всей семьей он взял его в плен и захватил его казну, хранившуюся в столице. Старший сын, узнав об этом, бежал к парфянам, чтобы там подождать развития событий. Антоний обращался пленниками очень почтительно, но в качестве своей военной добычи он приказал, чтобы все города и крепости Армении передали ему свои сокровища. Однако те уже принесли присягу новому царю Артаксу и отказались открывать ворота. Там, где это было возможно, Антоний попытался взять их силой, так что в конце концов он привез в Александрию немалую добычу.
Тем временем царица
Клеопатра, ее сын Цезарион, придворные, личное войско царицы — оно состояло примерно из четырехсот галльских солдат — и легион римских солдат не спеша двигались на юг. По пути мы посетили знаменитый храм Солнца в Эмесе. Народ восторженно встречал царицу Египта, ведь один из ее титулов был sat-Ra — «Дочь Солнца». На нас, придворных, тоже падал отблеск ее сияния, и я с удовлетворением отмечал разницу между несчастным полковым врачом и личным врачом божественной правительницы. Во время торжественных встреч я всегда находился рядом с ней и со смешанным чувством гордости и иронии смотрел на гордых вождей арабских племен, которые, точно срезанные колосья, падали ниц перед моей царицей.
Не менее триумфальна была также встреча в Дамаске. Однако на этот раз приветствовали скорее не божественную царицу, а повелительницу Итуреи, которую Антоний передал ей в Тарсе. Дамаск лежал на границе с этой маленькой страной и постоянно страдал от набегов разбойничьих банд из Итуреи. Легионеры императора быстро положили конец этому, и теперь о Клеопатре говорили как об «освободительнице Дамаска».
То, что последовало дальше, было гораздо менее радостным, и когда все осталось позади, мы удивились тому, что еще живы. Я говорю о посещении царицей Иерусалима, столицы царя Ирода. Мы знали, что после раздела земель, произошедшего в Тарсе, Ирод стал злейшим врагом царицы, ведь она получила значительную часть его областей, и прежде всего гавани на западном побережье — ему скрепя сердце пришлось смириться с этим, чтобы сохранить трон.
Как правило, подобные решения — я имею в виду посещение Иерусалима — Клеопатра принимала сама. Но в этот раз она, казалось, была в нерешительности и попросила совета у друзей.
Ирод приглашал ее в Иерусалим — возможно, по настоянию Антония. Но можно было запросто найти дюжину уважительных причин, чтобы вежливо отказаться от этого приглашения.
— Я знаю, что мне следует делать, но не уверена, хочу ли я этого, и я вижу все опасности, которые с этим связаны. Давайте, друзья, взвесим все «за» и «против».
Как всегда в подобных обсуждениях, сначала она посмотрела на Мардиона, который уже много лет был ее верным другом и советником.
Как и многие евнухи, Мардион был человеком без возраста: кожа его была гладкой, он был все такой же маленький, кругленький и подвижный и только в тщательно уложенных волосах слегка пробивалась седина. Как всегда, он говорил свободно, открыто и без ложного почтения.
— Я полагаю, что против этого визита есть гораздо больше доводов, чем за него. Будем называть вещи своими именами: вы оба по разным причинам не выносите друг друга, и для вас лучше было бы не дышать одним воздухом. Однако ты, царица, и царь Ирод должны считаться с императором, который старается сделать вас добрыми соседями. Ирод хочет сохранить свой трон — а это невозможно без согласия Рима, то есть императора Марка Антония. Ты, царица, обязана Антонию увеличением своих владений — за счет Ирода, — и ты не хочешь его оскорбить. Но что перевешивает? Я придерживаюсь мнения, что тебе следует отказаться от визита, поскольку, как ты уже заметила, это сопряжено с опасностью. Вполне может оказаться, что Ирод задумал какую-нибудь хитрость или коварство. Он может подослать убийц, а затем выжать из них нужное признание и таким образом доказать свою невиновность. По-моему, от этого араба можно ожидать чего угодно, но только не добра.
Царица внимательно выслушала Мардиона, кивнув пару раз.
— Я могу только подтвердить твое последнее высказывание, Мардион. Все, что можно сказать хорошего об Ироде, это его дружба с Антонием, — для меня это скорее невыгодно. И все же я убеждена, что Ирод не осмелится поднять на меня руку. Как бы ловок он ни был, он не сможет устроить все так, чтобы самому при этом остаться вне подозрений.
Она спросила также мнения остальных, среди которых был и Николай из Дамаска, воспитатель ее сыновей.
Он погладил свою пышную бороду ученого и сказал:
— Божественная царица, прошу извинить меня, но я ничего не могу посоветовать ни «за», ни «против». Мне не известны ни характер, ни намерения этого царя, а без знания фактов я ничего не хотел бы говорить. Этого же принципа я придерживаюсь и в отношении твоих сыновей, поскольку греческие философы учат…
На лбу Клеопатры появились хорошо знакомые гневные морщинки.
— Достаточно, Николай, — умоляюще взмахнула она руками, — я уважаю твои принципы, даже если и не могу их одобрить.
Затем она обратилась ко мне:
— Ты, Гиппо, был моим первым послом в Иерусалиме, видел Ирода и довольно долго беседовал с ним. Принял бы ты это приглашение, будучи на моем месте?
— Есть столько же доводов «за», сколько и «против». Но раз уж ты спросила, что бы я сделал на твоем месте, то я откровенно скажу, что я не задерживаясь отправился бы в Александрию и оттуда послал бы письмо с вежливыми извинениями. Ирод приказал убить уже немало своих родственников, которые — замечу — не представляли ни малейшей угрозы для его власти. Его внешность обманчива. Он легко мог бы продать в рабство собственную мать, чтобы сохранить трон — трон, который он получил по милости Рима, а не унаследовал, как ты, светлейшая царица.
Царица кивнула и коротко обвела нас взглядом.
— Итак, большинство из вас советуют мне отказаться от визита. Но повелитель должен иногда действовать вопреки собственному благоразумию, и не следует забывать одного: если я не приму это приглашение, Ирод может расценить это как слабость и даже как враждебный акт по отношению к соседней стране. Он вынужден постоянно балансировать на своем шатком троне, он чувствует свою зависимость от Рима, от дружбы с Антонием и, не в последнюю очередь, от благосклонности Октавия. Этот человек понимает только один язык — язык силы. Я отправлюсь в Иерусалим и покажу ему, что не боюсь его, потому что, если дело дойдет до чего-нибудь серьезного, Антоний будет на моей стороне, а не на его.
Таким образом, вопрос о визите был решен. Однако один из нас наотрез отказался войти в Иерусалим — а именно мой слуга Салмо.
— Господин, ты не можешь от меня этого требовать. Конечно, в прошлый раз Ирод оказался милостив, но ведь он думал, что я никогда больше не появлюсь в Иерусалиме. Ведь он может приказать казнить меня, так сказать, в предостережение, по принципу: если нельзя ударить хозяина, стегают его осла.
Я принужден был рассмеяться.
— Но, Салмо, не хочешь же ты сравнить себя с ослом? И если уж допустить подобное сравнение, то Ирод не посмеет тронуть и волоска на наших ослах, как не станет он делать ничего, что могло бы задеть Клеопатру. Какой бы старой и прочной ни была его юношеская дружба с Антонием, однако она может не устоять перед женщиной.
Салмо в сомнении покачал головой.
— Или перед золотом, властью, больной гордостью, тщеславием, завистью — ах, господин, я мог бы назвать тебе еще дюжины причин. И ты не можешь не признать, что Ирод вспыльчивый и гордый человек, и ему ни в чем нельзя доверять. Поэтому я прошу тебя позволить мне вместе с римским легионом подождать окончания вашего визита у стен города.
Я не смог отказать ему, тем более что сам втайне разделял его мнение.
Со времени моего последнего посещения Иерусалим сильно изменился — и вынужден признать, что в лучшую сторону, хотя большинство изменений служили для безопасности и удобства даря.
Ирод выслал к нам почетную делегацию, когда мы находились еще на расстоянии двух дней пути от Иерусалима. Сам он встретил нас перед воротами города, в окружении своего великолепного двора.
Мы въехали в город через ворота Яффы и проехали мимо крепостных башен Гиппик, Фасаил и Мариамна, которым Ирод дал названия в честь своих друга, брата и супруги и которые — надо признать — были необычайно красивы и совершенно различны. Откуда-то слышались приветственные возгласы народа, однако они доносились приглушенно, поскольку наша процессия была окружена тремя рядами вооруженной до зубов личной охраны. Нельзя было не заметить громадный новый дворец, который был достроен только спустя десять лет.
Мы двигались дальше вдоль крепостных стен на север, где на горе Антония возвышался огромный комплекс, возведенный за необыкновенно короткий срок. Он представлял собой нечто среднее между дворцом и крепостью и снаружи выглядел довольно сурово, грозно и неприступно, внутри же был обставлен с изысканным вкусом.
Ирод, замечу наперед, был вовсе не труслив, но чрезвычайно недоверчив и делал все, чтобы предупредить возможное нападение. Так, вся площадь перед храмом просматривалась со стен крепости, потому что — как с небрежным хладнокровием заметил царь — именно здесь вероятнее всего может начаться восстание, и поэтому его легко будет пресечь в самом зародыше.
Вечером был устроен большой симпосий в честь Клеопатры, ее сыновей и друзей.
И в тот же день была начата опасная игра, за которой всем нам пришлось внимательно следить, чтобы она не засосала нас в свой смертельный водоворот.
Царица приняла ванну, горничные помогли ей причесаться и одеться. И сразу же после этого она пригласила меня на беседу, в которой приняли участие также Шармион, Ирас и евнух Мардион.
В последнее время я почти не упоминал про Ирас — но это потому, что в дороге, как и в других напряженных ситуациях, она отдалялась от меня и существовала только для царицы.
Без долгих предисловий Клеопатра сразу начала с главного:
— Друзья мои, сейчас мы находимся в ситуации, подобной той, когда Ирод посетил нас в Александрии, и я постараюсь встречаться с ним только при свидетелях. Уже тогда это был опасный человек, но, в конце концов, я ведь была у себя во дворце. Теперь же мы полностью в его власти, и я не знаю, какую игру он затевает. Поэтому для нашей общей безопасности я приказываю: одна из вас — Шармион или Ирас — все время должна находиться при мне — на тот случай, если Ирод неожиданно посетит меня в моих покоях. Если он захочет отослать вас, вы не должны обращать на это внимания, потому что я скажу, что мои горничные следуют только моим приказаниям. Если он пригласит меня к себе, меня будет сопровождать Гиппократ, и я скажу, что, согласно старинной египетской традиции, когда царица выезжает за пределы страны, врачу надлежит постоянно находиться рядом с ней. Если разговор будет идти о политике, при этом должен присутствовать Мардион как мой ближайший советник и доверенное лицо. Что бы ни сделал, ни приказал и ни потребовал этот араб, вы должны подчиняться только мне, его вы будете слушать, только если я позволю вам это. Думаю, ни у кого нет вопросов по этому поводу?
Нет, в этот раз никто на них не отважился.
Даже если Ирод действительно испытывал вражду или ненависть к нашей царице, это никак не проявилось на первом симпосии. Теперь иудейскому царю было около сорока лет, держался он властно и высокомерно, хотя был при этом разговорчив и обходителен. Внешне он мало изменился, только черная борода стала чуть длиннее и одет он был роскошнее, чем в предыдущую нашу встречу. Поверх длинного белого нижнего платья, расшитого золотом и отделанного бахромой, на нем была тяжелая пурпурная царская мантия. Поприветствовав гостей, он снял свою украшенную жемчужинами митру.
Симпосий оказался поистине царским. То и дело следовала перемена блюд, а в перерывах выступали риторы и придворные поэты. Однако надо всем этим витало что-то угрожающее, и это чувствовал не только я.
Когда прогест Клеопатры хотел попробовать блюда, она, улыбнувшись, покачала головой:
— Нет-нет, здесь это лишнее. Где будем мы в большей безопасности, как не во дворце нашего высокочтимого друга и соседа, благородного царя Ирода?
Таким образом демонстрировала она свое мужество.
Мариамны, супруги Ирода, не было на симпосии, и, только когда Клеопатра спросила о ней, мы узнали, что она с детьми вернулась в свою летнюю резиденцию, потому что плохо переносит жару. Вскоре выяснилось, почему царю невыгодно было ее присутствие.
Вообще Ирод не совершал ничего такого, что могло бы умалить в глазах народа его достоинство царя иудеев. Зал для симпосия был обставлен с царской роскошью, но при этом, согласно законам Моисея
[72], в нем не было никаких статуй или картин. Пол был украшен растительными орнаментами из разноцветной мозаики, так что даже самый строгий фарисей не смог бы ни к чему придраться. Стены были увешаны шелковыми коврами, на которых тоже не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего запрещенные Яхве изображения людей или животных. Ирод был последователен в этом, и я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь скульптор хоть раз сделал его статую или бюст.
В последующие дни царь всеми способами старался понравиться Клеопатре и развлечь ее. Так, мы вместе посетили переданные ей Антонием бальзамовые сады под Иерихоном, которые Ирод вновь взял в аренду и за которые ежегодно выплачивал значительную сумму. На одном из холмов на окраине города возвышался небольшой дворец, и царь не преминул заметить: «Это, собственно, твой дворец, царица, а я здесь только постоялец».
Клеопатра старалась не обращать внимания на его намеки. Никогда еще я не видел, чтобы она так следила за своими жестами и речами, как во время этого пребывания в Иерусалиме — за исключением одного случая, когда она открыто высказала свое мнение. Постепенно все заметнее становилось, что Ирод домогается Клеопатры.
Позже некоторые утверждали, будто все было наоборот, и это царица всячески старалась заманить Ирода к себе в постель. Как свидетель я могу утверждать, что все это — ложь, выдуманная римскими историками, которые готовы были на все, чтобы опорочить Клеопатру.
Сначала Ирод стал преподносить дорогие подарки: дюжину благородных племенных лошадей или изысканные украшения, найденные в Иудее в гробнице какого-то египетского правителя во время строительных работ, — как будто он хотел напомнить этим, что его страна также входила раньше в состав великого Египетского царства.
С его стороны не особенно умно было намекать царице о прежних политических отношениях, но этот бестия Ирод рассчитал все на несколько ходов вперед, и только позже мы поняли, куда он клонит.
Он присылал и менее дорогие подарки. Все они большей частью говорили о его дерзких намерениях соблазнить нашу царицу. Так, Ирод велел привести к стенам дворца несколько дюжин ослиц, подоить их и отнести их молоко в покои Клеопатры для ее знаменитых на всю Александрию «ванн красоты». И это было бы еще ничего, но подарок сопровождался одой, воспевавшей красоту Клеопатры, — настолько вызывающей, что она не сказала о ней даже своим друзьям — за исключением Мардиона, которому как наиболее приближенному лицу и евнуху полагалось это знать.
Позже он в общих чертах передал мне содержание этой оды. Вначале в ней говорилось о том, как обворожительна Клеопатра, а затем описывались ее грудь, живот, бедра и упоминалось о том, какое страстное желание вспыхивает в сердце ее возлюбленного и так далее. Ода заканчивалась цитатой из «Песни царя Соломона». За исключением ее все остальное являлось довольно жалкой поэзией, написанной в дерзком, похотливом тоне. Однако имен при этом никаких не упоминалось, и о Клеопатре говорилось как о «прекрасном и дорогом госте».
Чтобы Клеопатра не смогла использовать их во вред, стихи были написаны исчезающими чернилами, так что потом от них не осталось никаких следов.
Я сознаю, что это звучит не очень правдоподобно, но тот, кому известны последующая жизнь и деяния Ирода, знает, что, когда речь шла о власти и самоутверждении, от этого человека можно было ожидать чего угодно. Заранее скажу, каковы были намерения Ирода.
Его план состоял из трех этапов: сначала он хотел сделать Клеопатру своей любовницей, потом заключить с ней мнимый союз против Октавия — якобы в поддержку Антония, от которого они оба так или иначе зависели. И под конец Ирод хотел все это раскрыть и представить дело так, будто Клеопатра предала Антония — и лично его, и его политику. После этого ее падение стало бы неизбежным.
Ирод быстро заметил, что Клеопатра старается ни при каких обстоятельствах не оставаться с ним наедине.
Тогда, в один из жарких июльских вечеров, он пригласил ее поужинать в саду на крыше и попросил в изысканно вежливых выражениях подарить этот вечер ему одному. Она согласилась для вида и попросила меня сопроводить ее и подождать неподалеку.
Слуги внесли еду, вино и кувшины с водой, а затем по знаку Ирода вновь удалились. Царственная пара ужинала, наслаждаясь нежной прохладой ночи. Слова и жесты Ирода становились все настойчивей и откровеннее. Клеопатра вдруг тихо вскрикнула, схватившись руками за живот, пробормотала, что, кажется, слишком много съела, и срочно потребовала меня.
Ироду не оставалось ничего другого, как велеть позвать меня. Я подошел и, встав на колени перед Клеопатрой, с важным видом принялся искать в своей сумке подходящее лекарство. Размешав в вине какой-то безвредный порошок, я протянул бокал Клеопатре, и она серьезно выпила его. Ирод молча смотрел на это, и внутри у него, должно быть, все кипело от гнева.
Клеопатра попросила меня остаться. Ирод в последний раз попытался спасти положение, заметив:
— Достаточно, если Олимп, то есть я имею в виду Гиппократа, будет неподалеку, чтобы слышать, если мы его позовем. Или он должен весь вечер стоять рядом с тобой, светлейшая царица?
— Нет-нет, — сказала она. — Но я думаю, мне лучше уйти. Я никак не привыкну к этой жаре. В Александрии в это время с моря дует прохладный бриз. Благодарю тебя за прекрасный вечер, превосходную еду и интересную беседу…
Это было для него уже слишком. Почти не владея собой, он вскочил с ложа и воскликнул с укором:
— Ты благодаришь меня, царица, за прекрасный вечер — да, ты вообще очень часто меня благодаришь: за мое гостеприимство, за подарки, но наступит ли момент, когда я тоже смогу поблагодарить тебя за что-нибудь? Ты никак не хочешь пойти мне навстречу! Кто ты — женщина или статуя? Ты проглотила такой кусок моей страны, и тебе все еще мало? Если бы Антоний узнал…
Тут Клеопатра энергично подняла руку.
— Позволь мне закончить эту фразу, басилевс. Если бы Антоний узнал, чего ты требуешь от меня, он тут же сорвал бы с твоей головы корону, добытую хитростью и обманом. Я царица по рождению, а ты не более чем ставленник римского сената и зависишь от милости императора. Не заводи игру слишком далеко, иначе легко можешь потерять свою корону!
Я стоял неподалеку, и Ирод понимал, что я оказался нежелательным свидетелем этого столкновения и услышал то, что для меня не предназначалось. История учит нас, как поступают тираны в подобных случаях. Словно ища помощи, я посмотрел на звездное небо, которое ответило мне взглядом тысячи холодных светящихся глаз. Но прежде чем ужас окончательно охватил меня, я услышал голос царицы:
— Гиппо, мы уходим!
Вдруг откуда-то появились Шармион и двое дворцовых слуг с факелами.
Позже, лежа в постели и пытаясь уснуть, я так и не смог вспомнить, что ответил Ирод на слова Клеопатры. Может быть, я ничего не слышал от ужаса, а может, он просто промолчал? Я и до сих пор не знаю этого.
В последующие дни царь изменил свое отношение ко мне. Если до этого он едва удостаивал меня нескольких слов, то теперь он уделял мне все больше внимания, задавал вопросы, как будто его действительно интересовала медицина. Следует заметить, что его забота о благе народа была подлинной — что бы за ней ни стояло: расчет или действительное внимание. По его повелению в Иерусалиме наряду с дворцом возводились также школы, гимнасии и госпитали. Он приказал улучшить водоснабжение и начать восстановление старых храмов. Все в городе знали об этом и невольно восхищались им, хотя многие его и не любили.
Однажды он пригласил меня посмотреть строительную площадку недалеко от ворот Яффа, где возводился огромный дворцовый комплекс. Конечно, я спросил разрешения у царицы, и она тут же дала мне его.
— Может быть, ты что-нибудь узнаешь о его намерениях, Гиппо. Как бы ни был он умен и скрытен, иногда у него может вырваться то, о чем он предпочел бы промолчать. Но этого человека трудно разгадать, иногда он очень искусно притворяется.
— Ты имеешь в виду, что он только делает вид, будто проговорился, а на самом деле действительно хочет, чтобы узнали об этом.
Она улыбнулась.
— Да, Гиппо, это испытанный способ ввести в заблуждение, я тоже иногда его применяю.
Эта небольшая прогулка была обставлена Иродом со всей возможной торжественностью. В сверкающих золотом носилках, в окружении трех рядов суровой стражи нас доставили к строящемуся дворцу. Вокруг было довольно тихо, потому что улицы были заранее «очищены», и любого, кто не подчинился бы этому приказу, могли схватить и присудить к штрафу.
Вместе с Иродом мы прошли по сверкающим колонным залам, светлым атриумам, маленьким внутренним садикам с искусственными фонтанами. Время от времени царь объяснял, что здесь еще будет построено и как все будет выглядеть. Он увлекся, глаза его горели воодушевлением, голос, обычно резкий и холодный, потеплел и стал почти нежным, особенно когда мы вступили в ту часть дворца, которая предназначалась для Мариамны.
— Она из рода Хасмонеев, ты знаешь, и с детства привыкла жить во дворцах, но, увидев этот, она просто потеряет дар речи. До сих пор она жила как дочь из патрицианской семьи, а теперь она будет жить как царица.
Я кашлянул и решился спросить:
— Ты очень уважаешь ее, царь?
— Да, Олимп, Мариамна — это настоящее сокровище.
— Почему же тогда ты ухаживаешь за Клеопатрой?
Его черные глаза гневно сверкнули, но потом он несколько
принужденно рассмеялся.
— Я и забыл, что ты был свидетелем нашего спора. Но я благодарен тебе за это замечание, поскольку наша совместная прогулка имеет и еще одну цель.
Часть залов были уже почти готовы, и в одном из них Ирод приказал подать нам обед. Он был внимателен, вежлив и обаятелен. Мы непринужденно беседовали, и он довольно ловко — как ему показалось — смог выведать у меня вещи, которые я, очевидно, не хотел бы делать известными. Вероятно, за этот час он узнал об Антонии, Клеопатре и о положении при египетском дворе больше, чем ему когда-либо сообщали его шпионы, — во всяком случае, так ему могло показаться. Я вел себя как простодушный болтун, однако никаких настоящих тайн не выдавал.
После обеда он отослал слуг и приказал не беспокоить нас.
— Теперь мы одни, Олимп, и в дальнейшем — если ты позволишь — я буду называть тебя твоим настоящим именем.
— Я уже давно привык к тому, что у меня два имени.
— Хорошо, Олимп. Я решил предложить тебе при моем дворе должность, которая превосходит все, что ты когда-либо сможешь достичь в Александрии. Она принесет тебе богатство и почет, достойные какого-нибудь правителя. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать.
Он сказал это так приветливо и мимоходом, как будто от меня требовалось всего лишь прописать какое-нибудь лекарство. Однако это не обмануло меня, и я насторожился, чтобы не совершить какой-нибудь ошибки.
— Это очень почетное и заманчивое предложение. Его стоит всерьез обдумать. Но ты хотел сказать еще что-то, басилевс?
Я был само внимание и почтительно слушал.
— Когда спадет жара., царица отправится в Александрию, и ты вместе с ней. Она могла бы подхватить здесь какую-нибудь болезнь, которая в дороге усилится, так что в конце концов в Александрию прибудет только траурная процессия.
— Ты сказал, она могла бы, но ведь мы не хотим этого.
Ирод приветливо взглянул на меня и отпил вина, смешанного с водой и гранатовым соком.
— Я храню напитки в пещере у подножия холма Голгофы. Как приятно отведать их жарким летним днем!
— Да, это подлинное наслаждение, которого в Александрии испытать нельзя, — согласился я.
— Так вот, Олимп, ты мог бы наслаждаться так ежедневно. Я сделал бы тебя главным врачом госпиталей в Иерусалиме и руководителем ведомства здравоохранения. В твоем подчинении будет все, что связано с медициной, водоснабжением, чистотой улиц, разведением лекарственных растений и тому подобным. Я Во все это не вмешиваюсь. Конечно, кроме того, ты получил бы еще должность придворного врача. Для начала твое жалованье составляло бы талант серебра.
Вот как низко он оценивал меня! Должно быть, на моем лице отразилось разочарование, потому что он поспешно добавил:
— Конечно, я имею в виду аттический талант, а не птолемеевский…
Это было шестьдесят мин, или шесть тысяч драхм.
— Много денег, — сказал я, — очень много денег.
Теперь стало ясно, что о траурной процессии речь шла
вполне серьезно. За предложенную мне должность и шесть тысяч драхм я должен был каким-нибудь ловким способом отправить Клеопатру на тот свет. Я оцепенел и не мог. произнести ни слова.
Заметив это, Ирод сказал как бы невзначай:
— Я вовсе не требую чего-то необычного. Личные врачи уже много раз играли в истории подобную роль. Некоторые историки считают даже, что Александр Великий был отравлен своим врачом Филиппом по требованию военачальников. Это вполне понятно: им надоело только завоевывать, они хотели бы также воспользоваться тем, что уже завоевали. Что же касается нашего улучая, то для меня это что-то вроде необходимой обороны. И не только — это будет также дружеской услугой императору.
— Этого я не понимаю.
— Клеопатра медленно, но неотвратимо губит Антония. Он дает ей больше, чем полагается клиентальному правителю, он уменьшает свои собственные владения — к которым относится также и мое царство — в пользу Египта, и недалек день, когда в Риме не смогут больше мириться с этим. Это означало бы его падение. Поэтому, избавив его от этой женщины, мы оказали бы ему дружескую услугу.
Я безуспешно пытался привести в порядок свои мысли. Ситуация казалась мне все более нереальной. Может быть, все это мне снится? Как же так: царь Иудеи сидит с личным врачом Олимпом в своем недостроенном дворце и принуждает его убить египетскую царицу.
Я попытался вникнуть в суть дела.
— Позволь мне вопрос, басилевс. Представь, что я сообщу о твоем предложении царице, а она сразу пожалуется на тебя Антонию. Разве ты не рискуешь при этом?
Ирод неторопливо погладил свою черную, ухоженную бороду. Сверкнули драгоценные камни в перстнях, украшавших его узкие смуглые руки. На его умном и мужественно красивом лице мелькнула легкая улыбка.
— Я ничем не рискую и скажу, что предложение исходило от тебя, потому что при египетском дворе тебя недостаточно ценят и слишком мало платят. Тебя будут пытать и заставят сказать все, что мне будет нужно. В конце концов тебя объявят предателем и замуруют или сожгут заживо. Вот так, Олимп, — все очень просто. У того, кто сидит на троне, длинные руки.
«Выиграть время, — думал я, — выиграть время — вот что сейчас самое важное».
— Если царица заболеет на обратном пути, то на тебя, конечно, не падет никакого подозрения, но меня, личного врача, привлекут к ответу. Меня станут допрашивать и, может быть, даже пытать, и выяснится, что это было сделано по твоему поручению, так что я едва ли смогу занять эту прекрасную должность. Еще вопрос: простит ли тебе это Антоний — в подобных ситуациях он действует быстро и решительно.
Ирод несколько раз кивнул.
— Обо всем этом я тоже думал. Но как ловкий врач ты сможешь сделать так, чтобы заболела не только царица, но и, например, одна из ее придворных дам и несколько слуг. Если умрет не только она, но и несколько рабов, то не возникнет и никаких подозрений.
— Понимаешь ли ты что-нибудь в медицине, басилевс?
— Можно сказать, что нет…
— Мне лестно, что ты такого высокого мнения о моем врачебном искусстве и считаешь, что я запросто могу вызвать лихорадку. Ее довольно трудно вылечить, а уж вызвать специально — нет, басилевс, это превосходит мои возможности.
Ирод задумчиво посмотрел на меня, встал и подошел к окну. Посмотрев в него некоторое время, он обернулся.
— Мне хочется дожить до того момента, когда этот дворец будет готов. Может быть, я задумал его слишком большим. Наша жизнь подобна шаткой лестнице: мы взбираемся вверх, ступенька за ступенькой, и не знаем, выдержит ли она наш следующий шаг или обрушится и мы упадем… Нет, Олимп, в медицине я ничего не понимаю, но я говорил с одним из моих врачей, старым и очень опытным. Он сказал, что при некоторых заболеваниях врачи могут вызывать искусственную лихорадку, которая способствует выздоровлению. Если это так, то она может ведь способствовать и смерти. И тогда никто не скажет, что это сделал врач. Разве привлекли к ответу Филиппа, личного врача Александра Великого, когда его господин внезапно скончался в одну из майских ночей? Нет, никто этого не сделал. Каждый знает, что лихорадка поражает целые деревни, города и даже армии. Это бич Божий, и мы должны смириться с этим. Никто не станет подозревать тебя, Олимп, поверь мне. Когда затем Клеопатру похоронят в Александрии, ты подождешь еще некоторое время и потихоньку уедешь. Должен ли ты заботиться о семье?
Это было спасение.
— Да, басилевс, в Александрии меня ждут жена и сын. Семья моей супруги наверняка захочет меня удержать — ведь меня так долго не было, а по возвращении я обещал…
Ирод небрежно махнул рукой.
— Все это разрешимо с помощью денег. Я дам тебе несколько кошельков с золотом, и ты положишь их на стол перед семьей твоей жены. После этого они охотно отпустят тебя, поверь мне.
Теперь мне было ясно, что он не выпустит меня из рук, пока я не соглашусь с его планом. Тогда, чтобы не возражать ему, я сказал, что его предложение очень заманчиво, но надо все как следует обдумать. Он улыбнулся приветливо, и взгляд его темных глаз, казалось, потеплел.
— У тебя ведь есть еще время, Олимп. Важно только, чтобы ты понимал всю необходимость моих действий. Я не испытываю ненависти к царице, но государственные интересы принуждают меня поступить так — на благо всех людей, которые мне доверены.
Разве не слышал я уже однажды что-то подобное?
После этого Ирод снова едва замечал меня, зато стал проявлять явный интерес к Николаю из Дамаска, с которым вел долгие ученые разговоры — как не без гордости сообщал нам бородатый учитель. Хитрый арабский правитель пытался использовать в своих целях не только меня, но и Николая — и это стало совершенно очевидным, когда над всеми нами разразилась катастрофа.
Глава 7
Почему я тотчас же не отправился к царице и не сообщил ей о коварных планах нашего гостеприимного хозяина, чтобы вместе с ней обсудить наши дальнейшие действия? Я хотел еще раз обдумать все в тишине и спокойствии. Я никогда не придавал деньгам слишком большого значения — в этом я похож на своего отца. Может быть, причина этого также в том, что я никогда на самом деле не был беден и всегда находил средства к жизни. Когда я пытался представить, что можно сделать с шестью тысячами драхм ежегодно, мне ничего не приходило в голову. Все, что мне было нужно, — это жить в уютном доме, заниматься своей работой, чтобы была хорошая еда и кубок вкусного вина к ней, ну, и чтобы время от времени я мог купить книгу, которую обязательно хотел иметь. Для всего этого вовсе не нужно было шести тысяч драхм, а вполне достаточно и двух. Правда, тут я был бы чем-то вроде маленького царя — да, в случае, если Ирод сдержал бы свое слово. Но если вместо этого он потихоньку прикажет меня убить, кто тогда обо мне спросит, кто будет беспокоить царя подобными мелочами? Ирас — да, она, конечно, не успокоится, пока не выяснит мою судьбу. Она будет оплакивать меня — а потом найдет кого-нибудь другого. Хотя я и не собирался всерьез принять этот план, но все же хотел спокойно обдумать все его возможные последствия.
Таким образом, только через день я рассказал обо всем царице, постаравшись при этом, чтобы наш разговор происходил не в закрытом помещении или атриуме. Ведь нас вполне могли подслушать. История сообщает немало подобных примеров, и многим это стоило головы.
Итак, под каким-то предлогом я пригласил Клеопатру в маленький садик, находившийся к северу от дворца. Здесь было спокойно, как на уединенном острове, и гудение насекомых только усиливало это ощущение тишины.
Я попросил царицу отослать ее горничных и сказал это так серьезно, что она кивнула Ирас и двум другим дамам.
— Присядьте на скамью у ворот и сделайте так, чтобы никто не помешал нам. Очевидно, — улыбнулась она своей очаровательной улыбкой, взглянув на меня и на Ирас, — очевидно, на этот раз речь идет о жизни и смерти.
Ирас бросила на меня взгляд, серьезный и одновременно пренебрежительный, как будто говоря: «Что за дерзость со стороны этого Гиппо — отсылать нас. Наверняка то, что он собирается сказать, вовсе не так уж важно».
Подождав, пока женщины удалятся, мы сели в тени густого дуба. Все, что нужно было сказать, я продумал заранее, но теперь не знал, как начать. Я только вздыхал и беспомощно озирался, как приговоренный, ожидающий смертного приговора.
Царица начала терять терпение.
— Мне нравится бывать в твоем обществе, Гиппо, прежде всего потому, что ты всегда можешь рассказать что-нибудь интересное, но на этот раз…
Она взглянула на меня ободряюще, и в ее серых глазах сверкнули искорки любопытства.
Я не хотел сразу брать быка за рога и сначала рассказал о нашей прогулке по недостроенному дворцу Ирода, заметив:
— Спрашивается, откуда у Ирода средства на все это — ведь он, в конце концов, не царь Египта.
— Он мечтает об этом, но этому не суждено воплотиться. Однако я могу сказать тебе, откуда у него деньги. Здесь любой это знает, но тот, кому дорога жизнь, не станет об этом говорить. Ирод обвинил в государственной измене одного за другим сорок членов синедриона и приказал казнить их. Имущество этих якобы предателей отошло государству — стало быть, ему. Ну а теперь вернемся к нашему разговору.
— То, что я теперь хочу сообщить тебе, царица, не особенно занимательно, поскольку речь идет о предательстве, коварстве и об ужасном заговоре.
— Заговоры, как правило, всегда ужасны. Итак, о чем же ты собирался сказать?
— Ирод хотел подкупить меня, чтобы я убил тебя. Он предложил, чтобы на пути в Александрию я с помощью какого-нибудь яда вызвал лихорадку у тебя и еще нескольких слуг — тогда весь мир поверил бы, что это обычная малярия. Затем ты и еще несколько человек — с моей помощью — умерли бы от болезни. Он зашел в своих планах так далеко, что говорил уже о траурной процессии, которая прибудет в Александрию. Потом, спустя немного времени, я должен буду приехать в Иерусалим и принять обещанную им высокую должность, за которую мне будут платить один аттический талант серебра в год.
Клеопатра способна была выслушать даже самые чудовищные известия, не изменяя при этом выражения лица. Тот, кто увидел бы нас, подумал бы, что мы просто ведем праздный, ничего не значащий разговор в прохладной тени этого маленького, заботливо ухоженного садика.
Затем она как бы между прочим спросила:
— И ты ни минуты не раздумывал, не стоит ли тебе принять это предложение?
— 324 —
— Ты не должна была этого спрашивать, царица, — сказал я печально и опустил глаза. Тут я почувствовал легкое прикосновение ее руки на плече.
— Не обижайся, Гиппо. Это было бы вполне понятно, если бы ты…
Я перебил царицу — чего никогда обычно не делал:
— Это было бы предательством!
— Да, ты прав, мне действительно не следовало спрашивать тебя об этом. Позволь мне вместо этого поблагодарить тебя. Если Ирод оценивает мою жизнь только в один талант, то ты за свою верность заслуживаешь трех — конечно аттических.
Это еще больше оскорбило меня, и я не стал этого скрывать.
— Нет, царица. Я не хочу никаких денег. Ирод подкупал меня, чтобы убить тебя, ты тоже предлагаешь мне награду за свою жизнь. Лучше было бы, если бы при этом не было речи о деньгах. Если хочешь, ты можешь исполнить одну мою просьбу, которая тебе ничего не будете стоить.
Она кивнула.
— Если это в моих силах…
Я улыбнулся.
— О да, царица. Не могла бы ты обещать мне, что мне никогда больше не придется участвовать в военных походах?
— Согласна — но только с одним исключением. Если когда-нибудь мне самой придется вести войну, ты должен будешь сопровождать меня.
— До этого, надеюсь, дело не дойдет, — вздохнул я с облегчением.
Потом мы обсудили, как нам следует вести себя с Иродом.
— Мы уедем при первой же возможности. Мне не хочется оставаться под одной крышей с моим возможным убийцей ни на мгновенье дольше, чем это необходимо.
— Это замечательно! Я сделаю вид, что согласился на предложение Ирода и уговорил тебя уехать как можно скорее — ведь с наступлением жары в городе может возникнуть опасность заболеть малярией. Я скажу ему, что в таком случае твоя болезнь будет выглядеть еще более правдоподобно. А когда потом в Александрию вступит не траурная процессия, а триумфальная, то в глазах Ирода Гиппократ будет уже не столь искусным врачом. Во всяком случае, мне нельзя будет больше появляться в его владениях.
— Верно, но я хотела бы только напомнить тебе, как мала Иудея и как велик остальной мир.
Тут подбежала Ирас и шепнула:
— Царь идет.
Клеопатра успокаивающе улыбнулась мне и быстро проговорила:
— Я как раз объявлю ему о нашем скором отъезде. Отойдите в сторонку — и ни слова!
Тут появился и он, в сопровождении одного только слуги.
— А, вот ты где — басилисса! Прекрасная мысль — подождать вечера здесь, в этой прохладе. Я только что получил послание от Мариамны. Она хочет познакомиться с тобой до твоего отъезда и прибудет завтра после полудня.
— Как раз об этом я хотела тебе сказать, Ирод. Мой врач советует мне уехать как можно скорее, поскольку в жаркое время года в больших городах неизменно возникает опасность заболеть малярией.
Ирод вполне мог бы ответить, что Иерусалим во всем мире считается одним из самых здоровых городов: ведь он расположен над долиной Кедрон на холмах, и летняя жара здесь смягчается прохладным ветром с моря, а ночью спускается приятная прохлада. Однако ничего этого он не сказал, потому что сразу понял, чем был вызван этот мой совет.
Мне стало так страшно, как будто я оказался над пропастью на узкой качающейся доске, и я мысленно пообещал Асклепию принести ему щедрую жертву, если он поможет своему преданному слуге выбраться живым из этого затруднительного положения.
На следующий же день Ирод пригласил меня к себе под предлогом, что нуждается в каком-то врачебном совете.
— Итак, ты сделаешь это?
— Да, басилевс, и я уже кое-что предпринял. Я сказал о первых случаях летней малярии, которые уже встречаются в городе, и посоветовал царице уехать как можно скорее. Все будет так, как мы договорились. Я позабочусь, чтобы первые симптомы появились уже, когда мы приплывем в Аскалон, а затем последует и смерть.
— И ты нашел способ вызвать искусственную лихорадку?
— Мне не нужно было искать его, поскольку он был мне уже известен.
Лицо его стало напряженным, и я решил впредь лучше обдумывать свои слова.
— Стало быть, ты только притворялся, что не знаешь?
— Прости, басилевс, но кто же во время торговли заранее говорит обо всех выгодах? Теперь, когда мы заодно, я могу себе позволить быть честным.
— Видимо, я недооценил тебя, Олимп?
— Нет, для этого ты слишком умен. Это Клеопатра уже давно недооценивает меня и при этом все больше и больше сердится. Если бы она предоставила мне такую же должность, которую предлагаешь ты, у меня не было бы причин менять ее на какого-нибудь другого повелителя.
Мимолетная улыбка скользнула по его лицу.
— Менять — это хорошо сказано, Олимп, и свидетельствует, что ты не только опытный врач, но и хороший оратор. Мы всегда сможем понять друг друга, и я рад твоему согласию.
К счастью, тут мне пришла мысль потребовать денег. Ведь если бы я пошел на это предательское и опасное дело, полагаясь только на одно его слово, это сразу возбудило бы недоверие Ирода.
— Не подумай обо мне плохо, басилевс, но раз уж речь зашла о торговле, то я хотел бы попросить у тебя задаток. Предстоят расходы, возможно, мне придется заплатить кое-кому за молчание. Что-то мне придется дать моему помощнику.
Я правильно оценил его. Лицо его разгладилось, и он сказал почти весело:
— Я чуть было не счел тебя глупцом, который готов действовать ради одних обещаний. Я дам тебе половину твоего будущего годового жалованья, то есть три тысячи драхм. Потом мы вовсе не будем их учитывать — это подарок и доказательство того, что я тебе доверяю.
Кошель с деньгами мне передали позже — это были сто двадцать ауреев Антония, красивых новеньких золотых монет.
Засовывая кошель в свой багаж, я подумал, как хорошо, что искусство читать мысли — удел одних лишь богов.
Вечером Ирод устроил симпосий в честь своей супруги. Сам он присутствовал на нем только вначале. Мариамна выказывала откровенное нерасположение к супругу и держалась с ним гордо и надменно. Так что Ирод, не желая обнаруживать перед гостями свою слабость, под каким-то предлогом поскорее удалился с симпосия, взяв с собой также обоих сыновей — Аристобула и Александра, которые были еще совсем детьми. Мариамна сделала вид, будто не заметила этого. Гордая хасмонеянка, должно быть, уже поняла, что Ирод не перестанет преследовать и истреблять ее род до тех пор, пока не останется никого, кто был бы для него опасен.
В день нашего отъезда — это было в конце августа — Ирод сказал:
— Я велю принести жертву в храме, чтобы наш бог защитил тебя в дороге.
Клеопатра взмахнула руками с притворным ужасом:
— Лучше не делай этого! Яхве вряд ли будет благосклонен к язычникам, тем более что их предки обратили евреев в рабство, из которого они вырвались только ценой больших жертв. Око за око, зуб за зуб, дом за дом — вот как говорится в Писании Моисея. Ваш бог строг — вдруг твоя жертва напомнит ему о прежних временах, и он станет мне мстить.
— Как хорошо ты знаешь нашу веру, басилисса! Ладно, следуя твоему желанию, я удовольствуюсь надеждой, что ты прибудешь в Александрию в таком же добром здравии, в каком покидаешь Иерусалим.
— О, со мной ничего не может случиться, пока рядом есть Гиппократ. У него готов совет на все случаи жизни — не правда ли?
Она с улыбкой обернулась ко мне. Я поклонился и сказал:
— Марк Антоний, наш великий император, часто говорил в насмешку: «Medico tantum hominem occidisse summa im-punitas est».
[73]
Ирод взглянул на меня с ужасом, но тут же спохватился.
— Да, наш друг велик во всем — даже в шутках.
Клеопатра только молча
улыбнулась. Хотя она говорила
на шести языках, но латыни не знала. Когда позднее я сказал ей, что в этой пословице говорится о том, что только врачи могут безнаказанно убивать людей, она засмеялась так громко, что Шармион прибежала посмотреть, что случилось.
— Тебе не откажешь в мужестве, Гиппо. Во всяком случае, Ирод попался на нашу удочку, и я не упущу случая рассказать Антонию о его намерениях. Успокойся, о тебе упоминать я не буду, но император должен узнать, какого недостойного человека он до сих пор считает своим другом.
У ворот города меня встретил Салмо, и мы, весело засмеявшись, бросились друг другу в объятия. Он с нежностью оглядел меня, лицо его выражало радость и волнение.
— У меня было такое чувство, господин, что в этом городе тебе угрожает какое-то несчастье, и я уже готов был потихоньку пробраться туда, но теперь…
— Твое чувство не обмануло тебя, Салмо. При Ироде Иерусалим стал очень опасным городом. Иудеи ненавидят своего царя, и он чувствует себя в безопасности только за толстыми стенами Крепости Антония. Когда он выходит оттуда, его окружает три ряда личной стражи, а улицы заранее освобождают от народа. Ему еще не забыли и вряд ли когда-нибудь простят убийство последнего хасмонейского первосвященника.
— Кто стал его преемником?
— Ананем — человек сомнительного происхождения и без всякого влияния в обществе.
Салмо задумчиво покачал головой:
— Одна надежда, что этому арабу не суждена долгая жизнь.
Через три недели после нашего возвращения в Александрию туда прибыл Марк Антоний — окруженный сиянием победоносно завершенного похода. Он завоевал, покорил и разграбил Армению и привез с собой пленного царя Артавасда и его семью.
Однако сначала я должен рассказать о своей семье, которую я называю так за неимением другого, более подходящего обозначения.
Гектор, мой шурин, встретил меня так приветливо, что в его тоне мне сразу почудилось что-то фальшивое. Он по-прежнему поставлял посуду для царского двора, прекрасно зная, что обязан этим только мне одному, и — хвала Серапису — он не мог пожаловаться на то, что дела его идут неважно.
Спустя некоторое время мне пришлось прервать его словоизвержение, чтобы узнать что-нибудь об Аспазии и Герофиле.
— О, с твоим сыном все прекрасно — просто замечательно, Олимп. Вскоре мы отпразднуем его шестой день рожденья. Мы — я имею в виду: ты и… и… Ты ведь будешь на дне рожденья своего сына, или твои обязанности вновь призовут тебя в дорогу?
Мой сын родился в январе, так что до его дня рожденья оставалось еще больше трех месяцев. Насколько я знал, Клеопатра больше не собиралась покидать свою столицу — она сама неоднократно говорила об этом. Вопрос Гектора был задан не без иронии, и я отплатил ему той же монетой.
— На это тебе может ответить только наша царица. Я охотно устрою для тебя аудиенцию с ней.
Однако его не так легко было смутить.
— Ты ведь личный врач — да? Почему бы царице не дать тебе какую-нибудь политическую должность — тогда бы мы, по крайней мере, знали, чего нам ждать.
— Нам? Что это значит? С каких это пор вы стали заботиться обо мне и моей судьбе?
— Ты все еще женат на моей сестре, и у тебя есть определенные обязанности…
— Обязанности! — засмеялся я. — Я оплачиваю расходы по содержанию Аспазии и моего сына, и этим мои обязанности вполне исчерпываются, поскольку никаких прав за мной уже не признают. Разве твоя сестра не рассказывала, как не пускала меня в супружескую постель? А как насчет ее обязанностей? День за днем кислая физиономия и вечные жалобы на то, что ей приходится вести хозяйство вместо того, чтобы блистать при дворе, как и полагается супруге личного врача.
Гектор смущенно оглянулся и тихо сказал:
— Я скоро собираюсь жениться, Олимп, и боюсь, что тогда здесь не будет места для Аспазии. Может быть, она сможет вернуться в твой дом? Ты снова займешься своей врачебной практикой или…
— Этого я еще не знаю. Но я знаю одно: жить под одной крышей с Аспазией — это свыше моих сил. Лучше уж я куплю себе рабыню, которая будет вести мое хозяйство и при случае согревать мою постель.
Неужели она подслушала наш разговор? Аспазия вдруг появилась в дверях и сказала ворчливо:
— Конечно, речь обо мне и о том, какая я плохая жена. Но как можно любить мужа, которого никогда нет дома?
— Тогда я еще был дома, но ты вела себя так, как будто меня не было. Сколько денег мне пришлось потратить в публичных домах, потому что после рождения нашего сына ты наотрез отказала мне. Да и раньше ты тоже не особенно меня допускала. Ну а теперь хватит об этом. Где Герофил?
— Он играет с соседскими детьми, там, у Хаймона.
— А, у твоего бывшего жениха. Нашел он за это время себе жену?
— Да — меня.
— Тебя?
На ее круглом и все еще девичьем лице появилось то смешанное выражение упрямства и непокорности, которое было так хорошо мне знакомо.
— Лучше уж Хаймон, чем совсем без мужа! Я рожу ему сына.
— Ты ведь ее знаешь, — смущенно пожал плечами Гектор. — Я уже больше и не пытаюсь ее изменить.
Я покачал головой.
— Но ведь это именно Хаймона она тогда так презирала и сделала все, чтобы не выходить за него замуж.
— Но ее тоже можно понять. После твоего отъезда она по-всякому пыталась приспособиться к нам: помогала нашей матери, воспитывала твоего сына. Хаймон, очевидно, не мог ее забыть и всячески противился, когда родители подыскивали для него очередную невесту. Он ухаживал за Аспазией со свойственной для него робкой настойчивостью, и теперь она беременна от него. Разве ты этого не заметил?
Меня будто по голове ударили. Я не почувствовал никакой ревности — только гнев на это капризное и упрямое существо.
— Я дам ей развод и заберу к себе сына. Пусть теперь Хаймон о ней заботится.
Гектор вздохнул.
— Хаймон в общем-то ей подходит. Он слушает каждое ее слово, почти не возражает и в этом союзе играет женскую роль. Его родители не особенно рады: ведь эту связь можно расценить как нарушение супружеской верности. И соседи будут их осуждать…
Он замолчал, потому что вернулась Аспазия и привела Герофила. Лицо его раскраснелось от игры, серые глаза блестели, одежда была испачкана, на коленке ссадина.
— Это твой отец, подойди, обними его!
Она сказала это так ворчливо, что Герофил отшатнулся и вопросительно взглянул на мать. Что она могла ему обо мне рассказать?
Я подошел и поднял моего мальчика. Он оказался довольно тяжелым для своих пяти лет, и это вышло у меня немного неловко. Наскоро поцеловав его в пылающие щеки, я снова опустил его на землю.
— Знаешь, ты очень похож на моего отца.
— Откуда же ему знать? Он ведь не видел своего деда.
Не обратив внимание на эту колкость, я повернулся к Гектору.
— Возьми Герофила и оставь нас, пожалуйста, на некоторое время одних!
Прежде чем она смогла что-то произнести, я сказал:
— Я сейчас же даю тебе развод, и если ты считаешь, что это несправедливо, можешь идти в суд и покаяться в измене. Твоя беременность легко позволит это доказать, ведь ребенок был зачат в мое отсутствие. После этого ты можешь выйти замуж за Хаймона, но Герофила я заберу к себе. Я не хочу, чтобы он рос с вашими драчунами.
— Ах, он все такой же высокомерный — господин личный врач. А как ты себе это представляешь? Будешь ли ты жить при дворе или снова займешься своей практикой — вряд ли ты сможешь при этом воспитывать мальчика. Пятилетнему ребенку нужен постоянный присмотр и уход. Как это у тебя получится?
Этого я тоже не знал, но сказал упрямо:
— Как-нибудь устроится. Пока он может остаться с тобой, но после того, как ему исполнится шесть, я найду ему учителя или устрою его в школу при дворе. Там он будет учиться и расти вместе со сверстниками.
— Хорошо, это, может быть, выход, — неожиданно согласилась она. — Но ты не должен давать мне развод.
— Что? Как? Я тебя не понимаю… Ты предпочитаешь, чтобы тебя обвинили в прелюбодеянии?
Она позволила себе улыбнуться.
— Нет, но я могла бы к тебе вернуться. Мы попробуем еще раз, и если ты будешь жить при дворе, я снова нашла бы там моих прежних знакомых…
Теперь наконец мне стало ясно, к чему она стремилась.
— А-а, ты, наверное, снова хотела бы выступить в роли жены личного врача. А это? — показал я на ее живот. — Я, очевидно, должен признать, что являюсь £го отцом? Нет, моя дорогая, ничего не выйдет — и не только из-за твоего ребенка. Ты никогда не изменишься и станешь, как и раньше, отравлять мне жизнь. Я уже не столь юный, чтобы отважиться на этот заведомо бессмысленный опыт.
Конечно, при этом я подумал также и об Ирас, которую вовсе не хотел потерять.
Аспазия вскочила, глаза ее гневно сверкали, лицо покраснело.
— Делай что хочешь! В таком случае сына ты не получишь!
Потом она выбежала, столкнувшись в дверях со своей матерью. Деметра взглянула на дочь и вздохнула.
— Ах, Олимп, боюсь, не родился еще мужчина, который годился бы для Аспазии.
— Думаю, Хаймон как раз подходящий.
— Пока — да, но вскоре его рабская покорность ей надоест. Тогда ему вряд ли удастся хоть чем-то угодить ей.
Я поднялся.
— Во всяком случае, я даю ей развод, а о своем сыне позабочусь сам, после того как ему исполнится шесть лет.
Лицо Деметры стало печальным.
— Ты собираешься… ты хочешь забрать у меня внука? Прошу тебя, не делай этого. Если Аспазия выйдет замуж за Хаймона и у них появятся свои дети, я по-прежнему смогу воспитывать мальчика — если ты не захочешь, чтобы Хаймон стал его приемным отцом.
— Именно об этом и речь! Я не позволю взять у меня сына, хотя бы потому уже, что его мать не умеет обращаться с мужчинами. Но об этом мы еще поговорим.
Я допускаю, что отчасти из упрямства настаивал на том, чтобы самому воспитывать Герофила. Ведь я почти не видел мальчика, и мои отцовские чувства были не такими уж сильными. Так что Деметра с ее предложением появилась очень кстати, хотя я еще и не согласился на него окончательно.
Глава 8
Император появился в Александрии в сиянии славы как триумфатор и завоеватель. В доказательство своей полной победы он привез с собой закованного в цепи царя и государственную казну: дюжины воловьих упряжек, нагруженных ящиками, сундуками, мешками или просто узлами.
Царица и ее придворные ожидали его на высоком крыльце храма Сераписа, где был установлен золотой трон. Клеопатра восседала на нем как sat-Ra, как Дочь Солнца. На ней была древняя египетская корона с коршуном и простое белое облегающее платье, так что еще заметнее выделялись тяжелые роскошные украшения: браслеты, пектораль
[74] и наплечье.
Триумфальная процессия была бесконечно длинной, и император отнюдь не возглавлял ее. Прежде чем он должен был появиться как победитель, царице и народу надлежало увидеть побежденных.
Впереди шел Артавасд, царь Армении, закованный в тихо позванивающие золотые цепи, за ним — его супруга и трое детей от двух до двенадцати лет, затем несколько ближайших родственников и высокопоставленных чиновников.
Позднее я узнал, что Артавасду угрожали мучительными пытками и казнью, если он не падет ниц перед царицей Египта; однако он все же не сделал этого.
Армянский царь повел себя не так, как было предписано, а остался стоять прямо и только слегка наклонил голову. Среди придворных послышался ропот, который все усиливался и постепенно охватил народ, собравшийся внизу, у подножия храма. Давно известно, что при единовластии народ отождествляет себя с любимыми правителями, и любое проявление неповиновения или неуважения к ним подданные воспринимают как личное оскорбление и приходят в такое же неистовство, как рой пчел, когда пчеловод хватает их матку.
Тогдашний диойкет — умный и находчивый человек, который был почти ровесником Клеопатры и состоял с ней в каком-то отдаленном родстве, — выступил вперед и громко спросил:
— Артавасд, бывший царь Армении, почему ты не падаешь ниц перед троном победителя? Тебе может дорого стоить твое высокомерие.
На грубом, непривычно звучащем греческом Артавасд громко крикнул в ответ:
— Меня победила не Клеопатра, а римский император Марк Антоний, и я по-прежнему остаюсь царем, потому что нельзя по собственному усмотрению жаловать и отбирать корону. Так что я, царь Армении, с братским почтением приветствую Клеопатру, царицу Египта.
Он слегка поклонился, и Клеопатра ответила на это приветствие едва заметным кивком. Я достаточно знал ее, чтобы понять, что она не могла не отдать должное его мужеству.
Затем следовали повозки с военной добычей: знаки достоинства царя и царицы, различные драгоценности, золотая посуда, изящная мебель из эбенового и лимонного дерева, инкрустированная драгоценными камнями, перламутром и слоновой костью. Стража позволила народу приблизиться и рассмотреть все эти сокровища получше. Послышались восхищенные стоны и вздохи, которые перешли в приветственные возгласы, когда показался сам император в расшитой золотом одежде; в правой руке он держал тирс, увитый виноградной лозой и увенчанный сосновой шишкой, — жезл Диониса и его спутников, — на голове его был венок из плюща.
Как один из самых приближенных придворных я стоял в нескольких шагах позади трона и наблюдал за всем с высоты этой огромной лестницы в сто ступеней — взгляд почти с высоты птичьего полета.
Антоний спрыгнул с лошади, совсем крошечный, просто мальчик с пальчик, низко поклонился и затем медленно и торжественно один стал подниматься по лестнице, становясь все больше и различимей. И замысел этой сцены был вполне ясен: Дионис предстал перед троном Дочери Солнца, опустился на колени и поцеловал ее руку.
В этот момент меня посетило видение, и уверяю, что я не придумал ничего позже из желания изобразить себя историком-пророком.
В Египте Дионису соответствует Осирис, повелитель подземного царства, судья мертвых, бог загробного мира. Его всегда изображают в виде мумии фараона, увенчанной короной, с бичом и скипетром; кожа его всегда темного цвета: в основном зеленого, иногда черного или синего.
По египетским понятиям, Антоний предстал здесь как Осирис, а для египтян это означало, что он умер.
И на какое-то мгновение я увидел его в виде мумии, завернутой в белые полотнища, лицо и руки темно-зеленого цвета. И одновременно я почувствовал, что в жизни Клеопатры и Антония это час величайшего триумфа и подъема, после которого наступит упадок и гибель.
Я взглянул на людей вокруг: на Ирас, Шармион, Мардиона, Николая из Дамаска, Алекса и всех, кто был там в этот час. Их лица и глаза отражали сияние, окружавшее царицу и императора. Все наслаждались этим триумфом и чувствовали свою причастность к нему.
Ирас улыбнулась мне приветливо и многообещающе. На; шее у нее был мой медальон с золотой фигуркой Бастет, а это означало, что она ко мне благосклонна.
Однако мое радостное настроение прошло. Картина ужасного видения потихоньку растаяла, но забыть ее я так никогда и не смог.
Кульминацией триумфа стало «Награждение Александрии», торжественно отпразднованное через несколько дней.
О том, что произошло до этого, известно лишь немногим, и, насколько я знаю, никого из свидетелей этого события нет больше в живых, за исключением меня, личного врача Гиппократа.
Среди историков до сих пор ведутся споры, был ли заключен брак между Антонием и Клеопатрой. Никто не может сказать ничего определенного. Все лишь высказывают свои догадки и предположения и ссылаются на различные косвенные признаки, доказывающие, что это событие действительно произошло. Все, что я до сих пор слышал или читал об этом, неверно или сильно искажает факты.
Антоний и Клеопатра заключили брак на следующий день после вступления триумфальной процессии в Александрию. Это было сделано в полной тишине и при совсем немногих свидетелях, к числу которых принадлежал и я. Народу ничего не сообщалось об этом, но те, кто на следующий день внимательно наблюдали за церемонией в гимнасии, сами смогли понять это.
В народе царило радостное настроение, поскольку часть своей добычи Антоний употребил на то, чтобы в течение двух дней угощать жителей Александрии. В трактирах и кабачках, во всех гостиницах и постоялых дворах с утра до вечера жарили, пекли и варили, рекой лилось ячменное пиво, молоко и вино. И как всегда, когда что-то получают даром, не обошлось без безобразных сцен: люди ели и пили больше, чем могли, и все улицы были заблеваны. Кое-где поколотили трактирщиков, потому что заподозрили, будто они кое-что припрятали в свою пользу. В больших городах всегда так бывает, и вряд ли когда-нибудь что-то изменится.
После Брухейона и храма Серапейона гимнасий являлся самой большой постройкой в Александрии. Он занимал площадь между Семой и Воротами Солнца, ряды его колонн протянулись почти на пять стадий и охватывали множество внутренних двориков, часть которых использовалась для атлетических упражнений, а в остальных проходили занятия, на которых молодых людей готовили к посещению высшей школы. В бесконечных тенистых залах учителя и ученики могли дискутировать на различные темы, неспешно прогуливаясь при этом, поскольку некоторые из ученых мужей придерживались мнения, что покоящееся тело склонно к вялости и отсутствию интереса, в то время как движение пробуждает бодрость духа.
В центре гимнасия находился обширный квадратный внутренний двор, на котором могло разместиться от трех до четырех тысяч людей. Здесь был установлен обитый серебром подиум, на котором возвышались два золотых трона; чуть в глубине стояли еще четыре — поменьше и не такие роскошные.
На этот праздник были приглашены все знатные граждане Александрии. По самым скромным подсчетам, население города составляло тогда более восьмисот тысяч человек. Приглашенных гостей было около четырех тысяч. Это были представители старинных родов македонского, греческого, египетского и иудейского происхождения, владельцы крупных кораблей и торговых домов, придворные и несколько личных друзей этой царственной пары.
Друзья Клеопатры сидели на низеньких стульях у подножия ее трона, свита Антония стояла напротив, и я узнал нескольких легатов, знакомых мне по парфянской кампании, среди них верного Канидия Красса.
Даже нам при дворе не было известно точно, что должно было здесь состояться. Об этом ходили различные слухи, которые, впрочем, мало кого интересовали, поскольку мы и так вскоре должны были узнать правду. А она, забегу вперед, заключалась в том, что император Марк Антоний по-новому упорядочивал восточную и южную половину Римской империи.
Царица сидела по правую руку от императора, что подчеркивало ее царственное происхождение. Однако, со стороны народа, справа сидел Антоний, что соответствовало действительному соотношению власти.
На Клеопатре были все знаки достоинства Исиды: на голове ее над короной с уреем сверкал солнечный диск в окаймлении коровьих рогов, в правой руке был серебряный систр, а в левой — золотой anch — знак.
Немного спустя появились дети Клеопатры, которые заняли четыре трона пониже. Справа сидел тринадцатилетний Птолемей Цезарь, рядом с ним шестилетний Александр Гелиос и его сестра Клеопатра Селена и, наконец, двухлетний Птолемей Филадельф, которого привела за руку его нянька и который ни за что не хотел сидеть спокойно.
Антоний подождал, пока подданные насладятся великолепным зрелищем, затем поднял руку, и шум понемногу уступил место тишине — насколько это вообще возможно среди четырех тысяч человек.
Антоний поднялся. На этот раз на нем были золотые доспехи императора и пурпурный плащ, в левой руке он держал длинный римский жезл полководца. Его глухой, но сильный голос достигал самых дальних уголков двора.
— Граждане Александрии — дорогие друзья! То, о чем я сейчас сообщу, совершается в память божественного императора Юлия Цезаря и силой власти, которой наделил меня римский сенат. Я подтверждаю, что Светлейшая Клеопатра, Дочь Солнца, сестра Исиды, Повелительница Обеих Земель, является царицей Египта, и назначаю ее также повелительницей Африки, Кипра, Койлесирии и предписываю, чтобы впредь во всех приказах, повелениях, документах, а также на монетах она именовалась титулом «царица царей». Ее соправителем и будущим наследником является Птолемей Цезарь.
Антоний указал на худого высокого подростка, на голове которого была двойная египетская корона и который выглядел несколько смущенным и неуверенным. Вероятно, он хотел бы теперь быть подальше отсюда, в каком-нибудь тенистом дворцовом саду, где веселые и красивые придворные дамы, которым он, по слухам, охотно оказывал внимание, посвящали бы его в тайны любви.
— Александр Гелиос! Тебя я объявляю царем Армении, Мидии и Парфии — властвуй на благо народа и во славу Рима.
Мы упивались этой самоуверенной речью, как будто сладким вином, хотя все должны были бы знать, что Парфия по-прежнему остается непобежденной, а Мидией уже управляет римский клиентальный царь. Что же касается Армении, то хотя Антоний и завоевал ее и ее царь сидел в оковах здесь, в Александрии, но его сын остался на свободе и теперь в Парфии ожидал, когда представится возможность вновь вернуть себе свою страну.
Впрочем, для шестилетнего Александра Гелиоса эти препятствия были несущественными. На его круглом мальчишеском лице просияла широкая улыбка, как если бы мама позволила ему еще час повозиться с любимой собакой. Чтобы подчеркнуть его новое положение, его одели в парфянское платье и высокую древнеперсидскую шапку с павлиньим пером. Его сестра Клеопатра Селена, очевидно, сознавала всю важность момента, и ее милое детское личико было сосредоточенно и величественно — насколько это возможно для шестилетнего ребенка. Ей было доверено управление Киренеей — страной, граничащей с Египтом на востоке. Антоний великодушно не обратил внимания на то, что уже несколько десятилетий она, так же как и Крит, являлась римской провинцией. Так что маленькая Селена получила корону страны, которой уже управлял римский наместник. Двухлетний Птолемей Филадельф тоже не был забыт и получил Финикию, Сирию и Киликию — однако малыша это не особенно интересовало. Он угрюмо посасывал палец и, кажется, готов был вот-вот зареветь. Но прежде чем это случилось, слуга взял его за руку и подвел к тронам родителей, куда подошли и остальные дети. Все они один за другим обнимали и целовали мать и отца. Послышались ликующие возгласы гостей, и над гимнасием повеяло дуновением великой истории.
Но кто из нас почувствовал в этот момент, что наших голов коснулось ледяное дыхание предстоящей гибели?
В память об этом выдающемся дне придворные получили по нескольку только что отчеканенных денариев, на которых было наглядно запечатлено это событие. Изображение нашей царицы было обрамлено надписью: «CLEOPATRAE REGINAE REGUM FILIORUMREGUM» («Клеопатра, царица царей, и ее сыновья, цари»),
Антоний, несколько более скромный, провозглашал только: «ANTONI ARMENI ADEVICTA» («Антоний, победитель Армении»).
Это были римские монеты с латинскими надписями. Никто из римских граждан не был возмущен тем, что Антоний провозгласил себя победителем Армении. Титул Клеопатры «царица царей» они восприняли как дань восточному преувеличению, поскольку царицей — и любой это знал — она была только с позволения Рима.
Но было еще кое-что, возбуждавшее опасения — особенно среди образованных римлян, а к таким относились почти все римские политики.
Когда-то ученик Заратустры
[75] персидский прорицатель Гистасп предсказал гибель Римской империи. Он говорил о победителе, который придет с Востока. Теперь нашлось немало тех, кто решил, что при этом имелись в виду объединенные войска Антония и Клеопатры. Еще отчетливее говорилось об этом в «Книгах Сивилл»:
Покуда Рим еще медлит обрушиться на Египет. Эта царица появится здесь среди людей Как могущественная наследница бессмертного. Три человека покорят тогда Рим, который будет
в глубоком упадке. Жители его умрут в своих постелях, Когда с неба прольется расплавленный огонь.
Это было ясно и понятно всем. Возлюбленная Юлия Цезаря и мать его сына, Клеопатра, таким образом, являлась «наследницей бессмертных». Слова «три человека» означали власть триумвирата и гражданскую войну. От того, что еще предсказывалось в этих книгах, кровь застывала в жилах каждого римлянина:
И весь мир этой женщине будет подвластен, Послушен только ее воле. И когда вдова Царицей станет в мире, и когда в море Будут брошены все бронзовые мечи людей, Тогда все элементы этого мира Овдовеют, и бог, который высоко парит в эфире, Развернет небо, как огромный свиток. Бесчисленные небеса падут на землю и море, И бурные водопады обрушатся с высот. Земля будет предана огню, а море проклято.
И далее в тексте говорилось о «вдове», под которой, конечно, подразумевалась Клеопатра — она ведь была супругой своего младшего брата, утонувшего в Ниле:
Недолго будешь ты вдовой, Возьмешь себе в супруги Льва…
Лев олицетворял Геракла, которого Антоний называл своим предком. Таким образом, «Книги Сивилл
[76]» ясно говорили: «После того, как будет устранен триумвират, Клеопатра выйдет замуж за Антония и вместе с ним завоюет и покорит восточную часть Римского государства» — это первое. Но был еще и триумф, который Антоний устроил, как будто специально следуя предсказанному в этих книгах развитию событий.
Он был первым римским полководцем, который отпраздновал свой триумф не в Риме, а в Александрии, и этот факт больше, чем что-либо, говорил о том, что император порвал с Римом и весь обратился к Востоку.
Неизвестно, когда римские полководцы начали устраивать триумфы в честь своих побед, — это скрыто во мраке веков. Однако каждому ребенку в Риме известно, каков должен быть ход этого торжества.
Процессия собирается на Марсовом поле и движется через триумфальные ворота к цирку Фламиния, а оттуда через ворота Карменталь в центр города, к Большому Цирку. Последующий путь проходил по Via sacra, через Форум, к Капитолию.
Шествие возглавляли сенаторы и магистраты, за ними следовали музыканты, далее на открытых повозках возвышались добытые в походе трофеи, за ними шли побежденные правители, закованные в цепи, потом вели жертвенных животных с позолоченными рогами, за которыми шли ликторы в пурпурных одеяниях, а далее на квадриге, запряженной четырьмя белыми лошадями, ехал сам триумфатор в одежде пурпурного цвета, расшитой золотом, со скипетром из слоновой кости в руке и лавровым венком на голове. За ним следовали воевавшие под его командой легионы, распевавшие о своем императоре хвалебные, а также слегка насмешливые песни.
Таков был старинный обычай, и нарушение его было равнозначно святотатству, преступлению против государства, и некоторые расценивали это даже как предательство.
Марк Антоний прекрасно сознавал все это, и если он все же решился на это неслыханное нарушение, то только следуя хорошо продуманному намерению: его цель была захватить вместе с Клеопатрой господство над миром.
Рим был настолько поражен этим событием, что поначалу ответил на него только недоверчивым и испуганным молчанием. Многие сочли это просто вражескими слухами с Востока, возможно даже из Парфии, и хотели подождать, пока не выяснится вся правда. Ведь это было просто невероятно, чтобы уважаемый, заслуженный, почитаемый своими легионами римский полководец устроил свой триумф где-то в чужой стране. Вероятно, стоило подождать, пока вернется Октавий из своего похода против иллирийцев. К тому времени власть в Риме фактически уже принадлежала ему. К нему прислушивался сенат, и его слушался народ. Правда, возможность услышать от него правду зависела от политической ситуации. Когда два года назад Антоний потерпел неудачу в Парфии, Октавий счел нужным объявить если и не о его победе, то об успешном и славном походе. В то время никто из членов триумвирата не мог действовать другим во вред, потому что они зависели друг от друга.
Теперь положение изменилось. Своим триумфом в Александрии Антоний как бы нанес Риму пощечину. Его своевольная раздача владений Клеопатре и ее детям не снискала одобрения у сената, и — что еще хуже — она произошла без согласия Октавия.
В январе последующего года Гай Октавий под именем Гай Юлий сын божественного Цезаря стал консулом на второй срок и должен был выразить свое отношение к этому событию. Он сделал это в резкой и чрезвычайно критической форме. При этом слова «изменник» и «предатель интересов Рима» хотя и не звучали явно, но подразумевались, и Антоний узнал об этом из письма, которое доставил ему посыльный.
Они с Клеопатрой сочли нужным передать нам его содержание в общих чертах. Император взял это на себя и сообщил о нем в той насмешливой и высокомерной манере, которая должна была показать, сколь мало значат для него подобные обвинения. Но именно по этой манере видно было, как задевают его эти упреки и насколько серьезно он их воспринимает. Антоний не мастер был притворяться, и если ему приходилось делать это, вряд ли ему удалось бы обмануть тех, кто знал его поближе.
Император пригласил нас в небольшую комнату для совещаний. Царица и обе ее придворные дамы не присутствовали при этом. Все мы, человек двенадцать, с любопытством слушали, глядя, как Антоний презрительно взял это письмо двумя пальцами и с саркастической улыбкой сказал:
— Дорогие друзья! Прежде чем распространятся какие-то слухи, я хочу, чтобы вы узнали из первых рук, в чем упрекает меня мой высокочтимый товарищ по многим походам триумвир Гай Октавий, именуемый теперь Юлием Цезарем. Я цитирую.
Он развернул свиток на столе и сделал вид, будто читает. Но тем, кто сидел поближе, было ясно видно, что он цитирует наизусть, и это говорило о том, как часто и внимательно изучал он это письмо.
«Это недостойно римского полководца — праздновать на чужбине победу, завоеванную римскими солдатами и на римские деньги, и — что еще хуже — передать военные трофеи клиентальной царице, вместо того чтобы пожертвовать их Юпитеру Капитолийскому».
Антоний поднял свою львиную голову с копной непокорных волос, гордым изогнутым носом и глазами, несколько мутными, но глядящими проницательно и насмешливо,
— Уже первое утверждение лживо. Октавий до сих пор так и не прислал мне две тысячи своих легионеров, обещанных три года тому назад по договору в Сицилии. Всем известно, что в войне с Арменией я использовал в основном иностранные войска. Добрых три четверти моих тогдашних легионеров никогда не ступали на римскую землю. Что же до того, что эта победа завоевана на римские деньги, то ни один денар из Рима не попал в мой карман. Все серебро, из которого были отчеканены монеты, чтобы заплатить моим солдатам, поступило из казны царицы Египта. И если я передал ей большую часть добычи, то она заслужила это своей неоценимой помощью. Более мне нечего сказать. Этот пасквиль — смесь лжи и полуправды — еще, хуже, чем откровенная ложь, потому что его труднее проверить и разоблачить.
Презрительным движением он смахнул свиток, и тот упал на пол. Мы с Алексом вскочили, однако Антоний крикнул:
— Пусть лежит, не пачкайте об него руки. И еще о моем триумфе: я сознательно устроил его в Александрии, чтобы проучить сенат. Теперь они возмущены, эти уважаемые отцы. Но когда Октавий без моего согласия отстранил от власти триумвира Эмилия Лепида и отправил его проконсулом в африканские провинции, я остался ни с чем, так же как и после победы в морском сражении с Секстом Помпеем, когда к нему перешла Сицилия. И ведь не он, а Агриппа одержал эту победу, а он просто объявил Сицилию своей — опять же без моего согласия, — и это не возбудило в Риме ни протестов, ни возмущения. А сейчас, когда я завоевал Армению безо всякой поддержки со стороны Рима — с помощью чужих денег и чужих солдат, — сенат вспоминает о римских добродетелях и называет меня изменником. Но я объявляю Октавия клятвопреступником, который бессовестно использует свое положение на Западе. При каждой возможности он выступает в сенате, чтобы представить перед уважаемыми отцами свою версию происходящих событий. Я направляю ему письма и посыльных, но Октавий искажает мои слова перед сенатом. Вот об этом я и хотел вам сказать. И поскольку среди присутствующих здесь управляющих римскими колониями наверняка есть несколько шпионов, надеюсь, моя речь будет передана в Риме дословно.
Антоний добродушно улыбнулся, в то время как на лицах римлян отразились обида и даже возмущение. Они пробормотали что-то о пренебрежении, клевете и черной неблагодарности и шумно удалились.
Император вновь рассмеялся, на этот раз громко и раскатисто.
— Ручаюсь головой, что среди тех, кто только что удалился, немало шпионов и доносчиков досточтимого Октавия, и их сообщения — наверняка искаженные — будут отправлены в Рим с ближайшим кораблем.
Однако Антоний ни в коей мере не преуменьшал власть и влияние сената. Он направил уважаемым отцам официальное и преисполненное уважения послание, в котором обосновывал свои последние действия и распоряжения и просил одобрить их. Кроме того, он обещал в будущем отказаться от своей должности триумвира в случае, если Октавий сделает то же самое. К этому письму он прилагал подробное описание армянской кампании и добавлял, что передача трофеев Клеопатре должна рассматриваться не как подарок, а только как возвращение долга.
Я сильно сомневаюсь, что сенат получил это послание. Во всяком случае, никакой реакции на него не последовало.
Как всегда во время пребывания Антония в Александрии, он занимал дворец, построенный еще отцом Клеопатры, здесь и проходила описанная мной встреча. По окончании ее он отозвал меня в сторону:
— Я хотел бы сказать тебе еще кое-что, Ги, — во имя Геракла — я просто никак не могу привыкнуть к твоему придворному имени!
— Как бы ты меня ни назвал, мы ведь оба знаем, к кому ты обращаешься.
Он засмеялся.
— Ты прав, но я предпочитаю Олимпа, потому что Гиппократ — это личный врач и придворный, а я хотел бы говорить с тобой как с частным лицом. Давай возьмем сейчас лодку и отправимся половить рыбу.
Когда мы пришли на берег, лодка уже ждала нас. Антоний отослал гребцов.
— Сегодня мы справимся с этим сами! — сказал он.
Это было, вероятно, в декабре. Вот уже несколько дней
небо было затянуто тучами. Едва мы отплыли, стал накрапывать дождик. Сначала слабый и почти незаметный, он становился все сильнее, взрывая на морской глади тысячи крошечных фонтанчиков. Меня начал пробирать озноб, потому что я промок до нитки.
Антонию же, казалось, дождь вовсе не мешал. Он поднял к небу лицо и открытым ртом ловил капли.
— Ах, ах — вот так мы пьем иногда чистую воду — прямо с неба, дар святых богов.
Наконец мы возвратились на берег. Во дворце слуги обтерли нас и принесли сухую одежду.
Антоний явно был в хорошем настроении.
— Давай перекусим, выпьем по кружке вина и немного поболтаем, — предложил он. — Ты не против?
— Это разговор между Антонием и Олимпом?
Он кивнул.
— Да, друг мой. Император и личный врач Гиппократ остались за дверью, так что я прошу тебя: пусть все останется между нами. Там, снаружи, ты снова станешь Гиппократом и нашего разговора как будто никогда и не было — согласен?
Конечно, я был согласен, любопытство мое было возбуждено до предела. Интересно, он собирался сообщить мне что-то особенное или вновь дать какое-нибудь трудное задание? Я решил быть настороже. Однако ни того, ни другого не последовало, и наш разговор оказался самым странным из всех, что я когда-либо вел с Антонием.
Если дело происходило не на праздничных обедах или симпосиях, то император предпочитал простую и даже грубую пищу. Он испытывал какую-то тайную радость, когда другие морщили при этом нос и не торопились приниматься за угощение. В этот раз нам подали простой свежий деревенский хлеб, копченую рыбу, лук и пару порезанных на кусочки дынь. Я заметил, что он наблюдает за мной. Однако поскольку я ценил любую пищу, если только она была свежей и аппетитно выглядела, я с удовольствием принялся за еду.
— Тебе действительно вкусно? — спросил он с некоторым разочарованием в голосе.
Я кивнул.
— Я ведь сын военного врача и почти все свое детство и юность провел на Ниле, где в основном едят простую и сытную пищу, которую я ценю и по сей день.
— Это говорит о том, что жизнь при дворе не испортила тебя, — кивнул он обрадованно.
Он наполнил наши кубки, и мы жадно выпили: после копченой рыбы глотки у нас пересохли. Потом он сказал безо всякого перехода:
— Знаешь, какие слухи ходят в Риме обо мне и царице? Клеопатра будто бы совсем околдовала меня и превратила в другого человека. Я отбросил все римское и перенял восточные обычаи, купаюсь в роскоши и предаюсь противоестественным наслаждениям. Мне сообщили, что Валерий Мессала говорит, будто мое стремление к роскоши и излишествам зашло столь далеко, что мой ночной горшок сделан из чистого золота. И этого человека я так долго считал своим другом!
Я не смог сдержать смех.
— Это утверждение настолько смешно, что мне просто ничего не приходит в голову.
— Может быть, оно и смешно, — кивнул он, — но оно не так уж незначительно. Подобные мелочи настраивают добрых граждан против меня. И даже если бы у нескольких дюжин самых богатых римлян ночные горшки действительно были из чистого золота — что я вполне допускаю, — то это ничего не изменило бы, и они так же были бы обижены на меня. Но речь не об этом. Гораздо сильнее задевают меня различные намеки, связанные с мифами. Ссылаясь на мое происхождение от Геракла, проводят какие-то подлые сравнения. Тебе известна история Омфалы?
— Моего отца звали Геракл, и в юности он рассказывал мне эту странную историю, но я знаю только, что поскольку и Омфала также сыграла определенную роль…
Антоний усмехнулся.
— Итак, ты не знаешь. Хорошо, я расскажу тебе об этом в нескольких словах. Когда Геракл убил царского сына Ифита, по приказанию дельфийского оракула — и по желанию Зевса, — он был отдан в рабство лидийской царице Омфале. По ее прихоти его наряжали в женские одежды, и он вместе со служанками прял шерсть и выполнял домашнюю работу. Сама же Омфала облачалась в его шкуру и носила его палицу.
Я пожал плечами.
— Таково было наказание за его проступок — ничего другого эта легенда не подразумевает. Но какое отношение все это имеет к тебе?
— И ты не понимаешь? — ударил по столу Антоний. — Говоря о Геракле, намекают на то, что я, как раб, готов на все, чтобы понравиться Клеопатре. И это не все! Если в угоду народу я предстал в образе Диониса, то меня отождествляют не с Дионисом Лиэем — освободителем людей от мирских забот, а с Дионисом Бассареем — пожирателем людей. Эта ипостась божества мало известна, если ее вообще не выдумали продажные жрецы. Октавий прислал мне весьма доверительное письмо: как мужчина мужчине, почти на правах старого друга и боевого товарища. Насколько я понимаю, настоящими друзьями мы никогда не были. Во всяком случае, с тобой, Олимп, разговоры у нас бывали более личные, чем с ним.
— Что до меня, император, то ты можешь не опасаться, что я когда-нибудь использую их против тебя, — заметил я.
Он дружески коснулся моей руки.
— Я знаю это, Олимп, знаю. Итак, письмо Октавия. Оно действительно очень личное, я не сказал о нем даже царице. Не могу прочесть тебе, а только в общих чертах скажу, о чем оно. Октавий хочет сказать мне ни больше и ни меньше, как то, что Клеопатра навлечет на меня беду, что я поддался опасному наваждению, и он молит богов разбудить меня и представить мне все в истинном свете. Конечно, при этом он указывает также на свою сестру Октавию, которая воспитывает моих детей и свято блюдет мою честь до моего возвращения. Я ее знаю и верю этому. Октавия верная, умная и прилежная жена, но, Олимп, я не могу к ней вернуться. Тогда мне пришлось бы вырвать из сердца Клеопатру, а это уже слишком поздно: корни вросли слишком глубоко.
Он жадно осушил свой кубок, и я тут же наполнил его снова. Потом он улыбнулся, как бы прося о снисхождении.
— Я знаю, что мои признания излишни и что для тебя и моих друзей это давно уже не новость. Конечно, я помню о своем прошлом, но живу я в настоящем, и следует признать, оно единственное, что у нас есть. Прошлое лежит позади, оно завершенно и неизменно. Будущее — впереди, как закрытая книга, и мы не знаем, что в нем. Так что мне остается только настоящее, которого — по утверждениям философов — и вовсе нет, ведь, пока я тебе это говорю, мое последнее высказывание уже становится прошлым. Немного трудновато, да? Животным в этом смысле гораздо лучше: они всегда живут настоящим и не заботятся ни о прошлом, ни о будущем.
Он уже снова выпил и протянул мне пустой кубок.
— Будь сегодня моим кравчим, Олимп.
Он вновь сделал несколько больших глотков.
— А как у тебя? Ты ведь тоже женат, а живешь с Ирас — что говорит на это твоя жена?
— После возвращения из Иудеи я дал ей развод. Она хочет выйти замуж за другого, а я не хочу потерять Ирас.
Антоний стукнул по столу.
— Правильно, Олимп. Если разлад нельзя поправить, то лучше взять нож — и раз! Алекс уже несколько месяцев советует мне порвать с Октавией и до конца выяснить отношения. В этом году истекает срок моего двенадцатого консулата, и Октавий позаботится, чтобы меня не выбрали на следующий срок. Я дождусь этого и в следующем году объявлю ей о разводе! Но пока об этом ни слова — слышишь! Я хочу завершить наш мирный вечер отрывком из моего ответного письма. Ты знаешь, что я вполне могу сказать обо всем открыто, однако это письмо — личное. Но то, о чем я тебе прочту, знает весь Рим: я хотел бы еще раз вспомнить кое-что из жизни нашего друга.
Он не торопясь достал заранее подготовленное письмо и запинаясь начал читать:
— «Что это на тебя нашло? Неужели все из-за того, что я сплю с царицей? Разве она не жена мне? Разве это новость? Разве я не занимаюсь этим вот уже девять лет? А как обстоит с тобой? Разве Ливия единственная женщина, с которой ты спишь? Я поздравлю тебя, если это письмо не застанет тебя в постели с Теруллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Салвией Титисенией, или еще с кем-нибудь. Разве это действительно так важно — с кем ты или кто твоя жена?»
Он отбросил письмо и ухмыльнулся.
— Ну как тебе это?
— Неплохо, император, неплохо. Это возбудит всеобщее любопытство.
Антоний покачал головой.
— На тот случай, если он сделает это письмо достоянием общественности и извратит при этом его содержание, я прикажу сделать его копии и
отошлю их каждому наместнику в Римском государстве.
Эта ссора тянулась уже целый год и принимала все более острые формы. Очевидно было, что Антоний тоже не всегда говорил правду и иногда тоже защищался с помощью спора, лжи и подлога — в чем обе стороны пытались превзойти друг друга.
Об Ироде разговор между мной и императором никогда не заходил. Я и по сей день не знаю, сообщила ли ему царица обо всем — и тогда, может быть, он не хотел говорить об этом из уважения к своему другу юности. А может, они оба по каким-нибудь политическим соображениям решили оставить это дело без последствий.
Вообще, все эти власть имущие не так уж щепетильны, и если бы Клеопатре предоставилась возможность потихоньку устранить Ирода, она не стала бы долго раздумывать.
Глава 9
В это время диойкетом был Селевк — человек довольно бесцветный, который исполнял свои обязанности и ничем не обращал на себя внимания до тех пор, пока не угодил в одну неприятную историю, которая послужила причиной его смещения и стоила жизни двум людям.
Но сначала несколько слов о том, как складывались дела у меня. Когда я попросил царицу позволить мне вновь открыть свою лечебницу в городе, она ответила отказом.
— Нет, Гиппократ, твое место в Брухейоне, и если обязанностей личного врача для тебя слишком мало, то я могу поручить тебе еще кое-что. Ирод подал мне хорошую идею — тут стоит отдать ему должное. Итак, я назначаю тебя верховным служителем богини Гигиеи
[77], а проще говоря, моим министром здоровья.
Она выжидающе посмотрела на меня. Я был ошарашен и только озадаченно спросил:
— Для всей Александрии?..
— Ах, Гиппо, — засмеялась она, — ты меня не так понял. Ты будешь отвечать только за Брухейон — об Александрии пусть позаботятся другие. Речь идет об очистке улиц, снабжении водой и уборке мусора. Возьми себе двух дельных секретарей и поручи им всю основную работу, а сам осуществляй надзор. Твоя новая должность ставит тебя выше всех остальных врачей во дворце. Сейчас ты уже в таком возрасте, что никому не будет обидно иметь тебя своим начальником.
Я с облегчением выразил свою благодарность. Ирас, стоявшая с нами рядом, насмешливо сказала:
— Мне это не доставит ни малейшего удовольствия, царица. Довольно утомительно, когда твой поклонник все время рядом. Мужчины самоуверенны, и в подобной ситуации они начинают чувствовать за собой права, которых у них вовсе нет.
— Нам не следует подпускать их слишком быстро, и в этом я тебе вполне доверяю.
В ответ Ирас прошептала что-то царице, и та вполголоса ответила ей, после чего они рассмеялись: Ирас погромче, царица более сдержанно. Я почувствовал себя лишним и, поклонившись, ушел.
За несколько недель до этого я объявил Аспазии о разводе. Теперь, когда наступил январь, мне предстояло принять решение относительно моего сына Герофила. Я мог бы взять его сюда, он воспитывался бы и учился с сыновьями министров и придворных, но ему недоставало бы семейного тепла. Поэтому я решил, что для него будет лучше, если я попрошу Деметру, и она будет воспитывать его, после того как Аспазия вновь выйдет замуж.
Следовало также позаботиться о Салмо. Все это время он жил вместе со своей семьей и, насколько мне было известно, смертельно скучал. Почему бы моему верному слуге не разделить со мной мое повышение?
— Царица учредила для меня новую должность. Теперь я — министр здоровья в Брухейоне и одновременно самый главный врач. Что касается первого, то довольно часто нужно будет решать что-то на месте, например, когда забьется клоака, или повредится водопровод, или перед домом какого-нибудь придворного скопится куча мусора, или поставщик привезет на кухню не совсем свежее мясо…
На лице Салмо отразилось недоумение. Он нетерпеливо — и как всегда, совершенно непочтительно — перебил меня:
— Но, господин, какое отношение ко всему этому имеет врач — забившиеся клоаки, протухшее мясо?..
— Потому что за все это отвечает министр здоровья. Теперь что касается тебя. Поскольку сам я не смогу справиться со всем этим, я назначаю тебя моим заместителем. Тебе ведь можно это доверить?
— Что? Я должен… Но не могу же я…
— У тебя будет красивое служебное платье, личный секретарь, слуга, — или, может, два, — к твоим услугам будут носилки, а также лошадь, если ты пожелаешь…
Его здоровый глаз воинственно сверкнул.
— Но я не хочу ничего этого. Я бы лучше остался твоим слугой и учился дальше на помощника врача…
— Но ведь одно другому не мешает! Мы по-прежнему будем работать вместе, разве это для тебя не важно?
Теперь я задел его чувствительную струну.
— Ну конечно, господин, именно это для меня главное, а все остальное приложится.
Теперь вернемся к тому происшествию, которое диойкету Селевку стоило должности, а двум другим людям — жизни. Не знаю, в каком родстве состоял этот Селевк с Клеопатрой, но, видимо, оно было достаточно отдаленным, чтобы опасаться с его стороны притязаний на трон, так что он остался в живых. Он владел обширными угодьями в дельте Нила и неподалеку от Мемфиса, был женат на дочери какого-то крупного землевладельца и, вероятно, так и окончил бы в тишине свои дни и был бы похоронен в заранее построенной гробнице, если бы однажды в один из своих приездов в Александрию не был представлен Клеопатре. Он понравился ей.
— Этого человека, — сказала она как-то, — ничто не собьет с пути. Он исполнителен, упорен и в меру умен. Собственно, тот, кто слишком умен, — взглянула она на Мардиона, — не добивается должности при дворе или ловко уклоняется от нее. Что касается Селевка, то я не буду опасаться, что он обманет меня, если мне придется уехать. Правда, он несколько беспомощен, если необходимо принять какое-то важное решение, и будет медлить или посылать ко мне курьеров за советом.
Мардион поднял руку и сказал своим спокойным несколько высоким голосом:
— До сих пор ты и так не опасалась предательства ни от одного из своих первых министров.
— Ты прав, — нетерпеливо заметила Клеопатра, — но кто знает, что принесет нам будущее? То, чего не произошло в десяти случаях, может случиться в одиннадцатом.
Что касается Селевка, то она сделала неплохой выбор, однако сам он начал меняться. Если до сих пор его вполне устраивала его жена, с которой они вместе произвели множество детей, то вскоре после вступления в должность он попался в сети одной симпатичной, но известной своим легкомыслием придворной дамы. Лавиния занимала при дворе не очень высокое положение. Она была второй горничной супруги одного из министров и если и выделялась чем-то, то только своим обликом и поведением. Она производила впечатление робкой, неопытной девушки и беззастенчиво пользовалась этим. Египетский двор не без оснований считается одним из самых легкомысленных, и вскоре Лавинии пришлось бы уступить место другой девушке, более юной и честолюбивой. Селевк понравился ей в постели; к тому же он занимал такое высокое положение. До сих пор ей еще ни разу не случалось соблазнить диойкета — что, впрочем, вовсе не удивительно, потому что в основном это были господа в возрасте, а иногда к тому же и евнухи.
Жена диойкета поначалу ничего не знала. Она по-прежнему присматривала за поместьем и детьми, однако то, что ее супруг стал первым министром, не давало ей покоя, и в конце концов она решила навестить его в Александрии. Ее звали красивым именем Береника, и, несмотря на то, что ей было уже за тридцать, она все еще оставалась очень привлекательной женщиной. Конечно, нашлись какие-то доброжелательные «подруги», которые сообщили ей, в чьей постели ночует ее супруг. Однако, как рассказала мне потом Ирас, она только засмеялась и сказала, что от души желает ему успехов в постели и даже надеется, что найдется какое-нибудь сострадательное женское существо, которое примет его, а с нее подобных вещей уже достаточно.
Клеопатра, желая оказать уважение жене своего первого министра, устроила в ее честь пышный симпосий, на котором выступали также танцоры, певцы и актеры.
Лавинию, как правило, не приглашали на подобные празднества, однако она так насела на Селевка, что ей позволено было сопровождать ее госпожу, супругу министра. С этого и начались все несчастья.
Она увидела, каким почетом окружен ее любовник вместе со своей супругой, как милостива к ним царица и как она вручила подарок склонившейся в низком поклоне Беренике.
Должно быть, именно тогда у Лавинии созрел честолюбивый план занять место Береники. Она прекрасно видела, что это была бы для нее последняя возможность остаться при дворе. Ведь совсем скоро очарование ее юности — пусть и фальшивое — исчезнет, и в лучшем случае ей придется довольствоваться каким-нибудь толстым и ворчливым вдовцом. Еще несколько лет назад она могла бы составить более выгодную партию, но тогда ее никто не устраивал. С годами о ней стали говорить как о женщине, которая бегает за всеми мужчинами и безостановочно путешествует из постели в постель. Конечно, после этого ни один мужчина не захотел бы взять ее в жены, потому что понимал, что вскоре она обязательно наставит ему рога.
Береника собиралась остаться в Александрии до начала сбора урожая, то есть еще на два месяца. Из уважения к ней Селевк решил прервать пока отношения с Лавинией. Это возбудило небывалую зависть и ненависть со стороны получившей отставку любовницы. И пришел день, когда в этой трагедии на сцену пришлось выступить министру здоровья и личному врачу царицы.
Это случилось, вероятно, в конце марта. Зимние дожди понемногу уступали место теплу, и уже дважды нас касалось дыхание налетавшего из пустыни хамсина. В последний раз он свирепствовал целую неделю, наполняя город желтой пылью. Эти песчаные бури редко долетали до дворцового квартала на полуострове Лохиада, им препятствовал прохладный ветер, постоянно дующий с моря.
После того как Салмо стал моим заместителем, ему выделили собственную служебную комнату. К нашему общему сожалению, теперь мы общались в основном через посыльных, которые сновали туда-обратно с горами свитков, потому что каждый из нас был завален работой.
— Раньше все было лучше, — заметил Салмо, когда однажды мы с ним случайно встретились, — мы работали бок о бок, и у нас всегда находилось время для хорошего разговора. А теперь…
Да, я его прекрасно понимал. Я и сам время от времени хотел попросить царицу об отставке, но все не мог придумать для этого подходящей причины.
Поэтому, когда однажды Салмо явился ко мне собственной персоной, я был страшно поражен.
— Салмо, в чем дело?..
— Царица приказывает нам немедленно явиться к ней. Должно быть, случилось что-то нехорошее!
Пока нубийские рабы бежали с нашими носилками к царскому дворцу, мы вместе размышляли, что могло вызвать недовольство царицы. Однако ни Салмо, ни мне в голову ничего не приходило.
Царица нетерпеливо отмахнулась от наших церемониальных поклонов.
— Я велела явиться тебе и твоему помощнику, потому что Беренике вдруг стало плохо, и трое врачей высказали на этот счет три различных мнения. Может быть, вам с вашим опытом удастся внести какую-то ясность.
Селевк сидел у постели своей супруги и держал ее руку. Двое моих коллег стояли у окна и шепотом спорили. При моем появлении они склонились в поклоне, однако я, не ответив на него, сразу же подошел к постели.
— Вот уже несколько дней она чувствовала себя не очень хорошо, — сказал Селевк прерывающимся от слез голосом. — Но мы думали, что виной тому хамсин — многие от него страдают. Ее постоянно тошнит, все время мучает жажда, она жалуется на боль в животе, и ей трудно дышать…
Да, Береника выглядела неважно. Она лежала скорчившись, стонала, задыхалась и едва могла говорить. Лицо ее изменилось почти до неузнаваемости: бледное, искаженное, в нем не осталось ничего, кроме страдания.
Коллеги осторожно заметили, что это похоже на отравление какими-нибудь недоброкачественными продуктами. Судя по некоторым симптомам, это могла быть рыба, но, возможно, также и мясо…
— Ела ли твоя жена что-нибудь такое, чего не ел также и ты?
Селевк в сомнении потер руками виски.
— Нет, в последние дни мы всегда обедали вместе. Вот разве что подарки и сладости…
Он указал на стол у окна. Я увидел коробочку с фигами и финиками, блюдо с медовым пирогом и другое блюдо — с засахаренными фруктами, приготовленными нашим придворным поваром: он всегда посыпал эти сладости смесью корицы и перца.
— Ела ли она что-нибудь из этого?
— Только попробовала: вот это и это…
— А ты, господин, — спросил его Салмо, — ни к чему не притронулся?
Селевк покачал головой.
— Я никогда не ем сладкое — из-за зубов.
Всем при дворе было известно, что Селевк часто страдает от зубной боли и поэтому вот уже много лет не притрагивается к сладкому. У меня возникло страшное подозрение, и Салмо — я увидел — тоже что-то почуял.
Я кивнул врачам, и мы вышли из комнаты.
— Вы правы, уважаемые коллеги, это отравление, но, боюсь, причиной его послужило не мясо и не рыба. Мне вспоминается случай из практики, когда в одном семействе трехлетний ребенок случайно отравился крысиным ядом. Он умер при мне, и симптомы были такие же, как у Береники: боли в желудке, рвота, удушье, бледный, желтоватый цвет лица, холодная кожа и слабый пульс. А что, господа, является главной составной частью крысиного яда?
— Мышьяк! — сказали они как один.
— Да, мышьяк. А этот яд, к сожалению, не обладает ни вкусом, ни запахом, его можно подмешать к Чему угодно, не вызвав ни малейших подозрений. Попробуем проверить все эти сладости.
— А как? — спросил один из врачей.
— С помощью крыс, конечно!
В школах для врачей специально разводили ручных крыс, на которых испробовали действие различных ядовитых веществ.
Однако Беренику уже невозможно было спасти. Даже большая доза воды, смешанной с уксусом и мятой, не могла нейтрализовать яд. К вечеру она впала в кому, дыхание ее стало еще более прерывистым, и вскоре она умерла на руках своего супруга Селевка.
С помощью крыс мы быстро установили, что засахаренные фрукты были посыпаны смесью из корицы, перца и мышьяка. Его серый цвет и полное отсутствие запаха легко позволяли это сделать.
Но кому понадобилось отравить Беренику? Может быть, сам Селевк попытался таким образом освободиться от супруги ради Лавинии? Если у кого и возникали подобные подозрения, то о них не говорили вслух. Любой, кто был знаком с Селевком, прекрасно понимал, как маловероятны подобные предположения.
Клеопатра была разгневана. Она назначила специальную комиссию, которая должна была любой ценой выяснить все детали этого мрачного дела, что оказалось вовсе не так уж трудно.
Придворный повар сразу узнал свое произведение. Оно было изготовлено по личному поручению жены одного из министров. Да, она заказала засахаренные фрукты в подарок Беренике, и ее первая горничная должна была отнести их Селевку. Это можно было бы поручить и Лавинии, второй горничной, но жена министра из уважения к Беренике не хотела посылать к ней любовницу ее мужа. Упаковка? Да, о ней позаботилась Лавиния. Фрукты были уложены на красивом блюде, покрытом свежими листьями мяты.
Лавиния попыталась разыграть полное непонимание и невинность. Однако комиссия работала усердно и на десятый или двенадцатый день ей удалось отыскать торговца лечебными травами, который продавал также и крысиный яд. При очной ставке он узнал Лавинию — и даже не по ее внешнему виду, потому что на ней был парик, а по тихому мелодичному голосу. Она сказала, что в доме ее госпожи, жены корабельного мастера, расплодилось множество крыс, и ей нужно яду примерно на дюжину этих тварей. Он предупредил ее, как опасен этот ад для людей, и велел хранить его в хорошо закрытой посуде и так, чтобы он случайно никуда не попал.
Лавиния убеждала, что торговец вполне мог ошибиться: ведь в Александрии найдется еще не меньше сотни женщин с похожими голосами. Но, очевидно, после пыток в течение нескольких дней она во всем созналась.
Селевк неоднократно обещал жениться на ней, если его жена умрет. Он говорил, что уже давно не делит с ней стол и постель. Когда Береника приехала в Александрию, Лавиния поняла, что ей предоставляется единственная возможность занять ее место.
Селевк сразу признался, что обещал Лавинии взять ее в жены, однако заметил, что любой мужчина в подобном положении скажет то же самое.
Царица не присутствовала ни на одном из допросов.
— Я знаю, — сказала она, — что в таком большом городе, как Александрия, убийства случаются ежедневно. Для их расследования и созданы городская милиция и суд. Но в данном случае трусливое и коварное убийство произошло в Брухейоне, почти у меня на глазах. Я расцениваю это как неуважение к моей божественной особе, но не хочу, чтобы этот случай получил широкую огласку. Пусть Лавиния будет наказана согласно старому неписаному закону «око за око». Ты, Гиппократ, дашь ей такую же порцию яда, которой она убила несчастную Беренику, и позаботишься о том, чтобы смерть ее была такой же болезненной и долгой, как и у ее жертвы.
— Прости, басилисса, что я осмеливаюсь возразить тебе. Я отмерю нужную порцию яда, но давать его я не стану. Это должен сделать палач или, по тому же старому неписаному закону, пострадавший, то есть Селевк.
На лбу ее появились гневные морщинки, но голос остался таким же приветливым.
— Ты не повинуешься моему приказу?
— Я не исполняю обязанности палача, царица.
— Ну хорошо, Гиппо, я уже знаю, что это не позволяет твоя профессиональная честь.
Царица всегда соглашалась с разумными доводами и никогда не задевала чью-либо гордость, если этого можно было избежать.
Я отмерил количество мышьяка, достаточное, по моим представлениям, для того, чтобы Лавиния умерла как можно быстрее. Обязанности палача взяла на себя дворцовая стража. Однако позже я узнал, что Лавиния вовсе не стала покорно глотать яд, который ей засунули в рот, а выплюнула его. Так что в конце концов ей удалось насильно дать совсем немного мышьяка, подмешанного в вино. Поэтому мучения ее продолжались несколько часов.
Селевк тоже отказался играть роль палача. Он лишился должности и вернулся в свое поместье под Мемфисом. По словам Клеопатры, он сам просил об отставке. Клеопатра не стала назначать его преемника сразу, а хотела сделать это будущей зимой, когда она вместе с Антонием отправится в Эфес.
За несколько месяцев до этого произошли события, в которых проницательные люди увидели верные признаки надвигающейся катастрофы. К сожалению, сам я не принадлежал к числу подобных пророков; если таковые и существовали при дворе, то они благоразумно воздерживались от того, чтобы высказывать свои опасения.
Одним из самых важных событий этого рода — как я сейчас понимаю — оказался переход в другую партию Луция Минатия Планка, которого император сделал наместником Сирии. Немного спустя за ним последовал и его племянник Марк Тит — Антоний назначил его проконсулом Азии.
Антоний и Клеопатра всегда высоко ценили этих людей и считали их своими верными и преданными друзьями.
Зиму они провели в Александрии, и теперь, в конце марта, оба отправлялись в свои провинции: Планк — в Ан-тиохию, а Тит — в Эфес, так, по крайней мере, мы полагали.
Через несколько дней после своего отъезда Планк вдруг неожиданно появился на пороге моей приемной, объяснив, что хочет попросить у меня врачебного совета, но без свидетелей. Я отослал обоих своих секретарей. Планк, маленький коренастый мужчина, подошел ко мне вплотную. У него были плохие зубы и дурно пахло изо рта. Его маленькие хитрые глазки впились в меня, как будто дело происходило на невольничьем рынке и он пытался оценить, чего я стою.
— Врачебный совет был только предлогом. Некоторые высокопоставленные лица в Риме поручили мне передать тебе, что там тоже очень ценят хороших врачей. — Он заговорщицки улыбнулся. — Тебе там будет неплохо, лекарь, поверь мне.
— Но мне и здесь хорошо…
— Конечно, конечно — но надолго ли? В Риме тебе надо только обратиться к Волкасию, исполняющему обязанности консула, и он охотно поможет тебе. Ну а теперь намешай мне чего-нибудь безвредного, например, для усиления мужской силы. Ха-ха, это ведь всегда пригодится.
Я засмеялся и протянул ему флакончик со слабительным.
— Три — пять капель вечером в вино, и ты сам удивишься, как подействует.
Следующее известие от Планка и его племянника Тита принес сенатор Гай Фонтей Капито, которому пришлось срочно уехать из Рима, потому что за всеми друзьями императора была установлена слежка. Некоторых из них даже арестовали, допрашивали или оказывали на них еще какое-нибудь давление.
Минатий Планк, как мы узнали, не только перешел в другую партию, но и неоднократно выступал в сенате с обличительными речами против Антония. Он выдавал все, что он — верный друг императора — знал. Доверчивый и легкомысленный в подобных делах Антоний информировал «дорогого друга» обо всех своих планах и намерениях, которые были известны только самому узкому кругу его друзей. Теперь же о них узнал весь Рим.
То, что сообщил Планк сенату, было ловкой смесью из лжи и полуправды. Однако она сделала свое дело, хотя Публий Колоний, старый и скептически настроенный сенатор, язвительно спросил Планка, почему же, раз Антоний совершил так много преступлений, он, Планк, только сейчас перешел в другую партию.
Но еще больший удар по авторитету Марка Антония Планк нанес, намекнув, что император тайно передал свое завещание в храм весталок в Риме. Октавий официально обратился к верховной жрице храма с просьбой позволить ему ознакомиться с этим завещанием, однако ему было отказано. Тогда Октавий добился постановления сената, что для блага римского народа содержание этого документа является чрезвычайно важным. Жрице пришлось выдать завещание, и оно было обнародовано. Я просто передаю вкратце то, о чем мы тогда узнали в Александрии.
Антоний назначал высокое содержание для своих детей и Клеопатры и просил торжественно сжечь его тело на Форуме в Риме, а затем похоронить прах в Александрии. В завещании подчеркивалось также, что Цезарион является сыном Юлия Цезаря.
Император заявил в ответ, что он действительно передал свое завещание в храм Весты, однако все упомянутые распоряжения являются просто вымышленными, ведь каждому известно, что римский гражданин ничего не может завещать тому, кто не является гражданином Рима. А то, что Цезарион — сын Юлия Цезаря, подтвердил еще при жизни сам божественный, и об этом тоже все знают.
Я и некоторые другие свидетели, например Алекс, посоветовали императору, что теперь как раз настал подходящий момент для того, чтобы объявить наконец Октавии о разводе.
— Да, я так и сделаю, — воскликнул Антоний гневно, — хотя бы для того, чтобы избавить Октавию от позора быть женой государственного преступника.
После этого император Марк Антоний порвал все отношения с Римом и объявил, — впрочем, не выразив этого явно, — войну триумвиру Гаю Октавию.
Глава 10
Мы с моей Ирас виделись в этот период весьма редко, так как Клеопатра хотела, чтобы обе ее придворные дамы постоянно находились при ней. Сама же она почти все время была в отъезде: то прогулки в Каноб или на озеро Мареотида, то паломничество к святилищам Дельты. Особенно любила она храмы Исиды, старейший и наиболее известный из которых находился в Себенните. Антоний не принимал участия в этих мероприятиях, объясняя насмешливо и в то же время вполне серьезно:.
— Рядом с богиней император выглядит довольно мелко, а иногда даже смешно. Так что уж лучше я останусь в Александрии, где меня знают, ценят и уважают.
Клеопатра в это время была в Мемфисе, так что неизвестно, узнала ли она об этом высказывании.
Когда потом Ирас возвращалась вместе с царицей, она была настолько уставшей, что наши ночи любви превращались в часы, да и они становились все реже. Мои подозрения, что у Ирас появился кто-то другой, оказались безосновательными. Я пожаловался на свою беду Салмо.
— Ах, господин, такова жизнь. Вы оба уже не те молодые люди, которые день и ночь только об одном и думают, ваши занятия требуют много сил и изнуряют и тело и душу — почему же ты жалуешься? Разве дела твои идут плохо? Разве Ирас не стала скорее подругой, чем служанкой царицы? Вы оба добились всего, что только может достичь человек. Вместо того чтобы жаловаться, вам следовало бы каждый день приносить благодарственные жертвы в храме Сераписа, хотя это, конечно, довольно бессмысленно, ведь судьбами людей повелевает единственный бог, а не какой-то каменный идол.
Я засмеялся.
— Конечно, Салмо, ты мог бы и не напоминать мне об этом лишний раз, а я тебе в сотый раз повторяю, что люди поклоняются не камню или бронзе, а стоящему за ним божественному принципу. Я все сильнее начинаю подозревать, что тюремщики в Иерусалиме выбили тебе не только глаз, но и часть разума.
Салмо печально взглянул на меня, и мне сразу же стало стыдно за эти слова.
— Прости, друг, мне не стоило так говорить. Я просто очень устал и поэтому раздражен. Впредь я буду перепоручать своему заместителю побольше дел.
Салмо пожал плечами.
— Если их будет слишком много, я передам их моему заместителю…
— Что? У тебя тоже есть заместитель?
— Да, — лукаво ухмыльнулся Салмо, — только он еще об этом не знает.
Теперь спустя несколько десятилетий может показаться, что эти годы — до того как разразилась война — были довольно тяжелым временем. Но я как современник могу заверить, что это вовсе не так. Известия из Рима в Александрию просачивались по капле и отнюдь не приводили нас в уныние. Это точно так же, как с мышьяком. В крошечных дозах врачи выписывают его для укрепления организма, усиления аппетита и против лихорадки. Но доза в три обола
[78] уже является смертельной для взрослого человека.
Жизнь шла, как и прежде, однако следовало заметить, что Антоний — для которого не было ничего ненавистней бумажной работы — все чаще запирался со своими секретарями. Он то и дело отправлял курьеров на север, в. наиболее крупные города своего обширного восточного государства — в Афины, Эфес и Антиохию. Император не скрывал, что речь идет о перемещении войск. Его опытный командующий Публий Канидий Красс, немного знакомый мне по парфянскому походу, вывел большую часть войск из Армении и теперь спешным маршем шел на запад. На верфях Александрии в этом году строились только военные корабли, и ежедневно в Большую Гавань приходили суда с необходимым для этого деревом из Киликии, Кипра и Сирии.
Вся эта деятельность вовсе не тревожила нас, а как раз наоборот. Мы чувствовали себя в Александрии надежно укрытыми. Если дело и должно было дойти до каких-то военных действий, то где-нибудь далеко: в Азии или Элладе, в Эгейском или Ионическом морях, но уж конечно не у ворот нашего города.
Еще до того, как начнутся зимние бури, Антоний хотел устроить смотр своим войскам и флоту в Эфесе. Так что весь сентябрь был посвящен сборам в дорогу, потому что наша царица тоже захотела принять участие в этой поездке.
Поздним летом она созвала нас на один из своих «малых советов».
— Ты объявил своей жене о разводе, Гиппократ? Ну, теперь у тебя есть все основания…
Она с улыбкой обратилась к Ирас:
— Наш Гиппо теперь снова свободен — а, Ирас? Тебе стоит только протянуть руку…
— Нельзя служить двум господам, — твердо сказала Ирас и строго взглянула на меня.
— Но, Ирас! — воскликнула Клеопатра с наигранным удивлением. — Я ведь не господин. Ты вполне можешь и дальше служить твоей царице и в придачу иметь супруга.
— Нет, царица. Пока по закону только мужчина может давать развод жене, я лучше останусь свободной. Но если ты захочешь изменить эти законы…
— Смотри-ка! — воскликнула Клеопатра. — Неплохой совет! Хотя ты и не права, Ирас, я подумаю над этим.
— У иудеев, — вставил я, — такой закон уже есть. Если женщине плохо приходится замужем и это могут подтвердить свидетели, то она может настаивать на разводе.
— Иудеи — древний народ, — послышался высокий спокойный голос Мардиона, — и поэтому у них уже есть нужные законы. Мы, греки, еще не продвинулись так далеко…
Клеопатра энергичным взмахом руки прервала нашу перепалку.
— Через несколько недель я вместе с императором отправляюсь в поездку по восточным провинциям. Она будет длиться несколько месяцев, а может, даже и больше года. В этот раз я не буду назначать нового диойкета, поскольку моему сыну Птолемею Цезарю теперь уже четырнадцать лет и он вполне способен на некоторое время взять на себя управление страной — при поддержке и с помощью моего друга Мардиона и своего учителя Николая из Дамаска, которые вместе войдут в состав регентского совета. Ты вздохнул с облегчением, Гиппократ, — боялся, что я назначу тебя новым диойкетом?
Эта дерзкая мысль действительно промелькнула у меня; во всяком случае, я опасался, что царица взвалит на меня какое-нибудь не особенно приятное поручение, вместо того чтобы взять с собой в путешествие в качестве личного врача.
— Я не настолько нескромен, но кое-что в этом роде ведь уже бывало.
— Хорошо, Гиппо, конечно, ты будешь сопровождать меня, а твой заместитель на это время станет жрецом Гигиеи.
С одной стороны, мне было жаль оставлять здесь Салмо, но, с другой стороны, я хотел быть уверен, что мое дело в надежных руках. И почему поездка в Эфес должна была продолжаться целый год? Я считал, что мы вернемся уже следующим летом.
Ирас, обычно насмешливая и скептичная в отношении всех мужчин, включая и меня, была, казалось, действительно рада тому, что я буду сопровождать их. Да, она считала это чуть ли не своей заслугой.
— Это ведь была не совсем шутка — относительно назначения. Царица действительно склонялась к тому, чтобы сделать тебя членом регентского совета, но мне удалось отговорить ее.
— Потому что ты не хотела меня лишиться?
— Вот еще — мужчины все же не настолько важны! Я бы вполне могла обойтись без тебя несколько месяцев.
— Но ведь это могло бы быть и дольше?..
— Возможно.
Она зевнула, отпила глоток вина и сказала:
— Сегодня ночью я свободна…
— …и можешь остаться со мной?
— Если хочешь…
Я крепко поцеловал ее и почувствовал, как сильно люблю это капризное, часто насмешливое и совершенно непочтительное существо. Я и по сей день не знаю, что так привлекало меня в ней, что притягивало к этой маленькой смуглой и кругленькой сирийке. Наши тела слились в древней и все еще новой игре, которая приводит в движение мир. Ирас делала вид, что отказывает мне, а я каждый раз попадался на это. Вот и сейчас она отвернулась, громко зевнула и заявила, что ей обидно — я люблю только ее тело. Отныне мы должны быть целомудренны, и нас будут связывать чистые духовные отношения. Это было сказано так серьезно, тихим, дрогнувшим голосом, что я тут же бросился отыскивать доводы, чтобы разубедить ее. Однако до этого не дошло, и еще прежде, чем я смог что-то сказать, я почувствовал у себя под хитоном ее ласковую руку.
Иногда я спрашиваю себя: «Если бы история повернулась по-другому, может быть, мы вместе дожили бы до старости и любили друг друга?» Это довольно бессмысленный вопрос, и я знаю, что никто не сможет на него ответить
И вот мы отправились в путешествие. Оно оказалось гораздо более долгим, чем кто-либо из нас предполагал, и окончилось катастрофой.
При этом начало было таким многообещающим…
В то время как верный и преданный Канидий Красс вел основную часть войск из Армении в Эфес, туда же неделя за неделей плыли только что построенные корабли Клеопатры. Командование над последними пятьюдесятью из них она приняла на себя.
Чтобы меньше зависеть от капризов погоды, мы поплыли на север вдоль иудейских, финикийских и сирийских берегов, сделав остановку в Тарсе, где император задержался на несколько дней, а затем мы обогнули киликийский берег и поплыли на запад.
В начале нашего путешествия, где-то в районе Аскалона, у берегов Иудеи, царице захотелось подразнить меня.
— Да, Гиппо, — сказала она, — там, на востоке, лежит Иерусалим — отсюда до него, наверное, четыреста — пятьсот стадий. И там сидит мрачный арабский шейх Ирод и ломает голову над тем, в чем же была его ошибка. Арабы по натуре торговцы, поэтому он решит, что предложил тебе слишком мало денег. Египтяне, решит он, заплатили ему в два или в три раза больше, и вот он уже бросил меня, этот предатель! Пусть только попадется теперь мне в руки!
Клеопатра состроила свирепую гримасу и выразительно провела по шее кончиком пальца.
— Конечно, это чисто символический жест, ведь он вряд ли согласится, чтобы ты умер такой легкой смертью. Иудеи прибивают своих клятвопреступников к кресту, и они погибают там довольно медленно — иногда их мучения могут длиться несколько дней. Если бы Ирод знал, что ты проплываешь мимо, уютно устроившись на удобном корабле, он велел бы осыпать нас с берега дождем горящих стрел.
Она с любопытством взглянула на мое лицо, как будто надеялась увидеть на нем страх или ужас. Однако я оставался спокоен.
— Первая часть твоей истории, наверно, недалека от истины. Если бы я попался Ироду, мне не пришлось бы ждать от него милости. Но со второй частью твоей истории я не согласен. Ирод никогда не смог бы похитить меня с твоего царского корабля, даже если бы его не окружали военные суда и у нас не было бы такой надежной охраны. Это очень редкий случай, когда маленькому арабскому шейху посчастливится занять настоящий царский трон. Поэтому если он умен и дорожит своей короной, то сочтет благоразумным не докучать другому правителю, тем более из-за такого ничтожества, как личный врач. Итак, царица, ты видишь, что на твоем корабле я в такой же безопасности, как если бы сам Серапис простер надо мной свою длань.
Клеопатра довольно рассмеялась.
— Длинная речь, Гиппо, но ты хорошо мне ответил. Сейчас годится любая беседа, чтобы скоротать время.
Она повернулась к Шармион.
— А теперь ты, моя дорогая, — расскажи нам что-нибудь. Как поживает твой доблестный Луций Метеллий? Бывает ли он еще твоим гостем?
— Об этом ты уже спрашивала, царица, — с достоинством ответила девушка. — Метеллий со своим легионом остался в Армении, и я встречусь с ним только в Эфесе.
Клеопатра ласково потрепала Шармион по руке.
— Извини, я забыла. От скуки становишься такой — рассеянной. Сейчас я наконец займусь тем, что давно должна была сделать. Велите принести казну!
Я понял, что царица собирается проверить списки драгоценностей, которые она захватила с собой.
Теперь пора вновь указать моим римским читателям на разницу между монархической и республиканской формами правления — ведь это очевидным образом входит в обязанности историка.
Если римский полководец пускается в путь — все равно, идет ли речь о военном походе или инспекции провинций, — ему и в голову не придет взять с собой государственную казну. Она, как это повелось с давних пор, надежно хранится в храме Сатурна на Форуме Романорум, и, чтобы воспользоваться ею, необходимо получить согласие сената.
У монархов же обычаи совсем другие. Они считают государственную казну своей личной собственностью, а свой трон — если они умны — делом довольно ненадежным, потому что они никогда не знают наверняка, будет ли он еще свободен, когда они вернутся. Поэтому цари, отправляясь в военный поход или долгое путешествие, захватывают с собой все, что имеет хоть какую-то ценность. Ведь может случиться так, что им придется набирать войска за границей, чтобы свергнуть узурпатора — а это стоит денег, и немалых.
Так и наша царица взяла с собой все, что ей было дорого и мило. Это было не только золото и серебро, но и разные великолепные предметы обихода, например, золотые столовые приборы, инкрустированные драгоценными камнями. Из серебряной посуды она захватила только самую старинную и дорогую. Были также предметы меблировки, настенные и напольные ковры, кубки, чаши и амфоры из лазури, яшмы и карнеола — очень дорогие, поэтому, несмотря на тяжелый вес, их тоже взяли с собой, так же как столы, стулья и сундуки из эбенового и лимонного дерева, инкрустированные слоновой костью, перламутром и полудрагоценными камнями. Кроме того, были еще мешки и сундуки с черным, белым и коричневым жемчугом и драгоценными камнями.
Однако больше всего Клеопатра дорожила своими украшениями, равных которым не было в мире. Среди них были дюжины золотых цепочек, ручных и ножных браслетов, кольца, пекторали, подвески, различные короны: начиная от простого обруча с уреем и кончая необычайно дорогими коронами с древнеегипетскими царскими инсигниями.
Все это находилось на грузовом корабле, который вели лучшие рулевые и самые сильные гребцы и который охраняли небольшие военные корабли, специально для этого построенные.
На первый взгляд Эфес был похож на осажденный город. Большая Гавань была переполнена военными и грузовыми кораблями, и сотни их вынуждены были просто встать на якорь по обеим ее сторонам. Это впечатление еще усиливалось оттого, что город широким кольцом окружали тысячи палаток.
Марк Антоний на этот раз не поднимал много шума вокруг своего пребывания. Он дал понять горожанам, что прибыл сюда не ради собственного удовольствия, а для того чтобы устроить смотр войскам и флоту, и то, что он здесь увидел, было весьма впечатляющим.
Вместе с предоставленными нашей царицей двумя сотнями военных кораблей в распоряжении императора находилось теперь более пяти сотен кораблей, а также около трехсот грузовых и торговых судов. В громадном палаточном лагере вокруг города располагались тридцать легионов, что составляло более ста тысяч солдат.
Резиденция Антония находилась во дворце наместника, однако время от времени он останавливался также в своей великолепной походной палатке, которую он приказал установить неподалеку от гавани у подножия горы Коресс. Поближе к гавани он захотел быть потому, что царица предпочла остаться на своем удобном корабле, вместо того чтобы жить в шумном и переполненном людьми городе.
Я также жил на борту корабля, в крошечной каюте, однако довольно часто мне приходилось сопровождать царицу, которую то и дело приглашали на симпосии, прогулки по окрестностям и осмотр достопримечательностей. У ее предшественника Птолемея IV Филадельфа здесь были обширные владения, в которые входил также Эфес и несколько менее крупных городов.
Новые и новые клиентальные правители, зависимые от Марка Антония, приводили свои войска. Наша уверенность, что в случае войны мы будем непобедимы, возрастала.
До сих пор не могу объяснить, почему я не подумал тогда об одном очевидном и очень опасном для меня обстоятельстве. Меня срочно потребовала к себе царица.
— Гиппо, наконец-то! — нетерпеливо встретила она меня. Ко мне вновь вернулось хорошее настроение, и при взгляде на ее здоровое и сияющие лицо камень упал с души.
Ирас, стоявшая за ее спиной, нерешительно улыбнулась.
— Да-да, у нас все хорошо, но ты должен как можно скорее исчезнуть из Эфеса — по крайней мере, на время. Ирод сообщил, что прибывает сюда с отрядом войск. Хотя он и не осмелится причинить тебе вред открыто, но этот хитрый араб, конечно, найдет способ отомстить. Я и сама не хочу видеть его здесь и сделаю все, чтобы он тут не появился. У меня для этого весьма важные основания, к которым император не сможет остаться глухим.
Я не знал, что это за основания, и так и не узнал об этом. Однако сейчас любому историку известно, что Ирод уже несколько лет не взыскивал с набатеев плату за добычу асфальта, которую следовало передать царице. Таким образом ей легко было уговорить Антония, чтобы он задержал иудейского царя подальше от Эфеса.
Однако тогда ничего еще не было решено окончательно, и Клеопатра для начала хотела быть уверена, что я в безопасности.
— Чтобы ты не скучал, у меня есть для тебя прекрасное поручение.
Она указала на лежащий перед ней свиток папируса.
— Еще в Тарсе Антоний предложил мне пополнить нашу Александрийскую библиотеку и для этого воспользоваться библиотекой в Пергаме, который теперь ему подчиняется. Николай составил для меня этот список, и если ты найдешь там эти книги, ты должен взять их для меня. А сам ты можешь выбрать там труды по медицине.
— Итак, я должен отправиться в Пергам?
— Но ведь именно это я и сказала, — недовольно подняла она брови, — и как только тебе ничего не будет угрожать, ты сможешь вернуться. Кроме того, я думаю, тебе будет небезынтересно посетить знаменитое святилище Асклепия. Ты ведь врач — или ты уже забыл об этом?
— Конечно нет, басилисса!
— Хорошо, и не забудь это. — Она указала на список.
Я помедлил.
— Царица, но ведь не могу же я просто прийти в библиотеку и сказать: «Уважаемые, вот эта книга и эта понравились мне, упакуйте их, пожалуйста».
Клеопатра засмеялась.
— Ты, как всегда, не прочь пошутить — да? Тебя будет сопровождать центурия императора, и центурион получит приказ на этот счет, подписанный императором. Доволен?
Я склонился в глубоком поклоне.
— Конечно, царица, и особенно благодарю тебя за заботу о моей особе.
— Твоя благодарность запоздала, — заметила Ирас. — Царица с ума сходит от беспокойства за тебя, а ты делаешь вид, как будто ничего не происходит.
— Он несколько медлителен, наш Гиппо, но, когда он представит, что сделал бы с ним Ирод, он почувствует себя в Пергаме лучше, чем здесь.
Два дня, пока мы плыли до Пергама, я изучал список, который составил Николай. В основном в нем была представлена ранняя греческая поэзия, и большинство имен мне ничего не говорили. Речь шла о песнях легендарного Орфея
[79] и его учеников, которые создавались в честь богини Деметры
[80] и бога Диониса
[81]. Но я увидел также и несколько известных имен. Так, например, там была великая Сапфо и ее современники Алкман, Стесихор, Каллин, Тиртей и, конечно, ее земляк из Митилен, великий Алкей, чья свободолюбивая, направленная против тиранов поэзия была знакома нам с детства, хотя тогда нам нравились больше его стихи, посвященные Пану и Дионису.
Пергам лежит примерно в ста пятидесяти стадиях от побережья. Мы высадились в гавани Элея в устье Каика. Центурион, его слуга и я взяли лошадей и отправились дальше на лошадях. Остальные должны были достичь Пергама после дня пути.
По дороге я поделился своими сомнениями.
— Стоит нам сказать о цели нашего приезда, как все самое
ценное немедленно будет спрятано, так что мне останется стоять с моим списком и выслушивать объяснения, что той или иной книги, к сожалению, нет.
Это сделало разговорчивым обычно молчаливого центуриона.
— Как раз поэтому я кое-что придумал. Сначала ты придешь в библиотеку один, представишься любителем поэзии и спросишь о нужных книгах. Таким образом ты узнаешь, какие из них имеются. А через несколько дней я предъявлю распоряжение- императора. Тогда им ничего не останется, как выдать нам все требуемые свитки.
Сегодня мне стыдно, что мы пустились на такую хитрость и я даже похвалил центуриона за его идею. Но тогда ничего подобного мне и в голову не приходило, ведь Марк Антоний олицетворял власть и любая его воля была законом. Может быть, это звучит несколько упрощенно, но именно так и было. Как историк, я не могу не признать, что подобная точка зрения императора была одной из самых больших его ошибок. С тех пор как Антоний стал управлять на Востоке, он, как и все цари, сразу стал считать, что любое имущество — не важно, принадлежит оно городу или государству, является его личной собственностью и он вправе им распоряжаться.
Октавий Август избежал подобной ошибки и даже во время военных походов никогда не лишал город или страну их сокровищ. Антоний же запросто распоряжался ими, дарил и передавал, и это дало повод для возникновения легенды, будто он подарил Клеопатре все свитки Пергамской библиотеки. На самом деле он просто позволил ей распоряжаться ими; список Николая содержал около трех сотен наименований — три сотни, а не двести тысяч. У царицы были в то время иные заботы, чем разграбление библиотеки. Историкам, которые распространяют подобную ложь, я посоветовал бы самим отправиться в Пергам и выяснить все на месте. То, что я тогда взял, давно уже возмещено, однако я не знаю, может, там до сих пор верят легенде об ограблении библиотеки.
Я решил задержаться здесь на десять — двенадцать дней, пока не прибудет посыльный из Эфеса. По понятным причинам я хотел произвести изъятие книг — чтобы не сказать грабеж — в конце моего пребывания здесь. Иначе по всему городу обо мне стали бы говорить не иначе как о человеке, бесстыдно ограбившем старинную библиотеку. Так, ненависть, насмешки и презрение всегда обрушиваются на того, кто исполняет, а не на того, кто ему это поручил.
Глава 11
Самые знаменитые храмы и святилища Асклепия находятся в Эпидавре, на острове Кос и в Пергаме. Я не видел ни одного из них и хотел воспользоваться случаем, который привел меня сюда.
Каждому врачу известны случаи чудесного исцеления, которые происходили в этих местах поклонения и паломничества. Однако нередко мои коллеги относятся к ним с недоверием и считают, что в этих священных местах устраиваются сборища мошенников, шарлатанов и лжемагов.
Мне захотелось самому посмотреть, что здесь происходит и каким образом исцеляются больные. Я решил, что лучше, если при этом я предстану не врачом, а жаждущим исцеления больным. После парфянского похода меня и в самом деле время от времени мучили кратковременные, но сильные приступы головной боли.
Ниже Акрополя широкая, украшенная колоннами улица длиной в пять стадий вела к чему-то вроде сборной площади, на которой с праздничной торжественностью паломников встречали жрецы в белых одеяниях, каждый — с жезлом Асклепия. В центре площади возвышалась мраморная колонна, которая со всех сторон была украшена резьбой, посвященной одному и тому же сюжету: две змеи пьют из одной плоской чаши. Согласно легенде, однажды некий неизлечимый больной не смог получить здесь исцеления и ни с чем отправился домой. По дороге он увидел двух змей, которые выпустили свой яд в какую-то чашу. Желая прекратить свои страдания, человек в отчаянии выпил этот яд, однако случилось чудо — он выздоровел.
Это было ново и непривычно для меня: оказаться в очереди паломников, сидящих перед доброжелательным жрецом. Тот отдельно расспрашивал каждого больного. Здесь я был не какой-то выдающейся персоной, а одним из многих, и перед лицом божества все мы были равны.
В этом священном месте я решил, насколько это возможно, придерживаться правды. На вопрос о моем занятии я ответил: «Учитель в мусейоне в Александрии».
— Что привело тебя сюда, Олимп? Только болезнь?
— Нет, досточтимый. Я хотел бы использовать возможность позаниматься в этой прославленной библиотеке.
На его гладком спокойном лице отразилось что-то вроде неудовольствия.
— Библиотека есть и в Асклепийоне, а там, наверху, — это прозвучало несколько презрительно, — гораздо меньше трудов по медицине, чем у нас. И вообще, тебе стоит знать, что Акрополь, с его пышными театрами, храмами и лавками, вовсе не был бы таким процветающим, если бы не толпы наших паломников, которые покупают там в лавках, приносят жертвы в храмах и посещают театры…
Он сам почти испугался своих слов.
— Забудь, что я сказал, Олимп. Я должен быть доволен уже тем, что могу служить Асклепию, светлейшему сыну Аполлона и Корониды
[82]. На воротах при входе в Асклепийон ты можешь прочесть: «По повелению богов смерть не может вступать сюда». Итак, не бойся, Олимп, здесь тебе будет хорошо, боги облегчат твои страдания и, может быть, даже избавят тебя от них.
Затем жрец наказал мне в последующие два дня вместо вина пить воду из святого источника, а на третий день снова явиться сюда спустя час после восхода солнца.
Воду из святого источника в красивых кувшинах послушники продавали при входе в Асклепийон за три драхмы. Если потом ты возвращал кувшин, то получал две драхмы обратно.
На большом постоялом дворе для паломников я занял отдельную комнату, съел, как наказывал жрец, только горсть сушеных фиг и выпил половину святой воды. Я боялся, что от голода не смогу уснуть, однако великолепно проспал до утра.
Как врач, я понимал, что фиги и вода нужны были для того, чтобы очистить организм от вредных веществ.
На третий день утром я вместе со многими другими вновь пришел на сборную площадь. Под руководством жреца мы образовали что-то вроде процессии и вступили внутрь Асклепийона. Мы подошли к святому источнику и выпили несколько глотков воды, омыли руки, лицо и ноги, затем по короткой, но очень широкой лестнице поднялись в храм Асклепия. Он представлял собой не очень большой купол с нишами, в которых были установлены статуи Зевса, Аполлона, Телесфора, Диониса и Гигиен. Напротив входа находилась громадная статуя Асклепия, жезл которого обвивала змея, у ног его лежала собака. Его бородатое лицо излучало спокойствие и мягкость, верхняя часть тела была обнажена и лишь слегка прикрыта развевающимся плащом.
Здесь каждый принес пожертвования в соответствии со своими возможностями: овец, телят, кур, виноград или благовония, которые были куплены заранее по цене, в десять раз выше, чем на рынке. Церемония пожертвования проходила медленно и торжественно, жрец повторял ее для каждого отдельно. Повсюду курились столбы благовоний, поднимаясь к осеннему небу. Потом принесли маленькие скамеечки и установили по кругу храма. Мы сели, и невидимый хор запел священные песни.
Я погрузился в какое-то полусонное состояние, глаза мои были закрыты, но я отчетливо слышал прекрасные гимны в честь Аполлона, Асклепия и его детей Гигиеи и Телесфора, божеств здоровья и исцеления.
Вскоре время для меня как бы остановилось и минуты сравнялись с часами, так что под конец я уже не знал, то ли минуты стали длиннее, то ли часы короче. Я охотно признаю, что ощущал близость божества, чувствовал, как оно пронизывает меня и овладевает моим телом. При этом я понимал каждое слово гимна, но не смог удержать в памяти ни единой строки.
После полудня жрец дал нам по стакану молока с медом и велел пройти по священной улице туда-обратно не меньше шести, а лучше двенадцати раз, побеседовать друг с другом и после захода солнца вновь собраться у священного источника.
Я чувствовал себя так легко и свободно — да, почти окрыленно, — как будто выпил кубок вина, Я перестал быть врачом, оценивающим все с позиций знания и опыта, и с готовностью принял ситуацию: следовал указаниям жреца и чувствовал себя свободным от всякой ответственности и необходимости каких-либо действий.
Когда солнце в окружении розовых облаков отправилось в свое ночное странствие, нас разбили в группы по трое и повели по высокому и узкому проходу, который слабо освещался сквозь четырехугольные отверстия в потолке. Я чувствовал необычайную усталость и заметил, что остальные тоже идут пошатываясь, то и дело зевают и прикрывают глаза.
Поэтому я едва осознавал, что меня привели в какую-то комнату и дали в руки какой-то кубок. Я послушно выпил горьковатый, чуть подслащенный медом напиток, опустился на ложе и моментально уснул.
Через некоторое время меня разбудил хриплый лай собаки. Еще не совсем проснувшись, я поднялся. В маленьком помещении царил волшебный полумрак, в котором можно было различить дверь, постель и узкое окно. Я услышал тихое, но отчетливое шипение и — будучи хорошо знаком с жизнью пустыни — сразу же распознал змею. Шипение слышалось из маленького отверстия в стене рядом с дверью. Я отчетливо видел, как покачивается там змеиная голова. Встав, я подошел поближе и узнал змею Асклепия, характерного коричневого цвета и со светлым, поблескивающим белым брюшком. Теперь сквозь шипение я различил произнесенные шепотом слова: «Мазь с анисом и оливковым маслом, внутрь тимьян». Голова змеи исчезла, я снова лег и тут же заснул — теперь уже до утра.
Наш пост кончился, и внизу, в общей столовой, нас щедро накормили хлебом, молоком, сыром, орехами и сушеными фруктами.
Все беседовали друг с другом, и мой сосед с любопытством спросил у меня:
— Говорил ли с тобой бог?
— Я думаю, да, — сказал я.
Тут вошли несколько жрецов, которые спросили каждого из паломников:
— Назвал ли бог тебе какое-нибудь средство?
— Да, — ответил я, — он говорил об анисе и масле для наружного применения и о тимьяне внутрь.
Жрец недоверчиво взглянул на меня.
— Ты говоришь так, как будто имеешь некоторое понятие об искусстве исцеления.
— Я учитель в мусейоне в Александрии — мы знакомы со многими предметами.
— Теперь, когда ты услышал, что посоветовал тебе Асклепий, я запишу это, и спустя примерно час специальный жрец пришлет тебе лекарство.
— Благодарю, досточтимый, но думаю, что бог уже исцелил меня безо всяких лекарств. Мои боли прошли.
Ничего подобного вовсе не было, но я изобразил на лице радость и облегчение, чтобы до конца сыграть роль благодарного пациента.
— Однако они могут вернуться…
— Тогда я приду вновь, досточтимый. Я еще довольно долго пробуду в Пергаме и вновь охотно приму твое приглашение.
Я вдруг почувствовал, как неуместен я на этой площади среди честных больных, и мне захотелось побыстрее уйти отсюда.
На следующий день, преодолев бесконечные и очень крутые ступени, я поднялся на Акрополь. Передо мной возвышались мощные зубцы городских стен, говорившие о том, что здешние цари постоянно чувствовали угрозу своей власти. Мне вспомнилось тогда только одно имя — царя Эвмена
[83], правившего здесь почти сорок лет. При нем Пергам стал центром культуры и науки. По его приказанию был возведен храм Зевса, расширен храм Афины и почти вдвое увеличен Асклепийон. Он настолько обогатил основанную еще во времена царя Аттала
[84] библиотеку, что именно ему она обязана своей сегодняшней славой.
Его дворец очень хорошо сохранился, потому что в нем всегда останавливался римский наместник, когда приезжал сюда. За две драхмы для меня открыли ворота в сад, и я смог насладиться великолепным видом отсюда на нижний город и равнину, переходившую на западе в пологие холмы.
Библиотека находилась недалеко отсюда, но трудно было разглядеть ее среди всех этих дворцов и храмов. Она принадлежала храму Афины, так как царь Эвмен на свои деньги приказал соорудить в Афинах великолепный портик, и в благодарность за это жители города прислали ему копию знаменитой статуи Афины работы Фидия
[85]. Он повелел установить ее в большом зале библиотеки. Помимо этого здание библиотеки было украшено также памятниками знаменитых поэтов и историков — таких как любимый мной Геродот, великий Гомер, а также статуей Сафо с надписью: «Меня зовут Сафо! Как Менед превзошел всех мужчин в пении, так я превзошла всех женщин в поэзии».
Довольно глупая надпись, поскольку Менед давно забыт, а Сафо своими бессмертными песнями превзошла не только женщин.
Почему я все никак не подойду к главному? Может быть, мне мучительно говорить о той постыдной роли, которую я сыграл — вынужден был сыграть?
Я представился врачом и писателем, сказал, что пишу сейчас труд по истории медицины и, будучи любителем поэзии, хотел бы также воспользоваться возможностью и отыскать неизвестные мне до сих пор произведения. Это заинтересовало молодого библиотекаря. Отдавая должное его знаниям, я попросил его уделить мне несколько часов своего драгоценного времени и вложил ему в руку тетрадрахму.
Молодой человек действительно выказал хорошую осведомленность: всего лишь несколько раз ему пришлось прибегнуть к помощи указателя. Он бегло просмотрел мой список, в котором было около трехсот названий. Если я правильно помню, из них в библиотеке имелось около двухсот сорока, а еще двадцать было выдано на время каким-то знатным лицам, но, как подчеркнул мой помощник, это делается только в исключительных случаях. Конечно, мне нужно было спросить и о трудах по медицине. Я назвал несколько первых пришедших мне на ум авторов, таких как Диокл из Кариста, Филистион из Локриды, Дексипп с острова Кос и Хрисипп из Книда.
Библиотекарь заверил меня, что у них есть множество Трудов этих авторов. В ответ я пообещал прийти на следующий день, чтобы спокойно приняться за работу.
— С иностранцев здесь взимается определенная плата, — испытующе посмотрел он на меня, как будто хотел узнать, готов ли я заплатить.
— Конечно, — сказал я, — в конце концов, на содержание такого учреждения необходимы средства.
Он кивнул, казалось, с облегчением.
— У нас постоянно трудятся не менее десяти переписчиков, однако неплохо было бы, если бы их было двадцать, а то и больше. К тому же с тех пор, как царь Птолемей Эпифаний ввел запрет на вывоз папируса, мы вынуждены производить дорогой пергамент из козлиных шкур.
— Но ведь это было очень давно…
— Однако до сих пор остается в силе, и папирус растет только в Египте. За это время мы научились также изготавливать пергамент из овечьих и телячьих шкур, однако он по-прежнему остается дорогим.
Я решил при случае спросить царицу, нельзя ли пересмотреть это старинное распоряжение, поскольку в этом соревновании александрийская библиотека давно уже вышла вперед.
Я оказался все же слишком труслив, чтобы присутствовать при изъятии, и предоставил сделать это центуриону и его солдатам. Он вел себя очень грубо и даже избил библиотекаря.
Тогда меня мало это заботило, потому что вскоре прибыл посыльный из Эфеса с коротким сообщением о том, что царь Ирод по требованию императора остался в Иудее.
И я с легким сердцем пустился в обратный путь. Я вернулся как раз в разгар приготовлений к путешествию в Самос, где царственная пара намеревалась остаться до весны.
— Видишь, мой друг, — сказала царица, — этот арабский интриган не всегда может настоять на своем — по крайней мере, если я этого не хочу.
Самос расположен настолько близко от Эфеса, что почти виден оттуда, поэтому наш переезд длился всего несколько часов. На острове не нашлось настолько обширной гавани, чтобы в ней разместилось около восьмисот судов; часть кораблей встала на якорь примерно в миле от берега.
На холме между столицей, возведенной тираном Поликратом, и святилищем Геры Антоний несколько лет назад приобрел дворец, который по его приказанию был великолепно обставлен. Кроме того, император, имевший немалый опыт в устроении разнообразных праздников и увеселений, уже за несколько месяцев до нашего прибытия распорядился, чтобы сюда были приглашены все известные в окрестностях певцы, музыканты, актеры, жонглеры и шуты.
Его любимцы тоже были здесь: флейтист Ксютос, танцор Метродор и Анаксенор из Магнезии, который непревзойденно играл на кифаре и которому император пожаловал доходы от четырех городов.
Слава святилища Геры, с его огромным храмом, к сожалению, так и не достроенным, и с его знаменитой священной улицей длиной в сорок стадий — эта слава поблекла через несколько недель перед праздничной суетой в Самосе, где день за днем допоздна звучали хоры и разыгрывались представления. В перерывах между ними выступали жонглеры, акробаты и шуты. Греки называют этот свободный народ hoi peri ton Dionysos technitai и обозначают этим именем всех, кто — чтобы сделать свое занятие более уважаемым — считает себя слугами Диониса и ему посвящает свое искусство.
Похоже, императора нимало не занимала предстоящая война и играть роль Диониса нравилось ему больше, чем быть озабоченным императором. Многие историки утверждают, что для Марка Антония было бы полезней вторгнуться в Италию, вместо того чтобы дожидаться, пока Октавий вступит в Элладу и принудит его к обороне.
Император неоднократно объяснял, почему он был так беспечен: он бесконечно верил в силу денег. Царица и он обладали такими сокровищами, о которых Октавий, постоянно вынужденный увеличивать налоги, мог только мечтать.
В мае этот долгий праздник окончился, и мы отправились в Афины. Этот город многим обязан Птолемеям, и в нем до сих пор регулярно проводятся в их честь праздничные игры.
Нашей царице была устроена встреча, достойная богини. В Акрополе среди прочих была установлена статуя Исиды.
Однако беззаботные дни Самоса уже миновали. Из Рима то и дело приходили нерадостные вести. Октавий принудил сенат лишить Антония звания триумвира и предусмотренного в следующем году консульства. Тем самым Октавий добился того, что Антоний стал частным лицом, изменившим Риму, искателем приключений на службе иностранной царицы. Отныне все его приказы, распоряжения и поручения, отдаваемые от имени Рима, становились незаконными, а присяга, которую принесли ему легионеры, стала считаться недействительной.
К сожалению, следует добавить, что Октавий не сделал попытки договориться с Антонием и тем самым предотвратить новую гражданскую войну. Император всеми силами пытался сохранить своих сторонников в Риме и расходовал огромные суммы на то, чтобы приобрести новых.
Пытаясь как-то спасти положение, его друзья отправили в Афины Гая Гемина, своего доверенного человека. Он должен был убедить Антония расстаться с Клеопатрой и вернуться в Рим к своей жене Октавии, где ему с почетом вновь будут возвращены все звания. Заманчивое, конечно, предложение, но оно пришло слишком поздно. Клеопатра всеми силами старалась противодействовать Гемину, потому что ее трон зависел от отношений с императором. Она с самого начала сделала все, чтобы вызвать к посланнику ненависть и недоверие.
Гемин оказался маленьким тщедушным человеком, его большую голову украшал громадный кривой нос, однако эта грубая на вид башка была далеко не пуста. Он выказал себя любезным, предупредительным и готовым на компромиссы. То, что он говорил, было очевидно, он не горячился, не поддавался на провокации, не ставил никаких условий и вполне мог бы добиться успеха, если бы царица предоставила ему хоть малейшую возможность для этого. Однако она всеми силами препятствовала ему, пыталась выставить его шпионом Октавия и его сестры, бывшей супруги императора. Ей удалось помешать Гемину добиться успеха даже в малом: наедине поговорить с Антонием. Гемин ясно показал, что никто и ничто не может лишить его мужества, и втайне многие сторонники императора желали ему счастья и успеха.
Под предлогом, что ему необходима защита, Клеопатра приказала страже день и ночь сопровождать его и, конечно, шпионить за ним. Эти люди были не на его стороне и достаточно ловко препятствовали любой встрече с Антонием.
Мы жили на римской агоре
[86] — подарок городу от Юлия Цезаря — у подножия Акрополя, в просторном, тоже возведенном римлянами здании. Здесь был большой триклиний, где царица, а часто также и император обедали со своими друзьями. Между этой царственной парой дошло даже до спора: царица говорила, что за ее столом нет места шпионам и предателям, на что Антоний возражал ей, что Гемин — пока ему не доказали обратное — посланник его друзей в Риме и он не хочет, чтобы немногие оставшиеся у него сторонники превратились во врагов.
Гемин надеялся, что за обедом ему предложат место рядом с императором или напротив. Однако вместо этого Клеопатра распорядилась посадить его в конце стола, что исключало всякий контакт с Антонием. Однако этот маленький человек не сдался. С удивительным терпением проглатывал он все насмешки и даже оскорбления, которыми его постоянно осыпали. Так уж принято при дворе, что все — или почти все — смотрят в рот своему правителю.
У меня до сих пор перед глазами эта сцена. Когда Гемину все же удалось получить приглашение к столу, слуга подвел его к креслу императора. Место Клеопатры еще пустовало.
Император поднялся.
— Гай Гемин! Я слышал, ты уже несколько дней в Афинах, почему же тебя не видно?
Большая голова Гемина затряслась от удивления — или замешательства.
— Но, император, с тех пор как я здесь, я только и делаю, что пытаюсь поговорить с тобой, однако меня отталкивают, как кубок кислого вина, от которого каждый хочет поскорее отделаться. Но теперь, поскольку я здесь…
В этот момент появилась Клеопатра, за ней следовали Ирас и Шармион, а впереди нее — личная охрана.
— Поскольку ты здесь, Гемин, давай займемся тем, для чего и предназначен этот зал, а именно — обедом!
Гемин склонился в поклоне перед Клеопатрой, взглянув при этом на императора. Однако тот не видел уже ничего и никого, кроме Клеопатры.
— Могу я хотя бы за столом… я думал…
Клеопатра заняла свое место и строго сказала:
— За столом мы не ведем разговоров о политике, Гемин. Я прошу тебя отнестись к этому с уважением. А теперь проводите нашего гостя на место.
Эту, очевидно заранее продуманную, насмешку весь двор счел удачной шуткой. Послышались смех и перешептыванья.
— Это почетное место, Гемин, покажи, что ты достоин его, — сказала Ирас.
Царица милостиво улыбнулась. Антоний промолчал, как будто не захотел вмешиваться. Неподалеку от него сидел полководец Канидий Красс. Лежанка рядом с ним была еще свободна, и Гемин направился к ней. Однако слуга покачал головой:
— Нет, господин, это место Квинта Делия, секретаря моего императора, мы еще ожидаем его.
И так повторялось несколько раз. Немногие свободные места были предназначены для каких-нибудь важных людей, которых ожидали с минуты на минуту. Наконец слуга указал ему место в конце стола, где сидели разные незначительные лица, которые дерзко и злорадно осклабились при виде его унижения.
Затем подали блюда, все ели, пили и беседовали друг с другом. Так как был уже вечер и бледное зимнее солнце, скрывшись за ареопагом
[87], отправилось в свое ночное путешествие, вино почти не разбавляли. На том конце стола, где сидел Антоний, то и дело передавали рабу опустевшие кувшины.
Когда Клеопатра подняла руку, разговоры быстро смолкли.
— Прежде чем я уйду, я хотела бы еще задать вопрос нашему гостю.
Гемин поднялся и в ожидании взглянул на царицу. Казалось, даже его большой нос задрожал от нетерпения. Неужели настал наконец его час?
— Я хотела бы знать, что действительно привело тебя в Афины? Ты и правда хочешь поговорить с императором только для того, чтобы дать ему нежелательные советы?
— Я хотел бы поговорить с Марком Антонием — да, но я предпочел бы подождать, пока он вновь станет трезвым.
Раздался возмущенный ропот, в котором слышались возгласы, что надо высечь этого наглеца, бросить его в море, отрезать ему уши и другие столь же дружелюбные требования.
Этому маленькому Гемину нельзя было все же отказать в мужестве. Он поднял обе руки и продолжал недрогнувшим громким голосом:
— В ответ на твой вопрос, что действительно привело меня в Афины, я скажу то, что мне поручено было передать. Поскольку мне не позволяют поговорить с императором, я скажу это во всеуслышание. Твои друзья в Риме, император, считают необходимым, чтобы царица Клеопатра вернулась в Египет и чтобы впредь ты обращался с ней как с клиентальной царицей, платящей дань Риму, — каковой она и является de facto и de juro.
В зале стало так тихо, что слышно было, как капает со стола разлитое вино. Все взоры обратились к царице, и никто в зале, как я полагаю, не дал бы и одного обола за жизнь Гемина.
Однако я лучше знал мою царицу и понимал, что ничто не вызывает у нее такого уважения, как личное мужество и презрение к смерти. Ее полные губы раздвинулись в подобие улыбки.
— Гемин, — раздался ее чистый ясный голос, — ты правильно сделал, сказав нам правду. Теперь нам не придется тебя пытать.
Затем она удалилась, исполненная достоинства, в окружении своих дам и личной охраны.
Я думаю, что император в ту же ночь поговорил с Гемином, хотя доказать это невозможно. Во всяком случае, в пользу этого говорит большинство фактов. Антоний не смог согласиться с требованиями своих друзей относительно царицы. Тем самым он вызвал новый взрыв возмущения среди сенаторов, своих сторонников и солдат, так что теперь мало кто в Риме верил в победу императора.
Глава 12
Осенью этого судьбоносного года сенат прислал Клеопатре официальное объявление войны — только ей; Октавий не зашел так далеко, чтобы открыто говорить о борьбе со своим бывшим соправителем. Он предпринял более ловкий ход и распустил слухи, которые должны были привести к падению и смерти императора.
Я не хотел бы, чтобы меня поняли неправильно. Я допускаю, что время от времени нам даются какие-то знамения свыше, чтобы предостеречь нас или предупредить о чем-то. Но думаю, что в большинстве случаев за этим скрываются люди, преследующие какие-то свои цели.
Так, утверждают, будто бы в результате сильного землетрясения был разрушен городок Писа, основанный Антонием на побережье Адриатического моря. Недавно я узнал, что на самом деле речь тогда шла всего о двух-трех недостаточно прочных домах — и не более.
Далее, всеобщее возбуждение вызвала новая игра, которой увлеклись римские дети. Как это часто бывает, они обыгрывают ссоры, которые происходят среди взрослых. В этой игре они разбивались на две партии: одна за Антония, другая за Октавия, и последняя должна была одержать победу. Вот уж поистине божественное предзнаменование…
Очень серьезно было воспринято также явление в городке Альба. На статуе императора, возвышавшейся там над храмом Юпитера, вдруг выступила «кровь». Я разузнал и об этом событии. Оказалось, что эта статуя просто «потела», то есть на ней выступала вода. А почему? Потому что в тот год даже осенью дни все еще были очень жаркими, а ночи в албанских горах стали уже достаточно прохладными. Поэтому камень сильно охлаждался, и — в соответствии с законами физики — под жарким утренним солнцем на нем выступала вода. Это явление знакомо каждому ребенку. То же самое происходит с металлическим кубком: если наполнить его холодной родниковой водой, он станет влажным снаружи. На сотнях статуй тогда — как, впрочем, и сегодня, — если ночи были холодными, а дни жаркими, должна была выступать влага. Однако, стоило случиться такому со статуей императора, как тут же распространились слухи, что это может означать только смерть и падение. Дальнейшие примеры? Приведу еще один, свидетелем которого оказался я сам.
Во время нашего пребывания в Афинах от сильного ветра в театре обвалилась часть обветшавшего уже украшения фронтона. Случайно это оказалось изображение сцены из гигантомахии — битвы богов и гигантов
[88], — и среди прочих на землю упал и Дионис. Никто не придал бы этому ни малейшего значения: подобные случаи в больших и старых городах происходят почти каждый день. Обычно после этого просто устраняют повреждение и забывают о них. Однако позже какой-то находчивый историк напомнил об этом событии и заявил, что поскольку император часто выступал в роли «Нового Диониса», то его можно рассматривать как намек на грозящее Антонию падение. Если бы побежденным оказался Октавий, предзнаменований его гибели, конечно, нашлось бы не меньше.
Во всяком случае, теперь стала ясна расстановка сил, и Марк Антоний перешел к действиям. В первую очередь он потребовал, чтобы все подчиненные ему города и клиентальные правители принесли бы торжественную присягу, и, со своей стороны, заверил, что будет бороться до полного поражения противника, непримиримо и беспощадно. Через шесть месяцев после своей победы он собирался сложить с себя все полномочия и передать власть народу и сенату Рима.
Оставив царицу и ее двор в Афинах, император отправился в путь, чтобы возвести цепь укрепленных пунктов на побережье Ионического моря. Самым северным из них должен был стать остров Коркира, затем следовали Акциум в Амбракийском заливе, остров Левкада, гавань Патры в Коринфском заливе, остров Закинф, гавань Мефона на южной оконечности Эллады и, наконец, укрепления на Крите и в Киренаике, которые уже относились к владениям нашей царицы.
В октябре император вернулся, и все вместе мы переехали в Патры, город, расположенный неподалеку от упомянутого выше укрепленного пункта. Отцы города сочли это высокой честью. По их приказанию вскоре были отчеканены монеты с портретом царицы, с обратной стороны был изображен систр, связанный с культом Исиды.
Антоний приказал разбить палатки у стен города. Отсюда он разослал всем клиентальным правителям приглашения на симпосий, на котором они затем были представлены царице.
Ирод из Иудеи, Малх из Набатеи и еще несколько менее значительных правителей из осторожности или расчета прислали вместо себя представителей. Однако их помощь деньгами, войском и оружием была столь значительна, что эти царские послы были приняты с большим почетом и уважением.
Все выглядело прекрасно и обнадеживающе; при каждой удобной возможности император заверял свое окружение, что он превосходит Октавия не только по количеству войск и кораблей, но и располагает такими суммами денег, которые и не снились его противнику.
— Дни Октавия сочтены, поверь мне, — сказал он мне однажды. — Однако мне мучительно сознавать, что мы долгие годы были соратниками по борьбе, вместе отомстили убийцам Цезаря, а теперь…
На лице Антония отразилось глубокое волнение. Собравшись с мыслями, он продолжил:
— Все могло бы быть иначе… Я думаю, мы оба в последние годы совершили непоправимую ошибку, когда из-за каких-то подозрений или пусть даже оправданного недоверия не встречались больше друг с другом. В разговоре как мужчина с мужчиной гораздо скорее можно разрешить проблемы, которые на расстоянии кажутся сложнее. Ну а теперь дела обстоят так, что мне надо сражаться до конца. Но я скажу тебе, Олимп, потому что я тебе доверяю и ты умеешь молчать, я не хотел бы гибели Октавия и предпочел бы вместе с ним править Римом — почти как дуумвиры
[89]. Я уступил бы ему Рим, потому что он как никто умеет обходиться с сенатом, а на себя взял бы переговоры с другими странами.
Он замолчал и в несколько больших глотков осушил свой рубок. Что должен был я ему ответить?
— Я думаю, для этого уже слишком поздно, император.
— Знаю! — буркнул он и, тяжело ступая, вышел.
С Ирас мы в это время виделись редко, однако иногда обстоятельства нам благоприятствовали. Она, казалось, была непоколебимо уверена в нашей победе. Впрочем, нет — не казалось, а так оно и было на самом деле.
… Однажды мы брели по берегу, направляясь к-палаткам. Легкий вечерний ветерок развевал над ними разноцветные вымпелы. Я как раз собрался спросить Ирас, свободна ли она сегодня ночью, как нас чуть не сбил с ног какой-то запыхавшийся раб.
— Ирас… Ирас должна срочно… срочно… явиться к царице.
Конечно, я отправился с ней и сразу узнал ошеломляющую новость.
Марк Агриппа, гениальный главнокомандующий флотом и друг Октавия, в. полнейшей тишине и совершенно неожиданно привел в Ионическое море большую часть своего флота. Внезапным броском он захватил Мефону, одну из важнейших наших морских баз, и уже собирался напасть на остальные укрерленные пункты. Марк Агриппа угрожал грузовым кораблям Клеопатры и теперь принудил Антония стянуть к Патрам большую часть своего флота.
И это еще не все. Взятие Мефоны напомнило Эвриклу, управителю Спарты, что Антоний приказал казнить его отца за пиратство, и он перешел на сторону Октавия — а вместе с ним и легат Атратин, обязанный императору своим назначением. Чтобы окончательно рассчитаться, Эврикл приказал изменить две буквы, отчеканенные на монетах, то есть исправил ATR на AGR, что означало Агриппа.
И по сей день многие историки считают, что Марк Антоний проиграл войну уже после взятия Мефоны, потому что в новой позиции, которую он вынужден был занять, его морские силы были раздроблены.
Однако мы немедленно отправились в Акциум, где император хотел устроить новую центральную морскую базу. Одновременно он приказал туда выступить девятнадцати легионам своей пехоты, которые еще находились в Элладе.
Глава 13
Сегодня любой образованный человек знает, какую роль в истории сыграл Акциум. Тогда же это было маленькое никому не известное местечко. К нашему приезду несколько дюжин жителей давно уже бежали, потому что вокруг все только и говорили, что о приближении большого войска.
Император разбил свой лагерь. на южном побережье Амбракийского залива, Октавий расположился на северном берегу — в десяти или двенадцати стадиях от нас. Нам было видно его палатку. Она находилась на вершине холма, с которого ему открывался прекрасный обзор как на залив, так и на открытое море.
Уже в первый день Октавий напал на наш флот, как будто хотел одним ударом сразу же все разрешить. Однако мы отбили это нападение. Антоний тут же приказал отчеканить монеты в честь этой «победы». Это столкновение оказалось незначительным — особенно по сравнению с последующими, — тем более что Агриппа не участвовал в нем. В это время он отправился на юг, захватил Патры и Левкаду, что поставило Антония в весьма затруднительное положение. Теперь он был заперт в Акциуме и не мог ожидать никакой поддержки извне, прервалось и всякое снабжение. Дальнейшее не замедлило последовать; наступил июль, от мелководья у окружавших залив болотистых берегов распространялись болезни; они отличались от тех, с которыми нам приходилось иметь дело в Парфии. Это была какая-то перемежающаяся лихорадка. Если она протекала в относительно легкой форме, то четырех- или шестичасовая фаза сильной лихорадки сменялась затем полным отдыхом и нормальной температурой, которая сохранялась весь этот и последующий день. На утро третьего дня все повторялось сначала. Это была очень изнурительная болезнь. От нее умерли почти половина солдат, а те, что выжили, уже были не пригодны к службе, и их пришлось уволить. Единственным средством, которое хоть как-то помогало, оказался мышьяк в крошечных дозах, и то помогал он не всем.
Эта болезнь могла протекать и в более опасной форме: при этом приступы были значительно длиннее и нередко продолжались целый день. Почти всегда больной через неделю умирал.
Кроме того, каждый второй солдат страдал от поноса (диареи). Правда, по сравнению с лихорадкой он был довольно безобиден, хотя и сопровождался сильными болями в животе и тошнотой. Больные сильно слабели, но затем довольно быстро выздоравливали. Повторно заболевание протекало гораздо легче.
Я говорил с другими врачами, и все мы сошлись на том, что причиной болезни является плохая питьевая вода. Местность вокруг Акциума была болотистой, нам не удалось обнаружить ни одного источника, а грунтовые воды были горькие, солоноватые и непригодные для питья. Этот вывод подтверждался и тем, что в окружении царицы и императора не было еще ни одного случая диареи: ведь мы пили только родниковую воду, которую нам заботливо доставляли из отдаленного горного источника.
Когда от описанных выше болезней умер первый солдат, Антоний вызвал меня в свою палатку. При моем появлении его обычная несколько наигранная беззаботность спала, как театральная маска.
— Я полагаю, мы должны возвести здесь, в лагере, алтарь твоему богу Асклепию, чтобы он стал к нам более милостив. Это та же самая зараза, которая погубила нас в парфянскую кампанию? Здесь она тоже может иметь фатальные последствия.
— Нет, император, к счастью, нет. Перемежающаяся лихорадка, конечно, опаснее, чем понос. Против первого мы бессильны, но со вторым еще можно бороться.
Он вздохнул с видимым облегчением.
— Хвала богам. Что ты посоветуешь?
Я объяснил ему, что причиной является плохая вода, и предложил как можно более простым и быстрым способом провести сюда воду из горных источников. В нескольких стадиях к юго-востоку от лагеря в море впадали горные ручьи, которые можно было бы заставить течь в другом направлении, вырыв глубокую и узкую канаву.
Антоний с такой силой хлопнул меня по плечу, что я чуть не упал.
— Олимп, Олимп, что бы я без тебя делал! Каждый день я обращаюсь с молитвой к Марсу, чтобы Октавий не начинал пока сражение, потому что наши люди находятся в столь плохом состоянии, — Однако он, кажется, и так не помышляет об этом и хочет предоставить мне сделать первый шаг. С его стороны это очень неразумно, потому что каждый день прибывают новые солдаты из Эллады, и когда мы будем достаточно сильны, он может считать битву проигранной.
Это была типичная для него смена настроений. Его опечаленное лицо разгладилось, глаза блестели, на виске пульсировала жилка. Он вскочил:
— Я сейчас же отдам необходимые распоряжения моим пионерам!
Работы на канале продвигались быстро. Не прошло и двух недель, как по лагерю заструился чистый горный ручей, и через несколько дней от диареи не осталось и следа. После сильных гроз в конце июля установилась более прохладная погода, воздух очистился, и перемежающаяся лихорадка также исчезла.
Однако эти болезни унесли жизни пяти или шести тысяч человек, среди которых особенно много было гребцов. Антоний действовал быстро: он послал отряд своих лучших легионеров в глубь страны, они просто хватали всех здоровых мужчин от пятнадцати до пятидесяти лет и насильно обращали их в гребцов.
Император вновь обрел уверенность и решил неожиданно напасть на Октавия. Он высадился со своими лучшими отрядами на северном берегу и приказал разбить палатки на расстоянии голоса от неприятельского лагеря. Вскоре выяснилось, что это была его ошибка. Октавий успешно отражал все нападения, и Антонию пришлось наблюдать, как один из мелких клиентальных правителей почти на его глазах перешел на сторону противника. Его пример вызвал массовое бегство, которое император смог остановить, только после того как приказал казнить перед всеми двух схваченных при этом римских сенаторов и одного клиентального правителя.
После этого Антоний снова вернулся в свой южный лагерь и предпринял попытку пополнить свои заметно уменьшившиеся легионы. Он послал на север отряд под командованием Квинта Деллия, чтобы завербовать в Македонии и Фракии новых солдат — денег для этого благодаря поддержке Клеопатры было достаточно. Эта попытка окончилась неудачей, так же как и другая — вырваться из тисков врага. При этом Аминт, царь Галатии, который командовал отрядом всадников в две тысячи человек, перешел на сторону Октавия, потому что все более очевидным становилось поражение императора в этой войне.
Можно представить себе, как разлагающе действовало это на боевой дух солдат — как римских, так и иностранных. Иностранцы боялись, что поплатятся головой за проигранную битву, а римляне опасались мести своих соотечественников, если в конце концов их объявят предателями родины.
А как обстояли дела у Клеопатры в эти дни? Ее палатка была расположена на возвышенности в непосредственной близости от берега. Справа от нее находилась плоская коса, слева поднимался поросший лесом холм, который загораживал вид на северную оконечность острова Левкада. Палатка была расположена так, чтобы Клеопатра в кратчайшее время смогла добраться до своего корабля, где отборные сильные гребцы ожидали ее возможных приказаний. При этом речь шла не только о ней лично. Несколько грузовых кораблей стояли наготове в ожидании сокровищ, которые день и ночь надежно охранялись в лагере. В случае угрозы все золото и серебро следовало перенести на ее флагманский корабль «Антоний», потому что, как она сказала однажды, «если я погибну, то всю государственную казну заберу с собой. На дне моря она сохранится лучше, чем в руках у римлян».
В создавшемся положении царица не выказывала ни страха, ни малодушия. Она рассчитывала на силу и превосходство нашего флота и принадлежала к тем, кто не признает войны на суше. Только в морском сражении победа может быть окончательной.
Канидий Красс, верный друг императора и испытанный легат нашей армии, оказался единственным, кто разделял мнение Клеопатры. Однако после того, как войско Антония уменьшилось из-за болезней и бегства, у него хватало людей только для двухсот тридцати военных кораблей, а не для пятисот, как было предусмотрено. Поэтому теперь на море был сильнее Октавий, и Красс советовал направить войска на север, чтобы принудить Октавия к сухопутному сражению в Македонии или Фракии. Кроме того, он предложил, чтобы при этом царица вместе с государственной казной находилась в безопасности.
Но как раз этого царица и не хотела. Она опасалась, что в ее отсутствие Антоний мог бы объединиться с противником, и тогда вместе с троном она потеряла бы и возлюбленного.
Таким образом, положение Антония было незавидным: он оказался между двумя лагерями и должен был поскорее на что-то решиться.
В это время произошло еще одно событие, о котором до сих пор не упоминал никто из историков, потому что о нем знал только я.
Однажды, душным пасмурным днем в середине августа, когда в горах слышались отдаленные раскаты грома, я увидел очередной отряд солдат. Они вели к побережью человек двадцать,
закованных в цепи, которым предстояло занять место гребцов на кораблях Марка Антония. Некоторые из них были почти детьми, другие — несмотря на всю свою силу — казались слишком старыми.
Мое внимание привлек высокий худой мужчина средних лет. Его седоватая борода и хорошая, хотя сейчас грязная и порванная, одежда свидетельствовали о том, что он не мог быть жителем одной из окрестных деревень.
— Господин, я жрец из Некромантейона, что под Эфирой! — воскликнул он, заметив меня. — Я не гожусь в гребцы. Я могу заплатить хороший выкуп, но…
Один из солдат ткнул его тупым концом пики в лицо — не слишком сильно, можно даже сказать, добродушно.
— Закрой пасть, старик! Император нуждается в гребцах, а не в жрецах, и ты для этого вполне годишься!
Я подошел ближе и поднял руку.
— Я — Олимп, личный врач царицы и друг императора. Я позабочусь об этом человеке!
Солдат принялся ворчать что-то, но тут появился центурион и кивнул мне.
— Под твою ответственность, Олимп! Снимите с него оковы! — Он ухмыльнулся мне и тихо сказал: — Одним больше, одним меньше — не так уж важно. Надеюсь, ты поделишься со мной, если этот парень заплатит выкуп.
Я усмехнулся в ответ и шепнул:
— Каждому по половине…
Он кивнул и повернулся к остальным.
Я взял жреца за руку.
— Пойдем в мою палатку.
Не в первый раз уже встречал я эти отряды и их несчастных жертв: крестьян, пастухов, ремесленников и поденщиков — их хватали без разбора и приковывали к веслам. Я никогда не вмешивался, потому что считал, что у войны свои законы, и то, что недопустимо в мирное время, теперь может быть правильным.
Почему же я вмешался на этот раз? Я действовал спонтанно, не раздумывая. Может быть, я почувствовал какую-то солидарность с этим образованным человеком, который был для меня ближе, чем пастухи и крестьяне. Или мной двигало любопытство: он упомянул название Эфира, знакомое каждому читателю «Одиссеи». Мы встречаем его уже в первой песни, когда Афина Паллада говорит об Одиссее, прибывшем в Эфиру:
Яда смертельного людям искал он, дабы напоить им
Стрелы свои…
Во второй песни вновь упоминается это место и снова в связи с ядом:
Может случиться и то, что богатую землю Эфиру
Он посетит, чтоб, добывши там яду, смертельного людям…
Итак, я подумал, что с этим человеком из Эфиры стоит познакомиться, чтобы побольше узнать об этом мрачном месте.
Мы пришли в мою палатку, и я отправил слугу за водой, чтобы гость мог помыться. Тихо застонав, он опустился на стул, который я ему предложил.
— Меня зовут Диокл. Я родом из Филипп и как раз направлялся туда навестить свою больную мать, когда меня схватили твои люди. Они ничего не хотели слушать, хотя я говорил, что я из Эфиры, жрец Персефоны и могу заплатить большой выкуп. Может быть, они просто не поверили мне — во всяком случае, мне возразили, что им приказано набрать гребцов для Марка Антония, а не собирать деньги — их у императора более чем достаточно…
Диокл умылся, насколько это было возможно. Его ноги были стерты в кровь, ударом копья ему выбили передний зуб.
— Я должен поправить тебя, — сказал я, — Это не мои люди, как ты сказал, а солдаты императора. Я личный врач царицы Египта и не люблю вмешиваться в дела, которые меня не касаются.
— Но пришлось…
Я пожал плечами и принужденно засмеялся.
— Да, пришлось — может, по настроению, а может, я по твоему виду принял тебя за своего коллегу.
— И ты не так уж ошибся. Мы, жрецы Некромантейона, исцеляем души, ведь те, кто приходит к нам, ищут исцеления — да, так вполне можно сказать, — потому что им что-то причиняет боль, мешает…
— Некромантейон? Разве ты не сказал, что ты жрец Персефоны?
Он улыбнулся.
— Ну да, ведь это одно и то же. Мы служим проводниками в подземное царство, и там с помощью Персефоны вызываем души умерших. Если они приходят, их можно спросить о прошлом и будущем, попросить у них совета в больших или малых делах…
— Как далеко это отсюда?
— По суше дальше — взгляни на мои ноги, но морем это около тридцати римских миль, то есть около двухсот двадцати стадий. Хорошие гребцы доставят туда через три или четыре часа.
— И вы можете вызвать любого умершего? — насмешливо спросил я. — Моего отца, например, или Гомера, или Александра Великого?..
— Любого! — твердо ответил он. — Магические силы Некромантейона давно испытаны. Нам, жрецам, известны нужные заклинания. Однако путь в подземное царство был бы для тебя нелегок.
— Конечно, надо переправиться через Ахеронт
[90] и заплатить перевозчику Харону?
Он не обратил внимания на мой насмешливый тон.
— Да, это так, — сказал он серьезно.
Я все еще не хотел этому поверить.
— Значит, мы могли бы вызвать Юлия Цезаря и спросить его дух, кто выиграет эту войну?
Он кивнул.
— И это возможно.
— Мне трудно в это поверить.
— Ты можешь сам попробовать.
Я поднялся.
— Так я и сделаю.
Мое намерение расспросить о таинственной Эфире, где произрастают ядовитые травы, было забыто, стоило мне услышать об оракуле мертвых.
Кликнув слугу, я приказал ему принести для Диокла подходящую одежду.
— Отдохни и приведи себя в порядок. Возможно, моя царица захочет тебя видеть.
Затем я попросил срочной аудиенции у Клеопатры. У входа в ее палатку меня встретила насмешливая Ирас.
— Надеюсь, ты не будешь беспокоить царицу из-за какой-нибудь чепухи!
Я поцеловал ее в щеку.
— Нет, моя красавица, я помогу ей выиграть войну.
Фыркнув, она пропустила меня. Царица слушала несколько рассеянно. Я объяснил ей все, что узнал, и добавил, что предсказание божественного оракула, да еще из уст Юлия Цезаря, могло бы нам не повредить.
Она ненадолго задумалась, и я заметил на ее лице что-то похожее на нерешительность или даже беспомощность. Затем она равнодушно махнула рукой.
— Почему бы и нет? Во всяком случае, оракул так или иначе может быть нам полезен. Позови этого жреца — теперь же!
Она говорила с Диоклом наедине, и я так никогда и не узнал, воздействовала ли она на него силой или заключила что-то вроде торговой сделки. Царица никогда потом не говорила об этом, а Диокл также хранил молчание.
Мне царица сообщила, что жрец заверил ее, что любой нуждающийся в совете может послать кого-нибудь вместо себя.
— Итак, ты отправишься с Диоклом в Эфиру и будешь следовать указаниям жрецов и, если явится дух Юлия Цезаря, спросишь его, каким образом будет выиграна эта война.
Она коротко рассмеялась.
— Ты похож на крестьянина, у которого градом побило урожай. Во имя Сераписа — дело стоит того, чтобы попытаться. Если пророчество окажется не в нашу пользу, мы не станем обращать на него внимания. Слушай же хорошенько. Ты скажешь: «Божественный Цезарь, Клеопатра, мать твоего сына Цезариона, просит у тебя совета, каким образом будет выиграна эта война». Ни больше и ни меньше, потому что не стоит все же забывать, что эта война ведется против его приемного сына Октавия.
Я поклонился.
— Слушаю и повинуюсь.
Царица обернулась к Ирас и сказала насмешливо:
— Он слушается меня не очень охотно, это сразу видно. Тебе нужно выбить из него это упрямство.
Мы отплыли на следующий же день. Сильные и ловкие гребцы вели наше небольшое легкое судно так, что оно почти летело над водой. Довольно трудно было обогнуть флот Октавия, стоявший на рейде севернее, поэтому наша маленькая лодка просто проскользнула между вздымавшимися квадриремами и квинкеремами. Матросы сверху осыпали нас градом насмешек и скверных шуток, но не тронули. Через несколько часов мы причалили к берегу, который Диокл назвал Гликис Лимен — «Сладкая гавань». Слева от нас возвышались утесы Химериона, справа, совсем рядом с тем местом, где мы причалили, в море впадал Ахеронт. В широкой прозрачной реке не было ничего мрачного, по берегам ее густо росли кусты и деревья, и вовсе не похоже было, что она ведет прямо в подземное царство.
Я сказал об этом Диоклу, и он обратил ко мне серьезное бородатое лицо.
— Это впечатление обманчиво. Здесь, где Ахеронт сочетается с морем, он может предстать более светлым, однако тебе предстоит узнать его и с другой стороны.
Мы вышли на берег, и я спросил, как долго лодка будет ждать нас здесь.,
— Я могу вернуться сюда утром четвертого дня, — ответил Диокл.
Недалеко от устья реки стоял маленький дом из необтесанного камня. Диокл без стука распахнул дверь, и на пороге появился, какой-то старик довольно неприветливого вида.
— Его сыновья отвезут нас вверх по реке до озера.
Мы сели в маленькую лодку, и два крепких парня сильными ударами весел направили ее против течения.
Совсем скоро Ахеронт потерял свою безмятежность и привлекательность. Ветви кустов и деревьев низко склонялись над водой, и — как бы заранее оказывая почет Персефоне — мне приходилось то и дело нагибаться, уворачиваясь, чтобы они не хлестнули меня. Близился вечер, вода потемнела, и внезапно перед нами открылось небольшое озеро, ровное и неподвижное, как какое-то черное зеркало. Слева возвышался крутой холм, густо поросший кипарисами, на котором виднелась какая-тор низкая, похожая на крепостную, стена, но без башен и бойниц.
— Что это? — указал я на нее.
Диокл приложил палец к губам.
— С этого момента ты должен молчать. Слушайся указаний, от кого бы они ни исходили. И спасибо тебе за помощь.
Мы пристали к берегу, и Диокл исчез среди кустов, указав перед этим на маленький челн, который стоял у берега чуть дальше. Подойдя к нему, я увидел на корме перевозчика, закутанного в черный плащ. Он кивнул мне, чтобы я сел. Когда я собрался повернуться по ходу движения, он покачал головой, также закутанной в черное, и дал понять, что я должен сидеть спиной к тому, куда мы плывем, и ни в коем случае не должен оборачиваться.
Как он это сделал? Словами? Жестами? Во всяком случае, я понял его и не обернулся, даже когда мы причалили.
Начиная с этого места мой рассказ звучит несколько странно. Однако замечу, что я описал только то, что чувствовал и переживал. И прежде всего, я хотел бы заверить, что в Некромантейоне я вступил в иной мир, вначале ощупью и неуверенно, потому что там царил мрак. Я мог полагаться только на то, что слышу и чувствую. Все здесь было чужое, иное и незнакомое — все совсем не так, как в нашем мире, на земле.
Все стало сумеречным. Перевозчик, как Харон, протянул руку, и я положил в нее обол. Он помог мне выйти и поручил еще кому-то, тоже в черном. Преодолев около двадцати крутых ступеней, мы оказались с ним перед какими-то невысокими воротами.
Угрожающее рычание заставило меня сжаться от страха. Должно быть, за нами мчался какой-то дикий зверь, чье дыхание больно отзывалось у меня в ушах. Собака была где-то совсем рядом, однако по-прежнему ничего не было видно. Затем перед нами отворились тяжелые, обитые бронзой деревянные двери, однако я медлил и не двигался. Мой проводник обернулся ко мне — лицо его тоже скрывал черный капюшон — и спокойным приветливым жестом пригласил меня войти. «В конце концов, ты ведь здесь не погибнешь», — подумал я и переступил порог. С этого момента я двигался в полной темноте; свет возникал только на некоторое время и в определенных случаях — но об этом позже.
Мой проводник, за чью руку я держался, подтолкнул меня в какое-то маленькое помещение без окон. В слабом свете маленькой лампадки я смог разглядеть низкую кровать и ночной горшок рядом с ней. Мы постояли несколько минут, потом мой провожатый поднял лампадку и указал на стол у стены, где стояла чаша и кувшин, и то и другое черного цвета, затем показал на мой рот и исчез.
Я ощупью добрался до кровати и лег. Ложе было жесткое, но нельзя сказать, чтобы неудобное, и меня сразу потянуло в сон. Но тут я вспомнил о кувшине и чаше и сразу почувствовал голод и жажду.
Немного спустя мне показалось, что в помещении не так уж темно, а скорее сумеречно. Я без труда различал очертания сосудов, однако было бы неправильным утверждать, что я их видел.
Здесь не было, как почувствовал я и в последующие дни, ничего однозначного, ничего ясного и обозримого. Это был особый мир, лежащий между тем светом и этим, между чужим и знакомым, привычным и непривычным.
Это проявлялось даже в еде. Вода в кувшине оказалась прохладной и приятной, но имела странный кисловатый привкус, который я не смог определить — он был слегка фруктовый, похожий на лимон, и немного напоминал вкус воды из целебных источников.
В чаше оказалась горсть бобовых или ореховых зерен.
Когда я вновь прилег, усталость моя куда-то пропала. Раньше мне казалось, что здесь царит абсолютная тишина, однако теперь я различил какой-то далекий слабый шум: шепот, шарканье, стук и высокие гудящие голоса. Все это лежало на границе реальности. Стоило мне сконцентрироваться на своих мыслях, как эти шумы исчезали, но как только я начинал прислушиваться, они вновь возникали — очень отдаленные, едва слышные, но все же различимые.
В какой-то момент я все же заснул, а проснувшись, сразу вспомнил, где я нахожусь, но не мог понять, как долго я проспал. Всего несколько часов — или целую ночь? В этих вечных сумерках исчезало всякое понятие времени, и я уже стал досадовать на то, что позволил втянуть себя в это приключение.
Сильный приступ боли в животе вырвал меня из постели, и я поспешил к ночному горшку. Одновременно меня охватило странное оцепенение. Я стукнул кулаком по лбу и ничего не почувствовал, как если бы это была, вовсе не моя голова.
Я снова лег и теперь уже не знал, существуют ли все эти далекие шумы, голоса, стуки и шепот на самом деле или только в моем воображении — или и то и другое. Возможно, я вновь заснул. Во всяком случае, я проснулся, когда услышал звук шагов. В слабом свете лампадки я увидел, как кто-то взял горшок. Я быстро схватил его за рукав.
— Уже утро? Когда я…
Человек замер, и я почувствовал, как холодная рука закрыла мне рот. Обет молчания — да, я и забыл о нем. Я покорно сел, наблюдая, как неизвестный проверил чашу и кувшин, сунул и то и другое в мешок и вышел. Пламя лампадки как будто оставило след, вокруг мелькали какие-то красные искорки. Когда я закрыл глаза, они стали синими, затем бирюзовыми, зелеными, бледно-желтыми и наконец погасли.
Я вновь впал в полузабытье, как будто грезил наяву, и передо мной без всякого хронологического порядка проплывали неясные картины из моего прошлого, вплоть до раннего детства. Я увидел свою мать, лежащую в гробу. Ее раскрашенное лицо ожило, гроб раскрылся, она сняла с себя погребальный саван и сказала тихим нежным голосом: «Олимп, сын мой, наконец-то я снова вижу тебя». Я сразу понял, что эта встреча возможна только в царстве мертвых. Стало быть, я умер. Но эта мысль почему-то вовсе не испугала меня. Затем я увидел другую картину: мой отец указывал на кучу отделенных частей тела, сложенных на смертном одре; на самом верху лежала голова, которая выжидающе улыбнулась мне. «Мы должны заштопать его!» — сказал мой отец. И вновь замелькали разрозненные картины. Позже мне пришло в голову, что все эти сцены разыгрывались в Египте. Все, кроме одной: я сидел в Пергамском Асклепийоне перед храмом, думал о книгах, которые должен изъять, и об Ироде, который меня ненавидит, Тут из храма послышалось чудесное пение, которое очаровало и отвлекло меня. Спустя какое-то время я вновь обнаружил себя в темной келье Некромантейона, однако пение не прерывалось. Я сел и прислушался. Это было что-то на грани действительности. Когда я задерживал дыхание и сосредотачивался весь на этих далеких звуках, то слышал речитатив и различал даже слова и фразы. Но как только внимание мое слабело, они превращались в неясный шум, который сразу исчезал, стоило мне вздохнуть посильней. Так как задерживать дыхание я мог лишь на время, то слышал только отрывки текста, однако вскоре понял, что это история Деметры, Персефоны и Аида
[91].
Я завороженно слушал это прекрасное пение, и мне показалось, что это длилось довольно долго. Может быть, всего полчаса, а может быть, часа два или три.
В какой-то момент, когда пение смолкло, я очнулся и почувствовал сильный голод, а язык мой был как высохший лист. Я ощупью добрался до стены, где нашел наполненные кувшин и чашу. В несколько глотков я выпил вкусную кисловатую воду и с жадностью проглотил какое-то блюдо, по вкусу напоминавшее и мясо и моллюсков. Оно было превосходным, и я легко мог бы съесть еще и вторую порцию. Остатком воды я вымыл руки и вытер их о хитон.
Я попытался понять, сколько времени прошло — десять часов? Двенадцать? Двадцать? Два дня? Нет, из этого ничего не вышло. Я сел на кровать и вновь почувствовал странное оцепенение — его нельзя было назвать усталостью, однако мысли мои путались, и не было ни сил, ни желания что-либо делать.
Вскоре после этого — а может, опять прошло несколько часов — дверь с шумом распахнулась, и появился некто со светильником. Я уже настолько привык к темноте, что его свет показался мне нестерпимо ярким, и зажмурился.
— Встань и следуй за мной!
Я послушно поднялся и двинулся за огоньком лампадки. Мы несколько раз сворачивали, может быть, даже ходили по кругу или лабиринту. Затем мы вдруг оказались в низком квадратном помещении — немногим больше моей кельи, — и спокойный приятный голос велел мне сесть. Я опустился на стул. Передо мной с потолка свисал масляный светильник, освещавший мое лицо, но мой собеседник оставался при этом в тени. Его облик был почти неразличим — может быть, даже это был Диокл? Я спросил его об этом.
— С этого момента тебе не разрешается больше задавать вопросы, Олимп. Ты можешь только отвечать, и при этом старайся придерживаться истины. Согласен?
— Хорошо. Итак, спрашивай.
— Ты родом из Александрии и служишь личным врачом царицы Египта. Она прислала тебя с поручением вызвать дух римского диктатора Юлия Цезаря, чтобы задать ему один вопрос. Как он звучит?
— Я должен задать его божественному Цезарю, а не тебе.
— Как хочешь — я ведь и так его знаю. Опиши мне теперь ситуацию в Амбракийском заливе, где расположены сухопутные и морские силы твоей царицы и императора Марка Антония, которые противостоят Октавию. Кто сильнее и на чьей стороне закон?
— Наше войско было сильнее, но уменьшилось из-за болезней и бегства, так что теперь силы примерно одинаковы; У нас пятьсот военных кораблей, у противника около четырехсот.
— Но у вас не хватает команды, поэтому часть кораблей бесполезна. Из-за этого нашего уважаемого Диокла чуть не сделали гребцом. Некромантейон должен поблагодарить тебя за помощь, которую ты ему оказал. Итак, кто, по-твоему, прав в этом сражении?
— Этого я не могу тебе сказать. Однако я знаю, кто будет прав — победитель! Само собой разумеется, я желаю победы нашей партии.
— Да, — повторил невидимый голос, — это и так понятно — ив этих словах не прозвучало ни малейшей насмешки.
Воцарилось долгое молчание, я терпеливо сидел, пока голос не приказал мне:
— Теперь иди, Олимп. Пройдет немного времени, и затем ты сможешь задать свой вопрос духу Юлия Цезаря.
Что-то легко коснулось меня сзади, я поднялся, и меня проводили обратно в мою келью. На этот раз в кувшине оказалась очень вкусная вода с медом, а в чаше — бобы, которые из-за их горького привкуса я глотал почти не разжевывая. После них так сильно хотелось пить, что я опорожнил кувшин почти мгновенно, а затем вновь погрузился в грезы наяву, которые были еще более беспорядочными и разнообразными, чем до сих пор. Картины сменялись с такой быстротой, что ни одной из них я не мог разглядеть отчетливо. Когда я вновь проснулся, то почувствовал себя свежим и отдохнувшим, однако голова моя была пуста и в ней не было ни одной связной мысли, кроме вопроса: «Когда же наконец я встречусь с духом Юлия Цезаря? Произойдет ли это вообще? Каким образом? Ответит ли он мне? А может быть, даже спросит о чем-нибудь?»
Меня это вдруг очень обеспокоило. С другой стороны;-он ведь увидит, что я только выполняю поручение Клеопатры, и примет это во внимание. Увидит? Могут ли они вообще слышать, чувствовать, обонять? Слышать-то могут — ведь живые приходят сюда, чтобы задать им вопросы?
Все мои мысли крутились вокруг этого, но тут появился некто и проводил меня в какой-то слабоосвещенный зал, где на полу была установлена ванна с водой.
— Помойся! — услышал я тихое приказание. — Очистись с головы до ног!
На краю ванны лежала губка, рядом стояли два сосуда. В одном из них оказалась smegma. Я намылил ею все тело, залез в ванну и как следует смыл все не очень холодной водой. В другом сосуде было ароматическое масло, я натерся им и быстро оделся.
Меня охватило приятное тепло, и я, наверное, так и уснул бы сидя, если бы меня вновь не привели в мою келью. Там я лег, однако почти тут же услышал громкий речитатив — хор из трех или четырех мужских голосов, который, вероятно, был недалеко от моей двери. Если раньше пение было далеким и тихим, так что я почти ничего не мог разобрать, то теперь оно звучало громко и отчетливо. Однако я все равно ничего не понимал, потому что это, видимо, был древний священный язык, на котором жрецы общались с богами. Каждый раз, когда я уже почти засыпал, пение становилось таким громким, Что я вновь просыпался, и так постепенно пришел в состояние крайнего возбуждения.
К сожалению, я не могу сказать, как долго это продолжалось — наверное, несколько часов. Внезапно все стихло, и я тут же заснул, чтобы вскоре вновь быть разбуженным.
Полусонного, меня вывели из кельи. Ко мне подошел жрец и дал мне в правую руку какую-то маленькую тарелочку с мукой — или с чем-то похожим, — а в левую — два камня величиной с куриное яйцо. Затем он медленно двинулся впереди меня, громко читая молитвы на древнем языке и останавливаясь через каждые пять шагов, чтобы — на понятном греческом — призвать на помощь различных богов. Здесь были Гадес, которого он называл его древним именем Аид, его супруга Персефона, ее мать Деметра и вездесущий Зевс, отец богов, сын Кроноса и Реи.
Пройдя сквозь низкую арку, мы попали во второй, более узкий коридор.
— Брось один камень, — шепнул жрец, обернувшись ко мне.
Я сделал это, и мой проводник вновь двинулся дальше, произнося молитвы и призывы. Затем справа открылся узкий проход в маленький лабиринт, заканчивавшийся низенькой калиткой.
— Теперь брось второй камень — сюда! — Он кивнул на место справа от двери. — А тарелку разбей здесь! — указал он на пол слева от двери.
С глухим стуком разбилась черная чаша, и мука взвилась белым облачком, как жертвенный дым.
— Теперь, Олимп, ищущий совета, ты вступаешь в место, которое лежит между Тартаром и земным миром, в место, где Аид и Персефона милостиво позволяют, чтобы духи умерших беседовали с живыми. Призови же там духа Юлия Цезаря и задай ему свой вопрос. Если он не ответит, повтори его еще раз, но используй те же самые слова. Только спрашивай и не говори ничего другого!
Я впал в состояние, которое трудно описать. Здесь было и ожидание, исполненное веры, и страх перед грядущим, и надо всем этим какое-то оцепенение, которое исходило от головы и охватывало все тело, делая его странно пустым и бесчувственным. Это позволяло мне подняться над происходящим, придавало мне некоторую неуязвимость и некоторое ощущение бессмертия.
Я медленно поднялся по крутым ступеням и вошел в адитон, место встречи, святая святых. Этот зал был залит ярким светом, исходящим от шести или восьми ламп, размещавшихся в стенных нишах-арках. Пол был из цельной скалы, очень неровный. Тот, кто попытался бы пройти здесь в темноте, споткнулся бы на втором шаге. Потолок был высотой в два человеческих роста и состоял из целого ряда каменных сводов. Когда я поднял голову, чтобы рассмотреть его получше, по залу пронеслось какое-то холодное дуновение и светильники тут же погасли. Теперь я стоял в полной темноте.
«Оставайся там, где стоишь, — приказал чей-то глухой звучный голос, — не двигайся ни вперед, ни назад, смотри все время перед собой. Медленно досчитай до двенадцати; на каждый счет проси о помощи одного из богов Олимпа. Затем еще раз молча сосчитай до двенадцати и устреми свои мысли к духу, которого ты хочешь вызвать. В третий раз сосчитай до двенадцати, затем призывай его, пока он не появится, а когда увидишь его, задай ему свой вопрос».
Итак, я призвал сначала священных богов Олимпа: Зевса и Геру, Посейдона, Деметру, Аполлона и Артемиду, Ареса, Афродиту, Гермеса и Афину и, наконец, Гестию и Гефеста. Затем я стал думать о Юлии Цезаре и досчитал до двенадцати. Было так же тихо и темно, но у меня возникло ощущение, что кроме меня здесь есть еще кто-то.
Пока я в третий раз едва слышным шепотом считал до двенадцати, тьма немного рассеялась, так что в сумеречном свете стала видна противоположная стена зала. При счете «двенадцать» она приобрела цвет темной охры.
— Божественный Цезарь! — воскликнул я тихо; потом чуть громче: — Божественный Цезарь, прошу тебя, появись!
Так я воззвал еще трижды и потом заметил какое-то трепетание на слабо освещенной противоположной стене, похожее на тень промелькнувшей летучей мыши. Очертания ее были изменчивы, пока не проступили отчетливо голова, руки и плечи.
Голова была повернута в профиль, и я увидел, что это был Юлий Цезарь. Я видел его при жизни и теперь узнал вновь. У меня перехватило дыхание. До сих пор я все же сомневался — и вот теперь стоял перед духом Божественного. Прежде чем я успел набраться мужества и задать вопрос, по залу пронесся беззвучный шепот:
— Олимп, Олимп, зачем ты вызвал меня?
— Божественный Цезарь, Клеопатра, мать твоего сына Цезариона, просит у тебя совета, каким образом будет выиграна эта война.
Гнетущее молчание; никакого ответа.
Я подождал, стараясь дышать как можно тише, чтобы не спугнуть призрака. Тень была неподвижна, я смотрел на нее, не отрывая глаз. Мне вдруг вспомнились слова погибшего Ахилла, сказанные им Одиссею, спустившемуся в подземное царство: «Лучше бы мне служить, кому-нибудь и обрабатывать его поля за самую маленькую плату, чем быть господином в царстве мертвых».
Если уж этот царский сын и потомок Зевса имел основания для жалоб на то, как живется ему в эребе
[92], каково-то приходится Цезарю? Я содрогнулся при мысли, что Цезарь тоже мог бы разразиться жалобами, как и Ахиллес, этот гордый герой, при посещении Одиссея.
— Прошу тебя об ответе, божественный Цезарь, — потребовал я поскорей.
Тут тень повернула голову, профиль исчез и стал виден только овал лица.
— Видишь ли, — послышался шепот, — я не желаю победы никому из римских братьев. Скажи Клеопатре, будет ли это для нее удача или горе, но спасение лежит на воде.
Как эхо, повторила тень последние слова:
— …удача или горе, спасение — на воде, на воде, воде, вод…
Слова смолкли, тень на стене побледнела, и сама стена цвета охры стала серой, а затем черной. Я стоял ві тьме, не решаясь пошевелиться и сделать хотя бы шаг, пока не раздалось приказание жреца:
— Повернись и иди к двери!
Там уже ожидал меня провожатый с лампой.
— Добро пожаловать в мир живущих! Соприкосновение с царством смерти осквернило тебя, Олимп. Я провожу тебя в loutron — очистись как следует!
Так я и сделал. Когда я оделся, меня уже ждал проводник, который вскоре вывел меня на поверхность. Хотя меня встретил мягкий свет сумерек, глазам моим стало больно, как от раскаленной пыли.
— Это утро или вечер?
Мой проводник рассмеялся —: да, этот жрец мертвых, оказывается, способен был весело смеяться.
— Это раннее утро, через полчаса взойдет солнце. Ты голоден?
Я энергично кивнул:
— Как волк!
Мы вошли в низкий дом с маленьким светлым портиком, обращенным на запад, где в утренних сумерках едва угадывалось море.
Меня встретил Диокл. Он тоже приветливо улыбался.
— Ну, Олимп, это были нелегкие дни — не правда ли?
— Дни?
— Да, ты провел здесь три ночи, но я знаю, как трудно понять во тьме, сколько прошло времени. Некоторые паломники полагают, что пробыли здесь неделю, другие считают, что десять или двенадцать часов. Встретил ли ты, кого хотел? Доволен ли его ответом?
Прежде чем я успел ответить, он предостерегающе поднял руку.
— Никаких имен, Олимп!
— Хорошо. Итак, тот, кого я искал, появился и ответил на мой вопрос.
— Хорошо. Ну, а теперь подкрепись, пока я дам тебе несколько советов.
Свежий хлеб был невероятно вкусным, сыр мягким и нежным, молоко прохладным.
Пока я ел и пил, Диокл наставлял:
— Прежде всего: никому, кроме того, кто отправил тебя, ты не должен рассказывать об этой твоей встрече. И даже ему ты должен только передать ответ, не упоминая о том, что ты здесь пережил. Вообще же твое паломничество еще не окончено. В нескольких шагах отсюда tj>i увидишь небольшой храм Персефоны. Там ты принесешь в жертву овцу и вот это.
Он поставил на стол маленькую глиняную фигурку Де-метры.
Я поблагодарил и заплатил плату в двенадцать драхм.
— Если тебе посчастливится, — добавил Диокл, — ты сможешь увидеть прибытие Посейдона. Он часто посещает в Некромантейоне своего брата Гадеса, и тогда на берег спускается божественный туман. Да, Олимп, ты находишься в святом месте.
Обильный завтрак, дневной свет и радующий сердце вид на прекрасные горы Элиды ободрили и развеселили меня. Я вновь был среди живых, и меня тут же охватила присущая врачам неприязнь ко всем этим фокусам, которые обряжают в божественные одежды.
«Это просто болтовня жрецов, чтобы вызвать в паломниках священный трепет», — подумал я. Я принес в жертву овцу и направился к берегу по дороге, окаймленной болотными растениями. Чем ближе к морю я подходил, тем настойчивее преследовали меня полчища комаров; пахло тухлой застоявшейся водой и гниющими растениями. Может быть, это и святое место, однако оно было отмечено мраком Некромантейона и у любого отбило бы желание остаться здесь подольше.
Над блеклой зеленью болотной растительности поднимались ядовитые испарения. Лучи солнца, показавшегося из-за гор на востоке, с трудом пробивались сквозь слой облаков. Его мутный свет только усиливал и без того ужасное впечатление от этой мертвой местности, покрытой болотами, ядовитыми растениями и тучами комаров.
Мои знания о ядовитых растениях были довольно скромными, однако я узнал в безвредном на вид зонтичном цветке крайне ядовитый болиголов. Его корень смертелен даже в небольшом количестве. Греки называют его koneion, а местные жители — цикута. Ее листья используют для компрессов при ушибах, растяжениях и вывихах суставов. Как я уже отмечал, очень часто ядовитые растения, если их правильно использовать, могут служить также и для исцеления.
На берегу я нашел лодку под охраной двух прикорнувших в ее тени солдат. Я разбудил одного из них, слегка пнув его ногой. Он испуганно вскинулся, увидел меня и вскочил на ноги.
— Господин — ты! Мы думали, что ты уже не придешь сегодня. Ты ведь сказал: утром четвертого дня, а сейчас уже полдень, и мы подумали…
— Где остальные?
Солдат указал на трактир. По большому счету, это была просто убогая тростниковая хижина, всю обстановку которой составляли стулья и стол, сделанные из досок, выброшенных морем. Мое раздражение улеглось. Что еще оставалось делать бедным парням? Я и сам не имел ничего против нескольких кружек вина и подсел к испуганным гребцам, которые, увидев меня, хотели тут же бежать к лодке. Я успокоил их, поставил всем по кружке вина и заказал жареное мясо. И пока я сидел в ожидании еды, произошло нечто удивительное.
Я заранее хочу подчеркнуть, что к тому времени я еще не выпил вина; и кроме того, это наблюдали также и мои гребцы.
Густой туман двинулся с моря к берегу и укрыл сначала скалистые мысы, поверхность воды вся скрылась в молочной дымке, затем он окутал нашу лодку, берег, трактир.
Мы сидели как завороженные, чувствуя на себе какое-то холодное дыхание, и я мысленно попросил прощения у Диокла. Это не было болтовней жрецов: в клубах тумана явился на берег Посейдон навестить своего божественного брата Гадеса.
Спустя примерно полчаса туман растаял, и вновь стали видны берег, песок, наша лодка… Мы отчалили, и никогда еще я не видел, чтобы матросы гребли с такой силой и усердием.
Глава 14
Весь обратный путь меня не оставляло беспокойство: удастся ли нам и на этот раз так же благополучно проскользнуть мимо флота Октавия. Однако его матросы были отвлечены чем-то, что поначалу было скрыто от нас высокими бортами их кораблей. Но едва мы достигли свободной воды, как тоже увидели это. Часть флота Антония — наверное, около трехсот кораблей, пылала — и их несло в открытое море.
Сердце мое застучало как кузнечный молот, и в голову пришла ужасная мысль. Может быть, битва уже проиграна и наш флот уничтожен? Но почему тогда корабли неприятеля так спокойно стоят на рейде? Меня так и подмывало крикнуть гребцам: «Поворачивайте! Пристанем в каком-нибудь безопасном месте!»
Однако когда мы приблизились, дым рассеялся и я увидел, что большая часть нашего флота цела и невредима. Вскоре я узнал разгадку: император велел поджечь все корабли, для которых у него не хватало команды, а также те, которые были повреждены или еще по каким-то причинам непригодны для битвы. Остались только военные корабли, построенные специально для этого сражения. Антоний сделал выводы из поражения Секста Помпея при Сицилии. Тогда этого наводящего ужас героя морей удалось победить только благодаря тому, что у Агриппы были тяжелые корабли с катапультами.
Теперь император собирался также использовать их и поразить Агриппу, этого гениального флотоводца, его же оружием.
Следуя мимо, неприятельского флота, мы обратили внимание на одно. странное обстоятельство: на этот раз Октавий отказался от броненосцев и его флот состоял большей частью из легких, подвижных трирем и квадрирем… Я хотел сразу же по возвращении доложить об этом императору, но вихрь последующих событий заставил меня обо всем, забыть.
Я застал весь лагерь готовящимся к; выступлению. Клеопатра не смогла принять меня, потому что как раз в это время следила за погрузкой своей казны на быстроходные парусники.
Мой личный слуга и военный врач присматривали за моей палаткой и, увидев меня, хором начали что-то говорить.
— Стоп-стоп! По очереди…,
Так я узнал, что предстоит большое сражение и император привел свой флот в боевую готовность. Но все это мне могли бы сказать и снующие вокруг солдаты, носильщики и конюшие. О том, что было запланировано на самом деле, я узнал в тот же вечер, когда посыльный пригласил меня в палатку главнокомандующего.
Там я нашел царицу, Ирас и Шармион, легата Канидия Красса с двумя его помощниками и десять или двенадцать высших морских офицеров.
Царица кивнула мне, и мы вышли с ней в спальню императора, где царил такой хаос, как будто здесь уже прошло сражение.
Без долгих предисловий она спросила немного резко:
— Итак?
— Цезарь явился и ответил мне на вопрос. Он сказал, что не желает победы никому из римских братьев, и еще: «Будет ли это в удаче или в несчастье, спасение — на воде». Эти слова он повторил дважды.
— Это был Юлий Цезарь? Ты ясно видел его?
— Это была тень, но мне показалось, что это он.
— Все равно! То, что советует его дух, за это время стало горькой необходимостью — да, в общем-то, единственным выходом, который у нас остался. Благодарю тебя, Олимп, Там, на совете, ты узнаешь сейчас больше.
В сумеречной спальне лицо царицы было плохо видно, но теперь, при свете дня, я увидел, как она утомлена. Ее обычно широко распахнутые серые глаза были прикрыты, веки покраснели, как будто она плакала или мало спала. Красивые полные губы были упрямо поджаты.
Антоний держался беззаботно и уверенно, но я видел, что это только роль и играет он ее не очень хорошо. Взгляд у него был бегающим, движения нервными. Сильное внутреннее возбуждение не позволяло ему успокоиться, он бегал туда-сюда, а если останавливался, то размахивал руками; стоило ему присесть, как он тут же начинал вертеть головой, как будто хотел постоянно держать в поле зрения всех присутствующих.
Потом появился прекрасный Алекс, с которым я почти не встречался со времени нашего отъезда из Александрии. Он постоянно выполнял какие-то важные поручения, причем, как всегда, вид у него был при этом таинственный и интригующий.
— Говори вслух, Алекс! — нетерпеливо потребовала Клеопатра. — Ты здесь среди друзей, а в таком положении у нас не может быть тайн друг от друга.
Алекс не без грации воздел руки, выражая одновременно беспомощность и извинения, и уже собирался что-то сказать, но его опередил император.
— Прости, царица, Алекс собирался сначала только мне сообщить это известие. Но расстановка сил постепенно выясняется. Сегодня ночью нас покинул Квинт Деллий вместе со всеми своими сторонниками.
— Не стоит жалеть о нем! — фыркнула царица, гневно наморщив лоб.
— Я считал его своим другом, — с горечью сказал Антоний. — Но мне следовало бы знать, как мало можно доверять человеку, который уже дважды менял партию. Жаль только, что ему известны все наши планы, так что Октавий тоже может узнать о них.
Император хитро улыбнулся и продолжил:
— Но мы все решительно изменим. Было задумано, что наши броненосцы ночью и по возможности быстро нападут на неприятельский флот, окружат его и затем уничтожат с помощью огня, чему благоприятствует узкий вход в залив.
Достаточно было бы поджечь один корабль, чтобы запылали и все остальные.
Казалось, Антоний и сам прислушивается к своим словам — видимо, ему очень жаль было отказываться от этого замысла. Однако он выпрямился и продолжал:
— Этот план нам придется оставить, потому что Октавий и Агриппа изменили позицию своих кораблей. Для меня это очень важно, потому что мы неожиданно понесли такие потери, которые вряд ли могут быть восполнены в ближайшее время. По моим оценкам, у Октавия тридцать или двадцать пять тысяч солдат, у нас же в лучшем случае двадцать тысяч, и половина из них не имеют опыта и готовы смыться при первой же возможности. Наше превосходство заключается в тяжелых кораблях, с которыми мы — и это мой новый план — пробьемся к выходу из залива, чтобы затем как можно скорее добраться до Египта. Там, и только там, должна состояться решающая битва! Пока Октавий вновь соберет войско и подойдет к Египту, я построю новые корабли и пополню свои легионы.
Он повернулся к Крассу.
— Ты, мой дорогой и верный друг, отойдешь с нашей пехотой куда-нибудь в Элладу или, если будет нужно, двинешься медленным маршем в Азию. Там мы сможем удвоить наше войско и победить Октавия на суше, а потом под Александрией мы уничтожим его флот. Так — и только так! — можно добиться победы.
Во время этой выразительной речи Антоний совершенно успокоился и вновь обрел уверенность в себе.
— Кто хочет что-то возразить или добавить, пусть говорит свободно. Я восприму это как совет и обдумаю.
Какой-то старый морской офицер поднял руку.
— Говори же! — потребовал Антоний.
— В морской битве лучше обходиться без парусов, потому что они только мешают и служат легкой мишенью для зажигательных стрел неприятеля. Но каким образом мы поплывем тогда на юг? Гребцам одним не справиться, а будет ли ветер попутным, знает один Посейдон.
Антоний кивнул.
— Твое замечание справедливо, Сосий, и я сразу отвечу на него. Да, на этот раз мы поднимем паруса, а команде объясним, что так нам легче будет преследовать врагов. Теперь что касается Эола, которого Зевс сделал повелителем ветров. Иногда этот бог ленится, но иногда он следует какому-то определенному плану. Так и теперь. Я уже несколько недель наблюдаю за тем, как меняется направление ветра. Почти всегда около полудня в Амбракийском заливе дует юго-западный бриз, затем он медленно меняется на северо-западный и к вечеру на северный. Как раз благодаря ему мы сможем быстро добраться до Египта.
Кто-то из морских офицеров подтвердил:
— Правильно подмечено, так и есть.
Антоний украдкой взглянул на Клеопатру, и она согласно улыбнулась ему.
Как выяснилось позже, этот план с бегством в Александрию был ее идеей. Антоний позволил убедить себя, а остальные поддержали его. Как и всегда, то, что он предложил, звучало весьма убедительно, потому что каждый видел: при настоящем соотношении сил надеяться на победу было бы слишком смело, однако потом…
Обсуждение состоялось 30 августа. Этот месяц римляне тогда еще называли секстилием, а двадцать четыре года спустя по решению сената его переименовали в честь досточтимого Августа.
Через три дня, 2 сентября, должен был произойти прорыв. По желанию императора Клеопатра уже накануне утром должна была отправиться на свой корабль «Антоний». Как это было ей свойственно, в таком положении она не забыла о своих друзьях.
— Наш Гиппо, — заговорщицки улыбнулась она Ирас, — кажется, настоятельно нуждается в женском обществе. Я даю вам два свободных дня: можете спокойно собрать свою палатку, упаковать сокровища — или еще что-нибудь сделать…
Неужели царица заметила, что я был одержим похотью, как крыса? Еще в палатке Антония во время обсуждения его плана я так и пожирал глазами Ирас. За время, проведенное в подземном царстве, мои жизненные силы истощились, как никогда. За эти три дня я сам стал похож на тень, и даже Афродита собственной персоной не смогла бы вдохнуть огонь в мои члены. Но когда все это осталось позади и я вновь увидел солнце и пробудился к жизни, это подействовало на меня как сильный aphrodisiakon
[93]. Мой фаллос пылал как факел и восставал всякий раз, как только я видел Ирас.
Она, наверное, понимала все с присущей ей женской интуицией.
— Теперь, Гиппо, поскольку ты счастливо покинул эреб, жизнь взыграла в тебе с новой силой.
Я привел ее в мою палатку и строго-настрого приказал слуге никого не впускать, потому что буду делать сложную операцию.
Мы почти не отрывались друг от друга в эти два дня, которые принадлежали только нам — нам одним.
Однако они кончились, и в ночь перед решающим сражением нам пришлось вернуться на корабль, чтобы быть вместе с царицей.
— Как ты думаешь, — спросил я Ирас, — чем все кончится?
Она посмотрела на меня так, будто я спросил, сколько будет один плюс один.
— Царица Клеопатра всегда выигрывает! И никогда — никогда — не увидишь ты ее среди побежденных!
Еще засветло мы приплыли на корабль, занявший перед битвой позицию неподалеку от устья залива, тогда как весь наш флот и
корабли противника стояли дальше мили на три. Все это выглядело так мирно: как будто собрались какие-то торговые суда, на борту их только купцы, озабоченные своими делами, которые завтра будут улажены.
Ирас отправилась к царице, а я вновь занял свою крошечную каюту на корме и принялся расставлять свою маленькую аптечку и раскладывать инструменты из позолоченной бронзы, которые мне как личному врачу еще ни разу не пригодились.
Завтракали мы в узком кругу. Клеопатра излучала уверенность и мимоходом сказала о своих планах:
— Что бы ни случилось завтра, мы доверимся предсказанию божественного Цезаря: «Будет ли это в удаче или в несчастье, спасение — на воде».
Ирас взглянула на меня с такой гордостью и уверенностью в победе, как будто хотела укорить и одновременно ободрить сомневающихся.
При всем моем скептическом отношении я все же доверял опыту императора. Во время войны — я почувствовал это в Парфии — он превосходил самого себя и никогда не отступал, какая бы тяжелая задача перед ним ни вставала. Кроме того, я все еще находился под впечатлением от того, что пережил в Эфире. Только позже я смог взглянуть на все более критически.
Участники морского сражения при Акциуме еще живы. Однако они могли видеть только малую часть этой великой битвы, потому что надо было стать Дедалом, чтобы, подобно птице, увидеть с высоты все происходившее.
Я также наблюдал это событие и при этом занимал идеальную позицию.
Морское сражение при Акциуме началось в полдень 2 сентября в год 722-й от основания Рима. Мы медленно вышли из устья залива, и я увидел, как неприятельские суда развернулись веером. Они хотели зажать нас с обеих сторон, чтобы предотвратить прорыв. Наши броненосцы, как неповоротливые плавучие крепости, приближались к кораблям противника, которые неожиданно отступили. Что задумал Агриппа? У императора оставалось только две возможности. Он мог последовать за противником в открытое море или отступить в гавань, однако это было очень рискованно и ставило под вопрос как запланированный прорыв, так и весь отход в Египет.
Итак, он двинулся в открытое море, где вскоре выяснилось, что броненосцы имеют преимущества только в тесноте гавани или вблизи от берега. В открытом море они походили на неуклюжих слонов, на которых напала стая леопардов и которые слишком медлительны, чтобы отражать нападение с нескольких сторон. Так, три или четыре подвижных триремы или квадриремы напали на наших колоссов, а солдаты, обслуживавшие баллисты, не знали, куда им стрелять в первую очередь. Если они целились прямо по ходу, противник с кормы брал судно на абордаж, а в рукопашном бою мы и так несли значительные потери. Паруса также причинили нам немалый вред, потому что служили легкой целью для зажигательных стрел врага. Даже самая сильная команда не могла противостоять одновременно огню и превосходящим силам противника. Тот, кто уцелел и мог плавать, прыгал в воду, пытаясь найти спасение на берегу.
Вдобавок ко всему именно в этот день Эол был не очень благосклонен к императору. Около полудня небо затянуло тучами и пошел дождь с градом. У императора не было никакой возможности согласовать действия своих морских офицеров. Из-за этого возникло замешательство, и наша царица тут же использовала его в своих интересах. Северо-западный ветер был как нельзя более благоприятен для нашего бегства на юго-восток — лучшего и пожелать нельзя было.
Корабли нашего маленького флота стояли так близко друг к другу, что им нетрудно было обменяться сигналами. На всех парусах мы проскочили мимо горящих и тонущих кораблей; из вспененной воды неслись крики о помощи, однако кто в этот момент обращал на них внимание? В подобном положении каждый заботится прежде всего о себе.
Как я уже сказал, я был свидетелем морского сражения, но свидетелем скорее убегающим. Пылающие корабли, отчаянно сражающиеся солдаты, тонущие и взывающие о помощи, вскоре остались позади.
В библиотеке Августа я нашел рассказ одного морского офицера, служившего у Октавия. Он составил поразительно беспристрастное сообщение об этом сражении, но, как и многие, также не знал, что «бегство» Клеопатры на самом деле было частью заранее продуманного плана. Чтобы историческая картина стала яснее, я приведу здесь часть этого рассказа.
«Довольно долго силы сражающихся сторон были примерно одинаковы, и ни один из противников не превосходил другого, пока не произошло следующее: Клеопатра, корабль которой стоял на якоре вне зоны боевых действий, не смогла больше вынести неопределенности и ожидания. Ведь это была женщина и к тому же египтянка — ее измучила неизвестность и тревожное ожидание исхода, и внезапно она обратилась в бегство сама и подала соответствующий сигнал своим подданным. Они тотчас же подняли паруса и устремились в открытое море, подгоняемые ветром, который случайно как раз оказался попутным. Антоний, увидев это, решил, что они поступили так не по приказу Клеопатры, а потому, что сочли себя побежденными. Он устремился за ними. Вследствие этого и остальные сражающиеся утратили мужество, возникло смятение и замешательство. Чтобы спастись, одни принялись поднимать паруса, а другие настаивали на том, чтобы сбросить в воду мачты и орудия и тем самым облегчить корабль.
В разгар всех этих приготовлений мы атаковали их. На наших кораблях не было парусов, они были рассчитаны только на участие в битве, преследование беглецов в открытом море не входило в наши планы. Теперь вблизи и вдали во множестве видны были сражающиеся корабли. Силы были примерно равны, и обе стороны сражались с одинаковым ожесточением. Люди Цезаря старались повредить нижнюю часть корабля: разбивали весла, вырывали руль и, наконец, взбирались на палубу. Одних они отшвыривали в сторону, других сбрасывали в море и набрасывались на остальных, численно силы противников были примерно одинаковы. Со своей стороны, люди Антония отбивались от нападающих веслами, рубили их топорами, сбрасывали на них камни и тяжелые снаряды, сталкивали тех, кто пытался взобраться на корабль, и боролись со всяким, кого могли достать. Это можно было сравнить с обороной крепости или острова, осажденных с моря. Нападающие пытались взобраться на корабль, как на сушу или в крепость, и использовали все, что годилось для этого. При этом защитники отбивали их атаки и применяли обычные в таких случаях средства.
В то время как в битве не предвиделось перевеса ни в одну из сторон, Цезарь в затруднении, как ему быть дальше, велел доставить огонь из лагеря. Поначалу он не хотел прибегать к этому средству, чтобы по возможности захватить казну. Однако теперь он увидел, что не сможет достичь победы иным способом. Теперь сражение приобрело иной вид: со всех сторон одновременно нападающие набрасывались на Своих жертв, осыпали вражеские корабли горящими стрелами, забрасывали привязанными к пикам факелами и с помощью машин метали горшки с раскаленными углями и смолой. Защитники пытались затушить огонь, однако, несмотря на их старания, дерево быстро вспыхивало. На одном из кораблей матросам удалось погасить несколько очагов, вылив всю имевшуюся на борту питьевую воду. Затем они стали черпать воду из моря. Если бы они использовали ее в больших количествах, то смогли бы, наверное, потушить пожар. Но у них были только маленькие ведра, к тому же в этой спешке и сумятице они наполняли их всего наполовину. Поэтому вместо пользы они принесли себе еще больший вред: от небольшого количества соленой воды огонь вспыхнул еще сильнее. Когда они увидели это, то стали забрасывать огонь своими плащами и телами погибших. На некоторое время им удалось сбить пламя, но затем сильный порыв ветра вновь раздул его еще больше прежнего. Пока горела только часть корабля, солдаты пытались отрубать пылающие куски дерева и бросали их в море или обратно в противника. Но огонь распространялся все дальше, и матросы с помощью железных крючьев и длинных пик пытались притянуть к себе вражеские корабли, чтобы перебраться на них, а если не удастся, то хотя бы тоже поджечь их.
Однако противник предвидел это, и суда заранее отошли подальше. Огонь охватил уже все борта корабля и добрался до палубы. Команду постигла самая ужасная участь. Одни задохнулись в дыму, другие оказались посреди моря пламени и сгорели, как в печке. Остальные погибли, пытаясь спасти их. Многие, видя все это или уже наполовину обгорев, бросали свое оружие и подставляли себя вражеским стрелам или прыгали в море и тонули. Некоторые погибали в волнах, застигнутые нашими ударами, других разрывали на куски морские чудовища.
Перед лицом всех этих страданий более-менее сносный конец нашли только те, кто, не дожидаясь, пока их настигнет подобная участь, убили друг друга или сами себя. Им не пришлось перенести более страшных мук и быть сожженными заживо вместе со своим кораблем, как на погребальном костре.
Видя все это, мы поначалу держались на некотором расстоянии, поскольку противник еще оборонялся. Но когда огонь охватил все судно и команда не в состоянии была даже помочь себе, не говоря уже о том, чтобы причинить какой-то вред врагу, мы поспешно ринулись к кораблю и попытались потушить огонь в надежде, что сможем захватить там золото и деньги. При этом многие из нас также стали жертвами пламени и собственной алчности».
В своем рассказе офицер называет Гая Октавия именем «Цезарь», а не полюбившимся затем народу именем «Август».
Я стоял на корме с подветренной стороны, в лицо мне хлестал дождь и град, я промок до нитки, но ничего этого не чувствовал и ни за что не ушел бы сейчас с этого места. Я вцепился в поручни и не сдвинулся, даже когда какая-то шальная стрела, пробив мою промокшую хламиду, задела мне бедро и упала на палубу.
Император на своем флагманском корабле должен был сразу же увидеть наш маневр. Пересев на быстроходную квинквирему, он последовал за нашим флотом.
Позднее досточтимый Август — не без уважения — подтвердил, что прорыв Клеопатры был проведен так неожиданно, быстро и ловко, что даже хитрый Агриппа не смог нас настичь.
Тем, что избежали тогда битвы при Акциуме, мы обязаны исключительно смелости и ловкости нашей царицы.
Вскоре мы оказались в открытом море. Когда я собрался спуститься с палубы вниз, то поскользнулся в луже собственной крови и упал на пол. Там меня и нашли — уже почти без сознания — двое матросов. Они принесли меня в мою каюту. Кубок горячего вина с пряностями настолько подкрепил мои силы, что я смог сам позаботиться о своей ране. Она все еще немного кровоточила. Стрела, как острым ножом, распорола мне бедро на три пальца выше колена. К счастью, рана оказалась не очень глубокой. Я велел приготовить целебный пластырь и приложил его на несколько часов.
Ирас собственноручно принесла мне ужин и присела на мою кровать.
— Император следует за нами в сопровождении нескольких кораблей и подает сигнал, что хотел бы с наступлением дня подняться к нам на борт.
Я привстал в удивлении.
— В сопровождении нескольких кораблей? Но ведь решено было, что за ним последует весь его флот.
Ирас пожала плечами.
— Ну да, таков был план. Но, может быть, ему помешала внезапная буря? Завтра все узнаем.
Благодаря дозе мекония ночь я провел спокойно. Утром я сменил повязку и, полежав еще два или три часа, хромая, поднялся на палубу. По дороге мне попалась Ирас, которая как раз хотела меня видеть. Она взяла меня за руку и прошептала:
— Антоний сидит один на баке и никого к себе не подпускает. Утром, когда он поднялся на борт, его сопровождали только Алекс и слуга. Он отказался встретиться с царицей, а когда Алекс наконец уговорил его, царица отказалась сама.
Ирас тяжело вздохнула.
Однако на время нам стало не до этого, так как позади внезапно появился небольшой флот либурнийских быстроходных парусников. На этих узких длинных кораблях было всего по две скамьи для гребцов, но при хорошем ветре они летели над водой как стрела.
Передний из них подошел к нам совсем близко. Человек, стоявший у него на носу, что-то кричал и потрясал своим копьем. Антоний поднялся и подошел к поручням. Мы тоже отважились приблизиться, при этом Алекс молча приветствовал меня исполненным достоинства поклоном. Он вовсе не выглядел изнуренным. Одежда на нем была чистая и изящная, на руках блестели кольца, и можно было подумать, что он явился с какого-то приема, а вовсе не бежал, спеша и задыхаясь.
Буря давно утихла, дул легкий, но постоянный северный или северо-западный ветер, и все мы отчетливо услышали, что кричит Антонию этот размахивающий оружием человек.
— Я Эврикл из Спарты, сын Лaxapa, которого ты приказал казнить. Я пришел отомстить за смерть моего отца!
Император только презрительно рассмеялся в ответ.
— Нельзя мстить за разбойника, которого покарали по закону. Если ты сейчас же не повернешь обратно, то вскоре последуешь, за своим отцом!
То, что произошло затем, было сделано с таким навигационным мастерством, что даже Антоний не мог не признать этого.
Эврикл метнул свое копье в императора. Тот лишь рассмеялся, но ни на пядь не отступил: ветер отнес копье далеко в море. Дерзкий спартанец отвернулся, бронзовый нос его судна протаранил квинквирему, на которой прибыл император, взял ее на абордаж и отошел, прихватив также один из наших кораблей, на который была погружена столовая посуда. О преследовании нечего было и думать, но мы надеялись, что это происшествие примирит нашу высочайшую пару или, по крайней мере, слегка сблизит их.
Однако Антоний отказался от всяких попыток встретиться с царицей, сказав, что он разочаровался в людях, так же как и в помощи богов. Затем он снова уселся в угол на баке, позволив только, чтобы Алекс время от времени приносил ему кувшин вина и что-нибудь поесть.
Так продолжалось три дня, затем вдали показался мыс Тенар, южная оконечность Лаконии. Эта база была слишком мала и незначительна, чтобы Октавий стал захватывать ее. Здесь нас ожидали несколько хороших известий.
Выяснилось, что Канидий Красс с двенадцатью оставшимися легионами удерживал свою позицию, и император, — как узнали мы от Алекса, — направил ему приказ безотлагательно отойти через Македонию в Азию.
На третий день благодаря долгим стараниям Шармиона Ирас, Алекса и моим удалось склонить поссорившуюся пару к беседе — исключительно с помощью хитрости и коварства. План придумал я, а осуществить его предстояло всем остальным. Император должен был показать, что он глубоко уязвлен, и предложить Клеопатре, чтобы она, если хочет, оставила его, униженного и побежденного, и вместе со своими друзьями без всяких предварительных условий отдалась на милость Октавия. Сам же он соберет в Азии войско и решит, стоит ли ему бороться дальше или осталось только броситься на меч.
Алекс, по-прежнему один из самых близких к императору людей, помог посвятить его в этот план, а Шармион передала слова императора царице. О том, как это было, в тот же вечер рассказала мне Ирас.
Шармион еще не успела договорить до конца, когда царица гневно воскликнула:
— Вот, значит, как! Этот господин хочет скрыться в Азии и даже обдумывает самоубийство, а я должна пасть на грудь Октавию и положиться на его милость. Кончится тем, что Египет будет захвачен, а меня закуют в цепи для украшения его триумфальной процессии. Нет, нет и еще раз нет! Ничего еще не потеряно! У нас есть еще легионы Канидия Красса, в Египте осталось еще семь, а в Киренаике — четыре легиона под командованием легата Пинария Скарпы. Кроме того, наши союзники вновь соберут войска, государственную казну мы спасли… Сражение проиграно, но война еще нет! — воскликнула она, поднявшись.
Да, это было старое утешение побежденных правителей. И действительно, нередко военное счастье отворачивалось от победителей — например, когда они выигрывали три битвы и терпели поражение в четвертой, решающей.
Гнев Клеопатры не утихал до самого ужина, когда она села за стол Антония, обозвав его малодушным неудачником, тряпкой и трусом, который вместе с кораблями потерял и свое хваленое мужество. Антоний сделал вид, что он раскаивается, признал, что его возлюбленная во всем права, что она полностью излечила его от малодушия и он чувствует теперь настоятельную потребность действовать.
Ужин превратился в симпосий по случаю примирения и кончился — по крайней мере, для мужчин — настоящей попойкой. Когда женщины удалились, Антоний напыщенно стал уверять, что он ни минуты не считал свое дело проигранным, но в отношении женщин необходимо придерживаться определенной тактики… И так далее, в том же духе — а друзья его радостно смеялись и поддакивали. Если бы в этот момент вошел кто-то непосвященный, он вполне мог бы решить, что наш симпосий устроен по случаю победы.
Я не знаю, заметили ли остальные, что Антоний вовсе не был таким уверенным, как хотел это показать. Его убежденность, что мы во всем превосходим противника, рассеялась. Говоря об оставшихся легионах, он сознавал, что все это скорее предположения, потому что нельзя было утверждать наверняка, как обстоят дела у Кассия и его людей. Кроме того, он не был уверен в своих союзниках, ведь после поражения под Акциумом они могли отказаться поддерживать его.
Чтобы знать наверняка, на чью помощь он может еще рассчитывать, Антоний послал несколько своих людей в Коринф. Этим невероятно богатым городом управлял его доверенный Теофил. Кроме того, посыльные должны были передать двенадцати легионам, оставшимся у императора, приказание немедленно выступить в Азию, где предстояло сформировать новое войско.
Все висело на волоске, ничего не было решено окончательно, и чаша на весах судьбы могла склониться как в ту, так и в другую сторону.
Царица Клеопатра нетерпеливо настаивала на скорейшем отъезде. Она опасалась, что после поражения под Акциумом ее противники вновь поднимут головы.
Итак, через несколько дней попутный ветер вновь подгонял нас на всех парусах к берегам Северной Африки. Мы бросили якорь в Паретонии. Эта хорошо укрепленная гавань находится на земле Мармарика, как раз на границе между Египтом и Киренаикой.
Царица отправилась дальше в Александрию, и поскольку она доверяла мне, то попросила меня присмотреть, чтобы император не последовал дурному совету. Под этим царица, конечно, понимала все, что может нанести ей вред. Для этого больше подошел бы Алекс, заметил я. Ведь император действительно доверяет ему, а я всего лишь имею на него некоторое влияние. Тогда, заметила она, я должен следить за Алексом и, если понадобится, с помощью силы или угроз заставить его встать на нашу сторону.
Я вздохнул.
— Ты всегда была склонна переоценивать меня, басилисса, и поручать задания, которые превосходят мои возможности. Так и на этот раз, ведь…
Она оборвала меня на полуслове:
— Во всяком случае, ты меня никогда не разочаровывал и не подводил.
— Вероятно, это произойдет на этот раз… — пошутил я не особенно удачно.
Клеопатра улыбнулась.
— Тогда Ирас так отравит тебе жизнь, что ты будешь мечтать о конце света — не правда ли?
Ирас кивнула с усмешкой:
— Он пожалеет, что родился!
Итак, я остался в Паретонии с Марком Антонием. При нем были еще только Алекс и Луцилий. Последнего император приблизил к себе после битвы при Филиппах. Он ценил этого простого и скромного человека прежде всего за то, что тот никогда не лгал и не терял здравого смысла даже в самых тяжелых ситуациях. Он был немногословен, ни с кем особенно не дружил, но и врагов у него не было, потому что он никогда не стремился пробиться вперед и никому не завидовал.
После битвы при Филиппах Луцилия приняли за полководца Марка Брута, который бежал и бесследно исчез. Когда преследователи, исполненные гордости, привели его к Марку Антонию, тот рассмеялся:
— Если этот человек Марк Брут, то я Кассий! Не правда ли, друзья, вы раздосадованы вашей ошибкой и чувствуете себя опозоренными? Но знаете, этот ваш улов намного лучше, чем тот, кого вы преследовали. Вы искали врага, а нашли друга. Во имя богов, что бы я делал с настоящим Брутом?
Так рассказал мне об этом Антоний, а Луцилий лаконично подтвердил.
Уже на следующий день пришли первые печальные известия. Пинарий Скарпа, легат, командовавший четырьмя легионами, находящимися в Киренаике, перешел на сторону Октавия.
Поначалу Антоний не хотел этому верить, ведь он был высокого мнения об этом человеке и благоволил ему.
— Должно быть, эту ложь распространяет сам Октавий, чтобы поколебать уверенность остальных. Я просто не верю этому!
Он послал несколько надежных людей в столицу Кирену, где размещались эти четыре легиона.
В трудах некоторых историков Антоний предстает одиноким и покинутым всеми друзьями. Окруженный только несколькими верными слугами, в отчаянии бродит он по берегу, ожидая известий. Все это верно только отчасти. Рядом с Антонием всегда находилась его личная охрана — центурия отборных преданных солдат; неподалеку в гавани стояла наготове дюжина кораблей, на побережье располагались палатки тяжеловооруженной преторианской когорты.
В последующие дни и недели прибывали уцелевшие и сумевшие уйти от неприятеля корабли флота Антония. Каждый из них приносил нерадостные известия. Так, Теофил, управитель Коринфа, перешел в другую партию, прочие греческие города из предосторожности направили Октавию, победоносно продвигающемуся по Элладе, послания с выражением почитания и преданности.
А как обстояли дела с Канидием Крассом и его легионами? Об этом ходили самые противоречивые слухи. Одни говорили, что эти легионы после долгих переговоров на выгодных условиях перешли на сторону Октавия. Другие утверждали, что они рассеялись, чтобы обходными путями добраться до Азии.
Из различных высказываний императора я понял, что он уже занес все эти войска в список потерь.
Во время одной из наших продолжительных прогулок, на которой присутствовал и Луцилий, он сказал мне:
— Тогда, при разделе империи, все мои друзья и сторонники посмеивались втихомолку — и я, конечно, тоже, — потому что Октавий отдавал мне чрезвычайно доходные восточные области. Мы сочли его глупым и недальновидным: Македония, Эллада, вся Азия с ее невероятно богатыми городами и провинциями, кроме того — Сирия и Иудея. Армению я завоевал, с Египтом заключил союз. Что против этого скромные провинции Октавиана Далмация, Норея и Паннония? Разве может Галлия или Испания сравниться с Египтом или Азией? Мы потирали руки, и говорили, что бедному Октавию, если он вообще сможет удержаться, постоянно придется бороться с нехваткой денег. Но при этом мы забыли об одном: он управляет всей Италией, городом Римом, у него в руках сенат и консулы. Мои легионы большей частью состоят из неримлян. Этим солдатам из Эллады, Македонии, Азии, Сирии и Иудеи давно уже надоела война, и если Октавий отошлет их по домам с парой сестерциев, они поцелуют ему руку. Среди римлян — то же самое. Ветераны мечтают о наделе земли — конечно, на родине! — а молодежь предпочитает сражаться за Рим, а не за Египет и императора, который ушел от своей римской супруги, живет с египетской царицей и объявлен римским сенатом persona поп grata. И я могу их понять…
Антоний нагнулся и поднял с песка пурпуроносную улитку. Он постоял, разглядывая ее причудливую раковину.
— Но я понимаю и Клеопатру. Пока меня нет рядом, она, должно быть, чувствует себя подобно этой улитке. Ее подняли ради ее пурпуроносной железы, а затем используют и выкинут прочь. Возможно, Клеопатра полагает, что мне нужно только ее богатство, а как только я с ее помощью завоюю власть в Риме, то отброшу ее, потому что больше не буду в ней нуждаться. Ты, Олимп, лучше всех знаешь, что это не так.
Луций молчал, как обычно, а я искал подходящие слова. Но Антоний продолжил:
— Я знаю, что это не очень удачное сравнение, особенно когда речь идет о царице, его даже можно счесть неподобающим. Но взгляни сам! А теперь я спрошу тебя: вернулся бы ты к этой римлянке — я забыл ее имя? Предположим, она стала вдовой, и тебе осталось бы только занять там это богатое гнездышко. Покинул бы ты Ирас, чтобы отправиться в Рим?
Конечно, я знал, что хочет услышать Антоний, но мне не пришлось даже лгать, и ответ мой был очень прост:
— Нет, император, потому что я никогда не любил Клаудиу, жену Луция Квинтиллия.
— И у меня то же самое! Я ничего не могу сказать против Октавии, кроме того, что никогда не любил ее и женился на ней только потому, что этого требовали политические обстоятельства.
Теперь попросил слова Луций:
— Однако тебе все же следовало бы чаще появляться в Риме, император. Сенат многое прощает героям, но требует, чтобы они время от времени отчитывались перед ним в курии.
— Ты, как всегда, прав, — кивнул Антоний. — Но надо понять, что мое доверие к Октавию не только подорвано, но и совсем исчезло. Он обманул меня в Риме, обманул на Сицилии — и сделал это с единственной целью: устранить меня и стать полновластным и единоличным правителем. Ему никогда не следовало бы забывать, чем кончилось это для его приемного отца!
Глава 15
Несколько дней ничего не происходило. В сонном Паретонии трудно было чем-то развлечься. Правда, здесь, как и во всех портовых городах, имелось несколько дюжин проституток, и даже у тех из них, что были постарше и уже не так привлекательны, дела шли неплохо, потому что наши преторианцы все были молоды и истосковались по женщинам.
Меня они, однако, не интересовали: во-первых, через несколько месяцев мне исполнялось уже сорок два года, а во-вторых, Ирас настолько овладела всем моим существом, что мне не нужны были никакие другие женщины.
Однажды вечером наши разведчики вернулись из Кирены, то есть из троих посланных явился только один — усталый, измученный и с очень плохими известиями.
Мы — император, Алекс, Луцилий и я — сидели перед палаткой полководца, пили кислое (хорошее уже все кончилось) вино, разбавленное водой, когда появился этот посыльный, которого два преторианца, поддерживая, осторожно усадили на стул. Его пенула была изодрана, на испачканной тунике виднелись пятна крови. На левой ноге была грязная повязка, так же как и на правой руке.
Как врач я сразу увидел, что у человека жар и силы его на пределе. Я указал на это Антонию. Он кивнул.
— Сообщи нам только самое важное, Алфиен, а затем о тебе позаботится Олимп.
— Да, господин, но сначала взгляни на это.
Он достал из-за пояса две монеты и положил их на стол.
Как и многие города и провинции в правление Марка Антония, Кирены также чеканили монеты с изображением императора. Антоний как следует рассмотрел их и бросил обратно на стол. На обратной стороне обеих монет был изображен сильфий
[94] — древний символ Кирены. На лицевой стороне одной из монет была изображена голова императора с подписью: «Марк Антоний император», а на другой монете изображение было другое и стояла подпись: «Пинатий Скарпа».
Антоний горько рассмеялся.
— По крайней мере, он не настолько дерзок, чтобы прибавить к своему имени слово «император».
— «Предатель» подошло бы больше, — сказал я.
Антоний поднялся.
— Все это означает, что у Октавия теперь появилось еще четыре свежих отборных легиона.
Он повернулся к Алфению.
— Что случилось с остальными?
— Они попали в руки городской милиции в Кирене, и на следующий день их казнили; народ рукоплескал этому. Не мечом, нет, их забили дубинками, как бешеных собак. Мне удалось бежать, я еле смог отбиться, меня ранили…
Он сполз со стула, и я приказал отнести его в мою палатку. Раны оказались не тяжелые, но были воспалены и гноились. Пока я возился с ним, прибежал слуга императора.
— Олимп, скорее, мой господин отравился!
Как во сне я схватил ампулу с рвотным и бросился к палатке полководца. Верный Луцилий был здесь. Он пытался привести Антония в чувство, хлопал по щекам, шептал ему какие-то бессмысленные слова.
— Что… что он принял?
Одного взгляда было достаточно. Рядом с кроватью стоял мешочек с меконием, которым я снабдил его в качестве средства от постоянной бессонницы — вместе с дозировочной ложечкой и указанием, что лекарство нельзя принимать вместе с вином. Мешочек был пуст, стало быть, он высыпал все в кружку и выпил.
Я дал ему сильную дозу рвотного и стал ждать, пока желудок его снова заработает. Затем я строго посмотрел на Луцилия и слугу.
— Никому ни слова об этом! Императору нездоровится, потому что он объелся. Я велел ему два дня полежать в постели — поняли?
Однако потом кое-что все же просочилось; во всяком случае, ходили какие-то слухи, что император пытался лишить себя жизни.
Мы, его друзья, сделали из этого выводы и убедили его, что он должен быть рядом с Клеопатрой. Он охотно согласился с этим, и спустя несколько дней мы выступили. В пути он пытался объяснить мне, что вовсе и не помышлял о самоубийстве, а только хотел уснуть на несколько дней, чтобы избавиться от забот. Я кивнул, сказав, что так и подумал, и извинился за то, что не предупредил его о том, как опасен меконий в больших дозах.
Я думаю, это Алекс не смог сдержаться и сболтнул кому-нибудь, что друзьям удалось спасти императора от самоубийства.
Конечно, это дошло и до Клеопатры, и она принялась меня расспрашивать. Я кое-как отбивался, говорил, что здесь какая-то ошибка и меконий просто подействовал сильнее обычного, потому что он принял его вместе с вином.
Больше речи об этом не заходило, потому что в Александрии и так было много хлопот. Жители _ее были встревожены, ходили самые дикие слухи, и отчасти в этом была виновата царица.
Ирас рассказала, что перед прибытием в гавань Клеопатра приказала празднично украсить корабли и во время вступления в город исполнить победный гимн. Так как никто в точности не знал, что произошло при Акциуме и царица вернулась невредимой вместе со всем двором, то поначалу все поверили в одержанную победу. Вскоре обнаружилась небольшая группа недовольных, которая будто бы готовила переворот. Последовало множество арестов, несколько дней продолжались мучительные допросы. Выяснилось, что заговорщики хотели примкнуть к Гаю Октавию на том основании, что он является приемным сыном Юлия Цезаря и, значит, его настоящим наследником. Цезарион, который вскоре должен стать совершеннолетним, был его сводным братом, и именно он имел теперь право на трон фараонов. Для Клеопатры это означало государственное предательство, и палач без лишней огласки сделал свое дело.
Спустя два дня после прибытия нашего флота в западной гавани бросило якорь римское торговое судно, и какой-то купец по имени Публий Фид попросил Марка Антония принять его. По случаю возвращения возлюбленного Клеопатра устроила праздник. Он должен был начаться ближе к вечеру с обильного ужина.
Антоний был в хорошем расположении духа: очевидно, Клеопатра внушила ему надежды, что к весне они наберут новое войско, построят новые корабли и смогут отразить ожидающееся нападение римских войск. Ошибка при Акциуме была учтена, и на верфях Александрии день и ночь шло строительство легких быстроходных кораблей. К тому же имелось еще четыре легиона Канидия Красса, о которых, правда, пока ничего не было известно, но которые, вероятно, находились на пути в Азию. Все мы были в плену прекрасных иллюзий: казалось невероятным, чтобы кто-то мог причинить вред этому могущественному государству и его великой столице. Брухейон с его высокими стенами казался нам неприступной крепостью, куда не мог ворваться ни один римский легионер.
В честь возвращения императора придворные повара показали все, на что способны. Правда, иногда их искусство проявлялось в таких формах, которые отбивали всякий аппетит. Так, например, соблазнительно поджаренные голуби, перепелки, утки и гуси были обсыпаны золотой пудрой, а на десерт подали головы наших врагов, Октавия и Агриппы, приготовленные из муки, меда, миндаля и ягод. Вылеплены они были не очень искусно и отличались только именами, написанными на кусочках пирога, служивших им в качестве пьедесталов. Лицо царицы, как и всегда перед народом, выражало непоколебимое достоинство, Антоний же радовался как маленький мальчик и перепробовал добрую дюжину этих вражеских голов. Вероятно, он съел бы и больше, но тут прибыл нарочный с письмом от мнимого римского купца.
— Это действительно так важно? — недовольно спросил император, срывая печать. Те, кто сидел вдалеке, не обратили на это внимания, однако в кругу ближайших друзей постепенно смолкли все разговоры, потому что лицо императора застыло, когда он прочитал послание.
— Известия от Канидия Красса — мы заранее договорились с ним о том, каким именем он себя назовет.
Он обернулся к нарочному:
— Приведи этого человека!
Я увидел, как при этих словах Клеопатра слегка покачала головой и, наклонившись, что-то шепнула императору. Вероятно, она требовала, чтобы он не принимал легата здесь, за праздничным столом. Но тем не менее это произошло.
Меня не было в тот момент, когда Красс представил свой отчет. Однако из него не стали делать тайны, и о том, что он сообщил, узнали все.
Услышав, что император бежал в Египет, войска Канидия Красса поначалу решили, что это всего лишь распространяемые врагом слухи. И только когда Красс сам подтвердил это известие и приказал легатам вести своих солдат через Македонию в Азию, они поняли, что это горькая правда. Тем временем Октавий предложил им перейти к нему на таких выгодных условиях, что легионерам нетрудно было сделать выбор. Если бы они попытались пробиться в Азию, то были бы разбиты превосходящими силами противника. Октавий же приравнивал их к победителям и обещал не меньше, чем своим собственным солдатам: часть добычи и пенсию ветеранам и инвалидам. Это предложение очевидным образом касалось также и Канидия Красса, однако тот остался верен Антонию и, переодевшись, бежал из лагеря. В пути он узнал — слухи об этом дошли и до нас, — что почти все клиентальные правители, в том числе и царь Иудеи, перешли на сторону Октавия. Теперь, когда возникла опасность, Ирод, этот расчетливый политик, отбросил своего друга юности, как сломанный меч. Некоторые правители еще выжидали, но очевидно было, что они примут сторону сильнейшего.
С этого дня Антоний исчез из Брухейона. Царица ничего >-не говорила по этому поводу, но от Ирас я узнал, что император уединился на пустынном и безлюдном полуострове в восточной гавани, где он приказал построить себе скромный дом. Он назвал свое уединенное жилище «Тимоний», намекая при этом на Тимона
[95] из Афин, мизантропа, ставшего известным благодаря пьесам Аристофана.
Все его окружение в Тимонии составлял только молчаливый Луцилий. И в какой же ужас пришел Алекс оттого, что даже его туда не допускали!
Моя встреча с Салмо произошла весьма своеобразно и чуть было не превратилась в горькую размолвку — первую за все время нашего знакомства, потому что раньше если мы и ругались, то это было только игрой, выражением иронии и нашей взаимной симпатии.
Пока меня не было, ему пришлось нелегко, как это всегда случается с ответственными и работящими людьми. Помимо его должности министра здоровья на него взваливали все новые и новые обязанности, так, например, он отвечал за ремонт зданий в Брухейоне. Но этот дворцовый квартал занимал довольно большую площадь, и когда строители заканчивали ремонт одной его части, им пора было уже снова приниматься за другую. Салмо, придававший упорядоченной семейной жизни не очень большое значение, сказал только, что у него, в конце концов, есть жена и трое детей, о которых он должен заботиться, и он предпочел бы служить простым солдатом, чем оставаться дальше на этой должности, пожирающей его душу и тело.
Его единственный глаз смотрел на меня с упреком, изуродованное шрамами лицо избороздили глубокие морщины, уголки рта опустились, а волосы, и раньше не особенно густые, уступили место сверкающей лысине.
Мне стало жаль моего друга, когда я увидел его в таком состоянии.
— Я освобожу тебя от этих многочисленных обязанностей, и ты снова сможешь стать просто моим заместителем.
— Ах! — воскликнул он возмущенно. — Я могу? А если я не хочу? Что, если я хочу бросить все и открыть в своем доме лекарственную лавку? Таким образом мне гораздо легче будет заработать, при этом я смогу оставаться дома и мне не придется ругаться с регентским советом, который обычно глух ко всему.
— Но, Салмо, после того как вернулась царица…
У царицы другие заботы. Она готовится к бегству, хотя ты этого и не замечаешь. Во всяком случае, я подал прошение об отставке.
— Но ты мог бы остаться моим помощником…
— Нет-нет! С меня довольно!
Потом он хлопнул дверью, а я остался размышлять, как бы мне помириться с Салмо. Впрочем, для этого у меня было не так уж много времени, потому что то, о чем он мне сказал, становилось все более и более очевидным. Пока Антоний, возненавидев мир, заперся в своем Тимонии, царица строила разнообразные планы побега — хотя они сохранялись втайне, но слухи о них все же просачивались.
У Ирас теперь времени для меня почти не было, и из нее едва ли можно было что-нибудь вытянуть, впрочем, и от словоохотливого Алекса тоже нельзя было ничего узнать, потому что царица, с согласия Антония… Нет, лучше я скажу об этом по-другому.
Вот уже больше недели император жил в своем Тимонии, и тут Клеопатра вызвала меня и Алекса для беседы, в которой также приняли участие Мардион и Николай, глава расформированного регентского совета.
Я уже давно не видел Мардиона, и он показался мне сильно постаревшим, вид у него был какой-то рассеянный и отсутствующий. Николай, как всегда, поглаживал свою аккуратную бороду ученого и во всем соглашался с царицей, хотя уже тогда, как я узнал позднее, строил планы относительно службы у нового господина.
Царица была с нами приветлива, некоторое время мы беседовали о разных пустяках, а затем наконец перешли к главному.
— Мы должны попытаться вновь перетянуть царя Иудеи на нашу сторону. Для этого я готова пожертвовать землями, которые передал мне император: вернуть прибрежные города, сады под Иерихоном, Асфальтовое озеро и все, что он еще захочет. Мне нужен посол, который Знает царя, умеет хорошо говорить — одним словом, такой человек, как ты, Гиппократ.
Что? Я не ослышался? Я должен отправиться к Ироду — я, который, вероятно, стоит у него первым в списке тех, кто должен быть казнен? Тогда уж лучше мне просто покончить с собой…
— Ты лишился дара речи, Гиппо?
Ирас ободряюще подмигнула мне, но это мало помогло. Меня хватило только на то, чтобы сказать бесцветным голосом:
— Итак, царица, ты хочешь послать меня на смерть?
Она с наигранным удивлением подняла брови, и ее красивые серые глаза тепло сверкнули.
— Но, Гиппо, что ты такое говоришь! Или, может, между вами с Иродом произошло что-то, о чем я не знаю?
Я почувствовал, что под мышками у меня выступил холодный пот и в горле пересохло. Однако я достаточно хорошо знал царицу, чтобы расслышать насмешку в ее вопросе.
— Это уже в прошлом, царица…
— И я ничего не знаю об этом?
— Разве может не знать о чем-то божественная Дочь Солнца?
— Надеюсь, ты понимаешь шутки?
— Конечно, царица, и я могу оценить их, особенно если они исходят от тебя. Это доказывает, что ты по-прежнему благосклонна ко мне.
— Хорошо. Но тем не менее мне нужен посол, который был бы достаточно красноречив и смог бы уговорить такого человека, как Ирод. Итак, мой выбор пал на тебя, Алекс, потому что ты лучше всех подходишь для этого.
Радость красавца Алекса показалась мне непритворной, однако только позднее я понял, почему это поручение так соответствовало его собственным планам.
Если в Александрии царица с помощью казней и ссылок заставила оппозицию умолкнуть, то на юге, где велико было влияние жрецов, она приобретала все большее число сторонников. Клеопатра всеми силами пыталась воспрепятствовать тому, чтобы Страна Тростника восстала против нее. Поэтому она велела распространить известие, что в скором времени намерена объявить наследником своего сына Птолемея Цезаря и по прошествии положенного срока передать ему священный трон обеих земель. Таким образом, у власти вновь оказался бы мужчина, а она позаботилась бы только о том, чтобы найти ему достойную супругу.
Одновременно с совершеннолетием Цезариона отмечал свой четырнадцатый день рождения и Антилл — старший сын императора от Фульвии. По римским обычаям, он также становился совершеннолетним. При этом его отец тоже, конечно, не мог остаться в стороне, и, наверное, Антоний был рад тому, что нашелся официальный повод, для его возвращения в Александрию.
Праздник состоялся весной, и царица не пожалела средств, чтобы он запомнился жителям Александрии, — а может быть, и для того, чтобы отвлечь их от надвигавшейся опасности. Она не переставала думать над тем, как спасти свой род; и свою династию, и вскоре после праздника было объявлено, что царь Птолемей Цезарь отправится на юг, чтобы там познакомиться со жрецами и народом,
Мы, ее друзья, знали, что это верно только отчасти: Цезарион действительно отправлялся на юг вместе со своим учителем Родоном, однако вовсе не для того, чтобы предстать там перед народом, а для того, чтобы из маленькой, забытой всеми гавани Береника отправиться дальше на восток, в сказочную Индию. Ему предстояло нелегкое путешествие: изнеженный мальчик, то есть, простите, мужчина, должен был выехать из Коптоса, где почитали бога плодородия Мина, и предпринять многодневный поход по пустыне, чтобы достичь Береники. Правда, там его путь и закончился, но об этом я скажу чуть позже.
Сама же царица избрала для себя другой путь. Говорили, что она решила отправиться в Испанию, однако на самом деле об этом и речи не заходило: было бы равносильно самоубийству спасаться в провинции, которая подчинялась Октавию.
Я был одним из тех, кому предстояло сопровождать ее, и поэтому был посвящен в планы и участвовал в их обсуждении. Она пригласила своего придворного географа — человека, настолько увлеченного своей наукой, что о нем в насмешку говорили, будто он лучше разбирается в географических картах, чем в карманах своего плаща. Одежда его была вся в пятнах, а борода испачкана яичным желтком. Может быть, его как раз оторвали от завтрака.
Времени оставалось мало: Октавий перезимовал в Родосе и со дня на день мог подать сигнал к выступлению — а может быть, он уже был в пути. Клеопатра перестала тешить себя иллюзиями и надеяться на уцелевшие где-то легионы или на помощь союзников.
— В конце концов, Октавий хочет только одного:
отнять у меня трон и убить Антония. Как только он будет уверен, что выиграет эту войну, он нанесет нам последний удар. Я попытаюсь вступить с ним в переговоры и, может быть, добиться соглашения, которое удовлетворило бы императора и меня, но я не особенно надеюсь на это. У меня есть план создать в Индии новое государство Птолемеев.
Неказистый географ слушал ее, наморщив лоб.
— И где же в Индии? — послышался его высокий старческий голосок.
Она улыбнулась:
— В Александрии, конечно.
Мы все были удивлены, потому что не поняли ответа. Может быть, царица хотела привезти сюда наемных индийских солдат? И только географ придирчиво засмеялся:
— В какой Александрии? В той, что на Инде, или в той, что лежит севернее, у слияния рек Гидаспа и Зарадроса?
— Как хорошо ты осведомлен, географ! — захлопала в ладоши Клеопатра.
Ученый гордо выпрямился, и в бороде его вновь отчетливо мелькнул желток. Похоже было, что он носит его, как древний египетский орден за храбрость «Золотая пчела».
— Это ведь моя обязанность…
— Я имею в виду Александрию на Инде, потому что до нее из Эрифрейского моря
[96] могут дойти вверх по течению Инда даже большие суда. Мой предок Птолемей Сотер присутствовал при основании этого города, и таким образом круг истории замкнется.
Теперь взял слово Мардион:
— Это и впрямь звучит заманчиво, царица. Все мы знаем, что великий Александр основал множество городов, которые назвал своим именем, — в том числе и в Индии. Но с тех пор прошло три столетия, и никто не знает, что там теперь — и вообще существует ли еще этот город.
— Смотрите, наш Мардион остается все таким же старым скептиком. Чтобы достичь чего-нибудь, необходимо рискнуть. Я говорила с купцами, которые ведут торговлю с землями, лежащими на Инде, — двое из них сами были там. Город Александрия существует до сих пор, только не очень понятно, кому он принадлежит. Возможно, там есть несколько городов-государств, и я убеждена, что я с моими деньгами и войском смогу объединить их в одну страну — вдали от Рима, под прикрытием народов, отделяющих нас от него, — мидийцев, парфян и арабов. Ведь известно, что мой сын Александр Гелиос обручен с индийской принцессой Иотапой. Союз с парфянами напрашивается сам собой: ведь враг нашего врага должен быть нашим другом.
Такой политический размах не вызвал особого воодушевления у трезвомыслящих полководцев и командующих флотом. На их солдатских лицах не отразилось никаких чувств, некоторые только смущенно отводили глаза, почесывались, вздыхали, но из уважения к своей правительнице не смели ей возразить. На это мог решиться один только Мардион, но из сочувствия и симпатии к царице он не стал разрушать эту заманчивую картину будущего.
— Хорошо, царица, путешествие туда будет долгим и трудным. Но что следует сделать в первую очередь?
Она взглянула на него с благодарностью.
— К счастью, ты не только скептик, но и практик. Мы должны собрать как можно больше судов в Арабском заливе, чтобы оттуда… Впрочем, об этом вам лучше расскажет наш географ.
Тот рассеянно кивнул, поднялся, покряхтывая, погладил свою встрепанную бороду — при этом испачкал свои пальцы желтком — и принялся с любопытством их разглядывать. Затем он взял указку и подошел к карте.
— По моему мнению, добраться туда по морю не составляет особой проблемы, но это далеко, очень далеко. Мы отправимся на юг по Арабскому морю, — он скользнул указкой по египетским восточным гаваням Миос-Гормос, Левкое Лимен и Береника, — затем вдоль арабских и эфиопских берегов до южной оконечности Аравии, повернем на северо-восток и через Эрифрейский залив войдем в устье Инда. Это путешествие может длиться несколько месяцев…
Клеопатра недовольным жестом оборвала его на полуслове:
— Хорошо, географ, пока достаточно.
Я вовсе не был в этом уверен, потому что, взглянув на морских офицеров, сразу заметил, что их переполняет множество вопросов.
— Как нам быть с большими кораблями? Канал ведь очень узкий, он годится только для маленьких узких лодок…
Царица кивнула одному из своих советников, человеку дельному и опытному, который, очевидно, был родом из Египта и по старинному обычаю носил свои письменные принадлежности на поясе.
— Очень просто, — сказал он на грубом греческом. — Мы разберем корабли и с помощью мулов на повозках доставим их на берег.
— Но ведь для этого потребуется довольно много времени, — возразил кто-то.
Советник покачал головой:
— Конечно, время потребуется, но не очень много. Мы ведь достаточно далеко сможем проплыть по Нилу и его каналам, так что путь по суше составит всего Сто шестьдесят стадий — с учетом всех возможных отклонений.
По залу пронесся тихий недоверчивый ропот, но царица намеренно не обратила на него внимания. Уже уходя, она сказала мне:
— Твой слуга Салмо просит меня об отставке. Уладьте все это между собой, и на будущее — я не хотела бы, чтобы меня беспокоили по подобным пустякам. Лучше позаботься об императоре. Вот уже несколько дней его не видно.
— Хорошо, царица.
Антоний не стал возвращаться в свой Тимоний. После того как отпраздновали дни рождения обоих принцев, он вновь перебрался в старый царский дворец. В то время как Клеопатра делала все для спасения своего трона и династии, император только жаловался на неблагодарность своих друзей — да и всего мира.
Теперь, когда царица поручила мне присматривать за ним, мне стало интересно, каким видит он свое будущее.
Итак, я отправился в старый дворец Птолемея Авлета, у ворот которого стояли на страже верные преторианцы.
— Император приказал не беспокоить его!
— Скажи ему, что Олимп принес послание от царицы.
Император обедал и жестом пригласил меня принять
участие в его обильной трапезе. Все его общество составляли молчаливый Луцилий и личный раб Эрос — поговаривали, что он, возможно, был также его любовником.
От прежнего императора осталась лишь тень, Лицо его со следами пороков похоже было на обвисший мешок, на сдувшийся рыбий пузырь, глаза опухли и покраснели, жирно блестевший рот казался совсем маленьким, а двойной подбородок стал еще больше. Стол ломился от всевозможных яств, по которым жадно блуждал его мутный взгляд.
— Кое-что здесь я еще не попробовал: цесарку, зажаренную в меду, перепела, фаршированного финиками, и, может быть, еще грудку журавля в соленой корочке — я только что где-то ее видел…
Он взглянул на меня и мрачно засмеялся:
— Видишь, Олимп, что теперь для меня важно? Не то, где сейчас войска Октавия, и не то, кто меня предал и покинул и удастся ли заполучить новых союзников, — нет, ничто из этого меня больше не волнует.
Он опустошил свой серебряный кубок и протянул его Эросу, тот сразу же вновь его наполнил. Антоний громко икнул и снова выпил, затем взял со стола часть какой-то птицы и набил рот. Он вел себя как варвар, видимо, желая показать, как мало заботят его сейчас хорошие манеры. С набитым ртом, из которого иногда выпадали кусочки мяса, он продолжал:
— Все пропало, Олимп. После Акциума наше дело уже проиграно, но мне понадобилось некоторое время, чтобы понять это. Царица противится этому, я понимаю, она делает все, чтобы спасти себя, своих детей, свой трон и, может быть, даже меня, но все ее старания напрасны. Боги против нас, и нам некуда больше деться.
— Но ты мог бы еще бежать, император! Ведь у тебя остались преторианцы и еще несколько верных тебе легионов…
Он засмеялся и покачал головой.
— Надолго ли? Как только здесь появится Октавий, они перейдут на его сторону. Гай Октавий — это будущее, а я лишь прошлое.
Он снова жадно припал к кубку, так что вино потекло у него по подбородку.
— Осталось только распустить «Общество неподражаемых» и переименовать его в «Товарищество смерти». Теперь это будет более подходящим, не так ли?
Он так громко засмеялся своей идее, что подавился, закашлялся и, задыхаясь, стал жадно ловить воздух.
Да, подумал я с состраданием, ты действительно умирающий, ты сам себя приговорил. Удивительно, но немногие оставшиеся с ним друзья восприняли это переименование всерьез, и те, кто раньше назывались «неподражаемыми», теперь гордо именовали себя с мрачным юмором «товарищами по смерти».
Это вполне соответствовало нерешительному характеру Антония, ударявшемуся в мальчишество, вместо того чтобы искать выход из этой угрожающей ситуации.
Впрочем, замечу наперед, что и сложные, требующие много времени, денег и сил планы и приготовления царицы также ни к чему не привели и в конце концов все оказалось напрасным.
План с кораблями вначале удался. После долгих стараний они стояли в маленькой гавани Героонполе готовые к отплытию. Но тут появился шейх пустыни Малх, которого называли «царем набатеев». Его воины разграбили и подожгли флот — и это в благодарность за то, что когда-то царица заступилась за него и помешала Ироду пойти войной на набатеев.
Только позже выяснилось, что это не было просто случайностью. Малха подговорил Дидий, проконсул Сирии и Киликии, чтобы таким образом предстать в лучшем свете перед приближающимся Октавием. Конечно, раньше Дидий также был сторонником императора, именно ему он был обязан своей должностью. Однако так как он хотел сохранить ее, то предусмотрительно решил преподнести Октавию в подарок сгоревший флот египетской царицы. В конце концов, для честолюбивого Малха это тоже плохо кончилось, потому что царица подослала к нему убийц еще прежде, чем он смог насладиться плодами своего деяния.
И еще один человек угодил меж двух огней в этом споре сильнейших. Я имею в виду словоохотливого красавца Алекса. Как я уже сказал, он отправился с поручением от Антония и Клеопатры к Ироду в Иерусалим, чтобы отговорить его от измены. Позже стало понятно, почему он так обрадовался этому поручению. Алекс также давно намеревался перейти на сторону Октавия, но не мог решить, каким образом.
В Иерусалиме он рассказал царю Ироду о своих планах, красноречиво и доходчиво объяснил, что в глубине души он давно уже порвал с императором и является сторонником Октавия. Ирод сделал вид, что удивлен и обрадован, пообещал представить его Октавию и даже взял с собой, отправившись на Родос, где Октавий остановился весной.
О том, что затем произошло, я узнал от нескольких свидетелей, так что здесь не может быть речи о выдумках или предположениях.
Октавий утвердил Ирода в должности клиентального правителя Римской империи, но это вовсе не означало, что он будет так же благосклонен и к Алексу. Он критически осмотрел этого элегантно одетого, превосходно причесанного и скромно держащегося молодого человека и сразу вспомнил о том, что было известно всему миру и против чего не смог возразить даже ловкий Алекс: именно он в свое время уговаривал Антония развестись с Октавией и советовал ему соединить свою жизнь с Клеопатрой.
Так что Октавий сказал своему просителю прямо в лицо:
— Я могу простить все, но только не страдания моей бедной сестры Октавии, которую ты лишил мужа и обрек на жизнь в одиночестве. Ты все сделал, чтобы соединить Антония и Клеопатру, и ты умрешь вместе с ними!
Ни мольбы, ни страстные просьбы не помогли, и Алекса отправили в темницу. Ирод также оставил его, не желая портить отношения с Октавием. Согласно приговору, Алекса должны были с Родоса отвезти в его родную Лаодикею, там публично объявить о его предательстве, затем высечь и отрубить голову.
Бедный Алекс по-другому представлял возвращение в свой родной город. Но приговор был приведен в исполнение, и Алекс перед своими согражданами, собравшимися на рыночной площади, был обвинен в измене народу и сенату Рима. Затем палач подвесил его к столбу, сорвал его крат сивую одежду и отсчитал сорок ударов кнутом, после чего прекрасный Алекс превратился в какой-то жалкий стонущий кусок мяса. Обнаженный и истекающий кровью, он походил скорее на барана, с которого содрали кожу, чем на человека. Двумя сильными ударами палач отрубил ему голову, а затем тело его было сожжено, и пепел развеян над морем.
Я искренне жалел его, ведь он был вовсе не таким уж злодеем, а просто, как и многие другие, человеком, который всегда старался получить лучший кусок от пирога.
Глава 16
Может показаться, что со времени моего возвращения я совсем не вспоминал о своей семье и сыне, но это вовсе не так. Впрочем, об Аспазии я больше не заботился, потому что теперь она была женой другого человека и каждая встреча с ней вызывала только досаду и раздражение.
Однако я навещал ее мать, которая воспитывала Герофила и с которой у меня всегда сохранялись хорошие отношения. Деметра радовалась каждому моему приходу и рассказывала много хорошего о моем сыне. В январе ему исполнялось восемь лет, и по этому случаю я решил пригласить его в Брухейон.
Поначалу он держался очень робко, потому что все здесь для него было чужим и непривычным, но постепенно любопытство и новые впечатления захватили его. Он смог даже увидеть царицу и заметил, что считал ее более молодой и красивой. Я подавил свое недовольство:
— Чтобы действительно оценить красоту женщины, тебе надо немного подрасти, стать мужчиной. Пока ты мальчик, ты невольно сравниваешь каждую взрослую женщину со своей матерью, а каждый сын считает, что его мать красивее.
— Но у нее такой длинный нос и толстые губы…
— Оставь все эти замечания при себе, Герофил, и не торопись с приговором.
Мы обошли квартиры, где жила личная охрана, заглянули на конюшни, на псарню и с восхищением осмотрели небольшой зверинец, который устроила царица. Помимо многих редких птиц здесь были также газели, шакалы, черепахи, мангусты и даже старый и почти беззубый лев, который большей частью спал и всегда был настолько сыт, что если случайно, по какому-то недосмотру, одна из газелей оказывалась у него перед носом, он только лениво зевал.
По дороге нам встретился Антоний. Он был в хорошем настроении — тогда, в январе, дела были еще не так плохи. Он по какому-то поводу приехал на несколько дней из своего Тимония.
— А, Олимп, да хранит и покровительствует тебе Асклепий! У тебя новый слуга? Но мне кажется, этот мальчик еще слишком юн. — Он шутя погрозил мне пальцем и продолжил на латыни: — Или тебе на склоне лет захотелось чего-то новенького? Может быть, чтобы подразнить Ирас?
Он громко рассмеялся своим словам и потрепал по щеке моего сына, который, испугавшись, попытался спрятаться за моей спиной.
— Твои предположения ошибочны, император. Это мой сын Герофил. Я решил сделать ему на день рождения подарок и показать Брухейон.
— Ну тогда, — вскричал Антоний, — мои поздравления, молодой человек! У тебя такой прекрасный возраст — вокруг столько всего, чему можно научиться, столько удивительного и интересного.
Он грубо указал на его пенис:
— Когда он зашевелится, в голове у тебя останется только одно: бабы, бабы, бабы. Тебе будет интересно только, как выглядят они без одежды, что у них между ног и как туда добраться. А когда это удастся, тебе захочется повторить это еще и еще раз и чтобы их было как можно больше. А потом…
Малыш слушал императора, широко раскрыв серые глаза. Его взволновало скорее то, что к нему обращается знаменитый Марк Антоний, и он вряд ли понимал, о чем тот говорит.
— Он не понимает, что ты имеешь в виду, император. Будь он немного постарше, у него уши бы покраснели…
— Ты прав, Олимп. В конце концов, я ведь отец четырех сыновей, и мне следовало бы понять это. Ну а ты — кроме этого одного не в состоянии больше никого произвести?
Я ухмыльнулся:
— Служба при дворе не оставляет для этого времени.
— Отговорки! Взгляни на меня!
Он перечислил своих четырех сыновей — конечно, только для того, чтобы покрасоваться перед Герофилом. В парфянской войне этот человек пожертвовал жизнями тридцати тысяч солдат, что не особенно его беспокоило, а теперь он пытался произвести впечатление на восьмилетнего мальчика.
— Антилл, скоро мы отпразднуем его совершеннолетие. Затем на три года младше его Юлий, он живет в Риме, и, конечно, сыновья моей божественной супруги Клеопатры — десятилетний Александр Гелиос и маленький Птолемей — сколько ему сейчас?
Антоний посмотрел на меня вопросительно.
— Он родился во время парфянского похода, следовательно, сейчас ему должно быть четыре года.
— Видишь, Олимп, тебе тоже следовало бы завести еще кого-нибудь, чтобы Герофил рос не один.
— А дочери? Дочерей у тебя нет? — спросил Герофил так тихо, что мы едва услышали его.
Император засмеялся:
— Про них я совсем забыл. У меня их три, и всех зовут Антония.
Герофил удивился:
— Что? Но как же ты их различаешь?
— Они все не похожи друг на друга, и у каждой свой характер, так что их не спутаешь. Приезжай как-нибудь к нам, Герофил. Кем ты хочешь стать? Врачом, как твой отец?
— Императором, как ты! — воскликнул мальчик. — Тогда у меня будет слава и богатство, и все будут меня слушаться.
Антоний стал серьезным.
— Ты так считаешь? — сказал он слегка дрогнувшим голосом. — Но прежде чем станешь императором, да и потом приходится столько вынести. В конце концов спрашиваешь себя…
Недоговорив, он отвязал от пояса кинжал и протянул его Герофилу.
— Если ты действительно станешь солдатом, то носи это оружие на память обо мне. А если не станешь, принеси его в жертву богам и помолись за Марка Антония.
Император резко отвернулся и скрылся за стеной своих рослых телохранителей.
Герофил взял кинжал обеими руками, пробормотав:
— Он… он подарил мне свой кинжал… просто… просто так…
От Салмо все еще не было никаких известий. Я знал, о чем он думает, и не хотел идти на уступки, потому что сам думал так же. Он ждал, пока я приду к нему и попрошу о примирении. Конечно, он был моим слугой, и мне следовало было позвать его и выдумать какое-нибудь наказание. Но друзей не наказывают, и поэтому я просто ждал. Так прошли февраль, март и апрель. В начале мая помощник врача по имени Саломон попросил меня о встрече. Он держался несколько натянуто и выглядел обиженным.
— Досточтимый придворный врач и министр Гиппократ, — сказал он сдавленным голосом, — несколько месяцев назад я подал прошение божественной царице о том, чтобы меня освободили от должности. Ответа на него я до сих пор не получил. Так как я не хочу лишний раз беспокоить царицу, то я просил бы тебя…
— Она поручила это мне, Салмо. Она считает, что мы сами должны все уладить.
Лицо его дернулось, здоровый глаз смотрел куда-то мимо меня, на стену.
— Что тут улаживать…
— Ну не валяй дурака, Салмо! У тебя есть две возможности: или ты остаешься моим другом — тогда я внимательно отнесусь к любому твоему решению, или ты являешься только моим слугой и тогда должен выполнять мои приказания.
Он несколько раз вздохнул и произнес через силу:
— Ну хорошо, я твой друг и хотел бы, чтобы все было как раньше, до того, как ты принудил меня согласиться на эту проклятую должность служителя Гигиеи…
Мы торжественно обнялись и поклялись не оставлять друг друга в это ненадежное время.
В июне исчез Николай из Дамаска, учитель и воспитатель младших сыновей Клеопатры. Сначала нам было непонятно, что могло побудить к этому такого раболепного педанта.
У меня возникли кое-какие подозрения, но я не решался высказать их вслух. Мне вдруг вспомнилась одна сцена в Иерусалиме, когда мы были гостями Ирода и он замышлял, как бы погубить Клеопатру. После того как я сделал вид, что согласен с его планом убийства царицы, он стал необычайно внимателен к Николаю. Рука об руку прогуливались они по тенистым галереям и, казалось, вели оживленную беседу. Бородатый ученый сообщил, что царь очень интересовался греческой и «римской историей и был любознателен, как прилежный ученик.
Царица, всегда недоверчивая, если речь шла об Ироде, строго приказала Николаю передавать ей каждое его слово, однако, судя по всему, Ирод действительно решил воспользоваться случаем и пополнить свои знания по истории.
Но теперь у меня зародилось ужасное подозрение, что Ирод еще тогда предложил ученому перейти к нему на службу. Как я уже сказал, я ни с кем не делился своими подозрениями, но в июле, когда от одного бежавшего центуриона нам стало известно о неудачной попытке Алекса перейти в другую партию, мы узнали также, что Николаю предоставлена при дворе Ирода должность советника и историографа.
Когда император узнал о судьбе своего друга Алекса, он пожелал, чтобы всех предателей постигла такая же участь. Однако, к сожалению, судьба Алекса стала исключением — он просто пытался вести слишком большую игру. Всем остальным смена партии удалась прекрасно. Антоний готов был щедро наградить каждого, кто перешел бы на нашу сторону, но, к сожалению, не было ни одного случая, чтобы кто-то перешел к нам от Октавия.
Так мы сидели в Александрии, точно курицы в корзинке, и каждый смутно сознавал, что она откроется, лишь когда нас будет ожидать бойня.
Только Ирас, казалось, почти не волновало все это. Как-то вечером мы сидели на террасе моего дома и смотрели на исчезающее в сумерках море. Вдруг облака разошлись, как будто раздвинулся занавес, и на небесной сцене показалась серебристая голова богини Селены.
— Привет тебе, о дочь Гипериона и Тейи, супруга Гелиоса! Ты останешься и после того, как нас уже не будет, ибо мы смертны, а ты вечна… — произнес я торжественно. Я сказал это безо всякой задней мысли, но Ирас разгневалась.
— Я не могу больше слушать эти вечные разговоры о смерти и гибели! Но вы, мужчины, все одинаковы — от императора до привратника. Каждый стонет и жалуется, говорит о приближающемся несчастье и оплакивает свою судьбу. «Товарищество смерти», которое основал Антоний, все пополняется. На своих пышных и пьяных симпосиях эти мужчины упиваются собственной гибелью. Они жалуются на неумолимость Мойр и изменчивость Тихе — и, мне кажется, это еще доставляет им удовольствие! Лучше бы они подумали над тем, как предотвратить эту катастрофу!
— Все думают над этим… — сказал я неуверенно, но она тут же перебила:
— Да, но каждый про себя — вместо того чтобы сообща придумать какой-нибудь план. Ведь большинство из вас солдаты, и даже ты одно время им был. Когда надо проткнуть противнику живот или раскроить ему голову, тут вы все рады стараться. Знаешь, что Антоний вызвал Октавия на поединок и теперь с нетерпением ждет его ответа? Однако этот человек умнее вас всех и не станет воспринимать всерьез подобные детские выходки. Царица верно оценивает своего противника и сделает все, чтобы с ним договориться.
Мне пришлось признать правоту суровой критики Ирас. Клеопатра действительно вела себя умнее и рассудительнее мужчин — правда, это все равно ей не помогло. Впрочем, Антоний тоже попытался найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Он попросил Октавия позволить ему вернуться в Афины как частному лицу, но тот уклончиво ответил, что ему надо все обдумать. Передать эту просьбу вместе со значительной суммой денег император поручил своему старшему сыну Антиллу. Октавий заключил юношу в темницу, а деньги присвоил.
Еще яснее Октавий ответил Клеопатре, когда та, желая выразить свою покорность, передала ему знаки царского достоинства с просьбой позволить ей управлять Египтом в качестве клиентальной правительницы Римской империи. Он оставил себе царские сокровища и написал в ответ, что рассмотрит ее просьбу только после того, как она выдаст ему императора — живым или мертвым. Царица сообщила об этом условии императору, и он ответил на него на одном из симпосиев — не знаю, насколько это соответствует действительности.
Вначале он был необычайно молчалив, мрачен и пил кубок за кубком, потом вдруг разразился диким смехом и, пошатываясь, поднялся.
— In vino Veritas — говорят в народе. И мне действительно пришлось выпить дюжину кубков, прежде чем я нашел в себе мужество — да, дорогие друзья, для этого нужно мужество — сообщить вам о том, что мой бывший друг, а теперь противник Гай Юлий, сын божественного Цезаря, известный также как Октавий или Октавиан, — что этот человек сказал… осмелился…
Антоний разразился слезами и упал на ложе, охватив голову. Мы, его друзья и гости, смотрели на него вопросительно. Разыгрывает ли он перед нами трагедию, или действительно все это его так потрясло? Его шутки были обычно довольно грубы и остры, но на этот раз…
Тут он снова встал и поднял руку.
— Так вот: тот, кого я когда-то называл своим другом и вместе с кем управлял Римским государством после смерти Цезаря, — этот человек потребовал от царицы убить меня или выдать ему живым. На мое предложение сойтись в честном мужском поединке один на один он не ответил из трусости — он, который называет себя сыном божественного Цезаря! Я вижу, как тень Божественного в Елисейских полях прячет свою голову от стыда, — как и я теперь. Выбор Цезаря оказался ошибочным, потому что Римом должен править воин — такой, какими были Сулла, Помпей, Красс, или сам Цезарь, или как Агриппа. Без него военное счастье давно изменило бы Октавию, потому что на самом деле битвы при Сицилии и Акциуме выиграл Агриппа, а победу над убийцами Цезаря в Филиппах одержал я, ваш император. Кто покрыл своим плащом погибшего Брута, чтобы оказать последние почести побежденному врагу? Я! А кто приказал отрубить ему голову, чтобы послать ее в Рим? Ослепленный жаждой мести Октавий, который теперь так же слеп и который требует смерти вашего императора. Любому другому я сдался бы — но не ему!
Раздались приветственные возгласы, зазвенели кубки. Антоний также поднял свой и воскликнул: — Живым он меня не получит, и я останусь победителем — так или иначе!
В начале августа флот Октавия вошел в гавань Птолемаиду Акко. Этот финикийский город был покорен Александром, укреплен Птолемеем Филадельфом и назван его именем. Намерения Октавия были ясны: он хотел показать, что с занятием этого города падение династии Птолемеев становится делом окончательно решенным. Очевидно, у него был план окружить нас, потому что его войска двигались с севера к границе Египта, в то время как флот под командованием Корнелия Галла приближался к Александрии с запада. Антоний спешно снарядил сорок кораблей, но был разбит и в последнюю минуту смог бежать.
Когда загнанный император в отчаянии вошел в восточную гавань, он получил известие, что вражеские войска заняли Пелусий. Это означало, что противник находится на расстоянии всего пяти дней пути от Александрии, а вражеские корабли под командованием Корнелия Галла могли появиться в восточной гавани в любой момент.
Сегодня все знают, какое крушение потерпел этот Галл позже, когда стал префектом Египта, но тогда он мог еще насладиться своей победой над Марком Антонием.
Теперь, когда опасность стала так близка, даже моя Ирас потеряла свою железную выдержку и самообладание.
— Сделайте же наконец что-нибудь! — потребовала она. — Неужели вы допустите такую жалкую гибель, выдадите нас римским варварам! Как ты думаешь, что они сделают с нами, с женщинами? Царицу закуют в цепи и украсят ею триумфальную процессию, а потом отдадут палачу, а нас, придворных дам, опозорят, унизят и бросят в цирк на растерзание диким зверям? Ну же, Гиппо, придумай что-нибудь. Пока император топит в вине остатки своего разума, мы должны найти какой-то выход, чтобы спасти хотя бы царицу.
За несколько дней до этого меня посетила одна мысль.
— Успокойся, Ирас. У меня есть одна идея, и я хотел бы немедленно поделиться ею с царицей. Ты не могла бы устроить, чтобы при этом присутствовал также и император?
Ирас с облегчением вздохнула и засмеялась, как будто спасение уже стояло у нашей двери.
— Сейчас будет сделано! — поспешно воскликнула она и исчезла.
Спустя два или три часа я стоял перед царицей, слегка возбужденной от любопытства, и главой «Товарищества смерти», который взглянул на меня насмешливо и воскликнул заплетающимся от вина языком:
— А, смотрите-ка — наш спаситель явился! Неужели нашему Олимпу еще пришло что-то в голову, когда все мы уже по шейку в воде! Ну, говори же скорей!
Ирас ободряюще улыбнулась мне, Шармион взглянула строго, а по лицу Мардиона видно было, что он настроен скептически.
— Хорошо, это всего лишь идея, но вполне осуществимая, даже сейчас, в последнюю минуту. Завтра или послезавтра противник займет обе гавани, и тогда подойдут войска из Пелусия — так что мы уже не сможем ничего сделать. Путь по морю закрыт, восток и север — тоже. Но ведь еще остается юг, царица. Перед нами лежит все твое могущественное государство, и египетский народ на твоей стороне. Почему бы тебе не отправиться в Фивы? Оттуда ты можешь поехать в Сиену, а затем, если нужно, в Мерое. Царь Акинидад охотно примет тебя. Он весьма обязан мне и моему отцу — ведь если бы он остался хромым, то не смог бы занять трон. Легионы Октавия никогда не пройдут так далеко на юг: как смогут они прокормиться — ведь там очень мало плодородных земель и почти сплошь пустыня.
Твой флот, царица, стоит нетронутый на озере Марсотида — мы можем отправиться в любой момент!:.
Клеопатра только улыбнулась и ничего не сказала, а Антоний воскликнул, хлопнув себя по ногам:
— И как мы раньше не додумались! Конечно, юг! Юг свободен, и между Мемфисом и Сиеной стоят два моих легиона! Мы сможем переждать там, собрать новое войско, построить корабли…
— Нет.
Она сказала это совсем спокойно, не повышая голоса.
Антоний посмотрел на нее с изумлением.
— Нет? Что это значит? Почему нет? Разве есть другие возможности?
— Разумеется! Мы могли бы договориться с Октавием… Но теперь о твоем предложении, Гиппо. Я не хотела пока говорить, поэтому ты не мог знать, но недавно пришло известие, что трон занял не твой бывший пациент Акинидад, а его мать Амани-Рена. Она ненавидит меня и всех египтян, и вся ее жизнь нацелена на то, чтобы часть за частью заполучить все земли к северу от второго катаракта. Даже если бы ты спас ее сына от смерти, она не отказалась бы от своих стремлений. Стоит мне появиться там, и она сразу прикажет бросить меня в темницу, чтобы потом за приличное вознаграждение выдать римлянам. Благодарю тебя за совет, дорогой Гиппо, но теперь ты понимаешь, что я скорее договорюсь с Октавием, чем с этой мстительной царицей негров.
— Мстительная царица негров! — весело воскликнул Антоний и пьяно засмеялся. — Клянусь Гераклом, хорошо сказано. Но не жди слишком многого от Октавия, моя дорогая. Он объявил тебе войну и доведет ее до конца.
Император оказался прав. Все попытки вступить в переговоры с Октавием окончились ничем. Перед народом и сенатом Рима он объявил царице войну и хотел выиграть ее, чтобы отпраздновать победу над Египтом и одновременно — хотя об этом и не говорилось прямо — уничтожить Марка Антония. Очевидно, он хотел сделать это лично, потому что ничего не ответил на предложение императора, которое тот сделал совершенно серьезно и при свидетелях. Он готов был убить себя, если Октавий пообещает сохранить Клеопатре жизнь и трон.
Октавий не ответил на это, потому что хотел уничтожить Клеопатру и убить Антония, которого объявил предателем. Тогда он смог бы вернуться в Рим победителем, который поверг к ногам сената богатый Египет, и стать полновластным правителем Римской империи — все равно под каким титулом: может, диктатор, а может быть, даже царь?..
Сегодня мы знаем, что с первым Гай Октавий справился, а что касается второго, то из него вышел Август, который скромно настаивал на том, чтобы быть primus unter pares — первым среди равных.
Вскоре запыхавшиеся гонцы принесли ужасную весть о том, что Октавий вот-вот займет Каноб. Услышав об этом, Антоний преисполнился священного негодования и, собрав несколько верных ему когорт, устремился к Канобу. В этом городе Антоний когда-то устраивал всевозможные праздники и увеселения и теперь не мог смириться с тем, что там оказался враг.
Римляне как раз собирались устроить свой лагерь на ипподроме городка, когда Антоний налетел, подобно Орку, так что они от неожиданности обратились в бегство.
Я присутствовал, когда Антоний, не успев еще снять доспехи, ворвался во дворец, на глазах у всех обнял Клеопатру и сообщил ей о своем геройстве. Потом он представил ей нескольких солдат, которые особенно отличились в этом бою.
— Это вернейшие из верных! — похвалил он, и царица щедро их одарила.
На следующий день этих вернейших и след простыл, и стало ясно, что они сбежали в лагерь неприятеля, прихватив все свои сокровища.
В отчаянии император еще раз предложил Октавию встретиться в честном поединке. На этот раз ответ пришел, и он состоял только из одного предложения: «У тебя будет еще много возможностей покончить с жизнью».
В эти дни царица вызвала меня для беседы, в которой также приняли участие Шармион, Ирас и Мардион.
Лицо Клеопатры было очень бледным, в больших серых глазах застыла, нет, не страх и не отчаяние, а мрачная решимость идти своим, и только своим, путем — без Антония, и если будет нужно, то и без нас.
Об этом она и заговорила сразу же:
— Похоже, для царского двора лучшие дни миновали. Часть моих слуг уже улизнула, но меня это совершенно не волнует. Вы четверо верно служили мне, но вы еще и мои друзья, и мне было бы тяжело, если бы кто-то из вас исчез, не сказав ни слова. Тот из вас, кто хотел бы уйти, пусть скажет мне об этом — здесь и сейчас! Он или она получит щедрое вознаграждение и мои лучшие пожелания на будущее. Я вполне могла бы понять и простить это. Шармион?
Высокая, гордая и немногословная женщина только молча покачала головой и положила руку на плечо царицы.
— Ирас?
Моя подруга разразилась слезами и, упав на колени, прижалась к ногам Клеопатры.
— Нет-нет-нет! Никогда я не смогла бы покинуть тебя, моя божественная царица! Никогда!
Клеопатра улыбнулась:
— Хорошо, Ирас, хорошо… Встань же!.. Мардион?
Евнух только удивленно поднял брови.
— Меня удивляет, царица! Я всегда считал, что ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы не задавать подобных вопросов. Моя гробница закончена, и саркофаг стоит наготове. Мы вместе шли по этой жизни и — если ты позволишь — пойдем вместе и дальше.
— Я позволю, дорогой друг. Ну а ты, мой Гиппократ, — или теперь мне лучше вновь называть тебя Олимпом?
— Пусть будет то имя, которое ты выберешь. Хороший врач не бросает своего пациента — до самого конца. А я считаю себя хорошим врачом.
Клеопатра удовлетворенно кивнула.
— Ничего другого я от вас и не ожидала, но никто не может до конца знать людей. А теперь оставьте меня наедине с моим врачом.
Все вышли, и Ирас бросила на меня взгляд, исполненный одновременно доверия, печали, упрямства и симпатии.
Царица поднялась, но жестом позволила мне продолжать сидеть.
Я и сегодня ясно вижу, как она медленно прохаживается туда-сюда в маленьком тенистом, но все же пронизанном светом зале. Время от времени она останавливается и рассматривает какую-нибудь вазу, кувшин, скульптуру так, будто видит их впервые.
Пока я писал эти слова, я понял, что это не так. Клеопатра смотрела на все эти вещи, как бы прощаясь с ними.
Как всегда, в кругу своих ближайших друзей она была почти без грима и не надевала ни украшений, ни знаков своего царского достоинства, за исключением кольца с геммой (печатью), которое она никогда не снимала. Его подарил ей на свадьбу Антоний. На голубом лазурите самый искусный резчик нашего города изобразил ее и Антония, смотрящих друг на друга. Я видел, как она нежно коснулась серебряного кувшина, повертела золотую статуэтку Исиды и вновь осторожно поставила ее у стены.
Царица была одета так же, как и ее придворные дамы: на ней был светло-желтый пеплос с поясом, перехваченные красной лентой волосы собраны сзади в пышный узел. Но, несмотря на такой скромный вид, любой понял бы, что перед ним царица, повелительница, имеющая неограниченную власть над людьми и вещами — здесь, во дворце, и за его пределами, по всей стране.
Она снова села и спокойно посмотрела на меня.
— Странно, что теперь, когда осталось так мало времени, я совсем не берегу его. Сегодня утром я целых два часа просто бродила по дворцу и рассматривала все — вот как сейчас. Обычно ведь торопишься и проскакиваешь мимо всей этой мебели, статуй, картин, колонн, мозаик и надписей. Пользуешься кувшинами, кубками, ложками, ножами и тарелками и даже не разглядишь их как следует. А ведь на каждую из этих вещей мастер потратил много времени, стараний и любви, чтобы они могли радовать людей и украшать их жизнь.
Она улыбнулась.
— Мне нужно было прожить тридцать девять лет, чтобы понять это. И теперь, дорогой Гиппо, вопрос в том, позволит ли мне Тихе, эта своенравная дочь Зевса, дожить свой сороковой год. Я рождена в царском дворце, меня качали в пурпурной колыбели, я с юных лет носила корону и я хотела бы умереть как царица. Возможно, существуют правители, которых тяготит их корона и которые предпочли бы жить частной жизнью. Но я к таким не отношусь, я всегда с удовольствием носила обруч с уреем. Мне и сейчас кажется, что он на мне — невидимый…
Она слегка коснулась пальцами лба.
— Да, Гиппо, мы оба живем под знаком змеи: для тебя — это змея Асклепия, священный символ врачей, а для меня — урей, символ царей Египта. Я не наскучила тебе?
— Я мог бы слушать тебя целыми днями, царица, — сказал я в восхищении. — Ты говоришь о вещах, которые всем известны, но они приобретают при этом волнующую новизну.
Она тихо засмеялась.
— Ах, Гиппо, если бы я не знала, что из тебя никогда не получится настоящий придворный, я могла бы принять твои слова за лесть. Но я знаю, что ты действительно так думаешь, и поэтому мне очень приятно. Ну хорошо, а теперь поговорим о тебе и твоей профессии. Врач призван побеждать болезни, изгонять их из тела пациента прежде, чем они приведут к смерти больного. Так ведь?
— Да, царица, можно сказать и так.
— Хорошо. Ты уже много лет был моим лекарем, правда, я почти не болела и не нуждалась в услугах врача. Но теперь ты скоро понадобишься мне, потому что я вижу, что на меня надвигается болезнь — мне грозит жизнь без короны. Для меня это все равно, что для воина лишиться руки, которой он держит меч, или для скульптора потерять пальцы, это все равно, что лишить чтеца дневного света. То, что за этим последует, уже нельзя назвать жизнью — это только бессмысленное существование, хуже, чем болезнь. Если дело дойдет до этого, дорогой Гиппо, то ты должен будешь исцелить эту болезнь и избавить меня от бессмысленного прозябания, короче говоря, ты должен будешь лишить меня жизни, потому что тогда она превратится в болезнь.
Я понял, что она от меня хотела, но мне стало так страшно, что я смог только глупо спросить:
— Жизнь — это болезнь?
Она погрозила мне пальцем и гневно наморщила лоб.
— Ты прекрасно понял меня, мой дорогой. Я могу сказать по-другому, и это будет приказ. Выясни, каким образом я, если понадобится, смогу умереть быстро и безболезненно.
— Я попытаюсь найти самое лучшее средство, — твердо сказал я.
— Хорошо, только не приходи ко мне с мышьяком, я до сих пор не могу забыть, как долго пришлось страдать бедной жене Селевка.
— Нет, царица.
— И не откладывай этого в долгий ящик, слышишь? Пойди в мусейон и расспроси прежде всего тех, кто имеет дело со змеями. Если тебе понадобится произвести эксперименты, обратись в суд — там тебе всегда предоставят несколько приговоренных к смерти. С завтрашнего дня я буду жить в своей недавно построенной гробнице рядом с храмом Исиды. Ты сможешь поговорить там со мной в любое время. И еще: когда ты выяснишь, как мне быстрее всего можно избавиться от моей болезни, я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной.
— Хорошо, царица.
Глава 17
Я взял носилки и приказал доставить меня в мусейон. Там ничего не изменилось: как и прежде, учителя не спеша прогуливались со своими учениками, по переходам сновали помощники и слуги с чернильницами, свитками и стремянками. И это в то время, когда в двери стучалась война, царица готовилась умереть, а ее супруг бросался в бессмысленные сражения.
Моя печаль и подавленность сменились гневом и возмущением. Как могли быть эти люди такими черствыми и равнодушными? Ведь их царице, их городу и их стране угрожала гибель. Как будто повторялся дурной сон: когда я вернулся из Мерое, здесь царила такая же безмятежность в то время, как город осаждали войска Юлия Цезаря.
Мне захотелось схватить за бороду кого-нибудь из этих мудрых учителей, отстегать бамбуком их учеников, дать им в руки по мечу и выгнать пинками: «Выходите! Защитите свою царицу, которая платит за вашу учебу и позволяет вам заниматься!»
Однако чаще всего мы не делаем того, что думаем. Пока в голове у меня проносились подобные мысли, я разыскал отдел, где занимаются ядами.
Еще довольно молодой, но уже исполненный достоинства и важности учитель объяснял дюжине окруживших его учеников различие между минеральными и растительными ядами.
— Хорошо ли ты разбираешься в змеиных ядах?
Он спокойно окончил свое объяснение и повернулся ко мне.
— Сейчас как раз идет занятие, а через час я буду к твоим услугам.
— Я — Олимп, личный врач царицы. И ты нужен мне немедленно. Иди сюда!
Ученики посмотрели на своего учителя, тот кивнул и сказал, принужденно улыбнувшись:
— Покоряюсь силе, господа. Увидимся позже.
— Если ты хочешь сохранить свою должность и голову, то немедленно забудешь то, о чем мы будем сейчас говорить, — грубо оборвал я его. — В сущности, у меня к тебе только один вопрос: яд какой змеи убивает человека быстро и безболезненно?
Учитель не потерял своего спокойствия, и это вызывало к нему невольное уважение.
— Безболезненно, пожалуй, никакой, но быстро… Это зависит от возраста человека, его физического состояния, а также от самочувствия змеи. Если незадолго до укуса она уже выпустила свой яд, то иногда второй укус может даже оказаться не смертельным. Люди по-разному реагируют на яд: дряхлый старик умрет быстрее, чем молодой мужчина, полный сил, дети более восприимчивы к нему, чем взрослые, и так далее.
— Хорошо, тогда я уточню свой вопрос. Яд какой змеи может убить даже молодого и полного сил человека?
— Пойдем!
Через какую-то боковую дверь он провел меня в маленький внутренний дворик, уставленный с двух сторон рядами. клеток разной величины, все с. металлической решеткой.
— Это наша змея-урей, — кивнул учитель. — Она очень священная и очень ядовитая. Священная только для египтян, а ядовитая для всех людей, любого возраста, пола и цвета кожи.
Змея лежала
спокойно, ее холодные глаза уставились в пустоту. Трудно было судить о ее длине, но, вероятно, она составляла не меньше шести футов.
— Мы держим ее в тени, тогда она более вялая и не такая агрессивная.
— А она… уже убивала человека?
— Ну да, уже многих. По возможности, я стараюсь использовать во время занятий приговоренных к смерти. Тот, кого должны заживо сжечь на костре, действительно благодарен, если эту казнь ему заменяют укусом змеи, — а ученики при этом учатся.
Он посмотрел на меня с удовлетворением.
— Могу я еще чем-то быть полезен?..
— Да, я хотел бы увидеть, как действует укус этой змеи на человека лет сорока.
Учитель посмотрел на меня долгим взглядом, в котором мелькнуло что-то вроде любопытства.
— В самом деле? Это должен быть мужчина?
— Лучше женщина.
— За это придется заплатить.
— Сколько бы это ни стоило, — усмехнулся я.
— Приходи сюда завтра днем около трех.
— Хорошо. И еще один вопрос: если змея укусит, как скоро у нее вновь будет достаточно яда?
— Не беспокойся, Олимп. Она не израсходует весь свой яд за один укус. С помощью опытов было установлено, что запас яда у этой змеи полностью возобновляется за двадцать четыре часа.
Должно быть, это был конец июля; в эти дни император решил добиться победы хотя бы на море и собрал в восточной гавани все оставшиеся немногочисленные суда.
Царица приказала вынести из дворца все свои драгоценности — прежде всего украшения: короны, диадемы, цепочки, браслеты, кольца и пекторали заполнили несколько корзин. Затем последовали роскошные одеяния, дорогие ткани, золотые пояса, сандалии и пышные парики. Из золота и драгоценных камней она приказала взять только самые дорогие: здесь было несколько кожаных мешочков с лазуритом, бирюзой, карнеолом, а также несколько дюжин не встречающихся здесь смарагдов, или изумрудов, и рубинов — было чем залюбоваться. А жемчужины! Большие и маленькие, круглые и овальные, всевозможных цветов: молочно-белые, коричневатые, зеленоватые, красноватые, серые и черные.
Я рассматривал все эти сокровища, собранные в аудиенц-зале, и, когда вошла царица, состроил насмешливую мину.
— Ты думаешь, я все это хочу прихватить с собой туда, в царство теней? Да, может, и так, но главная причина в том, что я не хочу оставлять их римлянам. Октавий постоянно нуждается в деньгах. Конечно, кое-что ему достанется, но только не самое лучшее. Пусть оно лучше сгорит в огне. Вот, взгляни!
Она подняла массивную золотую чашу с ручками.
— Она принадлежала еще моему предку, Птолемею Сотеру, первому греческому царю Египта. Она весит не меньше четырех или пяти аттических мин, а посмотри на эти рисунки!
По краю чаши были изображены двенадцать подвигов Геракла. Чеканка была выполнена очень искусно, и, хотя размер ее не превышал длины большого пальца, все детали были обозначены очень живо и четко, так что можно было разглядеть нечеловеческое напряжение на лице героя, боровшегося с Немейским львом, и казалось, что слышишь свирепое рычание Кербера.
Клеопатра осторожно положила прекрасный сосуд. Позади открылась дверь и вошла Шармион.
— Подожди минутку, дорогая. Ты был в мусейоне?
— Да, царица. Быстрее всего убивает яд змеи-урея. Но если уж нет другого выхода, то я бы все же посоветовал тебе меконий. Если подмешать определенную дозу в вино или медовый напиток, то ты просто уснешь…
— Вот именно! И через какое время после этого наступит смерть?
— Через час, может быть, два…
Лицо ее посуровело, и на лбу появились морщинки.
— А если за это время римляне заставят меня принять рвотное, то я окажусь у них в руках, понятно? Живая! Для меня риск слишком велик. Если я все же пойду на это, то смерть должна быть почти мгновенной, так что, если Октавий и попытается помешать мне, надо, чтобы все было кончено еще прежде, чем он успеет открыть рот. Вот как должно быть, Гиппо, и никак иначе!
— Завтра утром я пойду в мусейон и возьму змею. Но прежде я еще испытаю ее.
Она кивнула, как бы говоря, что дальнейшее ее не интересует. Я спросил об Ирас и узнал, что она в гробнице: наводит там уют.
— Уют?
— Да, Гиппо, уют — на время и навсегда-.
В мусейоне меня уже ждали. В зале, где проходят занятия, я увидел какую-то женщину. Она сидела, привязанная к табуретке, а конец веревки держал служитель, стоявший позади нее.
— Это Лейкотея, — кивнул учитель. — Ее схватили, когда она пыталась отравить своего третьего мужа. Первый был еврей, второй египтянин, а теперь она хотела проделать это с греком, но тот оказался хитрее. Ее приговорили к сожжению заживо, так что она может быть благодарна нам за то, что ее избавили от такой ужасной смерти. Правда, Лейкотея?
Крепкая, не особенно привлекательная женщина молча кивнула головой. Учитель пожал плечами.
— Ну да что тут говорить! Итак, приступим!
Служитель провел женщину во двор — та почти не сопротивлялась. В это время учитель палкой расшевелил урея. Змея зашипела, высовывая язычок. Дальше все произошло очень быстро, как будто было уже давно отработано. Учитель открыл крошечную дверцу сбоку клетки, служитель повалил женщину наземь и просунул ее правую руку в отверстие. Я смутно успел заметить, как змея укусила ее и вновь отпрянула. Лейкотея приглушенно вскрикнула, забилась в судорогах, глаза ее закатились, дыхание становилось все поверхностнее и вскоре прекратилось.
Я осмотрел ее: все, что указывало на причину ее смерти, были две маленькие красные точки на подушечке большого пальца.
— Ну, — взглянул на меня учитель, — я не слишком много наобещал тебе?
— Нет-нет, все в порядке. Прикажи тотчас же доставить эту змею в Брухейон, в дом личного врача Гиппократа — так зовут меня при дворе.
— Твое имя здесь знает каждый! — с наигранным почтением воскликнул учитель.
Этого человека ничто не могло вывести из равновесия. Даже туго набитый кошель с серебром не вызвал у него почти никакой реакции. Он только слегка наклонил голову и сказал:
— Всегда к твоим услугам, досточтимый Гиппократ.
Глава 18
Первый день секстилия оказался поистине счастливым для Октавия, так что впоследствии в его честь этот месяц был назван августом. Осталось неизвестным, хотел ли наш император в последний раз попытать счастья в бою просто из гордости или он действительно питал какие-то надежды. Во всяком случае, в этот день он приказал своему с трудом собранному флоту выступить на восток, где неприятельские корабли заперли все подходы к гавани. С оставшимися у него сухопутными войсками Антоний занял позицию на одном из холмов между городской стеной и ипподромом, чтобы оттуда наблюдать за ходом сражения. Однако он не увидел ни малейших признаков боевых действий. Его корабли — как будто все было заранее спланировано — просто влились в ряды неприятельского флота. Увидев это, войска на суше — пехота и конница — обратились в беспорядочное бегство.
В сопровождении немногих оставшихся верными ему телохранителей Антоний поспешил обратно в город. Здесь во дворце ему сообщили, что Клеопатра покончила с собой.
В это время я находился вместе с царицей, Мардионом, Ирас и Шармион в гробнице. Настроение у нас было подавленное, но надежды мы не теряли.
Октавий ведь тоже, в конце концов, только мужчина, считала Шармион, а с мужчинами царица всегда умела договориться. Клеопатра смотрела на все более трезво.
— Да, Шармион, но тогда я была моложе. Для стареющего Цезаря я была дорога как юная возлюбленная царица; Антоний — мой супруг, и я подарила ему троих детей. Октавий для меня только противник, а не мужчина, к тому же он моложе меня на шесть лет. На его действия влияет, видимо, скорее голова, чем фаллос…
Заметив мое смущенное лицо, она звонко рассмеялась — и это был последний раз, когда я слышал смех моей царицы.
— Вы только посмотрите на Гиппо! С друзьями можно говорить откровенно — так ведь? И кроме того, ты же врач, и ничто человеческое не должно быть тебе чуждо. Что ты думаешь по этому поводу, Мардион?
Маленький кругленький евнух покачал своей лысой головой.
— Что касается откровенности, то ты права, царица. Но хотел бы заметить, что действиями императора в основном тоже руководил разум. Он любил тебя, был твоим супругом и отцом твоих детей и был бы вполне доволен, если бы мог вместе с тобой управлять Азией и Египтом. Но, к несчастью для него и для нас всех, Октавий с самого начала стремился стать единственным полновластным правителем. Для меня это стало ясно после того, как он одержал победу над Секстом Помпеем и отстранил от власти Лепида. Насколько тут повлиял фаллос…
Клеопатра вздохнула.
— Ах, Мардион, ты, как всегда, прекрасно проанализировал ситуацию, но — прости меня! — о том, что касается отношений между мужчиной и женщиной, ты можешь только догадываться. Ну, а теперь хватит этих бесплодных рассуждений! Может быть, Антоний встретится с неприятелем, и им удастся добиться какого-нибудь мирного соглашения.
Я спустился по винтовой лестнице. Стоп — здесь я должен описать эту гробницу, которую Клеопатра возвела для себя и Антония.
К дворцу Клеопатры примыкал небольшой храм Исиды. Царица построила его лично для себя вскоре после того, как заняла трон. Позже у его северной стены она начала строительство гробницы. Но почему здесь, а не в Семе, где покоился великий Александр и все ее предки? Это было связано с Антонием. Дело в том, что она считала себя основательницей новой династии — антоние-птолемеевской, которая могла бы получить власть над миром.
Большой мавзолей был рассчитан на нее, Антония и ее детей, однако при желании его можно было бы расширить. Если Птолемеи управляли Египтом почти триста лет, то следовало ожидать, что их с Антонием дети, внуки и их потомки наверняка будут править Азией и частью Африки несколько столетий.
Однако на сегодняшний день дела обстояли так, что они продержались у власти всего десять лет, и если не произойдет чуда, то Клеопатре придется проститься с мечтами о своей династии.
В старом царском дворце, где жил Антоний, было подозрительно тихо. Не видно было никого из стражи, никто не охранял ворота. Внутри жались несколько рабов. Судя по их бегающим взглядам, их удерживала здесь не верность, а скорее жажда наживы.
— Где император? — набросился я на них.
Они указали наверх, и как раз, когда я собирался подняться по широкой мраморной лестнице, я столкнулся с Диомедом.
— А, Гиппо! Ты тоже ищешь Антония?
Из трех секретарей Клеопатры двое сбежали, остался только Диомед, которого она и послала с тем же поручением, что и меня. Итак, мы вместе взбежали по лестнице и в одном из залов услышали стоны и приглушенные крики. Подбежав туда, мы распахнули дверь и увидели лежавшего на полу императора, лицо его исказила болезненная гримаса, рядом валялся окровавленный gladius. Его личный раб Эрос неподвижно скорчился у окна, из спины его торчало острие меча.
Антоний прижимал руку к груди и на губах его показалась кровавая пена.
— Эросу… это лучше… удалось, — с трудом проговорил он. — Что с Клеопатрой?
— Она ждет тебя в гробнице.
— Она… она жива?
Диомед кивнул.
— Гиппократ тоже подтвердит это.
— Но… но мне сказали, она… она мертва…
Я повернулся к Диомеду:
— Нам надо забрать его отсюда. Во дворце еще толклись несколько рабов, позови их и пообещай им щедро заплатить.
Я наклонился к Антонию:
— Можно мне осмотреть твою рану, император?
Он кивнул и отнял от груди испачканную кровью руку. Короткий широкий gladius, очевидно, задел сердце и прошел сквозь левое легкое. Насколько я мог судить по своему опыту, вряд ли можно было выжить после такого тяжелого ранения.
Так как я всегда имел при себе кое-какие лекарства, то смог наложить на рану компресс с кровоостанавливающим средством. Затем появился Диомед с двумя рабами, они вынесли громко стонущего императора и усадили его в стоявшие снаружи носилки.
Не раздумывая, я захватил с собой меч императора, стараясь держать его подальше от себя, чтобы не испачкаться кровью.
Как можно быстрее мы отправились к гробнице. Клеопатра уже увидела нас из окна верхнего этажа и нетерпеливо махнула рукой. Однако дверь внизу оказалась закрыта.
— Нужно поднять его! — крикнул Диомед.
— Но как? — возразил я.
— Где ключ? — крикнул я наверх.
— Стража с ворот куда-то исчезла, — отозвалась Ирас.
— Есть там наверху веревки?
К счастью, они нашлись, потому что гробница была еще не окончена и строители оставили приспособление для поднятия камней. Мы покрепче привязали Антония к какой-то доске, и царице вместе с Шармион, Ирас и Мардионом удалось поднять его к себе.
— Ему нужен врач! — крикнул я наверх, однако там, очевидно, все уже были заняты Антонием.
Диомед и рабы куда-то исчезли, и, признаюсь, я испытывал настойчивое желание последовать их примеру. Правда, очень быстро я совладал с ним, но за это время в голове моей пронеслось множество всяких мыслей — нечто похожее, вероятно, испытывает человек накануне смертной казни.
Если ты вернешься к царице, говорил я себе, то, скорее всего, погибнешь вместе с ней. Через несколько часов здесь появятся первые римские солдаты, и вряд ли они будут особенно почтительны с личным царским врачом. Возможно, тебя захватят с собой для участия в триумфальной процессии, а затем удавят в тюрьме — как это принято в Риме. А если ты сейчас сбежишь, как эти стражники, секретари или рабы, то будешь ничуть не лучше этих вероломных созданий. Если я в конце концов и решил остаться, то вовсе не из чувства долга или пресловутой верности до конца, а скорее из гордости. Да, мое положение при дворе, доверие, которое оказывала мне царица, тесный круг друзей — я гордился тем, что достиг всего этого, и сказал себе, что остаюсь из верности, но скорее не Клеопатре, а самому себе. Мне показалось, что я вновь слышу голос своего отца, который не раз говорил, что настоящей и самой высшей верностью является верность самому себе. Если изменишь себе, то предашь и все остальное.
Пока в голове у меня проносились подобные мысли, взгляд мой упал на маленькое зарешеченное окошко рядом с обитой железом дверью. Я выломал из носилок какой-то металлический прут и вспомнил слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю».
Против ожидания, решетка подалась довольно легко — должно быть, в спешке ее не очень хорошо закрепили. Я опрокинул носилки и, встав на них, протиснулся в узкое отверстие. Потом я вновь кое-как приладил решетку на место, и в темноте ощупью вскарабкался по винтовой лестнице наверх, где женщины как раз старались вернуть к жизни потерявшего сознание императора.
Царицу было трудно узнать. С распущенными волосами, скинув верхнюю одежду, она склонилась над Антонием, гладила его щеки, нежно шептала что-то, лицо ее было испачкано его кровью. Я кивнул Ирас и Шармион, и они бережно подняли свою госпожу.
Компресс, который я наложил, был уже весь пропитан кровью. Я смочил платок специальным сильно пахнущим средством и поднес к лицу императора. Он сразу пришел в себя, огляделся и улыбнулся болезненной улыбкой.
— По крайней мере, я уже в гробнице. Подай мне кубок вина, Олимп.
Царица опустилась перед ним на колени и плача положила голову ему на плечо. Она называла его любимым господином и верным супругом и умоляла не оставлять ее.
Вино заметно оживило императора, лицо его слегка разгладилось, он улыбнулся склонившейся над ним царице, потом взгляд его скользнул по нам.
— Ты можешь считать себя счастливой: у тебя все еще остались друзья — от меня все они давно сбежали… Не печалься, любимая, о том, что наша судьба так переменчива. Вспомни, как много мы достигли и как хорошо нам было. «Panta rhei» — говорит Гераклит — «все течет, все изменяется». Я благодарен богам за то, что они позволили мне окончить жизнь не слюнявым стариком, а как римлянину, побежденному Римом.
Потом он прошептал еще несколько слов, которых мы не поняли. На губах его вновь выступила кровавая пена, он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Я вытер кровь с его лица и спросил царицу, не сменить ли ему повязку, но она только покачала головой и осторожно обняла императора. Мы тихо отошли в угол.
— Она не сможет жить без него — а я без нее, — прошептала мне Ирас.
Что должен был я ответить на это? Наверное, следовало сказать: «В конце концов, у тебя ведь есть еще я, дорогая Ирас, мы уедем в Страну Тростника, начнем там новую жизнь…»
Может быть, я и сказал бы что-нибудь в этом роде, но тут снаружи послышался какой-то шум. Подбежав к окну, я увидел внизу римского центуриона, на коне и в окружении дюжины всадников.
— Мы знаем, что здесь находится царица и вместе с ней имп… нет, предатель Марк Антоний. Немедленно откройте ворота.
— Император мертв! — крикнул я ему и отошел от окна.
Царица подняла голову.
— Антоний советовал мне обратиться к Гаю Прокулу. Скажи им, что я буду говорить только с ним.
— Хорошо, но боюсь, они взломают ворота.
— Тогда зажги факел и пригрози, что с первым ударом по воротом все здесь будет предано огню.
Я хотел было поручить это Мардиону, но он возразил, что с его голосом угрозы звучат недостаточно убедительно. Тогда я взял пылающий факел и высунул его из окна.
— А теперь, центурион, слушай меня хорошенько! При малейшей попытке взломать ворота царица подожжет свою гробницу. Тогда все египетские сокровища сгорят, и Октавию для триумфальной процессии достанется только несколько слитков расплавленного золота. Пусть придет Гай Прокул, потому что царица будет говорить только с ним.
Мардион коснулся моего плеча и протянул окровавленный меч императора.
— Он все равно мертв, — тихо сказал он, — брось им его меч.
Я взял его и швырнул вниз.
— Это можешь передать Октавию. Этим мечом император лишил себя жизни.
Солдаты ускакали, оставив, впрочем, многочисленную охрану.
Царица села на стул, не спуская глаз с тела своего возлюбленного.
— Император мертв, но Октавий сможет считать себя победителем только после того, как я окажусь у него в руках. Где змея, Гиппо?
— В моем доме, под охраной Салмо.
— Она мне понадобится.
Я беспомощно развел руками.
— Боюсь, что сейчас нет никакой возможности…
— И все же какая-то должна найтись.
Тут появился Прокул, и царица спустилась в нижний зал, чтобы поговорить с ним через маленькое окошко. Я молил про себя Исиду и Сераписа, чтобы римляне не заметили, что эта решетка держится в стене на честном слове.
Клеопатра вернулась.
— Октавий хочет, чтобы я сдалась ему. Я сказала Прокулу, что не осталось никаких сомнений в том, кто является победителем, но я ни при каких обстоятельствах не позволю заключить меня в тюрьму. Теперь он должен передать это своему господину. На всякий случай держи факел наготове.
Вскоре Прокул вернулся в сопровождении Корнелия Галла, одного из самых удачливых полководцев в войске Октавия. Царица снова спустилась в нижний зал для разговора с Галлом, который, как выяснилось позже, просто должен был отвлечь ее. Тем временем Прокул велел принести лестницу и вместе с двумя вооруженными солдатами проник в верхний этаж.
Они появились так неожиданно, что мы просто потеряли дар речи, и, прежде чем опомнились, солдаты приставили мечи нам к горлу.
Прокул ринулся вниз и смог захватить царицу, которая еще разговаривала с Галлом. Она сохраняла спокойствие и самообладание.
— Ничего не может быть решено, пока я не поговорю с Октавием. Гиппократу нужно позаботиться о своем больном, если господа не будут против.
Я сразу понял, что она имела в виду.
Галл и Прокул посмотрели на меня с недоверием.
— Это правда, — сказал я, — у меня в доме находится тяжелобольной, которому нужна моя помощь, меня может проводить один из легионеров…
Галл кивнул, и я беспрепятственно вышел — через распахнутые настежь ворота, потому что за это время удалось отыскать сторожа.
Все это время Салмо вместе с несколькими рабами охранял мой дом, впрочем, не особенно утруждаясь при этом. Я рассказал ему о том, как обстоят дела, и предложил позаботиться теперь о своей семье.
— Ты прав, господин, я так и сделаю. Правда, не думаю, что дойдет до каких-нибудь военных действий…
— Нет, Салмо, Александрия упадет римлянам прямо в руки, как спелый плод, — к нашему общему счастью!
Салмо безрадостно усмехнулся.
— Но что будет дальше?
— Кто знает, может быть, царице оставят ее трон, и мы будем жить, как прежде.
— Не очень-то верится…
Я подтолкнул его к двери.
— С нами, во всяком случае, ничего не должно случиться.
Я поместил корзинку со змеей в самый низ моего шкафа
с лекарствами и инструментами. В мусейоне ее покормили незадолго перед тем, как отдать мне, и предупредили, что не будет ничего страшного, если ей придется подождать несколько недель до следующей трапезы.
Меня заботили сейчас две вещи. Во-первых, я хотел как можно скорее вернуться к Клеопатре — волнуясь еще и за Ирас, а во-вторых, я не хотел бы, чтобы мой дом разграбили или сожгли. Я приказал двум своим рабам в случае необходимости говорить любому римскому солдату, который попытается сюда проникнуть, что я и мой дом находятся под личной защитой легата Корнелия Галла. Затем я поспешил в гробницу.
Она была оцеплена солдатами, как какая-нибудь государственная тюрьма. Ими командовал Эпафродит — доверенное лицо Октавия, его вольноотпущенник. Он кивнул мне:
— Царица уже спрашивала о тебе, но прежде…
Он подозвал солдат, и те обыскали меня с ног до головы. Однако это не удовлетворило Эпафродита. Меня отвели в сторону, вновь раздели и отобрали мою врачебную сумку.
— Ты должен понять, Гиппократ: всем известно, что существуют такие яды, что даже половина гранулы их является смертельной дозой. Ее можно спрятать, например, под ногтем. Сумку тебе вернут после того, как ее проверит один из наших врачей.
Царица обрадовалась моему приходу, а Ирас посмотрела на меня с благодарностью.
— Твоему больному теперь лучше?
— Да, царица, он спит, и мой помощник проследит, чтобы его ничто не обеспокоило.
Она сама, как я сразу увидел, находилась в довольно плохом состоянии. Только сейчас я узнал, что она Хотела убить себя кинжалом, когда Прокул схватил ее в гробнице. Пока у нее пытались вырвать оружие, она нанесла себе глубокие раны в руки и грудь, теперь они воспалились и ее ослабевшее тело было охвачено лихорадкой.
При первой же возможности она шепнула мне:
— Лечи меня как-нибудь неправильно. Кроме того, я откажусь от еды — может быть, нам и не придется прибегать к помощи змеи.
Это было против моих врачебных правил, но я подчинился приказу и в качестве средства от лихорадки дал ей разбавленный медовый напиток, а недоверчивому Эпафродиту объявил, что в ее теперешнем состоянии будет лучше, если она некоторое время будет только пить и воздержится от пищи. Однако в свите Октавия также оказались опытные врачи и они быстро поняли, что задумала царица.
Октавий приказал принести ее во дворец и пригрозил, что на ее глазах убьет детей — может быть, это заставит ее проглотить нужные лекарства и принять пищу.
Октавий хитрил: у него в руках была только маленькая Клеопатра Селена. Цезарион в это время, вероятно, был на обратном пути в Египет. Его заманили обещаниями, что он сможет занять трон своей матери. Александр Гелиос, брат Селены, находился в безопасности где-то в Мидии, а шестилетнего Птолемея Филадельфа спрятала где-то в Александрии его нянька.
Во всяком случае, царице не удалось достичь никакого политического соглашения с Октавием. Теперь она точно знала, что потеряла трон и все, для чего ее предназначают, — украсить триумфальную процессию Гая Октавия, который теперь называл себя: Император Цезарь, сын Божественного.
По прошествии времени может показаться, что Октавий поначалу сам не знал, как ему поступить с Клеопатрой. Если бы он приказал ее убить, то возбудил бы недовольство в Александрии, да и во всем Египте, потому что в народе еще сильна была вера в то, что повелитель страны священен и является как бы посредником между богами и людьми. Он помнил о том, как быстро удалось освободиться от владычества персов, потому что великий Александр объявил себя сыном Амона-Ра и стал почитать египетских богов. Если бы он взял Клеопатру в Рим и заставил пройти в триумфальной процессии, как было задумано, то тем самым оскорбил бы память Цезаря, который в свое время приказал воздвигнуть в ее честь золотую статую в храме Венеры.
Существовала и третья возможность: просто отправить Клеопатру куда-нибудь в ссылку, например, поместить под стражей на каком-нибудь отдаленном греческом острове. Но разве мог он быть уверен, что она, урожденная царица, не будет предпринимать новых попыток, чтобы свергнуть его и вернуть себе трон?
И тогда он, вероятно, решил предоставить ей некоторую свободу действий, чтобы разведать ее намерения.
Мы сразу почувствовали некоторое послабление. Эпафродит исчез, и за нами по пятам больше не ходили вооруженные до зубов стражники.
— Что вы об этом думаете? — спросила Нас царица. — Это добрый или дурной знак?
Мардион, безусловно самый умный человек, который когда-либо был при египетском дворе, недоверчиво покачал своей круглой лысой головой.
— Октавий ничего не делает просто так. Он дает тебе и себе короткую передышку, а тем временем, вероятно, попытается завоевать любовь жителей Александрии.
Он оказался прав. Октавий сделал все, чтобы народ примирился с новым правителем.
В гимнасии, где совсем недавно Антоний производил раздел половины мира между собой и Птолемеями, теперь появился победитель Октавий и произнес хорошо продуманную и запоминающуюся речь. У него и в мыслях не было разорять и уж тем более разрушать прекрасный город, основанный великим Александром. Он почитает также египетских богов, и на капитолийском холме в Риме издавна существует храм Исиды и Сераписа.
Александрийцы слушали его с удовольствием, хотя время от времени и раздавались вопросы о судьбе царицы. О том, что в Риме богине Исиде был посвящен вовсе не храм, а только маленький алтарь, конечно, никто не знал. Потом Октавий упомянул также своего уважаемого учителя Арея Дидима, который был родом из Александрии и которому он очень многим обязан: именно он познакомил его с культурой и историей Египта.
Все это было воспринято очень приветливо и с благодарностью. Каждый здесь знал ужасные истории о нашествии персов, когда варвары убили и поджарили священного быка Аписа
[97], оскорбляли священников и оскверняли храмы. Вздох облегчения пронесся по городу. Этот Октавий пришел вовсе не как завоеватель, а как друг, и, конечно, он найдет какой-нибудь выход, чтобы Египет не остался без правителя. Разве не ходят слухи о том, что Цезарион находится на пути в Александрию и займет трон своей матери?
Теперь, когда столица находилась у него в руках и можно было не опасаться беспорядков, Октавий сделал следующий ход. Он освободил царицу из-под стражи и почтительно осведомился о том, что она желает.
Ее первым и самым настоятельным желанием было устроить погребение своего супруга, и в этом Октавий предоставил ей полную свободу.
Впервые римский полководец был забальзамирован как египетский царь и положен в пышный саркофаг. Снаружи на нем можно было видеть его изображения, раскрашенные и позолоченные: дряблое, опухшее лицо пьяницы и кутилы превратилось в исполненную достоинства, бесконечно прекрасную маску возвысившегося до Осириса.
В этом пышном обряде погребения не принимали участие ни Октавий, ни кто-либо из римских офицеров — только бывшие друзья императора, которые также уважали и ценили Клеопатру.
Вскоре после этого мне удалось поговорить с Ирас наедине.
— Для нас все выглядит не так уж плохо! Если Цезарион вернется, Клеопатра могла бы как мать царя…
Ирас взглянула на меня строго и отрицательно покачала головой:
— Нет! Царица никогда не согласится жить, как лишенная власти принцесса. И кроме того, мы не доверяем этому Октавию. Цезарион еще не вернулся, и этот победитель, кажется, только и думает о том, как царица украсит его триумфальную процессию — ведь у римлян в обычае так поступать с побежденными.
Я успокаивающе коснулся ее руки и нежно сказал:
— Ирас, но для нас все же еще возможно какое-то будущее…
— Нет, Гиппо, нет! Все, что у нас было, — прекрасно, и я не хотела бы отказываться от этого. Половина моего сердца всегда принадлежала тебе, однако теперь я забираю ее обратно и расстаюсь с тобой, потому что судьба царицы также и моя судьба. Она велела передать тебе, чтобы ты приготовил змею, потому что вскоре она понадобится.
— Но как же я смогу ее?..
— Придумай что-нибудь!
— А что будет с вами — с тобой и Шармион?
— Мы уже все достали…
Она язвительно усмехнулась.
— Ведь это только запятнало бы твою совесть, а после смерти жены Селевка мы уже знаем дорогу.
— Но, Ирас, во имя богов! Не станете же вы мышьяк…
В этот момент Ирас позвали, и она исчезла, недоговорив.
Я остался, испуганный и растерянный, однако я все еще не хотел расставаться с надеждой — до тех пор, пока не появился Публий Корнелий Долабелла.
Этот молодой еще человек происходил из знатного римского рода; с самого начала он был на стороне Октавия, но при этом не скрывал своей симпатии к Клеопатре. Его отец сначала был сторонником Юлия Цезаря, затем неоднократно менял партии и лет десять назад покончил с собой, когда сенат объявил его врагом отечества.
Клеопатра была знакома с молодым Долабеллой еще раньше, когда он по поручению Октавия вел переговоры с Антонием и с ней обращался при этом безо всякой неприязни и с большим уважением.
Долабелла появился спустя два дня после того, как состоялось погребение Антония. Он с большим уважением и пониманием сказал несколько слов об умершем, а когда мы собрались оставить его наедине с царицей, попросил нас не уходить, потому что то, что он должен сказать, касается нас всех. Молодой человек смущенно опустил глаза.
— Относительно вашего будущего теперь есть конкретные планы, и мне поручили сообщить их тебе, царица, и твоим друзьям. В ближайшие дни Цезарь возвращается в Рим через Сирию, и тебе также надлежит отправиться туда через три дня. В Риме в середине сентября будет устроено триумфальное шествие, однако ты и твои дети пройдете только на последнем участке — от Via Sacra до Капитолия, а затем вам публично объявят о помиловании. Цезарь пожалует тебе имение между Римом и Неаполем, где ты со своими друзьями сможешь жить совершенно свободно — в определенных рамках, конечно.
Он взглянул на. Мардиона.
— Тебя будет сопровождать твой личный врач, Мардион может занять должность твоего atriensisa…
— Что значит atriensis? — перебила его Клеопатра.
— Здесь его назвали бы tamias, управляющий…
Она серьезно посмотрела на Мардиона.
— Тебе придется вновь сменить должность, дорогой друг, — впрочем, увидим. Скажи своему господину, Долабелла, что нам надо подготовиться. И еще последняя просьба: я хотела бы принести жертву у гробницы Антония, прежде чем навсегда уеду отсюда.
Разрешение было получено, и когда мы направлялись к гробнице, Клеопатра шепнула мне:
— Завтра около девяти я устраиваю прощальный обед в память императора. Твоего подопечного я также приглашаю.
Я сразу понял, что она имеет в виду. Когда обряд жертвоприношения был завершен, я отправился домой, чтобы — как сообщил я сопровождавшим меня стражникам — взять все, что может понадобиться в предстоящем путешествии.
Оба моих слуги по-прежнему были в доме, поддерживали порядок и растаскивали мои припасы.
— Мне жаль нарушать вашу идиллию, но вынужден сделать это. Теперь как раз поспели фиги, и царица хотела бы подать их во время прощального обеда. Ступайте в сад и наберите там большую корзину.
Оба малых исчезли, а я достал корзину с уреем. После нескольких дней, проведенных в темноте, без солнечного света, змея впала в некоторое оцепенение, и я надеялся, что это позволит мне осуществить мой план. Идея пришла мне в голову, когда Клеопатра заговорила о прощальном обеде. Вряд ли у кого-то вызовет недоверие то, что я принесу корзину свежих фиг.
— Слуги вернулись с большой корзиной отборных фиг — больших, упругих, зелено-фиолетовых — просто загляденье, их так и хотелось попробовать.
На следующий день, 12 августа, я сделал пробную попытку. Я осторожно наполнил тяжелыми сочными фруктами корзину с неподвижно свернувшейся змеей. Поскольку я не обладал знанием и ловкостью смотрителей в мусейоне, то старался держаться от нее подальше.
Наполнив корзину на ширину двух ладоней, я поднял ее и с полчаса носил по дому. Оба раба уставились на меня в недоумении, но не решались спросить о цели подобных упражнений. Около полудня я вышел в атриум, приказав меня не беспокоить, вынул фиги из корзины и выставил змею на жаркое полуденное солнце.
Не прошло и десяти минут, как она начала потихоньку шевелиться. Солнце действует на змей подобно живительному эликсиру, и мне пришлось проследить, чтобы она не получила его слишком много. Как только она начала поднимать голову, я отодвинул корзину в тень и накрыл ее. Около восьми вечера я вновь осторожно наполнил ее фигами — на всякий случай, с помощью разливательной ложки. Однако все прошло благополучно, я позвал рабов, и они понесли корзину впереди меня.
Дворец Клеопатры охранялся не очень строго, однако я заметил, что вокруг стояло больше офицеров, чем обычно. Ко мне подошел центурион и, указав на корзину, спросил:
— Кто ты и что там?
— Я — Гиппократ, личный врач царицы. Я должен был доставить ей на симпосий свежих фиг.
— Открывай!
Я наскоро вознес молитву к змеиной богине Буто, чтобы ее священный символ продолжал сохранять покой.
Центурион со сладострастным выражением лица рассматривал фиги. Я опередил его, выбрал три самых красивых и поскорее задернул покрывало.
— Ни слова! — прошипел я. — Если царица узнает/что римлянин…
— Подумаешь! — презрительно сказал центурион и медленно отошел.
— А, вот и вы! — обрадованно воскликнула Клеопатра, когда я вошел» Я поклонился и, махнув рукой, отослал рабов прочь.
— Их подадут нам на десерт, — прибавила царица.
Затем внесли блюда: жареных голубей, разнообразные
овощи, фруктовые соки и печенье, потому что летом наша царица любила только легкую еду.
Кто еще присутствовал на этом обеде, кроме Мардиона, Ирас, Шармион и меня? Я часто с тех пор задавал себе этот вопрос, однако сегодня так же не в силах ответить на него, как и раньше. Знаю, что гостей было не меньше десяти человек, но, должно быть, я впал тогда в какое-то оцепенение, потому не мог ничего воспринимать.
Обед прошел спокойно и даже весело, за разговорами о каких-то пустяках. При этом один из гостей заметил, что царица не пьет вина.
— Нет, — сказала она, — сегодня мне не хочется. Может быть, ночью, когда станет прохладней.
Может, я посоветовал ей не пить вина, потому что оно замедляет действие змеиного яда? Об этом я тоже не могу сказать с уверенностью. Я очнулся, только когда царица сказала:
— Олимп, у меня есть для тебя одно поручение.
Она протянула мне свиток с царской печатью.
— Отнеси это Октавию и передай ему лично — слышишь? Только ему и никому другому! Прощай и сделай свое дело хорошо!
В первый и последний раз — с тех пор, как я был ее личным врачом — царица назвала меня моим настоящим именем.
Она отпустила тебя, подумал я, и вернула тебе собственное имя. Я поискал взглядом мою возлюбленную, но Ирас сидела опустив голову. Она была уже «по ту сторону» и не хотела больше сохранять никаких связей с этим миром.
Октавий расположился в старом царском дворце, и мне показалось, что он ожидал этого известия. Это была наша первая личная встреча, и я был так поражен, увидев привлекательное и юношески красивое лицо этого тридцатилетнего человека, что на какое-то время потерял дар речи. И этот нежный Эфеб должен стать властелином мира? Этот худощавый невысокий человек совсем не был похож на солдата, и я понял, почему он не принял вызов Антония на поединок.
Октавий прочитал свиток, положил его на стол и сказал мне и присутствовавшим офицерам:
— Она так со мной простилась, что я уже опасаюсь… Взгляни, Долабелла, что там… Может быть, понадобится и твоя помощь, Олимп.
Мы вскочили на лошадей, чтобы быстрее преодолеть эти несколько стадий, однако все равно прибыли слишком поздно.
Клеопатра в царском облачении лежала на своем роскошном золотом ложе. Рядом неподвижно скорчилась Ирас, моя возлюбленная. На губах ее выступила черная пена, глаза были полуоткрыты. Шармион сидела прислонившись к кровати и, кажется, еще дышала.
— Что это значит? — взревел Долабелла.
Шармион слабо кивнула и сказала прерывающимся голосом:-
— Она ушла, как подобает царице.
Я склонился над Ирас, закрыл ей глаза, вытер лицо и подложил под голову свой свернутый плащ. Когда я взглянул на Шармион, она уже не дышала.
Негодование Долабеллы быстро прошло, он был бодр и возбужден.
— Теперь уже ничего нельзя сделать. Олимп, ты можешь установить, отчего умерли дамы?
Я отвернул рукав пышного платья Клеопатры и указал на две маленьких красных точки на запястье:
— Царица соединилась со священным уреем — она умерла от укуса змеи. Ирас и Шармион проглотили мышьяк.
— Который дал им ты?
— Нет, Долабелла, они достали его сами.
— А откуда взялась змея, если это действительно было так?
— Я принес ее сегодня в корзине с фигами.
Парень пытался выглядеть строгим, но это вызывало только улыбку.
— Тебе придется ответить за это.
— Вы сами вынудили ее это сделать, я лишь выполнил приказ моей царицы.
Потом меня увели.
Эпилог

Надежды, что мое положение скоро прояснится, оказались напрасными. Из зала, где умерла царица и обе ее придворные дамы, меня, как опасного преступника, отправили в государственную тюрьму — мрачное здание с толстыми стенами и высокими башнями в восточной части дворцового квартала. Я сидел в тесной и темной клетке, однако уже на четвертый день меня под охраной четырех солдат вновь привели домой. Здесь, как мне сказали, я должен буду ожидать, пока Цезарь — имелся в виду Октавий — решит мою судьбу.
Позже я узнал, что с другими заключенными обошлись не так мягко. Верный Канидий Красс был казнен, так же как и Кассий Пармений и Децим Туриллий — последние остававшиеся в живых убийцы Юлия Цезаря. Они сражались на стороне Антония, который принял их не из каких-то дружеских чувств, а потому что их преследовал Октавий. Цезариона заманили в Александрию ложными обещаниями — его воспитатель Родон сыграл при этом бесславную роль. Сначала принца посадили в тюрьму. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что Октавиан собирался сослать принца на какой-нибудь остров. Однако его друг, ученый Арей, намекнул ему, что мир не выдержит двух Цезарей.
Таким образом, Цезарь пошел на братоубийство — ибо, насколько я знаю, он никогда не сомневался в том, что Цезарион был сыном его приемного отца — и приказал убить семнадцатилетнего юношу. Этот поступок еще можно как-то понять, поскольку Цезарион мог собрать немало сторонников и возглавить оппозицию. Но нельзя ни понять, ни простить того, что Октавий приказал казнить пятнадцатилетнего Антилла, старшего сына Антония от его брака с Фульвией. Этот мальчик никому не мог мешать или угрожать. Его учитель Теодор выдал его преследователям, но прежде стянул у своего питомца какой-то драгоценный камень. В этом заключалась его ошибка: как вор и предатель он окончил жизнь на кресте.
Весь сентябрь и октябрь из гавани один за другим отправлялись в Рим корабли с военной добычей. Едва ли до сих пор у кого-нибудь из римских полководцев ее было так много. Поскольку я не был свидетелем того, как Цезарь распорядился богатствами Египта, я приведу рассказ одного официального хрониста.
«Во дворце Клеопатры находились несметные сокровища. Она сама собрала все пожертвования из храмов, и это позволило римлянам захватить огромную добычу, не запятнав себя разбоем. Значительные суммы были взысканы также с тех, кто в чем-нибудь провинился перед Римом. Кроме того, у всех остальных граждан, даже если их не в чем было обвинить, было отобрано две трети имущества. Это позволило заплатить жалованье войску. Каждый, кто считался соратником Цезаря, получил сверх того еще по тысяче сестерциев — на том условии, что город не будет предан разграблению. Цезарь смог вернуть все долги сполна. Одним словом, Римская империя стала богата, и храмы ее украсились.
В память победы Цезаря граждане Рима украсили храм Юлия кормовыми фигурами кораблей, захваченных в этой войне. В честь победителя был учрежден праздник, отмечавшийся каждые четыре года, а кроме того, стали праздновать также день рождения Цезаря и день взятия Александрии».
В Риме появилось такое количество денег, что цены скакнули, а ростовщики стали выражать недовольство, потому что не могли больше брать высокие проценты. Почему так получалось? Теперь, когда ворота Януса были закрыты
[98] и в Римском государстве воцарился мир, Цезарь решил улучшить жизнь народа, поскольку он вовсе не относился к людям, которых plebs прославлял просто так. Из огромной военной добычи он велел выплатить каждому гражданину города Рима четыреста сестерциев, и кроме того — чего до него никто еще не делал — такую же сумму он выделил и на каждого ребенка. Таким образом, некоторые многодетные семьи обнаружили однажды утром, что они богаты, и все вокруг прославляли и восхваляли Цезаря.
В сентябре был отпразднован триумф Цезаря. Меня и еще нескольких придворных, а также маленьких Клеопатру Селену и Александра Птолемея привезли в закрытой повозке на Марсово поле, откуда должна была двинуться торжественная процессия. Нам надели символические оковы. Впереди и позади нас следовали повозки с посудой, одеждой и драгоценностями Клеопатры. На Via Aurelia шествие приостановилось. Появился Цезарь в сопровождении полководцев, участвовавших в войне против Египта. Он взошел на квадригу, запряженную четверкой белых коней. На нем была пурпурная тога, расшитая золотыми звездами, а голову украшал золотой лавровый венок, В левой руке у него был скипетр из слоновой кости, увенчанный золотым орлом, а в правой — лавровая ветвь. Позади молодой сильный раб держал над его головой золотую корону Юпитера.
Под звуки труб, флейт,
барабанов и литавров процессия вновь пришла в движение. При виде Цезаря толпа разразилась громкими ликующими криками, которые совершенно заглушили всю эту музыку.
Зигфрид Обермайер
«Храм фараона»
Посвящается Сюзанне
Книга первая
Пер-Рамзес-Мериамон
[99], оживленный блестящий город на севере страны Кеми, основанный Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзесом более полустолетия назад в восточной части дельты Нила, несколько дней назад принес благодарственную жертву богу Нила Хапи, потому что разлив реки пришел точно в срок. Смеясь и ликуя, люди бросали плоды, хлеб, цветы, убитых голубей и другие жертвенные дары в поднимавшуюся воду, потому что Хапи любит подобные подарки, и чем больше он их получает, тем выше разливается Нил.
Царский дворец, «Дом почитания», занимал значительную часть города, да, собственно, весь город был занят домами царя и царицы, зданиями гарема, домами принцев, царских управляющих, житницами, конюшнями, квартирами для слуг, домами для гостей, садами, капеллами и всем тем, что требовалось фараону, богу египтян, для хозяйства.
Богоподобный уже несколько лет не показывался перед лицом подданных. Последний, тринадцатый по счету, праздник Зед проводил наследный принц Меренпта, который сам уже был старым человеком, давно потерявшим надежду воссесть когда-нибудь на трон, потому что его отец, сын солнца, владыка Нижнего и Верхнего Египта, Благой Бог и Могучий Бык Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес бессмертен. Он сам верил в это. Его семья верила в это. Двор и страна верили в это. В Кеми не осталось в живых ни единого человека, который бы жил в первые годы правления царя. Его обслуживали уже внуки и правнуки его придворных. У Рамзеса было сто шестьдесят два ребенка от пяти главных жен и многочисленных наложниц. Большинство из них, в том числе двенадцать наследных принцев, он уже пережил. Когда он отмечал свой первый праздник Зед, божества сообщили ему, что они решили подарить ему бессмертие. Сам бог Пта сказал юному фараону:
— Я назначаю тебя владыкой вечности, бессмертным властителем, я создал твое тело из золота, кости из меди, а члены из железа. Я передаю тебе мою божественную должность, чтобы ты носил корону Верхнего и Нижнего Египта…
Поэтому царь остановил строительство своей уже наполовину готовой гробницы — она ему была больше не нужна. Никто не осмелился бы противоречить Могущественному, однако втайне некоторые думали: «И для тебя, могучий Рамзес, боги не сделают исключения, и однажды ты должен будешь отправиться в Дом вечности в Закатной стране, хочешь ты этого или нет». Те, кто думал так, почувствовали неуверенность, когда царь праздновал пятый, шестой, десятый праздник Зед на пятьдесят шестом году своего правления. Постепенно они вымерли, те, кто сомневался, их место заняли их сыновья, потом внуки, и никто больше во всей стране Кеми не мог вспомнить, что был какой-нибудь другой царь, кроме доброго бога Рамзеса, и они все служили во дворце: надсмотрщики и управляющие, прачки, изготовители париков, носившие опахала и носилки, жрецы и чиновники, рабыни и рабы.
В этот день первого месяца Ахет серебряные лучи рассвета возвестили о скором появлении Ра. Во дворце началось движение. Тайные советники Высокого дома, личные слуги фараона, сделали все приготовления для встречи доброго бога, который скоро покажется на горизонте, как было всегда с незапамятных времен.
Однако царь не покинул сегодня свою постель, даже когда Ра уже стоял высоко в небе. Не было отдано никакого приказа, и давно приготовленная ванна остыла. Личный врач и наследный принц подошли к постели фараона, который безразлично посмотрел на них своими уставшими, слепнущими от старости глазами.
— Я желаю оставаться в покое до тех пор, пока не отменю этот приказ.
Врач низко поклонился, наследный принц кивнул и тихо вздохнул. Уже за дверями врач сказал:
— Мне не нравится состояние его величества — эта внезапная слабость.
Меренпта горько рассмеялся:
— Ты думаешь, мне это нравится? Он переживет меня, как пережил до меня двенадцать моих братьев, но дворец кишит принцами, которые ждут его и моей смерти. Я полагаю, их еще двадцать или тридцать…
— Твой отец умирает, твое высочество
[100], — произнес врач спокойно.
Меренпта не ответил и отправился по своим делам.
Снова оставшись один, фараон закрыл глаза. Он не чувствовал боли, не испытывал ни голода, ни жажды, однако ощущал нерегулярные удары своего сердца, которое жалким образом спотыкалось, останавливалось и снова с трудом продолжало биться. Он знал, что он бессмертен. Сам Пта сообщил ему об этом однажды ночью. Теперь Рамзес должен собрать силы, чтобы отпраздновать свой четырнадцатый праздник Зед. Это обновит и омолодит его.
Он погрузился в дремоту, и тотчас, как часто случалось в последнее время, перед ним появился бог Анубис с шакальей головой. Он наклонился над постелью фараона и нежно коснулся его сердца. Рамзес ощутил неприятный запах от шакальей морды и отогнал ее несколькими волшебными словами. Потом комнату наполнили фигуры, боги и люди, они улыбались ему, приветствовали его. Вот Сет, которого многие ненавидели, потому что он убил своего брата Озириса, бог пустынь и дальних стран. Рамзес ценил его и построил ему великолепный храм. Но Сехмет с львиной головой отослала Сета. Из ее пасти лился огонь, однако Рамзес не чувствовал угрозы, потому что она была богиней врачевателей, от нее исходила целебная сила. После нее появилась очаровательная Баст. Она отодвинула Сехмет в сторону, подняла свою руку с приятно звеневшим систром и начала танцевать. Ее кошачья мордочка, улыбаясь, глядела на царя. Богиня развязала тесемки своего платья, показала полные бедра, затем подняла платье выше, обнажившись до пояса, открыла свою пасть с острыми зубками и чувственно зашипела.
Приятное ощущение окутало фараона, но Баст опустила платье и исчезла. Комната наполнилась бледным туманом, и из него вынырнули две женские фигуры. Рамзес испугался: неужели это Изида и Нефтида? Неужели они пришли, чтобы бодрствовать у его трупа? Рамзес закрыл глаза, однако это не помогло. Его взгляд проникал сквозь веки, и он увидел, что это Изида и Нефертари, улыбаясь, смотрят на него сверху вниз. Из тумана выступили другие женщины: Изис-Неферт, Маанеферу-Ра, Бент-Анта — законные супруги фараона; за ними теснились наложницы. Их были сотни, он давно забыл их имена. Они все родили ему сыновей и дочерей, приняв его божественное семя, но любил, по-настоящему любил он только одну — Нефертари, Прекраснейшую.
Он прошептал ее имя, и, как по волшебству, все остальные исчезли. Она стояла перед ним, любимая, единственная, самая красивая. Он построил ей храм в Куше и роскошную гробницу в Фивах. Она сопровождала его в великой битве при Кадеше. Ради нее он одержал победу. Ее сыновья и дочери были самыми любимыми из его детей: Амани, первенец, его три брата и две сестры — Мерит-Амон и Хенут. Мерит унаследовала красоту своей матери, а гордость и силу воли взяли от него, своего отца. Из всех детей она доставила ему больше всего хлопот.
Нефертари, улыбаясь, кивнула и подошла поближе к постели. Она, казалось, поняла, о чем он думает. Они и в жизни всегда хорошо понимали друг друга, один дополнял другого. Когда Нефертари умерла, осталась пустота, которую не смогли заполнить ни гордая, злорадная и честолюбивая Изис-Неферт, ни ее нежная дочь Бент-Анта, которую фараон в старости сделал своей женой и которая сейчас была Великой Царской Супругой. Они родили детей, чьим отцом и дедом он был одновременно.
«Все должно быть грандиозным в твоей жизни, мой милый супруг, твои дворцы, твои храмы, число твоих жен и детей, твой глубокий возраст, обожание, с каким относится к тебе народ, ведь к тебе обращаются с сами пылкими молитвами».
«Да, — подумал Рамзес. — Ты права, моя Прекраснейшая, все было великим, но самой великой была моя любовь к тебе. Я сделал то, чего не сделал ни один египетский владыка более чем за тысячу лет нашей истории, — я построил моей любимой храм».
«И я благодарю тебя за это, мой царь и бог. Я хотела бы, чтобы ты пришел ко мне, соединился с Озирисом и наслаждался бы вместе со мной в кругу богов и в вечной юности днями в Закатной стране».
Нефертари протянула к нему свои тонкие руки, и Рамзес сразу же узнал браслет со скарабеем из ляписа, свой подарок в честь рождения первого сына. Его самый первый подарок — золотой знак Анк, символ вечной жизни, — она носила вокруг шеи. Его охватила невыносимая тоска. Что значат для него, древнего старика, трон, власть, гарем, ежедневные все более утомительные заботы? Сияющий Гор превратился в согбенного старца, полуслепого, лысого, беззубого. Слуги должны были поддерживать его, когда он шел к столу. Слуги должны были мыть его, потому что он стал бессильным.
Снова стать молодым! Наслаждаться жизнью рядом с Нефертари! Она ободряюще улыбнулась ему и кивнула. Из тумана выступил Анубис. Нефертари взяла его руку и подвела бога с шакальей головой к постели царя. Она наклонилась к фараону, поцеловала его в губы, в то время как Анубис нежно вынул сердце царя из груди. Тут фараон понял, что он смертен, и обрадовался этому.
1
Достойный Абидос гудел, как гнездо ос. Обычно в жаркое обеденное время город вымирал. Каждая собака заползала в тенистый уголок, и даже самый безжалостный хозяин не посылал своих рабов за ворота.
Но сегодня, казалось, жаркое дыхание могущественного Ра никому не мешало. Люди толпились на улицах, маленькие и большие ладьи теснились внизу, в гавани. Все они были готовы уступить место тому, кого ожидали в самое ближайшее время.
Тучный правитель города сидел в покоях своей резиденции. Пот струился из-под его растрепанного парика, и каждые несколько минут к нему подбегал маленький голый раб и вытирал лицо господина. Когда он подбежал в одиннадцатый раз, мощная оплеуха отбросила его в конец комнаты.
— Я больше не выдержу! — заревел толстый Рамозе. — Все от меня чего-то хотят. Никто не делает того, что я говорю, а добрый бог, да подарит ему Амон миллионы праздников Зед, находится в полутора днях езды от нас. Ничего не подготовлено, ничего не делается. Я приму яд и отправлюсь, как Озирис, к своим праотцам!
Снова пот заструился по его полному лицу, и маленький раб, разрывавшийся между обязанностью промокнуть лоб своего господина и страхом перед следующей оплеухой, боязливо приблизился и поднял руку с платком, который Рамозе нетерпеливо вырвал из его руки. Правитель города, сопя, стащил промокший парик с головы и вытер коротко остриженные, мокрые от пота волосы, затем кивнул писцу:
— Наш разум сейчас ничего не должно смущать. Давай еще раз проверим список того, что надо сделать.
Писец покорно кивнул и положил свиток папируса на стол. Оба сановника склонили над ним головы и еще раз обсудили каждый отдельный пункт.
Достаточно ли запасов вина, масла, зерна, фруктов и мяса? Доставили ли из запасников храма особо ценный фимиам? Позаботились ли жрецы о том, чтобы обильно украсить цветами храм Озириса? Вымыли ли ленивые и бесполезные рабы свои вонючие тела, дабы не оскорблять неприятным запахом обоняние великого властелина?
Нужно было столь многое обдумать и обсудить, что правитель города и его писец в этот день еще много часов просидят друг с другом.
Роскошная фараонова ладья для плавания по Нилу, сопровождаемая ладьями жрецов и чиновников, несколько часов назад покинула Мемфис и двигалась теперь, подгоняемая постоянным северным ветром, вверх по Нилу.
Царь страны Кеми, сын Солнца, Благой Бог и властитель Обеих стран, Мен-Маат-Ра-Сети, друг и поверенный богов, удалился в свои личные покои. Он снял с себя венец и тяжелое оплечье. Он сделал это сам, потому что не хотел сейчас видеть никаких слуг вокруг себя. В последнее время ему становилось все труднее сидеть на троне неподвижно, как статуя бога, в облаке фимиама, облаченным во все царские регалии, как того требовалось, когда царский флот проплывал мимо больших населенных пунктов. На палубе фараоновой ладьи был воздвигнут на возвышении сияющий золотом трон, и на нем фараон должен был восседать в полной неподвижности до тех пор, пока город Мемфис не скрылся из вида.
Сети чувствовал приближающуюся старость, но он еще был полон жизненных сил, однако иногда тосковал о Вечном жилище, которое было давно приготовлено для него в пустынной Западной долине. Было так заманчиво думать об этом: ты сидишь в кругу богов, как равный среди равных, оправданный Озирисом, и наслаждаешься вечной, прекрасной, не знающей боли жизнью, лишенной всяких забот и обязанностей.
Фараон вздохнул и выпрямился. У него, по крайней мере, имеется деятельный наследный принц, единственный оставшийся в живых сын от главной царской супруги Туи. Он здоров, силен и умен, и Пта во сне дал понять фараону, что он может возлагать надежды на этого наследника. С тех пор этот сын сопровождал царя во всех его поездках, народ должен был видеть и узнавать его.
Рамзес был надеждой страны Кеми. Он был на него так похож, как только сын может быть похож на отца. Крупный изогнутый нос, круглое лицо, большие выразительные глаза, волевой подбородок — Рамзес унаследовал все это от отца. Если в его облике и было что грубоватое, то молодому человеку оно очень шло — наследство матери. К тому же принц вырос великаном, он уже сейчас почти на голову превосходил ростом всех. Он овладел самыми важными знаками письма, его приказы кратки и обдуманны. Его собственная маленькая придворная свита обожает его. Его рабыни молятся на него. Коварство и произвол, казалось, ему чужды. Мальчик, как ясная вода.
Так думал фараон Сети о своем сыне и, как все отцы, очень гордился им. Мысли пробудили в нем желание увидеть Рамзеса. Еще звенел золотой колокольчик, когда бамбуковая дверь отворилась и в ней показалась склоненная курчавая головка маленькой нубийки. Фараон получил эту рабыню вместе с данью от одного из темнокожих князей. Она была очень искусной и владела различными приемами поглаживания, щипков и надавливаний, уменьшающих напряжение мускулов его тела, поэтому фараон взял ее с собой в путешествие. Несколько дней назад маленькой нахальной кошке удалось получить доказательство божественной силы фараона в своем лоне, и Сети, который уже давно не наслаждался женскими телами, выказал себя очень милостивым. Он произнес несколько хвалебных слов и велел передать ей золотое ожерелье.
Сейчас маленькая нубийка хотела снова завоевать его милость и постоянно крутилась перед дверью господина. Стража разрешала ей это, потому что царь терпел подобное поведение и часто нуждался в ее приносящих исцеление руках.
Фараон раскусил эту хитрость и улыбнулся:
— Я по-прежнему милостив к тебе, моя черная принцесса, но сейчас я хотел бы насладиться обществом сына. Приведи его.
«Действительно ли этот усталый старик бог? — пронеслось в голове черной рабыни, и в наказание она сильно ударила себя по обеим щекам. — Кем бы он ни был, помолчи! Его воля определяет судьбу страны Кеми, а также стран-данников. Кто так могуч, стоит высоко-высоко над людьми, как боги».
На Рамзесе был узкий кожаный передник, и в руках он еще держал лук, с которым охотился на водоплавающих птиц.
— Да подарит Сет тебе прекрасный день, царь, мой дорогой отец.
Фараон покачал головой, но ответил почтительно.
— Благословение Сета священно, но каждый прожитый по его воле день приближает меня к тому роковому часу, когда меня будут приветствовать, как Озириса. Мое тело постепенно становится мне в тягость, оно тоскует о вечной жизни в Закатной стране.
Рамзес отрицательно покачал головой.
— Ты еще нужен стране, царь. Что будет делать на троне Обеих стран юноша, который едва пережил пятнадцать разливов Нила? То-то будут потирать руки жрецы Амона-Ра в Фивах. Озирис-Харемхеб не был прощен за то, что перенес резиденцию обратно в Мемфис. Им нужен царь, которым можно руководить по своему усмотрению, — слабый или очень молодой.
Сети широко улыбнулся:
— Ты молод, сынок, но ты совсем не слаб. Если бы я сегодня должен был отправиться в Закатную страну, я знал бы, что оставляю Кеми в надежных руках. Тебе нельзя забывать только одного: есть боги и люди, царь же стоит между ними. Он больше не человек, но еще и не бог, чтобы ни провозглашали его титулы. Фараон не может существовать без народа, а народ не может обойтись без него. Времена без сильного властителя были ужасными, твой учитель расскажет тебе об этом. Но боги стоят надо всеми, и, какого бы бога человек ни почитал, обращаясь к одному из них, он молится ко всем. Хатор не мешает, если ты почитаешь Изиду, Амон не ревнует, если ты молишься Пта или Озирису. Им, богам, нужны люди с их жертвами, почитанием и молитвами. Одно сочетается с другим, как в хорошо построенном доме. В мироздании крестьянин имеет такое же значимое место, как наследный принц, царь и, наконец, сами боги.
Рамзес слушал отца с вежливым вниманием, однако, когда тот сделал паузу, попросил его:
— Расскажи мне сейчас о делах наших предков, о принцах-героях Камозе и Амозисе, об Аменхотепе, который победил жалкий Куш, о…
Фараон обрадовался интересу своего сына и с готовностью принялся рассказывать о делах своих предшественников, радостно наблюдая, с каким рвением Рамзес следит за его рассказами, как серьезен его взгляд. На юном мужественном лице сменяли друг друга выражения страстного желания битвы, жажды деятельности, озарения, которые нравились фараону. Недавно Сети назначил сына своим соправителем, и теперь могущественные жрецы Озириса и Амона в Фивах и Абидосе должны увидеть своего будущего царя и познакомиться с ним.
2
Уже давно священный город Абидос не лицезрел фараона. Здесь была погребена глава бога Озириса, после того как его брат Сет убил его и разрубил на куски. Абидос считался городом могил, однако в них редко покоились мумии. Большей частью это были ложные могилы, сооруженные царями, их наследниками, сановниками или состоятельными людьми, чтобы по меньшей мере хоть считаться похороненными в святом месте. Благодаря этому Абидос разросся, разбогател и превратился в город громадных храмов, в центре которого возвышался храм бога Озириса. Эти храмы, однако, пришли в упадок. Их восстановление несколько раз начиналось, но затем приостанавливалось, и возникало впечатление, что само желание восстановить храмы было лишь видимостью, как многое в этом городе.
Фараон Сети, который с давних пор чувствовал себя ближе к Озирису, чем к каким-либо другим божествам, решил снова придать Абидосу и его храмам былой блеск. И вот наконец наступил великий час, желанный момент, когда Благой Бог вместе с наследным принцем Рамзесом прибыл посетить святое место. Как бы шумно ни было в городе в последние часы, теперь, когда царская барка приблизилась к берегу, воцарилась благоговейная тишина.
В порту ждали и жрецы, и городские чиновники во главе с Мери, верховным жрецом Озириса, и толстым потным правителем города. В соответствии со строгими предписаниями наголо обритые жрецы сияли чистотой. Их белые, как лилии, закрытые до горла одеяния, украшенные сверху мехом леопарда, окутывали долговязые фигуры. Члены семей чиновников стояли во втором ряду: жены и дети сборщиков налогов, писцов, управляющего гаванью, владельцев поместий и жрецов. Все превратились в слух.
Вот! Вдали раздался звук трубы, глухой стук барабанов и чистое пение флейты. Звуки раздавались с ладьи музыкантов, которая в подобных случаях опережала царский флот, чтобы возвестить о прибытии Богоподобного.
Музыка становилась громче и громче и смолкла лишь тогда, когда ладья пристала к берегу. Музыканты, певцы и танцовщицы вышли, высокомерно оглядели горожан и быстро, ловко выстроились в привычном порядке.
Затем показалась царская ладья — сверкающий золотом корабль Благого Бога, повелителя Обеих Стран. Вперед выступил руководитель хора и начал ритмичную песню словами:
— Слушай, народ! Приближается Совершенный Бог, сын Амона-Ра, господин Обеих Стран, могучий бык, всем вам отец и господин, царь Мен-Маат-Ра-Пта-Мери-Ен-Сети в блеске своего величия.
Эти слова руководитель хора произнес один. Затем вступили все певцы:
— Благой Бог, питающий Обе Страны, Страну тростника и Страну пчел, амбары твои переполнены, и земля приносит богатые урожаи, потому что под твоим владычеством Нил широко и сильно разливается, Тот ведет счет твоим годам наряду с господином вселенной, царем богов. Ты, наследник величайшего из всех богов, Амона-Ра, быка его матери, который создал тебя. Он отдал тебе все страны силой своей десницы. Ты сидишь на троне Ра, и урей защищает твою главу, Мен-Маат-Ра-Сети. Боги позволили тебе победить чужие народы, ты покорил людей Метанни и Ретену, Нахарины и Куша. Ты, божественный царь, любимый всеми, друг богов, который владеет Обеими Странами. Все люди покорены твоей красотой. Твои войска ликуют, твои враги дрожат.
Это громкую хвалебную песнь они продолжали до тех пор, пока роскошная барка, в которой Сети в царском одеянии сидел на высоком троне, не пристала к берегу. Когда сильные, прикрытые лишь набедренными повязками нубийские рабы высоко подняли трон, возложили его на плечи и по крепким мосткам шагнули на берег, весь народ пал ниц. Жрецы, правитель города, певцы, танцоры и все остальные склонились в пыль, как колосья, сжатые серпом. Никто не осмеливался поднять лицо. Каждый боялся молнии, которая должна была их поразить по воле Всемогущего. За троном фараона шествовали сановники. Посреди них шел наследный принц Рамзес в своем расшитом золотом роскошном парике. На его лбу сверкал широкий золотой обруч с коршуном и коброй — символами божеств Нехбет и Уто, защищавших царя.
Когда церемониймейстер дал знак отцам города, чиновникам и жрецам подняться, все робко посмотрели на фараона, который в божественном спокойствии и величии скрестил руки на груди, держа скипетр Хека и плеть, в то время как на голове его сиял в утреннем солнце красно-белый двойной венец.
Рамзес встал по правую руку от своего отца, главный советник Нибамун — по левую. После царя Нибамун был первым человеком в государстве, имел титул воспитателя царских детей, скорее символический, потому что главный советник не воспитывал ни умерших принцев и принцесс, ни наследного принца Рамзеса, который, однако, ценил и уважал старого опытного сановника.
Так как царь никогда не говорил на людях, слово взял визирь. Его сильный голос звучал над толпой:
— О жрецы Озириса, о правители города, верные слуги нашего царя! Богоподобный сегодня не столько оказывает честь вам, людям, сколько почитает божественного Озириса…
Он произнес еще много красивых звучных слов, старый мудрый Нибамун, в то время как фараон из-за боли в шрамах с трудом сохранял полагавшуюся ему божественную неподвижность. Рамзес же своими большими живыми глазами успел немного рассмотреть покорно ожидавшую толпу.
В это мгновение решил Озирис направить судьбу наследного принца по полагавшемуся ей путь. Позади тучного правителя города стоял богатый владелец поместья Сенеб, который много сделал для города и для храма. Рядом с ним стояла его жена Хатнуфер и тринадцатилетняя дочь Инет.
Наследный принц был воспитан при подобных обстоятельствах радовать всех присутствующих своим видом, однако он забыл о том, чему его учили, и его соколиный взгляд надолго задержался на слегка раскосых темных миндалевидных глазах очаровательной Инет, которая тотчас опустила голову. Она подождала удобного момента и, предположив, что принц отвернулся, снова осторожно подняла глаза. Он все еще смотрел на нее, и на этот раз она выдержала его взгляд, словно отдавая себя ему. Она и не могла иначе. Он был охотником, а она добычей.
Рамзес, уже обладавший собственным гаремом и прежде придававший физической любви не больше значения, чем еде и питью, почувствовал себя глубоко восхищенным. Эта девушка была такой красивой, такой юной и свежей, такой очаровательной, как будто в ее облике чудесно соединились Изида, Хатор и Баст.
Сама собой разумеющаяся мысль тут же присоединить ее к своему гарему даже не пришла ему в голову. Эта девушка казалась чем-то особенным, бесценным сокровищем. Разве мог он сравнить ее с женщинами из гарема, покорными глупыми животными, которые с одного кивка прыгали в его постель и о которых он забывал, едва насладившись ими.
Однако процессия двинулась дальше, и Рамзес нехотя оторвал свой очарованный взор от дочери Сенеба. Раскосые темные глаза исчезли в толпе, околдовав его навсегда.
Инет чувствовала сладкую слабость в ногах, не знала, как обозначить это неизведанное доселе чувство приятного томления и дважды пропустила мимо ушей вопрос матери.
Звуки фанфар пробудили ее от мыслей. Торжественная процессия во главе с певцами, танцорами и музыкантами, медленно направилась к храму Озириса. Молодые почти обнаженные храмовые танцовщицы начали медленный, торжественный культовый танец, который передавал для посвященных судьбу Озириса.
Озирис получил от своего отца, бога земли Геба, власть над всем земным. Он распоряжался пашнями и виноградниками и был назван совершенным. Его брат Сет, повелитель юга, бог чужих стран и пустынь, позавидовав счастью Озириса, заманил его в гроб, крепко закрыл его и бросил в Нил. Изида, супруга Озириса, с плачем пошла по стране, чтобы найти гроб. Она нашла его в дереве, которое уже давно пустило корни. Но, прежде чем она смогла что-либо предпринять, царь Библа велел срубить дерево, чтобы использовать его как колонну в своем дворце. Когда Изида открыла свое божественное происхождение, царь подарил ей колонну. Она достала гроб и открыла его. Ей удалось при помощи волшебных сил зачать ребенка от мертвого Озириса. После этого она вернулась на родину и спряталась в болотах Дельты. Однако Сет обнаружил ее, когда охотился там. Он достал мертвого брата из гроба и разрубил его на четырнадцать кусков, которые разбросал по всей стране. Изида тут же отправилась на поиски, чтобы собрать все части, и нашла их все, кроме пениса, который Сет бросил в Нил, где его съели рыбы. Изида сделала новый фаллос, сложила все части тела вместе и умастила их драгоценными маслами. Таким образом впервые был совершен ритуал бальзамирования. Богине помогали Анубис и другие боги. Озирис не мог больше вернуться на землю и стал божественным судьей мертвых в Закатной стране, в то время как Изида родила сына Гора, которого воспитала мстителем за своего супруга. Сет, старый злодей, почуял Гора в болотах, принял облик ядовитой змеи и укусил ребенка. Но при помощи бога солнца Ра ребенок был исцелен, и Сет на этот раз оказался побежденным.
Большинство людей понимали события, изображаемые в танце, однако их понимание оставалось поверхностным. Для них это была прекрасная старинная история и ничего больше.
Однако наследный принц Рамзес, человек глубоко образованный, знал сакральный смысл этой истории: фараон есть земное воплощение Гора, которого Ра защищает от врагов, потому что, если с царем произойдет беда, Сет сможет одержать победу и прекрасная страна Кеми превратится в бесплодную пустыню.
Фараона же, казалось, все это не трогало. Он сидел неподвижно на своем сверкающем золотом троне высоко над головами жрецов и чиновников, танцоров и певцов. На голове у него был бело-красный двойной венец, и владыку охраняла изрыгающая огонь змея, угрожающе поднявшая свою золотую голову. Царя обвевали два носителя опахала, служители храма несли горшки с курившимися благовониями, и ароматные клубы обволакивали Благого Бога, словно облако.
Народ Абидоса пал ниц, вытянул руки перед собой и почтительно и умоляюще бормотал:
— Благой Бог Мен-Маат-Ра-Сети, Гор, любимый Маат, великий властью, прекрасный годами, могучий бык, оживляющий сердца, празднуй тысячи тысяч праздников Зед, да будь жив, здрав и могуч!
Инет шла в процессии между матерью и отцом. Два ее маленьких брата остались дома. Она не могла забыть взгляд юного Гора, наследного принца Рамзеса. Ей казалось, что его взгляд, подобный соколиному, пронзил ее, будто невидимая стрела, и она двигалась с такой осторожностью, как если бы была беременна и боялась потерять ребенка.
Выстроенный лишь до половины храм Озириса представлял собой жалкое зрелище. Оба пилона, сложенные из кирпичей нильской глины, достигали лишь до половины обычной величины. Мусор в спешном порядке убрали в сторону. Из широко открытых ворот с ладьей бога в руках навстречу царской процессии вышли жрецы Озириса.
Процессия остановилась. Фараон пробудился от неподвижности и с тихим стоном спустился с трона. Жрецы поклонились и протянули руки к Благому Богу. Мери, старший жрец Озириса, выступил вперед и сказал:
— Добро пожаловать, о могущественный сын Солнца, господин Обеих Стран, Гор, любимец Маат.
Вместе со жрецами и некоторыми высокопоставленными горожанами фараон вошел во внутренний двор, где поднималась святая святых. Маленькая капелла Озириса была уже почти восстановлена. Туда внесли культовое изображение под покрывалом. Царь и Мери последовали за ним в темноту маленького храма. На площади перед святилищем тем временем готовились к культовому празднику, который должен был продолжаться два дня. В нем мог принять участие каждый, в то время как тайные мистерии внутри храма могли совершаться только высшими жрецами и фараоном.
Рамзес делал что должно, но сердце его было с той девушкой в толпе. Он стремился снова ее увидеть, хотел узнать ее имя, говорить с ней, дотрагиваться, целовать, обнимать…
В городе тем временем, подобно пожару, распространилась новость, что Благой Бог Сети хочет выстроить новый храм Озириса, во много раз больший, чем прежний, с громадными пилонами из камня, высокими стенами, просторным залом с колоннами и культовым изображением из чистого золота.
Радостно, как никогда, праздновал народ мистерии Озириса, начавшиеся с выхода бога, которого сопровождала его дикая собака Упваут в образе жреца под маской волка. Спектакль о смерти Озириса, его погребении и мести его врагам растянулся на два дня.
Тем временем царь вел переговоры со жрецами, вызвал архитекторов, каменщиков и художников, которые с почтением внимали приказам и пожеланием Благого Бога.
Перед отъездом был запланирован большой праздник, на который фараон пригласил жрецов и отцов города. Для этого соорудили большой праздничный шатер, приготовили изысканные кушанья, позвали музыкантов, танцоров и акробатов.
Тем временем Рамзес навел справки, узнал имена девушки и ее родителей и приказал пригласить эту семью.
Сенеб принадлежал к провинциальной знати, владел имением вблизи Абидоса, но ни он, ни его предки не имели каких-либо заслуг, достойных внимания фараона. Его поместье даже не было собственно имением, а было взято в аренду у храма Озириса, которому Сенеб, как прежде его отец и дед, отдавал точно установленную плату. Некоторые члены семьи достигали должности жреца или управителя храма, однако Сенеб жил со своей семьей очень уединенно, лишь изредка появляясь в Абидосе.
Когда царский посланец передал ему приглашение, Сенеб удивился:
— Ты не мог перепутать? Моя семья, конечно же, неизвестна Богоподобному, и я не знаю почему…
— Другие многое отдали бы, если бы их так «перепутали», мой господин. Возможно, жрец, или правитель города, или иной благодетель назвал твое имя — что тебе в том заботы? Тебя настоятельно приглашают вместе с женой и дочерью.
Как на облаках, Инет вошла, держась за руку матери, в украшенный и охраняемый праздничный шатер. Им указали место впереди, где на возвышении был установлен золотой трон, на этот раз с двумя сиденьями, потому что Благой Бог хотел представить Рамзеса в качестве своего соправителя.
Раздались звуки фанфар, вошли главный советник и телохранители. Трубы замолчали, головы гостей склонились, и вошел сын Солнца, сопровождаемый молодым Соколом Гора. На головах обоих блистали голубые с золотом венцы Хепреш, потому что двойной венец надевали только на очень больших публичных празднествах и государственных приемах.
Главный советник в своей короткой речи объяснил, что Благой Бог разделяет отныне трон Гора со своим сыном Рамзесом и что юному царю следует выказывать не меньшую покорность, чем старому.
Фараон Сети с огромным трудом держался прямо. Многочасовые празднества и церемонии прошедших дней окончательно вымотали его. Он чувствовал себя утомленным, больным, у него поднялась температура, старые шрамы болели, и все кости нестерпимо ныли независимо от того, сидел он, шел или стоял.
Едва заметным движением он подозвал к себе Нибамуна.
— Сообщи людям, что Богоподобный удалится для решения важных государственных дел, так как Рамзес тоже носит теперь корону и будет достаточно, если он останется присутствовать на этом празднике.
Главный советник громко объявил гостям все, что прошептал ему царь. Сети, чувствовавший боль во всем теле, удалился. Его сопровождал гул голосов, произносивших пожелания здоровья и счастья:
— Да будет царь здрав, силен и могуч, да будет Благой Бог праздновать еще тысячи тысяч праздников Зед!
«Вероятно, я не буду больше праздновать ни одного», — с горечью подумал фараон, потому что праздники Зед (а некоторые властители их и вообще не праздновали) начинают отмечаться только после тридцатилетнего правления фараона. Они считаются праздниками обновления и должны омолодить царя, придать ему новые силы. Жрецы, занимавшиеся историей страны, рассказывали, что первых царей после этого праздника народ убивал, чтобы трон мог занять полный сил молодой преемник. После того как власть царя усилилась, от этой традиции отошли и обычай ритуального убийства превратился в праздник обновления.
«Ну, — думал Сети, пока с него снимали корону и роскошные оплечья, — я омолодился в лице моего сына. Когда сам я уйду в Закатную страну, на земле останется он. В нем я и обновлюсь».
Эта мысль утешила и успокоила фараона. Вместо того чтобы присутствовать во время церемониального ужина со жрецами, он поест сегодня с одной из женщин гарема и проведет с ней ночь, может быть, после этого боли у него пройдут.
А в шатре фараона подавали кушанья и напитки и главный советник объявлял имена людей, которые должны были предстать перед троном, где их ждала награда. Вот чеканной поступью подошел предводитель отряда воинов, которые недавно уничтожили в пустыне знаменитую разбойничью банду, и был награжден большой золотой мухой. Тучный правитель города получил для себя и своей жены торжественное одеяние с золотым оплечьем и титул «друг фараона». Хотя это почетное звание во всей стране носили не менее тысячи человек, правитель города был настолько потрясен такой честью, что даже всхлипывал. Разным лицам были розданы земли, скот, зерно, масло и другие ценные дары.
Писец уже сворачивал свиток, когда Рамзес велел назвать имена Сенеба, его жены Хатнуфер и их дочери Инет. Немногие знали жившую в уединении семью, поэтому шепот стих и воцарилось напряженное молчание.
— Поднимись, Сенеб, — проговорил Рамзес, — и будь вознагражден от имени священного бога Озириса за поддержку его жрецов и за благодеяния, оказанные его храму. Я, Благой Бог, отмечаю тебя за это Золотым Озирисом.
Он кивком подозвал Сенеба и возложил на коленопреклоненного ценную цепь из фаянса с золотой фигурой Озириса с палец величиной. Хатнуфер получила очаровательное украшенное скарабеями золотое ожерелье, а Инет — золотой амулет Анк, который бледной и дрожавшей от волнения девушке надел на шею сам Рамзес.
Теперь он увидел прекрасную Инет совсем близко. Она опустила свои чуть, раскосые темные глаза, однако тонкий овал ее милого лица, хрупкая шея и маленькие восхитительные ушки странным образом тронули его. Когда она улыбнулась, на ее круглых щеках появились крошечные едва заметные ямочки, и Рамзес пожелал, чтобы она всегда хотела улыбаться ему.
В горле у него запершило, в глазах зарябило, и он должен был собрать все свои силы, чтобы не схватить это создание и не покрыть поцелуями ее лицо, волосы, плечи, все ее прекрасное тело.
— Послушай, Инет, — шепнул он. — Мне кажется, тебе неправильно выбрали имя. Я буду звать тебя Нефертари — Прекраснейшая, я приглашаю тебя и твоих родителей в царский дворец в Мемфисе. Будь моей гостьей, и пусть Баст определит нашу судьбу.
— Да, о Благой Бог, — услышал он ее тихий, едва слышный голос.
Рамзесу стоило произнести только одно слово, и девушку сразу же присоединили бы к его гарему, но ему хотелось не этого. Ее тело принадлежало ему, повелителю Обеих Стран, так же, как все в стране Кеми по праву и закону считалось его собственностью, но он хотел завоевать ее сердце.
3
Если бы Пиайя спросили, каковы его самые ранние воспоминания, он бы рассказал о какой-нибудь работе, которую совали ему и которая сопровождалась побоями, болезненным тасканием за уши и за волосы, грязной руганью и всем тем, что приходилось на долю ребенка-раба. О своем отце он знал только, что тот был плененным воином из Амурру, а мать — рабыней храма Озириса, работавшей в полях. Его отец был высоким красивым мужчиной, которого прислужницы очень высоко ценили в качестве любовника. Его имя здесь никто не мог выговорить, поэтому отца называли здесь просто Неферхай, что означало «красивый телом». Имя матери Пиайя было забыто, и он даже позже не смог его выяснить. Родители умерли рано и оставили сыну только странное неегипетское имя, за которое мальчика дразнили другие дети и которое приносило ему только новые побои. Насмешки и битье — таков был удел обладателя раскосых серых глаз, которые Пиай унаследовал от отца и которые смотрелись здесь чрезвычайно необычно.
— Рыбий глаз! Глаз крота! — кричали дети ему вслед, однако их насмешки и пренебрежение воспитали в Пиайе гордость от того, что он был другим.
— Они всего лишь завистливы, — утешал он себя, — потому что я представляю собой нечто особенное.
Шли годы, и Пиай достаточно вырос, чтобы иметь возможность ответить на удары равным себе. Но позднее, во время обучения у скульптора Ирамуна, ему снова терпеливо пришлось подставлять спину, потому что здесь он не имел права ударить в ответ. Однако Ирамун редко бил его и подарил мальчику отеческое тепло, которого до того Пиай не знал.
Но каким образом сын рабыни стал учеником дельного Ирамуна?
Позднее ему рассказали, что, еще когда были живы его родители и его трех- или четырехлетнего брали с собой на работу в поле и усаживали в тени под кустом, он лепил фигурки из сырой земли: животных, людей, дома и многое другое. Когда его привлекли к работе, он не оставил эту свою привычку, и ни побои, ни ругань не заставили его отказаться от нее.
Однажды у двенадцатилетнего сироты Пиайя хватило мужества вылепить из глины ряд фигурок, высушить их на солнце и принести в скульптурную мастерскую при большом храме. На его счастье первым его встретил не какой-нибудь подмастерье, а сам Ирамун, который как раз вышел из мастерской.
— Ты все это сделал сам? — недоверчиво осведомился он.
— Дай мне кусок глины, и я снова сделаю это на твоих глазах.
— Не будь таким дерзким, малыш, — проворчал Ирамун, затем по очереди взял каждую фигурку в руки и рассмотрел ее. — С камнем и металлом ты, наверное, еще не работал.
— Нет. Каким образом раб, трудящийся на поле, может сделать это?
— Ты работаешь на полях Озириса? Ну, для Благословенного Бога ты можешь трудиться и здесь, только другим образом. Как тебя зовут?
— Пиай.
— М-да-а… Бывают имена и похуже. В любом случае ты остаешься здесь. Спать можешь в кладовой, там достаточно места. Все остальное я улажу.
Так случилось, что многократно терпевший побои раб с поля стал учеником скульптора. Ирамун редко награждал его оплеухами или ударами палкой и лишь в тех случаях, когда, как он говорил, не выдерживал глупости и неспособности своего ученика.
Однако Ирамун был признанным мастером, и если он не прогонял ученика по причине его ничтожных способностей, то знал, что делал. А за четыре года обучения из любого ученика можно сделать мастера. Еще одно ценил Пиай в своем мастере. Ирамун, который по малейшему поводу высказывал порицание и не упускал ни единой ошибки, не стыдился тепло подбодрить ученика, если ему что-то нравилось, а Пиайя после двух лет обучения он почти всегда хвалил.
Для бывшего раба, трудившегося на полях, началась новая, лучшая жизнь. До того голый-босый, теперь он всегда был одет. Он, питавшийся раньше только кашей, лепешками, луком, овощами и по праздникам иногда фруктами, познакомился с радостями стола, которые ему до этого и не снились. Храмовые мастерские снабжали питанием жрецы, которые отправляли туда часть пожертвованных быков, коров, овец, гусей и голубей, поэтому для ремесленников было само собой разумеющимся найти на столе жареного гуся или баранью ногу даже в будни.
Но для Пиайя самым важным было то, что он мог теперь целый день заниматься делом, за которое раньше получал ругань и побои. Теперь же он отдавался этому со всем старанием и талантом. Уже после двух лет обучения он стал подмастерьем Ирамуна. Ему самому позволялось выполнять маленькие заказы. Он научился лить бронзу, делать рельефы, выполнять работы по дереву и несколько месяцев даже занимался с художником.
Для Ирамуна Пиай уже давно стал кем-то вроде сына. Из собственных детей мастера в живых осталась только дочь, которая давно была замужем. Итак, Пиай жил сейчас в доме Ирамуна, чья жена баловала его, и теперь, будучи молодым человеком, он обрел то, в чем ему было отказано в детстве, — мать, отца, дом.
Когда Благой Бог объявил, что посетит Абидос, и дал знать, что хочет восстановить храм и сделать его еще больше и роскошнее, Ирамун, само собой разумеется, взял с собой на встречу своего приемного сына и лучшего ученика.
Они вместе видели Благого Бога, в блеске золота восседавшего на троне Гора, а рядом с ним наследного принца и соправителя Рамзеса, который на голову превосходил ростом всех, даже своего отца. Молодой Гор произвел на Пиайя еще большее впечатление, чем Благой Бог Сети. Фараон выглядел рассеянным, усталым, утомленным и расслабленным, в то время как Рамзес не упускал ни единой мелочи. Он засыпал вопросами главных художника, архитектора и каменщика, велел показать планы, бегло осмотрел изготовленные модели и дал понять, что
из него не выйдет удобного заказчика, которому можно навязать что угодно.
По дороге домой Ирамун сказал:
— Это лучшее из всего, что могло случиться, сын мой. Жрецы всегда немного мелочны, потому что зависят от паломников и праздников. Если же заказчиком является сам фараон, тогда ни в чем не бывает недостатка. Богоподобному принадлежит вся земля: каждый камень, каждое дерево, каждый колос, каждый ручей, Нил, животные и люди. Все это подарили ему боги, и он может распоряжаться всем этим по своему усмотрению. Он может сделать раба с полей главным советником, а простого воина военачальником. Это будет стоить ему одного слова. Доброго владыку ты узнаешь по тому, что он во всем справедлив, во всем знает меру, действует разумно. Плохого… ну, у плохого все наоборот.
— Наш фараон хороший владыка?
Ирамун серьезно кивнул:
— Благой Бог Сети освободил Кеми от врагов, обезопасил границы и этим упрочил мир. Если стране больше не угрожают и она не должна тратить силы на то, чтобы кормить и содержать много воинов, то благосостояние ее растет. То, что мы живем неплохо, ты сам видишь.
«Мы — да, — подумал Пиай, — но не рабы, гнущие спины полях».
Но эти свои мысли он оставил при себе. То горестное время прошло, и Пиай давно разрушил все мосты к своему прошлому.
Возвращение в Мемфис замедляло большое количество остановок. Настроение наследного принца Рамзеса непрерывно менялось. Едва они покинули Абидос, он стал упрекать себя в том, что тотчас не взял дочь Сенеба с собой. Он называл себя трусливым, глупым и слабым, потому что немедленно не воспользовался своими царскими правами. Однако на следующее утро он хвалил себя за, как ему теперь казалось, мудрое решение. В конце концов Нефертари должна стать не рядовой наложницей в каком-нибудь углу его гарема, а супругой. Ему не следует обижать доброго Сенеба и его жену, верного и полезного подданного необходимо ободрять и поддерживать, как часто напутствовал его отец.
Теперь они проезжали через особо плодородные земли, где сейчас, в первый месяц сбора урожая, много людей работали на полях. Они, разинув рот, смотрели на царские корабли, некоторые махали, смеялись, прыгали туда-сюда, кричали что-то непонятное. Царь удобно сидел под парусом, защищавшим его от солнца, просто одетый и без фараонских регалий. У него в ногах сидел Рамзес, на нем была лишь короткая набедренная повязка, и он ел свежий виноград с серебряной тарелки.
— Вон, посмотри туда, — сказал Сети. — На этом фундаменте покоится наша страна. Они прилежны и нетребовательны, работают весь год, в то время как жрецы только и расходуют, особенно жрецы Амона в Фивах. Все время, пока фараоны находились в резиденции, жрецы чувствовали себя второй властью в государстве, их владения простирались от Куша до Дельты, при этом забывая, что фараон является единственным верховным жрецом страны Кеми. Они все еще безмерно богаты, но уже не так могущественны. Чтобы дать им ощутить, кому они обязаны своей властью, я не назначил в Фивах нового верховного жреца и не сделаю этого, пока жив. Я — сын Солнца, власть принадлежит мне, я один говорю с Амоном-Ра, моим божественным отцом, а эти жрецы только посредники, рабы!..
Царь был в гневе. Он торопливо схватил кубок и сделал большой глоток.
— Успокойся, отец. Они были избалованы во времена Тутмоса и присвоили себе права, которых не имеют. Они не стоят того, чтобы ты волновался из-за них. В конце концов ведь не мы перенесли резиденцию из Фив в Мемфис, а ныне покоящийся в стране Озириса фараон Харемхеб, а это было целое поколение назад.
Во взгляде принца появилось что-то дикое, когда он жестко добавил:
— Эти гордецы должны снова научиться тому, что они не больше, чем рабы фараона, который был милостив настолько, что сделал их служителями своего бога. Одно твое слово, великий царь, и самый высший из жрецов сгинет в каменоломне или будет самым низким служкой в маленьком храме на границе. Они должны это знать! Они не имеют права забывать, а если забудут, мы им напомним.
Фараон улыбнулся:
— Ну, ты перестарался, сынок. Они недостойны нашего гнева, эти люди с бритыми головами. Я придумал следующее. Все безграничное состояние Амона в Мемфисе должно будет перейти под управление храма Пта. Пта в конце концов — господин нашего города, и его почитают как бога-создателя, в то время как Амон не что иное, как деревенский фетиш. Пта создал мир, богов и людей, силой своего слова, а значит, он является также создателем Амона.
— Это будет для них тяжелым ударом, — согласился Рамзес, — потому что их владения распростерты по всей стране Кеми, они повсюду стараются взять все в свои руки. Фивы были их правой, а Мемфис — левой ногой. Они будут протестовать, если ты отрежешь им ногу.
— Пусть протестуют! Я их не боюсь! Только слабые фараоны боятся жрецов, заметь это, сын мой.
Так была посеяна вражда, которой еще суждено будет сыграть трагическую роль в жизни наследного принца, потому что такими бессильными, как хотелось бы фараону Сети, жрецы Амона еще долгое время не будут.
В мемфисской гавани собралась толпа встречающих, а фараон и наследный принц все не появлялись. Фараон Сети отказался на этот раз от церемониального въезда и велел отнести себя во дворец в закрытых носилках. Рамзес любил роскошные церемонии. Он надел парадное платье, драгоценности в голубом венце и медленно поехал к дворцу на колеснице, окруженной ликующим народом.
Во время этой поездки он все думал, как хорошо было бы разделить все это с прекрасной Нефертари. Но может быть, ее родители посчитали его приглашение несерьезным и приняли за простое проявление вежливости, которое ничего не значит и ни к чему не обязывает?
Едва переступив порог дворца, он приветствовал и обнял свою мать Тую, поцеловал обеих младших сестер Тию и Хентмиру, и нанес короткий визит няньке, а затем вызвал писца и продиктовал письмо Сенебу и его жене Хатнуфер:
— Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес приветствует вас и передает вам свое настойчивое желание разделить красоту царской жизни с вашей дочерью Инет. Половина моего сердца осталась в Абидосе. Я хочу забрать ее из рук Инет-Нефертари. Выберите самую быструю ладью, торопитесь, ибо ваш царь находится в опасности погибнуть из-за того, что не хватает половины его сердца.
Затем он сообщил о своем решении родителям, и Благой Бог Сети решил:
— Ты сын моей главной супруги, в тебе течет божественная кровь. Тебе подойдет любая красивая и здоровая женщина в Кеми, чтобы родить законных наследников. Я заранее одобряю твой выбор.
Туя, Великая Царская Супруга, как и всякая женщина, захотела узнать подробности. Ее широкое, несколько крестьянское лицо лучилось силой и умом. Она выслушала подробный рассказ сына и решила:
— Она молода, ее еще можно сформировать, воспитать должным образом. Пришло время отвернуться от наложниц и избрать себе верную супругу. Я люблю Нефертари, потому что ты ее любишь, сын мой. Мы с радостью примем ее.
Рамзес знал, что родители предоставили ему право выбора супруги. Единственное требование — она должна быть здоровой и из хорошего дома. Теперь ему следует лишь набраться терпения, потому что даже власть фараона не может сократить расстояние и заставить ладью плыть быстрее. Чтобы отвлечься, Рамзес с головой ушел в государственные дела, поехал в пустыню и поохотился на, антилоп, зачал в своем гареме трех детей, без особой, однако, радости, и помог главному советнику Нибамуну привести в порядок судебные дела.
Главному советнику передавались только серьезные дела, в которых речь шла о тяжких преступлениях, повлекших за собой такие же тяжкие наказания.
Нибамун взял один из свитков.
— Что бы ты стал делать в этом случае, мой Богоподобный? Речь идет о Меру, человеке из хорошей семьи. Его отец был третьим по рангу жрецом в храме Пта, один из его братьев отнюдь не рядовой воин городской стражи. Сехмет и Себек словно одновременно смутили разум несчастного: этот Меру всегда все делал неправильно. Еще будучи мальчиком, он выбил глаз своему учителю, когда тот хотел наказать его палкой. Его родителям тогда пришлось отдать много золота, чтобы загладить вину. Затем мы находим его предводителем разбойничьей банды, которая похищает и насилует девушек, грабит дома и сады, ну и так далее. Его поймали, приговорили к сотне ударов палками и отрезали нос! После этого Меру отправили на работы в каменоломни, но он сбежал оттуда. Предполагают, что он несколько лет провел в разбойничьих бандах, а недавно отряд ниу
[101] застал его за разграблением гробницы и арестовал. Судья признал тяжкий разбой, к тому же не первый, и теперь приговор гласит: отрубить руку и отрезать оба уха. Семья давно отказалась от Меру, однако теперь он обращается ко мне, главному советнику фараона, и утверждает, что разбойничья банда держала его в качестве раба и принуждала разбойничать вместе с ними. Что бы ты сделал в этом случае, Богоподобный?
— Если учесть известные факты, мало верится в то, что он был рабом разбойничьей банды. Схватили ли кого-нибудь еще при разграблении гробницы?
— Нет. Двое погибли, потому что сопротивлялись, остальным удалось бежать, кроме Меру, которого свалил на землю удар дротика.
Видя, что Рамзес задумался, Нибамун подвинул свиток к нему.
— Если позволишь, я оставлю этот случай тебе. Реши по своему усмотрению и подумай: если человек жив, он еще может исправиться.
За повторный разбой Рамзес мог бы вынести смертный приговор, но он подумал, что никто не получит от этого прибыль. Виновный должен по меньшей мере компенсировать хоть часть ущерба, поэтому принц распорядился отрезать у Меру оба уха и направить его на пожизненные работы в каменоломню. Казнь становилась медленной, потому что, работая в каменоломне, самый сильный человек мог прожить только два или три года.
Меру, сидевший в цепях в темнице узнал свой приговор от судьи. Огласив его, тот иронично добавил:
— В любом случае можешь гордиться, потому что сам молодой царь Рамзес смягчил твое наказание. Слышать ты сможешь и без ушей, а для работы тебе понадобятся две руки. О, они еще как будут нужны тебе, уважаемый Меру!
Тот лишь мрачно смотрел перед собой. Изуродованное лицо без носа, воспалившиеся раны на бритой голове, загоревшие под солнцем пустыни мускулистые руки. Один вид этого человека внушал страх. Его нрав не смягчили ни ножные, ни ручные кандалы. В упрямом мозгу насильника и убийцы горело лишь имя судьи: Рамзес. Как и многие преступники, он не считал наказание необходимым следствием своих деяний, наоборот, он счел его жесточайшей несправедливостью. «Рамзес отнял у меня оба уха. Рамзес отправил меня в каменоломню. Рамзес должен расплатиться за это!»
Северный ветер, который боги дарили стране Кеми во все времена, развевал парус небольшой быстрой ладьи, доставлявшей приказы и распоряжения из Мемфиса в города юга. Так письмо наследного принца сравнительно быстро попало в руки родителей Инет, которую теперь называли Нефертари. Как Рамзес и предполагал, Сенеб долго не мог сообразить, стоит ли ему серьезно воспринимать устное распоряжение молодого царя. Его жена считала, что принц ничего не говорит просто так, он привык, что к его словам внимательно прислушиваются и следуют его приказам. Сенеб же склонялся к мнению, что молодой царь в подобных путешествиях знакомится с большим количеством людей, и если какая-нибудь девушка привлекала его беглое внимание, то он, будучи очень вежливым, говорил ей о приглашении, а на другой день забывал ее. Наконец Сенеб сказал Хатнуфер:
— Если он думал это серьезно, то мы получим письменное приглашение.
И оказался прав. Теперь он держал в руках царское приглашение. Он позвал жену и дочь и прочитал послание. Слова влюбленного наследного принца произвели на каждого из присутствующих различное впечатление.
Сенеб чувствовал себя польщенным, но радости не ощущал. Он любил свою единственную дочь и не хотел отдавать ее другому мужчине. Конечно, он знал, что однажды она покинет дом, но думал, что этот день еще далеко, и рассчитывал, что его девочка останется в Абидосе. А тут внезапно в его дверь постучал сам молодой царь и потребовал дочь. О протесте или отказе не могло идти и речи. Сенеб был не в состоянии ничего изменить и должен был готовиться к путешествию в Мемфис, который совсем не знал. Он не собирался оставаться там, потому что всеми нитями был связан с Абидосом, с храмом, почитал бога Озириса превыше всех богов, собственно говоря, как единственного бога. Да и что означают несколько лет земного существования? Ничего по сравнению с вечностью в Закатной стране. А кто сидит на месте судьи мертвых, кто взвешивает сердца и решает будущее наших ка и ба? Озирис! Озирис, единственный, прекрасный, великий бог-искупитель, который пожертвовал собой за людей, за их благо. Большинство мыслей задумчивого Сенеба были обращены к Озирису. Его супруга Хатнуфер, жизнерадостная и увлеченная земным женщина, не держала свои мысли при себе, но высказывала их громко вслух:
— Разве Богоподобный, сын Гора, не мил! Половина его сердца осталась в Абидосе… Ах, Инет, счастливица, ты влюбила в себя Рамзеса и заставила его проявлять нетерпение! Сенеб, только представь себе, наши внуки будут принцами и принцессами, мы станем гостями фараона, нам будут служить самые уважаемые люди, а Инет будет сосудом, в котором сын Солнца посеет свое семя! И заживем мы в Мемфисе в собственном дворце…
— Нет! — воскликнул до этого покладистый Сенеб. — Нет, этого не будет! Некоторое время спустя мы вернемся назад. Я не брошу свое имение и храм. Выброси это из головы!
Однако Хатнуфер едва слышала его. Она продолжала красноречиво расписывать блестящее будущее и уже видела себя каждый вечер сидящей на женской половине дворца и болтающей с Великой Царской Супругой Туей о детях.
Инет тем временем вышла в сад и уселась около маленького пруда с лотосами в тени тамарисков и сикомор. Теперь, когда сбывалось то, на что она втайне надеялась, ее девичье сердце охватил непонятный страх. Она должна будет просто покинуть родителей, маленьких братьев, дом, город, чтобы выполнить волю этого гордого молодого человека, чей соколиный взор проник ей глубоко в сердце. А ведь у него уже есть гарем и, конечно же, дети от красивых и искусных в любви женщин. Для него она, вероятно, будет одной из наложниц, которых он пожелал, затем он обнимет ее пару раз, а после забудет в гареме.
Инет так сильно топнула ногой, что из кустов вылетели воробьи, и схватила золотой амулет Анк, висевший у нее на шее. Нет, такими могут быть другие, но не он. Она должна привезти ему половину его сердца, иначе он погибнет. Это слова не принца, который ищет новую наложницу для своего гарема, так может говорить только искренне влюбленный молодой сокол Гора — Рамзес, высокий, сильный и прекрасный, как бог. И у нее теперь есть новое имя. Оно чрезвычайно ей нравится — Нефертари, Самая Красивая из Всех, Прекраснейшая. Она внезапно заплакала, маленькая Инет, ведь она была еще ребенком и так скоро должна была стать женщиной.
Ветхий храм в Абидосе был почти разрушен. Уцелела только святая святых. И жрецы Озириса совершали то, что они делали уже на протяжении столетий. Они будили бога, мыли и одевали его, приносили ему еду и укладывали его на ночь спать. Время от времени они носили его культовое изображений в часовню Изиды, чтобы там бог мог наслаждаться обществом своей супруги и соединяться с ней.
Несмотря на строительные работы, ежедневно прибывали паломники, устраивались праздники и шествия, в городе и около храма царило большое оживление. На ладье из Мемфиса прислали нескольких архитекторов, которые теперь обсуждали будущие работы с надзирателями над каменщиками, с художниками и скульпторами. В центре нового храма под изображением Озириса фараон Сети должен был устроить свою ложную гробницу. Ее собирались окружить высокими колоннами, а стены украсить рельефами и живописью. Посредине будет изображен фараон в кругу богов.
Его величество Мен-Маат-Ра-Пта-Мери-Ен-Сети, Благой Бог, сын Солнца и владыка Обеих стран, особо подчеркнул, что это должен быть его храм, а затем высказал несколько непривычных желаний. Так, на рельефе должно было быть изображено, как фараон курит фимиам перед богом Сокаром — это божество почиталось в Дельте, а здесь было практически неизвестно. Жрецы Озириса растерянно покачали головами, услышав, что Сокар, подобно Озирису, изображается в виде мумии и считается на севере богом, равным Озирису. Не всем это понравилось, но царский приказ в конце концов не обойдешь, поэтому нашли выход: изобразить бога Сокара в виде человека с головой сокола.
Эту работу поручили мастерской Ирамуна, поэтому он и Пиай ломали голову над рисунками рельефов, которые потом должны были перенести на известняковые плиты.
— Собственно говоря, он выглядит, как бог Гор, — заметил Пиай, но Ирамун возразил:
— Для необразованного да, но у Гора на соколиной голове, как правило, есть корона, и в руках он редко держит скипетр «УАЗ». А кроме того, его имя пишут под изображением, поэтому ошибка исключена. Послезавтра должны доставить следующие каменные блоки.
— У нас слишком мало людей. Если храм должен быть закончен за четыре-пять лет, потребуется в три раза больше каменотесов и скульпторов.
Ирамун выпрямился и свернул рисунки.
— Я знаю, сын мой, поэтому предлагаю следующее. Я уже поговорил с надсмотрщиком, он выделит нам двух помощников, которых я выберу сам, — таково мое условие. Мы найдем двух способных молодых людей, которых сможем обучить в процессе работы. Я думаю, тогда дела пойдут быстрее.
— Как скажешь, отец.
Недавно Ирамун усыновил Пиайя, и для того не составило труда называть старого мастера отцом. Другого или лучшего он вообще не знал.
— Я хотел бы еще кое-что спросить у тебя, отец. Веришь ли ты, что фараон действительно на равных общается с богами, как мы это всегда изображаем? Они…
Ирамун с осуждением посмотрел на сына:
— Зачем ты хочешь это знать? Какое нам до этого дело? Ты можешь верить или не верить, но было бы лучше, если бы ты в это верил…
— И все-таки это странно, — настаивал Пиай.
— Мы никогда точно не узнаем, что происходит там, наверху, но в любом случае фараону принадлежит вся страна, благодаря ему мы имеем прекрасную работу и неплохо живем. Он дал поручение построить новый храм, и похоже на то, что мы — по крайней мере ты — будем работать и на его преемника. Кстати, как обстоят дела с твоими уроками письма?
— Лучше. С тех пор как жрец-библиотекарь предоставил мне свиток с образцами письма, я каждый день занимаюсь им, если не слишком устаю.
Ирамун, который часто высекал на камне письменные знаки, поначалу не понимал, что они означали, но в течение жизни многому научился и считал совершенно необходимым, чтобы его сын также разбирался в написанном.
4
Каторжника Меру отправили в пустыню Рехену. Там добывали твердый черный камень, который предназначался для особо изысканных статуй. Черные невероятно прочные скалы ожесточенно сопротивлялись стараниям каторжников. В первую очередь необходимо было вырубить из скал блоки, помеченные мелом. Для этого пробивались дыры, которые потом расширялись и углублялись. Часто это длилось целыми днями. Самой тяжелой и опасной работой было отделение блока от скалы, потому что нередко камень срывался и мог раздавить человека или же тяжело его покалечить. Проще было расколоть уже добытые блоки на куски различной величины, сбить неровности и подготовить к погрузке.
Мужчины, которые выполняли эту тяжелую работу ежедневно по десять часов под палящим солнцем, все являлись осужденными. Надзирателями здесь служили высокооплачиваемые надсмотрщики-добровольцы. Рабы-каторжники должны были каждый месяц выдавать определенное число грубо отесанных блоков. Если блоков оказывалось меньше, жалованье надсмотрщиков уменьшалось, за большее количество они получали значительно большую плату. Чтобы добиться этого, любые средства считались хорошими. Каждые десять дней им доставлялись не только продукты питания, новые инструменты, вино, пиво и вода, но и целая связка бамбуковых палок в руку толщиной и почти в два локтя длиной. Этими палками надсмотрщики избивали каторжников, чтобы те лучше работали. Если кто-то на одно мгновение переставал сверлить, прибивать или тащить, чтобы перевести дыхание, или же его просто покидали силы, тут же появлялся один из ненавистных надсмотрщиков и обрушивался со своей палкой на несчастного. При этом старались не бить по рукам, так как они были нужны для дальнейшей работы, зато на спину, плечи, ягодицы, бедра и нередко на голову удары сыпались градом.
Бывало, от побоев заключенный терял сознание, и тогда надсмотрщик, как правило, расплачивался собственной спиной, потому что также являлся заключенным, которому по какой-либо причине была оказана милость. Может быть, семьи надсмотрщиков регулярно подкупали надзирателей более высокого ранга, а может, они по складу характера особенно годились для этой работы. Освобожденные от тяжелого труда надсмотрщики низкого ранга, конечно же, имели гораздо больше возможностей отбыть срок наказания и выйти на свободу, даже если им самим нередко доставались побои.
Меру работал в каменоломне уже пять месяцев. Он весь теперь состоял из сухожилий, кожи и костей, дочерна загорел и выглядел словно мумия, семьдесят дней пролежавшая в особом растворе. В его облике не осталось ничего человеческого, потому что ушей и носа у него не было, а кожа покрылась толстым слоем черной каменной пыли.
После трех месяцев он предпринял первую попытку побега, но уже спустя несколько часов был пойман при помощи натренированных собак. Три дня подряд он получал по сто ударов бамбуковой палкой, и на это время был лишен еды и воды. После всех истязаний он превратился в кровавый, стонущий, умоляющий о глотке воды комок плоти, который клялся всеми богами, что никогда больше не покинет каменоломни.
Но уже месяц спустя он вновь сбежал, подбив на побег еще двух заключенных. Так как на этот раз они повернули на восток, в сторону моря, на что никто не рассчитывал, их поймали только на третий день, умирающих от жажды и едва способных сделать пару шагов.
Когда Меру привели к надсмотрщику, в глазах последнего появилось что-то похожее на удивление.
— Ты крепкий парень, Меру, но ты должен понять, что побег здесь равен самоубийству. Поскольку побои тебя особо не впечатляют и в твоем случае мы можем рассчитывать на третью попытку побега, но, с другой стороны, нам необходимо использовать тебя как рабочую силу, мы придумали для тебя нечто особенное.
Надсмотрщик кивнул двум помощникам — они надели на Меру цепи. А потом подошел лекарь. В обязанности этого противного пьянчуги с вечно дрожавшими руками входило прижигать раны после несчастных случаев и накладывать шины на сломанные конечности. В руках он держал острый нож, лезвием которого подрезал пяточное сухожилие на левой ноге Меру.
Надсмотрщик ухмыльнулся:
— Не очень больно, а? Твое наказание не эта боль, а ее последствия. Через три дня ты будешь здоров, мой драгоценный, сможешь ходить и стоять, но тебе больше никогда не удастся ни прыгать, ни бегать. Свой следующий побег ты сможешь совершить разве что на четвереньках, но я тебе не советую.
Отчаяние Меру было настолько велико, что, едва выздоровев, он попытался разбить себе голову о скалы, однако это ему не удалось, потому что один из надзирателей успел его удержать. С тех пор Меру почувствовал странное изменение отношения к себе. Этот надзиратель бил его, однако без особой силы и не больно. Если же Меру прерывал работу, надсмотрщик смотрел в другую сторону, позволял строптивому каторжнику отдохнуть, а потом громко кричал:
— Ты, ленивая свинья! Вонючая еда крокодила, я заставлю тебя поторопиться!
Меру ничем не мог объяснить такое необычное поведение, но оно вселило в него надежду. Не одумалась ли его семья и не заплатила ли она этому надсмотрщику?
Во время короткого обеденного перерыва в тени нависшей скалы Меру осмелел и осторожно спросил:
— Не введены ли новые правила для каторжников, господин? Я чувствую, что со мной обращаются лучше, чем прежде. Может быть, моя семья…
Лицо надсмотрщика ничего не выражало, он даже головой не повел, когда сказал:
— Для семьи ты мертв, не питай несбыточных надежд. Речь идет о другом, и скоро ты узнаешь о чем.
Долго ждать Меру не пришлось. Уже на следующий день надсмотрщик шепнул ему:
— Слушай меня внимательно, ты останавливаешься, я пару раз ударяю тебя, причем один из моих ударов приходится на твою правую руку. Она распухнет, и я отведу тебя к главному надзирателю и доложу, что есть подозрение на перелом. Мы пойдем в больничную палатку, где лекарь будет глубоко спать, и у нас появится время для разговора.
Долгое преступное прошлое сделало Меру осторожным и недоверчивым, однако, подумав, он пришел к выводу, что ничего не потеряет, а выиграть может все. Он сделал все, как велел надсмотрщик, и почувствовал, как в нем возрождается какая-то смутная надежда.
В больничной палатке пахло гноем и гнилью, здесь царила абсолютная тишина.
— Они все крепко спят, я им в этом немного помог. А сейчас ложись.
Меру упал на вонючий пучок соломы, и надсмотрщик тотчас принялся говорить:
— Обе твои попытки бежать, твое несгибаемое мужество и решительность бросаются в глаза. Кое-кто думает, что в другом месте ты будешь нужнее, чем здесь. Ты когда-нибудь слышал о короле пустыни Себеке?
Меру ухмыльнулся. На его изуродованном лице это выглядело ужасно.
— Слышал, да, но всегда сомневался, что он есть на самом деле.
— Он есть, парень, он есть, он постоянно ищет хороших людей, однако терпит вокруг себя только тех, кто окончательно, бесповоротно, на всю оставшуюся жизнь порвал с возможностью вести «приличную» жизнь. За тобой долго наблюдали и составили мнение, что ты подходишь к этой категории. Ты преступник, потому что тебе по душе им быть. Для своей семьи ты давно мертв, а спустя некоторое время в каменоломне ты и вправду протянешь ноги. Сам знаешь, здесь до старости не доживают, и тела умерших выбрасывают в пустыню, где их пожирают шакалы. Твое ка будет бесконечно бродить, не зная покоя, не имея пристанища. А значит, за ужасной жизнью на этом свете последует не менее ужасное посмертие. Но сейчас у тебя появилась возможность изменить свою судьбу. Я только связной и не принадлежу к «семье» Себека. Мое дело — сказать тебе: если ты согласен, то в ближайшие дни, ты предпримешь третью попытку побега, и я клянусь тебе Пта и Озирисом, что эта попытка будет удачной.
— Я в этом не так убежден.
— Подожди — увидишь. Ты должен делать точно то, что я тебе скажу. Сейчас я наложу шины на твою руку, чтобы ты особо не попадался на глаза лекарю. За день до побега я дам тебе знать. Они прибудут ночью с лошадьми и повозкой, тогда ты будешь в безопасности. Что будет потом, меня не касается.
— Хорошо, — решился Меру. — Я твой. Даже если я получу два дня свободы, мне и это дорого.
— Не два дня, а целую жизнь. Клянусь тебе моим бессмертным ка, что ни один человек, которого освободил Себек, не вернулся обратно в каменоломни.
«А я клянусь всеми богами, что этот Рамзес заплатит за свой приговор где-нибудь и когда-нибудь», — с ненавистью подумал Меру.
Рамзес заранее знал, когда ладья прибудет в Мемфис, и приготовил для Нефертари триумфальный прием. Рослые воины из дворцовой стражи, сопровождали Нефертари и ее родителей к Дому Почета — царскому дворцу. Жрец Пта и жрец Озириса (в знак почтения к Абидосу), правитель города и ряд высоких чиновников составляли торжественную процессию. Рамзес выехал им навстречу. Поровнявшись с носилками гостей, он спрыгнул с колесницы, приветствовал Сенеба, Хатнуфер и Нефертари и возглавил шествие до того момента, когда дворцовые ворота закрылись за ними.
Царский дворец представлял собой город в городе и занимал целый квартал Мемфиса. Белую стену воздвиг фараон Менес, он первым объединил Обе страны. С того времени стена была удлинена во много раз и тянулась вокруг дворцового квартала с его домами, садами, конюшнями и складами для припасов. Там жили более тысячи человек. Всех их, от главного советника до прачки, называли тайными радетелями Дома Почета, и рангом они были намного выше остальных граждан города.
— Ты устала? — озабоченно спросил Рамзес, проводив Нефертари в Дом для гостей.
— Нет, — ответила она. — Путешествие на корабле неутомительно, просто сидишь или лежишь на палубе, смотришь на пробегающие мимо поля… — Она осеклась. Рамзес все видел, все знает, ее рассказ должен показаться ему скучным.
Однако принц восхищенно смотрел на ямочки на ее щеках и больше всего на свете желал остаться с ней наедине.
— Освежитесь и отдохните. Мы увидимся за ужином. На нем будут присутствовать Их Величества, мои почитаемые родители.
— Я тебе кое-что привезла, — прошептала Нефертари и вложила в руку Рамзеса маленький сверточек. — Открой, когда будешь один…
У наследного принца и соправителя был свой собственный небольшой дворец с придворным штатом, гаремом и многочисленными слугами. Там, в своих покоях у окна, он и осмотрел пакетик величиной с голубиное яйцо. В папирус было завернуто что-то твердое. Принц осторожно развязал нитку, развернул папирус и нашел в нем искусно сделанный амулет из ляписа в виде сердца, точнее, половины сердца. На папирусе неверной, почти детской рукой его возлюбленной было написано:
«Здесь другая половина твоего сердца из рук Нефертари».
Рамзес прижал прохладный камешек к губам и аккуратно положил на стол, затем оторвал от своего передника кусочек материи, завернул в него половину сердца и перевязал его ниткой, хлопком в ладоши вызвал слугу и вложил пакетик ему в руку.
— Беги к золотых дел мастеру и вели ему аккуратно оправить это в электрон
[102], чтобы можно было носить на шее. Должно быть готово сегодня к вечеру.
Рамзес отправился в свою спальню и прилег на большое позолоченное ложе, четыре ножки которого были сделаны в виде львиных лап.
— Нефертари, Нефертари… — прошептал он и почувствовал, как сильно любит и желает эту девушку. Уже завтра писцы должны будут составить брачный контракт, и он поклялся себе: — Нефертари будет и останется моей первой и единственной супругой.
Ужин в маленькой трапезной был приготовлен только для членов царской семьи. Во главе стола на высоких, похожих на трон стульях восседали царь Сети и его супруга Туя. На другом конце усадили новых членов семьи — Сенеб и Хатнуфер. В середине стола друг напротив друга расположились Рамзес и Нефертари, в последний раз разделенные столом, потому что в будущем им предстоит сидеть рядом. Между ними сидели сестры наследного принца, а также близкие родственники царя и царицы.
Фараон внимательно посмотрел на Нефертари. Девушка покраснела, затем внезапно побледнела и опустила голову.
Сети ласково улыбнулся ей:
— Кто так красив, как ты, Нефертари, не должен опускать голову. У тебя имеются все причины высоко держать ее: ты теперь вторая по положению женщина в стране Кеми, и, когда я и Туя переселимся в наши Вечные жилища в Закатной стране, ты, моя Прекраснейшая, станешь Великой Царской Супругой. Нет причины вешать голову. Тебя, уважаемый Сенеб, и тебя, почтенная Хатнуфер, я всегда буду рад видеть внутри Белой стены. Отныне вы члены царской семьи. А в вашей дочери будет произрастать божественное семя на благо страны Кеми и ее обитателей.
Сенеб высказал благодарность кратко и в хорошо продуманных выражениях. Он был очень доволен развитием событий, теперь он был уверен, что его дочь не сгинет в каком-нибудь углу гарема, а станет царской супругой.
Хатнуфер смотрела на Тую, которая с большим достоинством восседала рядом с царем и немного рассеянно улыбалась. Царица вспоминала свою собственную свадьбу. Она также происходила из семьи нецарской крови. Отец ее был воином. Сети мог бы выбирать между принцессами, потому что у него были несколько сводных сестер, или же поискать себе жену в одном из княжеских семейств страны, однако он предпочел всем ее, маленькую дочь одного из воинов своего отца. Ее родители тогда тоже были очень хорошо приняты и, немного оробев, сидели за столом отца Сети, первого Рамзеса. После того как Сети взошел на трон, она стала Великой Царской Супругой, и никогда больше не было другой, которую бы он предпочел ей. Она растроганно посмотрела на маленькую Нефертари и сказала:
— Однажды я тоже сидела за этим столом, юная и неопытная, как ты. Ничего не бойся, а если мой сын будет плохо с тобой обращаться, спокойно иди ко мне, и я научу его, как он должен относиться к супруге. У своих многочисленных наложниц он едва ли чему-то умному научился.
Все за столом засмеялись, кроме Рамзеса и Нефертари. Они едва слышали слова царицы, потому что были заняты только друг другом. Соколиный взор молодого Гора проник через широко открытые темные глаза Нефертари ей глубоко в сердце, и она, почувствовав приятную слабость в ногах, была рада тому, что ей не нужно стоять. Рамзес же охотнее всего схватил бы свою невесту, отнес бы в свой дом, положил бы на роскошное ложе и потом… Однако приходилось соблюдать приличия. Улыбаясь, он указал на половину сердца, которая висела у него на шее на тонкой золотой цепочке. Нефертари ответила на его улыбку и тронула золотой Анк у себя на груди. И снова на ее круглых, очаровательных щечках появились милые ямочки.
Тем временем заиграла музыка, на столах появились кушанья и напитки. На тарелках из золота, серебра и электрона возвышались горы мяса, молочные поросята, гуси и голуби на вертелах, различная рыба, а также огурцы, дыни, виноград, финики, инжир и гранаты. Были поданы девять различных сортов хлеба в изящных плетеных и позолоченных корзинах. В сияющих алебастровых кувшинах стояли пиво, вино, медовые напитки, молоко и фруктовые соки. Аромат изысканных кореньев и трав витал в трапезной и смешивался с запахом жареного мяса и нежным ароматом благородных старых вин.
Фараон Сети был серьезным, осознающим свой долг человеком и не любил шумные расточительные празднества. К его двору лишь изредка приглашали фокусников, танцоров и жонглеров и уд, конечно, не по его желанию. Великая Царская Супруга Туя была настроена так же, как и он. Она предпочитала разводить в своих имениях сельскохозяйственные культуры или выводить новые породы крупного рогатого скота. Надои молока от ее коров намного превосходили обычные.
Рамзес не разделял вкусы родителей. Он охотно праздновал, любил музыку, танцы, акробатов и, как восторженный ребенок, аплодировал удивительным трюкам фокусников. Поскольку это был прежде всего его праздник, он пригласил в маленький зал для аудиенции пеструю толпу жонглеров, однако Благой Бог и его супруга удалились раньше, чем началось представление. Сенеб, который также не был склонен к подобным развлечениям, посчитал нужным последовать за царской четой и сообщил об этом шепотом сопротивлявшейся Хатнуфер.
Так как поведение царя было законом и образцом для остальных, молодежь в конце концов осталась одна. Рамзес велел созвать молодых людей со всего дворца: наложниц из гарема, которые родили ему детей, сыновей высоких чиновников, с которыми он вместе учился, иностранных принцев, которые в качестве царских заложников воспитывались во дворце и уже после нескольких лет пребывания в Мемфисе становились большими египтянами, чем местные жители, а также молодых принцев и принцесс, с которыми он состоял в родственных отношениях. Улыбаясь, Рамзес сел на трон в маленьком зале для аудиенций, усадил Нефертари рядом с собой и крикнул громовым голосом:
— На колени, народ Кеми, жалкие рабы Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амона, сына Солнца и господина Обеих стран.
Смеясь и визжа, молодые люди упали на колени, умоляюще протянули руки и заголосили:
— О Гор, любимец Маат, великий властью, Могучий Бык, тот кто оживляет сердца, Благой Бог, да будь жив, здрав и могуч!
— Достаточно! — крикнул Рамзес. — Поднимайтесь, занимайте места за столом, ешьте, пейте и наслаждайтесь радостями, которые вам приготовил фараон!
Повернувшись к Нефертари, он шепнул ей:
— Они считают это шуткой, но придет день, и они должны будут слушаться меня, как рабы, все — от принцев до стражников. Все! С одного слова!
Его лицо вспыхнуло, а соколиные глаза блистали, как кинжалы.
— А я? — спросила Нефертари. — Я тоже должна буду слушаться тебя с одного слова?
Взгляд Рамзеса смягчился. Он глядел на свою будущую супругу с поклонением, заботой и любовью.
— Нет, — ответил он. — Ты единственное исключение. Это я буду слушаться тебя с одного слова.
Нефертари тихо рассмеялась. Она уже выпила два бокала вина и достаточно осмелела. Потом в зал хлынули музыканты, танцоры, акробаты и жонглеры с барабанами, флейтами, систрами и арфами. Они прыгали, крутили сальто и, наконец, встали перед Рамзесом и Нефертари, упали на колени и воскликнули:
— Будьте живы, здравы и могучи, Ваши Величества!
Представление начали юные почти обнаженные танцовщицы, которые в такт барабанам и систрам строили пирамиды, изгибаясь, как молодые кошки, и при этом радостно смеялись. За ними последовали акробаты, танцовщики на канате и глотатели огня, которые в этом святом месте старались изо всех сил и иногда своим искусством достигали того, что в зале становилось так тихо, как в Доме Вечности.
В конце появились два фокусника из Митанни в длинных чужестранных одеждах и странных головных уборах.
Рамзес, который между тем выпил целый кувшин вина — он опустошал бокал двумя глотками, — сказал, едва ворочая языком:
— Они мне нравятся больше всего. Должно быть, великолепно уметь колдовать и изменять все по своему вкусу и против природы. Я передал бы весь мир…
У фокусников в руках были палки в локоть длиной, когда они вошли в зал. Оба тут же бросили эти палки на пол и оттуда тотчас выползли змеи, которые угрожающе поднимали головы и опасно шипели. Несколько движений рук — и маги снова превратили их в палки, которые передали своим помощникам. Внесли запечатанный кувшин. Один из магов хлопнул по нему — судя по звуку, он был пустым. Печать взломали, кувшин открыли и перевернули его, дав публике убедиться, что емкость пустая. Затем другой маг поднес бокал к горлышку сосуда и спросил зрителей, чего они желают.
— Вина! — закричали некоторые.
— Молока! Пива! Воды! — неслось со всех сторон.
Бородатый маг улыбнулся и сказал:
— Все по порядку. Каждое желание будет выполнено.
Он наливал один бокал за другим, и помощник передавал их дальше зрителям. Те растерянно подтверждали, что получили вино, пиво, молоко и воду — кто что желал.
Рамзес восторженно хлопал в ладоши.
— Это великолепно, неподражаемо!
Когда фокусники поклонились, наследный принц бросил им несколько дебов чистого золота. Рамзес уже начал второй кувшин вина, его глаза пьяно блестели, когда он, шатаясь, поднялся.
— Друзья, братья, мужчины! — крикнул он громко. — Покажем женщинам, что и мы ловкие ребята! Мы не можем превращать палки в змей, нас научили другому. Мы будем сейчас стрелять из лука наперегонки.
Некоторые громко зааплодировали. Дворцовая стража принесла луки и наполнила колчаны. Громко обсуждалось, что будет мишенью.
— Женский волос! Муха! Семечко от тыквы! — предлагали, смеясь, подвыпившие молодые люди. Но Рамзес решил:
— Принесите гранат.
Когда слуга вернулся с гранатом, Рамзес велел ему встать к стене и держать плод на ладони вытянутой руки подальше от своего себя.
— Сейчас мы будем стрелять наперегонки. Кто будет стрелять со мной? Мена? Парахотеп? Мехези?
Молодые мужчины, сочтя волю будущего царя приказом, взяли лук и стрелы и выступили вперед. Хентмира, младшая сестра Рамзеса, подошла к Нефертари. Двенадцатилетняя принцесса дерзко заявила:
— Каждый, конечно, знает, что Рамзес хороший стрелок, но знает и то, что нет в Мемфисе стрелка лучше Мены! — И она задорно рассмеялась. — Отсюда можно заключить, что выиграет Мена. Однако ты сейчас удивишься…
Мехези и Парахотеп чуть было не попали в гранат, стрела Мены коснулась его, так что плод упал с ладони слуги. Рамзес пьяно засмеялся.
— Неплохо, Мена, неплохо, но недостаточно хорошо. Я покажу тебе, что означает меткий стрелок.
Когда Рамзес взял лук, с него спал весь хмель. Он заботливо проверил стрелу, положил ее на лук и изо всех сил натянул тетиву. Стрела попала прямо в середину граната, раздробив его и обрызгав слугу соком. Ликующие аплодисменты загремели в зале.
— Да будет здрав лучший среди стрелков! Здравия Богоподобному, молодому Гору! Живи вечно!
— Мы еще не женаты, но я заслужил поцелуй в качестве награды. — Он склонился к изящной Нефертари, приподнял ее лицо и поцеловал в обе щеки.
— Завтра, — произнес он, смеясь, — завтра поцелуев будет больше.
Весть о прибытии Нефертари уже давно распространилась по всему Мемфису. Город знал, что завтра будет подписан брачный договор, и молодую пару затем отнесут к храму Пта, где жену молодого Гора покажут народу. Тем временем на юг был отправлен самый быстроходный парусный корабль с царским приказом и распоряжениями. Он вез также послание фараона Сети жрецу храма Амона в Фивах, в котором по всей форме сообщалось о заключении брака наследника престола и соправителя Рамзеса.
С восходом солнца фанфары самых высоких башен Белой Стены возвестили, что сегодня особый праздник. Работа была отложена, и вскоре толпы народа устремились к пути, по которому продвигалась процессия, направлявшаяся в храм Пта.
Свадебная церемония в царском дворце прошла очень официально. Писцы за ночь подготовили договор, главный советник поставил царскую печать, под которой Рамзес поставил также свою собственную. Что касается Нефертари, считалось, что теперь она становится Царской Супругой наследного принца и получает преимущественное право наследовать трон. Особо было упомянуто, что, после того как фараон Сети или его жена отправятся в Вечное Жилище, она будет носить титул Великой Царской Супруги. Дальнейшее касалось ее собственного придворного штата, а также ее прав и обязанностей. Нефертари слышала, что читает торжественным голосом главный писец, однако не воспринимала услышанное. В конце документ был представлен на подпись фараону Сети, его супруге, родителям невесты и, наконец, молодой
чете.
Нефертари не особенно хорошо владела искусством письма, однако ее чуть не оглушило, когда она увидела в первый раз свое имя, обведенное царским картушем. Только цари и царицы имели право на это «Царское кольцо», олицетворявшее мир, которым правит фараон и одновременно солнечный круг. Оно придавало царскому имени магическую защиту.
Отныне и навсегда Нефертари становилась священной персоной, отвлеченной от всего земного и более приближенной к богам, чем к людям. Не то чтобы она это ощутила, но так объявили жрецы народу и так было уже в течение многих столетий.
Во втором часу дня Рамзес и Нефертари подошли к Окну Явления, которое было богато украшено ляписом, малахитом, розовым гранитом и золотом, и показались собравшимся внизу придворным и прислуге дворца.
Управляющий дворца вышел вперед и произносил хвалы Рамзесу — молодому соколу Гора, господину Обеих Стран и Могучему Быку. Нефертари он называл самой очаровательной из тех, кто носил на голове хохолок коршуна. Всех, кто слышит ее голос, он наполняет радостью, говорил управляющий. Она приятна духовно и сладка в любви, она наполняет дворец своим благоуханием.
Рамзес несколько раз кивнул, когда произносили эти слова, он считал, что они в полной мере подходят его супруге.
Некоторое время спустя они взошли на двойной трон, который подхватили на свои плечи двенадцать высоких, крепких нубийцев. Процессию возглавили высокопоставленные сановники во главе с главным советником Нибамуном. Позади них шагали самые близкие родственники, в том числе родители Нефертари, однако не было фараона Сети и его супруги, потому что глаза народа должны были быть направлены на новобрачных, а не на них. К тому же после вчерашнего праздничного обеда фараон снова страдал от старого кишечного заболевания. Его живот раздулся, как барабан, и во рту у него появился неприятный привкус. Поэтому он стоял только у Окна Явления и смотрел вслед удаляющейся процессии.
Рамзес был облачен в особо праздничный наряд, который состоял из льняной юбки, доходившей до щиколоток и тяжелого роскошного оплечья. Золотые ожерелья и браслеты дополняли облачения. Однако на принце не было венца, вместо него был надет царский парик с золотыми лентами, на котором угрожающе поднимала голову сверкающая кобра. К подбородку была привязана церемониальная борода, и Рамзес казался чужим и преисполненным величия даже Нефертари, которая упрямо прошептала:
— Тем не менее он мой муж.
В скрещенных на груди руках Рамзес держал скипетр и плеть — знаки царской власти. Его соколиный взгляд был неподвижно устремлен вдаль.
На молодой царице также был надет расшитый золотом парик с волосами до плеч, от ног до шеи она была одета в праздничный наряд, собранный в складки и перехваченный красным поясом, широкие концы которого спускались почти до земли.
Церемониймейстер почтительно, но настойчиво внушил ей, что она не должна поворачивать голову ни налево, ни направо. Она обязана смотреть прямо перед собой, когда сидит на троне. Таким образом народ может прочувствовать величие богов, когда смотрит на живые изваяния своих царей.
Под звуки барабанов и фанфар процессия медленно продвигалась на запад к храму Пта. Народ падал в пыль и выкрикивал пожелания счастья:
— Да будете вы праздновать тысячи праздников Зед!
— Да подарит вам Амон сотню сыновей!
— Нефертари! Нефертари! От твоей красоты блекнут цветы лотоса!
— Будь Могучем Быком своей супруги, о молодой сокол Гора!
Так продолжалось до тех пор, пока они не достигли пилонов громадного храма. Молодая чета покинула носилки и вошла во внутренний двор храма. Гуй, старый, почтенный главный жрец Пта встретил новобрачных глубоким поклоном. Позади него стояли все жрецы бога-создателя Пта — блестевшие чистотой, гладко обритые, в белоснежных одеждах из льна, поверх которых был накинут мех пантер. Они поклонились и отошли в сторону. Перед святая святых стояла ладья бога, а в ней почти в рост человека золотой Пта.
Рамзес склонил голову и с молитвой простер руки. Жрецы запели хорал:
— Приветствуем тебя, о Пта! Ты создатель неба и земли. Ты создал богов, людей, животных и растения. Ты источник всего живого. Ты всемогущ и всезнающ. Ты господин правды, ты зачинатель ремесел и искусств. Ты милостивый судья мертвых, ты великий чудотворец.
Пта был изображен в виде мумии, в тесно прилегающем капюшоне и с длинной изогнутой бородой богов. Его руки покоились на колонне Дьед — символе вечности и плодородия.
Нефертари ощутила священный трепет перед изображением бога, который имел большое сходство с Озирисом ее родного города.
Главный жрец Гуй вышел вперед и сказал:
— О Богоподобные! Бог Пта ныне радует визитом свою супругу Сехмет, ибо и вы сегодня также разделите брачное ложе, и тем самым будет освящен и благословлен ваш супружеский союз.
Жрецы высоко подняли ладью с фигурой Пта и медленно пошли к святилищу Сехмет, находившемуся позади святая святых. Рамзес обнял замедлившую шаг Нефертари и твердой поступью вместе с Гуем вступил в святилище. Помещение без окон было освещено только двумя маленькими факелами, поэтому Нефертари вначале смогла рассмотреть только золотого Пта, которого жрецы сняли с трона, установленного в ладье и поставили перед Сехмет. Жрецы запели хорал:
— О Сехмет, ты могущественная, возлюбленная Пта, дочь Ра, защитница порядка, госпожа войны! Твое дыхание, как огонь, твои стрелы пронзают сердца, ты глаз Ра, ты могущественная колдунья, ты богиня врачевания. Посмотри, твой супруг посещает тебя, взгляни милостиво на твоих слуг.
Глаза Нефертари привыкли к темноте, и она смотрела на внушающее ужас изображение Сехмет. Сидящая богиня была высечена из черного камня с мрачной львиной головой. Воинственно блестели ее глаза из оникса. На голове сверкала корона с золотым уреем. В правой руке богиня сжимала знак Анк.
После жертвоприношений все медленно вернулись во дворец. Снова был праздничный обед, на этот раз в присутствии высоких сановников. Произносились хвалебные речи и пожелания счастья… Но вот наконец молодая пара осталась одна.
— У тебя будет собственный дворец, придворные, слуги, но я хотел бы, чтобы ночи ты проводила со мной. Если днем будешь выполнять свои обязанности, то ночью ты должна принадлежать мне и только мне.
— Я принадлежу тебе день и ночь, — прошептала Нефертари, покоряясь взгляду его соколиных глаз, который проник в глубину ее сердца и вновь наполнил ее сладкой истомой.
Рамзес аккуратно развязал широкий золотой воротник Нефертари, снял с ее головы парик и освободил заколотые волосы цвета черного дерева. Они блестящим покрывалом упали на плечи и спину новобрачной. Он ловко развязал ее красный пояс и помог снять льняное платье, которое сопротивлялось ему, пока наконец не упало разорванным на пол.
Рамзес отступил на несколько шагов и посмотрел на немного оробевшую Нефертари. Его восхитило то, что он увидел. Ее миловидное лицо с раскосыми темными глазами, круглые, еще детские щечки, маленькая упругая грудь с розовыми, прекрасно сформированными сосками, уже широкие женственные бедра, как будто высеченные скульптором ноги, маленькие нежные ступни и кожа, подобная миндальному молоку, — все в ней было совершенным.
Рамзес торопливо сорвал с себя передник и украшения и сказал, смеясь:
— Теперь твоя очередь, моя любимая, рассматривать меня. Все, что ты видишь, принадлежит тебе от головы до ног.
Рамзес обнял и поцеловал милую Нефертари, положил ее на роскошную кровать, нежно скользнул губами по ее плечам, груди, животу и бедрам, осторожно погладил ее девственный живот, почувствовал, как учащается ее дыхание. Ее темные глаза проникали ему в сердце, а руки ласкали его загорелое мускулистое тело. Она покрыла его грудь поцелуями и притронулась к своему подарку — половинке сердца из ляписа. Его ласки стали более настойчивыми, пальцы нашли место на ее животе и заставили Нефертари застонать от наслаждения, и она почувствовала, как ее тело открывается навстречу любимому. Она все еще хотела сопротивляться, но он обвил ее, как железом, и она потянулась ему навстречу, испуганная внезапной болью. Потом бог наполнил ее, был в ней, ритмично двигался, сначала медленно, и она услышала свой задыхающийся шепот:
— Быстрее! Быстрее!
Однако он только рассмеялся и ответил:
— Боги не знают спешки, их время — вечность…
Нефертари едва слышала, что сказал ее муж, обняла его обеими руками, ощутила толчки его желания, которые становились все сильнее и сильнее. Они превратились в волну, в прибой, который с шумом ударился об нее.
— Это было прекрасно, — тихо произнесла Нефертари. — Мне очень понравилось то, что ты делаешь со мной. А что чувствуешь ты?
— Я думаю, мне это тоже очень понравилось, — улыбнулся Рамзес. — Боги распорядились очень умно, потому что все охотно занимаются этим, как мужчины, так и женщины, как днем, так и ночью, и в любое время года, и поэтому люди никогда не исчезнут с лица земли. Может быть, сегодня мы создали новую жизнь.
— Чтобы удостовериться, давай попробуем еще раз, — предложила Нефертари. — Как ты считаешь?
Рамзес, который несколько дней предусмотрительно избегал гарема, заверил ее:
— Сегодня мы обязательно попробуем еще раз.
Несколько дней спустя новость о бракосочетании наследного принца достигла Фив. Главного жреца храма Амона в настоящее время не было, и второй жрец созвал срочный совет. На нем присутствовали третий и четвертый жрецы, казначей храма, правитель Фив и еще несколько важных сановников.
Тотмес, второй жрец Амона, сразу же начал о главном:
— Вы помните, что Благой Бог Сети, да будет он здрав, силен и могуч, сказал во время своего последнего визита в Фивы? Вы почти все присутствовали при этом. Он заверил нас, что наследный принц при выборе главной жены прежде всего будет иметь в виду девушку из Фив.
Некоторые присутствующие кивнули в знак согласия, и Тотмес продолжил:
— А теперь эта новость — девушка из Абидоса, чей отец имеет тесные связи с храмом Озириса! Конечно, ведь Благой Бог строит там большой храм, в то время как Амон в Мемфисе лишен своих владений. Да и что в наше время значит Амон-Ра в Кеми? Его унижают, подавляют, ему предпочитают других! Друзья мои, если мы не хотим закончить жизнь как рабы или нищие, мы должны что-то предпринять, и как можно скорее.
— Предпринять? — удивленно переспросил правитель города. — Не хочешь ли ты противостоять фараону? В конце концов он единственный главный жрец, а вы его слуги.
— Ты также его слуга. Царь хоть сегодня может тебя отослать в каменоломню и сделать правителем города любого подхалима. Не забывай это.
— Так не пойдет, друзья мои, — успокаивающе начал четвертый жрец Амона, тучный пожилой человек, не лишенный болезненного честолюбия, однако слывший умным и рассудительным. Все смолкли, и он продолжил: — Брак заключен, и здесь ничего не изменишь. При первой же возможности мы напомним фараону о его обещании, поэтому вторая жена наследного принца будет из Фив и женщиной нашего круга. Нам стоит основательно обдумать, кто подойдет на эту роль. Девушка должна не только быть красивой, умной и молодой, но и твердо держаться за Амона.
Тотмес горько рассмеялся:
— Это будет нелегко, мой дорогой. К тому же есть вероятность, что наша избранница сгинет в темном углу гарема, если вдруг по какой-либо причине не понравится Рамзесу. В этом случае нам придется начинать все сначала.
— А я тоже полагаю, что нам следует попытаться, и у меня есть предложение. — Правитель города назвал имя своей незамужней дочери. — Ей только десять лет, но она умна, красива…
Тотмес покачал головой:
— Ребенок не может нам помочь. Девушка должна быть взрослой. Она должна уметь постоять за себя и быть полностью преданной Амону.
Было названо еще несколько имен, но каждый раз имелись возражения, опасения и препятствия. Вдруг третьему жрецу пришло кое-что в голову.
— Послушайте, друзья мои, дочь моего брата (он и его жена уже отправились в Закатную страну), не замужем. Ей исполнилось восемнадцать лет. Она певица Амона, и хотела бы ею оставаться. Это умная, гордая девушка, глубоко преданная нашему великому богу. Она красива, но, как бы сказать, ее не прельщают брак и мужчины. Нужно поговорить с ней и дать ей понять о важности нашего дела. Я мог бы попытаться. Ее нужно убедить, что она делает это для Амона-Ра, что она, так сказать, жертва…
Правитель города удивленно поднял брови:
— Жертва? Что же жертвенного в том, чтобы стать женой царя? Тысячи девушек в стране позволили бы отрубить себе Руку за подобную жертву…
Третий жрец покачал головой:
— Ты неправильно понял. Для Бент-Амон (так зовут девушку) это будет жертва. Она получила от родителей богатое наследство, но с радостью служит храму, довольна своей жизнью и не хочет ничего другого. Жизнь в гареме, пусть даже в царском, была бы для нее наказанием. К тому же в Мемфисе невысоко чтят Амона-Ра.
Тотмес стукнул по столу.
— Об этом-то и речь! Амон в Мемфисе лишен власти, и те, кто почитает его там, называют его Амоном Мемфисским, как будто это другой бог, как будто есть два Амона. Родина Амона — Фивы, отсюда произошла его власть, задолго до того как царская резиденция была перенесена в Мемфис. Так и должно оставаться. Амон из Фив — царь всех богов в стране Кеми. Чтобы сохранить это положение дел и создать противовес все усиливающемуся из года в год влиянию Пта, будущий царь должен иметь жену, которая умно и осторожно напомнит ему о Фивах и Амоне. Я предлагаю осторожно познакомить с нашим планом эту Бент-Амон.
Побег каторжника Меру из каменоломни прошел без сучка без задоринки, как будто Сет, бог пустынь и оазисов, простер свою могущественную длань над заговорщиками.
Остановились только в Фивах. Один из содействовавших побегу сказал:
— Так, как ты сейчас выглядишь, без носа и ушей, обритый и с незажившими следами палочных ударов на спине, ты не можешь показаться среди людей. Городская стража тотчас арестует тебя, и ты закончишь свой путь на виселице. Мы сейчас несколько изменим твою внешность, и ты сам с трудом узнаешь себя.
В закрытых носилках Меру отнесли на запад, в Город Мертвых, где бальзамировщики выполняли свой ужасную, но необходимую работу. Среди них имелись специалисты, которые занимались тем, что придавали трупам, лежавшим до того семьдесят дней в растворе, вид живых. Они творили настоящие чудеса с помощью косметики, воска, льняных капель, крошечных деревянных палочек и других вспомогательных средств.
Здесь-то и оказался Меру, и один из местных мастеров осмотрел его со всех сторон. Наконец он решил:
— Волосы вырастут снова, шрамы от побоев исчезнут, а нос и уши я должен для тебя изготовить. Это в общем несложно.
Меру устроили жить в маленькой, скрытой от посторонних глаз комнатке, а мастер время от времени измерял его голову, смешивал краски и что-то лепил из воска. Однажды он сказал.
— Время пришло, я снова сделаю из тебя нормального человека.
Он показал Меру глиняную миску, в которой лежали два идеальных по форме уха и нос. Они были изготовлены из воска и старательно окрашены в цвет тела. Уши приклеивались к голове особым составом, как и нос, который в точности подходил Меру. Около часа мастер-бальзамировщик занимался сложным гримом, после чего нельзя было обнаружить ни малейшего следа того, что нос и уши были ненатуральными. Он принес отполированное металлическое зеркало и дал Меру поглядеться в него. В последний раз тот видел свое лицо, когда притащил в каменоломню два ведра с водой и одно из них послужило каторжнику зеркалом. С тех пор у него не было ни желания, ни возможности рассматривать свою безносую физиономию. А теперь с глади бронзового зеркала на Меру смотрел какой-то незнакомец.
— Не… не… ужели это я? — заикаясь, спросил опешивший Меру. — Это же, это же…
Бальзамировщик довольно ухмыльнулся:
— Да, мой дорогой, это новый человек! Если ты наденешь парик и хорошую одежду, то можешь в любой момент идти к людям, и никто не обратит на тебя особого внимания. Можешь даже купаться, если захочешь: воску и клею вода не страшна.
В первый раз с давних пор в ожесточенном и опустошенном уме Меру мелькнуло нечто похожее на радость, но следующей его мыслью было использовать свое новое обличье для мести, какой мир еще и не видал.
«Даже если ты вскоре станешь фараоном страны Кеми, великий Рамзес, я и тогда найду возможность встретить тебя или твоих близких. За это я с радостью отдам жизнь».
Меру отложил зеркало в сторону и сказал:
— Хорошая работа! Ты славный мастер бальзамировщик. Жаль, что мертвецы не могут оценить твоих стараний.
— Не старайся обидеть меня, ибо твои слова проносятся, как ветер, мимо моих ушей. К тому же слова твои правдивы, а то, что я хорошо работаю, я знаю сам. Уже несколько человек, подобных тебе, прошли через мои руки, и я скажу тебе одно: по совести говоря, эта работа похожа на работу с мертвыми, потому что вы все равно раньше или позже закончите свой путь на виселице или на эшафоте. У меня прекрасный дом, большая семья, а в Закатной стране меня ждет просторное жилище Вечности. У тебя этого никогда не будет. Твое ка уже ожидают демоны Подземного царства с раскрытыми пастями. Нерадостная мысль, правда? Новые уши и нос из воска и небольшая передышка. Что ж, пусть она у тебя будет. Через час тебя заберут отсюда.
Меру ничего не ответил на эти слова и напрасно ждал хорошо знакомой ему вспышки гнева, которая кое-кому стоила жизни, — в его груди ничто не шевельнулось, и пророчества мастера-бальзамировщика его не пугали. Жизнь Меру здесь, на земле, и он проживет ее, используя каждый миг ради собственного удовольствия.
— Эй, трупный мастер, здесь нет девушки? — гаркнул он. — У меня еще есть время. Я легко справлюсь с женщиной, как ты считаешь?
Но мастер Города Мертвых и глазом не повел.
— Женщин и девушек здесь нет, — спокойно ответил он. — Это место работы. Если тебе так уж загорелось, я могу, конечно, спросить у бальзамировщиков наверху, не поступили ли к ним какие-нибудь молоденькие. До того как их положат в раствор, трупы девушек еще бывают привлекательными. Есть даже ряд клиентов… В общем, если хочешь, я спрошу.
Меру, которому были знакомы любое насилие, любая подлость, любое преступление, прошиб холодный пот.
— Это без меня, я не оскверняю трупов.
— Как знаешь. Меня ждет работа, а ты пойдешь другим путем. Тем не менее, желаю удачи. Вероятно, Сет покровительствует тебе.
За Меру явился невзрачный скромно одетый человек.
— Называй меня просто Хем, потому что во время путешествия в Мемфис я буду твоим слугой. — Он вытащил из-за пояса свиток. — Ты путешествуешь как Узер-Амон, жрец и чтец, по делам наследства в Мемфис. Печать храма Амона, между прочим, подлинная. Есть определенные связи… Но тебя это не касается.
Меру кивнул. Что ему за дело до всего этого, если он скоро окажется в Мемфисе и встретит Себека лицом к лицу. Единственным ощутимым следом от пребывания на каторге у него было подрезанное сухожилие на левой ноге, которое вынуждало Меру хромать самым жалким образом. Какую пользу может извлечь повелитель пустыни из такого человека? «Слуга» как будто прочитал его мысли.
— Твою хромую ногу в Мемфисе также будут лечить. Есть лекарь, который может поправить дело. По крайней мере в большинстве случаев у него это получалось.
Меру пожал плечами:
— Было бы неплохо. Об этом я подумаю, когда мы доберемся до Мемфиса, но у меня есть некоторые сомнения.
Хем ухмыльнулся, как шакал:
— Ты и не подозреваешь, как далеко простирается власть повелителя пустыни. Ему все равно, что многие сомневаются в его существовании. Тот, кто встречает его лицом к лицу, больше не жилец. Кто хочет обратиться к нему, должен действовать через связных. Я тоже его никогда не видел.
Меру ничего не сказал на это, но вспомнил о том времени, когда был разбойником в Мемфисе. Тогда многие его товарищи мечтали встретиться с Себеком. Однако его никто не видел, а тот, кого принимали в банду повелителя пустыни, просто исчезал, и видели его в лучшем случае только во время публичной казни.
Когда Меру со своим спутником поднялся на борт ладьи, отправлявшейся на север, никто не обратил внимания на него, и бывший каторжник понял, что его маска великолепна и что он действительно начал новую жизнь.
Сенеб и Хатнуфер, родители ставшей царицей Нефертари, жили, как и прежде, в Доме для гостей в пределах Белой Стены. Их почтительно обслуживали, оказывали им почести и… забывали. Мечта Хатнуфер сидеть каждый вечер в покоях царицы Туи и болтать о детях разбилась вдребезги. Когда мать молодой жены наследника очень осторожно осведомилась о царице, оказалось, что Богоподобная уже некоторое время назад покинула Мемфис и находится в своем имении в Дельте. Что касается царя, он большей частью чувствовал себя больным, и его необходимо было щадить. Наследный принц занимался государственными делами и повсюду брал с собой свою молодую жену.
Сенеб, который предвидел, что они окажутся здесь лишними, затосковал об Абидосе и однажды сказал жене:
— Моя дорогая, я думаю, детям мы больше здесь не нужны. Нефертари сейчас царица, и у нее множество обязанностей. Нам лучше вернуться домой и там подождать ее визита. Рамзес ведь обещал, что будет лично наблюдать за тем, как продвигается строительство храма.
Хатнуфер, которая прежде думала, что ее примут как члена царской семьи, тем временем уже образумилась, однако женская гордость не позволяла ей это выказать. Втайне она уже мечтала о том, чтобы муж потребовал их возвращения домой. Поэтому она сказала с плохо скрываемой радостью:
— Ты знаешь, я всегда покоряюсь твоим желаниям, супруг мой, но нам все же надо попрощаться с нашей дочерью.
Едва только они объявили о своем намерении, как все двери для них открылись. Даже Благой Бог почувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы удостоить их прощальной аудиенции, которая прошла очень торжественно.
— Что я могу дать тебе в качестве подарка, дорогой друг? Хотел бы ты земли, золото, титул? Как отец царицы, ты имеешь право на более высокий ранг.
Сенеб был смущен таким предложением.
— У меня есть все, что мне нужно, о Богоподобный. Мы живем скромно. Самый большой подарок ты мне уже сделал, когда дал поручение выстроить новый храм Озириса.
Сети кивнул:
— Конечно, ты набожный человек, это известно, поэтому я назначаю тебя главным надзирателем за строительством храма в Абидосе. Отправляй мне время от времени сообщения, мой друг, и если ты не побоишься путешествия, то всегда будешь с радостью принят в Мемфисе.
Когда Хатнуфер прощалась с дочерью, Нефертари шепнула ей:
— Мама, думаю, я беременна.
Более прекрасного прощального подарка для своей матери она не могла приготовить.
5
Работа в храме Озириса в Абидосе шла не так быстро, как хотелось бы, и даже на второй год строительства стены едва достигали шести или семи локтей в высоту. Было достаточно народу, чтобы складывать каменные блоки или ставить колонны, но не хватало мастеров для художественных работ. Необходимо было высечь сотни сцен на известняке и отшлифовать их. Предварительные рисунки уже давно были готовы, но претворить их в жизнь можно было, лишь потратив много времени и силы.
Храмовый двор был разделен пилонами на две части. За ними следовали два больших зала с колоннами, которые заключали в себе капеллы семи божествам: Гору, Озирису, Изиде, Амону, Пта, Ра-Харахте и Божественному царю Сети.
Затем следовали большой и малый залы Озириса, многочисленные служебные помещения, галереи и на юго-востоке громадный комплекс с кладовыми и складами. В юго-западной части начались земляные работы для уходившего глубоко под землю еще одного храма Озириса, под которым должна была располагаться ложная гробница фараона Сети.
Целая толпа мрачных надсмотрщиков руганью и палочными ударами побуждали рабов трудиться изо всех сил, но над художниками они не имели власти, потому что один избитый или обруганный скульптор тут же мог поднять бунт.
Ирамун и Пиай работали со своими помощниками в капелле Изиды. Быстро, ловко, экономными движениями Пиай высекал и шлифовал фигуру фараона, который приносил в жертву сидящей на троне Изиде блюдо с хлебом и фруктами. Ирамун полировал рыбьей кожей уже законченное лицо богини, а два помощника переносили ряд иероглифов с папируса на камень.
Ирамун считался старшим среди скульпторов, но недавно был назначен еще главный надзиратель, который не имел ни малейшего представления об их работе, но мотался, как злой дух, по строительной площадке, чтобы смотреть за людьми и понукать их.
Ирамун отложил рыбью кожу в сторону и отступил назад, чтобы посмотреть на матовое величественное лицо богини издалека. Тут к нему сзади тихонько подошел худой, с ястребиным лицом главный надсмотрщик и закричал:
— Не слишком ли долго ты любуешься на свое творение, ленивая тварь? Я тебе не помешал спать? — и, подняв палку, которую он постоянно носил с собой, ударил ею Ирамуна по голове. — Я научу тебя работать быстрее, жалкая жратва крокодила!
Удары посыпались на спину и плечи совершенно удивленного, почти парализованного Ирамуна.
Но прежде чем старый мастер успел что-то понять, к ним прыгнул Пиай. Выхватив у надсмотрщика палку, юноша начал бить худого надсмотрщика по лицу так жестоко, что оба помощника схватили его за руки.
Весь в крови главный надсмотрщик отполз в сторону, затем с трудом поднялся и заковылял от скульпторов, громко ругаясь.
Ирамун пощупал шишку на голове, и лицо его болезненно искривилось.
— Спасибо, сынок, спас. Но я боюсь, что будут последствия. Люди такого сорта мстительны и не успокаиваются до тех пор, пока не посчитают, что справедливость восстановлена в их пользу. — Ирамун повернулся к обоим помощникам. — Вы ведь оба видели, что главный надсмотрщик в своем безумном гневе был готов забить меня до смерти, в то время как мой сын действовал по крайней необходимости, чтобы спасти мне жизнь?
Оба парня согласно кивнули:
— Все так и было, почтенный мастер, мы все точно видели.
— Попробуем тогда его переиграть, — решил Пиай, — и тотчас донесем на главного надсмотрщика за попытку убийства. Обратимся к главному жрецу Мери.
Ирамун кивнул в знак согласия:
— Попробуем его опередить.
Здоровье фараона Сети быстро ухудшалось. Он переносил только совсем легкие кушанья, да и после них его часто рвало. Врачи безуспешно боролись с учащавшимися приступами боли и наконец пришли к мнению, что неизвестный злой демон вселился в тело Благого Бога.
В четвертом месяце Ахет фараон планировал принять участие в празднествах Озириса в Абидосе и одновременно посмотреть, как продвигается строительство храма.
Однако из-за его телесной слабости путешествие все отодвигалось, пока наконец не стало понятно, что Сети не сможет туда поехать уже никогда.
Рамзес, которого измученный недугом Сети велел позвать к себе, присел на кровать отца.
Фараон виновато улыбнулся:
— Я сегодня просто не могу встать. Может быть, я окрепну, если полежу несколько дней… Но давай перейдем к делу. Ты ведь знаешь, я с большой охотой бы порадовался тому, как продвигается строительство моего большого храма в Абидосе, но, похоже, что вскоре мне предстоит путешествие на юг уже в качестве Озириса.
Рамзес отрицательно покачал головой и хотел прервать отца, но тот взял его за руку.
— Я знаю, что ты хочешь сказать, но я чувствую, Анубис уже стоит перед дверями и ждет своего часа, поэтому я желаю только, чтобы ты предпринял путешествие один, не как фараон и с большой свитой, а быстро и без излишней пышности, потому что я не хотел бы, чтобы о твоем путешествии узнали преждевременно. В последние месяцы из Абидоса приходят вести, которые мне не нравятся. Ты знаешь эти донесения чиновников! Они пишут, что строительные работы продвигаются со скоростью ветра и храм уже почти готов, а между строк я читаю, что почти ничего еще не готово, что всего не хватает, что рабочие ленивы, художники медлительны, а скульпторов слишком мало. Я хотел бы, чтобы ты сам все увидел и оценил, поэтому твой визит должен быть неожиданным.
Рамзес выехал немедленно. По мере того как отец все слабел, молодой наследник чувствовал, что его жизненные силы все возрастают, как будто угасающая жизненная энергия Сети переходила к сыну.
Рамзес от всего сердца любил отца и почитал его. Между ними никогда не возникало серьезной ссоры. Рамзес всегда беспрекословно следовал приказам фараона, однако, когда ему казалось необходимым, он высказывал свои сомнения, которые отец серьезно рассматривал и очень часто принимал во внимание. Но, несмотря на глубокое почтение к отцу, Рамзес был твердо убежден в том, что сделает все лучше и что его власть принесет новый блеск стране Кеми. В голове молодого человека уже роились планы, которые он хотел воплотить, когда будет царствовать один, и в которые не посвящал никого, кроме Нефертари. Царская супруга постоянно была рядом с ним.
Двухлетнюю принцессу Мерит, их первенца, передали няньке, когда вошел Рамзес. Нефертари находилась на позднем сроке беременности и неловко подошла к стулу, на который осторожно уселась.
Рамзес рассмеялся:
— Ты начинаешь все больше походить на Деба, небесного гуся, который снес большое яйцо мира, но я все же надеюсь, что ты принесешь не яйцо, а наследника.
Нефертари притворилась обиженной:
— Твои сравнения почетны, но безвкусны. Если я сейчас и напоминаю гуся, то виноват в этом ты. Не сама же я довела себя до этого состояния!
Рамзес поцеловал маленькую Мерит и отослал ее вместе с нянькой. Затем встал на колени перед Нефертари, положил руки ей на колени и нежно посмотрел на жену:
— Ты прекрасна всегда, полная ты или стройная, я люблю тебя, как в первый день нашей встречи и даже больше, потому что тогда меня ослепила твоя красота, но я не знал, хорошая или плохая из тебя получится жена.
Он поцеловал ее руки, обнял ее бедра и осторожно приложил ухо к ее животу.
— Я слышу, — сообщил он, — маленький принц рассказывает мне историю.
— Что же он говорит?
Рамзес встал.
— Это не для женщин, у нас мужской разговор. Моя дорогая, завтра я должен уехать — так хочет отец. К сожалению, я не могу взять тебя в таком состоянии с собой, но, когда я поеду в Фивы, ты будешь со мной. Если, конечно, опять не превратишься в гуся…
— Не глупи. Ты должен ехать по делам?
— Нет, мой отец хочет знать, как строится храм в Абидосе. Он часто говорит о своем Вечном жилище. Слишком часто. Я полагаю, что скоро он воплотится в Озириса. Тогда ты будешь Великой Царской Супругой…
— Не говори об этом. Меня удовлетворяет мое положение, а твоему отцу я желаю тысячи тысяч праздников Зед.
— Он и одного не отпразднует, — задумчиво проговорил Рамзес. — Разве только в качестве Озириса.
Молодой правитель поднялся и поцеловал обе руки жены:
— Береги себя, милая. Я постараюсь вернуться назад как можно быстрее.
Четыреста лет назад Кеми завоевали гиксосы
[103], и они владели страной более ста лет. Воспоминания о них поблекли. Они ничего не оставили после себя, что изменило бы или обогатило бы культуру или жизнь в Кеми, за исключением одного: они привезли египтянам лошадей. Лошадей запрягали в колесницы во время войны. Стража городов и в пустыне стала благодаря им более мобильной, а фараон использовал их для охоты, однако всегда в качестве упряжных. Верхом скакали только рабы, которые присматривали за большими стадами. Они сидели без седла на какой-нибудь старой и миролюбивой лошади.
Разбойничья банда повелителя пустыни Себека не чуралась «рабского» способа передвижения. Тот, кто нападал на караваны торговцев и грабил похоронные процессии в Западной пустыне, должен был быстро появляться и столь же быстро исчезать, и ничто не подходило для этого лучше, чем быстрая, хорошо выдрессированная лошадь. Себек использовал знания иноземных членов своей банды, которые были родом из Нахарины или Ретену, чтобы научить других верховой езде. Благодаря этому в большинстве случаев они могли переиграть воинов ниу, даже если те ехали по двое на быстрых легких колесницах и за возничим стоял ловкий стрелок из лука. Всадники Себека двигались намного быстрее и редко вступали в борьбу. Иногда случалось, что воины ниу преследовали налетчиков почти до их убежища. В этом случае Себек приказывал бежать в разные стороны и лучше пожертвовать парой человек, чем выдать место, где скрываются разбойники. Если же их окружали и они не могли прорваться, тогда они сходили с лошадей и дрались кинжалами, мечами и дубинами за жизнь и свободу.
Когда Меру добрался до Мемфиса, его спутник велел ему разыскать определенный дом у хлебного рынка, там произнести пароль «Себек — мое спасение» и ждать дальнейших указаний. Хитрый и осторожный повелитель пустыни имел много связных, которые могли узнать друг друга только при помощи пароля. Так Меру попал в указанный дом, а затем на постоялый двор, откуда двумя днями позже его забрал немой слуга и повел на городскую окраину к маленькому храму мертвых. Слуга исчез, а незадолго до захода солнца откуда ни возьмись появился всадник, и они два часа скакали на юг. Там он передал Меру пастуху овец. Тот сказал только:
— Ничего не говори. Не смотри на меня. Жди.
В два часа пополуночи Меру безжалостно растолкали, снова посадили на лошадь, и на восходе солнца он предстал перед повелителем пустыни Себеком.
Меру часто представлял себе, как может выглядеть этот пользовавшийся дурной славой человек. Чаще всего он воображал Себека мускулистым великаном, который способен убить любого одним ударом кулака и наряду со своей силой обладает безграничной хитростью.
Они вошли в пещеру, завешанную коврами, обставленную сундуками, столами, удобными стульями и матрасами. Свет от дюжины масляных ламп освещал маленькое уютное помещение, из глубины которого появился худой человек среднего роста.
Меру отпрянул, когда увидел лицо Себека: у того была голова, похожая на череп мертвеца, — без носа, ушей и волос. Ужасный шрам пересекал лицо, разрывал губы и делил отвратительную физиономию на две части. Левый глаз живо, зло и по-хитрому сверкал, правого не было. Глазная впадина была глубокой, как у наполовину сгнившего трупа.
— Ну, что ж, посмотри на меня внимательно, Меру. Царская справедливость коснулась меня еще в большей степени, чем тебя. — Он протянул вперед обрубки обеих рук. — Меня так долго избивали и отняли у меня столь многое, что я потерял всякое сходство с человеком. Так я стал Себеком. Я Крокодил, которого боятся, ненавидят, преследуют, и, тем не менее, я второй царь в стране Кеми — царь, который правит в темноте и которому подвластно все, над чем фараон даже при свете дня не имеет власти. Те, кого изгнали из общества, искалеченные, чужаки, бесполезные, желающие безудержной мести и безмерно честолюбивые обращаются ко мне, потому что фараон не может им помочь.
Себек доковылял до позолоченного кресла и со стоном уселся.
— Один год ты будешь на испытании, Меру, и, если ты подтвердишь то, что мы знаем о твоей предыдущей жизни, я сделаю тебя одним из моих четырех помощников. Их зовут Огонь, Вода, Земля и Воздух. Все они имеют различные задания. Земля всегда в дороге, он выведывает возможности, где и что можно достать. Воздух набрасывает планы наших предприятий, он же является партнером для желающих мести, которые хотят отправить к Озирису одного или нескольких людей. Вода отвечает за то, чтобы не оставалось следов после наших нападений и вылазок. Эти трое не дерутся. За схватки отвечает Огонь. Он предводительствует при нападениях и отвечает за всех отосланных к Озирису. Это не означает, конечно, что он собственноручно отсылает их туда. Его работа опаснее всех, поэтому должность Огня чаще бывает вакантной. Если ты подойдешь, то ты станешь следующим Огнем.
— Мой предшественник еще жив? — спросил Меру.
— Еще жив, — ответил изувеченный. — Но недавно он был тяжело ранен, и он более не так ловок, как раньше. Вскоре я должен буду найти ему замену.
Себек указал обрубком руки на ногу Меру:
— В каменоломне тебе подрезали сухожилие. Наш лекарь попытается поправить твою ногу. У тебя имеются еще вопросы или возражения?
— Нет, — ответил Меру. — Благодарю тебя за освобождение. Распоряжайся моей жизнью, моей силой, моими знаниями. Здесь я наконец нашел то, что искал всю свою жизнь, — настоящую родину.
Меру произнес это, но при этом думал лишь о дне мести, каким бы далеким этот день ни был.
Главный жрец Озириса проводил жаркие дневные часы в своем прекрасном доме, вокруг которого весь год зеленел и цвел заботливо поливаемый сад. Привратник попытался отослать прочь Ирамуна и Пиайя. У него было указание никогда не тревожить высокого господина в этот час.
— Скажи своему господину, что речь идет о важных вещах, которые касаются храма и строительных работ, и он тотчас примет нас.
Главный жрец Мери, толстый, несколько рассеянный человек средних лет, выслушал доклад Ирамуна вежливо, но слегка нетерпеливо.
— Что же здесь важного? Надсмотрщик избил тебя, а твой сын — его. Мне кажется, вы квиты. Возвращайся назад к своей работе и забудь о мести.
— Но главный надсмотрщик не забудет о ней и станет настаивать на наказании Пиайя, — возразил Ирамун.
— Поживем — увидим.
На строительной площадке они попали прямо в руки городской стражи, которая уже разыскивала Пиайя. Его арестовали за нападение на начальника и бросили в темницу. Ирамун ничего не мог предпринять, ему только сказали, что дело будет передано в суд.
В эти дни в Абидос приехал Рамзес. Он запретил торжественный прием, принял ванну, пообедал и тут же отправился в храм. Образование, полученное наследным принцем, и тот факт, что он вырос в окружении самых искусных творений — от масляной лампы до статуй богов, — позволяли ему с уверенностью судить о плохой, средней, хорошей или отличной работе художников и скульпторов.
Все, что ему показывали, он внимательно осматривал: начатые пилоны, стоявшие друг рядом с другом и похожие на громадные пироги основания колонн, каменные плиты с готовыми, наполовину готовыми или необработанными поверхностями, почти завершенный список царей — именные картуши шестидесяти шести фараонов от Хеопса до Сети. Среди них были также изображены фараон с принцем Рамзесом, они курили благовония перед своими обожествленными предшественниками.
Рамзес остановился и наморщил лоб.
— Тут у меня еще косичка ребенка. Нельзя ли это изменить?
— Извини, Богоподобный, но это представлено согласно планам Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч. В то время ты действительно был таким, если позволишь напомнить…
— Хорошо, воля Благого Бога, моего великого отца, для меня закон так же, как и для вас.
Рельеф в капелле Изиды Рамзес осматривал долго и тщательно.
— Превосходная работа! Я хотел бы, чтобы у нас в Мемфисе было побольше подобных мастеров. Кто это сделал?
Главный жрец обернулся к своим сопровождающим.
— Ирамун, я полагаю.
— Позовите его.
Ирамун вместе с другими мастерами из уважения к высоким гостям удалился. Они сидели в тени расщепленного каменного блока, когда старшего мастера позвали.
— Встань, друг мой, — сказал Рамзес упавшему перед ним на колени художнику. — Ты выполнил работу великолепно. Я хотел бы, чтобы мой отец мог видеть себя приносящим жертву Изиде.
— Это не только моя работа, Богоподобный, большую ее часть сделал мой сын Пиай, который сейчас невиновный сидит в тюрьме и ждет приговора.
Главный надсмотрщик выступил вперед:
— Извини, Богоподобный, он не является невиновным. Этот юнец сбил с ног меня, своего надсмотрщика, и набросился на меня с побоями. Этого нельзя оставить безнаказанным.
— Тогда расскажи Богоподобному, почему он сбил тебя с ног.
Худой, с головой коршуна надсмотрщик покраснел от гнева.
— Почему?! — закричал он. — Я…
— Прекрати! — воскликнул главный жрец. — В присутствии молодого Гора не спорят. Займемся этим позже.
— Нет! — сказал Рамзес. — Я сам во всем разберусь. Постыден факт, что столь искусный мастер сидит в тюрьме, в то время как храму срочно требуется каждая рука. Через час я хотел бы увидеть вас всех: Ирамуна, его сына, верховного жреца и главного надсмотрщика.
Рамзес велел доложить все о случившемся и вынес решение:
— Главного надсмотрщика сместить, следующие три месяца он будет выполнять самую черную работу — дробить камень. Если он себя оправдает, тогда посмотрим. Нельзя избивать старательного и прилежного скульптора только за то, что он на минуту передохнул от напряженной работы. То, что Пиай защищал своего отца, понятно. Нападение на начальника он искупил несколькими днями в тюрьме. А теперь оставьте меня наедине с мастером Пиайем.
Оба молодых человека почти одного возраста смотрели друг на друга. Соколиный взгляд наследного принца встретился с серыми бесстрашными глазами художника, и Рамзес почувствовал в Пиае нечто особенное. У обоих возникло ощущение, что они уже давно знакомы друг с другом. Каждый почувствовал в другом сходство намерений и мышления, несмотря на пропасть, разделяющую сына раба и наследника фараона. Оба хотели великого, оба видели перед собой цель, оба были полны решимости не сойти со своего пути.
— Можешь ли ты делать что-либо кроме рельефов?
— Все, что необходимо, Богоподобный. Я могу создавать фигуры из глины, камня, металла и дерева, могу рисовать, а также знаю важнейшие письменные знаки…
— Тогда у меня есть заказ для тебя. Изготовь мою фигуру, сидящую в короне Хепреш, из золота в пядь величиной. Я хотел бы подарить ее своей жене Нефертари. Сколько времени тебе на это потребуется?
— Пара часов, Богоподобный. Сегодня вечером она будет готова.
Пиай взял металлический штифт, вытащил осколок глины из своего передника и начал набрасывать быстрыми, точными штрихами фигуру наследного принца.
— Поверни голову, Богоподобный, сдвинь ноги. Да, так… С двумя скипетрами? Сделать ли под фигурой надпись?
Рамзес улыбнулся, наблюдая за работой молодого художника.
— Да, с двумя скипетрами, а в качестве надписи сделай два имени в картуше: мое и царицы.
— Для этого понадобится от полутора до двух дебов золота, Богоподобный.
— Мой казначей вручит тебе три деба. Все, что останется, будет тебе наградой.
Пиай глубоко поклонился.
— Откуда у тебя такое странное имя — Пиай?
— Это единственное, что мне оставили мои настоящие родители. Они оба мертвы. Мой отец был пленным воином с севера, а мать — рабыней, гнувшей спину на полях. Ирамун взял меня несколько лет назад в подмастерья, а со временем стал мне роднее родного отца.
— Ну, что до твоего происхождения, разве оно имеет значение при таком таланте и мастерстве. Я жду тебя сегодня вечером.
Пиай тотчас принялся за работу, вылепив по рисунку фигурку в палец величиной из твердого воска. Он долго работал над лицом юноши, исполненным величия сына Солнца. Работа давалась легко и шла быстро. В конце он вырезал два имени, окруженные картушем, на левом и правом плече сидящего на троне Рамзеса.
Пиай окунул восковую фигуру в холодную воду и аккуратно одел ее в глину. Затем проделал отверстия вверху и внизу, положил все в печь для обжига, где огонь закалил глину и растопил воск.
В плавильне по его указанию уже разогрели и растопили три деба золота. Здесь-то и произошло рождение золотого Рамзеса. Пиай уложил закаленную, полую глиняную форму в мокрый песок, расширил верхнее отверстие вдвое и залил в емкость раскаленное золото.
Дымясь и шипя, металл устремился в полую форму, заполнил ее целиком и тотчас застыл.
Более половины деба осталось в кувшине, с удовольствием отметил Пиай. Заказ наследного принца вмиг сделал его богатым.
Пиай отнес еще теплую полую форму на улицу, уложил ее в корзину с песком и начал осторожно разбивать бронзовым молотком. Сверкая, маленькая золотая фигурка показалась на свет. Там и тут на ней образовались струпья, а наверху, как и внизу, остались длинные выступы от литья.
Пиай тут же отнес фигуру отцу, который, внимательно осмотрев маленького золотого фараона, указал сыну и ученикам на некоторые небольшие ошибки, а потом сказал:
— Ты создал шедевр, сын мой. Возьми полировальный инструмент и исчезай отсюда. Если фигурку надо отдать сегодня вечером, работы еще много.
Радости Пиайя не было границ. Если отцу понравилась работа, тогда все хорошо. Он сточил оба выступа от литья, аккуратно собрал каждую пылинку золота в кусочек коровьей шкуры, и начал полировать фигурку. Эта трудная, кропотливая работе продолжалась пару часов, после чего скульптура приобрела истинное очарование. Несколькими точными движениями юный мастер немного удлинил уголки рта и глаз, выгравировал урей и углубил контуры двух показавшихся ему нечеткими картушей с именами. Складки передника были также не очень выраженными, поэтому Пиай старательно подчеркнул линии. Незадолго до захода солнца работа была готова. Пиай отполировал фигуру грубым льняным материалом до блеска, завернул ее в платок и положил в шкатулку из черного дерева, которая срочно была изготовлена точно по размеру скульптуры в столярной мастерской.
Рамзес сидел со жрецами Озириса и несколькими городскими чиновниками, среди которых был также Сенеб, за торжественной вечерней трапезой и скучал. Славословия не прекращались, потому что все знали, что очень скоро Рамзес станет единственным правителем. Тут к его уху наклонился один из доверенных слуг и прошептал:
— На улице стоит некий Пиай и утверждает, что ты, Богоподобный, ожидаешь его…
— Да, немедленно введи этого человека.
Пиай опустился на колени перед Рамзесом и протянул ему шкатулочку из черного дерева. Рамзес открыл ее, достал фигурку из платка и поднес ее к лампе. Он долго крутил ее и так и этак. От скульптуры исходило мягкое золотое мерцание. В зале воцарилась полная тишина. Все почувствовали, что это особое мгновение. Наконец Рамзес поднял глаза.
— Поднимись, Пиай! А вы, друзья мои, посмотрите на этого человека. Он также царь. Царь своего искусства, которого Пта отметил своими особыми дарами. — Он высоко поднял фигурку. — Пиай создал образ моего величества в золоте только в пядь величиной. Ее можно прикрыть рукой, но эта работа — само совершенство и заслуживает высокой похвалы.
Он наклонился к Пиайю и тихо сказал:
— Ты заслужил награды. Хорошенько обдумай, хочешь ли ты должность, титул, землю, зерно, скот. Я хотел бы тебя отличить любым приятным тебе способом. Завтра во втором часу дня я уезжаю, и до отъезда я приму тебя на своей ладье.
Пиай не провел бессонную ночь, и ему не нужно было советоваться с Ирамуном, потому что молодой мастер давно знал, чего хочет. Утром в назначенный час он был на месте, и Рамзес принял его на палубе под навесом от солнца.
— Садись, Пиай, и выпей со мной стакан вина.
— Ты оказываешь мне большую честь, Богоподобный.
— Ты заслужил это, мастер. — Рамзес заглянул в серые отважные глаза юного скульптора и довольным взглядом окинул его стройное жилистое тело. — Если бы ты не был таким искусным художником, я бы взял тебя воином личной охраны. У тебя тело воина.
— Мой отец был воином, но над моей колыбелью простер свою руку Пта, а не Монту.
— Похоже на то, мой друг. Итак, каково твое желание?
Пиай опустил глаза.
— Возможно, мое желание нескромно. Я разбираюсь в том, как делать скульптуры из глины, камня, металла и дерева, я могу рисовать, но меня восхищает искусство архитекторов. Я вижу, как храм Благого Бога, твоего великого отца, да будет он здрав, жив и могуч, вырастает из земли; вижу, как со своими планами, торопясь, бегают архитекторы, а сам так мало понимаю в этом, что от злости у меня болит печень. Мое желание в том, чтобы овладеть искусством зодчества, потому что я полагаю, что скульптор, украшающий храм своими фигурами и рельефами, должен знать, как построить само здание.
Рамзес усмехнулся:
— Хорошо сказано, мой друг. Это твое желание я могу выполнить. Поезжай на север, осмотри сначала Фивы с их храмовым городом, а затем отправляйся в Он, Бубастис и, наконец, в Мемфис, хранимый столь почитаемым тобой Пта, и осмотри там его Большой храм. Я жалую тебе царскую грамоту, благодаря которой ты сможешь бесплатно и беспрепятственно путешествовать по всей стране, жить где хочешь, и в любом месте тебе будут показывать строительные планы. Я даю тебе срок, по истечении которого ты должен будешь явиться в царский дворец в Мемфисе, где тебя будут ждать много заказов.
— Благодарность моя безгранична, Богоподобный, это чудесный подарок, но моя работа здесь, отец, храм Озириса…
— Если ты нужен своему царю, им придется без тебя обойтись. Прощай, Пиай, и пусть Пта хранит тебя на твоем пути! Мы увидимся в Мемфисе.
6
Благой Бог и сын Солнца, повелитель Обеих Стран, Мен-Маат-Ра-Птах-Мери-Ен-Сети готовился отправиться в Закатную страну. Лекари напрасно пытались изгнать демона болезни из его тела. Фараон Сети пережил сорок два разлива Нила. Большинство его подданных не доживали до этого возраста.
Сети стал слишком слабым, чтобы подниматься с постели. Советы и укрепляющие снадобья оказались бесполезными. Сегодня фараон не ощущал никаких особенных болей, но слабость свинцовыми гирями висела на его членах, и он полностью поддался ей, чувствуя, что борьба проиграна. Старый воин знал, что сопротивление бесполезно, только глупые и трусливые не покоряются воле богов. Он испытал тяжесть двойной короны, и теперь ему оставалось только подождать, пока бессмертные боги примут его в свой избранный круг. Сердце Сети прихрамывало, как измотанный воин в конце марша, и он чувствовал, как оно останавливается на все более длительные промежутки, чтобы потом с трудом начать спотыкаться еще некоторое время. Иногда фараону казалось, что он ясно видит, как Анубис с головой шакала склоняется над его ложем и осторожно прикасается к его груди. А вот прекрасный Пта дружелюбно смотрит на него и, как призрак, проходит мимо. Все выглядело так, будто боги хотели ближе познакомиться с фараоном, прежде чем принять его в свой круг. Люди, ожидавшие в комнате умирающего, конечно же, ничего этого не видели. Они робко смотрели на Благого Бога, хрипевшего на смертном одре, борясь за каждый вздох. Верховный жрец время от времени становился на колени перед ложем умирающего и прикладывал к носу фараона золотой знак Анк, но не для того, чтобы, как думали некоторые, укрепить его дыхание и продлить ему жизнь, а чтобы подготовить земное тело Сети к вечной жизни.
Справа от фараона на низкой скамеечке сидела Великая Царская Супруга Туя и держала руку умирающего. Царь уже давно болел, и она могла спокойно подготовиться к этому часу. На ее широком, несколько крестьянском лице нельзя было заметить никакого движения чувств. Конечно, Сети был ей хорошим супругом, и она искренне горевала о нем, однако она была разумной и трезвомыслящей женщиной и не хотела сопротивляться воле богов. Сейчас она должна уступить свое место Нефертари, и Туя думала об этом без сожаления. По истечении срока траура она хотела удалиться в свое поместье в Дельте и заниматься исключительно тем, что делала и до этого: разводить крупный рогатый скот и овец и заботиться о повышении урожаев зерна. Она посмотрела на Нефертари, которая присела в изножье ложа и испуганно посматривала на Благого Бога, который вот-вот мог превратиться в Озириса.
Сети ничего этого больше не замечал. Шаг за шагом он приближался к трону Озириса. Святая семья — Пта, Сехмет и Нефертем — уже были готовы сопровождать его, а добрая богиня Хатор ласково, по-матерински смотрела на него своими коровьими глазами.
Внезапно боги растворились в тумане, и на короткое время сознание вернулось к фараону. Его почти потухшие глаза с трудом отыскали Рамзеса, и любимый сын тут же почтительно склонился над ним.
— Послушай, сынок, не позволяй жрецам становиться слишком могущественными, ты — фараон, ты определяешь все, ты — верховный жрец всех богов. Не позволяй тем, из Фив, забрать скипетр из твоей руки, держись Пта…
Фараон откинулся назад и как через покрывало увидел, что над ним склонилась женская фигура. Он узнал в ней великую небесную богиню Хатор, мать всего, которая, утешая, заключила его в свои объятия. Люди в комнате умирающего услышали последний хриплый выдох и застыли в ожидании трудного свистящего вдоха, однако его не последовало. Лекарь поднес металлическое зеркальце ко рту и носу фараона. Зеркало осталось ясным.
Стоявший на коленях у постели верховный жрец поднялся и произнес спокойно и торжественно:
— Мен-Маат-Ра-Птах-Мери-Ен-Сети, Благой Бог, сын Солнца и повелитель Обеих стран, отошел из жизни и поднялся на небо, чтобы соединиться с Солнцем. — Затем взял Рамзеса за руку и проговорил: — Сокол в гнезде, молодой Гор появляется на троне, повелитель Обеих стран, Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес, чтобы стать царем Черной Земли, владеть Красной Землей и одерживать триумфальные победы над врагами на севере и юге. Рядом с Богоподобным сидит на троне и царствует Великая Царская Супруга Нефертари, непревзойденная милостью и прелестью, повелительница Обеих стран, возлюбленная царя, да живет она вечно!
Столица и страна погрузились в траур. Люди плакали и рвали свои одежды. Мужчины посыпали головы пеплом, а женщины мазали лицо грязью и громко оплакивали потерю Благого Бога.
В храмах произносили траурные хоралы и строго постились. Во время всего траура, который продолжался семьдесят два дня, были отменены все праздники. Состоятельные люди отказывались от мяса и вина. Бедные вдвое уменьшали меру пшеницы для своих ежедневных лепешек. В первые дни после смерти царя из всех домов столицы слышался громкий плач. Казалось, люди хотят превзойти друг друга в соблюдении траура. Оплакивали не смерть, потому что каждый знал, что на том на свете фараон воскреснет молодым и здоровым и будет вечно жить без забот. Нет, горевали о потере царя, который сделал Кеми большой и сильной страной, который был могущественным и справедливым правителем. В царском дворце также не прекращались вопли плакальщиц. Женщины и девушки из гарема измазали себе лица и верхнюю часть тела землей и глиной, расцарапали себе грудь, при этом они использовали красную краску, и «царапины», хоть и выглядели ужасными, но боли не причиняли.
Самым важным после смерти фараона, наряду с тем чтобы была обеспечена преемственность власти, была необходимость сохранения его тела, чтобы царственное ка не скиталось, не зная покоя. Сохранить тело для вечности были призваны бальзамировщики, однако их неохотно желали видеть лицом к лицу, потому что от них исходил постоянный трупный запах, который живые не слишком ценили. Бальзамировщики, или, как их называли, «ставящие печать бога», селились отдельно. Их мастерские и жилища располагались на левом берегу Нила, который отделял Западную пустыню от плодородных земель правобережья. Туда близкие приносили своих умерших и забирали их семьдесят дней спустя для окончательного погребения. Как бы ни было необходимо это мероприятие, мастерам, занимавшимся таким ужасным ремеслом, не доверяли, и о них ходило много легенд. Поговаривали, будто даже трупы молодых умерших девушек и женщин осквернялись этими мужчинами, не знавшими почтения перед мертвыми. Так как эти слухи не замолкали, было принято бальзамировать фараона в его дворце под постоянным присмотром.
Таким образом, люди, «ставящие печать богов» или «слуги Анубиса», как они себя гордо называли, были доставлены в царский дворец, где мертвый фараон лежал в большом тронном зале. Изготовленный из черного дерева стол для бальзамирования стоял на четырех низких ножках в виде голов льва. В изголовье были две красивые позолоченные львиные головы. На поверхности стола в изножье было вырезано отверстие, через которое жидкость из тела могла стекать в ведро.
Для члена царской семьи считалось плохой приметой встретиться с бальзамировщиком, не говоря уже о том, чтобы переброситься с ним парой слов.
Рамзес принял второго жреца Пта в своих личных покоях. Изящный темнокожий мужчина, казалось, не имел возраста: нельзя было определить, пережил ли он тридцать или сорок разливов Нила. Вся его семья была связана с храмом Пта. Обе сестры жреца были певицами, брат — хранителем печати храма Пта, а отец — тоже жрецом, чтецом Пта.
После того как вошедший церемониально приветствовал нового фараона, Рамзес указал ему на низкую скамеечку, и Птахотеп уселся. Он оценил оказанную ему честь.
— Достопочтенный слуга бога, я решил дать тебе важное поручение. При бальзамировании Озириса-Сети ты будешь наблюдать за работой, как Анубис. Я ценю твое старание и очень расположен к тебе.
В определенный час бог Анубис в облике человека, но с головой и хвостом шакала появлялся в зале для бальзамирования, садился на приготовленный для него высокий стул из черного дерева и молча смотрел на собравшихся вокруг тела мужчин. Таким образом, привратники тайны, четверо «ставящих печать бога», во время работы оставались под контролем. У изголовья стола сидел жрец-чтец со свитком на коленях.
Мастера-бальзамировщики не знали, кто скрывается под маской Анубиса. Это мог быть жрец, чиновник, доверенный или даже член царской семьи. Они знали только, что за каждым их движением внимательно наблюдают и что малейший неуважительный жест, самая ничтожная ошибка повлекут за собой тяжелое наказание. Не без страха они ожидали знака Анубиса, чтобы начать хорошо знакомую им работу.
Птахотепу было трудно дышать под маской Анубиса, и он чувствовал, как пот стекает у него по лбу и шее, но он должен выдержать много часов, не ослабляя внимания. Про себя он произнес молитву Озирису и медленно поднял жезл.
Жрец-чтец тут же начал вполголоса читать священные тексты, в то время как привратники тайны торжественно сняли льняной покров с мертвого тела и передали его своим людям. Один из «ставящих печать бога» ввел длинный золотой крючок в нос мертвого, проник им в мозг и начал медленно извлекать его кусочек за кусочком и складывать в уже приготовленную чашу. Народ Кеми верил в то, что все жизненные силы и разум исходят от сердца, а не имевший значения мозг просто извлекали, однако и его старательно собирали и хоронили вместе с умершим. Птахотеп, который впервые наблюдал за подобной церемонией, подавил приступ дурноты и заставил себя думать о святости и необходимости происходившего у него на глазах.
Чтобы удалить все остатки мозга бальзамировщик ввел в череп бамбуковую трубочку, через которую влил из кожаного мешочка вытравливавшую жидкость. После этого он закрыл отверстие носа кусочком ваты, смоченным в смоле, и отступил.
Другой «ставящий печать бога» быстрым движением позолоченного бронзового ножа вскрыл тело фараона. Голубоватые кишки вывалились наружу и были ловко и быстро удалены, как постепенно и остальные внутренности. Рядом стояли четыре помощника с сосудами для печени, легких, желудка и других внутренностей. Только сердце оставили на месте, чтобы позже забальзамировать его вместе с телом.
Стоявшие вокруг тела курильницы с благовониями были бессильны против проникавшим повсюду запахом испражнений, мочи и гниющей плоти.
На людей, занимавшихся здесь своим делом, все это впечатления не производило. Для них это была будничная работа, однако Птахотеп, аскетический дух которого не позволял ему выказывать слабость, был близок к обмороку. Недостаток воздуха, дурной запах и ужасная картина, открывшаяся его глазам, чуть было не лишили его самообладания. Однако жрец Пта собрался с силами и заставил себя думать о том, насколько важна его миссия.
Бальзамировщики очистили тело смесью из пальмового вина и ароматных трав. Подошедший надсмотрщик приподнял голову фараона, в то время как первый «ставящий печать бога» удалил куски ваты из ноздрей. Неприятная белая жидкость потекла наружу. Один из помощников промокнул ее губкой.
Птахотеп тихонько вздохнул. Он знал, что выдержал самое худшее. Теперь помощники заполнили освобожденное от внутренностей тело содой. Один из «ставящих печать бога» зашил разрез грубыми стежками, и после этого тело положили в ванну из кедрового дерева, наполненную содой, а сверху присыпали слоем соли.
Как звезда Сотис
[104] на семьдесят дней исчезает за горизонтом, так и тело фараона на такой же срок должно было находиться под слоем соды, которая удаляла из него всю воду.
Это была первая и самая короткая часть царского бальзамирования, и Птахотеп с облегчением покинул помещение, в котором висел тяжелый запах испражнений, гнили и благовоний.
Столица медленно пробуждалась от траура. Жизнь входила в нормальное русло.
В царских мастерских вообще не было времени горевать, ведь Озирис-Сети должен иметь в своей гробнице все необходимое и поэтому нужно было изготовить мебель, посуду, подставки и много других вещей из дерева, камня и металла. Золотых дел мастера со дня смерти царя день и ночь плавили, стучали, выковывали. Золотая маска на лицо была давно готова, потому что ее начали делать еще при жизни фараона, но сейчас было необходимо изготовить еще кольца для пальцев, а также изящные украшения на шею и руки. Кроме того, нужно было украсить золотом внутренность саркофага, сделать футляры для пальцев рук и ног царской мумии, выковать скипетр, роскошное оружие и многое другое необходимое фараону в его загробной жизни.
Для Птахотепа, второго жреца храма Пта, началось теперь собственно бальзамирование и подготовка к погребению Озириса-Сети — более длительная, но и более приятная часть миссия Анубиса.
Бальзамировщики тем временем превратили большой тронный зал в склад товаров. Тут громоздились рулоны тончайшего хлопка, в углу были свалены платки, из маленьких кувшинов разносился аромат драгоценных благовоний и масел, два больших бронзовых ведра со смолой стояли на огне, а между двумя окнами была помещена большая часть сокровищ. Там ждали своего часа золотая маска, царские драгоценности, два скипетра и сверкающие футляры для пальцев рук и ног.
Птахотеп на этот раз смочил маску шакала изнутри ароматной эссенцией и расширил отверстие для дыхания так, что теперь со всем удобством мог сидеть на своем стуле из черного дерева и наблюдать за продолжением работ.
Когда началось тихое пение жреца-чтеца, бальзамировщики извлекли тело мертвого фараона из содовой ванны. Обезвоженный и от этого сильно высохший труп стал темно-коричневым. Мумию заботливо вымыли ароматной водой изнутри и снаружи, старательно вытерли доску платками, а затем «ведающий тайну» начал бальзамировать царскую голову. Он окунул хлопковый платок в масло и в горячее смолистое вещество и смазал лоб, нос, рот, щеки и шею, долго втирая в них снадобье. «Ставящие печать бога» обрабатывали остальное тело. Необходимо было сделать засохшее и отвердевшее от соды тело вновь гибким.
На это потребовалось несколько часов, и только к вечеру можно было начать обвертывание мумии. Для этого помощники обмакивали хлопчатобумажные платки, намотанные на длинные крючки, в кипящую смолу, а «ставящие печать бога» заполняли этими платками полость тела, которую они перед тем протерли кипящей смолой. Нос и рот заткнули пропитанной смолой ватой и сделали по возможности как у живого. В тело под сердцем положили большого скарабея, на котором был вырезан текст заклинания с просьбой к судье мертвых не отвергать сердце умершего. Жрец пел:
— Знай, о страж Весов Справедливости, мое ка было тебе верно, ты остаешься в моем теле, ты даешь моему телу форму и жизнь моим членам. Пойдем на поля счастливо пребывающих в вечности, давай вместе бродить по ним. Да не покажется мое имя зловонным, нечистым повелителю Закатной страны…
«Да, — подумал Птахотеп, — фараон, хотя и знаком богам и действует по их воле на этом свете, тоже боится того, как будут взвешивать его сердце перед сидящим на троне Озирисом на Весах Справедливости».
Жрец заставил себя образумиться. Разве подобают такие мысли ему, столько лет служившему Сети? Боги избрали его, и он возвращается назад в их круг.
После того как под сердце фараона положили скарабея, помощник зашил разрез на теле и «ставящие печать бога» прикрыли рану золотой пластинкой в форме глаза Удят.
Эта работа была проделана в первый день. Птахотеп с облегчением велел снять с себя маску Анубиса, а бальзамировщики покинули дворец, чтобы вернуться в свои дома на западном берегу. Отряд дворцовой стражи встал перед тронным залом. Только две масляные лампы из розового гранита освещали мертвого фараона и его сокровища. Тело было накрыто тканью шафранно-желтого цвета. Золотая маска на стене глядела своими блестящими глазами из кварцита и черного оникса в счастливую, вечную жизнь на том свете. В эту жизнь через несколько дней вступит фараон после торжественных церемоний оживления, совершенных жрецами.
Мастера-бальзамировщики должны были работать и ночью при свете факелов. Шафранно-желтым платком крепко обвили тело фараона, а руки скрестили на груди и привязали. После этого на пальцы рук и ног надели изготовленные по мерке золотые футляры, обвили тело длинными кусками материи по определенной системе и зашили их. Один из прикладывающих печать богов стоял рядом с корзиной, полной магических амулетов, и время от времени втыкал их между льняными повязками. Это были знаки Анк, а также скарабеи, амулеты с сердцем, узлы Изиды, фигурки Изиды и Нефтиды, маленькие копии двойной короны и несколько особенно красиво обработанных фигурок Озириса. Большинство амулетов были из золота или электрона, некоторые сделаны из редкого, добытого на войне или путем торговли серебра. Другие — из ляписа, бирюзы, карнеола и яшмы, а кое-какие изготовлены из сверкающего на свете стекла. Полосы материи постоянно смазывали жидкой смолой. В конце процедуры формы мертвого тела под большим количеством бинтов становились нечеткими, и мертвый принимал традиционную форму бога Озириса. Самой последней надевалась великолепная и чрезвычайно ценная золотая маска. На грудь мумии клали пластинку с двумя скипетрами для скрещенных рук, нижнюю часть тела прикрывали цветным куском материи, на ноги надевали золотые футляры.
Забальзамированные внутренние органы помещали в четыре алебастровых сосуда, в то время как другие, собственно говоря, отбросы старательно собирали в многочисленные глиняные кувшины независимо от того, шла ли речь об остатках материала, мозга, соды, губках или остатках масел с травами. Все, что оставалось от бальзамирования или использовалось для него, нужно было отнести вместе с мертвым царем в гробницу.
Во время семидесятидвухдневного траура Рамзес принимал почести со стороны жрецов, сановников и послов из стран-данников. От хеттов тоже прибыли посланники, но они принесли только не имевшие ценности подарки и письмо от их царя Муваталли, которое сначала безмерно разгневало Рамзеса, а потом заставило его задуматься. Царь хеттов писал:
Великий владыка хеттов владыке Кеми Рамзесу.
Я с сожалением услышал, что твой отец стал богом. Так как теперь ты сидишь на его троне, ты должен знать, что дань, которую ты получаешь из Амурру, по старому праву принадлежит мне. То, что твой отец покорил Амурру и заставил платить дань, — несправедливость со стороны богов и людей, и я прошу тебя оставить эту страну мне. Я не желаю никакой враждебности между нашими странами, но я хотел бы знать, что восстановлен порядок, который был при моем отце Музилисе. Так хочет Ваал, и так хочет Сет, чье имя носил твой отец, и так хочу я, великий владыка хеттов.
Когда писец прочитал послание, Рамзес схватил алебастровую вазу и швырнул ею в стену.
— Вот так я хочу разбить этого низкого царька рабов, который осмеливается выступать против меня, — взревел он. — Он называет себя великим владыкой и забывает, что проиграл все битвы моему отцу! Его наглость дорого ему обойдется!
Как всегда, когда его что-то задевало, Рамзес пошел к Нефертари и рассказал ей о наглом письме низкого царька рабов.
— Лающая собака не кусается, — рассудила Нефертари. — Амурру принадлежат тебе, и презренный хетт не осмелится изменить положение дел.
Рамзес с любовью посмотрел на жену:
— С тех пор как ты родила мне наследника, ты стала еще прекраснее, возлюбленная сестра. Хатор явно простирает свою руку над твоей головой, и у нас будет еще много детей, что сделает тебя еще красивее и желаннее. А где наш малыш?
— Амани в это время спит. Забудь теперь о царьке хеттов и подумай о том, что мы должны сопровождать твоего отца в Фивы к его Дому Вечности. Я думаю, жрецы Амона будут снова одолевать тебя, чтобы ты перенес столицу в Фивы.
— Они удивятся! У меня совсем другие планы. Я построю новую столицу в низовьях Нила, в Дельте, где у моего отца был летний дворец. Город, которому не будет равных. Я не хочу зависеть от каких-либо жрецов ни в Фивах, ни в Мемфисе!
Почему я должен пренебрегать Амоном-Ра, старым богом государства? Разве я не назвал моего первого ребенка в честь него Мерит-Амун, — возлюбленная Амоном? В Стране тростника он, как и раньше, глубоко почитается. Амон-Ра оказывал помощь многим из моих предшественников. В Мемфисе у него также есть красивый храм, ему приносят обильные жертвы и почитают. Для народа; однако, он является Амоном из Мемфиса и не имеет ничего общего с тем, который в Фивах. Уже мой отец Озирис-Сети отверг всякую связь с югом, Амон Фиванский достаточно богат и влиятелен. Когда мы проводим Озириса-Сети в его Дом Вечности, я устрою большой праздник с жертвоприношениями и назначу верховного жреца Амона, но такого, который будет обязан мне, а не того, который во всем станет следовать жрецам в Фивах. Тотмес, второй жрец Амона, будет меня за это страстно ненавидеть, потому что он годами ожидает того, что однажды станет первым жрецом.
— Было бы неразумно так его задевать, — задумчиво проговорила Нефертари. — Ты должен сделать их соучастниками своего решения. Подумай о том, что мы однажды тоже переселимся в наши Дома Вечности в Фивах, и в конце концов именно жрецы Амона будут ухаживать за ними, содержать их в порядке и охранять, с тем чтобы дать нашим ка вечную родину.
Рамзес внимательно выслушал ее, поцеловал в обе щеки и в губы, а затем с любовью обнял ее нежное тело.
— Ты не только самая красивая, ты самая мудрая. Я последую твоему совету и уже знаю как: они сами должны будут мне предложить соискателей, может быть, трех или, самое большее, пять. Я назначу одного из них и в дальнейшем привлеку его на свою сторону…
Рамзес посмотрел на Нефертари так, как будто только что ее увидел.
— Что это я говорю в доме моей любимой о государственных делах? Разве нельзя заняться чем-нибудь лучшим?
Он высоко поднял жену, как будто она не весила больше пера Маат. Нефертари чувствовала себя в его руках такой защищенной, и ей было так хорошо, что она могла бы замурлыкать, как Миат, ее любимая кошка. Она обняла мужа за шею и с наигранным любопытством глянула на него своими темными раскосыми глазами.
— Что собирается делать мой сильный лев? Ты хочешь положить свою Нефертари в постельку, как нянька маленького Амани? Но для этого еще слишком рано, потому что Ра едва склонился к западу. Что собирается со мной сделать сын Солнца посреди периода траура?
Рамзес осторожно положил ее на постель и сказал:
— Моему уважаемому отцу Озирису-Сети будет очень по сердцу, если я передам его семя дальше и он будет продолжать жить не только как ка, но и во многих своих внуках.
Он снял с Нефертари легкое домашнее платье и медленно стал целовать ее сверху донизу — в шею, плечи, обе ее груди. Его теплые мягкие губы спустились вниз к ее гладко выбритому животу. Когда Нефертари начала дышать быстрее, он продолжил, поцеловав ее бедра, колени, ноги. Нефертари захихикала.
— Ты щекочешь меня! Прекрати!
Она коснулась его твердого мощного фаллоса:
— Что это? Эту часть твоего тела я совсем не знаю! На сотнях портретов и статуй у тебя есть голова, руки, ноги, но этой части тела нет. Наши художники о ней забыли?
— Она только для тебя. Художников она не касается. А поскольку она принадлежит только тебе, ты и должна ею обладать.
Он высоко приподнял жену и медленно опустил ее на свой фаллос, обхватил ее маленькие твердые груди и нежно ущипнул их. Тело Нефертари начало извиваться, как у связанного, который хочет вырваться.
— Мой сильный бык, мой лев… — задыхалась она, и Рамзес зашептал ей в ухо, когда ее голова опустилась ему на грудь:
— Ты единственная, самая прекрасная, сладкая возлюбленная, дочь Баст…
То, что Рамзес часто посещал свой гарем, Нефертари не трогало. Там во всех углах ползали царственные ублюдки. Он сам не знал, сколько у него сыновей и дочерей. Это был другой мир, который существовал вблизи Нефертари, но не имел значения. Она знала, что муж там без всякого выбора распространяет свое семя, чтобы укротить брызжущие через край силы. Из гарема не проникало ни одного определенного имени, ни одна другая супруга не могла сравниться ней, Нефертари, единственной возлюбленной, Самой Прекрасной.
Утро было прохладным, и Нефертари мерзла в своем тонком льняном платье. В знак траура они с Туей не носили париков, а их собственные волосы были стянуты наверху под сеткой. Царь Рамзес и остальной двор повязали белые траурные ленты и были одеты подчеркнуто просто.
Вся роскошь сегодня предназначалась ему, Озирису-Сети, которого сильные слуги сейчас вынесли из тронного зала и положили на повозку. Мумию поместили в раскрашенный и позолоченный деревянный саркофаг, на котором искусные резчики по дереву изобразили царя в полном облачении. На другую, меньшую повозку, которую тянули четыре быка, слуги поставили четыре тяжелых алебастровых сосуда с внутренностями. Верховный жрец Гуй шагал во главе процессии вместе с вторым жрецом Птахотепом. Их сопровождали четыре помощника, которые кропили освященной водой и разбрасывали цветы. Оба жреца сменяли друг друга в ритуальных молитвах, которые все равно были едва слышны, потому что пронзительные вопли плакальщиц заглушали почти все.
Позади обеих повозок следовали жрецы других богов, в первом ряду шагали служители Амона, Сехмет и Нефертем. Они были в белоснежных одеждах, поверх которых красовался церемониальный мех леопарда. Потом шли вопящие и дико подпрыгивающие полуобнаженные плакальщицы с лицами, вымазанными глиной, и картинно расцарапанной грудью. Позади склонившись и с печальным видом следовали личные друзья и слуги умершего фараона, а через надлежащие расстояние — жены, дети и другие родственники. Царственная пара, Рамзес и Нефертари, возглавляли эту группу, за ними следовали Туя и сестры Рамзеса в сопровождении всего гарема, а также слуг царского дворца более низкого ранга. Не менее длинная процессия с дарами заключала шествие. Сильные слуги несли набальзамированные части туш рогатого скота и антилоп, подносы с утками, гусями, перепелами, голубями, хлебом, маслом, пирогами, фруктами, овощами, с золотой посудой, маленькими запечатанными кувшинами с самыми лучшими винами и более крупными с пивом и медом. На низких повозках возвышалась мебель для гробницы: столы, кровати, шкатулки, шкафы, сундук с оружием для охоты, еще один сундук с фигурками Ушебти, которые будут полезны для различных работ на том свете. Кроме того, везли сотни других вещей, которые потребуются царю или же будут служить ему для приятного времяпрепровождения, в том числе чудесно сработанную игру: доску из черного дерева с фигурками из слоновой кости, украшенными драгоценными камнями.
Траурная процессия вышла за пределы Белой Стены. На пути к Нилу стояла громадная толпа народа. Простолюдинов не заботила церемония погребения, они ликовали при виде молодого царя так же, как и раньше при виде ныне покойного старого.
Прошло много времени, прежде чем саркофаг, алебастровые сосуды и другие предметы погребения были погружены на суда. Царственная чета и вдовствующая царица Туя тем временем сели в кресла, которые несли за ними. Балдахин, который держали слуги, защищал их от лучей Ра, обдававшего горячим, дарующим жизнь дыханием страну Кеми и ее детей.
Нефертари радовалась поездке на юг, потому что позднее они должны будут посетить Абидос, где жили ее родители. Она приехала в Мемфис как дочь безвестного арендатора земли, тринадцатилетняя Инет, а возвращалась на родину как Великая Царская Супруга, божественная мать и носительница знака урея, голос которой звучал радостью для всех, кто его слышал, приятная духом и сладостная в любви, наполнявшая дворец своим благоуханием, двадцатилетняя Нефертари вместе с Добрым богом Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Рамзесом, сыном Солнца и носителем священной двойной короны.
С тех пор как Рамзес сделал ему заманчивое предложение, Пиай больше не находил покоя. Его отец был поражен, когда услышал о планах молодого царя, но как добрый египтянин он безропотно смирился перед волей фараона.
— Если Богоподобный так ценит тебя, это большая честь, и ты должен немедленно отправиться в это познавательное путешествие. Оба наших помощника уже так хорошо разбираются в самых сложных работах, что скоро, я надеюсь, дело пойдет и без тебя, должно пойти. Может быть, я обучу еще и третьего помощника. То, что тебе предлагает царь, важнее всего остального. Ты мой сын, и я хочу тебе счастья.
Пиай обнял отца и пообещал вернуться, как только сможет.
Сначала он отправился на юг, где его высадили в Фивах после однодневного путешествия. Он сразу же отправился к храму, посвященному семье Амона, Мут и Хону, который выстроил фараон Аменхотеп. Царское письмо открывало Пиайю все двери. Жрецы и их помощники бормотали благословение, когда он предъявлял им свиток с царской печатью.
Меньшее усердие проявили жрецы в громадном, расположенном в северной части города храме Амона. Они помедлили, когда Пиай попросил их о приюте и доступе к архиву храма. В конце концов молодого мастера провели к Тотмесу, второму жрецу храма Амона. Он долго разглядывал и изучал царское послание, внимательно ощупал печать и наконец произнес:
— С тех пор как Благой Бог правит в Мемфисе, мы должны проявлять большую осторожность. Ранее наш храм находился под непосредственной защитой фараона и, если у нас возникали какие-либо сомнения, мы посылали гонца прямо во дворец. Но сегодня… — Он вздохнул и вернул Пиайю послание с легким поклоном. — Ты, конечно же, наш почетный гость и можешь смотреть все, что тебе будет угодно, если это будет в соответствии с нашими обязанностями по отношению к богу.
Пиай поблагодарил жреца и в течение последующих дней занимался только тем, что изучал планы и расспрашивал архитекторов. Таким образом, он шаг за шагом постигал существо храмовой архитектуры, что облегчала ему способность схватывать все на лету. Пиай обладал значительными познаниями, но теперь он понимал, насколько они малы. То, что есть различные типы колонн, он знал, еще будучи учеником, потому что нетрудно было отличать друг от друга колонны в виде пальм, лотоса или папируса. Теперь же вчерашний скульптор учился обращаться с угольником, отвесом, локтем, мерным шнуром, нивелирной рейкой, и перед ним открылся целый мир. Он узнал, как закладывают фундамент и сколь важна эта работа. Вскоре он научился читать планы и чертежи и понял, что ремесло зодчего не менее сложно, чем искусство художника или скульптора.
Спустя два месяца Пиай отправился на ладье дальше на север. Во время путешествия он не смотрел на уютные, мелькавшие мимо него пейзажи с обильно зеленеющими полями и высокими, качавшимися на ветру пальмами. Начинающий архитектор пытался сделать свой собственный набросок храма, он строил на папирусе громадные пилоны, мощные залы с колоннами, часовни, внутренние дворы, священные озера, дома для жрецов и их помощников, дома для гостей, амбары, склады для продовольствия, хлева для коров. Своими планами он никак не был доволен. Когда ладья под большим парусом приблизилась к столице, Пиай свернул свой папирус, убрал письменный прибор и решил потратить еще некоторое время на учебу, прежде чем отваживаться на собственные проекты.
Мемфис показался Пиайю подобным лабиринту: необозримое смешение улиц, каналов, дворцов, храмов и правительственных зданий. Между ними встречались дома в четыре этажа, и, куда бы Пиай ни направился, на север или на запад, он видел перед собой цепь пирамид, из которых ка давно почивших царей смотрели на столицу и радовались пестроте жизни.
Когда Пиай спросил, где находится храм Пта, его дважды не поняли. В отличие от Абидоса столица кишела чужеземцами, которые, как позднее узнал Пиай, построили храмы собственным богам Ваалу и Иштар.
Такого большого города Пиай еще никогда не видел. По нему можно было бродить часами и внезапно наткнуться на пальмовую рощицу или на маленькое поле. Тогда можно было подумать, что это окраина Мемфиса и вот-вот начнутся деревни. Тем не менее путник скоро понимал, что ошибся: из-за пальмовой рощицы выныривала новая группа домов, как будто этот город продолжался до бесконечности.
Дворцовый квартал Пиай рассматривал снаружи, удивляясь высоким башням Белой Стены. Ему стоило сказать одно только слово, и он мог бы уже сейчас удостоиться аудиенции Благого Бога, но молодой мастер хотел сделать так, как ему посоветовал Рамзес, и предстать перед царем не раньше чем через год. Он однажды слышал, как некий жрец сказал:
— Если фараон что-либо советует, это все равно что приказ, и его непременно выполняют, потому что совет молодого Гора всегда бывает хорош.
Пиай поселился в доме для гостей при храме Пта. Громадные украшенные флагами пилоны храма охранял могущественный сфинкс из алебастра, схожий чертами с фараоном Аа-Хеперу-Ра-Аменхотепом. Однако, как позднее узнал Пиай от одного старого архитектора по секрету, первоначально он изображал царицу Маат-ка-Ра-Хатшепсут, которая показывалась на людях в двойной короне и с фараонской бородой. В Мемфисе Пиай услышал о тяжелой болезни царя Сети, который уже давно не показывается на людях и передал все государственные дела своему сыну Рамзесу.
Со временем мастер нашел путь к кругу молодых людей, которые все в той или иной степени были связаны с Большим храмом. Одни работали как ремесленники в храмовых мастерских, другие были писцами, помощниками жрецов или управляющими. По вечерам они за кувшином пива или вина беззаботно, как и полагалось молодым людям, обсуждали занимавшие их проблемы.
В начале времени Перет Пиай хотел продолжить свое путешествие по Дельте. Когда остальные это услышали, они воскликнули:
— Ты счастливец! Тому, кто может отправиться в это время, всегда везет. Ты попадешь как раз к праздникам в Пер-Бастет. Ни в коем случае их не пропусти: молодые девушки и женщины переоденутся кошками и готовы будут забраться в постель к каждому.
Пиай уже давно об этом слышал, но так ли это, не знал.
Однажды утром он отправился в гавань мимо тащивших грузы рабов, праздных прохожих, проворных писцов с их досочками для письма за поясом и связкой перьев в руке. Богатые высокопоставленные чиновники, наследные князья и «друзья фараона», конечно же, не марали ног уличной пылью, сильные рабы носили их по городу в красиво вырезанных и разукрашенных носилках.
Вблизи от здания суда собралась толпа, что казалось странным, потому что обычно каждый старался пройти мимо этого здания как можно быстрее. Пиай попытался протолкаться вперед, но его с возмущением оттолкнули:
— Хочешь занять местечко получше, да? Мы ждем дольше, чем ты, вот и становись позади нас.
Пиайю пришлось остановиться. Он был высоким и мог смотреть поверх голов. Площадь перед зданием суда была оцеплена стражниками. Воины должны были скрещенными копьями удерживать напиравшую толпу, в случае нужды они не стеснялись использовать свои копья как дубинки.
На площади судебные исполнители сооружали эшафот из колючего кустарника, хвороста и тростника.
— Что они делают? — спросил Пиай у стоявшего перед ним мужчины.
— Как что делают? Собираются сжечь разбойника и убийцу.
Пиай вздрогнул. Он никогда не наблюдал подобную казнь и поэтому, не имея желания смотреть на такое, захотел поскорее уйти. Однако он оказался настолько тесно зажат в толпе, что, как ни пытался выбраться, у него ничего не получилось.
Когда эшафот достиг высоты в четыре или пять локтей, на носилках поднесли что-то, бывшее ранее человеком.
— Здорово его отделами, — усмехнулся кто-то из толпы, а другой добавил:
— Его допрашивали три или четыре дня. Чудо, что он вообще живой.
Судебный писец вышел вперед и зачитал что-то, но шум толпы заглушил его слова. После
этого четверо мужчин подняли носилки и поставили их на эшафот.
Пиай увидел, что преступник привязан ремнями к носилкам. Его обритая голова была в кровоподтеках, одна из ног выглядела странно скошенной, как будто сломанной или вывихнутой. Четверо мужчин с четырех углов подожгли эшафот, вспыхнувшее тотчас пламя с треском и хрустом принялось пожирать кустарник, добралось до тела преступника и охватило его. Пиай услышал долгий протяжный вопль и ощутил тошнотворный запах горящей плоти. Толпа казалась разочарованной.
— Жаль, что с ним так быстро покончили! Совсем немного помучился… — с сожалением вздохнул один.
Другой добавил:
— Жаль, столько хорошего топлива перевели. Для этого мерзавца хватило бы и половины.
Пиай протолкался через толпу и быстро пошел к гавани. Там уже ждали ладьи для паломников, и мастер занял место на маленьком паруснике, который должен был отплыть следующим утром.
Меру был занят ежедневными тренировками в стрельбе из лука, когда его позвали к Себеку. Старый предводитель разбойников выглядел сегодня хуже, чем мумия, лежащая в растворе. Лицо со шрамами от ударов мечом, без ушей и без носа повернулось к Меру, который даже сейчас, спустя два года, все еще пугался этой жуткой физиономии.
— Ты оправдал доверие, — прохрипел холодный, почти монотонный голос. — Ты грабил, убивал и дрался, как я и ожидал от тебя. Мой помощник Огонь несколько месяцев назад был схвачен и окончил дни на эшафоте. Мы не знаем, выдал ли он что-либо под пытками, но они разжаловали нашего доверенного человека в ниу и отправили на каторгу. Я внимательно наблюдал за тобой и считаю, что ты должен занять место Огня. Ты хочешь этого?
Меру знал, что своим «да» он, вероятно, выносит себе смертный приговор, потому что четыре ближайших помощника Себека — Земля, Вода, Воздух и Огонь — подвергались наибольшей опасности. Счастливцы умирали, сражаясь, но тот, кого боги хотели наказать, попадал в руки воинов ниу. Его пытали и, как правило, сжигали живьем. Однако согласие Меру было давно дано, поэтому и сейчас он не колебался:
— Да, я хочу! Земля разведал уже что-либо?
— Да, — прохрипел Себек, — разведал. Траур по царю Сети окончится через несколько дней. Когда мумию повезут на ладье, все Фивы будут встречать корабль в гавани, и Земля выяснил, что некоторые сокровища останутся почти без охраны. Дело еще не созрело, но скоро ты будешь знать наверняка.
Меру вышел, слегка хромая. Лекарь повелителя пустынь сшил сухожилие в ходе длинной болезненной операции два года назад. Этот слуга Сехмет много лет по поручению нетерпеливых наследников за крупные суммы залечивал людей до смерти. Дело вышло наружу, но лекарь сумел вовремя бежать.
Хем-Сехмет (Слуга Сехмет) — так он называл себя сейчас — разбирался в бальзамировании, и тем, кто погибал, выполняя поручение Себека, если было возможно, оказывалась эта услуга. Таким образом ка умерших не блуждали, потеряв покой, а могли принимать участие в вылазках своих прежних товарищей, чтобы потом снова возвращаться к своей мумии. Вот почему казнь на костре так пугала — тело при этом полностью разрушалось. Поэтому-то Себек раздал своим людям капсулы с ядом, чтобы каждый из них, если ему грозила опасность попасть в плен, мог избежать сожжения.
Меру тем временем снял свои искусственные уши и восковой нос, потому что шрамы под клеем постоянно воспалялись, к тому же подобные увечья среди разбойников пустыни почитались как знаки отличия. Во время разбойничьих вылазок он завязывал голову льняным платком, оставляя открытыми только глаза. Желание мести у Меру вовсе не уменьшилось, пока он вел разбойничью жизнь. Он не отказался от своих намерений, лишь ждал своего часа, и его не беспокоило, наступит ли этот час завтра или через несколько лет. Достижение этой цели означало одновременно окончание его земной жизни. Когда месть свершится, Меру хотел удалиться и начать спокойную мирную жизнь на том свете, в Закатной стране. То, что на этом свете подобное ему не светило, Меру ни в коем случае не воспринимал как несчастье. Он любил и наслаждался своей нынешней жизнью. Через несколько дней свершится наконец его месть. Четыре помощника собрались вокруг Себека и выслушали доклад Воздуха, который разработал план, опираясь на сведения, полученные Землей.
Воздух был мрачным человеком средних лет, который некогда с большой ловкостью устранил своих четверых старших братьев и сестер, чтобы получить родительское наследство. Дело всплыло случайно, но убийца совершенно необъяснимым способом ускользнул от топора палача.
Воздух положил перед собой свиток папируса и развернул его.
— Друзья, здесь вы видите план храма Амона на северо-западе города. Озирис-Сети незадолго до смерти решил увеличить его, и наследник Рамзес сразу же после траура начнет заниматься этим. Храм посвящен теперь Амону Мемфисскому и независим от Фив. Сокровища храма, несколько сотен дебов золотом и серебром, обычно хранятся здесь, — Воздух указал на сокровищницу, — но из-за предстоящих строительных работ временно перемещены в капеллу Мут. Золото и серебро просто уложили за алтарем богини и прикрыли тростниковыми матрасами. Храмовая стража полгода назад была значительно уменьшена, вероятно, потому, что покойный фараон считал, что никто не покусится на сокровища Амона Мемфисского.
Воздух хихикнул. Земля громко рассмеялся, Вода мрачно ухмыльнулся, а Меру, который должен был руководить грабежом в качестве Огня, тут же поставил вопрос:
— Что значит уменьшено? Сколько человек охраняют храм?
— Двенадцать, — ответил Воздух, — но восемь из них сопровождают тело Озириса-Сети. Итак, осталось только четыре вооруженных стражника, один старый жрец-чтец и пара храмовых слуг. Это удачное для нас положение дел сохранится, однако, только от трех до пяти часов. Итак, мы должны выехать ночью, спрятаться вблизи храма и выслать шпиона, который даст нам знак, когда восемь храмовых стражников вместе со жрецами отправятся в гавань. Мы подождем, пока они отойдут подальше и не смогут нас слышать, и ринемся на дело. Тебя, Огонь, я прошу проследить, чтобы никто не остался в живых. Если вы пощадите хотя бы одного, он тотчас побежит к ниу и стражники станут преследовать нас по пятам. Мы можем рассчитывать на три, возможно, четыре или пять часов спокойного грабежа. Храм стоит вдали от других зданий, он окружен полями и хозяйственными постройками. Прочешите все! Старый садовник, прикованный к постели или больной раб могут остаться в живых и повредить нашей безопасности. Женщин убивайте тоже! Как бы ни нужны были нам здесь женщины, не берите с собой на этот раз ни одну! Не хотите марать рук — свяжите ее так, чтобы она не могла убежать.
Себек вмешался своим скрипучим голосом:
— Никому не надо, чтобы вы убивали детей, но свяжите каждого, кто может бегать. Нам нельзя идти даже на малейший риск. Это самое большое ограбление, которое когда-либо предпринимали разбойники пустыни. После него нам не потребуется планировать что-либо больше, каждый из нас получит столько, что сможет начать новую жизнь. Каждый, кто не отмечен…
Глаза Себека злорадно блеснули: отмечены были почти все. Вряд ли кто-то из присутствующих тосковал по добропорядочной жизни, и Себек знал это.
7
Дворцовый квартал в Фивах уже десятилетия стоял пустым, но многочисленные слуги заботились о порядке в нем, потому что по меньшей мере один раз в году нужно было принимать высоких гостей. Принц ли, принцесса, царица или сам царь, если они отправлялись к Озирису, находили свои Вечные Жилища здесь, на западе от Фив. К тому же их величества часто праздновали в Большом храме ежегодный праздник Опет или же просто останавливались в бывшей столице во время своих путешествий.
У царского дворцового квартала была собственная гавань на Ниле. Именно здесь ждали царский флот второй жрец Амона Тотмес, правитель города Птамозе, чиновники и жрецы.
Нубийские рабы держали большие тенты над головами знати, потому что Ра уже высоко стоял в небе и своим божественным огненным дыханием иссушал страну Кеми.
Наконец показались первые суда. На этот раз молчали литавры и барабаны, потому что время радоваться вернется только после погребения Озириса-Сети.
Все совершалось по древнему ритуалу. Царскую чету, царицу-вдову и близких родственников тут же проводили во дворец. Саркофаг с мумией остался на берегу под украшенным балдахином, охраняемый воинами личной стражи.
Два жреца-чтеца по очереди всю оставшуюся часть дня и целую ночь читали старинные молитвы погребального канона, а с восходом солнца Озирис-Сети пересек Нил по пути к Вечному Жилищу на западе.
Траурная процессия была сейчас очень маленькой. Плакальщиц и низших придворных чиновников с собой не взяли. Ритуальные молитвы жреца Амона Тотмеса сливались с шумом, создаваемым повозкой с быками, которая со скрипом и грохотом катилась по песку и скальной породе.
Все шли пешком. Гробница Озириса-Сети была в нескольких часах пути от Нила, но традиция запрещала сопровождать саркофаг с мумией в последний путь к Дому Вечности на повозках.
У входа в гробницу ждал старый архитектор Инени, его высоко ценил умерший царь, и именно он сделал план гробницы и следил за ее строительством. В качестве знака своей должности он носил у пояса свернутый мерный шнур. Инени глубоко поклонился Туе и царской чете. Рабочие упали ниц в песок.
Рамзес еще никогда не участвовал в церемонии «открывания рта» и почувствовал легкую дрожь, потому что она принадлежала к самым важным и самым секретным религиозным церемониям. При «открытии рта» набальзамированного мертвеца «пробуждали к жизни».
Саркофаг с умершим царем поставили перед входом в гробницу, до этого на стол положили необходимые предметы культа: изогнутый топор, широкий нож, золотой палец, связку перьев, маленькую ладью с вином и водой, а также несколько курильниц с благовониями, в которых мерцал древесный угль.
Сильные помощники жрецов подняли мумию из саркофага и поставили ее прямо перед входом в гробницу. Потом началось культовое действо с выходом богинь Изиды, супруги и сестры Озириса, и Нефтиды, которых воплощали Туя и Нефертари. Обе женщины обрызгали мумию водой и вином, взяли курильницы с благовониями и окутали Озириса-Сети ароматным дымом. После этой церемонии очищения служители храма привели сильно сопротивлявшегося и громко мычавшего теленка, которому жрец, приносивший жертвы, быстрым ударом топора отрубил правую переднюю ногу. Едва животное с ревом упало на землю, жрецы мгновенно разрубили его.
В то время как части теленка сгорали в шипящем жертвенном огне, жрец поднял переднюю часть теленка — в ней содержалась магическая сила — и коснулся груди мумии, после чего Рамзес схватил позолоченный изогнутый топор и легко коснулся им рта, носа, глаз и ушей Озириса-Сети, выполнив самую важную часть церемонии. За ним последовал жрец, который коснулся золотым пальцем рта маски, в то время как другой жрец обмахнул мертвеца связкой перьев цапли, тем самым пробуждая его к жизни.
Сопровождаемое молитвами священное действо продолжалось еще очень долго. Туя и Нефертари при этом с двух сторон охраняли мумию. Наконец пришли девять жрецов, воплощавших девять старых богов Она. Они снова уложили мумию в саркофаг, в то время как Туя воскликнула приглушенным голосом:
— О горе, о беда! Насколько же жестока моя судьба! Мой супруг, который сопровождал меня в садах и на берегах Нила, теперь весь обмотан холстами! Узнаешь ли ты меня? Я твоя супруга, твоя любимая сестра! Мое тело тоскует по тебе, но твое сейчас холодно. Но радуйся, потому что теперь ты будешь сидеть за столом богов! Это прекрасный день для тебя, носящего скарабея под сердцем. Меня ты, однако, покинул, и я одна должна возвращаться в свой дом.
Тем временем девять жрецов исчезли со своим грузом в гробнице. На этом траурная церемония закончилась, и теперь следовало должным образом отпраздновать вступление в новую жизнь Озириса-Сети.
Перед гробницей были выставлены столы, на них были разложены кушанья и напитки. Но в этом, собственно говоря, всего лишь следовали традиции. Туя и Нефертари едва прикоснулись к блюдам, в то время как Рамзес съел трех перепелок и два больших хлеба. Жрецы тоже на славу утолили голод и жажду. В конце концов ведь на них лежал главный груз этого дня. Туя знаком запретила им прерывать трапезу, взошла на носилки и велела отнести себя назад. Рамзес и Нефертари через положенное время последовали за ней.
Уже по прибытии Рамзес дал понять жрецам, что не хочет сам назначать первого жреца Амона, вместо этого они сами должны будут представить ему список с тремя или пятью кандидатами по их выбору. Во время праздника Опет он объявит о назначении. И вот список лежал перед ним, и Рамзес старательно изучал имена четырех соискателей, ни одного из них не зная близко. Фараон приказал представить ему подробную биографию каждого.
Когда Рамзес и Нефертари остались одни, он спросил ее:
— Ты заметила скрытую неприязнь жрецов Амона? Этот Тотмес проявляет рвение, но я чувствую его неприязнь так ясно, как будто она написана у него на лбу. Их не устраивает, что столицей и дальше будет Мемфис. Они завидуют жрецам Озириса в Абидосе, которые получат новый храм. Они не прощают мне и моему отцу, что мы вырвали из их лап Амона Мемфисского. Как видишь, у этих людей есть немало причин ненавидеть меня.
Нефертари сняла парик, распустила свои темные волосы и принялась небрежно расчесывать их.
— Это могла бы сделать служанка, — заметил Рамзес.
— Я не хочу видеть никаких слуг. И без того можно сосчитать мгновения, когда мы наедине. Что касается жрецов Амона, я не верю, что они тебя ненавидят. Они почитают в тебе Благого Бога, драгоценное сердце страны Кеми. Но, как и все люди, они ищут своей выгоды, а Озирис-Сети больше брал у них, чем давал им. Не подумай, что я это не одобряю! Я полагаю, что вся власть должна находиться в твоих руках и исходить от тебя. Эти жрецы хотели бы построить государство в государстве. Твой отец помешал этому, и ты, как я вижу, делаешь то же самое. Твоя супруга очень тобой довольна, любимый.
Рамзес удивленно покачал головой:
— Посмотрите-ка, маленькая Нефертари все знает. Мне можно было бы сэкономить на жалованье главного советника и назначить на эту должность тебя. — Фараон посерьезнел. — Нибамун и без того просил после смерти моего отца отпустить его на покой. Он уже стар и хотел бы прожить остаток жизни как частное лицо. Я рад, что он сам предложил это. Когда мы вернемся в Мемфис, я предложу эту должность его племяннику, молодому Парахотепу. Вместе с ним я учился грамоте, мальчишками мы бегали с ним наперегонки. Он мой друг, и я могу на него положиться.
Вошел секретарь и доложил о жреце Амона Тотмесе. Рамзес хлопнул себя по лбу:
— Я совсем забыл! Похоже, у него ко мне важное дело. Да хранит тебя Хатор, любимая.
Тотмес ждал в зале для аудиенций. Он глубоко поклонился:
— Приветствую тебя, о Гор, любимец Маат, великий властью, прекрасный…
Рамзес отмахнулся:
— Хорошо, хорошо, мне известен мой титул. Не будем терять времени. Ты должен сказать мне что-то важное?
— Только предложить, Богоподобный. Мы, жрецы Амона и чиновники города, припадаем к стопам твоим с просьбой.
— Итак, — нетерпеливо спросил Рамзес, — я полагаю, ваша просьба касается должности верховного жреца?
Тотмес с усердием изобразил покорность:
— Нет, Богоподобный, мы отдали это в твои руки и послушно примем твое решение. Речь о другом… — Он откашлялся, глядя в пол. — Речь идет… Короче говоря, однажды Богоподобный Озирис-Сети намекнул нам… ну… он рассматривал вопрос… нет, собственно говоря, уже пообещал, что… твоя первая жена будет происходить из кругов Амона, так сказать, в качестве возмещения за перенесение столицы, чтобы таким образом и дальше находиться в связи с богом царства Амоном-Ра. Итак…
Рамзес насмешливо улыбнулся:
— Если мой отец это и пообещал или имел в виду, по понятной причине это невозможно. Но мы должны подумать, как выполнить его волю. — И он усмехнулся про себя: «Если ни о чем другом речь не идет, я позволю малышке прошмыгнуть в свой гарем, и жрецы будут довольны».
Тотмес, хороший знаток человеческой натуры, раскусил царя, но не позволил себе этого заметить вслух.
— Мы подумали о девушке, которая и нас бы не заставила стыдиться, и тебе могла бы принести много радости, — о Бент-Амон. Она племянница третьего жреца и служит храму как певица. Ее родители уже в Доме Вечности. Короче, Бент-Амон красивая, образованная, хорошо воспитанная девушка, и она будет тебе служить так же преданно, как сейчас служит богу царства. Твое величество доставит нам большую радость, если примет ее с благоволением и испытает ее.
— Я сделаю это, достопочтенный. Через четыре дня начинается праздник Опет, и я хотел бы до того назначить верховного жреца Амона. Я предоставлю это сделать самому богу. Позаботься о том, чтобы завтра к двум часам дня во двор храма вынесли золотое изображение Амона. Бог сам сообщит о своем выборе.
Тотмес с трудом скрыл удивление. Он, конечно же, знал, как происходит церемония выбора. Будет названо несколько имен, и культовая статуя наклонится, когда произнесут верное. Для этого одному из передних носильщиков нужно будет только слегка присесть. Но чего хитроумный жрец не знал, так это того, что Рамзес заменил одного из этих носильщиков, жрецов из Фив, одним из жрецов Амона Мемфисского.
Тем временем царские чиновники выяснили, что только один из четырех кандидатов не происходит из семьи, давно связанной со жрецами Амона, а именно, Небунеф. Его семья несколько столетий жила в Тинисе и имела там большое поместье. Среди многих должностей, которые он занимал, была также должность управителя владениями Амона в Тинисе, поэтому он часто бывал по делам в близлежащих Фивах и стал известен всем как старательный добросовестный человек, с которым легко общаться. Если выбор падет на Небунефа, можно надеяться, что он будет добросовестным верховным жрецом, потому что он богат, и независим, и никому ничего не должен в Фивах.
На следующее утро Рамзес вышел к народу в полном облачении. На нем была бело-красная корона Обеих Стран, гладко выбритый подбородок украшала длинная накладная борода, в руках покоились плеть и скипетр. Носители опахала с обеих сторон трона навевали фараону прохладу, потому что во второй месяц Ахет Ра уже с утра палил в полную силу.
Скрытые в зале с колоннами певцы и музыканты исполняли тихий торжественный хорал:
— Радость тому, кто склоняется перед тобой, о мой бог Амон, Бык твоей матери, повелитель Фив.
Медленно открылись двери в святилище, и четверо жрецов в белоснежных одеждах с мехом леопарда на плечах вынесли церемониальную ладью с золотым Амоном. Бог был изображен стоящим с высокой короной из перьев и длинной завитой бородой божества. Его правая рука опиралась на скипетр «УАЗ», в левой он держал символ жизни Анк.
Рамзес встал и поклонился:
— Приветствую тебя, Амон-Ра, мой отец, который во всем, царь богов, благодетель страны. Дай мне знак, кого из твоих четырех служителей, которых я сейчас назову, ты выберешь своим верховным жрецом.
Рамзес громко выкрикнул первое имя, подождал, потом второе — подождал, потом третье, и это было имя Небунеф. Рамзес уже собирался произнести четвертое имя, когда золотой Амон явно наклонился вперед, чтобы снова быстро выпрямиться.
— Амон сказал! — воскликнул Рамзес. — Небунеф, выйди вперед!
Избранный встал на колени перед царским троном, и Рамзес, воплощенный Гор, возложил десницу ему на голову:
— Мой отец Амон-Ра избрал тебя, и я приветствую его выбор. Ты будешь верховным жрецом Амона и станешь управлять его имуществом. Всем остальным жрецам следует подчиняться тебе, ты будешь единственным ответственным перед богом и мной, Благим Богом. Будь счастлив в его храме и празднуй тысячу тысяч праздников Опет. Бог сам избрал тебя, он поддержит тебя и уготовит тебе однажды прекрасное жилище в Закатной стране.
Фараон торжественно передал Небунефу знаки его власти: перстень с печаткой, золотой жезл и широкий золотой пояс.
Затем зазвучала музыка арф, и невидимый хор запел:
— Хвала тебе, о прекрасный Амон-Ра, встающий по утрам, а вечером отправляющийся в свое ночное путешествие. Единый, вечно живущий, твой блеск равняется блеску богини неба, твое тело создано из золота и серебра. Хвала тебе, о Солнце дня, которому подчиняется все живое…
Новый верховный жрец опустился на скамеечку у подножия трона. Жрецы и чиновники прошли мимо него, низко кланяясь и целуя ему руку.
Вечером Рамзес принял храмовую танцовщицу (раньше она была певицей) Бент-Амон в маленьком зале для аудиенций, рядом с ним сидела Нефертари. Он рассказал ей о предложении жреца, и жена приняла его спокойно:
— Ты можешь распространять свое семя куда захочешь, для меня все равно останется. Твое сердце, однако, принадлежит мне одной! Я не разделю его ни с какой другой! Если ты захочешь забрать его назад, я убью себя и заберу его с собой в могилу…
— Ну, Нефертари, об этом и речи быть не может! Ты — моя самая любимая и самая прекрасная! Ни одна женщина в мире не может заменить мне тебя. Я отправлю Бент-Амон в гарем, сделаю ей ребенка и забуду о ней. Но мы должны обдумать следующее: я не могу испортить отношения со жрецами в Фивах. Насколько они нуждаются во мне, настолько же я нуждаюсь в них. Амон могуществен и будет оставаться таким еще очень долго. Не в Мемфисе, любимая Нефертари, мы вступим однажды в нашу вторую и вечную жизнь, мы оба, ты и я, а здесь, в Фивах, под защитой Амона.
Нефертари думала об этих словах, когда ввели Бент-Амон. Как ослепленная, она упала перед троном ниц и пробормотала ритуальные слова:
— Будь здрав Гор, любимей Маат, великий властью, прекрасный годами, Могучий Бык, оживляющий сердца, Благой Бог и сын Солнца, господин Обеих Стран, Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес. Будь жив, здрав и могуч.
Однако Рамзес не сказал ей: «Поднимись!» Он молчал и ждал. Бент-Амон также молчала. Тогда Рамзес произнес нарочито мягко, но с угрозой в голосе:
— Ты приветствовала только меня, однако я сижу на троне не один.
— Извини, Богоподобный! Будь здрава также ты, повелительница Обеих Стран, самая приятная под уреем, наполняющая дворец своим благоуханием.
— Поднимись, Бент-Амон.
Молодая женщина выпрямилась, ее умное и высокомерное лицо с точеными чертами не выдавало никаких чувств. Она была овеяна аскетизмом, суровой девственностью, и Рамзес уже обдумывал, не отослать ли ее обратно в храм. Но потом решил: «Мне, фараону, она не сможет отказать. Как раньше служила Амону, так теперь станет угождать его сыну, хотя, может быть, и способом, который ей не слишком приятен».
Рамзес мысленно раздел девушку, снял с нее целомудренную одежду жрицы, безжалостно заставил раздвинуть бедра, и… увидел в ее глазах отвращение и страх.
Он заставил свои мысли вернуться к реальности, поднялся и взял Бент-Амон за руку.
— Я беру тебя в супруги, Бент-Амон из Фив. Добро пожаловать в мой дворец.
Так Рамзес впустил Амона из Фив в свой дом. Ему это показалось ничего не значащей любезностью, но фараон ошибался.
Пиай, никогда не бывавший в Дельте, с удивлением смотрел на плодородную, казавшуюся бесконечной пахотную землю, которая простиралась по обеим сторонам Нила. У себя на родине он привык, что вдали всегда виднеются каменистые холмы пустыни, ограничивающие полоску плодородной земли в пойме Нила. Здесь благодаря разветвлению священного потока, возникла зеленеющая площадь, простиравшаяся с запада на восток. Пиай слыхал о том, что здесь временами льется вода с неба, но не мог в это поверить.
На корабле паломников было весело. Мужчины и женщины отбросили всякий стыд друг перед другом, по кругу постоянно путешествовал бокал с вином, девушки танцевали на палубе и качали грудью и бедрами, мужчины играли на флейтах, а у кого не было инструмента, тот хлопал в ладоши в такт музыке. Если корабль проплывал мимо какого-либо города, на берег высыпали люди, они пели, ликовали, выкрикивали насмешливые слова, на которые им тут же отвечали с корабля. Самые дерзкие из девушек и женщин приподнимали свои юбки, нахально показывали бедра, а затем снова опускали юбки. Пиай узнал, что подобное поведение ни в коем случае не считается неприличным, ибо угодно богине Баст. Останавливаться стали чаще, брали на борт новое вино и новых паломников, так что путешествие в Пер-Баст в конце концов продлилось почти три дня.
Пиай, далеко не любитель выпить, вынужден был все чаще брать в руки бокал с вином. Когда корабль прибыл в Пер-Баст, бедняга был так пьян, что споткнулся, упал и так и заснул прямо на берегу реки.
Он проснулся уже после захода солнца от шума и дуновения прохладного воздуха. Со всех сторон раздавались звон систра и звуки флейт. В свете факелов пьяные танцевали и устремлялись потоком в направлении города, где находился большой храм Баст. Голова Пиайя трещала, как большой гонг в храме Озириса, его мучила ужасная жажда, охрипшая от вина и пения глотка горела огнем. С трудом он пополз к реке и несколько раз окунул голову в воду, потом нагнулся и без сил мешком бухнулся в Нил. Двумя гребками он подплыл к берегу и попытался выбраться из воды, но все время соскальзывал вниз. Тут он почувствовал, как его внезапно схватили за руку, и женский голос воскликнул:
— Ты хочешь утопиться в честь Баст, чужеземец? Однако богиня принимает жертву музыкой, вином и любовью, ей не нужна твоя жизнь!
Наконец он снова стоял на твердой земле, с него стекала вода, он дрожал. Темно было, хоть глаза выколи, потому что в это время землю освещал лишь узенький серпик луны.
— Пойдем сначала ко мне. Я вытру тебя досуха, потом ты сможешь пойти в город поклониться нашей богине.
Пиай позволил женщине отвести себя в ее дом, находившийся у реки, и только там при свете огня смог рассмотреть ее лицо. В ней не было ничего особенного. Она была еще молода, смотрела на мир с любопытством и без боязни и рассмеялась, когда Пиай робко снимал свой мокрый передник. Она досуха вытерла мастера, не пропустив ни одной частички его тела.
Пиай узнал, что несколько месяцев назад она вышла замуж. Ее муж плавает по Нилу, неделями его не бывает дома, и детей, конечно же, еще нет. Она предложила гостю вино с водой и добавила к нему немного фруктов.
Когда Пиай утолил жгучую жажду и разогрел тело, в нем проснулось желание приласкать эту женщину. Однако законы Кеми были строгими, и за доказанную неверность женщине грозил костер. Поэтому он отодвинулся, поблагодарив хозяйку за помощь, и хотел проститься. Но женщина вдруг начала без всякого стыда ласкать его. Она гладила его голое тело, тихо смеялась и поцеловала его в соски.
Оказалось, что ее зовут Нибет и она не думает о том, чтобы так быстро отпустить красивого незнакомца. А еще она находит его серые глаза очень волнующими, и у нее странно замирает сердце, когда он на нее смотрит.
— Ты знаешь, что тебе грозит, Нибет, если нас застанут?
Она засмеялась и сказала:
— Праздник Баст длится девять дней, а сегодня только второй. Даже если я пойду с тобой на рыночную площадь и там при всех предложу себя тебе, с нами ничего не может случиться. Ты, вероятно, не знаешь, незнакомец, но то, что мы делаем, — служение богине.
— Меня зовут Пиай, — сказал он и приподнял платье Нибет выше ее бедер. Она хихикнула и сняла платье одним движением через голову. Тут Пиай услышал какое-то царапанье и в испуге обернулся. Но это оказалась только кошка, которая через окно прыгнула на сундук.
— Это Зат-Баст! — объяснила Нибет с гордостью. — Наша маленькая домашняя богиня. Если она будет присутствовать при нашей любовной игре, это особое благословение.
Зат-Баст взглянула на огонь, зевнула, подошла к Пиайю, старательно обнюхала его, а затем погналась за мухой и внезапно снова выпрыгнула через окно.
— Тем не менее она нас видела. В каждой кошке живет дух нашей богини, и мы наконец займемся сейчас тем, что ей наиболее угодно.
Нибет обняла Пиайя, поцеловала его и потянула на ложе.
— Иди, мой красивый сероглазый незнакомец, сделаем то, что сегодня делают все… — настойчиво потребовала Нибет и предложила ему свое горячее тело.
У Пиайя было мало опыта в общении с женщинами, поэтому он по манере молодых мужчин сильно и напористо проник в нее, так что Нибет взмолилась:
— Медленно, мой любимый, медленно, у нас еще целая ночь впереди, и умные мужчины сразу всю свою силу не тратят.
Она обучала его бережнее расходовать свою силу, красиво и с удовольствием распределять ее на много часов. Они делали перерывы, пили вино, ели холодную курицу с высушенным инжиром и радовали друг друга, пока не начало светать и Ра не пробудил их своим огненным поцелуем из короткого сна.
— Мне очень нравится ваше служение богине, — высказался Пиай, поедая ложкой теплую молочную кашу.
Нибет кивнула.
— Мы также радуемся девяти дням в году. Для женщины, которая весь год сидит дома, и в самом деле приятно один раз познакомиться с другими мужчинами, особенно если собственного так часто нет дома.
— Ты мне покажешь город и храм? — спросил Пиай.
Нибет покачала головой:
— Нет, дорогу туда ты найдешь и без меня. Несмотря на праздник, на замужних женщин, гуляющих с чужими мужчинами, смотрят неодобрительно. Ночью дело другое. Если хочешь, сегодня вечером можешь вернуться. Вот только я могу быть не одна…
Пиай рассмеялся:
— Праздник, подобный этому, действительно только один во всей Кеми. Я благодарю тебя за гостеприимство, милая Нибет. Да хранит тебя Баст!
Город был переполнен паломниками. Те, кто не смогли устроиться в палатках или у друзей, лежали на всех дорогах, под деревьями и кустами. Большинство совсем пьяные спали, других сон застал во время любовной игры, и жители города равнодушно проходили мимо голых, переплетенных в объятиях тел.
По утрам в праздничные дни толпа двигалась к храмовому кварталу, где находилось самое большое святилище Баст.
Пиай присоединился к какой-то группе. Люди несли с собой цветы и фрукты для жертвоприношений. Во время девяти праздничных дней храм был доступен для народа и паломников, нельзя было только заходить в святилище, но двери туда были широко открыты, и каждый мог взглянуть на приветливую богиню.
Пиай приобрел на половину медного деба благовония и положил парочку зернышек во внутреннем дворе храма на один из многочисленных тлеющих жертвенных алтарей. Затем он присоединился к очереди перед двумя дверями в святилище.
И вот он наконец стоял перед высокой бронзовой решеткой, защищавшей святилище. Его глаза должны были сначала привыкнуть к полумраку, в то время как другие паломники сзади напирали на него. Пиай встал на колени и крепко схватился за решетку. Он совсем ясно увидел высокое сверкающее золотом культовое изображение Баст около шести локтей высотой. Богиня была изображена стройной женщиной с кошачьей головой. Ее правая поднятая рука касалась систра, в левой она держала украшенную роскошным воротником и диском солнца голову льва. У ее ног сидели четыре кошки. Золотое культовое изображение овевал дым благовоний, невидимый хор пел гимны богине. Пиай обратился с жаркой молитвой к Баст, чтобы она позволила ему целым и невредимым вернуться домой.
Наконец он позволил напиравшим отодвинуть себя. Он чувствовал себя укрепившимся, окрыленным и предвкушал свою встречу с царем Рамзесом, радостный и полный уверенности. Он много увидел, многому научился и будет продолжать делать это и дальше.
С толпой других паломников он зашел еще к месту обитания священных животных. Красивые, хорошо накормленные, они жили в большом, окруженном забором саду с деревьями, кустарником и узким водотоком. Это были исключительно кошки, они носили широкие золотые с драгоценными камнями ошейники. Большинство из них были толстыми и ленивыми. Они зевали, вылизывались и не обращали никакого внимания на толпившихся у решетки людей.
Когда Пиай спросил у одного из стражников, по каким признакам определяют святость кошки, тот ответил ему с важным видом:
— Все кошки священны, но выбранные для храма должны иметь еще и определенный знак на лбу, тайный знак.
Пиай поплелся назад в город, попав при этом в группу танцующих и поющих женщин, которые приехали из местности под Хаварой, находившейся отсюда на расстоянии полудневного путешествия. Их язык звучал еще более странно, чем у жителей Пер-Баст, и то же самое ощущение возникало у этих женщин, когда говорил Пиай. Каждое его слово вызывало у них смешки, и он сам также вынужден был засмеяться, потому что они весьма забавно поправляли его произношение. Они наняли ладью и пригласили его пообедать с ними на борту и переждать жаркие дневные часы.
— А разве с вами нет мужчин? — поинтересовался Пиай.
— Конечно, есть, — ответила одна из них, которая казалась самой авторитетной, — но они пошли своим собственным путем. Они хотят познакомиться с другими женщинами, а мы — с другими мужчинами.
По дороге веселые хаварийки подцепили еще нескольких молодых мужчин. Когда вся честная компания подошла к ладье, оттуда уже раздавались резкие звуки флейт и нежный серебряный звон систра. На борту находилась часть мужчин с несколькими женщинами. Раздались громкие пьяные приветствия, и потом все сели за стол под парусом, защищавшим их от солнца. Слуги принесли корзины с инжиром, финиками, орехами, яблоками, гранатами, грушами, виноградом, дынями, хлебом, лепешками, кренделями с кунжутом и маленькие горшочки с засоленной рыбой.
Пиай в первый раз попробовал яблоко. Эти фрукты не росли на юге, и кисловатый освежающий их вкус очень понравился ему. Явно зажиточные люди, нанявшие ладью, предложили превосходное вино, и Пиай опять часто брался за бокал.
Сидевшие радостно болтали друг с другом, пили попеременно за здоровье молодого царя, его супруги, главного советника, девяти богов Она и, конечно же, прежде всего за Баст — богиню радости, танца, музыки и любви между мужчиной и женщиной.
Пиай почувствовал, как дух вина заструился по его жилам. Мастер стал сонным и одновременно почувствовал себя готовым на все, если только для этого не нужно будет вставать и делать резких движений.
Группу паломников сопровождали слуги, которые быстро убрали остатки еды и снова наполнили бокалы.
Некоторые из выпивавших уже заснули, тут и там какая-либо парочка исчезала под палубой, и Пиай также почувствовал желание снова принести любовную жертву Баст.
Одна из женщин, стройное и изящное создание, до этого почти не говорила, но украдкой все посматривала на Пиайя. Он заметил это, женщина ему понравилась, поэтому он, качаясь, встал, подошел и сел рядом с ней.
— Ты несколько часов не спускаешь с меня глаз. Похоже, я тебе понравился, прелестная служительница Баст. Не принести ли нам любовную жертву богине?
Молодая женщина сдержанно, но без всякого смущения кивнула. Они спустились вместе под палубу, где было довольно жарко, но вместе с тем так темно, что любящих можно было только слышать, но не видеть. Слуги постелили на полу маты из волокон льна. Пиай поцеловал незнакомку, снял с себя передник и привлек к себе едва сопротивлявшуюся женщину. Она шепнула ему на ухо:
— Ты должен крепко любить меня, со всей своей силой, чтобы твое семя глубоко проникло в меня. Я хотела бы иметь ребенка от тебя.
Пиай, который здесь, в Пер-Баст, уже ничему не удивлялся, ответил:
— Я буду послушен тебе во всем. Почему ты хочешь ребенка именно от меня? Разве у тебя нет мужа?
— Есть, — прошептала она, — но он довольно старый. За него меня выдали родители. Он еще способен любить, но уже не может зачать ребенка. Ты на него слегка похож, мой друг, такого я долго искала. У него такие же серые глаза.
Пиай смущенно рассмеялся.
— Поэтому ты так и смотрела на меня? Ну, почему нет, давай сделаем ребенка твоему супругу.
Он обнял ее и любил по ее желанию со всей силой. Достойная сожаления женщина, привыкшая лишь к вялым ласкам своего супруга, расцвела в руках Пиайя, подобно лотосу после наводнения. Она крепко прижимала его к себе, принимая в себя его семя до последней капли.
— Это было прекрасно, — прошептала она, — мы должны еще раз попробовать…
— Ты должна дать мне немного отдохнуть, набожная нарушительница брачных клятв. Послушай тем временем, что здесь происходит…
Душное пыльное помещение, пахнувшее тиной и человеческим потом, было наполнено различными звуками. Тут стонали, визжали, храпели, пищали, сопели, хихикали — все это было в глазах Баст милым и приятным торжественным пением в ее честь.
Позднее Пиайю пришло в голову, что он даже не спросил имени молодой женщины.
На следующий день Пиай сменил корабль и через несколько часов приплыл в Он, священный город с древним храмом бога солнца Ра-Атума.
Здесь, на одном из холмов, был создан мир, и отсюда поднимались к небу боги, произведенные Атумом после соединения со своей тенью.
В Мемфисе Пиай спросил одного молодого жреца о противоречии между различными легендами о создании мира, потому что в Фивах почитали Амона, в Мемфисе — Пта, а в Оне — Ра-Атума как создателей всего существующего. Бритоголовый только рассмеялся:
— Но, Пиай, где же ты видишь противоречие? Это лишь различные наименования для одного и того же чудесного события. У фараона тоже пять различных имен, но, когда называют любое из них, имеют в виду именно его.
На юге вынырнул холм с храмом Солнца, два могучих обелиска, как черные кинжалы вонзались в небо, которое явно помрачнело. Пиай стоял на палубе и удивленно наблюдал за игрой, которую никогда не видел в Абидосе.
— Сейчас начнется дождь. — Старший на ладье указал на черные тучи, накрывшие уже почти все небо, будто грязным шерстяным одеялом.
Пиай знал слово «дождь», потому что Ирамун рассказывал ему, что, будучи ребенком, он мог наблюдать это чудесное событие в Абидосе. Яркие молнии сверкнули, подобно золотым стрелам, в небе. Порывы ветра надули паруса, которые старший на ладье приказал быстро убрать. Раскат грома заставил Пиайя вздрогнуть, но любопытство не позволяло ему уйти с палубы. Священная дрожь охватила его, когда он увидел, как желто-белая молния попала в один из обелисков и золотое острие его магически засветилось.
Одновременно упали первые тяжелые капли, теплые и приятные, как семя Ра-Атума, который произвел богов из своей собственной тени, а людей из слез.
Ночь перед большим делом Меру провел в спокойном сне. Все было обсуждено и спланировано. После этого его охватило божественное спокойствие и не в последнюю очередь благодаря тому, что Себек передал ему должность Огня.
Меру сам старательно собрал группу. Это были опытные, испытанные, надежные люди, которые хорошо умели обращаться с оружием и лошадьми. Их было восемнадцать всадников, они вели с собой еще шесть крепких лошадей, потому что ожидаемая добыча должна была состоять главным образом из металла.
С одним из восемнадцати Меру долго медлил. Речь шла о еще молодом человеке, который обращался с луком и мечом как закаленный воин, но, если он встречал женщину, его покидал всякий разум. Они называли его Мин в честь бога с громадным фаллосом, целью и содержанием жизни которого было дикое насильственное соитие, к которому их Мин был готов в любое время дня и ночи. Он насиловал десятилетних девочек так же, как и старых, уже неприглядных женщин. При этом он не боялся никакой опасности. Мин был бесстрашным воином и мог драться так, будто сам бог войны Монт вселился в него, но при виде женской плоти меч выпадал у него из рук.
Теперь Мин был с ними. Уже прошел час после полуночи. Они скакали при свете полной луны. Их вел разведчик, который знал пустыню почти так же хорошо, как бог Сет. Меру скакал позади него, бодрый, счастливый, как будто опьяненный этим набегом, самым большим, который когда-либо предпринимала банда Себека и в удаче которого он был так убежден, что ни страх, ни заботы не могли омрачить его настроение.
Спустя несколько часов Ищейка поднял руку. Они собрались за холмом и молча проделали то, что было обговорено заранее: обвязали копыта своих лошадей полосками льняной материи, чтобы преодолеть остаток пути к храму как можно бесшумнее.
Ра еще плыл на Ладье Вечности по Подземному Царству и только через час должен был появиться на востоке. Меру выслал двух пеших шпионов. Они должны были подать знак, когда жрецы со своими слугами покинут храм, чтобы приветствовать Озириса-Сети. Каждый из мужчин стоял рядом со своей лошадью, готовый в случае чего закрыть пасть животному, если оно начнет ржать. Каждый внимательно смотрел на север и ожидал знака.
Полоска света на востоке уже сообщила о появлении Ра, когда в воздух поднялась огненная стрела. Все смотрели на Меру, который с неподвижным лицом следил за огненным следом от стрелы. Он поднял правую руку и ждал, как остальным показалось, невыносимо долго, затем сжал руку в кулак и взмахнул им. Налетчики вскочили на лошадей и рванули вперед. Храмовый комплекс, окрашенный утренним светом в нежные розовые тона, поднимался перед ними, подобно волшебной картине. Откуда-то вынырнули оба шпиона, вскочили на приготовленных лошадей, кивнули Меру, и разбойничья банда поскакала к храму Амона, подобно уничтожающему все штормовому ветру.
Еще до того как оба стражника успели поднять копья, их головы отлетели в песок. Высокие ворота из крепкого, как камень, кедрового дерева недолго сопротивлялись: удар топора разрубил замок с тремя задвижками.
Меру оставил лошадей с несколькими наблюдателями на улице и устремился со своими людьми вперед, во двор храма. Каждый из налетчиков знал, что должен делать, и они разделились на три группы. Самые сильные побежали к капелле Мут, чтобы вытащить сокровища, другие взялись за пристройки, потому что нельзя было оставлять ни одного живого свидетеля. Меру с несколькими своими людьми прочесали храм, его залы с колоннами и обе капеллы. Перед святилищем дорогу ему преградил старый жрец Амона, которого Мин, почти играючи и смеясь, разрубил надвое.
— Я оказал старику любезность, ему давно уж пора отправиться в Жилище Вечности, — весело заявил он.
В то же мгновение Меру заметил белое одеяние, мелькнувшее между колоннами в первом зале. С поднятым мечом он ринулся туда, но преследуемый ловко укрылся в лесу колонн.
Меру позвал на помощь двух своих людей, и они начали окружать другого, пока тот не
попал наконец прямо в руки Меру. Это был молодой обритый наголо ученик жрецов, чье испуганное лицо заставило Меру опустить меч. Чувства вроде сострадания или жалости были чужды старому каторжнику, но в этом новичке он узнал своего младшего брата. Он был единственным, о котором Меру иногда вспоминал, потому что они хорошо ладили, когда Огонь еще жил со своей семьей. Маленький мальчик с восхищением глядел на него, и они несколько раз тайно встречались, когда Меру вел жизнь отщепенца.
— Идите к другим и ищите дальше, — приказал Меру обоим помощникам и, ухмыльнувшись, добавил: — Этого я допрошу сам. Может быть, он кое-что сможет нам сказать.
Он потащил молодого человека в соседнее помещение, швырнул его на пол и приставил меч к горлу. Вокруг головы Меру был повязан льняной платок, который позволял видеть только глаза, но брат и так не узнал бы его без ушей и носа.
Гордый, жестокий и хладнокровный Меру не знал, что ему делать. Не хотелось убивать единственного человека, который до последнего был на его стороне, не говоря уж о том, что это его родной брат.
«Убей вместо него кого-нибудь другого», — прошептало ему его ка, и Меру прислушался к этому голосу.
— Сколько людей в храме? — угрожающе спросил он и надавил острием меча на горло брата.
— Только несколько стражников, пара женщин и детей, двое помощников жрецов… — с трудом выдавил из себя новичок.
— И ты хотел бежать, чтобы позвать на помощь?
Юноша кивнул и задрожал, как сухой лист на ветру.
— Встань и повернись к стене! Если оглянешься, я отрублю тебе голову!
Меру вытащил из-за пояса свою булаву и, хорошо рассчитав, ударил ею брата по голове. Юноша без звука рухнул на пол, Меру тотчас склонился над ним и пощупал его обритую голову. Он почувствовал, как растет шишка, но сломано ничего не было. Кинжалом Меру разрезал новичку ладони, чтобы все выглядело так, будто тот оборонялся, а затем быстро вышел и закрыл дверь на задвижку.
Его люди тем временем выискали всех живых и отправили их в Царство Озириса. Из храма Мут бежали налетчики с грузом металлических сосудов и храмовой посуды.
— Когда вы будете готовы?
— Через некоторое время! — крикнул один в ответ.
— Где Мин?
Мужчины ухмыльнулись, один указал в направлении помещений для слуг. Меру махнул в сторону закрытой двери:
— Там мертвый, можете не беспокоиться.
Затем он пошел в сторону домов с припасами, к которым примыкали скромные хижины храмовых слуг. Крики и стоны указывали ему дорогу, и он нашел Мина в комнате с тремя голыми женщинами. Две из них уже лежали мертвыми на полу, третья извивалась, пока Мин ее жестоко насиловал.
Меру овладела холодная ярость: другие волокут добычу, а этот здесь. Главарь схватил Мина за короткие волосы и влепил ему две звонкие пощечины. Застигнутый насильник впал в такой гнев, что попытался схватиться за свою булаву. Однако он был голый, и оружие лежало около убитых женщин. Меру знал, как опасен этот воин в гневе, и молниеносно ударил его коленом между ног. Воя, Мин согнулся пополам, в то время как Меру схватил его булаву и кинжал.
— Эту женщину можешь оставить в живых, даже если для тебя это сложно. Свяжи ее и заткни ей рот.
Мин со стоном поднялся, и Меру угрожающе замахнулся мечом. Огня нельзя было не послушаться, поэтому посрамленный насильник разорвал платья мертвых женщин на полоски и связал ими живую.
— В следующий раз я зарублю тебя, как крысу. Пока остальные занимаются делом, у тебя в голове лишь похоть. Я сообщу Себеку, что ты становишься опасен для банды.
Это было самое худшее, чем можно было пригрозить разбойнику пустыни: быть изгнанным, потерять надежное убежите, лишиться места в банде. Мин оказался достаточно умен, чтобы серьезно воспринять эту угрозу. Он бросился перед Меру на колени, поклялся исправиться, попросил о наказании прямо теперь, сейчас, только бы Огонь ничего не сообщал Себеку.
— Я подумаю… — пробормотал Меру.
Потом все пошло быстро. Посуда из золота и серебра, меди и бронзы, а также пожертвования верующих, преимущественно кольца и браслеты, были упакованы в кожаные мешки и навьючены на животных.
8
Город Фивы готовился к празднику Опет, который, поскольку у Амона был снова верховный жрец, должен был по желанию царя праздноваться с никогда не виданным ранее блеском. Рамзес имел долгую беседу с Небунефом и основательно обдумал то, что ему сообщил только что назначенный верховный жрец Амона.
— Богоподобный, ты возвысил меня, недостойного, до блеска верховного жреца, и я был бы плохим слугой Амону и Благому Богу, если бы не сообщил тебе о некоторых вещах, которые ты по своей благой и святой воле должен будешь принять к размышлению. Ты сам называешь себя в своих приказах и распоряжениях сыном Амона-Ра, но здесь, в Фивах, во время правления Озириса-Сети создалось впечатление, что Амона вытеснили в пользу Пта и Озириса, лишив его власти. Я осмеливаюсь сейчас посоветовать тебе, Богоподобный загладить это впечатление. Никто не требует и не ожидает, чтобы ты снова перенес Дом Почета в Фивы. Здесь будут счастливы и довольны, если ты время от времени станешь принимать участие в празднествах Опет или приносить жертвы у гробниц твоих высокочтимых предков. Ты пожелал выбрать вторую супругу из Фив, и это осчастливило всех нас. Мы желаем и надеемся, что новый Гор завершит то, что начал его великий отец Озирис-Сети, — к примеру, порадует Амона-Ра завершением строительства большого зала с колоннами. Да будешь ты праздновать тысячи тысяч праздников Зед.
— Я подумаю об этом, почтенный, — ответил Рамзес и в эту минуту решил превзойти своего отца и других своих предшественников на троне Обеих Стран. Его деяния превзойдут все, что они сделали для Амона, но… не сразу, а когда он сочтет нужным.
— Приготовлено ли все для праздника Опет?
— Да, Богоподобный, все Фивы в лихорадке перед праздником. Благодаря твоему присутствию это станет крупнейшим событием.
Рамзес отпустил верховного жреца и тотчас вспомнил о Бент-Амон.
Нефертари сама напомнила ему о его обязанностях:
— Ты взял ее в жены перед всем светом, и ты должен ее посетить. Мой высокий супруг не ощутит страха перед этой служительницей храма.
Рамзес засмеялся, но смех его прозвучал фальшиво.
— Страх? Я? Женщину, которую я побоюсь, Пта должен еще создать. Бент-Амон мне безразлична, она не затронула ни моего сердца, ни моих глаз. Я познаю ее как супруг, а затем отправлю в гарем и забуду о ней.
— Нет, этого ты не сделаешь! Амон не терпит шуток. Преодолей себя и дай ей то, что полагается супруге.
Ну, раз уж Нефертари этого желает… Однако Рамзес и сам хотел поближе узнать Бент-Амон. Эта нарочито целомудренная девушка, которую ему навязали и которая стала теперь его супругой по воле Амона, возбудила в нем непомерное любопытство.
И вот однажды вечером Рамзес пошел к Бент-Амон в ее покои. Ра уже отправился в свое ночное путешествие, и покои новобрачной слабо освещали две маленькие масляные лампы.
Рамзес любил девственниц, их стыд, и его мужское сердце радовало, когда он нежно прекращал их сопротивление.
Увидев в тусклом свете стройную, точеную Бент-Амон, стоявшую у ложа, он почувствовал сильное влечение. Однако Рамзес не рассчитывал на то, что бывшая певица Амона захочет превратить этот любовный час в священную игру.
Едва он вошел, она упала к его ногам. Фараон тотчас поднял ее и сказал:
— Оставь это! Ты моя жена, а не рабыня!
— Я приветствую только Благого Бога страны Кеми, сына Амона, великого властью, любимца Маат, Могучего Быка…
— Да, моя дорогая, давай на этом остановимся. Сегодня я твой Могучий Бык. Подойди, сними свою одежду…
Гордое строгое лицо Бент-Амон стало серьезным и торжественным, как во время культового действа. Она распустила завязки и пояс, позволив платью соскользнуть вниз, и стояла обнаженной перед супругом, чью руку она схватила.
— Веди меня к брачному ложу, о сын Солнца, которое оживляет сердца. Богоподобный должен обращаться со мной, как ему будет угодно, лишь бы я радовала его.
Рамзес услышал эти торжественные слова и из Могучего Быка получился Осел. Он не привык к подобному в своем гареме, там все было весело и просто. Нефертари тоже не превращала их часы любви в священнодействие.
Его фаллос уже висел, как увядший стебель лотоса, а Бент-Амон все еще стояла перед ложем, высокая, стройная, гордая. Божество, но, как казалось Рамзесу, совсем не существо из плоти и крови. «М-да… Красива, как изваяние Изиды, только кто захотел бы спать со статуей?»
Действительно, он чувствовал, что ее рука прохладна, как мрамор. В этот момент родилось новое имя Бент-Амон.
— Я буду тебя звать Изис-Неферт — Прекрасной Изидой. Ты торжественна, горда и непреступна, как богиня. Сегодня мы отпраздновали мистическую свадьбу, как боги: поглядели друг на друга и протянули друг другу руки. Все остальное наверстаем потом.
На прекрасном, суровом и неподвижном лице Изис-Неферт показалось нечто похожее на растерянность. Она, которая еще никогда не покорялась ни одному мужчине и, как будто по указанию свыше, хранила свое тело для встречи с сыном Амона-Ра, она, приготовившая ему в отличие от крестьянской дочери Нефертари культовую брачную ночь, отвергнута, отброшена! К ней проявили пренебрежение.
Чья в том вина? Изис-Неферт это было ясно. Вина не ее и не Рамзеса, во всем виновата Нефертари, которая околдовала его своими крестьянскими штучками, чтобы оставаться единственной супругой царя. Она хотела иметь Рамзеса только для одной себя и отняла у него, уже имевшего десятки детей, его мужскую силу. И великим храмом Амона Изис-Неферт поклялась отомстить этой женщине.
Город подготовился к ежегодному празднику Опет, которому особенный блеск должна была придать юная царская чета.
Рамзес сделал все, чтобы превратить этой древний длящийся целых одиннадцать дней праздник в незабываемое событие для жителей города. Он велел доставить из близлежащих владений все имевшиеся запасы зерна, скота, фруктов, овощей, вина и других припасов. Эти одиннадцать дней народ Фив был гостем царя и не должен был испытывать недостатка ни в чем. Некоторые управители поместий едва не впали в отчаяние, когда уполномоченные царя забирали с их складов последний горшок меда и последний кувшин вина. На целый день город превратился в громадную кухню. Здесь варили, пекли, тушили, жарили; рев забиваемого скота доносился до гробниц по ту сторону Нила и, верно, выманил ка некоторых умерших предшественников Рамзеса из их Жилищ Вечности.
Запахи жареного мяса, свежеиспеченного хлеба, тяжелый аромат вина и пива пронизывали город, проникали в отдаленные сады, заглушая аромат цветения, в храмы и дворцовый квартал.
На празднике Опет ежегодно праздновали соединение Амона с его супругой Мут. Он начался с торжественной жертвы царя перед священной семьей Амона, Мут и Хона в Большом храме.
Час спустя после восхода солнца Рамзес и Нефертари покинули дворец, их торжественно принимали четыре жреца Амона и верховные жрецы других богов. Царская пара заняла места на переносном двойном троне, и торжественная процессия медленно двинулась к Большому храму.
В этих сакральных церемониях народ не принимал участия. Все происходило в закрытом пространстве между дворцом и храмом.
В третий раз беременная Нефертари была почти подавлена тяжестью сверкающего золотом урея, в то время как красно-белая двойная корона еще больше оттеняла сильную и крупную фигуру царя. Среди членов царской семьи с гордо поднятой головой шагала также Изис-Неферт, она выглядела неприступной жрицей. Четырехлетний наследный принц Амани и его сестра Мерит, которая была старше его на два года, сидели в маленьких носилках и еще полусонные смотрели на торжество перед собой.
Перед святилищем фараон встал с трона, взял горшочек с благовониями и совершил жертвенное курение, перед золотым изображением Амона.
Рамзес произнес гимн Амону:
— Единственный, живущий в вечности, твой блеск равен блеску небесной богини, все глаза смотрят на тебя, все люди восхваляют тебя, ты, освещающий Обе Страны, прародитель богов, который создал себя сам…
После этого процессия двинулась к Западным воротам, от которых канал вел к Нилу. Здесь уже несколько часов ждал народ Фив. Шумное ликование сотрясло воздух, когда открылись высокие ворота и показалась царская чета на двойном троне. Многие от восторга начали подскакивать, другие громко и ритмично били в ладоши, восклицая приветствия:
— Будь здрав, Гор, любимец Маат, хвала тебе, Благой Бог, Могучий Бык, блистательный сын Солнца, наша жизнь, наш свет, наша радость!
Царицу также встретили ликованием:
— О восторг своего супруга, ты плодородна, как Нил, прелестна, как Хатор, прекрасна, как Изида, Нефертари — Самая Прекрасная.
Вдруг Рамзес услышал громкий крик:
— Хвала тебе юный Гор, сокол в гнезде!
В первую минуту он решил, что эта хвала обращена к нему — так его называли при жизни отца, — но затем ему пришло в голову, что теперь он сам отец и царствующий фараон, а восклицание адресовано наследному принцу Амани. Роскошная ладья для бога, жрецов и царской четы уже стояла наготове. Теперь было необходимо как можно медленнее добраться до храма на юге, который находился на расстоянии четырех тысяч локтей отсюда, чтобы народ, стоявший густыми толпами на берегу Нила, как можно дольше мог наслаждаться, лицезрел обоих богов: Амона-Ра и царя. У южного храма процессия покинула ладьи и вошла в храм, где супруга Амона Мут в торжественном одеянии ожидала божественного супруга в своем приделе.
Великий миг, когда жрецы соединили оба божества, сопровождали музыка и танец. Рамзес и здесь принес жертву курением благовоний и присоединился к молитве.
— Высокородная Мут, супруга Амона, госпожа неба, ты глаз Ра, ты великая волшебница, ты мать всего сущего, ты царица богов! Ты радуешь царственного бога Амона, под твоей защитой тростник и лотосы, ты носишь белую корону юга, твои кобры оберегают страну…
Рука об руку Рамзес и Нефертари покинули храм, своим единением олицетворяя мистическую свадьбу божественной пары.
На большой площади перед Южным храмом начался большой пир, в котором царская чета приняла участие, сидя под балдахином.
По мановению руки сотни слуг принесли разрезанных для еды гусей, уток, голубей, свиней и крупный рогатый скот, а к ним в больших корзинах хлеб, лук, огурцы, редьку и громадные кувшины с пивом и вином.
Люди ели и пили, восхваляли царскую чету и восторженно наблюдали за певцами и танцовщиками, которые пели веселые песни и показывали акробатические номера. До тех пор, пока Благой Бог с Великой Царской Супругой оставались на празднике, все шло прилично. Когда же спустя час Рамзес и Нефертари покинули площадь, у городской стражи появилась работа. Ей приходилось заставлять людей придерживаться порядка: начался крик, визг, пьяные бросали друг в друга костями и хлебом, то есть все было так, как бывает, когда у народа всего появляется много. То, что заработаешь тяжким трудом, ценишь гораздо выше и обходишься с этим гораздо бережнее.
Обо всем этом царь ничего не узнал. Фиванская знать ожидала от него во время праздника Опет обильного застолья, на котором Благой Бог будет присутствовать собственной персоной, и Рамзес постарался оправдать их ожидания.
Тут гости, конечно, не бросали друг в друга обглоданными костями, не было ни пьянки, ни грубых слов, все разместились в праздничных одеждах за длинными столами и время от времени украдкой поглядывали на Благого Бога, который сидел с Великой Царской Супругой за столом на возвышении и делал вид, что ест. В действительности эти пиршества утомляли молодого царя, потому что голова у него была полна планов, и охотнее всего он вернулся бы в Мемфис.
Немного разнообразия вносили певцы и акробаты, но они оказались не из лучших, а Рамзес был избалован. Он зевнул и торопливо опустошил свой золотой кубок.
Нефертари довольно глядела на нарядных гостей.
— Они любят и почитают тебя, мой божественный супруг, мой сильный Сокол, но я думаю, что они должны, по крайней мере, на одном из этих застолий в честь праздника Опет видеть рядом с тобой и твою новую супругу Изис-Неферт, как тебе угодно ее называть.
Рамзес, который почти всегда следовал совету своей Самой Прекрасной, ответил, едва ворочая языком:
— Для меня мало радости видеть рядом с собой женщину, которую мне навязали жрецы Амона. Я женился на ней, потому что это было разумным шагом, а не потому, что она мне нравится. Мне нравишься одна ты, Нефертари, ты одна. Пусть другая оплакивает свою судьбу в гареме, не я ей приготовил это место.
Рамзес снова опустошил бокал. Нефертари коснулась его руки.
— Ты душа страны, твое слово — закон, твоя воля священна. Ты стоишь над всеми, и от твоего блеска не убудет, если ты покажешься здесь с Изис-Неферт. Я бы могла кое-что возразить против этого, если бы возникла вероятность, что мне придется делить моего супруга с другой. Но мы обменялись нашими сердцами: я владею твоим, ты моим. Что значит для меня какая-то Изис-Неферт?
— Как всегда, я подчиняюсь твоему мудрому совету, Нефертари. Давай побыстрее покончим с этим. Однако я не могу видеть вас друг с другом. Ты беременна, удались, отдохни и вели прийти той, другой.
Нефертари улыбнулась и поднялась. Гости вскочили на ноги, низко поклонились и вытянули руки перед собой.
Небунеф, верховный жрец, попрощался с царицей:
— Будь здрава, повелительница Обеих Стран! В твоем теле зреет семя Амона, вся Кеми с гордостью смотрит на тебя, ты совершенное очарование. Будь здрава, крепка и весела.
Едва Нефертари исчезла, в сопровождении двух служанок появилась Изис-Неферт. Она держалась величественно, ее гордая голова была украшена уреем. Ее также приветствовали соответственно ее рангу и низко ей поклонились.
Рамзес встал и подвел свою Вторую Супругу к стулу рядом с двойным троном. Ее высокая крепкая фигура чуть качнулась, но это смогли заметить немногие.
Он приказал наполнить кубок для Изис-Неферт и выпил его вместе с ней.
— Все Фивы непременно хотят видеть тебя рядом со мной, Прекрасная Изида. Амон может быть доволен, он сделал свою прекраснейшую служительницу моей супругой. Здесь тебя принимают с большим ликованием, но в Мемфисе ты должна будешь вести более скромную жизнь. На троне рядом со мной сидит уже моя Великая Царская Супруга, которая постоянно сопровождает меня в путешествиях и скоро подарит мне третьего ребенка.
Рамзес произнес эти слова с издевательским пьяным смехом, как бы между прочим, и с удовлетворением заметил, как посуровело ее умное лицо. Изис-Неферт схватила бокал и чуть-чуть отпила из него.
— Не-е-ет, — сказал Рамзес, — так не пойдет! Если ты сидишь рядом со мной, то вежливость требует, чтобы ты опустошила свой бокал. И ничего не бойся, одним бокалом мы не ограничимся.
С каменным лицом Изис-Неферт опустошила свой кубок, и он тут же был наполнен снова.
Рамзес, сам уже изрядно пьяный, замыслил напоить и Изис-Неферт. Она стоически пила кубок за кубком, и Рамзес внимательно наблюдал за тем, как постепенно расслабляются ее лицо и тело.
Изис-Неферт, которая в своей жизни вряд ли когда пробовала вина, начала теперь по-дурацки хихикать, подмигнула своему супругу и принялась болтать.
— А как будет в Мемфисе, господин Обеих Жен? Извини, я хотела сказать Обеих Стран. Как там будет? Я получу собственный дворец, своего управляющего, охрану, слуг?
— Ты получишь то, что полагается Царской Супруге. С двором Нефертари, конечно, твой не сравнится, она есть и останется моей Главной Супругой, но пару покоев я тебе предоставлю. В гареме…
— То есть как пару покоев?.. А я-то боялась, что мне придется делить комнату с твоими наложницами.
Рамзес рассмеялся:
— Такого большого зала нет. Наложниц-то у меня то ли восемьдесят, то ли сто. Дело в том, что не только Фивы одарили меня девушкой, другие города тоже. А кроме того, еще подарки от стран-данников, в большинстве случаев это принцессы. Я породнился уже с дюжиной князей.
— Так много их не может быть… У меня все плывет перед глазами, у меня… Нет, здесь слишком жарко. Воздух, мне нужен воздух!
Изис-Неферт побледнела, на ее высоком лбу выступили жемчужинки пота.
— С меня тоже на сегодня хватит, — проворчал Рамзес и, шатаясь, поднялся.
Небунеф, который не спускал с царя глаз, тут же вскочил и подал знак другим.
— Да подарит тебе Амон приятную ночь, Богоподобный, а Изис-Неферт, твоя милая супруга, да наполнит твой дворец радостью и благоуханием.
Рамзес кивнул и сделал рукой неопределенное движение. Он помог Изис-Неферт подняться с ее места и должен был почти унести ее, потому что ноги отказывались ей служить. Он отмахнулся от слуг, которые хотели помочь, и потащил ее в маленький внутренний двор, который украшали несколько цветущих кустов и крошечный пруд с лотосами.
— Как раз то, что нужно для нас обоих.
Рамзес вошел в пруд и с силой окунул Изис-Неферт в воду. Она, визжа, попыталась вырваться, но царь крепко держал ее одной рукой, а другой основательно обрызгал ее сверху донизу. Льняное платье вчерашней служительницы Амона прилипло к телу, и она казалась обнаженной. Одним движением Рамзес сорвал тонкую ткань с ее тела и крепко прижал прохладное, едва сопротивлявшееся женское тело к себе. Смущенная и раскрепощенная, Изис-Неферт словно перевоплотилась под действием вина. Она прижалась к своему супругу, охотно раздвинула ноги и покорно предложила ему свои стройные бедра. Рамзес высоко приподнял ее тело, как игрушку, и медленно вошел в нее. Изис-Неферт, певица Амона, бормотала хорал, потому что, несмотря на странные обстоятельства, она почувствовала значение и торжественность этой свадебной ночи. Рамзес едва слышал ее пение, он наслаждался соитием с нею, как Могучий Бык страны Кеми, созданный Амоном, и вынужденный лишить девственности целомудренную жрицу.
Пиай закончил свое путешествие по Кеми и ждал в доме для гостей в дворцовом квартале, когда фараон удостоит его аудиенции.
Прошло больше месяца со дня возвращения царя из Фив, но он все еще никак не мог найти времени заняться своими строительными планами. Слишком многое ожидало его решения. Необходимо было ввести в должность нового главного советника Парахотепа. Список аудиенций был толстым, как Книга Мертвых, а тут еще дело с храмом Амона Мемфисского.
Парахотеп лично несколько дней допрашивал единственного выжившего после разбойничьего нападения, но ученик жрецов утверждал одно: он выскочил на шум и крики из храма, его тотчас схватили, и человек, скрывавший свое лицо, коротко его допросил, а затем ударил по голове и оставил лежать, похоже, приняв за мертвого. Раны на руках он, видимо, получил, когда оборонялся от врагов.
В Мемфисе ходили слухи, будто разочарованные жрецы Амона из Фив разыграли нападение, чтобы выразить свое возмущение тем, что у них отобрали храм Амона на севере. Они не могли смириться с тем, что теперь есть Амон Мемфисский.
Рамзес, услышав эти сплетни, взбесился.
— Это все чепуха! Против бога Амона в Фивах не поднимется ничья рука. Ученик жрецов рассказывал о закрытых лицах, и он слышал снаружи ржание лошадей, все это указывает на шазу. Эти разбойники — обитатели пустынь — оставляют нас надолго в покое до тех пор, пока какой-нибудь молодой предводитель племени не решит, что он должен добыть себе славу. Нужно отобрать лучших воинов ниу, образовать из них отряд и попытаться отыскать сокровища храма. Гонитесь за шазу, где только встретите их, попытайтесь узнать от них что-нибудь. Один предатель найдется всегда.
Для Рамзеса эта тема временно была исчерпана. Он хотел наконец встретиться со строителями и обсудить проекты сооружения храмов и план новой столицы. Он уже давно предвкушал радость этого разговора, потому что желал воплотить в жизнь планы, о которых, он полагал, его предшественники никогда и не мечтали. Все находившиеся на службе у царя архитекторы были созваны во дворец.
Рамзес приказал своему придворному географу изготовить карту страны. Эта карта висела теперь на стене, и царь стоял рядом с ней. Когда все собрались, он сказал:
— Это разговор между друзьями. У кого есть возражение или предложение, тот должен высказать их без страха, не падая до этого к моим ногам с извинениями. Вы все мастера своего дела, долго и основательно изучали ремесло зодчего. Я ваш заказчик с целой грудой планов, из которых наверняка не все могут быть осуществлены. Вы знаете, с чего я начал, — он указал на точку в Дельте. — Здесь будет моя новая столица. Местность там уже размечена, подвезен строительный материал. В Абидосе я закончу храм Озириса — это незавершенное дело моего отца. И для Амона в Фивах выстрою новый громадный дом. Одновременно на западе от Фив должен быть сооружен храмовый город со школой для архитекторов, скульпторов, художников и писцов, потому что для моих проектов потребуется больше ремесленников и художников, чем в правление моих предшественников. Мы стоим у истоков великого начинания, друзья мои. Порадуйтесь и будьте горды тем, что вы живете в это время и можете принимать участие в планах вашего царя.
Некоторым из присутствующих было сложно разговаривать с Благим Богом, как будто он был таким же человеком, как они, но постепенно скованность прошла, и зодчие стали свободно выражать свое мнение. Пиай внимательно слушал, говорил мало, но, когда речь зашла о том, чтобы вновь отстроить ограбленный храм Амона, он выложил старательно подготовленные планы, которые выдавали совсем иную концепцию.
Рамзес посмотрел в умные серые глаза молодого мастера и снова почувствовал прилив симпатии, как будто их связывало что-то, что он не знал, как назвать.
— Хорошо, Пиай, я вижу, что ты многому выучился во время своего путешествия. Мне нравится твой план, и я назначаю тебя руководителем строительства храма Амона в Мемфисе. Только дело должно идти быстро. Руки у тебя свободны, и, если рабочих не будет хватать, добавь к ним еще десятка два-три крестьян. Все должно идти очень быстро, потому что у меня еще много замыслов.
К вечеру царь отпустил строителей, но Пиайя задержал.
— Еще одно слово, друг мой. Об одном из моих планов, самом большом и самом смелом, я еще не говорил. Я хочу сначала услышать твое мнение. А теперь смотри сюда! — Рамзес указал палочкой из черного дерева на точку далеко на юге.
— Это граница с Кушем. Я был там два раза с отцом Озирисом-Сети. Ты знаешь, что народ Куша платит нам дань и что оттуда приходят вещи, без которых наша страна едва ли могла бы достигнуть своего нынешнего блеска: драгоценные металлы и породы деревьев, слоновая кость, самоцветы, благовония, шкуры редких зверей и еще многое из того, что ценят и любят как люди, так и боги. Но как можно распознать границу двух государств? Пара пограничных отрядов, маленький храм — и люди из Куша спокойно едут дальше, поставляют свои товары в Суенет
[105] и возвращаются назад. Они знают наших богов, знают имя царя и подражают нашим обычаям на свой варварский манер. Но о действительном блеске нашей страны, о великолепии пирамид, храмов и дворцов они ничего не знают. У меня есть намерение поставить пограничный камень, он будет единственным в своем роде, и нубийцы вздрогнут, когда увидят его. Там, на берегу, над Нилом возвышаются скалы. Из этих скал я и хочу вырубить громадный храм Солнцу. Пойми, Пиай, туда мы не можем отправить строительный материал, это было бы слишком трудно. Мы используем материал, который есть там. Ты ведь скульптор? Скажи мне, в чем разница, высекаешь ли ты статую из блока в четыре локтя высотой или в сорок локтей? В чем?
— В величине, Богоподобный, а также в сложности обработки. Достаточно просто изготовить статую в человеческий рост. Если же скала в сорок локтей высотой, скульптор не может видеть свое произведение целиком с близкого расстояния, то есть во время работы, и, даже если он очень старателен, ему не избежать ошибок.
Рамзес нетерпеливо кивнул:
— Это я знаю и понимаю. А если не обычный ремесленник, а чрезвычайно одаренный скульптор будет заниматься работой, можно ли будет избежать самых грубых ошибок?
— Я полагаю…
Их прервали: в зал для аудиенции вошла девочка лет восьми. Ее коротко остриженную голову украшал узкий золотой обруч с уреем. Пиай тотчас низко поклонился.
— Это Пиай, способный архитектор, с которым я обсуждаю грандиозные планы. Принцесса Мерит очень любопытна и хочет всегда все знать.
Пиай выпрямился и посмотрел в ясные серьезные глаза ребенка. Мерит для своего возраста была уже довольно развитой и, казалось, состояла лишь из длинных худых ног.
— У тебя серые глаза, Пиай.
— Да, принцесса, я унаследовал их от своего отца, и, к сожалению, это мое единственное наследство. Всем, чем я сегодня обладаю, я обязан твоему Богоподобному отцу.
— А также своему прилежанию и таланту, — добавил Рамзес. — Мерит прервала нас, ты как раз собирался мне ответить.
Пиай произнес твердым голосом:
— Я работал над фигурами в десять локтей высотой и полагаю, что создам фигуру высотой и в сорок локтей.
— А также в сто локтей и в тысячу? — с любопытством спросила Мерит.
Пиай улыбнулся:
— Боги поставили нашим способностям границу, принцесса, и мы должны стараться придерживаться ее.
— А ты однажды изготовишь мое изваяние? Я бы очень хотела! Он это сможет, отец?
— Если у него будет время и если твой учитель будет тобой доволен…
— Какое это имеет отношение к делу? — надула губки маленькая женщина. — Всегда, когда я что-либо хочу, речь заходит о школе.
Рамзес от души рассмеялся, погладил дочь по голове и нежно, но настойчиво повернул лицом к двери:
— А теперь исчезни, дочурка, и скажи маме, что я сейчас иду к ней. — Затем обернулся к Пиайю: — Еще одно, друг мой: то, что я сказал тебе сейчас, сохрани в тайне до тех пор, пока я не дам тебе знать. Я хотел бы построить храм для моей возлюбленной Нефертари, храм в скалах, там, на границе с Кушем. Если я возведу такой здесь, в Мемфисе или в Фивах, жрецы взовьются до небес и будут показывать на меня пальцами: «Этому не было еще примера! Никогда еще царь не строил храма для своей супруги».
Но я это сделаю, пусть и в отдаленном месте. Храм Хатор, потому что у нее есть много общего с этой богиней, у моей любимой… — Рамзес бросил на Пиайя странный взгляд. — Я не знаю, почему я рассказываю об этом именно тебе. Даже Нефертари ни о чем не подозревает. Но ты мне нравишься, Пиай, я желал бы, чтобы у меня был такой брат. Может быть, Пта по своему капризу создал нас подобными друг другу, несмотря на то, что я повелитель Обеих Стран, а ты дитя рабов. — Рамзес положил Пиайю руку на плечо. — Не следует недооценивать богов, мой друг.
Радость Себека по поводу удавшегося налета проявилась в странной дрожи. На его обезображенном лице не было заметно никакого движения. Да и что разглядишь на этой безносой одноглазой морде, целиком покрытой шрамами?
Увидев золотые и серебряные сосуды, ожерелья и браслеты, он поднял обрубки рук, и его худое тело внезапно мелко задрожало.
— Да, да, — заговорил он. — Ну, теперь мы показали им, на что мы способны. Еще пара вылазок, и мы можем основывать королевство.
Он хихикнул или кашлянул несколько раз и повторил каркающим голосом:
— …королевство!
Себек повернулся, как будто хотел удалиться в свою пещеру, но затем внезапно вскинул обрубки рук, захрипел и упал на землю. Меру поднял главаря и отнес на ложе. Прибежал врач, послушал его грудь, пощупал и сообщил:
— Его хватил удар… от радости.
Меру пожал плечами и осторожно присел на край кровати больного. Себек открыл глаз и уставился на него неподвижным взглядом.
— Ты можешь говорить, Себек? Ты меня слышишь?
Никакой реакции не последовало.
— Вероятно, он тебя видит и слышит, но все его тело парализовано. Язык больше не слушается его. Мы должны подождать. Я позову тебя, когда что-либо изменится.
Меру обсудил положение с Землей, Воздухом и Водой.
— У врача немного надежды, скоро мы должны будем выбрать нового Себека.
— Об этом не может быть и речи, пока хоть искра жизни теплится в старом, — резко возразил Воздух.
— Конечно, нет, — успокоил его Меру, — новый Себек будет выбран только тогда, когда старый переселится в Жилище Вечности, чтобы его ка могло в спокойствии наблюдать за выборами.
Земле удалось организовать новую, лучшую цепь связи с различными местами в Мемфисе, и теперь у них было по шпиону в царском дворце, в храме Пта, в рядах городской стражи и ниу. Поэтому четыре помощника Себека давно знали, что из-за разбойничьего нападения началась безжалостная охота на шазу. Больше десятка их кочевых поселений были разрушены, шатры сожжены. Женщин и детей угнали в рабство, мужчин старше двенадцати лет убили, а до того долго и жестоко пытали. Однако не был обнаружен ни малейший след сокровищ храма, и от пытаемых нельзя было добиться честного признания.
У разбойников пустыни эти мероприятия вызвали большое веселье, и Себек даже взвешивал, не стоит ли подбросить шазу пару металлических сосудов из храма Амона, чтобы подтвердить фальшивый след. Но теперь Себек умирал, и разбойники размышляли о его преемнике. Каждый из них, за исключением женщин и нескольких детей, имел голос, и те, кто принимал участие в разбойничьем набеге, думали о том, что отдадут его Меру.
9
Вскоре после беседы царя с зодчими произошло событие, которое едва не свело на нет все планы. Царь хеттов Муталлу объявил Египту войну. Так, по крайней мере, объяснили народу Обеих Стран, но правда выглядела несколько иначе. Это была война, которую в глубине души хотели оба властителя, потому что оба надеялись немало получить от нее. Речь шла о плодородной провинции Амурру, из которой происходил отец Пиайя и которую Озирис-Сети снова получил в свое владение после жестокой борьбы. Муталлу пытался всеми средствами вернуть себе эту страну. Он осыпал властителя Амурру лестью и обещал освободить его от дани на двадцать лет, если тот будет сражаться на стороне хеттов. Так как дань Египту была немаленькая и Муталлу был ближе к его границам, чем Рамзес, владыка Амурру, имевший столицу в Кадеше, позволил себя убедить и перешел на сторону хеттов.
Рамзес сначала не был расположен воспринимать эту новость серьезно. Нужно лишь слегка пригрозить, и властитель Кадеша упадет к его ногам, полагал он, но его военачальники придерживались другого мнения. Они напомнили царю о долгих тяжелых сражениях, которые вел его отец, а также о том, что Муталлу вряд ли удовлетворится захватом Амурру. Тогда Рамзес задумался, и в нем взыграла воинственная кровь его отца.
Как всегда, он в первую очередь подумал о Нефертари. Это был бы изысканный подарок — положить к ее ногам победу. Как смеет этот хеттский предатель вмешиваться в дела Египта! Внезапно Рамзес понял, что без Амурру и его значительной дани блеск Кеми потускнеет, и, как всегда, начал действовать быстро.
За короткое время были выставлены четыре армии, носившие имена четырех богов — Амона, Ра, Пта и Сета.
Посреди уборочной страды царь Рамзес отправился со своим громадным войском на север. Его сопровождали Великая Царская Супруга Нефертари, наследный принц Амани, принцесса Мерит и несколько женщин гарема. В свите царя были также художники, призванные стать свидетелями будущих побед и в дальнейшем черпать вдохновение в этих событиях. Рамзес категорически запретил, чтобы кто-либо из людей искусства из жажды приключений стал воином и взял в руки оружие.
— Ваши руки, ваши глаза, ваши жизни мне слишком дороги, вы должны смотреть и запоминать, а не сражаться.
Изис-Неферт должна была остаться в Мемфисе, чтобы, как иронически заметил Рамзес, править тем временем государством. Нефертари уже родила своего второго сына, его назвали Рахерунемеф, что значило «Ра находится справа от него». Однако его нянька звала царевича коротко — Енам, так стали звать его потом все остальные. Малыш также остался в Мемфисе. Государством, конечно, руководил умный и деятельный визирь Парахотеп, друг юности и доверенный царя, а вовсе не певица Амона.
Рамзес вел самое большое войско, которое когда-либо было выставлено фараоном. Оно состояло из двадцати тысяч воинов и двух с половиной тысяч боевых колесниц.
На одной из таких колесниц время от времени ехал Рамзес, чтобы показаться своим войскам и подогреть их боевой дух. Его колесничим был друг юности Мена, сын владетельного вельможи из Мемфиса. Они родились в один и тот же год, сидели бок о бок, постигая грамоту, опустошили вместе немало кувшинов с вином, и оба были превосходными стрелками из лука.
У Нефертари билось сердце, когда она видела своего супруга-воина, во всем великолепии на колеснице проносившегося мимо в облаках пыли. Он надел на себя золотой шлем с голубой эмалью, в руке у него был лук, а у пояса — полный колчан стрел. Воины ликовали, видя своего предводителя, ударяли мечами о щиты и кричали:
— Будь здрав, Благой Бог, о победоносный Сокол, который разорвет своих врагов.
Сначала хеттов не было видно. Войско стало продвигаться дальше по побережью на север, через города и поселки, население которых принадлежало к верным вассалам Египта и ликовало при виде фараона, в то время как женщины в домах надежно припрятывали запасы. Однако в этом не было необходимости, потому что запасы везли на повозках, запряженных быками, вместе с шатрами, дополнительным оружием и многими вещами, нужными для царского хозяйства, среди которых были зерно, сушеные овощи, орехи, лук, редька, вяленые мясо и рыба, а также вина и пиво.
Первоначальной целью был Кадеш, потому что в нем правил отпавший от Кеми провинциальный князек, на помощь которому торопился царь Муталлу со своими отрядами.
В одном дне езды от Кадеша Рамзес велел разбить лагерь и пригласил военачальников на совещание. Мнения разделились. Предводитель войска Амона считал, что низкий предатель лучше без боя сдаст Амурру фараону, чем развяжет войну с Египтом.
— Имя Богоподобного опережает его и распространяет теперь в чужих странах страх и боязнь. Нам не придется захватывать Кадеш, потому что, я предполагаю, они уже давно сожалеют, что отпали от тебя, и ждут тебя с распахнутыми воротами.
Предводитель войска Сета был совсем другого мнения.
— Не позволяй себя обмануть, Богоподобный! Хетты хитры и коварны, и Муталлу добровольно не отдаст ни клочка земли. Он не показывается и тем самым заманивает нас все глубже. Мы должны быть готовы ко всему.
Во время обсуждения стража ввела в палатку двух перебежчиков, которые стояли под защитой фараона. Они бросились на пол и семь раз ударились лбом о землю.
Рамзес, окруженный телохранителями, сидя на походном троне, расспросил их при помощи переводчика.
Оба сообщили, что Муталлу находится в городе Хальпа, расположенном в трех днях езды от Кадеша, и со страхом ожидает появления египтян.
— Что я сказал! — воскликнул генерал армии Сета. — Они заманивают нас все глубже в страну! До Хальпы отсюда пять или шесть дней пути. Не позволяй заманить себя, Богоподобный!
Рамзес с неудовольствием отмахнулся:
— Мой отец Амон говорит мне, что я должен делать. Мы отправимся к Кадешу и вышлем оттуда разведчиков.
С обоими перебежчиками обращались, как с теми, кто искал защиты, а не как с пленными, и многим показалось очень странным, что на следующее утро они исчезли. Тем не менее этому не придали большого значения. Войско снялось с места и двинулось вдоль реки Оронтес.
После обеда показались стены и башни Кадеша. Все выглядело мирным, не было видно ни одного вооруженного человека. Ночь прошла спокойно, но на следующее утро египетский авангард наскочил на нескольких разведчиков, двое из которых были пойманы. От них ничего нельзя было узнать. Стиснув зубы, упрямцы притворялись глухими. Понадобилось два часа, чтобы египтяне плетками и раскаленными щипцами смогли заставить их заговорить. То, что они сказали, было настолько потрясающе, что Рамзес вскочил с трона и велел переводчику еще раз повторить показания шпионов.
— Да, Богоподобный, оба говорят, что царь хеттов прячется со своими отрядами севернее Кадеша и ждет удобного момента, чтобы вступить в сражение с твоим войском. Его войско по численности и вооружению намного превосходит то, что есть у тебя.
Рамзес так пнул столик, стоявший рядом с его троном, что поставленные на нем серебряные подносы с фруктами, кувшин вина и золотой кубок разлетелись по шатру.
— Хеттский предатель кукарекает, как петух, вообразивший себя вороном! Он может иметь в два раза больше воинов, чем у нас, и тем не менее мы разобьем его!
Второпях Рамзес созвал военачальников и приказал тотчас собрать воедино беззаботно растянувшиеся четыре армии. Пока подтягивались войска, в лагерь примчались египетские разведчики:
— Хетты пришли! Быстро вооружайтесь!
Вдали уже показались первые облака пыли, которые вскоре стали такими густыми, что скрыли стены Кадеша. Река, казалось, тоже представляла препятствие. Хетты явно знали брод и ринулись на войско Ра, чтобы отрезать от остальных, а затем окружить и захватить царя с его армией Амона.
Не приведенное еще в полную боевую готовность войско Ра было вмиг сметено, и авангард врага на боевых колесницах ринулся на воинов Амона.
Второпях Рамзес облачился в золотой панцирь, в то время как Мена помог ему надеть шлем и привесил к его поясу колчан со стрелами. Потом оба вскочили на сверкающую золотом боевую колесницу и бросились навстречу врагу. Телохранители изо всех сил старались не отставать от них. Самая большая ответственность лежала именно на них: если царь падет, битва будет проиграна и они все закончат жизнь рабами хеттов в пустынной, холодной, посещаемой дождями местности. Каждый египтянин предпочитал смерть подобному существованию. Итак, они прикрывали рвущегося вперед царя изо всех сил, но иногда теряли его из виду.
Рамзес ощущал необузданную жажду сражения и одновременно чувствовал себя таким уверенным, как будто сидел в своем гареме перед игрой в мен. Он знал, что с левой стороны его защищает бог войны Монт, а с правой сопровождает Сет, бог чужих стран. Как будто во время охоты за газелями, он спокойно доставал стрелу за стрелой, и почти каждая поражала хеттского воина. Рамзес целился только в лицо и шею, потому что тела противников были прикрыты жесткими кожаными панцирями,
которые не пробивала никакая стрела.
Если бы его только видела Нефертари! Но царица находилась в безопасности, ее защищал сильный отряд телохранителей.
Вскоре царь понял, что не может противостоять превосходящим силам врага и должен считаться с тем, что его продвинувшийся вперед маленький отряд колесниц может быть полностью отрезан.
— Мена, мы поворачиваем!
Вышколенные лошади повернулись и ворвались назад в лагерь. Там хетты продолжали заниматься грабежом, не рассчитывая на то, что сам царь нападет на них.
Рамзес бросился с мечом на убегавших грабителей и уложил некоторых из них, раскроив им череп. Несмотря на это, положение сложилось критическое, потому что Рамзес был все еще отрезан от основной части своих войск и вместе с парой сотен своих людей оказался бы сметен с лица земли. Однако Монт не покинул сына Озириса и вовремя послал ему помощь. Это был маленький вспомогательный отряд, так называемые ширдану, которые из соображений безопасности отправились в Кадеш другой дорогой и сейчас с севера прорвались к армии Амона. Эти в большинстве случаев бородатые, воинственные и агрессивные воины были наемниками, и никто точно не знал, откуда они происходили. В отличие от египтян они носили отделанные кожей бронзовые шлемы, длинные прямые мечи и круглые щиты. Они пробились на юг, соединились с остатками войск Амона и Ра, в то время как легкомысленно растянувшиеся войска Пта и Сета находились еще на расстоянии получаса езды от них.
Тем временем враг заметил, насколько слабы египтяне, и новая волна боевых колесниц устремилась на них из Кадеша.
Рамзес решил не сходить с места, пока два других отряда не смогут прийти ему на помощь.
Прикрытый ширдану, преимущественно молодыми и дерзкими вояками, он ожидал нападения хеттов. Стрелы вонзались в его кожаный панцирь, украшенный золотыми бляхами, в то время как его ценный железный кривой меч, подарок одного из вассалов, мелькал среди нападавших хеттов, как серп среди колосков пшеницы.
Священный ужас помешал врагу открыто напасть на громадного царя-бога в его золотом панцире с возвышавшимся над всеми уреем, украшавшим его шлем. Издали в него летели стрелы, но только некоторые из них попадали в его панцирь, большинство же вонзались в тела и щиты телохранителей.
Ра уже готовился скрыться за горизонтом и пересесть в свою ночную ладью, когда наконец появилось войско Пта, что мгновенно заставило хеттов отступить.
Из-за наступившей ночи Рамзес отказался от преследования. Он хотел собрать свое войско, чтобы утром нового дня дать решающее сражение и взять Кадеш. Самыми крупными были потери войска Ра. Войско Амона также тяжело пострадало, в то время как войско Пта было затронуто едва-едва. А что касается подопечных Сета, они вообще еще не вступали в сражение. Рамзес полагал, что его объединенная и усиленное ширдану войско одержит победу.
От нетерпения он едва мог спать, несколько раз вскакивал и смотрел через занавес на восток. Наконец кровь змея Апопа, раненного Ра, окрасила утреннее небо в нежно-розовый цвет.
В то время как в лагере трубили подъем, Рамзес уже одевался. Он торопливо съел несколько фиников, выпил бокал вина, смешанного с водой, и вышел из шатра к собравшимся военачальникам.
— Сегодня с помощью Монта мы уничтожим врагов, и их царь-предатель будет целовать землю перед моим троном…
В этот момент объявили о посольстве хеттов. Они бросились перед ним на землю и положили к ногам фараона табличку с текстом. Переводчик поднял ее и прочитал:
— Царь хеттов Богоподобному Узимаре Рамзесу. Тебя в битве поддерживает Амон, а меня Ваал. Я сижу в защищенном стенами Кадеше и решил, несмотря на мое преимущество, предложить тебе мир. В битве мы потратим попусту немало сил и средств и не выиграем ничего — ни ты, ни я. Говорят, что у тебя есть великие планы украсить страну Кеми храмами и дворцами и построить новую столицу. И у меня в мыслях подобное, поэтому давай прекратим сражение и в мире принесем жертву нашим богам.
Рамзес не был мстительным, воинственность его быстро улетучилась, да и предложение врага показалось ему разумным. Осада Кадеша стоила бы Египту больших человеческих потерь, заняла бы немало времени, которое фараон действительно мог бы потратить на что-то более созидательное. Чтобы соблюсти традицию, он спросил мнения своих военачальников, сообщив им заранее о своем. Кто же мог противоречить Благому Богу?
— Если подлый хетт сейчас забился в угол, как трусливая собака, мы не должны предоставлять ему честь доблестного сражения, — резюмировал искусный в словах один из военачальников и этим точно сформулировал то, что хотел услышать от него Благой Бог.
— Ты высказал мои мысли, Несмонд. Они почувствовали нашу силу, оставим их на этот раз при этом.
Вечером того же дня Рамзес сидел в шатре Нефертари. Она была несказанно счастлива видеть снова мужа здоровым и почтительно поцеловала царапину, которую стрела хеттов оставила на его плече. Рамзес почувствовал себя великим победителем, и эту победу он положил к ногам своей возлюбленной.
Под стенами Кадеша египтяне хоронили своих мертвых, в то время как царь Муталлу, насмешливо улыбаясь, наблюдал за ними через бойницу. Он тоже чувствовал себя победителем, потому что потерял только несколько сотен своих людей и при этом не уступил ни клочка своей земли, прежде всего не потерял Кадеш.
«Пусть это будет наукой египтянину, — подумал он довольный. — Вольно ему дома разыгрывать из себя бога. Здесь же властвую я, а надо мной есть только Ваал, и он не потерпит ни одного чужака в стране».
Себек все еще жил. Большей частью глаз у него был закрыт, но иногда он его открывал и смотрел, как казалось Меру, с насмешкой и коварством на каждого, кто приближался к умирающему.
У постели больного поочередно дежурили Меру и лекарь. Никого другого Огонь к постели не подпускал, хотя остальные три помощника ворчали.
Вместе с Воздухом, Водой и Землей он опечатал известную только им сокровищницу Себека. В маленькой пещере в скале лежали груды золотой, серебряной и медной посуды, украшения, ожерелья в виде воротника из золота, отшлифованные камни, амулеты, фигурки богов из бронзы, искусно сделанная мебель самых различных видов, канопы — алебастровые сосуды для внутренностей умерших, роскошное оружие, вазы, кубки и многое другое из разграбленных гробниц или домов. Этими сокровищами Себек мог распоряжаться по своему усмотрению. Он использовал их также для подкупа стражи, судей и чиновников, а еще для того, чтобы снарядить кого-либо из членов банды, который по каким-либо причинам должен был показаться где-нибудь на людях.
Десятая часть всей добычи принадлежала Себеку и оседала в сокровищнице, все остальное делилось на равные доли между остальными, причем четыре помощника получали двойные доли.
Но, поскольку Себек умирал, пещера с сокровищами была опечатана до тех пор, пока владыка пустыни, выздоровеет или не умрет, и тогда ею сможет распоряжаться его преемник.
Сменив лекаря у постели больного, Меру спросил:
— Как долго еще?
Лекарь пожал плечами:
— Может быть, несколько часов, а может, несколько дней, в любом случае не слишком долго.
Меру присел на скамеечку и неохотно посмотрел на изуродованную физиономию владыки пустыни. Хотя он сам был без ушей и без носа, он не мог привыкнуть к этому обезображенному нечеловеческому лицу. Меру налил немного вина в маленький алебастровый кубок, который брал с собой, когда бодрствовал у постели умирающего. От личных вещей Себека его тошнило. Он к ним не прикасался.
Когда он снова повернулся к умирающему, глаз того был широко открыт и смотрел на него.
— Себек, ты меня слышишь? — спросил Меру, как часто спрашивал в последние дни.
Худой, почти лишенный губ, обезображенный ударом меча рот открылся и прокаркал едва слышное:
— Да.
Меру испугался. Неужели Себек начал выздоравливать?
— Выскажи свои желания, почтенный. Хочешь ли ты нам что-нибудь сказать? Нужно ли тебе что-либо?
— Ты… не… должен… стать… моим преемником, — едва слышно, с трудом прошептал Себек.
Меру наклонился ниже, чтобы не пропустить ни слова. На него пахнуло жутким запахом гниения, как из пасти крокодила, чье божественное имя носил король пустыни.
— Мое… место… должен… занять… Воздух. Ты… должен… оставаться Огнем… Ты… лучший предводитель…
«Это, конечно, так, — подумал Меру, — но в должности Огня обычно долго не живут. А я хочу жить. Мне нравится жизнь, я должен жить, потому что мне предстоит свести счеты с Рамзесом».
Не прислушиваясь больше к прерывистому бормотанию умирающего, Меру огляделся в полутемной пещере. Тут лежал льняной платок, которым лекарь время от времени обтирал лицо Себека. Меру свернул его, сделав повязку в руку длиной, окунул в кувшин с водой и посмотрел на Себека. Широко открытый глаз странно засветился, и владыка пустыни проговорил громко и отчетливо:
— Да, сделай это. Я хотел бы… я хотел бы…
Тут Меру прижал мокрый льняной платок ко рту и отверстиям носа и держал до тех пор, пока едва ощутимая судорога не сообщила о смерти Себека. Все еще открытый глаз Меру закрыл мягким, почти нежным движением руки.
В этот же день Меру был избран преемником Себека. Его место Огня осталось вакантным. Неоспоримым правом владыки пустыни было назначать на эту должность людей по собственному выбору.
Несколько часов архитекторы, скульпторы и художники двигались за носилками фараона. Они спотыкались на пашнях, пересекали ручьи, топали по полям с пшеницей, но все это не имело значения, потому что тут должна была возникнуть новая столица Пер-Рамзес. Озирис-Сети построил здесь большой летний дворец, потому что его предки происходили из этой местности в Дельте. Позади царских носилок бежали два писца с громадными свитками папируса, и каждый раз, когда Рамзес хотел что-то показать своим сопровождающим, он наклонялся из носилок, велел разворачивать план и показывал на определенное место.
— За этим пшеничным полем начинается земля храма с домами для Сета, Пта, Амона, Озириса, Изиды и Гора; для Анат, любимой супруги Сета, будет выстроен собственный храм позади.
Они пересекли пшеничное поле, и перед ними открылся вид на самую большую строительную площадку, которую когда-либо видела страна Кеми. Наполовину готовые пилоны вырастали, уходя в небо; возвышались стены храма; группы залов без крыш, казалось, вытягивали руки как бы для молитвы.
Царь кивком подозвал Пиайя к носилкам и указал ему на строительную площадку:
— Тут работают несколько тысяч человек, и все же дело продвигается слишком медленно. Посмотри только на стены храма — до того как будет сделан рельеф, строители должны соорудить пилон. Что здесь можно сделать?
— Богоподобный, мне самому требовалось пять лет, чтобы создать хорошие рельефы. Эта работа просто требует времени. Прилежный художник может украсить десять стен, пока скульптор создаст один маленький рельеф. Нужно обучить большее количество скульпторов, но…
Рамзес отмахнулся:
— Для меня это слишком долго! А климат в Дельте убьет любую живопись: воздух влажный, и время от времени идет дождь. Нет! Нет! Я хочу иметь рельефы, но их должны изготавливать быстрее. Придумай что-нибудь, Пиай, я так хочу!
Пиай поклонился и отступил назад. Уже несколько лет он не прикасался к инструментам, потому что царь нагружал его другими заботами. Вчерашний скульптор руководил строительством почти готового храма Амона в Мемфисе, участвовал в составлении планов для новой столицы Пер-Рамзес, надзирал за работами скульпторов и художников здесь и в Мемфисе и вскоре обязан был отвечать за дальнейшее расширение храма Амона в Фивах. После этого он должен был поехать на южную границу, чтобы осмотреть место, выбранное царем для храма в скалах.
Пиай жил в Мемфисе в прекрасном доме. Фараон осыпал его подарками, и бывший раб-земледелец имел теперь собственных слуг, а к ним поля и виноградники, но у него не хватало времени, чтобы всем этим насладиться. У других дело обстояло не лучше. Царь двигал их то туда, то сюда, как камешки в игре в мен, ему все казалось слишком медленным. Вздыхая, Пиай забирался по каменным блокам — заготовкам для колонн и по деревянным помостам. Так он добрался до скульпторов, которые были заняты на строительстве храма Сета. Десятки прилежных рук стучали молотками, шлифовали, скоблили. Люди едва поворачивали головы в его сторону: у этих мужчин не было времени на любопытство.
Старший среди скульпторов отложил инструмент и поклонился Пиайю.
— Твой визит честь для нас, почтенный друг фараона, да дарует ему Пта тысячи тысяч праздников Зед.
— Да будет Благой Бог жив, здрав и могуч! Он беспокоится о ходе строительства храма и приказывает ускорить работу.
Старший беспомощно опустил руки:
— Каким образом? Мы работаем почти без остановок от восхода до заката. Ты же знаешь, сколь трудна и неспешна наша работа. Спешка не принесет ничего хорошего. Пришли нам больше скульпторов, и дело пойдет быстрее.
Пиай молчал. Скульптор, конечно, прав.
— Дай мне инструмент!
Пиай наклонился и начал работать над рельефом, контуры которого наметил художник. Большая часть работы состояла в том, чтобы снять верхний слой вокруг изображения.
Нужно было бить молотком и шлифовать часами.
— Стоп!
Пиай ударил себя по лбу. Эта работа оказалась бы лишней, достаточно было расположить рельеф просто чуть глубже. Его учитель Ирамун однажды бегло упомянул, что эта презираемая ныне техника была привычной во времена фараона-отступника Эхнатона. Этот царь предшествующей династии хотел заставить страну поклоняться единому богу Атону, но жрецы Амона позаботились о том, чтобы после его смерти все снова вернулось к старому порядку, и добились того, что имя дерзкого владыки было сбито со стен храмов и гробниц, дабы оно вовсе даже исчезло из истории. Эхнатон также велел соорудить новую столицу с большой скоростью, и углубленный рельеф позволил его скульпторам выполнять работу в три раза быстрее.
Пиай взял кусок песчаника с тарелку величиной, быстрыми штрихами нарисовал на нем сокола Гора, и уже после получаса работы углубленный рельеф был готов. Он протянул его старшему скульптору.
— Так как поверхность не надо долго шлифовать, работа идет существенно быстрее.
Мастер в растерянности смотрел на каменную плиту:
— Но выдающийся рельеф красивее углубленного… Я имею в виду не твою превосходную работу, а технику. У контуров появляются безобразные тени, это как если бы картину погрузили в мокрую глину. Извини мою прямоту, но…
— Согласен, мой друг. Но фараон хотел быструю работу, пусть он и решает.
Рамзес сначала нахмурился, увидев Гора, но затем его красивое царственное лицо разгладилось.
— И ты говоришь, что так работа идет в три раза быстрее?
— Да, Богоподобный, по меньшей мере в три.
— И людей не надо переучивать? Каждый скульптор может выполнять работу в этой технике?
— Конечно, Богоподобный. Отделка та же самая, только вокруг изображения делают глубокие контуры, а поверхность оставляют такой, какая она есть. До этого большая часть времени уходила на то, чтобы отшлифовать поверхность.
Рамзес положил руку на плечо Пиайю. Такое он делал редко и только тогда, когда они были одни.
— Птах как будто создал тебя для меня! Я подарю тебе дворец в Пер-Рамзесе, при виде которого родовитые вельможи побледнеют от зависти. Ты должен быть награжден, как никогда еще фараон не награждал своего слугу. Тебе что-нибудь нужно? Женщин, рабов, вина, зерна, одежды — говори это смело.
Пиай поклонился:
— Нет, Богоподобный, для гарема у меня нет времени, да и слуг у меня достаточно. Я бы с удовольствием взял в руки инструменты, что-нибудь создал бы…
— Нет-нет, для этого есть другие. Время создавать скульптуры придет и для тебя, будь уверен. Ты знаешь, что я имею в виду?
Пиай кивнул:
— Колоссальные фигуры у храма в скалах. Когда я должен?..
Но царь прервал его:
— Пока ты должен еще подождать. Только после того как ты увидишь место, мы поговорим об этом деле.
Почти бесшумно к ним подошла принцесса Мерит. По детской привычке она любила пугать отца.
— У Благого Бога есть секреты от дочери? О каком месте идет речь?
Рамзес ласково потрепал ее по щеке:
— Девушка, которая пережила почти двенадцать разливов Нила, не может быть такой же любопытной, как в детстве, и не должна подкрадываться, как змея.
Маленькие груди Мерит уже высоко приподнимались под узким льняным платьем. Ее красивое лицо было похоже на лицо Нефертари, но в нем отсутствовала материнская милая округлость черт. Нос у нее был несколько более крупным, рот — немного более твердым, но слегка раскосые темные глаза богини она унаследовала от матери.
— Я подарю тебе пару молоденьких рабынь, Пиай, чтобы тебя поменьше занимали дела Благого Бога. А уж если так хочется работать, сделай с меня скульптуру в человеческий рост.
Рамзес погрозил дочери:
— Придержи свой язычок, принцесса. Я полагаю, что скоро выдам тебя замуж, чтобы ты была занята и не мешала нам в работе.
Пиай с удовольствием прислушивался к перепалке между отцом и дочерью и думал: «Они разговаривают, как обычные люди. Нет разницы между маленьким чиновником и сыном Солнца».
Принцесса Мерит казалась ему сверх меры очаровательной и желанной, однако он изо всех сил подавлял столь неподобающие мысли.
— Ну как, мастер Пиай? Ты сделаешь с меня скульптуру?
— Если Благой Бог позволит…
Рамзес глубоко вздохнул и взглянул на Пиайя с наигранной беспомощностью:
— А что мне остается? Она все равно настоит на своем. Сделай эту фигуру, но из мягкого камня и только в половину человеческого роста, чтобы дело шло быстрее.
— Ну вот, опять быстрее, — капризно надула губки Мерит. — Как будто я одна из гаремных отпрысков.
— Ты заботишься о том, чтобы я не забыл о твоей значимости. Но даже мой наследник Амани никогда не мешает мне в работе.
— Потому что он охотнее держится за юбку своей няньки, вместо того чтобы учиться стрельбе из лука и фехтованию на мечах.
— Как трогательно ты заботишься о своем брате! Девочкам тоже необходимо кое-чему учиться, не забудь об этом. В последний раз твой учитель жаловался, что ты все еще владеешь не больше чем сотней иероглифов, а этого для почти двенадцатилетней девушки мало.
Мерит с яростью сверкнула глазами:
— В конце концов я же не должна стать писцом! Сколько письменных знаков знает Пиай? Ну-ка скажи мне!
Пиай испугался. Он держался позади и изучал строительный план.
— Ну, я тоже не писец, принцесса. Как скульптор, я изучал письменность лишь для того, чтобы уметь переносить знаки на камень. У меня тоже в голове не более ста иероглифов.
Конечно, он знал гораздо больше, но что-то заставило его встать на сторону юной принцессы.
Мерит с триумфом взглянула на отца:
— Видишь, твой любимый художник не более ловок, чем я!
Еще отец разразился свойственным ему громким смехом.
Пиай из вежливости улыбнулся.
— Иди отсюда и вели позвать мне главного советника, — велел он Рамзес и повернулся к Пиайю: — Тотчас пойди к писцам и вели отправить царский приказ на каждую строительную площадку. С сегодняшнего дня работы должны выполняться только в технике углубленного рельефа. Если есть надобность, обучи этой технике пару людей, чтобы они могли объяснить ее другим. Я тебе очень признателен, Пиай. Да будет с тобой Пта!
Чуть позже пришел Парахотеп и поклонился:
— Что я могу сделать для Благого Бога?
— Садись, мой друг. Через несколько месяцев начнутся работы во дворцах, домах и складах Пер-Рамзеса и нам потребуются не камень, а тысячи тысяч кирпичей. Даже если я отправлю на работу всех крестьян в Дельте, что, конечно, не дело, мы не сможем изготовить такое количество строительного материала. Что ты предлагаешь?
— Уже несколько месяцев заключенные, рабы и поденщики изготавливают и обжигают кирпичи из глинистого ила, но их, конечно, надолго не хватит. Однако я был бы плохим советником, если бы не сделал все, чтобы выполнить твои высочайшие указания. Я хотел бы предложить вот что: в восточной части Дельты, в районе Гозем, уже несколько поколений живет народ хабиру.
[106] Один из твоих священных предков разрешил им пасти там свои стада. С тех пор число их сильно увеличилось, и до меня дошли жалобы крестьян и помещиков, что хабиру со своими животными вторгаются на чужие пустоши, а когда их хотят призвать к ответу, их уже и след простыл. Да, с ними всегда сложности: они не платят налогов и грабят там, где могут. Мы должны заставить самых сильных из них изготавливать кирпичи. Тем самым мы не проявим к ним несправедливости, ибо они смогут отработать налоги, которых давным-давно не платили.
Главный советник, стройный мужчина среднего роста, был одет просто и не носил никаких украшений. Его умное энергичное лицо выдавало старание и деятельность. Парахотеп был свободен от высокомерия и тщеславия. Он хотел лишь всеми силами служить фараону и видел в этом свою жизненную задачу. Все остальное должно было подчиняться этому. Парахотеп происходил из старинной аристократической семьи и был племянником прежнего, уже умершего визиря главного советника Нибамуна. Воспитанный вместе с Рамзесом, Парахотеп ощущал себя тесно связанным с ним как друг и верховный сановник государства.
Рамзес похлопал друга юности по плечу:
— Я назначил главным советником нужного человека. Так что же мы сделаем с хабиру?
— Это упрямое и непослушное племя. Они жируют в нашей стране, но никогда за это ничего не давали казне. Это не в духе Маат, нашей госпожи, следящей за божественным порядком. Для начала я должен назначить двойное количество надсмотрщиков, и им понадобится в два раза больше бамбуковых палок, но дело пойдет. С палкой и плетью дело всегда пойдет.
Рамзес усмехнулся:
— Только бы не разозлить Сета, бога иноземных народов.
— Не беспокойся об этом. Мне передали, что хабиру презирают наших богов и Сета в том числе. Один из твоих предшественников — его имя по праву никогда не называют — хотел дать народу Кеми одного-единственного бога в одном-единственном лице. Хабиру уже тогда разводили свой скот в Гоземе, и держались этой веры. Если мы вынудим этих отщепенцев заняться разумной работой, ни один из наших богов ничего не будет иметь против.
Семь дней спустя вооруженные отряды фараона забрали способных работать мужчин хабиру, и по всей стране Гозем прокатился великий плач. Изготовление кирпичей не было тяжелой работой, однако эта работа была грязной, и привыкшие к свободе хабиру чувствовали себя жалкими рабами.
Тем временем Изис-Неферт, вторая супруга царя, родила двух сыновей. Рамозе родился на несколько недель позже Амани, а Хамвезе — на несколько дней позже второго сына Нефертари Енама. Как будто ей было предназначено вечно оставаться второй — и как супруге, и как матери.
Фараон обрадовался этим сыновьям, однако раздираемая честолюбием Изис-Неферт надеялась, что он каким-то образом отличит ее, служительницу Амона. Но, увы, оба ее сына не могли изменить того, что Нефертари перед всем светом являлась единственной женой фараона, которая сидела рядом с ним на троне и сопровождала его почти во всех его поездках.
Именно Нефертари, ее одну, изображали вместе с Рамзесом на стенах храмов и дворцов, ее маленькая фигурка на изображениях нежно обнимала его ногу. Хотя Изис-Неферт жила в собственном дворце, обладала собственным придворным штатом и высоко стояла над наложницами гарема, ее злило положение вечно второй.
«Эта крестьянская шлюха, должно быть, владеет какими-нибудь колдовскими штучками, которыми привязала к себе фараона», — мрачно думала она. Когда он наконец поймет, что только бог всего царства Амона может поддержать его трон? А она, Бент-Амон, которую сейчас должны называть Изис-Неферт, — мистическое звено, которое соединяет его с Амоном и священным городом Фивы. Если бы другая, по крайней мере, не родила сыновей!
Ах, на сердце у Бент-Амон было так тяжело, что она должна была выговориться с кем-то, с человеком со своей родины, который понимал ее и уважал. Речь тут могла быть только об одном человеке — жреце-чтеце Незамуне, которого она привезла с собой из Фив и который твердой рукой управлял ее придворным штатом.
Вошедший жрец глубоко поклонился:
— О Богоподобная…
— Подойди ближе, мой друг, сядь ко мне.
Незамун был толстым осанистым мужчиной. Его вид возбуждал доверие, он выглядел добродушным, но под маской добродушия жил честолюбивый и спесивый человек. Как родственник рано умерших родителей Изис-Неферт, он был некоторое время ее опекуном. Благодаря связям он получил должность третьего жреца в храме Мут, и то, что ему недоставало в образовании, он возмещал коварством, клеветой и различными интригами. Для Изис-Неферт он был доверенным лицом из ее детства, и она охотно пошла навстречу его желанию попасть в ее придворный штат. Да, она даже предложила ему должность управителя своего дома. Однако не родственные чувства побудили Незамуна отправиться в Мемфис. Он надеялся благодаря протекции царицы однажды занять высокий пост при дворе или в одном из храмов Мемфиса. Об этом он, конечно, никому не говорил. Незамун знал, что его продвижение зависит от Изис-Неферт и что с рождением ее обоих сыновей были преодолены первые ступеньки на лестнице успеха. То, что его госпожа не была этим довольна, он узнал только сейчас.
— Что я имею от того, что семя Благого Бога, семя Амона взошло в моем теле? Он едва смотрит на Рамозе и Хамвезе, — жаловалась царица. — Он возится только с Нефертари и ее детьми. Конечно, Амани наследный принц, но после него я родила Рамозе, и, если с Амани что-либо случится, тогда… тогда…
Незамун любезно улыбнулся:
— Тогда, Богоподобная, Рамозе станет наследным принцем, да? Но вероятнее, что он может быть одним из наследников трона, ибо царь по своему желанию может назначить преемником какого-либо другого сына, скажем, второго сына Нефертари. Конечно, больше видов на будущее у Рамозе было бы, если бы… ну об этом сейчас не может идти и речи. Амани здоров, великолепно развивается, и сейчас его обучают стрельбе из лука.
Изис-Неферт вскочила и раздраженно заявила:
— А мои сыновья разве не здоровы? Разве они развиваются не великолепно?
— Успокойся, дочь моя. Я позволил себе сказать тебе об этом только потому, что я ранее брал на себя роль твоего отца. Нам не следует слишком спешить. Я ежедневно молюсь Амону, чтобы он увеличил свою власть в Мемфисе, укрепил ее и оказал нам милость тем, чтобы использовать нас в качестве своих орудий. И я твердо убежден в том, что мои просьбы будут услышаны. Однако боги никогда не действуют мгновенно, это было бы недостойно их и могло бы создать впечатление, что они послушны людям, будь хорошей женой сыну Солнца, будь покорной и терпеливой, уважай и почитай также Нефертари, потому что она уже завоевала сердце царя. Она также смертна…
Незамун помолчал и добавил:
— Все мы смертны, и наша судьба в руках богов.
Теперь он знал заботы своей госпожи, это были и его заботы. В его голове возник неясный план, который заставил вздрогнуть даже его самого, сверх меры честолюбивого человека. Никого при дворе Изис-Неферт не должны подозревать, никто не должен находиться в опасности. Ему будет стоить больших трудов и, возможно, многих лет соткать эту сеть, но цель достойна этого.
10
Согласно своей спонтанной натуре принцесса Мерит появилась в мастерской скульптора неожиданно, не сообщив об этом заранее. Пиай наблюдал за изготовлением статуй фараона в половину человеческого роста из твердого гипса, которые должны были служить скульпторам в Фивах в качестве модели. Фараон был изображен стоящим и сидящим, и всегда у его ног присутствовала фигурка Нефертари, нежно державшаяся за его колено.
Помощники пали ниц и испуганно замерли, когда они по золотому урею узнали в кругу придворных дочь Солнца.
Пиай поклонился и окунул измазанные гипсом руки в ведро воды.
— Если бы я знал, что ты почтешь меня своим визитом…
— Нельзя все знать заранее, — прервала Мерит поучительно и огляделась.
Она указала на крошечную фигурку Нефертари.
— Почему ты делаешь мою мать постоянно такой маленькой? В Фивах я видела однажды фигуру сидящего царя Небмаре, и его супруга Тее сидела рядом с ним в полный рост. Разве Нефертари имеет меньшую ценность, чем Тее?
— На этот вопрос, принцесса, тебе может ответить только Богоподобный. Но вся страна знает, как сильно Благой Бог любит и ценит свою Великую Царскую Супругу.
Мерит не выразила согласия и сразу перешла к следующей теме:
— Ты хотел сделать мою фигуру. Итак, я здесь.
— Что, прямо сейчас?
— А почему нет? Такова моя воля.
— Ну что ж, тогда твой слуга должен подчиниться, — ответил Пиай и схватился за ведро с гипсом. Он долил в него воды и начал молча лепить.
Мерит осмотрела мастерскую:
— Куда мне можно сесть?
— Я изображу тебя стоящей. Это более подходит для юной принцессы.
Пиай взял заранее приготовленную сырую фигуру из дерева и начал одевать ее в гипс. Честно говоря, принцесса ему была совсем не нужна, потому что Пиай лепил ее фигуру по старой египетской традиции: стройная, со сдвинутыми ногами, правая рука свободно свисает, в левой цветок лотоса. Широкое искусное ожерелье на плечах с золотыми знаками Анк и Нефер он лепил с натуры, как и чудесные сережки с крошечными скарабеями из ляписа и карнеола. Достигавший маленьких грудей, украшенный голубыми и желтыми фаянсовыми бусинками парик был повязан широкой золотой лентой с угрожающе поднятой головой кобры — огненным, отводящим все зло глазом солнечного бога Ра.
Мастер только наметил эти предметы, их более точное исполнение он отодвинул на более поздний срок.
Изображая лицо принцессы, Пиай выбрал средний путь. Были заказчики, которые хотели выглядеть как можно ближе к жизни, а были такие, которые предпочитали, чтобы их и в гробницах изображали юными. Для фараона и членов царского дома традиция требовала, чтобы индивидуальное изображение человека отражало затмевающее все величие детей Солнца, которые находятся по своему положению между земным и небесным. Прежде всего это относилось к царской чете. Для изображения двенадцатилетней принцессы подобной величественности не требовалось.
Выдающийся талант Пиайя создал гордое красивое лицо девушки с чуть заметной улыбкой, в котором Мерит едва узнала себя, но которое ей, тем не менее, чрезвычайно понравилось.
— Это… это теперь я?
— Это ты, принцесса, но это не то, что ты видишь в зеркале. Ты сама станешь старше, выйдешь замуж, родишь детей, а эта статуя всегда будет похожа на тебя. Это высокое отображение тебя, почти такое же, как твое ка.
Лицо Мерит помрачнело:
— Я не хочу становиться старше! Я не хочу выходить замуж! Но тобой, Пиай, я восхищаюсь, ты создал нечто прекрасное. Правда, только из гипса.
Пиай улыбнулся:
— Позже я сделаю это из камня. А может быть, и из бронзы. Это будет подарок твоему высокочтимому отцу, да будет он жив, здрав и могуч.
Мерит радостно захлопала в ладоши:
— Ты угадал мои мысли, Пиай. Ты мне очень нравишься!
«Ты мне тоже», — охотно признался бы Пиай, но это было бы неуместным.
— Твоя приязнь — самый прекрасный подарок, который ты можешь мне сделать. Сохрани ее, — ответил он почтительно.
— Вот за тебя я могла бы выйти замуж, ты мне нравишься гораздо больше, чем все мои сводные братья. У тебя такие красивые серые глаза…
«Она еще ребенок, — подумал Пиай, — и не знает, о чем говорит».
Однако это детское признание странно тронуло его и долго не выходило у него из головы.
Девять дней спустя Пиай отправился с фигурами фараона на юг.
С тех пор как Рамзес начал реализовывать в Фивах свои гигантские строительные проекты, в кругах жрецов Амона царило тщеславное упоение. У них уже был печальный опыт бесплодных царских обещаний, однако Рамзес оказывался человеком дела. Тысячи людей, в том числе отправленные на вынужденные отработки крестьян, трудились без восторга, но под плетью бодрых надсмотрщиков, до изнеможения. На севере поднимался громадный комплекс храма Мертвых, на юге храм, построенный фараоном Небмаре и посвященный святой семье Амона, Мут и Хона, был расширен, и к нему был достроен могучий пилон.
Однако самые большие планы должны были осуществиться в храме Амона. Здесь возник зал со ста тридцатью четырьмя колоннами в виде папируса, каждая из которых была почти в сорок локтей высотой и в обхвате достигала двадцати локтей. Сам храм Амона должен был быть увеличен, но это были еще самые скромные из планов. Пиай должен был позаботиться о том, чтобы повсюду применяли углубленный рельеф. Скульпторы уже начали выполнять работы в старой технике, но по желанию царя требующие кропотливой работы рельефы следовало сбить и переработать в технике углубленного рельефа. Рамзес хотел выдержать свои постройки в едином стиле и не терпел никаких отклонений.
Но самым важным заданием Пиайя было подняться до первых порогов Нила, чтобы там, на границе с Кушем, внимательно обследовать скалистый берег. Здесь должен был осуществиться державшийся до этого времени в секрете проект строительства гигантского храма в скалах. Царь подчеркнул, что он хотел бы построить храм в честь свой возлюбленной и посвятить его обожествленной, как Хатор, Нефертари.
В Суенете, где порог Нила прерывал дальнейшую поездку, Пиай пересел на более маленькое суденышко. Здесь, у ворот Черной Африки, кончались все важнейшие торговые пути. Сюда нубийцы поставляли свою дань, и здесь добывали прекрасный розовый гранит, который египтяне использовали для изготовления красивых и самых дорогих памятников.
Пиай добрался до гранитных каменоломен, но его тотчас грубо отпихнул один из надсмотрщиков. Мастер, чтобы не бросаться в глаза, путешествовал без сопровождающих, но на всякий случай имел с собой подтверждение с печатью, что он является архитектором царя. Он сунул его под нос надсмотрщику, но тот только проворчал что-то и вызвал главного надсмотрщика.
Тот прочитал и поклонился:
— Распоряжайся мной, почтенный Пиай.
— Покажи мне обелиски, которые сейчас обрабатываются для храма Благого Бога.
С усердием и поклонами надсмотрщик довел мастера до каменоломен. Уже издалека был слышен сильный стук инструмента — это сотни людей, сидя на корточках в длинных ямах, вырубали обелиски из скальной породы. Это была чрезвычайно напряженная работа, поэтому люди менялись каждые два часа.
Пиай знал эту технику, однако никогда не видел ее собственными глазами. Он спросил надсмотрщика:
— Что случится, когда обе стороны будут отделены от скалы, ведь необходимо еще отделить камень и снизу.
— Конечно, достопочтенный, нужно. Наши люди отбивают нижнюю часть камня, пока обелиск можно будет передвинуть. Его перевязывают крепкими ремнями и укрепляют на шесть или восемь канатов. Этого должно хватить, чтобы поднять его на поверхность, а в это время несколько работников внизу отбивают камень, который мешает обелиску. Некоторые при этом погибают, потому что канаты распределены неравномерно и обелиски могут их раздавить. Впрочем, тут нет важных персон, а умереть на службе фараону считается почетным.
— Конечно, конечно, — подтвердил Пиай, — может быть, однажды и ты вкусишь сладость столь почетной смерти. Не стоит отказываться от подобной надежды, не так ли?
Главный надсмотрщик озадаченно посмотрел на Пиайя, потому что не знал, серьезно тот говорит или шутит.
Серый и розовый гранит из этих каменоломен считался изысканным камнем, из которого ваяли статуи богов, царей, фигуры в гробницах, обелиски. Им же облицовывали стены.
Пиай знал, что этот камень очень трудно обрабатывать, и хорошо помнил, как он сам, будучи учеником, днями и неделями шлифовал и полировал гранит.
На следующее утро Пиай продолжил свое путешествие по югу. Еще в Пер-Рамзесе он велел нарисовать себе точную карту, чтобы найти то место, где царь хотел построить храм.
Пиай еще никогда не бывал так далеко на юге и теперь замечал, как местность вокруг него изменилась. Пустыня подступала все ближе к реке, полоска плодородной земли становилась все уже, а порой полностью исчезала под круто нависавшими берегами из желтого песчаника. Дневная жара день ото дня усиливалась в то время как ночи становились все холоднее. У кормчего имелся запас шерстяных одеял, и он каждый раз смеялся, когда Пиай выбирался из-под них и тут же начинал дрожать от холода. Человек этот говорил на ломаном египетском, и у него была такая же темная кожа, как у людей в жалких деревеньках, мимо которых они проплывали.
На седьмой день путешественники добрались до маленького военного поста, где египетский воин, далеко не рядовой, был рад приветствовать Пиайя. Его отправили сюда на пять лет в качестве наказания, и он считал дни до тех пор, пока сможет вернуться.
— Я даже похороненным не хотел бы здесь быть! Ты не представляешь, какая здесь монотонная служба! Куш уже много лет мирная провинция, и одним из самых волнующих событий здесь, в лагере, бывает охота на крыс.
Он выжал Пиайя, как умирающий от жажды человек выжимает сочный плод. Ему хотелось знать самые мельчайшие подробности о царе, его дворе, его женах и, прежде всего, конечно, о войне с хеттами.
— Я сам при этом не был, но, как говорят, Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, одержал под Кадешом большую победу, которая на многие годы устранила опасность с севера.
Офицер восторженно кивнул:
— Да-да, наш сильный Гор, Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра, — чего бы я только ни дал, чтобы однажды лежать у его ног! Он ведет Кеми к новому блеску, и я уже пообещал Амону в Фивах жирного быка, если меня помилуют раньше срока.
— А в чем был твой проступок? — поинтересовался Пиай.
Воин слегка смутился.
— Собственно говоря, ничего особенного. Я был тогда в Фивах, и там… ну, там была одна молодая вдова, и в ее объятиях я забыл о службе. Ее сладостное тело, алебастровая грудь, руки, подобные чашечкам лотоса… Да что там говорить, я несколько дней не появлялся в отряде…
— Понимаю. Пять лет в пустыне за это — цена слишком высокая.
— Ты бы только ее видел! — воскликнул воин с горящими глазами. — Она появилась передо мной, словно Хатор собственной персоной сошла с небес!
— Может быть, я смогу для тебя что-нибудь сделать… — Пиайю не хотелось попусту обнадеживать беднягу. — Но сначала мне потребуется твоя помощь. Я должен здесь в определенном месте взять несколько проб камня для строительства небольшого храма Сета.
Воин мрачно кивнул:
— Да уж, кому как не ему строить храм в этой пустыне. А, впрочем, это не мое дело. Меня, по чести, больше обрадовал твой визит.
Вместе с новым знакомым и несколькими нубийскими стрелками Пиай полчаса шел вдоль течения реки на север, и тут за одним из поворотов реки их взорам открылась мощная скальная стена в восемьдесят или сто локтей высотой. Пиай посмотрел на свою карту:
— Да, должно быть, то самое место.
Он подошел ближе. Скала песочного цвета, казалось, устремлялась в безоблачное небо. С запада вершина выглядела более плоской, и Пиай забрался с той стороны, обследовал землю, постучал бронзовым молоточком там и здесь, произвел измерения и признал правоту царя: невозможно было найти более подходящего места для громадного храма в скалах.
Пер-Рамзес, новая столица царства, была вскоре застроена, так что двор и жрецы могли переехать туда. Дома и дворцы выстроили быстро, потому что они были призваны служить живым только несколько десятков лет, поэтому для них применяли кирпичи из нильского глинистого ила, дерево и другие доступные материалы. Гробницы и храмы были, напротив, из камня, потому что их строили для вечности. Хотя архитекторам удалось довольно быстро построить храм, скульпторы и камнерезы с работой еще не справились, поэтому во многих местах отсутствовали статуи и украшения стен.
Царь так и не научился добродетели терпения и не ценил ее высоко. Для него все должно было идти очень быстро, поэтому он велел беззастенчиво грабить храмы близлежащих городов. Даже Мемфис должен был «помочь», и ни один жрец, ни один чиновник не осмеливались поднять голос против этого. Фараон велел сбить на многочисленных статуях имена своих предшественников и заменить их своим собственным. Только таким образом за несколько лет удалось добиться того, что из земли поднялась столица, которая была достойна стать царской резиденцией. Большинство чиновников остались, однако, в Мемфисе, и Рамзес объявил, что он ежегодно будет проводить там несколько месяцев в прохладное время года Перет.
Хотя дворцовый квартал был уже готов, все еще не хватало домов для чиновников, слуг, ремесленников и рабочих. Привлеченных на принудительные работы хабиру слишком мало, чтобы изготовить необходимое количество кирпича. Это был гордый упрямый народ и если стража сегодня ловила сто человек, то через день-два половина исчезала. Не помогали ни побои, ни отрезание ушей. Жаждущее свободы племя считало, что с ним плохо обращаются, и не чувствовало себя обязанным фараону. Надсмотрщики снова и снова бежали к главному советнику с жалобами на хабиру, и Парахотеп наконец вынужден был доложить царю:
— Я не хотел бы докучать мелочами Благому Богу, но, если я должен выполнять твои мудрые приказы, все, действительно все, должны меня поддерживать. Речь снова идет об изготовлении кирпича. Амбары лишь наполовину готовы, а строители слоняются без дела, потому что отсутствует материал. Мы отправили сюда с земель северной границы до Мемфиса каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка, хотя без детей можно было бы обойтись. Они работают в мастерских по производству кирпича, и твой план был бы уже почти выполнен, если бы не эти упрямые хабиру. Можно разбить целый лес бамбуковых палок об их спины — они работают из рук вон плохо, медленно, уклоняются от выполнения долга по отношению к тебе и десятками бегут в пустыню. Что нам делать?
Рамзес задумчиво покачал головой:
— Я не понимаю только одного. В стране Кеми все течет без сучка без задоринки, потому что боги в своей мудрости создали бамбук. Медлительный крестьянин, ленивый раб, неусердный чиновник, забывающий о своих обязанностях жрец, плохой ученик, упрямый осел —
всех их палка приводит в разум и напоминает им об их обязанностях. Разве хабиру исключение? Разве они не люди и их спины так же глухи, как их уши?
Тут Парахотеп вынужден был рассмеяться:
— Мне вспомнилось наше школьное время и слова, которые часто повторяли учителя: ухо ученика на его спине, и он слушает только тогда, когда его бьют.
Теперь и Рамзес расхохотался:
— Да, мой отец Озирис-Сети разрешил учителям применять палку и ко мне, но они из уважения перед наследным принцем не слишком усердствовали. В любом случае это было полезно, потому что тогда хотя бы стыдишься перед другими. Поэтому я задаю еще раз свой вопрос: разве хабиру другие? Что отличает их от египтян?
Визирь пожал плечами:
— Я не знаю. Говорят, они не верят в наших богов. Если ты хочешь знать совсем точно, твое величество, то допроси вместо меня Мозе, который считается их предводителем. Я хочу завтра принять его.
— Хорошо, я буду при этом.
Вечером Рамзес говорил с Нефертари о трудностях с хабиру.
— Чтобы ты сделала на моем месте, если побои и другие наказания не помогают?
— Мой отец очень редко бил своих полевых рабов. Если один из них не выполнял свою дневную работу, например вместо двенадцати четвериков зерна намолол только восемь, тогда на следующий день он должен был сдать двадцать. Тогда он работал быстрее и делал по крайней мере десять. Нечто подобное можно попробовать с хабиру.
Рамзес рассмеялся:
— Можно попытаться. А как дела у наших принцев?
— Меня заботит Амани. Ему уже двенадцать лет, а он очень погружен в себя и подолгу бывает у своей няньки, которая, конечно же, его балует. Он часто прогуливает тренировки с оружием, а вместо этого забирается в какой-нибудь сад, ложится под куст и смотрит на небо. Но ты это и так знаешь.
— Конечно, я это знаю, но не считаю слишком серьезным. Это может измениться быстро. А Енам?
— Дикарь, которого нужно еще укротить. Он постоянно дерется со своими одноклассниками, которые едва осмеливаются сопротивляться. Вчера в моем саду он забрался на самую высокую сикомору, наступил на засохший сук и упал на ноги, конечно, как кошка, но вывихнул лодыжку. Теперь он приковылял на костылях в классную комнату, и остальные им восхищаются. Но при всем при этом у него доброе сердце, он отзывчивый и щедрый… Я надеюсь, ты проявляешь немножко заботы и о детях Изис-Неферт? До меня дошли жалобы…
Рамзес гневно вскинулся:
— Жалобы?! Да чего она, собственно говоря, еще хочет, она, которой помешали остаться жрицей? У нее есть свой придворный штат, слуги, доверенные лица, я регулярно беру ее к себе в постель, у нее два сына от меня, которые носят урей, и к ним обращаются так же почтительно, как к наследнику престола и его брату. Ей что, мало?
— Ей слишком мало. Как мать твоих сыновей, она ожидает большего внимания. Ее едва упоминают в надписях, ее ни разу не изобразили с тобой, а недавно она заявила, что с ней обращаются не лучше, чем с наложницей.
— И в этом она права! Когда я ее посещаю, я делаю это лишь моим… — он указал на свой фаллос, — и никогда моим сердцем. Мое сердце хранишь ты, и ничего тут не поделаешь.
— Только после моей смерти ты получишь его назад и тогда сможешь подарить его другой.
— Ах, Нефертари…
Сильный крупный Рамзес с нежным укором посмотрел на свою маленькую изящную жену, заглянул в ее раскосые темные глаза и почувствовал, что влюблен, как в первый день.
Мозе происходил из Питома, восточного пограничного города страны Кеми. Этот город находился посреди пустыни на одном из притоков Нила, который на своем пути на восток был сопровождаем узкой полоской плодородной земли. В этом районе жило племя пастухов хабиру, некоторые из них осели в Питоме или же работали там. Большая часть племени, однако, кочевала со своими овцами и стадами крупного рогатого скота по пустыне, причем определение «пустыня» этой местности не совсем подходило. Там и тут попадались маленькие источники воды, которые были окружены растительностью и строго охранялись хабиру. В этой «пустыне» имелись также обширные, похожие на степь земли, травы на которых хватало, чтобы долгое время кормить несколько стадов овец.
Рамзес был не первым фараоном, который принуждал хабиру к отработкам. Его предшественники также предпринимали подобное время от времени.
Чтобы уберечь сына от такой судьбы, родители отдали шестилетнего Мозе в ученики к писцу, который занимал в Питоме уважаемую должность управляющего складами. Тот за подобную услугу разрешил обильно снабжать себя зерном, финиками, медом и ягнятами, но вскоре понял, что этот маленький хабиру имеет ценность большую, чем ежемесячные взносы его родителей. Мозе учился легко и быстро и скоро смог помогать писцу. Тот с удовольствием сидел в тени своего маленького сада, в то время как Мозе самостоятельно выполнял маленькие поручения. Когда вдовый и бездетный писец умер, Мозе без всяких сложностей стал выполнять его работу и был назначен преемником своего учителя. В это время Мозе уже исполнилось двадцать лет, и внешне, по крайней мере, он превратился в настоящего египтянина. Он не оборвал связь с родителями, но она ограничивалась редкими визитами. Его народ стал чужим ему, он думал и чувствовал, как египтянин, и не гнушался тем, чтобы в праздничные дни принести жертву Амону-Ра в посвященном ему храме. Знак этого бога, оправленный в золото скарабей из карнеона, Мозе носил на шее, а почитаемый его племенем безымянный и невидимый Бог больше для него ничего не значил.
Потом умер его отец, и Иохаведа, его мать, велела позвать своего первенца, чтобы он принял на себя роль главы семейства. Мозе приехал, однако он решил передать право первородства своему младшему брату Аарону. Тут Иохаведа подняла великий плач, ибо то, что собирался сделать Мозе, было против Закона Божия, и она потребовала, чтобы старейшины посоветовали, что делать в этом случае. Это было как раз в то время, когда отряды фараона принуждали хабиру работать, и те, кто мог, складывали свои шатры и бежали в пустыню. Мозе увидел это горе и внезапно все египетское спало с него. Под маской добропорядочного египтянина, оказывается, скрывался строптивый хабиру, который стал подстрекать людей своего племени к сопротивлению.
— Вы не египтяне! — кричал он им. — Фараон не имеет никакого права использовать вас как рабов!
Поскольку он умел писать и читать и знал обычаи египтян, он побуждал своих братьев по племени к бегству еще до того, как был обнародован приказ из Пер-Рамзеса и воины принялись сгонять людей на работы.
Хабиру вскоре увидели в нем нечто вроде вождя племени, стали доверять ему и слушались его указаний. Его должность управителя складов была уже занята, а самого Мозе разыскивали как бунтовщика и предателя. Чтобы упредить свой арест, он проскользнул в Пер-Рамзес и обратился напрямую к главному советнику, что было правом каждого верноподданного.
Парахотеп заставил его подождать. Мозе явился спустя час после восхода солнца, и Ра стоял уже почти в зените, когда его наконец позвали. Если этим хотели сделать Мозе более боязливым и покорным, то его недооценили. Перед мысленным взором вчерашнего писца и управителя складов были его братья по племени, которых ударами палок гнали на принудительные работы. Их заставляли вытаскивать ил из Нила на берег, смешивать мокрую глину с мелкой соломенной сечкой и укладывать в деревянные формы для кирпичей. Он видел эти картины снова и снова, и гнев поднимался в нем, как кипящая смола. Это было в Питоме, а в Дельте находились еще более крупные мастерские по производству кирпича, где его народ, строго охраняемый и понукаемый надсмотрщиками фараона, тратил впустую свои силы на чудовищные, оскорбляющие Бога постройки ради того, чтобы тешить тщеславие царя.
Однако Мозе прекрасно держал себя в руках. Он с почтением встал на колени перед главным советником, приветствовал его по египетскому обычаю и ждал.
Парахотеп диктовал одновременно два послания и заставил Мозе долго ждать в пыли, пока повернулся к нему.
— Твоя слава вожака и смутьяна опередила. Ты настраиваешь своих братьев по племени против Благого Бога, доходишь в своей дерзости до того, что отдаешь приказы, которые препятствуют им выполнять свой долг. Это государственная измена, Мозе, и она может караться смертью. Оправдай себя!
— Высокочтимый, хабиру не подданные царя, они свободные кочевники и пастухи, им с давних времен было разрешено кормиться со своими стадами в окрестностях Питома. Это разрешение не было ограничено никаким условием, и ни фараон, да будет он жив, здрав и могуч, ни кто-либо из его почтенных предшественников не отменяли этого разрешения.
Тут Парахотеп понял, что перед ним не глупый пастух, а хитроумный молодой человек, знающий, о чем говорит. Внешность у него была невзрачная, на гладком юношеском лице только глаза привлекали внимание. Они вспыхивали, как огненные угли, это были глаза человека, который не смирится, глаза предводителя, вождя.
— То, что ты говоришь, верно, Мозе. Однако это противоречит всякому праву и закону нашей страны — люди твоего племени на землях Кеми живут, не платя никаких податей. За последние годы численность хабиру так увеличилась, что вы утаскиваете хлеб у египтян прямо из-под носа. Вначале вас были сотни, теперь же тысячи. Все мы, от полевого раба до верховного сановника, служим нашему царю, и каждый выполняет свою работу. Почему же мы должны делать исключение для хабиру? Вы презираете наших богов, но при этом кормитесь от нашей земли, да еще и ничего не даете за это. Сейчас вы понадобились Благому Богу для строительных работ и можете считать счастьем, что он не призвал вас раньше. Ныне вы заплатите давно не плаченные вами налоги, и больше ничего!
— Хорошо, но это египетский закон, которому мы как свободные кочевники не хотим подчиняться. Позволь нам уйти из Кеми, главный советник. Мы пойдем дальше на север и не будем больше кормиться на ваших лугах. Позволь нам уйти, главный советник!
Рамзес, который слышал через открытую дверь весь разговор, в это мгновение вошел в зал.
Парахотеп воскликнул:
— Благой Бог, сын Солнца и господин Обеих Стран!
Мозе снова бросился на землю.
Рамзес сел и произнес с плохо скрываемым гневом:
— Послушай, что скажет тебе Богоподобный! Тот, кто не уважает наших богов и не признает наши законы, должен удалиться. Однако сначала вы должны заплатить за то, что вам предоставлялось в течение столетий. До этого хабиру занимались легкой работой по обжигу кирпичей, солому для сечки собирали и готовили другие. Это дело я сейчас передаю вам, не меняя установленного количества кирпичей. Вы ленивая, шумная свора, и вы наконец должны почувствовать, что в Кеми есть право и закон. Если до моих ушей дойдет, что ты перечишь моим законам, я велю отрезать тебе уши и отправлю тебя в каменоломни Суенета!
Рамзес вскочил и покинул зал.
— Поднимись, Богоподобный покинул зал!
Мозе встал. Он трясся, как в лихорадке, глаза у него горели.
— Почему фараон наказывает нас? Что ему сделал мой народ? Мы хотим всего лишь жить в мире и служить нашему Богу.
— Вашему богу! — Голос главного советника звучал издевательски. — Какому богу? Как вы его называете? Как он выглядит? Где его храм? Это новый бог? Мы не имеем ничего против Ваала, и Иштар почитают в Мемфисе. Мы уважаем чужих богов, как бы они ни назывались. Так назови мне его имя, Мозе!
Молодой человек поднял руки:
— Это не новый Бог, а совсем старый, Он существует целую вечность и будет существовать вечность. У Него нет имени! У Него нет храма! Его изображений нет! Кочевники передвигаются по стране, разве они должны таскать с собой статуи и храм? Мы носим нашего Бога в сердце, Он в нас, и некоторые слышат Его голос. Мы приносим Ему жертвы по праздничным дням, как делаете вы для своих богов, однако мы жертвуем не многое, но самое дорогое, одно-единственное.
Главный советник насмешливо улыбнулся:
— То же самое делаем и мы. Если я курю благовония перед Птах, Амоном, Озирисом, Мут, Изидой, Хатор и другими, я приношу жертву божеству, которое, чтобы облегчить людям почитания себя, выступает во многих образах. Однажды уже была предпринята попытка приучить народ к одному Богу, и эта попытка сорвалась. Тем не менее, мне кажется, что египтяне и хабиру, хетты и митанни, ментиу и шазу в основном молятся одному божеству, хотя называют его по-разному или же никак не называют.
Эти примирительные слова не проникли в сердце молодого Мозе, который некоторое время назад сорвал скарабея с шеи.
— Есть только один Бог, и Он избрал нас Своим народом. Больше мне сказать нечего.
— Возвращайся в Питом и придержи язык, если хочешь его сохранить. Я велю тебе самому сообщить своим братьям по племени, что повелел вам фараон, и горе тебе, если я замечу, что ты вновь мутишь воду. Ты уже был египтянином, Мозе, лучше бы тебе было им и оставаться. Перед тобой лежит тяжелый путь, и да сохранит тебя твой безымянный Бог от беды. Только я думаю, что египетские боги сильнее, и в конце концов они одержат победу.
С тех пор как удачный набег на храм Амона сделал разбойников пустыни богачами, можно было почувствовать изменения. Некоторые из них вскоре после этого исчезли со своей долей добычи, другие без разрешения отправлялись в Мемфис, чтобы там потратить золото в пивных. Тех, кто возвращался, Меру заковывал в цепи и наказывал ударами палок, лишением пищи. Это возбудило злость, и все чаще раздавались голоса, которые говорили, что новый Себек лучше бы занялся планированием новых предприятий, чтобы пополнить сокровищницу, вместо того чтобы наказывать людей, которые позволили себе немного погулять.
Ответственный за разведку Земля несколько дней назад бесследно исчез, и Меру должен был принять во внимание, что один из его ближайших подручных был где-то схвачен и выдал укрытие банды. Меру не был трусоват, не заботился о будущем, однако растущее чувство неуверенности доставляло ему беспокойство. У Меру было ощущение, будто он сидит в старой рассыпающейся лодке, которая удалилась от берега, пляшет на волнах и медленно наполняется водой.
Каждый день здесь их могли обнаружить ниу. Тогда бы разорение храма вышло наружу, и они все вместе погибли бы ужасной смертью на костре.
Меру созвал Воздуха и Воду на совет.
— Большая добыча испортила наших людей, — начал он, когда все собрались. — Некоторые рассчитывают на то, что могут взять свою долю и начать жизнь добропорядочного человека. Эти люди представляют большую опасность для нас. Где, например, может быть Земля? Не ринулся ли он прямо к верховному сановнику и не хочет ли купить себе свободу ценой предательства? Может быть, ниу уже идут по нашему следу и ждут лишь ночи, чтобы напасть на нас.
— Мы должны срочно сменить убежище. — Воздух выглядел озабоченным. — Дадим людям проголосовать. Кто не хочет оставаться, должен тотчас уйти, а мы, остальные, найдем себе новый приют.
При голосовании оказалось, что лишь четверть членов банды предпочитает начать новую жизнь в обществе. Прежде всего это были люди, не покалеченные внешне. У них не отсутствовали ни рука, ни уши, ни нос, и они присоединились к банде из жажды приключений.
Вдобавок выяснилось, что прежний Себек, хотя он редко показывался на людях, умел скреплять их почти магическим образом. Никто не противился его приказам, никогда его авторитет не стоял под вопросом. Он жил в своей пещере, подобно верховному жрецу, и руководил своей бандой — настоящий владыка пустыни, слово которого мгновенно становилось законом.
Меру же был знаком людям в роли Огня, бесстрашного предводителя разбойничьих набегов, но в нем не было ничего таинственного. Он был одним из них, они его ценили как главаря и восхищались им, но он не пользовался у них таким особым почитанием, как прежний Себек, сидевший в своей пещере с сокровищами.
Меру точно знал, что он должен занять людей, или же однажды его сместят либо вовсе убьют. Поэтому он назначил показавшегося ему подходящим человека Землей и после трудных размышлений передал Мину должность Огня. С Землей он не промахнулся, потому что очень скоро тот разведал об имении в окрестностях Фаюма, где почти вся семья и часть слуг вымерли за короткое время от заразной болезни. Так как вопросы наследства было еще не урегулированы, там все стояло вверх дном, и этим, по мнению Земли, следовало воспользоваться. Единственная сложность состояла в том, что имение находилось на расстоянии восьми итеру, то есть по меньшей мере в двух днях пути. Следовало разбить промежуточный лагерь, в котором можно было бы без опаски провести ночь.
Меру откровенно обрадовался. В его нынешнем положении ему подошло бы любое предложение. Он велел объявить людям, что готовится новый разбойничий набег, в котором дело найдется для всех, к тому же они почти не рискуют.
Втайне люди надеялись на подобную новость, и никто не ворчал, когда Меру ввел ежедневные тренировки с оружием и верховой ездой. Репутация нового Себека снова выросла, и он вместе со своими помощниками принялся разрабатывать план.
Как раз в это время он получил предложение, которое возбудило любопытство и недоверие. Через многочисленных давным-давно служивших банде связных Меру передали сообщение, что он сможет, если захочет, получить добычу десяти больших разбойничьих набегов за один раз, но для этого сам Себек или один из его доверенных должен прибыть в Мемфис.
Постоянно жившее в нем недоверие старого преступника было таким сильным, что Меру считал Мемфис слишком опасным. Он велел передать, что Себек явится сам, но предложил местом встречи южную сторону пирамиды Озириса-Мен-Кау-Ра. Предложение было принято, и Меру отправился в дорогу со своим слугой, очень глупым, но при этом верным и привязчивым человеком. Они были одинаково одеты, скакали на лошадях одной масти и закрывали свое лицо на один и тот же манер.
Когда они увидели маленькую пирамиду Мен-Кау-Ра, Меру послал своего слугу и наказал ему:
— Поезжай сначала вокруг всех трех пирамид, которые стоят там в ряд. Ничего подозрительного не заметишь — заговори с мужчиной у западной стороны маленькой пирамиды и, если он знает наш пароль, приведи его сюда. Но только его одного!
Меру был спокоен и бесстрашен, как всегда. Его острый взгляд был направлен на север, откуда спустя некоторое время приблизились два всадника: один на лошади, другой на осле.
Каким бы глупым ни был слуга Меру, он был призван охранять своего господина от любой опасности, и острие его копья находилось у затылка его спутника.
— Хорошо, — сказал Меру, — подожди меня в десяти шагах отсюда и держи глаза открытыми. Этот человек вооружен?
Слуга спешился и ощупал тело незнакомца.
— Нет, господин.
— Хорошо, оставь нас одних!
Меру спешился и сел, скрестив ноги, на землю. Молча он указал на место напротив себя. Другой также сошел с коня, лицо его было затенено большим капюшоном.
— Я Себек. Итак, говори.
— Мое имя не имеет значения, — начал закутанный, — тем более что речь идет не о людях, а о богах — о боге, царе всех богов Амоне…
— Я понял, речь идет об Амоне. Но какое дело у тебя ко мне?
— У Амона есть поручение для тебя, и Амон заплатит богатую награду: ты получишь сразу десять золотых и пять серебряных дебов, а после завершения дела еще столько же.
Закутанный замолчал. Меру стал проявлять нетерпение:
— Ну, с вознаграждением решим, но о деле-то я все еще ничего не знаю.
Мужчина под капюшоном наклонился и прошептал:
— Ты должен убить наследного принца!
Меру отпрянул. Это сон? Неужели его мысли о мести воплощаются в жизнь? Желание поквитаться с Рамзесом он отложил на далекое неопределенное будущее, и у него не имелось ни малейшего представления о том, как это можно осуществить. Это как со смертью: каждый знает, что она однажды придет, но отодвигает мысли о ней, потому что слишком уж занят жизнью. Так и планы мести у Меру были далеки и неопределенны, как смерть, но они все же были, хотя он едва думал о них. Наказать Рамзеса смертью принца Амани? В любом случае этим он сможет чувствительно задеть царя, хотя осуществление столь дерзкого замысла опасно, если не невозможно.
— Ну что, ты берешься за это дело? — нетерпеливо спросил закутанный.
Меру с трудом опомнился и вернулся сознанием в настоящее.
— Это вряд ли возможно. Я никого не знаю при дворе, и наши немногие связи отрезаны, с тех пор как царь со своей семьей живет в Пер-Рамзесе. Потом у нас тоже действует принцип: мы выполняем любое поручение, кроме тех, которые имеют отношение к Благому Богу и его семье.
Закутанный язвительно фыркнул:
— А мне-то сказали, что вы единственные, кто в состоянии решить эту задачу. И подумай, ни один человек не требует тебя послать Амани к Озирису, он сам бог!
— Сам бог! — повторил Меру насмешливо. — Неувязочка, почтеннейший: фараон Рамзес произошел от Амона-Ра, и он является отцом наследного принца Амани. Как может Амон желать смерти собственного внука?
— Тебя это не касается! У бога есть свои причины, и, если ты немного подумаешь, поймешь его резоны. Изис-Неферт тоже родила от царя сыновей, она происходит из Фив, и она верная служительница нашего бога. Остальное ты должен додумать сам.
Мысленно Меру снова вернулся в прошлое; он почувствовал острую резкую боль, когда палач отрубил ему уши; он снова увидел себя на каторжных работах в каменоломне, когда с ним обращались хуже, чем с животным, а он был в отчаянии, не имел никакой надежды и проклинал каждый новый день.
Может быть, ему удалось бы вернуться к нормальной жизни, но теперь он был изуродован и стал отщепенцем на всю оставшуюся жизнь. Он совершил многочисленные преступления и мог только надеяться, что никогда не попадет в руки воинов ниу.
— Я должен сидеть здесь до захода солнца? Я жду твоего ответа!
Меру вскочил. Да, это была бы прекрасная месть!
— Как ты себе это представляешь? Должен ли я постучаться в ворота царского дворца и сказать: «Ах, пришлите мне наследного принца, Амон хочет его смерти, и поэтому я всажу ему нож в сердце»?
— Послушай! Мы, конечно же, подумали об этом. Большую часть времени царь живет в своей резиденции Пер-Рамзес, но несколько месяцев Перет он проводит в Мемфисе и в Фаюме, где охотится. Последние годы он всегда брал с собой сыновей, потому что честолюбие побуждает его тренировать их достойно обращаться с его любимым оружием, луком. Иногда при этом охотники теряют дорогу среди болот, и их охрана не всегда оказывается рядом…
Меру внимательно слушал.
— Стрела, выпущенная по ошибке… — пробормотал он задумчиво.
Человек в капюшоне кивнул:
— Я вижу, ты понял. Значит ли это, что ты принимаешь поручение?
— Ничего это не значит! Я должен сначала все обдумать, и я хотел бы посмотреть охотничьи угодья в Фаюме. И еще: если я выполню поручение сам, то все твои сокровища будут мне без пользы, потому что люди фараона станут преследовать меня и на краю света. Если Амону так важна смерть наследного принца, я могу требовать от него, чтобы он меня защитил. Вот еще мое условие: если дело удастся, я ожидаю помощи Амона при бегстве в какое-нибудь надежное убежище, куда-нибудь на юг, где Амон имеет большее значение, чем здесь. Скажи это своему богу и дай мне своевременно знать, когда царь с сыновьями отправится на охоту.
Мужчина в капюшоне кивнул и поднялся. Он указал на кожаный мешочек, лежавший на земле, и сказал:
— Спешить ни к чему. Умрет ли Амани сегодня или через два года, не имеет значения. Ты услышишь о нас.
Четвертая беременность Нефертари приближалась к концу. Врачи и повитухи стояли наготове, чтобы броситься на помощь, когда наступит время для Великой Царской Супруги отправиться в комнату роженицы. Туэрис, богиня с головой нильского гиппопотама, надежная помощница при родах, облегчила хрупкой царице ее предыдущие роды, и никто не сомневался в том, что она окажет помощь и сейчас.
Схватки начались перед рассветом. Нефертари провели в комнату для роженицы, где уже был приготовлен стул для принятия родов. Опытные повитухи пощипывали ее напрягшееся тело, чтобы ускорить роды, но схватки стали ослабевать с течением времени.
Нефертари страдала несказанно. Ее болезненные крики становились все слабее, и, когда к вечеру ее тело еще не открылось, царю сообщили, что она в опасности. Рамзес, который уже радовался рождению нового отпрыска Нефертари, почувствовал дыхание чумы из пасти Анубиса и вздрогнул от ужаса. Положены ли амулеты Туэрис и Бес, и принесли ли этим богиням-помощницам богатые жертвы? Спрашивая это, он уже торопился в комнату для роженицы. Нефертари положили на кровать, два жреца вместе умоляли о помощи богов, три лекаря и две повитухи растерянно стояли вокруг и пали ниц, когда вошел Рамзес.
— Для чего вы, собственно говоря, здесь?! — заорал он на них. — Вы хотите без всякой борьбы передать царицу в руки Сехмет?
Плача, он упал перед Нефертари на колени, погладил ее мокрое от пота лицо, осторожно ощупал раздувшийся живот и попросил:
— Любимая, скажи что-нибудь! Что я могу для тебя сделать?
Нефертари открыла свои усталые, наполовину ослепшие от боли и напряжения глаза и взглянула на супруга.
— Он не хочет выходить, — прошептала она хрипло. — Может быть, он уже мертв и не хочет уходить один… Я бы так хотела еще жить… с тобой, любимый… рядом…
Рамзес вскочил.
— Если царица умрет, дворцовые лекари лишатся головы! Я не позволю отнять у меня мою любимую, я — царь! Пошлите глашатая в город и велите объявить: кто спасет царицу, все равно как, получит титул наследного вельможи с богатым поместьем в придачу. Я не отойду от нее и не уйду из этой комнаты, пока ребенок не покинет ее тело.
Уже в первые часы ночи появились лекари. Неслыханное вознаграждение выманило их из домов. Некоторые из них не были настоящими врачами, а знали только пару заклинаний, которыми надеялись добиться успеха. Они с открытыми ртами смотрели на великолепие вокруг, на высокие разрисованные колонны, фрески, позолоченную мебель, роскошные сады — об этом они раньше только слышали, но никогда не видели.
Отчаявшиеся, беспокоящиеся о своих головах лекари разговаривали с каждым из пришедших, но не выяснили ничего нового, чего они не знали сами или чего не испробовали бы. Они поняли, что ребенок в утробе Нефертари лежит неправильно, он так застрял во чреве хрупкой роженицы, что даже после целого дня родов его никак нельзя было заставить появиться на свет.
Дверь распахнулась и вошел царь.
— Никаких коленопреклонений, никаких почестей, ни слова, если оно не будет касаться царицы! — проревел он собравшимся и добавил более спокойно: — Тот из вас, кто попытается ее спасти, я говорю попытается, даже если попытка не удастся, будет награжден, но кому удастся, тот будет возвышен так, как никто до этого.
Воцарилась мертвая тишина. Люди стояли, опустив головы и не осмеливаясь что-либо предложить.
— Ради Пта и всех богов, говорите же! Лучше бесполезные предложения, чем совсем никаких. Я приказываю!
И тут вперед вышел маленький незаметный человек. Одет он был убого и на лекаря не похож. Однако на умном покрытом сеточкой морщин лице не было страха, и он не опустил глаз перед царем.
— Богоподобный, я лечу только животных, и если кому и помогаю при родах, то только коровам, овцам, козам и свиньям. Если одна-единственная корова или коза бедняка не хочет рожать, я часто спасал животное-мать таким образом, о котором хотел бы говорить с тобой наедине.
Рамзес быстрыми шагами подошел к тщедушному человеку, схватил его за руку и повел с собой:
— Пойдем, мой друг, идем к царице.
Вместе они вошли в комнату роженицы. Рамзес шикнул на бесполезных повитух и, когда те убежали, указал на кровать.
— Там лежит она, Нефертари, самая дорогая для меня на свете. Если ты можешь спасти корову, тогда послужи Хатор и спаси царицу, и вся страна Кеми будет лежать у твоих ног.
Мужчина опустился на колени перед кроватью и осторожно пощупал усталый живот царицы. Рамзес взял руку Нефертари и проговорил:
— Только спокойно, любимая, этот лекарь спасет тебя. Не волнуйся, его заслуги в повивальном искусстве широко известны. Будь храбра и терпелива, ты не должна умереть, он найдет решение.
Нефертари попыталась улыбнуться, но ямочки у нее на щеках появились только на секунду, а потом она снова закрыла глаза, и ее побледневшее уже отмеченное смертью лицо тронуло Рамзеса так болезненно, что он должен был отвернуться, чтобы не показать слез.
Интеф, так звали ветеринара, не торопился. Он нажимал то тут, то там, иногда так сильно, что по восковому лицу Нефертари пробегала дрожь боли. Наконец он распрямился и отошел с Рамзесом в угол.
— Твое величество, — сказал он шепотом. — Здесь все не иначе, чем у некоторых животных. Дитя лежит поперек и закрывает выход. В таких случаях я беру маленький острый нож, просовываю его внутрь, разрезаю дитя на куски и вынимаю его. Если мы сделаем то же самое, мы спасем царицу.
Рамзес отпрянул:
— Ты имеешь в виду… ты хочешь… Ты хочешь разрезать отпрыска Амона-Ра?! Я не могу… это…
— Богоподобный, царица должна остаться в живых или нет? Если она должна отправиться вместе с ребенком к Озирису, тогда отпусти меня с миром. Если ты хочешь сохранить ей жизнь, тогда не медли.
— Детей у меня хватает, Интеф. Спасай царицу!
— Хорошо, тогда вели принести вино, настоянное на лечебных травах, тарелку с прокипяченным маслом, раствор додаима и свежие льняные платки.
Все необходимое в спешке принесли. Интеф окунул руки в вино, настоянное на лечебных травах и старательно вытер их. Тем временем лекарь царицы влил ей в рот напиток из додаима, заставивший ее потерять сознание. Интеф подождал полчаса и вынул из кожаной сумочки маленький острый нож.
— Крепко держите царицу, — приказал он. Затем прикрыл ее тело, обмакнул руку в масло, сжал ее и аккуратно проник в ее тело.
Рамзес сжимал правую руку Нефертари и думал, что нож вонзается в его собственное тело. Интеф, однако, не смущаясь, делал свое дело. Его искусная узкая рука нащупала лежавшего поперек ребенка и делала то, к чему привыкла, имея дело с коровами и овцами.
Нефертари, лишь наполовину усыпленная, стонала и изворачивалась, но Рамзес и врач держали ее крепко, пока Интеф кусочек за кусочком доставал тело нерожденного ребенка.
— Это была бы принцесса, — сообщил он, пока мыл окровавленную руку в миске.
— А царица выживет? — спросил Рамзес.
— Если разрушительница Сехмет не решит иначе, то твоя супруга, Богоподобный, через десять-двенадцать дней снова будет сидеть с тобой на троне.
Рамзес обнял ветеринара с такой силой, что тщедушный человек застонал.
— Я никогда тебе этого не забуду, Интеф. С сегодняшнего дня тебя занесут в золотой список наследных вельмож, и ты получишь поместье. Я выполню любое твое желание, моя дверь всегда открыта для тебя.
Интеф поклонился и сказал:
— Да будешь ты жив, здрав и могуч, Гор, любимец Маат, великий властью и прекрасный годами. Да родит Великая Царская Супруга тебе еще детей к радости твоей и всей страны. За твои дары я от всей души благодарен тебе, только я хотел бы попросить тебя сделать вельможей более достойного мужа. Видишь ли, я хотел бы и дальше заниматься своей профессией, и было бы странно, если бы знатный человек ставил клизму больной корове.
Вспыливший было Рамзес представил наследного вельможу с клизмой в руках, всего в жидком навозе и помимо воли рассмеялся:
— Ты прав, Интеф, для тебя бы это действительно ничего не значило. Но знай: я в любое время выполню одно твое желание. А проще того, я назначу тебя главным царским ветеринаром, в этой должности ты и дальше сможешь ставить клизмы.
Интеф просиял:
— С таким титулом я потребую от богатых владельцев поместий двойное вознаграждение.
Рамзес отпустил Интефа и вернулся к Нефертари. Лекарь, бодрствовавший у ее постели, приложил палец ко рту. На цыпочках Рамзес подошел ближе и посмотрел на спящую жену.
— Позови меня, когда царица проснется, — прошептал он лекарю.
Хотя Интеф спас царице жизнь, его прогноз о быстром выздоровлении не оправдался. Несколько дней Нефертари боролась с тяжелой лихорадкой. Она так сильно похудела, что Рамзес ее едва узнал. Круглое лицо опало, скулы резко выступили, а веселые ямочки на щеках были больше не видны, даже если она, что было крайне редко, пыталась устало улыбнуться.
Лекари прописали ей усиленное питание, но царицу тошнило от еды, и Рамзес, заботясь о ней, сам старался давать ей ложечку за ложечкой яичного супа со сливками. Как только лихорадка прекратилась, детям разрешили ее посетить, потому что это, по мнению лекаря, способствовало ее быстрейшему выздоровлению. Тем временем Пиай по желанию царя изготовил три различные модели Малого храма, посвященного Хатор и Нефертари, которые Рамзес приказал принести к ложу больной.
Когда Нефертари проснулась и попросила у служанки пить, у ее постели стоял Рамзес. Он протянул ей кубок и сказал:
— Когда ты выпьешь, приподнимись и посмотри на мой подарок к твоему выздоровлению.
Больная с любопытством приподнялась:
— Смотри внимательнее, — улыбнулся Рамзес. — Тот, который тебе больше всего понравится, я для тебя и построю.
Нефертари смутилась:
— Храм для меня? Так не пойдет. Я имею в виду, еще ни одна египетская царица…
— Вот именно! — воскликнул Рамзес. — Иначе бы не было никакого сюрприза. Да, моя Прекраснейшая, я построю тебе храм, и мы освятим его в честь Хатор, твоей любимой богини-защитницы, которая, конечно же, внесла вклад в твое выздоровление. Этот храм будет необычным, его высекут в скале на берегу Нила.
Рамзес подвинул стол с тремя моделями ближе к кровати, и, пока Нефертари рассматривала их, внезапно вошла принцесса Мерит.
— Подойди сюда, Мерит, и посмотри на то, что хочет мне подарить твой отец.
Медленно и с подчеркнуто скучноватым видом четырнадцатилетняя девушка подошла. Мир этих старых людей занимал ее все меньше. Существовали гораздо более интересные вещи.
— Что означает эта игрушка? — спросила она без особого участия.
— На месте этой игрушки возникнет храм, который будет таким большим, что некоторые дерзкие принцессочки станут рядом с ним совсем незаметными, — насмешливо пояснил царь.
— Вот этот! — взволнованно воскликнула Нефертари и тотчас закашлялась. — Вот этот нравится мне больше всего. Мне нравятся фигуры с солнечным диском, рогами коровы и коронами из перьев. Это Хатор и одновременно я, хорошо охраняемая моим супругом, который сопровождает меня в двух обликах. А это, — Нефертари указала на маленькую фигурку, — эта фигурка рядом с моим коленом — это ты, Мерит, а здесь можно видеть Амани и Енама.
Она озабоченно посмотрела на супруга:
— А жрецы не посчитают богохульством то, что я буду изображена на фасаде храма?
Но Рамзес только рукой махнул:
— Я — верховный жрец Кеми. Я велю построить храм Пиайю, а если кто-то возмутится, я отправлю того в каменоломни.
— А где будет построен храм? — поинтересовалась Мерит.
— Далеко на юге, на границе с Кушем. Когда твоя мать выздоровеет, мы с ней вместе осмотрим это место. Тем временем Пиай привезет туда скульпторов, художников и специалистов по камню. Шесть больших фигур, каждая почти в двадцать локтей высотой, он создаст собственными руками. Лучшего скульптора нет, хотя, видят боги, я хотел бы, чтобы таких, как он, было больше.
Услышав имя Пиайя, Мерит покраснела и смущенно отвернулась к окну. Уже несколько дней ее преследовал один и тот же сон. Она посещает Пиайя в его мастерской, потому что он хочет сделать ее большую статую. Потом она слышит, как он говорит: «Ты должна быть обнаженной, принцесса, когда я буду ваять твое тело, совершенно обнаженной».
Ей стыдно, но она послушно раздевается. Пиай подходит к ней, смотрит на ее маленькие груди и говорит: «Их я должен сделать немного побольше».
Он берет ее за грудь, аккуратно, нежно, как будто это ценный плод, и Мерит пронизывает неописуемое сладкое чувство, которое она никогда не переживала наяву. Вот почему она смущалась, когда упоминали имя Пиайя. Несколько дней она боролась сама с собой, не рассказать ли ему об этом сне. Один раз она уже была на пути к его мастерской, но затем все же повернула назад.
Рамзес и в новом городе подарил своему скульптору большой дом. Его сад граничил с дворцовым кварталом, и, когда царь звал его, Пиай мог попасть во дворец через маленькую дверь в стене.
Царь звал его часто, очень часто. Совет Пиайя требовался при строительстве каждого важного храма. Порой он должен был быть главным смотрителем работ, и у него оставалось мало времени для себя самого. К тому же Рамзес часто приглашал скульптора на маленькие вечерние пирушки. Тогда царь без всяких церемоний сидел за столом со своими друзьями — главным советником Парахотепом и возничим Меной, и говорил обо всем, что его волновало, и слушал других, хотя иногда это давалось ему с трудом. При этом опустошался кувшин за кувшином лучшего вина, и строгий к себе Пиай давно причислял себя к выпивохам. При этом он забывал свою изнурительную жизнь. Он чувствовал, как на сердце у него теплеет, и становился веселее. Тем хуже было на следующий день, когда с горечью в желудке и гудящей головой он снова должен был выполнять свои многочисленные обязанности. С тоской он вспоминал свое путешествие, в котором обучался ремеслу зодчего. Тогда он еще был господином своего времени и смог бы легко отключиться от маршрута и провести пару веселых дней в Пер-Бастете. Недавно царь подарил ему красивую молодую рабыню, с которой он переспал несколько раз, чтобы не подумали, что он не ценит подарок, а затем снова отправился в поездку и по возвращении едва мог вспомнить имя красавицы. Полдюжины его детей уже населяли дом, только эти отпрыски его особо не волновали, и их воспитание он переложил на их матерей.
Весь двор, конечно, знал, в какой высокой милости находился Пиай у царя, поэтому на него самого смотрели как на владыку в царстве ремесла, и это приносило мастеру дополнительную работу. Тот, кто приносил ему планы, оставался крайне высокого мнения о нем, потому что Пиай просматривал все планы, совершенствовал и утверждал проекты, которые ему нравились.
В эти дни, однако, он был в таком состоянии, что охотнее всего сложил бы стопкой свитки папируса на эшафоте и сжег бы их. Он тосковал по Абидосу, хотел навестить там Ирамуна, который из-за болезней должен был прекратить работу. Пиай не знал даже, жив ли его приемный отец, потому что новостям с юга требовались недели, чтобы достичь Пер-Рамзеса. Вздыхая, он отправился в мастерскую, где его помощники все еще были заняты изготовлением украшений для большого храма Сета. Этих людей обучил Пиай, они работали в его духе, и ему самому большей частью нужно было только вносить некоторые исправления. Он подумал, не попросить ли ему у царя месяц отпуска. Он мог бы поехать в Абидос, посетить Ирамуна и, может быть, присмотреть себе жену.
— Ты так глубоко задумался, мастер Пиай? Благой Бог хочет тотчас говорить с тобой, а в мастерскую пойдешь позже. — Голос принцессы Мерит вывел его из задумчивости.
— Ты сама передаешь мне эту новость?
Принцесса пожала плечами:
— Мне так захотелось. Хочешь знать секрет? Моя мать выбрала один из твоих храмов, и царь хочет, чтобы ты тотчас начал предварительные работы.
Пиай едва слышал, что сказала принцесса. Он только смотрел на нее, как будто видел ее впервые. Он долго путешествовал и не встречался с ней уже многие месяцы. За это время девушка превратилась в женщину. Она унаследовала очаровательное лицо своей матери, но четко очерченный нос и твердый подбородок отца придавали ее облику гордое, величественное выражение.
— Ты прекрасна, принцесса Мерит, если мне, как другу фараона, позволено сказать это. Мужчина, которому ты однажды отдашь свою руку, может считать себя счастливцем.
— Я позволяю тебе замечание, что я прекрасна, — ответила Мерит твердо. — Но я тебе уже говорила однажды, что не выйду замуж.
Пиай оглянулся. Свита Мерит стояла на почтительном отдалении.
— Ты сказала тогда еще кое-что, если помнишь, — заметил он тихо.
— Да? — Она приняла удивленный вид. — Что-то не припомню.
— Я этого не забыл и могу повторить слово в слово. Тогда ты мне сказала, что за меня ты могла бы выйти замуж, ибо я нравлюсь тебе больше, чем все твои сводные братья.
— Ну, это было давно, — сказала она смущенно и слегка покраснела. У нее в голове молнией пронеслось: «Не рассказать ли ему о моем сне?» Однако она не произнесла ни слова.
— Да, ты тогда была еще ребенком. Дети много говорят чего… Теперь ты уже выросла, и я полагаю, что такого бы ты больше не сказала.
Мерит остановилась и повелительным жестом приказала сопровождавшим ее женщинам отойти подальше. Она подняла свои гордые прекрасные глаза и решительно взглянула на Пиайя:
— Зачем я должна лгать? По поводу замужества это было, конечно, по-детски: дочь Солнца не может выйти замуж за ремесленника, в крайнем случае за военачальника. Что же касается другого, то и сейчас я могу сказать, ты нравишься мне гораздо больше, чем мои сводные братья, это верно. Ты мне очень нравишься, Пиай, и если был бы ты принцем…
— Да? Что было бы тогда?
Мерит резко отвернулась и бросила через плечо:
— Мой отец ждет тебя.
Как и всегда, когда он был в нетерпении, Рамзес тут же пошел навстречу своему скульптору и схватил его за руку:
— Она решила! Должна быть построена вторая модель, с шестью фигурами на фасаде. Тотчас отправляйся в Абидос и Фивы и возьми всех рабочих и ремесленников, которые там больше не нужны.
— Но, Богоподобный, — возразил Пиай. — В Фивах строится твой большой храм Мертвых, расширяются храмы Амона и Мут, там нет свободных рабочих рук, к сожалению…
— Тогда ты должен каким-то образом добыть новые. Храм в Абидосе почти готов, приостанови там работы и отправь людей на юг. Храм для Нефертари мне сейчас важнее, предварительные работы там уже начались. Я уже несколько месяцев как приказал это.
Пиай только и мог кивнуть и сказать:
— Да, Богоподобный.
Потому что дальнейшие возражения лишь разгневали бы Рамзеса и сделали бы его совсем несговорчивым.
Фараон стукнул себя по лбу:
— Мне пришла в голову одна мысль. Я сам в ближайшее время не смогу ехать, а Нефертари еще слишком слаба. Тебя будет сопровождать Мерит. Она взрослая и вполне подходит для того, чтобы представлять царский дом. Так или
иначе, пришло время ей познакомиться с югом страны. Она поедет с маленьким двором, а ты, мой главный скульптор и архитектор, будешь сопровождать ее. Да, это будет лучше всего.
Надо ли говорить, что Пиай воспринял это путешествие уже не как тяжелую обязанность! Охотнее всего он отправился бы прямо следующим утром. Быть несколько месяцев рядом с Мерит показалось ему очень заманчивым, он сам не знал почему.
11
От предложенного Землей плана напасть на большое поместье в Фаюме пришлось отказаться: из-за опасности распространения заразы власти приказали сжечь дом, и Земля, желая получить дополнительные сведения, оказался перед дымящимися развалинами.
Чтобы не слишком разочаровывать людей, было объявлено, что дело оказалось слишком опасным и придется подождать. Вместо этого разбойники ограбили один за другим два каравана и одну похоронную процессию, только добыча оказалась ничтожной. Один из караванов был нагружен лишь сухим инжиром и финиками, а другой вез на юг ценные породы дерева, делать с которыми было нечего. Похороны же оказались очень скромными и не принесли ничего стоящего.
Люди ворчали и открыто говорили о старых временах, когда добычи было намного больше. При этом они совсем забыли, что ограбление храма Амона сделало их всех богачами. Еще бы, ведь у многих золото просочилось сквозь пальцы, и теперь они рвались за новой добычей.
Меру это мало заботило, он был целиком занят своим странным заказом и заранее решил никому не говорить об этом, потому что хотел выполнить его один. С этой целью он должен был собственными глазами осмотреть царские охотничьи угодья в Фаюме и поэтому назначил Воздуха своим заместителем на несколько дней, велел лекарю приклеить себе нос и уши, старательно загримировался и отправился в путь верхом на осле. На лошади он вызвал бы только подозрения, поэтому лучше было смириться с тем, что поездка займет в два раза больше времени.
После двух дней путешествия он добрался до Шедита, главного города большого оазиса Фаюм. Меру останавливался на ночь в простых гостиницах для караванов и избегал всех вопросов, притворившись тугоухим. Шедит располагался в болотах у берега огромного озера. Здесь находился центр почитания Себека, священного Крокодила, божества, которое вызывало страх и отвращение.
На краю города, вблизи берега озера, у которого были пришвартованы множество ладей, поднимался старый храм Себека, который Озирис-имаре Аменемхет около шестисот лет назад сделал главным храмом своей летней резиденции. Люди говорили об этом давно почившем царе как о святом, и храм так почитаемого им бога Крокодила был все еще популярной целью паломничества, однако большинство посетителей приезжали сюда не для того, чтобы молиться, а из чистого любопытства, желая посмотреть на священных крокодилов и незнакомый им культ их почитания.
Меру хотел обратиться к этому богу, потому что он как владыка пустыни носил его имя, и недаром его выбрали Себеком, потому что он был таким же прожорливым и жестоким, как крокодил, рвущий свою добычу на части.
Меру пожертвовал жрецам три медных деба и был тотчас принят, как почетный гость. Старый жрец удивительным образом походил на свое божество желтыми редкими зубами, маленькими полузакрытыми глазками и морщинистой кожей.
— Ты сегодня уже четвертый посетитель, но первый, кто почтил божество прилежащей ему жертвой. Да, при Озирисе-Аменемхете высокочтимый Себек был богом всего царства. Вся страна должна была его почитать, как Себека-Ра, и его власть была не меньшей, чем сегодня власть Амона.
Старый жрец тяжело вздохнул и обнажил свои желтые клыки.
— Теперь, почитай, ни один из наших Благих Богов, да будут они живы, здравы и могучи, не добирается сюда. На охоту — да, тут им подходит наше большое озеро. Они ловят рыбу, с луком или пращой охотятся за болотными утками или дикими гусями и выказывают при этом, — жрец недоверчиво огляделся, — почти безбожное рвение, но ни один из них, ни Озирис-Сети, ни его сын Рамзес не соизволили принести здесь жертву Себеку, как будто его больше и нет! Как будто бог может умереть или просто исчезнуть! Пойдем, незнакомец, я покажу тебе священных крокодилов.
Позади святилища находился пруд, который окружала высокая стена. От него так жутко пахло, что даже безносый Меру это почувствовал. Один из священных крокодилов отдыхал на большом камне — толстый, ленивый и коварный, однако он казался сытым и не обратил внимания на посетителей. Животное было так богато украшено золотом и драгоценными камнями, что производило впечатление культовой фигуры. Вокруг шеи и передних лап были обвиты золотые цепи, и даже его чешуйчатый хвост был обвешан различными украшениями.
— Их два, — объяснил жрец. — Другой лежит в воде.
Зоркие глаза Меру отыскали наконец возвышение на мутном зеркале пруда, которое выглядело как кусок корявого дерева, — ошибка, которая многим людям принесла смерть.
Жрец достал кусок мяса из глиняного кувшина и бросил его в воду. Ничего не шевельнулось, мясо медленно потонуло в пруду, оба животных не обратили на него внимания.
— Они сейчас сыты, наши боги. Так или иначе, им не нравится свежее мясо. Только когда мясо начнет тухнуть под водой, оно возбуждает их аппетит. У крокодилов на воле по-другому. Они часто так голодны, что нападают на рыбака на берегу и утаскивают его в воду. Два месяца назад рабыня из поместья стирала на берегу платье. Несколько голодных крокодилов схватили ее за руки и растерзали в воде. По правде говоря, бедняжке посчастливилось.
— Посчастливилось? — удивился Меру. — Как это понимать?
Жрец вздохнул и блеснул своими глазками рептилии.
— Ты, вероятно, уже слышал: тот, кто живым становится жертвой крокодила, оправдан и тотчас становится Озирисом. Его ка без тела обретает покой, потому что оно может поселиться в храме Себека и принимать участие в жертвах, которые приносятся богу. Это ли не счастье! Плохой, жестокий человек должен считаться с тем, что его сердце будет взвешиваться Озирисом и оказаться легче пера Маат. Тогда его бросят демонам ада, и он будет вечность терпеть мучения. Смерть в пасти Себека предотвращает это, и из преступника мгновенно получается святой. Да, Себек хороший, он готов помочь, а люди, к сожалению, это часто забывают.
— Это звучит почти так: несчастьем является умереть нормально, быть забальзамированным и погребенным в Доме Вечности. Я думаю…
Но взволнованный жрец прервал его:
— В большинстве случаев это также несчастье! Взгляни на старые гробницы тех, кто умерли двести или триста лет назад! Из их рода никто больше не живет, за их Вечными Жилищами не ухаживают, они не охраняются — и что происходит?
Меру сразу понял, что имеет в виду жрец, однако притворился глупым и пожал плечами.
— Гробницы грабят, с мумий срывают бинты из-за драгоценных амулетов, а ночью приходят шакалы и утаскивают кости с собой! Это что, лучше? — брызгал слюной жрец.
— Нет, конечно же, нет, однако мысль, что тебя растерзают острые зубы…
— Ах, это! Это происходит как один вдох. Свидетели сообщают, что люди даже не успевают закричать. Некоторые добровольно принимают такую смерть. Кроме того, близкие экономят на погребении.
— Честно говоря, ты прав, только это как-то… немного необычно. Ты упомянул до того о фараонах во время охоты за птицами. Если они видят здесь храм, я не могу себе представить…
— Нет-нет, они охотятся не на этой стороне, а на севере, потому что там больше дичи. Может быть, Благой Бог Рамзес даже не знает, что здесь находится храм Себека.
Это-то и хотел знать Меру. На следующий день он поехал к северному берегу и внимательно осмотрел местность. Однако это было непросто, потому что по широкой болотистой местности едва можно было ступать, а из-за ужасающего шума болотных и озерных птиц ничего не было слышно. Только один раз Меру наткнулся на кусочек свободного берега. Здесь рыбаки явно утоптали ил, чтобы сделать проход получше.
Меру ощутил жажду и хотел набрать пригоршню воды, но тихий всплеск предупредил его. Он взглянул и увидел их: целая дюжина крокодилов лежала на мелководье, и глаза многих рептилий внимательно наблюдали за ним. Одно из животных направилось к берегу, и раздался всплеск. В первый раз за долгое время Меру почувствовал страх и быстро побежал к своему ослу. Вероятно, это крокодилы, выходя на берег, утоптали ил, и ни один из рыбаков не осмеливался приблизиться к этому месту. Чтобы наверняка выполнить свой заказ, он должен был так же хорошо знать эту местность, как свое тайное убежище в пустыне. В это мгновение Меру решил навсегда покинуть разбойников. Пусть они выбирают себе нового Себека, здесь его ожидает самая важная и, вероятно, последняя миссия, и он должен будет выполнить ее один.
Изис-Неферт полагала, а ее поверенный Незамун соглашался с ней, что царь слишком мало занимается воспитанием ее сыновей. Он видел их не так часто, как сыновей Нефертари, а неплохо было бы, чтобы отец по крайней мере следил за тем, как они растут, и хотя бы различал их.
Увы, Амон, как будто для того, чтобы подчеркнуть, что Рамзес не играет в их жизни особо большой роли, создал мальчиков настолько похожими на мать, как если бы скульптор несколькими скупыми движениями сделал по подобию женской фигуры две фигуры юношей. Даже в детстве было заметно их удивительное сходство с матерью, которое читалось, однако, только в их лицах. Оба унаследовали от отца атлетическое сложение, особенно Рамозе, который в свои четырнадцать лет был уже на целую голову выше своей матери. Он любил упражняться с оружием и при любой возможности стрелял из лука во все, что только могло стать целью. Однажды он даже выстрелил в кошку одной из наложниц и поранил ей ухо. За это он получил двадцать пять ударов бамбуковой палкой, потому что никому не позволено безнаказанно принести вред священному животному Баст.
Его двенадцатилетний брат Хамвезе от всего сердца презирал эту любовь к лукам, мечам и пращам. Уже в десять лет он превосходил всех в письме и чтении. После школы он любил посещать мастерские художников и скульпторов, проводил много часов в строительных архивах, изучал планы и держал в голове чертежи всех важнейших храмов Мемфиса и Пер-Рамзеса. Царь поддерживал этот интерес, полагая, что наследников у него достаточно, поэтому один из них вполне может пойти по стопам ученого бога Тота. В то время как Рамозе и оба сына Нефертари, Амани и Енам, сопровождали царя на охоту, Хамвезе мог путешествовать с Пиайем, и главный архитектор признался однажды, что самым способным его учеником является принц Хамвезе. Фараон не без удовольствия выслушал похвалу, ведь строительство было его самой большой страстью.
Оба сына Изис-Неферт воспитывались вместе с сыновьями Нефертари, и, кроме случайных ссор, между братьями не было и тени вражды. Они все носили на лбу золотой урей и гордились своим отцом, Благим Богом и носителем священного двойного венца.
Каждый знал, что Амани — наследный принц и, судя по всему, станет приемником отца. Наследственные черты матери и отца постоянно спорили друг с другом в лице и нраве Амани. Сам по себе он был мягким и послушным мальчиком, учился то хорошо, то плохо, целые дни мог упражняться с луком, чтобы не отстать от других, а затем снова сидел целыми часами со своим учителем за закрытыми дверями, слушая рассказы о деяниях своих предков, о великом воине Мен-хепер-Ра Тутмосе, который в грандиозных военных походах покорил владык Кадеша и Мегиддо вместе с их вассалами, а позднее дошел даже до берегов Евфрата. При этом Амани, он не был тугодумом, соображал все быстро и доводил большинство своих предприятий до конца.
Нефертари сказала как-то мужу:
— Совершенно твой сын! Он никогда особенно не торопится, но все, что он начинает, доводит до конца.
При этом она улыбнулась, и Рамзес восхищенно посмотрел на ямочки на ее щеках. Он благодарил всех богов, неудавшиеся роды не оставили на ней неизгладимого следа.
Царь любил всех своих детей — их было уже более сорока, — однако больше всех он заботился о сыновьях Нефертари, а любимым его ребенком была Мерит, прекрасная и гордая, которая частенько спорила с отцом, поддразнивала его, подшучивала над ним, но становилась львицей, если кто-либо подвергал малейшей критике ее братьев перед ним. Теперь она была его большой дочерью, которая сверху вниз смотрела на маленьких братьев и сияла от радости и гордости от того, что царь послал ее с маленьким двором с официальной миссией на юг.
Для этого был снаряжен царский флот из четырех ладей. Одна была предназначена для Мерит и ее ближайшего окружения, одна — для Пиайя и его помощников с их планами и инструментами, две оставшиеся везли мебель для путешествия, припасы и малый двор, состоявший из шестнадцати мужчин и женщин.
Первый официальный выход Мерит состоялся в Абидосе, где на берегу большая толпа ждала прекрасную дочь Благого Бога, исполненную прелести и очарования, и ликовала, видя представительницу повелителя Обеих Стран.
На Мерит был достигавший груди роскошный парик с венцом, на котором угрожающе подняли головы золотые уреи и горел золотом диск солнца; широкое ожерелье из золота в форме знаков Анк и Неферт, чудесной работы серьги из камней ляписа, оправленных в золото, с именами отца и матери в картушах.
Пиай шел во главе двора, позади кресла, в котором несли Мерит. После принцессы ему надлежало оказывать высочайшие почести и внимание. Каждый знал, что он — дитя этого города и что его путь к высочайшим должностям начался в мастерской Ирамуна.
Ирамун тем временем умер. Его вдова переехала к своей замужней дочери в соседний город, а мастерские перешли к одному из его прилежных учеников, который стал мастером. Вместе с ним Пиай отправился к маленькому храму Мертвых, который фараон Рамзес велел построить здесь в качестве последнего здания после завершения большого храма Озириса. Пиай облегченно вздохнул, когда увидел, что работы были почти закончены. Повсюду на колоннах и стенах сияли раскрашенные, чудесно исполненные плоские рельефы из мастерских Ирамуна, и Пиай увидел, насколько эта прекрасная работа отличается от углубленных рельефов, которыми фараон Рамзес приказал наскоро обученным ремесленникам украсить храм. Однако он молчал, ибо негоже обсуждать, а уж тем более осуждать царские приказы.
Он посетил скромную усыпальницу Ирамуна и принес там жертву. Смотрителю за гробницами он оставил пять медных дебов и попросил его дважды повторить жертвоприношение.
Во время торжественной трапезы Пиай и верховный жрец Венофер сидели за столом принцессы Мерит, которая расположилась на высоко приподнятом позолоченном стуле и с достоинством представляла царский дом.
Венофер по сложившейся давным-давно традиции унаследовал должность верховного жреца Абидоса от своего отца Мери. Так как Мери дожил до глубокой старости, его сын был далеко не молод, когда наконец наследовал ему. Он имел за плечами более сорока разливов Нила. Пиай передал Веноферу приказ Благого Бога забрать всех ремесленников, связанных с искусством, из Абидоса для строительства нового храма на границе с Кушем. Не без злорадства мастер заметил плохо скрытый испуг достойного жреца, когда тот услышал, что храм будет посвящен царице Нефертари. Верховный жрец раскрыл глаза и, заикаясь, пробормотал:
— Ну… итак… это… это… да, немного странно. Живой персоне… я имею в виду… смертной, да еще женщине…
С неменьшим удовольствием Пиай услышал в словах Мерит внезапный гнев ее отца:
— Ты называешь это странным, жрец Венофер? А мне кажется странным твое отношение. Даже если мой высокочтимый отец соорудил бы храм ослу, я и то не могла бы найти в этом ничего странного, разве что несколько необычно. Каждое решение Благого Бога для вас, жрецов, как и для всех других людей, приказ, которому надо безусловно следовать, как будто бы его отдал сам Амон-Ра или Пта. Кто пренебрегает этим, тот не годится даже в помощники жреца местного деревенского божка.
Венофер, достойный и ловкий верховный жрец, униженно склонил голову перед шестнадцатилетней дочерью Солнца. Он знал, что сболтнул лишнее, даже глупость и, заикаясь, пробормотал извинение.
Мерит улыбнулась:
— У кого хоть однажды не сидел на языке злой демон Подземной страны и не заставлял сказать глупость? Я верю, что твои слова не соответствовали твоим мыслям и принимаю извинения. Но теперь я хотела бы увидеть что-нибудь веселое. Разве здесь нет певцов и танцоров, фокусников и акробатов?
Мерит, которая дома мало ценила подобные представления, здесь полностью вошла в роль своего отца. А Пиай делал то, к чему давно привык на празднествах у фараона. Кубок за кубком он поглощал превосходные вина, становясь свободнее и смелее, и все чаще искал глаза прекрасной Мерит, которая украшала своим блеском праздник и прижимала к груди стебель лотоса, как скипетр Хека.
Венофер сказался усталым, и ему разрешили удалиться. Так как в Абидосе все находилось под знаком Озириса, то и представление певиц и актеров было предложено в этом духе. Особенно любимой была при этом сцена, в которой Изида складывает части разрубленного Озириса и обнаруживает пропажу фаллоса. Его братоубийца Сет нарочно бросил в Нил, и он был съеден рыбой.
Изида сделала новый фаллос, оживила его священными маслами, и, таким образом Озирис смог зачать своего сына Гора, которого Изида, скрывшаяся в болотах Буто, родила и воспитала мстителем за отца.
Не говоря ни слова, только при помощи мимики и танца лицедейка, выступавшая в роли Изиды, изображала, как богиня, плача, разыскивает мертвое тело кусок за куском, причем каждый раз она делала так, как будто-то бы погребала каждую найденную часть тела, чтобы не возбудить недоверие Сета. Однако она прятала куски под своим платьем, торопливо соединяла их, вылепила из глины фаллос и присоединила его к телу. Это тело изображал актер, который лежал без движения на земле, завернутый, как мумия, и с сильным, поднятым вверх искусственным членом. Изида легла на него, чтобы ритмическими движениями своего тела изобразить зачатие.
Видя, что Мерит одобрительно улыбнулась, остальные зрители также засмеялись и бурно зааплодировали. Потом пришли певцы и громко запели триумфальную песню воскресшему Озирису.
Великолепное отображение своего отца Геба,
Таинственное семя, возросшее из Атума,
Господин, который выше своих отцов,
Самый старший из лона своей матери!
Приди к нам в твоем первом облике,
Чтобы мы тебя обнимали,
Не покидай нас, господин.
Прекрасный лицом, великий любовью,
Отображение Пта, господин сладострастия,
Который раскрыл тело своей сестры и не утомил ее члены,
Хотя уже лежал в своих повязках.
Твоя сестра Изида приходит к тебе,
Вскрикивая от радости, от любви, приходит она.
Ты поднял ее на свой фаллос, твое семя устремляется в ее тело,
И Гор рождается от тебя.
— Не слишком ли много ты пьешь? — Мерит с насмешливой заботой посмотрела на Пиайя.
— Я пью в честь этого священного места, где Озирис и его сын Гор так почитаются. Из глаз Гора родилась виноградная лоза…
— Ну, тогда и я почту Гора.
Мерит взяла свой бокал, закрыла глаза и опорожнила его. Служанка сразу же наполнила его.
— Прекрасно путешествовать с тобой по нашей стране, — заметила Мерит, снова отпила глоток и тихо добавила: — Прекрасно также смотреть в твои серые глаза. Серые, как небо твоих предков в чужой северной стране, где дождь идет целыми днями. Может быть, это только легенда, но приятно это представить: выходишь на улицу и купаешься в прекрасной небесной воде…
— Ах, Мерит… Твои слова делают мне честь и отличают меня. Что я могу возразить? Ты принадлежишь к царской семье, и то, что я хотел бы сказать тебе, мне нельзя говорить… Если бы я мог говорить с тобой, как мужчина с женщиной, которую он… ну, уважает, которая значит для него больше, чем другие женщины… я мог бы потом…
Пиай поднял кубок и запил то, что хотел бы высказать, но не мог, по крайней мере, при свидетелях. Даже если они только шептались, за ними наблюдали сотни глаз: слуги и служанки ходили туда-сюда, наливали вино в бокалы, кропили стол ароматной водой; несколько вооруженных телохранителей стояли, как статуи, позади, готовые убить любого, кто, пусть даже по ошибке, коснется принцессы.
Мерит резко встала:
— Проводи меня в сад, Пиай, мне нужен свежий воздух.
Маленький, недавно построенный дворец позади храма Мертвых стоял посреди пустыни, но постоянный приток воды позволил разбить здесь роскошный сад, который окружала высокая стена. Свет полумесяца обвивал серебряным покрывалом цветущие кусты, деревья, цветы, кустарники и отражался в маленьком пруду с лотосами, в котором священные цветы богини Нефертем уже закрыли свои белые чашечки.
— Идите спать, мне вы больше не нужны, — приказала Мерит своим спутницам и вошла с Пиайем в ночной сад.
— Здесь мы одни, Пиай, теперь ты можешь говорить со мной, как мужчина говорит с женщиной.
Пиай молча схватил Мерит за руку и подвел ее к скамье у пруда. Этим он совершил первое святотатство, потому что дотронуться до члена царской семьи без разрешения было великим грехом, который мог караться смертью.
За те секунды, пока он делал несколько шагов от дверей сада к пруду, различные мысли проносились в голове Пиайя, проносились, сверкая, как молнии, и замирали.
Пиай увидел маленького раба, каким он был, забитого изгоя, вечно грязного, увидел свой взлет к вершинам славы, будто камень, выпущенный из праща, устремляется к солнцу и… низвергается вниз, как он, коснувшись ее руки, скатывается в пропасть и смерть. Он вздрогнул, но облик Мерит вытеснил ужасное видение. Она села с ним на скамью и в ожидании посмотрела на него.
Пиай глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух и ощутил изысканный аромат лотоса и цветущих акаций. Это подействовало на него опьяняюще, и его язык развязался:
— Ну, послушай, Мерит, что мужчина говорит женщине. Он говорит: я люблю тебя, я хотел бы тебя обнять, ласкать твою грудь, гладить твой живот и закончить все это прекрасной игрой, которую показали нам сегодня вечером в мистерии Изиды и Озириса.
Мерит положила голову на плечо Пиайя, и ему показалось, как в лунном свете сверкнули приподнявшиеся уреи ее венца.
Она взяла его руку и погладила по запястью.
— У тебя такие узкие запястья, как у представителя старой знати, как будто ты никогда не выполнял тяжелую работу. Что я должна сказать на твои слова? В качестве ответа я расскажу тебе сон, который все время возвращается ко мне.
Сейчас пришел момент, когда Мерит без робости могла рассказать о своем сне, и, пока она рассказывала о том, как Пиай нежно сжимает ее груди, он торопливо освободил ее твердую молодую грудь из прохладной льняной ткани и нежно целовал ее снова и снова. Мерит обхватила его голову, гладила его затылок и плечи.
Легкий звон испугал ее. Пиай сказал успокаивающе:
— Это только стража перед воротами: меч или копье упали на землю. Я хочу видеть тебя совсем обнаженной, как в твоем сне, я хотел бы его продолжить, потому что дело между мужчиной и женщиной должно завершиться правильно.
Мерит снова поправила бретельки своего платья и чуть отодвинулась от Пиайя. Она сказала:
— Тогда расскажи мне мой сон до конца, как идет дальше между мужчиной и женщиной?
— Ну, слушай. Твой сон заканчивается тем, что ты стоишь передо мной обнаженная и я нежно сжимаю твою грудь. Дальше мои руки путешествуют по твоей спине, по бедрам, гладят твое прекрасное тело, скользят к твоему животу, там они задерживаются и как бы стучатся, чтобы наверняка доставить тебе удовольствие. Тогда даже если ты, вероятно, не совсем хочешь, спустя некоторое время твое лоно открывается, и оно готово для игры, которую мы видели сегодня вечером. Для этой игры времени у нас достаточно, ведь нам принадлежит целая ночь. Когда Ра взойдет потом на свою дневную ладью, мы утомимся и заснем, и я уверен, что твой сон больше не повторится, если продолжение так, как я его описал, состоится в действительности. Может быть, оно останется сном, но ты никогда, никогда не увидишь этот сон до конца, потому что старая прекрасная игра между мужчиной и женщиной может быть чрезвычайно приятной только тогда, когда бодрствуешь. Твой сон всегда будет заканчиваться на одном и том же месте, твой сон…
Мерит тихо засмеялась и снова пододвинулась ближе к Пиайю. Он обнял ее и страстно целовал ее щеки, шею и губы, так что венец с уреями со звоном упал на землю. Пиай хотел наклониться за ним, но она опередила его:
— Нет! Не касайся их! Моего тела ты можешь касаться так долго, пока я тебе разрешаю, но, пожалуйста, не трогай змей. — Мерит взяла обруч в руки, встала и старательно разгладила свое платье. — Спокойной ночи, Пиай. Завтра я обязательно посещу предков, чтобы рассказать им о болезни и выздоровлении моей матери. Потом мы отправимся дальше в Фивы, где останемся подольше. Там, вероятно, в царском дворце также есть прекрасный сад, и мы сможем дальше фантазировать о своих снах.
— Они останутся только снами?
— Ты меня обнял, поцеловал, разве это был сон?
Не ожидая возражения, Мерит повернулась и исчезла в темноте. Пиай еще долго оставался сидеть, глядя в посеребренную луной воду пруда с лотосами.
Мозе оставался на несколько дней в Пер-Рамзесе и разрывался между ощущением гордости, которую чувствовал еще живший в нем египтянин, и отвращением перед дерзостью этого царя, который вынудил и человека, и природу покориться своей воле, чтобы за короткое время поднять из земли новую столицу. Необходимо было осушить болотистую почву, чтобы раздобыть больше новой земли для строительства, выкопать каналы, расположить на твердой почве улицы. На восточной границе города буквально на глазах вокруг храмового квартала выросли хлева, сушильни для фиников и инжира, жилища для рабочих. Строительство из кирпича шло сравнительно быстро, быстрее, чем поставлялись сами кирпичи.
В Питом Мозе возвращался южным путем. Во время путешествия он должен был еще несколько раз пересечь притоки Нила, которые устремлялись через плодородную, однако частично болотистую Восточную Дельту в море. Тут он наткнулся на одну из кирпичных мастерских, подъехал поближе и посмотрел на работу принудительно согнанных людей. Из большой заболоченной ямы на берегу мужчины доставали ил и клали в огромные корзины, которые вдвоем на одном коромысле тащили, надрываясь, к формующим кирпичи. Это были в основном женщины и подростки, которые в больших корытах смешивали глинистый ил с мелко нарезанной соломой, наполняли всем этим деревянные формы, оставляли просохнуть, а потом еще влажные кирпичи укладывали, чтобы они закалились на солнце.
— Эй ты, от того, что ты глазеешь, кирпичей больше не станет! Можешь поработать с нами за хорошую плату: днем вкусный суп из побоев, а к этому еще красивые медные ошейники, чтобы на ночь нас можно было приковать друг к другу.
— Придержи язык! — воскликнул Мозе. — Это может стоить тебе ушей, если ты станешь сердить египетского чиновника!
Едва он произнес эти слова, как постыдился того, что вспомнил о своем египетском прошлом. Мозе был просто одет, но по его речи надсмотрщик сообразил, что ошибся.
— Извини, господин, но скука нас здесь поедает. Я принял тебя за простого человека и позволил себе пошутить.
Мозе подъехал ближе и узнал в некоторых рабочих своих братьев по племени. На их языке он крикнул хабиру:
— Я Мозе, ваш брат, и еду прямо от фараона. Он хочет притеснять вас еще сильнее, в будущем вы еще будете собирать солому для кирпичей. Мы должны покинуть эту страну, братья и сестры, во что бы то ни стало! Здесь мы погибнем, потому что царь не дает нам пастбищ. Мы должны двинуться дальше на север, туда, где нас не достанет рука фараона. Будьте терпеливы, держитесь! Бог не даст погибнуть Своему народу.
Чтобы услышать его, некоторые мужчины оставили свою работу, однако это так разозлило надсмотрщика, что он закричал:
— Эту паузу вы отработаете во время обеда, еду и воду сегодня не получите!
Надсмотрщик, который разговаривал с Мозе, поднял руки:
— Наказание необходимо. Тебе нельзя было разговаривать с людьми во время работы. — Он посмотрел на небо. — Прощай, незнакомец, я отправляюсь сейчас в тень.
Вскоре после этого раздался звонкий стук барабана, люди оставили корзины и инструменты и побежали в свои примитивные хижины, чтобы поесть и отдохнуть, но трое хабиру, связанные одной веревкой с ошейниками, должны были перемешивать на раскаленном дневном солнце ил и солому. Надсмотрщик сел на корточки под навесом в тени, ухмыльнулся, зевнул и начал ложкой есть из горшка гороховую кашу, закусывая большой редькой.
Мозе огляделся. Вдали располагались простые хижины, за ними на лугу паслись несколько коров, и белые точки цапель виднелись между ними. Эти птицы выклевывали у пасущихся коров из шерсти мучивших их паразитов, и поэтому крестьяне называли их «цапли, стерегущие коров».
Кроме наказанных рабочих и обедавшего надсмотрщика поблизости не было ни души. Мозе привязал осла к кусту и подошел к надсмотрщику.
— Я думаю, уже достаточно! Ты ведь не можешь наказывать людей только за то, что они несколько минут слушали меня. Я передал им новость от родственников.
Надсмотрщик хотел уже ответить, когда увидел, что трое подошли поближе, чтобы подслушать их разговор. Он вскочил на ноги, кинулся на них и начал их избивать без разбора.
Тут Мозе почувствовал, как Божий гнев нашел на него. Он схватил большой камень, подошел к надсмотрщику и крикнул:
— Стой!
Детина на мгновение обернулся, дерзко ухмыльнулся и снова взялся за бамбуковую палку. Тогда Мозе швырнул камень ему в голову, и египтянин с тихим стоном упал. Мозе вытащил нож, разрезал веревки, скрепляющие ошейники его братьев по вере, и сказал:
— Помогите мне! Мы должны его немедленно закопать.
Они отнесли труп в сторону, выкопали яму и скинули туда его. Яму наскоро закопали, а Мозе дал мужчинам несколько медных дебов:
— Благодаря обеденному перерыву у вас есть преимущество во времени. Возвращайтесь к своим семьям и спрячьтесь. Бог с нами! Не забывайте это.
Мужчины бросились бежать, а Мозе окольными путями поскакал в Питом. Там он узнал, что воины ниу ищут его, поэтому он бежал дальше, в Мадиан, местность на севере Тростникового моря, где взял в жены дочь этой страны, завел с ней детей и осмелился вернуться в стану Кеми, только когда умер фараон Рамзес. В это время Мозе был уже очень старым человеком, но он осуществил то, что обещал своему народу: он повел хабиру на север, где они осели и основали царство.
12
Меру попросил жреца Гебу о встрече. Увидев гостя, жрец обнажил свои крокодильи зубы и придал дружелюбие холодным глазам рептилии.
— Что я могу сделать для тебя, чужеземец? Хочешь ли ты принести Себеку еще одну жертву? Ты мог бы…
— Нет, почтенный, на этот раз речь идет о гораздо большем. Я хотел бы сам предложить себя Себеку.
Гебу широко раскрыл глаза:
— Ты хочешь… Ты хочешь к крокодилам? Ты хотел бы стать Озирисом? Но тогда…
— Нет-нет, я не это имел в виду. Меня зовут Меру, я с юга, моя семья умерла от мировой язвы, выжил я один. Мне здесь нравится, и я хотел бы посвятить оставшуюся жизнь богу Себеку, поэтому я прошу тебя о должности в храме — о должности помощника, или управителя складом, или кого-то вроде этого.
Гебу с сомнением покачал головой.
— Увы, нам никто не нужен. Владения у храма небольшие. Наш верховный жрец живет в Мемфисе и ни о чем не беспокоится. Ему хватает только сана. Конечно же, по праздникам я нуждаюсь в помощи: слуги в храме ленивые, и я не могу один усмотреть за всем. Что касается оплаты, я мог бы предложить тебе только убежище и еду, а что до платья и всего остального…
— Мне ничего не нужно, — быстро вставил Меру. — Я намереваюсь даже пожертвовать храму мое маленькое состояние. Это немного медных, золотых и серебряных дебов…
— Ну, тогда, — Гебу вздохнул с облегчением, — тогда я сделаю тебя помощником жреца. Если хочешь, можешь остаться прямо сейчас.
— Нет, почтенный. Я должен уладить еще несколько дел и вернусь назад, как только смогу. Возьми это в сокровищницу от меня.
Меру поставил на стул мешочек с золотом и серебром. Рука жреца потянулась, схватилась за мешочек, потрясла его и крепко его сжала.
— Мы сохраним его для тебя — помощник жреца Меру. Впрочем, ты недолго будешь оставаться помощником жреца. Себек в хорошие времена имел четырех жрецов. Один, верховный, сидит теперь в Мемфисе, второй — я, а третьим можешь стать ты.
— Я хочу лишь служить богу, — скромно ответил Меру, — не имеет значения в какой должности.
Когда Меру приблизился к убежищу разбойников, его чуть было не убил один из стражей, потому что не узнал его с носом и ушами. От Земли Меру узнал, что во время его отсутствия произошла ссора. При этом убили Мина, и больше десятка людей исчезли. Многие считали, что теперь, когда Себек вернулся назад, он должен поговорить с людьми и, может быть, дать им что-либо из сокровищницы, чтобы пережить недобрые времена.
— Можешь раздать всю сокровищницу. Я оставляю вас и уезжаю на юг. Наше время прошло. Фараон усилил ниу, и не сегодня-завтра они выследят нас и накроют здесь.
Как близко это «не сегодня-завтра», они вскоре узнали. Ниу уже давно получили сведения от пастухов и стражей гробниц, что в некой отдаленной области пустыни, к северо-западу от Мемфиса, часто появляются таинственные всадники. Иногда они ездят целыми отрядами с вьючными лошадьми, иногда поодиночке, но каждый раз всадники появляются с одной и той же стороны и возвращаются в ту же сторону. Судя по всему, речь шла не о старых обитателях пустыни шазу, потому что те использовали в качестве верховых животных исключительно верблюдов.
Поскольку пастухи и стражники гробниц в силу своей профессии считались изрядными сочинителями, ниу сначала не обратили внимания на их свидетельства, но, когда в городе время от времени стали попадаться металлические предметы, на которых были соскобленные, но все же различимые клейма Амона Мемфисского, началось расследование. Даже тот, кто не умел читать, был знаком с тремя письменными знаками: листком лотоса, линией, обозначающей воду, и дощечкой для игры в мен, обозначавших вместе Амона. С момента постройки нового храма Амона на слитках и предметах, принадлежащих храму, ставилась печать с бараном, поэтому каждый знал, происходил ли металл из старого или нового святилища.
Ниу разослали по городу ищеек и объявили, что будет награжден каждый, кто предъявит слиток со старой печатью.
В конце концов не золото и не серебро навело ниу на верный след, а скромный медный четвертачок, на котором стоял нестертый письменный знак Амона. Этой монеткой один ремесленник оплатил в храме Пта свою жертву благовониями, а молодой внимательный помощник жреца отвел удивленного горшечника к верховному жрецу. Там выяснилось, что хозяин пивной купил у него несколько кувшинов и оплатил их этой медью. Хозяин смог точно вспомнить посетителя, от которого получил медь, потому что тот заходил к нему часто, садился обычно в самый темный угол пивной, торопливо выпивал кувшин пива, а затем исчезал. Каждый раз он платил медью или бронзой, но на печать хозяин не обратил внимания, потому что ему давали металл с различными знаками.
За пивной стали наблюдать, и на четвертый день хозяин дал условленный знак. Тот, о котором он говорил, сидел в самом темном углу и торопливо выпивал кубок за кубком, не спуская глаз с двери. Шпион быстро поднял по тревоге отряд городской стражи, которая захватила отчаянно сопротивлявшегося человека. Он действительно принадлежал к разбойничьей банде Себека, попытался обосноваться в Мемфисе, но от страха едва осмеливался показаться на улице. Он был мелкой сошкой, которая поклялась в верности умершему Себеку и не чувствовала себя обязанной Меру. Не пришлось даже слишком сильно использовать бамбуковую палку. Арестованный уверял, что сам не принимал участия в ограблении храма, поэтому ниу сделали вид, что поверили ему, так как он еще был нужен. Глава города Фив собрал испытанных воинов ниу и городской стражи, и эти люди однажды утром осторожно окружили убежище разбойников. Банда собиралась самораспуститься, и стражников уже не выставляли, потому что каждый намеревался вскоре покинуть это место.
По знаку предводителя воины ниу, вооруженные луками, кинулись в атаку. Они разделились на мелкие группы и имели приказ стрелять в каждого, кто захочет покинуть маленькую окруженную скалами долину в пустыне. Всадники ниу, вооруженные копьями и мечами, отправились дальше, и, когда показались растерянные разбойники, они соскочили с лошадей, и началось сражение.
Меру осторожно выглянул из своей пещеры и тотчас понял, что людям Себека пришел конец. В мгновение ока он схватил уже приготовленные мешочки с золотом и серебром, надел кожаный панцирь, привесил к поясу кинжал и побежал к своему лучшему коню, который был привязан в тени скальной ниши и с удовольствием жевал корм. Стрелы и меч были на месте, запас с водой, как и приказано, тоже. В этих условиях все мысли и действия Меру были направлены на бегство, а не на борьбу. Пусть эти дураки дерутся с ниу, он-то знает, что банда Себека будет уничтожена.
Меру обвязал льняной платок вокруг головы, вскочил на коня и огляделся. Те, кто нашел коня, поворачивали на юг, потому что открытая долина давала возможность бежать без помех. Другие хватались за оружие и пробивались к лошадям, потому что надеялись прорваться. Меру, однако, заметил темные точки на высотах вокруг — это были стрелки, готовые стрелять в каждого из беглецов.
Он повернул на север, где долина граничила со скалами и где были поставлены только несколько стрелков, потому что бегство в этом направлении казалось невозможным. Меру, однако, знал, что ему удастся сбежать, если он осмелится на неожиданное, невероятное, очевидно невозможное.
Он пригнулся на лошади и понукал ее ударами пяток и криками подниматься в гору. Еще до того как удивленные лучники смогли выстрелить в него, Меру зарубил одного из них и прорвал цепь. Однако вслед ему полетели стрелы. Две попали в кожаный панцирь, одна угодила Меру в бедро, две другие пронзили бок его лошади, и одна из них осталась там. К счастью, он уже выиграл приличное расстояние, когда всадники ниу смогли начать преследование. Меру чувствовал ноющую боль в бедре, усиливающуюся от того, что стрела не была извлечена из раны. Его лошадь, которую боль заставила бежать еще быстрее, летела по пустыне, как камень, выпущенный из пращи. А Меру, который уже многие годы не молился, а только проклинал, теперь громко воскликнул:
— Себек, ты меня слышишь! Задержи ниу, заставь их лошадей захромать, заставь их потерять след! Я посвящу тебе жизнь и пожертвую все состояние, только спаси меня на этот раз!
Он снова и снова выкрикивал эти слова в раскаленный пустынный воздух. Ему было на руку, что он знал здесь каждый камень, каждое укрытие. Он знал, что за низким холмом, который показался слева от него, есть маленькая, едва различимая ниша в скале.
Меру оглянулся. Преследователей не было видно, но каждое мгновение один из них мог вынырнуть из-за скалы или из низины. Не раздумывая, разбойник подскакал к укрытию, соскочил с лошади, преодолевая боль, и успокоил тяжело дышавшего, покрытого потом коня, в боку которого все еще торчала стрела. Однако она сидела неглубоко, и Меру смог ее вытащить. Ему самому стрела глубоко вонзилась в верхнюю часть бедра, и удалить ее просто так было нельзя. Меру обрезал ее и забрался в нишу. Он подвел к себе лошадь и похлопывал ее мягкую влажную морду, чтобы тотчас зажать ее, если конь издаст хотя бы звук.
Из-за потери крови его мучила жгучая жажда, и он уже пару раз был готов опустошить запас воды, но силой воли удерживал себя. Вода могла стать его спасением, и он должен был ее экономить.
Лошадь скоро успокоилась и стояла с опущенной головой неподвижно, как статуя. Меру охотнее всего сорвал бы с головы свои фальшивые уши, чтобы лучше слышать, но ему предстояло прорваться в Фаюм, и никто не должен был узнать в нем искалеченного преступника. Меру подумал о своем таинственном заказчике, обещал снова объявиться, но это дело прошлое. Если он убьет сына Рамзеса, это будет его собственное дело, а не Амона.
В этот момент послышался шум. Меру различил ржание лошадей вдали и к вечеру, когда Ра уже приближался к горизонту, ясно услышал голоса нескольких человек, которые, должно быть, находились совсем близко. Он сжался в своей скальной нише, одну руку положил на голову коня, закрыл глаза и ждал с лихорадочно бьющимся сердцем. Обильный пот ужасно раздражал в тех местах, где были приклеены уши и нос, но Меру ничего не мог сделать. Оставалось только радоваться, если клей выдержит еще несколько часов.
Острие стрелы, торчавшее в бедре, вызывало все более сильную боль. Рана больше не кровоточила, но бедро опасно распухло, и Меру ощутил возрастающий жар раневой лихорадки. Он знал, что ниу после захода солнца махнут на него рукой, и он хотел светлой, лунной, прохладной ночью отъехать как можно дальше.
Едва Ра скрылся, Меру покинул укрытие и осторожно огляделся. Царила гробовая тишина, только тихий ветер кружил песок. Беглец вылез из своего кожаного панциря, выпил маленькими глотками одну восьмую часть хеката воды и аккуратно вытер лицо. Около двух четвертей он налил во взятую с собой деревянную миску и дал лошади. Этого было, конечно, слишком мало, но цель была так близка, что он об этом не заботился.
Преодолевая сильную боль, Меру взобрался на лошадь, которая была теперь свежей и отдохнувшей, и спешно поскакал на юг. Хотя тело его горело от лихорадки, зубы выстукивали дробь, а боль в ноге давно стала невыносимой, Меру все погонял коня и на рассвете добрался до северной границы Фаюма. Почти без сознания он упал с лошади и тотчас заснул. Легкое похлопывание по плечу пробудило его от бессвязных лихорадочных снов. Рядом стояли двое мужчин и робко глядели на него.
— Ты упал, господин? Мы должны позвать на помощь? Мы рыбаки и принадлежим храму Себека. Сегодня у нас был хороший улов, и мы отправляемся прямо туда…
— Да, мой друг, прямо туда. Я хочу попасть к жрецу Гебу, который, наверняка,
наградит вас. Вы видели мою лошадь?
— Лошадь? — недоверчиво спросил один из мужчин.
— Здесь нет лошадей…
— Хорошо, — сказал Меру торопливо, — я поеду с вами.
Или кто-либо украл лошадь, или же она убежала в дальние луга плодородного Фаюма. Рыбаки помогли раненому встать и повели его к лодке. Он едва мог ступать на поврежденную ногу. Боль резанула его с удвоенной силой, и Меру должен был собрать все силы, чтобы подавить громкий стон.
Большая сеть с бившейся в ней добычей заполняла почти все пространство лодки. Меру вынудил себя опуститься и лег спиной на мокрую сеть. Под собой он ощущал двигающиеся тела рыб. По его просьбе рыбаки протянули ему кувшин с водой, который Меру большими глотками опустошил до половины. «Было бы лучше, — подумал он, — если бы лошадь, увешанную оружием, никогда бы не связали со мной». Остаток золота и серебра Меру носил зашитым в поясе вокруг голого тела, а об остальном он больше не заботился. Ниу и без того присвоят большую часть сокровищ банды и заверят, что большего они не нашли.
Некоторые из маленьких рыбок прорвались сквозь щели сети и скользнули Меру по лицу и по рукам, когда он их стряхнул, появились другие. Это вызвало такой смех у обоих рыбаков, что они едва смогли остановиться.
— Рыбы любят тебя, господин, это знак, что Себек расположен к тебе.
Горящее лихорадкой лицо Меру исказила ухмылка.
— Надеюсь, мои друзья. Да будет Себек милостив ко всем нам.
Оба рыбака гребли сильными движениями по спокойному озеру, которое было таким большим, что лежавшая напротив деревня исчезла вдали.
Лихорадка схватила Меру своими горячими клешнями, и он начал нести околесицу. Он говорил о молодом соколе Гора, которого он хочет подстрелить своей стрелой, несколько раз призывал Себека, а потом внезапно сказал:
— Я — Себек собственной персоной. Если хотите, можете мне молиться.
Рыбакам уже было не смешно. Они также обнаружили горящую огнем воспаленную рану, из которой торчала обрезанная стрела. Они гребли так быстро, как только могли, и наконец стал виден южный берег.
Едва лодка пристала к берегу, младший из двух рыбаков выпрыгнул из нее и побежал к храму. Гебу сразу же узнал нового помощника жреца и приказал тотчас отнести Меру в пустую приготовленную для него квартиру жреца.
Когда они остались одни, жрец спросил:
— Что случилось, мой друг? Ты можешь говорить?
Меру устало кивнул:
— На меня напали разбойники… — с трудом вымолвил он, — я смог уйти от них, но стрела…
Он указал на раненую ногу. Гебу отодвинул передник и внимательно осмотрел рану.
— Тут может помочь только лекарь. Я сейчас же позову одного.
Меру удержал его.
— Остановись, возьми сначала вот это.
Он указал на пояс с набитыми кожаными мешочками.
— Положи это к другим в сокровищницу.
— Себек сохранит твое имущество, — ответил старый жрец и успокаивающе прикрыл свои морщинистые веки. При этом он еще больше стал походить на старого крокодила.
Меру глубоко вздохнул. Теперь он в безопасности. Здесь до него никто не доберется. Скоро он найдет нового искусного бальзамировщика, который заново укрепит ему нос и уши.
Меру впал в беспокойный сон, из которого его пробудил подошедший врач. Еще молодой, хорошо одетый мужчина проговорил спокойно:
— Я, конечно же, должен резать. Если бы стрела осталась в ране еще один день, ты бы отправился к Озирису.
Он открыл свой изящный ящичек с инструментами из полированного украшенного символами Сехмет черного дерева. На чистой льняной салфетке он разложил свои ножи и пинцеты, ложки и зонды.
— Все позолоченное, — заметил он гордо. — Рана, которую лечат золотом, уже наполовину зажила, вот увидишь.
Он кивнул Гебу, который хлопнул в ладоши. Подошли четыре помощника, двое ухватили Меру за плечи, один сел ему на ноги. Врач взял узкий острый нож, который выглядел как перо Маат, и быстро, ловко сделал разрез вокруг лезвия стрелы. Из воспаленной плоти тут же потек гной, который врач вытер платком, смоченным в вине из лечебных трав. Он осторожно потянул стрелу, но острие все еще сидело очень крепко. Тогда более длинным ножом, тонким, как лист папируса, врач еще глубже врезался в рану, пока, наконец, не нащупал острие стрелы.
Меру издал слабый крик и хотел подняться, но помощники держали его крепко.
Экономными быстрыми движениями врач иссек острие стрелы и медленно извлек его. Поток крови и вонючего гноя устремился вслед за наконечником, однако врач привык к подобным запахам, а остальные привыкли к вони крокодилов, поэтому никому это особенно не мешало.
— Он выдержал, — произнес лекарь, но Меру этого ничего не слышал. Во время операции он потерял сознание от боли.
13
Несколько лет спустя после битвы при Кадеше царь Рамзес послал двух своих самых способных военачальников в Амурру, и они снова захватили почти всю область. Грандиозная строительная деятельность требовала привлечения всех сил, и фараону нужна была дань, которую северные страны давно не платили. Попытка хеттов снова завоевать эту провинцию захлебнулась, потому что царь Муталлу умер и возник ожесточенный спор о его преемнике. Законным наследником престола был Урхи-Тешуп, однако этого слабого царя отправил в изгнание его дядя Хаттусили. Узурпатор, однако, был умен. Он успокоил народ свидетельствами, что якобы сама богиня Солнца повелела ему занять трон, и тем, что его стремлением является заключить мир с египетским царем. Рамзес, великую «победу» которого при Кадеше скульпторы, взятые им в поход, увековечили на многих храмовых стенах, не хотел омрачать ее недостойными маленькими войнами и поэтому сразу согласился. Он не стремился больше к военной славе, он стремился к более великому. Рамзес, повелитель Обеих Стран, хотел создать вечное, поэтому строил в Нубии гигантские храмы в честь себя и Нефертари с огромными царскими статуями, которые затмевали ранее созданное в Кеми.
Страна стонала от безжалостной хватки Благого Бога. Крестьяне должны были работать еще более напряженно, чем раньше, потому из каждой семьи забирали братьев и сыновей, которые были нужны фараону. А между тем приходилось платить непомерно раздутые налоги. Побои сыпались на униженно склоненные крестьянские спины, и таким образом дополнительные шеффели зерна поставлялись во владения короны, тогда как должны были бы питать земледельцев. Дошло до того, что начали протестовать даже богатые землевладельцы.
Некоторые хозяева поместий лишились половины доходов, потому что у них забирали полевых рабов или же внезапно требовали от них двойной налог зерном, вином, фруктами, маслом, медом и льном. Если же землевладелец отговаривался плохим урожаем или болезнями рабов, тут же появлялась целая свора чиновников. Они записывали, сравнивали, мерили, считали и в конце концов устанавливали, что потери совсем не так велики, как утверждалось, а тот, кто ослушался приказа фараона, приравнивался к предателям. Таким образом, богатый и скупой владелец поместья внезапно оказывался приговоренным к каторжным работам и, если после месяцев или лет каторги, стройным, подтянутым и загорелым возвращался в свое поместье, то становился покорным, как овечка. Тот же, кто слушался без малейшей жалобы, награждался звучными титулами. Теперь появились тысячи Друзей фараона, Действительных Друзей фараона и Единственных Друзей фараона. Ценой громадного напряжения сил всех жителей царства проекты Рамзеса быстро осуществлялись. Его храм Мертвых на западе Фив был почти закончен, в большом зале с колоннами храма Амона скульпторы выбивали молотками на колоннах и стенах свои последние картины и надписи. Много тысяч раз они должны были выбить именные картуши царя: Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес — Сильна Правда, Сильна Истина Ра, Он Избран Ра, Любим Амоном и Рожден от Ра. Над пилонами возвышались громадные монументальные статуи в пятнадцать, восемнадцать, двадцать и двадцать четыре локтя высотой, и всегда рядом с фигурой царя присутствовала Великая Царская Супруга Нефертари, которая достигала лишь до колена громадной статуи и нежно касалась ноги мужа.
С каждой из своих построек, с каждой из своих статуй Рамзес, казалось, вырастал. Благой Бог чувствовал себя теперь действительно богом. Он никогда до этого не болел, все ему удавалось, каждое его желание выполнялось. Число его детей в гареме росло от месяца к месяцу. Он гордился ими всеми, и на стенах храмов появлялись списки с их именами. Он встретил свой пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый год правления и превзошел уже время правления своего отца, деда и многих своих предшественников.
Во время месяца Ахет — это было самое жаркое время в стране Кеми — он почувствовал, что его производительная сила выросла чрезмерно. Как раньше со своими друзьями Меном и Парахотепом он стрелял наперегонки из лука, так теперь наперегонки с ними производил детей. Он выбирал восемь или десять своих наложниц и уединялся с ними на несколько дней в гареме. Его друзья должны были проделывать то же самое со своими женами или молодыми рабынями, а девять месяцев спустя результаты сравнивали. Победу всегда одерживал Рамзес, однако этому имелась веская причина. Опытная нянька царя выбирала наложниц с умыслом, и он бывал только с теми, у кого была наибольшая вероятность забеременеть в это время.
Нефертари, которая знала все, что касалось ее царственного супруга, смотрела на эти забавы снисходительно. Растущее число ее собственных детей доказывало, что ее фараон не обделяет вниманием и любовью. Некоторые умирали еще до того, как получали имя, и их забывали, будто они и не жили вовсе. После Мерит, Амани и Енама на свет появился принц Мерире. Все роды Великой Царской Супруги протекали без осложнений, но ее бывший спаситель ветеринар Интеф всегда присутствовал при них.
Изис-Неферт, второй царской супругой, также не пренебрегали. Время от времени Рамзес ощущал влечение к гордому телу бывшей жрицы Амона, которая встречала его всегда торжественно и с почестями. Рамзес старался по мере сил пробудить сладострастие у этой надменной гордячки, но Изис-Неферт даже если она и ощущала подобные желания, не считала уместным выказывать их. Она родила своего третьего сына Меренпту, но ее честолюбие все еще не было удовлетворено. Снова и снова Незамун, ее доверенный, должен был выслушивать жалобы царицы:
— Я была и остаюсь теперь только наложницей, которая служит удовлетворению его похоти, как и другие женщины гарема. Мой ранг второй супруги — только пустой титул, царь ценит меня не выше последней рабыни. Я вижу, как наш любимый Амон в Фивах хмурится, и слышу слова недовольства из его уст. Но что мне делать? Скажи, что мне делать, Незамун?
Толстый осанистый жрец-чтец пожимал плечами:
— Подожди, Богоподобная. Я знаю, что твое время придет, однако для этого требуется терпение. Поверь мне, высокочтимая, я не сижу без дела. Твое время придет, это так же верно, как ежегодные разливы Нила.
— Теперь он ей еще и храм строит! Вся страна ни о чем другом и не говорит. Живой женщине! Почему Амон не выскажет наконец свое решающее слово? Почему?!
— Боги действуют не моментально и не так, как мы надеемся. Храм может внезапно стать храмом Мертвых…
Как только Незамун точнее узнал о планах путешествия царя, он попытался снова завязать контакт с предводителем разбойников Себеком. После многих сложностей он встретился с одним из бывших связных банды в мрачной пристройке пивной, пользовавшейся дурной славой.
— Оттуда не поступает больше признаков жизни, и, если тебе дорога жизнь, ни до чего не докапывайся. Тот, о ком идет речь, исчез, укрытие разрушено, люди мертвы или же разбежались на все четыре стороны. Больше я тебе сказать ничего не могу.
Незамун был глубоко разочарован. После многих неудавшихся попыток он наконец отыскал путь, как устранить первенца Нефертари, а теперь все начинать сначала? В конце концов ведь он не может подойти и просто убить наследника престола. Несчастный случай? Но как его устроить? Можно попытаться подкупить одного из дворцовых врачей, но это было опасно и могло стоить головы. Да что там головы — если в царском дворце будет открыт заговор, его будут пытать целыми днями, чтобы узнать имена сообщников. Подобные случаи были известны. Незамун вздрогнул. В конце концов он хотел попасть не в пыточную камеру и не на эшафот, он рвался к высокой влиятельной должности, а путь к ней вел только через Царицу, если Изис-Неферт не будет вечно оставаться второй.
Незамун вздохнул. Его толстые щеки задрожали. Может быть, Амон смилуется и протянет руку помощи?
Он думал о том, что ответит царице в следующий раз, когда она начнет свою старую жалобную песню. У него уже возникало желание вернуться назад в Фивы и похоронить свои честолюбивые планы, но не тотчас. В конце концов он сам советовал царице запастись терпением, потерпеть надо и ему.
— Все для Амона! — подбодрил себя жрец-чтец и добавил: — И для моей высокочтимой царицы.
Пока Мерит посещала дедушку и бабушку, Сенеба и Хатнуфер, Пиай еще раз пошел к храму Рамзеса и долго рассматривал рельефы. Для любого другого это были картинки, которые ничем не отличались друг от друга, но опытный мастер ясно видел, где работал мастер, а где его помощники, замечал маленькие ошибки, подрисовки, исправления и, как и в первый раз, обратил внимание на особенно искусную руку, которая явно была знакома лишь с некоторыми важными деталями. Должно быть, это рука ученика или помощника. Раскраска рельефа светящимися красками была работой настоящего мастера. Изящный, красиво разделенный храм производил впечатление большой частной капеллы и был сооружен из различных сортов камня. Святилище из ценного алебастра впечатляло: стены из светлого известняка были украшены дорогими вставками красного и черного гранита, в то время как встроенные пилоны изготовлены из нежно-желтого песчаника.
У Пиайя пробудилось любопытство, и он захотел узнать, чья это рука. Он навел справки и тотчас с многочисленными знаками почтения — каждый здесь знал его ранг — был сопровожден в маленькую мастерскую, которая располагалась позади святилища Озириса. Мастер пошел ему навстречу.
— Ты осведомлялся о моем ученике, почтенный? Хотеп здесь.
Вперед вышел худенький мальчишка. Робко опустив глаза, он взволнованно чертил большим пальцем ноги по песку.
«Он охотнее всего сейчас убежал бы», — подумал Пиай и внимательно посмотрел на мальчика.
— Сколько тебе еще осталось учиться, Хотеп?
Мальчик в поисках помощи посмотрел на мастера. Тот сказал:
— Для своего возраста он может уже довольно много. Конечно, он должен еще набраться опыта. Если ты позволишь, господин, я хотел бы тебе кое-что показать.
Мастер повел Пиайя к храму Рамзеса и указал на две статуи царя в человеческий рост, которые охраняли первый пилон.
— Вот, посмотри на эту ногу. Камень был испорченным и под коленом разрушился. Хотеп за одну ночь без рисунка и без модели ноги и пятки заново создал фигуру. Мы приложили ее к скульптуре, и все сошлось! Точка в точку!
Пиай посмотрел на Хотепа. Тот все-таки решился открыть рот:
— У меня в конце концов есть глаза, и потом тут была еще вторая нога, и я внимательно на нее посмотрел.
— И вот так, по памяти…
Хотеп кивнул и снова стал ковырять пальцем в песке.
— Ты мне будешь нужен в храме на юге. То, что ты можешь, — дар богов. Этому не научишься. Ты поплывешь со мной на ладье вверх по Нилу. — Он повернулся к мастеру. — А ты поедешь со мной, почтенный?
— Нет. Мне приказано присматривать за парой каменотесов, которые еще остаются здесь.
Пиай кивнул:
— Всегда везде что-то надо делать. Я не хочу забрать вас всех из Абидоса. Послезавтра мы отплываем в Фивы, будь готов к этому времени, Хотеп.
Прием в старой столице был поистине королевским. Флаг Амона развевался на ветру, звуки фанфар пронзали воздух, барабаны трещали, пели хоры. Небунеф, верховный жрец, и правитель города Птамозе глубоко склонились перед принцессой Мерит, которая в Фивах выказала себя не особо высокомерной. Она знала, конечно, о напряженных отношениях между жрецами Амона и своим отцом, но во многом шла навстречу Фивам. В конце концов Благой Бог взял Изис-Неферт второй супругой, а ее сестра Тия жила здесь в замужестве за высоким храмовым чиновником. В честь Амона планировались и строились новые проекты, и все это превосходило самые смелые надежды жрецов.
Пиай любил этот город, потому что издавна здесь жили самые лучшие скульпторы, художники и каменотесы, семьи которых часто занимались этим делом в течение столетий. Ему нравились старые, постоянно достраивающиеся и перестраивающиеся храмы, нравилось их господствующее положение у южной излучины реки, он не имел бы ничего против, если бы фараон снова сделал этот город своей столицей. Но его мнения никто не спрашивал, он был всего лишь первым архитектором царя. Сейчас пути архитектора и принцессы разделились. Пиай инспектировал все строительные площадки по ту и эту сторону Нила и, хотя знал все важнейшие храмы и дворцы страны, с удивлением и почтением бродил по большому храму с колоннами. Леса были уже совсем низкими, и некоторые скульпторы стояли на земле, доделывая рельефные фигуры и надписи на самых нижних барабанах колонн. Чем больше Пиайя впечатляли девятнадцать рядов из ста тридцати четырех колонн в виде папируса, тем меньше нравились ему работы скульпторов. Наскоро и плохо обученные, они ваяли второпях до полного изнеможения. Когда фараон прибудет в Фивы, все уже должно быть закончено.
«Вероятно, ка Ирамуна никогда не бродит здесь, — подумал Пиай. — Видя эти грубые изображения, он бы в ужасе бросился бежать». Конечно, в северном начатом еще при Озирисе-Сети ряду колонн имелись искусные, старательно выполненные высокие рельефы, но остальное, девять десятых от всех работ, было за несколько лет сделано при Благом Боге Рамзесе.
У Пиайя возникало желание взять из рук молодого лихорадочно работавшего скульптора резец, чтобы показать ему, как прекрасно может выглядеть углубленный рельеф.
Тысячекратно повторялось поставленное в громадных картушах имя царя: Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес, Благой Бог и сын Солнца, повелитель Обеих Стран и строитель этого самого большого из всех храмов. Картуши повторялись на колоннах и стенах, они были повсюду. Они и рельефы были раскрашены светящимися красками, но солнце бросало на них лишь скупые лучи через узкие отверстия в потолке, поэтому многое оставалось в тени и плохо различалось.
Пиай подошел к восточной стене, где по приказу царя был выбит мирный договор между королем хеттов Хаттусили и Рамзесом. На почтительном расстоянии за ним следовали два храмовых чиновника, стараясь как можно меньше бросаться в глаза царскому посланнику. Никто прибывший из Мемфиса или Пер-Рамзеса не оставался в Фивах без наблюдения, тайного или явного. Пиай взобрался на возвышавшиеся на локоть над землей леса и прочитал:
— Что касается отношений великого властителя Кеми и великого повелителя хеттов, то бог не позволяет, чтобы между ними царила вражда. С помощью этого договора… навсегда…
Это было только начало текста, который Пиай с трудом расшифровал. Чтение ему давалось с трудом, к тому же он давно не упражнялся.
«Навсегда, — подумал он. — Что это значит? Ничего не бывает навсегда, ничего нет вечного, за исключением богов и ка человека, погребенного по всем правилам». Но по этому поводу у него появились сомнения. Разве он сам не видел на юго-западе от Мемфиса множество гробниц тысячелетней давности — все пустые, ограбленные, опустошенные? Что случилось с ка тех людей? Где отдыхает птица Ба, когда возвращается из своих полетов? Утешение жрецов звучало отвлеченно, боги, говорили они, конечно же, позаботятся о таких бесприютных душах, и кое-что указывает на то, что они находят приют в храме, расположенном поблизости.
Пиай отмахнулся от этих бесполезных мыслей и покинул храм. Он взобрался в носилки и велел отнести себя в порт. Наверху, на западной стороне, на расстоянии нескольких полетов стрелы от Нила, посреди пустыни, несколько лет назад возник храм Мертвых фараона Рамзеса. Но это был не один храм. Планировалось что здесь возникнет целый город с домами, амбарами, хлевами, сушильнями, мастерскими ремесленников и школой для художников, скульпторов и писцов. Эту школу фараон основал здесь, в центре страны, из нее должны будут выйти люди, которые нужны царю-строителю для его грандиозных проектов. Здесь Пиай временно устроил своего ученика Хотепа, которого сейчас позвал с собой:
— Пойдем посмотрим во дворе храма статую царя. До сих пор это была самая большая из его статуй. Я сам приложу к ней руку, а ты будешь присутствовать при этом.
Хотеп, который ни разу еще не заходил внутрь храма, обомлел. Фигура фараона, сделанная из цельного блока ценного розового гранита, восседала на троне и смотрела с высоты сорока локтей на подданных. Собственно говоря, он еще не мог смотреть, потому что голова и все прочее еще не были окончены, их окружали леса.
— Это… — заикаясь, пробормотал пораженный Хотеп.
Пиай довольно кивнул:
— Да, это уже кое-что. Богоподобный может быть доволен. Я знаю размеры наизусть: голова составляет от уха до уха почти четыре локтя, грудь от плеча до плеча — тринадцать с половиной локтей, указательный палец — почти два локтя, ноготь на среднем пальце — две с половиной пяди. Это чрезвычайно большие размеры для статуи, и Богоподобный, да будет он жив, здрав и могуч, не мог поверить, что ее способен создать один скульптор. Я дам тебе точные размеры, и ты завтра станешь обрабатывать пятки и ступни ног, у тебя уже имеется в этом опыт. Я же завтра начну с головы. Царь будет доволен.
Хотеп онемел и двигался как под тяжелым грузом, как будто на него давила сама мысль об этом необычном заказе.
— Я ведь еще так молод… Учусь только в течение четырех лет, — с трудом выдавил он.
Пиай остановился и положил руку на плечо худенького мальчика:
— Это верно, ты молод и в некоторых вещах еще неопытен. Но у тебя уже сегодня в мизинце больше умения, чем у некоторых из этих наскоро обученных рабочих наверху, в храме Амона. Они переносят все надписи с листа, но не способны ни к одной самостоятельной работе. Пта поможет тебе, и я тоже буду рядом.
Пиай переправился через Нил и попросил об аудиенции у принцессы Мерит. Когда он стоял напротив нее, ему показалось сном то, что он ее целовал, обнимал и гладил ее груди.
— Пиай, — заговорила она мягко, — я уж думала, что ты меня совсем забыл.
Движением руки она отослала своих служанок.
— Работа для его Богоподобного… — пробормотал он и тотчас снова подпал под влияние гордой и прекрасной девушки. — Я хотел сообщить, что завтра начинаю работу над колоссальной статуей царя. Материалом послужит прекрасный гранитный блок из Суенета в сорок локтей высотой…
Мерит посмотрела на него своими темными раскосыми глазами.
— Ты забыл про ночь в Абидосе у пруда с лотосами? Там один дерзкий мужчина осмелился коснуться моей груди, поцеловать меня, мужчина с серыми глазами… Вели его отыскать, Пиай, я должна призвать его к ответу. И пошли его сюда завтра вечером после захода солнца.
Пиай глубоко поклонился:
— Я его найду, принцесса, и отправлю его к тебе для наказания уже сегодня после захода солнца.
Как во сне, он вышел, забылось все, что занимало его в последние дни. Он хотел, собственно говоря, еще просмотреть доклады, которые прибыли с юга, потому что там уже несколько месяцев строили дома, прокладывали улицы и даже возвели небольшой дворец, в котором мог бы остановиться фараон, пожелай он посетить строительство. Он рассеянно пролистал планы, не замечая их, и отложил в сторону. Снова схватил, но видел перед собой только раскосые темные глаза, узкий, твердо очерченный нос, круглые щечки и урея надо лбом, запрещающего каждому болвану даже мечтать о приближении к царской персоне.
Наконец Пиай звонком вызвал писца и велел ему прочитать доклады вслух. Он вынудил себя быть внимательным и узнал, что дворец уже готов, улицы проложены и большинство домов построены. Уже начинают закладывать на хранение зерно, бобы, фасоль, сухие фрукты, мед, вино и пиво, а свежие овощи и фрукты будут поставляться из нубийских деревень. Начались работы по созданию Малого храма Хатор в скалах, а что касается Большого храма, то все ждут высочайшей воли.
Пиай откинулся назад. Царь приказал ему начинать Большой храм только после того, как будет учтен опыт строительства Малого храма.
Сначала он должен изготовить статуи в храме Мертвых, и, даже если он обработает только важнейшие части, оставив прочее ученику, ему потребуется для этого по меньшей мере месяц. Принцесса будет оставаться здесь, пока фараон не прибудет в Фивы, а потом они вместе отправятся на юг.
Пиай выглянул на улицу, где Ра добрался до горизонта и начал битву со змеем Апопом, который обвил его Ладью. Кровь поверженного змея окрасила вечернее небо в красный цвет, длинные тени поблекли, и наступили сумерки.
Пройдя через маленький двор дома для гостей, Пиай вошел в прохладную воду маленького бассейна и велел слуге натереть свое тело драгоценным маслом. После ванны его обрызгали с ног до головы ароматной водой. Он надел свежий передник и новые сандалии, выбрал простые украшения. Все они были подарками царя с его именными картушами.
Потом Пиай направился ко дворцу и велел доложить о себе принцессе Мерит.
— Мы ужинаем сегодня одни, — приветствовала она его. — Только ты и я. Ты расскажешь мне о своей работе, а я сообщу тебе об интригах жрецов Амона.
Стол был накрыт на воздухе, на высокой террасе маленького дворцового сада. Отсюда открывался вид на тамариски, пальмы и сикоморы, наполовину прикрывавшие пруд, на узкие посыпанные галькой дорожки, обрамленные кустарником и цветами. Где-то в саду неутомимо ворковали голуби, в кустах ссорились воробьи, и робкий удод издалека смотрел на стол людей. С испуганным криком он взлетел, когда к нему прыгнула ухоженная кошка с золотым ошейником.
Мерит хлопнула в ладоши:
— Он оказался все же быстрее, чем маленькая Баст! Как ни корми кошку, страсть к охоте у нее не отобьешь.
— Эта страсть роднит их с людьми. Охотнику тоже не нужно быть голодным, чтобы гнаться за животными.
— Я не терплю, когда отец с братьями отправляется на охоту, чтобы потом вернуться с целыми связками убитых перепелов и уток. Недостойно охотиться за более слабыми, если не живешь этим, как, например, рыбаки.
Пиай улыбнулся:
— Кошка тоже охотится за более слабыми животными…
— Она сама животное и слушается своих инстинктов, от которых не может отказаться, даже если мы ее приручили. У человека же есть сердце, которое руководит его разумом, и он знает, что делает. Если убивает воин, или мясник, или рыбак и охотник, потому что это их ремесло, это еще может считаться справедливым. Но мне претит бессмысленное убийство ради чистого удовольствия. Вот там, у пруда, ручной ибис, или влюбленные голубки с их неутомимым воркованием, или дерзкие воробьи с их бесконечным спором — зачем убивать эти создания без смысла, без пользы?
Она говорила со страстью, и Пиай видел, как нежно-розовая краска заливает ее лицо.
— Я едва думал об этом, — признался он, — работа для фараона оставляет мне мало времени даже на раздумья. Может быть, ты права, я не знаю. Если Благой Бог с сыновьями отправляется на охоту, они не только убивают, они упражняются в ловкости, как воины, двигаются на свежем воздухе и доставляют добычу в дворцовые кухни…
— Замолчи! — воскликнула Мерит. — Ты, кажется, меня не понимаешь.
Тем временем вышколенные слуги почти беззвучно принесли кушанья. Было много овощей в кислых и сладких соусах, поджаренная с латуком нильская рыба, к этому хлеб с кунжутом, дыни и тонко нарезанная редька. Затем последовали поджаренные на вертеле, фаршированные инжиром голуби, миска с грудками гусей и перепелов, а на десерт гранаты, свежий инжир, виноград и орехи в меду.
Мерит пила только воду, для Пиайя же стояли наготове вино и пиво. Однако сегодня он тоже пил только воду, чтобы Мерит не подумала, что он любитель возлияний.
Пока они наслаждались едой, Пиай заметил:
— Вот они теперь лежат, голуби и перепела, убийство которых так тебя печалит. Но они тоже порадовались в своей жизни.
Мерит погрозила ему пальцем.
— Не переиначивай мои слова. Этих птиц вырастили в клетках, их убил повар. За ними не гонялись с луком из чистого удовольствия.
Пиай в знак поражения поднял обе руки:
— Тут я не могу тебе противоречить.
После обеда он велел наполнить себе кубок вином и сказал:
— Я хотел бы еще раз остаться наедине с тобой, Мерит. Без того, чтобы слуги шныряли туда и сюда, без охраны у дверей, без всего этого, без вечно болтающего роя женщин, которые сопровождают тебя.
— Но мы здесь одни, мой друг. Болтливых гусынь я отослала, слуги не в счет, а стража стоит перед дворцом. Не гляди так мрачно. Если ты общаешься с принцессой, ты должен считаться с тысячей глаз, которые за тобой наблюдают, и тысячей ушей, которые к тебе прислушиваются.
— Тысяча глаз и ушей — слишком много…
Мерит рассмеялась и сказала слуге:
— Пусть войдет арфист!
Вошедший музыкант встал на колени и произнес церемониальное приветствие.
— Поднимись, старик, и спой нам что-нибудь веселое, — потребовала Мерит.
— Может быть, любовную песню… — предложил Пиай.
Мерит поморщилась, но все же произнесла:
— Почему нет? Ты знаешь красивую?
Арфист взял на инструменте вступительные аккорды и запел красивым, хорошо поставленным голосом:
Маленькая сикомора,
Которую она посадила своей рукой,
Умеет говорить,
И ее слова, словно сладкий мед.
Она очаровательна, ее листва прекрасна,
Зеленее, чем у папируса.
Она обильна, и ягоды ее
Краснее рубина.
Цвет ее листьев подобен стеклу,
Ее ствол сверкает, как опал,
Ее тень прохладна.
Она посылает свое письмо через маленькую девочку,
Она велит ей торопиться к любимому:
Приди и побудь в саду,
Приди и радостно встреть сегодняшний день,
И завтрашний день, и послезавтрашний,
Посиди в моей тени.
Твой друг сидит справа от тебя,
Он опьянен, а ты следуешь тому, что он говорит.
Я молчалива и не скажу, что я видела,
И ничего не выболтаю…
Мерит зааплодировала, а Пиай сказал:
— Нет, маленькая сикомора болтать не будет, за нее это сделают другие. Я хотел бы прогуляться. Ты уже видела старую дворцовую капеллу? Я недавно открыл ее, она построена еще во времена твоего дедушки, высокочтимого Озириса-Сети. Ее явно постеснялись тронуть при перестройке. В ней есть нечто особенное, ты должна сама это увидеть.
— Если ты так считаешь, Пиай. Я едва могу вспомнить деда… Ты его знал?
— Да, я видел его, когда он посетил храм в Абидосе. Твоя бабушка, достопочтенная Туя, никогда не рассказывала тебе о нем?
— Мы редко видимся, она живет в своем собственном мире.
Пиай повел Мерит вдоль дворца. Они прошли мимо домов для гостей, слуг и необитаемого ныне гарема.
— Дворец для наложниц был построен во времена Озириса-Хоремхеба, позднее. Я предложил твоему отцу снести этот дом и вместо него разбить красивый сад.
Пиай обернулся. На почтительном расстоянии от них следовали две служанки.
— Нам не нужно сопровождение, — сказала Мерит. — Отошли их.
— Исчезните! — крикнул Пиай. — Принцессе вы больше не нужны.
Как испуганные курицы, обе женщины кинулись прочь, но он был уверен, что они где-нибудь будут ждать возвращения Мерит.
Принцесса и архитектор вошли в старый гарем. Пиай шел впереди с маленьким факелом. Все было в пыли и запустении. Опрокинутая и разбитая мебель загораживала им путь, и свет как бы пробуждал ее к новой жизни. С потолка свисали летучие мыши, и какая-то крыса торопливо шмыгнула под груду рухляди. Они пересекли сад, который уже давно не поливали, и его засохшие растения представляли собой печальное зрелище. Только одна выносливая пальма пережила плохие времена, и ее скудная листва тихо шелестела в прохладном вечернем воздухе.
Садовая дверь вела к маленькой квадратной площадке, окруженной акациями. Здесь стоял маленький храм — незаметное строение из светлого известняка. Обитая бронзой дверь была закрыта и поддалась с большим трудом.
Пиай пошел вперед и знаком попросил Мерит подождать. Внутри он зажег две масляные лампы, которые наполнил несколько дней назад. Потом взял принцессу за руку и ввел ее в душное, непроветренное помещение.
Подавив крик ужаса, Мерит внезапно остановилась и прижалась к Пиайю. Вот он — ужасный бог Сет, повелитель пустынь и чужих стран, убийца своего брата Озириса, бог металлов, чье дыхание выманивает из земли червей, владыка коварства, бог грома, бурь и моря, но также и старый бог южной Кеми, который вместе с Гором собрал и объединил Обе Страны — Пчел и Тростника, Змеи и Ястреба.
Сет стоял на алтаре из черного гранита — бронзовая позолоченная статуя в человеческий рост величиной. Его звериная голова с острой мордочкой и длинными угловатыми напряженными ушами выглядела коварной и отталкивающей, маленькие красные глаза глядели подозрительно, а красно-бурый парик должен был вызвать отвращение у любого египтянина, потому что красное считалось цветом зла. Звери, которых больше всего боялись в Кеми — гиппопотам и крокодил, — сопровождали бога, и каждому из них он положил руку на голову.
Тем не менее Озирис-Сети называл себя любимцем Пта и Сета и взял имя этого ужасного бога в качестве своего тронного имени.
— Я знаю этого бога, — прошептала Мерит, — но в храме Пер-Рамзеса он выглядит более приветливо. Пойдем отсюда.
Пиай обнял ее и сказал:
— Он, собственно говоря, и мой бог, потому что отец мой из чужих стран, которые подчинены Сету. Мое чужеземное имя, мои серые глаза… Я должен был бы сделать Сета своим домашним богом…
Шорох прервал их. Полуоткрытая дверь святилища со звоном закрылась, засов был задвинут. Пиай надавил на тяжелую, обитую металлом деревянную дверь, но она не поддалась.
— Кто это мог быть? — спросила Мерит. В голосе ее звучало любопытство, но страха не было.
— Кто-то, должно быть, последовал за нами. Он, наверное, услышал наши голоса. Итак, это преднамеренно, если…
— Другой выход есть?
— Нет, я полагаю, что нет.
Пиай взял все еще горевший факел из подставки и пошел за алтарь. Бог Сет, казалось, издевательски наблюдал за ним. Направо и налево от алтаря находились маленькие помещения без окон, где раньше хранились благовония, жертвоприношения и культовая посуда. Комнаты были пусты, за исключением нескольких осколков глиняной посуды и низкой кровати.
— Что нам теперь делать? — спросила Мерит, когда Пиай вернулся.
Он пожал плечами:
— Окна слишком узкие, через них и ребенок не пролез бы. Есть еще отверстие для воздуха. Мы можем подождать рассвета, а потом звать на помощь. Лежанка храмового стражника здесь еще стоит.
— Хотела бы я добраться до негодяя, который нам это устроил.
Она подошла к нему и коснулась его рукой:
— Это не так плохо или?..
Когда Мерит встала перед ним, все заботы отлетели от Пиайя, и он ощутил, как волшебный поток желания устремляется из этой узкой руки в его тело. Он давно не спал с женщиной, кровь в нем заиграла.
Он бурно обнял и поцеловал ее, и Мерит ответила на поцелуй, прижалась к нему и тихонько хихикнула:
— Что подумает Сет?
— Это только металл, — сказал Пиай. — Раскрашенная фигура из бронзы не думает.
Он высоко поднял принцессу, отнес ее в маленькое помещение сбоку от алтаря и положил на постель.
— Теперь мы мужчина и женщина…
Пиай крепко ее поцеловал.
— Да, принцесса и архитектор остались снаружи.
— А что делают мужчина и женщина в таком положении? — спросила Мерит, когда смогла отдышаться.
Пиай снял с нее платье и отложил в сторону свой передник. Мерит сняла венец с уреем и парик и засунула их под кровать.
— Они делают то, что всегда. — Он поцеловал ее грудь и погладил живот.
— Я хочу тебя видеть, — потребовала Мерит.
Пиай на ощупь достал одну из масляных ламп, зажег и поставил в углу.
Мерит оглядела обнаженного мужчину:
— Ты прекраснее, чем бог за этой комнатой, и почти такой же высокий, как мой отец.
Пиай склонился над ней и покрыл прекрасное девичье тело поцелуями. Он нежно прикусил ее соски, долго медлил у гладкого живота. Тело Мерит извивалось, подобно змею Апопу. Она прижала к себе его голову, ища губы любимого, и Пиай почувствовал, что она готова. Осторожно и нежно он проник в нее, и она подалась ему навстречу, прижалась и, даже не заметив, потеряла девственность. Она была очарована этим мужчиной, которого всегда хотела, хотела даже в снах, и который наконец лежал с ней, как мужчина с женщиной.
Ненасытно и неутомимо они повторяли прекрасную игру, в то время как старая дряхлая лежанка качалась под ними, и стонала, и ахала, но все же выдержала.
К утру Пиай впал в беспокойный сон. Голова Мерит лежала на его груди, она задремала до него…
Принцесса проснулась первой, захотела аккуратно высвободить ногу и… разбудила Пиайя.
Факел и масляные лампы давно отгорели, и сквозь открытую дверь из помещения храма проникал скудный рассвет.
Любовники огляделись.
— Если я позову на помощь и дверь откроют, должны мы вместе…
— Нет, — сказала Мерит. — Нет. Это было бы опасным для нас. Давай, любимый, используем время, которое у нас еще есть. Ты сделал меня женщиной, а женщине нужен мужчина, ее мужчина.
Они еще раз любили друг друга, ласково и нежно, без торопливости и необузданности, и теперь старая лежанка, выдержавшая такую бурную ночь, сдалась. Прозвучал как будто вздох — она сломалась, и оба любовника оказались сидящими на полу. Они огляделись и начали одновременно смеяться, громко и беззаботно, как дети, которым удалась шалость.
Потом Пиай забеспокоился, подошел к двери, налег на нее — и она поддалась. Он приоткрыл дверь и выглянул наружу. Птицы уже пели раннюю утреннюю песню, но Ра еще не появился из-за горизонта. Пиай медленно закрыл дверь и обратился к Мерит, которая как раз появилась в помещении храма.
— Теперь дверь снова открыта. Это не была случайность или ошибка, нас заперли намеренно. Но кто это мог быть, и что стоит за этим?
— Я рада, что так случилось. Если бы нас не заперли, не было бы этой ночи…
— Это верно, — Пиай нежно посмотрел на нее. — Но это все же странно.
Мерит потянулась и зевнула:
— Я сейчас приму ванну, а затем нагоню то, что недоспала.
— Ты прекрасна, моя любимая. Я же должен после такой ночи забраться на леса и работать над лицом твоего отца, да будет он жив, здрав и могуч. А у меня закрываются глаза.
— Отложи работу на день, я разрешаю тебе это от имени фараона.
— Ага, кажется, мы опять на своих старых ролях. Ты снова принцесса, а я архитектор царя.
— Конечно! Так и должно быть, — ответила Мерит несколько высокомерно. — Или ты хочешь изменить положение вещей в мире? Должны ли мы отправиться в тростниковую хижину и остаться навсегда мужем и женой? Что было бы с тобой без твоей работы и что было бы со мной без дворца и слуг? Оставим все как есть.
Она стояла до боли прекрасная, с чуть расплывшейся краской у глаз, высокая, красивая, царственная, и Пиай не мог поверить, что обладал этой гордой девушкой.
Мерит поправила парик, венец с уреем, пригладила платье и сказала:
— Сначала выйду я. Открой дверь и посмотри, все ли спокойно.
Пиай с трудом открыл дверь. Маленькая площадка была пустой, только тихий утренний ветер веял в кронах старых акаций. Мерит бегло поцеловала его в щеку и вышла, с высоко поднятой головой, гордая и беззаботная дочь Солнца, которая возвращалась в предназначенный для нее круг жизни.
Прежде чем закрыть дверь маленького храма, Пиай бросил взгляд на бога Сета. Яркий дневной свет отнял у культовой фигуры ее демоническое очарование. Звериная голова с длинной узкой мордочкой приняла глупое, бестолковое выражение, а гиппопотам и крокодил по обе стороны от идола выглядели теперь жалкими, потому что были слишком маленькими и не слишком искусно сделанными.
Пиай старательно запер дверь и отправился назад. Он чувствовал приятное опустошение после удивительной любовной игры, и сейчас, когда Мерит снова вернулась в свои сферы, его опять одолело ощущение невероятности, как будто милостивая Баст подарила ему во сне любовную ночь с принцессой. А вместе с тем в душе Пиайя родился ужас от сознания содеянного: он смертельно оскорбил Благого Бога, он совершил один из самых страшных грехов. Священная кровь отпрысков Амона-Ра осквернена его прикосновением, его семенем. Чрезвычайно редкие случаи подобных преступлений наказывались двойной смертью: уничтожением тела на эшафоте. В этом случае ка становилось бесприютным, и терялась всякая надежда на прекрасную жизнь в другом мире. Пиайя бросило в жар и холод одновременно, когда он подумал об этом, но тут же явилось противодействие страху: он мысленно представил гордую прекрасную Мерит, и грех показался ему небольшим, а опасность — незначительной.
14
Рана от стрелы у Меру заживала долго, но эта цена казалась ему ничтожной по сравнению с безопасностью, которой он наслаждался здесь, в храме Себека.
Гебу, старый, так похожий на свое божество жрец, предоставил ему одно из пустующих жилищ и при этом пожаловался:
— Обнищал наш храм. Раньше здесь жили в десять раз больше людей. Четыре главных жреца, каждый с пятью или шестью помощниками, многочисленные храмовые рабы… Да, Себек был прежде великим.
Когда Меру, больной, в лихорадке и мучимый болями, лежал в постели, произошло то, чего он всегда боялся. На его счастье, в этот момент вошел не помощник, а сам Гебу, чтобы осведомиться о его здоровье. Гебу странно посмотрел на больного, кашлянул, а затем смущенно обнажил свои желтые крокодильи зубы:
— Э-э-э, Меру, я полагаю… ну, ты потерял кое-что.
Меру тотчас понял, что имеет в виду жрец. Руки бывшего каторжника вскинулись к ушам — левое оторвалось и лежало разбитое около наголовника.
— Ну, это… — начал было объяснять Меру, но Гебу поднял руку:
— Ты не должен ничего говорить, если тебе это
неприятно. Здесь ты в безопасности, что бы ни случилось однажды вне этих стен.
— Нет, Гебу, именно твое доверие вынуждает меня объясниться. Будучи совсем молодым, я попал в дурное общество, преступил закон, меня несколько раз арестовывали и наказывали. Так я отправился на чужбину и вернулся только тогда, когда был в состоянии получить отцовское наследство. Чтобы вести достойную жизнь, я сначала поехал на юг и велел изготовить себе искусственные нос и уши. Но я не нашел своего места в жизни, и теперь я здесь, а мое наследство лежит в сокровищнице Себека.
— Ничего не бойся, — успокоил его Гебу. — Есть один бальзамировщик, который мне очень обязан. Он поможет тебе и будет молчать.
Так для бывшего разбойника и убийцы все обращалось во благо, только внутреннего покоя он найти не мог. Спустя некоторое время монотонные службы в храме Меру наскучили. Ему стало недоставать того, что делало его прежнюю жизнь такой пестрой и переменчивой: борьба, волнения, напряжения, опасности, общение с женщинами от случая к случаю. В женщинах у разбойников никогда недостатка не было. В нынешнем жилище Меру не разрешалось принимать женщин, потому что на храмовой земле необходимо было соблюдать целомудрие. В городе он избегал появляться, потому что испытывал какой-то неопределенный страх перед обществом.
Чтобы не помешать этой мирной, посвященной богу Себеку жизни, Меру нашел другой способ реализации своего неудержимого желания насиловать и убивать. Он стал охотником храма и снабжал жреца Гебу и его помощников постоянно свежим мясом гусей, уток, перепелок, зайцев и других животных, которые водились на храмовых землях. Он охотился исключительно с луком, потому что хотел быть в хорошей форме ко дню мести.
В оазисе Фаюм не разрешалось убивать ни одного крокодила, и дичь, которую Меру приносил храму, нужно было приготовить и съесть вне его стен.
Меру не требовалось совершать храмовые службы, за исключением праздников Себека, когда требовалась каждая рука. Тогда паломники устремлялись сюда, курили благовония, жертвовали голубей, зерно, вино, мед и благовония, иногда украшения и немного золота.
Себек почитался здесь в разных образах, особая честь полагалась святому, украшенному драгоценностями крокодилу, тело которого после смерти старательно бальзамировалось, и ему устраивали роскошные похороны. Кроме того, в святилище хранилась золотая культовая фигура мужчины в натуральную величину с головой крокодила. Голову эту украшала высокая корона из перьев с двумя уреями. Народ же радостно расхватывал маленьких бронзовых крокодильчиков, которые продавались в храме, и которых можно было поставить дома в качестве популярного амулета плодородия. Один из титулов Себека был таким: Тот, Который делает беременной и плодородной. Золотую культовую фигуру по особо торжественным дням выносили из святилища четверо помощников, Меру в большинстве случаев был среди них, и хор певиц исполнял старый гимн Себеку.
Приветствуем тебя, о, появившийся из Древней Воды,
Господин глубины, повелитель границы пустыни,
Ты, проплывающий по лагунам.
Могучий бог, нападающий исподтишка,
Живущий разбоем.
Подобие Ра, великий светильник,
Появляющийся из потока.
Повелитель рек, князь ветров,
Живущий в супружестве Бык, господин любви,
Господин еды, которой одариваешь себя сам,
Коварный, любящий разбой.
Поднимись, сражайся за свое тело…
Как ты прекрасен, Себек из Шедита,
Прими почитания
Твоих жен-богинь.
Ни одна из них не может оторвать от тебя своего тела,
Они кружатся вокруг тебя, как молящиеся,
Они прижимаются к тебе, как служанки,
Они кричат тебе: наш Гор приходит.
Наш бог приходит!
Господин плодородия,
Самый ужасный,
Никто не может обороняться от тебя.
Храм, конечно, не был достаточно состоятелен для того, чтобы содержать этих певиц в течение года. Это были жены и дочери ремесленников и рыбаков из Шедита, которым за пару шеффелей зерна в год охотно предоставляли заниматься таким почетным делом.
Среди них были некоторые, прямо скажем, очаровательные женщины и девушки, и Меру не однажды чувствовал, как напрягается его фаллос, когда он с ладьей Себека проходил мимо этого хора. Необузданная страсть к насилию овладела им, однако он сцепил зубы и подумал о позорной смерти на эшафоте. Его возбуждение прошло, но чувства его смутились. Бродя с луком по храмовым угольям, он наконец нашел молодую вдову рыбака, которая за связку перепелок или пару жирных гусей охотно пускала его к себе в постель. У нее была бы возможность снова выйти замуж, но она сдавала в аренду обе полученные ею в наследство рыбацкие лодки и предпочитала оставаться свободной и независимой. Ей едва ли нравилось то, что Меру был помощником жреца в храме Себека, больше она ценила его грубоватые длительные ласки. Она охотно бы отдалась ему и без подарков, но полагала более разумным и дальше настаивать на подношениях. Иногда она его боялась. Он был странным, этот служитель Себека: никогда не позволял целовать себя или касаться своей головы, брал ее исключительно сзади, при этом сжимал ее груди так сильно, что она тихо вскрикивала. Он объяснял это своей жреческой должностью. Его бритая голова, говорил он, принадлежит богу, и ни одной женщине не позволено ее касаться.
Меру снова раздобыл осла, потому что подрезанное когда-то сухожилие на ноге давало о себе знать. Иногда он добирался до северного берега и никогда не забывал разыскать место, где на него чуть было не напали крокодилы. Это все еще было их любимое место, и Меру, находившийся в отдалении, несколько раз поддавался искушению представить, как он плывет в мутной воде и кровожадные звери нападают на него. Он чувствовал, как их острые, будто кинжалы, зубы впиваются в его плоть, как они рвут мясо с его костей. Потом он быстро забирался на своего осла и, сильно ударив его пятками, ехал прочь от этого ужасного места.
В это время прошел слух, что фараон хочет последние месяцы Шему провести на охоте в Фаюме. Гебу полагал:
— Ну, наш храм его величество, да будет он жив, здрав и могуч, все равно не посетит. Если, однако, подумать, что Сет принадлежит к его любимым богам, можно надеяться, что Благой Бог однажды окажет нам здесь честь своим посещением. Ведь Сет и Себек, по сути, родственники, хотя некоторые этого не знают.
Но Меру постарался не придавать особого значения этой новости. Если царь Рамзес действительно появится здесь и отправится охотиться на птиц в зарослях папируса, обо всем остальном еще будет время подумать. Как будто по принуждению Меру начал наряду с охотой стрелять в цель, которую отодвигал все дальше и дальше. Число попаданий увеличивалось, однако он никогда не был доволен. Он должен стрелять лучше, чем любой лучник в царской свите.
Леса окружали колоссальную статую сидящего на троне фараона, как защитный плащ. Они были устроены так, что Пиай мог работать на любой высоте, начиная от колен и кончая двойной короной. Сначала он занялся головой, потому что здесь не должна была работать никакая другая рука — таково было желание Благого Бога. Мастер изготовил модель из твердого гипса в половину человеческого роста, а к ней еще голову, увеличенную вдвое. Она стояла перед ним на деревянном цоколе, пристроенном к лесам. Под рукой мастера на куске чистой кожи были разложены его инструменты: острый резец, широкий резец, резцы с прямыми, полукруглыми и круглыми зубцами, буры различной величины и молотки. Резцы Пиайя были изготовлены из драгоценного и очень прочного металла — железа, которое весьма редко и в небольших количествах поставлялось из северных стран. Железный инструмент реже приходилось точить, и служил он значительно дольше, чем бронзовый. Железо в стране Кеми ценилось в шесть раз дороже золота, и инструменты Пиайя были личным подарком фараона.
Он работал здесь, наверху, уже одиннадцатый день. Каменная пыль припудрила его почти нагое тело серо-белым крошевом. В полдень жара значительно усилилась, и это был знак приближающегося хамазина — внушающей страх раскаленной бури из пустыни, которая бывала обычным явлением во втором месяце Шему и продолжалась несколько часов, а порой и несколько дней. Тогда возвышавшиеся на западе горы у границ пустыни скрывались за желтой стеной песка, и иногда нельзя было видеть ничего на расстоянии десяти локтей.
От напряженной работы и возрастающей жары по жилистому телу Пиайя струились потоки пота, которые, стекая по коже, покрытой каменной пылью, оставляли полосы на ней.
Хотеп, юный робкий помощник Пиайя, старался изо всех сил. Он работал уже над второй ногой, и было похоже, что мальчуган — скульптор милостью богов. Он бросал лишь один взгляд на модель или на рисунок и переносил это все на деталь гигантских размеров без единой ошибки, как будто сам Пта водил его рукой. Конечно, это возбуждало зависть других ремесленников, которые косо посматривали на новенького, а некоторые даже полагали, что он оплачивает Пиайю свое удобное местечко в постели. То, что Хотеп просто мог больше, чем они, мастера признавать не хотели.
Пиай работал самым тонким резцом над ртом громадной головы. По опыту он знал, что это одна из самых трудноисполнимых и важнейших деталей человеческого лица. Если чуть-чуть изменишь положение уголков рта, изменится общее выражение.
Благой Бог однажды точно объяснил ему, каким он хочет выглядеть:
— Я хочу быть изображенным не таким мрачным и серьезным, как мои предшественники на троне Гора, покоящиеся в Озирисе цари Хакауре и Немаре. Я считаю, что они выглядят слишком уж по-человечески. Нет, Пиай, мой образ должен словно источать лучи, как Ра, и в нем должны быть выражены четыре качества: строгость, доброта, величие и очарование.
Пиай никогда ни на минуту не забывал эти слова, но как можно сочетать в одном лице несочетаемое: строгость и доброту? Он отложил в сторону резцы и молоток и вытер грязным льняным платком лицо, отчего каменная пыль и пот оставили на нем разводы.
«Благой Бог не имеет меры во всех областях, — подумал Пиай. — и в строительстве, и в количестве детей, и в своих притязаниях. Но все во власти Солнца, и мне предстоит осуществлять его желания. — Пиай принял решение: — Что касается рта, он будет выражать царское благоволение, а все остальное я изображу строгим и величественным. — Тут в его голове молнией пронеслась мысль: — Это лицо потеряет все благоволение, если царь узнает, что я был возлюбленным его дочери. Тогда другому придется оканчивать эту фигуру и строить храм Нефертари. Фараон сотрет меня с лица земли, огненное дыхание урея превратит меня в пепел».
Пиай вздрогнул, как будто хотел отмахнуться от этих мыслей. Он снова взял резец и молоток и сделал оба уголка рта такими, как будто фараон начинает улыбаться. Он не улыбался, он только собирался улыбнуться. Пиай работал с такой концентрацией, что не заметил поднявшегося по лестнице Хотепа. Тот остановился позади мастера и смотрел на него, как зачарованный, на эти точные и в то же время сильные удары. Нельзя ошибиться в ни в одном сколе.
Когда Пиай отступил на шаг, чтобы посмотреть на сделанное, Хотеп чуть было не свалился с лесов. Он отскочил в сторону, извинился и сообщил, что принцесса Мерит ждет внизу, в носилках, и желает поговорить с мастером.
— Хорошо, хорошо, я иду.
Хотеп быстро спустился вниз. Пиай схватился за льняной платок и без особого успеха попытался вытереть перепачканное пылью лицо.
Когда первый архитектор царя подошел к носилкам принцессы, его тело было обнаженным, не считая узкого льняного передника, стройная жилистая фигура покрыта смесью пота и каменной пыли, а лицо перемазано, как у маленького мальчишки, игравшего в иле.
Мерит несколько растерянно посмотрела на своего возлюбленного, затем все же улыбнулась:
— Неужели это почтенный Пиай, первый архитектор царя? Нет-нет, меня, наверное, не так поняли. Это, должно быть, какой-нибудь раб, ходивший за плугом по колено в иле?
Пиай глубоко поклонился.
— Хотя результаты тяжелого труда могут оскорбить твой взор, высокочтимая принцесса, это все же Пиай, твой покорный слуга.
— Отдохни немного, Пиай. Я пригласила нескольких гостей на мою ладью к обеду, мы немного проплывем вдоль Нила. Я ожидаю тебя через два часа.
Пиай обрадовался этому перерыву. Горячий ветер не предвещал ничего хорошего, а если начнется песчаная буря, он так или иначе не сможет работать. Мастер искупался, велел обрызгать себя ароматной водой и отнести к Нилу.
Постепенно солнце становилось бледным, а ветер усиливался. Пиай озабоченно посмотрел на небо. Хамазин нес с собой песок из пустыни и мог превратить день в ночь.
На царской ладье его встретила доверенная служанка, а в прошлом нянька Мерит и провела его в помещение под палубой. Мерит сама дала ей имя Бикет, что означало Соколиха, потому что отважная женщина при любой возможности защищала своего «ребенка», как разгневанная птица птенцов. Когда Мерит говорила, что не хочет, чтобы ей мешали, Бикет прогоняла даже вельмож и военачальников от дверей госпожи.
Мерит приняла Пиайя в своей личной каюте, роскошно обставленной позолоченной мебелью.
— Добро пожаловать, мой друг. Я должна была отказаться от приема гостей, потому что было бы неприличным выгонять людей из домов во время ужасного хамазина. Итак, ты мой единственный гость.
На Мерит было полупрозрачное платье из тончайшего льна, на голове — короткий простой парик, драгоценностей на ней почти не было. Никогда еще она не казалась Пиайю такой прекрасной.
— Я надеялся быть твоим единственным гостем. Баст, должно быть, услышала мою молитву, и мы должны принести ей жертву.
Мерит чуть улыбнулась и спросила простодушно:
— А какую жертву приносят богине с головой кошки? Ее в Мемфисе едва замечают. Я совсем не знаю ее.
Пиай поддержал игру:
— Богине жертвуют фрукты, мед, молоко, маленьких птичек.
— Птичек? Ты не путаешь богиню радости с внушающей ужас Сехмет? Я не хотела бы приносить в жертву ничего живого.
— Этого и не нужно. Я перечислил только обычные жертвы. Во время своего ежегодного праздника, продолжающегося десять дней, Баст требует нечто другое, я знаю это. Я несколько лет назад принимал участие в празднестве.
— Ну и какова любимая жертва Баст? Золото? Вино?
Пиай покачал головой:
— Это тоже. Но охотнее богиня принимает жертву танцами, пением, музыкой и любовными утехами. Мужчины и женщины встречаются парами повсюду. На берегу Нила, в домах и садах, перед ее храмом, на ладьях…
Раскрыв глаза от удивления, Мерит переспросила:
— Действительно? И супружеская неверность не наказывается?
— Нет, принцесса, такого понятия в течение десяти праздничных дней не существует. Божество имеет свои преимущества.
— Пиай, — тихо произнесла Мерит, — мне тебя так не хватало. Думал ли ты за своей работой обо мне? Значит ли для тебя каменная голова моего отца больше, чем живая принцесса Мерит?
— О да, но моя голова не из камня, любимая. Моя голова жива, и ее можно отрубить. Каждый час, когда мы находимся наедине, каждое мгновение, когда я касаюсь тебя, может значить для меня смерть. Я люблю тебя Мерит, и, как кажется, я люблю тебя больше, чем свою жизнь.
Она протянула свои тонкие руки:
— Здесь с тобой ничего не может случиться, Пиай, любимый.
Почти одновременно они сорвали с себя одежду, прижались друг к другу, обнялись и поцеловались. Они посмотрели друг на друга и слились, как медь и олово сливаются в бронзу, они слились в одну плоть, в одно тело.
Снаружи начал бушевать хамазин. Он гнал перед собой громадные желтые облака пыли, он затмил Ра и превратил светлый полдень в вечерние сумерки.
Королевская ладья начала подрагивать и рваться с якоря. Царский кормчий обеспокоился и захотел дать знак принцессе. Однако Бикет, сторожившая двери своей госпожи, упрямо покачала головой.
В каюте Мерит занавеси под горячим дыханием ветра отлетели, тонкий песок проник сквозь них и закутал любовников в желто-золотое покрывало, но они не слышали шума ветра, не ощущали песка, они были слишком заняты друг другом и своей жертвой Баст, которую приносили снова и снова, пока их тела не обессилели и они, измотанные, не оторвались друг от друга.
Хамазин длился два с половиной дня, и все это время Мерит и Пиай оставались на корабле. Кормчий не осмеливался ни на одно возражение. Он велел срубить парус и три раза швартовал судно.
Мерит и Пиай ели и пили, когда ощущали потребность в этом, поливали друг друга из кувшинов водой, чтобы охладить разгоряченные любовью и жаром хамазина горящие тела. Оба не надевали ни платья, ни париков и не могли досыта насмотреться друг на друга. Мерит восхищалась загорелым, стройным и жилистым телом Пиайя. Она не уставала трогать его твердые мускулы и радовалась, как ребенок, открывая для себя его щекотливые места.
Пиай с поклонением смотрел на прекрасное женское тело Мерит, на очаровательные округлости ее бедер, маленькие твердые груди, длинные ноги цвета меда, прекрасной формы икры, гордую посадку головы, на унаследованные от матери раскосые темные глаза, точеный носик и совершенные губы, которые, как бы часто он их ни целовал, возбуждали в нем желание целовать их снова и снова.
Когда хамазин утих и Ра снова на своей солнечной ладье мирно начал свое путешествие по темно-голубому небу, Пиай освободился из объятий Мерит, чтобы снова вернуться к работе.
На берегу его ждал посыльный, который с глубоким поклоном попросил его подарить час его ценного времени жрецу Тотмесу.
Пиай уже несколько раз имел дело со вторым жрецом Амона и особо его не ценил. Человек этот казался ему коварным и упрямым, и у Пиайя сложилось впечатление, что Тотмес преследует свои собственные цели, независимые от верховного жреца Небунефа, выбранного самим Амоном. Некогда Тотмес был убежден, что его, второго жреца, так долго управлявшего храмом, назначат верховным, но этого не произошло, он так и остался вторым.
Тотмес ожидал Пиайя в своих покоях при храме. Маленький, незаметный человечек, казалось не имел возраста, он мог пережить как сорок, так и пятьдесят или даже шестьдесят разливов Нила. Его круглая бритая голова, сдержанное лицо без морщин выглядели странно бесцветными, а водянистые глаза избегали взгляда собеседника, и у Пиайя никогда не возникало чувства, что он разговаривает с человеком, который может смеяться, плакать, бушевать, радоваться или быть разочарованным. Это было похоже на разговор со статуей.
Пиай три ночи почти не спал. Тело его еще было полно воспоминаниями о прекрасной Мерит. Он все еще ощущал ее поцелуи на своих губах и поглаживания ее рук на своем теле. Мастер устал и был рассеянным, потому что Тотмес говорил об обычных вещах, хвалил большой новый храм, спросил о работе над громадной статуей Рамзеса, и Пиай без охоты давал односложные ответы.
Внезапно разговор принял направление, пробудившее Пиайя от сна и заставившее его стать внимательным.
Тотмес посмотрел на правое плечо Пиайя и сказал:
— Ты, конечно же, знаешь маленький храм Сета у дворца, он расположен за заброшенным гаремом, и его почти не используют…
— Да, я его знаю, — ответил Пиай, насторожившись.
— Ты недавно пробыл в нем значительное время.
— Я часто там бываю. Мы должны обдумать, не снести ли нам его вместе с дворцом для женщин и не разбить ли на этом месте большой сад. Я полагаю, Богоподобный склонится к этому решению. Когда Фивы были еще столицей, места было мало и растущий дворцовый комплекс поглотил несколько прекрасных садов.
Тотмес не поддержал разговора в этом направлении.
— Мы знаем, что ты часто бывал там. Я имею в виду твой ночной визит, который продлился до утра.
Пиай почувствовал опасность и спросил себя, чего от него желает в действительности эта говорящая статуя.
— То, что я оставался там так долго, имеет основание. Кто-то запер дверь снаружи.
Тотмес несколько раз кивнул:
— Да-да, это могло случиться. Глупая ошибка. А принцесса Мерит — как провела ночь высокочтимый первенец его величества?
«Он все знает, — подумал Пиай, — и, вероятно, наблюдает за каждым нашим шагом» и отразил нападение:
— Принцесса все еще ожидает, что виновного привлекут к ответу. Я пообещал ей об этом позаботиться, но из-за работы в храме Мертвых…
На одно мгновение бесцветные водянистые глаза поднялись и взглянули на Пиайя.
— Виновного? — Глаза снова опустились. — А не лучше ли спросить, кто виновен?
Пиай хотел возмущенно ответить, но Тотмес прервал его резким движением руки:
— Об этом речь еще не идет! Ты должен только знать, что Амон — повелитель Фив и ничто не укроется от его взгляда, ничто! И он решит, передать это знание дальше или нет…
— Ты хочешь шантажировать меня или угрожаешь? Если я сообщу принцессе об этих выслеживаниях, то, может статься, она сошлет вас всех в каменоломни, а на ваше место поставит людей, которые будут верно служить ее отцу. Знает ли об этом почтенный Небунеф?
— Не будем спорить, Пиай, — сказал Тотмес спокойно. — Я не хотел ни грозить тебе, ни шантажировать тебя. Я хотел только дать знать о том, что произошло. Ты так озабочен благосостоянием принцессы, что поддерживал ее на ладье во время хамазина. В старом гареме буря снесла половину крыши, поэтому с ее стороны было разумным сбежать на ладью.
— Она дочь Солнца и делает то, что хочет, и то, что она делает, всегда верно. Я надеюсь, ты знаешь это.
— Кто этого не знает… — Тотмес воздел руки к небу. — Стало известно, что Богоподобный, да будет он жив, здрав и могуч, хочет соорудить на границе с Кушем храм, посвященный богине Хатор и одновременно своей супруге Нефертари. Но не каждому известно — слух об этом еще не пронесся, — что в намерение его величества, да будет он жив, здрав и могуч, входит построить рядом вдвое больший храм. Конечно, это похвальное намерение, однако я как жрец хочу полюбопытствовать, кому будет посвящен этот храм. Знаешь ли ты об этом?
Водянистые глаза взглянули на мастера. Конечно, Пиай знал, но он не хотел говорить об этом жрецу.
— Не точно. Однако многое указывает на то, что влияние бога-создателя Пта должно распространиться вплоть до юга. Может быть, храм будет посвящен Пта и его супруге Сехмет. Ужасная богиня с головой львицы считается матерью войны и может быть предостережением для народов юга никогда больше не поднимать головы против повелителя Обеих Стран. Все это будет обсуждаться жрецами в Мемфисе, а потом Богоподобный примет решение.
Тотмеса совсем не порадовало то, что он слышал, однако на его неподвижном лице не двинулся ни один мускул.
— Так-так, Пта, так называемому богу-создателю… А почему этот «создатель» выступает в роли мумии? Странно, не так ли?
— Ты знаешь это не хуже меня, жрец. В Дельте его почитают также как бога мертвых. Он, как и Амон-Ра, имеет несколько лиц.
— Оставим это. Может быть, ты сможешь, уважаемый Пиай, указать со всем почтением Богоподобному, да будет он жив, здрав и могуч, что Пта на юге не особенно хорошо знают и что было бы более подходящим посвятить храм Ра, точнее, Амону-Ра.
— Но уважаемый, на границе с Кушем едва ли живут настоящие египтяне! Там особенно не чтят ни Пта, ни Амона, а держатся своих старых племенных богов, которых здесь никто не знает. Этот храм должен воплотить сияющую власть сына Солнца во всем его великолепии там, где нет ничего, кроме пустыни и воды. Я могу заверить тебя, что это не направлено против Амона.
— Конечно, конечно, — ответил Тотмес и сдержанно вздохнул. Потом он выпрямился. — Пиай, ты можешь оказать большую услугу Амону, если предложишь Богоподобному, чье ухо благосклонно к тебе, промежуточное решение. Храм мог бы быть посвящен Амону и Пта одновременно. Это ведь неплохая мысль, не так ли?
— К сожалению, я не имею влияния на решения Богоподобного, счастье, если Благой Бог вообще прислушивается к моим советам. Следует ли он им? Увы, большей частью нет.
— Но твое мнение он, по крайней мере, выслушивает, это известно.
— Да, время от времени. Я не хотел бы выказать себя неблагодарным жрецам Амона, потому что они часто поддерживают меня здесь, в Фивах. В любом случае я передам твои сомнения, которые я хорошо могу понять, царю.
Невозможно было не расслышать выдох облегчения второго жреца.
— Я знаю, что ты красноречивый человек, мастер Пиай, и не обещаешь того, чего не можешь сделать. Ты не зря постараешься, и, кто бы ни бросил тебе упрек в неподобающем общении с принцессой Мерит, тот будет опровергнут нашими свидетелями. Может статься, однажды тебе потребуется наше свидетельство.
Пиай знал, что играет с огнем, и поэтому высоко оценил предложение жреца.
Мерит вернулась во дворец и долгое время принимала ванну, Бикет стояла рядом и наблюдала за служанками, помогавшими принцессе купаться. Это были стройные ловкие нубийки, гордившиеся тем, что их выбрали для этой службы.
От своей бывшей няньки Мерит не имела тайн.
— Ах, Бикет, я узнала сейчас совсем новое чувство. С тех пор как Пиай ушел, мне кажется, что вместе с ним ушла половина меня. Мне его так не хватает! Ты знаешь это?
Бикет, которая была вдвое старше ее, очень хорошо это знала.
— Конечно, моя голубка, какая женщина этого не знает! Боги сделали так, что мужчина и женщина, по крайней мере, пока они молоды и влюблены, постоянно испытывают эту тоску. Они хотят быть вместе день и ночь, каждый час, навсегда. Наслаждайся этим временем. Скоро сюда прибудет твой высокочтимый отец, Благой Бог, и тогда это должно будет прекратиться.
Мерит возмущенно стукнула кулаком по воде так, что служанки испуганно склонились.
— Прекратить? Я и не думаю о том, чтобы прекращать! Мы любим друг друга, Бикет, мы любим друг друга, как еще никогда мужчина и женщина не любили друг друга!
— Я верю в это… — попыталась успокоить ее Бикет, — однако ты не должна создавать опасность для мастера Пиайя. Каждый, происходящий не от крови Амона-Ра, теряет жизнь, если осмелится только прикоснуться к одному из вас. Да ты это знаешь! Даже твой отец, да будь он жив, здрав и могуч, не мог бы отменить этот старый закон, он исходит от Маат и является божественной правдой.
— Обе эти девушки тоже прикасаются ко мне, но никто не зовет палача.
— Для слуг делается необходимое исключение. Пиай не твой слуга, и он не удовлетворяется тем, что моет тебе спину. Ты должна видеть вещи такими, какие они есть, моя голубка. Чем меньше ты подвергаешь его опасности, тем более можешь быть уверена, что сохранишь его для себя и своей любви. Это продлится еще некоторое время, но… когда появится Благой Бог, нельзя, чтобы даже тень подозрения упала на Пиайя.
— Ты права, Бикет, но разве за нами не наблюдают постоянно тысячи глаз? Ни от кого не ускользнуло, что во время хамазина я была с Пиайем на ладье, а тот, кто запер нас тогда в храме Сета, наверняка сделал это не без основания.
— Ты права, но тот, кто бросит на тебя подозрение перед Благим Богом, рискует своей головой. Фараон поверит скорее тебе, своей любимой дочери, чем любому изветнику. То, чем вы занимались на ладье, было скрыто от глаз других, даже я ничего не видела. В маленьком храме нет окон, в которые можно заглянуть. Нет-нет, моя голубка, пока вы будете оставаться осторожными, ничего дурного с вами не случится.
Мерит успокоилась. За себя она не боялась, но Пиай, если учесть, насколько вспыльчивым и резким был ее отец, легко мог подвергнуться смертельной опасности. А она скорее отрубила бы себе руку, чем потеряла бы любимого.
Рамзес привел все в порядок в своей новой столице, и через несколько дней собирался в поездку на юг. Так как она должна была быть долгой, на этот раз его могла сопровождать вся семья: Нефертари с сыновьями Амани, Енамом и уже двухлетней Мерире, а также Изис-Неферт с Рамозе и маленьким Меренптой, в то время как Хамвезе, второй сын второй жены, уже несколько лет был вторым жрецом в храме Пта в Мемфисе. Его не интересовали путешествия и приключения, он стал настоящим ученым, имел глубокие познания в разных областях и после смерти старого Гуя должен был занять должность верховного жреца в Мемфисе.
Для Изис-Неферт было маленьким триумфом, что Хамвезе вырос уважаемым ученым и теперь занимал второй по значению пост жреца в Мемфисе. Это удовлетворяло ее честолюбие не меньше, чем поездка в Фивы, на любимую родину, рядом — хотя и только слева — с Благим Богом, которому она родила уже трех здоровых сыновей. То, на что надеялись и чего ожидали от нее в Фивах, она совершила перед лицом Амона и его жрецов и могла со спокойной совестью появиться перед ними. В Мемфисе была предусмотрена только короткая остановка, однако в порту их встретила траурная процессия с Гуем и Хамвезе во главе. Живая душа Пта, его подобие и воплощение на земле, священный бык Апис умер. И «ставившие печать бога» уже готовились его бальзамировать.
Это священное животное бога-создателя Пта было зачато лучом света в молодой корове и отличалось от обычных быков двадцатью девятью признаками. Самыми важными были белое пятно на лбу, иссиня-черная шерсть, определенные белые пятна на груди и на спине, непарные волоски на хвосте и узелок в форме священного скарабея под языком. Как только старое животное почило в Озирисе, жрецы и их помощники кинулись во все стороны, чтобы осмотреть только что рожденных телят. Они обыскивали хлев за хлевом, поле за полем, пока наконец не отыскали священного теленка. Его привели потом вместе с его матерью в большой хлев в переднем дворе храма Пта, где верующие могли посетить его и молиться ему. В его честь устраивали большое количество праздников, и, как только бык подрастал, он получал свой собственный гарем с безупречными взрослыми коровами, тщательно выбранными для бога. Некоторые из этих быков достигали весьма почтенного возраста, и их смерть искренне оплакивалась всем городом. Многие обращались к быку со своими молитвами, просьбами, обетами, и многим он помогал.
Таким образом, фараон не мог просто проехать мимо, а должен был принять участие в различных траурных церемониях, которые растянулись на несколько дней. Хамвезе, которого царь очень ценил, в почтительных и хорошо составленных выражениях передал отцу и фараону пожелание жрецов и всего города остаться и подождать, когда жителям покажут нового Аписа.
Рамзес не мог отказать своему разумному сыну ни в чем и быстро согласился. Однако он не хотел оставаться в Мемфисе, а решил провести время ожидания с сыновьями на охоте. Ликование сыновей было ему ответом, потому что Амани, Рамозе и Енам унаследовали отцовскую страсть к охоте. Если Амани ловчее всех обходился с пращой, то оба других были превосходными стрелками из лука. К фараону присоединился еще один из его сыновей, отпрыск давно умершей наложницы. Мальчик носил имя деда и внешне был очень похож на отца. Во всем дворце не было никого, кому бы не нравился юный Сети. Братья ценили его как сотоварища по играм, а позднее спутника во время охоты. Он не был ни высокомерным, ни злопамятным, учился легко, без того чтобы особо бросаться в глаза своей ученостью, не был ни пустым, ни честолюбивым — словом, был человеком, который ни у кого не вызывал ни неудовольствия, ни ревности, и поэтому не нашлось бы никого, кто желал бы ему зла.
С четырьмя своими сыновьями фараон и отправился в Фаюм на охоту, чтобы вернуться назад к церемонии представления народу нового Аписа.
Пиай работал как одержимый. Буря и его трехдневное отсутствие замедлили изготовление колоссальной статуи. К этому добавилось еще то, что сроки выполнения работы были рассчитаны неправильно. Пиай недооценил ее сложность и посчитал, что отполировать статую он сможет за гораздо более короткое время. Шлифовка и была решающим моментом, она придавала царскому облику жизнь и достоинство. Он как раз занимался тем, что работал над углублениями между переносицей и глазами. Пиай уже использовал десятки шлифовальных камней, руки у него были поцарапаны и изранены. Глаза слезились от каменной пыли. Каждые два часа он делал паузу, в течение которой Хотеп работал под наблюдением мастера. Ему повезло с этим парнем. Из робкого мальчугана вырос настоящий мастер, который, казалось, все еще недооценивал свои способности. Многое в Хотепе напоминало Пиайю его самого во время обучения у Ирамуна. Этому чрезвычайно способному юноше не хватало лишь силы. Его мускулы постепенно развивались, но пока он быстро уставал и долго не мог работать так точно, как требовалось.
— Ты должен прекратить, — крикнул ему Пиай, — как только почувствуешь, что сил для качественной работы не хватает. Больше отдыхай!
Хотеп уронил шлифовальный камень и постучал по груди, там, где в узкой груди подростка билось сердце:
— У меня это здесь, но рука внезапно слабеет. Я знаю, как надо делать, но рука не слушается меня. Эх, была бы у меня твоя сила, мастер Пиай!
Тот отмахнулся:
— Садись лучше рядом и съешь что-нибудь. Сам посуди, что здесь может натворить лишенный сил мастер. Ему потребуется, вероятно, десять шлифовальных камней, и он испортит высокочтимый облик царя. Нет-нет, отдохни и соберись с силами. А сколько тебе лет?
Хотеп помедлил.
— Точно я не знаю. Вероятно пятнадцать или шестнадцать разливов Нила я пережил.
— Тогда нет стыда в том, что ты должен собраться с силами. В твоем возрасте рука у меня тоже не двигалась легко. Держись подальше от женщин так долго, как сможешь, потому что потом часть силы тебе потребуется для них.
— Как это понять, почтенный Пиай?
Пиай усмехнулся:
— Было бы бесполезно тебе это рассказывать сейчас. Когда-нибудь ты поймешь сам и не сможешь убежать от этого. Потом это войдет в твою жизнь, как работа, еда, питье и сон, и вполне может оказаться, что тебе это будет доставлять больше удовольствия, чем все остальное вместе взятое. Тем не менее, Хотеп, мой маленький друг, позволь тебе посоветовать: немногие женщины стоят того, чтобы из-за них пренебрегать работой. Ты должен будешь попытаться привести все в гармонию.
— Я запомню, — сказал Хотеп и снова схватился за шлифовальный камень.
Пиай знал, о чем говорил. Раз в два дня его влекло в Фивы, где Мерит принимала его с распростертыми объятиями. Любимый занял в ее жизни первое место. Ладья стала их постоянным местом встречи. Официально это объяснялось так: принцесса Мерит, замещая Благого Бога, должна обсуждать планы с первым архитектором. Мерит была достаточно зрелой и сообразительной, чтобы попросить у верной Бикет совета в женских делах. Прежде всего ее заботило, как не забеременеть, и служанка, конечно же, могла ей помочь в этом.
— Ты должна быть внимательна к одному, моя голубка. Несколько дней до того, как начинается твое очищение и несколько дней после ты не можешь зачать ребенка. Я не знаю, почему это так, но все опытные женщины знают об этом. Говорят, что за восемь дней перед и после кровотечения беременность едва ли возможна. В остальное время спать вместе не советуют. Так как Пиай не твой супруг, ты должна обставить дело так, чтобы вы встречались друг с другом только в безопасное время. Если же, тем не менее, что-то произойдет, тогда есть одно испытанное средство, ты можешь довериться своей Бикет, моя голубка.
В эти дни прибыло известие, что царь опоздает, потому что священный бык Апис отправился в Закатную страну. Пиай вздохнул с облегчением, потому что он мог надеяться на то, что завершит работу, не пренебрегая любимой.
Принц Хамвезе, жрец Пта, полагал, что, возможно, не особенно прилично во время траура по быку Апису отправляться на охоту. Охота — это удовольствие, и из почтения перед душой Пта, следует воздержаться от нее.
Но Рамзес только рассмеялся, когда сын высказал свои сомнения.
— Наши сердца печалятся, но одновременно мы радуемся тому, что возродившийся Апис вскоре прибудет в Мемфис. Мы принесем ему в жертву большую часть нашей добычи.
Таким образом, сын Солнца Рамзес отправился с четырьмя своими сыновьями на юг в Фаюм, где болотные заросли вокруг большого озера, которое египтяне называли морем, были богаты птицей и прочей дичью. Отряд почти в сотню ширдану и воинов личной охраны сопровождал царя и принцев.
Они помчались туда на роскошных охотничьих колесницах, в каждую из которых было запряжено по две лошади. Во главе фараон со своим другом юности возничим Меной, за ними Амани, Рамозе, Енам и Сети, каждый из которых, даже сын наложницы, носил на лбу золотой урей и держал в руках лук. Амани еще заткнул за пояс свою любимую пращу, с которой он так ловко обращался.
На фараоне был венец Хепреш — сверкающий голубой с золотом шлем египетских царей. Через обнаженное мускулистое тело был перекинул ремень с колчаном, наполненным стрелами, а лук висел на колеснице.
Во время этой поездки им встречались пастухи, крестьяне, рыбаки, которые вели себя по-разному: одни тотчас бросались в пыль, другие разевали от ужаса рты и стояли, как зачарованные, а иные не выказывали никакого почтения, но проявляли свою радость при виде Благого Бога, как дети: громко ликуя и пробегая несколько шагов за группой колесниц. Ни фараон, ни охрана, ни принцы не обращали на них внимания. Они летели в желто-сером облаке пыли, их лихорадило от радости перед предстоящей охотой.
Новость о том, что царь внезапно появился в Фаюме, распространилась как на крыльях орла.
— Говорят, Благой Бог неожиданно оказал нам честь. Четыре сына сопровождают его. Может быть, царь на этот раз посетит храм. — Гебу усмехнулся и обнажил желтые зубы крокодила. Меру не показал вида, но эта новость так поразила его, что он под благовидным предлогом отправился к себе и лихорадочно опустошил стакан вина.
Как же он ждал этого случая и втайне боялся, что он вскоре представится! Затем к нему пришла мысль о будущем. Год из года он занимался одной и той скучной храмовой службой, должен был носить по праздничным дням ладью с богами, мог лишь немного расслабиться во время охоты да позабавиться со вдовой рыбака, которая охотно принимала его, но которую он ни разу не мог даже поцеловать, потому что боялся, что потеряет при этом нос и уши. Это было так недостойно и так жалко, что Меру стыдился сам себя. Кроме того, он должен был опасаться, что его разоблачат, и тогда его ожидают жесточайшие пытки и постыдная смерть.
«Никаких светлых надежд, друг Меру, — шепнуло ему его ка, — но имеется еще возможность сладкой мести и если не прекрасной, то почетной смерти».
Меру выпрямился. Сначала ему нужно попытаться понаблюдать за царской охотой хотя бы издалека.
Так как всего можно было ожидать, взволнованный второй жрец Себека вызвал помощников жреца и храмовых служащих и отдал им приказ:
— Нужно вычистить весь храм. Крокодилов с этого момента не следует больше кормить. Храм закрыть, а тот, кто хочет принести жертвы, может сделать это вне стен святилища. Помощники жреца должны приготовить чистую одежду, чтобы в любое время достойно предстать перед Благим Богом.
Приказы и распоряжения следовали друг за другом, и Гебу мечтал, что однажды для их бога снова начнутся царские дни. Втайне он радовался тому, что забывший свой долг верховный жрец живет в Мемфисе и удовлетворяется лишь своим саном, купленным, между прочем. Фараон, да будет он жив, здрав и могуч, сможет сам убедиться, кто здесь служит не покладая рук.
Гебу приказал закрыть выход, поэтому Меру пришлось отказаться от запланированной прогулки.
Потом все завертелось. Утром третьего дня появился царский глашатай и сообщил радостную новость: Благой Бог, сын Солнца и повелитель Обеих Стран Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Рамзес намеревается посетить старый храм Себека в Шедите. Богоподобный принесет богу прекрасную жертву и посетит священное животное. Царя, да будет он жив, здрав и могуч, следует ожидать на следующий день в три или четыре часа.
— Однако, — добавил глашатай, — Богоподобный уже не раз менял свои решения, и вы должны считаться с тем, что он может появиться ближе к вечеру, а может и вообще не появиться.
Хитрый Гебу льстиво ответил:
— Даже если Богоподобный не появится, мы будем блаженствовать уже от того, что Благой Бог вспомнил о нас, а это больше, чем может ожидать его верноподданный слуга Гебу.
Глашатай довольно кивнул:
— Я вижу, ты правильно все понял, жрец Гебу. Я не премину дать знать об этом Богоподобному.
Священные крокодилы не привыкли к тому, чтобы их подолгу не кормили, и ленивые, покрытые грязью твари забеспокоились. Они вышли на сушу, подползли к помосту, с которого им бросали мясо, и задвигали своими плоскими головами, словно одетыми в панцирь, так что тяжелые золотые серьги зазвенели.
Гебу отдал это приказание не без основания, он хотел бы, чтобы фараон еще немного помедлил, дабы большие рептилии еще более проголодались.
Однако Рамзес против ожиданий прибыл в точно назначенный час, потому что хотел подать пример своим сыновьям, ибо бога нельзя заставлять ждать без основания, даже если ты сам Благой Бог.
Тяжело вооруженные ширдану окружили храм так, что муха не могла вылететь или влететь незамеченной. Эти чрезвычайные меры безопасности принимались не по приказу царя, таков был старый обычай, таким образом подчеркивалась святость и значение фараона.
Из окрестностей прибыли много народа. Из маленького городка Шедит пришел каждый, кто уже или еще мог держаться на ногах. Эти жители оазиса не пали ниц, подобно придворным чиновникам, когда появился Благой Бог, они скакали, прыгали, аплодировали и кричали во все горло. Рамзес, который обычно видел только склоненные спины, порадовался искренней привязанности своего народа, которая не стала меньше, несмотря на тяжелые налоги. Ненависть и возмущение люди вымещали на сборщиках налогов, которые со связками палок передвигались по стране и от которых каждый старался скрыться. То, что сборщики выступали в качестве чиновников царя, мало им помогало: простые люди считали их злодеями, Благой Бог же стоял выше подобных вещей и одним своим появлением превращал любой день в праздник.
Для юного Сети все было как во сне. На него мало обращали внимания во дворце, где он рос с другими многочисленными детьми царя, потому что весь свет любви почитания падал только на отпрысков обеих главных жен. Теперь он сам принимал во всем участие, носил на лбу урей и наполовину оглох от громких ликующих криков, которыми приветствовали царя
и принцев, а значит, и его самого.
Когда царская процессия исчезла за дверями большого пилона, показалось, что они попали в другой мир. Снаружи были шум, жизнь, краски — внутри царила торжественная тишина храма. И царь снова смотрел на ряды низко склонившихся спин.
Чтобы почтить храм, царь надел двойную корону, принцы — переплетенные золотыми нитями роскошные парики и маленькие обручи венцов с уреями. Так они прошли во внутренний двор храма, сопровождаемые слугами, которые вели с собой жертвенных животных: безупречного теленка, трех белоснежных коз и несли в деревянной клетке гусей и голубей. Однако животных только показали, чтобы затем их снова вывести, потому что жертвовать разрешалось только в переднем дворе храма.
Гебу и его одетые в свежие льняные деяния помощники упали на колени и умоляюще протянули вперед руки. Позади встал на колени женский хор, и некоторые певицы выглядывали сквозь протянутые руки, чтобы посмотреть на статного царя и прекрасных принцев.
Когда Гебу затянул гимн, Меру бросил украдкой взгляд на царскую семью. Он с удовлетворением почувствовал, как поднимается в нем гнев. Вот они стоят во всей роскоши, почитаемые народом, как боги, наделенные бесконечной властью. Они могут все, и все, что они делают, признается прекрасным. Он же, Меру, искалечен и долгое время принужден был вести жизнь, состоящую из убийств, грабежей и насилия.
А когда эта сытая царская жизнь подходит к концу, богато убранное Жилище Вечности ожидает каждого, в ком течет кровь Ра, и они могут продолжить беззаботную жизнь в привычной роскоши и в Царстве Озириса. Для него же, если бы он снова осмелился показаться среди честных людей, соорудили бы в Мемфисе эшафот с костром.
С мрачным удовлетворением он слышал лающий голос жреца Гебу, который хвалил фараона:
— О, Гор, Могучий Бык, любимец Маат, ты бог войны среди царей, ты бык среди властителей, большой и сильный, как твой отец Сет. Это ты пленяешь бунтовщиков, ты принимаешь вельмож и вождей уже земных с их дарами. Они трепещут, члены их дрожат пред тобой, царь Рамзес. Это ты раздавил страну хеттов и превратил ее в гору трупов, как мрачная Сехмет, когда она насылает чуму. Ты посылаешь на них свои стрелы, и владыки чужих стран покоряются тебе.
Ты царь, сияющий под двумя коронами, самый сильный в Кеми, победоносный на поле сражения, мрачный воин с сильным сердцем, который простирает руки, как стены, вкруг своих воинов, который живет вечно, как Ра, Благой Бог Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес!
Когда хорал отзвучал, Рамзес встал, взял приготовленный горшочек с курениями и один прошел в святилище, где принес богу Себеку жертву благовониями.
С внешнего двора послышался рев теленка, которому помощник жреца воткнул в сердце длинный кинжал. Козам перерезали горло и, как у теленка, вынули внутренности и положили в бронзовое ведро.
Себеку единственному редко приносили жертвы на огне, потому что он сам мог пожирать жертвенных зверей в образе своих священных крокодилов. С частыми поклонами Гебу провел царя и принцев к бассейну позади святилища, где ожидали живые воплощения Себека в образе двух увешанных украшениями крокодилов.
— Как правило, Богоподобный и вы, высокочтимые принцы, Себек выказывает свою особую милость и приязнь, если принимает предложенные жертвенные дары, то есть когда священные звери пожирают ее.
Помощники жрецов поставили наполненные внутренностями ведра и предложили высоким гостям большие двузубцы из позолоченной бронзы. Фараон насадил на острия сердце теленка и бросил его зверям. Еще в полете его подхватил более быстрый крокодил и тут же исчез с ним в мутной воде. То, что разочаровывало многих паломников, потому что перекормленные крокодилы не испытывали желания что-либо пожевать, Гебу умно предотвратил.
Принцы тоже взяли двузубцы, насадили внутренности трех коз и с восторгом бросили их вниз, где оба крокодила, звеня украшениями, метнулись к ним, чтобы как можно быстрее схватить еще теплую плоть.
— Какое счастье! — пробормотал расчувствовавшийся Гебу. — По всему видно, что Богоподобный почитает бога Сета, ибо того связывает сердечная дружба с Себеком. Я еще никогда не видел священных зверей такими голодными, как при тебе, Гор, любимец Маат, великий властью и прекрасный годами, и перед твоими юными Соколами, уже сильными, как львы, и прекрасными обликом.
Меру с другими помощниками жреца ждал позади и наблюдал за веселым азартом принцев. Он не мог отличить одного от другого, он не знал, который из них рожден Нефертари, который — Изис-Неферт. Он просто наблюдал за Амани, явно самым старшим и самым почитаемым, потому что остальные уступали ему место, и царь, казалось, предпочитал его.
«Вероятно, это его любимый сын или даже наследник престола», — подумал Меру. Он увидел, как Амани подхватил двузубцем язык теленка и бросил его, но оба крокодила не обратили на него внимания, протопали мимо и схватили другие куски.
«Плохой знак, — подумал Меру. — Может быть, это Себек посылает мне его».
Потом он попытался себе представить, как эти высокие красивые молодые люди могли бы выглядеть без носа и ушей. Ха! Тут ведь не было никого, кого бы могли изуродовать, даже если бы они кого-нибудь неправедно убили, ведь они были детьми Солнца, носили в себе священное семя Амона и стояли выше законов.
— Воняет! — тихо сказал царь и взглянул на Амани.
Потом они быстро удалились, и Гебу, который надеялся при случае намекнуть Богоподобному о своих заслугах, о своей тяжелой работе и о том, как пренебрегает своими делами верховный жрец, к сожалению, такой возможности не получил. С ним милостиво, но быстро простились, и он получил несколько дебов золота для храмовой сокровищницы.
Он подумал с горечью:
«Это не тот царь, который снова сделает Себека великим или вернет ему прежний статус бога всего царства».
Все занятые в храме весь день ели жареную телятину и козлятину, крокодилы Себека также были сытно накормлены. На следующий день Меру попросил отпустить его на охоту, сославшись на то, что посещение фараона так подействовало на него, что он должен отдохнуть и расслабиться.
Старый Гебу понимающе кивнул и обнажил желтые зубы крокодила:
— Да, мой дорогой. Этот день — оправдание всей нашей жизни, ибо Благой Бог стоял во всем своем блеске напротив нас и даже обратился к нам со словами. У меня самого поджилки тряслись. Иди развейся и наберись сил. С утра храм снова будет открыт для паломников.
15
Пиай наблюдал, как строители снимали леса с колоссальной статуи. Рядом с ним стоял Хотеп, его юный помощник, а на почтительном расстоянии — ремесленники, работавшие в большом посвященном Амону храме Мертвых, ожидая мгновения, когда перед ними предстанет монументальное произведение. Один из рабочих пытался открепить помост под головой. Он тянул его, стучал, и внезапно тот оторвался. Мужчина споткнулся и с громким криком полетел вниз головой на недавно вымощенный двор храма.
— Статуя забрала свою первую жертву… Плохой знак… Она свалит и своего создателя, как этого человека… — зашептались между собой ремесленники.
Пиай отвернулся. Во время строительных работ всегда бывали несчастные случаи, он не придавал им особого значения. Мысли его были уже на юге, в храме Нефертари, однако его туда не тянуло, потому что в Фивах оставалась Мерит, его возлюбленная. Если они не виделись всего несколько дней, он так тосковал по ней, что становился расстроенным, лишался сил и предоставлял ловкому Хотепу работать целый день одному.
Тот за прошедшее время вырос в мастерстве, как растение, которому после долгой жажды дали обильный полив. Чем яснее он понимал, что он может больше, чем другие, и почти так же много, как Пиай, тем больше утрачивал робость. Регулярная тяжелая работа укрепила его члены, походка его стала гордой и прямой, никто ему не мог что-либо приказать, за исключением Пиайя, на которого юноша старался походить изо всех сил. Хотеп хотел стать таким, как он: таким же знаменитым, деятельным, ценимым царем, вызывавшим зависть чиновников и восхищение мастеров. Юноша радовался новой работе на юге и стремился туда, потому что Благой Бог лично восхищался Пиайем, его работой и отличал его. Случись что-либо с Пиайем — болезнь, несчастный случай, — фараон не должен раздумывать особо о преемнике: он, Хотеп, всегда наготове.
Никто точно не знал, куда исчезал Пиай. В конце концов он был главным архитектором и должен был сам обсуждать какие-то вещи со жрецами, чиновниками, может быть, даже с высокочтимой принцессой. Болтали и то и другое, но лишь немногие знали правду. Большинство не могли также представить, что первенец Благого Бога может иметь интимные отношения с ремесленником, даже если тот — любимец фараона.
Мерит же вместе с верной Бикет выдумывала все новые планы, чтобы помочь Пиайю и ввести в заблуждение свое окружение. Но самая лучшая мысль пришла в голову самому Пиайю, когда он купил маленькую ладью и с целеустремленностью влюбленного научился ею управлять.
Мерит дала понять своему маленькому двору, что предпочитает передвигаться по Фивам без сопровождения и охраны. Только после прибытия фараона она хотела бы снова занять подобающее ей положение в царской семье.
— Были ли возражения или вопросы? — хотел знать Пиай.
Мерит удивленно приподняла брови:
— Возражения? Вопросы? Ты забываешь, кто я. Здесь я представляю царя, и люди, в том числе также жрецы, остерегаются выражать что-либо подобное. Кто в течение всей жизни заслуживал хорошее место, не захочет необдуманным словом низвергнуть себя в несчастье.
Пиай насмешливо улыбнулся:
— А я? Что со мной? Каждый час, который я провожу с тобой, я рискую своей должностью и жизнью.
Мерит посмотрела на Пиайя долгим взглядом, как будто хотела заглянуть ему в душу:
— А ты так ценишь свою должность?
— Ты для меня дороже, Мерит, иначе бы я не сидел с тобой в своей ладье, ведь я имею все основания предполагать, что половина Фив знает о нас.
Во время таких поездок на принцессе было простое платье, она была почти без драгоценностей и по настоятельному желанию Пиайя снимала венец с уреем. Теперь она выглядела как какая-нибудь красивая египтянка из хорошей семьи, если бы не печать царского величия на прекрасном лице — наследство отца. Ей никогда не приходилось лгать, притворяться или кому-нибудь льстить, и это запечатлелось во всем ее облике.
— Моя маленькая львица, — нежно сказал Пиай, — тебе никогда не нужно было бояться чего-либо, потому что Хнум положил тебя в золотую колыбель. Моей же колыбелью была покрытая илом пахотная земля, на которую я выпал из утробы матери, потому что рабыня должна работать, даже если ей пришло время рожать. Из миллионов родившихся в иле, может быть, три или пять человек достигают положения друга царя, и тот, кто однажды поел из золотой тарелки, кто обладает домом, землей, скотом и рабами, не хотел бы снова вернуться в ил. Ты это понимаешь, дорогая Мерит?
— Да, мой друг, я понимаю это, но ты забыл упомянуть самое ценное, чем ты обладаешь, — меня! Я принадлежу тебе, а ты принадлежишь мне, и до тех пор, пока это не изменится, мы не должны смотреть ни в прошлое, ни в будущее. И не забывай: ты вышел совсем из низов, и у тебя есть то, что даже мой отец, которому принадлежит вся Кеми, не может купить: ты единственный, кто будет строить его храм на юге.
Мерит замолчала и мечтательно посмотрела на воду. Пиай ничего не ответил и направил ладью к известному ему укромному местечку у берега. И тут Мерит заговорила опять:
— Я знаю, что царь любит мою мать так, как едва ли была любима до нее какая-либо царица. И он выказывает ей это таким образом, какой необычен даже для сына Солнца. Никто из его предшественников не осмеливался построить храм своей супруге, поставить ее вровень с богиней и сделать это таким образом, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в том, что он имел в виду. Собственно говоря, я должна была бы завидовать своей матери…
— Не должна! — воскликнул Пиай почти гневно. — Я люблю тебя не меньше, чем фараон любит царицу Нефертари, и если уж ты заговорила о храме, то знай: фараон, да будет он жив, здрав и могуч, не строит этот храм сам, он поручил это мне. Я набросал планы, и я сам буду работать над фигурами перед храмом. Царь может распоряжаться моей жизнью и моим телом, но не моими мыслями! А при каждом ударе молотка я буду думать: это храм Мерит! Я построю храм для моей возлюбленной. Я воплощу
свои чувства, и они станут правдой, потому что их знаем ты и я. Для всего мира это может быть храм Хатор-Нефертари, но не забудь, любимая, что тебе говорит настоящий создатель этого строения: это твой храм, Майт-Шерит, маленькая гордая львица, твой храм — созданный мной и посвященный тебе на все времена!
Пиай укрепил лодку у берега и обернулся к Мерит. В глазах гордой принцессы были слезы. Она нежно поцеловала Пиайя в губы.
— Сегодня ты сделал мне большой подарок. Я сохраню твои слова, как тайное сокровище, о котором знаем только ты и я.
Под защитой зарослей папируса они неистово любили друг друга, совсем забываясь на маленьком скромном паруснике, который весело начинал качаться, хотя никакого ветра не было.
Небунефу, верховному жрецу Амона, выбранному царем богов и господином над всем, что принадлежит храму: сокровищами, амбарами с зерном, полями, скотом, рабами, вооруженной охраной, ремесленниками, мастерскими, каменоломнями, владениями храма на севере, юге и западе, — нелегко пришлось в первые годы после того, как он принял на себя эту должность. Тотмес, второй жрец, не мог забыть, что много лет выполнял функции верховного жреца, и так вошел в эту роль, что не мог спокойно передать другому свои полномочия. Он принял Небунефа с едва скрываемой враждебностью, втайне второго жреца поддерживала маленькая группа давно служивших в храме чиновников и жрецов. Небунеф считался человеком царя. С течением времени на службе Амону он изменился. Верховный жрец сам едва замечал это, но высокая должность оставила на нем отпечаток, который со временем становился все глубже. Несмотря на уменьшение власти и влияния Фив, большой храм Амона был для большинства египтян центром религиозной жизни, таким образом, верховный жрец по своему положению уступал только фараону.
Рамзес и его предшественники извлекли урок из трагической судьбы царя Аменхотепа-Эхнатона, и никто не осмеливался больше покушаться на божественную власть Амона. Всем был памятен злосчастный фараон предшествующей династии, чье имя было стерто со стен всех храмов и исчезло из всех анналов, чей еретический «город бога» Ахетатон был стерт с лица земли.
Итак, Небунеф на собственной персоне чувствовал, сколь высоко уважаема его должность, ибо он в отсутствие фараона, не имевшего резиденции здесь, выполнял в глазах народа функцию святого и божественного. Но Небунеф не был выскочкой, который злоупотреблял своим положением или использовал его в корыстных целях, он был потомком старой знати. Предки его уже много поколений были жрецами или сановниками самого высокого ранга, но никто не был связан с Амоном в Фивах.
Едва заметно Небунеф отодвигался от царя и становился верным и усердным слугой Амона, однако в отличие от Тотмеса он не был исполнен ненависти и горячего рвения презирать все, что не подчиняется Амону. Для Тотмеса Небунеф был кем-то вроде захватчика, который прокрался к высокой должности, хотя не имел на нее права.
Третьим жрецом уже несколько лет служил молодой, сообразительный и несколько непроницаемый Бекенхонс, который всю жизнь отдал храму и которого еще со времен, когда он был юным неофитом, называли Беки. Не обуреваемый гордыней, подобно Тотмесу, третий жрец не слыл и любимцем царя. За все, чего он достиг, Бекенхонс мог благодарить только свои ум и старание. Он никогда не высовывался, но никогда и не отсиживался в тени, если право и долг требовали от него решительных действий. Беки жил еще у своих родителей — незнатных, скромных людей, которым он выстроил красивый дом. Небунеф хорошо ладил с ним, но дорогу к сердцу Беки он не нашел, как и Тотмес, который безуспешно пытался затащить молодого жреца в свой круг. Так каждый из трех жрецов Амона стоял сам по себе, но вместе они распоряжались целой армией жрецов и помощников, занятых в храмовой службе, в управлении и культовых службах. В их подчинении находились также певцы, музыканты и много храмовых рабов, занятых грязной работой. Каждый день верховный жрец Небунеф с помощником просматривали самые важные бумаги. Приходили новости о широко разбросанных по стране имениях храма, которые занимались разведением крупного рогатого скота, коней, свиноводством, птицеводством, а также выращиванием овощей, зерна, льна и многим другим. Эти доклады приходили почти из всех областей Верхнего и Нижнего Египта, потому что Амон был, как и прежде, самым могучим и самым богатым богом страны.
Конечно, в первую очередь прочитывались царские послания. Их писец должен был вручать самому верховному жрецу, который вставал, кланялся, целовал печать, чтобы потом, стоя, прочитать, что пишет Богоподобный повелитель.
В это утро в Фивы прибыло траурное послание, которое побудило Небунефа пригласить принцессу Мерит, второго и третьего жрецов и первого архитектора Пиайя.
Солнечная ладья Ра высоко поднялась над горизонтом, она посылала луч за лучом на большое озеро, золотила деревья, кусты и илистый берег своим сиянием. Яркие блики играли на серебряных трубах царской охраны, которые возвестили о пробуждении тем, кто видел сны в белых льняных шатрах с развевавшимися над ними цветными флагами.
Благой Бог любил свободную жизнь в легких шатрах на воздухе, любил эти прохладные утренние часы, когда трубы возвещали о новом дне охоты, на которой его ожидали развлечения, а не трудные обязанности. В особой палатке сыну Солнца была приготовлена ванна. Там же ждал его цирюльник, потому что фараон, как и все его подданные-мужчины, чувствовал себя хорошо только тогда, когда был чисто выбрит с ног до головы. Конечно, тысячи лет назад египетский царь носил бороду, но его преемники во время торжественных церемоний бороды себе привязывали.
Царский цирюльник являлся одним из избранных, кому позволялось прикасаться к Благому Богу, и эта высокая и почетная должность сделала его богатым и уважаемым человеком. Гори имел титул Друга царя, обладал цветущей фермой по выращиванию крупного рогатого скота, которая снабжала жертвенными животными храм Пта, и мог, благодаря своему непосредственному контакту с царем, многое знать и на многое оказывать влияние. Должность цирюльника являлась для него лишь побочной деятельностью. Он был кем-то вроде доверенного камердинера, который выполнял некоторые деликатные поручения царя. Ему не позволялось первым обращаться к сыну Солнца, но это было для Гори малой заботой, потому что по утрам Рамзес любил короткую и веселую беседу и с удовольствием сам задавал вопросы и выслушивал придворные сплетни.
У Гори не было ни гарема, ни супруги — вместо этого его дом наполняли рослые рабы с томными глазами, из которых он выбирал себе любимцев и обращался с ними скорее как с сыновьями, чем как со слугами. Царь, конечно, знал об этом и часто забавлялся тем, что пытался навязать цирюльнику красивую рабыню. Так как от царского подарка нельзя было ни отказаться, ни обменять его, ни передарить кому-либо другому, это существо привносило в дом Гори беспокойство и смущение. Низкие создания соблазняли молодых рабов, и некоторые из них становились упрямыми и своевольными, испробовав то, что нравилось им больше, чем ласки господина. Гори, конечно, завуалированно жаловался фараону, однако Рамзес делал вид, как будто не понимает страданий несчастного мужеложца.
Так было и сегодня. Царь принял теплую ванну, один из его слуг, обладавших «ловкой рукой», втер ароматное масло в его кожу и приятно пощипал ему мускулы. Затем пришел Гори с остро наточенной бритвой и искусно и быстро удалил волосы на лице, под мышками и в паху.
Рамзес заставил его некоторое время работать молча, а потом закинул удочку:
— Во время последнего праздника я отослал к тебе в дом чрезвычайно красивую рабыню, и я надеюсь, что на этот раз наконец угодил твоему взыскательному вкусу. Ты ею доволен? Хороша ли она в постели?
Гори как раз собирался укоротить длину волос на голове царя на ширину мизинца. Ножницы выпали у него из рук.
— Доволен, Богоподобный. Но ты же знаешь, что женщины, молодые они или старые, красивые или безобразные, создают сложности. Они капризны, скрытны, упрямы, непокорны и большей частью не способны к тому, чтобы выполнять желания своего господина…
— Ну, Гори, — хохотнул Рамзес, — для таких имеется палка. Дюжина ударов по задней части способна решить большинство проблем. В моем гареме триста женщин — и никаких сложностей. Ты должен только правильно обращаться с ней в постели, и вскоре она будет чувствовать себя как твоя супруга и станет совсем ручной. Ты это попробовал?
Гори вздохнул:
— Но, Богоподобный, вся моя сила принадлежит тебе, я не могу и не решаюсь тратить ее на женщин. Я от этого, может быть, устану, стану неловким и утрачу твою милость. Нет-нет, твоя милость мне дороже всего.
Рамзес рассмеялся от всей души, и Гори чуть было не порезал его ухо.
— Ах, Гори, ты старый растлитель мальчишек, если говорить прямо. Ладно, отошли девушку именем Баст назад ко двору и выбери себе вместо нее раба. Мои сыновья уже встали? Молодежь трудно встает по утрам.
Но все четверо были уже давно на ногах. Они искупались, торопливо проглотили пару ложек гороховой каши с медом и тренировались в стрельбе из лука по тонким глиняным кувшинам, вылепленным в рост человека. При попадании такой кувшин со звоном разлетался на куски.
Рамзес подошел к ним и понаблюдал за соревнованием. Девятнадцатилетний Амани снова выказал себя возбужденным и нетерпеливым, его стрела часто не попадала в цель. Он с досады отбросил лук.
— Мне уж слишком не везет в игре! — воскликнул он в гневе. — Каждая стрела летит не так. Надо учитывать ветер и что-то еще. Я предпочитаю вот это…
Он вытащил пращу, играючи развернул ее, и глиняный кувшин разлетелся на тысячу кусков. Слуга протянул ему еще пару хорошо обкатанных камней, и ни один из них не пролетел мимо цели.
Амани гордо улыбнулся:
— Попробуйте догоните меня с вашими стрелами, если сможете.
Сети улыбнулся в ответ:
— Почему нет? Ты, конечно, прав — каждая стрела летит по-своему, и ветер откуда-то всегда дует. Но если следует все это учесть…
До того как натянуть лук, он проверил стрелу, старательно прицелился, и кувшин разлетелся на куски. Его вторая стрела отбила только верх кувшина, зато третья, как и первая, попала прямо в цель.
Царь подошел к ним, и сыновья почтительно поцеловали его руку.
— Были бы вы в Кадеше, битва была бы закончена в первый же час. Камни, пущенные из пращи Амани, раздробили бы множество хеттских черепов, как глиняные кувшины, а ваши стрелы пробили бы любой кожаный панцирь.
Конечно, это не было сказано всерьез, но молодые люди так просияли, как будто отец только что назначил их своими соправителями.
— Теперь о сегодняшних планах, — продолжил царь. — Опытные охотники считают, что мы уже достаточно добыли дичи здесь, на восточном берегу, и что нам следует отправиться в угодья на юге. Последуем их совету. Через полчаса мы отправляемся.
Приблизительно в это время Меру отправился в путь. Он шел мало известными обходными тропами, чтобы не попасть в руки никому из ширдану. Услышав издалека плеск воды и человеческие голоса, он присел, прислушался и стал напряженно всматриваться туда, откуда исходил шум. Он стоял по колено в воде, но из-за дремлющих повсюду крокодилов не осмеливался пойти дальше. Он не хотел использовать лодку, потому что тогда он был бы не так подвижен и его легче было бы обнаружить.
Пригнувшись, он всмотрелся вдаль и увидел, как помощники охотников отодвигают заросли папируса. Потом у берега появились несколько мужчин, и Меру показалось, что на одном из них блеснул золотой урей. Это, похоже, был один из принцев, который при помощи слуг забирался в опасно качавшуюся лодку. Бесконечно медленно Меру взялся за свой лук, положил стрелу, прицелился и… снова опустил оружие. Расстояние оказалось слишком большим, и вокруг было так много людей. Он еще глубже присел и медленно, как улитка, стал ползти вперед. Меру не чувствовал ни страха, ни ненависти, им владела только одна-единственная мысль: один из сыновей Солнца был предназначен для его стрелы. Поэтому он полз весь в иле вперед и вперед. Почти жреческое чувство завладело им сейчас, ведь это Себеку он хотел пожертвовать одного из принцев в качестве искупительной жертвы за пренебрежение, которое бог Крокодил терпел при нынешнем царе.
Рамзес предпочел побродить немного по берегу, в то время как его сыновья взобрались-таки в легкие, как перо, папирусные лодки, нахохотавшись при этом вдоволь. Сети впервые был в подобной лодке и два раза чуть было не опрокинулся, благо его подхватили слуги. Наконец он более или менее надежно уселся, и позади него встал гребец.
Наследный принц Амани долго колебался, присоединиться ли к братьям или же сопровождать отца. Он помог забраться в лодку своему брату Енаму, оттолкнул лодку от берега, выпрямился и… тихо вскрикнул. Он поднес руки к шее, которую насквозь пронзила оперенная стрела, и острие выскочило с другой стороны шеи.
Сети и Рамозе, занятые своими лодками, находились спиной к Амани, они ничего не заметили, перекидывались шутками, смеялись и забавлялись. Но Енам, который уже сидел в лодке и хотел спросить брата, поедет ли он с ним или нет, почувствовал, как стрела пролетает мимо его лица.
— Рамозе, Сети, немедленно назад! — заревел царь, вытаскивая тихо стонущего Амани из воды. Склонившись над сыном, Рамзес положил голову умирающего себе на грудь.
Сети отреагировал молниеносно. Он просто выпал из лодки и уже мчался к берегу, когда Енам взволнованно сказал:
— Вон там, стрела прилетела оттуда, я слышал звук ее полета!
Сети выхватил копье из рук подбежавшего стражника и помчался, куда указывал Енам. Сильно колеблющиеся заросли папируса выдали укрытие убийцы, пустившегося в бегство.
Меру отбросил лук и рванул прочь. Задыхаясь, он с трудом бежал по мягкому илистому берегу реки, стебли папируса хлестали его по лицу и резали щеки. Меру давно потерял оба приклеенных уха, но, ничего не замечая, торопился вперед и нащупывал за поясом короткий кинжал. Однажды он чуть было не попал в руки одному из ширдану, быстро бросился в сторону и пронзил мужчину кинжалом, прежде чем тот смог позвать на помощь.
«Дальше! Дальше! Дальше!» — побуждало его ка, и Меру, задыхаясь от напряжения, бежал по илу, в то время как по его исцарапанному лицу стекала кровь. Все чаще он падал на землю, потерял при этом накладной нос, но не обратил на это внимания, желая лишь одного: добраться до цели.
Наконец появилась маленькая бухта в форме полумесяца, однако там уже были несколько вооруженных людей, а позади себя Меру услышал голоса приближавшихся преследователей.
Во главе их через заросли папируса продирался Сети с копьем в руке и безмерным гневом в сердце. Независтливый и еще неиспорченный шестнадцатилетний юноша в этот момент не думал о том, что смерть Амани, может быть, и его на несколько шагов приблизит к трону. В нем горело лишь желание наказать убийцу за это страшное святотатство.
Высокому Сети нелегко было двигаться вперед по болотистому илу, но его во много раз возросшая от гнева сила сметала стебли папируса. Наконец он почти нагнал Меру и видел его покрытую потом, сочившуюся кровью спину. Но каждый раз, когда Сети поднимал руку с копьем, беглец исчезал в зарослях папируса.
Из последних сил Меру выскочил из зарослей, узнал маленькую знакомую бухту с мелкой водой, которая затем переходила в более глубокую, быстро оглянулся, увидел, как Сети появился на берегу и тотчас сильным движением руки швырнул в него копье. Меру бросился в сторону так, что копье только задело его плечо и оставило глубокую рану.
Сети побежал вслед за своим копьем и бросился в мутную воду, чтобы вплавь настичь убийцу брата. Тот уже стоял по шею в озере и видел на расстоянии нескольких локтей от себя то, что было целью его бегства. Плоские горбатые головы лениво повернулись к нему, короткие хвосты начали взволнованно хлестать по воде.
Когда ширдану с берега, увидели, что происходит, они закричали:
— Назад, принц Сети! Немедленно назад! Крокодилы нападают!
«Они доделают мою работу за меня», — подумал Сети и сильными, быстрыми гребками поплыл к берегу.
Бесстрашно, радостно принял Меру детей бога Себека, которые вонзили в его плоть свои длинные, острые, как кинжалы, зубы, потому что каждый хотел получить свою долю от этой легкой добычи.
Меру едва почувствовал боль, он жадно ждал освобождения своего ка и заранее наслаждался радостью оправдания на суде Озириса, ибо смерть от зубов крокодила была его искупительной жертвой. Он будет вечно жить под сенью храма, принимать участие в жертвоприношениях; его ба сможет освободиться и бесстрашно бродить по берегам озера, сопровождая охотников и рыбаков, — бессмертное, в целости и сохранности, вечно молодое.
За несколько мгновений его тело разорвали, и каждая из голодных рептилий отправилась со своей добычей прочь. Взволнованная, окрашенная в красный цвет поверхность воды снова стала спокойной; несколько лоскутков от передника Меру лениво поплавали по кругу, а затем так же лениво опустились на дно. Так разбойник, убийца и насильник Меру оправданным вошел в царство Озириса. У собравшихся на берегу вопросов было больше, чем пчел во вспугнутом рое.
— Кто это был? Почему он выстрелил в Амани? Человек без носа и ушей… преступник… отщепенец… Почему? Почему?!
Ответ на это не был найден и после долгих месяцев расследования.
Когда после десятидневного отсутствия Меру не вернулся в храм, Гебу, второй жрец Себека, пошел в сокровищницу храма и пересчитал оставленное своим странным помощником золото и серебро. Он обнажил длинные желтые зубы и, довольно ухмыляясь, на мгновение прикрыл свои узкие глаза рептилии. От всего сердца он надеялся, что Меру исчез навсегда, и чувствовал, что Себек не откажет ему в этом желании.
Спустя несколько дней после смерти Амани из Западной Дельты привезли молодого быка Аписа, но никого это особенно не радовало, потому что траур по наследному принцу затенял все остальное.
Первой реакцией Благого Бога был безмерный гнев. Как человек мог осмелиться поднять руку против молодого Сокола Гора?! Рамзес все задавал и задавал этот вопрос жрецам и сановникам. Большинство из них только в молчании беспомощно качали головами. Некоторые сообразительные жрецы полагали, что человек этот был одержим демонами и не владел своим разумом.
Рамзес послал сотни ширдану, усиленных особым отрядом ниу, в область Фаюма. Они должны были опросить там каждого крестьянина и рыбака, прочесать каждую деревню, осмотреть весь Шедит и предпринять все меры, чтобы объяснить совершенное злодеяние.
Люди фараона разыскивали калеку без носа и ушей, а такого никто и не знал, и знать не хотел. Только жрец Себека Гебу подозревал кое-что, но оставил свои предположения при себе.
Что оставалось делать людям фараона, как не цепляться за тех, кто был отмечен рукой закона? Бедняги, у которых отсутствовали нос, уши или рука, были выслежены в Фаюме и собраны вместе. Но что можно было вытрясти из воров и обманщиков, как не очередное наобум названное имя, которое снова наводило на ложный след. Пару мошенников забили насмерть, некоторым удалось сбежать, а потом дело ушло в песок.
Нефертари не думала о возмездии. Великая Царская Супруга погрузилась в немой траур. Именно непоседливый, но милый и любящий Амани, хотя она и не признавалась себе в этом, был ближе всех ее сердцу. Рамзес неловко утешал любимую, обещал раскрыть заговор и давал понять, что убийца уже получил заслуженное наказание. Конечно, никакого заговора не было, хотя Незамун и хвалился перед Изис-Неферт, будто это было его ума дело.
Толстый, наголо обритый жрец-чтец с добродушным отцовским лицом сказал своей госпоже наедине:
— Ну, высокочтимая царица, вот и произошло то, что я обещал тебе именем Амона, э-э-э… то, что я предсказал тебе: первенца Благого Бога теперь зовут Рамозе. Нефертари может в будущем родить еще много детей, но Рамозе есть и останется наследным принцем. Мы должны теперь только…
— Ты забываешь одно, Незамун, — обрезала его Изис-Неферт, — Рамозе станет наследником престола только тогда, когда его назначит царь. А поскольку детки этой крестьянской девки имеют для него большую ценность, могут выбрать Енама, а после него — Мерире.
Толстый жрец кивнул:
— Да, это верно, но первый шаг сделан. Мы будем осторожно двигаться в этом направлении, положись на меня.
Незамун сам не знал, то ли смерть наследного принца была несчастным случаем, то ли преднамеренной волей неизвестного, но ему было все равно. Амон разгневался — он это чувствовал и дал знак, который фараон, вероятно, понял. Когда по истечении траура царская семья с мумией Амани отправится в Фивы, будет видно. Там Незамун обсудит дальнейшее с Тотмесом, верным служителем Амона.
Когда Изис-Неферт напомнила своему первенцу о том, что теперь он законный, хотя и не утвержденный фараоном наследник престола, Рамозе сказал ей с горечью:
— Знаю, но такой ценой я не хотел им стать. К тому же решающее слово за моим высокочтимым отцом, и я постараюсь облегчить ему решение. Большего я не хочу и не могу сделать.
Это была первая реакция принца Рамозе на новое положение дел, но отравляющая сердца борьба за власть уже повлекла его за собой.
И снова в царский дворец были призваны «ставящие печать бога», и они выполняли свою работу под надзором Анубиса с головой шакала.
Рамзес сказал Нефертари:
— Трагедия произошла, и мы ничего не можем изменить. Хорошо лишь то, что моя единственная возлюбленная подарила мне и других сыновей. То, что я говорю тебе сейчас, я объявлю после похорон в Фивах всему миру. Нового наследного принца зовут Енам. Он удачлив, развит умственно и физически, это сын, пользующийся моим благоволением, и если сегодня я должен буду отправиться к Озирису, то завтра он будет сидеть на моем троне.
Нефертари хорошо понимала, что дети Изис-Неферт не имеют никаких видов на трон до тех пор, пока жив хоть один из ее сыновей. Потому-то она и беспокоилась, и к горю по Амани добавлялась забота о живых сыновьях. Она окружила Енама телохранителями, которые должны были сопровождать его повсюду, и велела испытанным и надежным людям охранять покои маленького Мерире день и ночь.
С тоской вспоминала Нефертари о ничем не омраченных днях после их свадьбы, когда будущее лежало перед ней, подобно золотому утру, и она чувствовала себя настолько защищенной привязанностью царя, что едва ли могла помыслить, к чему приведут его вынужденный брак с какой-то там Изис-Неферт. Теперь Великая Царская Супруга уже давно чувствовала, что от этой женщины исходит опасность, которая до гибели Амани была неопределенной и неясной. Но теперь доверчивая, добродушная Нефертари начала ожесточать свое сердце против второй супруги и велела своим людям наблюдать за ней до тех пор, пока фараон не объявит в Фивах перед всем светом наследником престола принца Рахерунемефа — их Енама.
16
Получив с курьером послание от верховного жреца Небунефа, Мерит заподозрила, что произошло что-то очень плохое, потому что иначе жрец никогда бы не осмелился звать к себе дочь царя.
Чтобы напомнить, что она дочь Ра, Мерит явилась поздно, когда остальные уже давно собрались. Присутствие Пиайя заставило ее изумиться, но его подчеркнуто беззаботное лицо давало ей понять, что дело не касается их отношений.
Все поднялись и стояли склонившись до тех пор, пока Мерит не заняла место на предназначенном для нее высоком стуле, подобном трону.
Небунеф остался стоять и развернул царское послание.
— Высокочтимая принцесса, достойные жрецы, мастер Пиай, я знаю послание Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, уже наизусть и перескажу вам его в нескольких словах. Наследный принц Амани был убит неизвестным, поэтому прибытие Благого Бога, Великой Царской Супруги Нефертари и второй супруги Изис-Неферт задерживается на несколько месяцев. Фараон повелевает подготовить для Озириса-Амани достойную его гробницу. Мастеру Пиайю приказано сразу же после окончания работы в храме Мертвых поехать в Куш, чтобы заняться там работами по возведению Большого и Малого храмов. Для тебя, уважаемая принцесса, Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, приложил особое послание.
Небунеф передал ей узкий свиток папируса, и мужчины оставили ее одну. Письмо было от матери, царицы Нефертари.
Дорогая дочь, да пошлет тебе Хатор здоровья и счастья. Наш Амани мертв. «Ставящие печать бога» готовят его тело к вечности. Убийцу во время его бегства сожрали крокодилы, причину нападения так и не смогли выяснить. Наша печаль велика. Твой отец думает о заговоре, хотя на это нет никаких указаний. Если бы у меня не было твоих братьев Енама и Мерире, которые мило, хоть и неловко стараются утешать меня, я бы впала в отчаяние. Царь хочет, чтобы ты и дальше оставалась в Фивах и проследила за приготовлением Вечного Жилища для нашего Озириса-Амани. Для меня большое утешение, что мы все однажды увидимся в Закатной стране, и я говорю себе, что Амани просто нас опередил. Будь жива и здрава до тех пор, пока мы увидимся с тобой в Фивах.
Теперь, когда она осталась одна, Мерит дала волю своему горю. Слезы текли у нее по лицу, и она снова и снова бормотала:
— Амани, Амани, любимый маленький брат.
Для Тотмеса, второго жреца Амона, это печальное послание было радостной новостью. Он с трудом овладел собой, чтобы не выказать перед всеми своего триумфа. Торопясь домой, он радостно шептал:
— Благодарение тебе, Амон! Благодарение тебе, Амон! Ты дал нам новую надежду, царь богов!
Тотмес не сомневался, что фараон поймет знак бога и больше не станет противиться его воле. Первым шагом к этому будет назначение Рамозе наследным принцем, а вторым — возвышение Изис-Неферт до Великой Супруги, потому что, как мать наследного принца, она будет стоять рангом выше Нефертари. Терпение, не все сразу, шаг за шагом…
Тем временем стало известно, что Большой храм в скалах на юге должен быть посвящен Амону-Ра из Фив и Ра-Харахте из Она, в то время как для столь могущественного в Мемфисе Пта планируется лишь небольшое культовое сооружение.
«Амон — велик повсюду, — довольно подумал Тотмес, — и если мастер Пиай повлиял на фараона столь благотворно, мы этого не забудем».
Тотмес велел принести себе кувшин вина и отпраздновал радостное послание на свой манер. В конце концов фараон должен понять, где ему искать настоящих друзей, а значит, недалек тот день, когда он, Тотмес, займет место недостойного Небунефа. Второй жрец мрачно улыбнулся. Беки должен будет определиться, на чьей он стороне, потому что одного прилежания недостаточно, чтобы служить Амону, необходимо иметь правильный образ мыслей. Тотмес опустошил целый кувшин вина и задремал, видя блаженные сны о будущем.
Первым чувством Пиайя была горечь от предстоящей разлуки с Мерит. Амани немного для него значил, и его печаль была печалью мужчины, который разделяет ее с любимой. Мерит останется в Фивах, пока он в раскаленном от жары Куше будет превращать скалу в храм. Как Пиай ни любил свое ремесло, в этот момент он проклинал его, он не мог больше представить свою жизнь без Мерит. О бегстве нечего было и думать: рука царя достала бы их повсюду, на юге или на севере, и каждый владыка чужих земель оказал бы любезность фараону, выдав беглецов. Как поведет себя Мерит? Речь сейчас шла только об этом.
Двумя днями позже они встретились в царском дворце и сели обедать на тенистой террасе сада. Пиайю снова пришло в голову, как легко в часы любви находить нежные, безумные, бессвязные слова и как трудно бывает разговаривать друг с другом по-деловому. В неловких словах он попытался выразить свою печаль по поводу смерти Амани, но Мерит резко оборвала его.
— Не пытайся разыгрывать чувства, которых у тебя нет и не может быть. Амани был частью моего детства, для тебя он остается чужим, даже если случайно является братом твоей возлюбленной. Мы говорим теперь не о нем, а о нас.
— Да, — согласился Пиай, — поговорим о нас, о нашей предстоящей разлуке. Мне царь, да будет он жив, здрав и могуч, приказал отправиться в Куш, а ты, я предполагаю, останешься здесь, в Фивах, до прибытия Благого Бога. Я… я не знаю, как мне это выдержать. Два дня без тебя, и я чувствую себя так, как будто сердце вырвали из моей груди…
— А я? — гневно спросила Мерит. — Ты думаешь, я ничего не чувствую? За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, у меня сердце из гранита? Мое тело тоскует по твоему совсем неподобающим для дочери царя образом. Я должна была бы ощущать отвращение к телу простолюдина. Дочь Солнца должна была бы желать лишь принца своей крови — так меня учили, в этой вере я выросла. Но теперь я знаю, что-то не так. Для меня ты — принц.
Тут Пиай должен был против воли рассмеяться:
— Я знаю очень мало о своих родителях, но принцами крови они оба вряд ли были. В моей матери-рабыне я могу быть уверен, а отец… Он был пленен когда-то на поле битвы и мог происходить из хорошей, может быть, даже очень знатной семьи.
— Не принимай всерьез то, что я сказала. Мне совершенно безразлично, что ты собой представляешь и каково твое происхождение. Мое тело признало тебя как единственного мужчину, это я знаю настолько же точно, как если бы сама Хатор прошептала мне это на ухо.
— Что будет дальше? Может быть, мы должны вместе умереть, тогда мы сможем навсегда соединиться в прекрасной Закатной стране.
— Может быть, — ответила Мерит, — однако я слишком ценю мое и твое тело, чтобы преждевременно выдать его «ставящим печать бога». Нет, у меня другое предложение. Ты едешь, как приказал мой отец, в жалкий Куш к твоим храмам, а я остаюсь, чтобы не возбуждать подозрений, на десять дней в Фивах. Потом я еду вслед за тобой, чтобы заботливо проинспектировать храм, предназначенный для моей матери. В конце концов я представляю здесь фараона, а мой отец в ближайшее время никуда ехать не может. Не
будет никаких возражений, поверь мне.
— Возражений не будет, потому что никто не осмелится тебе противоречить. Но вопрос в том, что подумают люди…
Резким движением руки Мерит отмела его возражения:
— Ах, это? Да пусть думают что угодно. Никто безнаказанно не вмешается в дела царской семьи. Я возьму только Бикет и доверенных служанок. Своему двору я скажу, что речь идет о короткой поездке, потому что царь ожидает от меня доклада, а потом… поездка продлится дольше.
Пиай с нежностью посмотрел на любимую:
— Мне все подходит, лишь бы только не находиться долго без тебя. Делай, как сказала, для этого ты и имеешь власть. Я же только ремесленник и твой слуга.
Мерит тихо рассмеялась:
— Ты мой муж и, когда мы одни, мой господин. Доверься своей жене, любимый. Все выйдет, как мы желаем.
Отдаваясь любимому, принцесса снимала парик с золотым уреем и превращалась, как она говорила, в простую женщину.
— Мне доставляет большое удовольствие вести двойную жизнь, — заметила Мерит. — Снимая венец, я становлюсь лишь слабой и беззащитной женщиной, которая дарит своему мужчине час любви. А тебе не надо беспокоиться, что ты делаешь что-то запрещенное, соблазняя принцессу.
— Я боюсь, что твой отец посмотрит на это по-другому. Для фараона ты всегда принцесса, с уреем или без него.
— Любящие создают свои собственные законы, — мудро сказала Мерит и поцеловала соски Пиайя.
Они сбросили с себя одежду. Пиай лег на слишком короткое для него ложе и притянул к себе Мерит.
— Иногда я хотел бы удержать в небе ладью Ра, чтобы время для нас остановилось. Я мог бы целыми днями любоваться тобой, майт-шерит, моя маленькая львица, и никогда бы не насытился твоим обликом.
Он нежно погладил ее по глазам, носу, рту, целовал ее так долго, что она начала задыхаться, в то время как его рука ласкала ее теплый влажный живот.
Их блестящие от пота тела начали игриво переплетаться друг с другом. Мерит любила трогать его мускулы, которые от многих дней тяжелой физической работы стали крепкими, как камень. Они, смеясь, крутились на узком ложе, пока Пиай не признал себя побежденным, в то время как Мерит встала над ним на колени и прижала обе его руки к телу.
— Теперь ты связан, мой раб, и я могу делать с тобой все что хочу.
— Пощады! — кричал Пиай высоким испуганным голосом. — Пощады, дочь Ра, я сделаю все что ты захочешь!
— Тогда люби меня, — приказала Мерит и медленно села на его высоко поднявшийся фаллос, тихо вскрикнув. Он хорошо знал этот ее вскрик и часто слышал его.
«Все это принадлежит тебе, — проносилось в его голове, — в этот жаркий полдень в царских покоях. Это прекрасное девичье тело, эта грудь, этот теплый влажный живот, ее вскрик… Но ты не можешь это удержать, это мимолетно и проходит».
Пиай привык продлевать любовную игру так долго, как только возможно. Он не был больше зеленым юнцом, который торопливо прыгает на девушку, как кролик, а пресытившись, отворачивается от нее. Он научился сдерживать себя до тех пор, пока желание не овладеет каждой клеточкой тела Мерит, поднимаясь медленно, как ленивый пузырек воздуха в глубоком пруду. Терпеливо он всматривался в ее лицо, наблюдая, как желание охватывает ее тело, как ритм их тел все убыстряется, становится все неистовее, как она вонзает ногти в его тело, маленькая львица. Потом Пиай сам сдавался, устремляясь в это любимое женское тело.
Опытная Бикет вела счет дням, благоприятным для зачатия у своей госпожи. Она старательно высчитывала их от одного очищения до другого. Мерит же устраивала так, чтобы никогда не находиться вблизи Пиайя во время дней, благоприятных для зачатия, потому что боялась обоюдной страсти, которая отодвинет в сторону все сомнения и заставит забыть об осторожности.
Печаль о смерти наследного принца быстро прошла. Люди знали, что у царя много других сыновей, а кроме того, радость от встречи с новым Аписом вытеснила все остальные мысли, поэтому траур продолжался лишь в царском дворце, где мумия Амани была положена в роскошный раскрашенный саркофаг для переезда в Фивы.
В этот день жрец Пта Хамвезе был принят Великой Царской Супругой. Умный сын Изис-Неферт не ощущал ни малейшей антипатии к первой жене своего отца, хотя бы ради древних святых законов, которые он как жрец особенно уважал.
Они беседовали некоторое время о новом Аписе, пока Нефертари внезапно спросила:
— Хамвезе, ты считаешься, несмотря на свою юность, ученым и знающим человеком. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Фараон уже провел над телом Амани церемонию открытия рта. Его мумия ожила, но она еще не въехала в Дом Вечности. Где сейчас ка Амани? Скажи мне, где?
Хамвезе увидел, как увлажнились глаза Нефертари и несколько слезинок скатились по круглым прелестным щекам все еще удивительно свежей и красивой женщины. Она отвернулась.
— Я не могу его просто забыть, он был… он был… Да, тебе я это скажу, Хамвезе, он был моим любимым сыном. Ты жрец и можешь хранить тайну. Это знала только я. Может быть, это чувствовал и Амани — что я его люблю больше всех. Ну ответь же на мой вопрос, Хамвезе! Где сейчас Амани?
— На это легко ответить, царица. Только когда ты говоришь, что его тело оживет, это следует понимать в другом смысле. Живет его ка, тень его тела, но в другой, недоступной для нас сфере. Сейчас, в этот миг, Амунхерхопсеф может находиться среди нас, слушать наш разговор, но потом время от времени его ка возвращается назад, в мумию, потому что она является его местом отдыха, его опорой в потустороннем мире. Ка необходимо питание, которое мы передаем через регулярные жертвоприношения, в то время как душа ба может улетать, словно птица с головой человека, и быть менее привязанной к мумии, чем гробница, которая является ее жилищем и укрытием.
Хамвезе всегда называл единокровного брата полным именем, потому что не мог терпеть сокращения и ласкательные формы имен.
Нефертари подняла глаза, полные слез:
— Откуда мы знаем это, если никто этого не видел? Ка человека ведь невидимо, оно живет, как ты говоришь, в другой сфере. Откуда же пришло наше знание? Или ты видел однажды птицу ба? Я раньше почти не думала об этом, просто верила тому, чему меня учили. Однако теперь, когда Амани мертв…
Хамвезе терпеливо улыбнулся:
— Жрец обязан отвечать на такие вопросы, иначе он едва ли годится для своей должности. Верно, никто не видел ка другого человека, и, тем не менее, есть верные доказательства того, что оно существует. В храмовых архивах хранятся свидетельства из прошлых столетий, есть также примеры и из современности, которые доказывают то, во что верит каждый египтянин. Я приведу тебе один пример. Двадцать лет назад некий ремесленник был убит при строительстве храма упавшим камнем. Камень упал ему на голову, придавил череп, и лекарь установил смерть этого человека. У его семьи было немного денег, и они доверили его тело «ставящим печать бога», чтобы подготовить ремесленника к вечности. Так как череп был раздроблен, бальзамировщики решили достать мозг не через нос, а через затылок. Они удалили раздробленный кусок кости, и в тот же миг мертвый открыл глаза, поднял голову и спросил: «Где я? Что произошло?» Короче говоря, мужчина рассказал позже, что в тот миг, когда смертельный удар камня поразил его тело, он увидел себя самого лежащим перед стеной храма. Он мог назвать имена всех людей, которые подбежали к нему, отнесли его прочь, позвали лекаря. Его ка уже отделилось от тела и наблюдало все это как бы со стороны. Когда ставящие печать бога открыли его череп, он ощутил ужасный и, как он это назвал, болезненный толчок, когда ка снова вошло в его тело, и в тот же миг мужчина очнулся. Если бы это было единственным случаем, о котором мы знаем, можно было бы сказать, что этот человек в действительности не был мертвым и все это приснилось ему во сне. Однако есть десятки подобных свидетельств от различных людей, живших в разные годы. Все они видели свое тело, лежащее неподвижным, как бы со стороны, видели людей, которые первыми позаботились о «мертвом», а позже даже узнавали их. Все они ощущали горестное чувство, когда их ка снова должно было возвратиться в тело. Это горестное чувство при возвращении души в тело свидетельствует о том, что на том свете душу ожидает более прекрасная жизнь. При окончательной смерти ка так долго остается за пределами тела, пока оно после магического обряда открытия рта не сможет снова вернуться в тело. Так как это уже не земное тело, а приготовленное для вечности, мертвый при помощи бога Озириса становится духом, который продолжает жить бессмертным и вечно юным в другом мире.
Нефертари вытерла слезы и сказала:
— Я верю тебе, мой дорогой. В таких вещах ты понимаешь больше, чем я. Если хочешь, мы посетим сейчас вместе Озириса-Амани.
Они пошли в бывшие покои принца, где на возвышении стоял саркофаг с мумией. Нефертари поцеловала вырезанную из дерева раскрашенную голову и вздрогнула от неподвижного взгляда искусственных глаз. Хамвезе произнес несколько магических молитв и коснулся золотым Анком в палец длиной глаз, носа и рта вырезанной из дерева маски.
Прощаясь с Нефертари, Хамвезе обратился к ней с просьбой:
— Ты обрадовала бы меня, жреца Пта, и весь народ Мемфиса, если бы почтила своим высоким визитом теленка Аписа. В эти дни многие устремляются к храму. Новый Апис особенно красив. Все преданно молятся этой омолодившейся душе Пта.
— Да, — ответила Нефертари, — я приду, хотя бы для того, чтобы доставить тебе радость.
С почтительным поклоном Хамвезе поцеловал руку царицы.
Несколько дней спустя Нефертари велела отнести себя в закрытых носилках к храму Пта. Она могла бы выбрать короткий путь через Западные ворота дворцового квартала, но Великая Царская Супруга не хотела разочаровывать народ, потому что глашатаи ранним утром объявили о том, что она посетит Аписа. Итак, процессия с телохранителями, жрецами и чиновниками покинула Белую Стену на востоке и двинулась широким потоком через весь Мемфис к Большому храму Пта.
На Нефертари был праздничный наряд для официальных церемоний: длинное платье в складку, широкий пояс, несколько раз обвивающий по-девичьи тонкий стан, на голове хохолок коршуна с высокой короной из перьев. В правой руке царицы покоился золотой цветок лотоса, священный знак бога Нефертема, сына Пта и Сехмет. Процессию заключала повозка с жертвенными дарами быку Апису: несколько десятков шеффелей отборного зерна и огромные кувшины с маслом, вином и медом. Позади слуги вели двух быков, которых жрецы нашли безупречными и годящимися для приношения в жертву. Как Великая Царская Супруга, Нефертари имела отряд личной охраны, копьеносцы которого окружали ее носилки. Авангард охраны освобождал для нее проход по улицам.
Нефертари, у которой уже было пятеро детей — недавно на свет появилась ее маленькая дочь Хенут, — все еще выглядела как юная, изящная девушка, не потеряв своего очарования и красоты. На лице ее играла легкая улыбка, и темные, слегка раскосые глаза ласково смотрели на ликующий народ.
— Ты самая очаровательная! Ты самая милая! Ты самая красивая из всех! Ты любимица Благого Бога! Да дарует Хатор тебе плодородие!
В подобных случаях у нее всегда возникало ощущение, что ликование адресовано не ей как женщине и человеку, а венцу, который она носила, и супругу, который ее избрал. Нефертари была свободна от гордыни и тщеславия и достаточно умна, чтобы знать, что вчера еще эти приветственные крики адресовывались царице-матери Туе, а через много лет другую женщину, носящую хохолок ястреба, народ будет встречать с таким же ликованием.
Процессия продвигалась вперед медленно. Толпы народа запрудили улицы, просители бросались ниц перед носилками, матери высоко поднимали детей, чтобы показать им царицу. Прошло несколько часов, пока они достигли западных ворот храма Пта. Там их приняли четыре жреца, среди них древний верховный жрец Гуй и второй жрец Хамвезе, который вскоре должен был стать преемником Гуя.
Нефертари слегка завидовала второй супруге — матери этого человека, ум которого все прославляли.
Жрецы провели царицу к обиталищу Аписа. Веселый теленок прыгал вокруг своей матери на старательно ухоженной траве, и невежественный чужак не нашел бы в нем ничего священного. Однако знаки были налицо: белый треугольник на лбу, орел на спине, шелковистая черная шерсть, скарабей под языком и все остальное, доказывавшее, без сомнения, истинность юного Аписа.
Нефертари склонилась с почтением и произнесла короткую молитву к живой душе Пта. В своей молитве она высказала просьбу о том, чтобы у нее был еще сын, надеясь, что этим ужасная потеря как-то сгладится и боль смягчится.
С многословными благодарностями жрецы приняли богатые жертвенные дары и предложили царице присутствовать при ритуальном заклании обоих жертвенных быков. Однако Нефертари отклонила их предложение. Она выпила со жрецами Пта бокал вина, еще раз посетила теленка Аписа и велела отнести себя, на этот раз уже коротким путем, во дворец.
Царь назначил отъезд в Фивы на следующий месяц, и Нефертари радовалась предстоящей встрече с Мерит, от которой уже давно не было известий.
Когда Пиай добрался до Куша, он был загружен таким количеством вопросов и проблем, что несколько дней не мог приступить к работе. Опытные специалисты установили, что скалистый берег реки состоит из слоев мягкого и твердого камня, так что необходимо внимательно следить за тем, чтобы не использовать мягкие слои для крыши или колонн.
Тем не менее каменотесы проникли уже в глубь скалы, выдолбили большой зал для Малого храма Хатор-Нефертари и поставили шесть опор. Внешний фасад уже был начерно разделен на шесть ниш, перед которыми Пиай должен был выточить фигуры царя и царицы около двадцати локтей в высоту. В расположенном южнее Большом храме строители трудились еще над первым залом с боковыми помещениями, однако уже сейчас оказалось, что необходимая симметрия не достигнута из-за различного по твердости камня. То тут, то там наблюдались небольшие отклонения, однако Пиай был очень доволен и похвалил ответственных за работы. Рабочие жили около массива скал в устроенном для них лагере, который большей частью состоял из льняных палаток. В домах из кирпичей, изготовленных из нильского ила, жили руководители строительства, ремесленники и надсмотрщики. На живописном месте над Нилом был построен маленький дворец для царя, а в разбитом вокруг него саду уже зеленели и цвели заботливо поливаемые растения.
Ответственные за строительство подумали обо всем.
Строительные отходы — скальную породу — грузили на ладьи и топили в различных местах Нила. Питание почти двухсот рабочих обеспечивали поставки продуктов ладьями с юга: каждый день привозили свежие овощи, фрукты и живой скот для бойни. Продукты, которые можно было хранить — такие как зерно, сушеные фрукты, масло и мед, — были помещены в проветриваемых складах и охранялись несколькими вооруженными людьми день и ночь.
Царь настоятельно рекомендовал не использовать на строительстве обоих храмов каторжников и преступников. Большинство рабочих были нубийцами, которые пришли сюда добровольно и хорошо выполняли свою работу, потому что их превосходно кормили и они получали богатое вознаграждение.
По желанию царя сначала должны были сделать Малый храм, поэтому Пиай на четвертый день после прибытия принялся за работу над фасадом. Он отказался от намерения работать с деревянными помостами и велел использовать строительные отходы, укрепив над известняковой платформой тент для защиты от солнца. Грубую работу он поручил сильным каменотесам, которые трудились посменно с четырех часов утра до ночи. Пиай следил за их работой, сверяя результаты их труда со своими планами и чертежами, потому что знал, что даже при столь грубых работах нельзя снять ни на кусочек больше, чем нужно. Его помощник Хотеп следовал за ним по пятам, смотрел, сравнивал, учился и с нетерпением ждал дня, когда сам сможет приложить руку к работе.
В большом зале храма Нефертари скульпторы занимались квадратным пилястром с головами Хатор в форме систра и снабжали его надписями, в то время как художники выполняли рельеф на стенах. Изображения царской четы в обществе богинь Изиды, Хатор и Анукет, почитаемой на юге местной богини, украшали интерьер. Но Рамзес хотел предстать перед своей возлюбленной в качестве полководца и героя, поэтому большой рельеф на стене изображал, как он ударом дубины сваливает нубийца, а Нефертари позади него наблюдает за этой сценой. Но это надо было понимать символически, потому что Куш уже много лет был мирным вассальным государством, а для подавления возможных восстаний хватило бы находящихся там войск. Изображение победы под Кадешем должно было украшать Большой храм, и этот рельеф был так важен царю, что он сам дал подробные указания Пиайю.
Работа на высоте осложнялась удушающей жарой и частыми песчаными бурями. Глаза у Пиайя воспалились, кисти рук распухли, и порой резец буквально выпадал у него из рук. В менее сложных местах теперь работал повзрослевший и возмужавший Хотеп.
Несмотря на полную отдачу пожирающей его силы тяжелой работе, Пиай день ото дня все сильнее ощущал отсутствие любимой. Он каждый вечер смертельно усталый и разбитый падал на свое ложе, и для него было бы едва возможным выдержать час любви с Мерит, но он не думал об этом. Она владела его телом и душой, маленькая львица. Она пробудила в нем жажду, которую только она одна могла утолить. В отчаянии Пиай взял в постель красивую нубийку, но ничего не мог с ней сделать. Он устало положил голову на ее плечо цвета черного дерева и мгновенно заснул. Он надеялся, что Мерит сможет выполнить свое обещание и прибудет через несколько дней. Все чаще он отворачивался от работы и смотрел с высоты на Нил, туда, откуда могла вынырнуть ладья Мерит. Ладей на Ниле всегда было достаточно: тяжело нагруженные, с грязными, часто порванными парусами и обнаженными сильными гребцами; легкие, как перо, быстрые парусники, которые гнал постоянно дувший северный ветер, и маленькие лишь наполовину нагруженные лодки из Куша, которые без парусов спускались по течению на север, чтобы доставить в Суенет товары или дань. Однако роскошная ладья Мерит с позолоченной головой Хатор не показывалась. Пиай бы ее тотчас узнал. Сгоравший от любопытства Хотеп в одну из редких пауз во время работы осмелился спросить, кого мастер Пиай с таким нетерпением ожидает. Тот недовольно буркнул:
— Конечно, царя, дурень. Зачем, как ты полагаешь, мы здесь содрали всю кожу с рук? К тому времени, когда Богоподобный, да будет он жив, здрав и могуч, прибудет сюда, работа должна продвинуться как можно дальше, и прежде всего это касается Малого храма.
Так как Пиай знал, что Рамзес велел соорудить храм Хатор в знак почитания своей любимой супруги Нефертари, он начал работу над фигурой царицы на фасаде. Нефертари, чтобы подчеркнуть ее сходство с божественной Хатор, следовало изобразить с высоко поднятыми рогами коровы и солнечным диском на голове. Ее левая рука должна была касаться систра, под ее правой рукой предусматривалось поместить фигуру принцессы Мерит-Амон. Рядом с левой ногой колоссальной статуи должна была найти свое место принцесса Хенут, которая симметрии ради изображалась такого же роста, как ее старшая сестра.
Это место было еще прикрыто, и быстрота, с которой работал Пиай, служила также цели представить перед любимой ее собственное изображение. Таким образом, Пиай как бы раздвоился в своих желаниях: мужчина в нем каждой своей клеточкой тосковал по любимой, а художник желал ее отсутствия до тех пор, пока работа не будет окончена. Чтобы сэкономить время, Хотеп должен был одновременно работать над фигурой Хенут. Он делал это с рвением и талантом, не задавал вопросов, не создавал трудностей, потому что обе принцессы отличались друг от друга только именами под статуями.
17
Снова и снова добавлялись обстоятельства, которые замедляли отъезд фараона. Казалось, будто город, к которому он много лет назад повернулся спиной, удерживает его, чтобы вдосталь насладиться его священным присутствием. К концу третьего месяца Ахет прибыли запросы от жрецов, не захочет ли он почтить своим присутствием один из многих праздников, которые приносил с собой четвертый месяц Ахет: праздник Хатор, большой праздник Амона, проведение обряда помазания девяти, праздник Дьед и, наконец, старинное, чрезвычайно важное для Мемфиса празднество Зокара. В Дельте эти старые божества уже давно слились с Озирисом, который изображался в виде мумии с головой сокола и особо почитался народом, главным образом как бог плодородия. Зокар был господином пашни, в которую бросалось зерно, чтобы позднее появиться снова, уже в виде растения. Так как именно это желание пробиться к свету Ра двигает человеком, которому суждено умереть и быть запертым в темноте своей гробницы, то Зокар принимал на себя одновременно должность бога мертвых, который дарит людям на том свете новую жизнь. На границе пустыни у Мемфиса, где на горизонте вырисовывались силуэты многочисленных пирамид старых времен, поднимался маленький почитаемый с древних времен храм Зокара, восточные ворота которого выводили на усаженную пальмами священную землю, в то время как западные ворота были обращены к пустыне и гробницам.
Итак, царь дал себя убедить принять участие в празднестве Зокара, но сразу после этого он должен был выехать на юг. Как требовал обычай, фараон появился один, окруженный лишь несколькими телохранителями. Вокруг священной пашни собралось много народа, но не раздалось ни одного ликующего крика, потому что Зокар был богом тишины, который жил в тайных глубинах Царства мертвых.
Жрецы уже держали наготове его древнее культовое изображение на божественной ладье. На человеческую фигуру в виде мумии с головой сокола, сидевшую на камне, был надет бело-золотой венец Озириса — атеф.
По знаку царя жрецы высоко подняли Зокара и поставили ладью на повозку. Вместе со жрецами и их помощниками Рамзес ухватился за веревку и протянул повозку до священной пашни.
Там царь решил:
— Теперь я все сделаю сам!
Он подхватил ремни и быстрыми шагами провез культовое изображение по мягкой темной земле. Ноша была немалая, но царю доставляло удовольствие проделать эту священную работу одному.
Около пятидесяти избранных жителей Мемфиса, мужчин, женщин и детей, шли на почтительном удалении от культового изображения, на шее у них были тяжелые ожерелья из свежих луковиц. Никто из этих людей не знал значения этого действа, но это был древний обычай, которому свято следовали.
Онемев от восхищения, они смотрели на своего могучего царя. Он был выше их всех по меньшей мере на голову. Женщины восхищались его мужественностью и царственным величием, мужчинам понравилось его спонтанное решение одному проделать эту тяжелую, непривычную работу. И как хорошо он ее выполнял! Не замедляя шагов, Рамзес протащил повозку, изгибавшуюся в форме полумесяца, по священной пашне и снова поставил ее перед восточными воротами храма.
То, что фараон, верховный жрец страны Кеми, своей священной работой придал особый блеск празднеству Зокара, вскоре стало известно во всем городе. А поскольку в этом одном из самых привычных для знати, но важных для народа празднеств уже много лет не принимал участия ни один царь, Рамзеса после окончания церемонии приветствовали громкими криками:
— Да будешь ты праздновать тысячу тысяч праздников Зед, золотой Гор! Сильный и могучий Бык! Сын Солнца! Кормилец страны! Ты Благой Бог во всем своем великолепии и силе! Любимец богов!
Рамзес наслаждался этими почестями, потому что знал, что никто ничего не приказывал этим людям, их слова шли от самого сердца. Он чувствовал, как приветственные возгласы большого количества безымянных людей наполняют его тело новой силой, как эти тысячи голосов проникают в его сердце и питают божественную искру его ка.
Рамзес велел приготовить себе ванну, переоделся и пошел в дом Изис-Неферт.
— Извини, что я пришел, не объявив заранее о своем визите, но я хотел сам сообщить тебе, что наше путешествие скоро начнется. Я полагаю, что ты тоскуешь по Фивам. Теперь ты возвращаешься на родину как царица под хохолком коршуна, которая родила повелителю Обеих Стран трех сыновей.
— Да, — с гордостью подтвердила Изис-Неферт, — и среди них твой первенец.
Рамзес подавил поднимавшийся гнев.
— Я полагаю, ты должна это выразить другими словами. Среди твоих детей есть мой старший сын. Ранг первенца я могу даровать только ребенку Великой Царской Супруги, и поэтому Енам следует за своим умершим братом. Я не хотел бы спорить с тобой о порядке престолонаследия, потому что это, заметь себе, решаю один я. Сети, например, рожден наложницей, но он очень хороший сын, и мы похожи как две капли воды. Должно быть, бог Хнум что-то имел в мыслях, когда сотворил этого ребенка по моему образу и подобию.
Изис-Неферт опустила голову и пристыженно замолчала. Ее лицо с годами стало более суровым, хотя и не выглядело от этого менее красивым. Ощущаемая ею постоянная горечь от необходимости все время оставаться только второй наложила отпечаток на облик бывшей служительницы Амона. Другие бы женщины прекратили сопротивление, смирились и получали все выгоды от своего положения. Изис-Неферт, однако, не смирилась. Амани был мертв, Нефертари родила последней дочь, и вторая жена чувствовала направляющую руку Амона, утешая себя старой мудростью, что деяния богов не терпят суеты. Так как она продолжала молчать, Рамзес сказал примирительно:
— Мы поедем вместе с Нефертари, ты и Нефертари рядом со мной в сопровождении наших детей. Город Амона должен с ликованием встретить тебя, Изис-Неферт, ведь ты его дочь и именно жрецы Амона порекомендовали мне тогда тебя… Ну, я надеюсь, ты ни разу об этом не пожалела.
— А ты, Богоподобный?
— Если бы я пожалел, то ты сейчас вела бы совсем неприметную жизнь в углу гарема, или же я отослал бы тебя обратно жрецам. Ты неприступная красавица, моя дорогая, но ты также умна, горда и непреклонна, и часть этих качеств унаследовали твои сыновья. Ум, кажется, прежде всех унаследовал Хамвезе, гордость и непреклонность же, похоже, отличают нашего Рамозе.
— Который носит твое имя, Богоподобный.
— Ты уже почти двадцать лет моя жена и упорно называешь меня Богоподобным. Тебе не приходит в голову какое-либо ласковое слово, ведь ты так часто разделяла мою постель?
Рамзес сказал это с иронией, но Изис-Неферт в подобных делах шуток не понимала.
— Ты — сын Солнца, и ты передаешь дальше семя великого Амона-Ра. Тут никакое другое обращение не подходит.
Она говорила торжественно, как жрица, и, хотя Рамзес знал этот тон и с давних пор насмехался над ним, он в глубине сердца уважал ее точку зрения и даже разделял ее. Вся честь, все достоинство, величие и святость земли Кеми воплощались в конце концов в его персоне, и, когда Нефертари время от времени встречала его насмешливо и без знаков уважения, это была исключительно ее прерогатива. Только Прекраснейшая имела право на это, потому что он безмерно любил ее и ценил выше всего и потому что в ее объятиях он на несколько часов мог забыть свое царство, как бы высоко он его ни ценил. Когда ее раскосые темные глаза смотрели в глубину его души, когда ямочки танцевали на ее милых щечках, Богоподобный Рамзес становился всего лишь мужчиной, как любой другой египтянин, мужчиной, который желает свою жену и знает, что любим ею.
Со смертью принца Амани лад между сыновьями Рамзеса начал постепенно распадаться. Рамозе, которому мать и управитель ее двора Незамун постоянно напоминали, что он имеет все права на трон, преисполнился высокомерия, которое раньше было ему чуждо. Он обращался с придворными так, будто уже был соправителем своего отца. Он завел гарем и выражал желание при случае взять себе супругу из числа своих сводных сестер. Изис-Неферт настоятельно запретила ему высказывать эти мысли где-либо, за исключением ее дворца.
— Достаточно, если об этом знаем Незамун и я. Однако помни, что реально претендовать на трон из всех принцесс могут только дочери Нефертари. Вопрос стоит только о Мерит и маленькой Хенут. Может быть, что-либо решится в Фивах.
В характере Енама, теперь старшего из сыновей Нефертари, также произошли заметные изменения. До этого он был лишь верным вассалом и подражателем своего старшего брата Амани. Если тот упражнялся во владении пращой, Енам делал то же, если тот отправлялся охотиться на газелей в пустыню, Енам следовал за ним. Теперь подобного примера у него не было, и восемнадцатилетний молодой человек за несколько недель сделал то, что ему давным-давно пора было сделать, а именно, вырос.
Спустя несколько дней после смерти Амани царь говорил с ним с глазу на глаз.
— Как бы мы все ни горевали об Амани, то, что я должен сказать тебе, не терпит отсрочки. Ты старший из детей Великой Царской Супруги. Ты один предназначен для того, чтобы вступить на трон. Божественное семя Амона будет после меня передаваться тобой — в этом даже я, фараон, ничего не могу изменить. Конечно, я мог бы любого из моих сыновей назначить наследником престола. Я мог бы узаконить это решение, но я поступил бы неправильно, а этого царь должен остерегаться всегда. В Фивах я официально объявлю о твоем новом статусе, а до тех пор храни молчание. Подумай только, что означает твое полное имя — Рахерунемеф-Ра находится Справа от Тебя. В Кеми почитаются много богов, но нет ни малейшего сомнения в том, что Ра, божественное Солнце, воплощается во всех, и они все вместе — Пта ли это, Сет, Амон, Озирис, Изида, Хатор, Сехмет или Хнум — обозначают Ра. Каждый образованный человек знает это, а народ чувствует. Как неправильно было бы отделять Ра от всех богов, я покажу тебе во время нашего путешествия. И только тебе, Енам, наследному принцу!
Эти слова стали толчком к изменению вчерашнего младшего брата. Теперь Амани больше не стоял между Енамом и страной Кеми, он сам теперь стоял впереди всех.
А ночью Рамзесу привиделся сон, который надолго остался у него в памяти. Он снова переживал тот час, когда «ставящие печать бога» завершили свою работу и уложили Амани в разрисованный саркофаг. Рамзес совершил длительную церемонию открытия рта, а потом внезапно наступила ночь, и он остался с мумией сына один на один. Тусклые предрассветные лучи едва очерчивали края саркофага, и Рамзес уже хотел покинуть покои сына, когда двое слуг внесли еще одну мумию. Никто не проронил ни слова, но он тотчас понял, что слуги поставили рядом с Амани умершего Енама. И так пошло дальше: Рамозе, Хамвезе, Неферхару, Мерире, Амунимия, Сети, Сетенпре и еще много других его сыновей от жен и бесчисленных наложниц были положены в саркофаги до тех пор, пока помещение не переполнилось и Рамзеса не оттеснили до двери. И, наконец, он должен был выйти. За дверью стояла Нефертари. Она встретила мужа приветливой улыбкой, на голове у нее были рога коровы и мягко мерцавший золотой диск солнца. Вдруг Рамзес понял, что она больше не находится среди живых, а выступает в качестве обожествленной Хатор, и внезапно почувствовал себя таким одиноким и покинутым, что заплакал.
Тут Рамзес проснулся и почувствовал, что щеки у него мокры от слез. Тяжелый груз свалился с его души, когда он понял, что это только сон, что они все, кроме Амани, еще живы. Но царь запомнил этот сон. Он не призвал толкователя и даже Нефертари не сказал ни слова, но запомнил все и даже то, что среди умерших отсутствовал Меренпта…
Для Сети, внешне столь похожего на своего отца, сына безымянной, давно умершей наложницы, жизнь тоже изменилась. Амани, который сплотил их всех, теперь был мертв. Остальные пошли своим путем, но фараон не забыл этого своего сына, напоминавшего ему собственную юность. За мужественное преследование убийцы брата и наследника престола Сети был награжден большой золотой мухой. Рамзесу искренние действия сына послужили поводом дальше развивать воинские навыки Сети. Он мог теперь сопровождать ниу в их дальних походах по пустыне, учился с оружием в руках сражаться за свою жизнь, хотя за его спиной постоянно стояли два телохранителя, готовых тут же вмешаться. Стрелял из лука он лучше, чем раньше, и гораздо чаще попадал в цель с боевой колесницы и со скачущего коня. Позднее Рамзес хотел назначить Сети начальником над своими телохранителями, но сейчас предстояла поездка в Фивы, и вместе с сыновьями обеих его жен, за исключением Хамвезе, который оставался в Мемфисе, участие в поездке мог принять и Сети.
Это был самый большой царский флот, который когда-либо плыл по Нилу. Он состоял из двадцати четырех ладей, которые были предназначены для фараона, Нефертари, Изис-Неферт и Озириса-Амани. Беспокойная и кипучая натура царя — все должно делаться немедленно — успокоилась, как только он взошел на ладью. Путешествия означали для Рамзеса передышку, размышления и возможность собраться с силами. В спокойствии он наслаждался видом медленно мелькавших перед ним полей с темной почвой, которые распахивали коровы с белыми пятнами; колыхавшихся на ветру пальм; прерывавших свою работу людей, которые часто, потрясенные, молча смотрели на царский флот, а иногда бросались к берегу, кивали, восторженно прыгали или какое-то время бежали вдоль берега, сопровождая царский флот. При этом Рамзес чувствовал, как сила этой страны втекает в него, как его сердце наполняется гордостью и весельем, ибо все это: люди, животные, растения, земля — все принадлежит ему и только ему одному. Он чувствовал, как его тело словно вырастает до гигантских размеров, как он прикрывает собой всю страну и сливается с ней в единое целое. Головой его была Дельта, его распростертые руки охватывали землю с востока на запад, его плечами был Мемфис, грудью — прекрасный Фаюм, а бедрами — Фивы, потому что божественное семя происходило от Амона-Ра; коленями его был храм Нефертари, потому что он молился на нее, она была его земной богиней, а ногами он попирал жалкий Куш, который завоевали его предшественники и из которого он выжимал громадную дань.
Они нигде больше долго не задерживались, пока не достигли Шмуну, священного города Тота. Тот выступал в образе ибиса или павиана и издавна считался богом луны и покровителем тех, кто занимался языками, письмом, науками и другими премудростями.
Царь Рамзес принял посольство от города и храма Тота на своей ладье, выразил сожаление о том, что не может сойти на берег, но обещал посетить город на обратном пути. Потом он попросил своего друга детства и возничего Мену втайне от всех снарядить легкий парусник, чтобы сесть на него вместе с Енамом. Они надели простые платья и обычные короткие парики, которые носил каждый свободнорожденный египтянин. Только узкий золотой обруч с крошечным уреем выдавал в Рамзесе и его сыне царственных особ.
Они несколько часов плыли вверх по реке, и Енам впервые в жизни увидел отца вместе с Меной на месте гребцов.
— Раньше мы гребли наперегонки, помнишь?
Мена, задыхаясь, кивнул и отер пот с лица:
— Тогда мне это давалось легче, должен признаться.
— Ты раздобрел, мой друг. Пришло время послать тебя куда-нибудь на войну.
Мена ухмыльнулся:
— Было бы неплохо, Богоподобный, но ни одной ведь нет.
— Ни одной и не будет больше. Хотя…
Царь помедлил.
— Что ты хочешь сказать, Сесси?
Мена назвал царя ласкательным именем, которым называл старого друга. Рамзес засмеялся:
— Как давно меня так не называют! Долговязый Сесси — ведь так вы меня прозвали? Мне пришел в голову остров Кефтиу, о котором иногда говорил мой покойный отец, потому что еще в начале его царствования с ним велась оживленная торговля. Кефтиу поставлял бронзу, дерево, коренья, смолу для бальзамирования и некоторое другое. Да, оттуда даже поступала символическая дань, а потом внезапно в один день все прервалось. Никто не знал точно, что там произошло, потому что остров лежит далеко на севере Зеленого моря
[107] и отдален от нас на двадцать дней морского пути. Теперь нам срочно нужны бронза и дерево. Может быть, я пошлю туда кого-либо разведать положение дел.
Мена закашлялся и попытался отдышаться.
Рамзес язвительно ухмыльнулся:
— Енам, смени Мену за веслом, иначе его хватит удар и я должен буду подарить ему гробницу в Фивах.
Енам взялся за весло, а Мена уселся к кормилу.
— Что мы знаем о Кефтиу? Двадцать дней пути по морю — долгое время, наши ладьи для этого не приспособлены. Египтяне едва могут ходить вдоль берегов Зеленого моря. Мы должны будем сначала построить флот, обучить моряков…
— Забудь об этом, мой друг, фараон просто подумал вслух.
Вскоре они направились к одному месту на берегу.
— Это должно быть здесь, я был здесь только два раза — мальчишкой с отцом и пару лет спустя после его смерти.
— Старую гавань еще хорошо видно, — заметил Мена, пока они пытались пришвартовать лодку.
Енам выпрыгнул на берег, мужчины последовали за ним и вместе вытащили легкий парусник на сушу.
Енам удивленно огляделся:
— Что здесь можно увидеть? Нет ни деревни, ни дома, ни пашни, только пустыня и пара камней.
В этот миг будто из-под земли вынырнули двое вооруженных людей, и один из них уже издалека закричал:
— Эй, что вы здесь ищете? Это запрещенная земля, здесь нечего смотреть! Быстро убирайтесь отсюда, или я помогу вам копьем.
Он угрожающе поднял копье, но Мена только усмехнулся:
— Посмотри на моих спутников повнимательнее, дурень.
Воин приблизился к ним и оглядел двух рослых мужчин — совсем юного и средних лет.
— Ну, я не знаю, — протянул он неуверенно. — Вы, должно быть, высокопоставленные чиновники? Где ваши слуги? Что я должен?.. Что я могу для вас сделать?
— Ты можешь упасть на пузо и ползти в пыли перед Благим Богом и принцем Енамом, — веселился Мена.
В этот момент воин узрел уреи на лбах незнакомцев и, как подкошенный, пал ниц, а за ним и его спутник.
Но Мена нетерпеливо пнул их:
— Вставайте и ведите нас к вашему старшему.
Маленький сторожевой пост занимал несколько домиков из кирпича, которые постоянно приносимый из пустыни песок преобразил так, что их можно было увидеть, только подойдя к ним совсем близко. Весть о приближении царя вызвала большой переполох. Начальник поста спал и появился не сразу, в косо сидевшем парике, не в состоянии поверить, что он стоит перед сыном Солнца.
— Ну почему я не… я имею в виду… сообщение… помилосердствуй, Богоподобный, в это время я иногда отдыхаю…
— Успокойся, — сказал царь. — Никто не сердится на тебя за то, что тебе необходимо поспать. Ничего официального, маленький, почти дружеский визит. Нам нужны на несколько часов две колесницы, и тебе лучше забыть, что мы здесь вообще были.
— Хорошо, Богоподобный, Благой Бог, да будь ты жив, здрав и могуч, но… у нас есть только одна колесница.
— Тогда вели ее тотчас приготовить! — нетерпеливо потребовал Мена, обрадовавшись тому, что ему снова, как в юности, посчастливится править колесницей царя. Вместе Рамзесом они взошли на колесницу, Енам прыгнул на лошадь, и все трое помчались, держась берега реки до тех пор, пока Мена не почувствовал на своем плече руку фараона. Возничий натянул поводья — лошади встали. Рамзес спрыгнул с колесницы.
— Мы уже почти полчаса в пути и еще не добрались до границы города, который раньше стоял здесь. Мена, останься с лошадьми, мы скоро вернемся назад.
Рамзес положил руку на плечо Енама, и они пошли вперед. Убедившись, что их никто не услышит, царь начал:
— То, что я тебе сейчас скажу, касается только тебя как наследного принца. Мене не нужно этого слышать. Для повелителя Обеих Стран имеет значение следующее: царь может все, но он должен быть достаточно умен, чтобы не делать некоторых вещей. Мы стоим здесь, на земле исчезнувшего города Ахетатона, который основал исчезнувший из истории и памяти человеческой фараон Аменхотеп, называвший себя Эхнатоном. Он не ладил со жрецами Амона, потому что был привязан к богу солнца Атону и приказал почитать его одного. Он отказался от своей столицы — Фив и создал здесь, как и я в Дельте, новую столицу. За несколько лет были сооружены дворцы, храмы, жилые дома и прочее, только в отличие от Пер-Рамзеса здесь ты напрасно будешь искать изображения богов. В городе имелся лишь большой храм Атона, в котором жил бог, не имевший образа. Он изображался исключительно в виде солнечного круга с лучами. Эти лучи шли в руки, которые были распростерты, благословляя царя и, как он считал, все человечество. Прекрасная картина, вызывающее уважение решение, которому каждый мог бы последовать, если бы… Помнишь, сын мой, что я сказал тебе вначале и что является правилом для царей?
Енам кивнул:
— Царь может все, но он должен быть достаточно умен, чтобы не делать некоторых вещей.
— Таким умным мечтатель Эхнатон, к сожалению, не был. Он запретил наряду с культом Амона почитание и всех остальных богов. Нужно было молиться только Атону, только его царь велел почитать. Храм Амона в Фивах был закрыт, жрецов выгнали, а недовольных бросили в темницу. Фараон велел созвать тысячи каменотесов со всей страны и дал им только одно поручение: они должны были во всех храмах всего царства уничтожить изображения и имя Амона. Ни о чем другом этот царь не заботился. На западе вассалы отпадали от Кеми целыми народами, его чиновники обманывали и предавали своего фараона, по всей стране образовывались разбойничьи банды и не давали житья землевладельцам и крестьянам. Эхнатон же сидел в своей священной столице и сочинял гимны своему богу. Из его «Хвалебной песни Атону» я велел выписать себе некоторые строки. Вот послушай:
Ты появляешься таким прекрасным на горизонте неба,
Живой Атон, источник жизни,
Если ты сияешь своими лучами в восточной стороне неба
И наполняешь все страны своей красотой.
Прекрасно смотреть на тебя, великий, сияющий,
Находящийся высоко над всей страной.
Твои лучи охватывают мир
До конца всего созданного тобой.
Как многочисленны твои произведения,
Скрытые от глаза человека.
Ты единственный бог! Кроме тебя, иного не знаем!
Ты создал землю по своему замыслу,
О единственный и вмещающий в себе все!
Людей, стада и тварей земных;
Все, что ходит по земле ногами,
Что летает по воздуху на крыльях.
Горные страны Сириии Куша и плоскую Кеми.
Ты сажаешь каждого человека на его место,
Заботишься обо всех потребностях,
Каждый имеет еду, и время жизни его рассчитано.
Ты делаешь времена года.
Которые положены для твоих существ, —
Зиму, чтобы охладить их, и
Летний зной, чтобы они почувствовали тебя.
Ты распростер небо над землей,
Чтобы светить оттуда.
Чтобы было видно, что ты единственный, несравненный
Создал видимым для нас.
— Ну, это звучало и в самом деле красиво, но народ желал своих старых, известных ему богов, а изгнанные жрецы Амона возбуждали недовольство многих. После пятнадцати лет правления царство мечты фараона Эхнатона рухнуло. Никто не знает, как он умер, его гробница осталась незаконченной, мумия его исчезла. Его преемники с раскаянием вернулись назад к Амону, культ Атона исчез, город здесь был снесен и разрушен. Ты можешь найти еще несколько мест, которые выдают нам его размеры, и наверху, у большого храма Атона, возвышается еще из земли пара колонн. Я привел тебя сюда, Енам, чтобы ты увидел, чего царь, если он умен, должен избегать. Предпочитай среди богов того, кого ты хочешь, а уж если взялся, высмеивай, но делай это только для самого себя. Не принуждай народ и жрецов ни к чему, против чего они сопротивляются, не отнимай у них ничего, что освящено старыми традициями. Ты можешь быть капризным и несправедливым, расточительным и суровым, ты можешь давить свой народ и посылать чиновников в каменоломни, делай это, если есть охота, но делай это в меру, и я говорю тебе еще раз: оставь им старых богов! Тогда они будут ликовать при виде тебя, будут уважать тебя, и твой трон будет стоять безопасно, как скала в пустыне.
Молча они вернулись назад, туда, где Мена ждал их с лошадьми. Начальник получил мешочек с медными дебами, чтобы раздать их своим людям. Ему самому фараон вручил маленькую золотую муху за то, что он храбро служит в этом пустынном месте.
Когда они снова сидели в лодке, Енам спросил:
— Зачем этот город все еще охраняется? Ведь в нем нечего красть, ничего нельзя увидеть.
Рамзес ухмыльнулся.
— Стражу содержат и поставили жрецы храма Амона в Фивах. В этом нет необходимости, они сделали это только из принципа. Этот «падший царь», как они его называют, должен и столетия после своей смерти наказываться, а его город должен быть в изгнании. Ни один жрец Амона никогда не произнесет его имени вслух, но я счел необходимым показать тебе, что может случиться с царем, цели которого зайдут слишком далеко.
Пиай сидел перед своей хижиной и наблюдал за тем, как ладья Ра погружается в Подземный мир и змей Апоп снова пытается это предотвратить.
«Он старается сделать это снова и снова, — подумал Пиай, — и каждый раз проигрывает борьбу и проливает свою кровь. Может быть, на небе и на земле все находится в движении, потому что боги, как и люди, пытаются что-то сделать снова и снова. Если бы я наткнулся на слишком мягкий или слишком твердый слой, то я бы тоже начал все снова в другом месте».
Сегодня в порядке исключения Пиай закончил свою работу немножко раньше, потому что помост должны были передвинуть немного дальше. Он добрался уже до бедер статуи и хотел передать остальную работу своему помощнику Хотепу, за исключением, конечно, фигуры Мерит, которая вместе со своей младшей сестрой Хенут стояла у ног Нефертари.
Курьер из Фив привез ему новость, что принцесса прибудет сюда через несколько дней. Пиай был слишком измотан, чтобы радоваться этому. Он ощущал сейчас, что любовь лучше вяжется с бездельем, чем с тяжелой работой. После ее прибытия он должен будет сделать паузу, причину для этого он найдет.
Издалека, от палаток рабочих, доносился смех. Эти крепкие нубийцы с утра до позднего вечера сдирали кожу с рук и надрывались, шлифуя камень, а потом у них еще оставалась сила, чтобы полночи пить пиво и забавляться с девочками. Ну, это были молодые крепкие ребята, никому из них не исполнилось больше двадцати, в то время как он, Пиай, работавший не менее тяжело, уже пережил сороковой разлив Нила. Половина всех египтян не доживала до этого возраста, однако Пиай, как и царь, никогда не болел и до сегодняшнего дня не чувствовал никакого существенного уменьшения своей силы. Бог-создатель Пта, Великий Ремесленник, не только положил ему в колыбель талант, но и подарил годы, чтобы использовать его.
Пиай откинулся назад и выпил глоток вина.
«Ты можешь быть доволен, Пиай, — шепнуло ему ка, — потому что в конце концов это не все из того, чего ты достиг. Ты друг и советник фараона, ты спишь с его дочерью и, если тебе немного повезет… — Ка минуту помолчало. Пиай затаил дыхание и напряженно прислушался, пока наконец не расслышал: — Если тебе немного повезет, ты даже сможешь стать следующим фараоном».
«Замолчи! — приказал Пиай. — Замолчи! Ты порочишь Благого Бога и его семью».
Но Ка не унималось: «А почему нет? Есть достаточно царей, которые вышли из народа и закрепили за собой трон благодаря браку с дочерью Солнца. Эй, Хоремхеб, да и первый Рамзес происходили из простых семей, а в конце жизни носили священную двойную корону».
«Только потому, что царские семьи тогда почти полностью вымерли, — мысленно парировал Пиай. — У Благого Бога же бесчисленное количество детей: несколько десятков сыновей и дочерей. Так что помолчи».
Но голос настойчиво продолжал:
«Ха! Бедные гаремные червяки, не имеющие никакого значения. Речь идет только о детях двух жен. Вчера умер Амани, сегодня может умереть Енам, а завтра — Рамозе или Хамвезе. Если больше не будет законных наследников трона по мужской линии, то Мерит, первенец, станет носительницей прав на трон, наследной принцессой. Кто на ней женится, тот и станет фараоном».
«Я отказываюсь об этом думать, — отрезал Пиай. — Названные тобою цари были высокопоставленными военачальниками, их слушались войска, и разумно, что оставшиеся в живых сестры или дочери царей поддерживали их притязания на трон. А кто я такой? Ничтожный ремесленник, скульптор, которого уже завтра может заменить Хотеп. Если моя связь с Мерит откроется, я обеспечу себе не трон, а верную дорогу на эшафот».
Ка минуту помолчало, а потом сказало: «Посмотри на свои ноги, Пиай, что ты там видишь?»
Ра почти уже нырнул за горизонт, но вечернего света еще хватало, чтобы рассмотреть каждый камешек. Пиай наклонился и увидел скарабея, который с трудом катил громадный шарик навоза. Священное животное снова и снова натыкалось на препятствия. Камни, маленькие возвышенности или крошечные долины возникали у него на пути, и требовалось напряжение всех его сил, чтобы преодолеть все эти препятствия со своим шариком из помета…
Тут Ка начало шептать снова: «Что бы ни случилось, скарабей доберется до своей цели, потому что он дал бы себя уничтожить, но не отдал бы шарик из навоза, в котором будет жить его потомство. Это могло бы стать образцом и для тебя…»
«Образцом, — фыркнул Пиай. — Но образцом для моей работы, а не для порочной и абсурдной идеи прокрасться на трон. Мне хватает того, чего я добился, и теперь я прошу тебя — замолчи!»
Пиай взволнованно осушил свой кубок и встал. Взрывы смеха становились все громче. Пиай направился к рабочим и увидел, что его люди сидят на земле вокруг человека, который громким голосом и бурно жестикулируя, рассказывает им что-то.
В кругах фокусников и бродячих артистов быстро стало известно, что здесь сотни хорошо оплачиваемых рабочих строят храмы для фараона. И сюда на маленьких утлых суденышках устремился самый пестрый народ, чтобы и себе что-то урвать от Куша.
Люди вскочили на ноги, когда Пиай к ним приблизился, но он махнул им рукой:
— Не обращайте внимания на меня. Я сяду к вам и послушаю истории.
Рассказчик глубоко поклонился:
— Поскольку ты, почтенный, не слышал начало моей истории, я еще раз перескажу ее. В противоположность предыдущей истории, над которой много смеялись, это будет очень серьезный рассказ, хотя он и хорошо кончается. Итак, слушай.
В старые времена жил царь, у которого не было сына. И вот наконец боги услышали его молитвы, и его супруга подарила ему принца. Богини судьбы стояли вокруг его колыбели и прорицали:
— Он умрет из-за крокодила, змеи или собаки.
Нянька ребенка услышала эти слова и передала их фараону. Тот очень обеспокоился и велел построить своему сыну дом посреди пустыни, который бдительно охранялся и который принцу никогда не разрешалось покидать.
Когда принц стал старше, он забрался на крышу дома и увидел мужчину, которого сопровождала борзая собака. Принц спросил своего воспитателя, что это за существо бежит позади мужчины, и учитель объяснил, что это борзая. Тогда у принца появилось только одно желание: он хотел обладать подобным животным. Царь услышал об этом и подарил сыну собаку, чтобы, как он считал, сердце мальчика в пустыне не печалилось.
Принц вырос в молодого человека, его охватило беспокойство, и он наконец попросил у отца:
— Отпусти меня отсюда. Пусть боги сами определяют мою судьбу, потому что я не хочу, чтобы здесь в одиночестве засохло мое сердце и сам я погиб.
Царь понял его и дал сыну свободу.
Тот взял свою борзую и отправился на север. Юноша шел, шел и дошел до Нахарины. У правителя той страны умерли все дети, кроме дочери, которая теперь стала его наследницей и которую он холил и лелеял. Она жила в высокой башне, и, когда пришло время выдать ее замуж, владыка приказал позвать всех знатных юношей страны и объявил: «Тот из вас, кто доберется до нижнего окошка башни, получит мою дочь в жены».
Принц познакомился с этими молодыми людьми. «Я сын военачальника из Кеми, — сказал он им. — Моя мать умерла, а отец взял себе другую жену, и она меня ненавидит, поэтому я здесь».
Знатные юноши обняли его и приняли в свой круг. Они объяснили ему, почему они здесь, и так египетский принц узнал, что они все до сих пор безрезультатно пытаются выполнить условие владыки Нахарины. Как бы высоко они ни прыгали, они ни разу не достигли нижнего окна. Втайне принц ежедневно тренировался прыгать в высоту и довел свое умение до такого совершенства, что однажды попытка его удалась. Принцесса приняла его в своих покоях, поцеловала и обняла. Она уже потеряла надежду получить таким образом супруга. Владыка Нахарины тотчас пришел, чтобы посмотреть на молодого человека, и спросил: «Откуда ты? Кто твой отец?»
Услышав, что перед ним сын египетского военачальника, сбежавший от злой мачехи, правитель очень разгневался: «Я должен отдать свою дочь в жены беглецу из Кеми?! Гоните его прочь!»
Тут принцесса перебила его: «Отец, если ты прогонишь его от меня, я с этого момента не буду ни есть, ни пить, пока не умру».
Разгневанный владыка не придумал ничего лучшего, как убить молодого человека, и отдал жуткое распоряжение нескольким слугам. Принцесса своевременно узнала об этом и сказала отцу: «Именем богов! Если его убьют, я и часа дольше не проживу».
Тут владыка сдался и велел позвать принца. При ближайшем знакомстве молодой человек понравился ему сверх меры, и вскоре правитель Нахарины стал относиться к нему, как к сыну. Молодые люди отпраздновали свадьбу, и, когда они стали доверять друг другу, принц открыл, какая судьба ему предназначалась. «Мне предсказали, что я должен буду умереть из-за крокодила, змеи или собаки».
Принцесса тут же предложила: «Давай сейчас же убьем твою собаку».
Ее супруг, однако, возразил: «Нет, этого я не могу. Эта собака сопровождает меня с детства, я не смогу ее убить».
С этого момента принцесса начала старательно охранять своего супруга на всех его путях.
Но с того дня, когда принц ушел из дома, предназначенный ему крокодил последовал за ним. Он устроился в озере, которое лежало под стенами города, однако этим озером повелевал могущественный водяной дух. Тот не отпускал крокодила, а крокодил не оставлял духа в покое, поэтому дня не проходило, чтобы они не дрались между собой.
Однажды вечером принц прилег и заснул. Его жена наполнила два кубка вином и пивом и поставила рядом с его ложем. Это выманило змею, которой судьбой было предназначено убить принца, но вместо этого она напилась вина и пива и, пьяная, заснула. Принцесса наблюдала за всем этим из укромного уголка и разрубила змею на куски. Когда ее супруг проснулся, она сказала: «Одну из твоих трех злых судеб мы победили, и я ежедневно молюсь Ра, чтобы он охранил тебя от двух других».
Каждый третий день она жертвовала богу молодого быка и громко славила его власть.
И вот однажды собака принца произнесла человеческим голосом: «Я твоя судьба».
Спасаясь от нее, принц побежал, выбежал из города и прыгнул в озеро. Тотчас его схватил крокодил и потащил в то место, где хозяйничал водяной дух. Там он сказал: «Я твоя судьба, которая последовала за тобой сюда, но меня самого притесняет этот водяной дух. Если ты освободишь меня от него, я больше не стану тебя беспокоить».
Один из воспитателей принца немного понимал в магии и научил его сильным заклинаниям против злых демонов. Принц произнес одно из них, и водяной дух с воем выскочил из озера. Больше его никогда не видели. Крокодил тотчас освободил принца и радовался теперь своему свободному существованию, в котором ему уже некого было опасаться.
Собака, которая не смогла выполнить предначертания судьбы, убежала в пустыню, где ее вскоре разорвали шакалы.
Принц возвратился со своей женой в Кеми, где его принял счастливый отец и тотчас назначил своим соправителем…
Затаив дыхание, рабочие слушали сказку, иногда бросая украдкой взгляд на Пиайя, потому что хотели знать, понравится ли эта история другу фараона. Пиай встал, поблагодарил и бросил рассказчику медный деб.
— Твоя история доказывает, что умом, энергией и ловкостью можно изменить свою судьбу. Об этом и должны все подумать.
С открытыми ртами люди смотрели вслед почтенному мастеру, и никто толком не понял, что он имел в виду. Это ведь была только очень интересная сказка и ничего больше…
Благой Бог и сын Солнца Рамзес запланировал свой торжественный въезд в Фивы. Он давно уже не посещал этого города, и, тем не менее, его присутствие было постоянно ощутимым, потому что по его повелению старые храмы расширялись, а новые вырастали как из-под земли. Они превосходили все бывшие до них по величине и роскоши. Фараон присутствовал в священном городе Амона в виде сотни своих статуй, больше десятка из них были гигантского размера, символизирующего власть и величие повелителя Обеих Стран. К этому стоило еще добавить тысячи именных картушей на потолках, стенах и колоннах, которые у каждого, кто умел читать — а все жрецы это могли, — ежедневно, ежечасно вызывали в памяти образ Благого Бога. Однако не только для жрецов фараон присутствовал всегда, народ также ощущал влияние владыки на их жизнь. Длившийся ранее одиннадцать дней праздник Опет был увеличен Рамзесом в два раза, и народу позволялось во время этих праздничных дней есть и пить за счет царя сколько душе будет угодно.
Теперь же Благой Бог прибывал собственной персоной в сопровождении обеих супруг и их детей. Испытанные и надежные люди за много дней до этого приготовили все до мельчайших подробностей. Когда показался царский флот, переносные кресла, носилки, повозки и лошади уже стояли наготове. Знаменосцы и носители опахала, курящие благовония, музыканты с фанфарами, барабанщики, певицы и жрецы всех почитаемых в Фивах богов ждали в гавани, и каждый точно знал, что ему делать.
По желанию фараона было изготовлено переносное кресло на троих, над которым был натянут роскошный расшитый балдахин. На это кресло взошел Благой Бог вместе с обеими супругами. Нефертари заняла место справа от него, Изис-Неферт — слева. Для принцев Енама, Рамозе и Сети стояли наготове колесницы с великолепными конями, более маленькие дети сели в открытые носилки, чтобы народ видел их, плывущих над толпой впереди трона их родителей.
За троном шла личная охрана фараона под командованием Мены; носители опахала двигались по обе стороны трона; затем шагали молоденькие жрецы с курильницами благовоний, они шли лицом к фараону и спиной к рядам жрецов. Под звуки торжественной музыки процессия медленно продвигалась. На царе были красно-белый двойной венец и длинная церемониальная борода. На Нефертари — хохолок ястреба с высоко поднимавшимися золотыми перьями. На Изис-Неферт — простой хохолок ястреба. Нефертари положила свою левую руку, а Изис-Неферт — правую на плечо фараона, который со своим изогнутым скипетром и плетью появился перед народом во всем своем величии, подобно неземному существу. Взоры девушек приковывали прежде всего три юных принца, каждый из которых, прекрасно одетый, стоял позади своего возничего. В правой руке каждый держал короткое золотое копье, которое сверкало в лучах утреннего солнца, подобно скипетру.
Почтительное удивление скоро уступило место громкому ликованию. Люди аплодировали, кричали, при этом, что для Фив было довольно странно, имя Нефертари звучало чаще, чем имя Изис-Неферт, которая была дочерью этого города.
Принцу Сети все это казалось сном. Еще несколько лет назад он жил в гареме, один среди многих. Его едва замечали, после смерти матери он стал почти изгоем без каких-либо видов на будущее, потому что число сыновей и дочерей Благого Бога заметно увеличивалось из года в год. Но однажды отец заметил его удивительное сходство с собой и не мог больше забыть о существовании восемнадцатилетнего юноши, который казался его близнецом и появление которого на свет воспринималось как дар богов. Это и то, что он вдобавок носил имя своего деда, выделило Сети из рядов других и сделало его действительно сыном Благого Бога, который, как и его единокровные братья, сыновья двух жен фараона, мог носить золотой урей и бывать с ними повсюду. Таким образом, с годами из прежде скромного юноши вырос довольно самоуверенный принц, который не без удовольствия слышал, как придворные сановники за его спиной намеренно внятно шептали: «Похож на Благого Бога как две капли воды! Он далеко пойдет».
Рамозе, старшим сыном Изис-Неферт, двигали другие мысли. Знают ли эти ликующие люди о том, кто он такой? Должны же они понимать, что он ближе всех стоит к трону, что священная двойная корона по праву предназначена ему! По его мнению, на него обращали слишком мало внимания, он лишь изредка слышал свое имя в криках толпы. Он вспомнил, что внушал ему перед этой поездкой Незамун, жрец-чтец и правитель двора его матери:
— Ты должен привлечь жрецов Амона в Фивах на свою сторону! Я тоже попытаюсь сделать все, чтобы продвинуть тебя на принадлежащее тебе по праву место наследника престола. Прежде всего я привлеку на твою сторону верховного жреца Небунефа. Фараон доверяет ему больше всех, и, если он будет на твоей стороне, мы многого достигнем. Не забывай одного: будучи царем, ты перенесешь столицу снова в Фивы. В этом ты должен будешь им дать, если они станут настаивать, даже письменное обещание. Енам не может и не будет этого делать, это они знают точно.
Рамозе запомнил каждое слово, но он ни в коей мере не знал, как ему это осуществить, как привлечь жрецов Амона на свою сторону. Он чувствовал себя неуверенно, как-то даже униженно и страстно желал ехавшему перед ним Енаму как можно быстрее сломать себе шею. Любой бы принял это за знак Амона и больше бы не стал думать о том, кого назначить наследником.
Енам же, который знал, что отец определил его в преемники, чувствовал в себе отзвук божественного, искру, метнувшуюся с двойного венца Благого Бога на его золотой урей. Юноша чувствовал, как тело его пронизывает золотой луч, отдаляющий его от людей и приближающий к богам.
Мысли его матери, Великой Царской Супруги Нефертари, были о том, что в ней снова взошло священное семя Амона. С того момента, когда она узнала о своей беременности, храм Хнума в Мемфисе получал ежедневно в жертву двух белых коз и каждые десять дней по три золотых деба. Она хотела побудить божественного создателя людей к тому, чтобы он на своем гончарном круге сформировал тело мальчика на смену умершему Амани.
Ставший Озирисом принц покоился в раскрашенном саркофаге. Его почти забыли в народе. Он умер несколько месяцев назад, время траура давно прошло, и только одна его мать ежедневно с тоской вспоминала о нем, о времени, когда он был маленьким и беспомощным и радостно улыбался ей беззубым ртом. Нефертари была разочарована тем, что в Фивах их не встретила Мерит. Фараон не нашел ничего странного в том, что высокочтимая принцесса хотела собственной персоной проследить некоторое время за строительством храма. Она будет ждать Богоподобного и Великую Царскую Супругу в Куше, если только Благой Бог не имеет других приказов для своей послушной дочери, — так передал ее слова верховный жрец Небунеф.
Фараон ухмыльнулся, когда услышал эту новость.
— Послушная? Ну да… — Он взглянул на Нефертари. — У нас, правда, другое мнение об этом.
Нефертари, которая знала своих детей лучше, чем ее вечно занятый супруг, стало не по себе. Мерит так несвойственно желание проследить за строительством храма. За этим, должно быть, кроется что-то другое. Но что? Она осторожно расспросила маленький оставшийся в Фивах двор Мерит, но услышала лишь незначительные вещи, среди которых повторялось, что принцесса здесь, в Фивах, очень интересовалась строительными работами и часто беседовала о них с мастером Пиайем. «Ага, — подумала Нефертари, — Пиай в Фивах, и она тоже…» Однако она не захотела довести эту свою мысль до конца, пока не узнает обо всем подробнее.
В ближайшие дни в большом зале для аудиенций должен был состояться прием, на котором фараон хотел объявить наследником трона принца Рахерунемефа, которого все называли Енамом.
— После этого мы сразу поедем на юг, только мы вдвоем, и я покажу тебе твой храм, даже если показать пока можно очень немногое.
— А дети? — спросила Нефертари. — Мы оставим их здесь?
— Для старших детей пребывание в Фивах намного интереснее, чем поездка к месту стройки. Да и маленьким лучше остаться со своими няньками здесь, во дворце, чем отправляться в утомительное путешествием. Изис-Неферт будет представлять нас здесь — пусть жрецы Амона торжественно со всеми почестями принимают ее. Мерит мы встретим там, на юге. Я только спрашиваю себя, как ей удастся так долго продержаться там.
У Нефертари были на этот счет мысли, но она предпочла промолчать.
18
С полной отдачей и громадной заботой Пиай работал над фигурой своей любимой почти в человеческий рост. Она должна была стоять со своей сестрой Хенут у ног царицы. Стоять? Нет, фараон придумал для этого храма нечто особенное. Каждый в Кеми, а не только занятые этой работой ремесленники, знал, что женские фигуры по традициям стоят рядом друг с другом или изображаются с чуть выступающими вперед ногами, в то время как мужчины изображаются выходящими из ниш гробниц или храмов.
Этот храм Рамзес постановил сделать чисто женским, он был посвящен Хатор и Нефертари, и здесь изображения должны были сделать по-другому. Следовало показать Нефертари и ее дочерей смело выходящими вперед, а ноги сыновей следовало лишь наметить.
— А ты сам, Богоподобный? Твои ноги тоже следует лишь наметить?
— Нет! — гневно проревел Рамзес. — Поберегись и дальше задавать такие глупые вопросы! Ко мне это, конечно, не относится.
Пиай снова забыл, что разговаривает с Благим Богом, а не с простым человеком.
Как раз в тот момент, когда он любовно шлифовал маленькие груди, он услышал крик Хотепа:
— Мастер Пиай! Мастер Пиай!
Хотеп работал над фигурой Хенут у левой ноги Нефертари, потому что Пиай хотел одновременно изваять статуи обеих принцесс. Сейчас Хотеп взволнованно показывал на север, и Пиай увидел то, чего он так жаждал в последние несколько дней. На ладье сияла золотая маска Хатор, а искусно разукрашенная палубная надстройка, в которой располагались покои принцессы, была похожа на драгоценный сундук.
«Сундук, скрывающий сокровище», — подумал Пиай и послал Хотепа к надсмотрщикам, чтобы они позаботились о достойном приеме. Он сам закончил груди скульптуры, спрыгнул со своего помоста в локоть высотой и старательно вымылся в ванной. Пристань для кораблей была сооружена южнее обоих храмов, чтобы не мешать вывозу строительных отходов.
Пиай встретил принцессу с несколькими старшими надсмотрщиками. Носилки для нее были уже приготовлены, но она сказала:
— Нет, несколько шагов к храму я могу сделать и сама.
На Пиайя она бросила лишь беглый взгляд. Никто, даже самый подозрительный, не предположил бы, что между двумя этими людьми существует связь. Как всегда, от принцессы исходило царственное сияние. Над ее лбом сверкал, угрожающе приподнявшись, урей, воротник из золота и ляписа прикрывал ее шею и плечи. Белоснежное воздушное льняное платье было вышито по краям золотом и тихо шелестело, в то время как Пиай на положенном отдалении шагал слева от принцессы.
— Насколько вы продвинулись с Большим храмом, мастер Пиай?
— Сейчас готовится пещера для самого последнего помещения. Стенные росписи в большом зале уже закончены. Мои лучшие скульпторы работают над фигурами Благого Бога в виде Озириса на пилястрах.
— А почему ты не делаешь это сам? Мой высокочтимый отец ценит твою руку выше всех.
«Ты ценишь ее не меньше, когда она бродит по определенным частям твоего тела», — подумал Пиай, а вслух ответил:
— Для этого у меня, к сожалению, нет времени. Богоподобный приказал мне выполнить фигуры на фасаде обоих храмов, а также рельеф о битве при Кадеше. Уже эти работы задержат меня здесь на несколько лет.
Мерит остановилась, выражение безразличия исчезло с ее лица. Она знала, конечно, что у Пиайя здесь много работы. А теперь она сама увидела громадные храмы, над которыми будет годами трудиться ее любимый, и то, что она до этого вытесняла из своего сознания, вдруг угрожающе предстало перед ее глазами, — призрак разлуки. И у нее не было никакого средства это предотвратить.
— Несколько лет, — повторила она растерянно, — а разве нет никого, кто мог бы сменить или заменить тебя? Благой Бог, конечно же, не захочет, чтобы ты подорвал свое драгоценное здоровье, потому что есть еще много других дел в Фивах, в Пер-Рамзесе, в Мемфисе…
Ее раскосые темные глаза почти умоляюще взглянули на него, как будто просили его о более благоприятном известии.
— Нет никого, кого нельзя было бы заменить… — ответил Пиай, и потому, что он понимал ее чувства, и потому, что он сам чувствовал то же самое, у него слезы подступили к глазам. Мастер кашлянул и сказал, с трудом овладев собой: — Если позволишь, я покажу тебе сейчас Малый храм.
Они поднялись к храму Хатор-Нефертари, и Мерит остановилась перед готовой фигурой своей матери, которая, как сияющая прекрасная богиня, выступала левой ногой из ниши. Мерит подошла ближе, чтобы посмотреть на свое собственное изображение, вокруг колен которого еще стоял низкий помост. Она вымученно улыбнулась:
— А кто эти девушки у ног божественной Хатор? Они выглядят как близнецы…
Она наклонилась ближе и прочитала:
— Мерит-Амон. А ее сестру-близнеца зовут Хенут-Та-Уи…
Верная служанка Бикет не могла больше сдерживаться и воскликнула:
— Ну, это же ты сама, принцесса, с твоей маленькой сестрой! — Она почтительно покачала головой. — Моя Мерит на стене храма…
Мерит притворилась удивленной:
— Я и не знала, что Хенут уже такая большая. Ей сейчас не больше шести лет.
Пиай извиняюще улыбнулся, хотя он знал, что она хорошо понимает, в чем дело.
— Когда царские дети изображаются у ног своих родителей, то ради симметрии их обычно изображают одинакового роста. Она еще вырастет, маленькая Хенут. К сожалению, фигуры еще не совсем готовы, остальное будет доделано за несколько часов.
Они вошли внутрь пещерного храма, работа в котором ради высокого визита была прервана. Для визита дюжину нубийцев искупали, переодели в свежие передники, и теперь они стояли с факелами у стен и пилястров. Рельефы частично уже были выполнены, частично лишь намечены черными и красными штрихами.
— Прекрасно, прекрасно… — пробормотала Мерит, думая о чем-то своем. — Я хотела бы сейчас немного отдохнуть. Сегодня вечером мы вместе пообедаем, а потом я выслушаю твой доклад, Пиай. Приведи с собой также старшего надсмотрщика и мастера, знающего особенности горных пород.
— Как пожелаешь, высокочтимая принцесса.
Пиай тем временем нашел Хотепа и сказал:
— Я задам тебе сейчас один вопрос, на который ты не должен отвечать сразу. Будет достаточно, если ты сообщишь мне о своем решении в течение ближайших нескольких дней. Готов ли ты один доделать фасад Малого храма? Если у тебя возникнут трудности, ты сможешь подойти ко мне в любое время, потому что я работаю рядом в Большом храме. Для нас это единственная возможность не провести половину жизни в пустыне. Может быть, мы найдем деятельных помощников для более грубых работ.
В действительности Пиай боялся долгой разлуки с Мерит и хотел сделать все, чтобы сократить сроки работы здесь.
Мерит приняла ванну, позволила Бикет втереть себе в кожу ароматное масло и украсила себя старательнее, чем обычно.
Бикет втерла последние капли с ладони в бедра Мерит, ласково шлепнула ее и сказала:
— Мне жаль, что я должна напомнить тебе, моя голубка, но сегодня у тебя самый плодородный день. Было бы лучше, если бы ты просто поболтала с мастером Пиайем.
— Ах, Бикет, — вздохнула Мерит, — каждый день может оказаться нашим последним днем на очень долгое время. Благой Бог скоро прибывает в Фивы, и если мне не повезет, то уже завтра человек, посланный отцом, заберет меня назад. Как я могу отказать Пиайю в общении со мной?
— Тогда ему надо быть крайне осторожным и следить за тем, чтобы его семя не попало в тебя. Это намного меньшее зло, чем избавляться от ребенка, поверь мне.
— Я никогда не избавилась бы от его ребенка! — возразила Мерит возмущенно. — Лучше я навлеку на себя гнев отца. У него уже есть дюжина внуков. Что за важность, если у него будет еще один от меня?
— Да защитит тебя Хнум и да не схватится он на этот раз за свой гончарный круг.
Незадолго до захода солнца появился Пиай с несколькими людьми, ответственными за ход стройки. Принцесса приняла их очень дружелюбно, поставила много разумных и несколько глупых вопросов, пообедала с ними, ведя оживленный разговор, а затем простилась с ними. Пиай сказал, что он пройдется еще раз вокруг строительной площадки, подождал, пока шаги других замерли вдали и проскользнул обратно. Собственно говоря, маленький дворец должен был бы охраняться, но что здесь, на краю пустыни, может случиться?
Как всегда, Бикет, бодрствующая Соколиха, открыла дверь и впустила Пиайя к своей госпоже. Она хорошо понимала, что этот высокий жилистый мужчина с приводящими в смущение серыми глазами нравился ее госпоже, однако сегодня лучше бы ему оставаться где-нибудь вдали от принцессы.
Мерит сидела на террасе сада и смотрела на большой лениво текущий поток, который исчезал на северо-востоке между плоскими цвета охры горами в пустыне. Дневная жара спала, веял тихий, прохладный ветерок, а с приближением ночи здесь будет так холодно, что спящие с удовольствием закутаются в толстые шерстяные одеяла. Они поцеловались, и Пиай сказал:
— Я думаю, будет лучше, если мы пойдем в дом. В ночные часы здесь летает много рыдающих привидений, их не меньше, чем летучих мышей. В течение дня ты чуть не погибаешь от жары, и не верится, как холодно здесь может быть ночью. Мастера уже размышляют над тем, не появятся ли в обоих храмах с течением времени трещины из-за таких перепадов температуры. Мы должны, может быть…
— Пиай, мой дорогой, почему ты рассказываешь мне обо всем этом? За столом об этом уже говорили. Ты хочешь скрыть что-то за потоком своих слов, я права?
Они вошли в дом и сели на скамейку из бамбука. Пиай обнял Мерит.
— Я просто не знаю, что еще сделать. Во время работы я часами ломаю голову над тем, как сократить предстоящую нам разлуку. Мой помощник Хотеп сейчас продвинулся уже настолько далеко в своем мастерстве, что один может работать над фасадом Малого храма. Однако четыре сидящие фигуры Большого храма фараон, да будет он жив, здрав и могуч, доверил именно мне. А мы все обязаны покоряться Благому Богу, так ведь? Единственная возможность ускорить работы — и твой высокочтимый отец вряд ли будет против — найти деятельных помощников, которым я мог бы поручить часть грубых работ. Ведь остается еще рельеф о битве при Кадеше, который Богоподобный желает получить в моем исполнении, а это займет несколько месяцев. Когда я все это складываю вместе, получается по меньшей мере…
Мерит закрыла ему рот:
— Я не хочу слышать никаких чисел, я просто не хочу знать, сколько это будет длиться. Все, что мне остается, — надежда. Пожалуйста, не отнимай ее у меня. Я уже думала, что я могу сделать. Может быть, мне удастся убедить отца, чтобы он оставил меня в Фивах приглядывать за жрецами Амона. Время от времени я могла бы наблюдать за тем, как продвигаются работы. Как ты считаешь?
Лицо Пиайя просветлело:
— Великолепный план! Но согласится ли с ним Богоподобный?
— Подождем. У любящих часто бывает, как у людей, испытывающих смертельную опасность. Они развивают невероятные силы, изобретают ловкие ходы и всевозможные хитрости, на которые в обычных условиях бывают не способны.
Пиай прижал Мерит к себе и почувствовал, как кровь прилила у него к низу живота и как в нем вспыхнуло желание. Тесно прижавшись друг к другу, они пошли в спальню. Он указал на постель.
— Посмотри на шерстяные одеяла. Я велел привезти их из Суенета, чтобы моя любимая не замерзла ночью в пустыне.
Мерит рассмеялась и откинула одеяло. Тихо вскрикнув, она отпрянула назад. Под одеяло заполз скорпион, который сейчас выставил свое ядовитое жало для нападения.
— Убей его! Немедленно убей его!
Пиай покачал головой:
— Нет, так не пойдет. В этой местности народ почитает богиню Зелкет, а у нее это животное считается священным.
Он стащил свой передник, быстро бросил его на возбужденного скорпиона и замотал его.
— А если бы он тебя уколол? — с упреком спросила Мерит. — И, может быть, даже в очень важную часть тела?
— Ну, тогда я смог бы продлить наши любовные часы до бесконечности, потому что если скорпион жалит, то ужаленное место жутко вздувается.
Он подошел к окну, вытряхнул передник и лег рядом с Мерит.
— А за что она, собственно говоря, отвечает, богиня Зелкет?
— Я полагаю, здесь ее почитают, как богиню, защищающую четыре источника Нила. Она еще как-то связана с загробным миром, но я толком не знаю.
То, что Зелкет почитается народом как старая богиня плодородия, Пиай, разумеется, не знал, а может быть, он умолчал об этом. Он снова и снова представлял себе это свидание, в мыслях много раз обнимал Мерит, а сейчас, когда лежал с ней, прикасаясь к ее груди и бедрам, он внезапно превратился в бессильного евнуха. Любовные поглаживания Мерит тоже не помогли. Пиай лежал целомудренным, как младенец в руках матери.
Мерит утешающе погладила его по голове:
— Не смущайся. Тяжелая работа тебя совсем вымотала. Отдохни, поспи немного, у нас еще целая ночь впереди.
Пиай мгновенно заснул в объятиях Мерит и проспал бы до рассвета, если бы вскоре после полуночи его не разбудил громкий вой шакала. Мерит тоже проснулась.
Пиай объяснил:
— Лагерь привлекает шакалов. Наши люди выбрасывают кости съеденных кур, гусей и барашков в пустыню, а ночью эти звери рыщут в поисках еды.
— Звучит, как голос из Подземного мира, заставляет вздрагивать, пугаться…
— Зов Анубиса… Но он обращен не к нам, а к отбросам там, снаружи. Используем лучше остаток ночи во благо себе.
К нему внезапно вернулась его мужская сила, и он притянул к себе сонную Мерит.
Она пошутила:
— Смотрите-ка, мастер Пиай совсем в форме, а я устала и хотела бы спать дальше.
Пиай сделал вид, что уступает, но продолжил свои нежные поглаживания, его рука скользила по ее телу, делая остановки то тут то там, исследовала ее теплую гладкую кожу, забиралась в каждый уголок, пока сама Мерит не потянулась к нему, и он нежно и медленно проник в нее. Шерстяное одеяло упало на пол, и холодную ночь в пустыне победил жар влюбленных.
Они заснули поздно, а на рассвете Пиай проснулся оттого, что Бикет трясла его за плечо:
— Просыпайся, Пиай, тебя уже ищут. В это время ты обычно уже на работе.
Он вскочил с постели, быстро обмотал передник вокруг бедер и надел парик.
— Извини, маленькая львица, но нам нельзя никому давать повода подозрениям.
Мерит зевнула и сказала недовольно:
— Кто мог бы привлечь тебя к ответу? Ты ответствен только перед фараоном.
— Именно это я и имею в виду. Прощай, любимая.
Конечно, никто не осмелился спросить его о причине его опоздания, но от него не ускользнули любопытные взгляды и перешептывания, которые смолкли, когда он появился. Мастер рассердился, но сделал вид, что ничего не заметил.
Днем перед большим приемом, который фараон хотел дать для жрецов и чиновников в Фивах, принцу Рамозе доложили о визите Незамуна. Толстый жрец подождал, пока исчезнет слуга, и прошептал:
— Пришло время, принц! Тотмес ждет нас. Я сделаю вид, будто показываю тебе что-то у храма.
Окольными путями они прошли от дворца к зданию храма, откуда внезапно вынырнул Тотмес и провел их в маленькое помещение.
— Здесь нам никто не помешает по меньшей мере в течение нескольких часов. Извини, если я сразу перейду к делу, принц Рамозе, у нас мало времени. Ты знаешь желание Амона, жрец-чтец и доверенное лицо твоей высокочтимой матери, да будет она жива, здорова и плодородна, наш замечательный Незамун, уже ввел тебя в курс дела. Мы считаем, что священная традиция наследования престола перворожденным должна соблюдаться, и, так как Амани мертв, а ты являешься отпрыском не какой-то там наложницы из гарема, как этот высокомерный Сети, а царской супруги, тебе и наследовать трон Кеми. Мы поддержим перед Богоподобным, да будет он жив, здрав и могуч, твои притязания. Мы делаем это, потому что нашей главной целью является снова вернуть Амону, царю богов, его права. Мы не хотим от тебя ничего большего, кроме как согласия, когда ты однажды станешь господином Обеих Стран, учредить две столицы. Если тебе раньше говорили, что коварные жрецы Амона хотели бы снова иметь фараона в Фивах, это неверно. Это всего лишь ложь наших противников. Амон-Ра дал нам знать в одном из своих предсказаний, что он хотел бы вместе с Благим Богом править городом и страной. «Вместе» означает в братском единстве и согласии, и поэтому он готов оставить священные Фивы на полгода фараону. Когда однажды ты возложишь на голову двойной венец, никому не покажется странным, что ты оказываешь честь Обеим Странам своим посещением поровну: полгода проводишь в Мемфисе или Пер-Рамзесе, полгода — в Фивах.
Рамозе сделал вид, что раздумывает. Он не доверял этим жрецам и подозревал, что они каким-то образом хотят обойти его. Однако он мог спокойно дать согласие. Ему самому чрезвычайно нравились Фивы, и он ничего не имел бы против того, чтобы остаться здесь навсегда. Поэтому Рамозе поставил свою подпись под документом, который прочитал ему Незамун. В конце принц спросил:
— Верховный жрец знает о нашем договоре?
Тотмес, который не мог смотреть в глаза ни одному человеку, взглянул поверх головы Рамозе на дверь, откашлялся и сказал:
— Нет, он ничего об этом не знает, хотя он, конечно же, одобрит это. — Жрец помолчал и добавил: — Как бы хорошо он ни справлялся со своей должностью, его сердце не принадлежит Амону-Ра, и, когда наступит твой черед занять престол, Рамозе, следует обдумать, не освободить ли его от его заданий столь высокой должности. Однако это решение принадлежит исключительно сыну Солнца.
Рамозе понял и уже почти пожалел, что попал в лапы Амона. Но, будучи фараоном, он высоко поднимется над ними, и тогда им придется узнать, кто хозяин в Кеми.
Большой просторный зал для аудиенций, поддерживаемый цветными колоннами, был заново расписан художниками. Они сбили слой со старыми изображениями, заново отделали стены и потолки и разрисовали их сценами жизни и подвигов Благого Бога Рамзеса. Он был изображен вместе с Нефертари приносящим жертвы богам, присутствовал вместе с Великой Царской Супругой на празднике Опет, но большая часть картин изображала его в роли воина. Он повергал своих врагов, проходил мимо бесконечных рядов пленных и был изображен в сцене битвы при Кадеше более чем в три человеческих роста на своей колеснице посылающим бесчисленные стрелы в ряды врагов. Изис-Неферт не была изображена ни на одной из картин. Тем, кто скользил взглядом по стенам, потолкам и колоннам храмов и дворцов, казалось, что у Благого Бога есть только одна-единственная супруга — Нефертари, Прекраснейшая из носивших хохолок ястреба, приятная умом и сладостная в любви.
Нефертари сидела по левую сторону от Благого Бога на двойном троне, рядом с ней на стуле чуть пониже сидела Изис-Неферт, а направо от царя расположились принц Енам и правитель Фив Птамозе, который был также управляющим Югом и теперь приветствовал гостей от имени Благого Бога.
Произносились похвалы и порицания, передавались знаки отличия и раздавались подарки. Среди получивших подарки был также Тотмес, которого Рамзес хотел наградить за то, что он много лет, будучи вторым жрецом, исполнял обязанности верховного жреца до избрания Небунефа. Ему подарили маленькое поместье южнее Фив, выражая свою благодарность, второй жрец смог наконец приплести к ней то, что было ближе всего его сердцу:
— Ты избранник Амона-Ра, совершенный бог, сын Солнца, Гор, любимец Маат, великий властью, прими мою благодарность за щедрый подарок. Да будешь ты жив, здрав и могуч, да праздновать тебе тысячи тысяч праздников Зед. И юный Гор в гнезде, наследный принц Рамозе, будет расти рядом с тобой и…
Рамзес, который до этого молча и неподвижно сидел на троне рядом с Нефертари, вскочил с места. Церемониальная борода от внезапного движения отклеилась, но никто не обратил на это внимания. Скипетром Хека он гневно указал на Тотмеса, который замер с неподвижным лицом.
— Ты осмеливаешься опережать мое решение и называешь перед лицом этого достойного собрания моего сына Рамозе наследным принцем?! Смутил ли Амон твой разум, или предательство
и дерзость стали сейчас свойствами его жрецов? Уберите этого человека с моих глаз немедленно! Он отравляет воздух этого дворца! Вместе со своей должностью ты потеряешь и язык, который высказал подобное богохульство. Бросьте его связанным в темницу, об этом куске нечистот я вынесу приговор позже.
Несколько вооруженных охранников схватили Тотмеса и хотели увести его. Но фанатичный жрец снова обрел дар речи.
— Обдумай свой приговор, Богоподобный, потому что может получиться так, что тебе придется произнести второй — твоей дочери и ее…
— Замолчи! — крикнул управляющий Югом. — Богоподобный не позволил тебе говорить!
Безобразная ухмылка исказила лицо второго жреца, когда он снова заговорил:
— Этого никто не хочет слышать! Но все Фивы знают, что принцесса…
Один из стражников ударил его копьем по рту. Тотмес закашлялся, выплюнул кровь и выбитые зубы, закричал что-то непонятное, и его выволокли из зала.
Фараон остался стоять и спокойно сказал, обратившись к испуганно упавшему на колени собранию:
— Поднимитесь и слушайте. Я хочу объявить сейчас о следующем: принц Рахерунемеф, которого все называют Енамом, будет моим преемником на троне Гора. Если он уйдет в Закатную страну раньше меня, наследником станет его брат Мерире, а после него — нерожденные сыновья моей любимой супруги Нефертари. Если же они, да предотвратит это Амон, все соберутся в Закатной стране до того, как туда отправлюсь я, то мне на троне Гора наследует мужчина, которого я женю на своей перворожденной дочери Мерит. Дети Изис-Неферт получат право на трон, только если среди живых не останется ни одного отпрыска Великой Царской Супруги. Два писца записали мои слова, и каждый из присутствующих подпишет протокол в качестве свидетеля. Этим самым, я полагаю, будут устранены любые сомнения о моем преемнике. Вы свободны, остаются только Птамозе и верховный жрец Небунеф.
Люди молча покинули зал. Рамзес снова сел рядом с Нефертари и нежно положил руку ей на колено. Он приказал принести скамьи, и оба сановника сели.
Птамозе, правитель Фив и управляющий Югом, был верным приверженцем царя, умно выпутывавшимся из всех интриг жрецов Амона. Небунеф, избранный самим Амоном верховный жрец, также пользовался доверием фараона.
— Я оставил вас, чтобы задать важный вопрос. Я приказываю вам отвечать честно, даже если ответ будет неприятным для меня. Итак, что имел в виду Тотмес, когда дважды пытался оклеветать мою дочь? Что бы это ни было, это не предназначено для ушей собрания. Почему я должен вынести Мерит приговор? Что можно вменить ей в вину?
Небунеф сказал:
— Богоподобный, я полагаю, что Тотмес должен дать тебе ответ с глазу на глаз. Вероятно, он намекает на то, что принцесса Мерит проявила, может быть, больший интерес, чем это было бы прилично, к работе скульптора Пиайя. Они действительно вместе сидели над планами, встречались на ее корабле. Я не могу найти в этом ничего порочащего.
Рамзес взглянул на Птахотепа. Тот удивленно всплеснул руками:
— Я даже не догадывался об этом! Когда Тотмес сказал, что все Фивы знают об этих вещах, он, конечно же, преувеличивал. Тотмес сочится ненавистью, он обижен на тебя за то, что ты сделал верховным жрецом Небунефа, а не его. В нем говорят зависть и оскорбленное честолюбие. Он с умыслом построил свою речь так, чтобы прилюдно назвать Рамозе наследным принцем и оскорбить принцессу. Его язык действительно следует…
— Нет, я сказал это в минуту гнева. Его язык пусть пока сохранят, потому что я хотел бы поговорить с ним с глазу на глаз. Потом я вынесу приговор. Но одно мое решение неизменно: с сегодняшнего дня Тотмес лишается своей должности, и я предоставляю тебе, верховный жрец, назначить на его место верного человека.
Небунеф едва заметно помедлил и сказал:
— Тогда следует повысить третьего жреца. Это Бекенхонс, которого все зовут Беки. Он смышленый и работоспособный, всю жизнь служит здесь, в храме, и верен тебе, Богоподобный.
Рамзес поднялся:
— Согласен. Сегодня же можешь сообщить ему о назначении.
Нефертари молча присутствовала при беседе и обратилась к Рамзесу, только когда они остались одни:
— С окончательным приговором Тотмесу ты должен подождать до тех пор, пока мы выслушаем Мерит.
Рамзес взорвался:
— Ты становишься на сторону этого предателя и клеветника?! Ты, Великая Царская…
— Успокойся, любимый! Гнев — плохой судья, ты знаешь это так же хорошо, как и я. Тотмес грубо перешел границы дозволенного, оскорбил тебя и нашу дочь и за это заслуживает наказание, но ты должен подумать и о том, что у него немало приверженцев среди фанатичных почитателей Амона. Нельзя возбуждать в людях ненависть и возмущение. Часто бывает достаточно немного натянуть вожжи, чтобы придержать ретивого скакуна. Не стоит поднимать его на дыбы.
Рамзес, немного успокоившийся, погрозил ей пальцем:
— Я полагаю, сильнее, чем их, я должен придержать тебя, иначе ты похитишь у меня трон, как Маат-Ка-Ра у своего сводного брата Тутмоса. Потом ты подвяжешь себе бороду и будешь выступать в роли фараона…
[108] Ха! А давай попробуем!
Рамзес послал удивленного слугу за бородой и привязал ее к подбородку смеющейся и лишь для виду сопротивлявшейся Нефертари. Потом взял сделанный из тростника держатель для писчих перьев и вложил ей в руку, как скипетр. Рамзес упал на колени, вытянул вперед руки и засюсюкал, как придворный:
— О Гору Нефертари, любимец Маат, великий властью, прекрасный годами, Могучий Бык…
Тут Нефертари прыснула и заявила сквозь смех:
— О нет-нет, высокочтимый мой супруг, этот титул ты не можешь мне присвоить, если только не привяжешь мне что-либо более длинное, чем борода, и, конечно же, не к подбородку.
Рамзес вскочил на ноги, снял бороду с лица Нефертари и высоко поднял жену, как будто она весила не больше стебелька папируса.
— Побереги нашего нерожденного сына, дорогой. Он хочет появиться на свет через несколько месяцев.
— Мне и дочка подойдет.
— Тсс! — Нефертари своей изящной ладонью прикрыла его рот. — Такими словами ты смутишь богов. Я хочу загладить потерю Амани и снова и снова громко и отчетливо прошу о сыне. Делай это, пожалуйста, со мной, чтобы Хнум услышал наши молитвы и сотворил на своем гончарном круге мальчика.
— Хорошо, любимая сестра. Ты уже придумала имя для нашего сына.
— Да, я подумала об Атуме, боге-создателе из Она. Его также считают источником всего сущего, создавшим самого себя, и я думаю, что никто из твоих детей еще не носит его имя. Если ты согласен, то нашего сына будут звать Мери-Атум — любимец Атума.
Рамзес влюбленно посмотрел на свою первую супругу:
— Когда я не был согласен с тем, что ты говоришь?
Нефертари улыбнулась, и ямочки затанцевали на ее круглых щечках.
— Ты знаешь почему? Потому что я предлагаю тебе только то, против чего ты наверняка не будешь возражать. Ведь я знаю твои мысли, потому что обладаю половинкой твоего сердца.
Рамзес серьезно кивнул:
— Ты должна ее сохранить. Я знаю, что у тебя она в хороших руках. Теперь о другом. Дело с Тотмесом не дает мне покоя. Он все-таки был вторым жрецом Амона и имеет право на то, чтобы я его выслушал, и я хочу это сделать сегодня же.
После захода солнца царь велел привести разжалованного жреца и приказал страже:
— Подождите снаружи перед дверью.
Тотмес стоял, как побитая собака, в платье, покрытом каплями крови, с распухшим ртом, опущенными глазами и бормотал что-то бессвязное.
Рамзес молча посмотрел на него и почувствовал, что этим человеком владеют упрямство, враждебность и уязвленная гордыня, но не почувствовал к нему сострадания.
— Сегодня тебе по праву не дали произнести перед собранием то, что касалось только тебя и меня. Однако сейчас ты можешь говорить свободно. Я приказываю тебе именем Амона говорить правду!
Тотмес откашлялся, глядя на ноги царя, и сказал едва слышно:
— Я хотел только сообщить твоему величеству, что высокочтимая принцесса Мерит позволила скульптору Пиайю вольности, которые являются необычными между дочерью Солнца и одним из слуг твоего величества. Они катались вместе на корабле, провели ночь вместе в маленьком храме Сета позади гарема, они…
— Ты сам видел эти вещи? Откуда ты вообще знаешь об этом?
— Ну, ничто не остается скрытым. Есть слуги и чиновники, которые… я имею в виду… то, что происходит в пределах храма и дворца, так или иначе доходит до наших ушей…
— «Наших»? Кто это «мы»? — Голос царя стал громче и резче.
— Мы все верные слуги бога, — ответил Тотмес с упрямством.
— И какие выводы ты сделал из этих наблюдений?
— Я? Никаких! Я не допускаю дерзости делать выводы о членах царской семьи.
— Но ты имел дерзость против воли моего величества назвать наследника трона.
— Я назвал его только твоим живым перворожденным сыном. Многие из твоих предшественников…
— То, что делали мои предшественники, не имеет значения. Моя воля — закон для страны, и если я беру безымянного сына из самого мрачного угла гарема и называю его наследником, то это хорошо, верно и мгновенно становится истиной. Это доходит до твоего разума, упрямый жрец? Я — единственный высший жрец Пта, Амона, Амона-Ра и всех других богов, а поскольку я не могу один исполнять эту миссию, то назначаю заместителей. Я должен напоминать тебе о подобных всем хорошо известных вещах? Ты много лет верно служил своему богу. Почему же ты сейчас стал предателем по отношению к его собственному сыну? Амон-Ра принял облик моего отца, когда я был зачат, я — совершенный бог, единственный на земле живущий сын Солнца! Это знает каждый ребенок в Кеми, каждый раб, каждый из моих самых незначительных слуг. Почему этого не знаешь ты?
Тотмес молча уставился на колено царя. Он мог бы ответить на эти упреки, однако остаток разума помешал ему сделать это.
— Молчишь? Это тоже ответ, и я принимаю его. Я только тогда вынесу приговор тебе, когда поговорю с принцессой Мерит. Пока я дарю тебя свободу, но ты не должен покидать пределы храма. Теперь будешь трудиться как помощник жреца. Будешь убирать двор, носить воду и выполнять другую грязную работу, пока я не прикажу что-либо другое.
— Слушаю и повинуюсь, Богоподобный, да будь жив, здрав и могуч.
Крошечный храм Пта располагался в уголке храмового комплекса и едва ли играл какую-либо роль в Фивах. Жизнь в нем протекала незаметно. Службу там справляли два жреца, посетителей было мало, большей частью это были путешественники с севера, которые жертвовали пару куриц или козу. То, что Тотмес должен был служить городскому богу Мемфиса, было для него худшим наказанием, чем тюрьма.
Тотмес поостерегся назвать имя Незамуна. Коварный жрец-чтец и доверенное лицо царицы Изис-Неферт мог, вероятно, позднее еще пригодиться, потому что Тотмес и не думал о том, чтобы оставлять надежду. Для него было почти наслаждением страдать за своего бога, и он был твердо убежден в том, что его испытания в должности помощника жреца в храме Пта скоро пройдут.
Мерит и Пиай наслаждались каждым днем, который был им дарован, они думали только о сегодняшнем дне и прекратили принимать меры безопасности. Собственно говоря, каждый знал, что здесь происходит, но никто и помыслить не мог о том, чтобы читать наставления дочери Солнца и Единственному другу фараона.
Тем временем Хотеп пришел к твердому убеждению, что он может создавать так же много произведений, как и его наставник. Он молчал, держал глаза и уши открытыми и втайне надеялся на день, когда станет первым скульптором царя. Он не желал Пиайю ничего плохого, но и особо не огорчился бы, если бы с ним — а такое могло быть в любой момент — что-то случилось.
На вопрос Пиайя о том, сможет ли он принять на себя работы в Малом храме, он уже на следующий день ответил согласием. Конечно, он мог это! И фараон в свое время узнает, что Пиай не единственный в стране может выполнять подобные работы.
Присутствие возлюбленной сделало Пиайя рассеянным, он не мог сосредоточиться на работе, и уже на второй день сильно ушиб кисть руки. Сердце у него желало подобного несчастного случая, хотя, конечно, он произошел неосознанно. Мастер преодолел боль, велел наложить тугую повязку и провел еще несколько часов в Большом храме, где были сооружены уже большие помосты, и опытные каменотесы по указаниям Пиайя начерно вырубали в скалах четыре головы Благого Бога. Работы внутри большего пещерного зала были уже окончены, и сейчас добрая дюжина скульпторов работали над рельефными украшениями.
Получив травму, мастер выиграл несколько дневных часов для Мерит, но после ужина велел слугам проводить себя с факелами к своему дому, чтобы каждый знал, что ночи он проводит не в маленьком дворце.
Влюбленным было дано девять дней, затем однажды утром прозвучали фанфары герольда, сообщающие о прибытии Благого Бога и его супруги. Царский гонец явился раньше на полдня вместе с личными слугами фараона, которые тотчас с лихорадочной быстротой взялись за работу, чтобы подготовить все к его прибытию.
Пиай притворился, что очень обрадован, однако на сердце у него была печаль, и печень у него болела. Ему показалось, что фанфары объявили его собственный смертный приговор. Но даже если сейчас наступит конец, он все-таки достиг большего, чем было возможно для человека его происхождения. Скульптор и архитектор царя, главный надсмотрщик над всеми строительными работами в царстве, Единственный друг фараона, обладающий имениями, осыпанный подарками, и любовник дочери Солнца Мерит. Разве это ничего не значило?
Пиай надел церемониальный парик, украшения, велел обрызгать себя ароматной водой. Делегация надсмотрщиков и ремесленников зашла за ним в его дом, из дворца в сопровождении женщин и слуг пришла Мерит, высокомерная, с гордо поднятой головой, украшенной сверкающим уреем. Пиайю она показалась чужой, как будто настоящая Мерит все еще сидела в дворцовом саду и ожидала его.
Фараон появился на своей роскошной ладье, украшенной золотом, драгоценными камнями, слоновой костью, однако ее сопровождали только две другие ладьи. Должно быть, визит его будет не слишком долгим.
Перед глазами рабочих и надсмотрщиков Мерит церемониально и торжественно приветствовала своих родителей, все пали ниц, коснувшись головами песка, когда Благой Бог с Нефертари и Мерит под балдахином направились ко дворцу.
На вечер был запланирован торжественный ужин, на который были приглашены руководители строительства со скульпторами и художниками.
В то время как Нефертари и Мерит одевались и красились при помощи прислужниц, царица спросила:
— Есть что-то особенное, о чем ты хотела бы мне сообщить, Мерит? Мы были очень удивлены, когда не встретили тебя в Фивах.
— Во мне просто взыграло любопытство, и я захотела посмотреть твой храм, — ответила Мерит совсем непринужденно, но мать почувствовала, что она о чем-то умалчивает. Движением руки Нефертари отослала служанок.
— Я выносила тебя в своем теле, я видела, как ты выросла, я знаю твои плохие и хорошие стороны. Ты гордая девушка, и, насколько я знаю, ты никогда не обманывала меня, но сейчас мне кажется, что ты о чем-то умалчиваешь.
— О чем-то умалчивать, дорогая мама, — это еще не то же самое, что лгать. Я твоя дочь, но я больше не ребенок.
Нефертари горько улыбнулась:
— Конечно, конечно, в твоем возрасте я уже родила фараону дочь — тебя, и сына. Время от времени я спрашиваю себя, для кого ты хранишь свою девственность. Твой высокочтимый отец никогда не подталкивал тебя к браку и не навязывал тебе супруга, потому что он любит тебя. Ты живешь против воли богов, Мерит! Никто из них не живет один: Пта с Сехмет, Озирис с Изидой, Амон с Мут, и даже мрачный Сет женат на Нефтиде. Почему ты сопротивляешься мировому порядку? Таким образом ты грешишь против Маат и огорчаешь своих родителей. Или же есть мужчина, о котором мы ничего не знаем?
Что должна была ответить на это Мерит? Она не могла выдать своего возлюбленного, и лгать она тоже не могла. Оставалось только молчать. Нефертари не спросила ни о чем больше, но ее беспокойство усилилось.
В первый раз в своей жизни фараон также скрывал что-то от своей супруги, он ничего не рассказал ей о своем разговоре с Тотмесом. Фараон сделал это из любви, потому что не хотел волновать жену до разговора с Мерит. Однако теперь он откладывал объяснение с дочерью. Он, который никогда не был нерешительным, сейчас медлил и медлил.
После праздничного ужина у него состоялся короткий разговор с Пиайем, который доложил о ходе работы в обоих храмах и порадовал царя новостью, что Малый храм уже почти готов.
— Мы посетим его завтра вместе, мой друг.
Пиай поклонился и услышал, как царь тихо добавил:
— А там поглядим.
По дороге домой он постоянно вспоминал эти слова. Что имел в виду Богоподобный? Было ли это каким-либо знаком милости или наоборот?
Во время всего ужина Мерит не выказала ни единого знака неуверенности. Она обращалась к Пиайю свысока, как и было должно обращаться со слугой Благого Бога. Только фараон, так ему казалось, иногда поглядывал на мастера с выражением мрачного любопытства, но взгляды эти были очень быстрыми, и скульптор вполне мог ошибаться.
Хотя Пиай опустошил кувшин вина, чтобы запить свои заботы, он лишь с трудом забылся беспокойным сном.
Ему казалось, что он бродит внутри Большого храма и в первом зале громадные скульптуры Благого Бога в образе Озириса угрожающе смотрят на него. Внезапно они все одновременно начали громко говорить. Глухой, вызывавший дрожь хор голосов укорял:
— Горе тебе, Пиай, когда Анубис будет взвешивать твое сердце и найдет его легче пера Маат! Ты обесчестил мою дочь. Анубис столкнет тебя в вечный огонь, где тебя ждут кровожадные демоны, которые вырвут из твоего тела сердце, печень, легкие и кишки. Они будут рвать их снова и снова! Наказание твое продлится вечно, и вечно будет гореть огонь, не разрушая твое переполненное грехами тело.
Потом статуи сошли со своих мест и заковыляли на своих ногах, перевязанных бинтами, к Пиайю, который с криком, весь в поту, проснулся. Он встал, разбудил слугу и велел облить себя парой кувшинов воды.
Другой сон начался дружелюбно, вселяя надежду. Пиай посещал храм в Пер-Басте и вместе с Мерит молился богине любви с головой кошки. Потом он обнял свою любимую и повел ее на лодку. Они спустились под палубу, чтобы в кругу других паломников принести любовную жертву Баст. Однако не было слышно ни шороха, и Пиай удивлялся этому, потому что он однажды уже переживал подобное и помнил громкие стоны, вскрики и возню. Они наклонились и вошли в помещение, наполненное зеленоватым светом. Со странной отсутствующей улыбкой Мерит указала на пол и сказала:
— Посмотри, любимый, они все мертвы.
На полу лежали останки людей; некоторые прижимали костлявую руку к груди или животу другого скелета, застыв в вечной кошмарной ласке. Пиай бросился бежать, а Мерит внезапно исчезла. Он хотел выскочить на палубу, но это больше был не корабль. Пиай рухнул в затягивавшее его болото и проснулся.
В это утро большая, обычно оживленная стройка пустовала. Рамзес подарил рабочим три дня отдыха, не сокращая их жалованье, поэтому все хвалили щедрость Благого Бога. Царь хотел осмотреть храм без помех и в полном спокойствии. Вместе с Нефертари, Мерит и Пиайем он стоял перед наполовину готовым фасадом Малого храма.
— Твой храм! — обратился он к своей супруге.
Нефертари осмотрела свою уже готовую статую с двумя дочерьми и сказала:
— Я благодарю тебя, мой любимый царь.
Рука об руку они исчезли внутри храма, сопровождаемые только двумя телохранителями с факелами. Рамзес попросил Мерит и Пиайя остаться снаружи. Пиай прошептал ей:
— Богоподобный знать не знает, что это твой храм, любимая. Каждым ударом резца я запечатлял в камне тебя.
Мерит нежно посмотрела на него:
— Сохраним это как нашу тайну. То, что царь построил храм для моей матери, уже знает весь свет, а то, что первый скульптор фараона посвятил его своей любимой, знаем только мы.
Ослепленные дневным светом, у выхода появились царь и царица. Рамзес сказал:
— Прекрасно, Пиай. Краски тоже мне нравятся. Художники должны выбрать именно эти цвета. В любом случае я хотел бы, чтобы этот храм был готов первым. А теперь посмотрим Большой храм.
Внезапно у Пиайя возникла безумная мысль, что он, собственно говоря, уже член царской семьи. Он сопровождает фараона и его жену, рядом с царской четой шагает Мерит — маленькая объединенная оживленным разговором семья. В ней царят мир и довольство.
Фараон похвалил также Большой храм, велел объяснить ему подробности, сделал предложения и долго смотрел на грубо вырезанные, но уже узнаваемые головы, которые выглядывали из-под помостов.
Все выглядело так, будто отец семейства доволен мужем дочери. Сама Мерит поддалась искушению довериться этому видимому миру, у нее возникла новая надежда. Только Нефертари, чувствовавшая острее всех, не поддалась обману. Это было затишье перед бурей. В природе перед хамазином воздух тоже замирает, воцаряется опасная тишина, которая вводит в заблуждение неопытных.
С Пиайем милостиво распростились, и царская семья возвратилась в маленький дворец. Мастер не привык проводить день без работы и не знал, чем ему заняться. Он пошел домой, лег, снова встал, полистал строительные планы и пожелал, чтобы фараон как можно быстрее уехал и все бы осталось по-старому.
Царь Рамзес был близок к тому, чтобы выполнить желание своего первого архитектора. Работа в храмах так впечатлила его, что он постарался забыть все, что узнал от Тотмеса. В конце концов в его воле считать определенные вещи не совершившимися. Нужно только послать скорохода в Фивы, и управляющий Югом, верный и преданный Птамозе вместе со смертным приговором передаст Тотмесу кувшин отравленного вина. Существовал старый обычай, позволявший высокопоставленным лицам не быть казненными позорно перед глазами толпы, а по милости фараона с честью покончить жизнь самоубийством. Этим проблема была бы решена, и одним фанатичным жрецом Амона на свете стало бы меньше.
Но как же последствия? Мерит и Пиай продолжили бы свою связь, и все большее количество людей узнали бы об этом. Нет! Кровь Ра не может быть загрязнена, иначе Рамзес поставил бы под вопрос свое божественное происхождение и высокое положение. Мерит — священный сосуд, который бы любое простое семя загрязнило и обесценило. Она может выйти замуж только за одного из своих единокровных братьев, а Пиай должен быть сурово наказан. Рамзесу пришло было в голову поженить Рамозе и Мерит, но это дало бы жрецам Амона повод к новым интригам и выглядело бы так, будто фараон хочет что-то загладить. Нет! Рамзес вскочил на ноги и схватился за колокольчик.
— Пусть придет принцесса Мерит!
Она вошла, гордая принцесса, его первенец, которую бог Хнум так искусно изваял по образу и подобию обоих родителей. Она поцеловала руку отца и выжидающе посмотрела на него.
— Ты знаешь, зачем я велел позвать тебя?
Она знала это, но ответила, улыбаясь:
— Не знаю, но сейчас узнаю.
— За Пиайем и тобой в Фивах наблюдали. Вы провели вместе ночь в покинутом храме Сета, вместе катались на ладье, и я предполагаю, что ты разделяла ложе этого предателя.
Лицо Мерит вспыхнуло от гнева:
— Пиай не предатель, а то, что рассказывают в Фивах, — злобные сплетни! Мне жаль, что мой высокочтимый отец прислушивается к ним.
Почувствовав сопротивление дочери, Рамзес рассвирепел, голос его загремел:
— Я хочу сейчас же узнать правду от тебя, иначе я должен буду выбить ее из Пиайя! Вряд ли вы целую ночь молились в храме Сета! А почему ты не отправилась кататься по Нилу с женщинами из свиты? Жрецы Амона знают о твоих похождениях и смеются за моей спиной. Ты запятнала мое имя! А теперь говори и без всякой лжи и уверток.
Гордость и гнев смешались в бесстрашном сердце Мерит. Она надменно вскинула голову, ее темные глаза горели от возмущения.
— Я никогда тебе не лгала, я думала только, что правда в этом случае не была бы для тебя желательной. Да, Пиай — мой возлюбленный, мой муж, мой любовник. Мы любим друг друга, и мы страдаем оттого, что должны скрывать эту любовь от всего мира. Позволь нам удалиться с твоих глаз, объяви нас мертвыми. Я хотела бы быть его женой, и он должен быть моим мужем, а все остальное мы оставим. Принцессу-первенца, первого архитектора царя, Единственного друга фараона, дворцы и слуг — мы все это сложим к твоим ногам, если ты отпустишь нас.
Рамзес вскочил на ноги, отшвырнул в сторону то, что попалось ему на пути, и схватил Мерит за руку так крепко, как будто хотел сломать. Однако гордая принцесса не шевельнула и бровью и бесстрашно посмотрела в глаза отца, сверкавшие гневом.
— Вот вы что придумали! Я должен просто позволить вам бежать и объявить вас убитыми. Но это не изменит того, что ты дочь Солнца, даже если ты отложишь свой урей и царские украшения! Как Пиай всю жизнь будет сыном раба, так и ты всегда остаешься принцессой. Ты не можешь изменить решения богов! Это кощунство. Я разрублю Пиайя на куски и скормлю его рыбам в Ниле, а ты будешь свидетельницей этому. А потом ты немедленно отправишься в Пер-Рамзес и выйдешь замуж за какого-либо принца, их там хватает.
— Если ты сделаешь это с Пиайем, можешь и меня бросить в Нил вместе с ним! Что тогда будет с твоим великолепным храмом? Кто выточит четыре громадные фигуры? Ни один другой скульптор не осмелится на подобную работу, и то, что было задумано столь великим, останется, к твоему вечному стыду, незавершенным.
— Как ты со мной разговариваешь?! — заорал Рамзес. — Что здесь называется стыдом? Ты сама покрыла себя позором и должна будешь заплатить за это, как и твой жалкий любовник! Прочь с глаз моих, и оставайся в доме, пока я не решу вашу судьбу!
Однако слова Мерит достигли своей цели, и, когда гнев схлынул, царь сообразил, что он потерял бы вместе с Пиайем. Конечно, кто-то другой мог бы сделать колоссальные фигуры. Но кто? В Фивах Рамзес долго стоял перед своей громадной фигурой, сидящей на троне. Он от всего сердца восхищался Пиайем и поздравлял себя с тем, что имеет такого мастера. А теперь он останется с пустыми руками. Не бросать же ему своего лучшего скульптора в Нил.
Раздираемый противоречивыми чувствами, царь искал убежище у Нефертари. Она посоветует ему и вместе с ним найдет решение.
Он обстоятельно изложил суть дела, говорил о позоре, подлости, наказании, говорил также о храмах и о том, что едва ли сможет воплотить свои замыслы без Пиайя.
— Я иногда ощущал его своим братом по духу, чувствовал душевную связь с ним, а теперь это! Еще никогда ни один человек так не разочаровывал меня. Никто еще так не использовал мое доверие.
— Я сочувствую твоему гневу, любимый, я тоже возмущена и подавлена. Но твое возмущение не должно заходить так далеко, чтобы разрушить свой лучший инструмент. Поддавшись гневу, ты сотрешь с лица земли человека, которого боги тебе, исключительно тебе, фараону, послали для их и твоего прославления. То, что он обесчестил нашу дочь, ну… конечно, непростительно и требует наказания.
Рамзес вздохнул. Его жена признала его правым во всем, однако напомнила ему об обязанностях по отношению к богам.
— Что ты предлагаешь?
— Ты не должен принимать моего совета, но я полагаю следующее: Пиай упомянул, что его помощник Хотеп может один доделать Малый храм, мой храм. Делу особенно не повредит, если мастер некоторое время будет отсутствовать, может быть…
— Стой! Мне уже кое-что пришло в голову. Я отправлю Пиайя на каторжные работы, но оставлю вопрос открытым на неопределенное время. Разумнее всего было бы послать его прямо сейчас в Суенет, в гранитные каменоломни. Там, занимаясь тяжелой работой, он сможет подумать над тем, что это значит обесчестить принцессу.
Нефертари не стала высказывать замечание, что Пиай до сих пор работал не менее тяжело, и только спросила:
— А что будет с Мерит?
— Мерит должна выйти замуж и немедленно. Она продолжит жизнь с супругом, подходящим ей по положению, очень далеко от Пиайя. Между ними в будущем будет лежать вся Кеми. Когда мне снова будет нужен Пиай, я отправлю его в изгнание из Суенета куда мне будет угодно. Мерит же сможет научиться в Пер-Рамзесе выполнять обязанности дочери Солнца, отделенная от предателя многими днями пути.
По фараону было видно, как он доволен своим решением. Весь гнев слетел с его лица, и он снова считал своим собственным решением то, к чему побудила его Нефертари. Она спросила его только:
— Ты уже выбрал супруга для Мерит?
— В любом случае это не будет один из сыновей Изис-Неферт.
Он подумал и воскликнул внезапно:
— Сети! Да, Сети, это было бы верное решение. Он как две капли воды похож на меня, и у них будут прекрасные чистокровные дети. Как ты считаешь?
Нефертари не решилась возразить, хотя и боялась, что Сети не ровня гордой Мерит. В этом браке он, вышедший из темного угла гарема, должен будет проявлять снисходительность. Да и Мерит, сердце которой уже выбрало возлюбленного, не сможет забыть его просто так. Однако Рамзес успокоился, и Нефертари не захотела вновь будить в нем гнев.
— Он способный и статный мужчина. Почему нет? Может быть, нам стоит дать им немного времени…
Рамзес тотчас вспыхнул:
— Нет и еще раз нет! У других женщин ее возраста уже полдюжины детей. Мы и так дали ей достаточно времени, чтобы она жила, как хотела. И что из этого вышло? Теперь она должна познакомиться с обязанностями своего высокого положения.
— Ты абсолютно прав, любимый. Я думаю, ты снова решил умно и справедливо. Конечно же, Маат с благоволением направляет твои решения.
Книга вторая
1
Хотеп чувствовал себя избранным и возвышенным. Он шел, как по облакам, а ведь еще вчера не мог и мечтать о том, чтобы оказаться на месте Пиайя. Благой Бог собственной персоной принял его. Стоя на коленях, с низко опущенной головой Хотеп внимал могущественному голосу:
— Как я слышал, мастер Пиай передал тебе трудную работу в Малом храме. Я полагаю, сделал он это не без основания. Произошли события, которые тебя не касаются, но они побуждают меня спросить тебя, сможешь ли ты взять на себя также и работу в Большом храме? Можешь подняться.
Хотеп встал, оглушенный этим неожиданным вопросом.
— О могущественный Гор, любимец Маат, да будь жив, здрав и могуч, в моем распоряжении находятся модели и планы. Может быть, твоя священная воля подвигнет Пта к тому…
Рамзес начал проявлять нетерпение:
— Модели, планы — этого мне слишком мало, Хотеп! Скажи прямо: берешься ты или нет?
Хотеп заколебался. Если он скажет «да», но потерпит неудачу, тогда он упадет очень глубоко.
— Я попытаюсь, Богоподобный.
— А если попытка не удастся? Обваленную скалу нельзя просто обновить. Что испорчено, останется испорченным… Хорошо, Хотеп, продолжи работу в Малом храме, ты снова обо мне услышишь.
Пиай почувствовал настоятельное желание принять перед ужином ванну в Ниле и уже хотел покинуть дом, когда увидел приближавшийся отряд царских телохранителей, во главе которых шел чиновник со свитком папируса в руке.
— Ты скульптор Пиай?
— Да, это я.
— Тогда я должен попросить тебя снова вернуться в свой дом.
Это был конец. Пиай знал, что этот момент должен наступить, он неизбежен, как смерть.
Когда они остались одни, чиновник представился секретным писцом фараона, развернул свиток и начал читать:
— Благой Бог и сын Солнца, Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес, да будет он жив, здрав и могуч, повелевает: скульптор Пиай должен быть лишен должностей старшего надсмотрщика за строительством и первого ремесленника фараона, его титул Единственного друга фараона объявляется недействительным. Все его владения переходят к Богоподобному, он сам с нынешнего момента является заключенным и приговаривается к каторжным работам в каменоломнях Суенета на неопределенное время.
Чиновник сделал паузу и выжидающе посмотрел на Пиайя:
— Ты все понял, Пиай, или я должен тебе что-либо объяснить?
— Я понял.
— Тогда подпиши здесь.
Пиай дрожащей рукой поставил свое имя на обозначенном месте. Писец свернул свиток.
— Теперь ты подчиняешься воинам фараона, да будет он жив, здрав и могуч. Завтра они повезут тебя в Суенет.
Пиай вежливо поблагодарил и проводил чиновника к двери. Потом хлопком вызвал слугу, но тот уже давно сбежал, так что Пиай сам достал кувшин вина из кладовой.
«Вероятно, это последняя возможность выпить вина, — подумал он, — потому что, когда я стану каторжником, я должен буду довольствоваться водой. Это конец всего, но худшего не случится, и это хорошо».
Он не нашел бокала и поднес к губам весь кувшин. Если бы у него сейчас был яд, дело можно было бы решить в два счета. Что ожидает его? Тупая, тяжелая работа под раскаленным солнцем, побои, убогое пристанище, презрение, насмешки…
Пиай снова отпил большой глоток из кувшина. Он ничего не ел, и вино быстро ударило ему в голову. К тяжелой работе он привык, но это была творческая работа, которая радовала и удовлетворяла его. Целый день стучать отбойным молотком по граниту, в то время как сзади стоит надсмотрщик с палкой и выжидает момента, когда ты переведешь дыхание, чтобы ударить побольнее, — это глупо, унизительно, и такое сложно перенести. Итак, остается надежда только на то, что тело скоро потеряет свою силу и умрет или найдется возможность размозжить себе череп о гранит.
Эта мысль, а также кувшин вина вселили в Пиайя некоторую надежду. И, наконец, есть Мерит, которая, конечно же, не смирится с тем, что ее возлюбленный погибнет в каменоломнях. В кувшине оставалась еще половина хеката, и Пиай непрерывно пил дальше.
«И все же дело того стоило, — подумал он упрямо, — даже если нашей любви была отведена только пара месяцев. Я отдал бы все, все, лишь бы только мне осталась моя маленькая львица… Что для меня значат титулы Единственного друга фараона и первого архитектора? Они приносят честь и богатство, но сердце остается пустым. Что случится с ней? Накажет ли ее фараон? Станет ли принуждать ее к чему-либо?»
Шатаясь, Пиай встал, вино шумело у него в ушах, масляная лампа весело танцевала, как будто ожила. Спотыкаясь, он отправился на улицу, но его тотчас остановил вооруженный охранник.
— По нужде-то можно? — пробормотал он. — Можешь стоять рядом, если тебе это доставит удовольствие.
Охранник не спускал с него глаз до тех пор, пока мастер снова не доковылял до дома.
— Единственный друг фараона! Первый архитектор царя! Главный надсмотрщик над всей Кеми! — воскликнул Пиай громко, бухаясь в кресло.
— Любовник принцессы Мерит, — прошептал он, — и это единственный титул, который имеет ценность, и как ни одно из моих произведений нельзя стереть с лица света, так никто не отнимет у меня и эти часы, дни и месяцы, проведенные с Мерит. И царь не отнимет! Тут не помогут никакие приказы, декреты, предписания, распоряжения и законоположения.
Он хихикнул, снова выпил, захлебнулся и чуть было не задохнулся, откашлялся и упал на свое ложе. Один раз, только еще один раз обнять бы стройное тело Мерит, поцеловать твердые маленькие груди, погладить ее живот, посмотреть в ее темные глаза…
«Это не может так просто окончиться, как будто мы умерли друг для друга! Мы еще есть — я, Пиай, и ты, Мерит! Баст не позволит оторвать любящих друг от друга. Я почитал тебя в Пер-Басте, о богиня с головой кошки, теперь услышь же мою молитву: дай мне один раз, только один раз в жизни снова увидеть любимую, я прошу тебя только об этом! Такую маленькую просьбу ты можешь выполнить. Ты же могущественная богиня! Смотри, в честь тебя я опустошил целый кувшин вина, а если я снова когда-либо обрету свободу, я изготовлю кошку из чистого золота и подарю ее тебе. Да, я это сделаю! Я это сделаю».
Опьяненный вином, Пиай забылся глубоким хмельным сном. Когда его разбудили на рассвете, скульптор Пиай был в таком состоянии, как будто пытался себя отравить. Когда его вели, руки у него дрожали, лицо было пепельно-бледным, голова болела, как будто была сдавлена двумя камнями, желудок скручивался от тошноты. Хорошо, что он успел выпить несколько бокалов воды, прежде чем вооруженный стражник отвел его к ладье.
Несколько рабочих робко наблюдали за ним издалека. Ах, как охотно он поменялся бы местами с этими людьми! Они были молоды, свободны и радовались жизни, в то время как его увозили на каторжные работы. Он мог бы броситься в Нил… Однако стражники связали ему руки за спиной, и один из них вел мастера на веревке, как собаку.
В этот час царь уже принял ванну и сел в кресло, отдавая себя в распоряжение Гори. Тот старательно наточил бронзовое лезвие о полоску бычьей кожи. Потом с глубоким поклоном приблизился к сыну Солнца, окунул кисточку в чистое, с ароматными веществами кедровое масло и намазал им щеки и подбородок своего господина.
— Что ты скажешь об обоих храмах, Гори? Подобного еще никогда не было, тем более посреди пустыни.
— Великому фараону подобают великие сооружения. Маленького и незначительного на свете достаточно.
— Ты снова мне льстишь, Гори, и тем не менее я охотно слушаю лесть. Завтра мы отправимся назад в Фивы, там в качестве награды я подарю тебе красивую рабыню. Не каждый цирюльник сопровождает своего господина в опасное путешествие по пустыне.
— Твоя милость безгранична, Богоподобный. Но может быть, это будет молодой человек, который станет мне помогать и которого я смогу обучить?..
Рамзес расхохотался:
— Это ты называешь «обучить»! Могу себе представить, как это будет выглядеть. Бедный парень должен будет заползти к тебе в постель и научиться у тебя непотребным вещам.
— Не осмеливаюсь противоречить, Богоподобный. Этот юный скульптор Хетеп или Хотеп мог бы мне понравиться. Сильные и стройные члены, узкие бедра, округлости сзади…
— Прекрати, Гори, прекрати! Я знаю твой вкус, но не могу его разделить. Хотеп в будущем станет здесь важным человеком.
— Я слышал об этом…
— Что ты еще слышал? Что говорят люди?
— Извини, Богоподобный, но в моем высоком положении не полагается болтаться среди черни. Вчера я сидел за кувшином пива с надсмотрщиками, когда твои воины пошли к мастеру Пиайю. Конечно, все были удивлены, но кто осмелился бы критиковать твои приказы? Все, что ты делаешь, справедливо, Богоподобный. Об этом знает вся Кеми.
Рамзес ухмыльнулся:
— Хочу надеяться. Пиай еще легко отделался. Собственно говоря, он заслужил смерть. Молчи об этом случае, он касается только царской семьи.
Гори гладко выбрил царя спокойными, уверенными движениями. Он вытер масло и щетинки платком, который потом торжественно сожжет. Ничего от тела Благого Бога не имело право попасть на глаза общественности. Уже были случаи, когда цирюльника отправляли на смерть, потому что он продал волосы или ногти Благого Бога. Однако на Гори можно было положиться, и фараон ценил и баловал его сверх всякой меры.
— Будем надеяться, что новое место не вскружит Хотепу голову. У парня еще и борода не растет, а ему доверили работу, которая любому другому была бы не плечу. Кроме Пиайя…
— Да, — задумчиво пробормотал Рамзес, — кроме Пиайя… Ну, мы посмотрим.
— Мне позволяется снять твой передник, Богоподобный?
— Да, но поторопись.
Гори расстегнул золотой пояс, свернул передник, и Рамзес растянулся на ложе. Снова потребовалась кисточка, и Рамзес рассмеялся:
— Ты непременно должен меня щекотать, Гори? Побереги такие шуточки для своих мальчиков.
— У каждого мужчины щекочет в этом месте, и даже Благой Бог не исключение.
Левой рукой Гори нежно приподнял пенис, в то время как правой старательно сбрил волосы вокруг него.
Майт-Шерит, маленькая львица, в бешенстве бегала по своей комнате. Она узнала от Нефертари, что случилось с ее возлюбленным, и восприняла как личное оскорбление то, что его, как раба, послали в каменоломню, в то время как она должна выйти замуж за этого Сети. Когда мать сказала ей об этом, в глазах дочери появилось такое дикое выражение, что царица отступила на шаг.
— Я должна выйти замуж за этого выскочку, за это ничтожество?! Я, первенец фараона?! Нет и тысячу раз нет! Лучше продайте меня на рынке в Мемфисе, как проститутку! Этот надутый осел, капля разума которого сидит лишь в его руках! И только потому, что он похож на фараона и ловок в обращении с луком! Если все это должно… Нет! Если дело зайдет так далеко, я возьму нож и отрежу себя нос и уши. Тогда я вряд ли понравлюсь Сети и наконец обрету покой. Почему меня не оставят в покое? Почему?!
— Успокойся, Мерит, пожалуйста, успокойся, последнее слово еще не сказано. Дай нам сначала вернуться в Пер-Рамзес, и ты увидишь…
Мерит взволнованно прервала ее:
— Что я увижу? Пустую придворную жизнь без смысла и обязанностей, с ежедневными мыслями о Пиае, который гибнет в каменоломне? Войди в мое положение! Ты и отец — вы любите друг друга, вся страна это знает, потому что нет ни одной картины, ни одной статуи от Севера до Юга, где ты не была бы изображена рядом с ним. А теперь еще этот храм, посвященный Хатор, но сооруженный для тебя! Я люблю Пиайя не меньше, чем ты фараона, и, если бы для этого были средства, мой любимый построил бы и мне храм посреди Кеми, видимый для всех. Но, поскольку это невозможно, оставьте нам хотя бы нашу любовь! У нас нет ничего другого! Кому мы вредим? Кто страдает от нее? Кому мешает то, что мы любим друг друга? У фараона есть еще тридцать или сорок дочерей, которых он может выдать замуж за Сети или за кого угодно. Почему я? Почему я?!
Нефертари молча покачала головой и погладила руку Мерит.
— Почему ты? — произнесла она наконец. — Потому что ты — моя дочь, первенец Великой Царской Супруги, и потому, что твоя кровь ценнее, чем кровь других дочерей. Царь просто не может допустить, чтобы ты погубила себя. Я могу тебе напомнить, что наряду с твоими многочисленными правами у тебя есть и некоторые обязанности, и эта принадлежит к их числу. Пиай тоже должен был бы понимать это. Он в конце концов родился и вырос здесь, он должен уметь различать, что правильно, а что неправильно и даже преступно. Но он пренебрег этим и теперь искупает свой грех в каменоломне.
Так говорила Нефертари, потому что это предписывало ей ее положение Великой Царской Супруги, но в глубине сердца она считала, что ее дочь права.
Мерит упрямо сказала:
— Богоподобный должен будет отпустить
Пиайя, иначе я не выйду замуж за Сети.
Нефертари с сомнением покачала головой:
— Ты не можешь торговаться с фараоном, ты его дочь. Я должна еще добавить, что твой отец, узнав правду, хотел тотчас велеть разрубить Пиайя на куски и бросить в Нил. Он не сделал этого только потому, что я умоляла его, и потому, что он тебя любит. Если ты будешь испытывать его терпение, он может изменить свое решение. Подумай об этом.
Гордая, но умная Мерит мгновенно поняла, что своим поведением она может еще больше навредить любимому. Помолчав, она сказала совершенно спокойно:
— Царь должен дать мне немного времени на раздумья, если он меня любит так, как ты рассказываешь. То, что я тотчас, радостно повизгивая, упаду в объятия Сети, вряд ли возможно. Но я рада, что отец смягчил свой приговор, и Пиай, по крайней мере, остался в живых. Если бы этого не случилось, могу тебя заверить…
Однако Мерит не стала продолжать, потому что поняла, что ей следует прежде всего быть умной.
Маленький храм Пта располагался в Фивах перед северными воротами громадного храма Амона и выглядел почти как домик привратника. Однако он видел и лучшие времена, когда великий и победоносный царь-завоеватель Мен-Хепер-Ра-Тутмос велел соорудить его в знак благодарности за многочисленные победы в чужих северных странах, которые лежали ближе к области Пта. Храм состоял только из маленького двора с крошечным колонным залом, к которому примыкали три часовни семьи Пта. В средней находилось культовое изображение бога в его строгом и отталкивающем облике мумии, на голове у него был тесно прилегающий капюшон, в то время как обе руки держали скипетр и знак Анк.
Тотмес, бывший второй жрец Амона, осужденный выполнять здесь самую черную работу, выполнял ее с таким затаенным гневом, что у него ежедневно болела печень. Он подметал пол, наполнял жертвенные чаши, тлеющим древесным углем, стирал платье бога и служил одновременно двум жрецам. Оба были уже стариками, и должность эта была для них удобным теплым местечком. Они не были фанатиками, выполняли свою службу попеременно и, бывало, целыми днями отсутствовали в храме. Имелась еще пара помощников жрецов — глупые, необразованные создания, которые не умели ни читать, ни писать. Их общества Тотмес избегал. Он охотнее проводил свободные часы с друзьями прежних дней, которые в большинстве случаев остались верны ему, потому что были убеждены, что наказание, которому подвергли второго жреца, вскоре будет отменено. Они лелеяли пустые надежды, видели Рамозе наследным принцем и ждали указаний Амона, который направит их шаги. Однако бог медлил.
Западнее Фив тем временем по желанию царя началось строительство двух гробниц — его собственной и Великой Царской Супруги. Чтобы как можно быстрее приготовить Дом Вечности для свой любимой жены, фараон приказал украсить его не рельефами, требующими большого времени для изготовления, а роскошной живописью на белоснежных стенах. Во время одной из следующих поездок в Фивы Рамзес хотел преподнести любимой сюрприз.
Здесь, западнее Фив, произошла случайная встреча принцев Енама и Рамозе. Их дружба давно прошла, они не доверяли друг другу и избегали друг друга. Енам, наследный принц и благодаря этому более высокий по рангу, не имел ни малейшего повода искать милости своего единокровного брата, в то время как Рамозе, настраиваемый интриганами-жрецами Амона в Фивах, считал себя настоящим наследником престола. В кругах, близких к храму Амона, быстро стало известно, что Рамозе подписал тайный документ, по которому Фивам при его правлении вернется былой блеск резиденции. У Рамозе не было ни малейшего желания общаться с братом. Он ожидал дня, когда дома в кругу своих друзей снова сможет заниматься привычной деятельностью и возобновит привычные развлечения.
Однако получилось, что оба принца встретились во время охоты в одинокой пустынной области близ Фив. Эта местность была богата газелями, антилопами, дикими козами и овцами. Иногда здесь можно было видеть ланей, каменных козлов и страусов.
С тех пор как царь объявил наследником Енама, Сети держался стороны наследного принца и избегал Рамозе. Он сопровождал Енама повсюду, держал себя ненавязчиво и выступал вперед только тогда, когда мог оказать какую-либо услугу. Скоро он принадлежал уже к свите Енама, которая встретила Сети с почтением, потому что все знали, как его ценит Благой Бог.
Хотя Енам лучше стрелял из лука, Рамозе сегодня больше повезло, и на его легкой охотничьей колеснице лежали три газели, две дикие козы и козел, в то время как Енам застрелил только двух газелей и одну жалкую лисицу.
Они холодно приветствовали друг друга, оба принца, однако Енам, который обладал более дружелюбным сердцем, вспомнил о прежнем согласии и обратился к единокровному брату:
— Оставим свиту и прогуляемся немного на восток.
Рамозе кивнул. Они взяли луки, привязали колчаны и пошли к паре блестевших на солнце пустынных гор цвета охры. Оба были почти одного возраста — перешагнули восемнадцатый год, и оба были более похожи на своих матерей, чем на их общего отца. Хотя Рамозе унаследовал высокую сильную фигуру царя, лицом он был вылитая Изис-Неферт, в то время как жилистое, но изящное тело Енама выдавало в нем отпрыска Нефертари. Его приятное лицо имело лишь легкое сходство с родителями и в своей простой мужественности более походило на лицо деда Сети.
Они долго шли молча рядом друг с другом, пока Енам первым не заговорил:
— Не думай, что я имею что-либо против тебя, Рамозе. Мне кажется, скорее, наоборот, с тех пор как меня назначили наследником трона, ты избегаешь меня. Собственно говоря, мы все должны уважать волю Благого Бога и не проявлять враждебности. Ты так не считаешь?
Рамозе остановился:
— Враждебность? Я тебе не враг, это тебя на меня натравили.
— Я не позволяю себя натравливать! Мне кажется, это твой случай из-за того, что ты общался с коварной сворой Амона.
Рамозе дерзко ухмыльнулся:
— Неплохое определение, брат. Но цари меняются, а власть Амона остается — это в нас вдолбили еще в школе.
Енам презрительно отмахнулся:
— Я полагаю, кое-что следовало бы изменить. Есть разница в том, чтобы почитать бога Амона и танцевать под дудку его жрецов. Фараону, нашему высокочтимому отцу, в этом нет необходимости. Он верховный жрец, он один!
— Тебе нет нужды мне это говорить. Но есть причины тому, что уже столетиями назначаются четыре жреца Амона, чтобы ухаживать за богом и его храмом, потому что царь не может заботиться об этом.
— Ты хотел бы это изменить, да?
Рамозе испугался. Не узнал ли Енам что-нибудь о документе, который заставил его подписать Тотмес? Однако этого не могло быть: клика Амона слишком хитра в подобных вещах. Он притворился удивленным:
— Я? Что я должен в этом менять? Ведь наследник престола ты! Меня это не касается, и я, собственного говоря, рад этому. Можно жить без забот и хлопот. Не думай, что я тебе завидую.
«Ложь не больше, чем ложь, — подумал Енам. — Кажется, верно мне сказал отец: чем ближе к трону, тем горше правда».
Они молча пошли дальше по раскаленной цвета охры пустыне и внезапно услышали шорох. Будучи опытными охотниками, оба тотчас остановились.
Медленно размахивая крыльями, пролетели два ястреба. Енам тут же сорвал лук с плеча и выстрелил вслед птицам, затем сразу же послал вторую стрелу. Вторая стрела попала в цель, и один из ястребов камнем упал. Рамозе не шевельнулся и произнес с легкой насмешкой:
— Боюсь, ты совершил нечто ложное. Член царского дома не может убивать ястребов, потому что в их облике выступает богиня Юга страны Нехбет. Коршун и змея, тростник и пчела, лотос и папирус, Сет и Гор воплощают Обе Страны — Север и Юг. Ты, как наследный принц, должен был бы это знать.
— Конечно, я знаю это, — прошипел Енам, — и не нуждаюсь в твоих поучениях.
В гневе он повернулся и чуть не бегом возвратился к своей свите. Рамозе плелся позади и был очень доволен собой.
На ладье с Пиайя сняли оковы. Он смотрел на мелькавшую мимо него местность, и пестрые, быстро менявшиеся формы скалистого берега вызывали у него в памяти картины из прошлого.
Каким прекрасным было время, проведенное в доме Ирамуна. Он находился вдали от грязной рабской работы на полях, от постоянных побоев. Его не шпыняли, и в его распоряжении имелись горшки, полные мяса, в храме Озириса. Как развивался и зрел его талант, как Ирамун хвалил его и взял к себе вместо сына, первая встреча с наследным принцем Рамзесом, год обучения, который он провел, странствуя по всей Кеми: Мемфис, Пер-Баст, Он с его храмом Солнца. Маленькая Мерит, которая всегда появлялась, когда царь беседовал с ним, и которая уже в восемь лет хотела выйти за него замуж. Картина, картина жизни и взлета человека, который теперь возвращается к своему началу: он снова раб, только на этот раз он будет обрабатывать не землю, а твердый камень.
Пиай горько улыбнулся и подумал: «Я всю свою жизнь имел дело с камнем только как мастер, который придает грубой глыбе форму, а теперь я осужден на то, чтобы вырубать такие глыбы, — тяжелая работа для раба, которую не поручают даже самому плохонькому каменотесу. Как долго я выдержу? Полгода? Год? Два года или пять лет? Побои, болезни, несчастные случаи, плохое питание… Ну, похоже, долго это не протянется».
Ночью светила луна, и ладья плыла в ночное время. Пиайя не расковывали даже ночью. На третий день путешествия он попросил весло, но ему сказали, что согласно приказу его должны доставить в каменоломни Суенета, где у него, между прочим, будут богатые возможности удовлетворить свое стремление к работе.
Так Пиайю пришлось и дальше смотреть на берег. Он пытался в мыслях приблизиться к любимой. Угрожали ли ей, чтобы вынудить на признание? Вероятно, фараон скоро простит свою дочь-первенца, однако он, богохульник, дерзкий выскочка, не заслуживает снисхождения. Его приговорили к медленной смерти в каменоломне.
Что могла предпринять она, маленькая львица, возмущенная, разгневанная, упрямая, униженная? Нет, конечно, «униженная» — это не про нее. Перед мысленным взором Пиайя возник ее нежный образ, а потом, как удар дубины, до него дошло, что он больше никогда не увидит ее. По крайней мере, в этом мире. Никогда! Нигде! Раньше до Пиайя не доходил весь ужас этого слова, но теперь ему казалось, что острый нож глубоко вонзился в его сердце и врезал в него с жестокой болью письменный знак «никогда».
Если правда то, что вещают жрецы, и если его правильно похоронят, то, может быть, есть возможность встретиться друг с другом в Закатной стране. Возможно ли это вообще при подобных обстоятельствах? Его, Пиайя, погребут в пустыне под Суенетом, в то время как его возлюбленная переселится в прекрасную гробницу западнее Фив. Это означало, что его ка будет отделено от любимой многими днями пути, а он никогда не слышал ничего о том, насколько далеко ка может удаляться от гробницы и от мумии.
Конечно, о ба, свободно передвигавшейся душе человека, говорят, что она парит птицей, разыскивая старые места. Тогда они вместе в образе птиц опустятся на ветки акации, которая стоит перед покинутым храмом Сета, и вспомнят о своей первой ночи любви.
Обычно Пиай верил во все эти вещи, но сейчас внезапно они показались ему настолько чужими и неправдоподобными, что его одолели сомнения. Может быть, существует только эта жизнь, и лишь она одна имеет значение?
Тем хуже! Тогда нет никакой надежды когда-либо снова увидеть Мерит. Тогда, вероятно, будет лучше при первой же возможности покончить с жизнью.
Каменоломни под Суенетом простирались на большом расстоянии вдоль восточного берега Нила. Сотни мужчин были заняты здесь тем, что добывали ценный серый и розовый гранит. Этот прекрасный твердый камень имелся только здесь, однако его жадно желали во всей Кеми и везли по Нилу вплоть до Дельты.
Благой Бог буквально влюбился в этот камень, и если при его предшественниках добычей гранита никогда не занималось более двухсот рабочих, то теперь их число выросло втрое, и уже издалека был слышен монотонный звук молотков, пил и зубил, который превращался в оглушающий шум, по мере того как человек приближался к каменоломне. Рабочие делились на две группы: свободные и каторжники. Чтобы уменьшить опасность побега, группы работали в строгом разделении, однако среди каторжников существовала четкая иерархия. Во главе групп стояли помощники надсмотрщиков, которые не должны были заниматься тяжелой работой. Их благосостояние обеспечивалось стараниями их родственников, которые регулярно подкупали должностных лиц, следивших за исполнением наказания. Покуда плата в форме вина, масла, зерна или слитков металла поступала, дела у наказанного шли хорошо. Как только платы не было, он оказывался в рабочей группе, и его шансы пережить время наказания значительно уменьшались.
Иногда бывало, что осужденный и без доплаты с чьей-либо стороны достигал положения помощника надсмотрщика, потому что становилась известна его жестокость и бесцеремонность и его ценили как идеального надсмотрщика за рабами. Таких людей боялись, но и они должны были быть настороже, как дикие звери. Едва они допускали промашку, их настигал удар тяжелого камня и разбивал им череп. Если виновного не обнаруживали сразу же, надсмотрщики мудро отказывались от того, чтобы выяснять подробности несчастного случая. Таким образом, каторжникам негласно разрешали развлечься и отвести душу, а для опасной должности находились все новые добровольцы.
Хуже всего приходилось тем, у кого не было никакой надежды на помощь и поддержку. Они были никем и ничего не имели, и едва ли кому-нибудь из них удавалось живым покинуть каменоломню.
К этой группе принадлежал теперь и Пиай, которому нисколько не помогало то, что еще несколько дней назад его называли Единственным другом фараона. Об этом здесь не знали, и он был не единственным, прибывшим сюда из высших кругов и оказавшимся среди разбойников, убийц и поджигателей.
Охрана передала каторжника Пиайя старшему надсмотрщику третьей гранитной каменоломни (их было здесь восемь), и это был единственный раз, когда высокий господин занимался судьбой каторжника.
Рассеянный толстяк с лицом, раздувшимся от злоупотребления вином, казалось, наслаждался своей должностью.
— Пиай? Бывший скульптор? Ну, это, конечно, преимущество. Можешь забыть свое имя, получишь номер… — Он вопросительно взглянул на писца. — Ага, двадцать три. Это, конечно, не значит, что ты здесь двадцать третий каторжник, просто твоего предшественника с этим номером несколько дней назад раздавило в каменоломне.
Старший надсмотрщик с наслаждением облизал толстые синюшные губы и повторил с удовольствием:
— Да, его раздавило. Так это всегда называют. Он не сумел достаточно быстро отскочить от блока скалы, который передвигали к Нилу, поэтому — раз, и все. От него ничего и не осталось, знаешь ли. Ты получил его номер, и, может быть, носить его ты будешь недолго…
Потом пришел кузнец и надел на Пиайя медный ошейник. Ошейник был с вмятинами, и на нем стояло число двадцать три.
— Он был на твоем предшественнике во время несчастного случая, и я должен был его немного подправить, — заметил кузнец.
Тем временем наступил вечер, и Пиайя отправили в спальный барак каторжников. Он представлял собой квадрат, окруженный стеной в человеческий рост, сделанной из кирпича. Квадрат был покрыт тростником и бамбуком, а сверху наброшена вонючая, кишащая насекомыми солома. Тут бок о бок лежали каторжники, скованные бронзовой цепью за ошейники. В большом помещении ужасно воняло потом, мочой, калом и прогнившей соломой.
Пиай был в таком отчаянии, что не находил сна, и, мучимый насекомыми, а также горькими мыслями, крутился с боку на бок, что вызывало проклятия и ругательства его соседей, потому что звенящая цепь дергала их за ошейники. К утру он наконец заснул, совершенно измотанный, расчесавшийся до крови, закусанный блохами, но рев жутко ругавшего надсмотрщика вырвал его из сна:
— Вставать! Вы, вонючие кабаны, крокодилы бы порадовались вашему тухлому мясу! Я побоями сдеру кожу с ваших спин, если вы не будете шевелиться быстрее!
У барака каторжников выстроили в два ряда. Заспанные, дрожащие от холода, многие из них были по-настоящему жалкие создания, заставлявшие удивляться тому, как они вообще могут стоять прямо. Младший надсмотрщик освободил их от общей цепи, другой раздал деревянные горшочки с дурно пахнувшей массой, которая оказалась кашей из ячменя грубого помола и всякого рода мертвых насекомых. Пиай с отвращением бросил горшок на землю, и мгновенно наступила странная тишина. Подошел надсмотрщик. Более любопытно, чем разгневанно, он спросил:
— В чем дело? Ты не голоден? Ты новенький, не правда ли? Наши повара не угодили твоему вкусу? Ну, мне жаль. В качестве замены я могу предложить тебе только побои, ничего другого, к сожалению, нет. На колени!
Тут и там послышался смех, и надсмотрщик приказал:
— А теперь руки на землю!
Сразу раздался свист от ударов бамбуковой палкой, быстро следовавших один за другим. Кожа загорелась, как будто ее ошпарили кипящей водой. Пиай начал визжать, беспомощно, униженно, он был куском избиваемого мяса, которое не могло обороняться.
Так начался первый день каторжника номер двадцать три в третьей гранитной каменоломне Суенета.
Незадолго до отъезда фараон назначил скульптора Хотепа, бывшего помощника Пиайя, надсмотрщиком над всеми скульптурными работами в обоих храмах и распорядился, чтобы он собственноручно сделал фигуры на фасадах. Он также должен был отвечать за работу всех скульпторов, изготовлявших статуи и рельефы.
Едва достигший двадцати лет, Хотеп был словно оглушен. То, о чем он так долго мечтал, теперь сбылось: Благой Бог сделал его начальником над всеми скульпторами и доверил ему самую сложную работу. Теперь он должен показать, что он может многое и что до этого он несправедливо находился в тени Пиайя. Хотеп хотел создать не такие же хорошие, а лучшие работы, чем мастер Пиай. Тогда со временем фараон передаст все должности преступного Пиайя ему, Хотепу. Однако он не будет таким глупцом, чтобы сердить фараона и хвататься за дочь Солнца. Есть люди, которым их высокая должность ударяет в голову, но он, Хотеп, не таков.
Молодой мастер отправился к Большому храму, собственно говоря, не имея никакого намерения, только для того, чтобы еще раз осмотреть площадь, которую должен будет обрабатывать в течение следующих дней. Как угрожающе сжатые громадные кулаки, из-за поднятых помостов возвышались четыре грубо обтесанные головы. Да, Хотеп почувствовал и понял эту угрозу и попытался справиться с ней.
Ра уже начал свою ночную поездку, подул прохладный ветер, но свежести молодой мастер не почувствовал. Тело горело, как в лихорадке, и пот струился по лбу и спине.
«То, что мог Пиай, ты тоже создашь, — попытался он успокоить себя. — Модели почти готовы, теперь дело только за точным расчетом. Что может получиться не так?»
Так он уговаривал себя, молодой, способный скульптор Хотеп, однако его сердце не верило в эти слова. Он жил теперь в бывшем доме Пиайя. Там он сел в маленьком, начавшем засыхать саду и сказал себе: «Итак, все по порядку. Сначала ты должен доделать Малый храм, и Благой Бог ожидает, что ты сам закончишь фигуры на фасаде. Предстоит многодневная работа, предшествующая окончательной шлифовке. Одновременно с этим в полном спокойствии ты подготовишь себя к работе в Большом храме, не торопясь, основательно, точно. На это у тебя есть два-три года. Благой Бог тебя не торопит, для Большого храма срок не установлен».
Хотеп ощутил, как его волнение уменьшается, теперь он стал мерзнуть на прохладном вечернем воздухе. От других он не потерпит ни малейшей халтуры, они его еще узнают. Мысль о власти и будущих почестях охладила его. Спина его выпрямилась, у него появилось гордое осознание того, что он стоит выше других. Страх перед большим и ответственным делом отступил куда-то в уголок его сердца. Он уменьшился, но не исчез.
2
Едва прибыв в Фивы, фараон приказал явиться своему «младшему брату-близнецу», принцу Сети. Однако Богоподобному пришлось подождать, потому что Сети в свите Енама разыскал один из тех домов, в которых богатые и почтенные мужи развлекаются в кругу красивых девушек. Оба принца с несколькими друзьями сняли весь дом для себя, так что «садовник очаровательных цветов», как высокопарно именовал себя владелец дома радости, после прибытия сына Солнца и его гостей выпроводил остальных гостей. Одна из очаровательных «цветков», хихикая, уже устроилась в несколько неуклюжих объятиях Сети, когда гонец из дворца, которому было известно, что принцы здесь охотно задержались, передал волю фараона.
— Ты уверен, что, перед глазами Благого Бога должен появиться не наследный принц Енам, а я?
— Да, господин, фараон желает видеть принца Сети.
Сети, над которым витали еще опьяняющие ароматы дома радости, торопливо собрался и появился перед глазами фараона, своего высокочтимого отца, с сердцем, полным страха, потому что не знал, что его ожидает. Однако лицо Благого Бога излучало благоволение, и, когда Сети предложили усесться поудобнее, его взволнованное сердце снова забилось в привычном такте.
Нефертари тем временем предпринимала робкие попытки отговорить своего супруга от его плана, потому что была по-женски солидарна с дочерью, которую заставляли поменять объятия любимого мужчины на ненавистную супружескую постель. Но фараон уже принял решение и должен был, как это было свойственно ему, быстро воплотить его в жизнь. Поэтому Нефертари не захотела принимать участие в этой беседе. Вообще-то она чувствовала антипатию к этому Сети, потому что находила неподобающим то, что он был так похож на ее супруга. Фараон Рамзес мог быть только один-единственный, и этот единственный принадлежал ей.
— Я принял решение, Сети, которое обрадует и осчастливит тебя, — начал беседу Рамзес, в то время как его собеседник с покорно опущенной головой сидел на табурете и не знал, куда ему деть свои длинные ноги. Царь продолжил: — Я нашел жену для тебя, которая особенно близка моему сердцу и которая подходит для того, чтобы во много раз повысить твое положение.
Сети, конечно, подумал тотчас о маленькой Хенут, которой, правда, исполнилось только восемь лет, но это было делом обычным, что браки в царской семье заключались уже в детском возрасте. Когда же он услышал имя невесты, он чуть было не свалился со стула.
— Я должен… должен жениться на высокочтимой принцессе Мерит? Но это… очень высокая честь…
— Да, действительно, и поэтому ты должен узнать причину моего решения. Ты, вероятно, слышал, что о принцессе Мерит сплетничают, потому что она чересчур много занималась делами, которые ее, собственно говоря, не касаются. В остальном у меня уже давно было желание найти для моей дочери-первенца подходящего супруга. Ну, Мерит несколько своенравна, ей никто не нравится, то есть ей нравятся не те… Короче, она достигла брачного возраста, и так как боги порадовали меня тем, что ты очень похож на меня, то я нахожу приличным то, что таким образом я выражу свою благодарность богам. Для тебя, конечно, кое-что изменится. Как только Мерит родит тебе ребенка, ты будешь стоять в ряду преемников престола на первом месте после сыновей моих обеих супруг. Ты получишь высокий пост в армии, в государственном управлении или в храме, потому что я не терплю того, чтобы мои отпрыски предавались безделью. Ну, что ты скажешь?
Сети опустился перед Рамзесом на колени и поцеловал руку отцу:
— Благодарю тебя, Богоподобный, за честь, я буду для Мерит хорошим супругом. Мы скоро осчастливим тебя внуками, которые Хнум, как я надеюсь, снова вылепит по твоему образу.
Рамзес откашлялся.
— Итак, Мерит, как я уже сказал, немного упряма, но в браке это сгладится. Контракт будет подготовлен здесь, в Фивах, и положен к ногам богини Мут в Южном храме. Тебе следует вскоре нанести визит своей будущей супруге, как ты считаешь?
Сети не обладал особой чувствительностью, однако он сообразил: что-то в этом скоропалительном браке не так. С другой стороны, он имел все основания принести ценную жертву Амону-Ра, потому что в качестве супруга принцессы Мерит он становился ровней сыновьям обеих главных жен. В жрецы или придворные чиновники он, конечно же, не годился, а вот армия…
Перед глазами его возник образ военачальника Хоремхеба, которого брак с принцессой возвел на трон Гора. А ведь Хоремхеб даже не был высокого происхождения, в то время как он, Сети, — сын правящего царя.
«Неплохое начало», — подумал он, довольный.
Сети принял ванну, велел слугам еще раз выбрить все свое тело, втереть в него ароматические масла и старательно накрасить лицо. Только затем он попросил об аудиенции у принцессы Мерит. Его просьба была отклонена. Бикет с озабоченной миной сообщила ему, что принцесса страдает от головных болей и нуждается в покое. Принц может повторить свою попытку через несколько дней.
И вот теперь он стоял перед закрытой дверью, высокорослый Сети, только что искупанный, накрашенный, пахнущий драгоценными маслами, — его отослали прочь, как надоедливого просителя. В нем поднялся гнев, но он был достаточно умен, чтобы тут же подавить его. Подобные чувства по отношению к принцессе Мерит проявлять было нельзя. Он повторит попытку завтра или послезавтра и при этом более убедительно разыграет роль нетерпеливого влюбленного.
Бикет вернулась к своей госпоже. Не страдавшая никакими головными болями Мерит спросила ее:
— Ну, как он это принял?
Бикет покачала головой:
— Внешне очень терпеливо, хотя у меня и было впечатление, что он должен был подавить свой гнев.
— У него есть все основания гневаться: меня навязали этому придурку, и он злится, что я тут же с радостью не принимаю его! Я что, должна была с ликованием ринуться в его объятия?
Бикет вздохнула:
— Ах, моя бедная голубка… Но подумай, что он, вероятно, может стать твоим спасителем. День твоих очищений не наступает уже полмесяца. Если ты должна выйти за него замуж, тогда лучше немедленно. Никто не будет сомневаться, если ты родишь восьмимесячного ребенка. Такое бывает чаще, чем думают. Если бы ты только тогда послушала меня, все было бы намного проще. Это был твой самый плодородный день…
— Я не сожалею об этом! — резко сказала Мерит. — Иначе что бы мне осталось от Пиайя? В Суенете они быстро выбьют жизнь из его тела, я даже думать об этом не могу. Нет ни одного места на его теле, которое бы я тысячу раз не поцеловала… Они не могут их сбить палками, мои поцелуи! Ах, Бикет, как мы можем ему помочь?
— Первый шаг мы уже сделали. Наш доверенный человек с суммой для подкупа уже в дороге. Нужно показать старшему надсмотрщику, что у Пиайя есть покровители и друзья. На первое время этого будет достаточно, чтобы создать ему более хорошие условия. Мы должны продвигаться вперед очень осторожно, иначе мы повредим ему. Твой следующий шаг — выйти замуж за этого Сети. Если я, твоя служанка, советую тебе это, то причина для этого есть. Ты знаешь, что я дам себя сжечь за тебя, но в этом случае было бы просто глупо и дальше упрямиться. Подумай о ребенке!
— Ни о чем другом я и не думаю! Сети мне совершенно безразличен, но если я могу помочь Пиайю этим браком, то я закрываю глаза, сцепляю зубы и иду с этим дурнем в постель. Но только один раз! Один-единственный раз! После он может удовлетворяться рабынями. Брак со мной принесет ему так много выгод, что он с легкостью может отказаться от моего тела. Это просто сделка, в любом случае мне в убыток. Если Пиай должен будет провести всю свою жизнь в каменоломне, то я лучше утоплюсь, чем выйду замуж за Сети. Я должна побудить моего отца сократить срок наказания до одного или двух лет. Если старший надсмотрщик при этом будет регулярно получать определенные суммы, то Пиай, конечно же, переживет время своего наказания.
Бикет кивнула:
— Ты умная, голубка, все это звучит очень разумно. Только будь осторожна.
Мерит хотела сначала поговорить с матерью и велела доложить ей о своем визите. Там уже находился Енам, который приветствовал ее:
— Ты пришла прямо как по приглашению, сестренка. Мы как раз говорим о тебе и Сети. Тот, как побитая собака, шныряет по дворцу и до смерти расстраивается, что ты его не принимаешь. Мама вот тоже считает, что ты должна благосклоннее обходиться с бедным парнем. Не нужно его сразу…
— Придержи свой язык, принц Енам, — прервала его Мерит. — Тебе, между прочим, тоже пора завести семью. Я должна буду напомнить об этом нашему отцу.
Енам ухмыльнулся:
— Женщин и детей в моем гареме не сосчитать. Благодарен за заботу, сестренка, у меня с этим все в порядке.
— Поговорим теперь разумно, — прервала его Нефертари, — и подумаем еще раз, что принесет брак с Сети. Вы сами знаете о том, что уже давно существует напряженность между двором Изис-Неферт и моим. Хатор мне свидетельница, что я никогда не желала зла второй супруге, я даже поощрила царя, чтобы он наконец вступил в брачные отношения с ней, потому что он медлил тогда неподобающе долго. С тех пор как Енам стал наследным принцем, я чувствую ее враждебность, и я нахожу, что мы должны… обороняться. Изис-Неферт полагает, что здесь, в Фивах, ее поддерживают все. Рамозе втайне считают наследным принцем и говорят, что, будучи фараоном, он тут же перенесет свою резиденцию сюда. Ты не знаешь, Мерит, что любимым планом твоего отца было соединить браком детей обеих жен, то есть выдать тебя замуж за Рамозе или Хамвезе. Но теперь, на счастье, вынырнул Сети, который впечатлил царя сходством с ним. К тому же Сети с давних пор на нашей стороне и…
Енам рассмеялся:
— Но, мама, любой, у кого есть хоть капля разума, должен быть на нашей стороне! Только дураки выступают против царской воли и вместе с тем против закона. Возьми его, сестренка. Сердце Сети принадлежит армии. Он не будет тебя особенно часто обременять.
Против воли Мерит должна была рассмеяться:
— Если вся семья так солидарна… Одно условие я должна все-таки поставить, то есть два. Первое — чтобы принц Енам немедленно исчез.
Тот ухмыльнулся:
— Ага, матушка и дочка хотят посекретничать. Ну, вы услышали мое мнение. На свадьбе мы снова увидимся…
И прежде чем Мерит успела запустить в него спелым гранатом, Енам исчез. Мерит с любовью посмотрела на свою мать, находившуюся на последних сроках беременности.
— С тобой все в порядке? Что говорят врачи? Собственно говоря, ты… Ну, я имею в виду… ребенок появится не слишком поздно…
— Ты полагаешь, я слишком стара? Но что мне делать? Твой отец этого не находит, и, пока Амон будет это допускать, я буду приносить ему детей. На этот раз это будет сын, и у него уже есть имя — Мери-Атум.
Она подошла к маленькому домашнему алтарю, где стояла в локоть высотой раскрашенная и позолоченная деревянная фигура бога Хнума в образе мужчины с головой барана.
— Господин будущей жизни, — обратилась к нему Нефертари, — ты, изваявший на своем гончарном круге богов и людей, ты — живая душа Ра, услышь меня и будь милостив ко мне. Сделай этого ребенка мальчиком, и я наполню твой храм прекрасными вещами! Не отказывай в этой просьбе своей служанке Нефертари.
Мерит уже была готова признаться любимой матери в собственной беременности, однако ее разум победил. Нет! Весь свет должен думать, что это ребенок Сети. Когда Нефертари закончила свою молитву, Мерит сказала:
— Ты, конечно, знаешь, что главный храм Хнума находится на острове Джеб под Суенетом. А когда я думаю о Суенете, мне в голову приходит Пиай. Я вижу его в глубокой яме под каменным блоком. Он с отчаянием стучит по скале молотком, а надсмотрщик стоит над ним и безжалостно подгоняет его плетью. С такими мыслями на сердце я не могу выйти замуж за Сети, ты обязана это понять! Ты должна уговорить фараона, чтобы он установил срок наказания и этим снова дал ему надежду. Ты можешь это! Только ты!
— Мне тоже его очень жаль. В любом случае я попытаюсь, но это не должно выглядеть так, как будто ты ставишь условие. Прими завтра бедного Сети, дай ему свое согласие, я буду уговаривать царя так долго, пока он не сдастся. Доверься мне! Если уж так случилось, мы постараемся выбраться из этого положения с самым небольшим количеством потерь.
С легким стоном она погладила свой огромный живот:
— Он уже очень сильно двигается, маленький Мери-Атум.
Она снова подошла к домашнему алтарю и прошептала в ухо богу Хнуму:
— Мальчика, которого ты создашь на гончарном круге, назовут Мери-Атум в честь бога Атума-Ра, живой душой которого ты являешься, Мери-Атум! Сохрани милостиво это имя в своем сердце.
Мерит поклонилась и тихо вышла из комнаты. Ее мать уже на несколько лет перешагнула тридцатый разлив Нила, и принцесса решила принести богатые дары богине с головой гиппопотама, помощнице при родах. При этом она немного думала и о себе.
Небунеф, верховный жрец Амона, во время беседы напомнил фараону о том, что Тотмесу до сих пор еще не вынесен окончательный приговор.
— Я не хочу клеветать на этого человека, Богоподобный, но есть признаки того, что, будучи помощником жреца Пта, он собрал вокруг себя маленькую группу невежд, которые мечтают о неслыханных вещах и пренебрегают твоими приказами. Доказательств нет, но, когда он идет по храмовому кварталу, многие все еще низко кланяются ему. Почему, собственно говоря? Мне кажется, он вредит миру и согласию, которые благодаря твоей мудрости воцарились между жрецами Амона и тобой.
Небунеф знал, о чем говорит, и охотно отделался бы от этого возмутителя спокойствия.
Фараон слушал, нахмурившись, и в нем загорелся гнев, как всегда, когда он чувствовал сопротивление.
— Тотмеса нужно убрать отсюда! Он будет служить Амону, но на границе с Кушем, посреди пустыни. Как ты знаешь, в Большом храме будут также почитать Амона-Ра наряду с Ра, Харахте и Благим Богом. Он там может быть жрецом, приносящим жертвы и принимающим жалкие дары испуганных жителей Куша. Чтобы напоминать ему в течение всей жизни о том, что воля Богоподобного — верховный закон в Кеми, и чтобы его язык, который я ему милостиво оставляю, был в будущем поосторожнее, его запечатают моим именем.
Небунеф, который втайне облегченно вздохнул, услышав решение царя, точно не знал, что означает поставить подобную печать, и скромно спросил об этом.
— Очень просто, — усмехнулся фараон. — Ты знаешь бронзовые печати для кирпича, на которых оба моих главных имени? Одну из них раскалят и приложат к дерзкому клеветническому языку будущего жреца, приносящего жертву. Каждый раз, когда он захочет произнести мое священное имя неподобающим образом, язык помешает ему это сделать. Очень испытанное средство. Мой отец время от времени его применял.
Хуже всего было просыпаться. К утру, когда сон одолевал его и сны вводили в заблуждение, Пиай на короткие счастливые мгновения снова был свободен, наслаждался объятиями Мерит или находился в других, лучших, обстоятельствах, которые не имели ничего общего с его жалким положением раба в каменоломне.
Вырываться из этого состояния радости, довольства, надежды, услышав громкий грубый голос надсмотрщика, плеть которого тут же свистела, если, на его взгляд, дела шли не слишком быстро, — это было адом. Такое, должно быть, случалось, когда Озирис-судья находил сердце слишком легким и предавал мертвого проклятию. Надсмотрщики, похоже, обсуждали между собой, какое место занимал прежде каторжник, и большинство из них давали ему почувствовать разницу между прежним и теперешним положением. Особенно выделялся Свинья — коварный, жестокий и чрезвычайно хитрый осужденный на вечную каторгу тип, который получил место помощника надсмотрщика, потому что «умел обращаться с каторжниками».
Так, один осужденный, которого вскоре должны были освободить и которого все это время поддерживала его семья, не должен был ничего бояться. Длинная плеть из кожи гиппопотама попадала все время по скалам и ни разу по спине этого каторжника. Другое дело Пиай. До сегодняшнего момента подкуп за него ниоткуда не поступил, к тому же кто откажет себе в удовольствии дать почувствовать бывшему Единственному другу фараона и первому архитектору, что он сейчас не более чем кусок мяса, который эксплуатируют и забивают до смерти.
Все тело Пиайя уже было покрыто гноящимися ранами, которые никак не могли зажить, потому что на него сыпались все новые и новые удары. Он как личность был уничтожен, стал лишь инструментом в руках своих надсмотрщиков, инструментом, который выбрасывают, когда он ломается.
Пиай видел, как умерли несколько его товарищей. Один упал замертво во время работы, другой не смог встать утром даже после ударов плетью. Его оставили умирать на вонючей соломе без поддержки, без помощи. Мертвых их товарищи выносили в пустыню и клали там. Об остальном заботились шакалы и ястребы. Надсмотрщики находили особенно веселым напоминать еще живым о том, что скоро и они пойдут этим путем. Любивший поговорить Свинья считал по этому поводу:
— По правде говоря, вы все — пища для коршунов и шакалов. Вас только немного перед этим используют для службы фараону. Но это ненадолго — десять месяцев, самое большее год. Хорошо только, что число разбойников, убийц, предателей и прочих мерзавцев не уменьшается.
При этом он, конечно, забывал, что сам вышел из кругов преступников и что лишь от настроения надсмотрщиков зависело, как долго он сможет занимать должность помощника надсмотрщика.
И все же Свинья допустил ошибку, которую совершали многие каторжники в его положении. Он полагал особой суровостью держать в подчинении людей. Однако он перешел границу допустимого. Заговор против него возник сам по себе. Тут и там шелестел шепоток, на него отвечали кивком. Долго шептались перед сном в лагере, и приговор был вынесен: Свинью нужно убрать. Участие в заговоре принимали не только те, над которыми он издевался, которых забивал почти до смерти, но и другие, с которыми это могло случиться завтра. Теперь речь шла только об удобном случае, и такой случай вскоре представился.
Пиай работал над тем, чтобы отколоть гранитный блок для фигуры в человеческий рост. Вчетвером они при помощи долота и молотков углубляли трещину уже в руку шириной. Из этого особенно красивого блока розового гранита должны были создать статую богини Мут.
Надсмотрщиком был Свинья. Он с плетью из кожи гиппопотама в руке непрерывно кружил вблизи четырех мужчин. Как заранее договорились, самый слабый и молодой из четырех каторжников внезапно вскрикнул, пошатнулся и упал на землю. Другие прервали свою работу, и Свинья мгновенно заорал:
— Не разевайте рот, иначе я собью мясо с ваших костей!
Плеть засвистела и с силой ударила Пиайя по бедру, нанеся глубокую рану. Однако Свинья, не обратив на это внимания, занялся упавшим, которому в качестве пробы влепил пару ударов. В это мгновение самый сильный из мужчин подскочил и ударил помощника надсмотрщика долотом по голове. Свинья пошатнулся, обернулся, и Пиай, воспользовавшись этим, кинулся к нему и ударил ему молотком по затылку. Ноги у Свиньи подкосились, плеть выпала из его руки, но он еще не был мертв. Его маленькие злые глазки вспыхнули, он пытался что-то сказать, но каторжники услышали только какое-то свинячье хрюканье.
Горевшая в Пиае ненависть внезапно испарилась, он уронил молоток и с отвращением отвернулся. Но его товарищ номер шестьдесят девять, бывший литейщик бронзы, был безмерно опьянен кровью. Он, как безумный, накинулся на умирающего, размолотил ему череп и лицо, наступил ему на грудь, стал топтать его гениталии, пока другие силой не оттащили его.
— Прекрати, ты, дурень! Парень мертв, ты только приманишь сюда других.
Они бросили тело убитого в узкую яму, которая образовалась при добыче гранитной заготовки, и набросали сверху осколки камней так, что мертвого Свинью не стало видно. А потом спокойно продолжили работу, пока спустя полчаса к ним не подошел надсмотрщик. Он удивленно огляделся и спросил:
— Кто за вами наблюдает?
Мужчины прервали работу:
— Он только что меня ударил, — Пиай сделал удивленное лицо и указал на свежую кровавую полосу на своем бедре.
— Может быть, пошел за водой или по нужде…
Надсмотрщик удивленно покачал головой:
— Ему этого нельзя, и, насколько я его знаю, он бы этого не сделал.
Надсмотрщик увидел, конечно, кровавые пятна на земле, но он знал, что будет умнее не заметить их. Если помощник надсмотрщика исчез, то лучше принять это молча и позволить каторжникам упиваться местью. Они убили одного из своих, а поскольку их не застали на месте преступления, почему бы не позволить им этот вид самосуда.
Пиай, как почти каждый, кто долго работал здесь, был внешне и внутренне опустошен и в ежедневной борьбе за выживание очень быстро забыл о совершенном убийстве. Постепенно работа в каменоломне подавляла все движения к лучшему, гасила воспоминания. Жизнь на свободе казалась далеким сном. Время от времени Пиай вспоминал о своей любимой, но ее облик все больше и больше бледнел, как и все остальное: фараон, царица, Ирамун, прекрасный дом в Пер-Рамзесе — все это казалось несущественным перед невыносимой действительностью, когда тебя избивали за каждую мелочь, когда надсмотрщика убивали молотком, не ощущая при этом даже мимолетного удовлетворения.
Деятельность гранитных каменоломен под Суенетом заключалась, конечно, не только в трудоемком отделении больших и малых блоков скалы. Среди вольнонаемных рабочих имелись также искусные каменотесы, которые подготавливали некоторые блоки и вчерне обрабатывали их. Это ожидало и два гранитных блока в шесть локтей высотой, которые были предназначены для сидящих фигур Благого Бога. Как всегда, работа шла в большой спешке, потому что обе фигуры были предназначены для Малого храма Рамзеса в Абидосе. Над каждым блоком работали по два каменотеса, которые своими инструментами отбивали кусочек за кусочком от твердого гранита, пока не появилась форма, напоминающая сидящего фараона. Иногда получалось, что в камне возникала не видная снаружи трещина, которая обнаруживалась лишь при проникновении вглубь, и в большинстве случаев это вело к тому, что гранит оказывался испорчен.
Так получилось и на этот раз. Когда один из двух каменотесов собирался обточить левую часть шеи, он натолкнулся на трещину длиной в локоть, которая явно шла до затылка. Он осторожно обрабатывал гранит дальше, чтобы
определить глубину трещины, когда с тихим треском голова отделилась, и, упав, повалила каменотеса на землю, раздавив ему грудь. К мертвому каменотесу теперь добавился еще и испорченный блок гранита. Ответственный старший надзиратель бушевал. Но чем это могло помочь? В то время как рабочие отправились отделять еще один блок от скалы, старший над всеми гранитными каменоломнями велел отыскать хорошего каменотеса.
При этом наткнулись на номер двадцать три, потому что в каменоломне номер три каждый надсмотрщик знал, кем Пиай был раньше.
Внезапно все о нем начали беспокоиться. Ему разрешили пойти в купальню надсмотрщиков, к самым глубоким из его ран приложили лечебные травы и наложили повязки. Его провонявшую от грязи набедренную повязку заменили чистым льняным передником. После обильного сытного обеда с жареным гусем, свежим кунжутным хлебом, финиками и разбавленным вином старший надзиратель повел его к начальнику гранитных каменоломен. Это был худой мужчина с угрюмым лицом, который вечно боялся, что его могут отозвать или заменить, и поэтому работал упорнее, чем любой из его надсмотрщиков. Он не был ни жестоким, ни особенно жадным, однако от того, что он жил в постоянном страхе и не мог выказывать его, лицо у него постоянно выглядело угрюмым.
Он предложил Пиайю присесть и объяснил ему суть дела.
— Конечно, продлится несколько дней, пока отколют новый блок, но ты раньше был скульптором на службе фараона…
— Первым скульптором, — кивнул Пиай. — Я изготовил колоссальную статую в Фивах, в храме Мертвых царя, да будет он жив, здрав и могуч.
Начальник откашлялся:
— Хорошо… Да, что я хотел сказать… Ты мог бы тем временем обработать сидящую фигуру немножко детальнее, чем ее обычно обрабатывают. Это стало бы извинением за вынужденное опоздание.
— Я мог бы ее даже закончить, потому что знаю планы Малого храма Рамзеса в Абидосе. Обе сидящие фигуры Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, предназначены для первого пилона, и их должны будут поставить рядом с входом. Царь должен быть изображен в двойной короне и с обоими скипетрами. Какая надпись планируется, я не знаю.
Начальник вскочил на ноги, и его угрюмое лицо расплылось в некоем подобии улыбки.
— Именем Пта, нашего божественного ремесленника, сегодня счастливый день! Я уже обдумал, как бы мне оставить тебя здесь, но в этой каменоломне работают только свободные мужчины. На сколько лет ты осужден?
— Я сам этого не знаю, достопочтенный. Царь, да будет он жив, здрав и могуч, еще не определился с моим наказанием. Может быть, я буду свободен уже завтра, а может быть…
— …наказание продлится всю жизнь, — помрачнел начальник. — Глупая история, Пиай. Что ты, собственно говоря, натворил?
— Об этом мне не разрешено говорить по желанию Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч. Во всяком случае, я никого не убил и ничего не украл.
Начальник вздохнул и мрачно посмотрел на Пиайя:
— По правде говоря, мы не можем позволить себе такое расточительство. Ты зарабатываешься до смерти в каменоломне для каторжников, а здесь не хватает хороших каменотесов. Однако воля фараона, будет он жив, здрав и могуч, священна, ты знаешь это так же хорошо, как и я. Я предлагаю следующее: ты отдохнешь за день, а потом закончишь фигуру до надписи. Тем временем прибудет блок для другой фигуры, и ты сможешь продолжить работу. Кроме того, я пошлю письмо в царское строительное управление и спрошу, можно ли мне использовать каторжника Пиайя для другой работы. Конечно, ты должен будешь каждый вечер возвращаться назад в каменоломню номер три, потому что я не могу класть каторжника спать вместе со свободными людьми.
— Я понимаю это, господин, но хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что там почти ежедневно люди умирают от голода, побоев, плохого питания и болезней.
Начальник поднял брови:
— Плохого питания? Едва могу себе это представить. Каждому положена пища из зерна, сухофруктов и меда.
— Люди получают в качестве еды отбросы. Сухофрукты большей частью гнилые, от меда не чувствуется и запаха, а зерно… Ну…
— Это против правил! — гневно воскликнул начальник. — Я сам завтра проверю.
— Ты удивишься, господин. Только ты должен будешь появиться неожиданно, заранее не сообщая о своем приходе, и обратить внимание на то, чтобы тебе не подсунули горшок с едой для надсмотрщика. Еду каторжникам выдают перед тем местом, где они спят.
— Хорошо, Пиай. Я надеюсь, что мы оба окажемся с прибылью. Ты получишь возможность здесь пережить время своего наказания, а я смогу точнее придерживаться сроков поставки гранитных заготовок.
Это был день отдыха, которым Пиай, с тех пор как он был здесь, смог насладиться впервые. Он стал худым, почти как скелет, и сейчас, когда над ним не стояли с палкой и плетью, он чувствовал себя бессильным, словно выжатым. В конце концов он был отнюдь не молодым человеком и ощущал груз своих сорока лет. Один или два месяца он бы, может быть, еще выдержал, а потом его бросили бы шакалам.
На следующий вечер появился начальник:
— Еда действительно отвратительная, — признал он. — Старший надсмотрщик утаивает хорошее питание и покупает на рынке в Суенете оптом отбросы. Я застал его на месте преступления и пригрозил ему, что доложу о нем, если он и дальше будет жадничать. Я не хотел бы отсылать тебя туда и придумал следующее: ты будешь спать в каморке с инструментами, которые ночью и без того охраняются. Тем временем мы в полном спокойствии подождем решения царского строительного управления.
Пиай с благодарностью поклонился. Хотя он был убежден, что начальник имел свою долю от махинаций с продуктами, он придержал это мнение при себе.
— Однажды я каким-либо образом вознагражу тебя за твое согласие посодействовать мне. Ты спас мне жизнь, и я смогу отблагодарить тебя.
Начальник мрачно рассмеялся:
— Благодарность! Разве она вообще существует? Ну, посмотрим. Ты был, как я понимаю, еще совсем недавно знаменитым и высокопочитаемым человеком. Позволишь ли ты задать один вопрос, который, может быть, покажется тебе необычным?
— Я обязан тебе жизнью, ты можешь спрашивать меня о чем хочешь.
— Ты, как друг фараона, лично общался с царем, да будет он жив, здрав и могуч, сопровождал его, подолгу разговаривал с ним. Его величество, должно быть, очень отличается от нас, ведь недаром мы называем его Благим Богом. Он происходит от священного семени Амона-Ра. Как действует его появление на обычных людей? Осмеливаешься ли ты вообще поднять на него глаза?
Эти вопросы немного озадачили Пиайя. Он не мог разочаровать любопытного начальника и не хотел говорить явную неправду.
— Даже внешне, ростом и статью, Благой Бог превосходит всех своих подданных. На кого он смотрит, тот вздрагивает и чувствует дыхание божественного. Он умен, как писец, и память у него, как у Тота. Его приказы двигают миром. Он воин, могучий, как Монт. Те, кто видели его под Кадешем, рассказывают о полностью рассеянных вражеских войсках, бежавших от его стрел. Свою столицу в Дельте он, как по волшебству, поднял за несколько лет из болот. Все сущее стремится туда, и Пер-Рамзес — вершина мира. Гарем царя подобен маленькому городу и населен сотнями женщин со всего света; сыновья и дочери Богоподобного настолько многочисленны, что никто не перечислит их имен. В заключение скажу: все, что Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, предпринимает, приказывает, планирует, направляет, — грандиозно, несравнимо и беспримерно.
Начальник слушал его с горящими глазами и заметил в конце:
— Я так завидую тебе, Пиай! Я желал бы хоть один день пробыть на твоем месте.
— Ты в самом деле желал бы этого? Тогда подумай и о том, как глубоко может пасть человек, которого фараон так высоко поднял. Ты видишь это на моем примере, и если бы не ты, то я уже, может быть, лежал бы в пустыне и ястребы терзали бы мое тело.
— Есть еще боги, готовые помочь, и если они спасли тебя при моем содействии, то, конечно же, не без основания. Мы должны просто подождать дальнейшего развития событий.
Тайный посланник Мерит, отправленный в Суенет, был очень опытным человеком. Звали его Хапу. Родители отказались от него еще ребенком и продали его в царский дворец. В гареме этого слугу высоко ценили, он оказывал женщинам всякого рода услуги — от передачи безобидных новостей от родных до обеспечения абортивными снадобьями, потому что почти все мужчины были далеко не евнухами, и между ними и женщинами царя завязывались тайные любовные отношения, которые разделял также и Хапу. Врач еще трехлетнему раздавил ему яички, но не удалил их, поэтому детей у него не могло быть, но он остался полноценным мужчиной. С Бикет, которую он уважал и почитал, его связывали и любовные отношения, которые, если она позволяла, получали продолжение в постели и имели то преимущество, что оставались всегда без последствий. Хапу был опытным человеком во всех отношениях. Он всегда выказывал себя верным и надежным, однако при случае не упускал своей выгоды. Он не отказывался от возможности заработать даже малую сумму, а уж большую тем более. Эта возможность теперь ему представилась, поэтому он выполнял поручение царевны с большим старанием.
Он нес с собой маленькое письмецо от Мерит. Из него, даже если бы его обнаружили, нельзя было понять, что речь идет о принцессе и Пиае. Оно гласило:
Любимый, ты и в несчастье не забыт, и мы делаем все, чтобы сократить твои страдания. Держись и никогда не забывай, что у тебя навсегда есть место в сердце твоей майт-шерит.
Только Пиай называл ее маленькой львицей. А Хапу вообще ничего об этом не знал. Он давно понял, что в любом случае лучше ничего не знать и заниматься только тем, что ему поручено. Ему пообещали деб золотом, если удастся передать письмо некоему Пиайю, который работает как каторжник в гранитных каменоломнях Суенета.
Было не так просто найти человека, который был бы готов действовать вопреки приказу фараона, пока Бикет не сообразила:
— Для этого подойдет Хапу. За золотой деб он спустится в загробный мир и приведет Анубиса связанным во дворец. Он надежен и, если ему заплатят, даже готов рисковать жизнью. О деле Пиайя он ничего не может знать, и это даже лучше.
— А где этот Хапу? — спросила Мерит.
— Он уже на пути из Пер-Рамзеса. Я подозревала, что он нам понадобится, и несколько дней назад послала за ним.
— Но это займет целые месяцы! — воскликнула в отчаянии Мерит.
— Он наймет быстрый парусник, который будет плыть и ночью при лунном свете. Мы должны проявить терпение.
Так или иначе, прошло больше двух месяцев, пока Хапу прибыл в Суенет. Он знал, что при подобных секретных поручениях главное — не бросаться в глаза.
Суенет был оживленным торговым и перевалочным пунктом, поэтому здесь имелось немало постоялых дворов, люди в которых сменяли друг друга так же быстро, как деревни вдоль берегов Нила. Каждый второй день Хапу устраивался на новом месте, в течение дня наводил справки и вскоре уже знал, что из восьми гранитных каменоломен в трех отбывают свой каторжный срок преступники. Он выдал себя за брата некоего Пиайя, который некоторое время назад исчез и о котором прошел слух, что он попал сюда на каторжные работы. При этом Хапу давал понять, что он не нищий и предпримет все, чтобы облегчить участь брата.
В конце концов осталась только каменоломня номер три, но старший надсмотрщик в ней несколько дней отсутствовал, а его заместитель не знал никакого Пиайя.
— Имен у каторжников нет, люди носят только номера. Ты знаешь номер своего брата?
Конечно, Хапу не знал, но он описал внешность Пиайя. Заместитель старшего надсмотрщика подумал и сказал:
— Очень высокий, сероглазый, бывший архитектор и скульптор? Это, может быть, номер двадцать три, но, насколько я знаю, он умер несколько дней назад.
Хапу, который привык ничему не верить без доказательств, протянул мужчине мешочек с пятью медными дебами.
— Эта новость камнем легла мне на сердце и помутила мой разум. Но я хотел бы попросить тебя о любезности. Я не хочу передавать своей семье неверную новость. Расспроси в своей каменоломне, когда и при каких обстоятельствах умер мой брат. Завтра мы снова встретимся.
Надсмотрщик взвесил мешочек в руке и пообещал навести более точные справки. Однако, кого он ни спрашивал, все были проинформированы начальником, что Пиай мертв. С этой печальной новостью Хапу отправился в обратный путь в Фивы.
Нефертари удалось получить у супруга обещание освободить скульптора Пиайя от каторжных работ самое позднее через два года. Глубоко оскорбленный фараон и отец постепенно отступал перед одержимым строительством повелителем Рамзесом. Царь уже несколько раз задавал себе вопрос, стоит ли дело с Мерит того, чтобы сгноить своего лучшего скульптора на бессмысленной и, может быть, убийственной работе. Работы для него было еще очень много, и никто не мог возместить ущерб от его отсутствия. Царь видел перед собой Пиайя с его бесстрашными серыми глазами, слышал его смелые предложения, ощущал восторг от того, что этот мастер сродни ему, что они преследуют одну и ту же цель. Ну, хорошо, он соблазнил перворожденную дочь царя, пару раз разделил с ней ложе. Кого это касается?
Мерит уже несколько дней была замужем за Сети, Тотмес понес наказание, его место получил Беки, а то, что думал народ, не имело значения. Втайне Рамзес уже решил не оставлять Пиайя в каменоломне и на два года. Сразу же после прибытия в Пер-Рамзес он хотел отдать приказ снова послать мастера на Юг, чтобы он мог продолжить работу над Большим храмом. Юному Хотепу фараон особо не доверял. Не справится он с четырьмя колоссальными фигурами. Рамзес уже видел лица нубийцев, когда они станут смеяться над Благим Богом с косым носом или неодинаковой формы ушами. В конце концов фигуры будут видны издалека каждому, кто бы ни проплывал в ладье мимо. А битва при Кадеше? Он что же, должен доверить изображение своего величайшего триумфа недоученному мальчишке-ремесленнику?
Нет! Рамзесу пришли в голову слова, которые вождь хеттов Муталлу написал в своем послании после битвы при Кадеше: «Зачем нам расточать свое имущество, мы вредим этим только самим себе». Кажется, так.
В конце концов Пиай, как все дети страны Кеми, был собственностью фараона, и негоже Благому Богу расточать свою собственность. Пусть Пиай еще немного искупит свой грех, слишком легким наказание ему не должно показаться.
Во время второго визита Мерит допустила принца Сети к короткой беседе.
«Собственно говоря, он видный парень, — подумала она. — Потрясающе похож на отца, однако есть в нем что-то, что мне не нравится. Может быть, некоторая чопорность, напыщенность и чванливость. Еще бы, вчерашний сирота из гарема считает, что гордыня неразрывно связана с достоинством принца, и не желает вести себя, „как простолюдин“».
Оба мужчины, которых Мерит любила больше всего — Пиай и ее отец, — двигались естественно и никогда не притворялись, потому что были в согласии с самими собой. В Сети же сочетались два существа, противоположных и даже враждебных друг другу. Одно из них было безымянным, не имевшим значения отпрыском из гарема, о матери которого никто больше не вспоминал и верхом мечтаний которого была бы должность командующего личной охраной фараона третьего жреца в маленьком храме. Однако взгляд Благого Бога упал на него, и внезапно перед ним открылись радужные перспективы и не из-за особого таланта, как у Пиайя, а просто из-за сходства с царем, которое не было его заслугой. Мерит чувствовала себя очень оскорбленной браком с этим выскочкой, но увы, он должен стать ее супругом, и принимать его приходилось соответственно.
— Садись, Сети. Хочешь выпить со мной глоток вина? — Голос Мерит звучал дружелюбно и ободряюще, однако неуверенность Сети от этого только увеличилась. Гневная и отталкивающая его Мерит была бы ему милее.
Он чопорно поклонился, и, как насмешливо заметила Мерит, это был слишком глубокий поклон для будущего супруга.
— Охотно, принцесса.
— Ты хотел со мной говорить? Могу я что-либо сделать для тебя?
Сети окаменел. Неужели Мерит не знает, что она предназначена ему в супруги?
— Ну… в общем, Благой Бог, наш высокочтимый отец, да будет он жив, здрав и могуч, полагает… В общем, он велел…
Сети смущенно замолчал, он просто не находил верных слов.
— Что велел Благой Бог и кому? — благожелательно продолжила расспросы Мерит.
— Да разве ты не знаешь об этом? — вырвалось у Сети. — Мы должны пожениться.
— Конечно, я знаю, но я думала, что ты пришел, чтобы просить меня о согласии завоевать мое сердце.
— Завоевать твое сердце, — повторил растерянный Сети.
— А как ты думал? Я ведь не рабыня, которую посылают в твой гарем! Я — дочь Солнца! Я — сосуд Амона, и только во мне твое незначительное семя получит великое освящение. Фараон полагает, что бог Хнум не без основания создал тебя столь похожим на него, и считает, что это требует, так сказать, ответного дара, а для этого подхожу я, его перворожденная дочь. Сети, ты не нравишься мне, и ты должен сделать что-либо, чтобы подняться в моем мнении. Ты можешь быть хорошим воином, я слышала, но как обстоит дело с письмом и чтением, со счетом и знанием истории? Через меня ты попадаешь в число наследников трона, и требования к тебе намного выше, чем если бы ты оставался одним из многочисленных сыновей от наложниц.
Сети сглотнул, потер кубок и медленно выпил, хотя охотно опустошил бы его за один глоток.
— Ну, в письме я особо не упражнялся… Немного читать я уже могу… История? Да, я должен, может быть, что-нибудь нагнать. Раньше мне это казалось не таким важным, знаешь ли. С луком, мечом, пращой и копьем я лучше знаком. Я считал…
Мерит нахмурила свой высокий гладкий лоб. Раскосые темные глаза, наследие Нефертари, насмешливо блеснули.
— Мой высокочтимый отец также первоначально не стоял в первом ряду наследников трона. Тем не менее он умеет читать и писать, как самый деятельный из его секретарей, может считать, как управляющий складом, и знает нашу историю лучше некоторых учителей. Тебе придется кое-что нагнать, Сети! Может быть, тебе удастся со временем завоевать мое уважение. Удастся ли тебе когда-либо завоевать мое сердце, сомневаюсь, но речь не об этом, если Благой Бог уже решил нас поженить. Запомни хорошо мои слова, Сети, тогда нам будет легче общаться друг с другом.
На этом принца отпустили. В ушах у него звенели слова гордячки Мерит, и он ругал себя трусом, который не смог даже дать ей отпор, как пристало будущему супругу. О, это действительно был страх — страх, что он может снова вернуться в толпу безымянных отпрысков и закончить свою жизнь воином дворцовой стражи даже теперь, когда он уже достиг столь многого и вскоре будет принадлежать к самому ближнему кругу царской семьи.
Свадьба состоялась без большой церемонии, и народ участия в ней не принял. Управляющий Югом поставил печать на свадебном контракте, и список с него положили в храме Мут. После этого было устроено маленькое празднество с несколькими жрецами и чиновниками, на котором полчаса присутствовал сам царь.
Свадебную ночь Мерит ждала с равнодушием. Она вытерпит объятия Сети ради ребенка, которого носит.
Для Сети спать с кем-то всегда было чисто физическим удовольствием. Он приказывал явиться в свою постель рабыне, забавлялся ее телом, едва глядя при этом ей в лицо, оставлял свое семя в ней, а потом отсылал ее прочь и забывал о ней. Конечно же, имелись одна-две, которые нравились ему больше. Он приглашал их чаще и несколько дней помнил их имена.
Он не придавал соитию никакого особого значения, победа в соревновании по стрельбе из лука возбуждала его гораздо больше, чем постоянно менявшиеся вереницы девушек в его постели. Но теперь он должен будет лечь в постель с дочерью Солнца, и Сети в отчаянии ломал голову, как он должен будет себя вести. Завоевать ее сердце! Легко сказать, если не знаешь, каким образом.
Во время праздничного ужина он воздерживался от возлияний, потому что знал о плохом влиянии вина на любовную силу, однако теперь он желал опустошить несколько кубков, чтобы преодолеть робость, которую ощутил перед спальней своей супруги. Он мог тысячу раз говорить себе, что она такая же женщина, как любая другая, но при этом знал, что это неправда.
Перед дверью спальни держала пост Соколиха. В ее взгляде не было ни тени уважения, скорее насмешка, любопытство и сочувствие. Выдержав неслыханно долгую паузу, Бикет освободила проход, и Сети вошел. Мерит стояла у окна и смотрела в темный сад. Она обернулась.
— Ну, мой супруг, скрепим свадебный союз, как это в обычае и как того желает любящая порядок Маат.
Беспечным движением она скинула с себя платье, подошла к обеим масляным лампам и задула их. Так Сети лишь на несколько мгновений удалось увидеть обнаженную Мерит, но он не осмеливался сделать никакого замечания, а дотопал в темноте до кровати и лег рядом с супругой. Мерит представила себе, что рядом с ней лежит Пиай, и воображение ее было настолько ярким, что Сети показалось, будто он не так уж противен жене. Она слегка застонала, бегло погладила его по спине, но ничего не ощутила. Сети же не привык обращать внимание на чувства своих рабынь. Ему хватало удовлетворения собственной похоти, а что при этом чувствуют женщины, его не заботило. И, так как ни к чему другому он был не приучен, он придерживался своих привычек и в свадебную ночь.
Когда Мерит спустя час вежливо попросила мужа оставить ее одну, Сети послушался без противоречий. Бикет тотчас проскользнула в комнату своей госпожи.
— Моя бедная голубка…
— Бывает и хуже, Бикет. Приготовь мне ванну, я должна кое-что смыть с себя.
3
Тотмеса привели к судье, и он с неподвижным лицом выслушал свой приговор: конфискация половины имущества, изгнание на границу с Нубией, должность жреца в Большом храме и запечатывание языка, оскорбившего Благого Бога. В Доме наказания и мучений уже ждали палачи с бронзовой печатью, содержащей именные картуши Благого Бога: Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзес. Тотмеса привязали к стулу, один из помощников держал его голову, второй зажал ему нос. Когда он, чтобы глотнуть воздуха, открыл рот, один палач схватил его язык плоскими щипцами и вытянул наружу, а другой быстро прижал к нему раскаленную печать. Зашипело и запахло горелым мясом. Тотмес издал горловой крик и стал рваться из своих оков, как дикий зверь.
— Не дергайся! — ухмыльнулся палач. — Язык мы тебе оставили. В большинстве случаев дело кончается не так хорошо: приставляем нож и… раз! Ты не поверишь, сколько крови вытекает и как много проходит времени, прежде чем рана заживет. Тебе же оказана милость и честь: всю свою жизнь ты будешь носить имя Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, на своем языке.
Стонущего и почти невменяемого Тотмеса вывели и ввели других, которые должны были потерять в этом месте носы, уши, языки или руки.
Весь день Тотмес испытывал адскую боль от ожога, но еще большую боль ему причиняло изгнание из Фив. Для него это был почти смертный приговор, потому что Фивы и клика Амона были содержанием его жизни, его радостью, его миром, и все это теперь у него отняли. Чем живее он себе это рисовал, тем в большее отчаяние впадал. И потом эти позорные шрамы. Они выжгли имена царя на его языке, затронув при этом его сердце, его жреческую гордость.
В отчаянии он попросил об аудиенции Небунефа. Верховный жрец тотчас принял его, потому что Тотмес почти всю свою жизнь был слугой Амона, и это нельзя было игнорировать.
Тотмес склонил свою упрямую голову:
— Знаю, достопочтенный, я тебе никогда не нравился, но мы всегда служили одному и тому же богу, и я не желал себе ничего другого. Теперь я должен стать жрецом Амона далеко на Юге, на границе с Кушем, в месте, которое никто не знает и которое Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, выбрал в своей мудрости для этого храма. Честь для меня, конечно! А по сравнению с должностью помощника жреца в храме Пта явное улучшение. Однако я далеко не молод и пустил в Фивах корни, которые трудно вырвать. Я лучше и дальше служил бы здесь Пта, чем в куше Амону. Ухо царя прислушивается к тебе, Небунеф, и я тебя никогда ни о чем не просил. Сейчас я прошу тебя: замолви за меня словечко, чтобы я мог остаться там, где мое сердце и мои корни, — в Фивах.
Небунефу стало неудобно. У него не было ни малейшего желания обременять фараона из-за этого упрямого жреца, хотя он хорошо понимал его просьбу.
— Ты неправильно думаешь о некоторых вещах, почтенный Тотмес. Фараон, да будет он жив, здрав и могуч, поручил тебе дело, из-за которого многие будут завидовать тебе, а именно: сделать известным имя Амона-Ра в среде молящихся маленьким местным богам, привести народы Юга к царю богов. И еще, царь намерен улучшить твою судьбу, ты станешь не каким-нибудь второстепенным, а верховным жрецом Амона, а наряду с ним и Ра-Харахте, и Пта, и других богов. Тебя станут почитать, у тебя будут прекрасный дом, слуги. Недостатка ни в чем не испытаешь. Я тебе обещаю, что похлопочу перед фараоном, да будет он жив, здрав и могуч, чтобы время от времени ты мог прибывать с докладом в Фивы. Эта миссия, Тотмес, — дело жизни для достойного мужа. Не без оснований Благой Бог доверил это задание именно тебе. Он наказывает и награждает по своей священной воле, однако всегда справедливо и с глубоким смыслом. Ты очень рассердил Благого Бога, но, вместо того чтобы отослать тебя на всю жизнь в какое-нибудь пустынное место, он делает тебя верховным жрецом в одном из своих громаднейших храмов. Ты должен быть ему благодарен!
Верховный жрец Небунеф был очень искусным оратором и представил дело с такой стороны, которая теперь впечатлила даже Тотмеса. Миссия! Да, это было действительно так, и Тотмес загорелся, честолюбие в нем разыгралось. Он хотел показать всем, насколько выше Амон-Ра стоит над другими богами. Тотмес не мог скрыть удивления, которое возникло у него против воли перед предусматривающей все волей фараона, хотя каждое слово, которое он произносил, болезненно напоминало ему о наказании. Язык его был еще очень чувствителен. Палач хорошо поработал, оба картуша с именами были четко видны.
Страна Кеми издавна была государством, во главе которого стоял бог-царь, но правили ею чиновники. Потому что так было всегда, образовались династии, представители которых в качестве слуг государства управляли судьбой страны, руководствуясь приказами царя, и при этом развили административную систему, которая была такой превосходной, что другие народы пытались подражать ей. Так как фараон щедро вознаграждал своих высокопоставленных чиновников, а они почти все происходили из богатых семей, среди них были лишь немногие, кого можно было подкупить.
Но письмо начальника гранитных каменоломен почему-то попало не в Фивы, во дворец царя, а было отослано в Пер-Рамзес. Существовало строгое правило, что письма, адресованные к царю или исходившие от него, повсюду шли в первую очередь. В большинстве случаев они переправлялись на царских ладьях, но те имелись в распоряжении не всегда. Поэтому существовал приказ, что каждый корабль, кому бы он ни принадлежал, был обязан захватывать с собой официальные бумаги, чтобы довезти их пусть не до самой цели, но хотя бы поближе к ней, или в случае нужды передать их на другой корабль, который повезет их дальше.
Точно так и случилось с просьбой Сепи использовать каторжника Пиайя для более важных работ. В порту Фив кормчий услышал, что фараон уже отправился назад, в Дельту, поэтому доверил послание Сепи одной из направлявшихся на север ладей. Однако сведения оказались неверны: Рамзес уже несколько раз собирался уезжать и отослал вперед часть своего флота, но большой срок беременности Нефертари задержал его в Фивах.
Так послание отправилось в Мемфис, где кормчий узнал, что царь все еще в Фивах, и тотчас передал письмо на быстроходный парусник, который отправлялся на юг.
Тем временем посланный Мерит в Суенет тайный посыльный связался с Бикет и сообщил ей результат своего расследования.
— Мертв?! — Бикет почувствовала, как пол качается у нее под ногами. — Ты совершенно уверен, Хапу? Пиай не может быть мертв! Я не могу позволить разбить сердце моей голубки. Ты видел его могилу? Расспросил свидетелей, отчего он умер?
Хапу тяжело вздохнул:
— Ах, Бикет, как охотно я принес бы тебе добрую новость, но клянусь, я разговаривал со старшим надсмотрщиком, а тот для надежности опросил каждого из своих подчиненных. Никто, правда, не знает, отчего умер Пиай, но все утверждают, что он точно мертв.
— Ты видел его могилу?
Хапу смущенно уставился в пол:
— Для каторжников нет могил. То есть они есть, но… это не Жилища Вечности, а ямы в песке пустыни. Проще сказать, каторжников бросают где-либо в пустыне, это мне подтвердили много разных людей. — Хапу залез под свой передник, вытащил мешочек и грустно усмехнулся: — По крайней мере, мы сэкономили деньги на подкуп. А кто этот Пиай? Разве может какой-то каторжник интересовать тебя и твою госпожу?
— Тебя это не касается, — фыркнула Бикет и отобрала у него мешочек с деньгами.
Хапу отмахнулся:
— Да я и не хочу этого знать. Если я буду тебе снова нужен…
— Да-да, хорошо, спасибо, Хапу.
Бикет должна была выдержать внутреннюю борьбу. Если она умолчит о новости, то Мерит спустя некоторое время сама наведет справки. Дело каким-нибудь образом выйдет наружу. С другой стороны, она не хотела причинять горе своей любимой голубке, потому что жила для того, чтобы хранить Мерит от бед. Что же ей теперь делать? Фараону также необходимо доложить… Бикет пошла в дворцовый сад, десять раз обежала вокруг пруда с лотосами, расплакалась, сорвала парик с головы, снова его надела, столкнулась с садовником, который проглотил проклятие, когда узнал доверенную служанку принцессы. Однако ничего не помогало. Мерит наверняка заметила ее отсутствие, она должна вернуться и сказать ей правду.
Едва Мерит увидела Соколиху с опущенной головой, растрепанным париком и заплаканными глазами, она сразу поняла, что произошло.
— Пиай мертв? Хапу принес новость, не так ли?
Бикет, плача, упала к ногам своей госпожи и, заикаясь, пробормотала:
— Забей меня до смерти, вели меня высечь плетьми, накажи посланницу несчастья…
Мерит опустилась в кресло, очень медленно, как будто боялась, что оно разрушится.
— Тем не менее я не верю этому, Бикет. Я просто этому не верю. Через пару месяцев каторжных работ не умирают, от этого не умирают. Пиай привык к тяжелой работе, он легко с ней справлялся. Он просто не может быть мертвым, Бикет. Так не может быть.
— Ах, моя голубка… Хапу расспросил тамошних надсмотрщиков. Он человек надежный. Мы должны поверить в это, моя любимица, нам не остается ничего другого.
С каменным лицом Мерит посмотрела на свою служанку:
— А его могила? Есть ли у него могила, чтобы его ка могло жить в мире дальше?
Теперь Бикет должна была соврать, она не могла иначе:
— Конечно, у него есть могила далеко в пустыне, хотя и очень маленькая…
— Его забальзамировали?
— Об этом Хапу не упомянул, но, конечно же, уважили его За былые заслуги, я полагаю. Так обычно бывает…
Но Мерит уже ее не слышала.
— Вот мой строгий отец и добился того, что его лучший ремесленник погиб в каменоломнях. Было бы человечнее сразу отрубить ему голову.
Внезапно Мерит упала на колени, закрыла лицо руками и начала всхлипывать:
— Пиай, мой любимый, самый любимый из всех, у нас могло бы быть еще счастливых часов!.. Твоя смерть окрасила все вокруг меня в черный цвет! Ах, если бы я только могла сопровождать тебя… вместе с тобой отправиться к Озирису… рука об руку…
Она не могла говорить дальше и осталась лежать, скорчившись, на полу, охраняемая Соколихой, которая встала рядом с ней на колени и гладила ее по спине.
С этого дня принцесса Мерит больше не принимала пищи. В течение первых дней видели, как она с каменным лицом ходит по дворцу. Все с робостью уступали ей дорогу, когда она приближалась, но она никого не узнавала, ни с кем не говорила, даже с родителями.
Фараона тяжело задела весть о смерти мастера, и впервые в своей жизни он ощутил что-то, похожее на раскаяние. Конечно, он чувствовал себя правым. Разумеется, ведь преступление Пиайя было очевидным. Но он сожалел, что поддался первому порыву мести. Он сожалел о том, что все откладывал распоряжение об освобождении от наказания, а теперь уже слишком поздно. Ничего нельзя изменить, поэтому Рамзес хотел приготовить своему единственному другу хотя бы, по крайней мере, достойное Жилище Вечности и тотчас отдал приказ построить гробницу средних размеров на западе от Суенета. Как царя чиновничьего государства, привыкшего даже в мелочах давать всему законный ход, его озаботило то, что в этом случае закон не был соблюден, потому что известие о смерти пришло не от начальника гранитных каменоломен, а, как ему сказали, от друзей Пиайя.
Нефертари заботилась не о законном порядке и не о достойной гробнице, а только о своей дочери, которая постепенно превращалась в тень. Мерит пила только воду и была уже сейчас так слаба, что не могла вставать со своего ложа.
Уже несколько дней она не ощущала голода, она чувствовала свое тело легким, как перо, и полагала уже, что не лежит на ложе, а парит над ним на высоте локтя. Внезапно она увидела взаимосвязи, которые ранее были скрытыми от нее, и у нее возникло чувство, что день ото дня она приближается к цели, которую ощущала, как правду. Теперь она также знала, почему Маат, богиня правды и мирового порядка, почитается в форме пера. Правда была чем-то легким, мимолетным, ее можно было различить лишь тогда, когда не теряешь ее из вида. Все тело Мерит превратилось в перо, в Маат, в правду. Печаль о Пиае одухотворилась и была связана с неопределенной надеждой увидеться с ним в потустороннем мире. Она не могла говорить о своих чувствах, она не хотела этого, а лишь молча вслушивалась в себя или одаривала горюющую Бикет отсутствующей улыбкой. Ее ночи превратились в поток снов, которые сначала были мрачными и угрожающими, а потом постепенно стали более веселыми, легкими и внушавшими надежду. Сначала перед ней несколько раз показался бог Сет. При его появлении воздух в комнате почернел, дыхание заглохло, и все вещи вокруг окрасились в блеклый цвет тления. Его дыхание воняло падалью, скопившейся за тысячелетия, его отталкивающее звериное лицо с маленькими коварными красными глазами, безобразными, как будто отрезанными ушами и рыжим париком внушало такое отвращение, что Мерит попыталась избежать его взгляда, отворачиваясь и закрывая глаза. Однако Сет был повсюду. Он следовал за движением ее головы и проскальзывал под ее ресницы. Он ничего не делал, ничего не говорил, он только угрожающе и возбуждая страх присутствовал.
Постепенно Сет исчез из снов Мерит, за ним последовал бог Бес в виде карлика с высунутым языком и весело торчащими в разные стороны ушами, курчавой бородой и смешными кривыми ногами, между которыми, подобно фрукту, болтался половой член. Бес был безобразен, однако он внушал не страх, а доверие, и, когда он однажды взял Мерит за руку, она не испугалась его прикосновения, но, доверившись, позволила ему вывести ее из комнаты. Она вошла в прекрасный сад, где пальмы, тамариски и акации мягко колыхались под порывами прохладного ветра, где благоухал лотос и тихо плескался маленький источник. Бес ободряюще ухмыльнулся и указал своей искривленной карликовой рукой на дерево граната. На нем неподвижно уселась прекрасная птица с цветным оперением и маленькой человеческой головой. Мерит с любопытством подошла ближе и радостно узнала лицо любимого. Пиай ей слегка улыбнулся. Мерит протянула к нему руку, и тотчас птица, бесшумно шевеля крыльями, взлетела и села ей на руку. Она ясно ощутила коготки птицы, восхитилась ее блестящим оперением и в смущении спросила себя, может ли она поцеловать этого мужчину в образе птицы, это крошечное лицо. Одновременно ее охватило желание самой стать такой птицей и быть подобной возлюбленному. Маленькие серые глаза с любовью посмотрели на нее, и тихий тонкий голосок сказал что-то, но она не поняла что.
— Скоро я стану такой, как ты, любимый, ожидание не продлится долго.
Мужчина в образе птицы улыбнулся, бесшумно взмахнул крыльями и стал подниматься в голубой воздух. Он поднимался все выше и выше, превратился в черную точку и исчез совсем. Мерит еще чувствовала коготки на своей руке, она поцеловала это место и одновременно ощутила печаль и радостную надежду.
Верная Бикет почувствовала, что ее госпожа отходит в сферы, недоступные для других, и понимала, что это лишь вопрос нескольких дней.
— Подумай о своем ребенке, моя голубка. В тебе к новой жизни растет семя Пиайя, это часть его, ты должна сохранить это. В этом ребенке он будет жить дальше. Если ты для себя самой больше ничего не хочешь, то сделай что-нибудь хоть для ребенка. Хнум уже сформировал его. Его вины нет ни в чем, он имеет право жить. Если ты умрешь от голода, то проявишь неуважение к богам.
Эти слова проникали в ухо Мерит, но не достигали ее сердца. Для ребенка в ее снах не было места. Она была беременна, но это не доходило до ее сознания.
С тех пор как Мерит перестала покидать свое ложе, принцу Сети запретили заходить к ней. Она и до этого обращалась с ним, как с чужим, и Сети не осмеливался предъявлять какие-либо права. Он чувствовал, что она никогда не принадлежала ему и что теперь он находится вне ее жизни. Он даже не знал, как ему теперь себя вести. Сети снова мотался с Енамом по Фивам и иногда даже думал, что никакой свадьбы и не было. Все это было лишь сном, и ничего не изменилось. Однажды он спросил Енама, как ему вести себя, но тот не смог дать никакого совета.
— Мне ее жаль, мою сестричку, но что делать с женщинами в таких случаях, я сам толком не знаю. Должно быть, произошло что-то, о чем мы не знаем. Мы можем только подождать, брат. Может быть, тогда все уладится.
Нефертари, находившаяся на последних сроках беременности, боялась потерять Мерит, своего первенца, в то время как ей предстояли роды последнего ребенка.
Она целый день думала, каким образом помочь дочери, и после посещения изголодавшейся почти до состояния скелета Мерит к ней пришла спасительная мысль. Она тотчас велела позвать к себе Бикет.
— Послушай, Бикет, ты знаешь так же хорошо, как и я, что жизнь Мерит висит на волоске. Она сдалась и хочет отправиться туда, где находится ее любимый. Чтобы ее спасти, мы должны снова пробудить ее к жизни.
На осунувшемся от забот лице Соколихи появилось что-то, похожее на надежду.
— Пробудить к жизни, высокочтимая царица? Каким образом?
— При помощи лжи. Мы объясним ей, что о смерти Пиайя сообщили по ошибке, что произошла путаница. Когда она снова выздоровеет, фараон разрешит ей поехать в Суенет.
— Я бы даже богам солгала, если бы это спасло мою голубку. Что я должна сделать?
— Тебе она поверит скорее всего. Я набросаю доклад, который якобы пришел из Суенета, а писец прочитает ей его в твоем присутствии. Он должен быть написан по всем правилам, чтобы выглядеть достоверным.
Однако эта мера не понадобилась, потому что два дня спустя пришел ответ на приказ фараона заложить для Пиайя гробницу. Сепи, начальник гранитных каменоломен под Суенетом, написал царю:
Великому повелителю Кеми, сыну Солнца и господину Обеих Стран, Гору, любимому Маат, великому властью и прекрасному годами, его величеству Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзесу, от его верноподданного Сепи, начальника каменоломен под Суенетом.
Твой приказ прибыл сюда, только он не может быть выполнен, потому что каторжник Пиай, бывший скульптор и архитектор, жив, здоров и полон сил. Я позволил себе занять его в другом месте на более важных работах, поэтому на его прежнем месте по ошибке дали справку, что он умер. Здесь умирает много людей, а так как это преступники, искупающие свою вину, их смерть не является ни для кого важным событием. Я сам уже давно отправил тебе, Богоподобный, запрос о том, позволишь ли ты Пиайю работать в другом месте и как долго будет длиться время его наказания. Я повторяю этот запрос и со смирением жду твоего решения.
Да будет жив, здрав и могуч Благой Бог Рамзес! Да будешь ты тысячи тысяч раз праздновать праздник Зед к радости твоего народа и ко благу страны.
Это была действительно хорошая новость! Рамзес смеялся и шутил, читал письмо каждому, кто находился поблизости от него, и, наконец, передал его Нефертари.
— Вот, моя любовь, иди с этим к Мерит. Я никогда и не верил в то, что этот Пиай, такой здоровый парень, умрет за пару дней. Кто, собственно говоря, передал эту ложную новость? Его надо отправить на каменоломни вместо Пиайя! Я…
— Нет, мой любимый, никаких наказаний. Оставим все как есть и посмотрим, как нам спасти нашу Мерит.
За несколько дней Пиай словно перевоплотился. Наконец он снова мог заниматься настоящей работой, хотя и проклинал хрупкие бронзовые инструменты, которые тупились после получаса работы. Его драгоценные, сделанные из железа остались в пещерных храмах в распоряжении Хотепа.
Новость о том, что бывший первый скульптор царя работает здесь над сидящей фигурой, быстро распространилась, и каменотесы — ведь все они мечтали о том, чтобы однажды стать скульпторами, — прокрадывались к рабочему месту Пиайя. Большинство из них не хотели показывать, что работа человека, носившего ошейник каторжника, привлекает их внимание, однако некоторые не находили ничего зазорного в том, чтобы подойти поближе и рассмотреть поточнее.
Пиай вкладывал все свое умение в привычную работу, и удивленные зрители наблюдали рождение сидящей фигуры, в которую за несколько дней превратилась глыба, отделенная от скалы.
Сепи, начальник гранитных каменоломен, был в восторге. Сам Пта, божественный ремесленник, помог ему получить этого человека в свое распоряжение! Без чертежей и модели мастер, как по волшебству, создавал фигуру из камня, словно это была детская игра. И такой еще должен носить медный ошейник! Сепи решил предпринять все, чтобы вскоре добиться освобождения этого каторжника, а затем предложить Пиайю работать здесь за хорошее вознаграждение.
— Пиай! Пиай!
Однако тот ничего не слышал, потому что его быстрые, крепкие удары молотком заглушали голос начальника.
— Пиай, послушай! Второй блок будет в твоем распоряжении через несколько дней. Если ты сейчас готов,
сделай паузу, мы оставим каменотесам грубую работу, а потом ты будешь работать дальше. Тем временем я надеюсь на благоприятный ответ из Фив или Пер-Рамзеса, а потом я тебе кое-что предложу, но об этом потом.
Сепи хотел уже вернуться домой, когда к нему подбежал рабочий и, задыхаясь, сообщил:
— Господин, готово! Обелиск можно отправлять.
— Хорошо, я сейчас иду.
Было традицией, чтобы при этой длительной, тяжелой работе присутствовал начальник, дабы показать, что он несет за нее ответственность. Итак, Сепи надел лучший парик, драгоценное оплечье и велел отнести себя в носилках к Нилу.
Там был прорыт канал для погрузки тяжелых блоков на мощные ладьи. Обелиск средних размеров, около тридцати локтей в высоту, подтащили из каменоломни к каналу. Его передвигали по мокрому илу и везли на колесах до тех пор, пока он не оказался здесь, на канале, готовый к отправке. Едва Сепи вышел из своих носилок и сел в кресло, началась работа. Обелиск лежал правым углом к каналу, его острие было повернуто к воде. Чтобы укрепить ремни, обвязывавшие его, каменотесы подложили под гладкую поверхность обелиска валуны размером в человеческую руку. Толстые веревки достигали противоположного берега, где неподвижно и молча сто рабочих ожидали приказа.
Наискосок через канал были пришвартованы грузовые плоты, которые были сделаны из особенно легкого и прочного дерева. Все было готово. Сепи взглянул на работников и поднял свою палку. Под ритмичные возгласы — они звучали, как песни, — рабочие тянули обелиск на другой берег через канал до тех пор, пока острие не опрокинулось и не было поднято на плоты.
Старшие рабочие все точно выверили, и громадная каменная игла скользнула дальше по смазанной маслом поверхности плотов, с треском прорезала глубокую колею в дереве и без остановки двинулась на другой берег. В конце прибегли к помощи четырех тягловых ослов, и они вытащили верхнюю часть обелиска на три локтя на твердую землю, в то время как тяжелый цоколь все еще находился на противоположном берегу. Обелиск лежал теперь, как каменный мост, наискосок через канал. Сейчас мужчины взялись за свои ремни и начали с воодушевлением тянуть их: эта работа хорошо оплачивалась.
Начальник Сепи позволил, чтобы молчаливое напряжение перешло в громкое ликование. Он сам радовался каждый раз, когда тяжелая работа удавалась. Его угрюмое лицо немного расслабилось. Он велел подать себе кубок с вином и медленно опустошил его. Затем отставил кубок, и это был знак начала погрузки.
С большим трудом, но под громкий смех плоты под обелиском были разрушены и убраны. Медленно приблизилась грузовая ладья с четырьмя гребцами. Она была настолько тяжело нагружена песком, что борт ее едва приподнимался на высоту руки над водой.
Мужчины ловко направили ладью точно под обелиск, бросили канат на оба берега, где он был прочно закреплен. Потом отложили весла в сторону и быстрыми движениями начали сбрасывать песок в воду. Становившаяся все легче ладья поднялась навстречу обелиску, подхватила его, поддержала и понесла, как только последние мешки с песком полетели в воду.
Раздался коллективный вздох облегчения. Сепи поднял обе руки, как будто хотел выразить благодарность. Не всегда все проходило так гладко, происходили и несчастные случаи. Бывало, приходилось с громадным трудом вынимать обелиски из воды. Это была постоянная борьба, которую Сепи должен был выдерживать. Вот почему лицо его с годами стало таким угрюмым.
Пару дней спустя пришло странное письмо из Фив. Сепи каждый раз охватывало волнение, когда он брал в руки послание с царской печатью. В конце концов послание Благого Бога могло содержать все: наказание, награду, порицание, повышение, понижение — все. Как и каждый высокопоставленный чиновник в Кеми, Сепи умел читать и писать, и он удалился с запечатанным папирусом в свой дом. Там он поцеловал печать, как будто желая снискать благосклонность того, кто ее поставил, дрожащими руками развернул свиток, прочел и… громко рассмеялся. Еще никто никогда не слышал, чтобы угрюмый Сепи так громко смеялся, а он смеялся только тогда, когда оставался один.
Послание царя с распоряжением соорудить для Пиайя гробницу, которая соответствовала бы его прежнему рангу, так поразило Сепи, что смех напал на него, как внезапно налетевший хамазин. Он велел тотчас позвать Пиайя. Когда тот, еще покрытый гранитной пылью, вошел, Сепи высоко поднял послание и воскликнул:
— Пиай, я должен тебя, к сожалению, убить, потому что фараон, да будет он жив, здрав и могуч, отдал приказ соорудить для тебя Жилище Вечности, забальзамировать тебя и похоронить с причитающимися церемониями. Не могу же я живым передать тебя в руки «ставящих печать бога»! Похоже, приказ Благого Бога — это смертный приговор для тебя.
Пиай, измотанный работой, понял только слово «смертный приговор» и почувствовал, как колени у него начали дрожать.
— Я должен… я должен сейчас… умереть?.. Если Благой Бог… если царь… если он так повелел…
Сепии, заметив, какой страх нагнал на бедного Пиайя, быстро сказал:
— Глупости, Пиай. Это была только шутка. Но в послании действительно приказано, чтобы тебя похоронили в приличествующей тебе гробнице. Я уже сообразил, как возник этот слух. Я посоветовал тогда старшему надсмотрщику каменоломни номер три, чтобы он объявил тебя мертвым, дабы не возникало никаких сплетен о том, что в каменоломнях поощряют каторжников. Этот человек последовал моему указанию, но уже на следующий день должен был уехать на долгое время из-за смерти одного из членов своей семьи. Его заместитель, один из надсмотрщиков, знал только то, что ты умер в другой каменоломне. Эта новость каким-то образом достигла Фив. Я тотчас отвечу царю, да будет он жив, здрав и могуч, что произошла досадная ошибка и что ты под моим надзором выполняешь работу каменотеса. Я уже написал об этом в моем первом послании, но оно явно еще не дошло до Фив. Из послания царя можно заключить, что он простил тебя, потому что настойчиво подчеркивает, чтобы гробница соответствовала твоему прежнему рангу.
Пиай должен был сесть. Он слабо улыбнулся и сказал:
— С тех пор как я здесь, в Суенете, я живу рядом со смертью. Уже в первый день твой старший надсмотрщик в качестве приветствия дружески сообщил мне, как быстро здесь погибают люди. Вдобавок к этому постоянные побои, дурное питание… Едва я этого избежал, как царь, да будет он жив, здрав и могуч, повелевает соорудить для меня гробницу. Я уже почти поверил в то, что мне действительно следует отправляться в Закатную страну…
— Глупости! — пробурчал Сепи. — Иногда человек возбуждает внимание враждебно настроенных богов, и тогда его потреплют. Однако, я полагаю, самое плохое ты уже перенес, и нам надо только подождать ответа царя, который сейчас еще, похоже, находится в Фивах.
Хотеп уже давно справился со своей работой в Малом храме, но начать работу в Большом он все еще не осмеливался. Он постоянно находил предлоги, чтобы отодвинуть дело, уже несколько раз забирался на помост, где располагалась модель величиной в два локтя и различные рисунки. Он хватался за молоток и резец, даже сделал несколько ударов молотком, но что-то понуждало его прекратить работу. Он сыпал проклятиями, спускался с помоста, разглядывал грубо выточенные головы с некоторого отдаления, снова поднимался вверх, брал инструменты в руки, ударял резцом, и снова его охватывала дрожь, холодный пот выступал у него на лбу, глаза застилал туман, и рука становилась как скованная.
Два дня назад Хотеп сделал свою последнюю попытку и теперь бродил между храмами, без причины орал на людей, затем пошел в свой дом, в котором раньше жил Пиай, и выпил несколько кубков тяжелого южного вина. Поднимавшееся опьянение смягчило его гнев, но не уменьшило страх перед этой трижды проклятой работой. Он знал, он точно знал, что способен выполнить эту работу. В мыслях он уже видел головы и мощные тела, выраставшие из камня. Четыре изображения фараона с громадной двойной короной, четыре лика божественного повелителя Обеих Стран.
Хотеп знал, что эта работа ему по плечу, однако что-то мешало ему начать работу. Когда он представлял, как фараон будет его хвалить и наградит, как он поднимет его до ранга его предшественника, даже эта картина не помогала молодому мастеру собраться. Он лишь долго смотрел на грубо вытесанные колоссы, но сделать что-либо никак не мог.
Шатаясь, он вернулся домой, влепил пощечину слуге, потому что тот спал и не успел принести нового вина. Но все спали в раскаленный полдень, однако Хотеп как будто лишился ума. Он побросал свитки папируса, вырвал из рук обиженного слуги кувшин и, дрожа, как безумный, влил себе вино в рот. Красный виноградный напиток облил ему лицо, торс и руки, но Хотеп не обратил внимания на это. Как будто преследуемый волками, он снова выбежал из дома, вскарабкался на помост, схватил молоток и резец из ящика с инструментами и дико начал стучать. Несмотря на тяжелое опьянение, он чувствовал, что каждый его удар неверен. Хотеп издал отчаянный крик, отбросил инструменты, как будто они были раскалены докрасна и уселся, плача, в пьяном отчаянии на мат из тростника, положенный на помост. Скоро он заснул. По счастливой случайности скальный массив находился уже в тени, но это был тяжелый, беспокойный сон, который не принес ему облегчения. Спустя несколько часов Хотеп проснулся. Голова у него болела, как будто в его мозгу копались «ставящие печать бога». Руки у него тряслись. Его мрачные, налитые кровью глаза уставились на бесформенные головы, как будто это были морды демонов. Хотеп дошел до ручки. Он не дожил еще до двадцати лет. Он был, конечно, одним из самых старательных скульпторов страны, однако прежде он работал свободно и непринужденно. Тогда Пиай следил за его работой, а Хотеп ваял, следуя его примеру. Теперь он остался один, а требования превосходили все, что было до этого. Казалось, талант оставил Хотепа. Его рука могла бы справиться с работой, а сердце отказывалось ее выполнять.
Хотеп сам не знал, как добрался до земли, однако внезапно, оказавшись внизу, он почувствовал приступ несказанного страха и отчаяния. У него было только одно желание: прочь отсюда, прочь от этих демонов, взгляд на которых парализует его руку.
Хотеп бросился бежать. Он бежал мимо домов и палаток в пустыню; спотыкался о камни и засохший кустарник, упал, разбил коленку и побежал дальше, пока дыхание у него не пресеклось и ослабленные вином силы не покинули его. Солнечный путь Ра приближался к концу. Подул прохладный ветер, и Хотепу показалось, что он слышит топот, как будто колоссы освободились из скал и пошли за ним.
— Нет! — закричал обезумевший. — Вы меня не достанете! До тех пор, пока я живу…
Он поднялся и побежал дальше в пустыню. Медленнее, чем раньше, но зато дольше он бежал на запад — туда, где Ра должен был взойти на свою ночную ладью. Кровь змея Апопа залила вечерний горизонт. Хотеп, задыхаясь, бежал, споткнулся, упал, вздохнул, как загнанное до смерти животное, и с трудом снова поднялся. Теперь он больше не бежал, он ковылял, спотыкался, падал и каждый раз оставался лежать дольше и дольше. Наконец у него не хватило сил, чтобы встать, и он снова услышал внушающий страх топот колоссов, который становился все громче и громче и вдруг ударился о него, и дыхание жизни у юного скульптора Хотепа прекратилось.
4
Было нелегко вернуть Мерит к жизни, потому что одной ногой она уже находилась в царстве Озириса и ей явно тяжело было сделать даже полшага назад. Однако, когда фараон позволил ей добавить к высочайшему посланию в Суенет несколько ничего не значащих строчек для Пиайя, она снова медленно стала возвращаться к действительности. Она позволила покормить себя молочным супом и кашей с медом, спустя много дней предприняла первые попытки ходить и даже позволила своему супругу посетить себя.
Нефертари так беспокоилась о Мерит, что схватки начались у нее почти на месяц раньше срока, и теперь к старым заботам добавились новые. Схватки оказались такими слабыми, что их было недостаточно, чтобы вытолкнуть ребенка, однако опытные врачи из Фив знали средства ускорения родов.
Рамзес вздохнул, когда крошечное создание наконец появилось на свет, и оказалось, что Хнум прислушался к молитвам Нефертари и изваял мальчика. Давно было решено, что его назовут Мери-Атум, но никто не рассчитывал, что это слабое создание проживет хотя бы несколько дней. Однако малыш охотно сосал молоко своей юной нубийской кормилицы и не выказал никакого признака болезни.
У Нефертари же вскоре после родов началось кровотечение, не сильное, но постоянное, и это побудило Незамуна, управителя двора Изис-Неферт, заметить, что царская семья должна будет еще на несколько месяцев остаться в Фивах, и все проблемы при помощи Амона будут решены. Когда Нефертари, истекая кровью, лежала на ложе родильницы, у Изис-Неферт возникла надежда вернуться в Пер-Рамзес в качестве первой супруги. Царь, как и тогда, когда младенца пришлось извлекать из утробы матери по частям, отчаянно боролся за жизнь Нефертари и использовал все средства, чтобы спасти ее. Применяли целый ряд останавливавших кровь средств, но без длительного эффекта. Что-то в теле Нефертари, должно быть, разорвалось, поэтому ей не помогали традиционные средства вроде красного вина с яйцом и медом. Местные врачи в Фивах бессильно разводили руками, и в конце концов разыскали лекарку, умевшую останавливать кровь, и срочно привезли ее во дворец.
Царь предполагал, что это очень опытная женщина, умеющая обращаться с лечебными травами, но, когда ее привели к нему, он сначала подумал, что слуги ошиблись.
Женщина была средних лет, коренастая, лицо ее грубой работы выглядело невыразимо глупым. Она посмотрела на фараона, как на невиданное явление природы, и, казалось, совсем не поняла, с кем имеет дело. Она не поклонилась, не упала на колени — просто стояла, глупо улыбалась и бормотала что-то невразумительное.
— Кого вы сюда привели? — закричал царь, разозлившись. — Она не понимает разницы между водой и кровью! Как она может нам помочь?
Сопровождавший ее лекарь постарался успокоить царя.
— Я должен просить прощения Благого Бога, потому что эта женщина действительно ничего не понимает во врачебном искусстве и так же мало в других вещах. Однако, похоже, боги избрали ее, потому что уже многократно только ее прикосновение, а иногда даже одно ее присутствие останавливало кровь.
Выбирать не приходилось, и женщину тотчас провели к Нефертари, которая, бледная и спокойная, лежала на своем ложе. Потребовали, чтобы женщина прикоснулась к ней. Знахарка медленно села на кровать, схватила маленькие руки Нефертари и некоторое время подержала их в своих больших грубых руках. Вскоре она встала, по-идиотски рассмеялась, промямлила что-то и указала на свой рот.
— Она хочет поесть, — объяснил лекарь и вывел ее из комнаты.
Кровотечение у Нефертари тотчас прекратилось и больше не возобновлялось. По приказу царя знахарка должна была оставаться во дворце до тех пор, пока Нефертари полностью не выздоровеет. Только после этого с богатыми подарками ее отослали домой Ученые лекари глубоко завидовали ей, потому что за такую способность они отдали бы половину своего состояния.
Теперь Рамзес хотел как можно быстрее выехать из Фив. Может быть, этот Тотмес из мести произнес какое-нибудь сильное заклинание, или кто-либо другой из клики Амона воздействовал магическими силами на царскую семью. Город был явно настроен к ним враждебно.
Мерит снова была почти здорова, однако ее необузданная живость уступила место тихой сдержанности. Ей, казалось, было достаточно того, что Пиай жив и находится в относительной безопасности.
За день до отъезда прибыль последнее несчастливое послание. Это было известие об исчезновении Хотепа, которое не причинило царю много горя, потому что он был вынужден теперь сделать то, что давно собирался, — снова передать работу Пиайю. Хотеп, видимо, перетрудился, по крайней мере, это можно было понять из доклада. Он целый день пил, говорилось в послании, несколько раз пытался заняться обработкой колоссальных фигур и, наконец, убежал в пустыню и там пропал.
В последнем разговоре царь дал верховному жрецу Небунефу устное распоряжение отправить надежного гонца в Суенет и передать начальнику каменоломен Сепи следующее: скульптор Пиай освобождается от каторжных работ, он должен как можно быстрее добраться до храмов в Куше, чтобы снова выполнять прежнюю работу. Он снова становился начальником над скульпторами, но ему не позволялось уезжать на север. Кроме того, ему поручалось каждый месяц сообщать о ходе работ в Большом храме.
Небунеф тут же выполнил поручение и не мог подавить тихую радость по поводу отъезда царя и его семьи. Верховный жрец был доволен своим состоянием и ни в коем случае не желал, чтобы Фивы стали резиденцией. По воле Амона он был верховным жрецом его храма, владыкой Фив, в то время как пребывание фараона привносило лишь беспокойство и волнение в жизнь города и отодвигало первого жреца на задний план.
Небунеф, улыбаясь, потер руки: бог хорошо настроен к нему. Тотмеса из Фив изгнали, царь уехал, а с Беки, вторым жрецом, можно ужиться. Ему он мог спокойно передать руководство храмом на полмесяца или дольше, что Небунеф и сделал. Он хотел съездить вместе со своей семьей на родину в Тенис и ожидал, что его будут приветствовать там как достойного сына города.
Разочарованный, однако не сломленный духом Незамун поехал вместе со своей госпожой назад, в Пер-Рамзес. То, что он мог сделать в Фивах для Изис-Неферт и ее сына Рамозе, он сделал, а прочее он сделает для царицы и Амона и в Дельте. То, что, несмотря на неудачи, она поддерживает его, стало ясно, когда Изис-Неферт сказала жрецу-чтецу после объявления наследником престола принца Енама:
— Может быть, это ненадолго, мой друг. У Амона-Ра длинная рука, и в любом случае победа будет за ним. Нефертари уже дважды стояла одной ногой в Закатной стране, в третий раз она шагнет туда. А потом наступит наш час, поверь мне, Незамун!
Уверенность Изис-Неферт имела причину. Во время болезни Нефертари царь несколько раз почтил ее своим визитом, и время ее очищений уже прошло. Она снова чувствовала, как в ней растет священное семя Амона, и надеялась на четвертого сына, чтобы опередить другую. Кроме того, она моложе Нефертари, и скоро наступит день, когда эта крестьянская шлюха не сможет больше рожать детей, и тогда она станет плодородным сосудом, и хохолок ястреба с украшением из перьев будет положен ей одной. Ей одной! Изис-Неферт забылась в видениях будущего, исключавших Нефертари и ее отродье. Она видела себя уже Великой Царской Супругой рядом с Благим Богом.
Во время обратного путешествия царь вел долгие разговоры со своим другом юности Меной. Темой был лежавший далеко от страны Кеми остров Кефтиу, который вел свое таинственное существование где-то вдали, на севере Зеленого моря.
— В первые годы своего правления я поручил начальнику государственного архива сообщить мне о торговых отношениях моих предшественников с Кефтиу и могу тебе сказать, Мена, я узнал удивительные вещи. Особенно оживленный обмен товарами имел место во время правления Озириса Мен-Хепер-Ра-Тутмоса. Документы того времени хранятся в нескольких залах. Предметами обмена были главным образом металлы, такие как медь, бронза, серебро, да вдобавок драгоценные камни, дерево, лечебные травы, коренья, смола для «ставящих печать бога». Эта торговля была продолжена и при других царях. При мечтателе Эхнатоне торговля прекратилась, но зависело это не от него, а от Кефтиу. Некоторые отдельные документы составлялись и в правление моего отца, но затем связь с островом внезапно прервалась. Оттуда больше не приходит ни одного корабля, как будто Кефтиу исчез в море. Но тот, кто раньше был в состоянии отправлять целые флотилии кораблей с медью и бронзой, переправлять десятки стволов драгоценных пород деревьев, должен и сегодня существовать, не так ли? Может быть, остров разрушила война, захватчики ограбили его, поэтому торговля больше невозможна? Кефтиу просто не выходит у меня из головы. Я полагаю, мы должны однажды добраться туда и посмотреть. Как ты считаешь, Мена?
Прежний возничий фараона медленно потянулся в своем кресле и посмотрел на сменявшие друг друга пейзажи со стройными пальмами и зелеными полями и луками, на которых паслись стада белых коров.
Он широко зевнул и сказал:
— Извини, Сесси, долгая поездка утомила меня. Я вижу главную проблему в том, что мы, египтяне, еще ни разу не плавали по Зеленому морю на собственных кораблях. Торговлю поддерживали всегда люди из Кефтиу, и, когда от них перестали приходить корабли, торговля замерла. Мы должны построить морские корабли и нанять или же обучить людей, которые смогут отправиться за море. Ты смог выяснить, за сколько дней корабль добирается до Кефтиу?
— Называют различные сроки. При благоприятных ветрах корабли из Кефтиу добирались до дельты Нила не дольше чем за одну неделю. Есть также сведения о египетских путешественниках, которые добирались обратно за двадцать и более дней.
— Клянусь Сетом, богом чужеземцев, ты вряд ли найдешь египтянина, который возьмет это на себя! Месяц по Нилу — этим никого не испугаешь, потому что Нил спокоен и дорогая страна все время видна тебе, но пуститься в бесконечные дали Зеленого моря…
Рамзес рассмеялся:
— Ты прав, на подобное можно подвигнуть только хорошо оплаченных наемников. У наших северных данников есть достаточно дельных моряков. Но пару египтян я хотел бы послать с ними. Это должны быть смелые, отважные люди высокого положения, чтобы придать делу официальность.
Мена выпрямился и возбужденно воскликнул:
— Я даже знаю кого! Принца Монту, твоего сына от принцессы шазу, которая позднее исчезла. Ты помнишь, Сесси?
Еще бы Рамзес не помнил! Когда отец назначил его соправителем, отовсюду прибыли подарки, и среди них дочь вождя племени шазу, которую Мена великодушно наградил титулом принцессы. Это была настоящая дерзкая пустынная кошка, которая возбудила беспокойство в его тогда еще маленьком гареме. Лишить ее девственности оказалось делом опасным для жизни, но в юные годы подобные приключения забавляли Рамзеса. Она родила ему сына еще до того, как Нефертари произвела на свет своего первого ребенка. Вскоре после этого дикарка шазу бежала из гарема, и ее никогда больше не видели.
Монту унаследовал нрав и низкорослую коренастую фигуру своей матери. Еще когда он был мальчиком, с ним едва справлялись, и учителя разбивали связки бамбуковых палок о его спину, но ничего не помогало. Он едва умел читать и писать, зато уже в семь лет ездил верхом, как кочевник, в двенадцать лихо управлял боевой колесницей, и его стрелы редко не попадали в цель. Его проделки были на устах у всего Мемфиса, где он командовал подразделением ниу. Временами Монту исчезал и так же внезапно появлялся, принося извинения, но ведь нельзя же было в конце концов запереть сына Благого Бога или высечь его плетьми.
— Для Монту Кеми слишком тесна, — констатировал Мена. — В нем кипит кровь кочевников, и регулярная служба для него обуза. С другой стороны, он выказал большие успехи в рядах ниу. Однажды он в одиночку спас траурную процессию от нападения грабителей гробниц, одного из которых он застрелил, другого зарубил, а третьего поймал арканом, привязал к лошади и тащил за собой по земле, пока тот не умер. Четвертый сбежал и с тех пор отказался от грабежей. Этого Монту на твоем месте я бы сделал главой посольства в Кефтиу. Он твой сын, он бесстрашен, и его не испугает долгое и опасное морское путешествие. Дальнейшее я могу организовать. Я велю расспросить наших наемников, кто из них уже плавал по морю. Затем в одном из северных портов, думаю, в Тире или Библосе, нужно будет купить подходящий корабль или построить его. Ты возбудил мое любопытство, Сесси, я сам бы хотел узнать, что случилось с Кефтиу и куда подевались его сокровища.
— Пока дойдет до дела, еще много нильской воды утечет в Зеленое море. Распорядись, чтобы Монту вскоре явился в Пер-Рамзес, дабы я мог еще раз посмотреть на него.
Мена зевнул, улыбнулся и сказал комически-напыщенно:
— Будет сделано, Богоподобный.
Благой Бог прощал своим старым друзьям, которые когда-то называли его долговязым Сессии, подобную фамильярность.
С тех пор как Пиай знал, что он окончательно освобожден от каторжной работы, на сердце у него было легко, как у веселой птицы. Оно билось от радости у него в груди, и он почти боялся, что оно может вылететь оттуда. Снова и снова мастер дотрагивался до своей шеи, освободившейся от ошейника раба, как будто должен был удостовериться в том, что медный обруч действительно исчез. Хотя он знал, что в решении фараона исчезновение, и, вероятно, смерть его бывшего помощника сыграла решающую роль, ему было жаль Хотепа. Юноша сорвался из-за непомерных амбиций. Но на земле стало одним большим талантом меньше, и Пиай искренне бы радовался, если бы снова смог работать с ним вместе.
Через несколько дней он собирался отправиться в Куш, но сначала желал насладиться свободой. Он слонялся по Суенету, который едва знал, и чаще, чем во время каторжной работы, думал о потерянной возлюбленной. Он не был бы самим собой, если бы отказался от надежды снова когда-либо ее увидеть. Конечно, он был отделен от Мерит такими дальними расстояниями, какие только возможны в Кеми, потому что Пер-Рамзес находился на крайнем севере, а Суенет был самым южным городом страны. Этот приятный оживленный маленький городок населяли преимущественно темнокожие люди, занимавшиеся здесь каждый своим делом.
Дыхание Пиайя превращалось в облачко пара в прохладном утреннем воздухе, и, озябнув, он кутался в шерстяную накидку. Однако он знал, что часом позже горячее дыхание Ра прогонит холодный воздух и нужно будет высматривать для себя тень.
В порт прибывали первые ладьи с юга, большие и маленькие. Мимо пробегали грузчики, за ними важно вышагивали писцы в своих накрахмаленных передниках до колена и в безупречных париках. Пиай подошел ближе. Как раз начали разгружать первую ладью, неуклюжее грузовое судно, которое привезло слоновую кость, твердое дерево и маленьких кричащих обезьян в плетеных клетках.
Оба писца старательно составляли список товаров, сгружавшихся на берег. Позже товары грузили на тележки или на спины носильщиков, перекладывали на другие ладьи, которые стояли в низкой воде вокруг скал.
Рядом разгружали маленькую ладью, однако рабочим не пришлось носить большие тяжести, потому что здесь были только связки трав, маленькие пакетики, легкие, как перо, мешки, в которых шелестела солома. По аромату Пиай понял, что сейчас носят на берег. Это были многочисленные коренья и травы из Куша: перец, корица, гвоздика, мускатный орех, шафран, имбирь и другие специи, которые очень ценились на кухнях состоятельных людей, некоторые на вес золота.
Пиай прошел пару шагов вдоль берега. Вдали в лучах утреннего солнца светился длинный остров Джеб. Лучи солнца отбрасывали красноватый свет на здание крепости, окруженное высокой стеной. Это была резиденция военного правителя и его нубийских наемников. На севере возвышался храмовый квартал, также окруженный стеной, однако светлые пилоны и колонны из известняка смотрелись торжественно и вызывали почтение. Это было центральное святилище бога-создателя Хнума, который почитался там вместе со своими женой и дочерью — богинями Анукет и Сатис.
Авторитет Хнума на Юге был незыблем. Во времена древних царей — это было полторы тысячи лет назад — Нил не разливался семь лет и в стране воцарился страшный голод. Тогда Имхотеп, почитаемый архитектор, чародей, посоветовал фараону Джосеру передарить богу двенадцать участков земли по берегам реки. За это Хнум снова открыл шлюзы Нила. С тех пор никто больше не осмеливался пренебрегать его святилищем, и Хнума радовал большой приток паломников, которые осыпали его храм жертвами.
Пиай хотел сейчас присоединиться к ним, потому что фараон приложил к своему милостивому посланию мешочек с золотыми и медными дебами. Наконец он мог, почти как свободный человек, появляться на людях достойно, в соответствии со своим положением первого архитектора. Две строчки, написанные собственной рукой Мерит, поразили и обрадовали Пиайя, хотя он знал, что они родились под зорким оком царя. «Принцесса Мерит желает начальнику скульпторов Пиайю, чтобы Пта помог ему работе для Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч!» Это было немного, но этот знак внушал надежду.
Ладья к храму Хнума была полна только наполовину, но люди ожидали терпеливо, потому что она была бесплатной и плавала в любое время от восхода солнца почти до заката.
Весело настроенный Пиай бросил лодочнику медный деб на колени и крикнул:
— Можешь сегодня сделать исключение, потому что бог ожидает меня!
Другие удивленно посмотрели на высокого сероглазого человека, который был хорошо одет и в качестве знака своего сословия носил измерительный шнур у пояса.
Перевозчик ухмыльнулся и взялся за весла. Дорога была недальней, и вскоре лодка причалила к ступеням перед храмом. Паломники вошли во внешний двор, где помощники жрецов предлагали различные товары, дабы тот, кто не принес с собой жертвы, мог приобрести что-нибудь здесь. Можно было снабдить бога продуктами питания и приобрести голубей, гусей, коз, рыбу, зерно, масло или вино, но Хнум радовался и курению благовоний, и жертвуемым по обету фигуркам, и слиткам металлов, из которых он, как уверяли жрецы, больше всего ценил золото. Не потому что оно имело наибольшую ценность, о нет, а потому что оно представляло собой живую душу Ра, золотого дневного светила.
Пиай и не думал о том, чтобы пожертвовать один из своих немногих золотых дебов. Он приобрел мешочек с лучшими благовониями, которые высыпал в тлеющие горшочки для жертвенного курения. Потом он медленно прошел вдоль стены, где Хнум был представлен в своих различных ипостасях. Здесь можно было видеть его в качестве стража источника Нила, бога-создателя, который на гончарном круге формирует людей, и в виде редкого создания с четырьмя головами, потому что в нем объединялись действенная сила солнца, воздуха, земли и подземного мира, боги которых Ра, Шу, Геб и Озирис были созданы им.
Усердный неофит объяснил Пиайю эти взаимосвязи, которые в Мемфисе вызвали бы только удивление, потому что там в качестве создателя всего сущего почитался Пта. Однако Пиай вспомнил слова старого жреца: «Все это лишь различные имена для многообразного божественного действа, и поэтому почитатели Пта правы так же, как почитатели Хнума или Атума-Ра».
Пиай подошел к капелле Сатис, которая исполняла здесь миссию Баст — богини любви, радости и плодородия. На стенах часовни она была изображена стройной женщиной с белым венцом Юга. Над ее головой возвышались очаровательные рога антилопы.
— Так как ты защищаешь влюбленных и благоволишь им, высокочтимая Сатис, взгляни на своего слугу Пиайя, сердце которого разрывается, потому что у него забрали возлюбленную. Устрой так, чтобы я снова мог ее увидеть, и я буду молиться тебе и приносить жертвы до тех пор, пока путь не приведет меня в Закатную страну.
Пиай купил белую козу и передал ее жрецам в качестве жертвы для очаровательной Сатис. Чудесным образом успокоившись и с надеждой в сердце Пиай сел в ладью, которая привезла его назад в Суенет.
С тех пор как принц Сети узнал, что Мерит беременна, он расхаживал по дворцовому кварталу подобно павлину. Рамзес велел построить супружеской паре собственный дом и назначил Сети командующим ширдану. Этот элитный отряд, состоявший из чужеземных наемников, уже имел нескольких командующих, но для большинства из них это был лишь почетный титул. Принц Сети с рвением принялся за дело. Каждые два дня он инспектировал отряд, принимал участие в военных упражнениях, постарался разузнать побольше о каждом воине. Теперь он очень сожалел о том, что не научился читать, и обращался со своим писцом с чувством зависти и уважения.
Сети любили подчиненные, потому что он не чурался делать вместе с ними сложные упражнения, и, когда его люди видели, что он почти всех их превосходит в стрельбе из лука, они одобрительно стучали в свои щиты. Здесь его понимали, здесь его уважали, и никто из наемников не смотрел на него косо, потому что он не умеет читать и писать. Военачальники, которые, собственно говоря, были скорее писцами, чем воинами, и показывались перед своими подчиненными три раза в год по праздникам, надушенные и накрашенные, в своих носилках, не пользовались у ширдану никаким авторитетом. Перед ними картинно склонялись и ухмылялись про себя. Сети же был среди ширдану в своей стихии. Про таких говорят, что они женаты на своем отряде.
Но от женщины, с которой его соединил Благой Бог, он не видел ни уважения, ни признания. Со дня их свадьбы Мерит даже не пускала его в свои покои. Сети мог радоваться уже тому, что она в официальных случаях с каменным лицом исполняла роль его супруги, но сверх этого ничего ждать не приходилось. Через Бикет она велела сообщить ему, что беременная женщина должна находиться вдали от своего супруга и что он может развлечься со своим гаремом.
В глубине сердца Сети был рад, что дочь Солнца его отвергла, хотя иногда его гордость возмущалась, что ему отказывают в правах супруга. Но к кому он должен был обратиться? К фараону? Нет! Своему высокочтимому отцу, сыну Солнца, Сети хотел демонстрировать лишь свои сильные стороны. Когда ребенок появится, тогда посмотрим.
Зато в своем гареме Сети выступал в качестве Могучего Быка и повелителя. Здесь он чувствовал себя желанным, и ему не надо было ни к кому приспосабливаться. Однако ему не удалось уничтожить воспоминание о свадебной ночи, когда он одно мгновение видел дочь Солнца обнаженной. Напрасно он пытался уговорить себя, что она такая же женщина, как и другие, что у нее грудь, бедра и живот, как у всех, и лоно ее открывается навстречу мужчине, как и у любой рабыни. Это были факты, потому что в конце концов Мерит зачала его ребенка, а значит, она из плоти, а не из золота, как другие боги. Однако он никогда не забывал, что она священный сосуд Амона-Ра, и что его семя освящается в ее лоне и преображается, и что это происходит совсем по-другому, чем в животе рабыни, который, как говорили воины между собой, выталкивает ребенка, когда приходит время.
Мери-Атум, рожденный раньше срока, страстно ожидаемый Нефертари сын, рос без осложнений, однако он был очень нежным ребенком, легко пугался, много кричал и очень редко улыбался. Нефертари чувствовала, что это абсолютно ее ребенок, что он ничего не унаследовал от силы и крепости своего отца. Когда Рамзес склонялся над колыбелькой своего сына, малыш кривил личико и начинал плакать. Как и старшего брата, наследного принца Енама, малыша невозможно было заставить улыбаться, в то время как он с бесстрашным любопытством рассматривал своими большими глазами подраставшего Мерире и веселую десятилетнюю Хенут. Только знакомые лица матери и няньки порождали в нем робкую радость, и иногда это удавалось Мерит, которая была уже на последних сроках беременности и часто посещала мать. Она радовалась предстоящему рождению своего ребенка, потому что он был частью Пиайя и никто не мог отнять его у нее. С тех пор как судьба любимого снова повернулась к хорошему, в Мерит воскресла надежда увидеть его в этом мире. Она приготовилась к долгому ожиданию. Ожиданию, но не бездеятельности. Письмо Пиайю было уже в пути, и когда-нибудь она получит ответ. Пока их тела разъединены, послания будут их узами. Только сейчас Мерит поняла, почему народ видит в умеющих писать высшие существа, волшебников, которые обладают искусством превращать речь людей в нечто вечное. Произнесенное слово бесследно исчезает, и, если нет свидетеля, никто не может доказать, что оно было произнесено. Написанное слово, напротив, длится во времени, является свидетельством на папирусе, дереве, камне или металле. И вот теперь папирус переносит ее слово к любимому, который получит его спустя много дней и сможет отправить ответ в дальнее путешествие на север. Теперь Мерит радовалась, что она еще живет, носит в себе его ребенка, и она твердо верила в то, что однажды снова увидит Пиайя. Итак, она вступила в борьбу, маленькая львица, одержимая гордостью, уверенностью и надеждой.
Изис-Неферт также была готова бороться. С момента возвращения из Фив она снова оказалась в тени другой, Великой Царской Супруги, и она знала теперь, что так и будет, если ей не удастся каким-либо образом выйти из этой тени. Пребывание в родном городе научило ее одному: с тех пор как Тотмес лишен власти, она не могла больше ожидать от клики Амона ничего, кроме благоволения. Благой Бог построил в Фивах для Амона столько, сколько не строил ни один фараон до него, и жрецы почитали царя и уважали его решение не переносить столицу в Фивы. Они придерживались никогда явно не высказываемого, но втайне широко распространенного тезиса, что в Фивах уже есть свой царь — Амон. Таким образом, Изис-Неферт утвердилась во мнении, что нельзя доверять никому, кроме себя самой, и на помощь Амона не стоит особенно полагаться. С тех пор как Енам был назначен наследником трона, а после него место могли занять Мерире и Мери-Атум, для ее сыновей едва ли существовала надежда. Рамозе задобрили высокими должностями. Он был военачальником, вторым жрецом храма Сета, главным казначеем царя и еще много кем. Хамвезе занял место умершего верховного жреца Пта, да и о четырнадцатилетнем Меренпте тоже, конечно, позаботятся. Однако Изис-Неферт этого казалось слишком мало. Теперь она снова была беременна, но, даже если она родит еще дюжину сыновей, до тех пор, пока будут живы Енам, Мерире и Мери-Атум, для ее отпрысков не существует ни малейшей надежды на престолонаследие, да и после возможной смерти по порядку идет эта пропитанная высокомерием шлюха Мерит со своим супругом. Из многих безымянных детей царя уже по меньшей мере десяток отправились в Закатную страну, но Енам и его братья были здоровы, как молодые быки, и тут ничего не поделаешь. Приходилось спокойно ждать и доверять Амону. Этим Изис-Неферт занималась и раньше, и смерть Амани она восприняла тогда, как явный знак царя богов. С этим было покончено, и вторая супруга приняла решение продвигаться со своими сыновьями вперед, но в полной тишине. Если для этого понадобились бы интриги, клевета, коварство, яд и кинжал, она, не задумываясь, применила бы эти средства, однако так, чтобы на нее не пало подозрение. Незамун тоже должен знать, на что решилась его госпожа. Толстый жрец-чтец и управитель двора второй царской супруги тем временем уже похоронил свои честолюбивые мечты. Он стал стар, и забота его была обращена на Вечное Жилище, которое он велел построить себе у Мемфиса и на которое уходил весь его доход. Случилось бы чудо, если бы он теперь достиг какого-либо высокого поста, а в чудеса старый жрец не верил и со всем смирился. Однако Изис-Неферт разбудила в нем новые надежды.
— Мы не можем довольствоваться этим положением! В храме Амона в Пер-Рамзесе еще не назначен верховный жрец. Эта должность очень подходит тебе, мой друг, а не одному из бесчисленных и бесполезных сыновей царя. Почему я не должна предложить ее тебе? Если я ставлю этот вопрос самой себе, то я должна возразить, а что Незамун в последнее время сделал для своей царицы, кроме того, что исполняет свои служебные обязанности? Ответ можешь поискать сам…
Уже почти похороненное честолюбие Незамуна возродилось вновь. Главный жрец Амона! Да, тогда он сможет увеличить свою гробницу в два раза, уставить ее многими прекрасными вещами, нанять жреца, приносящего жертвы, чтобы его ка не страдало от холода, и тогда его жизнь в загробном мире будет прекрасной…
— Что ты ожидаешь от меня, высокочтимая царица?
Изис-Неферт пожала плечами, и змеиная улыбка скользнула по ее суровому лицу.
— Я могла бы сейчас сказать: «Пойди и отрави сыновей Нефертари, только чтобы ни у кого не возникло подозрения». Но это, конечно, чепуха, какой бы заманчивой ни казалась такая мысль. Поэтому я говорю: «Оглядись, войди в их круг, натрави их друг на друга, возбуди беспокойство, распространяй слухи — словом, делай что-нибудь!» Как только ты добьешься успеха, я посодействую тому, чтобы тебя назначили верховным жрецом. Разумеется, при это ты останешься управителем моего двора. А теперь удались, мой друг, и обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты не вынудишь меня к тому, чтобы я поискала для себя другой инструмент.
5
Населенная темнокожими нубийцами страна Куш, презрительно называемая египтянами «жалкий Куш», уже много лет назад прекратила всякое сопротивление могущественному северному соседу. В крупных населенных пунктах были расквартированы египетские войска, которые давно выполняли функции ниу и утихомиривали враждебных друг другу нубийских племенных вождей, когда те ожесточенно сражались в междоусобицах.
Служившие в Куше египетские чиновники и военачальники окружали себя роскошью и представляли взору удивленных нубийцев то, чего могут добиться техника, искусство и религия. Они строили храмы и дворцы, с роскошью и достоинством выступали в качестве представителей Благого Бога и с течением времени добились того, что нубийские племенные вожди стали подражать египетскому образу жизни и пытаться превзойти друг друга в этом. Имевший резиденцию в Нопато египетский правитель Куша был для них непосредственным примером. Его резиденция представляла собой роскошный дворец с громадным залом для аудиенций, и он охотно проводил своих нубийских посетителей по цветущим садам с прудами, заросшими лотосами, и показывал настенную живопись, изображавшую общение фараона с богами.
Наместник велел построить на старой площади в Нопато храм Амона и объявил, что почитавшийся там ранее бог является лишь одним из многих явлений Амона-Ра. Нубийцы приняли это и стали усердными почитателями царя богов. Они посылали своих сыновей на воспитание в Кеми, и эти мальчики возвращались назад уже египетскими юношами. Они едва ли владели своим родным языком, зато самые способные из них умели читать и писать по-египетски. С легкой насмешкой они смотрели на нубийские нравы и обычаи, как и на старых богов, и усердно служили Египту — его экономике и культуре.
Однако не все нубийские племенные вожди выказывали себя такими покорными, находились и те, кто крепко держался старины. Они не посылали
своих сыновей в Кеми и предпочитали приносить жертвы старым, родным богам. Этим они обрекали себя на гибель.
Так произошло и с маленьким племенным вождем вблизи третьего притока Нила. Он развязал ссору с египетским военачальником, оказал бессмысленное сопротивление его отряду, был побежден и взят в плен вместе со своей семьей. У него были тридцать жен и несколько десятков детей. Египтяне даже не взяли на себя труд наказать бунтовщика, а просто отослали его и его способных работать детей на золотые прииски, пользовавшиеся дурной славой. Там, на северо-востоке Куша, они вскоре погибли от убийственной работы под раскаленным солнцем пустыни.
Дочерей вождя египтяне сделали рабынями, среди них была Такка, грудь которой едва начала округляться и для которой по обычаю племени этот год должен был бы стать годом решения. Ее отправили на север, в крепость Кумма, где она стала рабыней на кухне.
Для Такки, которой было десять или одиннадцать лет, весь мир рухнул. Она была дочерью юной наложницы, и судьбой ей было предназначено создать семью со свободным уважаемым мужчиной своего племени, а теперь она выполняла грязную работу на вонючей кухне военной крепости. Ее били, толкали, орали на нее, и она не могла обороняться, когда пьяные солдаты хватали ее между ног или шутливо щипали ее едва начавшую развиваться грудь. С испугом она ждала дня, когда один из них бросит ее на пол и изнасилует в каком-нибудь грязном углу. При этом она еще не была женщиной, у нее не начались еще ежемесячные очищения, и она еще не была обрезана. По старому нубийскому обычаю необрезанная — это только половина женщины, потому что в лоне у нее есть маленький фаллос, и только после того, как он будет удален, ее, как полноценную, примут в женское общество.
И вот наступило то, что выдержать было просто невозможно. Во время праздника в честь Амона наемники получили дополнительную порцию крепкого пива, и пьяные воины выволокли Такку за стены крепости, а потом несколько раз изнасиловали. Ей казалось, что ее разорвали внутри пополам. Она плакала, кричала и тем самым привлекла к себе внимание жены начальника гарнизона, которая как раз выгуливала на природе двух своих собачек. Воинов арестовали и на следующий день жестоко высекли. Такка несколько дней лежала больной, но она была сильной натурой и попыталась с умом улучшить свое положение. Добрая жена начальника гарнизона в конце концов взяла ее к себе служанкой и втайне гордилась тем, что ее рабыней оказалась нубийская принцесса. Такка, которая научилась говорить по-египетски, расписала доброй госпоже свою судьбу в трогательных словах, сделала из своего отца коварно свергнутого вождя племени, который хотел выдать замуж за другого нубийского вождя дочь своей чрезвычайно любимой главной жены — Такку. Жена начальника гарнизона верила в это, потому что хотела верить. С того времени Такка жила в довольстве и покое, и ее можно было видеть шагавшей по двору крепости в накрахмаленном переднике и державшей изящный зонтик от солнца над головой своей госпожи.
Немного позже у Такки случилось ее первое кровотечение, однако это угнетало ее, потому что она все еще была необрезанной и поэтому не могла считать себя настоящей женщиной. Она доверила свои заботы госпоже, но та только улыбнулась:
— Ах, малышка, это еще не причина для печали. В Кеми обрезают только мужчин, и в этом для нас, женщин, есть преимущество, ты скоро поймешь какое. С грубыми скотами, которые тебя изнасиловали, это, конечно же, не имеет ничего общего. Обрезанная женщина во время любовной игры практически ничего не ощущает. То, что у вас отнимают, это и есть сокровище, центр женских ощущений, за который нужно только благодарить богов. У вас отнимают самое лучшее, что есть у женщины, малышка, поверь мне. Ваши нубийские мужчины, кажется, не хотят доставлять женщинам удовольствие, иначе чем можно оправдать то, что вас так ужасно калечат?
Такка была смущена и не знала, что ей отвечать на странную речь госпожи.
— То, что ты говоришь, госпожа, для меня так… так чуждо и непривычно… По нашей вере девушка только тогда становится женщиной, когда у нее отрезают эту вещь, этот маленький фаллос. Его удаляют, как безобразный нарост.
Полноватая и добродушная жена начальника гарнизона звонко рассмеялась:
— И ты поверила в эту ложь? Однажды ты взойдешь на ложе со своим любимым, и тогда ты увидишь, что я права. Благодари Хатор и Баст за то, что ты избежала обрезания. Я настоящая опытная женщина, родила четырех детей и очень часто разыгрываю с моим супругом самую прекраснейшую из всех игр. Я просто приказываю тебе мне поверить!
Такка глубоко поклонилась:
— Что может глупая неопытная рабыня сказать против? Я нисколько не сомневаюсь, что ты говоришь правду, госпожа.
Та довольно кивнула и сказала:
— Надеюсь на это, малышка!
Десять дней спустя пара новых наемников подцепила лихорадку, против которой лекари оказались бессильными. У людей поднималась высокая температура, на третий день появлялись безобразные высыпания на теле, больные просили воды, но не могли ее пить через воспаленное горло и умирали на четвертый или пятый день. Половина гарнизона Куммы стала жертвой этой лихорадки, среди них капитан и его жена. Такка до последнего часа ухаживала за своей госпожой, и ей удалось получить из рук благодарного капитана пропуск на север. Четыре дня спустя умер и он. Этот пропуск не освобождал Такку от рабства и обязанности работать на египтян. Однако она могла теперь сама искать себе место, могла, если захочет, и выйти замуж, однако ее супруг должен был выкупить ее. Такка заставила себя изгнать воспоминания об изнасиловании, как будто его совсем не было. Однако с тех пор она носила под тонким платьем маленький острый кинжал, подарок своей умершей госпожи, и была полна решимости использовать его в случае необходимости.
На первой же ладье Такка покинула зараженную местность и отправилась на север. Она стала теперь красивой девушкой двенадцати лет с крепким стройным телом и узким благородным лицом чистокровной нубийки.
Когда Пиай прибыл к храмам на Юге, торжественного приема ему не устроили. Начальник скульпторов и художников приветствовал его на маленькой пристани и передал Пиайю свои полномочия. Носилки и пара слуг стояли наготове, однако Пиай сказал, что хочет пройтись пешком, и попросил прежнего начальника себя сопровождать.
Сначала он спросил о Хотепе.
— С позволения сказать, господин, молодого мастера люди не любили. Конечно, он многое мог, и то, что он делал, было сделано искусно. Однако потом в голове у него помешалось, он бродил вокруг, как Пта, и ругал людей за мельчайшие ошибки. Когда же пришло время заняться главной работой, он начал пить, слонялся вокруг храмов, как побитая собака. Каждый уступал ему дорогу, и иногда казалось, что мальчишка заразился бешенством. Он скалил зубы, рычал, беспокойно бегал между двумя храмами туда и обратно, пока, наконец, не пришел день, когда он поднялся наверх, сделал удара два молотком и сломался. Он убежал в пустыню и больше не вернулся.
— Вы его искали?
— Конечно, господин. Но ты сам знаешь, как это трудно. Скорее найдешь на улице золотой деб, чем человека в пустыне.
Они подошли к бывшему дому Пиайя, в котором все это время проживал Хотеп.
— Мои инструменты? — спросил Пиай.
Начальник указал на дом:
— Только войди, господин. Все лежит для тебя наготове. Выглядит так, будто ты уезжал на несколько дней.
Пиай действительно отсутствовал недолго, около семи месяцев, но ему казалось, что он состарился на много лет. С волнением рассматривал он свои старые инструменты из драгоценного железа — подарок Благого Бога. Он взял их в руки, погладил тяжелый молоток, испытал остроту резцов с прямыми и круглыми краями. День уже клонился к вечеру, и Пиай не хотел начинать работу, он просто прошелся к двум храмам. На прежде оживленной строительной площадке за последние месяцы стало спокойно. Вырубание пещер для Большого храма было окончено, и большинство рабочих уехали. Теперь здесь работали только десятка два скульпторов и художников со своими помощниками. Палатки рабочих исчезли, вечером не было ни песен, ни смеха, и ни одному жонглеру или сказителю не пришло бы в голову остановиться здесь на какое-то время.
«Все изменилось, — подумал Пиай. — Стук молотков каменотесов и скульпторов скоро должен будет уступить место молитвенному пению жрецов».
Святилище Хатор-Нефертари теперь также отделывали внутри. Пока слуга доставал факел, Пиай осматривал фасад с шестью колоссальными фигурами, каждая из которых была в двадцать локтей высотой. Из своей ниши выступал фараон с двойным венцом на голове и царской бородой. На лице его отражалось не знающее возраста величие, и Пиай про себя похвалил искусную руку исчезнувшего Хотепа, который выполнил здесь главную работу. Долго он смотрел на миловидное лицо Нефертари, голова которой была украшена солнечным диском и коровьими рогами — атрибутами богини Хатор.
Наконец, как будто он приберег самое лучшее напоследок, его взгляд скользнул к правой ноге царицы, где на все времена в камне была запечатлена высокая фигура Мерит-Амон.
— Майт-шерит, — тихо обратился к ней Пиай, — вот мы и стоим снова напротив друг друга — ты в камне, а я человек из плоти и крови. А знаешь, в действительности ты намного красивее, чем твое каменное изваяние. Хотя художники пытались искусным раскрашиванием оживить твой облик, ты в жизни превосходишь все их старания. Огонь твоих гордых темных глаз, нежный изгиб твоего рта, твой высокий, властный лоб, округлый, немного упрямый подбородок — все это я мог только наметить, потому что у моего резца нет магической силы Хнума, который создает людей своей божественной рукой. Ты знаешь, кому я посвятил этот храм. Это наша тайна. Я унесу ее с собой в Закатную страну, и ты сделаешь то же. Если правда, что после смерти душа в виде птицы ба может свободно летать между мирами живых и мертвых, тогда, моя любимая, мы встретимся здесь, спрячемся в ветвях акации и будем вечно смотреть на наш храм. Я смотрю сейчас в твои каменные глаза, все мои мысли направлены к тебе, и ты в далеком Пер-Рамзесе должна будешь почувствовать это. Всю мою любовь вкладываю я в этот поток мыслей…
— Господин, вот факелы!
Беседу Пиайя с любимой прервали, и он вздрогнул, как будто его застали за чем-то недозволенным.
— Да, хорошо… — пробормотал он и взял в руку один из тихо потрескивавших смоляных факелов. Двое слуг пошли вперед и осветили нежно окрашенные рельефы, прогнав тень вечной темноты, в которой они находились.
Тело Нефертари было одето в золото — намек на ее обожествление, как Хатор, которую называли золотой.
— Хорошая работа, — хвалил Пиай то тут, то там прекрасно вырезанные рельефы. Он долго оставался перед картиной, изображавшей коронование Нефертари-Хатор Изидой, на которой Прекраснейшая принималась в высокочтимый круг богов.
Когда он вышел из храма, Ра уже взошел на свою ночную ладью, и светло-желтый песчаник начал приобретать нежно-серый цвет. Пиай отпустил слуг и один пошел к Большому храму, где окруженные помостами возвышались грубо обтесанные четыре сидящие фигуры и ожидали, когда его рука превратит их в Благого Бога. Были намечены двойные венцы, скулы и подбородок, но, в общем, это еще были грубые массы из скал, в которые Пиай должен был вдохнуть душу. Величие задачи не вселило в Пиайя ни малейшего сомнения. Он не медлил, у него не возникало никакой боязни перед работой, которую он начнет завтра с восходом солнца. Он вознес короткую молитву Пта, главному ремесленнику. И это была не просьба о поддержке и помощи в работе, а благодарственная молитва за данную ему творческую силу, которая его, человека, на короткое время приближает к богам и дает ему тайное, никогда не высказываемое чувство, что перед лицом времени он будет равен фараону.
Благой Бог и сын Солнца Рамзес хотел наконец осуществить план, который родился в Фивах на свадьбе Мерит. Во время одного грандиозного свадебного торжества он хотел соединить своих неженатых и незамужних отпрысков из тех, которые имели какое-либо значение, с достойными партнерами.
Как только царь решил это, ему захотелось как можно быстрее сыграть подобную свадьбу, и работа во дворцовом квартале Фив закипела. Так как по желанию фараона все члены семьи должны были принять участие в празднике, оказалось, что даже самый большой тронный зал слишком мал для подобного мероприятия. Кроме жен, детей и внуков царя имелись еще сотни более дальних родственников — всего около шестисот человек.
Царь выбрал партнеров для девяти своих сыновей и одиннадцати дочерей. Во главе юных пар стоял наследник престола Енам, который получил в жены прекрасную, едва успевшую подрасти Сат-Хатор, единокровную сестру, за ним следовали Рамозе и Хамвезе, который воспринимал навязанный ему брак с насмешливым равнодушием. Он, конечно, не презирал женщин, умный и искусный во многом верховный жрец Хамвезе, однако считал, что ему можно было бы обойтись и без главной супруги. Его обязанности не оставляли ему много времени для любви, а если уж очень припекало, под руку быстро подворачивалась какая-либо рабыня. Выше радости секса Хамвезе ставил стремление к знаниям и к деятельности в качестве жреца и архитектора. Как раз тогда он работал до глубокой ночи над планами расширения Серапиума — места погребения умерших быков Аписов. Ранее священные животные погребались под храмом в Мемфисе, но с тех пор немало быков в юном возрасте ушли в Закатную страну, и помещение стало тесновато. Хамвезе планировал продлить его галереи с погребальными камерами для следующих быков и проходом между ними, по которому можно будет удобно проносить громадные саркофаги.
Как главный жрец Пта, Хамвезе был господином над Большим храмом в Мемфисе с его жрецами, чиновниками и рабами, с его громадными сокровищами — золотом, серебром, скотом и земельными угодьями. Один из его титулов — Верховный руководитель искусств — предполагал отнюдь не почетную должность. В обязанности Хамвезе входил полный надзор за царскими мастерскими, где работали скульпторы, каменотесы, художники, литейщики, резчики по дереву и все те, кто под покровительством бога Пта занимался художественным ремеслом. Надо ли удивляться, что Хамвезе не склонялся к мысли о супруге. Однако ему, как и другим сыновьям, никогда не приходило в голову сопротивляться воле отца.
Монту, предводителя воинов ниу, пришлось долго искать, но фараон подчеркнул, что настоятельно желает, чтобы он участвовал в семейном празднике. Как один из малозначительных отпрысков царя, Монту служил в ниу, и никому не пришло бы в голову обращаться к нему как к принцу, хотя все знали о его происхождении. Он сам, казалось, не придавал особого значения родству с фараоном и, хотя считал себя египтянином, чувствовал связь с народом своей матери, отец которой был племенным вождем шазу. О нем Монту не смог выяснить почти ничего, однако он чувствовал в себе беспокойную кровь сыновей пустыни и охотнее погиб бы в схватке, чем зачах за стенами города или дворца.
Когда посланники царя нашли его, Монту не выказал никакой радости по поводу приглашения на большой семейный праздник.
— До сих пор у меня не было впечатления, что в этой семье я желанен, — в его узких глазах блеснула насмешка.
— Ты же не хочешь противиться приказу Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч? — возмутился посланник царя.
Но Монту дерзко ухмыльнулся:
— Разве я это сказал? Между прочим, ты первый, назвавший меня принцем. Не хочет ли фараон, мой высокочтимый и совершенно незнакомый мне отец, повысить в должности маленького воина ниу?
— Об этом я ничего не знаю, — отрезал посланный, — но у меня есть поручение пригласить ко двору в Пер-Рамзес принца Монту. Все остальное ты узнаешь там.
В резиденции Монту тут же принял главный советник Парахотеп.
— Мне сообщили, что ты без особой радости последовал царскому приглашению. Я понимаю это, принц Монту, и должен признать, что мы не слишком баловали тебя своим вниманием. Однако не думай, что тебя забыли! Твоя репутация смелого предводителя воинов ниу достигла ушей Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, и, насколько я знаю, у Благого Бога для тебя почетное и важное задание. Она сам сообщит тебе об этом.
На следующий день появился придворный золотых дел мастер и снял с головы Монту мерку. Теперь он носил узкий золотой обруч с уреем, и все — от самого мелкого слуги до высшего чиновника — оказывали ему почести как члену царской семьи. Внешне он принимал их равнодушно, но постепенно в нем произошли перемены: Монту начал понимать, что он отпрыск Благого Бога и повелителя Обеих Стран, и это поднимало его, хотел он этого или не хотел, над всеми остальными людьми.
В день свадебного торжества Монту находился в сиятельном кругу принцев и принцесс. Сначала его встретили удивленные взгляды, потому что никто не знал, кто он такой, но вскоре выяснилось, что это Монту, предводитель воинов ниу, возвышенный фараоном сын, которому предстоит особая миссия.
Когда все собрались в громадном шатре, звуки фанфар возвестили о появлении Благого Бога, который вступил в их круг, сопровождаемый обеими супругами. Так как это был семейный праздник, Рамзес отказался от полного царского облачения. На обеих супругах были роскошные, украшенные золотом и драгоценными камнями парики, но каждая избегала смотреть на другую, словно та была пустое место. Как всегда Рамзес не замечал чувств своих жен. Он считал эту массовую свадьбу блестящим изобретением, она соответствовала его склонности к гигантскому, никогда до того не происходившему. Итак, Благой Бог был в превосходном настроении и с улыбкой оглядывал присутствующих.
В передней части палатки для него был поставлен трон. Рамзес занял место в искусно вырезанном из дерева кресле. Рядом с ним сели обе царицы, перед ним — только что поженившаяся пара, позади — принцы и принцессы.
На этом торжественном празднике принцесса Мерит присутствовала вместе со своим супругом Сети. Три месяца назад она родила девочку, свое возлюбленное сокровище.
Приветливый, как никогда, фараон общался со своими родственниками, из которых он близко знал немногих. Во время перемены блюд он вспомнил Монту и кивком подозвал главного советника.
— Парахотеп, мой дорогой, ты нашел Монту?
— Само собой разумеется, Богоподобный. Это было непросто, но сейчас он сидит вон там, посреди принцев. — Визирь указал в определенном направлении.
Рамзес зевнул:
— У меня больше нет желания общаться с многочисленными родственниками, у которых рот не закрывается. Вели позвать его.
Монту с загоревшим под палящим солнцем и обветренным лицом появился перед отцом, небрежно поклонился и без робости посмотрел прямо в глаза фараону, с некоторым налетом дерзости, как показалось Парахотепу. Рамзес, однако, ничего не заметил, потому что он и представить себе не мог, что какой-либо человек может без благоговения взглянуть на Благого Бога.
То, что главный советник посчитал дерзостью, было, конечно, прикрытием подозрительной напряженности, которая свойственна большинству жителей пустыни и, конечно воинам ниу.
— Садись!
Монту опустился на скамейку, в то время как Рамзес про себя удивлялся, что у него родился такой сын. Неужели он, сын Солнца, был участником создания этого коренастого существа с чуть искривленными ногами наездника, этого лица с ястребиным носом и низким лбом? Конечному него имелась целая куча детей, которые едва ли на него походили. Вероятно, Монту пошел в свою мать, необузданную дочь пустыни.
— Мне доложили о смелости и находчивости, которые отличают тебя как предводителя воинов ниу. Я хотел бы, чтобы у меня было больше подобных сыновей…
Рамзес с любопытством посмотрел на этого странного сына, желая ободрить его и подвигнуть к какому-либо высказыванию. Монту подумал немного и сказал:
— Может быть, эти доклады немного преувеличивают мои способности. Однако ниу, не обладающий определенной долей мужества и хитрости, вряд ли сможет долго прожить. Разбойники в пустыне и шазу в большинстве случаев также обладают подобными свойствами. Здесь уж кто кого…
Рамзес улыбнулся:
— Хорошо сказано, сын мой. Ты сам доказательство того, что в живых остается более смелый и хитрый. Сколько человек ты убил?
Монту снова подумал.
— Собственной рукой, в поединке, вероятно, десятка два, может, больше. Чья стрела принесла смерть разбойнику, часто остается неизвестным. Многие раненые позже умирают, других мертвыми забирают их же товарищи… Вероятно, можно добавить еще десятка полтора.
— Хорошо, оставим это. Я велел позвать тебя сюда, потому что подготавливаю кое-что, что нельзя предпринять без смелых и ловких мужчин. Ты слышал когда-либо об острове Кефтиу?
— Нет, — ответил Монту. — А где он?
— Далеко на севере Зеленого моря. Это очень большой остров, целое государство. Несколько десятилетий назад оттуда приходили товары и дань, но внезапно связь с ним была прервана. Речь об очень важных для нас товарах: меди, бронзе, дереве, специях, древесной смоле и некотором другом, что нам очень нужно. Я хотел бы послать людей за море, чтобы выяснить, что там случилось. Ты должен будешь возглавить это посольство в ранге царского посла. Мы велим разыскать среди наших наемников тех, кто знает тамошний язык и чьи предки происходили с Кефтиу. Я хотел бы, чтобы торговля с этим островным царством была снова восстановлена.
Последнее прозвучало как приказ и не допускало возражений.
— Сколько длится путешествие по морю?
— В зависимости от ветров десять или двадцать дней.
— Но я никогда не был в море, Богоподобный. Я за всю свою жизнь еще не разу не плавал на корабле, за исключением парома через Нил. Я человек пустыни и с трудом верю в то, что смогу быть полезен тебе на воде.
— Ты можешь ничего не понимать в морских путешествиях, — нетерпеливо отмахнулся Рамзес, — для этого есть другие. Мне нужна твоя смелость, принц Монту, твоя сообразительность, твоя хитрость. Я не могу послать туда первого встречного. Может быть, на Кефтиу есть правитель, который почувствует себя польщенным, если послом выступит сын фараона. Мы кое-что хотим от этих людей, поэтому мы должны проявить к ним уважение. Может быть, я отправлю туда войска, но речь об этом пойдет только тогда, когда мы будем знать обстановку на острове. Итак?
С одной стороны, Монту был польщен, что будет выступать в качестве принца и посланника, с другой — в этом плане было столько чужого и незнакомого, что он оробел, не от страха, а от врожденной и развившейся с годами осторожности. Человек пустыни должен взвешивать каждый свой шаг и не может сломя голову кидаться навстречу опасности, размеры которой он не знает.
Любой другой тотчас согласился бы, потому что желанию фараона не противоречат, однако Монту с сомнением поднял руки.
— Как предводитель отряда ниу, я привык вести за собой двенадцать-пятнадцать человек, при этом речь чаще всего идет об охоте на разбойников, беглых заключенных и непокорных кочевников. Сейчас же я должен выступать в непривычной для себя роли принца и посланника, должен буду вести переговоры с царем и высшими сановниками… Богоподобный, я боюсь, ты переоцениваешь меня.
— И в войсках были командующие, которые дослуживались до высших военачальников и в конце жизни сидели на троне Гора, как Хоремхеб, — подбросил мысль для обдумывания Парахотеп.
Рамзес громко рассмеялся:
— Вот-вот! Видишь, что иногда может получиться из воина. Миссия твоя проста, никто не требует от тебя способностей военачальника или фараона. Ты принц царского дома и в конце концов посланник, передающий лишь слова своего царя и отца. Это действительно просто, сын мой.
Монту не был в этом так убежден, однако ему хватило ума чтобы не говорить прямо «нет».
— Распоряжайся мною, Богоподобный.
Ответ удовлетворил Благого Бога, и с Монту милостиво распростились.
Тем временем гости вновь начали пировать, и слуги вносили одно за другим новые блюда с жареными барашками, говядиной, гусями, голубями, поросятами на вертеле и большим количеством изысканных нильских рыб. Быстро опустошались кувшины с вином, пивом и молоком. Разговоры оживились, и Рамзес рассеянно поглядывал на своих многочисленных родственников. Мыслями он был в далеком Кефтиу, где, может быть, еще раз выступит в роли удачливого полководца. Уже много лет Кеми была как на севере, так и на юге окружена только миролюбивыми данниками, и о битве при Кадеше, ставшей уже почти легендой, рассказывали недорослям учителя.
Рамзес перешагнул сорокалетний рубеж, но чувствовал себя таким здоровым и моложавым, как будто был в два раза моложе. Он никогда не болел, и его глаза при стрельбе из лука различали самую дальнюю цель, все зубы у него были на месте, а волосы под его париком оставались густыми и крепкими, как у юноши.
Гори, цирюльник Царя, время от времени хвалил удивительную моложавость своего господина:
— Похоже, боги остановили время в годы твоей молодости. Большая часть твоих сиятельных предшественников отправлялась в Страну заката в сорок лет или раньше, но я, который знает каждую складку твоего божественного тела, мог бы со спокойной совестью объявить твоему народу: ваш царь жив, здрав и могуч и спустя еще много лет будет праздновать Зед. Не я один осмелюсь прорицать.
Рамзес должен был об этом подумать, глядя на евшую, пившую и болтающую толпу перед собой. Сколькие из них будут живы во время праздника Зед, то есть через шесть лет? Он поднял золотой бокал и повернулся к своим женам, которые сидели рядом с ним, причем каждая делала вид, что другой не существует.
— Нефертари, любимая сестра, моя Прекраснейшая, я пью за наш будущий праздник Зед, за наших детей, — он слегка повернулся к Изис-Неферт, — а также за тебя, за молодоженов, за тетей и дядей, кузенов и кузин, за Кеми, за прекрасную жизнь…
«В Закатной стране» — хотел сказать царь, но проглотил это слово, потому что постепенно начал верить в свое бессмертие.
Изис-Неферт недавно родила своего последнего ребенка, но это был не сын, на которого она так страстно надеялась. Маленькую Бент-Анта царь назвал по имени сирийской богини войны, которую в Кеми знали лишь немногие, но которой в Пер-Рамзесе был воздвигнут храм. Он хотел склонить это чужое божество на свою сторону и приказал изобразить себя на стене храма рука об руку с богиней. Почитание им Сета, бога пустыни и чужеземных народов, соответствовало его стремлению иметь себе сторонника за пределами Кеми.
Тем временем над Пер-Рамзесом опустилась ночь, и ряды гостей начали пустеть. Обе царицы и большая часть других женщин уже удалились. Первой ушла Мерит, которая не считала обязательным дольше торчать рядом со своим супругом, военачальником Сети. Рамзес, который уже давно хотел удалиться, задержался среди старых друзей. По кругу ходили кувшины с вином, звучали застольные и любовные песни.
Внезапно царь встал и, качнувшись, схватился за спинку стула.
— Мне пришло в голову нечто грандиозное, друзья мои, — проговорил он заплетающимся языком и указал на терпеливо ожидавших молодоженов.
— Мы проводим новобрачных к их постелям с музыкой и песнями.
Царская выдумка вызвала громкий смех.
Мена закричал:
— Музыканты! Вы выходите вперед, потом пойдут молодожены, потом — Благой Бог и другие, а мы споем вам самые прекрасные любовные песни.
Праздничный звон систра сопровождала нежная музыка арф и флейт, но любовные песни, которые во все горло распевали царь и его друзья заглушали все:
Приходи, мы празднуем торжественный день,
И ночь, и еще следующий день
Веселыми играми во славу Баст.
Я напою тебя допьяна, любимая,
И лягу с тобой рядом, как Могучий Бык,
И твои ноги раздвинутся,
Как раскрывается лотос под поцелуем утреннего солнца…
— Сначала наследный принц! — приказал Рамзес, и Енама с его уставшей, немного испуганной Сат-Хатор проводили в спальню первыми.
— Будьте плодородными, как Нил в Ахете! — пожелал царь юной паре и, смеясь, повел группу дальше.
Рамзес проводил еще две пары до их брачных покоев, затем у него возникло сильное желание посетить собственный гарем.
— Я должен еще поработать, — ухмыляясь, простился он с друзьями и, шатаясь и напевая, зашагал к Дому женщин. Собственно говоря, он бы охотно пошел к Нефертари, но она не терпела, когда он приходил в ее постель пьяным. Однажды он сделал это и должен был целый день выносить ее молчаливое неодобрение.
— Нет, моя Прекраснейшая, — пробормотал он себе под нос, — твой пьяный супруг оставит тебя сегодня ночью в покое…
Когда прибежали стражи гарема и бросились ниц перед Благим Богом, Рамзес сказал:
— Приведите новеньких и еще парочку музыкантш. Они должны танцевать, и я сделаю свой выбор.
Над проснувшимся гаремом пронесся вихрь: Благой Бог появился в своем блеске! Причесывайтесь, красьтесь, натирайтесь и будьте готовы!
6
Два часа спустя после восхода солнца маленькая ладья подплыла к причалу у обоих храмов. Такка только что проснулась и грела одеревеневшие во время ночной прохлады руки и ноги в лучах утреннего солнца.
— Мы выгрузим овощи и фрукты и возьмем двух гребцов, — сказал кормчий Такке. — Если есть желание, можешь осмотреть оба храма.
То, что стареющие мужчины склонны к тому, чтобы обдуривать молодых девушек, Такка давно знала, а поскольку вокруг виднелись одни скалы, она спросила:
— Ты хочешь меня провести? Где здесь могут находиться эти храмы?
Кормчий рассмеялся:
— На этот раз я говорю серьезно. Тебе нужно пройти только пару шагов вон до той скалы, и прямо за ней ты найдешь Большой храм.
Такка недоверчиво рассмеялась, но спрыгнула на берег, чтобы немного разогреться. Она зашла за скалу, и у нее перехватило дыхание: нежные лучи утреннего Ра освещали громадные головы четырех колоссов, которые до шеи были закрыты помостами.
У южной головы располагался помост из бамбука, и там, наверху, стоял крошечный человек, стучавший по губам великана. Такка расслышала звонкие мелодичные звуки. Клинк! Клинк! Клинк! И она спросила себя, что может сделать этот человечек с этой каменной массой. Это было все равно что царапать иголкой по стене крепости.
Проходивший мимо ремесленник крикнул Такке:
— Здесь еще нечего смотреть, пройди пару шагов дальше, и ты найдешь уже готовый храм!
Но она все не могла оторвать взгляда от четырех громадных голов. Тот, который стоял на помосте, уже почти доделал лицо, нос и глаза, а подбородок и рот прикрывали помост и тело скульптора.
Как раз в тот момент, когда Такка с любопытством хотела повернуться к входу, позади нее раздался легкий звон. Она обернулась и увидела металлический предмет в руку длиной, лежавший в песке. Мужчина сверху что-то крикнул, Такка не поняла что, однако быстро подняла предмет, увидела узкую веревочную лестницу, спускавшуюся с помоста и начала карабкаться по ней вверх.
Юная, быстроногая, она быстро добралась до самого верха. На нее вопрошающе и удивленно взглянуло покрытое желтой пылью лицо. Взгляд Такки тотчас оказался прикован к большим серым глазам. Она не знала, что сказать, поэтому молча протянула мастеру инструмент.
— Резец выпал у меня из руки. Я благодарю тебя, девушка, ты взобралась сюда быстро, как газель.
Такка не обратила особого внимания на слова мужчины, однако его немного хриплый дружелюбный голос понравился ей, и ей захотелось, чтобы он еще немного поговорил с ней.
Он сделал приглашающий жест рукой и сказал:
— Хочешь подойти и посмотреть мою работу? Ты легкая, как перышко, мой помост выдержит.
Он протянул ей руку. Такка помедлила одно мгновение, затем схватила ее и позволила втащить себя на узкую качавшуюся платформу.
— Помост немного шатается, но выдержит, — успокоил ее мастер и спросил: — Ты не немая? Откуда ты? Ты работаешь здесь?
Такка покачала головой:
— Я была служанкой одной высокопоставленной дамы в крепости Кумма. Она умерла. Многие умерли, но ее муж, начальник гарнизона, успел дать мне пропуск, поэтому я здесь. Внизу меня ждет ладья.
Мужчина слегка вытер лицо и дружелюбно улыбнулся ей. Такка робко улыбнулась в ответ. Он, кажется, не все понял.
— Какой пропуск дал тебе начальник гарнизона, и почему ладья ждет тебя?
Такка поверила этому высокому стройному мужчине, очень похожему на чужеземца. Она достала из мешочка, который носила на поясе, кусочек папируса и протянула ему.
— Итак, ты принадлежишь нашему фараону, да будет он жив, здрав и могуч, и должна теперь найти себе новую работу. Что ты намереваешься сделать, маленькая Такка? Куда ты хочешь?
— Я должна, как сказал начальник гарнизона, поискать себе место в Суенете. Там есть остров Джеб, на нем большой военный гарнизон, и в нем всегда кто-либо требуется. Это мне сказал мой прежний хозяин, а пару дней спустя он умер. Там многие умерли.
— Твои родители уже были рабами, или твой отец продал тебя?
Такка гневно покачала головой:
— Он никогда бы этого не сделал! Он поссорился с египтянами, и его вместе с сыновьями осудили на каторжные работы на золотых приисках. Женщины и девушки должны были стать рабынями у египтян. Меня разлучили с мамой и сестрами, я не знаю, где они и живы ли еще. Меня отослали в крепость Кумма, а там многие умерли от странного поветрия.
Такка рассказывала историю гибели своей семьи так спокойно, как будто речь шла о чужих людях. Она принимала свою судьбу такой, какой она была, потому что знала, что не в ее власти что-либо изменить. Теперь она отвечала только за саму себя, и, стоя в самом низу социальной лестницы, пыталась, насколько это возможно для двенадцатилетней рабыни, подняться хоть чуть-чуть повыше.
Такка почувствовала, что этот мужчина что-то должен сказать и что он благоволит ей. Он не был похож на тех, которые затаскивают беспомощных девушек в грязные углы и насилуют их. Этот человек направлял всю свою силу на камень, и то, что он делал, казалось Такке волшебством. Почему рот не кривой? Почему глаза громадной головы находятся на одной линии, а нос прямой, как бамбуковая палка? Такка не осмеливалась спросить об этом, да она едва ли могла найти подходящие слова.
— Моя работа, кажется, понравилась тебе?
Она молча кивнула.
— Я не знала, что… человек может вообще делать подобное.
Мужчина усмехнулся и осторожно поднялся с маленькой скамейки, на которой лежал его инструмент. Такка только сейчас вполне оценила, какой этот мужчина высокий.
— Немногие могут такое, это верно, а те, которые могут, должны экономно расходовать время на отдых. Мы мило поболтали, маленькая нубийка, но сейчас я возвращаюсь к своей работе, а ты идешь на свою ладью.
Такка посмотрела прямо в серые глаза, не отрываясь. Она теперь осознанно разыгрывала маленькую беспомощную девочку и улыбнулась с легкой печалью:
— А не могла бы я остаться здесь? Тут бы я также находилась на службе фараона и не должна была бы отправляться в большой город, которого я боюсь. Я могу стирать, готовить, шить, ухаживать за садом…
— Этого довольно! — прервал ее высокий мужчина, но лицо его оставалось дружелюбным и вселяло в Такку надежду. — Хорошо, пойди в управление строительством и скажи, что Пиай послал тебя, он хотел бы, чтобы тебе дали работу. Запомни мое имя — Пиай.
Такка благодарно улыбнулась ему:
— Твое имя уже в моем сердце, мастер Пиай. Ты будешь доволен моей работой!
Пиай указал на голову колосса:
— Это он должен быть нами доволен, Такка, потому что мы оба находимся на службе Богоподобного Рамзеса. И, поскольку это так, мы попытаемся приложить все наши усилия.
Пиай взялся за резец и приложил его к губам его величества. А Такка ловко, как кошка, спустилась вниз и побежала к ладье.
— Не торопись, время еще терпит! — крикнул ей кормчий.
— Я не еду дальше, я остаюсь здесь, — сказала Такка гордо, как будто одержала победу.
С тех пор как Пиай получил письмо Мерит, он чувствовал себя здесь как в тюрьме. Хотя он знал теперь, что означает каторжная работа, и благодарил богов за то, что может находиться здесь, это письмо смутило его душу, и никогда еще он так горько не ощущал свою беспомощность и неспособность что-либо изменить, как сейчас. Он ничего не мог, кроме как ежедневно заново начинать свой изматывающий дневной труд, и иногда он желал, чтобы Ра отправился в свою ночную поездку на несколько часов позже, потому что тяжелая работа казалась ему единственным средством против мучивших его мыслей. Пиай уже давно знал письмо наизусть и что только ни делал, чтобы найти двойной смысл, но ничего не находил: не в манере Мерит было что-либо скрывать или приукрашивать.
Пиай каждый день брал письмо и читал заново — один раз медленно, потом снова быстро, как будто из-за этого оно получало новый смысл. Мерит писала:
Мой любимый, мы только что прибыли в Пер-Рамзес. Я уговорила Енама устроить нашу переписку через его службу. В будущем печать наследного принца будет стоять на каждом моем послании. Ты должен делать следующее: составляй ничего не значащие доклады о работе в храмах и направляй их в управление двором Енама. К докладу ты приложи запечатанное послание с надписью: «Не для наследного принца, лично!» Чиновник передаст его Енаму нераспечатанным. Таким образом до меня дойдет то, что хочет сказать мне мой любимый.
Теперь послушай, что между тем случилось с твоей женой. Еще в Фивах его величество счел нужным выдать меня замуж за принца Сети. Этого придурка, который годится быть только воякой и никем больше, мой отец с недавних пор ценит, хотя он и вышел из самого мрачного угла гарема. Я должна была стать его женой, и я сделала это ради тебя, любимый. Однако это ничего не изменило в союзе, который связывает наши с тобой сердца, и никто не может отнять у нас то, что принадлежит только нам обоим, — ребенка, которого я рожу в ближайшие десять дней, да смилуется надо мной богиня Тёрис. Это часть тебя, любимый, залог, который каждый час будет напоминать мне о тебе. В моих снах ты часто рядом со мной, я смотрю в твои серые глаза, глажу твою спину, а когда просыпаюсь, оказывается, я обнимаю подушку. Можно было бы смеяться, но мне больше хочется плакать из-за того, что это не происходит в действительности. Ты хорошо знаешь свою гордую майт-шерит. Мое следующее письмо сообщит тебе уже о нашем ребенке, который сейчас толкается в моем животе. Я хотела бы, чтобы ты мог приложить свое ухо к моему животу, потому что то, что там двигается и хочет выйти на свет, принадлежит тебе, как и мне. Клянусь тебе именем Баст, богини любящих, однажды ты будешь держать в руках своего ребенка, а я буду снова в твоих объятиях. Не будем думать о том, как далеко еще этот день, но, вероятно, он все-таки ближе, чем мы думаем.
Да защитит тебя Пта, любимый мой скульптор, который после многих произведений в камне, бронзе и дереве создал во мне существо из плоти и крови. Живи, будь в безопасности и здоров.
Разве мог Пиай ожидать большего после того, что случилось? Он жил, снова занимался своей старой работой, Мерит жила и была здорова, его ребенок вскоре должен родиться. А ведь все могло быть намного хуже. Однако Пиай, как и все люди, больше думал об упущенном лучшем. Почему Мерит написала о своем браке: «Я сделала это ради тебя»? Хотя она считает Сети дурнем, он ведь мужчина, и, если фараон дал ему в жены свою перворожденную дочь, он захочет забраться к ней в постель. А если он сделал это один раз, то он захочет этого снова. Пиай впал в отчаяние. Он увидел грубые руки вояки, «придурка», как он теперь его называл, лапающие стройное тело Мерит. Он слышал, как тот хрюкает от удовольствия, и в такие моменты резец выпадал у него из рук. При мысли о последнем подобном случае Пиай улыбнулся. Никогда еще он не получал свой инструмент обратно так быстро. Как будто маленькая нубийка подхватила резец в воздухе, чтобы быстренько принести его хозяину.
Эта изящная темнокожая девушка была внешне полной противоположностью высокой светлокожей Мерит, однако каким-то таинственным образом напоминала ему любимую. Пиай не мог объяснить почему, но уже во время их беседы на помосте у него возникло это ощущение. Может быть, причина тому — свободный, бесстрашный взгляд Такки, может быть, ее оживленная манера говорить или определенные движения. Он так и не разобрался что, но внезапно он твердо решил разыскать ее.
Во время обеденного перерыва он пошел в управление строительством и спросил начальника рабочих, нашел ли тот занятие для Такки. С тех пор как Пиай вернулся из каменоломен, люди встречали его с чувством робости или осторожности. Они были вежливы, но избегали мастера, словно не знали, что он у царя в милости, или же его помиловали только из-за смерти Хотепа. Прибытие запечатанного послания от наследного принца вселило в людей еще большую неуверенность, и теперь они просто не знали, как себя вести. Пиай выполнял свою работу и не давал объяснений. Он даже наслаждался своим положением и смущением остальных.
Преувеличенно вежливо начальник предложил ему сесть. Пиай отказался, он хотел лишь навести краткие справки о Такке.
— Ты рекомендовал ее мне, почтенный мастер, и она работает пока на кухне…
— У меня были причины ее рекомендовать, — произнес Пиай резко, — я недоволен своим слугой. Вместо того чтобы поливать сад и убирать комнаты, он бездельничает в тени, а блюда из общей кухни, когда он ставит их мне на стол, большей частью холодные. Ты можешь использовать мужчину где-либо еще. В будущем за моим домом должна следить Такка. В крепости Кумма она вела хозяйство в семье начальника гарнизона, и мне кажется, что она очень мне подходит.
Начальник подавил неприличную ухмылку: с этим Пиайем следует обходиться осторожно.
— Само собой разумеется, мастер Пиай, сегодня же Такка начнет служить у тебя.
Пиай вернулся в свой дом, чтобы, как и каждый, провести жаркие обеденные часы в тени. Однако он не нашел покоя, потому что на столе уже несколько дней лежало неоконченное письмо к Мерит. Если он не окончит его послезавтра, ему придется ждать еще восемь дней, пока отправится следующая ладья с царской почтой, а он мог доверить свое письмо только такому кораблю.
В конверте было одно письмо, которое выглядело, как грузовое судно в притоке Нила, вынужденное остановиться перед заграждениями
из камней. Для Пиайя также имелось заграждение, которое было никак не преодолеть, — замужество Мерит. Что бы он ни писал по этому поводу, все казалось ему фальшивым. Должен ли он пожелать ей счастья в навязанном ей браке? Имеет ли он право упрекать ее или должен спросить, почему она это сделала «ради него»? Если он обойдет этот пункт, то Мерит, ненавидевшая всякую фальшь, тут же почувствует, что он что-то скрывает.
Вздыхая, Пиай взял папирус и сел в глубокое удобное кресло на тенистой террасе. Когда слуга спросил его, что он желает, мастер прогнал его, при этом забыв, что уволил нерадивого. В десятый или двенадцатый раз Пиай прочел то, что уже написал:
Радость, которую я испытал, получив твое письмо, так оглушила меня, что пару часов я не мог держать в руках резец. Мы живем, мы здоровы, значит, есть надежда на встречу когда-либо, и эта мысль придает мне силы и позволяет мне есть, пить, спать и работать. Если Сехмет, да будет благословен божественный глаз Ра, не пошлет мне никакой болезни и Пта не даст онеметь моей руке, я закончу работу за двенадцать-четырнадцать месяцев. Просто представь себе, любимая сестра, что твой муж отправился на войну и возвратится к тебе через год. Когда это письмо доберется до тебя, наш ребенок, да будет он жив и здрав, уже появится на свет. Если ты будешь гладить его или целовать, то это будет моя плоть, это меня ты будешь гладить и целовать. Как я завидую тебе, моя любимая, потому что мне остается только надежда на завтра и воспоминание о вчерашнем дне, которое я храню, как сокровище. Знает ли твой супруг, что это наш ребенок, или же он считает его своим?
На этом месте Пиай запнулся. Если он оставит это последнее предложение и Мерит ответит, что Сети считает ребенка своим, это будет означать, что она с ним спала. Этого ответа Пиай боялся, хотя разум говорил ему, что иначе быть не может.
«Она стиснула зубы, когда придурок проникал в ее лоно», — мрачно подумал Пиай, и его охватил жар возмущения. Он вытер пот со лба и рявкнул слуге:
— Мой прибор для письма и кувшин пива, да побыстрее!
Он снова погрузился в бесплодное отчаяние. Он знал, она не принадлежит ему, дочь фараона. Одно то, что он желает ее, уже преступление против Маат. Однако он завоевал не только тело, но и сердце дочери Солнца, и ее письмо — доказательство того, что он все еще обладает им. Если тело Мерит принадлежит сейчас Сети, это всего лишь безжизненная оболочка, потому что Пиай обладает ее сердцем безоговорочно, навсегда, и сам фараон ничего не может изменить.
Пиай почувствовал, как его мысли вертятся по кругу, и торопливо выпил несколько бокалов пенящегося пива. Внезапно он почувствовал, что к нему возвращается спокойствие, которого он не ощущал уже несколько дней. Он взял из письменного прибора кусочек пемзы и старательно счистил последнее предложение. Вместо этого он написал:
Я не знаю твоего супруга, но полагаю, что этот брак не принесет ему большой радости.
Это предложение косвенно указывало на то, что Пиай знает ее проблему, но доверяет любимой справиться с ней самой. Теперь ему осталось немногое. Он добавил еще пару строчек и запечатал послание. Затем он составил сухой доклад о работах в храме. Большую часть его составляли длинные хвалебные предложения, а также формула благословения царя и наследного принца. Пиай намеренно писал большими и неловкими знаками и с удовольствием заметил, что доклад занял целую страницу.
Пока он сворачивал и запечатывал оба послания, в доме разразилась громкая перебранка. На террасу вошел слуга и возмущенно сказал:
— Господин, тут девушка, она утверждает, что с сегодняшнего дня она…
Из-за спины недотепы вынырнула Такка, глаза у нее блестели от гнева, и вся ее маленькая фигурка излучала боевой дух и возмущение.
— Ведь это правда, мастер Пиай, что с сегодняшнего дня я могу вести твое хозяйство? Этот дурак утверждает…
— Хорошо, Такка, успокойся. Слуга об этом не знал. Занятый с бумагами, я забыл ему сказать.
Он повернулся к застывшему перед ним слуге:
— Ты для меня слишком ленив, ты пренебрегаешь домом и садом. Пойди в управление и поищи там себе другую работу.
Такка с триумфом поглядела на бывшего слугу, когда он уходил с опущенной головой.
— С сегодняшнего дня здесь все будет выглядеть по-другому. Я обещаю тебе, мастер Пиай. Ты должен чувствовать себя уютно, когда будешь возвращаться домой.
«Домой? — подумал Пиай. — А где мой дом? В Мемфисе? В Пер-Рамзесе? В Фивах? Здесь, или в Абидосе, где я родился? Я, похоже, буду дома только тогда, когда въеду в свое Вечное Жилище».
Эта мысль не показалась ему горькой.
7
После семейного праздника, закончившегося всеобщей попойкой, принц Сети не последовал за своей супругой, когда она удалилась. Не в его манере было напиваться, но этой ночью он опустошал кубок за кубком. Он пел и орал вместе с другими и не отходил он наследного принца Енама, к приближенным которого принадлежал теперь как супруг Мерит. Более маленький круг собрался около старшего сына Изис-Неферт, Рамозе. У того было много должностей, но мало власти. До тех пор, пока фараон находился в зале, обе враждебные партии избегали любого спора, а когда Рамзес проводил новобрачных до их покоев, все настолько напились, что просто забыли о вражде.
Принц Сети, однако, не забыл, на ком женат, и, поскольку вино нередко служит лучшим зельем правды, он с пьяных глаз внезапно осознал свое постыдное для военачальника и принца царского дома, совершенно неприличное положение.
С каждой парой, которую с пением и музыкой провожали в брачные покои, горькая правда в груди Сети вырастала и грузом давила его ба. Он больше не мог выносить этого груза, покинул шумную группу и, как бешеный, побежал по дворцовому кварталу. Он спотыкался, падал, толкал каких-то людей и, наконец, задыхаясь, пьяный, разгневанный и похотливый, как мартовский кот, остановился перед дворцом Мерит, который был также и его дворцом или должен был быть его.
Он хотел получить, пусть силой, то, в чем ни одна жена не может отказывать своему мужу, даже если она дочь Благого Бога.
Дворцовые стражники с испугом очнулись от дремоты и полагающимся образом приветствовали его, но перед покоями Мерит ему преградила путь решительная Бикет.
Вечно эта баба вмешивается, когда он хочет пройти к своей супруге, но теперь он положит этому конец раз и навсегда. Он врезал ей сжатым кулаком в висок, и Соколиха рухнула на пороге. Сети отодвинул ее ногой, открыл легкую дверь и, сделав несколько шагов, остановился перед постелью своей супруги. Мерит проснулась от шума и приподнялась. Полная луна освещала ее обнаженную верхнюю часть тела своим ярким мягким светом. Она выглядела, как статуэтка из алебастра.
— Что ты здесь хочешь? Где Бикет?
— Что я здесь хочу?! — взревел Сети возмущенно, едва ворочая языком. — Я собираюсь получить то, что мне давно полагается, то, что все женщины в Кеми охотно и добровольно дают своим мужьям, за одним исключением. Ах, ах, высокорожденная принцесса Мерит слишком хороша для этого. Ты не больна и не беременна. — Одним движением он сорвал покрывало с ее тела. — И, как я вижу, дни очищения не мешают тебе выполнить твой долг. Ты моя жена!
Сети сбросил свой покрытый пятнами пива и вина передник и ринулся на возмущенно закричавшую Мерит. Она сжала ноги и попыталась увернуться от его твердого напористого фаллоса, но Сети прижал ее руки к кровати и надавил коленом между ее судорожно сжимавшимися ногами.
— Я твой муж! — закричал он снова. — Я имею на это право!
— Ты пьяный придурок! — простонала задыхавшаяся от напряжения Мерит, и, когда давление на ее правую руку несколько ослабело, она быстро высвободила ее и, нащупав яичко Сети, сдавила его со всей силой. С хриплым криком он отпрянул, и Мерит мгновенно выскочила из-под его тяжелого тела. Она бросилась к двери, где Бикет приходила в себя и, наполовину оглушенная, прислонилась к стене. Мерит позвала стражу, которая тут же явилась. Она указала на дверь:
— Мой муж сильно пьян и не может один найти дорогу в свои покои. Пожалуйста, отнесите его в постель.
Пока воины выводили стонущего, изрыгавшего проклятия Сети, который обеими руками держался за покалеченные гениталии, Мерит помогла служанке встать на ноги.
— Он п-просто свалил меня, — заикаясь, проговорила Бикет и ощупала шишку на голове.
— Он никогда этого больше не сделает, — пообещал Мерит опасно тихим голосом.
Этого мгновения она ждала, потому что, пока Сети не потерял контроль над собой, она ничего не могла сделать против него.
На следующее утро она отправилась прямиком к своему отцу. Несокрушимому здоровью царя разгульная ночь ничем не смогла повредить. Гори брил его щеки, когда вошла Мерит. Она, как все дети Нефертари, имела доступ к фараону в любое время.
Рамзес в этот момент поддразнивал Гори, говоря, что хотели его женить во время вчерашней массовой свадьбы.
— …но потом я подумал: «Сегодня семейный праздник, Гори осчастливлю чуть-чуть позже». Я сдержу свое слово! Я обеспечу тебя женой, которой даже боги будут завидовать. У тебя будут дети, и, когда ты отправишься в Закатную страну, один из твоих сыновей займет должность царского цирюльника. Неплохо, а?
Гори, который привык быть мишенью царских шуток, ответил:
— Я не думаю, что скоро отправлюсь к Озирису. Я ведь моложе тебя, и можно предположить, что… ну, я имею в виду…
Рамзес расхохотался так громко, что испуганный Гори чуть не выронил бритву.
— Ты имеешь в виду, прежде чем твой сын, если таковой у тебя еще будет, подрастет, придет мой черед отправиться в Жилище Вечности? Ты не можешь себе даже представить, что я буду жить вечно? Но, я полагаю, Амон-Ра распорядился так, что я являюсь повелителем не только мира, но и времени. Посмотри на меня! Через пять лет я буду праздновать Зед, так как я тридцать лет сижу на троне Гора и переживу уже скоро пятьдесят разливов Нила. А теперь я спрашиваю тебя, выглядел ли я десять или пятнадцать лет назад по-другому? Ты знаешь каждый участок моего тела. Ну?
— Нет, Богоподобный, ты не изменился, это я могу сказать без лести.
— Видишь, мой друг, и если…
В это мгновение в покои отца вошла Мерит:
— Я могу поговорить с тобой наедине, отец?
Гори глубоко поклонился:
— Все готово, Богоподобный. Приветствую тебя, принцесса Мерит-Амон, освещающая дворец своей красотой. Твой аромат заставляет стыдиться цветы из пруда с лотосами, твой облик…
— Хорошо, хорошо, Гори, я полагаю, принцесса должна сказать мне что-то важное. — Царь жестом отослал цирюльника. — Хочешь виноград? Совсем свежий. — Рамзес пододвинул ей блюдо с фруктами. — По крайней мере сядь. Как дела у маленькой принцессы?
— Я возмущена и полна гнева…
Рамзес усмехнулся:
— Ты приняла это на свой счет? Конечно, ты тоже для меня еще маленькая принцесса, но на этот раз я имел в виду твою дочурку.
Мерит против воли должна была рассмеяться.
— Неферури не создает мне хлопот, она мое маленькое сокровище, но данный мне тобой супруг вел себя вчера ночью, как пьяный бальзамировщик, а ты знаешь, что о них говорят. Далеко за полночь он ворвался в мою комнату, разбил дверь, свалил с ног мою служанку, а потом попытался изнасиловать меня!
Царь нахмурился:
— То, что ты говоришь, может быть правдой, только последнее неверно. Мужчина может изнасиловать любую женщину, только не свою жену. Сети твой супруг! Вино, музыка, танцовщицы немного возбудили его, и, вместо того чтобы схватить подвернувшуюся под руку рабыню, он пришел к тебе. Это в некотором роде говорит в его пользу.
Мерит подавила понимавшийся гнев.
— Так может говорить только мужчина! К собственной жене, особенно если она является дочерью Солнца, приближаются с почтением и уважением. Разве Сети надо было разбивать дверь в моей спальне? Разве должен был он так ударить Бикет, что она чуть было не умерла? А кроме того, от него так несло вином и пивом, что меня стошнило. А ты его еще защищаешь!
«Вот что отличает выскочку от настоящего принца», — подумал Рамзес не без удовлетворения, потому что вчера он сам отправился в гарем, зная, что Нефертари не оценит любовную игру с пьяным супругом.
— Ты права, Мерит. Не то плохо, что он пришел к тебе, а то, как пришел. Твоей матери также не нравится… В общем, я займусь парнем и отучу его от его манер заправского вояки. Довольна?
— Не совсем. Я ожидала, что ты оценишь это невероятно хамское поведение по-другому. Такой мужчина, как Сети, не может дольше быть супругом дочери Солнца. Ты должен подумать о репутации царской семьи. Когда я думаю о Пиае…
Фараон вскочил:
— Не говори мне ничего о Пиае! В конце концов Сети также принадлежит к царской семье! Ты, кажется, совсем забыла об этом.
Мерит поняла, что зашла слишком далеко.
— Сети заставил меня забыть об этом, — уклонилась она. — Ты никогда бы этого не сделал. Его сходство с тобой лишь внешнее.
Рамзес снова сел.
— Ты, вероятно, права, но, тем не менее, он мой сын. Кроме того, ты родила ему ребенка, не забудь об этом. Он отец твоей дочери.
— Он им не является! — вырвалось у Мерит.
Рамзес недоверчиво посмотрел на нее:
— Как это не является?
— Я имею в виду, это мой ребенок, и отец ему не нужен. Пока она маленькая, она принадлежит только мне. Я не люблю Сети, он мне не нравится. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Поэтому он не должен быть отцом моего ребенка. Неферури принадлежит только мне!
— Ах, Мерит, ты всегда была своевольной, с раннего детства. Может быть, поэтому ты особенно нравилась мне. Но сейчас ты женщина, ты должна жить в мире со своей семьей, как предписывают нам боги. Ты же вышвыриваешь Сети из семейного круга, как будто он не принадлежит тебе, ты не хочешь даже считать его отцом своего ребенка. Не может же бедняга быть всегда только воином, хотя он и является одним из лучших моих военачальников. Он хочет отдохнуть дома от своих обязанностей, почувствовать себя уютно…
Мерит насмешливо улыбнулась:
— Не жалей его слишком, отец. Для Сети этот брак был таким же неожиданным, как и для меня. Однако он ему польстил и принес ряд преимуществ, мне же он был навязан.
— Чтобы отвлечь тебя от Пиайя и восстановить именем Маат божественный порядок, которому все должны покоряться — от царя до полевого раба. Я не хочу тебе ничего приказывать, потому что ты взрослая и наш с Нефертари первенец. Но я прошу тебя: обращайся в будущем с Сети не как с нежеланным чужаком. Я позабочусь о том, чтобы он извинился перед тобой, и больше подобное не повторится.
Мерит склонилась и поцеловала руку отцу:
— Благодарю тебя, Богоподобный, да будь жив, здрав и могуч.
Рамзес быстро отнял у нее руку:
— Не будь такой официальной, я хочу тебе только хорошего.
Незамун, тучный правитель двора царицы Изис-Неферт, теперь видел цель. С того момента, когда госпожа пообещала похлопотать о сане верховного жреца Амона для него, бывший жрец-чтец старался действовать совсем в ее духе. Его теперь часто видели в большом дворе дворца, торопливо снующим туда-сюда.
Его чистосердечие вызывало доверие, его открытое для каждого ухо сделало его всеобщим любимцем, и так как он всех, кто стоял выше него, встречал со спокойным уважением, без подобострастия, то не доверяли ему только немногие.
К этим немногим принадлежала Мерит, манера поведения которой, чуждая всякой лжи и притворства, вселяла неуверенность в тучного лицемера. Он чувствовал, что она видит его насквозь, и по возможности избегал любой встречи с принцессой.
В остальном он не чурался никого, глаза и уши у него были постоянно открытыми, а поскольку царский дворец полнился слухами и сплетнями, лишь немногое оставалось от него скрытым. Он слышал о ночном нападении принца Сети, а также о планах фараона в отношении Кефтиу, о том, что принцу Монту предназначалась роль посла. Конечно, другие также это знали, но не придавали этому особого значения и, немного поболтав об этом, снова возвращались к своим делам. У Незамуна была цель, и он не забыл совет своей госпожи: «Проникай в их круги, натравливай их друг на друга, возбуждай беспокойство, распространяй сплетни…»
Нет, он этого не забыл и, к своему удивлению, понял, как быстро распространяются сплетни и как легко бывает возбудить беспокойство. Старый толстяк Незамун быстро сориентировался. Он знал, что со спокойными и довольными людьми мало что натворишь, и поэтому никогда не обращался прямо к наследному принцу, что было бы, безусловно, трудно. Он сеял ядовитые семена на подходящей для этого почве, потому что было нетрудно усилить недовольство и без того недовольного человека. Одним из менее счастливых при дворе в Пер-Рамзесе был принц Монту. Ему не нравилась дворцовая суета. Она была ему противна. Все приобретенные в пустыне навыки здесь ничего не значили, и, если он и был мастером в хитростях и притворстве, это были навыки другого рода. Существовала разница между тем, чтобы в ловушку завлечь врага в пустыне или вчерашнего друга при царском дворе. Он чувствовал себя запертым, несчастливым и ненужным. Он все еще ждал царского решения по поводу посольства в Кефтиу, спрашивал об этом даже Парахотепа, но ответ был одним и тем же:
— Терпение, терпение. У Благого Бога есть и другие дела.
Единственным отдыхом для Монту была охота, но здесь, в болотной Дельте, он никогда не охотился и его не прельщала перспектива каждый раз при охоте на птиц по пояс погружаться в ил. Как это отличалось от охоты в пустыне, когда летишь верхом на лошади в золотом облаке пыли, подобно богу. Здесь лошадей едва использовали, охотились пешком или на легких папирусных лодках, которые всегда переворачивались в самый неподходящий момент. Несмотря на это, Монту охотнее бывал на воздухе и погружался в трясину, чем бегал по дворцовому кварталу, подобно пойманному шакалу. Он ни к кому не присоединялся, ни к кругу наследного принца Енама, ни к Рамозе и его друзьям, хотя с ними он и чувствовал себя полегче, потому они с радостью принимали каждого сторонника. Но Монту не беспокоился об этом, был немногословен, необщителен, поэтому его вскоре оставили в покое. Он и так скоро должен был исчезнуть в Зеленом море.
Незамун упорно, но не надоедая, пытался сойтись с ним, и, когда принц узнал его ближе, он заключил с этим полным понимания и общительным человеком что-то похожее на дружеский союз. Иногда вечерами они болтали за кувшином вина, и тучный жрец быстро отыскал причину недовольства Монту. Он выказал себя полным сочувствия к сыну пустыни, лишенному своих корней, и начал аккуратно воздействовать на него.
— Сегодня мне так хочется пить, мой друг, что я прошу тебя составить мне компанию за вторым кувшином вина. Я неохотно пью один.
Монту обрадованно кивнул:
— Хорошо.
Он дал знак слуге. Они сели в саду Дома принцев, где жили взрослые сыновья царя, пока не обзаводились своими семьями. Одновременно это был дом для гостей, принимавший родственников царя, которые не жили в Пер-Рамзесе. С тех пор как участники семейного торжества отбыли восвояси, здесь царил покой почти опустевшего дома.
Оба мужчины подняли свои бокалы и выпили. Внезапно Незамун спросил:
— А ты хоть знаешь, мой принц, где точно находится этот таинственный Кефтиу? Я охотно послушал бы о нем побольше.
Монту горько рассмеялся:
— Я тоже! Сначала мне оказывают почести и радуют тем, что его величество хочет доверить мне руководство этим предприятием. Между тем, я уже почти думаю, что…
По лицу Монту скользнуло что-то вроде гнева или злости.
— Ну? — подбодрил его Незамун. — Что ты почти думаешь?
— Я полагаю, что это дело бесперспективно. Может быть, этого Кефтиу уже нет, но он не дает царю покоя. Думаю, Богоподобный не хочет подвергать опасности этого длинного путешествия одного из законных принцев, и его взгляд обратился к сыновьям наложниц. Почему именно я?
— Этим выбором ты обязан своей репутации отчаянного и хитроумного смельчака. В конце концов царь не может послать в Кефтиу слабака или глупца. Я это понимаю, хотя странно… Есть же и другие сыновья Благого Бога, которые словно созданы для подобного задания. Репутация принца Сети как способного военачальника широко известна. Принц Сетепенре считается храбрецом и человеком хитроумным, и я мог бы назвать еще некоторых. Может быть… Нет! Такого я не могу даже и подумать!
Незамун в притворном смущении отвернулся и замолчал. Теперь настала очередь Монту побудить жреца высказаться.
— Я умею молчать, Незамун. Мы, люди пустыни, не болтливы, потому что болтливый язык иногда может стоить жизни. Скажи, что ты знаешь, и я заключу это в своем сердце, как в гробнице.
— Гробницы вскрывают, ты знаешь об этом лучше всех.
Монту быстро кивнул.
— Это верно. Не самое удачное сравнение. Тогда я могу только попросить тебя довериться мне.
Незамун добродушно кивнул и выглядел при этом очень честным и порядочным.
— Это только мысль, вероятно, я неправ. Но я думаю, что Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, для подобного, полного опасностей путешествия выбрал не тех сыновей, которых он особенно ценит и чья смерть его затронула бы. Тебя он едва знает, о твоей матери сохранил весьма смутные воспоминания, потому что она убежала. Тебя ему описали как безрассудно смелого человека, ну…
Монту слабо ухмыльнулся:
— Я тоже уже думал о чем-то подобном, но я не позволю пожертвовать собою ради этого безумного плана. Пусть посылает Сети. Того и так пора наказать. Каждый ребенок при дворе знает, что случилось в ту ночь. Любого другого бы за такое повесили.
— Ты совершенно прав, принц Монту. Но как ты хочешь воспротивиться приказу фараона?
— Я не буду противиться, не считай меня глупцом. Я буду высказывать сомнения, выдвигать условия, делать предложения… Они считают меня хитроумным, вот пускай и почувствуют это мое свойство.
Незамун опустошил свой бокал и облизал губы.
— Неплохое вино… Ты мне нравишься, Монту, и я понимаю твои сомнения. Можно ли дать тебе совет? Держись подальше от наследного принца, поддержки там ты не найдешь, напротив. Енаму нравилось бы больше всего, если бы он один-единственный носил урей. Есть еще и другие законные дети — сыновья моей госпожи, царской супруги Изис-Неферт. Она везде и повсюду вторая, и ей нелегко. Было бы неплохо немного усилить ее позиции как противовес, ты понимаешь. Изис-Неферт родила фараону трех сыновей, и голос ее обладает весом. Если ты присоединишься к ее двору, я это поддержу. Ты мог бы учить тринадцатилетнего принца Меренпту стрельбе из лука и верховой езде. В нем сложно возбудить восторг от подобных упражнений. Может быть, ты добьешься большего успеха.
— Если хочешь, я это сделаю. Но охотнее всего я отправился бы отсюда назад в пустыню, туда, где мое место.
Незамун с трудом поднялся и разгладил свой смявшийся передник.
— Ты не можешь сердить фараона. Терпением и хитростью ты добьешься большего.
Принц Рамозе, первенец Изис-Неферт, имевший должности военачальника, жреца, казначея и многие другие, инспектировал войска в пограничной крепости Питом. При этом ему показали новые длинные мечи, и он слегка поранил себе палец. Во время путешествия домой от раны пугающе раздулась кисть руки, а после этого и вся рука покраснела. В Пер-Рамзесе врачи пытались сделать все возможное, чтобы сдержать распространение заразы, но не помогали ни кровопускание, ни повязки, ни ванны, ни магические заклинания, ни ежедневные жертвы Сехмет. Принц становился все слабее, рука стала сине-красного цвета, и ею едва можно было шевелить.
Один из молодых врачей предложил тотчас отрезать руку, пока отравление не распространилось по всему телу. Пока он говорил об этом, больной начал бредить. Он горел от лихорадки и, крича, крутился в постели…
Вторая супруга долго не могла смириться со смертью сына. Ее пришлось силой оторвать от трупа, тогда она с криком и плачем побежала по дворцу, и все с дрожью прислушивались к ее резкому голосу. Она обвиняла Нефертари в колдовстве, и ее было не успокоить.
— Он погиб из-за этой ведьмы! Она ненавидит меня и моих детей! Она отравила его, бедного Рамозе, она чародейством отравила его кровь! Будь она проклята, тысячу раз проклята! Фараон должен ее наказать! Эта деревенщина сведет в могилу всех нас!
Только спустя несколько дней ее второму сыну Хамвезе удалось успокоить мать. Он знал о мстительности богини Сехмет и предполагал, что Рамозе каким-то образом оскорбил ее. Если бы он знал это до болезни, ему наверняка удалось бы смягчить богиню. Но, когда он прибыл из Мемфиса, Рамозе уже лежал при смерти.
Недавно вышедшая за него замуж единокровная сестра стала вдовой в пятнадцать лет, но она была молода, и жизнь лежала перед ней, так что боль ее была не очень глубокой. Фараон объявил траур на тридцать дней, и снова во дворец пришли «ставящие печать бога» и выполнили работу Анубиса.
Во время траура Монту взялся за принца Меренпту и попытался преподать ему уроки владения оружием в виде игры, сделав их привлекательными. Он рассказывал захватывающие истории о воинах ниу и постепенно завоевал доверие мальчика. Монту попытался объяснить необходимость упражнений:
— Дело не в том, что ты учишься обращаться с оружием, чтобы потом отправиться наемником на войну. Мужчина должен просто уметь защищать себя, даже если он принц. Если ты этого не умеешь, твои телохранители, конечно, тебя защитят, но они не будут уважать тебя. Не забывай одно: ты стоишь к трону так близко, что Амон, вероятно, может сделать тебя следующим или одним из следующих фараонов. Ты видел на примере брата, как быстро разгневанная Сехмет отсылает человека к Озирису. Завтра это может случиться с Енамом, послезавтра — с его братьями Мерире и Мери-Атумом. Тогда на очереди будешь ты, а фараон, который не умеет обращаться с оружием…
Монту сделал многозначительную паузу, и Меренпта пробормотал:
— Я это уже вижу.
Монту рассмеялся:
— Рад слышать. Знаешь что, давай возьмем колесницу. Я буду править, а ты — держаться за меня. Я думаю, это доставит тебе удовольствие.
Монту это тоже доставляло удовольствие, и, поскольку у него теперь было дело, ждать ему стало легче.
Под руками Такки дом начал изменяться. То, что раньше было несколько лучше, чем хижина из кирпичей, сделанных из нильского ила, стало теперь настоящим домом. Так как Пиай начинал работу с восходом солнца и возвращался домой только в жаркое обеденное время, Такка могла, не мешая ему, постепенно воплотить в жизнь свои представления об уютном жилище. Сначала она получила пару ведер известки и покрасила стены изнутри в несколько слоев, чтобы они стали безупречно белыми. После длительных переговоров она приобрела у нубийского торговца полдюжины ковров с простыми, но приятными узорами. Ими она украсила комнаты Пиайя: некоторые повесила на стены, другими прикрыла убогий сундук и маленький обеденный стол.
Пиай, которому редко бросалось в глаза то, что не было связано с его работой, придя с работы, в удивлении остановился.
— Да, ты это хорошо сделала, — похвалил он ее, но Такка быстро прервала его:
— Но это и стоит кое-что. Сегодня вечером придет торговец и заберет восемнадцать медных дебов. Он сначала просил тридцать, но меня просто так не проведешь.
Сначала Пиай рассердился, а затем должен был рассмеяться:
— Ты сначала могла бы спросить меня.
— Извини, господин, но эти бродячие торговцы очень быстро передвигаются. Ты сказал «да», значит, тебе понравилось.
Пиай упал в кресло:
— Кувшин вина мне бы также сейчас понравился!
Такка принесла вино и налила кубок дополна.
— Можно я скажу еще кое-что, господин?
Пиай сделал большой глоток и кивнул:
— Я уже заметила, что ты здесь важный человек, может быть, даже самый важный. Ты работаешь один над лицом Благого Бога, ты начальник местных скульпторов и художников. Такой господин, как ты, не может жить в убогой хижине, как каменотес. Почему ты не переедешь в маленький дворец на другой стороне? Он больше подошел бы твоему положению.
— Этот дом предназначен для царя, да будет он жив, здрав и могуч, если он еще раз захочет посетить свои храмы.
— А он уже был однажды здесь?
— Около года назад Богоподобный почтил нас своим присутствием вместе с Великой Царской Супругой. Он велел соорудить Малый храм в честь царицы Нефертари.
«Почему я рассказываю ей это все? — пронеслось в голове у Пиайя. — Она ведь только служанка в моем доме, а я устал».
Однако Пиай чувствовал, что рассказывать ему приятно, к тому же малышке не повредит, если она будет знать кое-что более точно.
— Так ты знаешь фараона? Ты разговаривал с ним?
— Да, я знаю Благого Бога, Такка. Привыкни, пожалуйста, если речь идет о царе, добавлять по меньшей мере через раз слова «да будет он жив, здрав и могуч». В Кеми тебе будет гораздо легче, если ты станешь обращать на это внимание. Ты и так говоришь на египетском уже намного лучше, чем большинство людей твоего племени. Ты ведь не хочешь всю свою жизнь провести на кухне или оставаться простой служанкой в доме?
— Нет, — ответила Такка убежденно, — этого я не хочу. Ты хотел бы сейчас поесть или же можешь ответить еще на несколько моих вопросов?
— Я неголоден. Спрашивай.
— Как выглядит царь, да будет он жив, здрав и могуч? Сколько ему лет, и что делают люди, когда его встречают? Я могу еще припомнить, что мой отец, а он был всего лишь вождем маленького племени, приветствовал более высокого по положению, чем он, племенного вождя. Он касался рукой земли, тер лоб, а затем обнимал вождя.
— Нет, — ответил Пиай серьезно. — Такого здесь не бывает. Фараон, да будет он жив, здрав и могуч, — священное существо, которое общается с богами. Ты могла видеть это в Малом храме на стенах. Касаться его тела строго запрещено и мгновенно карается смертью. Исключение составляют лишь люди, которым это позволено, такие как его цирюльник или лекари. Тот, кто его встречает, падает ниц и закрывает лицо. Тот, кому оказана милость аудиенции, обращается к фараону со многими его титулами. Важнейшие из них: Сын Солнца, Благой Бог, Повелитель Обеих Стран, Могучий Бык. Тот, кто общается с ним чаще, называет его Богоподобным. Что ты хочешь знать еще?
— Как выглядит его величество? Сколько у него жен? Он уже старый?
— Царь Рамзес, да будет он жив, здрав и могуч, вечно юн, хотя через несколько лет он будет праздновать Зед. У него две главные супруги, но он предпочитает царицу Нефертари, да будет она жива, здорова и благоденствует. Ты видела ее храм. Она родила царю четырех сыновей и двух дочерей.
Пиай с удивлением понял, что какое-то время не думал о Мерит, и это было очень необычно. Такка хихикнула.
— Только две супруги? У моего отца было восемнадцать…
Пиай рассмеялся:
— В Куше он был кем-то вроде маленького фараона. Однако я сказал: две главные
супруги. В его гареме около трехсот наложниц, и каждый месяц добавляются новые. У царя более ста детей, а его внуков считают дюжинами.
Такка удивленно раскрыла свои темные глаза.
— Триста жен… — прошептала она с глубоким уважением. — Как один мужчина?.. Я хочу сказать, наверняка, там есть девушки, которых он никогда не посещал, которых он просто не замечал.
— Говорят, Богоподобный не забыл ни одной из жен. Он по праву носит титул Могучий Бык.
— А в его гареме есть нубийки?
— Я никогда еще там не был, но, полагаю, да.
— Тогда я хотела бы еще знать…
— Довольно, Такка, довольно. Ты можешь завтра расспросить меня дальше, но сейчас я хотел бы поесть, а потом отдохнуть.
— Извини, господин, из-за любопытства я забыла о своих обязанностях.
Она побежала на кухню, и Пиай услышал, как она там хлопочет. Он похвалил себя за решение заменить пренебрегавшего своими обязанностями слугу Таккой. Теперь он знал, чем она так странно напоминает ему его любимую, — гордой и свободной манерой говорить, глядя в глаза собеседника.
«Эта манера совершенно необычна для рабыни, — подумал он, — но она ведь в конце концов родилась и воспитывалась свободной. У меня было наоборот. Я родился рабом и в возрасте Такки начал жизнь вольного ремесленника. Мы мячи в руках богов. Они играют нами по своему усмотрению».
Такка в своей короткой жизни знала три вида мужчин. Это были, во-первых, ее отец, братья, родственники — мужчины ее детства. До тех пор пока девушка не обрезана, между полами существует немного запретов. Она проказничала с братьями, шутила с дядями и слушалась отца. Но то, что предписывал отец, никогда не было плодом его произвола, а всегда было связано с обычаями, нравами, традициями и религией племени.
Это время прошло. Ее вырвали из привычной среды и лишили корней. Все, что там имело ценность, здесь не имело никакого значения. Поведение людей в роду вождя определялось правилами, которые в другом месте показались бы бессмысленными. На краю их деревни росло дерево, в котором чужак не заметил бы ничего особенного. Однако в нем жили духи женских предков племени, и мужчина скорее позволил бы себя зарубить, чем приблизился бы к дереву или зашел в его тень. Необрезанные девушки и женщины во время дней очищения или беременности тоже не могли вступать в тень женского дерева, им можно было приближаться лишь к границе тени. Для всех остальных женщин это было место молитвы, и в определенные дни года они присаживались под развесистые ветки дерева для бесконечных женских разговоров и пересудов. Имелись также места, которых женщины и девушки избегали. Были запреты, которые имели значение лишь для вождя и его главной жены. Здесь, в Египте, эти вещи казались Такке бессмысленными, потому что они были связаны с местом ее детства.
В обозримом и строго размеренном мире ее родины не было причины опасаться мужчины. Тот, кто преступал законы предков, наказывался, в тяжелых случаях — изгнанием или даже смертью. Эти наказания приводились в исполнение без применения силы. Тот, кого изгоняли, исчезал, а осужденному на смерть об этом сообщал деревенский жрец, и в течение пяти дней наступала смерть. Мужчина или наступал на ядовитую змею, или убегал в пустыню, или ждал в своей хижине прихода смерти — и умирал в срок.
Такку вырвали из этого защищенного существования и ввели в чужой жестокий мир рабства. Здесь она познакомилась со вторым видом мужчин, которых сравнивала с шакалами. Если это животное чует падаль, вряд ли что удержит его от того, чтобы кинуться на нее. Так вели себя по отношению к девушке воины в крепости Кумма. Они грубо хватали ее между ногами, сильно щипали за грудь, крепко шлепали — все это быстро стало принадлежностью повседневной жизни, и это были еще безобидные шуточки. Египетский раб ни в коей мере не был бесправным, даже в том случае, когда его свобода и рабочая сила принадлежали фараону или храму. Имелись даже рабы, которые сами обладали рабами и поместьями, но по определенным причинам не могли получить личную свободу.
Такка в Кумме стояла в самом низу социальной лестницы и должна была постоянно обороняться от похотливых и грубых преследований воинов, и, как шакалы в конце концов добираются до своей добычи, так эти грязные кобели добрались до Такки, и счастье еще, что ее освободили из лап наемников, когда ее насиловал только второй.
В крепости она узнала и третий вид мужчин. К нему относился супруг ее госпожи, начальник гарнизона. Он и равные ему по рангу в большинстве случаев владели грамотой, появлялись на людях свежевыбритыми, накрашенными, пахнущими благовонными маслами и в безупречной одежде. Такка не могла вдоволь надивиться тому, как ее хозяйка обращается со своим мужем. Она порой забавно капризничала, выставляла требования, разыгрывала, если это ей самой нравилось, из себя покорную супругу, и умная Такка быстро выяснила, что все всегда случается так, как хочет ее госпожа. Странным образом начальник гарнизона этого, казалось, совсем не замечал, и на людях всем казалось, что он полновластный господин в семье. Между этими отмеченными высокой культурой и внешне утонченными египетскими чиновниками и их подчиненными, мужчинами-шакалами, существовала пропасть такая же большая, как между человеком и животным.
Такка полагала, что мужчину, подобного ее прежнему господину, она нашла и в Пиае. Он был художником, мог читать и писать, являлся начальником всех ремесленников, находился на службе фараона, да будет он жив, здрав и могуч, но, тем не менее, отличался от египетских чиновников, которых она встречала в крепости. Те никогда не стали бы говорить с рабыней о личных делах, и Такка никогда бы не осмелилась, хотя она и не боялась этих мужчин, задавать им какие-либо вопросы, которые не имели отношения к ее работе.
С ее нынешним хозяином это получилось само по себе. Пиай ни в коей мере не побуждал ее к разговорам, но, если она заговаривала, он отвечал ей очень дружелюбно. Когда он уставал или был невесел, он давал ей это понять, и они продолжали разговор в другой раз. Был ли это четвертый род мужчин?
Все мужчины, с которыми она ранее соприкасалась, так или иначе общались с женщинами. Дома все было просто: едва парней обрезали, они засматривались на невест и работали, как безумные, чтобы заплатить выкуп за невесту. Человек считался мужчиной только тогда, когда у него была одна или несколько жен и появлялись дети. С воинами-наемниками тоже все было ясно: они, как шакалы, кидались за всем, что пахло женщиной. Среди египетских чиновников Такка едва ли встречала кого-либо, кто не был бы женат. Одна пара молоденьких была без жен, зато у них имелись наложницы.
В доме же Пиайя до нее не было ни одной женщины, и от нее не ускользнуло бы, если бы он посещал какую-нибудь женщину после работы. Вместо этого мастер Пиай выпивал по вечерам свой кувшин пива, листал бумаги, сидел в саду у пруда и смотрел на север или беседовал с ней. Однако он был настоящим мужчиной. Такка видела это почти ежедневно, когда готовила ему ванну. Его пенис был обрезан, как у мужчин ее родины, и по его стройному, высокому, жилистому телу нельзя было установить ничего, что отрицало бы его мужественность. Такка заметила одно: этот мужчина не внушал ей ни страха, ни отвращения; граница между египетским чиновником и нубийской рабыней здесь была не так отчетлива и непроходима, как с другими. Она чувствовала в себе желание, любопытство, сначала очень туманное, а потом ставшее все отчетливее — испытать мужественность Пиайя.
И Такка начала аккуратно продвигаться по пути к этой цели. Она теперь часто думала о том, что втолковывала ей жена капитана в Кумме, египетские женщины не обрезаны, и для них является счастьем то, что они избежали этого «варварского» обычая. Теперь, когда она была лишена родины, Такка могла то, что раньше считалось одним из худших недостатков, превратить в нечто обратное. Она чувствовала себя необязанной больше подчиняться законам своей родины, согласно которым, если мужчина приближался к необрезанной женщине и та это позволяла, полагалось суровое наказание. Такка была готова изменить свои убеждения и находилась на прямой дороге к тому, чтобы стать египтянкой.
8
Изис-Неферт велела спросить у фараона, думает ли он сам сопровождать мумию Озириса-Рамозе в Фивы к его гробнице. Рамзес отправился во дворец своей второй супруги, чтобы самому дать ей ответ.
С рождения принцессы Бент-Анта царь больше не посещал Изис-Неферт в постели, и у него не было намерения когда-либо сделать это снова. Он устал от этой женщины, от ее вечных завуалированных упреков, ее торжественных манер, когда она его принимала. Да и ее до времени отцветшее, желчное лицо не возбуждало в нем никакого желания физической близости. Время от времени он навещал ее в ее покоях, болтал с ней немного, восхищался маленькой, очаровательной и очень живой Бент-Анта, а потом прощался с женой — снова вежливо, официально, холодно.
Теперь он сразу же перешел к делу:
— Я не могу сопровождать нашего сына Озириса-Рамозе в его Вечное Жилище, потому что ожидаю в ближайшие десять-двадцать дней посольства от царя хеттов. Я предлагаю тебе вместе с его вдовой и Хамвезе отвезти мумию Рамозе в Фивы. Царь богов, безусловно, будет рад визиту своей бывшей служительницы.
Резкое, ожесточившееся лицо Изис-Неферт оставалось неподвижным, насмешка фараона не задела ее, так как скорбь затмила все остальные чувства.
— Сопровождение Хамвезе меня бы порадовало, но в нем нет необходимости.
В действительности Изис-Неферт боялась, что ее позиции при дворе совсем ослабнут, если этот любимый фараоном сын отправится с ней в путешествие. Но у фараона были свои соображения на этот счет:
— Это не только ради тебя. Хамвезе должен посмотреть, выполнены ли до конца все строительные проекты в Фивах. Я получаю оттуда одни отговорки и никаких ясных ответов.
Отношения с царем хеттов Хаттусили были закреплены мирным договором, который оба владыки выполняли. Спустя несколько лет, однако, возникла помеха, которая чуть было не привела к новой войне. Свергнутый Хаттусили законный царь хеттов Урхи-Тешуп сбежал из Кеми, где жил в изгнании. Он попытался сделать все, чтобы подвигнуть Рамзеса помочь ему вернуть трон, но Хаттусили твердо сидел в седле, был популярен и признан во всей стране, поэтому египетский царь не мог, да и не хотел помогать своему непрошеному гостю. Рамзес отделывался от него ничего не значащими обещаниями, но потом стали приходить послания от Хаттусили, который все настойчивее требовал выдачи своего племянника. Фараон проигнорировал эти требования, потому что Урхи-Тешуп был залогом, который он не собирался просто так выпускать из рук. Царь хеттов из-за этого впал в такой гнев, что попросил у царя Вавилона помощи против Рамзеса и даже получил согласие. Оба владыки ждали удобной возможности вместе нанести сокрушительное поражение египтянам. Рамзес, ставший намного старше и умнее, чем во времена битвы при Кадеше, хотел любой ценой сохранить мир. Со своими доверенными лицами, Меной и Парахотепом, он обсуждал, как решить проблему. Мнение главного советника было таково:
— Я бы его выдал, Богоподобный. Пусть хетты сами занимаются вопросами своего престолонаследия. Никто не просил Урхи-Тешупа искать убежища в Кеми. От непрошеного гостя после определенного времени можно потребовать, чтобы он отбыл восвояси.
Рамзес вопросительно посмотрел на Мену. Старший воин упрямо покачал головой:
— То, что предлагает Парахотеп, может быть, умно, но демонстрирует слабость. Почему мы должны склониться перед
требованиями этого дикого царька? Он может звать на помощь Вавилон, но, когда запахнет серьезной битвой, они его бросят в беде. Но с другой стороны…
Рамзес ободряюще кивнул ему.
— С другой стороны, — продолжил Мена, — я должен признать правоту главного советника: Урхи-Тешупу действительно нечего у нас искать. Лучшим вариантом будет, если мы отправимся на охоту на земли шазу и их стрела или копье освободят нас от забот. Тогда Парахотеп сможет организовать прекрасное траурное посольство и сообщить Хаттусили о смерти его племянника.
— Это действительно было бы хорошим решением, — задумчиво произнес Рамзес.
— Только если Мена возьмет это на себя, хорошо? Я не хотел бы заниматься этим сам, — заявил Парахотеп.
— Чтобы сослужить фараону подобную службу, нужно быть воином, — ответил Мена гордо и немного обиженно.
А спустя некоторое время Урхи-Тешуп встретил «случайную» смерть, и мир с хеттами был восстановлен. С тех пор происходил регулярный обмен посольствами, и Нефертари вела оживленную переписку с Пудучепой — главной супругой царя хеттов.
Гонцы сообщили о приближении большого посольства, которое в качестве важнейшего подарка везло с собой шестнадцатилетнюю принцессу Гутану. Царь хеттов высказал посланием свое пожелание:
Принцесса Гутана, чье лицо сияет, как полная луна, дыхание сладко, как аромат цветов, чьи губы сверкают, как рубины, и которая умеет петь и играть на систре, да принесет радость в гарем царя Рамзеса.
Рамзес ожидал это посольство без особого любопытства. Его гарем кишел и настоящими дочерями каких-либо царьков, и самозванками. Каждый при дворе знал, что принцесса, объявленная самой красивой и любимой, в большинстве случаев является дочерью от незначительной наложницы или же имеет лишь отдаленное родство с повелителем. Конечно же, делали вид, что всему верят, и таким образом все были довольны. По отношению к Хаттусили, который был самым могущественным повелителем северных стран, Рамзес чувствовал себя обязанным принять принцессу со всей помпой. Ему не оставалось ничего другого, как сделать ее своей третьей супругой.
Посольство с принцессой Гутаной прибыло в конце второго месяца Перет, и население Пер-Рамзеса вышло встречать ее. Хеттиянка везла с собой такое богатое приданое, что поразила даже избалованного Рамзеса.
В громадном облаке пыли в город вошли огромные стада крупного рогатого скота, после них — необозримое количество овец и коз, а еще больше двух десятков чистокровных скакунов и прекрасных вьючных животных. Тяжело нагруженные повозки, запряженные быками, везли меха диких животных, слитки бронзы, сосуды с тончайшими винами и многое другое из того, что Хаттусили давал в качестве приданого за дочерью. Кроме того, столицу поразила целая толпа запыленных, болтливых и выжидающе хихикающих хеттских девушек, которых в качестве личных прислужниц привезла с собой Гутана.
Царь Рамзес появился в двойном венце с церемониальной бородой и скипетром Хека. На. Великой Царской Супруге Нефертари был простой хохолок ястреба, в правой руке ее покоилось золотое опахало — знак царского достоинства и власти. Царская чета покачивалась на двойном троне над головами чиновников, жрецов, музыкантов, певцов, курителей благовоний и верховых телохранителей. Победный путь лошади было не остановить, и постепенно египтяне привыкали скакать верхом, вместо того чтобы передвигаться на грохочущих колесницах.
Принцесса Гутана появилась в открытых носилках. Она выглядела очаровательно в своих чужеземных цветных одеждах и высокой шапке.
«Она скоро откажется от такого количества шерстяных юбок», — подумала Нефертари и едва заметно улыбнулась, когда заметила капли пота на белом лбу хеттской принцессы.
Двойной трон поставили на землю, Гутана покинула свои носилки и пала ниц перед Благим Богом и его супругой. Кивок — и два придворных быстро помогли ей подняться на ноги.
На ломаном египетском она приветствовала фараона и Нефертари, передала пожелания счастья от своего отца, и Рамзес с большим удивлением заметил, что у этой девушки бирюзовые глаза. «Взгляд змеи», подумала Нефертари, но больше ничем не обеспокоилась. Ей еще предстояло узнать, сколько в Гутане было от настоящей змеи.
Фараона не слишком тронула смерть принца Рамозе. Из детей Изис-Неферт ему особенно близок был только Хамвезе, обширные знания и многочисленные таланты, а также ум, спокойствие и преданность которого вызывали уважение и восхищение царя. Об этом сыне Рамзес совершенно точно знал, что он не косится на трон. Он несколько раз просил отца ни при каких условиях не иметь его в виду при определении престолонаследия. Он верховный жрец Пта и архитектор, а кроме того, он изучает древнюю историю страны. Для этого человеческой жизни не хватит, где уж тут думать о престоле.
После долгой трудной работы Хамвезе удалось освободить засыпанную до половины песком гигантскую пирамиду Хуфу вплоть до цоколя. Затем он велел проделать внизу несколько проходов в каменной стене, и при четвертой попытке рабочие наткнулись на широкий проход, который вел к погребальной камере.
Хамвезе предложил исследовать тайны старых царей, и, когда из Мемфиса пришла новость, что обнаружен вход в большую пирамиду, Рамзес немедленно отправился в путь.
Хамвезе встретил отца на берегу. Ширдану отгоняли любопытных крепкими ударами древков своих копий. Отец и сын взошли на две легкие охотничьи колесницы и помчались, не теряя времени, в пустыню, где возвышались три пирамиды. Большого сфинкса также освободили, потому что ежегодные песчаные бури в течение столетий погребли дремлющего льва с царской головой до самого подбородка.
Согнувшись, они вошли в узкий проход и некоторое время должны были почти ползти, пока не наткнулись на широкую галерею, которая поднималась вверх и заканчивалась у погребальной камеры.
Рамзес остановился и посмотрел вверх на мощные камни. Слуги застыли, словно статуи. Их факелы трещали в жарком душном воздухе, и лишь этот треск нарушал тишину гробницы.
Рамзес кивком подозвал сына и наклонился к уху Хамвезе.
— Ты полагаешь, он не чувствует, что мы ему мешаем? Он, Озирис-Хуфу? — прошептал он с беспокойством.
Хамвезе успокаивающе покачал головой:
— Я принес его ка богатые жертвы и надеюсь, что он насытился и доволен. Кроме того… Ну, ты сейчас сам все увидишь.
Они вошли в маленькую камеру, и Хамвезе указал на потолок.
— Здесь была встроена ловушка. После погребения приспособление, которое должно было наполнить помещение падающими вниз каменными блоками, разобрали. Один из них все еще висит вверху.
— А где остальные?
Хамвезе пожал плечами:
— Мы, к сожалению, не первые непрошеные гости. Те, которые пришли до нас, не принесли Озирису-Хуфу никаких жертв. Но они опустошили его погребальную камеру. Посмотри сам.
Фараон и жрец зашли в погребальную камеру, похожую на зал. Потолки и стены ее были облицованы изысканным гранитом. Саркофаг Озириса-Хуфу состоял также из благородного камня, но он стоял открытым и был пуст. Рамзес смущенно склонился над опустошенной гробницей и заметил удивленно:
— Здесь нет никаких картин, никаких надписей, ничего. Может быть, гробница была не окончена и Хуфу похоронили в каком-нибудь потайном месте?
— Я не знаю, но, по-моему, вряд ли. Впрочем, надпись есть…
Хамвезе кивнул слугам и приказал одному забраться на плечи самого сильного из них. На ярко освещенном теперь потолке вспыхнуло имя царя, написанное красными знаками: Хуфу.
— Очень странно, — заметил Рамзес, — сегодня каждый верит в то, что загробная жизнь закрыта ему, если в гробнице не написаны важнейшие тексты из Книги Мертвых, не говоря уже обо всем другом, что жрецы считают совершенно необходимым. А этот фараон удовольствовался только своим именем.
— В то время думали по-другому. Только царь, по их мнению, мог стать Озирисом. Он сам решал, кого из жен, друзей и родственников он возьмет с собой. Но с тех пор произошел полный переворот, и Озирис стал спасителем всех людей. Ты тоже знаешь об этом… Посмотри сюда. — Хамвезе указал отцу на две возвышавшиеся на два локтя от земли узкие и развернутые одна на север, другая на юг шахты. — Они ведут на воздух и должны были быть выходом для птицы ба. В любом случае, время доказало, как мало преимуществ в том, чтобы делать гробницу столь хорошо видной издалека. Ложные двери, лабиринт, наполненные мусором проходы не смогли остановить святотатцев. Единственным решением является полностью безопасное укрытие.
Рамзес покачал головой:
— То, что я вижу, заставляет меня сомневаться, что можно сделать гробницу на столетия невидимой. Что ни изобретай, когда-нибудь жадный до золота пустынный разбойник все равно наткнется на вход, и тогда…
— Тогда нам остается лишь уповать на милость богов, — ответил Хамвезе уверенно. — Я предлагаю вместе вознести молитву Озирису…
Рамзес покачал головой. Он почувствовал внезапно настоятельное желание побыть одному. Что-то безымянное коснулось его, царь ясно почувствовал, что Оно здесь, в помещении, и пытается привлечь его внимание.
— Иди со слугами в переднее помещение. Я хотел бы побыть здесь некоторое время один.
Удивленный Хамвезе молча поклонился и вышел вместе со слугами. Рамзес, скрестив ноги, сел на полу и весь отдался тишине и темноте, царившим в погребальной камере. Он мысленно попытался провести грань между этим и потусторонним миром и поэтому тихо произнес несколько стихов из гимна Озирису:
Высоко на своем троне ты сияешь над мирами,
Когда люди видят тебя, сердца их полны радости.
Ты истинно первый среди богов,
В твоих руках скипетр и плеть,
На твоей голове белая корона Атеф,
Ты призван быть царем людей и богов…
Рамзес замолчал, увидев, как над пустым гробом замерцал бледно-зеленый свет, который медленно обрисовал контуры мумии.
Рамзес не ощущал ни удивления, ни ужаса. Фигура оставалась нечеткой, но можно было различить голову с длинной церемониальной бородой и короной из перьев, скрещенные руки со скипетром Хека и спеленатые ноги.
«Кто ты?» — спросил Рамзес мысленно.
«Я — Начало и Конец, в моих руках лежит Время, и миллионы лет для меня одно мгновение. Я Хуфу, Мен-Кау-Ра, Хоремхеб, Сети, Рамзес — первый и последний человек. Ты во мне, а Я в тебе, вечный, бессмертный…»
Голос этот наполнил погребальную камеру, и одновременно у Рамзеса возникло ощущение, как будто голос исходит от него. Два последних слова долго отдавались в нем. И он не забыл их звучание, пока жил. «Вечный, бессмертный…»
Такка быстро свыклась с новой жизнью. Она весь день проводила в хлопотах и ждала главного момента: возвращения Пиайя с работы, разговора с ним, пока он купался или сидел с кувшином пива в саду и отдыхал от работы. Он не всегда беседовал с ней, иногда разговор их длился только четверть часа, а то и меньше. Девушка чувствовала его нежелание говорить и тотчас удалялась. Если же мастер был в хорошем настроении, то приглашал ее сесть. И тогда, как правило, ненавязчиво расспрашивая его, она узнавала много нового и интересного. За полтора месяца своего пребывания здесь Такка узнала от него о Кеми намного больше, чем за все годы жизни в крепостном гарнизоне.
Однако она не могла полностью разобраться в своем новом хозяине. В его жизни было что-то, о чем он не говорил, в эту область он не позволял вторгаться никому.
Должно быть, в его жизни были такие тяжелые времена, предполагала Такка, что он охотно забыл о них. И она подумала о первых месяцах своего рабства в крепости Кумма. Она рассказала ему все о своей жизни и даже об изнасиловании наемниками. Она видела, как этот рассказ задел его чувства, какое отвращение он испытывал к тем наемникам.
— Эти примитивные люди выместили на тебе горечь своего жалкого существования, — сказал он тогда, помолчав. — Это не извиняет их, однако ты должна знать взаимосвязи. Простой воин здесь презираем всеми слоями населения. Даже раб из имения доброго господина не поменялся бы с ним местами. И всеобщее презрение пробуждает в этих людях ненависть ко всему миру.
— У моего народа было совсем по-другому. Каждый парень после обрезания становился воином и служил вождю и племени. Мои братья еще совсем маленькими упражнялись в стрельбе из лука, метании камней и владении копьем. Каждый свободный мужчина гордился тем, что может быть хорошим и нужным племени воином. Однажды я слышала, как моя мать сказала: «Горе с этими мужчинами, они только и рвутся на войну. Слишком долгий мир для них — сущее наказание». — Она вздохнула. — Может быть, этим и объясняется, что мой отец решился на бессмысленное восстание против египтян. Сегодня я понимаю, что не было ни малейшей надежды на успех. Они должны были жестоко поплатиться за это, мужчины моего племени…
— То, что ты рассказываешь, Такка, свидетельствуют, как сильно отличаются большие народы от малых. Племя из нескольких тысяч человек, чтобы выжить, нуждается в готовности всех мужчин обороняться с оружием в руках против захватчиков. Безусловно, в этом есть смысл, если только захватчики не намного более сильный и многочисленный народ. У большого народа есть отдельные профессиональные слои, и в конце концов потомственные пекарь, башмачник, плотник или каменотес не могут понять, зачем им еще и уметь обращаться с оружием. Их профессия отнимает у них все время, требует всех сил, они живут ею и кормят этим свою семью, они учат ремеслу своих детей и учеников. Поэтому у нас сословие воинов стало независимым и профессиональным. Это занятие привлекает, конечно, прежде всего людей, не знающих иного, созидательного ремесла, искателей приключений, склонных к насилию. Кстати, вряд ли найдешь среди простых воинов прирожденных египтян. Напротив, ты встретишь шазу — кочевников из пустынь, ливийцев, наемников ширдану, выходцев из диких северных стран и, не в последнюю очередь, людей твоего племени. Без нубийских наемников Куш не удалось бы покорить так быстро.
— Мой отец воспринимал это всегда как страшный позор.
— Такова человеческая природа, — ответил Пиай, пожав плечами. — У твоего отца не было никакой причины стыдиться из-за этого.
Такке хотелось перейти к другой теме, но она не знала, как ей начать, чтобы не разозлить Пиайя.
Сегодня утром прибыли корабли с плодами, зеленью и специями, и Такка заказала себе большую корзину, чтобы в ее хозяйстве имелось все необходимое. Она уже собиралась домой, но вдруг нос к носу столкнулась с бывшим слугой Пиайя, которого мастер уволил.
— Эй, маленькая нубийка, как тебе нравится у нашего великолепного хозяина? — Он издевательски хохотнул. — Мастер уже взял тебя к себе в постель?
— Тебя это не касается, — отрезала Такка.
Но тот бесстыдно ухмыльнулся:
— Особо-то не воображай, большой мастер не привык к телу черных рабынь, совсем наоборот…
— Что значит «наоборот»? Ну, начал — так скажи, что так давит твою печень, или закрой рот.
Бывший слуга подошел ближе, и Такка почувствовала, что изо рта у него воняет гнилью, редькой и чесноком. Брызжа слюной, он прошептал ей в ухо:
— «Наоборот» — это значит, что его любимая была с самого верху.
Мужчина указал на восток, на золотого восходившего Ра:
— Она оттуда, понимаешь? Ах, да ты же происходишь из жалкого Куша, откуда тебе иметь об этом представление? Во всяком случае, твой господин должен был за это поплатиться. Потому что нельзя безнаказанно играть с Солнцем. Можно и сгореть…
Бывший слуга отвернулся и замолчал, и Такка почувствовала в этом молчании всю глубину его презрения к «глупой нубийке». Проглотив обиду, она молча смотрела на корзину, наполненную чечевицей, огурцами, луком, салатом, тремя дынями и несколькими гранатами. Писец пометил перечень снеди: «хозяйство архитектора Пиайя».
Теперь Такке не давало покоя, что имел в виду человек, говоря о Солнце и любимой «с самого верха». Она собралась с духом.
— Господин, я хотела бы спросить еще кое-что из того, что касается тебя, потому что я не понимаю, что имеют в виду люди. Каждый знает, что я работаю у тебя, и я слышу замечания, такие как «твой Пиай слишком близко подошел к солнцу и загорелся, но он за это поплатился…» Они говорят о любимой «с самого верха» и о чем-то подобном. Это вещи, на которые я ничего не могу возразить, потому что я ничего не понимаю. Я хотела бы защитить тебя, хотела бы иметь возможность обороняться…
Пиай потрепал Такку по щеке и почувствовал, как приятно касаться теплой мягкой девичьей кожи. «Надо бы делать это почаще», — подумал он, а затем сказал равнодушно:
— То, что ты слышишь, — смесь насмешки, злорадства и зависти. Я объясню тебе простыми словами, в чем дело. Намек на солнце, от которого я «загорелся», относится к дочери Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, с которой меня связывала… связывает дружба… Я рассказывал тебе, что царь носит титул сына Солнца. Вот откуда этот намек. Фараон не одобрил нашу дружбу и по праву. Он наказал меня за это каторжными работами, но позднее помиловал. С тех пор я снова здесь и довожу свою работу до конца. Больше тебе ничего и не надо знать, Такка, и я прошу тебя никогда больше не спрашивать меня об этом. Не обращай внимания на сплетни, а если досужие болтуны будут тебе надоедать, спроси, как их зовут. После этого они тотчас закроют рот, поверь мне.
Юная Такка была под впечатлением: мастер Пиай мужественно взял на себя ответственность за эту связь «совсем наверху», пострадал за это, был разлучен с любимой, может быть, даже навсегда. Он почтил своим доверием маленькую нубийскую рабыню, посвятил ее в свои дела, и теперь она прикроет рот каждому, кто осмелится насмехаться над ее хозяином. Одновременно у нее возникла потребность утешить его, помочь ему пережить разлуку. Такка не изучала искусство соблазнения, потому что в ее племени не говорили об этом с необрезанными девушками. Она действовала так, как велело ей ее сердце и женская природа. С некоторых пор она чаще смотрелась теперь в тусклое бронзовое зеркало, при помощи которого Пиай каждый третий день сбривал щетину. Он имел право на цирюльника, но старался не затруднять людей, если мог справиться сам.
Такка смотрела на других женщин, как они красятся. Она достала немного ароматной воды, которой обрызгивала себя, перед тем как Пиай приходил домой, и теперь, поскольку настали жаркие месяцы времени Шему, носила легкое, очень короткое платье, тонкие складки которого едва прикрывали ее маленькую твердую грудь.
Однажды она спросила Пиайя, не будет ли он возражать, если она дома, конечно же, только дома, из-за жары будет носить лишь набедренную повязку. Если это ему помешает…
— Нет-нет, это мне не мешает. Молодые рабыни при дворе Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, тоже ничего больше не носят, и никто не находит в этом ничего зазорного.
Пиай мог признаться, что ему нравится крепкое, стройное тело юной нубийки. С недавнего времени от нее исходил аромат сандалового дерева, и по вечерам мастер почти не сводил глаз с ее темного гибкого тела, когда, готовя ужин, девушка крутилась вокруг него, случайно касалась его, за что тут же извинялась. От Такки не ускользнуло, с каким вниманием ее господин смотрит на нее, и инстинкт предупредил ее, чтобы она не переусердствовала. И однажды вечером она приняла его снова в своем платьице.
— Я думаю, что тебе, господин, все-таки мешает, когда я здесь кручусь по хозяйству в одной набедренной повязке, словно полевая рабыня или танцовщица. Сейчас уже не так жарко. Ты не находишь, что так приличнее?
Она задавала эти вопросы с широко раскрытыми глазами и самым невинным видом, и Пиай радовался ее наивной непринужденности.
— Это касается только нас двоих. Если бы у нас были гости, то тебе, конечно же, пришлось бы надеть платье. А мне это не мешает, Такка. Побереги свое платье для более прохладного времени года.
— Если ты так желаешь…
Такка снова сняла платье, и Пиай проследил за ней довольным взглядом.
— Ты рассказал мне о Пер-Рамзесе, городе фараона, да будет он жив, здрав и могуч. Там живут только светлокожие люди, или же есть также люди из Куша?
— Коренное население на севере, конечно, со светлой кожей, но и нубийцы служат при дворе Благого Бога.
— Вероятно, в качестве рабов?
Пиай улыбнулся:
— Нет, их встретишь всюду, также и на высоких должностях. Фараон, да будет он жив, здрав и могуч, ценит лишь умение и талант, а не цвет кожи. Личный повар царя темный, как черное дерево. Два военачальника и несколько высокопоставленных чиновников происходят из Куша, не говоря уж о царских слугах, носителях опахала, няньках и девушках из гарема.
— Так как я и так принадлежу царю, я бы тоже могла получить место при дворе?
Пиай улыбнулся:
— Это не так просто: должности при дворе, даже самые скромные, очень желанны и почетны. Они большей частью передаются из поколения в поколение в семье, или же их получают по рекомендации. Раньше мне стоило бы только замолвить словечко за тебя, но теперь… А ты хотела бы служить при царском дворе?
— Нет, господин, — честно ответила Такка, — мне больше нравится у тебя.
Пиай схватил руку девушки и притянул ее поближе к себе.
— Ты это прекрасно сказала. В Кеми есть немного людей, которые хотели бы служить мне охотнее, чем царю. Вероятно, ты одна-единственная, маленькая нубийка.
— Потому что ты мне нравишься. Благой Бог такой далекий, даже если служишь ему и находишься вблизи от него. Я полагаю, он не стал бы слушать меня так долго, как ты. А уж чтобы он взял меня за руку…
Еще несколько мгновений назад Пиай не думал о том, чтобы поцеловать Такку, а теперь сделал это, нежно и любовно. Он привлек девушку к себе на колени, погладил ее темное, пахнувшее сандаловым деревом тело, поцеловал еще детскую грудь, ощутил ее легкое сопротивление и тотчас спросил:
— Ты не хочешь? Ты боишься?
Такка только молча покачала головой и неистово бросилась в его объятия. Он отнес ее к своему ложу, развязал ее набедренную повязку и начал нежно поглаживать ее живот, при этом в голове у него промелькнуло: «Ты любишь противоположности, Пиай, сначала дочь Солнца, а затем нубийская рабыня». Однако он не ощутил никакой разницы. Такка сказала ему, что она не обрезана, и теперь он радовался тому, что докажет ей преимущество этого недостатка. Она начала дышать быстрее, запрокинула голову, когда он проник в ее лоно, и тихо застонала. Когда Пиай помедлил, она закричала:
— Останься там, останься во мне!
Она обхватила руками его бедра и прижала его к себе, как будто хотела проглотить.
Позже она призналась:
— Первый раз это было так безобразно, что я чувствовала себя, как зверь, которого убивают, а теперь это было так прекрасно…
— Если оба этого желают, то это большей частью прекрасно. Ты знаешь, что я с… с тех пор не спал больше ни с одной женщиной? Я был мертв, как мумия перед открытием рта, я был лишь инструментом, который делает свою работу, а теперь… — Он любовно посмотрел на нее. — Ты все еще стремишься к тому, чтобы сделать обрезание и стать настоящей женщиной? Как мужчина, могу тебя заверить, у тебя все, как и должно быть.
— Я не увижу моей родины, и я не хочу этого. То, что было правильным там, здесь может оказаться фальшивым, и наоборот. Я выучила язык этой страны, ты рассказал мне о богах и о фараоне, да будет он жив, здрав и могуч. Если ты позволишь мне несколько месяцев прожить в твоем доме, ты сделаешь из меня настоящую египтянку.
— Зачем мне тебя прогонять?
— Я могу тебе надоесть, а кроме того, твоя любовь принадлежит другой женщине. Я же рабыня, и мое тело принадлежит не мне одной.
— Ты права, кое-чем от него обладаю и я. По сравнению с тобой я старик, и, может быть, ты сама скоро будешь мной сыта и станешь стремиться к молодому возлюбленному всей силой своих желаний.
— Я встречала разных мужчин. Я не хочу пережить это еще раз. С тобой же я готова быть так долго, как ты захочешь, пока я тебе буду нравиться.
Они оба не придали этому большого значения. В их ежедневной жизни ничего не изменилось, они обращались друг к другу так же непринужденно, как и раньше. Такка не предъявляла никаких особых прав, и Пиай обращался с ней и дальше, как с равноправной жительницей в доме. Они жили как супружеская пара, но знали, что это брак на время.
Царь приказал принцу Сети явиться к себе и строго предупредил его:
— Ты не главарь наемников, который, когда он пьян, вламывается в свой гарем и набрасывается на первую попавшуюся женщину. Этим браком тебе оказали честь и возвысили тебя, только этот брак сделал тебя законным принцем. А что делаешь ты? Ты разбиваешь двери и в покоях жены хочешь добиться силой того, что мужчина, умеющий владеть собой, получает нежностью и любовью.
— Извини, о Благой Бог, но это не совсем так. Я не хотел бы тебе говорить этого, но должен признаться, что, за исключением свадебной ночи, все эти месяцы спальня Мерит была для меня закрыта. То она беременна, то она устала, то у нее болит голова, то у нее время очищений. В последний раз у нее даже не нашлось обычных отговорок. Бикет, этот демон ада в женском обличье, регулярно отгоняла меня от дверей жены. Хорошо, у меня есть гарем, и я владею несколькими очень привлекательными женщинами. Мне бы этого хватило, но ты, как ты верно заметил, почтил меня и возвысил этим браком, и я считаю своим долгом зачать следующих детей с законной супругой и основать настоящую семью. Но Мерит отказывается от этого. Извини, если я это скажу, Богоподобный, но я полагаю, что ты не должен был нас женить.
Рамзес задумался. Случай показался ему неприятным. То, что делает фараон, благо — так его воспитывали, и он в это верил. Ему было бы легко расторгнуть брак, но тогда он должен был бы признать, что изначально поступил неправильно, а это противоречило Маат, божественному порядку. Фараон не может поступать неправильно!
— Сети, я посоветую тебе следующее: ты должен полностью изменить свое поведение. Встречай Мерит с нежностью и уважением, делай ей маленькие подарки, но ничего от нее не требуй. Она гордая женщина, ей трудно забыть происшедшее. Ты должен завоевать ее сердце! Попытайся сделать это.
— Хорошо, Богоподобный, я сделаю все, что смогу, хотя надежды у меня немного.
Принц Монту нашел новое занятие, которое доставляло ему удовольствие и сделало его пребывание при дворе более сносным. Ему и в самом деле удалось возбудить любопытство подрастающего Меренпты к обращению с оружием и лошадьми. Монту обладал терпением жителя пустыни и никогда не настаивал, как обычно делал его отец, что что-то должно делаться немедленно и тотчас, и со временем Меренпта стал доверять ему. Дело зашло так далеко, что сын Изис-Неферт даже признался Монту в тайной дружбе с Мерире, который был младше его на пару месяцев.
— В конце концов мы братья. Он же не выбирал себе маму, как и я. В школе мы не говорим друг другу ни слова, чтобы наша дружба не бросалась в глаза, но мы тайно встречаемся, и нам очень приятно друг с другом. Мери — здоровский парень! Мы так и зовем друг друга — Мери, но ты никому об этом не рассказывай.
Монту похлопал мальчика по плечу:
— Конечно, я же тоже ваш брат. Моя мать давно исчезла из гарема, ваши не могут терпеть друг друга, тем крепче мы должны держаться друг друга. Как ты считаешь?
— Да, и еще кое-что. Мери хотел бы принимать участие в наших упражнениях, но он боится, что ему запретят. Что делать?
— Просто забыть, что у нас разные матери, и обратиться к отцу, который у нас один на всех.
Рамзес тотчас согласился. Он сказал Парахотепу:
— Пока Монту не потребуется мне для посольства, он может спокойно заниматься с обоими мальчиками. У него они в хороших руках.
Незамун издалека наблюдал за развитием событий и составил дьявольский план: так как приблизиться к наследному принцу слишком опасно и бесполезно, жертвой должен стать Мерире. Если с Енамом что-либо случится, этот тринадцатилетний подросток должен стать его преемником. Если доживет.
Обстоятельства не могли быть более благоприятными. Изис-Неферт направлялась с Хамвезе и Озирисом-Рамозе в Фивы. Незамун попросил у своей госпожи разрешения остаться здесь. Он чувствовал себя слишком старым для долгого путешествия и надеялся, что сможет быть полезнее царице здесь. Бурно сопротивлявшийся Меренпта должен был отправиться в путешествие с матерью, потому что Изис-Неферт хотела показаться на родине во всем блеске своего материнства. Впрочем, в обычае было, чтобы оба сына сопровождали своего брата к его Жилищу Вечности. Итак, у Монту остался только один ученик, да и тому занятия без друга не доставляли особого удовольствия.
— Я знаю, что мы сделаем! — воскликнул Монту однажды утром. — Улица процессий, ведущая к храмовому кварталу, сейчас полностью вымощена. Она длиной по меньшей мере шесть тысяч локтей. Мы попросим одну из легких боевых колесниц и попробуем проехаться в ней по улице…
Мерире зажегся воодушевлением, но Монту охладил его пыл, добавив:
— Если нам разрешат.
— А почему нет? Мы обратимся к Сети, тот непременно поймет нас.
Болтая вечером с Незамуном, Монту сообщил ему об этом плане. Управитель двора Изис-Неферт вздохнул:
— Иногда я сожалею о том, что избрал стезю жреца. В войсках жизнь более богата событиями, особенно у воинов ниу. Твоих приключений хватило бы, чтобы расписать несколько стен храма.
— Но они не такие уж отчаянные, — отнекивался Монту, чувствуя себя польщенным.
— А можно посмотреть эти новые боевые колесницы? Ты возбудил во мне любопытство.
— Конечно, их несколько дюжин, они стоят на месте тренировок ширдану.
— Во всяком случае, я хотел бы присутствовать, когда вы поедете. Может быть, и я сам смог бы…
— Управлять колесницей? — спросил Монту с легкой насмешкой.
— Нет, только проехать с вами. Хотя я слишком толст и неуклюж для этого. И еще слишком тяжел…
— У тебя нет тренировки, это было бы чересчур опасно для тебя.
«Это будет опасно для других», — мрачно подумал Незамун и начал обдумывать план покушения.
9
— Не должен ли ты подождать со свадьбой, пока твоя вторая супруга и Хамвезе не вернутся из Фив?
Уже долгое время Нефертари не произносила имени второй жены. Тем не менее она считала более приличным отпраздновать свадьбу с Гутаной после возвращения Изис-Неферт. Вскоре у царя появится еще и третья супруга, но Нефертари не находила в этом ничего необычного.
— Я полагаю, так не пойдет. К более скорейшему заключению брака, — Рамзес успокаивающе улыбнулся жене, — меня подталкивает не мое собственное нетерпение, а посольство хеттов. В следующем месяце в Хатти будут праздновать какой-то очень важный юбилей, и они настаивают на отъезде. Я полагаю, их мошенник-царек Хаттусили приказал им под угрозой смерти покинуть Кеми только тогда, когда они станут свидетелями свадьбы. Зачем мне приводить бедняг в затруднение? Ты — моя Великая Супруга, здесь, поэтому праздник может состояться.
На этот раз фараон солгал своей Прекраснейшей. Конечно, послы настаивали, однако не менее долга его подгоняло нетерпение сыграть свадьбу с этой змеей с бирюзовыми глазами. Предвкушение удовольствия волной пробегало по его телу, когда ее глаза, подобные драгоценным камням, смотрели на него. Он много дал бы, чтобы сорвать с хеттиянки юбки и насладиться ее телом. Короче говоря, впервые за много лет женщина заставила его так беспокоиться, проявлять такое нетерпение, пробудила в нем любопытство и непреодолимое желание.
Фараон позволил всему населению Пер-Рамзеса принять участие в свадьбе. На каждой улице раздавали хлеб, вино и пиво. Во дворце довольные послы из Хатти могли наблюдать, как дочь их царя была коронована уреем, провозглашена третьей женой Благого Бога и получила египетское имя — с этого дня ее стали называть царской супругой Мерит-Анта — любимицей богини Анат, потому что Рамзес посчитал вполне подходящим и счастливым то, что иноземную принцессу будет любить также иноземная богиня любви и войны.
В вечер свадебного празднества Нефертари спросила супруга с легкой насмешкой:
— Ты радуешься брачной ночи с хеттской принцессой? Со второй супругой я должна была тебя просить и ободрять, не то ты бы не добрался до постели Изис-Неферт. Помнишь?
— Она мне сразу не понравилась, и сегодня она не стала ближе моему сердцу. Этот брак был лишь любезностью, которую я оказал жрецам из Фив.
Нефертари говорила теперь совсем тихо, потому что Мерит-Анта сидела на троне по левую руку от царя и высокомерно поглядывала на гостей.
— На этот раз тоже ничего другого. Хаттусили послал тебе свою дочь, ожидая, что ты сделаешь ее своей женой. Ты выполняешь его желание, чтобы не злить союзника. Ты не искал этой женщины. Она была тебе навязана точно так же, как тогда Изис-Неферт.
Обычно такая мягкая и все понимающая Нефертари, казалось, сегодня была намерена сердить своего супруга, фараона. Как будто какой-то непреодолимый страх побуждал ее к подобным замечаниям, и она сама не могла понять природы этого страха.
Нефертари недавно перешагнула свой сороковой год жизни. Она чувствовала, как сохнет ее до этого плодородное тело. Каждое утро ей приходилось втирать драгоценное масло в становившиеся все заметнее морщинки у глаз и заставлять их исчезать. Она осталась стройной, как юная девушка, но ее грудь потеряла былую упругость, ранее столь прекрасный пупок был теперь окружен складками дряблой кожи. Она стремилась, чтобы их любовные игры с фараоном имели место ночью или хотя бы в сумерках, потому что не хотела, чтобы признаки надвигающейся старости были выставлены на безжалостный дневной свет и предстали взору мужа.
Рамзес, казалось, ничего из этого не замечал или, как боялась Нефертари, не подавал виду, что замечает. Он болтал с ней так же непринужденно, как всегда, был нежен и ласков, доверял ей свои самые тайные мысли и ни разу сознательно не лгал ей.
Нефертари повторила свой вопрос, потому что он на него не ответил.
— Брачная ночь? Да что в ней такого особенного? Я не думаю, что лоно у нее выглядит по-другому, чем у египтянок. — Он насмешливо улыбнулся Нефертари. — Это же не первый раз, когда я сплю с иноземкой. Гарем кишит девушками из Митанни, Нахарины, Амурру и Куша, и каждый раз я нахожу те же губы, груди, бедра, то же послушное лоно…
Нефертари ощутила, что Рамзес дает уклончивые ответы, однако ей пришлось этим удовлетвориться. Гутана же, которую теперь должны были звать Мерит-Анта, вела себя так, как будто ничего особенного ей не предстояло. Она думала о предстоящей брачной ночи и ожидала ее с равнодушием. Уже на двенадцатом году она была лишена девственности на службе богини Иштар и после этого имела дела со многими мужчинами при дворе. Для некоторых молодых придворных соблазн увлечь дочь царя был слишком велик, и тот, кто нравился Гутане, находил дверь ее спальни открытой. Если любовник ей надоедал, она распространяла слух, что он взял ее силой, и несчастного сажали на кол во дворе. Гутана, не моргнув глазом, наблюдала, как ее бывший любовник извивается на колу, проклинает ее, ревет и визжит от боли.
У царя Хаттусили было множество дочерей, но Гутана считалась настоящим демоном в женском обличье и своему поведению была обязана тем, что сейчас стала египетской царицей. Когда возник вопрос, кого из дочерей следует отослать с посольством в Кеми, Хаттусили не медлил ни мгновения. Он был рад избавиться от порочной Гутаны. Но до того ее должны были снова сделать девственницей.
— Маленькое искупление за твои злодеяния, — злорадно заметил отец, а потом ее схватили четыре сильных мужчины, в то время как опытная женщина иголкой и ниткой восстанавливала ее девственность. Гутана сцепила зубы и не издала ни звука. Ее безмерно радовало, что ее глупые добродетельные сестры получат в мужья в лучшем случае толстого придворного или мелкого вождя-данника, в то время как она, развратница, демон в женском обличье, станет царицей Египта.
Однако Хаттусили поставил некоторые условия:
— Если фараон сделает тебя, как я предполагаю, третьей супругой, я ожидаю, что ты будешь действовать в мою пользу и в пользу нашей страны. Прежде всего мне хотелось бы вернуть себе западную часть Амурру. Там находятся важные города с портами, да и полоса вдоль морского побережья очень плодородна. Я уступил эту область ради мира с египтянами. Ты же должна будешь попытаться снова выманить ее. Подари Рамзесу сына и попроси себе Амурру в качестве личного подарка. Для него это будет лишь жест, потому что, если он подарит страну тебе, она останется в Кеми. Следующим шагом могло бы быть…
— Извини, высокочтимый отец, если я тебя прерву. Ты сам часто говорил, что нельзя делать третий шаг до первого. Пока мы не можем сказать с полной уверенностью, что царь Рамзес вообще сделает меня третьей супругой. Может быть, он запрет меня в гареме, и я буду там забыта среди сотен других женщин.
— Он не осмелится! — взорвался Хаттусили. — Мои послы своевременно напомнят ему о том, что ты не какая-нибудь безымянная девка из пустыни, а дочь великого царя и владыки мира Хаттусили, у ног которого лежат десятки данников и который повелевает морями…
— Но не страной на Ниле. А она очень большая, и ее защищает громадное войско. Я выкажу покорность твоим желаниям, дорогой отец, настолько, насколько смогу.
— Да поможет тебе Иштар, — произнес Хаттусили, и ему стало немного жаль, что эта бестия исчезнет в Кеми.
Нефертари ничего не знала об этих вещах, но чувствовала, что Гутана совсем не такая безобидная и робкая, какой выказывает себя. Она приветствовала Нефертари со скромно опущенными глазами, она униженно целовала ступеньки трона и никогда не забывала обращаться к Великой Царской Супруге, именуя ее полным титулом. Иногда правда, когда внимание Нефертари было отвлечено, хеттиянка бросала на нее быстрый змеиный взгляд бирюзовых глаз — презрительный, любопытный и холодный. При дворе ее отца говорили, насколько фараон любит царицу Нефертари, и Пудучепа, Великая Супруга Хаттусили, однажды заметила:
— У египетского царя много женщин, но Супруга только одна.
«Ничего, — подумала самонадеянная Гутана, — посмотрим, так ли это будет. В конце концов Нефертари всего лишь старуха, которая закрашивает свои морщины и должна поддерживать обвислую грудь».
Хеттиянка чувствовала себя молодой, сильной и готовой ко всему, когда царь покинул праздник и повел свою третью супругу Мерит-Анта в ее покои. Гости вскочили и кричали им вслед:
— Благословение Амона да пребудет с тобой, о Могучий Бык, который правит странами и покоряет врагов. Будь сладка в любви и наполни дворец благоуханием, царица Мерит-Анта!
Старый ученый писец, однако, посмотрев вслед царю, вспомнил старую пословицу: «Берегись женщины с чужбины, потому что она подобна большой глубокой воде, водоворота которой не знаешь. Умный откажется от общения с ней…»
Спохватившись, он, конечно, выругал себя за то, что хотел, пусть в мыслях, дать наставление фараону. «То, что очень важно для нас, людей, — подумал он с почтением, — не имеет для Благого Бога никакого значения».
Старик встал, зевнул и покинул зал. В душе он был очень рад, что дома его ждет не чужеземка, а родная старушка жена, бок о бок с которой прожита жизнь. И пусть у нее осталось только восемь зубов и морщины избороздили ее лицо, она мила его сердцу.
Принц Хамвезе сопровождал свою мать в Фивы, а Озириса-Рамозе, умершего брата, — в Жилище Вечности. Юная вдова принца оплакивала своего супруга, как предписывалось церемониями, однако она видела его, имевшего слишком много дел, довольно редко и должна была собрать все свои силы, чтобы достойно сыграть роль вдовы.
Хамвезе отправился в путь, чтобы осмотреть различные храмы, как поручил ему отец, и не всегда был рад тому, что видел. В Большом зале храма Амона он заметил, что только половина колонн на южной стороне покрыта рельефами и надписями. На других колоннах работа началась и, как казалось, была прервана довольно давно. Он насчитал семнадцать колонн, поверхность которых была девственно-гладкой, к ней еще не прикасались. Хамвезе сопровождал Беки-Бекехонс, второй жрец Амона. Вежливый, внимательный, сдержанный, он старался дать на каждый вопрос короткий и точный ответ. Принц остановился и обратился к своему спутнику:
— Жрец Бекенхонс, не хочу скрывать от тебя, что я неприятно удивлен. Приказ моего высокочтимого отца, да будет он жив, здрав и могуч, гласил: закончить начатый еще в царствование Озириса-Сети Большой зал с колоннами. Я же не вижу здесь рабочих, зато налицо семнадцать нетронутых колонн. Пожалуйста, объясни мне это!
Бекенхонс, человек весьма способный, мгновенно дал подходящий ответ. Если бы он медлил с ответом, принц записал бы его в виноватые.
— Работа была прервана, это верно. У нас недостаточно людей, чтобы своевременно выполнять все приказы Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч. Слишком мало скульпторов, и те должны по указанию фараона работать над храмом Мертвых; других же отослали на юг к храмам в Куше. Было бы неслыханным проявлением неуважения позволить выполнять заказ фараона, да будет он жив, здрав и могуч, плохим или недоученным ремесленникам.
Хамвезе с сомнением покачал головой:
— Я слышу лишь отговорки, жрец Бекенхонс. Фараон основал при храме Мертвых школу для художников и скульпторов. Количество ремесленников должно было благодаря этому увеличиться. Или же эта школа существует только на бумаге?
— Это не в моей компетенции, высокочтимый принц. Храм на западной стороне независим, у него собственное управление. Ты должен был бы…
— Да, я это сделаю, — угрюмо ответил Хамвезе. — Но прежде я проинспектирую Южный храм.
Хамвезе велел отнести себя в носилках по улице для процессий к Южному храму. Вдоль протянувшиеся, как шнур, улицы стояли сотни львов-сфинксов, охранявшие священный путь с обеих сторон. Конечно же, визит сына царя не был ни для кого сюрпризом. Храмовые служители опередили его и предупредили о его прибытии.
У большого пилона перед входом гостя встретил верховный жрец Небунеф собственной персоной:
— Приветствую тебя, принц Хамвезе. Жрецы чрезвычайно Рады, и народ Фив ликует по случаю твоего визита, да продлится он подольше.
— Я сопровождаю только Озириса-Рамозе, его вдову и мать, царицу Изис-Неферт. То, что у жрецов имеется причина
радоваться моему визиту, еще следует доказать. Я, во всяком случае, крайне недоволен тем, что увидел в Большом храме — не закончен зал с колоннами.
Небунеф придал лицу озабоченное выражение и беспомощно поднял руки:
— Я полагаю, Беки объяснил тебе: у нас просто нет людей.
Хамвезе покинул носилки и внимательно осмотрел шесть монументальных фигур и два выступавших вперед обелиска из розового кварца перед громадными стенами пилона. Он шагал от статуи к статуе. От его внимания не ускользнула стройная изящная фигурка Нефертари, рука которой нежно касалась ноги ее громадного супруга. Хамвезе был ученым, не тратившим силы на придворные интриги, однако он ощутил легкий укол обиды и мог понять свою мать, которая уже много лет жаловалась, что ею пренебрегают. Нигде во всей стране, с севера до юга, имя Изис-Неферт не было увековечено, и Хамвезе, который ранее держался от всех в стороне, теперь начал ощущать себя сторонником матери. В конце концов его мать родила фараону четырех здоровых детей, и в смерти Рамозе не было ее вины. Его самого фараон ценил выше всех, и хоть немного этой приязни, по мнению Хамвезе, он мог бы перенести на свою вторую супругу.
«Я об этом позабочусь», — решил он для себя, отвернулся и быстрым шагом прошел во двор храма.
— В последний раз я был здесь с мастером Пиайем, — заметил Хамвезе больше для самого себя и взглянул на колоссальные статуи между колоннами в виде папируса.
— Это же Озирис Небмаре?
— Теперь уже нет… — ответил Небунеф с бесстрастным лицом.
Хамвезе подошел ближе. Действительно, на поясе был выбит громадный картуш Рамзеса. Хамвезе покачал головой, но воздержался от комментариев. Ему никогда не бросалось в глаза, как беззаботно его отец узурпирует статуи других фараонов.
Не оглядываясь, он быстро прошел дальше, в построенный фараоном Аменхотепом двор с колоннами, остановился и взглянул на надписи.
— Это невозможно! — воскликнул Хамвезе в праведном гневе. — Царь-еретик несколько сотен лет назад велел сбить по всей стране все почетные титулы Амона-Ра, и здесь, в одном из посвященных Амону мест, надписи все еще не обновлены! Вот, вот, вот, вот! — Хамвезе возбужденно указал на различные места на колоннах и стенах. — Вы не сочли нужным надписать имена вашего бога? Здесь, в Фивах, где вы объявляете, что Амон является единственным царем? В то время как мой отец, да будет он жив, здрав и могуч, расширял храм, было бы легко снова выбить пару надписей. Я жду ответа, жрец Небунеф.
Верховный жрец не позволил вывести себя из состояния спокойствия. Когда фараон пожаловал ему эту должность, инсценировав выражение воли Амона, он чувствовал себя обязанным царю, но годы служения могущественному богу медленно, но верно меняли его. Конечно же, он все еще был верен фараону, однако прежде всего он был слугой Амона. Поэтому говорил уверенно и без смущения:
— Эта небрежность имеет объяснение. В других храмах ты увидишь, что имя Амона восстановлено. Здесь же, как решили еще мои предшественники, богохульственное деяние исчезнувшего из истории еретика Эхнатона оставлено в качестве примера, который служит предупреждением. Ты — ученый человек, принц Хамвезе, и хорошо знаешь историю нашей страны, и ты согласишься со мной, если я скажу: сегодня вряд ли возможно, чтобы фараон осмелился уничтожить имя своего божественного отца Амона-Ра, и никто не будет отрицать существование наших местных богов. То, что напоминало о злосчастном культе Атона, давно уничтожено, и город Ахетатон сровняли с землей. В будущем никто и не вспомнил бы мятежного, но это отняло бы победу у Амона-Ра, и его триумфальное возвращение потеряло бы смысл. Здесь же еще видны следы совершенного богохульства, и, если Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, не прикажет по-другому, они останутся в назидание потомкам.
— Ты привел веские аргументы, — против воли признал Хамвезе. — Я не могу умолчать о них перед фараоном.
На следующее утро Хамвезе пересек Нил и нашел храм Мертвых своего отца. Когда жрецы и храмовые чиновники приветствовали его, он сказал:
— Я не хочу, чтобы меня сопровождали. Я хотел бы сам все осмотреть и спокойно составить представление обо всем. После этого я расскажу вам о своих впечатлениях.
Перед входом в гробницу он застыл с удивлением перед монументальной сидящей фигурой своего отца — великим произведением скульптора Пиайя, которого Хамвезе ценил и уважал. Он медленно обошел колосса и осторожно провел ладонью по гладкому, как зеркало, безупречно обработанному граниту.
Здесь же он с усмешкой обнаружил свое имя среди приведенных там имен одиннадцати сыновей Благого Бога. Ну, хоть здесь все казалось оконченным, хотя на колоннах в Большом зале между рисунками и надписями еще бросались в глаза большие пробелы. Хамвезе прошел дальше, к библиотеке, которую поддерживали восемь колонн. Она была так богато обставлена, что ученый принц, копаясь в свитках, забыл о своем окружении, и только заход солнца напомнил ему, что нужно возвращаться. При этом он забыл посетить мастерские, и жрецы облегченно вздохнули. Там, конечно, работали несколько художников, скульпторов и литейщиков, и они обучали учеников, но их было слишком мало, потому что грандиозное строительство срочно нужно было завершать.
Хамвезе вышел на воздух и еще раз посмотрел на колосс из розового гранита в мягких лучах вечернего солнца, который светился, и снова увидел Нефертари, стоявшую у ног Благого Бога. Верховный жрец Пта тихо улыбнулся.
Когда царь Рамзес встал из-за свадебного стола и вывел свою третью супругу за руку из зала, у него появилось внезапное ощущение, что не он ее ведет, а она его.
Главный советник Парахотеп и первый посланник царя Хаттусили согласно церемониалу проводили их вплоть до дверей спальни. Посланник хотел было войти туда, но Парахотеп удержал его:
— Нет, мой друг, здесь это не принято. На ложе любви царю мешать нельзя.
Посланник едва владел египетским, и главный советник понял лишь следующие слова:
— Я ждать! До завтра. Взойдет солнце, и Гутана, — он поправился, — и Мерит-Анта… Я имею в виду…
Он не нашел нужного слова.
— Я понял, — сказал Парахотеп и послал телохранителя за удобным стулом для высокоуважаемого посланника.
Рамзес провел новую супругу к брачному ложу, покрытому мехом леопарда, и начал ее раздевать. В мерцающем свете масляных ламп в ее бирюзовых глазах появилось нечто, напоминавшее взгляд змеи — медянки в затуманившемся медном зеркале. Мерит-Анта выказывала робость и стыдливость, потому что ее девственность была восстановлена, и было бы неумным разыгрывать опытную женщину.
Она настояла, чтобы под их телами был расстелен церемониальный белый льняной платок и боязливо протянула руки к своему супругу.
Рамзес, убежденный в том, что девушка была нетронутой, не хотел напугать ее и вел себя с особой осторожностью. Он только гладил ее тело, немного пососал ее полные тяжелые груди, долго ласкал внутреннюю сторону ее бедер и был удивлен, как быстро девушка стала реагировать на его ласки.
Есть люди, которые рано выказывают свои особые способности. Про таких говорят, что это прирожденный художник, скульптор, музыкант или певец. Гутана, которую теперь звали Мерит-Анта, была прирожденной проституткой. Уже в восемь лет она предпринимала игривые попытки заманить к себе в постель своих братьев, а начиная с двенадцати без помех предавалась своей врожденной склонности, которая часто имела трагические последствия для ее любовников.
— Тебя положила ко мне в постель приносящая радость Баст, — заметил он восторженно, но не мог при этом удержаться, чтобы не спросить, откуда у нетронутой девушки такой громадный любовный опыт.
— Нас заботливо подготавливают к свадебной ночи. Ты знаешь, что культ нашей богини Иштар тесно связан с любовным служением девушек при храмах. Они передают свое искусство девушкам при дворе, и мы, оставаясь девственными, вступаем в брак с очень богатыми знаниями.
Рамзес поверил ее объяснениям и воспринял как недостаток то, что в Кеми не существует ничего подобного.
Знания Гутаны распространялись так далеко, что она могла пробуждать новые силы в измотавшемся любовнике и была в этом так искусна, что Рамзес заснул только за час до восхода солнца и был бы разбужен в третий час дня озабоченным Парахотепом. Однако Мерит-Анта приложила палец к губам и указала на царя, спавшего рядом с ней глубоким сном. Кончиками пальцев она протянула Парахотепу покрытый пятнами крови льняной платок и высокомерным кивком головы указала ему, что он должен быстро удалиться.
Ждавший снаружи посланник вырвал платок из рук визиря и издал радостный крик. Он, конечно, знал, что за бестия принцесса Гутана и до последнего очень беспокоился. Теперь его миссия была выполнена, и он со спокойной совестью мог отправляться домой. Его голова снова крепко сидела на его плечах, потому что он выполнил все приказы своего повелителя.
С этой ночи Рамзес не мог ни дня обойтись без любовного искусства своей новой супруги. Никогда ранее он не чувствовал себя столь Могучим Быком, как в объятиях Мерит-Анта — хеттиянки с бирюзовыми глазами. Ее манящий взор заставил его забыть даже о государственных делах.
Первой неладное заподозрила старая царица Туя. Седая мать фараона все еще жила в своих поместьях и время от времени показывалась при дворе. Со своим широким лицом она выглядела как старая крестьянка, каковой она себя охотно и называла. На этот раз она прибыла, чтобы ей представили третью жену ее сына, и ей хватило одного взгляда, чтобы понять, что Рамзес увлекся этой змеей с бирюзовыми глазами.
Мерит-Анта рассыпалась в знаках уважения и проявления вежливости, однако ее холодные бирюзовые глаза оставались жесткими, внимательными и холодными.
В тот же самый день царица-мать имела беседу с главным советником.
— Ты очень редко оказываешь нам честь своими визитами, Богоподобная. У тебя есть много новых внуков, которые хотят тебя видеть, а кроме того…
— Не будь многословен, Парахотеп. Твои слова хороши, но ты знаешь мое мнение. Я поставила перед собой задачу и ее решению намерена отдавать все силы до тех пор, пока Озирис не призовет меня. Но у меня есть глаза, и я вижу, что мой сын неподобающим образом привязался к этой иноземке и очарован ею. Я надеюсь, ей не удалось выманить у него признаний, о которых он позже станет жалеть. Что говорит по этому поводу Нефертари?
— Ты знаешь, о царица, что Великая Супруга завоевала сердце фараона, да будет он жив, здрав и могуч, и удерживает его. Она никогда не делила его с другими женщинами. Теперь однако…
Царица-мать Туя поднялась:
— Я сама с ней поговорю. А ты не спускай глаз со змеи из Хатти. Она будет обустраивать себе здесь нору. А ты, вероятно, знаешь, что делают в Кеми с норами змей.
Парахотеп угрюмо улыбнулся:
— Обкладывают хворостом и поджигают, я полагаю.
— Верно, мой друг. Ядовитое отродье уничтожают для блага остальных. Подумай об этом!
— Я не забуду это, о царица.
Нефертари горько сетовала Туе на свое горе:
— Я не узнаю его! Его тело я должна была делить с сотнями женщин. Он царь, я понимаю это, однако в его сердце я была всегда уверена. А сейчас он так усердно хлопочет обо всем, что касается Мерит-Анта. Некоторое время назад у стены снесли старые мастерские, и там теперь возводят ее дворец, роскошный и помпезный, вдвое больше моего. И как быстро его должны построить! Его величество собрал всех рабочих, чтобы вскоре положить свой дар к ее ногам. Меня он едва замечает! Беглые приветствия, никаких доверительных разговоров больше, никаких шуток, никакого смеха, все в спешке, лишь бы не оставлять ее одну слишком долго. Что мне теперь делать, матушка Туя? У тебя есть опыт, дай мне совет!
Старая вдова царя, казалось, почувствовала неуверенность и какое-то время раздумывала.
— Совет? Ах, деточка, какой совет я должна тебе дать, ведь ты знаешь его лучше всех остальных. То, что я могу тебе посоветовать, будет даваться тебе с трудом, но я не вижу другой возможности. Подожди! Выкажи терпение, которого никогда не было у моего сына, стань недоступной, отстранись от него. Поезжай на какое-то время в Мемфис, там сейчас время праздников: люди почитают богов во время месяца Ахет. Прими участие в торжествах, покажись народу. Пусть Кеми ликует в честь своей настоящей и действительной царицы! Кому нравится змея из Хатти? Он скоро устанет от нее и укажет ей на место, которое ей подобает.
— Я не знаю… — Нефертари беспомощно посмотрела на Тую, опустила голову и начала тихонько плакать.
Туя похлопала ее по плечу:
— Ну-ну, деточка, дела еще не так плохи. Все за тебя, чужеземка никому не нравится. Если же это продлится дольше, чем я полагаю, если он подарит ей не только этот дворец, тогда… Тогда мы должны будем что-нибудь предпринять, дочь моя. Я уже говорила с главным советником, и он разделяет мое мнение. Из этой змеи никогда не получится египтянка. В ней есть что-то коварное, враждебное нам, как будто она только выжидает, как будто у нее еще очень большие планы… — Царица-мать погладила сноху по голове как ребенка. — А теперь прекрати плакать, наберись терпения и подожди. Что говорит Енам обо всем этом?
— Енам?.. Ну, он часто в отъезде, но даже ему бросилось в глаза, что отцу больше нет ни до чего дела. Однако он мужчина и смотрит на все другими глазами.
— Он твой сын! Я поговорю с ним.
Чтобы побеседовать с внуком, Туе пришлось подождать еще несколько дней, потому что наследный принц Енам присутствовал в Оне на празднике в честь бога солнца Атума-Ра.
— Я не смотрю на это так серьезно, — сказал он беззаботно. — Отец увлекся, это пройдет. В ней есть что-то особенное, в этой Мерит-Анта. Если бы Хаттусили подарил ее мне, ну, я не знаю…
Глаза Енама похотливо блеснули, но Туя посмотрела на внука неодобрительно:
— Нефертари и я, да и Парахотеп также, считаем развитие событий не таким безобидным. Ты должен кое-что обдумать. Если у Мерит-Анта родится ребенок и это будет мальчик, может статься, фараон изменит свое решение о порядке престолонаследия. Такие вещи уже бывали в Кеми.
Енам рассмеялся, но как-то неуверенно:
— До этого момента опьянение у него пройдет. Ничего особенного в ней нет. Вероятно, она привязала Благого Бога к себе магическим искусством. Хетты — мастера в магии. Но такое волшебство не действует вечно, уважаемая бабушка Туя, оно кончается быстрее, чем думаешь. Тем не менее, следует подумать…
Енам не сказал ничего больше, только задумчиво посмотрел в окно. На улице с тамариска доносилось легкое воркование голубей.
Туя поднялась:
— Да, сделай это! Подумай!
Она нежно потрепала своего внука по щеке и пошла к двери, прямая и сильная, несмотря на свой возраст.
Принц Монту, который рассчитывал, что фараон во время разлива Нила, то есть в месяцы Ахет, отправит экспедицию на Кефтиу, с удивлением наблюдал, как Рамзес в спешке согнал всех рабочих на строительство дворца для своей третьей жены, чтобы затем снова исчезнуть в гареме, где временно жила Мерит-Анта. Так, пожалуй, он дотянет до времени Перет, когда никто не осмелится выйти в море. Монту выяснил, что в это время ужасные бури делают Зеленое море опасным для плаванья. Ну и Амон им всем судья. Зато Монту добился того, что Сети позволил ему и его ученику, тринадцатилетнему Мерире, испытать одну из новых боевых колесниц.
Мерире наблюдал за пробной поездкой Монту и сам горел нетерпением забраться на колесницу. Он подбежал к старшему брату и закричал:
— А мне можно тоже попробовать? Совсем немного, пожалуйста, пожалуйста!
Монту покачал головой и с сожалением улыбнулся:
— Не на этой лошади, Мерире. Ты знаешь, что я отвечаю за тебя. Я велю привести для колесницы особенно спокойную лошадь с лугов. Подожди до завтра, и рано утром, еще перед восходом солнца, будем здесь. Тогда и прокатимся. Согласен?
— Ничего другого не остается, — вздохнул Мерире и нехотя поплелся за старшим братом и учителем, с тоской поглядывая на колесницу.
Тучный Незамун наблюдал за всем этим издалека и внезапно почувствовал страх, когда подумал о своем намерении. В таких случаях он представлял себе свое уютное Жилище Вечности и рисовал, насколько красивее оно может стать, если у него будут средства для этого. А эти средства у него будут, если он займет должность верховного жреца Амона. Только бы получить это место!..
Незамун вздохнул. Все вертелось по кругу, другой возможности не было. Он пошел ко дворцу Изис-Неферт, где у него имелись скромные покои и где сейчас его ждал ужин. Особенно голодным он сегодня не был. «Ты не должен этого делать, Незамун!» — шепнуло осторожное ка. Должность верховного жреца связана с некоторыми заботами, тем более если он и дальше хочет оставаться управителем двора Изис-Неферт. Но как заманчиво было бы возвыситься со своей госпожой, если Нефертари и ее выродки будут побеждены и сгинут в небытие!
Будь он моложе, можно было бы позволить себе подождать и проявить терпение. Но, увы, он далеко не молод, и, если боги подарят ему еще восемь или десять лет жизни, это уже много. Конечно, настоящая беззаботная жизнь начинается только в Стране заката, в Жилище Вечности.
«Довольно странно, — подумал Незамун, — что люди так привязаны к своему земному существованию, особенно те, которые могут позволить себе подготовить просторную, благоустроенную гробницу. Если так думает крестьянин, это вполне понятно, потому что его бросят в яму и вскоре после его смерти шакалы станут драться за его кости. Но, кто знает, думают ли эти люди вообще?»
Незамун подошел к своему ложу, приподнял пахнувшее ароматными травами покрывало и достал две маленькие пилы из закаленной бронзы. Он провел кончиком пальца по острым, как иглы, зубьям, испробовал крепость лезвия и аккуратно засунул обе пилы за пояс так, что были видны только деревянные рукоятки. Потом набросил на себя двухслойную льняную накидку, скрывавшую его полный живот. Как жрецу Амона, ему не позволялось носить на теле ничего происходившего от животных, поэтому от одежды из овечьей шерсти пришлось отказаться. Только во время праздников церемониальная шкура леопарда ложилась на плечи жреца.
Незамун взглянул на водяные часы, которые показывали два часа до полуночи. В это время каждый в дворцовом квартале уже спал, за исключением нескольких стражей и, вероятно, подумал Незамун, ухмыльнувшись, Благого Бога, который каждую ночь доказывает свои способности Могучего Быка в постели хеттиянки.
Так как Нефертари как Великая Царская Супруга обладала своей собственной дворцовой стражей, Изис-Неферт также заявила свои права на охрану, потому что, как она говорила, чувствует, что ей угрожают, и не сможет заснуть, пока ее дом не будут охранять. Но, поскольку царица была в Фивах, дом стоял почти пустым; стражу тоже отпустили.
Жрец-чтец выскочил незамеченным на улицу и, несмотря на темную ночь, нашел дорогу, потому что здесь он знал каждый камень и каждый куст. Он знал точно, по каким дорожкам проходит вооруженная стража, старательно избегал ее, ждал, прислушивался — время у него было.
Ага, вот и колесница. Незамун нащупал колеса, добрался до тонко отполированных спиц из твердого дерева. Он вытащил одну пилу и всадил ее туда, где спица была связана с колесом. Он старался работать бесшумно, напряженно вслушиваясь в любые шорохи. Вот жрец достал клей, которым старательно замазал разрезы, затем проверил свою работу. Даже при тщательном осмотре ничего не было заметно.
Внезапно Незамун услышал шаги. Он быстро спрятал источник света под накидку и спрятался за колесницей. Он услышал голоса и увидел, как в тусклом свете мерцающей масляной лампы приближаются двое мужчин из дворцовой охраны.
— Я видел здесь какой-то свет, — сказал один и приподнял масляную лампу.
Незамун боялся шелохнуться и прижался как можно ближе к колеснице.
— Вероятно, это пара светлячков. Их в это время года полным-полно.
Стражники повернулись и пошли прочь. Покрывшийся от страха потом Незамун едва осмеливался дышать до тех пор, пока оба были в зоне слышимости. Ему снова показалось, что Амон простер свою руку над ним.
10
Принц Хамвезе, сын фараона, ученый и верховный жрец Пта, не желал суеты вокруг своей персоны. Если он хотел достичь чего-то, он мог бы обратиться к благосклонному отцу, Благому Богу Рамзесу. Но Хамвезе отличала скромность, и часто ничто в его облике не указывало на царское происхождение. Одевался он, как простой чиновник, на поясе у него висели письменный прибор и измерительный шнур, и для него более ценным было общение с умными людьми, чем с подобострастными придворными.
Для инспекционной поездки к скальным храмам Хамвезе использовал один из обычных быстрых парусников и взял для сопровождения только двоих слуг. Он с неудовольствием покидал Мемфис, потому что любил свою должность, свои обязанности и ненавидел путешествовать — это казалось ему потерей времени. Конечно же, он послушался приказа своего отца и теперь все удалялся и удалялся от Мемфиса. Он был свободен от всех обязанностей, и путешествие начало доставлять ему удовольствие. Хамвезе глубоко вдыхал чистый, свежий воздух пустыни, ощущал более отчетливо силу Ра здесь, на юге, и радовался предстоящей встрече с Пиайем, который ранее был кем-то вроде его наставника.
Пристав к берегу, они ни у кого не возбудили особого любопытства. Начальник порта, деятельный, ставший похожим на египтянина нубиец, заставил показавшееся ему неважным судно некоторое время подождать, чтобы подчеркнуть значение своей должности.
— У вас нет груза? — воскликнул он удивленно. Хамвезе рассеянно покачал головой и попросил доложить скульптору Пиайю о прибытии Хамвезе. Оба слуги украдкой пересмеивались, но им было приказано держать язык за зубами. Начальник порта указал в направлении Большого храма и сказал:
— Мастер работает над фигурами Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч. Отсюда ты его не увидишь, но я не думаю, что он прервет работу.
— Прервет, если услышит мое имя. Поторопись.
По голосу ученого мужа начальник порта понял, что это человек, привыкший отдавать приказы, поэтому тотчас послушался, а слуги Хамвезе выгрузили багаж.
У Пиайя резец пал из руки:
— Хамвезе?! Принц и верховный жрец?
Смущенный начальник порта топтался рядом, однако Пиай не обращал на него внимания. Он слез с низкого помоста и вытер лицо и руки. Хамвезе уже шел ему навстречу. Пиай низко поклонился и вытянул вперед руки.
— Пиай! — воскликнул принц. — Я рад видеть тебя снова живым и здоровым. Как долго мы с тобой не виделись?
— Вероятно, восемь или десять лет, — ответил Пиай и удивился тому, насколько мало изменился Хамвезе. Серьезное, умное лицо под высоким лбом, крепкое тело, средний рост и, главное, манера дружелюбно обращаться ко всякому отличали его еще тогда, когда он был совсем юным.
— Ты, к сожалению, не предупредил о своем визите, Богоподобный, поэтому во дворце ничего не приготовлено. Я тотчас пошлю туда слуг. Мы могли бы тем временем выпить бокал вина в моем доме, если ты окажешь мне честь.
— Хорошая мысль, — приветливо улыбнулся Хамвезе, и они пошли бок о бок по дорожке, ведущей к дому Пиайя.
Такка, которая в это время еще не ждала своего господина и любимого, работала в саду, и на ней была только набедренная повязка.
— Оденься и приветствуй высокочтимого принца Хамвезе!
Такка испуганно побежала в дом, накинула на себя лучшее платье и бросилась ниц перед Хамвезе. Она, заикаясь, что-то забормотала, но принц прервал ее:
— Поднимись, Такка! Я посещаю твоего господина как друг, а не как царский сын.
— Не хочешь ли принять ванну? — спросил Пиай.
— На это еще будет время. Сначала выпьем вина и немного поболтаем.
Пиай хлопнул себя по лбу:
— Конечно, вино! Такка, сбегай на склад и принеси кувшин самого лучшего. Тебе нужно только сказать, что у Пиайя высокий посетитель.
Хамвезе кратко сообщил ему о смерти Рамозе и о дальнейшей цели своего путешествия.
— Я даже не знаю, как мне сообщить об этом отцу, да будет он жив, здрав и могуч: необработанные колонны в храме Амона, небрежно сделанные рельефы, сбитое имя Амона… — Хамвезе воздел руки к небу и замолчал.
Пиай осторожно заметил:
— Слишком многое начато одновременно, и при всем уважении к приказам Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, все же невозможно из двух ремесленников сделать двадцать. Людей направляют то туда, то сюда, где они требуются более срочно, а там, откуда их забирают, работа остается недоделанной.
— Может быть… А как здесь? Насколько далеко продвинулась твоя работа?
— Здесь приказы Благого Бога выполняются в срок. Малый храм готов, Большой я закончу через несколько месяцев. Хочешь посмотреть?
Хамвезе не успел ответить, потому что вернулась Такка с вином. Она вытащила два позолоченных бронзовых бокала и аккуратно, чтобы ничего не пролить, наполнила их жидкостью на высоту двух пальцев — так она научилась у египтян. С легким поклоном она удалилась.
— Приятная девушка, — заметил Хамвезе, — внимательная и старательная. Пиай, я видел сидящую фигуру Благого Бога в Фивах, твое творение. Она произвела на меня большое впечатление. Честно говоря, я был в восторге. Если твоя работа здесь удалась настолько же…
— Надеюсь, что да. Песчаник обрабатывать намного легче, чем гранит, поэтому работа здесь идет намного быстрее.
— И чем ты будешь заниматься после окончания этой работы?
— Не знаю, почтенный принц. Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, не отдал никаких распоряжений. Сначала мне нельзя было покидать Суенет. Ты, конечно же, знаешь, что царь в своей доброте и милосердии смягчил мое наказание, заменив каторжные работы изгнанием.
«Потому что ты ему здесь нужен», — подумал Хамвезе, но вслух сказал:
— Да, тебе очень повезло. Если бы не мой высокочтимый отец, то, по моему мнению, твой талант бы пропал. Думаю, в Суенете тебе делать нечего. Если царь не хочет использовать тебя в Пер-Рамзесе, то в Мемфисе у меня для тебя нашлось бы столько работы, что не хватило бы и трех жизней. Я буду напоминать об этом Благому Богу до тех пор, пока он не отменит твое изгнание. Ты искупил свою вину, завершив его храм. Я думаю, пора забыть старые истории. И в конце концов никому не было нанесено вреда, не так ли?
Пиай побледнел и чуть не поперхнулся:
— Ты вступишься за меня перед его величеством?
Хамвезе утвердительно кивнул:
— За тебя и за твое умение. Мне как верховному жрецу Пта кажется преступлением против нашего бога, носящего титул главного ремесленника, когда такой талант пропадает без пользы. Положись на меня. Я скажу об этом царю, да будет он жив, здрав и могуч. Благой Бог в таких делах прислушивается ко мне.
— Ты думаешь, что Благой Бог не гневается на меня еще за… за…
Хамвезе отмахнулся:
— Я приблизительно знаю о том, что произошло. Почему он должен гневаться? Мерит вышла замуж за Сети, у нее родился ребенок. Правда, брак кажется не особенно… я не знаю, зависит ли это от нее или от Сети… или же от тебя?
В голосе Хамвезе прозвучала легкая насмешка, но Пиай не поддержал его.
— Извини неподобающее мне любопытство, принц. Ты уже видел ребенка Мерит?
— Да. Полагаю, это было в тот день, когда ей давали имя. — Превосходная память Хамвезе тут же воскресило личико маленькой девочки. Он вспомнил ее большие, ясные, серые глаза… и внезапно понял, где он видел такие же. Ему нужно было только поднять взгляд.
— Это твой ребенок, Пиай! Меня не обмануть. Мерит это знает, ты, вероятно, тоже…
— Принц Сети подозревает об этом?
— Нет. Бедняга полагает, что цвет глаз достался ребенку от предков его матери. Не бойся, мой дорогой, я не использую свое знание во вред и теперь честно выскажу тебе свое мнение: Сети не пара Мерит. Я знаю, она не может выйти замуж за тебя, но, если бы я был царем, я бы нашел другое решение. Ну, вы оба живы, так что последнее слово еще не сказано.
— Считается, что последнее слово говорят боги.
— Самое последнее — конечно, на том свете. Но в земной жизни решающим является слово царя, и тут уж зависит от того, кто ему советует. Как видишь, я настроен к тебе дружески. И фараон, да будет он жив, здрав и могуч, до сих пор прислушивался к моим советам.
Хамвезе вступался за любовника Мерит не без задней мысли. Ему и в самом деле нравился Пиай, он ценил его как человека и еще больше как художника, но он, конечно, знал, что возвращение мастера может принести определенное беспокойство в семью Нефертари, и с тех пор, как он решил, чьей стороны держаться, эта мысль казалась удачной. Так он мог оказать услугу Пиайю и одновременно своей семье. К тому же Хамвезе не терпел деятельного вояку Сети. Этот глупец не мог отличить высокий рельеф от углубленного и едва был в состоянии написать свое имя. Хамвезе улыбнулся чуть злорадно, когда представил себе реакцию Сети, если Пиай вернется и связь Мерит с ним возобновится.
— Извини, мой принц, если я спрошу тебя во второй раз, имеешь ли ты желание осмотреть храмы?
— Да, я отвлекся. Хорошо, пойдем посмотрим твои шедевры.
Тем временем разнеслась молва, что сын царя и верховный жрец Пта Хамвезе прибыл с визитом. Ремесленники выстроились цепью по обеим сторонам улицы и, когда оба мужчины направились к храмам, приветствовали принца криками и низкими поклонами.
Так как они подошли с юга, то сначала зашли в Большой храм. Хамвезе отошел, насколько мог подальше, и долго смотрел на четырех высокочтимых богов, у которых было лицо его отца. Они были закончены до пояса. Пиай как раз занимался руками, сложенными на коленях колоссов.
Он тихо взмолился к Пта, чтобы принц не задал ему вопрос, не будет ли стоять на этот раз у ног Благого Бога Изис-Неферт. В таком случае Пиай вынужден был бы ему сказать, что в планы царя входят несколько статуй Нефертари, ее детей и царицы-матери Туи, но не второй супруги. Однако Хамвезе промолчал и прошел несколько шагов вдоль берега, чтобы посмотреть с другой стороны. Наконец он сказал:
— Сам Пта водил твоей рукой при этой работе. Другого объяснения я не нахожу. Какова бы ни была твоя вина, этим произведением ты искупил ее вполне. Я даже могу сказать, что мы теперь твои должники. На сегодня достаточно. Сейчас я отправлюсь во дворец и посещу тебя завтра за работой.
Как на облаках, вернулся Пиай домой. Он сейчас был бы не в состоянии взять в руки молоток и резец, сердце его билось от счастья и надежды. Далекая возлюбленная внезапно стала к нему ближе. Хамвезе не слыл человеком, который раздает пустые обещания. Он по меньшей мере попытается переубедить фараона. В своей радости он обнял Такку, высоко поднял ее и сделал с ней круг.
— Ах, Такка, если бы ты знала, что для меня значит этот визит! — сказал он, задыхаясь и падая в кресло.
— Он рассказал тебе о твоей возлюбленной, — предположила Такка, и лицо ее стало печальным.
— Да, и принц хочет ходатайствовать перед Благим Богом, да будет он жив, здрав и могуч, чтобы я мог вернуться в Мемфис. Ты можешь себе представить, что я был там раньше богатым человеком? Я обладал большим домом, слугами, скотом, землей, и Благой Бог делал мне несколько раз в год богатые подарки. Все это я потерял.
— У тебя был и гарем?
Пиай рассмеялся.
— Этого вопроса я ждал. Да, нечто подобное. У меня были дети, но я никогда о них особо не беспокоился.
— Ты возьмешь меня с собой? В Мемфис, я имею в виду?
Пиай в своей радости еще не думал о том, что будет с Таккой, его маленькой черной любовницей. Он ощущал приязнь к маленькой нубийке, она стала уже частью его жизни.
— И ты этого хочешь? — пошутил он. — Ты же видишь, какую ношу принимаешь на себя ради возлюбленной. Попадаешь на каторжные работы, лишаешься имущества, отправляешься в изгнание.
— Я для тебе не буду никакой ношей, — сказала Такка тоненьким голосочком, в глазах у нее стояли слезы.
Пиай притянул ее к себе и посадил на колени.
— Я не отпущу тебя, моя дорогуша. Если царь, да будет он жив, здрав и могуч, отменит мое изгнание, он возвратит мне также мое имущество, хотя бы часть его, и я попрошу его разрешить тебе отрабатывать свой долг Египту у меня. Тогда ты будешь принадлежать мне, моя черная девочка, и я смогу делать с тобой все, что захочу.
— Я тебе и сейчас принадлежу, — сказала Такка серьезно и освободилась из его объятий. — Я должна еще кое-что сделать в саду. Твой ранний приход поставил все с ног на голову.
— Ты уже сейчас разговариваешь, как жена! Боюсь, мне придется на тебе жениться.
Это замечание было сказано в шутку, однако у Пиайя зрело желание сделать что-то наперекор. Разве Мерит не вышла замуж? За принца, как соответствовало ее положению, а он соответственно своему происхождению женится на рабыне.
Такка также не восприняла всерьез его предложение, но в сердце у нее зародилась робкая надежда, что однажды из шутки может получиться нечто серьезное.
Мерит-Анта, новая супруга царя Рамзеса, переехала в выстроенный для нее дворец, и оказалось, что он ни в коей мере не велик для нее. Дочь царя хеттов Хаттусили привезла с собой собственный двор, который состоял из многочисленных слуг и служанок, евнухов, писцов и придворных. Осторожный совет Парахотепа, что было бы неплохо отослать часть этого двора назад, был с возмущением отвергнут фараоном:
— У бедняжки здесь нет никого, кто мог бы ее правильно понимать. Это все доверенные люди, которых она знает с детства, и они должны остаться здесь, чтобы она прижилась и чувствовала себя хорошо.
Главный советник знал, что в этом случае было бы неумно противоречить, и Мерит-Анта поселилась в своем большом доме, где, по желанию фараона, брала ежедневные уроки египетского языка. Молодой способный писец выполнял это почетное задание, но через несколько дней она пожаловалась на него Рамзесу через переводчика:
— Этот писец смотрит на меня так странно, как будто он хотел бы изнасиловать меня в следующую секунду. Ты должен велеть его кастрировать, тогда мне станет уютнее. При дворе моего отца только евнухам разрешалось вступать в близкий контакт с принцессами.
— Твое желание я, к сожалению, не могу выполнить, любимая. Мы в Кеми полагаемся на верность наших женщин и на стойкость наших чиновников. Я заменю молодого писца на старого.
«Жаль, — подумала Мерит-Анта с досадой, — я бы с удовольствием посмотрела на физиономию этого всезнайки, когда ему объявили бы, что его кастрируют».
Царь каждый вечер и почти каждую ночь проводил у нее. При этом она ни в коем случае не была покорной и на все готовой супругой. У нее имелись свои капризы, она порой отказывала стареющему фараону в близости, а когда он настаивал, лежала, как кусок дерева, покоряясь судьбе, закрывала глаза и тяжело вздыхала, смиряясь с обстоятельствами. Большей частью, однако, она была дикой, умелой, опытной возлюбленной, которая изобретала все новые игры, и за короткое время выманила у фараона столько подарков, что вскоре могла считаться самой богатой женщиной в гареме.
Нефертари последовала совету царицы-матери и удалилась на некоторое время в Мемфис. К ее большому горю, фараон не высказал никаких возражений.
— Хорошая мысль, если ты там покажешься и примешь участие в праздниках, посвященных божествам, — слишком откровенно обрадовался он. — Не торопись только с возвращением, здесь ничего важного пока не предстоит.
Он мимолетно поцеловал ее в щеку и, как одержимый, побежал к другой.
Она пожаловалась на свое горе Мерит:
— Он, кажется, даже рад, что я уезжаю и на возможно более долгий срок. Раньше он не спускал с меня глаз, я не могла отправиться без него даже в самое маленькое путешествие, а теперь я жду, что он построит ей храм, лучше всего прямо посреди города.
Она разразилась рыданиями. Мерит попыталась утешить свою мать:
— Я думаю, он скоро пресытится этой змеей. Ты заметила, что он, как и прежде, носит на шее половинку твоего сердца из ляписа? Пока он его не снимет… Я не знаю, какими колдовскими средствами она заманивает его ночь за ночью в свою постель и крепко держит, как мальчика, который влюбился впервые в жизни. Поезжай в Мемфис и забудь этот двор на некоторое время. Я буду сообщать тебе обо всем.
Фараон чувствовал себя в постели Мерит-Анта поистине как Могучий Бык — помолодевшим, полным сил, готовым ко всему.
Она не скупилась на слова восхищения, змея с бирюзовыми глазами. На ломаном египетском она хвалила его мужскую силу и называла себя самой счастливой женщиной в Кеми, потому что может наслаждаться безмерными радостями в его объятиях. В ее словах ему не слышалось ни лести, ни преувеличения, она произносила эти похвалы как бы против воли, и Рамзес поверил в то, что она искренна.
Когда в разговоре упоминалось имя Нефертари, Гутана с глубоким уважением осведомлялась о ее здоровье, хвалила ее сияющую молодость и добавляла не без коварства:
— Ах, если бы и моя красота могла сохраниться до столь преклонного возраста! Не знает ли твоя первая супруга каких-либо колдовских уловок? Было бы, конечно, неловко с ее стороны выдавать их…
Рамзес, бестолковый, как и многие мужчины в подобных ситуациях, не улавливал в этих словах злорадства, считая их только хвалой и знаком уважения по отношению к первой супруге, и еще больше ценил за это Гутану.
За полчаса до восхода солнца принц Мерире был на месте. Его высокая крепкая фигура выдавала отцовскую кровь, но круглым, почти детски-трогательным лицом он походил больше на свою мать Нефертари.
Принц Монту, житель пустыни, не знал точности в определении времени. Его понятия о времени были расплывчаты и определялись обстоятельствами. Вечером накануне он болтал с Незамуном и при этом выпил больше, чем обычно, поэтому проснулся только тогда, когда огненный глаз Ра уже светил над его кроватью. Поэтому Монту появился лишь час спустя после восхода солнца с тяжелой головой, едва ворочая языком. Так как ему не было знакомо понятие «опоздание», он не извинился, а только ухмыльнулся в знак приветствия и спросил:
— Волнуешься? А где лошадь?
— Об этом хотел побеспокоиться ты, — сказал Мерире с упреком.
— Только терпение, мой друг. У нас времени целый день.
Когда лошадь была на месте и слуга запряг ее, Монту обошел вокруг боевой колесницы, потрогал кое-какие детали и, наконец, довольно кивнул.
— Я полагаю, можно ехать. Сначала мы вместе сделаем круг, а потом ты попытаешься один. Идет?
Мерире с восторгом согласился, и оба не похожих друг на друга брата запрыгнули на колесницу — среднего роста, коренастый, с более темной кожей и грубым, настороженным лицом Монту, и уже сейчас выше его на полголовы долговязый Мерире.
Тем временем собрались несколько зрителей: дворцовые стражники, наслаждавшиеся свободным временем, придворные чиновники, слуги и еще пара старых сановников, находившихся в отдаленном родстве с царским домом и проводивших вечер своей жизни на полном царском обеспечении в стенах дворца.
Незамун также был на месте. Он перебросился несколькими словами с Монту, ободряюще улыбнулся взволнованному Мерире и излучал, как всегда, совершенное дружелюбие.
Монту взял поводья, взглянул на Мерире и сказал:
— Держись крепче.
Потом оба рванулись напрямую на запад по большой, светлой, мощенной каменными плитами улице для процессий. Они мчались на значительной скорости, потому что отдохнувшая, сильная лошадь летела по широкой улице так, что искры сверкали из-под колес.
Как воин ниу, Монту был настолько знаком с ездой на колеснице, что он мог управлять ею хоть во сне. Он сразу же почувствовал какое-то странное скольжение, которое шло от левого колеса. Он наклонился в сторону, чтобы посмотреть, в чем дело. В то же мгновение склеенные спицы разошлись, выпрыгнули из колеса, и колесницу рвануло в сторону.
В пустыне Монту выучился в минуту опасности прежде всего думать о себе самом. Этому правилу он всегда и следовал. Он не был человеком, который жертвует собой ради друга, во многом поэтому до сих пор был жив. Однако сейчас он действовал против этого правила и проревел Мерире:
— Прыгай! Быстро!
Он пропустил подходящий момент, чтобы спастись самому. Мерире просто выпал из колесницы, бухнулся на мягкое место, несколько раз перекувырнулся и остался лежать неподвижно.
Монту выпустил поводья, но его прыжок из рассыпавшейся колесницы не удался. Он стукнулся головой о бронзовую ступицу правого колеса, которое оторвалось от оси и вместе с ним рухнуло на мостовую. В момент падения тренированный воин ниу покатился, чтобы избежать перелома, костей и казалось, что ничего особого с ним не случилось. Он быстро вскочил на ноги и, хромая, побежал к неподвижно лежавшему Мерире.
— Что с тобой? Ты ранен?
Мерире лежал, как оглушенный, и только прошептал:
— Я не знаю, все произошло так быстро…
— Попытайся встать! — Монту подхватил его под руки. Мерире издал громкий крик:
— Нет, Монту, так не пойдет, у меня такая боль…
— Оставайся лежать, я приведу помощь.
Монту побежал, но внезапно ноги его подкосились, словно невидимый кулак обрушился на него. Он потерял сознание и рухнул на землю.
Зрители наблюдали за происходящим издалека и стояли сначала, как зачарованные. Незамун начал действовать первым. На негнущихся ногах он побежал к Дому слуг Сехмет и позвал лекаря. Когда тот услышал, что произошло, он тотчас послал помощников за двумя носилками, а сам побежал к улице для процессий. Когда он хотел склониться над Монту, Незамун сказал:
— Позаботься сначала о Мерире, сыне Великой Царской Супруги.
Лекарь ощупал мальчика, обнаружил перелом руки и предположил вывих или перелом бедра. Тем временем появился еще один лекарь с носилками. Пока Мерире уносили, лекари обследовали Монту и нашли то, что и предполагали найти у человека, потерявшего сознание. У него был поврежден череп над правым виском. Дыхание его было слабым, его и без того худое лицо ввалилось, нос заострился. Он выглядел умирающим.
Принца Мерире отнесли во дворец Нефертари, где для больного приготовили комнату. В ней тихо стонущего мальчика еще раз обследовали и действительно установили перелом бедренной кости.
— К сожалению, шины применить нельзя, о Прекраснейшая, — обратился врач к Нефертари. — Мы можем только наложить крепкие повязки и привязать принца к его ложу, потому что ему может повредить любое движение. Переломанная рука нас не беспокоит. За тридцать дней кость срастется.
— Как дела у
Монту? — осведомилась Нефертари.
Слуга Сехмет бросил предостерегающий взгляд на мальчика и сказал неопределенно:
— Тут мы должны подождать, чтобы стало ясно, насколько серьезна рана на голове. Через несколько часов мы будем знать больше.
Нефертари поняла намек и вышла с врачом из комнаты:
— Итак?
— Надежды мало, о Прекраснейшая. Поврежден череп над правым виском. Наш специалист попробует сделать трепанацию, но никто не знает, каков будет результат.
— Как только могло произойти это несчастье?! Колесницу ведь несколько раз проверили.
Принц Сети приказал провести строгое дознание, обломки колесницы были собраны, и их отнесли в мастерскую.
— Я благодарю тебя и прошу принять участие в молитвах в храме Сехмет. — Рамзес положил руку на плечо сыну, как две капли воды похожему на него. — Пока мой сын будет лежать в постели, я велю ежедневно приносить жертвы Сильной и Всемогущей.
Принц Монту лежал в Доме слуг Сехмет. Несколько врачей занимались им. К его носу поднесли сильные эссенции, чтобы привести его в чувство, однако он только беспокойно крутил головой, и его бледное лицо с запавшими щеками болезненно подергивалось.
— Я попытаюсь провести трепанацию, она могла бы быть для него единственным спасением. — Имхотеп, специалист по переломам костей, отвернулся от больного и приказал: — Побрейте правую сторону черепа, но очень осторожно.
Он долго мыл руки в вине с травами и разложил свои блестящие инструменты на льняной салфетке. Тут были пилы различных размеров и маленькие молотки, выглядевшие совсем игрушечными, а также ложки с острыми краями, узкие ножи, пинцеты, плоскогубцы и еще некоторые вещи, приспособленные для того, чтобы мучить больного, но также и для того, чтобы спасти его.
Среди лекарей дворцового квартала быстро разнеслась весть, что знаменитый Имхотеп будет вскрывать череп. Стремясь посмотреть на это, они хлынули в Дом слуг Сехмет и собрались вокруг ложа Монту. Это вызвало неудовольствие Имхотепа:
— Мои господа, у меня здесь не игра, я здесь для того, чтобы предпринять сложную попытку спасти человеческую жизнь. Если хотите посмотреть, отступите от ложа и не толпитесь у окна.
Помощники отодвинули ложе к северному окну, потому что Имхотепу необходим был яркий свет. Он повернул голову Монту чуть наискосок и приказал своим помощникам крепко держать его. Потом взял узкий нож с длинным лезвием и разрезал кожу над переломом крест-накрест. Один из помощников отодвинул лоскуты кожи и удерживал их маленькими иголками. Когда кровь промокнули, показалась светлая сильно раздробленная кость черепа. Имхотеп маленьким пинцетом удалил обломки, взял крошечный молоток, приставил тончайший резец и осторожными ударами удалил разрушенные части кости на площади величиной с голубиное яйцо. Под ней показалась бело-серая масса — мозг в оболочке. Несколько осколков кости вонзились слишком глубоко, и Имхотеп вытащил их тончайшим пинцетом кусочек за кусочком.
Монту стал беспокоиться, попытался повернуть голову, начал бить руками и ногами.
— Не глазейте! — прикрикнул Имхотеп на зевак. — Лучше держите больного до тех пор, пока я не закончу.
Спустя некоторое время он отложил пинцет в сторону и очень нежно нажал указательным пальцем на массу мозга.
— Я чувствую еще несколько маленьких осколков, но не вижу их, — заметил он, вытирая руки. — Чтобы удалить их, я должен слишком глубоко проникнуть в мозг. Доказано, что менее опасно оставить крошечные осколки костей в мягких тканях, чем удалять их. Переживет ли принц Монту вмешательство, скоро будет ясно.
Имхотеп опустил кусочки кожи над разрезом, заклеил их лечебной смолой и наложил легкую, фиксирующую повязку.
Внезапно вошел фараон. Врачи отскочили в сторону и низко поклонились.
— Я недавно узнал о несчастном случае. Мне сказали, что Мерире выздоровеет. А как дела у Монту?
— Плохо, Богоподобный. Я только что провел трепанацию черепа и удалил осколки кости, но удар был слишком силен, и несколько осколков вонзились глубоко в мозг. Теперь я попытаюсь еще раз привести его в чувство. Зрители могут удалиться.
Слуги Сехмет быстро покинули комнату, остались только два помощника. Имхотеп обмакнул перо в несколько эссенций и поднес к носу Монту. Внезапно по узкому лицу пробежала дрожь, и принц открыл глаза. Фараон подошел ближе:
— Ты узнаешь меня?
Монту не выказал никакой реакции, долго смотрел на фараона и сказал заплетающимся языком, как пьяный:
— Кого… кого… ты… теперь… поши… пошлешь… в Кет… Кефтиу?
— Тебя, когда выздоровеешь, — ответил Рамзес дружелюбно.
Слабая, но дерзкая ухмылка скользнула по осунувшемуся лицу.
— Тебе… придется… поискать… другого…
Монту закрыл глаза, и Рамзес тихо сказал Имхотепу:
— Он говорит так, как будто знает о своем безнадежном положении.
— Не совсем безнадежном, Богоподобный. Когда я вскрываю череп, около половины больных остаются в живых. Я пробуду еще час рядом с ним, потом меня сменит помощник.
— Хорошо, — ответил фараон. — А я займусь тем, чтобы отыскать организатора покушения.
— Покушения? — изумился Имхотеп. — Я думал, что произошел несчастный случай.
— Колесницу тщательно обследовали: из пяти спиц правого колеса три подрезаны. Виновник должен был знать, что на колеснице хочет ехать принц Мерире.
— Покушение могло быть направлено и против принца Монту, твое величество. Какие-либо истории с женщинами, может быть месть…
— Мы это выясним. Дай знать мне, если в состоянии Монту что-либо изменится.
Имхотеп поклонился:
— Конечно, да будешь ты жив, здрав и могуч!
11
Колоссальные фигуры у Большого храма были завершены. Пиай осмотрел их со всех сторон и с ладьи, которую гребцы должны были удерживать против течения, чтобы она оставалась на одном месте. Хотя у песчаника отсутствовал зеркальный блеск, которым славится полированный гранит, легкий матовый отблеск поверхности был более равномерным и придавал колоссам прозрачную легкость и живость.
Пиай был доволен своей работой. Он мог бы сделать фигуры по-другому, но не лучше. Затем он велел плыть на юг так далеко, что колоссы исчезли за излучиной, а потом приказал гребцам медленно грести на север.
Теперь было так, как хотел фараон: тот, кто ехал из жалкого Куша на север и приближался к границам Кеми, внезапно видел, как на берегу вырастает громадный пещерный храм, у которого царят колоссы. Эти застывшие в величественном покое сидящие фигуры предлагали в упрощенной форме незнающему нубийцу главное содержание египетской религии, а именно: обожествленного фараона вместе с Амоном и Ра — главными богами Кеми. Поймет ли глупый нубиец взаимосвязь? Пиай повернулся к гребцу и спросил:
— Ты знаешь, кто охраняет храм?
Мужчина дружелюбно ухмыльнулся и дал невразумительный ответ. Пиай упростил свой вопрос и указал на храм. Мужчина явно не знал египетского, однако в его ответе Пиай расслышал слово Рамзес.
«Ну, по крайней мере, будут говорить, что там сидит на троне фараон, — подумал Пиай, — и каждый почувствует, что в нем воплощено нечто божественное».
Мастер сошел на берег и велел двум слугам с факелами сопровождать себя во внутреннюю часть храма. Он последний раз хотел в полной тишине, без помех и без свидетелей все оглядеть. В ближайшие дни ожидалось прибытие жрецов, и пещерный храм из строительного проекта станет святилищем. В первые месяцы Перет здесь, в святая святых, произойдет мистерия Ра, и, по желанию Хамвезе, Пиай должен будет принять в ней участие. Потом его освободят.
Да, Хамвезе выполнил свое обещание. В доме Пиайя лежало послание верховного жреца, содержание которого он знал наизусть:
Принц Хамвезе Пиайю, начальнику ремесленников.
Моя похвала тронула сердце Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч, и он велел тебе передать через меня приказ. Твое изгнание заканчивается в день завершения строительства храма. Потом ты будешь свободен и можешь передвигаться по стране куда хочешь с одним исключением: въезд в Пер-Рамзес запрещен тебе на всю жизнь. Я надеюсь, что ты выполнишь мою просьбу и устроишься жить в Мемфисе. Твой дом готов для тебя, и работы достаточно. Как особую награду, которой до этого еще не удостаивался ни один ремесленник в Кеми, Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, позволяет тебе оставить свое имя внутри Большого храма, а именно, в Большом зале.
Будь счастлив, Пиай, потому что ты снова в милости у Благого Бога. Будь здоров и скорее приезжай!
Пиай приказал слугам остановиться у большого рельефа на стене, изображавшего битву при Кадеше. Хотеп начал его, но смерть прервала его работу, и Пиай недавно закончил рельеф.
Он взял у одного из мужчин факел и отослал обоих. Он хотел остаться один, чтобы насладиться триумфом. Он, бывший полевой раб и каторжник в каменоломнях, поставил теперь свое имя под изображением Благого Бога, который сидел, как великан, на троне и смотрел на свои войска и на орды побежденных врагов. Пиай поднес факел совсем близко к стене и прочитал:
— Сделано Пиайем, скульптором Рамзеса-Мери-Амона, сыном благословенного Неферхая.
Так его отец, плененный некогда воин с севера, которому дали имя Прекрасный видом, был увековечен здесь. Не благодарность двигала Пиайем: он едва знал своего отца. Это произошло от смеси упрямства и триумфа, чтобы уничтожить последние следы полевого раба. Тот, кто прочитает эти слова через сто или триста лет, должно быть, скажет: «Если этому Пиайю было позволено оставить здесь свое имя и имя своего отца, он, должно быть, происходил из хорошей семьи и был дружен с Благим Богом Рамзесом». «Маленькая запоздалая месть, которую я себе позволил», — подумал Пиай и пошел к выходу, затушив факел. Его охватило чувство счастья, которого он уже очень давно не испытывал. Чтобы разделить это счастье с другим человеком, он пошел домой и поцеловал Такку в обе щеки.
— Кто бы ни пришел сюда через сто, тысячу или десять тысяч лет, будь это набожный паломник или любопытный путешественник, ремесленник, который хочет чему-то научиться или жрец, желающий нанести визит богам, — все они рядом с именем Благого Бога, его супруги и детей найдут также и мое: это сделал Пиай.
— А если они не умеют читать? — беззаботно спросила Такка.
Пиай запнулся, но тут же нашелся:
— Будет же кто-либо под рукой, кто разбирает письменные знаки. Прибывающие через несколько дней жрецы в любом случае умеют читать. Я уже сейчас смогу увидеть их недовольные лица, их неодобрение. Но что есть, то есть: Благой Бог, чьим другом мне однажды позволено было называться, стоит над всеми ими и рушит границы, к которым другие даже не осмеливались прикоснуться. Он строит храм своей супруге, велит изобразить себя у другого храма в виде Амона и Ра-Харахте, так что любой, кто молится этим богам, молится также и ему, Рамзесу, и он позволяет скульптору, который однажды глубоко оскорбил его, оставить свое имя в храме. Разве есть в этом противоречие? Своеволие? Капризы? Как ты думаешь, Такка?
— На эти вопросы я не могу ответить, — сказала Такка, — но отец учил меня, что мы должны принимать волю богов, какой бы странной она нам ни казалась.
— Ты права, маленькая нубийка, и, так как для меня в конце концов все сложилось хорошо, я выказываю благодарность богам. А ты радуешься предстоящему путешествию?
Она притворилась удивленной:
— Зачем мне радоваться, если ты уезжаешь? Если любишь что-то, то не хочешь, чтобы это отдалялось от тебя…
— Разве я тебе еще не сказал, что беру тебя с собой? Я должен был давно уже сказать это тебе.
— Ах, знаешь ли, господа капризны, и рабыне не следует радоваться слишком рано. Что мне делать, если ты в день отъезда передумаешь?
Пиай потрепал ее по щеке:
— Слишком поздно. Я привык к тебе, как будто ты моя вторая жена. Ты будешь вести в Мемфисе большой дом, у тебя будут слуги…
Такка удивилась:
— Ты никогда мне не говорил, что у тебя уже есть жена. Если я вторая, то кто же первая и как ее зовут?
— Еще узнаешь… может быть. Это к тебе не относится. Я не хотел бы сейчас об этом говорить.
Три дня спустя прибыли первые жрецы, и среди них Тотмес, новый верховный жрец Амона в Большом храме. Он давно уже смирился со своим положением и был втайне горд, что добился цели своей жизни, пусть даже не в Фивах.
В день солнцестояния весь состав жрецов собрался в храме. Пиай, еще оставшиеся художники и скульпторы стояли во втором зале и в напряжении глядели на запад, где фигуры царя в человеческий рост и богов Амона, Ра-Харахте и Пта во тьме святилища ждали луча Ра. Музыканты и певцы в Большом зале исполняли гимн Ра, помощники жрецов потушили свои факелы.
Пока звучал гимн, луч восходящего солнца проник во вход храма, разогнал мрак и осветил фигуру Амона-Ра в темноте святилища, затем перешел к фараону и к Ра-Харахте; фигуры Пта он, однако, не коснулся. Тот застыл в вечном мраке, как символ своей миссии бога мертвых.
После освящения храма был дан пир, и Пиай обменялся несколькими словами с Тотмесом. Однако мысли обоих мужчин были слишком различны, у них было мало что сказать друг другу.
Два дня спустя Пиай вместе с Таккой вступил на ладью, отплывавшую на север, и ни разу не обернулся на храм.
Гутана только что вышла из ванной, служанки вытирали ее досуха и втирали в ее кожу ароматическое масло. Она была госпожой, которую боялись, и, если одна из рабынь позволяла себе одно неловкое движение, третья жена фараона жестоко избивала ее или втыкала девушке длинную булавку в руки и бедра. Беспокойные мысли овладели хеттиянкой, и она пришла к выводу, что настало время действовать.
«Что будет со мной, — раздумывала она, — когда царь умрет? Сначала меня выбросят из моего дворца и сунут в гарем к этим противным бабам. Не будет никакого поместья, в которое я смогу удалиться, как старуха Туя. Я бедна и бесправна. Я даже детей не родила фараону».
О последнем она думала непрестанно. С тех пор как они поженились, царь почти каждую ночь был у нее, и она знала, что все семя, которое было в нем, выливалось в ее лоно, но не оплодотворяло его. При дворе своего отца разгульная Гутана несколько раз вытравливала плод. Это было безобразное мероприятие с кровью и болью, но девственная принцесса не могла иметь детей. Все операции проводились опытными и ловкими акушерками, но однажды она чуть было не умерла. Ее отец велел позвать знаменитых лекарей, но те только пожимали плечами. Один из них в качестве последнего средства применил ледяную ванну. По эстафете скороходы доставили снег и лед с далеких гор и наполнили ими ванну. В эту холодную ванну окунули нижнюю часть ее тела, оно почти перестало чувствовать что-либо, и ломящий холод остановил кровотечение. С этого момента у Гутаны было чувство, что в животе у нее что-то отмерло, хотя это ни в коей мере не повлияло на ее похотливые игры с мужчинами.
«Вероятно, я стала бесплод…». — Она даже в мыслях не могла закончить эту ужасную мысль. Бесплодная простолюдинка — это ничто, но для нее еще имелось несколько возможностей. Она могла зарабатывать себе на жизнь как повитуха, хозяйка трактира, борделя или что-то вроде этого. Бесплодная же царица — это еще меньше, чем ничто, она несчастье для страны. Гутана была неглупа и быстро сообразила, что в Кеми образцом считается не воин и герой, а способный чиновник, которого царь ценит и щедро одаривает и который является главой здоровой и довольной семьи. Царская семья могла служить образцом такого семейства.
«Здесь действительно всего в достатке, — горько думала Гутана. — Не только Нефертари и Изис-Неферт родили фараону детей, весь гарем переполнен его отпрысками». Она же в любом случае может выбросить из головы мысль когда-либо стать второй или первой супругой, не будучи матерью сына.
Итак, сдаться? Нет и еще раз нет! Если ее живот и дальше будет оставаться бесплодным, она знает, что делать. У хеттов в обычае было, когда бесплодная жена подсылает к мужу рабыню, та беременеет и из ложа роженицы жена забирает себе этого ребенка, как своего собственного.
Гутана превратилась в Мерит-Анта, третью супругу фараона. Она велела себя старательно нарядить, накрасить и выбрала сегодня совершенно особенный запах. Она захватила из дома ценное ароматическое масло из дома, хетты называли его «сладкая сводница» и считали верным средством соблазнения даже самых стойких мужчин. Для этого Гутане не требовалось никакого особенного запаха: царь был одержим ее телом, как пьяница вином, но сегодня она хотела быть совершенно уверенной.
Когда Рамзес вошел в комнату с выходом на садовую террасу, он нашел озабоченную Мерит-Анта. Она прижалась к нему, тихо вздохнула, и ему показалось, что он даже заметил слезу в ее бирюзовых глазах.
— Чем огорчена сегодня моя милая кисонька? — спросил он нежно.
Ее озабоченное лицо осветилось. На ломаном египетском она сказала:
— Ты меня уже так хорошо знаешь? Я хотела скрыть от тебя свои заботы, но мне это не удалось. Впрочем, речь идет не обо мне, мой бычок, я забочусь о тебе. Я должна об этом подумать заранее. Нет, я не могу сказать, я боюсь, ты на меня разгневаешься.
Рамзес с любовью взглянул на нее:
— Я разгневаюсь на тебя? Ну, для этого должны быть основания. Не беспокойся, говори свободно.
Она крутилась вокруг да около:
— Речь идет… как сказать, о тебе, о твоем здоровье и о твоей жизни.
Рамзес нахмурился.
— О моей жизни? Планируется покушение?
— Ах, нет, любимый, все это разыгрывается только в моем сердце. Каждый раз, когда ты отправляешься на охоту или мчишься по улице на своей боевой колеснице, прекрасный и грозный, как Монт, сердце мое наполняется страхом и заботой. Я знаю, что с Благим Богом ничего не случится, но меня преследуют видения, что ломается твоя колесница, на тебя нападает крокодил, в тебя попадает стрела, летевшая не в ту сторону…
Гутана разразилась слезами. Они, как жемчужины, струились из бирюзовых глаз. Рамзес был тронут и потрясен:
— Ты так боишься за меня?
Она кивнула.
— Тогда и моя жизнь подойдет к концу. Кто я? Куда я должна буду отправиться? В отличие от обеих других жен у меня нет ничего, кроме пары драгоценностей. У меня нет земли, которая могла бы прокормить меня и пару моих слуг, но, что важнее всего, нет на свете ни одного другого мужчины, который сравнился бы с тобой. Случись что с тобой, и моя жизнь станет пустой и бесполезной. Я бы приняла яд, чтобы последовать за тобой в Закатную страну! Да, я бы так сделала! Тогда бы мы снова были вместе и смогли бы продолжить нашу прежнюю жизнь…
Рамзес был потрясен. Как эта девушка заботится о нем, о его жизни, о его здоровье! Она даже готова последовать за ним в могилу! Он поверил каждому ее слову и даже не заметил противоречия. Какой смысл беспокоиться о будущем и сожалеть, что у нее нет земли, если она в случае его смерти собралась сопровождать его в могилу? Сейчас им двигала только одна мысль — сделать ей что-либо хорошее, успокоить ее, разогнать ее печаль.
— Конечно, ты права. Ты должна была бы раньше мне об этом напомнить. То, что есть у других жен, будет и у тебя. Я передам тебе поместье, которое может прокормить и тебя, и твоих слуг.
Гутана обняла его:
— На это еще есть время, любимейший. Впрочем, это должен быть не кусок Кеми, о чем я думаю. Это должно быть что-то, связывающее мою родину с Кеми, что-то лежащее посредине, как Амурру. Эта область подчиняется тебе, платит тебе дань, но она не принадлежит к твоей стране. Ты видишь, я скромна и совсем не чувствую себя египтянкой.
Он хотел что-то сказать ей, но она приложила пальчик к его губам:
— Ни слова больше об этом, любимый. Ты в конце концов пришел сюда не для того, чтобы выслушивать о моих заботах.
Она прижалась к нему, ее рука, как ловкая змея, скользнула ему под передник, начала ласкать его фаллос, нежно сжала мошонку, в то время как острый твердый язычок соблазнительницы глубоко проник в его рот.
«Как она скромна, — успел подумать Рамзес до того, как страсть полностью овладела им. — Она боится даже потребовать для себя землю в Кеми…»
Со стоном они упали на широкое ложе. Рамзес спрятал свое лицо на тяжелой ароматной груди и сказал шутливо:
— Тебе не придется искать кормилицу. Для нашего сына будет великой радостью сосать твою грудь.
Гутана почувствовала укол при этих словах, но ничего не дала заметить царю и подумала: «Ты получишь своего сына, дорогой, положись на меня!»
На рассвете больной забеспокоился. Он уже восемь дней лежал без сознания. Иногда он на короткие мгновения приходил в себя, требовал воды, произносил несколько слов, а затем снова впадал в состояние беспокойного сна. Теперь, однако, он начал ощупывать все вокруг себя, открыл глаза, завертел ими, как в судороге, и издал несколько бессмысленных звуков. Дежуривший у постели прооперированного молодой лекарь испугался. Он позвал слугу и велел тотчас привести Имхотепа. Тем временем он попытался удержать бушующего, однако Монту был силен. Обеими руками он схватился за свою головную повязку и попытался сорвать ее с головы. В этот момент вошел Имхотеп, который внимательно посмотрел на больного:
— Он едва ли выживет. Держите его крепко, я ему кое-что дам.
Помощники схватили руки и ноги беснующегося, и Имхотеп влил ему в рот успокоительное из стеклянного флакончика. Вскоре движения больного стали ослабевать, и больной снова затих, как будто ничего и не было. Имхотеп слегка похлопал его по щеке:
— Принц Монту, ты меня слышишь?
И тут произошло то, чего никто не ожидал: больной открыл глаза и мрачно взглянул на Имхотепа. Затем он медленно поднял голову и четко произнес:
— Похороните меня в пустыне. Вы слышите? Похороните меня…
Голос его замер, голова откинулась назад, дыхание стало свистящим и неровным, и вскоре сделалось совсем неслышным. Имхотеп подождал еще немного и сказал:
— Я доложу фараону. Дайте знать «ставящим печать бога».
Когда фараон на следующее утро услышал весть о смерти Монту, его первой мыслью было, что он должен сказать об этом Нефертари, чтобы она тактично сообщила Мерире. Однако Великая Царская Супруга все еще была в Мемфисе, а Рамзес в любовном угаре забыл об этом. Его пугала мысль о встрече с больным сыном, и он велел позвать главного советника.
— Парахотеп, скажи ему об этом, но не сразу. Время терпит, пока Мерире не станет лучше. Он был так привязан к Монту… Сам не знаю, почему я чувствую себя виноватым.
Такое Рамзес мог сказать только старому другу юности, и главный советник с сочувствием посмотрел на него:
— Виноватым, Сесси? Почему? Не ты же подпилил спицы колесницы, и пусть боится святотатец, ибо его найдут. Или же есть другая причина?
Рамзес мог бы ответить другу, что он чувствует себя виноватым перед Нефертари, потому что понимает, что ее долгое отсутствие связано с ним. Однако он быстро отбросил эту мысль.
— Ты прав, это вздор. Может быть, нам с тобой снова вместе поохотиться, как ты считаешь?
— Неплохая мысль, Богоподобный, я всегда готов.
Парахотеп, конечно покривил душой, потому что в отличие от царя больше не чувствовал себя молодым и свежим. В свободное от дел время он охотнее сидел в саду, слушал пение птиц или думал временами о своем прекрасном Доме Вечности к югу от Мемфиса, который недавно достроил. В любом случае, есть еще несколько дней, и надо подумать не об охоте, а о том, как передать принцу Мерире печальную весть о смерти единокровного брата.
Тот уже полмесяца лежал в твердых повязках, чтобы бедренная кость срослась. День ото дня лица лекарей становились все более озабоченными. Бедренная кость принца, вероятно, срасталась неровно, как бывало в большинстве подобных случаев, а значит, принц всю свою жизнь будет хромать. Может быть, ему даже придется ходить, опираясь на палку.
Меренпта, младший сын Изис-Неферт и товарищ Мерире по воинским упражнениям с Монту, тем временем вернулся с матерью из Фив и ежедневно посещал больного друга. Его неуклюжие, но искренние попытки утешить пробуждали у Мерире благодарную улыбку, но в его юношеском нетерпении время для него длилось бесконечно долго. К тому же у мальчика вызывало недоверие то, что врачи постоянно уклоняются от прямого ответа на вопрос, скоро ли он сможет встать.
Меренпта сидел у постели брата, когда вошел главный советник.
— Как идут у тебя дела, мой принц? Врачи хотят тебя скоро согнать с постели. Не пришло ли время снова встать на ноги?
Мерире почувствовал фальшивую ноту в этих бодрых словах, однако только слабо улыбнулся и ничего не сказал. Парахотеп продолжал уже совершенно серьезно:
— Хорошо, что я застал вас обоих. У меня печальная новость, которая касается вас двоих…
— Монту мертв, — сам испугался этой догадки Меренпта. Он не раз удивлялся, что никому не дозволено посещать больного воина ниу, и они с братом часто говорили о том, как это будет, когда Монту и Мерире снова выздоровеют и все втроем поскачут верхом охотиться с пращой на кроликов. Теперь все кончено. Меренпта опустил голову и попытался скрыть наворачивающиеся на глаза слезы, но они уже текли у него по щекам. А когда Мерире увидел это, он тоже начал плакать.
— Да, Монту был хорошим учителем… — вздохнул главный советник и счел лучшим тихонько удалиться и предоставить обоим мальчикам предаваться печали.
При дворе это замечали немногие, но фараон усиленно занимался расследованием покушения. Он передал все полномочия Парахотепу, и тот воспользовался старым испытанным средством. Он собрал целый штат ищеек — умных, деятельных чиновников разного возраста и ранга. Ни один из них не знал другого, каждый в своих расследованиях мог полагаться только на самого себя, и вскоре уже одна ищейка присматривалась к другой или же выспрашивала ее. Главный советник, конечно, знал их всех и приказывал время от времени являться к себе с докладом. Этим людям следовало подозревать каждого, даже собственных начальников, потому что они применяли необычный метод: не искали виновных, а пытались прежде всего исключить невиновных.
В первую очередь это были те, кто в ночь перед происшествием не находился в дворцовом квартале или о ком знали, что у них нет ни малейшего основания вредить Мерире или Монту. Круг подозреваемых постепенно сужался. Однажды один из ищеек, не бросавшийся в глаза молодой человек, подбросил главному советнику замечательную идею.
— Я вот что подумал: каждый при дворе знает, что между Великой Царской Супругой Нефертари и второй супругой Изис-Неферт существует, скажем так, неприязнь. Это продолжается уже годами. Слуги враждебно настроены по отношению друг к другу, дело доходило даже до драк. Я хотел бы только напомнить — разговор об этом быстро разнесся повсюду, — Изис-Неферт после смерти своего первенца тотчас громко и внятно обвинила царицу Нефертари. Теперь было совершено покушение на Мерире, и Нефертари имела бы все основания подозревать в этом мстительную вторую супругу, но Изис-Неферт и ее двор находились в это время в Фивах. Ее сын Хамвезе, который, безусловно, исключается как подозреваемый в покушении, был в Мемфисе. Я нахожу, однако, что именно отсутствие второй супруги служит является причиной подозревать ее. Каждый сначала склонен был бы сказать, что Изис-Неферт не имела с этим ничего общего. Она ведь в конце концов была удалена отсюда на много дней пути. Но, если она умна, а это без сомнения, тогда она велела бы организовать такое кощунственное покушение как раз во время своего отсутствия. Но чьими руками? Кого из своих доверенных лиц она оставила в Пер-Рамзесе? Ее сын Хамвезе исключается, под вопросом пара старых слуг, ее казначей, несколько писцов и управитель ее двора Незамун.
— Почему Незамун? — спросил главный советник. — Он ведь всегда сопровождал ее.
Ищейка ухмыльнулся:
— Я сам спросил себя о том же, почтенный Парахотеп. Тем не менее я спросил также и его. Мне показалось, что я не ошибся: Незамун испугался. Конечно, он остался по вполне понятным причинам: он слишком стар для дальних путешествий, да к тому же царица приказала ему оставаться здесь, чтобы заниматься ее делами. Я даже обыскал комнату Незамуна, но не нашел ничего подозрительного… за одним исключением. На кожаной сетке его кровати, в ногах, я нашел следы того, что там прятали, возможно, ручную пилу.
— Однако ты постарался! Ты полагаешь, что он сам мог бы?..
Ищейка протестующее поднял руку:
— Только легкое подозрение. Преступник должен был в ту ночь спрятать где-то пилу, а на сетке кровати Незамуна есть несколько прорезанных мест, которые выглядят не так, как если бы пила лежала там долго. Я, конечно, могу ошибаться, след, вероятно, фальшивый, но, тем не менее, мы не должны спускать глаз с этого человека.
Главный советник и от других ищеек получил подобные доклады. Набрались шесть или восемь подозреваемых, с которых следовало не спускать глаз. Парахотеп не рассчитывал на то, что дело разъяснится быстро, однако он поклялся найти преступника, даже если для этого потребуются годы.
Для Незамуна наступили плохие времена. Его надежда убить Мерире и этим исключить одного из претендентов на престол не сбылась. Мальчик лежал со сломанным бедром в постели, однако он выздоравливал. А смерть Монту не имела для его госпожи ни малейшего значения. Однако он осмелился на то, чтобы обрисовать для Изис-Неферт некоторые преимущества создавшегося положения и ожидал награды за труды.
Изис-Неферт выслушала его доклад. На ее суровом, желчном лице не дрогнул ни один мускул.
— Это все? — фыркнула она недовольно. — Искалеченный Мерире и мертвый Монту. Ты бы лучше подружился с новой супругой, потому что она сейчас в фаворе и за несколько дней добилась того, чего мне не удалось за много лет: окончательно лишила власти крестьянскую дочку, а может быть, даже выжила ее из Пер-Рамзеса.
Изис-Неферт, конечно, была прекрасно осведомлена о том, как обстоят дела при дворе. Нефертари, надувшись, удалилась в Мемфис, все кружилось вокруг Мерит-Анта, намерения которой Изис-Неферт раскусила еще до того, как алчная хеттиянка была представлена ей. Эта бестия ловко разыгрывала скромницу, более низкую по положению, но Изис-Неферт не попалась на эту удочку. Сначала можно использовать ее как орудие против Нефертари, а потом Изис-Неферт сама позаботится об этой пышногрудой шлюхе. Никакого чуда, что царю она понравилась, думала бывшая храмовая танцовщица, потому что в Нефертари по существу ничего не было. Изис-Неферт, как и прежде, была убеждена, что эта крестьянская дочка привязала к себе фараона какими-то колдовскими штучками. Дурака Незамуна, конечно, жаль. Все, что он ни предпринимал, ему не удавалось, и он еще ожидал, что станет верховным жрецом Амона. С этим в любом случае было покончено, потому что царь недавно назначил верховного жреца, а ей самой придется присмотреть себе нового управителя двора.
Незамун страдал, оказавшись в столь невыгодном положении, которое усугублялось тем, что при дворе кто-то шпионил за ним. Ему донесли, что какой-то человек, которого никто не знал, долгое время находился в его покоях; другие задавали ему странные вопросы. Так, во дворе его остановил какой-то мелкий писец и вдруг внезапно без всякого основания спросил у него:
— Ты не мог бы сейчас достать пилу?
Незамуна пот прошиб от страха, и он подумал: «Ну теперь конец, они меня обнаружили». От страха он не произнес ни слова, тогда писец быстро сказал:
— Извини, я тебя перепутал. Ты так похож на одного человека… Извини, пожалуйста, что я тебя так напугал.
Незамун тотчас должен был прилечь, и несколько часов его мысли кружились вокруг этого странного вопроса. Почему тот человек спросил о пиле именно его? Он писец, у его пояса висели пузырьки с чернилами и связки тростниковых перьев. Для чего ему нужна была пила? В сотый раз Незамун прокручивал в голове события той ночи, чтобы понять, не совершил ли он какую-либо ошибку. После работы с колесницей он выбросил обе пилы в реку, однако лишь в предрассветных сумерках, потому что иначе не мог бы найти дорогу. Даже если кто-то наблюдал за ним, невозможно было различить, какой предмет он швырнул в воду. Это могла быть обглоданная кость или корка от дыни. Так бы он и ответил, если бы кто-нибудь задал ему подобный вопрос.
Незамун больше не находил покоя. Его госпожа, казалось, не замечала своего управителя. Она не спрашивала у него совета, она исключила его из своей жизни. А потом ему предстояло узнать, что фараон за его спиной назначил другого верховным жрецом храма Амона в Пер-Рамзесе. Однако это задело его гораздо меньше, чем жрец-чтец ожидал, потому что он чувствовал, что его жизнь теперь под угрозой, и не знал даже, откуда исходит эта опасность.
Незамун начал терять в весе. Статуя в гробнице, которую он велел изготовить, изображала полного мужчину с почти женской грудью и толстыми жировыми складками вокруг живота. Это с давних времен было знаком того, что изображаемому в жизни повезло и что на том свете ничего не изменится. Однако Незамун все менее походил на свою статую в Вечном Жилище. Его жирные щеки обвисли, живот исчез, и вместе с тем исчез как человек прежний жрец-чтец Незамун. Честолюбие, гордость, себялюбие, бесцеремонность — все растворилось под грузом безымянного страха. Он дошел уже почти до того, чтобы признаться Парахотепу в своем преступлении, — покаяние в обмен на прощение. Однако для покушавшегося на жизнь члена царской семьи не было пощады, тут не помогли бы никакие мольбы и уловки. Незамун знал это, и теперь им двигала только одна забота: он должен добраться невредимым до своего Вечного Жилища, и скоро он понял, что для этого ему остается только один путь.
12
Теперь, когда Пиай закончил свое главное творение, работу всей жизни, он внезапно почувствовал, насколько он измотан. Он вставал по утрам, чувствуя боль в спине. Он ходил по палубе взад и вперед, преодолевая судороги в бедрах, и его правая рука иногда так слабела, что он не мог удержать даже бокала с водой. При этом он наслаждался путешествием на ладье, как никогда. Прежнее нетерпение, жажда деятельности отошли от него, он мог часами сидеть у борта и смотреть на темную плодородную землю, на которой уже появлялась нежная молодая зелень всходов. Пальмы слегка наклоняли свои гордые раскидистые кроны, если их касался порыв ветра, потому что царицам деревьев не пристало делать слишком глубокие поклоны. К северу полоска плодородной земли становилась все более широкой, и пустыня отступала иногда так далеко, что можно было подумать, будто ты уже в Дельте.
У Такки было полным-полно вопросов, но она точно чувствовала, когда у Пиайя была охота ей отвечать, а когда он хотел, чтобы его оставили в покое. Она не забыла того, что он ответил на замечание старшего команды, когда они взошли на борт. Было в обычае, что на больших ладьях господа оставались на палубе и там же отдыхали ночью, в то время как слуги в душных нижних помещениях сторожили багаж и должны были спать там же. Когда старший хотел указать Такке проход под палубу, Пиай сказал:
— Это не служанка, а моя жена. Она останется со мной.
Такка почувствовала, что было бы неверным что-либо сказать на это, ибо обычная благодарность была бы неуместна. Она без слов оценила подарок и воздала за него Пиайю особым вниманием. Он назвал ее супругой, и она окружила его заботой, как верная и преданная хозяйка и жена.
Пиай почувствовал это и подумал: «Как просто общаться с этой девушкой, все идет само по себе. Она не принцесса, у которой высокие запросы. Она подчиняется, играет роль, предписанную жизнью, и делает это с полной отдачей и радостью. Сложности бывают у тех, кто хочет вырваться из своего круга, как ты, Пиай. Ты как Единственный друг фараона мог бы получить в жены любую египетскую девушку, но ты предпочел соблазнить первенца Благого Бога, осквернить священную кровь дочери Солнца».
Пиай не ощущал при подобных мыслях ни горя, ни раскаянья, однако сейчас, когда с последней встречи с Мерит прошло много месяцев, он сам удивлялся дерзости и наглости того Пиайя, как будто это был не он сам, а какой-то незнакомец. При этом он знал, что сделал бы то же самое и сейчас, несмотря на все опасности и препятствия, даже ценой собственной жизни. Не было основания этим гордиться, он просто не мог иначе. Как природой дано скарабею катить перед собой шарики из навоза, невзирая на все препятствия, так и ему было предназначено любить Мерит, и этого нельзя было бы изменить, даже если бы она отвернулась от него.
«Я и к этому должен быть готов, — подумал Пиай. — Может быть, она примирилась со своим супругом. Может быть, ее антипатия превратилась в терпимость, потому что она устала оказывать сопротивление. Это было бы понятно, и я должен был бы смириться с этим после столь долгой разлуки».
Так думал Пиай, однако в глубине его души теплилась надежда, что дела обстоят совсем не так. И эта надежда нашептывала ему: «Конечно, она продолжает ждать тебя. Ее тело тоскует по твоему, и присутствие навязанного ей супруга злит ее».
Пиай был скорее склонен прислушиваться к голосу надежды и верить его нашептываниям. Но что будет с Таккой? Она доверилась ему, и он согласился с этим. Пиай оглянулся в поисках спутницы. Маленькая нубийка в солнечный полдень легла под тент и заснула. Ее темная изящная головка покоилась на узле, стройные ноги она подтянула под свое пристойное длинное платье. Она лежала, как спящий ребенок, — хрупкая, доверчивая. Пиай ощущал к ней глубокую приязнь. Она была не только его возлюбленной, его второй женой, но и кем-то вроде дочери, которая окружает отца своей женской заботой, в то время как он защищает и охраняет ее.
— Я должен взять пример с фараона, да будет он жив, здрав и могуч. Он любит Нефертари, не пренебрегая другими женами и наложницами. В любом случае мне легче, потому что весь мой гарем состоит из Такки.
Как будто почувствовав, что он думает о ней, она повернулась, вытянулась, открыла глаза и сдержанно зевнула.
— Я спала?
— Да, моя дорогая, и я смотрел на тебя.
Она поднялась и села рядом с Пиайем.
— Здесь в полдень не так жарко, как на юге.
— В Мемфисе будет еще прохладнее, и, если нам повезет, еще сегодня ты переживешь свой первый дождь.
— Дождь! Я даже не могу себе этого представить. Неужели вода просто течет с неба, как будто кто-то выливает на наши головы несколько кувшинов?
Пиай рассмеялся:
— Нет, все не так просто. Вода в большинстве случаев падает мелкими каплями, и это длится некоторое время, пока ты по-настоящему не промокнешь. В Дельте она льет потоком, и тогда твое сравнение с кувшинами подходит. Я пережил подобное один-единственный раз в окрестностях Она, города Солнца.
— У тебя есть желание мне об этом рассказать?
— Если хочешь слушать.
Пиай рассказывал, а Такка, как завороженная, раскрыв глаза, слушала его. Все это ей казалось похожим на сказку.
Нефертари вернулась из Мемфиса, но в Пер-Рамзесе ничего не изменилось. Рамзес воспринял ее присутствие с холодной вежливостью и в рассеянности. С желчного лица Изис-Неферт не сходила язвительная насмешка, когда они встречали друг друга, а Мерит-Анта, новая жена, выказывала перед Великой Царской Супругой лицемерное смирение и наигранную покорность.
Тотчас после возвращения Нефертари к ней пришел главный советник. Парахотеп, бывший обычно спокойным и уверенным, на этот раз выглядел нервным, беспокойным и после торопливого приветствия тут же перешел к делу:
— Благодарение Хатор, ты вернулась, моя царица! Мы пришли к единому мнению, что нам пора действовать, пока еще не слишком поздно.
— Кто мы?
— Мы — это принц Енам, принцесса Мерит, верховный жрец Хамвезе, Мена, Сети, конечно, я сам и вообще все те, которые хотят блага фараону, да будет он жив, здрав и могуч, и хотели бы, извини, что я это говорю, уберечь его от величайшей глупости. Ты должна будешь заметить, высокочтимая царица, что хеттская принцесса все еще держит его величество в своих когтях, и дело сейчас уже так далеко, что он дарит ей целые области своих владений. Несколько дней назад царь положил мне на стол документ, речь в котором шла ни больше ни меньше, как о том, чтобы передать все поступления от дани с западной части Амурру хеттской шлюхе Мерит-Анта. Когда я скромно возразил, что этого многовато и вообще не хотел бы Благой Бог прежде обсудить дело со своими советниками, на мою голову обрушился весь царский гнев. Что я о себе воображаю, и кто я вообще такой, чтобы сомневаться в его приказе! Впрочем, сказал он, нерадивого советника можно легко сменить. Он уже знает, что не все при дворе ценят Мерит-Анта по заслугам, но в конце концов его третья супруга должна иметь определенные права, и он, царь, для того и существует, чтобы ей эти права предоставить. Что мне было делать? Я поставил печать на договор и считаю, что дело дошло до точки, когда необходимо предпринять меры против этой ядовитой змеи.
Нефертари выслушала все спокойно и спросила:
— Как ты себе это представляешь? Что необходимо предпринять?
— Я вижу только одну возможность: эту женщину нужно убрать. Добровольно она вряд ли вернется к своему отцу. Царь находится в ее руках, и Амурру не будет его последним подарком. Ходят даже слухи, что Благой Бог хочет передать ей имение царицы-матери Туи, как только та переселится в Дом Вечности. Нетрудно догадаться, досточтимая царица, что жадное сердце Мерит-Анта недолго будет довольствоваться этим. Не без основания Изис-Неферт все чаще заглядывает к ней, потому что следующая цель их обеих — устранить тебя, моя царица, из сердца царя и отобрать у тебя ранг Великой Царской Супруги. Эта цель уже много лет занимает Изис-Неферт, но у нее не было никаких шансов на успех. Теперь все выглядит по-другому. Если Мерит-Анта родит принца…
— Она беременна? — быстро спросила Нефертари.
— Пока нет, она бы об этом тотчас растрезвонила. Могу я задать тебе один вопрос, досточтимая царица, до того, как я продолжу?
Нефертари кивнула.
— Придерживаешься ли ты того же мнения, что Мерит-Анта должна исчезнуть и очень быстро?
— Если все то, что ты рассказал мне, соответствует правде, то есть проверено и подтверждается другими, тогда ты имеешь мое согласие. Эта женщина должна уйти. У вас есть план?
— Планы есть, но есть также и сомнения. Предположим, Мерит-Анта умирает или исчезает, и царь начинает расследование. Любая мужская дружба кончается, если дело идет о женщинах. Другими словами, царь никогда не простит мне того, что я устранил его
возлюбленную. Это же касается наследного принца Енама, потому что отцы прощают сыновьям многое, но они не терпят, если сыновья вмешиваются в их любовные дела, да еще так грубо и решительно. Фараон передаст наследование трона Хамвезе, а Енама изгонит в Куш. Хамвезе, само собой разумеется, на нашей стороне, однако он хотел бы остаться верховным жрецом и вовсе не желает быть фараоном…
— А если я возьму ответственность на себя?
— Ты потеряешь его сердце, моя царица.
— А разве оно у меня еще есть?
— Да, потому что Мерит-Анта принадлежит только его тело. Когда-либо ее очарование пройдет — может быть, уже завтра или через пять лет. Но мы не можем ждать этого. Сейчас уже не можем.
Нефертари задумалась, закрыла свои слегка раскосые миндалевидные глаза и, казалось, глядела сквозь веки.
— Есть только один человек, который может наступить на змею, не опасаясь мести фараона. От нее, скрипя зубами, он это стерпит, потому что он хороший и верный сын. На Тую, царицу-мать, можно положиться.
— Я мог бы тебя расцеловать, если бы это было разрешено и прилично. Я желал бы только, чтобы предложение исходило от тебя, моя царица, и тоже не вижу никакой другой возможности. Я сегодня же отправлюсь к ней.
Имение царицы-матери располагалось в самой плодородной части Дельты, удаленной от Пер-Рамзеса лишь на несколько часов пути на корабле. Из этой местности происходила семья ее супруга Озириса-Сети. Здесь он построил просторный летний дворец и передал все имение еще при жизни своей супруге. Туя скромно называла себя сельской жительницей. Она с успехом выращивала прекрасный рогатый скот и лошадей и хозяйничала на своих полях, применяя новые знания.
— Я уже догадалась, почему ты ко мне явился. Речь идет о змее-хеттиянке, я права?
— Да, Богоподобная, речь идет об этом. Мы, то есть Великая Царская Супруга, наследный принц, верховный жрец Мемфиса, я сам и многие другие пришли к мнению, что только один человек осмелится отобрать у царя, да будет он жив, здрав и могуч, слишком алчную возлюбленную, не обрушив на себя несчастья, — ты, его высокопочитаемая мать.
Старая Туя мысленно улыбнулась.
— Ты полагаешь, что таким образом старуха еще раз может оказаться полезной, прежде чем отправится в Страну заката?
Парахотеп в наигранном ужасе упал на колени:
— Никогда мое сердце не двигали столь неуважительные мысли! — Он снова встал и серьезно добавил: — Впрочем, поговаривают, что змея-хеттиянка унаследует и твои владения, когда ты отправишься к Озирису.
Удар оказался очень метким! Главный советник видел это по старой даме.
— Скажи-ка! Ну, мы знаем, как это предотвратить. Мой драгоценный Парахотеп, ты должен сейчас послужить мне писцом, потому что речь пойдет о вещах, которые касаются только нас.
Слуга принес письменный прибор, и царица Туя подождала, пока он выйдет.
— Ты собственноручно передашь это послание верховному жрецу Сехмет. Его зовут Сетнахт, он очень стар и выглядит как ястреб. Мы хорошо знаем друг друга, он мне очень обязан.
Она замолчала и загадочно улыбнулась.
«Если бы только я мог прочитать твои мысли, царица», — мысленно пожелал главный советник.
— Итак, теперь пиши. Достопочтенному Сетнахту, первому жрецу богини Сехмет. Будь жив и здрав, мой друг! Главный советник Парахотеп передаст тебе это письмо по моему поручению. Выслушай то, что он скажет тебе, и посильно поддержи его. Этот приказ передаю тебе я, Туя, прежде Великая Царская Супруга Озириса-Сети.
Старая царица запечатала послание и сказала:
— Потом все пойдет очень быстро. У меня есть план, однако я пока утаю его. Передавай привет Нефертари, Мерит, Енаму и другим. Живите и дальше, как жили, ведите себя спокойно и слушайтесь приказов царя, даже если они покажутся вам необычными. Ни у кого не должно возникнуть ни малейшего подозрения! Старая царица Туя освободит вас от змеи. А теперь забудь все, что я тебе сказала.
Ищейки уже несколько месяцев были заняты работой. С бесконечным терпением они отсеяли тех, на кого не падало подозрение. Различными обманными действиями, ложью, провокациями они возбуждали порядочное смущение и при этом внимательно следили за реакцией своих жертв. Теперь осталось только шесть подозреваемых, и главный советник, к которому стекались все донесения, записал их имена одно под другим. Двое были обозначены некоторыми ищейками в качестве возможных преступников, и имя одного из них было Незамун.
Парахотеп подчеркнул это имя красными чернилами и обругал себя дураком за то, что раньше не вышел на управителя двора Изис-Неферт. При этом один из ищеек уже давно указал ему, что под особым подозрением находится Незамун, именно потому, что его госпожа словно намеренно отсутствовала во время покушения.
Визирь продумал последующие шаги. Допросить ли ему всех шестерых под пыткой или только этих двух?
Другой был мелким чиновником, которого пьянство ввергло в несчастье и который считал, что его все преследуют. Он вынашивал планы мести, о которых, будучи пьяным, рассказывал всем подряд. Уже пару раз он сказал, что будет только справедливым, если с Благим Богом или с его детьми случится какое-либо несчастье. Это было кощунством и оскорблением Богоподобного, но для предъявления обвинения не хватало надежных свидетелей, которые могли бы достоверно подтвердить подобное высказывание.
Вероятно, ищейки слишком уж насели на пьяницу, подумал Парахотеп, и его мысли вернулись к Незамуну. Без сомнения, он был очень способным человеком, потому что много лет правил двором Изис-Неферт, не особо бросаясь в глаза. Он считался любезным и обходительным и был, как выяснили ищейки, дружен с Монту. Вечерами он часто опустошал с ним по кувшину вина и, видимо, втерся в доверие бывшему воину ниу. Он должен был точно знать, когда состоится испытательная поездка на новой колеснице, и в ночь до этого совершил преступление.
Парахотеп поднялся и начал беспокойно бегать взад и вперед. Необходимо найти какое-то компромиссное решение. Ищейки сообщили, что в последнее время Незамун ведет себя, как преследуемый, и самые невинные намеки приводят его в трепет. Надо это использовать. Парахотеп быстро нашел выход.
Принц Сети точно последовал рекомендациям своего отца. Он встречал Мерит с уважением и вниманием, пытался угадать ее желания и время от времени передавал ей маленькие подарки: украшения, цветы, редкие фрукты с севера или флакончик ценного масла. Мерит, конечно, знала, какие цели он преследует, и однажды сказала себе: «Верность — дело сердца, а не тела, а поскольку он однажды уже переспал со мной, это должно случиться и во второй раз. Пиай там, далеко на юге, также не соблюдает целомудрие, и я не могу его упрекать за это: мы уже слишком долго в разлуке».
Итак, Сети было позволено посетить супругу в ее спальном покое. На этот раз ему не надо было выбивать дверь, и Бикет, мрачная стражница, отвернувшись, пропустила его. Он пришел с букетом цветов, принц Сети, до этого визита он несколько дней избегал своего гарема. Он хотел выступить в роли полного сил Могучего Быка и нагнать упущенное.
Мерит вела себя несколько натянуто и церемонно приветствовала его словами:
— Добро пожаловать, мой супруг.
И выглядела она при этом такой величественной, что у Сети началась легкая дрожь. Должно быть, что-то есть в ней, в священной крови дочери Солнца, подумал он робко и обругал себя трусом. «В конце концов ты воин! Бывают вещи и похуже того, чтобы отправиться в постель со своей супругой».
— Почему ты так серьезен, мой дорогой? У тебя заботы?
— Ни в коей мере, любимая, я только несколько смущен, потому что это ведь не повседневная вещь…
— Нет, — сказала Мерит серьезно. — Конечно, нет, и ты знаешь, почему я так долго заставила тебя ждать. Теперь ты научился вести себя, как подобает супругу принцессы царской крови, и за это я хочу тебя вознаградить.
Сети почувствовал, как все его желание обладать этой женщиной внезапно прошло. Он уже стремился прочь отсюда — к войскам или в свой гарем, только подальше отсюда. Что ему, собственно говоря, здесь искать? Что в Мерит такого особенного? Она отказывала ему. Ну и что? Красивых девушек достаточно, но поскольку он уже здесь…
— Я думала, ты хочешь воспользоваться своими правами супруга? — насмешливо спросила удивленная Мерит, когда увидела, что Сети колеблется.
— Мои права… да-да…
Сети начал осторожно раздевать жену, как драгоценную куклу, потом снял с себя передник и неловко погладил ее грудь. Наступавшие сумерки окутали высокое стройное тело Мерит нежно-серой пеленой, однако это женское тело, по которому Сети так долго и ожесточенно тосковал, не возбуждало в нем никакого желания. Оно было холодным и отталкивающим, как будто он лег в постель с каменной статуей. Мерит, не испытывая желания, погладила его член, чтобы выказать свою добрую волю, однако у Сети ничего не проснулось.
— Не обращай внимания, может быть, ты переутомился и тебе требуется отдохнуть. Можешь посетить меня снова, когда отдохнешь.
На языке у Сети вертелся язвительный ответ, потому что он почувствовал ее насмешку и сочувственное презрение. Однако он промолчал, оделся, поклонился и быстро вышел.
Несколько дней спустя Мерит узнала от своего брата Енама, что Пиай находится на пути в Мемфис и что фараон на всю жизнь запретил ему приезжать в Пер-Рамзес.
В Мерит проснулись надежды. Возможность добраться до Мемфиса найдется. Все остальное стало неважным, как и ее супруг Сети, который отодвинулся сейчас так далеко, как будто был лишь мимолетным знакомым.
Не мешкая, главный советник разыскал Сетнахта, первого жреца богини Сехмет, являвшегося главой всех лекарей в Пер-Рамзесе и Кеми. Старый жрец был раньше личным лекарем царя Сети, пережил того и в качестве поощрения получил прекрасную должность на службе богине, которая не только была известна как разрушительница, насылающая смертельные поветрия, но и почиталась лекарями как их защитница.
Об этом древнем Сетнахте слагались легенды. Он считался магом. Говорили, что он внес существенный вклад в великие победы Озириса-Сети при помощи своего волшебства.
Парахотеп видел его несколько раз на религиозных праздниках, но близко не знал. Уже много лет тот не показывался на людях, и лишь немногие знали, что он еще жив. Верховный жрец хозяйничал в маленьком доме позади храма Сехмет, который был частью Большого храма Пта. Здесь Парахотеп и нашел его.
— А, главный советник своим визитом почтил меня, — прокаркал древний лекарь громким, высоким старческим голосом. Он выглядел точно так, как его описала Туя. На длинной худой морщинистой шее сидела лысая, почти лишенная плоти голова, подобная птичьей, с маленькими круглыми глазами и тонким изогнутым, как клюв, носом. Под грузом почтенного возраста длинная шея его чуть подалась вперед, и Сетнахт был больше похож на коршуна, чем на человека.
— Ты должен говорить громко, достопочтенный, потому что верховный жрец не обладает больше хорошим слухом, — сказал слуга и подвинул главному советнику кресло.
Парахотеп передал послание царицы-матери, и Сетнахт совсем близко поднес его к глазам.
— Старая девочка все еще жива… Я думал, она уж давно перебралась в свой Дом Вечности. Ну, о чем она пишет?
Птичья голова несколько раз кивнула во время чтения, а потом маленькие круглые глаза уставились прямо на Парахотепа:
— Что ж, говори, теперь твоя очередь. Что я могу сделать для тебя, для Туи или для вас обоих?
— Нас здесь никто не сможет слышать? — Парахотеп опасался, что громкий голос его или туговатого на ухо жреца услышит кто-нибудь снаружи. Сетнахт крикнул слугу и велел посторожить под дверью.
— Мою просьбу я изложу быстро. Нам, то есть царице-матери Туе, необходимо средство, делающее человека больным и убивающее его. Но не яд, потому что отравление тотчас возбудит подозрения. Это должно быть похоже на одну из известных болезней, смертельных болезней. Ты понимаешь, что я имею в виду, достопочтенный?
Блеющий смех наполнил комнату. У Парахотепа мурашки побежали по телу.
— Ты так ясно высказался, хи-хи, ха-а, яснее и не бывает, ха-ха-ха.
Он перестал смеяться так же быстро, как начал, потер свои лишенные плоти руки и сказал:
— Через несколько дней я велю кое-что передать Туе, этим она сможет возбудить смертельное огненное дыхание Сехмет… или нет. Это уж как ей будет по нраву. М-да, как ей будет по нраву.
Главный советник поблагодарил и был рад, что снова может выйти на солнечный свет. От старика исходило ледяное дыхание повелителя смерти, которое Парахотеп не мог больше выносить.
При храме Сехмет служили несколько молодых лекарей. Дохода такая служба почти не приносила, потому что молодые помощники жрецов лечили бедных и простых людей без вознаграждения, но при этом они набирались опыта, а кров и пищу находили в храме.
На следующее утро старый Сетнахт вел разговор с четырьмя помощниками жрецов, то есть он говорил, а четыре молодых лекаря почтительно слушали. На его вопрос, какая болезнь в эти дни встречается наиболее часто, он услышал, что в Пер-Рамзесе и окрестностях ходит оспа.
— Итак, оспа! А что предпринимаете против нее вы, подающие большие надежды служители Сехмет?
— Сначала удаляется все, что входило в соприкосновение с больным, чтобы избежать новых заражений. Последующее лечение зависит от стадии болезни. Мы применяем понижающие температуру и успокоительные средства, а когда появляются гнойнички, в ход идут противовоспалительные и вяжущие мази и капли. Как только гнойнички начинают подсыхать, необходимо помешать больному расцарапывать их, поэтому лучше всего крепко связать его руки. Но если…
Старик резко отмахнулся:
— Хорошо, хорошо… Насылая оспу, Сехмет неохотно позволяет вмешиваться в свои дела. Как обстоят дела со смертностью?
— Она необычайно высока. Из десяти больных от шести до семи отправляются в Закатную страну.
Сетнахт с шуршанием потер свои пергаментные руки:
— Мы должны дать богине маленькое указание в форме просьбы… жертвы…
Верховный жрец вытянул свою морщинистую шею. Это выглядело, как будто ястреб обнаружил свою жертву и теперь готов ударить ее своим клювом. Молодые лекари в испуге отпрянули. По узким искривленным губам старика скользнула легкая довольная улыбка. Старый жрец говорил теперь необыкновенно тихо.
— У меня есть поручение для вас. Где бы вы ни встречали больного оспой, принесите мне что-нибудь от него. Я имею в виду следующее: вы подхватываете пинцетом гнойничок и закрываете его в коробочке; к этому еще гной, который вы промокаете. О том, что вы должны быть чрезвычайно внимательными, чтобы не соприкоснуться с этим, вы и сами прекрасно знаете. Долго и основательно мойте руки. У кого-либо из вас уже была оспа?
Один из лекарей выступил вперед. Его покрытое шрамами от оспы лицо делало любой ответ излишним.
— Это еще лучше! Вы, остальные, будете сообщать ему обо всех случаях оспы, и он один сделает то, что я до этого велел сделать вам всем. Ты уже заразиться не сможешь, поэтому сделай свое дело хорошо.
Оказавшись во дворе храма, молодые люди недоуменно переглянулись.
— Что пришло в голову старому колдуну? Может быть, хочет прочитать заклинание против оспы перед изображением богини?
— А почему нет? Нас это не касается. Чем усерднее мы ему служим, тем быстрее получим свидетельства об окончании учебы.
На том и сошлись, и каждый направился по своим делам, не думая больше о странном желании верховного жреца Сехмет.
Сразу же после прибытия в Мемфис Пиай нанес визит верховному жрецу Пта. Каким достойным выглядел этот молодой человек в жреческом облачении! Его череп был гладко выбрит и блестел, как полированное дерево. Его умные глаза дружелюбно смотрели на Пиайя.
— Вот и ты наконец! Добро пожаловать в Мемфис, город Пта! Как я вижу, ты привез свою трудолюбивую экономку. Да, у девочки здесь будет работы гораздо больше, чем на юге. О тебе, Пиай, также позаботились. Работа не особо тяжелая, к счастью, но у тебя ее будет предостаточно. Мей, старший архитектор, стал стар, и ты мог бы замещать его здесь, в Мемфисе, если, конечно, Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, согласится с этим. А теперь о ближайшем: мой слуга проводит тебя к твоему дому, и я надеюсь, дом тебе понравится.
По сравнению с некоторыми жилищами на краю города новый дом Пиайя был скорее скромным, но по сравнению с его хижиной на юге его можно было посчитать княжеским. В нем было три крыла, его окружал ухоженный пышный сад, который с севера ограничивала высокая стена. В качестве слуг к Пиайю перешла старая супружеская пара, которая работала здесь у предыдущего владельца, недавно ушедшего к Озирису. Для ухода за садом, в качестве посыльного или других мелких поручений имелся подросток.
Пиай объяснил всем трем:
— Это Такка, ваша будущая госпожа. Она теперь отдает приказы в доме. Вашего прежнего господина я не знал, но уверен, что мы с вами поладим друг с другом.
Когда они остались одни, Такка тотчас спросила:
— Как ты можешь делать меня, рабыню, хозяйкой над этими людьми, ведь это против порядков?
— Потому что ты и есть хозяйка в моем доме. Я не знаю и не хочу знать, что случилось с моим прежним имуществом. Это было так давно, столько воды утекло с тех пор. Большую часть своих злоключений я тебе рассказал. В любом случае, я уже не тот, каким был, когда много лет назад уехал отсюда. Я все время был в дороге, у меня никогда не было настоящего дома. Теперь он у меня есть, и дому нужна хозяйка. Я сделаю запрос в управление царским имуществом, чтобы ты из собственности фараона перешла в мою собственность. Мы поженимся, и я составлю для тебя вольную, а когда я предстану перед Озирисом, ты станешь моей наследницей. У меня все равно никого нет.
— А принцесса Мерит? — спросила ошеломленная Такка.
— Это другая часть моей жизни, с которой у тебя нет ничего общего.
Только сейчас до сознания Такки дошло, чего хочет Пиай.
— Ты… хочешь… на мне…
— Да, жениться. Что в этом странного? Мы вместе спим, и, может быть, ты родишь мне детей. Я хочу, чтобы все текло установленным порядком.
— А разве это можно, я имею в виду — ты и нубийка? Я здесь не видела своих соплеменников, так, несколько в гавани…
Пиай отмахнулся:
— Я тебе уже рассказывал, есть нубийцы, занимающие высокие посты при дворе, есть темнокожие жрецы и чиновники. «Жалкий Куш» давным-давно прижился при дворе. Фараон, да будет он жив, здрав и могуч, не имеет предубеждения против иноземцев. Наоборот, некоторые египтяне даже обижаются на него за то, что он позволил построить в Кеми храмы чужим богам — таким как Ваал, Иштар и Анат. Благой Бог выше подобных вещей.
Они вошли в предназначенную для господ комнату, расположенную в северном крыле и открытую в сад.
— А где спальня? — с любопытством спросила Такка.
Найти спальню оказалось несложно. В ней было тихо и прохладно. Слуги поставили букет жасминовых веток в кувшине, их опьяняющий, тяжелый аромат распространился по комнате.
— Не освятить ли нам постель? — спросил Пиай.
Такка улыбнулась:
— Почему бы и нет? Надо же это когда-нибудь сделать…
13
У Незамуна снова появилась надежда. Казалось, ему больше не угрожают, его не выслеживают и не подозревают. Да и что можно было ему предъявить? Такой старой, хитрой лисе, как он, не так-то просто наступить на хвост. Царица Изис-Неферт, его госпожа, снова обращалась с ним приветливо, и он мог догадаться почему. Она все чаще теперь бывала у этой новой супруги — хеттиянки, которую фараон ценил превыше всех, и вместе с ней плела интриги против Нефертари.
«Для Великой Царской Супруги настали плохие времена», — злорадно думал Незамун. Однако его радость омрачало то, что он не принимал в этом никакого участия. Он больше не был нужен своей госпоже и смирился с этим. Старый жрец хотел одного: провести остаток жизни в мире и довольствоваться тем, чего уже достиг.
«Много у тебя никогда не было», — злорадно нашептывало его ка, но Незамун не слушал его. Огонь честолюбия потух, ни искры его не тлело, и ничто больше не подвигло бы его снова затевать что-либо в интересах своей госпожи. Он выполнял только ее приказы, и, если бы она искала его совета, он всегда был бы в ее распоряжении. Но его советы ей уже давным-давно не нужны…
Однако пора поспешать на службу, потому что Ра уже довольно высоко поднялся над утренним горизонтом. Незамун уже хотел покинуть свой дом, когда слуга доложил ему о посетителе.
— Проси его, — велел Незамун, пребывающий в хорошем настроении.
Молодой, прилично одетый человек поклонился и подошел к ближе.
«Чиновник, — подумал Незамун, — это видно с первого взгляда».
— Ты Незамун, жрец-чтец и управитель двора царской супруги Изис-Неферт?
— Да, мой друг, это я. Что привело тебя ко мне?
— Я из суда, — сказал чиновник тихим, вежливым голосом, — и должен сообщить тебе, что сегодня вечером за час до захода солнца ты должен будешь явиться на допрос.
Уже при слове «суд» сердце Незамуна начало бешено биться, и все его тело покрылось потом.
— На д-допрос?.. — пробормотал он, заикаясь.
— Да, — ответил молодой человек дружелюбно. — На допрос. Лишь только от тебя зависит, будут ли применены пытки.
У Незамуна перехватило дыхание. Не могут же они его пытать! Нет, на это у них нет права!
— Но я совсем ни при чем! Я всю ночь спал здесь, в своем доме. Преступник давно сбежал. Неужели ты думаешь, что он стал бы ждать здесь, пока его схватят?
Чиновник подался вперед, как будто боясь упустить хоть слово.
— Преступник? Могу я спросить, о чем ты? Откуда ты вообще знаешь, о чем речь? Мне кажется, ты поразительно хорошо осведомлен.
Незамун растерянно посмотрел на чиновника. Не сболтнул ли он лишнего?
— Речь может идти только о покушении на принцев Мерире и Монту. Каждый ребенок при дворе знает, что преступников все еще ищут. Меня также спрашивали о какой-то пиле…
— Так-так, каждый ребенок об этом знает… Хорошо, может быть, но преступник или преступники еще не найдены. Ты входишь в круг главных подозреваемых, поэтому тебя и будут допрашивать сегодня вечером, и, как я уже сказал, это может быть и допрос с пытками. Главных подозреваемых пытают, если они не дают показаний.
— Но мне не в чем признаваться! — воскликнул Незамун в отчаянии.
— Посмотрим. Впрочем, мне приказали рассказать тебе о том, как проходит допрос с пристрастием. Каждый подозреваемый должен знать, что его ожидает, не так ли?
Незамун с трудом сглотнул:
— Моя госпожа, царица Изис-Неферт, не оставит этого просто так. Я жрец Амона, управитель двора…
Чиновник снисходительно улыбнулся:
— Случалось, что и главных советников пытали. А теперь к делу. Если ты подробно не ответишь на все вопросы, то для начала тебя изобьют палками до пяти кровавых ран. Это только прелюдия, скажем так, лишь легкий стук в дверь. Если дверь твоего рта на этом не откроется, тебя подвесят на ремнях высоко, очень высоко и оставят висеть так, пока суставы не выскочат из суставных впадин. Я вижу, ты несколько грузноват, Незамун, с тобой это произойдет быстро. Молодым сильным мужчинам бывает потяжелее. Часто приходится привязывать к их ногам груз, чтобы чего-либо добиться от них.
Незамун стал пепельного цвета. Дрожащими руками он схватил кувшин, чтобы налить воду в бокал, но это ему не удалось. Чиновник тут же бросился к нему на помощь и налил полный бокал.
— Ты готов? Я могу говорить дальше?
Незамун только слабо кивнул, и посетитель продолжил:
— На этом этапе допроса обычно признаются. Если нет, то можно выбить признание ударами плети из кожи носорога. С тела, и без того напряженного, кожа летит клочьями. Не самое приятное зрелище. Есть, конечно, бесконечно много возможностей продолжить допрос с пристрастием — огнем, плоскогубцами, плетьми; успех приносит пытка водой. Но я не хочу тебя утомлять, поскольку считаю, что ты настолько умен, что вряд ли позволишь палачу зайти так далеко. Добровольное и подробное признание избавит тебя от многочасовых мук, по сравнению с которыми смерть на костре — настоящее лакомство медом.
Чиновник был еще молод, но он обладал некоторым опытом. Поэтому он четко распознал в Незамуне знаки готовности. Допрос назначен на вечер, и описание пыток еще часами будет стоять перед мысленным взором Незамуна. Одно это ускорит дело. Он быстро распростился со словами:
— Будь готов за час до захода солнца. Чиновник суда незаметно уведет тебя. Как видишь, мы принимаем во внимание твое положение при дворе.
Незамун был оглушен. Ему казалось, что сама смерть посетила его. Они вычислили его, а теперь готовы нанести удар. Сколько им известно, они, конечно, скрывают и ожидают от него признания. А в итоге — эшафот, с пытками или без пыток. В любом случае он пропал, признается ли он добровольно или же после того, как плеть из кожи носорога проедется по его голому, напряженному телу. Жрец вздрогнул. Чем дольше он думал о подобном будущем, тем более стремился к тому, чтобы найти единственно возможный выход. Ему осталось одно: успеть невредимым попасть в руки «ставящих печать бога», а от них — в свой Дом Вечности. И он знал, что есть только один путь — через маленькое святилище Анубиса, расположенное на территории храма Озириса.
У одиноких людей было в обычае еще при жизни заказывать у Анубиса свое бальзамирование и погребение. Сам Анубис в лице своих жрецов следил за «ставящими печать бога», совершал церемонию открывания рта и заботился о достойном погребении. На лице Незамуна появилась язвительная усмешка. Да, он ускользнет от них! При помощи Анубиса он уйдет из этого мира, угрожавшего ему пытками и эшафотом. Он взял чернила, воду и несколько перьев из тростника. Как хорошо, что он захватил два листа папируса из запасов Изис-Неферт. Незамун был опытным писцом, поэтому ему потребовалось около часа, чтобы исписать два листа папируса. Одно из писем было адресовано главному советнику. Он передал его слуге и велел доставить письмо по адресу после обеда, если он, Незамун, тем временем не вернется назад.
Слуга, привыкший к послушанию, не задавал лишних вопросов, а только поклонился, когда Незамун сунул письмо ему в руки.
— Еще одно! Сегодня вечером за час до захода солнца меня будут спрашивать. Скажи этим людям, что они должны обратиться к высокочтимому Парахотепу, он обо всем знает.
Другой документ жрец засунул себе за пояс и вышел из дома. Его не остановили, но два копьеносца следовали за ним на некотором отдалении.
Пер-Рамзес был городом Сета и Пта, богов, которых предпочитал фараон. У Амона здесь тоже был Большой храм — вынужденное признание того, что он все еще выполняет функцию верховного бога царства. Маленький храм Озириса располагался на западе храмового квартала. Это была, собственно говоря, только часовня с маленьким двором и святилищем, не больше личных покоев в царском дворце.
Незамун разыскал жреца, который был явно рад тому, что понадобился, и с угодливой улыбкой подошел к посетителю. Незамун недоверчиво осмотрелся.
— Я хотел бы поговорить с тобой наедине, почтенный, чтобы мы были уверены в том, что никто нас не подслушивает.
У низкой храмовой стены располагались жилища жрецов. Оба мужчины вошли в один из домов, хозяин кивнул слугам, и они принесли два кувшина — с водой и вином. Когда сели, Незамун представился и сказал:
— Появились обстоятельства, которые побуждают меня разыскать мой давно подготовленный Дом Вечности. Я сегодня же вечером готов предоставить свое тело «ставящим печать бога». Насколько я знаю, слуги Озириса призваны поддерживать просителей подобного рода?
— Верно, но предусматривается, что все твои дела в этом мире улажены во всех отношениях.
Незамун сунул руку за пояс и положил на стол письмо и к нему мешочек с золотыми дебами:
— Здесь изложено все, что вам необходимо знать. Моя гробница расположена к юго-западу от Мемфиса, вблизи пирамиды Уна. Здесь написано имя стражника гробницы и заранее оплаченного жреца, который должен будет принести жертвы. Этого, — Незамун коснулся положенного на стол мешочка, — будет достаточно для «ставящих печать бога» и для достойного погребения. Остальное я прошу передать Анубису, в чьей помощи я нуждаюсь больше всего, потому что у меня нет ни жены, ни детей.
Жрец Озириса взял мешочек, развязал его и проверил содержимое. Затем кивнул:
— Все будет согласно твоему желанию, почтенный Незамун.
— Так как у меня есть должность в царском дворце, я посчитал необходимым отправить сообщение главному советнику, поэтому ты можешь не беспокоиться. А теперь я хотел бы попросить тебя отвести меня туда, где «ставящие печать бога» найдут мое тело.
Жрец ввел Незамуна в маленькую комнатку, единственным источником света в которой было четырехугольное отверстие в потолке. Узкий, шириной с ладонь, луч света коснулся стены с текстами из Книги Мертвых. Незамун присел на каменную скамью и, когда его глаза привыкли к полумраку, узнал картины, нарисованные на стенах. Они были посвящены исключительно Анубису с головой шакала и его миссии. Он был изображен в качестве помощника бога мертвых — склонившийся, как «ставящий печать бога», над мумией. На другом рисунке он проводил церемонию открывания рта, а рядом на суде Озириса стоял перед весами, на которых взвешивалось сердце умершего, в то время как бог-писец Тот записывал результат. На заднем плане уже ждала Амут в ужасном образе, соединявшем льва, носорога и крокодила, заглатывающая виновных. Озирис, судья мертвых, сидел на троне над сценой, а позади него стояли богини Изида и Нефтида.
Незамун был поглощен рассматриванием картин, когда жрец бесшумно подошел к нему и поставил на каменную скамью маленький кувшин.
— Желаю тебе счастливого путешествия, Незамун.
Эти слова вернули старого управителя двора Изис-Неферт в реальность этой узкой, почти лишенной света комнатки. Как охотно он вышел бы сейчас на свет, чтобы увидеть над собой голубое небо, вдохнуть чистый воздух, почувствовать сладкий аромат цветущих акаций!.. Но это означало бы отдать себя в руки судей, принять пытки и смертный приговор. Злорадство вместе с надеждой на лучшую жизнь на том свете подтолкнули Незамуна взяться за кувшин. Он попытался представить разочарованные лица своих палачей, когда они придут сегодня вечером, чтобы забрать его.
Незамун сделал глоток. Вкус вина из трав был приятным, хотя во рту оставалась горечь, медленно растекавшаяся по горлу. Он сделал второй глоток и стал молиться Озирису.
Нефертари, главный советник Парахотеп и принц Хамвезе, верховный жрец Пта, встретились в имении царицы-матери. Туя очень гордилась своим большим, ухоженным садом и собрала в нем все, что только могло расти в Кеми. Вдоль стены сада росли различные виды пальм; здесь имелись аллеи из тамарисков, сикомор, акаций; росли ореховые, гранатовые деревья и фикусы. Цветущий кустарник окружал пруды с лотосами. Царица-мать велела даже устроить себе маленькое искусственное болото с илом и зарослями папируса. Посреди большого пруда поднимался изящный павильон, к которому можно было добраться по узкому мостику. Здесь и принимала Туя своих гостей, не только потому, что это было весьма живописное место, но и потому, что здесь их невозможно было подслушать.
— Теперь дело за этим. — Туя извлекла из складок своего закрытого платья цветной флакончик из стекла. — Я велю передать это тонкое и опьяняющее ароматическое масло третьей супруге в качестве драгоценного подарка. К нему подмешаны ядовитые выделения из гнойников людей, больных оспой. Совершенно безразлично, как она использует масло: коснется им своих щек или натрет им свою невероятно большую грудь. Она получит оспу, но не сразу. Сетнахт сообщил мне, что от момента заражения до проявления болезни может пройти от десяти до восемнадцати дней, и в это время существует опасность, что Благой Бог, мой высокочтимый сын, который, как я слышала, постоянно делит ложе с ней, подцепит эту болезнь. Мы должны, конечно же, избежать этого. Я велю переслать масло хеттиянке только тогда, когда мой сын будет находиться на достаточном расстоянии от нее. Как нам это устроить?
— Я здесь бессильна, — покачала головой Нефертари. — У меня нет больше влияния на него и ни малейшей надежды, что он прислушается к моему совету.
Туя посмотрела на главного советника, но он только развел руками:
— Благой Бог не доверяет мне в последнее время. Он чувствует мою медлительность, когда я должен ставить печать на его грамотах с безмерными дарами Мерит-Анта. В нашей старой дружбе появилась трещина, и я не знаю, как мне выманить царя из Пер-Рамзеса. Даже если это удастся, мы должны быть готовы к тому, что Мерит-Анта будет сопровождать его.
— Что предлагаешь ты, Хамвезе?
— Я безмерно сожалею, что моя многоуважаемая мать встала на сторону иноземки, хотя она, конечно же, сделала это не без основания. Но речь сейчас не об этом. Уже давно решено, что Благой Бог осмотрит недавно построенные гробницы для быков Аписов, а ты, Парахотеп, мог бы позаботиться о том, чтобы официальный визит перерос в увлекательное путешествие старых друзей. Ненавязчиво посетуй, что у фараона нет больше времени для старых друзей, и намекни ему, что вы все — ты, Мена и прочие его друзья юности — с удовольствием отправились бы с ним на несколько дней в Мемфис. После этого вы могли бы несколько дней поохотиться в Фаюме. Словом, фараон должен вернуться назад только тогда, когда признаки болезни будут налицо. Он вряд ли окажется так легкомыслен, чтобы прикоснуться к больной оспой. А если болезнь примет свое обычное течение, то через восемь или десять дней Мерит-Анта будет мертва.
— А если она выживет? — спросил Парахотеп.
— Этого не будет! — решительно произнесла Туя. — Лекарь, назначенный Сетнахтом, возьмет на себя ее лечение. Он знает, что делать, и у царя не будет ни малейшего основания для подозрений. То, что от оспы умирают, дело обычное.
— Да, это так, — сказал Хамвезе задумчиво.
Оказалось, что Хамвезе было не так сложно заманить царя в Мемфис. Со свойственной ему прямотой Рамзес сказал:
— Я достаточно много времени провел в супружеской постели и соскучился по приятному мужскому обществу. Интересно, не разучился ли я натягивать тетиву? Пращой я никогда особенно хорошо не владел, тут никто не может превзойти нашего Амани. Как ясно я вижу его перед собой! В то злосчастное утро молодые принцы, веселые и довольные, упражнялись с оружием. Амани пришел в бешенство, потому что не владел луком так уверенно, как остальные. Ему надоели промахи, он взял свою пращу и разбивал камнями один глиняный кувшин за другим… А час спустя он умирающий лежал на моих руках.
Глаза царя увлажнились, когда он вспоминал о том роковом дне.
— С тех пор я избегал места, где это случилось, и все задавал себе вопрос: «Кто стоял за тем безымянным преступником без ушей и носа?» Он, должно быть, долго выслеживал нас и знал, что погибнет, сознательно бросился прямо в пасть крокодилам. Он, похоже, очень хорошо знал берег озера, а значит, годами жил в этой местности. Тем не менее никто его не вспомнил, никто не видел, никто не давал ему приюта. По крайней мере, не признался в этом.
— Не каждое преступление можно раскрыть так быстро, как покушение на Мерире и Монту, — покачал головой Хамвезе. — Наши ищейки хорошо поработали. Тем не менее несколько вопросов остались открытыми. В своем письме визирю Незамун утверждает, что поссорился с Монту и хотел отомстить ему. Хорошо, может быть, это подходит жрецу, который слишком труслив и не способен отомстить за себя кулаком. Но когда они успели поссориться? Наши ищейки доносили совсем другое: почти каждый вечер оба мирно сидели в саду за кувшином пива, даже за день до трагедии их видели за дружеской беседой. И внезапно кровавая и коварная месть? Да еще за счет бедного Мерире, который чудом выжил и с тех пор хромает. Хорошо, ныряльщики обнаружили обе пилы точно в том месте, которое описал Незамун. Он совершил покушение, это ясно. Из страха перед наказанием он добровольно ушел в Закатную страну. Но некоторые вопросы все еще остаются открытыми…
Фараон встал и потянулся:
— Я уже радуюсь предстоящей охоте. Когда едем?
— Когда ты захочешь. Все готово.
Рамзес весело рассмеялся:
— Мне действительно нужна передышка. Поехали завтра или послезавтра, путешествие недалекое.
Но прошло еще пять дней, пока они покинули столицу. И в тот же день главный советник послал гонца в имение царицы-матери.
Изис-Неферт была очень удивлена, получив настойчивое приглашение от царицы-матери. Старуха жаловалась, что чувствует себя одинокой, писала, что хочет снова вступить в близкие отношения со двором, и, так как Нефертари в настоящее время «по известным причинам невыносима», компанию ей должна составить Изис-Неферт и рассказать немного о придворной жизни.
«Все от нее отвернулись, — довольно подумала вторая супруга. — Подул новый ветер, и за это мы должны быть благодарны Мерит-Анта».
Это приглашение пришло как раз вовремя и Изис-Неферт сможет рассказать свекрови Туе обо всех взаимосвязях. Туя должна наконец узнать о плохом влиянии Нефертари на царя, должна понять, насколько счастливым он себя чувствует с тех пор, как Мерит-Анта стала его третьей женой.
Доверенный слуга Туи, передавший приглашение, точно придерживался указаний своей госпожи, которая строго велела передать подарок Мерит-Анта только тогда, когда Изис-Неферт уедет.
Гутана скучала. Она все еще ощущала свое египетское имя как чужеродный придаток, и никто из придворных, прибывших с ней из земли хеттов, не называл ее этим именем. Она было попыталась обучиться игре в мен, но вечно забывала сложные правила.
С тех пор как царь уехал в Мемфис, ее преследовало какое-то чувство угрозы, хотя ничто, казалось, ей не угрожало. Все были к ней дружелюбны и внимательны, и, в какой-то степени овладев египетским, она много времени проводила в обществе второй супруги. Теперь, когда Изис-Неферт уехала, Гутане не хватало разговоров с этой немолодой уже интриганкой, которая явно искала союзницу против Нефертари. Правда, вначале Гутана заняла выжидательную позицию, потому что не хотела допустить ошибку. Она выражала сочувствие, когда Изис-Неферт рассказывала о своих страданиях. Ведь неизвестно было, не понадобится ли вторая супруга ей потом.
Гутана подумала, чего бы она сейчас хотела, и ей вспомнились прекрасные, сваренные в меду фрукты с ее родины: яблоки, груши, персики, дыни. Но здесь имелись только инжир и финики, финики и инжир, вечно одно и то же.
Она позвала служанку и потребовала фруктов в меду. Девушка-хеттиянка по лицу госпожи поняла, что та капризничает и скучает. Подобное настроение могло оказаться для слуг очень болезненным, и служанка тотчас побежала в дворцовую кухню и передала желание своей госпожи. Возникла заминка. Впрочем, один ловкий повар второпях подогрел на очаге горшок с медом и бросил в него кусочки дыни, виноград и орехи. После этого он отлил часть содержимого в серебряное блюдо и передал его служанке. Дрожа, девушка вернулась к госпоже.
Бирюзовые глаза зло сверкнули на нее.
— Это, по-твоему, сваренные в меду фрукты? Да это корм для свиней!
Она бросила служанке серебряное блюдо под ноги и прошипела:
— Я задаю себе вопрос, велеть ли выпороть тебя плетьми или же вколоть в тебя шпильки.
Девушка упала ей в ноги, заголосив в ужасе:
— Это не моя вина!.. Они в кухне!..
— Я вгоню несколько шпилек в твое ленивое, непослушное тело, — с садистским удовольствием предвкушая забаву, решила Гутана. — Подойди ближе!
Девушка медленно подползла, в то время как ее госпожа вытащила из шкатулки всегда лежавшие наготове шпильки с украшениями. На ее родине девушки втыкали их в волосы, однако для египетских париков они были излишни.
Внезапно сцена наказания была прервана появлением гонца царицы-матери.
— Извини, царица, — поклонился он с достоинством. — Я должен передать тебе подарок от высокочтимой Туи, а к нему письмо.
— Исчезни! — прошипела Гутана быстро вскочившей на ноги обрадованной служанке.
Гонцу она тепло улыбнулась. Однако преданный доверенный слуга Туи не купился на ее уловки. Он передал пакетик, не слишком низко поклонился и вышел.
«Я, кажется, постепенно выигрываю в Кеми партию за партией, — подумала Гутана и развернула подарок, искусно завернутый в льняной платок. — Вероятно, она слышала о том, что царь хочет передать мне ее имение, и теперь набивается ко мне в подруги».
Хорошее настроение вернулось к ней, и она велела позвать переводчика, чтобы тот прочитал и перевел ей письмо.
Так как ты, по слухам, доставляешь Благому Богу, моему высокочтимому сыну, много удовольствия, я хочу также доставить тебе радость. Насладись драгоценным маслом. Оно изготавливается только для царского дома, к которому ты, Мерит-Анта, имеешь честь сейчас принадлежать.
Последнее предложение возбудило гнев Гутаны.
— Имеешь честь сейчас принадлежать! — передразнила она визгливо. — В конце концов я прибыла не из шатра кочевника, как многие эти так называемые «принцессы». Я дочь великого царя хеттов!
— Успокойся, почтенная, — сказал переводчик, — это египетский оборот речи, с этим ничего не поделаешь. Если ты позволишь мне замечание, царя от подобных оборотов речи ты уже отучила. В твоих руках он стал совсем ручным.
Гутана самодовольно ухмыльнулась:
— Это ты правильно сказал, и если я только… Ну тебя это не касается. Исчезни!
Хеттиянка осторожно взяла маленький небесно-голубой флакончик из стекла. Она немного жадная, добрая старая Туя, флакончик мог бы быть и побольше. Ноготком указательного пальца Гутана отклеила воск, которым была залита крышечка. Она попыталась вытащить пробочку, но та была вставлена очень плотно и не двигалась. Гутана уже открыла рот, чтобы позвать служанку, но внезапно пробочка вылетела.
Как дочери царя ей с детства были знакомы самые изысканные ароматы, но то, что сейчас опьяняюще коснулось ее носа, затмило все. Зачарованная, хеттиянка вдохнула аромат, взяла платок, капнула на него каплю масла и помазала им себе щеки, нос и веки… Ужасная Сехмет невидимо коснулась глупой, алчной потаскушки. Богиня разрушений и болезней с львиной головой взглянула своими желтыми безжалостными глазами на похотливую, самонадеянную чужеземку, которая не имела ни малейшего
представления о том, что вместе с прекрасным ароматом в ее тело проникло чумное дыхание Сехмет.
В своей радости Гутана позвала доверенных придворных и каждой дала понюхать смазанный маслом платочек.
— Царский аромат! Как он подходит тебе, о царица! — восклицали они льстиво, и Гутана внезапно ощутила желание разделить этот возбуждающий аромат с мужчиной. Дома это было бы просто, но здесь она была супругой царя, и вряд ли ее супружеская неверность встретила бы здесь понимание. Часть масла она решила сохранить до встречи с фараоном, но сейчас ей хотелось искупаться в этом аромате, и она придумала прекрасную игру.
Отпустив придворных, Гутана удалилась в свои спальные покои. Она выскользнула из платья, обмотала указательный пальчик полоской льняной ткани, смочила его маслом и легла в постель. Сначала ароматный пальчик играючи пробежал по груди, подергал соски, пока они не затвердели и не начали маслянисто блестеть; затем он покружил вокруг пупка, скользнул в него, затем ниже, помассировал гладко выбритый лобок, погладил влагалище, в котором началось легкое приятное жжение, и Гутана почувствовала, как из глубин ее тела поднимается волнение.
«Собственно говоря, мне не нужен никакой мужчина, — подумала она, уютно устроившись. — Кроме того, царь с возрастом порастерял свою силу. Он остается Могучим Быком только в своем воображении. Позднее я должна буду подыскать молодых любовников. Позднее, когда стану первой…»
Царь уже десять дней находился в Мемфисе и втайне чувствовал облегчение, в котором не хотел признаться самому себе. Ежевечерний визит к третьей супруге стал уже почти его обязанностью, но и приятные обязанности могут через какое-то время стать обузой. Однако она не должна была почувствовать, что сила его слабеет, ведь он в три раза старше ее. Разве не блестело иногда нечто похожее на насмешку в ее бирюзовых глазах?
Рамзес отмахнулся от этих неприятных мыслей. На сегодня было запланировано посещение Серапеума, и Хамвезе как бы между прочим поинтересовался, не может ли Пиай также принять в этом участие. А то получается, будто царь на него все еще сердится…
Рамзес великодушно кивнул:
— Все прощено и забыто. Пиай потрудился ради меня, он упорно работал, искупил свою вину и сейчас может пойти с нами.
Это приглашение для Пиайя было полной неожиданностью. О визите царя в Мемфис не объявляли, потому что он планировался как частная поездка в обществе старых друзей.
Такка от волнения задрожала всем телом:
— Царь… царь… здесь? Тебя пригласили просто так, как приглашают соседку? Я думала, Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, появляется только при звоне фанфар, окруженный жрецами и чиновниками, восседая на троне высоко над толпой. А теперь он приглашает тебя…
Она непонимающе покачала головой. Пиай улыбнулся и сказал:
— Когда он выступает как фараон и Благой Бог, все происходит так, как ты описала. Однако иногда он появляется как человек. Ну хочет мужчина получить удовольствие от общения со старыми друзьями! Зачем народу об этом знать? Я хотел бы попросить тебя: никому не проговорись об этом.
Такка серьезно кивнула:
— Конечно! Ты считаешь меня сплетницей? Я могу молчать как рыба.
Здесь, в Мемфисе, Такка совсем уверилась в своих силах. Она была хозяйкой дома и вела себя соответственно. Однако у нее было доброе сердце, и ни чета старых слуг, ни мальчик-садовник не могли на нее пожаловаться. Пиай отправил в управление царским имуществом запрос о том, чтобы ему передали владение Таккой, однако еще не получил ответа. Все сильнее им владело желание снова увидеть Мерит, но он пока не находил способа и не хотел совершать ничего необдуманного сейчас, когда фараон милостиво отменил его изгнание. Может быть, он сможет при случае попросить совета у дружески расположенного к нему Хамвезе.
Уже через несколько часов он будет стоять перед фараоном, и, может быть, даже Мерит будет находиться в его свите. Только при одной мысли об этом Пиай задрожал от волнения. Но, что бы ни было, ему нельзя сделать ни одного неверного шага, произнести ни одного неверного слова.
Царь встретился с друзьями во дворце, чтобы затем незаметно для народа отправиться к только что выстроенному Серапеуму. Рамзес сидел в кругу друзей, когда вошел Пиай и поклонился.
— Пиай! — воскликнул царь обрадованно. — Твой облик трогает мое сердце, садись к нам и расскажи, как дела.
Они приняли его так, как будто ничего не произошло. С полными ожидания дружелюбными лицами они слушали его рассказ о строительстве храма и о грандиозном впечатлении, которое производит его вид на каждого.
Спустя час они встали из-за стола и пошли хорошо знакомым путем по дворцовому кварталу к храму Пта, у дверей которого их ждали несколько носилок и мулов, окруженные группой телохранителей на лошадях. Никто не захотел использовать носилки, все предпочли путешествие верхом. Они миновали пирамиды Джосера и Уна, и только что проложенная улица привела их к маленькому храму, двери которого охраняли два быка Аписа из алебастра в натуральную величину. Царь и его спутники вошли в храм и поднялись по широкой лестнице.
— Здесь начинается галерея, а здесь, — Хамвезе указал на просторную комнату налево, — похоронен предшественник нынешнего Аписа.
Они подошли ближе, и Хамвезе осветил факелом искусно разрисованный саркофаг из кипарисового дерева в четыре локтя высотой. Стены погребальной камеры были покрыты письменными знаками и картинами.
Верховный жрец Птаха объяснил:
— Здесь изображена жизнь Аписа с того момента, как его нашли, и до смерти. Записано о каждом посещении фараона, о чудесах, которые совершил Апис, и приведены подробности его земного существования как живой души Пта.
Другие погребальные камеры по обе стороны галереи стояли еще пустыми и должны были послужить Вечным Жилищем для будущих поколений священных быков. В конце коридора верховный жрец Хамвезе остановился и указал на грубую деревянную дверь:
— За ней находится мой собственный Дом Вечности. Мое ка желает общаться со священной душой Пта. Здесь я буду в хорошем обществе.
Все молчали. Фараон тоже ничего не сказал, только торжественно кивнул.
К вечеру они вернулись во дворец, где царь давал своим друзьям праздничный ужин. Он обратился к Пиайю:
— Ты находишься сейчас на службе у моего сына Хамвезе, верховного жреца Пта в Мемфисе. Не тоскуешь ли ты снова по крупному заказу, такому как пещерные храмы? Мелкие заказы вряд ли могут тебя удовлетворить.
Хамвезе при этих словах сильно нахмурился, но решил промолчать.
— Нельзя все время только создавать, Богоподобный, нужно сохранять созданное. Мемфис — древний город, здесь для меня много работы…
Фараон насмешливо ухмыльнулся:
— Я вижу, ты смирился, мой друг, — и вздохнул, как под тяжелой ношей, но все поняли, что он шутит. — Мы не становимся моложе, Пиай, и ты, и я, и дорогие моему сердцу друзья… Однако ты прав: созданное необходимо сохранять, и это прекрасная, важная задача. Может быть, ты понадобишься мне снова, мой друг, если высокочтимый Хамвезе отпустит тебя ко мне на некоторое время.
После сытной еды по кругу пошли кувшины с вином, раздался смех, началась болтовня, и фараон наслаждался тем, что снова может быть, как любой смертный, просто другом среди друзей. Никто и не заметил, как пролетело время. Однако за два часа до полуночи телохранители привели к царю гонца. Тот бросился ниц и завопил:
— О милости молю, Богоподобный, ибо я принес плохую весть.
Шум стоял такой, что Рамзес его не понял. Он хлопнул в ладоши:
— На минутку придержите язык, друзья мои! Гонец прибыл явно с важной вестью.
Шум замер, и молодой человек повторил заплетающимся от страха языком:
— Я п-принес плохую в-весть из Пер-Рамзеса, о Благой Бог. Речь о…
Быстрым движением Рамзес схватил оправленную в золото половинку сердца из ляписа, висевшую у него на груди.
— Что-нибудь с Нефертари?!
— Нет, Богоподобный. Твоя третья супруга тяжело заболела и вместе с нею несколько ее придворных. Внезапно поднялась высокая температура, к ней добавился озноб и сильные головные боли. Врачи еще не уверены в том, какое заболевание наслала Сехмет.
Она предстала перед глазами Рамзеса: прекрасное упругое тело с тяжелой грудью, смеющееся лицо с чарующими бирюзовыми глазами, округлые бедра и ненасытное лоно… Эту женщину нельзя у него забрать! Даже Сехмет Ужасная не сможет этого сделать.
Царь вскочил:
— Я обеспокоен, друзья мои. Простите, я удалюсь. Завтра еще до восхода солнца я возвращаюсь в Пер-Рамзес.
Не все были потрясены этой новостью. Парахотеп и Хамвезе скрыли свое удовлетворение под каменными минами, и растроганный главный советник подумал о мгновении, когда царь прервал гонца словами: «Что-нибудь с Нефертари?!»
От его глаз не ускользнуло, как Рамзес схватился за амулет — подарок любимой. Парахотеп воспринял это как еще одно подтверждение того, что он и его сообщники действовали правильно.
14
Когда наступало время летней жары, в Кеми начинались всевозможные поветрия, особенно в Дельте, потому что здесь влажный, душный воздух выманивал из болотистых мест различные лихорадки. Поэтому никто не удивился, когда Мерит-Анта пожаловалась на головные боли и боли в спине, в то время как сильный озноб тряс все ее тело. На второй день на ее теле появились хорошо известные пятна, и опытные лекари поняли, с чем предстоит иметь дело. К этому моменту гонец уже мчался в Мемфис, и, пока фараон был в дороге, заболели почти одновременно две придворные дамы и одна служанка третьей супруги.
Сетнахт, верховный жрец Сехмет, лично принял на себя руководство лечением. Его сопровождали два помощника, которые еще детьми перенесли оспу. Первые распоряжения главного лекаря Обеих Стран касались карантинных мер. Никому не позволялось без разрешения входить во дворец Мерит-Анта. Всех ее придворных должны были обтереть с головы до ног уксусом и эссенциями лечебных трав, никому не позволялось покидать свои покои.
Он едва мог ходить, древний Сетнахт с головой ястреба, и помощники должны были поддерживать его с обеих сторон, но деятельность карантинного лекаря странно воскресила его. Маленькие, круглые птичьи глаза бодро сверкали, а высокий, каркающий, старческий голос заметно окреп, когда верховный жрец Сехмет отдавал приказы своим помощникам.
В это утро на четвертый день после начала болезни он посетил Мерит-Анта. Больная лежала в затемненной комнате. Жар почти спал. Однако минувшей ночью на ее коже появились гнойники. Сначала они покрыли лицо и шею, а теперь также грудь и руки Мерит-Анта. Сухая, лысая ястребиная голова старика несколько раз кивнула, и он спросил:
— Ты уже велел связать ей руки?
— Нет, достопочтенный, пока нет, — испуганно признался молодой лекарь.
Однако Сетнахт, казалось, совсем не рассердился:
— Тогда мы скоро это сделаем, не так ли? Ничего нельзя упустить, чтобы спасти царицу, хотя…
Сетнахт задумчиво покачал головой, не закончив мысль.
В ранние утренние часы Гутана пришла в себя после тяжелого приступа лихорадки, и только сейчас до ее сознания дошло, насколько она больна. Лихорадка внезапно отпустила ее, озноб прекратился, и хеттиянка почувствовала себя так хорошо, что подумала, будто теперь все самое худшее позади. Но, коснувшись ладонью лба, чтобы проверить температуру, она испуганно вздрогнула. Так же внезапно, как на вспаханном поле после разлива Нила появляются семена, ее лоб покрывали гнойники, и — о ужас! — щеки и шея были также ими покрыты.
Окончательно придя в себя, Гутана почувствовала острое жжение на лице и в глазах. Она была так испугана и растеряна, что закричала, пробудив от дремоты дежурившего у ее постели лекаря.
— У меня оспа! — пронзительно визжала Гутана. — Все мое лицо горит, я чувствую везде гнойники! Ну сделайте же хоть что-нибудь!!!
Молодой лекарь попытался успокоить царицу, а когда ему это не удалось, велел позвать Сетнахта. Тот, постанывая и покачивая головой, присел на стул рядом с постелью и направил свои бодрые птичьи глаза на больную:
— Ну, царица Мерит-Анта, как я слышал, лихорадка миновала, и ты чувствуешь себя хорошо?
— Да, да, но здесь, на лице и на шее…
— Это гнойники, царица, они появятся еще на животе и на бедрах. Сехмет отметила тебя, мы не знаем почему, но ты должна просто воспринять это как факт.
Сетнахт наклонился над лицом Гутаны и приказал помощнику:
— На мгновение посвети сюда, я хотел бы получше рассмотреть глаза.
Худая ястребиная голова приблизилась к лицу хеттиянки.
— Открой широко глаза, царица, — приказал он.
Некогда прекрасные бирюзовые глаза стали мутными: оспа, как иногда бывает, коснулась глаз.
— Ты видишь меня, царица?
— Не очень четко, комната затемнена.
«Не-е-ет, — подумал старик с издевкой, — не комната затемнена, а ты вот-вот ослепнешь». А вслух сказал:
— Ты должна набраться терпения, царица, болезнь еще долго не пройдет. Следуй предписаниям врачей, и все будет хорошо.
С громкими стонами, поддерживаемый помощником, старик выбрался из кресла и покинул покои царицы. За дверями спальни он сказал:
— Через три дня начнется нагноение. Все тело будет охвачено им, даже глаза. Если царица выздоровеет, она ослепнет и останется калекой на всю жизнь. Но у меня мало надежды. Она не перенесет эту болезнь. Ты меня хорошо понял?
Молодой лекарь кивнул.
— Каждое слово, достопочтенный. Царица Мерит-Анта не перенесет эту болезнь. Такова воля богини Сехмет.
Сетнахт серьезно кивнул:
— Именно так, мой юный друг.
Возвращаясь спешно в Пер-Рамзес, царь проклинал ограниченность человеческих возможностей. Каждая птица была бы в состоянии покрыть расстояние между обеими столицами за несколько часов, но человек, даже если ему, как фараону, были предоставлены все средства, был прикован к земле и мог передвигаться только по ней или по воде.
По приказу царя корабль плыл и ночью, что было вполне безопасным под безоблачным небом Дельты. За несколько часов до рассвета они прибыли, и Рамзес тотчас велел отнести себя на носилках ко дворцу Мерит-Анта.
Старый Сетнахт уже ждал его. Так как он часто спал днем, ему ничего не стоило бодрствовать ночью, поэтому его круглые птичьи глаза бодро глядели на царя. Сетнахт принадлежал к тем немногим людям, перед которыми Рамзес, который никого и ничего не боялся, ощущал благоговейный трепет. Вокруг верховного жреца была аура магии, и его схожесть с ястребом, священной птицей египетских царей, усиливала это чувство.
— Тебе нельзя прямо сейчас посетить супругу, Богоподобный. Болезнь вступила в свою самую худшую фазу, все ее тело гноится. М-да-а… зрелище это красивым не назовешь.
Рамзес слышал слова, но их содержание до него не дошло.
— Я хочу ее видеть, — настаивал он, и Сетнахт, который другого ответа и не ожидал, сказал громко и отчетливо своим высоким каркающим голосом:
— Тогда слушай, Богоподобный! Во дворце, а тем более в покоях больной тебе нельзя ни к чему прикасаться, и в первую очередь к царице. Чтобы защититься от чумного дыхания Сехмет, я сейчас, если позволишь, наложу повязку на твои рот и нос.
— Хорошо, только поторопись.
Рамзес сел на стул, и Сетнахт наложил ему на рот и нос трехслойную повязку из льна, которую до этого пропитал острыми эссенциями.
— Мои помощники отведут тебя, Богоподобный, а я сейчас удалюсь.
Силы Сетнахта быстро иссякали, и порой казалось, что он вот-вот предстанет перед Озирисом. Его птичьи глаза стали мутными и усталыми, их наполовину прикрывали морщинистые веки; маленькая лысая голова заметно качалась на его длинной, худой ястребиной шее. Слуги посадили его в носилки, а Рамзес пошел за молодыми лекарями.
— А где же остальные? — спросил царь, озираясь в пустынных покоях дворца.
— Закрыты в своих покоях, Богоподобный. На сегодняшний день больны уже пятеро женщин и двое мужчин.
Войдя в комнату больной, где царил полумрак, Рамзес и сквозь повязку почувствовал запах гниения и разложения.
— Пожалуйста, не подходи слишком близко, Богоподобный, — предупредил его лекарь, высоко поднимая масляную лампу.
Рамзес отпрянул, как будто получил удар.
— Это не Мерит-Анта! Это не может быть она! Где она? Что вы с ней сделали?!
— Это она, Богоподобный. Она снова в лихорадке, по всему телу идет нагноение.
Гутана представляла собой ужасающее зрелище: на ее горящем в лихорадке лице, подобно злым маленьким цветам, расцвели желтые гнойники. Она беспокойно металась по ложу, обрывки слов вылетали из ее распухших сухих губ. Иногда она громко кричала, а потом начинала тихонько скулить. Ее густо усеянные гнойниками руки были привязаны широкими полосками льна к кровати.
Рамзес больше не мог переносить этого зрелища и хотел уже отвернуться, когда Гутана открыла глаза. Царь замер от ужаса, когда увидел, что случилось с ее прекрасными бирюзовыми глазами. Они стали мутными и пятнистыми, они беспокойно бегали и, казалось, ничего не видели. Рамзес отвернулся.
— Что случилось с ее глазами?
— Они также охвачены болезнью, Богоподобный. Если царица выживет, то ослепнет.
— Да зачем же ей тогда жизнь? — Царь мрачно посмотрел на лекаря. Тот только молча поклонился и подождал, пока Рамзес выйдет из комнаты. Затем он открыл свой деревянный ящичек с лекарствами и вынул из него два льняных мешочка. Из каждого он высыпал немного порошка в бокал и налил в него воды. Бронзовой палочкой размешал смесь, и недолгое время легкое бульканье воды было единственным звуком в комнате наряду с беспокойным дыханием больной, которая впала в забытье. Спустя полчаса она закричала, попыталась вырвать связанные руки и открыла свои мутные слепые глаза.
— Пить… — прохрипела она распухшим ртом, и лекарь тотчас схватился за бокал. Он поддержал ее горевшую голову и аккуратно поднес сосуд к ее жаждущим губам. Она жадно опустошила бокал, и лекарь снова уложил ее голову на подушку. Чуть позже дыхание ее стало хриплым и прерывистым, Гутана наполовину выпрямилась, приоткрыла свои искалеченные глаза и с долгим свистящим выдохом упала назад.
В комнате наступила мертвая тишина. Молодой лекарь налил воды в бокал, выполоскал его и выплеснул содержимое из окна. Затем собрал свой ящичек с лекарствами и тихо вышел из комнаты.
Когда царь поздно утром проснулся, к нему явился главный советник.
— Она мертва, Богоподобный. Царица Мерит-Анта скончалась этой ночью. Двое ее придворных, как полагают врачи, не доживут до следующего дня. У остальных болезнь протекает более легко.
— Может быть, я не должен был жениться на ней, на хеттиянке Гутане? Странно, что я не ощущаю печали, Парахотеп. Отчего это? Когда я увидел ее сегодня ночью в постели, слепую, покрытую гнойниками, она показалась мне чужой, и втайне я просил Озириса, чтобы он забрал ее в свое царство. Но ведь она долгое время владела моим сердцем… Нет, моим телом. Знаешь ли, я был совсем в ее руках… Она могла получить от меня все, ей стоило только взглянуть на меня. Эти бирюзовые глаза… Болезнь разрушила ее колдовство, глаза потеряли свой цвет, стали мутными зеркалами… — Он тряхнул головой, словно отгоняя наваждения. — Ты должен будешь послать царю Хаттусили сообщение о ее смерти. Напиши ему, что при дворе в Пер-Рамзесе царит глубокий траур; напиши, что фараон очень ценил свою третью супругу, что это была воля богов… Напиши ему что хочешь, Парахотеп. Я не хотел бы больше иметь с этим ничего общего.
Рамзес поднялся и зевнул во весь рот:
— Это прошло, мой друг, прошло! Я должен был бы чувствовать печаль, но ее нет, совсем нет! Она была ведьмой, Парахотеп, я только сейчас это понял. Она отдалила меня от всех — от возлюбленной моей Нефертари, друзей, обязанностей… Вы-то куда смотрели? Мог же кто-то из вас сказать: «Сесси, берегись, эта женщина высосет тебя, как гранат». А вы…
Царь растерянно покачал головой.
— Но Сесси, — возразил Парахотеп, — мы ведь пытались. Вспомни о моих предостережениях, когда я должен был ставить печать на указах о дарах для нее. Царица Нефертари была так расстроена, что, прямо скажем, сбежала в Мемфис. Ты сам должен был почувствовать, что здесь что-то не то. И сам посуди: кто посмел бы что-то возразить тебе, Сесси? Ты Благой Бог, повелитель Обеих Стран, чье слово свято, чья воля — закон. Неблагодарное дело — взывать к разуму влюбленного, каждый это знает, а уж когда влюбленного зовут Рамзес…
Царь хлопнул друга юности по плечу:
— Да ладно тебе! В конце концов то, чего никто не осмеливался сделать, на свой лад сделала Сехмет. Своим чумным дыханием она отравила дворец Мерит-Анта. Мы должны окончить ее работу, Парахотеп, и показать богине, что мы принимаем ее решение. Итак, я приказываю: подождать, когда болезнь прекратится, а потом отослать всех выживших придворных куда-нибудь в деревню, где они никому больше не повредят и смогут выздоравливать в покое; мертвых сжечь вместе с дворцом и со всем, что в нем есть. Эти хетты ведь не верят в дальнейшую жизнь в Доме Вечности, поэтому им все равно, что с ними будет. Врачи говорят, дом, зараженный оспой, еще долгое время представляет опасность для здоровых людей, поэтому пусть пламя уничтожит все, что там есть. Я отправлюсь завтра снова в Мемфис вместе со всей семьей. Нефертари, Енам, Изис-Неферт, Сети, дети — все должны ехать со мной. Я приглашаю и тебя, если хочешь. Опасность заражения еще слишком велика. Мы вернемся только тогда, когда дворец Мерит-Анта будет сожжен, а пепел его развеян. Я не хочу больше видеть ни малейшего следа этого дома. Ты меня слышишь? Ни малейшего следа.
— Хорошо, Богоподобный. Изис-Неферт здесь нет, ее пригласила к себе в поместье царица-мать Туя.
— Моя мать?.. — Рамзес был так удивлен, что потерял дар речи.
— Да, несколько дней назад. Так Изис-Неферт отправляться в Мемфис?
— Нет, — ответил Рамзес быстро. — Она может оставаться там, у моей матери. А я сейчас же отправлюсь к Великой Царской Супруге.
— А она тебя узнает после столь долгой разлуки, Сесси? — пошутил Парахотеп.
— Когда-нибудь я отправлю тебя в каменоломню за оскорбление Благого Бога, мой дорогой главный советник.
— Это было бы почти отдыхом по сравнению с моими обязанностями при твоем дворе.
— Ну, гляди, у тебя еще будет время сравнить… — Рамзес предостерегающе поднял палец.
Уже несколько месяцев Нефертари не чувствовала себя вполне здоровой. Сильный кашель мучил ее. Днем она часто так утомлялась, что должна была прилечь. У нее не было болей, и в облике не было заметно каких-либо изменений, за исключением глубоких теней под глазами и легкой бледности, которые были заметны, когда она недосыпала.
Когда Рамзес явился к ней, служанка попросила его немного подождать, потому что госпожа была еще не одета.
Между тем Нефертари торопливо подвела глаза, втерла румяна в щеки, взглянула в зеркало и попыталась улыбнуться. Ей это не совсем удалось.
— Проси Благого Бога!
Рамзес, уже испытывавший нетерпение, ворвался в комнату:
— Что с тобой случилось, моя любовь? В это время ты обычно бываешь уже давно на ногах.
— Я так мало была нужна в последнее время, что привыкла залеживаться в постели.
Рамзес понял намек и болезненно поморщился:
— Да, я пренебрегал тобой, признаю. Это было… Она, между прочим, умерла сегодня ночью.
— Кто? — спросила Нефертари, хотя понимала, о ком речь.
— Мерит-Анта, моя третья супруга. Знаешь, в ее дворце лютует оспа, и мы должны считаться с тем, что один из нас может заразиться. Поэтому завтра с утра мы уезжаем в Мемфис: ты, дети, Мерит, Сети, Парахотеп — все важные люди. Я перенесу резиденцию в Мемфис до тех пор, пока минует всякая опасность. Ее дворец я велю сжечь вместе со всем, что в нем находится. Я хотел бы любое воспоминание о ней… Я хотел бы…
Он запнулся, как будто стыдился своих слов, и беспомощно посмотрел на Нефертари. И странно: его Прекраснейшая улыбалась, на ее круглых щечках появились очаровательные ямочки.
— Почему? Разве ты не опечален?
— Странно, но я чувствую… облегчение. Да, облегчение! Эта женщина смутила мой разум и привязала меня к себе… к своей постели… Но мое сердце я ей не подарил. Оно всегда принадлежало тебе.
Он дотронулся до амулета на своей груди.
Нефертари хотела вознаградить это признание сияющей улыбкой, но вместо этого на ее глаза навернулись горькие слезы, покатились по щекам и смыли часть торопливо нанесенных румян.
Рамзес посадил жену на колени и ощутил ее такой привычный для себя вес. Он стал качать ее, как ребенка.
— Да, да, я знаю… Все это моя вина. Ты всегда позволяла мне быть с другими женщинами, но на этот раз я зашел слишком далеко. Она, должно быть, применила какое-то чародейство, чужеземную магию, против которой египтянин не может обороняться. Но Сехмет снова установила божественный порядок. Маат может быть довольна. Я велю стереть имя хеттиянки из всех хроник и уничтожить все составленные на ее имя дарственные грамоты. Тот, кто останется жив из ее придворных, должен будет вернуться на родину. Ничего не напомнит нам о ней. Я так хочу.
— Немного несправедливо, потому что она все-таки была твоей третьей супругой. Но если ты так хочешь…
Внезапно Нефертари сотряс сильный приступ кашля. Царица соскользнула с его колен и прижала ко рту платок. Еще задыхаясь, она сказала:
— Я не знаю, в чем дело. Кашель не прекращается. Иногда его не бывает несколько дней, а затем он возобновляется с новой силой.
Царь озабоченно нахмурился лоб.
— Что говорят врачи?
— Немного, как всегда. Они считают виной влажный климат в Дельте, а также пагубное влияние чужих богов, потому что граница слишком близка…
Рамзес покачал головой:
— Чепуха. Чтобы смягчить этих богов, я велел построить им здесь, на египетской земле, храмы. Здесь почитаются Ваал, Иштар, Анат и, прежде всего, Сет — бог пустыни и чужих стран. Этого не может быть. Возможно, перемена места пойдет тебе на пользу, потому что Мемфис лежит совсем рядом с пустыней и воздух там жаркий и сухой. Впрочем…
Тут в комнату внезапно вошла Мерит.
— Смотри-ка, дочка! Как я вижу, ты до сих пор не оставила своих дурных детских привычек. Еще ребенком ты всегда врывалась в комнату, когда у меня был важный разговор.
— Откуда мне было знать, что ты у мамы? Ты ведь здесь теперь редкий гость.
— Только не начинай все сначала, — с наигранным ужасом воскликнул царь. — Я только что подробно все объяснил твоей матери, но тебя это не касается. Завтра утром по совету врачей мы все переезжаем в Мемфис. Опасность заражения оспой слишком велика.
— Шлю… — Мерит едва удалось проглотить чуть было не вырвавшиеся изо рта слова. — Я хотела сказать, царица Мерит-Анта сегодня ночью умерла. На сколько дней ты назначаешь траур? Где ее похоронят?
— Никакого траура. Ее сожгут вместе с другими умершими в ее дворце. Просто слишком опасно…
— Понимаю, — сказала Мерит, — ты хочешь уничтожить любое воспоминание. Тут оспа тебе на руку. Однако мне не пристало осуждать работу Сехмет. Богиня знает, что хорошо для Кеми…
Рамзес рассмеялся:
— И для ее фараона, хотела ты добавить. Достаточно об этом! Приготовься, мы едем завтра утром.
Внезапно Мерит почувствовала, как сердце у нее в груди замерло. Пиай! Почему она сразу об этом не подумала! Пиай в Мемфисе. Она хотела его видеть, показать ему его ребенка…
С той ночи Сети, обиженный, отдалился от нее. Мерит обращалась с ним дружелюбно, и у него даже сложилось впечатление, что ее покои и в дальнейшем открыты для него. Однако он не находил мужества на вторую попытку и уговорил себя, что Мерит явно не предназначена ему богами. Когда царь приказал ему отправиться вместе со всеми в Мемфис, Сети даже не нужно было искать отговорку: в Питоме возникли волнения, и он хотел сам посмотреть, в чем там дело. Впрочем, заметил Сети, он воин и не боится заражения. Это рассердило фараона:
— Ты дурак, Сети! Я тоже воин и не боялся под Кадешем мечей и стрел жалких хеттов, но заразные болезни — это нечто другое. Возьми меч, отправься во дворец Мерит-Анта и попытайся сразиться с ядовитым дыханием Сехмет. Разбей мебель и посуду, разруби ложа и занавеси, сокруши стены и потолки — этим ты добьешься только одного: что оспа перекинется на твое тело и ты жалким образом погибнешь или выживешь, изувеченный ею, а возможно, даже ослепнешь. Глупо не бояться чумного дыхания Сехмет, бестолково и глупо. Но как знаешь. И вот что я тебе скажу… — Рамзес едва не заявил, что, по его мнению, Сети никогда не отличался умом, но сдержался, чтобы еще больше не обижать сына.
В районе мастерских и жилых помещений Большого храма Пта Пиай получил несколько комнат, и в его распоряжении теперь был знающий секретарь. Мастер ведал всеми ремесленниками и строительными рабочими, принадлежавшими храму. Это была легкая и приятная работа, и Пиайю доставляло радость от случая к случаю самому браться за резец, чтобы обработать рельеф или фигуру. Хамвезе сдержал свое обещание и подарил ему место для гробницы рядом с пирамидой Уна. Это была прекрасная скалистая местность. Пиай велел выкопать пробную шахту и остался доволен результатом.
Он предполагал разделить свой Дом Вечности на три части. Посреди должна была находиться большая погребальная камера, которую он сам хотел украсить рельефами. Направо и налево от нее он хотел сделать две маленькие прилегающие камеры — одну для запасов еды и питья, а другую для вещей, которые хотел взять с собой в другой мир. Это были его произведения, его рабочий стол, несколько особенно удачных фигур богов и людей, с которыми мастер не хотел бы расставаться. Погребальную камеру он планировал сразу на две гробницы, потому что Такка недавно стала его женой. Он освободил ее от рабской зависимости как царскую невольницу, и она перешла в его личное владение. Вместе со свадебным контрактом он одновременно подарил ей свободу, так что она теперь могла наследовать ему и распоряжаться всем по своему усмотрению. Тем временем Такка забеременела и приблизительно через три месяца должна была родить их первого ребенка.
В то утро он сидел в служебном помещении при храме Пта и, поскольку в данный момент у него не было работы, набрасывал на листе папируса настенные украшения для своей гробницы. Он полностью ушел в работу, когда появился Хамвезе.
— Я не мешаю, мой друг?
— Ни в коей мере, достопочтенный. Я как раз обдумываю, как обставить свое Вечное Жилище, которым я обязан твоему благоволению. Ну, это так, забава. Чем я могу тебе служить?
Хамвезе закрыл дверь и тихо сказал:
— То, что я сообщу тебе, предназначено только для твоих ушей. Вся царская семья уже несколько дней находится в Мемфисе, так как в Пер-Рамзесе свирепствует оспа. Третья царская супруга умерла от нее, об этом говорят повсюду. Завтра или послезавтра Благой Бог, да будет он жив, здрав и могуч, а также Великая Царская Супруга Нефертари с наследным принцем Енамом и своими сыновьями Мерире и Мери-Атумом будут приносить жертву быку Апису. Принцесса Мерит также почтит присутствием церемонию, насколько я знаю. Думаю, это могло бы тебя заинтересовать.
— Спасибо, принц Хамвезе, — сказал Пиай, едва овладев собой.
— Церемония посещения Аписа официальная, поэтому на ней будут присутствовать много зрителей. Ты находишься на службе храма и имеешь право занять место впереди всех жителей города.
— Можно мне?.. Можно мне взять с собой жену?
— Ты недавно женился, я помню. Конечно, она может быть с тобой. Все женатые чиновники храма берут с собой жен в таких случаях.
Пиай ждал этого мгновения и одновременно боялся его, потому что стремление к спокойной и размеренной жизни с каждым разливом Нила все сильнее овладевало им, и теперь, когда он со своей женой жил в собственном доме и у него было надежное место работы, прошлое снова добралось до него.
«Как странно, — подумал Пиай, — пока я был на юге в храмах, я каждый день тосковал о ней, а теперь, когда предстоит ее визит, для меня было бы лучшим… Нет! Тысячу раз нет! Я все еще люблю ее, и письма Мерит свидетельствуют, что и ее чувства не изменились. Я увижу ее издалека в кругу ее семьи, буду ликовать при виде Благого Бога, как и все остальные, а потом она вернется в свой дворец, к своему супругу, а я — в свой дом, к Такке, и ничего не изменится. Разве может вообще что-то измениться?»
Пиай начал беспокойно шагать взад и вперед. Он чувствовал, что внутри его снова начинается борьба.
Изис-Неферт не знала, что ей и думать об этом приглашении. Туя обращалась с ней вежливо и внимательно, показала ей обширное поместье с полями, скотом, фруктовыми деревьями, амбарами с зерном, долго и обстоятельно объясняла ей принципы улучшения пород скота, называла цифры, которые второй супруге ничего не говорили. Казалось, царица-мать хотела просто удержать свою гостью как можно дольше. Впрочем, к своему внуку Меренпте, который сейчас был уже молодым человеком шестнадцати лет, Туя испытывала искреннюю любовь. А он восхищался своей бабушкой, которую до этого едва знал. Поначалу он выказывал мало любопытства, был сдержан и молчалив, но потом, казалось, сельская жизнь стала доставлять ему все больше удовольствия. Довольный, он катался по окрестностям на старом терпеливом осле и мучил людей в имении всевозможными вопросами, на которые они иногда сами не знали ответа.
Однажды Туя сказала Изис-Неферт:
— Я получила известие, что Мерит-Анта тяжело заболела. Это оспа. Половина ее двора, должно быть, заразилась. Ты близко ее знала?
— Ты говоришь так, как будто она уже мертва, — произнесла Изис-Неферт несколько раздраженно. — Да, мы хорошо друг друга знаем. Бедной девочке нелегко, и она давно бы сгинула в одном из самых отдаленных уголков гарема, если бы Благой Бог не питал к ней такую большую склонность. Я надеюсь от всего сердца, что она выздоровеет.
Туя не стала это обсуждать, ее широкое лицо осталось неподвижным.
— Царь с Нефертари и детьми переехал в Мемфис, пока не минует опасность заразиться. Разумно, не так ли?
В это мгновение Изис-Неферт заподозрила, что приглашение Туи имеет какое-то отношение к болезни Мерит-Анта, однако не могла представить никаких взаимосвязей. Поэтому она только заметила:
— Счастливое совпадение, что я с детьми у тебя. Как будто ты подозревала, что случится.
Едва заметная насмешливая улыбка скользнула по лицу почтенной Туи:
— Все в руках богов. Сехмет, очевидно, имела причину, чтобы послать свое ядовитое дыхание во дворец хеттиянки. У богов не бывает капризов, моя дорогая. Все, что они делают, в конечном итоге служит тому, чтобы Маат сохраняла божественный порядок. Даже если люди это не всегда понимают.
Шестилетняя Бент-Анта, младший ребенок Изис-Неферт, вбежала в комнату и прыгнула Туе на колени.
— У коровы только что появился теленок! — сообщила она, задыхаясь. — Она его теперь облизывает сверху донизу. Малыш совсем влажный, он пытается встать на ноги. Он еще шатается, но его глаза…
— Спокойнее, спокойнее, моя малышка, — Туя поцеловала красавицу внучку в обе щечки. — Корова делает то же самое, что и твои служанки, когда они купают тебя по утрам и расчесывают твои волосы.
— Но корова ведь мама малыша, и она делает это сама. — Бент-Анта повернулась к своей матери. — А почему ты не моешь меня сама и не расчесываешь мне волосы? Я ведь твой ребенок.
— У людей это по-другому, Бенти. Кроме того, ты принцесса, а я царица, и у нас есть слуги, которые выполняют подобную работу за нас. Это само собой разумеется.
— Но хоть разок ты могла бы меня искупать? Только один-единственный разок!
Туя и Изис-Неферт, улыбаясь, переглянулись, и суровое лицо второй царской супруги сделалось совсем мягким.
Позднее она еще раз поразмыслила о причине своего пребывания здесь и пришла к выводу, что царь снова исключил ее из круга близких лиц. По-видимому, он еще раньше узнал о болезни Мерит-Анта и побудил свою мать пригласить ее с детьми, чтобы все время проводить с Нефертари, к которой снова сейчас обратился. Дружба с Мерит-Анта пробудила в Изис-Неферт новую надежду, но, увы, царь повернулся спиной к больной хеттиянке и сейчас праздновал радостное примирение с Нефертари в Мемфисе. Так как ему, конечно же, не нужна была вторая супруга, он оставил ее и ее детей подальше от себя. Если бы не Хамвезе, столь высоко ценимый фараоном сын, то ее, вероятно, уже давно бы выставили и забыли. Хамвезе! Она отправится в Мемфис с визитом к нему и этим покажет, что она все еще существует. Изис-Неферт была полна решимости уехать как можно быстрее и сообщила Туе о своем решении.
— Конечно, моя дорогая, я и так довольно долго продержала тебя здесь. Отправляйся в Мемфис к своей семье. Мой сын будет рад тому, что обе его супруги рядом с ним.
«Рад? Как бы не так!» — подумала Изис-Неферт, и на лице ее появилось выражение ожесточенности и оскорбленной гордыни.
— Я хотела бы прежде всего нанести визит моему старшему сыну, верховному жрецу Хамвезе, — сказала она с нажимом. Фараон ценит его сверх всякой меры.
— Я знаю, знаю, — согласилась Туя бодро. — Кстати, мне сообщили, что Мерит-Анта умерла. Оно и лучше, потому что все ее тело было изуродовано.
— Мерит-Анта мертва?.. Но царь… Он, должно быть, в большой печали.
— Может быть, — ответила Туя холодно. — А может быть, и нет. У него ведь есть вы, матери его любимых сыновей и дочерей. Вы должны его утешить — ты и Нефертари.
— Я еду завтра, — сказала Изис-Неферт тихо, но решительно.
Чтобы узнать подробности, она сделала остановку в Пер-Рамзесе и прибыла как раз в тот момент, когда дворец Мерит-Анта поджигали со всех четырех сторон. Царица узнала, что умерли еще трое придворных, в то время как выздоравливающих отправили в сельскую местность.
— И Мерит-Анта все еще лежит в своем дворце с остальными мертвыми?
— Да, царица, — ответил чиновник. — Лекари считают, что так лучше. Если болезнь распространится в дворцовом квартале, это будет ужасно. Поэтому все будет сожжено, и мы надеемся, что благодаря этому оспу удастся победить.
Чтобы пламя не перекинулось на другие здания, все постройки вокруг дворца снесли. Больше десятка мужчин стояли с наполненными ведрами, готовые сбивать огонь в случае необходимости. Изис-Неферт настояла на том, чтобы посмотреть на сожжение и велела поставить свое кресло в надлежащем отдалении, в то время как двое слуг держали тент над ее головой.
«Бедная хеттиянка! — подумала она. — Ты надеялась, что найдешь свое счастье здесь, в Кеми, а тебя даже не погребли по обычаю этой страны. Так пусть же твое беспокойное ка мучает эту крестьянскую шлюху, пока она жива. Вероятно, это она колдовскими штучками наслала на тебя болезнь, как она это сделала с моим первенцем. Меня удивляет, что я сама еще жива…»
Пока Изис-Неферт горько размышляла, пламя охватило здание с четырех сторон, быстро ворвалось внутрь и начало с треском и грохотом бушевать во всем дворце, заставило, наконец, рухнуть крышу, причем искры полетели во все стороны. Некоторые из них попали на тент на головой Изис-Неферт, но слуги тотчас сбили их опахалами. Обожженные на огне кирпичи из нильского ила держались дольше всего, но и они начали тлеть и рушиться, превращаясь в пыль. Спустя час здание выгорело дотла, а то, что еще осталось от стен, длинными шестами обрушили сильные мужчины. Тяжелый, острый запах пожара распространился по дворцовому кварталу.
— Что будет с обломками? — спросила вторая супруга у придворных чиновников.
— Сначала их все старательно сгребут в одну кучу, а когда они остынут, соберут и бросят в реку.
— И болезнь будет изгнана?
— Мы надеемся на это, царица.
Такка совсем смутилась, когда Пиай сообщил, что ей разрешено сопровождать его во время визита Благого Бога к быку Апису.
— В этом нет ничего особенного, — попытался он успокоить ее. — Как служащему в храме Пта, мне разрешается присутствовать на церемонии с семьей. Когда царь, да будет он жив, здрав и могуч, посещает Аписа, это всегда официальное мероприятие. Тот, кто не имеет доступа, стоит на улице процессий, чтобы издалека воздавать хвалу Благому Богу.
— Что мне надеть? С таким животом я не влезу в узкое платье и, кроме того…
— Тогда ты наденешь широкое! Беременность в конце концов не позор.
Пиай досадовал на себя за то, что проявил нетерпение в разговоре с Таккой. Она была деятельной хозяйкой, и он мог быть ею доволен, но порой при каких-либо не особо важных обстоятельствах она вдруг становилась такой медлительной и нерешительной, что Пиай просто впадал в бешенство. Вчерашняя рабыня, она оставалась еще неуверенной в некоторых вещах и не хотела сделать что-либо неправильно.
Как всегда, когда объявлялось о высоком визите, жрецы Пта, обслуживавшие быка Аписа, на несколько дней изолировали его. Он был заперт в узком, темном хлеву, где не мог двигаться, и перед ним поставили статую Пта в человеческий рост.
Окруженное разрисованными папирусными колоннами священное обиталище быка Аписа было выложено гранитными и алебастровыми плитами, его поилка была изготовлена из драгоценного зеленоватого кровельного сланца и снабжена водопроводом. Искусно изготовленные в шесть локтей высотой бронзовые ворота в виде решетки отделяли загон быка от храмового двора, в котором находились дома его смотрителей, склады с запасами продуктов, а также хлева для него и его гарема.
В это утро в храмовом дворе толпились столько людей, сколько бывало разве что в праздник Пта. На этот раз событие было особого рода: Благой Бог вместе со своей семьей хотел принести жертву живой душе Пта.
Снаружи во двор, окруженный стеной, проникали приглушенные ликующие крики народа. Потом появились гордые, до зубов вооруженные ширдану. Они мягко, но настойчиво оттеснили чиновников храма с их женами и детьми, пока перед загоном не образовалось широкое свободное пространство.
Согласно своему рангу Пиай стоял во втором ряду. Он был занят тем, что оберегал беременную Такку в этой толкучке.
Шум замер, когда звук фанфар возвестил о появлении Благого Бога. По традиции царь появился перед Аписом пешком. На нем были сине-золотой венец Хепреш, церемониальная борода и золотые сандалии. В его правой руке покоился скипетр Хека, левой он дружелюбно приветствовал замершую в ожидании толпу. Рядом с ним в платье до щиколоток, собранном в многочисленные складки, шла Нефертари. На ее голове сверкал хохолок ястреба. В правой руке она
держала систр, чтобы порадовать Аписа его звучанием.
Позади царской пары шагал наследный принц Енам со своей супругой Сат-Хатор. За ним следовали его братья и сестры: Мерит-Амон, Мерире, Мерит-Атум и хорошенькая, почти уже девушка Хенут. Заметно хромавшего Мерире прикрывали братья и сестры, но иногда его голова выныривала между другими.
Царская семья была встречена приглушенными приветствиями, ибо храмовые служители хотели отличаться от громкоголосой, необузданной толпы простолюдинов. Низко кланяясь, они бормотали:
— Будь здрав, Гор, любимец Маат, великий властью и прекрасный годами, о Могучий Бык, оживляющий сердца!
Это звучало умеренно и складно, как и подобает официальному чествованию. Нефертари также почтили приветствиями:
— О, возлюбленная Благого Бога, о, Прекраснейшая, наполняющая дворец радостью!
На Мерит, первенце царской четы, был надет расшитый золотыми нитями роскошный парик, крупные золотые кольца покачивались в ушах, а в левой руке она держала знак Менат — символ богини Хатор.
Правой рукой дочь фараона вела двухлетнюю Неферури, которая храбро бежала рядом с матерью и удивленно, с любопытством оглядывала все своими большими серыми глазами.
Пиай направил поток своих мыслей на Мерит, чей взгляд равнодушно и высокомерно скользил по толпе, не замечая его. Сейчас он в первый раз видел свою дочь с ее пухлыми щечками и серыми глазами, его глазами.
Охотнее всего он поднял бы руку и помахал ей, но служитель храма не мог сделать ничего подобного. Ему оставалась только сила его мыслей, которую он непрерывно направлял на Мерит.
Царская семья, однако, занималась сейчас быком Аписом, который вел себя точно так, как ожидали от него жрецы. Радостный оттого, что его выпустили из темного, узкого загона, бык выпрыгнул на большую площадку и показывал со всех сторон свой белый треугольник на лбу, крылья орла на спине, луну с правой стороны, в то время как остальные признаки не бросались в глаза или были скрыты, как например узелки в форме скарабея под языком. Бык представлял собой прекрасное зрелище: рога были обложены золотом, на шее у него висело драгоценное ожерелье, а бедра его только что заново позолотили. За последние годы Апис вырос в мощное мускулистое животное. В гневе он уже несколько раз нападал на своих надсмотрщиков и одного из них даже убил. Вероятно, этот человек оскорбил его, в мыслях, конечно, и Пта тотчас наказал нечестивца.
Фараон взял пучок трав и предложил его через решетку Апису. Животное пошло на приманку, приблизилось и вырвало пучок у царя из руки. Со всех сторон раздались одобрительные возгласы, потому что знаком высочайшего благоволения служило то, что Апис выхватывал еду из руки.
Тем временем к звуку флейт, барабанов и систров добавились голоса певцов, исполнявших гимн Апису. Верховный жрец Хамвезе передал своему отцу сосуд с благовониями, которым фараон несколько раз сильно взмахнул, и ароматные голубые облачка дыма заполнили двор храма. Апис снова побежал, попил немного воды из мраморной поилки и весело потряс своими позолоченными бедрами.
Сейчас же внутри загона открылась дверь, и из него медленно вышла белая корова. Она заколебалась, увидев много людей, и хотела снова вернуться в хлев, но надсмотрщик мягко подтолкнул ее вперед, и она привлекла внимание Аписа. Он приблизился к белоснежной корове веселыми прыжками, обнюхал ее шею, голову и начал ласково лизать ее щеки. Затем он обнюхал ее сзади и вскоре стал виден его могучий фаллос, подобный копью. Апис приподнялся на задних ногах, вскочил на корову и совершил с ней брачное соитие перед почтительными и восхищенными взглядами верующих. Хамвезе обратился с благодарственной молитвой к Пта за то, что его живая душа вела себя именно так, как ожидали от нее почитатели с царем во главе.
Однако верховный жрец не мог удержаться от горького чувства: во время этой церемонии опять отсутствовала его мать. Он знал, конечно, что из-за опасности заразиться Туя выманила ее из Пер-Рамзеса. Но он надеялся, что она с детьми приедет в Мемфис, и тогда это было бы действительно нечто вроде семейного торжества. Хотя отец чрезвычайно ценил его, Хамвезе все сильнее ощущал, что его мать отодвинута в сторону, и не знал, что ему предпринять, чтобы изменить положение дел. Он заставил себя отмахнуться от этих мрачных мыслей и дал знак жрецам-помощникам.
Теперь Апису показали жертвенные дары фараона. Это были двенадцать упитанных ослов с рыжей шерстью, терпеливо топтавшиеся рядом. Священное животное взглянуло на них с тупым безразличием. Бык стоял рядом с любимой коровой и терся о ее бок.
В то время как царская семья переходила во внутренний двор храма, Мерит повернула голову и посмотрела Пиайю прямо в глаза, как будто он выкрикнул ее имя. Мысленно он это сделал много раз, снова и снова, не обращая внимание на церемонию, и теперь она, казалось, услышала его или, лучше сказать, почувствовала. Лицо ее осталось неподвижным, но прекрасные, чуть раскосые глаза широко открылись, мгновенно узнав его. Она чуть помедлила, наклонилась к своей дочурке и что-то сказала ей на ухо.
«Она сделала это, — подумал растроганный Пиай. — Она показала мне моего ребенка».
Маленькая девочка рассмеялась, захлопала в ладоши и побежала за остальными. Мерит подошла к бронзовой решетке и, сделав вид, что рассматривает Аписа, повернулась к Пиайю в профиль, обернулась и еще раз быстро взглянула на него, чтобы затем торопливыми шагами последовать за всеми остальными.
— Это была она? — услышал Пиай шепот Такки.
Он только кивнул, глядя вслед Мерит, которая вместе с остальными исчезла за маленькой дверью, ведущей во внутренний двор храма.
15
От Хамвезе Пиай получил разрешение каждый четвертый день посвящать устройству своего Вечного Жилища и в этот день быть освобожденным от службы. Еще до захода солнца он отправился в путь без сопровождения, хотя Такка постоянно советовала ему брать с собой молоденького слугу. Пиай, однако, только качал головой:
— За свою жизнь я привык делать большую часть дел в одиночестве, так тому и быть.
Он велел нагрузить на мула закрытый кувшин со смесью из вина, воды и фруктового сока, несколько хлебов и мешочек с сушеными фруктами, а затем незадолго до рассвета отправился к своей гробнице. Рабочие уже изготовили ее и закрыли грубой деревянной дверью. Несколько состоятельных людей из Мемфиса были похоронены в этом новом районе гробниц, и несколько стражников уже были заняты его охраной. Регулярные жертвы в честь умерших обычно доставались им.
Пиай открыл деревянную дверь и прошел в погребальную камеру. Так как вход открывался на запад, по утрам света не хватало, но в послеполуденные часы камера освещалась золотым блеском Ра. В двух боковых маленьких камерах со светом было плохо до тех пор, пока Пиай не вспомнил о вспомогательном средстве, о котором узнал в Фивах: две большие деревянные доски покрывались несколькими слоями ослепительно-белой известки, а после этого — бесцветной смолой и начинали блестеть, как алебастр. Благодаря им становилось возможным отражать свет даже в задних камерах так, что работать становилось удобно. Отныне Пиай работал с этими деревянными досками и смог отказаться от чадящих факелов, которые использовал вначале.
По сравнению с другими гробница Пиайя была скромной. Ее стены были покрыты рисунками, которые он теперь хотел превратить в плоские рельефы. Для собственной гробницы он отказался от примитивной техники углубленного рельефа. Он работал медленно и точно, следуя старым добрым ремесленным традициям.
На передней стене погребальной камеры он изобразил себя самого за работой над Большим храмом. Так как традиция запрещала изображать на стенах храмов и гробниц нечто неготовое, здесь можно было увидеть, как Пиай, совсем крошечный, стоит перед четырьмя законченными колоссами и держит в руках резец. Одна стена была посвящена обычным религиозным сценам. На ней было видно, как Анубис склоняется над мумией Пиайя, как его сердце взвешивается пером Маат, как он стоит перед троном Озириса, по обе стороны которого находятся Изида и Нефтида.
На северной стене Пиай сидел в цветущем саду перед столом с фруктами, хлебом и вином. Напротив него сидела женщина: согласно традиции хозяину гробницы общество составляли его жена или дочь. Однако вместе с Пиайем цветущим садом наслаждалась не темнокожая Такка, а Мерит с прекрасным, гордым лицом. На ней, конечно, не было золотого венца с уреем, а просто красная повязка, в которую был воткнут цветущий лотос. Надпись над ее головой гласила «майт-шерит». Кто бы ни принес сюда его гроб, он не смог бы обнаружить никакой связи с Мерит-Амон, дочерью царя.
Пиай приложил свой маленький резец к этой фигуре. Он самозабвенно работал часами, потому что плоский рельеф требовал большого опыта и осторожной, искусной руки.
С тех пор как он увидел Мерит в храме, а это было два дня назад, он больше не мог найти покоя. Он узнал о событиях в Пер-Рамзесе и знал, что любимая долгое время будет жить в Мемфисе, почти рядом с дверью его служебных комнат, потому что храм и дворец располагались недалеко друг от друга. Может быть, Мерит ожидает, что он предпримет что-либо, но в его теперешнем положении руки у него были связаны. Для Мерит это было бы легче. Она должна найти путь, но, может быть, она вытеснила из своего сердца далекого возлюбленного и ведет сейчас с принцем Сети совершенно нормальную супружескую жизнь, потому что это легче, потому что это проще, потому что нельзя же вечно терзаться воспоминаниями о прошлом!
Пиай почувствовал, что работает рассеянно, и опустил резец. Горячий сухой воздух погребальной камеры заставил его почувствовать жажду, и он пошел к своему мулу, который дремал в тени у входа в гробницу. Пиай отвязал кувшин и сделал большой глоток освежающей смеси из воды, гранатового сока и вина. Затем развязал мешок с кормом и бросил животному несколько пучков клевера.
В следующем месяце должен прибыть саркофаг из известняка, который поставят в погребальной камере, и он будет ждать своего жильца — Озириса-Пиайя.
Он произнес:
— Озирис-Пиай, оправданный.
Как торжественно и потусторонне это звучало и как при этом стиралась разница между фараоном, военачальником, главным советником, ремесленником, «ставящим печать бога» и рабом. Они все станут Озирисами, если… если выдержат испытание в потустороннем мире.
Пиай вернулся в погребальную камеру. Как далеко это все, и все же завтра или через несколько месяцев это может стать действительностью. Он снова обратился к работе и начал маленькими нежными ударами выбивать очертания длинного, до пят, платья Мерит. Ее левая рука брала фрукт с блюда, заполненного плодами, а правая подносила к губам золотой кубок… Майт-шерит, его маленькая львица. Так они будут сидеть друг напротив друга всю вечность — веселые, беззаботные, в тени сикоморы, и этим наконец будет восстановлен порядок, высший, придуманный богами порядок. Боги ведь не требуют, чтобы любящие были разлучены, наоборот, они разрешают им без помех радоваться друг подле друга.
Пиай работал без длинных пауз, пока тени от гор в пустыне не стали длинными. И наступили сумерки.
Мерит знала уже, что Пиай через Хамвезе нашел работу в храме Пта, но она не была готова к тому, чтобы встретиться с ним так быстро.
На следующий день она разыскала Хамвезе в храме. Покои верховного жреца были украшены стройными, искусно выточенными колоннами в виде пальм, а стены расписаны сценами, изображающими бога Пта в его различных функциях. Он был изображен в виде создателя богов, зверей и людей, божественного мастера, судьи в загробном мире. В образе мумии с лысой головой он выглядел величественным и неприступным. Его рука обнимала колонну Дед — символ вечности и власти.
Хамвезе сердечно и без церемоний приветствовал свою единокровную сестру Мерит. Он отослал писца и приказал, чтобы ему ни в коем случае не мешали все время, пока принцесса будет его гостьей. Они сблизились, пока вынашивали планы освобождения царя от хеттиянки, и сначала заговорили об этом.
— Я боюсь, что Хаттусили тотчас пришлет к нам новую дочку, — покачал головой Хамвезе. До праздника Зед осталось около двух лет, и повелитель хеттов может воспользоваться этим, чтобы снова навязаться в родственники фараону, да будет он жив, здрав и могуч. Не можем же мы сживать со свету каждую хеттиянку.
Мерит улыбнулась:
— Ты прав, мой ученый брат. Но вряд ли найдется еще одна такая жадная и похотливая ведьма, как эта Гутана, или Мерит-Анта, как нравилось называть ее нашему отцу. Красивая, скромная девушка не даст нам повода просить помощи у ужасной Сехмет, не так ли?
Хамвезе кивнул, выпил глоток воды и сказал напрямую:
— Я уже знаю, что привело тебя ко мне, Мерит. Ты узнала, что скульптор Пиай служит храму, и хотела бы его снова увидеть.
— Да, это так, — ответила Мерит просто, — но я не знаю, как это устроить. Поэтому я хотела бы попросить твоей помощи.
— Если я тебе помогу, я преступлю законы царя. Этого я не хочу и не могу сделать. Я могу тебе посоветовать, но не помочь.
— Тогда я прошу твоего совета.
— Мой совет прост. Служебные помещения Пиайя находятся на северо-западной стороне внешнего двора храма, рядом с мастерскими литейщиков. Каждый четвертый день Пиай работает в своей гробнице в пустыне. В остальное время большей частью он находится здесь. Иногда он бывает в пути…
— И я должна его там просто посетить.
— А почему нет? Оденься неприметно, сними урей, закутайся в покрывало. Кто тебя узнает?
— У тебя есть еще какой-либо совет для меня?
— Нет, — твердо ответил Хамвезе. — Это все. Устранение Гутаны мы планировали совместно. За то, что ты предпринимаешь сейчас, ты отвечаешь одна и перед фараоном, и перед своей совестью.
— Моя совесть чиста, — отрезала Мерит резко. — Я ни в чем не должна себя упрекать. Что касается царя…
Хамвезе поднял руку:
— Стой! Я ничего не хочу об этом знать. У нас разные матери, это дело меня не касается. Действуй по своему усмотрению, я в эти игры не играю.
Мерит встала:
— Благодарю тебя за совет, верховный жрец. Приедет ли Изис-Неферт в Мемфис?
— Да, моя мать сообщила о своем приезде. Так как фараон, да будет он жив, здрав и могуч, не приглашал ее, она посетит меня и будет жить в храме.
Мерит сказала с нажимом:
— Меня это также не касается, Хамвезе.
Верховный жрец открыл дверь:
— Да хранит тебя Пта на твоем пути.
— И тебя, Хамвезе, — ответила Мерит.
Во дворце она посоветовалась с Бикет, как лучше всего попасть в мастерскую Пиайя неузнанной.
— Сначала найду его я, а потом мы посмотрим, — решила Бикет.
Пиай уже был готов отправиться домой, когда в дверях появился храмовый слуга:
— Господин, с тобой хочет говорить какая-то женщина. Она говорит, что это срочно.
— Она не может прийти завтра?
— Нет, — ответила Бикет и отодвинула слугу в сторону сильной рукой. На лицо у нее было наброшено покрывало, которое женщина тотчас откинула.
— Хорошо, — сказал Пиай слуге, — можешь идти.
Он закрыл дверь и подождал, пока шаги слуги не замерли вдалеке.
— Да, это я, господин, и ты можешь догадаться, почему я пришла.
— Я ждал новостей, только не знал, каким образом их получу.
— Да, это трудно. Принцесса хотела бы встретиться с тобой, и мы считаем, что незаметнее всего это сделать в храме. Ты здесь всегда один?
— Перед обедом мне помогает писец, после обеда я часто отсутствую, бывает, ко мне приходят с визитом. Надежнее всего были бы часы после захода солнца. В любом случае, я должен буду дать знать стражникам, чтобы они не задавали Мерит никаких вопросов. Она должна будет закутаться в покрывало, как это сделала ты. Скажи своей госпоже, что мое сердце бьется от радости и нетерпения.
Бикет с горечью огляделась:
— А мое, наоборот, замирает от беспокойства. Ты опять вступаешь на опасный путь, господин. Ты никогда не оглядываешься назад?
— Нет, я этого не делаю, потому что тогда я потеряю мужество. Мы должны увидеться, ты ведь это понимаешь? Я не могу прийти к ней во дворец, лучше она придет ко мне в храм.
Бикет вздохнула и накрылась покрывалом.
— Скажу честно, я так надеялась, что время образумит тебя и Мерит. Тогда тебе все это чуть было не стоило жизни, Пиай. Жизни! С моей принцессой и сейчас ничего особенного не случится, но ты на этот раз создаешь себе двух врагов: фараона, да будет он жив, здрав и могуч, и принца Сети, супруга Мерит. Во второй раз царь не простит тебя, ты это знаешь. А что касается принца Сети… Я не выдам тебе тайну, если скажу, что он уже сейчас доведен до крайности. Моя госпожа закрыла перед ним свои покои, а он настаивает на своих супружеских правах. Ты должен знать, Пиай, что принцесса оставалась тебе верна все эти годы. Она не терпит этого Сети, она растит твоего ребенка и только и ждет, не придет ли весточка от тебя. — Бикет закрыла лицо покрывалом и повернулась к двери. — Ах, Пиай, к чему это приведет? Не без основания царь запретил тебе въезд в Пер-Рамзес, а теперь вы оба живете, так сказать, стена к стене…
— Разве мы не должны это использовать? — спросил Пиай.
— Жди Мерит завтра после захода солнца, — сказала Бикет тихим печальным голосом и исчезла в темноте.
Беспокойство и рассеянность Пиайя в последние несколько дней не ускользнули от Такки. Она не была женщиной, которая долго скрывает свои чувства.
— Ты все время думаешь о ней, не так ли? — спросила она Пиайя вечером.
— Почему я должен лгать тебе, Такка? Ты и без того чувствуешь, что со мной происходит. Да, принцессу Мерит, которую я перед тобой честно могу назвать своей первой супругой, я не могу выбросить из сердца и не хочу этого делать. Она единственная женщина, наполняющая мое сердце. Так было с самого начала и так продолжалось во время нашей разлуки. Не смотри так печально, это не имеет никакого отношения к тебе, маленькая нубийка. Перед законом ты моя супруга, скоро появится на свет наш ребенок, и если я уйду в Закатную страну, то ты и твой ребенок будете моими наследниками. Я оставляю тебе не очень много, Такка, но этого хватит, чтобы прокормить тебя и малыша, а если ты впадешь в нужду, обратись к верховному жрецу Птаха, принцу Хамвезе. Он не оставит вас в беде.
Такка вытерла навернувшиеся на глаза слезы.
— Ты говоришь так, как будто смерть стоит перед дверями! — воскликнула она, всхлипывая.
Пиай, утешая, погладил ее по голове:
— Я говорю это на всякий случай. Бывает, сегодня здоров, завтра жалуешься на лихорадку, а еще через день «ставящие печать бога» приходят в твой дом. Сехмет действует быстро и основательно, вспомнить хоть царскую семью: Амани, Рамозе, Монту, а теперь третья супруга.
— Конечно, я знаю, что ты уйдешь в Закатную страну раньше меня, потому что нас разделяют добрых тридцать разливов Нила. Но это должно случиться не сегодня, и не завтра, и не в ближайшие пять или десять лет…
Пиай от всей души рассмеялся:
— Лучше всего никогда, маленькая Такка, ты это хотела сказать? Ну посмотри на меня! Я больше не молодой человек, свыше сорока лет я много и упорно работал, мои кости стали хрупкими, мои мускулы потеряли силу. Тем не менее я благодарен судьбе и богам. Пта позволил мне создать для Благого Бога произведения, которые возбуждают удивление всей страны и которыми будут восхищаться и через тысячу лет. Труд моей жизни завершен, и это будет соответствовать божественному порядку, если Озирис вскоре призовет меня к себе. Я, конечно же, не желаю этого, Такка, я еще охотно прожил бы много лет рядом с тобой и радовался бы детям, которых ты мне еще подаришь, но это означало бы слишком многого требовать от богов.
Такка утерла слезы, и лицо ее стало упрямым:
— Я ведь тоже тут. Боги должны сохранить тебя для меня, для меня и ребенка. Твоя высокорожденная возлюбленная тоже хотела бы, чтобы ты прожил еще долгие годы. Желанию двух женщин Пта, или Амон, или Озирис, или какой-либо другой бог не могут противиться. Возьми пример с фараона, да будет он жив, здрав и могуч. Вы почти одного возраста, но я не думаю, что он часто размышляет о своем Вечном Жилище или говорит, что скоро отправится к Озирису.
— Ты права, Такка. Его величество Рамзес, конечно же, не думает об этом. Вскоре состоится его праздник Зед, он будет праздновать его с невиданной роскошью и выйдет после него обновленным. Он Благой Бог, но для его подданных не существует праздников Зед и связанного с ними волшебного омоложения, поэтому мы должны ежедневно рассчитывать…
— Ну, хватит об этом, подумай о нашем ребенке. В нем ты омолодишься, в нем ты будешь жить дальше. Так хотели боги, так и произойдет. А теперь выпей бокал вина и снова настройся на жизнь.
Об этом разговоре вспомнил Пиай, когда дневная поездка Ра подошла к концу. Он встал перед домом и подождал, пока храмовые охранники начнут обход.
Есть ли у них первая ночная стража? Мужчины подтвердили это. Пиай попросил их показать дорогу женщине под покрывалом, которая вскоре будет спрашивать о нем.
Когда один из вооруженных стражников позволил себе хитрую ухмылку, Пиай обрезал его:
— Свои идиотские гримасы можешь оставить при себе, мой дорогой. То, что у вас в голове лишь пиво и женщины, знает каждый. Но на этот раз речь идет о празднике Зед, о сюрпризе для Благого Бога, да будет он жив, здрав и могуч. Будет лучше, если вы придержите языки. Вы знаете, что каменоломни ненасытны, они требуют все, новых и новых людей. Придержите свои языки и получите позже богатое вознаграждение, это я обещаю вам именем Птаха.
— Но что?.. Что мы скажем нашим начальникам?
— Ничего! Они давно обо всем знают и держат рот на замке, чего я ожидаю и от вас.
Оба стражника удалились, и Пиай подивился тому, насколько он спокоен, как легко с его губ слетала ложь, от которой волосы становились дыбом. Ему удалось внушить им то, что, как он надеялся, произвело на них большое впечатление. Сюрприз для Благого Бога. Если осмыслить то, что им предстоит, то все верно. Вот уж сюрприз, так сюрприз… Пиай, покачав головой, вернулся в дом.
«Я мог бы действовать по-другому, — подумал он, — но я сошел с ума, сошел с ума из-за нее. Мне должно было бы хватить мирной жизни с Таккой, детей, домашнего счастья, надежной должности, высокого положения служителя храма, как полагается чиновнику храма, благоволения верховного жреца Хамвезе, а в конце земной жизни меня ждал бы уютный, прекрасно обставленный Дом Вечности, и все это, — Пиай щелкнул пальцами, — я ставлю на кон, как будто это только четверик зерна».
Он зажег масляную лампу и поставил ее. В какой-то библиотеке он наткнулся на свиток с поучениями мудрецов и не знал, смеяться ли ему или плакать, когда прочитал: «Не иди за женщиной, иначе она похитит твое сердце».
Тогда он посчитал эти слова глупостью. Как охотно он позволил бы похитить свое сердце, если бы пришла одна, которая понравилась бы ему! Это был его необдуманный ответ на высказывания мудрецов, но с тех пор прошли годы… Он огляделся, увидел сотни свитков папируса, которые окружали его, как защитная стена. Его мир, его маленький мир…
Тут он услышал тихий стук. Пиай подошел к двери и открыл ее. Высокая, стройная женская фигура с лицом, закрытым покрывалом, стояла перед ним. Он отступил назад и впустил ее.
— Это я, — сказала Мерит и отбросила покрывало. Тут внезапно годы разлуки исчезли, вчера пропало, завтра тоже не было, было только это мгновение. Время остановилось. Казалось, что это и правда так, потому что даже капли в водяных часах замолкли: сосуд опустел.
— Ты выглядишь усталым, Пиай, — произнесла Мерит тихим, нежным голосом.
— Я устал от ожидания, маленькая львица, от ожидания тебя.
Он нежно поцеловал ее в губы:
— Как дела у нашего ребенка?
— Чем больше становится Неферури, тем более она походит на тебя.
— Я видел ее и нахожу, что она скорее походит на тебя.
— А серые глаза?
— Она унаследовала мои глаза, это верно. Где твой супруг?
— Он остался в Дельте и занимается единственным, к чему у него есть способность: инспектирует войска. Давай не говорить о нем, не будем тратить время впустую. Как ты живешь? Как твои дела?
— Твои письма сохранили мне жизнь и надежду увидеть тебя снова. Как всегда, работа… Я женился, Мерит. Ее зовут Такка, она бывшая нубийская рабыня. Это и ее заслуга, что я не сошел с ума. Она беременна и унаследует мое имущество. Такка мне хорошая жена.
— Это радует меня, любимый, но она не в счет. Она имеет столько же значения, сколько и Сети. Никому не удастся встать между нами. Никакому человеку и никакому событию не удастся когда-либо вырвать тебя из моего сердца, клянусь именем Хатор и Баст!
Пиай улыбнулся:
— Какие важные свидетельницы! В клятвах нет нужды. То, что мы сейчас стоим друг напротив друга, лучшее доказательство тому, что я в тебе, а ты во мне. Но что будет дальше, Мерит? На этот раз мы не в Суенете и не в пустыне у храмов. Вся твоя семья в Мемфисе, фараон…
— В этом наше преимущество! — прервала его Мерит. — Как раз потому, что мы живем дом к дому, нам будет проще встречаться. Бикет охраняет мою спальню. Я живу в прежнем дворце Туи. Он не охраняется, и я могу приходить и уходить, когда захочу. Нигде нам не было бы так удобно, нигде мы не были бы в такой безопасности.
Пиай не дал увлечь себя ее восторгами:
— Но это, я боюсь, недолго продлится. Царь, да будет он жив, здрав и могуч, прибыл сюда, опасаясь заразы. Скоро он снова захочет вернуться назад.
— Я сейчас здесь, а позже мы должны будем найти другой способ видеться. Раньше ты не был таким медлительным, таким осторожным…
— Тот, кто поработал каторжником в каменоломнях и выжил, никогда не забудет это время и скорее захочет отправиться к Озирису, чем снова туда, где людей превращают в обезумевших шакалов. Ты вряд ли поймешь это, дорогая, даже если я подробно расскажу об этом. Второй раз я не проживу там и десяти дней.
— До этого не дойдет, — твердо сказала Мерит.
— Нет, — сказал Пиай, — до этого больше не дойдет.
Они полночи проговорили о прошлом, о своих заботах и мыслях. На сердце у них стало легче и радостнее, однако, когда Пиай обнял свою любимую крепче и она почувствовала его желание, она отодвинула его от себя:
— Сегодня нет, мой друг. В эти часы мы снова стали доверять друг другу, наполнили тени прошлого светом и изгнали их. Сегодня речь еще шла о Такке и Сети. В будущем мы не захотим говорить о них, поэтому я прошу тебя даже в доверительном разговоре ничего не говорить обо мне своей супруге. Она не должна беспокоиться. Я беру лишь твое сердце, твое тело она может сохранить.
— Ты не хочешь больше никогда со мной… — спросил Пиай с наигранным замешательством.
— Посмотрим… Может быть, годы в пустыне сделали тебя неспособным к физической любви? Кто знает?
— Спроси Такку, — ответил Пиай, смеясь.
Они вернулись к привычному старому тону своих разговоров и простились долгим поцелуем. Пиай передал ей свой разговор со стражниками, и она громко рассмеялась.
— Сюрприз для фараона? Ты почти так же изобретателен, как хозяин поместья, который не хочет платить налоги.
— Хорошее сравнение. Но известно, что влюбленные хитрее и изворотливее, чем все остальное человечество. В моем случае речь идет о том, чтобы выжить, как это уже было однажды.
— В моем случае также. Жизнь без тебя — это не жизнь.
Она исчезла в ночи.
Фараон поручил своему сыну Хамвезе подготовку праздника Зед. Хотя у Хамвезе хватало времени на подготовку, все же это был не обычный праздник, который отмечается каждый год и церемонию которого каждый помощник жреца знает во всех подробностях. Юбилейное торжество к тридцатому году правления за тринадцать столетий правления фараонов, как выяснил Хамвезе, праздновалось едва ли десяток раз на полном основании, то есть когда правящий царь действительно правил тридцать лет. Некоторые цари умудрялись праздновать Зед на десятом или пятнадцатом году правления.
— Я бы никогда не осмелился назначить празднование Зед преждевременно, мне кажется это святотатством.
— Ты не должен это так воспринимать, отец, — возразил Хамвезе. — Судя по сообщениям, в большинстве случаев это были не настоящие юбилеи. Многие из твоих предшественников появлялись в храмах и дворцах в одежде и с атрибутами праздника Зед, чтобы этим произвести заклятие будущего. Другими словами, они пробовали уже в первые годы своего правления роль, в которой хотели выступать на своем настоящем юбилее, но до этого доходило крайне редко. Последний настоящий праздник Зед праздновался твоим высокочтимым предшественником Озирисом-Аменхотепом более ста тридцати лет назад. В соответствии с традицией он устраивал после этого каждый третий год новый праздник Зед. Два из них он смог праздновать, а потом…
Рамзес улыбнулся:
— Говори об этом спокойно, мой сын. А потом он отправился в Закатную страну. Но я думаю, однако, праздновать тысячи тысяч праздников Зед… Кто знает, может быть, я последний царь страны, который правит вечно…
Ошеломленный Хамвезе взглянул на своего отца. Это он серьезно или же играет словами?
Фараон добавил:
— Тридцать лет — это уже долгое время.
— Почти человеческая жизнь. Мы предполагаем, что цари до объединения страны в том случае, если они так долго сидели на троне, должны были отрекаться от престола. Вероятно, их даже убивали. В те времена еще не умели писать, поэтому мы можем только высказывать предположения. Тогда Обеими Странами владели несколько царей, часто были войны. Предполагалось, что властитель, который правил уже тридцать лет, то есть пережил пятьдесят или более разливов Нила, теряет свою силу и больше не в состоянии вести своих людей на войну, поэтому, чтобы сохранить внутренний мир, на трон сажали молодого преемника, а старого убивали. С тех пор как страна объединилась, подобные варварские обычаи потеряли смысл. Теперь имеет место чудесное омоложение, и царь остается на троне. С твоего разрешения, отец, ты не нуждаешься в празднике Зед. Тот, кто не стареет, не нуждается в омоложении…
Рамзес утвердительно кивнул:
— Ты, конечно, прав. Однако фараон обязан соблюдать старые традиции, и я хотел бы, чтобы и народ что-то имел от этого. Ты должен уже сейчас готовить запасы, потому что я хочу десять дней угощать жителей Мемфиса и Пер-Рамзеса. Праздник должен быть таким, чтобы дед мог рассказывать об этом внуку.
— Ты будешь… Ты будешь праздновать в Мемфисе? — спросил Хамвезе, колеблясь.
— Нет, сын мой. Я знаю, что это было бы твоим горячим желанием — почтить город Пта подобным празднеством, но это было бы против существующего положения вещей. Мои предшественники всегда праздновали его в столице, и я сделаю то же самое. Главным местом празднования будет Пер-Рамзес, город Рамзеса, мой город. В нем состоится священное торжество.
В Мемфисе кашель Нефертари существенно уменьшился. Сухой воздух пустыни оказался целебным, и Великая Царская Супруга снова начала оживать. Ее постоянная усталость исчезла, как и в старые времена, она повсюду сопровождала фараона и во время праздников выступала в качестве полной очарования под хохолком ястреба, приятной духом и сладкой в любви, наполняющей дворец своим благоуханием.
Тем временем в Мемфис прибыла Изис-Неферт, но фараон едва обратил на нее внимание. Он, правда, пригласил ее переехать из дома для гостей при храме Пта во дворец за Белой Стеной, но царица проявила упрямство: не фараон, а ее сын, верховный жрец Хамвезе, пригласил ее в Мемфис, и она хотела бы оставаться его гостьей вплоть до возвращения в Пер-Рамзес. Царь согласился с этим, и ожесточившая Изис-Неферт слышала ликующие крики, долетавшие из города, когда Благой Бог вместе со своей любимой супругой входил в храм или почитал своим присутствием один из многочисленных праздников богам. Ее единственным утешением были дети: принц Меренпта, очаровательная Бент-Анта и, конечно, Хамвезе — ученый сын, которого так ценил фараон. В редкие часы раздумий и самоанализа она должна была признать, что ее могли бы встретить хуже. Она все еще была второй супругой, родила фараону сыновей и могла выступать соответственно своему рангу. Некоторое утешение она находила в мыслях о судьбе Гутаны, которая, будучи бездетной, умерла от оспы и которую должны были сжечь в ее дворце исходя из соображений безопасности. От нее ничего не осталось, совсем ничего.
Как заверил ее Хамвезе, фараон будет праздновать Зед вместе со всей семьей — с двумя царицами, всеми детьми, царицей-матерью Туей и близкими родственниками, — но этого придется ждать еще целый год. Ну, она ждала всю свою жизнь, она уже наупражнялась в ожиданиях.
— А Мерит и Сети в Мемфисе? — спросила она как бы между прочим.
— Мерит и ее дочь здесь. Однако Сети предпочел остаться с войсками.
— Итак, Мерит здесь, — задумчиво проговорила Изис-Неферт.
— Да, уважаемая мать, и я вижу по тебе, о чем ты сейчас думаешь.
— Ну и о чем же я сейчас думаю, Хамвезе?
— О Пиае, который работает здесь, в храме, на расстоянии полета стрелы от дворца. Но какое нам до этого дело? Если оба встретятся, они и будут отвечать за последствия.
— Только если их обнаружат.
— Да, мать, только тогда. Но я хотел бы повторить: я не вмешиваюсь в дела Мерит, а Пиайя ценю как превосходного ремесленника и храмового служителя.
— Разве я сказала, что ты должен вмешиваться? Кто знает, проявляет ли еще Мерит интерес к Пиайю? Однако, когда я думаю о том, как она обращается со своим мужем, мне приходит в голову мысль…
Она многозначительно посмотрела на Хамвезе.
— Я не могу тебе помешать делать свои собственные выводы, дорогая мать, но мною двигают сейчас другие заботы.
Изис-Неферт решила держать глаза открытыми, и теперь она пожалела, что Незамуна нет в живых. Этот хитрый старик быстро бы выяснил, есть ли между Мерит и Пиайем что-либо. Заманчиво было бы застукать этих двоих и задеть этим другую, подумала Изис-Неферт. Та, другая, снова наверху, и не повредило бы слегка стукнуть ее по носу. Ее согрела эта мысль, и в течение ближайших дней она хотела спокойно обдумать, как бы ей осуществить свой план.
16
Никто за пределами Белой Стены или в районе Большого храма, казалось, не замечал, что происходит в служебных комнатах Пиайя в некоторые ночи. Храмовые стражники уже привыкли во время своих ночных обходов, что дама под покрывалом проскальзывает к дому у северо-западной стены. То, что она приходила не с улицы, а непосредственно из дворцового квартала, не давало повода к недоверию. И разве мастер Пиай не сказал что-то о награде?
Когда Мерит появлялась, Пиай старательно запирал дверь и опускал сплетенную из тонкой соломы занавесь, защищавшую комнату от солнца, так что через окно ничего нельзя было рассмотреть. Большая рабочая комната, уставленная забитыми до потолка полками, превращалась Пиайем в приют для влюбленных.
Он стелил ковер на один из широких сундуков, ставил блюдо с фруктами и кувшин вина на стол и наполнял свежим маслом самую маленькую из масляных ламп. Они не очень любили находиться в темноте, принцесса и служитель храма, но свет не должен был быть таким ярким, чтобы проникать через щели занавеси и привлекать непрошеных гостей.
— Скромное любовное гнездышко, но пока у нас нет другого, — сказал Пиай во время второго визита Мерит. Однако ей, казалось, это не мешало.
— Это небольшая жертва! У тебя есть дом, я живу во дворце, но ни тут ни там мы не можем встречаться. А посему, — Мерит указала на широкий старый сундук, — будем обходиться вот этим.
Она беззаботно села и протянула руки:
— Иди, любимый, и не будь печален, потому что я сейчас не печальна.
И Пиай поддался старому очарованию этой любви. Он помог Мерит снять платье и ласкал прекрасное, стройное тело, которое знал лучше своего собственного. Он покрыл ее медленными поцелуями с головы до ног, он не пропустил ни одного места. Казалось, он вступал в знакомую, но давно не виданную им страну.
— Ты пахнешь, как прежде, ты сладостна, как прежде. Моя майт-шерит совсем не изменилась.
— Приди, Пиай, — поторопила она его, — прижмись ко мне, обними меня, поцелуй меня, проникни в меня! Я хотела бы почувствовать, что это ты, что больше нет печали…
Они любили друг друга сильно и неистово, и Пиай был в восторге, когда услышал столь знакомый ему стон наслаждения. Он снова был так наполнен этой любовью, что забыл о всех своих сомнениях. Все казалось ему мелким и неважным перед этой страстью, которая связывала его на жизнь и на смерть с прекрасной, гордой принцессой.
Мерит была счастлива и благодарна за то, что снова может быть женщиной. До ее сознания дошло, насколько бедной была ее жизнь без него. Никогда, никогда в жизни она не хотела снова оставаться без Пиайя. Однако существовал принц Сети, ее супруг, и, пока он жив, он ни за что не откажется от столь выгодного для него брака. Пока он жив… Как просто было устранить Гутану. У Рамзеса не возникло ни малейшего подозрения, что смерть хеттиянки насильственна. Сети тоже может заболеть, он тоже может умереть… Нет! Мерит ужаснулась тому, что может зайти так далеко. Гутана была виновата, она была опасной для Кеми иноземкой. Бедный Сети не мог отвечать за свое сходство с фараоном, этот брак не был его виной. Должен найтись выход. Пока Пиай дремал в ее объятиях, и она ощущала сквозь тонкий коврик твердые доски сундука, ей в голову пришла мысль. Она пощекотала Пиайя, тот полусонно обнял ее, но Мерит отстранилась:
— Позже, мой Могучий Бык. Я должна тебе кое-что сказать. Пока ты спал, я думала, что так дело не может продолжаться. Пока я в Мемфисе, хорошо, но царь уже поговаривает о возвращении. Скоро нашим свиданиям наступит конец. Что тогда? Ты не можешь поехать в Пер-Рамзес, а я не могу без основания, просто так, отправиться в Мемфис или куда-либо еще. А если и смогу, мы должны будем прятаться. Это недостойно и не может продолжаться долго. Я подожду праздника Зед, а потом попрошу отца позволить мне удалиться из Пер-Рамзеса и оставить Сети. Было бы неверным требовать расторжения брака, потому что это принесло бы Сети ущерб, с которым он не захочет смириться. К тому же, расторгая наш брак, мой отец должен был бы признать, что совершил ошибку, а это противоречит Маат, божественному порядку: Благой Бог не совершает ошибок. Мы сможем достичь кое-чего, если только никто не потерпит ущерба. Хотя моей натуре противоречит делать что-либо наполовину или втайне от всех, но в этом случае по-другому не получится. Я удалюсь в какое-либо царское имение в Дельте, которое находится на расстоянии по меньшей мере двух дней пути. А ты будешь там управляющим. В Абидосе, Фивах, Мемфисе или Пер-Рамзесе мы никогда не смогли бы свободно жить друг с другом, но в деревне это возможно. Я в этом уверена. Это должно получиться! Должно!
Она заколотила кулачками по его груди и воскликнула еще несколько раз, заклиная:
— Должно! Должно!
Пиай прикрыл ей рот ладонью:
— Успокойся, любимая, успокойся! Ты привлечешь своими криками стражу. Мне тоже нравится твой план, но все зависит от царя, да будет он жив, здрав и могуч. Я ничего не могу сделать, могу только надеяться, что тебе удастся уговорить его.
Мерит успокоилась, и Пиай почувствовал, что щеки у нее мокры от слез.
— На самом деле я не плачу, — сказала она упрямо, — это лишь слезы гнева и беспомощности. В любом случае я сделаю все, чтобы уговорить отца. Я спрячу свою гордость. Я разыграю маленькую, беспомощную дочку, которая ужасно несчастлива и не знает, как себе помочь. Я буду лгать и визжать, а если понадобится, и ползать на животе, как рабыня, вымаливающая милости. Пусть Сети и дальше считается моим супругом, я предоставлю ему все выгоды, которые он из этого может извлечь, но я не допущу, чтобы нас, истинных мужа и жену, разлучили и воровали драгоценное время нашей любви. Мы не становимся моложе, дорогой. Наше время уходит.
Пиай закрыл ее рот долгим поцелуем.
Изис-Неферт всегда хорошо обращалась со своими придворными. Она никогда не заставляла их расплачиваться за то, что царь много лет держал ее в отдалении, и могла опереться на нескольких верных, безусловно преданных ей слуг, которых попросила незаметно осмотреться в храмовом районе и при этом обратить особое внимание на служебные комнаты Пиайя. Люди вышли на храмовых стражников, несколько медных дебов перекочевали из кармана в карман, и из одного замечания там, из другого замечания тут постепенно вырисовывалась картина, хотя и не очень четкая. В конце концов Изис-Неферт узнала только, что Пиай готовит что-то, и с этой целью время от времени после захода солнца встречается с какой-то женщиной. Это могло не означать ничего или же означало многое.
Изис-Неферт хотела основательно расследовать дело, но вступать во вражду с Мерит казалось ей слишком опасным, и она хотела избежать этого. Разоблачение должно было выглядеть как случайность, поэтому вторая супруга несколько дней жаловалась на бессонницу и попросила двух своих придворных дам немного погулять с ней на улице. Ей не составило труда подгадать так, чтобы, едва стемнело, они оказались вблизи дома Пиайя. Уже на второй день Изис-Неферт увидела женскую фигуру под покрывалом, исчезнувшую за дверью служебного помещения Пиайя. Когда она спросила об этом двух проходивших мимо стражников храма, мужчины только отмахнулись:
— Мастер Пиай уже сказал нам. Эта женщина должна обсудить с ним что-то, что должно оставаться тайной. Больше мы ничего не знаем.
«Разумеется, это должно оставаться тайной, — подумала Изис-Неферт, и язвительная улыбка появилась на ее суровом лице. — Никому нельзя знать о том, что шлюха Мерит снова спит с долговязым скульптором, но я позабочусь о том, чтобы это не осталось тайной и дошло до нужных ушей».
Но прежде Изис-Неферт хотела посоветоваться с сыном. Хамвезе ни в коей мере не был удивлен:
— Я ожидал нечто подобное. Оба живут почти дверь в дверь, но я тебе уже сказал при нашем последнем разговоре, что не помышляю о том, чтобы вмешиваться в дела Мерит. Впрочем, женщина была под покрывалом, и ты не можешь быть уверена в том, что это была она. Но даже если бы дело обстояло так, здесь, в храме, все определяю я, и я хотел бы попросить тебя оставить свои подозрения при себе. Было бы ужасно, если бы об этом узнал фараон. Я даже вынужден взять с тебя клятву. Поклянись Амоном, что царь не узнает ничего из того, что ты увидела.
Изис-Неферт стало немного не по себе, но такую клятву она могла дать. Она
сообщит о своих подозрениях не фараону…
Такка родила сына, которого Пиай в память о своем учителе и названном отце назвал Ирамуном. Он очень обрадовался ребенку и подарил своей супруге ценное ожерелье с вплетенным в него золотым систром и знаком Нефер — символом красоты.
Такка смирилась с тем, что Пиай с некоторого времени ведет две жизни и что одна из них находится за пределами ее мира. Его частые и долгие отлучки по вечерам объяснялись работами по подготовке празднования Зед, но Такка чувствовала, что это связано с Мерит, и не задавала никаких лишних вопросов. Она не имела и не хотела иметь ничего общего с этим. Однако эта недоступная ей часть жизни Пиайя беспокоила ее и страшила. Они построили здесь гнездо, и Такка хотела сохранить его, хотела, как каждая мать, прогнать от себя любое зло. Но, увы, против этой безымянной угрозы она была бессильна. Такка не могла вступить в борьбу с неизвестным. Однажды она попыталась объяснить Пиайю свою тревогу, но он тут же успокоил ее:
— Нам не грозит никакая опасность, Такка, поверь мне. С тобой и твоим ребенком ничего не случится, что бы ни произошло.
— Со
мной и
моим ребенком? — опешила она. — А с тобой? Разве ты не наш, и разве это не твой ребенок?
— Конечно, это и мой ребенок, успокойся, Такка. Скоро все будет как раньше.
При этом он намекнул на ожидавшийся отъезд царя, который сразу после праздника Нила хотел вместе с семьей отбыть в Пер-Рамзес. Им с Мерит предстояла последняя ночная встреча, но странно, Пиай на этот раз не ощущал боли разлуки, у него не было чувства, что весь мир рушится, как тогда, на Юге.
— Мы скоро увидимся снова, — заверила его Мерит, откладывая в сторону плащ и покрывало.
Пиай молча смотрел на свою возлюбленную. «Какая она уверенная, моя майт-шерит, — весело подумал он. — Она уже все запланировала, все расставила по местам».
— Ты так уверена, будто уже добилась согласия царя и своего супруга. Сети может нарушить твои планы. Он привык к своим привилегиям и не захочет отказываться от них.
— Он должен будет! — воскликнула Мерит. — Он должен будет отказаться только от меня. Только от меня. Больше я от него ничего не требую.
Они говорили о том и о другом, но оба знали, что только высказывают предположения. Однако они хотели строить планы на будущее. Это прежде всего нужно было Мерит, чтобы жить дальше. Лаская Пиайя, Мерит снова и снова твердила:
— Это не разлука, любимый, это только пауза. После праздника Зед царь смягчится, я знаю его. Этот юбилей — милость богов, и мой отец знает, что он принадлежит к немногим, кому было позволено его отпраздновать. Он как будто начинает жить заново, и так же будет для нас. Может быть, Баст проявит понимание и попросит свою божественную сестру с головой львицы о помощи любящим. Сети сейчас в Пер-Рамзесе, и, может статься, дыхание болезни еще осталось…
— Нет! — сказал Пиай твердо. — Я не хотел бы быть обязанным своим счастьем смерти другого, как бы это ни было удобно, тем более что бедный Сети ни в чем не виноват. Он только послушался приказа фараона. Он все-таки твой единокровный брат.
— Для меня он чужак, которого мне навязали. Боги не благословили этот брак, это ясно.
И Мерит рассказала своему возлюбленному то, о чем хотела промолчать, — о неудавшейся попытке Сети переспать с ней.
— Он боится тебя, Мерит. Он боится, что маленькая львица может разорвать его, и это парализует его мужскую силу.
— Я была совсем миролюбиво настроена и не показала ему ни когтей, ни зубов. Ты же меня не боишься?
Пиай крепко обнял ее и прошептал ей в ухо:
— Потому что ты моя жена добровольно и с благословения богов.
И они любили друг друга на скрипучем, жестком деревянном сундуке, и стройные бедра Мерит цвета меда обвивали тело Пиайя. Когда он нежно хотел отстраниться, она усилила нажим, и ее раскосые, темные глаза не отпускали его, как будто она желала привязать его к себе вдвое крепче.
— Я не отпущу тебя, Пиай, ты слышишь? Я не отпущу тебя, пока жива, и если умру — не отпущу. Если я прежде тебя уйду в Закатную страну, мое ка парализует колдовством твой фаллос, чтобы ты больше не мог быть ни с одной женщиной, пока не последуешь за мной в царство Озириса.
— Прекрасная перспектива, — пошутил Пиай. — Но я в два раза старше тебя, поэтому я все-таки опережу тебя.
— А ты будешь ждать меня там?
— Ты всегда будешь там передо мной. На рельефе в моей гробнице изображен цветущий сад, и мы сидим там в час вечерней прохлады у пруда с лотосами. Мы сидим напротив друг друга и смотрим друг на друга. Так должно быть, я хотел бы, чтобы так было всю вечность.
Глаза Мерит засветились, и давление ее бедер ослабело:
— Тогда я могу отпустить тебя к Озирису прежде меня. Тем не менее я позабочусь, чтобы мы и в этой жизни не расставались слишком надолго. Доверься мне.
Между Мемфисом и Оном, священным городом бога Солнца, располагался Пер-Хапи, древний город, в котором почитали бога Нила. Там имелись скромный храм, маленькая гавань и несколько пустующих зданий. Здесь ежегодно проходило празднование пробуждения Нила. В большинстве случаев культовые действа за фараона совершал верховный жрец Мемфиса, но на этот раз прибыл сам фараон, и множество людей усеяли берег.
Рамзес и Нефертари в полном церемониальном облачении возглавляли процессию, восседая на переносном двойном троне. Они сидели неподвижно, гордые и торжественные, как и полагалось по обычаю. За ними следовали боги всех египетских областей, изображения которых, как и бога Нила Хапи, несли переодетые жрецы. Впереди всех развевалось изображение Мемфиса — Белая Стена, за ним следовали в строго установленном порядке символы Нижнего и Верхнего Египта. Жрецы Хапи несли редкие символы на золотых древках: земляной вал, заяц, кремень, пасть коровы, гарпун, рыба и другие, значение и происхождение которых знали немногие высокоученые жрецы.
Жрецы, музыканты и певцы окружили фараона, который отложил свой скипетр и в молитве простер руки к реке.
Громким голосом Рамзес произносил гимн Нилу:
— Если ты поднимаешься, человечество живет. Если ты обуян жадностью, то страдает вся страна. Когда ты выходишь из берегов, страна ликует. Ты — создатель всего, что зреет. Ты приносишь питание и наполняешь шлюзы. Ты даешь добро всем сверх меры. Ты под землей, но небо и земля слушаются тебя. Ты неподвластен никому. Никто не противится тебе, тебе не поставлено никаких границ. Могучий Хапи — вечный бог!
Как только отзвучали музыка и пение, вперед выступили четыре жреца и опустили свои горящие факелы в чан с молоком — те с шипением и дымом погасли, ибо питание и разлив, символизируемые молоком, побеждают засуху и недород, символизируемые огнем факелов.
Царь вернулся к трону, взял оба скипетра и снова сел рядом с Нефертари.
Теперь подошли представители Севера и Юга с дарами. Они вели крупный рогатый скот, овец, коз на коротких поводках, несли огромные корзины с пирогами и хлебами, кувшины с молоком, пивом и вином, а также цветы и фрукты. Другие дарили Нилу украшения, благовония и амулеты бога Хапи.
В конце этой длинной процессии с жертвоприношениями шли два жреца, которые держали длинный свернутый папирус. На нем большими красивыми знаками имевшие место жертвы магически увеличивались. Два осла превращались в тысячу тысяч, десять гекатов молока или вина — в миллион. Позолоченное украшение из бронзы становилось украшением из чистого золота, а корзины с зеленью и фруктами превращались в целый ряд повозок. Никто, конечно, не хотел обмануть милосердного Хапи. Предназначенные ему жертвы преувеличивались, чтобы показать богу, как высоко его ценят и уважают. Под звуки музыки и молитвы эти дары отдали Нилу, спокойная гладь которого вскоре покрылась яблоками, батонами хлеба и цветами, в то время как кровь жертвенного скота потоком устремлялась в реку.
По знаку верховного жреца царь встал, подошел к реке и сильным взмахом швырнул в нее оба своих скипетра. Это действо сопровождал шумный хвалебный гимн, потому что вода медленно, но явно начала подниматься. Хапи принял жертвенные дары, услышал фараона и спас страну.
Ничего больше не осталось от дворца Мерит-Анта. Слуги царя выполнили всю работу. Придворных принцессы из Хатти с богатыми дарами отослали домой. Все пожалованные ей дарственные грамоты были изъяты из архивов и уничтожены. Ее имя в хрониках было стерто. Так хотел фараон, так оно и произошло.
Праздник Зед все приближался, и по приказу Благого Бога изо дня в день в Пер-Рамзес доставлялись зерно, вино, мед и сушеные фрукты, а кроме того, стада крупного рогатого скота, овец и коз, которых устраивали в наскоро сооруженных на окраине города загонах. Вся Кеми жила в ожидании этого значительного праздника, и каждый должен был сделать свое дело, чтобы, как того желал Благой Бог, торжество оказалось несравненным.
Однако Изис-Неферт не занималась этими приготовлениями. Она замкнулась в своей злости на другую, завидовала любви, столько лет соединявшей Нефертари с царем, который теперь прекратил даже визиты вежливости ко второй супруге. Изис-Неферт чувствовала себя как никогда обойденной, забытой, замалчиваемой и презираемой. Против царя она не могла и не хотела чего-либо предпринимать, но ей надо было выпустить бурливший в ней яд. Она собрала несколько своих доверенных лиц и велела им распространить слух, что весь Мемфис потешается над принцем Сети, который, вероятно, еще ничего не знает о том, что его супруга Мерит возобновила свою связь со скульптором.
Ее люди проделали все очень ловко. Они никогда явно не утверждали, лишь хихикали и шептались по углам. Мол, слышали в Мемфисе то-то и то-то, но кто ж поверит слухам. Так возникла придворная сплетня, которую, казалось, никто всерьез не воспринимал, потому что все наряду со своими обычными обязанностями были заняты приготовлениями к празднику.
Один, однако, воспринял это серьезно. Слухи вонзились ему, как стрела в сердце, высушили язык и заставили ныть его печень. Конечно, никто не сказал принцу Сети в лицо то, что касалось его супруги. Но из намеков и нашептываний сформировалась картина, которая затмила его разум и сделала его жизнь горькой. Однако фактов не было, все выглядело слишком неопределенным, чтобы можно было действовать без обиняков, грубо, по-военному. Так продолжалось, пока один все же не осмелился назвать вещи своими именами.
Молодой военачальник Нехеми высокую должность получил совсем недавно. Он происходил из старой знати, и Сети подумал сначала, что этот мальчик, как и другие молодые люди его происхождения, раз в год из носилок будет наблюдать за своими войсками, но ошибся. Нехеми делал все, чтобы соответствовать своей должности. Он ежедневно упражнялся с различным оружием, мог управлять боевой колесницей и выказал хладнокровие и умение справиться с ситуацией, когда однажды лошади понесли. Сети начал ценить молодого аристократа, а тот смотрел на принца, как на совершенный образец. Со временем они начали выпивать по кувшину вина вместе, и тут проявилась слабость юного Нехеми. Он пил нечасто, но уж если он начинал, непременно напивался.
В тот вечер они уже почти наполовину опустошили второй кувшин, когда Нехеми сказал, едва ворочая языком:
— Принц Сети, ты должен разобраться со сплетнями, так дальше не пойдет. Скажу тебе прямо, я начинаю стыдиться за тебя.
Сети нахмурился и хотел сказать что-то, однако Нехеми схватил его за руку:
— Дай мне договорить до конца! Я знаю, что нелегко быть женатым на дочери Солнца, руки у тебя связаны. И, тем не менее, призови жену к ответу! Обратись к своему отцу, да будет он жив, здрав и могуч, предприми что-нибудь. В глазах воинов ты представляешь дурнем, который не замечает или не хочет замечать, что жена обманывает его в Мемфисе. Гуляет с ремесленником! С бывшим рабом! Уже сплетничают, что Неферури не твой ребенок. Серые глаза в Египте редки, а у того ремесленника глаза, говорят, серые. Некоторые предполагают даже, что ты намеренно остался здесь, чтобы не замечать того, что происходило в Мемфисе. Тебя подозревают в трусости, Сети!
Пока Нехеми говорил, принц опустошал один кубок за другим. Он мрачно смотрел на друга, но не пытался прервать его. Нехеми закончил, а Сети все молчал.
— Ну? — нетерпеливо воскликнул молодой человек.
— Что «ну»? Я должен перекинуть Мерит через колено, и наподдать ей, как нашкодившему школяру? Или наябедничать на нее фараону, как придворный интриган? Что касается глаз моей дочери, они от моей матери, которая была с севера. Могу тебя заверить, что я зачал ребенка с Мерит в нашу свадебную ночь. Но теперь я знаю, что мне делать. Другому на этом свете не место. Пока он жив, мне не будет покоя. Он должен исчезнуть с лица земли! И я сделаю это сам, без помощи царя, который сейчас думает лишь о своем празднике Зед. Я буду действовать сам, Нехеми, и за это я должен благодарить тебя. Ты поговорил со мной напрямую, как и должно быть между друзьями. А теперь, мой друг, опустошим третий кувшин, а если будет нужно, то и четвертый.
Подобное предложение Нехеми не отверг, и оба пили до тех пор, пока смогли лишь что-то, заикаясь, бормотать и, ухмыляясь, пялиться друг на друга.
Пиай едва осмеливался признаться самому себе, что был рад, когда царская семья отбыла в Пер-Рамзес. Ему не хватало Мерит, ему очень не хватало Мерит, но одновременно он наслаждался безопасным, уютным сегодняшним днем. Он все еще работал каждый четвертый день в своей гробнице, но теперь радовался также своей маленькой семье и с любовью наблюдал, как подрастает маленький Ирамун.
Страх Такки перед неопределенной опасностью также улегся. Она снова была беременна и надеялась, что у нее родится дочь.
В тот день она сидела в саду и следила, как бы Ирамун не упал в пруд с лотосами, когда ей доложили о посетителях. Два вооруженных человека стояли в дверях и спрашивали скульптора Пиайя. Они сказали, что прибыли по поручению храма.
Такка удивилась:
— Но ведь там знают, что мастер Пиай работает сегодня в своей гробнице.
Оба заверили ее, что, конечно же, тоже знают это, но у них срочная новость, и они хотели бы, чтобы им объяснили самый короткий путь к гробнице. Такка описала им место так хорошо, как могла. Оба торопливо поблагодарили ее и исчезли. Такка посмотрела им вслед и увидела на некотором отдалении еще несколько вооруженных людей на лошадях и боевой колеснице.
«Должно быть, что-то очень срочное. — Она почувствовала легкое беспокойство, но тут же отогнала недобрые мысли. — Глупая коза! Пиай — важный человек, и сегодня вечером он тебе все расскажет».
Пиай уже закончил все плоские рельефы в своей гробнице и собирался оживить их прекрасными нежными красками. Хотя у него было мало опыта как у художника, работа продвигалась легко. Чтобы набить руку на технике, которой занимался много лет назад, он начал с менее важных картин в кладовой с запасами и увидел, что дело идет хорошо. Мастер задумчиво взял черную краску и вошел в главное помещение, где недавно поставили два саркофага — один для него, другой для Такки. Там он нанес черную краску везде, где она была необходима: на парики богов и людей, а также на лик Анубиса с головой шакала.
Окрасив в черный цвет парик Мерит, он почувствовал желание раскрасить всю ее фигуру. Он смешал нежную светлую охру и осторожными штрихами покрыл ее лицо, руки и ноги. Губы он сделал светло-красными, красным цветом он покрыл и узкий пояс, который перехватил ее платье над бедрами. Краски в жарком пустынном воздухе быстро высохли, и Пиай смог нанести белую краску на платье, включая рукава, прикрывавшие плечи и верхнюю часть рук, причем прозрачная охра обнаженной кожи нежно просвечивала через белую краску.
Спустя некоторое время он прервал работу и вышел на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Ра уже клонился к западу, и высокий человек, стоявший у помоста, отбрасывал длинную тень. Пиай заморгал от яркого солнечного света и дружелюбно спросил:
— Ты ищешь стражника у гробниц?
— Нет, — ответил тот. — Я ищу тебя. Ты ведь скульптор Пиай?
— Да, это я. А кто ты?
— Я принц Сети, супруг дочери царя Мерит-Амон.
Пиай стоял как вкопанный. Голос собеседника звучал спокойно и безразлично, и тем не менее от него исходила угроза, как будто он требовал правосудия. Высокая фигура принца решительно двинулась к нему, и Пиай вынужден был отступать шаг за шагом, пока они не встали перед гробницей.
— Мне можно войти в твое Вечное Жилище, Пиай?
Тот только молча кивнул и отошел в сторону. Пиайю казалось, что Благой Бог собственной персоной пришел, чтобы призвать его к ответу. Однако, на взгляд скульптора, при всем подобии фигур отца и сына лицо принца Сети имело весьма поверхностное сходство с ликом царя. Отсутствовало естественное очарование Благого Бога. Это было только грубое отражение, глуповато-гордое лицо воина, высокомерное и пустое.
— Я хотел бы кое-что спросить у тебя, Пиай. Ходят слухи, что ты сделал то, что полагается делать лишь одному мне, то, что по законам нашей страны является кощунством, преступлением, достойным смерти, — совершил прелюбодеяние с моей супругой, дочерью Солнца Мерит-Амон.
Пиай стоял перед своим саркофагом, отступать дальше было некуда.
Сети ступил на один шаг ближе.
— Ты понял мой вопрос, Пиай?
— Почему ты не спросишь об этом свою супругу?
Пиай знал теперь, что смерть стоит перед ним, и странное спокойствие наполнило его.
— Что хочешь сделать ты против решения богов, принц Сети? Баст предназначила нас друг другу — кто может сопротивляться этому? Ты? Я? Фараон? Что можем мы сделать против вечных богов?
— Так это правда? Ты признаешься?
Сети нащупал булаву у пояса, безмерный гнев исказил его лицо. Он посмотрел Пиайю в глаза — и узнал глаза своей дочери. Тяжело дыша, он выдавил:
— Ты сделал меня посмешищем в глазах моих людей, и теперь… теперь я знаю, что Неферури… что моя… моя дочь… — Сети задохнулся от безумной ярости, охватившей его. Он отступил на шаг, поднял булаву и стал похож на царя, каким его изображали на пилонах храма, когда он убивал своих врагов. Серые глаза Пиайя глядели бесстрашно и гордо.
— Ударь, Сети. Делай то, что должен, но этим ты ничего не изменишь. Мерит никогда не была твоей, а вечно и навсегда была и останется только моей супругой, моей возлюбленной. Это я лежал с ней, как Могучий Бык, я, Сети, я! Я зачал с ней ребенка, я…
После этих слов Пиай отошел в сторону и повернулся к изображению Мерит. Вот они сидят друг напротив друга. Мерит в своем воздушном белом платье с цветком лотоса в волосах и еще не раскрашенным ожерельем казалась такой свежей и такой живой по сравнению с Пиайем, который на своем изящном, но бесцветном плоском рельефе походил скорее на набросок.
«До меня самого у меня никогда не дойдут руки, — подумал Пиай. — Она должна будет вечно остаться с моей тенью, но это ничего, зато она излучает жизнь, моя любимая. Моя…»
— Обернись! — приказал Сети.
Пиай молчал, его взгляд был прикован к любимой, и он знал, что жизнь у него была хорошей и что часы и дни, которые он провел с ней, многократно перевешивают презренный страх смерти, которого мастер не испытывал сейчас. Что с того, что Сети пришел как мститель и сейчас стоит позади него.
— Обернись! — проревел Сети второй раз. — Или я ударю тебя сзади.
Его громкий голос заполнил всю маленькую погребальную камеру, но для Пиайя это был только отдаленный звук из другого мира, который скульптор уже покинул.
— Ты сейчас боишься, ты, жалкий трус! — издевался Сети. — Ты не осмеливаешься посмотреть мне в глаза, боишься справедливого наказания…
Внезапно Пиай обернулся:
— Прекрати болтать! Ударь в конце концов, но этим ты ничего не изменишь. Мерит — моя жена и останется ею на все времена, а Неферури — мой ребенок и…
Тут принц Сети поднял свою тяжелую булаву и ударил спокойно стоявшего перед ним Пиайя в лоб. Серые глаза при этом смотрели на него, не отрываясь, и они не моргнули даже тогда, когда головы его коснулась булава.
Люди Сети задержали стража гробниц, развлекая его всевозможными шутками. Высокий господин хочет здесь немного осмотреться без помех, и это, конечно же, долго не продлится, заверили стража. Когда Сети появился снова, они все исчезли, как привидения, и страж гробниц, покачав головой, — что здесь смотреть? — продолжил свой обход. Перед гробницей Пиайя стоял осел и чесался, как будто изнывал от жажды.
Может быть, скульптор в своем усердии забыл напоить и накормить животное? Страж спустился и увидел, что дверь закрыта. Это показалось ему странным, потому что он знал, что мастер работает до последнего солнечного луча и всегда оставляет дверь открытой. Он постучался, крикнул:
— Мастер Пиай!
Постучался сильнее, но внутри ничего не шелохнулось. Страж гробниц налег на дверь, и она тотчас поддалась. Он еще раз позвал Пиайя, затем решительно пошел к погребальной камере. Там он нашел мастера лежащим рядом с саркофагом. Его серые глаза были широко открыты, в них отражался красно-золотой блеск Ра, который уже готовился к своему ночному путешествию. Страж опустился на колени и коснулся руки Пиайя. Сделал он это только по долгу службы, потому что с первого взгляда понял, что перед ним мертвый. В середине лба у мастера запеклась кровь, и страж принял бы это за несчастный случай, если бы не странный визит, если бы воины не задержали его на некоторое время. Он вышел, закрыл дверь, покормил и напоил осла запасами, которые нашел у входа, и пошел к своему домику, стоявшему у подножия холма; с которого вся долина с гробницами была как на ладони. Он все еще не мог поверить, что этот спокойный, дружелюбный человек, совавший ему время от времени медные дебы, имел врага, который хотел отнять у него жизнь. Тем не менее так оно и было. Страж гробниц знал о Пиае только то, что он служит в храме Пта в Мемфисе. Туда он и отправил весть о смерти мастера через случайно проходившего мимо охотника.
Верховный жрец Хамвезе тотчас выслал отряд людей, велел отнести труп Пиайя к «ставящим печать бога» и пожелал поговорить со стражем гробниц.
Смущенного и дрожащего стража нужно было сначала успокоить. Никто не подозревал его, и ему очень обязаны за то, что он так быстро передал весть о смерти мастера Пиайя. Хамвезе спросил его:
— Ты видел вблизи человека, люди которого тебя задержали?
— Нет, господин, я видел его только издалека, когда он внезапно появился. Его люди собрались вокруг него, и они все тотчас исчезли. Они скакали на лошадях, и с ними была боевая колесница.
— Хорошо, ты видел предводителя вооруженных людей только издалека. Тем не менее тебе бросилось в глаза что-нибудь особенное?
Страж гробниц усердно кивнул:
— Да, господин. Он был необычайно высок. Мастер Пиай был тоже довольно высок, но этот человек, кажется, еще выше.
«Сети, — подумал Хамвезе. — Это мог быть только Сети».
Внезапно ему стало жаль, что он добился помилования Пиайя. Если бы тот остался на Юге, то был бы жив.
— Ты хорошо сделал свое дело, мой друг. Писец передаст тебе половину золотого деба. Я же прошу тебя держать рот на замке. Кто бы ни спросил тебя о случившемся, отвечай, что тебя задержали незнакомцы, ты ничего не слышал, ничего и никого не видел, в том числе не видел и необыкновенно высокого мужчину. Ты видел какого-то человека издалека, такого же, как и все остальные. С мастером Пиайем, видимо, произошел несчастный случай: он споткнулся и ударился головой о свой саркофаг. Ты все понял?
— Да, господин, клянусь жизнью.
Такка получила известие, что с ее мужем произошел несчастный случай, и у нее никогда не было основания думать что-либо другое. Маленькая черная нубийка, казалась, совсем погрузилась в свое горе, тем не менее, в жалобных восклицаниях вдовы, сопровождавшей мумию Озириса-Пиайя в последний путь, слышались нотки гордости. Гордости, потому что она была его женой, гордости, потому что верховный жрец Хамвезе собственной персоной вел траурную процессию. Фараону, однако, решил верховный жрец, лучше сообщить о смерти Пиайя после праздника Зед, потому что никакая тень не должна омрачать столь редкое и значительное торжество. Хамвезе не учел только одного: за один месяц до праздника царь выразил желание пригласить Пиайя, прощенного им на все времена Единственного друга. Как и все его старые друзья, тот должен был принять участие в празднике, и на это время ему разрешалось приехать в Пер-Рамзес. Хамвезе мгновенно все обдумал. Если он скажет, что Пиай заболел, фараон, пожалуй, захочет послать к нему пару придворных лекарей, если же верховный жрец объявит, что тот в отъезде по делам храма, за ним велят послать. И в обоих случаях окажется, что Хамвезе лжец. Верховный жрец решился:
— Я должен сообщить тебе, уважаемый отец, то, о чем мне хотелось бы умолчать, чтобы не омрачать предстоящего празднества. С ним случился несчастный случай во время работы в собственной гробнице. Он мертв и похоронен со всеми почестями, и у меня болит печень, потому что я должен сказать тебе об этом.
Когда потрясение от столь скорбной вести прошло, фараон сказал грустно:
— Ну, вот смерть и нашла тебя, друг Пиай, и на этот раз никакая ошибка не оживит тебя, как тогда в Суенете. Он действительно стал Озирисом, Хамвезе, ты это сам видел?
— Мои люди наблюдали за бальзамированием, и я сам провел церемонию открытия рта. Его вдова будет получать от храма половину его жалованья, пока будет жива, о сыне мастера я тоже позабочусь. Такка снова беременна, и я сделаю все, чтобы она и дети никогда не знали нужды.
— Ты сделал то, что было правильным и необходимым. То, что ты не хотел огорчать меня перед праздником, тебе прощено. Но как с Пиайем, таким опытным ремесленником, мог случиться несчастный случай в гробнице?
— Он, должно быть, поскользнулся, когда рисовал. Может быть, это был приступ слабости. Он стукнулся головой о каменный саркофаг с такой силой, что разбил себе правый висок.
— Тем не менее, это прекрасная смерть. Он умер на работе, которая значила для него так много. Он умер как свободный человек, обладая моей дружбой, и его ка получило причитавшееся ему место покоя. Для бывшего раба было бы нескромным требовать от богов большего.
— Только одному можно ожидать от них большего — тебе, Богоподобный.
— Я — Благой Бог, и мне полагается то, что не полагается никому другому, — ответил Рамзес со спокойным убеждением.
Хамвезе, однако, не подумал о том, как быстро эта новость достигнет Мерит. В тот же вечер о ней узнала Нефертари, а от нее и старшая дочь.
— С Пиайем… произошел несчастный случай? В его собственной гробнице? Этого не может быть… Нет, нет…
Ничего не понимающая Мерит опустилась на стул. Нефертари подавила приступ изнурительного кашля и погладила дочь по руке:
— Он уже лежит в своем Доме Вечности. Хамвезе все устроил. Он хотел умолчать о несчастном случае, пока не пройдет праздник Зед. Когда фараон сказал о том, что он собирается пригласить Пиайя, Хамвезе вынужден был ему все рассказать.
Без слез, неподвижная, Мерит сидела на стуле. Она чувствовала, что все рухнуло, и не удовольствовалась версией несчастного случая.
— Есть ли свидетели его смерти?
— Нет, я полагаю, нет. Вероятно, страж гробниц обнаружил его во время обхода.
Мерит начала свое расследование. Она действовала упорно и ожесточенно. Когда ее люди спросили стража гробниц, тот ответил только то, что ему велел Хамвезе. Однако Мерит это не удовлетворило. Она велела позвать Сети и попросила смущенного Парахотепа укрыться в соседней комнате, чтобы быть свидетелем ее беседы с мужем.
Она приняла своего супруга стоя, не приветствовала его и бросила ему прямо в лицо:
— Ты убил Пиайя! Почему? Что он тебе сделал? Чем ты можешь оправдаться?
Сети был так поражен, что даже не стал лгать, а тотчас начал с обвинений:
— Из-за этого человека мне невозможно было показаться перед своими людьми! А уж когда я узнал, что Неферури, должно быть, не мой ребенок, я призвал его к ответу там, в его гробнице. Он не только во всем признался, он еще и высмеивал меня! Меня, принца Сети! И тогда я, тогда я…
— Тогда ты убил безоружного, ты, «храбрый воин»! Убирайся с моих глаз немедленно. Я не хочу тебя больше видеть ни в этой, ни в следующей жизни.
Она обернулась и пошла в соседнюю комнату, где ее ждал Парахотеп.
— Ты сможешь это подтвердить, главный советник?
— Само собой разумеется, принцесса. Я слышал каждое слово и все понял, но я хотел бы все же попросить тебя…
— Нет, — твердо сказала Мерит. — Ничего не требуй, ничего не проси! Мое сердце разрывается от горя и гнева, и я должна обдумать, что теперь делать. Это решение я приму одна. Благодарю тебя.
Мерит не теряла времени. При первой же возможности она потребовала аудиенции своего чрезвычайно занятого отца.
Фараон принял ее в приподнятом настроении:
— Еще семнадцать дней, дочь моя, и праздник Зед Благого Бога Рамзеса потрясет всю страну. Я даже не могу поверить в то, что уже тридцать лет сижу на троне Гора. Мне кажется, я только вчера познакомился с твоей матерью. Я вижу еще, как она сидит за столом напротив меня вместе с моими родителями…
— Я должна обсудить с тобой нечто очень серьезное, отец, и прошу простить, что вырываю тебя из твоих прекрасных воспоминаний. Ты знаешь, что Пиай мертв. По слухам, в его гробнице произошел несчастный случай, но это неправда. Его убил Сети. Сети, твое жалкое подобие…
Царь нахмурился:
— Я об этом ничего не знаю. Это ведь только предположение? Я знаю, ты ненавидишь своего супруга…
— Нет, отец. К сожалению, это не предположение. Сети сам признался в этом. Свидетель тому — твой главный советник.
Теперь Рамзес выглядел совсем растерянным.
— Ну и что же?.. Что я должен?..
— Отец, я вынуждена кое о чем попросить тебя. Ты неохотно признаешь мою правоту, но я полагаю, что другой возможности нет. Мы должны все принять участие в празднике Зед, вся твоя семья. Но я не смогу присутствовать на нем, если Сети не уберется из Пер-Рамзеса. Он убил Пиайя, его руки в крови. Его участие осквернит торжество и прогневит богиню Маат. Я не хочу ставить тебе никаких условий, отец, но я не могу по-другому: или он, или я.
Рамзес задумался:
— Почему он это сделал?
— Почему? С досады, потому что он больше не может спать со мной. Да, отец, я открыла ему свои покои, пригласила его осуществить права супруга ради мира в семье. Однако Могучий Бык оказался всего лишь ослом и обиженный утопал. Поэтому Пиай должен был умереть, тот, кто был настоящим…
Она хотела сказать «мужчиной», но вовремя остановилась, чтобы не разгневать фараона. Однако Рамзес едва слушал. В нем разгорелся гнев против этого вечного нарушителя покоя, который мог испортить ему празднование Зед. Мерит права! Ни один человек с обагренными кровью руками не может принять участие в священном празднике обновления.
Рамзес расспросил Парахотепа, нашел, что все подтверждается, дальше действовал быстро и решительно:
— Я не хочу больше никогда видеть этого человека, он меня слишком разочаровал. Поехать и убить моего лучшего скульптора из-за каких-то сплетен! Сети должен убраться прочь с моих глаз. Ты знаешь, Парахотеп, что я не так давно приказал строить корабль, думая о Монту, но его смерть нарушила мои планы. Итак, пусть теперь принц Сети возглавит египетское посольство на острове Кефтиу. Снабди его всем, что ему будет нужно. Если он когда-либо вернется, может быть, я и приму его. Кроме того, я расторгну его брак с Мерит. Из них никогда не получится пары, боги не создали их друг для друга. Теперь я это знаю. А значит, я лишь выполняю волю богов.
— Да будет все так, как ты желаешь, Богоподобный. Должен ли принц Сети еще принять участие в празднике?
Рамзес вскочил:
— Нет, Парахотеп, не должен! У человека кровь на руках, это навлекло бы на нас гнев богов. Он должен убраться как можно быстрее.
Принцесса Мерит могла быть довольна, потому что фараон в своем гневе совсем забыл спросить ее о причине гнева Сети, а у того больше не было случая оправдаться.
17
Великий день наступил. С башен города, с крыш и пилонов храмов светлые звуки фанфар возвестили народу Пер-Рамзеса о том, что сегодня состоится празднество Зед Благого Бога.
День в дворцовом квартале начался с сооружения маленькой деревянной часовни и двух тронов, которые стояли спинками друг к другу. При этом разгребли землю, чтобы показать, что эти троны твердо и непоколебимо стоят в земле Кеми. После этого празднично одетые жрецы привели и принесли жертвенные дары: крупный рогатый скот, коз, овец, уток, гусей, голубей. Были отобраны по паре самых красивых животных. Другие жрецы несли длинные золотые шесты, на которых в утреннем солнце сияли символы всех египетских богов. Однако церемонию Гора возглавляли не могущественный Амон и не великий Пта, а Упваут — божественная собака, шедшая впереди каждой большой процессии богов.
Египетские боги были изображены в облике животных или же как символы. Так, бог Хон появился в образе серебряного полумесяца, Гор — в обличье сокола, Тот — в виде ибиса, Сет — как загадочное животное с головой борзой, длинным кривым хвостом, коварно блестевшими глазами и подрезанными уголками ушей. Но Пта, старый бог-создатель и повелитель Мемфиса, для которого не было животного символа, стоял подобный человеку, прямо и неподвижно, в своем тесно облегающем одеянии и опирался на скипетр.
На краю большого двора на сооруженных возвышениях сидела царская семья и наблюдала за действом. Кроме принца Сети собрались все: Нефертари со своими детьми, наследный принц Енам, Изис-Неферт с Меренптой и хорошенькой Бент-Анта, а также Мерит-Амон с маленькой Неферури.
Расторжение брака и наказание Сети не могли унять ее боль. Она все думала о гробнице на западе от Мемфиса, где ее любимый теперь покоился в образе Озириса и вел потустороннюю таинственную жизнь, которая, по словам жрецов, не очень отличалась от земной жизни и все же была такой непредставимо другой. Мерит начала тосковать по этой другой жизни, она хотела сидеть в виде бессмертной птицы ба с цветным оперением рядом с ним в вечно сияющем свете Ра и наслаждаться потусторонними радостями. С неподвижным лицом, замкнувшись в своей боли, погрузившись в свою печаль, она следила за приготовлениями к церемонии, в то время как царь в глубине дворца переживал свое второе рождение.
Оба верховных жреца Пта и Амона раздели Рамзеса до узкого передника и коснулись маленькой золотой булавой его головы и кинжалом — сердца. Теперь старый царь был мертв, и они положили его на узкий стол для бальзамирования. Переодетый Анубисом жрец подошел, вытащил древний каменный нож и сделал вид, как будто он вскрывает тело царя.
Рамзес лежал с закрытыми глазами, совершенно погрузившись в себя. Он находился сейчас в промежуточном состоянии, был ни жив ни мертв и ожидал своего возрождения. Фараона оживил его сын Хамвезе, верховный жрец Пта. Он коснулся золотым в руку величиной знаком Анк тела и лица фараона, произнес несколько магических слов и приказал:
— Открой глаза, юный царь на троне Гора, Пта создал тебя вновь. Амон вселил душу в твое тело. Теперь выходи в золотом блеске Ра, вступи на оба твоих трона, принеси жертвы богам, сооруди колонну Дьед, натяни лук, покажи свою новую силу в беге, дай счастливому народу страны Кеми ликовать при виде тебя.
Жрец Амона тем временем достал из сундука, украшенного головой льва, одеяние для праздника Зед — простую до колен накидку без рукав. Одетый таким образом Рамзес вышел на свет, и тотчас процессия богов пришла в движение. Каждый жрец склонял изображение бога перед фараоном. Рамзес стоял в своей странной короткой накидке без венца, без скипетров, безо всяких украшений. Тем не менее он выглядел так величественно и истинно по-царски и превосходил статью и величием любого из празднично одетых жрецов.
Когда эскорт Гора снова удалился, наследный принц Енам протянул своему отцу могучий лук. Царь взял его, положил стрелу и натянул тетиву так сильно, что кое-кто забеспокоился не разломается ли лук. Царь целился на север, где находились враждебные чужие земли, и стрела с жужжанием взлетела в синеву неба так высоко, что ее потеряли из виду. Хор певцов начал исполнять гимн силе непобедимого царя, перед которым враги падают, как колосья под взмахами серпа, который растоптал жалкий Куш и подлую Хатти.
Медленная церемония богов длилась уже несколько часов, и Ладья Ра уже высоко стояла в небе. Теперь необходимо было соорудить в честь бога Птаха колонну Дьед. Это была пестро разрисованная деревянная свая, сверху которой было сделано четыре засечки. Она была снабжена глубокими желобками. Эта колонна символизировала продолжительность, и это распространялось на все области бытия: было связано с продолжающим возвращаться из года в год разливом Нила, а также с продолжительностью царства и всех других божественных устроений, которые обеспечивают счастье и жизнь человека.
Свая лежала на земле и была обвязана ремнем, конец которого царь взял в руку. Два сильных жреца подпирали сваю с двух сторон, чтобы она не могла опрокинуться, и царь сильными и быстрыми движениями поднял ее.
Рамзес отошел назад, склонился перед колонной Дьед и начал культовый бег вокруг капеллы Зед. Он бежал быстро, как юноша, его сильная высокая фигура пролетела мимо носилок с его супругами, и даже угрюмая Изис-Неферт не могла скрыть восхищения. Только принц Мерире был печален, потому что из-за полученных травм никогда больше не сможет бежать. «Но я же не буду царем», — подумал он смиренно.
Теперь приближалась самая значительная часть церемонии, когда омолодившийся царь принимал во владения Обе Страны. Для этого Рамзес занял место на троне в маленьком павильоне, и верховный жрец Птаха передал ему красный венец Нижнего Египта. Царь надел его, и символы богов Страны Пчел проплыли мимо него, воздавая хвалу владыке. Затем фараон поднялся и сел с другой стороны двойного трона. Теперь он получил белый венец Верхнего Египта, и боги Страны Тростника воздали ему хвалу. При этом вывели жертвенных животных, и тотчас после этого отвели их на бойню.
Рамзес почувствовал, как волшебство праздника Зед начало действовать на него. Новая сила струилась к нему со всех сторон. Он ощущал, как боги благоволят ему, признают его своим и даруют ему — он в этом сейчас был твердо убежден — бессмертие на все времена.
Согласно старым обычаям в конце церемонии царь выступал как победоносный воин. При этом несколько пленников, которые проходили мимо него, изображали подчинившиеся ему народы.
Царь встал, взял булаву и искривленный меч и сменил двойной венец на сине-золотой шлем воина. Потом к нему подвели связанных «врагов». В действительности это были мирные выходцы из соседних земель, давно жившие в Кеми. Их одели в платье из их родных стран, чтобы они выглядели по-настоящему чужеземцами. Эти люди падали ниц перед победоносным фараоном, в то время как слуги клали к подножию трона символы стран-данников.
Итак, все традиции были соблюдены, и день окончился большим пиром, на который пригласили высших сановников и благородные семьи из Мемфиса и Пер-Рамзеса.
В третий день после праздника, так объявил через глашатаев Благой Бог, он покажется народу как обновленный божественной волей царь.
Состояние Нефертари снова ухудшилось, теперь она кашляла с кровью, и лекари настойчиво советовали ей некоторое время вдыхать жаркий и сухой воздух пустыни. Однако она хотела и должна были присутствовать на празднике Зед, даже если бы это стоило ей жизни. Хотя все празднество крутилось вокруг одного царя, она не желала разочаровать Рамзеса и поэтому несколько раз в день вдыхала пар лечебных трав, что на короткое время приносило ей облегчение.
Изис-Неферт смотрела на это с удовлетворением. Болезнь Нефертари была серьезной, это не вызывало сомнений, и у второй супруги вновь появилась надежда. Однако, когда на третий день после празднества Зед Рамзес показался народу Пер-Рамзеса, она снова была сильно разочарована: фараон плыл над головами громко ликующей толпы на двойном троне вместе с Нефертари, в то время как она и ее дети находились в носилках позади Благого Бога. У Изис-Неферт создалось впечатление, что никто из толпы не обращает на нее внимания, как будто она жалкая наложница из самого темного угла гарема.
Нефертари с большим трудом держалась прямо. Она стала такой слабой, что не знала, как переживет день. Для нее праздник Зед не означал обновления. Она полагала, что омолодившийся фараон должен взять в супруги совсем юную женщину.
Посольство короля Хаттусили ожидали к празднику Зед, но оно опоздало. Король Хатту объявил, что хочет укрепить дружеские узы с фараоном еще одним браком и ради этого, хотя и с тяжелым сердцем, готов расстаться с самой умной и очаровательной из своих дочерей.
«Вот он и получит новую супругу, — подумала Нефертари, — а я отправлюсь в свой прекрасный Дом Вечности под Фивами». Она думала об этом совсем без горечи, потому что чувствовала, что ее жизненная сила иссякает. Хотя врачи и заверяли ее, что воздух пустыни исцелит ее, Нефертари лучше знала, что ее ждет. Как издалека, она воспринимала ликующие крики толпы, и снова у нее было ощущение, будто они предназначены не ей, маленькой Инет из Абидоса, а той, которая носит хохолок ястреба, что все тяжелее давит ей на голову…
Царица-мать Туя сразу же после праздника Зед покинула столицу. Она не могла выдержать долгой разлуки со своим имением.
Мерит также не хотела оставаться при царском дворе и спросила Тую, примет ли она ее с малышкой на некоторое время.
Старое, широкоскулое, несколько крестьянское лицо оживилось:
— Конечно, Мерит, ты же знаешь, как я тебя люблю! Из дочерей ты более всех походишь на царя. Оставайся сколько захочешь. Да и Неферури будет полезно познакомиться с сельской жизнью.
Никто не мог и не хотел удержать Мерит. Ее печаль была слишком явной, поэтому отец пошел навстречу ее желаниям.
Да, это был действительно несравненный праздник, от которого ожидали, что он останется в памяти нескольких поколений. Счастье царя было бы полным, если бы придворные лекари осторожно не указали ему на плохое состояние здоровья его первой Супруги.
— Воздух пустыни должен сделать ее здоровой? Прекрасно, потому что жрецы из Фив постоянно просят меня устроить нечто вроде продолжения праздника на Юге. Нефертари может одновременно осмотреть свой роскошный
Дом Вечности, о котором Хамвезе сказал мне, что более прекрасной гробницы он не видел. Воздух Юга такой жаркий и сухой, что подействует на Нефертари благотворно.
Рамзес говорил это скорее себе, чем лекарю. Он очень беспокоился о Нефертари и при первой же возможности отправился в Фивы.
Мерит быстро прижилась в имении. С тех пор как Пиай ушел в Закатную страну, она могла видеть только самых близких. Вечная толкотня придворных приводила ее в неописуемую ярость. Все ей казалось неважным и незначительным, когда она думала о том, что любимый заперт в своей гробнице, и его ка и ба находятся в другом, для нее сейчас недоступном мире. При первой же возможности она хотела разыскать Вечное Жилище Пиайя, чтобы там побеседовать с любимым. Она чувствовала себя еще не готовой к этому, хотела немного отойти от боли и подождать, пока возрастет ее надежда однажды вступить в мир Пиайя, встретиться с ним и найти в бесстрашных серых глазах саму себя, как в зеркале.
Эпилог
Фараону Узер-Маат-Ра-Сетеп-Ен-Ра-Мери-Амон-Рамзесу, Благому Богу, сыну Солнца и повелителю Обеих Стран, суждено было проводить в Страну заката большую часть своей семьи. Он, бессмертный, воспринимал сообщения о смерти с безразличием бога, за одним-единственным исключением.
Спустя двенадцать дней после большого праздника Рамзес вместе с Нефертари поехал в Фивы, и там, во дворце у храма Мертвых своего супруга, царица могла вдыхать горячий сухой воздух пустыни. Ее состояние несколько улучшилось, кашляла она редко, но тело ее оставалось слабым, и ей становилось со дня на день все тяжелее вставать с постели. Несмотря на это, она оставалась веселой и спокойной, встречала Рамзеса с неизменной улыбкой, и он видел, как ямочки танцуют на ее щеках, и любил ее, как в первые дни их брака. Втайне он велел отправить местным богам целые повозки с жертвенными дарами, чтобы вымолить здоровье для своей Прекраснейшей, однако Нефертари угасала. Вскоре она уже не могла вставать с постели, и Рамзес велел поставить свое ложе рядом с ее. Однажды утром его разбудил тихий вскрик. Он встал и озабоченно спросил:
— Не позвать ли лекаря?
— Мне не нужен лекарь, — ответила она слабым голосом, — мне нужен только ты.
Рамзес скользнул в постель Нефертари и обнял ее. Ее лицо выглядело на рассвете совсем бледным. Ее дыхание стало тяжелым и беспокойным, и Рамзес попытался передать ей часть своей жизненной силы.
— С тобой было прекрасно, любимый. Сейчас я отдаю тебе твое сердце… твое сердце…
Так Нефертари умерла в объятиях своего супруга, и Рамзес сказал тихо:
— Ты не должна мне отдавать мое сердце, ты возьмешь его с собой.
После того как Великая Царская Супруга переехала в свой роскошный Дом Вечности, царь вернулся в Пер-Рамзес.
Вскоре после этого умерла старая царица-мать Туя. За несколько дней до смерти она передала свое имение Мерит и ее дочери.
Дочь царя Хатти прибыла с опозданием. Она была умной, доброжелательной, но довольно робкой девушкой, которая заранее выучила египетский и отлично играла на арфе и флейте. Рамзес взял ее в жены и дал ей имя Маа-Неферу-Ра.
Теперь царь каждый третий год праздновал Зед, и каждый раз членов его семьи, наблюдающих церемонию, становилось все меньше. Наследный принц Енам, Изис-Неферт, оба сына Нефертари — все умерли в последующие годы. Теперь наследным принцем был Хамвезе, единственный, не имевший желания наследовать трон отца. Казалось, Изис-Неферт уже в могиле одержала триумф, но в конце концов и Хамвезе переехал в Вечное Жилище рядом с гробницами быков Аписов. Наследным принцем стал Меренпта, последний из сыновей Изис-Неферт, не унаследовавший ее высокомерия и тщеславия. Его сестра Бент-Анта выросла в красивую веселую девушку, и Рамзес, долго не раздумывая, сделал ее своей супругой. Было необычно, что фараон женится на своей собственной дочери, но Благой Бог стоял выше законов, и никто не нашел в этом ничего предосудительного.
Сети, разведенный со своей супругой и высланный из Пер-Рамзеса принц, выполнил приказ фараона. Он наблюдал за строительством корабля, нанял опытных моряков и в летнее время взял курс на Кефтиу. Он прибыл туда как посланник фараона и попросил через переводчика доложить царю о своем прибытии.
— Какому царю? — спросили его.
И вскоре египтяне увидели, что остров раздираем братоубийственной войной. Представители местной знати заперлись в укрепленных крепостях, и по меньшей мере трое из них называли себя законными владыками Кефтиу.
Принц Сети, египетский посланник, вел переговоры то с одним, то с другим, и каждый из самозванных царьков пытался получить через него поддержку от Кеми, чтобы окончательно победить соперников. Вся страна лежала в руинах, земледельцы голодали и разорялись, потому что у них отнимали скот и сжигали зерно.
Сам того не подозревая, Сети поссорился с двумя местными вельможами, каждый из которых считал, что другой привлек посланника и вместе с тем египетскую помощь на свою сторону. Так, принц Сети, сын, так похожий на своего отца, однажды ночью был убит в своей постели, а его люди окончили жизнь рабами. В Кеми об этом ничего не узнали. Сети быстро забыли, и только воины иногда вспоминали о своем любимом военачальнике.
После смерти Нефертари Рамзес хотел побудить свою старшую дочь Мерит снова вернуться ко двору. Однако она теперь управляла имением бабушки, не хотела больше видеть людей и жила только своими воспоминаниями. Поэтому она ответила на просьбу отца отказом.
Рамзес хотел предпринять еще что-либо, чтобы сделать ей приятное, и пожаловал дочери титул царицы. Мерит поблагодарила его, довольно сдержанно приняла корону с уреем во время одного из праздников Зед и с тех пор до конца жизни избегала появляться в Пер-Рамзесе. Главным содержанием ее жизни стали поездки к гробнице Пиайя, которые она предпринимала два раза в год: одну в день его смерти, а другую в день праздника поминовения усопших, когда жители Мемфиса посещали гробницы, кропили Дома Вечности вином и молоком и устраивали перед открытыми входами веселые праздники, в которых, как они думали, принимают участие ка милых их сердцу умерших.
При помощи своего единокровного брата, верховного жреца Хамвезе, Мерит велела устроить свою собственную гробницу непосредственно рядом с гробницей Пиайя. Обе погребальные камеры примыкали друг к другу, и Мерит велела их связать узкой шахтой, чтобы ее и его ба могли без помех посещать друг друга.
Во время прекрасного праздника поминовения усопших она приказывала ставить стол перед входом в гробницу Пиайя и ела за ним вместе с Такой и детьми, и обе они были убеждены, что ка Пиайя сидит вместе с ними за столом. Такка вскоре потеряла робость перед принцессой, и они называли себя, само собой разумеется, двумя супругами Озириса-Пиайя. Маленькая темнокожая нубийка родила умершему мужу дочь, и теперь трое детей и две женщины каждый год заботились о том, чтобы ка мастера имело достаточно богатых жертв. Мерит велела одному способному художнику окончить картины в гробнице Пиайя, так что мастер больше не оставался тенью, а осветился радостными красками жизни.
В день его смерти Мерит всегда появлялась одна, по ее приказу гробницу открывали, и она вела беседы со своим возлюбленным. Она клала руку на его саркофаг из серого гранита и говорила:
— Вот я снова здесь, любимый, твоя маленькая львица посещает тебя. Как ты проводишь свои дни? Есть ли у тебя все, что тебе нужно? Не стало ли для тебя ожидание слишком тяжелым? Ты должен потерпеть, Пиай, я скоро приду. Что значит еще пара лет в сравнении с вечностью? Для тебя это ничего, однако мне время кажется очень долгим…
Примечания
Анк — знак счастья, символ вечной жизни.
Анубис, или Инпу.
Ба — понятие, близкое по значению слову «душа». Один из пяти элементов, составляющих человеческое существо. Ба присутствует при взвешивании души человека на суде Озириса. Изображался в виде птицы с человеческой головой, летающей между мирами живых и мертвых.
Баст, или Бастет.
Глаз Удет — символ счастья, часто использовался как амулет.
Гор, или Хор.
Деб — мера веса монеты, равная 91 г.
Дом Вечности, Жилище Вечности, Вечное Жилище — усыпальница.
Зед — праздник, тридцатилетний юбилей правления фараонов, в который происходит мистическое омоложение царя.
Изида, или Исида.
Итеру, или итер, — единица измерения расстояния, равная примерно 10 км.
Ка — термин для обозначения жизненной силы, духа человека, который после физической смерти продолжал жить внутри гробницы. Один из пяти элементов, составляющих человеческое существо. Иероглифическое изображение — две поднятые вверх руки.
Кеми, или Кемет, — старое название Египта.
Кефтиу — остров Крит.
Колонна Дет — символ счастья; часто носили как амулет.
Куш — Нубия и часть современного Судана.
Локоть — мера длины, равная 0,455 м.
Мен-Кау-Ра — царь Микерин (около 2485–2457 до н. э.); см. также
Хуфу.
Мин — бог плодородия, изображался как мужчина с возбужденным фаллосом.
Мозе (еврейское Моше), или Моисей, — библейский пророк. События, предшествовавшие бегству молодого Моисея из Египта, действительно могли происходить в первой половине XIII в. до н. э., т. е. в царствование Рамзеса II. Исход же, как полагают, имел место уже после смерти фараона-строителя, предположительно в начале XII в. при Рамзесе IV, который, как известно, умер не своей смертью, а погиб — по мнению одних, преследуя евреев, по мнению других, в результате заговора. Так или иначе, в правление Рамзеса IV Египет действительно переживал неурожаи и эпидемии, которые, согласно Библии, были следствием нежелания фараона следовать Божьей воле и отпустить евреев с миром.
Монту, или Монт.
Мут — богиня в образе ястреба, супруга Амона. Как напоминание о ней, супруга фараона, воплощенного бога, носит хохолок ястреба.
Небмаре — фараон Аменхотеп III (прав. 1403–1365 до н. э.). При нем культ Амона-Ра в Египте достиг своего расцвета.
Нефертем — бог благоухания, сын Птаха и Сехмет; изображался также в виде цветка лотоса.
Нефтида, или Нефтис.
Нимаре — фараон Аменемхет III (прав. 1842–1798/95 гг. до н. э.).
Обе Страны — объединенный Верхний и Нижний Египет.
Озирис, или Осирис.
Он — священный город бога Солнца, известный позднее как Гелиополис.
Опет — большой праздник в Фивах, мистическое соединение бога Амона с его супругой Мут.
Открывания рта церемония — магическое оживление мумии в погребальном обряде древних египтян.
Перет — время посева, с октября по январь.
Птах, или Пта.
Пядь — 0,7 локтя; см.
Локоть.
Ра, или Ре.
Рамзес, или Рамсес, II (собственно Рамессу, что в переводе с египетского означало «Ра породил его») — сын, соправитель и наследник Сети I, внук Рамзеса I, правил с 1279 по 1212 г. до н. э. Подобно своему отцу, вошел в историю как воин и строитель. При нем были возведены гипостильный зал в Карнаке, несколько храмов в Судане, множество зданий в Фивах, перестроена его историческая родина город Танис (Пер-Рамзес). Вершиной древнеегипетской культуры считаются Большой и Малый храмы в Абу-Симбеле (Нубия), построенные Рамзесом II для себя и своей любимой жены царицы Нефертари. С переменным успехом вел военные кампании за пределами страны, кульминацией которых стала не вполне удачная для египтян битва с хеттами при Кадеше. Заключил первый известный в истории мирный договор с хеттским царем Хаттусили III, который обе стороны соблюдали более 50 лет. Имел большой гарем наложниц, по легенде был отцом более 50 дочерей и 100 сыновей. Правил до глубочайшей старости, сохраняя ясный ум и энергию, и оставил после себя сильнейшую в то время мировую державу. Наряду с малозначительным марионеткой Тутанхамоном, чью гробницу нашли нетронутой в XX в., и обладателем самой грандиозной гробницы Хеопсом наиболее известный фараон Древнего Египта.
Себек — в египетской мифологии существо, которое ассоциировалось с братом и убийцей Озириса Сетом. Изображался как человек с головой крокодила. Центр его культа находился в Фаюме. В романе имя Себек носит бывший каторжник и предводитель разбойников, который говорит о себе: «Я Крокодил, которого боятся, ненавидят, преследуют, и, тем не менее, я второй царь в стране Кеми…» Подобно Сету, разбойник Себек и его преемник Меру противостоят фараону, который считался земным воплощением сына Озириса Гора.
Сети I — фараон XIX династии (1295–1188 до н. э.), второй по счету династии Нового царства, правил с 1294 по 1279 г. до н. э. Талантливый военачальник, он был сыном военачальника, а позже фараона Рамзеса I, преемника Хоремхеба и основателя династии. Возможно, происходил от гиксосов. Вел успешные военные кампании против народов Палестины и Ливии, усмирил бедуинов. При нем Египет обрел небывалую мощь. Богатства государства были вложены в грандиозное строительство. Гробница Сети находится в Долине царей, а поминальный храм — в Абидосе. В последние годы своего правления опирался на сына и соправителя Рамзеса II.
Символы Верхнего Египта — Сет, коршун, тростник, лотос, белый цвет двухцветного царского венца.
Символы Нижнего Египта — Гор, кобра Уто, пчела, папирус, красный цвет двухцветного царского венца.
Систр — музыкальный инструмент, атрибут богинь Хатор, Баст и Изиды. На нем учили играть девушек из знатных семей.
Скарабей — почитавшийся в качестве символа бога Солнца навозный жук.
Скипетр Уаз — символ счастья.
Скипетр Хека — искривленный скипетр фараона.
Сокар — в египетской мифологии один из древнейших богов. Считался богом загробного царства. Имел три человеческие головы, тело сокола с могучими крыльями и змеиный хвост.
Страна Пчел — Нижний Египет.
Страна Тростника — Верхний Египет.
Узелки Изиды — символ счастья.
Упваут — священная собака, которая в качестве
открывающей пути идет во главе процессии богов.
Урей — носимая только членами царского дома на лбу золотая змея, символ, отгоняющий зло.
Хабиру, или хабири, — название этого народа упоминается в документах из архива Амарны. Предполагается, так египтяне называли евреев.
Хамазин, или хамзин, горячая, часто длящаяся несколько дней песчаная буря, обычно случается в марте — апреле.
Хапи — бог плодородия, воплощение Нила; изображался в виде гермафродита.
Хатор, или Хатхор.
Хатшепсут — женщина-фараон XVIII династии (прав. 1478–1458 до н. э.). После смерти своего единокровного брата и мужа Тутмоса II стала регентшей при Тутмосе III, малолетнем сыне ее мужа от наложницы, но вскоре провозгласила себя царем. Действительно носила церемониальную накладную бороду и изображалась мужеподобной — без груди. В остальном Рамзес зря потешался над Хатшепсут, поскольку она вошла в историю Египта как мудрый и миролюбивый правитель. Она осмелилась послать целый флот в страну Пунт (п-ов Сомали), и он вернулся груженный золотом, слоновой костью, благовониями и прочими несметными богатствами. После смерти Хатшепсут мстительный Тутмос III повелел стереть ее имя со всех монументов, но не смог изгладить образ сильной и мудрой женщины из памяти потомков.
Хекат — мера объема, равная 4,5 л.
Хетты — народ, населявший хеттское государство (Хатти) в Малой Азии (первоначально в Восточной Анатолии) в XVIII — нач. XII вв. до н. э. Соперник Египта в борьбе за господство в Передней Азии. Несколькими десятилетиями позже описываемых событий распалось.
Хнум — в египетской мифологии бог с головой барана. Одна из версий о сотворении мира гласит, что Хнум создал мир и человека на своем гончарном круге. Центр культа этого божества находился на острове Элефантина.
Хонс — бог луны, сын Амона и Мут.
Хуфу, более известен как Хеопс, — фараон Древнего царства (IV династия), правивший в XXVI в. до н. э. (2570–2545 гг.). Его пирамида (творение зодчего Хемиуна) наряду с пирамидами Хефрена и Микерина близ современной Эль-Гизы признана одним из семи чудес света — единственным, дошедшим до наших дней. Но дошла она не в том виде, в каком ее возвели. В древности пирамиды были облицованы отполированными плитами белого известняка, а вершины их покрывали медные листы, сверкавшие на солнце. Пирамида Хеопса — самая грандиозная, ее высота изначально достигала 147 м. А пирамида Хефрена славится своим гигантским лежащим сфинксом. Гробницы царей окружают меньшие по размеру усыпальницы их жен. В романе Рамзес и Хамвезе находят гробницу Хуфу-Хеопса уже разграбленной, что, по всей вероятности, так и было в XIII в. до н. э.
Шазу — народы пустыни, бедуины.
Шему — время сбора урожая, с февраля по май.
Ширдану — личная охрана царя, подразделение, сформированное из чужеземцев-наемников.
Эхнатон, он же Аменхотеп IV, — фараон XVIII династии (прав. 1352–1338 до н. э.). Известен тем, что на втором году самостоятельного правления, возможно, под влиянием своей супруги Нефертити, радикально пересмотрел традиционный культ Амона-Ра и прочих богов пантеона и заменил его культом единого бога Атона. Построил в Карнаке храм Атона и на пятом году своего правления начал возведение на восточном берегу Нила новой столицы — Ахетатона. В народе преобразования Эхнатона не нашли поддержки, а высшие сановники и жрецы были так раздосадованы ими, что после смерти Эхнатона все следы его деятельности и все упоминания о нем были стерты с лица земли и со стен храмов. Ахетатон (Амарна) превратился в город-призрак, развалины посреди равнины. Таковым его и видят в романе Рамзес, Енам и Мена. Но благодаря архивам Амарны мы знаем довольно много о реформаторской деятельности фараона-поэта Эхнатона.
Нагиб Махфуз
Мудрость Хеопса
1
Наделенный божественной силой и царским благоговением, Хуфу, сын Хнума, полулежал на позолоченном ложе на балконе центральной залы, осматривая свой широко раскинувшийся, покрытый буйной растительностью дворцовый сад. Этот рай был самим бессмертным Мемфисом, городом белых стен. Вокруг фараона стояли сыновья и ближайшие друзья. Его шелковая накидка с золотой оторочкой блестела в лучах солнца, клонившегося к западному горизонту. Хуфу откинулся спиной на мягкие подушечки, набитые страусиным пухом, локоть его покоился на подушке, шелковая наволочка которой была прошита золотом. Он был само величие — широкоплечий, с гордым, орлиным профилем. Хуфу олицетворял собой гордость и достоинство прожитых сорока лет, половину из которых он правил Египтом.
Пристальным взглядом окинул Хуфу лица сыновей и сподвижников, прежде чем неторопливо двинуться вперед — туда, где над вершинами финиковых пальм садилось на закат солнце. Или повернуть направо, где вдали виднелось вечное плато, за чьей восточной стороной неусыпно следил взором молчаливый большой сфинкс фараона Хефрена, а в центре хранились останки его предков. Поверхность плато была покрыта тысячами движущихся человеческих фигур. Они выравнивали его песчаные дюны и раскалывали его скалы, выкапывая огромное основание для пирамиды, которую в глазах человечества фараон мечтал сделать бессмертным чудом света на все грядущие века.
Фараон любил эти семейные встречи, которые позволяли ему отринуть тяжкие официальные дела и скинуть с плеч груз повседневных, порою рутинных обязанностей. Тут он превращался в общительного друга и любящего отца, вместе со своими приближенными и сыновьями искал спасения от бремени будней в остроумных беседах. Тут обсуждались и обычные, тривиальные, и важные вещи, вспоминались забавные истории, улаживались различные проблемы и определялись чьи-то судьбы.
В тот далекий, сокрытый в складках времен день, который боги определили началом нашей истории, речь зашла именно об этой пирамиде, которую Хуфу намеревался сделать гробницей, местом для упокоения своей плоти и костей. Мирабу, изобретательный архитектор, пользовавшийся в Египте великими почестями за бесподобное мастерство, излагал своему царю-господину подробности этого громадного проекта. Он указывал на необъятные размеры, задуманные для находящегося вне течения времени сооружения, планированием и постройкой которого руководил. Выслушав своего друга, фараон подумал, что с момента начала работ прошло уже десять лет, напомнил достопочтенному мастеру:
— Послушай, дорогой Мирабу, я, конечно, верю в твою безграничную изобретательность. Но сколько же еще я должен ждать? Ты всегда с готовностью рассказываешь мне о том, какой потрясающе красивой будет эта пирамида, но строительство еще не началось, хотя целое десятилетие минуло с тех пор, как я отправил множество сильных людей тебе в помощь, собрав для тебя лучшие технические ресурсы моего великого народа. И что же? Пока я не увидел на поверхности земли ни единого следа обещанной тобою пирамиды. Мне кажется, что эти мастабы, в коих еще лежат их владельцы и которые не стоили им даже сотой части того, что уже потратили мы, насмехаются над прилагаемыми нами усилиями, считая наш величественный проект какой-то детской игрой… Ну, что ты скажешь в свое оправдание?
Тревога и смятение отразились на смуглом лице Мирабу. Широкий лоб прорезала морщина. Собрав все свое мужество, архитектор ответил, стараясь быть спокойным:
— О, мой господин! Да проклянут меня боги, если я когда-либо безрассудно тратил время и деньги либо относился к своей работе как к простому развлечению. Несомненно, судьбой мне было предначертано принять на себя эту ответственность. Я несу ее со всей преданностью с той самой минуты, как моим долгом стало созидание вечного дома фараона. Я мечтаю превратить пирамиду в такой шедевр, которому люди будут изумляться и восхищаться во все времена. Никогда не перестанут этого делать. Я хочу прославить Египет и вашу династию, да пребудет ваша жизнь в долгих летах. Мы провели эти десять лет вовсе не в пустых играх. Напротив, мы сумели выполнить то, чего не удалось бы сделать ни великанам, ни темным силам зла. В горной породе мы прорубили русло, соединяющее Нил с плато, на котором возводим пирамиду. Из скалистых хребтов мы откололи высоченные куски камня, каждый размером с холм, и в наших руках они стали похожи на податливую замазку. Они прибывают сюда с юга и севера Египта. Смотрите, мой господин. Вон корабли: они плывут вверх и вниз по реке, перевозя огромные плиты, словно это горы двигаются, подгоняемые волшебством злого чародея. И удостойте взглядом людей, поглощенных своей работой: посмотрите, как они медленно идут по земле этого плато, будто оно открылось изнутри, явив взору тех, кого скрывали его объятия многие тысячи лет!
Царь усмехнулся:
— Поразительно! Мы приказали тебе построить пирамиду, а ты вместо этого вырыл нам реку! Ты считаешь своего господина и повелителя властелином рыб?
Фараон рассмеялся, а вместе с ним и его собеседники — все, за исключением престолонаследника, старшего сына фараона Хафры. Он весьма серьезно относился к вопросу сооружения пирамиды. В свои довольно молодые лета принц уже сложился в необыкновенно жестокого, безжалостного тирана, унаследовавшего от отца властность, но не его великодушие и дружелюбие.
— По правде говоря, я не могу поверить, что ты потратил десять лет только на то, чтобы лишь подготовить строительную площадку, — сказал сквозь зубы принц. — Я слышал, что на возведение священной пирамиды царя Снеферу ушло гораздо меньше времени по сравнению с целой эрой, которую ты к настоящему моменту расходуешь попусту.
Мирабу ударил себя по лбу ладонью, потом ответил с печальной учтивостью:
— Здесь, ваше царское высочество, обитает удивительный разум, неустанно мыслящий и всегда стремящийся к совершенству. Это творец идеала. И вот после долгих и значительных усилий передо мной предстал исполинский образ. Ради его воплощения в жизнь я готов пожертвовать собственной душой. Поэтому будьте терпеливы, принц, и не сердитесь на меня!
Все переглянулись и умолкли. В наступившей тишине послышалась музыка дворцовых стражей, которая звучала перед тем, как войска возвращались со своих постов обратно в казармы. Фараон обдумывал слова Мирабу. Он бросил взгляд на своего визиря Хемиуна, верховного жреца храма Пта, высшего божества города Мемфиса. С легкой улыбкой, никогда не покидавшей его губ, Хуфу спросил:
— Хемиун, считается ли терпение одной из добродетелей царей?
Поглаживая бороду, визирь тихо ответил:
— Мой господин, наш бессмертный философ Кагемни, визирь царя Хуни, утверждает, что терпение — это спасение человека в часы отчаяния и доспехи, защищающие его от несчастий.
— Так говорит Кагемни, визирь царя Хуни! — засмеялся фараон. — Но я хочу узнать, что нам скажет об этом Хемиун, визирь царя Хуфу.
Визирь задумался в поисках остроумного или мудрого ответа, однако принц Хафра был не из тех, кто осторожно выбирает слова, прежде чем что-либо сказать. Уж кому-кому, а ему терпение не повредило бы. Со всей страстностью двадцатилетнего обладателя царских привилегий он безапелляционно заявил:
— Отец, мудрец Кагемни считает терпение достоинством, но этим достоинством пусть обладают рабы. Это им полагается терпеть и быть покорными! Владыкам мира, фараонам, разве присущи терпение и покорность? О нет! Великие цари преодолевают бедствия, а не ждут, пока они закончатся. Боги наградили их не терпением, но властью!
Фараон повернулся к сыну. В глазах сверкнул гнев. Ничего хорошего это не предвещало, но владыка Египта улыбнулся. Архитектор вздрогнул и опустил голову. Хуфу же вздохнул, взгляд его смягчился. Он посмотрел на своего наследника и заговорил с пылкой страстностью, которая, несмотря на его сорокалетний возраст, была такой же, как у двадцатилетнего юноши.
— Как прекрасна твоя речь, сын мой! Как счастлив я услышать ее! — воскликнул он. — Несомненно, власть — это достоинство не только царей, но всех людей, если бы они только познали ее. Когда-то я был всего лишь принцем, управлявшим одной провинцией, а затем стал царем царей Египта, и подняться от простого принца, заполучить трон и царство мне помогла именно власть. Алчные, бунтующие и обиженные — все они непрестанно стремились отнять у меня владения, лишить трона и ускорить мой уход в мир иной. И что отрезало им языки, отрубало им руки, лишало их дыхания? Разумеется, власть. Однажды, когда невежество, мятежи и наглость наполнили их головы глупыми идеями, нубийцы отказались повиноваться. И что же сбило с них спесь и принудило к послушанию, как не власть? Что вознесло меня к моему божественному статусу? Что сделало мое слово законом на этой земле? Что научило меня мудрости богов и сделало подчинение мне других священным долгом? Разве не власть свершила все это?
Мирабу поспешил прервать его, чтобы закончить мысль царя:
— И еще воля небес, мой господин.
Фараон насмешливо покачал головой.
— А что такое воля небес, Мирабу? — спросил он. — Она тоже не что иное, как власть.
Архитектор возразил:
— И милосердие, и любовь, ваше величество…
Царь усмехнулся:
— Так устроены вы, люди творчества! Вы приручаете непокорные камни, но в то же время ваше сердце податливее утреннего ветра. Однако мне недосуг спорить с тобой. Лучше ответь мне на вопрос и можешь покинуть мой дворец. Итак, Мирабу, в течение десяти лет ты общаешься с толпами мускулистых рабов. Ты уже должен был бы проникнуть в их самые потаенные секреты и угадывать, какие мысли зреют в их тупых головах. О чем они говорят? И что же, по-твоему, заставляет их подчиняться мне и выдерживать ужасы столь тяжкой работы? Поведай мне всю правду, Мирабу.
Архитектор на мгновение задумался, вызывая в памяти воспоминания. Все смотрели на него с нескрываемым интересом. Потом неторопливо, в своей обычной манере, исполненной страсти и хладнокровия, он ответил:
— Рабы, вернее рабочие, мой господин, поделены на два лагеря. Один из них состоит из пленных и иностранных наемников. Они не знают, в чем смысл их труда: приходят и уходят без всяких возвышенных чувств, подобно волу, который бездумно крутит колесо, подающее воду. Если бы не жесткий кнут и не бдительный надзор наших солдат, проку от них и вовсе не было бы. У них действительно тупые головы — ни взоры, ни разговоры их умом не блещут. Да они и молчат в основном.
Мирабу помолчал и продолжил:
— Что же касается египтян, то это в основном выходцы с юга. Эти люди обладают чувством собственного достоинства, гордостью, упорством и непоколебимой верой. Они способны выносить страшные мучения и спокойно переживать сокрушительные трагедии. В отличие от чужеземцев, они прекрасно осведомлены о том, что делают. В своих сердцах они верят, что тяжелый труд, которому они посвятили свою жизнь, — это славная религиозная обязанность, долг перед божествами, форма послушания тому, кто восседает на троне. Злоключения для них — это благоговение, эйфория и наслаждение. Их огромные жертвы — знак подчинения воле божественного человека, который простер себя над бесконечным временем. Мой господин, разве вы не видите, как на пылающей полуденной жаре, под обжигающими лучами солнца они раскалывают камни, подобно молнии, и с решимостью, подобной судьбе, распевают свои ритмичные песни и слагают стихи?
Слушатели были восхищены образной речью архитектора и в порыве экстаза и радости принялись аплодировать. Мужественное лицо фараона просияло. Он был доволен. Хуфу повелел всем встать и сам поднялся с ложа. Размеренной, полной достоинства поступью он подошел к южному краю широкого балкона. В бархатном небе, отражаясь в водах Нила, плыла полная луна, мириады звезд усыпали черный бархат небосвода. Наслаждаясь чудесным видом, Хуфу вглядывался в простиравшиеся вдаль очертания плато мертвых, на святой земле которого в свете луны виднелись длинные цепочки силуэтов. Какая грандиозность, какое великолепие! И какие страдания и усилия! Было ли правильно лишать жизни столько достойных душ ради личного возвышения? Мог ли он управлять подобным образом таким благородным народом, чьим сокровенным желанием было счастье своего царя?
Внутренний шепот был единственным беспокойством, порой пробивавшимся в его груди, преисполненной бесстрашия и веры. Шепот этот казался ему похожим на одинокую звездочку, мерцавшую вдали. Что-то ее, видно, тоже беспокоило, и эта мысль доставляла фараону мучения. Внутри все еще сильнее сжалось, и собственные безмятежность и блаженство стали ему вдруг омерзительны. Боль сдавила грудь. Фараон резко повернулся спиной к плато и с гневом обрушился на своих друзей:
— Скажите же мне, кто должен отдать свою жизнь и ради кого? Народ за фараона или фараон за народ?
Присутствующие лишились дара речи, но через минуту командующий Арбу нарушил молчание. Его голос звучал взволнованно:
— Все мы — народ, солдаты и жрецы — отдадим свою жизнь за фараона!
Принц Хорсадеф, один из младших сыновей царя, с пылким чувством добавил:
— И принцы тоже!
Царь улыбнулся, и с его благородного лица исчезла тревога. Визирь Хемиун сказал:
— Мой господин, ваше богоподобное величество! Зачем отделять великодушного себя от народа Египта? Это равносильно тому, как если бы душу отделять от тела. Вы, мой господин, символ чести и возвышенности египтян, цитадель их силы, вдохновение их духа. Вы наделили их жизнью, процветанием, могуществом и радостью. В их привязанности к вам нет ни унижения, ни раболепства, только искренняя преданность и почтенная любовь к своему правителю и своей родине.
Царь был очень доволен тем, что услышал, и широким шагом вернулся к своей позолоченной софе, но принц Хафра, наследник престола, еще переживал по поводу недавних опасений отца.
— Зачем ты нарушаешь свое душевное спокойствие такими пустыми сомнениями, отец? — спросил он. — Ты правишь согласно воле богов, а не желаниям народа. Ты сам, только ты, решаешь, как поступать со своими людьми, и не должен спрашивать себя, что тебе делать, когда они задают тебе этот же вопрос!
— О мой сын! Неважно, насколько другие цари превозносят себя. Твоему отцу довольно сказать: «Я фараон Египта», — ответил Хуфу, облокотившись на подушки. — Речь Хафры была бы к месту, если бы мой сын говорил это слабому правителю, а не всемогущему Хуфу — Хуфу фараону Египта. И что такое Египет, как не величайшая работа, за которую нельзя было взяться, не пожертвовав людскими жизнями? И какова ценность жизни одного человека? Она не стоит и высохшей слезы того, кто смотрит далеко в будущее и ставит перед собой грандиозные цели. Ради этого я без малейших колебаний буду проявлять жестокость. Я буду карать твердой рукой и обрекать сотни и тысячи на невзгоды и лишения — не из-за собственной глупости или деспотичного эгоизма, но потому, что мои глаза способны заглянуть за пелену горизонта и узреть славу и великолепие нашего отечества. Царица много раз обвиняла меня в жестокости и угнетении народа, но это не так, ибо кто же Хуфу, как не провидец и мудрец, одетый в шкуру пантеры, в груди которого бьется сердце распростершего объятия ангела?
Вновь воцарилась тишина. Многие его подданные в мыслях уже были дома, а кое-кто из них мечтал, что фараон, прекратив эти словоизлияния, устроит для гостей ночные забавы или пригласит на пиршество с возлияниями и песнями. Некоторые, устав, стали откровенно зевать, прикрывая рот ладонью. Но в эти часы отдыха и тоски Хуфу не радовали ни дворец, ни его невероятные красоты. Почувствовав, что присутствующие жаждут есть и веселиться, он поскучнел и обвел своих друзей взглядом, словно изумляясь тому, что они еще здесь. Хемиун осмелился задать вопрос:
— Наполнена ли напитком чаша моего господина?
Фараон кивнул:
— Я пил сегодня так же, как пил вчера.
— Может быть, позвать музыкантш?
— Я слушаю их музыку днями напролет, — равнодушно пожал плечами фараон.
— А что мой господин думает о поездке на охоту завтра поутру? — не унимался Мирабу.
— Я сыт по горло погонями, будь они на суше или на воде.
— Тогда как насчет прогулки по ночному саду?
— Остались ли в этой долине красоты, которых я еще не видел?
Грусть царя опечалила его преданных слуг — всех, кроме принца Хорджедефа, приготовившего для отца восхитительный сюрприз, о котором фараон даже не догадывался.
— О царь, отец мой! — сказал Хорджедеф. — Если пожелаешь, я могу привести сюда замечательного чародея, познавшего секреты жизни и смерти. Он способен удивить тебя. Стоит тебе захотеть, чтобы появилось нечто необычное, — он хлопнет в ладоши, скомандует, а затем это нечто явится перед твоими очами.
Хуфу, приподнявшись на ложе, с любопытством воззрился на своего среднего сына. Его интересовало все, что относилось к магам, волшебникам и их чудесам, он как ребенок поражался рассказам об их редкостной хитрости и изобретательности. Обрадовавшись тому, что сможет увидеть такого человека собственными глазами, он спросил сына:
— Кто же этот чародей? Как его имя?
— Этого волшебника зовут Джеди, отец. Ему сто десять лет, но он до сих пор еще силен как юнец. Он обладает невероятным умением подчинять своей воле людей и животных и таким зрением, которое может пронзить завесу незримого.
— Ты можешь привести его ко мне сейчас? — спросил фараон. Его грусть и апатия вмиг испарились, лицо оживилось.
— Пожалуйста, подожди немного, отец! — радостно ответил Хорджедеф. Едва поклонившись Хуфу, принц выбежал из зала.
2
В ожидании все молчали, повернув головы к нише, куда убежал принц. Наконец на мраморных плитах раздались шаги, и в зале появился высокий широкоплечий человек. Взгляд его жгучих черных глаз словно пронзил всех присутствующих. Мягкие седые волосы вошедшего ниспадали на плечи, загорелое лицо обрамляла длинная густая борода. Он был облачен в свободное одеяние и при ходьбе опирался на грубую массивную трость.
Принц Хорджедеф, выйдя из-за спины незнакомца, поклонился и объявил:
— Отец мой! Представляю тебе твоего покорного слугу, чародея Джеди.
Волшебник пал перед царем ниц и поцеловал подушку, на которой покоились ноги Хуфу.
Громким голосом, от которого все вздрогнули, он сказал:
— Мой господин, сын Хнума, свет восходящего солнца и правитель миров, да восславится имя твое, и да будет тебе вечное счастье!
Фараон дружелюбно посмотрел на чародея и спросил:
— Как вышло, что я не встречал тебя, хотя ты появился в этом мире лет на семьдесят ранее меня?
Престарелый волшебник вежливо ответил:
— Да дарует тебе Бог долгую жизнь, здоровье и силу. Подобные мне не должны являться перед тобой, если их не просят об этом.
Не сводя с него доброго взгляда, царь продолжал расспрашивать:
— Джеди, правда ли, что ты умеешь творить чудеса? Правда ли, что ты можешь подчинить своей воле людей и зверей, а также способен сорвать завесу незримого с лика времени?
Седая борода всколыхнулась на груди чародея. Джеди почтительно кивнул.
— Это истинно так, ваше величество.
— Я желаю увидеть какое-нибудь из твоих чудес, Джеди, — сказал фараон.
И настал час пророчеств. Зрители не сводили глаз с этого человека. На их лицах застыло зачарованное выражение. Чародей, однако, не торопился приступать к своему делу, он просто застыл близ ложа фараона, сложив руки на груди и словно обратившись в каменную глыбу. Потом, окинув быстрым жгучим взглядом всех, он усмехнулся, обнажив белые зубы.
— Справа от меня бьется сердце, которое не верит в меня, — проговорил наконец Джеди.
Собравшиеся зашептались, стали в недоумении переглядываться. Фараон же, довольный проницательностью чародея, обратился к своим друзьям с вопросом:
— Есть ли среди вас тот, кто отрицает прорицание Джеди?
Командующий Арбу пожал плечами:
— Мой господин, я не верю в эти магические фокусы. Я считаю их шарлатанством. Каждый хочет казаться кем-то, когда ему нечем занять время.
— К чему сотрясать воздух словами, если чародей уже находится здесь, рядом с нами? — вопросил Хуфу и приказал: — Приведи льва и спусти на него, а мы посмотрим, сможет ли он остановить хищника магией и заставить повиноваться своей воле.
Это предложение царя не убедило командующего.
— Простите меня, ваше величество, но я не имею дел со львами. Однако пока я стою прямо перед ним, возможно, он сумеет испробовать свое волшебство на мне. Если он так хочет, чтобы я поверил в него, пусть заставит меня подчиниться своей воле и лишит контроля над собственным телом.
Повисло тяжелое молчание. Одни из присутствовавших встревожились, на лицах других можно было прочесть ликование или просто желание поглазеть на то, что произойдет дальше. Все обратили взоры к чародею, чтобы увидеть, как он поступит с упрямым командующим. Джеди стоял спокойно, все так же сложив руки на груди. На его тонких губах застыла усмешка. Фараон расхохотался:
— Арбу, ты правда так мало себя ценишь?
С ошеломляющей самоуверенностью командующий заявил:
— Я, ваше величество, решителен и непоколебим благодаря силе моего разума. Он не просто не верит, но насмехается над зазнайством каких-то шарлатанов.
При этих словах лицо принца Хорджедефа побагровело от гнева. Бросив уничижительный взор на командующего, принц повернулся к отцу:
— Да исполнится его желание. Позволите ли вы Джеди принять этот вызов?
Фараон посмотрел на рассерженного сына, потом сказал чародею:
— Что ж, давай посмотрим, как твое волшебство сломит силу разума нашего друга Арбу.
Командующий высокомерно смотрел на волшебника. Он хотел с презрением отвернуться, но вдруг почувствовал, что из черных очей на него нисходит неизъяснимый мощный поток. Сопротивляясь этой силе, Арбу пытался повернуть шею, дабы избавиться от пронизывающего взгляда и неодолимого притяжения, которое не давало ему даже шевельнуться, но понял, что его воля и в самом деле сломлена. Арбу не мог отвести глаз от мерцающих черных зрачков Джеди, которые горели и сверкали, словно два кристалла, отражающих свет луны. Взгляд полководца потускнел, будто свет мира угас в нем. Арбу почувствовал, что его сердце, сердце великого воина, обуял страх и он подчинился чужой воле.
Убедившись, что воздействие его сверхъестественных способностей достигло требуемого эффекта, чародей гордо выпрямился.
— Садись! — властно, но негромко повелел он командующему.
Арбу, словно пьяный, прошел к креслу и упал в него с обреченной покорностью. Силы оставили его. Взгляд стал как у кролика перед удавом.
Все ахнули в изумлении. Принц Хорджедеф облегченно вздохнул и горделиво улыбнулся. Джеди с почтением посмотрел на фараона и учтиво сказал:
— Ваше величество, я могу заставить его сделать все, что ни пожелаете, и он будет не в силах противиться любой вашей просьбе, но я не хотел бы поступать так с человеком, подобным ему, — одним из самых достойных полководцев Египта и близким другом фараона. И потому задаю вопрос, удовлетворен ли мой господин тем, что ему довелось увидеть?
Царь кивнул:
— О да. Вполне.
Джеди подошел к обессилевшему командующему и тонкими пальцами коснулся его лба, шепча про себя какое-то заклинание. Арбу понемногу стал приходить в себя, его чувства и воля постепенно возвращались к жизни. Наконец он полностью овладел собою. Какое-то время он еще сидел в кресле, поворачивая голову туда-сюда, словно не осознавая, где находится. Взглянув на чародея, командующий вдруг все вспомнил. Его лицо покрылось краской стыда. Поднявшись с кресла и стараясь больше не смотреть на грозного волшебника, Арбу замешкался, споткнулся и упал на мраморные плиты.
Царь улыбнулся и шутливо побранил его:
— Вот как! Шарлатану удалось лишить тебя воли!
Командующий неловко поднялся, поклонился фараону и пробормотал:
— Могущество богов неизмеримо… Велики их чудеса на земле и на небесах…
— Ты сдержал свое слово, благородный человек, — обратился Хуфу к волшебнику. — Но способен ли ты повелевать незримым так же, как разумом земных созданий?
— Истинно так, мой господин, — с достоинством подтвердил Джеди.
Хуфу глубоко задумался, размышляя, какой же вопрос задать чародею. Наконец его лицо озарилось светом снизошедшего откровения.
— Поведай мне, — спросил он, — кому из моего потомства суждено занять трон египетских царей? Кто продолжит дело мое?
В то же мгновение мага почему-то обуяла непонятная тревога. Фараон понял, что его беспокоило.
— Дарую тебе полную свободу, — сказал он, — и уверяю, что бы ты ни промолвил, тебя не станут
наказывать за правду.
Джеди многозначительно глянул на лицо своего повелителя, затем в страстной молитве воздел руки к звездным небесам. Все стояли молча, не двигаясь и не разговаривая, со страхом ожидая, что изречет пророк. Когда же маг обратил свой взор на царя, его сыновей и придворных, в свете луны и светильников все увидели, как побледнело его лицо. Он казался растерянным. Все насторожились. Ощущение было такое, что приближалось неотвратимое зло.
Принц Хафра, не выдержав, в нетерпении спросил:
— Почему ты молчишь? Ведь фараон обещал не причинять тебе вреда.
Чародей повернулся к царю:
— Ваше величество, после вашего ухода… никто из вашего потомства… не сядет на трон Египта…
Его слова сокрушили собравшихся, подобно тому, как буря крушит вековое дерево. Все смотрели на Джеди злобными глазами. Фараон нахмурился. Взгляд его был как у льва, обезумевшего от ярости. Принц Хафра поджал губы. Его лицо исказилось в гримасе страдания.
Стараясь смягчить потрясение от своего пророчества, чародей добавил:
— Но вы, мой господин, будете править в спокойствии и безопасности до самого конца своей долгой и счастливой жизни.
Фараон передернул плечами, затем сдавленно сказал:
— Усилия того, кто трудится лишь для себя, пропадут без следа. Перестань, наконец, утешать меня и просто скажи, известно ли тебе, кого боги уже избрали наследником египетского трона?
— Да, — ответил Джеди, — известно. Это новорожденный младенец, появившийся на свет сегодня утром.
— Кто его родители?
— Его отец — Монра, верховный жрец храма бога Ра в городе Он. Мать — молодая Руджедет. Жрец женился на ней в преклонные лета, чтобы она даровала ему сына, которому судьба предначертала стать правителем Египта, но этот мальчик не сын дряхлого жреца. Он сын самого бога Ра… — добавил он совсем тихо.
Услышал это лишь один фараон. Он поднялся с ложа, подобно грациозному хищнику, неслышными шагами подошел к чародею. Подавив испуганный вздох, Джеди отвел взгляд, когда царь спросил его:
— Ты абсолютно уверен в том, что говоришь?
— Все то, что страница незримого открыла мне, я вам рассказал, — ответил маг охрипшим голосом.
— Не бойся и не переживай, — сказал царь. — Ты поведал мне свое пророчество и теперь получишь за него достойную плату.
Вызвав одного из своих казначеев, фараон приказал выдать чародею пятьдесят золотых монет.
Казначей пригласил Джеди следовать за собой, и они удалились.
Принц Хафра был чрезвычайно обозлен. Глаза его пылали. Он жаждал мщения. Лицо постарело и стало подобно предвестнику смерти. «Прекрати!» — только и сказал на это фараон, сдерживая силой своей воли гнев юноши и преобразуя злобу Хафры в отважную решимость, которая могла бы сдвинуть с места горы и повернуть вспять реки.
Повернувшись к своему визирю, Хуфу спросил:
— Как ты полагаешь, Хемиун, не страшно ли человеку ведать предначертания своей судьбы? Или лучше ничего об этом не знать?
Визирь задумчиво поднял брови, попытался что-то сказать, но с его губ, дрожащих в ужасе, не слетело ни звука.
— Вижу, ты боишься сказать мне правду и хочешь отречься от собственной мудрости лишь для того, чтобы угодить мне, — сердито сказал царь. — Но, Хемиун, твой фараон слишком велик, чтобы впадать в отчаяние, даже если услышит то, что не хотел бы слышать.
Хемиун не был льстецом, но оказался трусом. Тем не менее, искренне преданный царю и наследному принцу, он впитывал в свою душу постигшие их муки и боль. Осознав, что повелители не станут сердиться на его речи, он наконец еле слышно ответил:
— Мой господин! Я соглашусь со словами мудрости, которые боги передали нашим предкам и их служителю Кагемни. Они гласят: «Предначертание — это одно, а судьба часто поступает совсем иначе».
Хуфу бросил быстрый взгляд на своего престолонаследника.
— А что думает по этому поводу принц?
Глаза Хафры продолжали гореть яростью, как у зверя, запертого в клетке. Принц молчал.
Фараон добродушно улыбнулся:
— Если бы судьба на самом деле управляла людьми и от нее нельзя было никуда деться, тогда само сотворение мира явилось бы абсурдом. Была бы отвергнута мудрость жизни, потеряла бы свое значение знатность человека. Усердие и малое его проявление стали бы одним и тем же, а с ними заодно — труд и лень, бодрствование и сон, сила и слабость, бунтарство и покорность. Нет, судьба — это ложное верование. Сильные духом ему подчиниться не должны.
Почувствовав разгоревшийся в груди огонь рвения, командующий Арбу крикнул:
— Велика ваша мудрость, мой господин!
Фараон, все еще улыбаясь, был хладнокровен:
— Родился обыкновенный младенец, к тому же совсем неподалеку от нас… Арбу, прикажи подготовить колесницы, которые я завтра поведу в Он, чтобы своими глазами увидеть мальчишку, которому судьбой предсказано стать владыкой Египта.
— Неужели вы сами поедете туда? — в изумлении спросил Хемиун.
— Если не я, то кто же поедет, дабы защитить свой трон? — засмеялся фараон. — Если не завтра, то когда же? Я приглашаю всех вас утром отправиться со мной и стать свидетелями грандиозной битвы между Хуфу и судьбой. А теперь пора на покой… Доброй всем ночи.
3
Отряд фараона из ста боевых колесниц, управляемых двумя сотнями лучших солдат из числа дворцовых стражей, покинул пределы городских стен, едва взошло солнце. Хуфу — среди когорты принцев и своих подданных — ехал во главе, по правую руку от него находился принц Хафра, слева — командующий Арбу.
Они мчались на северо-восток. Долина дрожала от цокота копыт и колес, будто грянуло разрушительное землетрясение. Двигались вдоль правого рукава Нила, к городу Он. Несущиеся колесницы, запряженные великолепно украшенными лошадьми, взбивали позади себя тучи пыли. Прекрасный Мемфис остался позади.
С могучими людьми, стоявшими в них наподобие статуй, с мечами, луками, стрелами и щитами, колесницы напомнили еще не пробудившейся ото сна земле о воинах Мины. Те так же оставляли за собой пыльный след на этих же дорогах лет сто назад, неся на север великую победу и выковав для своих славных потомков единую нацию.
Отряд возглавлял всевластный человек, само упоминание имени которого заставляло людей падать ниц, но они ехали не покорять чужую страну и не сражаться с вражеской армией. Ехали, чтобы увидеть новорожденного младенца, с удивлением взирающего на свет этого мира. Ехали, подгоняемые предсказанием чародея, в котором была угроза величайшему на земле трону, предсказанием, вселившим страх в самые отважные сердца.
Они двигались по долине с невероятной скоростью, огибая деревни и села, словно летящая стрела, устремив свои взоры к тому зловещему горизонту, что маячил над ребенком, которому судьба уготовила столь опасную роль.
Вдали они увидели облако пыли, источник которого им не удалось рассмотреть, но, промчавшись дальше вперед, разглядели нескольких всадников, скакавших прямо на них. Никто не сомневался, что эта группа направлялась из области Ра им навстречу.
Всадники приближались, и стало ясно, что то были воины, следовавшие за человеком на лошади. Чем меньше становилось расстояние между ними и колесницами, тем отчетливее было видно, что солдаты как раз гнались за этим наездником. Когда царский отряд едва не столкнулся с ним, все одновременно издали вздох изумления — всадником оказалась женщина, сидевшая верхом на неоседланном жеребце. Ее заплетенные в косы волосы растрепались и реяли на ветру, словно флаги на корабельной мачте. Сама же она выглядела обессилевшей. Тем временем преследователи настигли ее и окружили со всех сторон.
Колеснице фараона пришлось притормозить, чтобы объехать всадников, хотя ни Хуфу, ни его люди вроде бы не обратили особого внимания ни на бедную наездницу, ни на ее преследователей. Решив, что перед ними охранники правопорядка, выполнявшие какое-то официальное поручение, они поспешили бы дальше, даже не заговорив с ними, но женщина, задыхаясь, вдруг обратилась к ним:
— Помогите мне! О солдаты, помогите мне! Эти люди не хотят пропустить меня к фараону…
Колесница фараона остановилась, за ней встали и все остальные. Хуфу посмотрел на солдат, обступивших женщину, и отдал приказ:
— Подведите ее ко мне.
Но те, не подозревая о том, кто перед ними, не ответили. Один из них, со знаками отличия офицера, выступил вперед и грубо сказал:
— Мы стражники из города Он и выполняем приказ нашего верховного жреца. А вы кто такие и что вам нужно? Куда вы следуете?
Поведение офицера разозлило воинов фараона. Арбу хотел было наброситься на него с руганью, но Хуфу остановил командующего незаметным жестом. Военачальник, кипя от гнева, сдержался. Упоминание Монра заставило фараона задуматься. Хуфу спросил:
— Почему вы преследуете эту женщину?
Раздувшись от непомерного ощущения собственной важности, офицер ответил:
— Я не обязан отчитываться никому, кроме моего начальника.
Хуфу потерял терпение:
— Немедленно отпустите эту женщину!
Теперь до солдат дошло, что они имели дело с грозной персоной. Они расступились, дав возможность несчастной наезднице спешиться, подбежать к царской колеснице и упасть в пыль. Она рвала на себе волосы, повторяя:
— Помогите мне, господин! Молю вас, помогите мне!
Арбу слез со своей колесницы и резким шагом прошел к офицеру. Тот увидел знак орла и эмблему фараона на плече командующего… несчастного охватил ужас. Убрав меч в ножны, он отдал честь и крикнул своим людям:
— Приветствуйте командующего стражей фараона!
Те выстроились в ряд и замерли.
Услышав слова офицера, женщина поняла, что перед нею дворцовая стража. Обратившись к Арбу, она сказала:
— Господин, вы действительно начальник стражи нашего царя? Правда богов направляет меня к нему… ибо, господин, я сбежала от своей хозяйки, чтобы отправиться во дворец фараона, к царскому порогу. Да поцелуют губы каждого египтянина, хоть мужчины, хоть женщины, порог дворца нашего великого Хуфу, да будет благословенна земля, по которой ходят его царственные ноги!
— У тебя есть к нему просьба? — спросил Арбу.
Женщина, задыхаясь, ответила:
— Да, господин. Я хочу поведать ему страшную тайну. Только живущему на земле богу я могу открыть ее.
Фараон весь обратился в слух. Арбу меж тем спросил:
— И что же это за страшная тайна, добрая женщина?
— Я могу поведать ее только его величеству, — умоляюще сказала она.
— Я его верный слуга, надежно хранящий секреты повелителя, — заверил ее Арбу.
Женщина колебалась, нервно озирая всех присутствующих. Ее лицо побледнело, и дыхание участилось. Командующий понял, что мог бы вытянуть из нее тайну, успокоив ее и проявив доброту.
— Как тебя зовут? Где ты живешь?
— Меня зовут Сарга, господин. До нынешнего утра я была служанкой во дворце верховного жреца храма Ра.
— Почему же стражники гнались за тобой? — продолжил Арбу. — Твой хозяин в чем-то обвинил тебя?
— Я честная женщина, господин, но мой хозяин жестоко поступил со мной.
— Ты сбежала из-за плохого отношения к себе? — не отступался Арбу. — Хочешь, чтобы тебе помог фараон?
— Нет, господин. Все намного серьезнее, чем вам кажется. Я узнала тайну, об опасности которой обязана предупредить фараона… — Я сбежала, чтобы предостеречь его. Это мой долг. Хозяин отправил за мною этих солдат, чтобы они встали между мной и моей священной верой!
Офицер, гнавшийся за женщиной, вздрогнул и быстро проговорил в свое оправдание:
— Его святейшество приказал нам арестовать эту женщину, когда она ускакала на лошади по дороге в Мемфис. Мы выполняли приказ… Но мы не знаем, почему он был отдан.
— Ты что, собираешься обвинить верховного жреца Ра в измене? — тихо спросил Арбу, глядя в глаза измученной женщины.
— Приведите меня к трону фараона, чтобы я смогла открыть ему тайну, так угнетающую меня.
Хуфу почувствовал, что его терпение на исходе. Он понимал, что они теряют драгоценное время.
— Родился ли вчера у жреца сын? — отрывисто спросил он.
Сарга повернулась к нему, дрожа всем телом.
— Как вы узнали, господин? — прошептала она. — Ведь это было сокрыто ото всех!
Приближенные фараона обменялись взглядами. Их лица выражали любопытство, смешанное с недоумением. Тем временем Хуфу продолжал задавать женщине вопросы.
— Это и есть та тайна, которую ты хотела поведать фараону?
Она кивнула, все еще пребывая в растерянности.
— Да, господин… но я думала рассказать ему еще кое-что.
Фараон говорил резко, сильным командным тоном, не приемлющим промедления с ответом:
— Что именно? Говори!
— У моей хозяйки, госпожи Руджедет, вчера на рассвете начались родовые схватки, — испуганно начала Сарга. — Я была одной из служанок, приставленных к ее постели, чтобы облегчить страдания… Отвлекала ее то беседой, то отваром успокоительных трав. Вскоре вошел верховный жрец. Он благословил мою госпожу и страстно молился нашему владыке Ра. Словно желая успокоить хозяйку, он тихо сообщил ей, что она разрешится от бремени мальчиком. Этот ребенок, сказал он, когда вырастет, унаследует несокрушимый трон Египта, власть над долиной Нила и станет преемником бога солнца Ра на земле… — Сарга перевела дух и продолжила: — Он сказал, с трудом сдерживая радость и будто позабыв о моем присутствии — о той, кому госпожа доверяла больше, чем любой другой служанке, что статуя бога Ра неземным голосом поведала ему эти новости. Когда жрец увидел меня, он вздрогнул, и страх исказил его лицо. Чтобы я не выдала тайну, он повелел взять меня под стражу и запереть в хранилище для зерна. Ночью я смогла выбраться оттуда… Вскочила на неоседланного жеребца и помчалась в Мемфис, чтобы рассказать царю все, что услышала. Утром, не найдя меня в амбаре, хозяин послал за мной погоню… О, и если бы не вы, не сносить бы мне головы… — и женщина заплакала.
Фараон и его спутники слушали историю Сарги с тревожным удивлением, потому как она подтверждала пророчество чародея Джеди. Принц Хафра очень расстроился.
— Так пусть же предупреждение, полученное нами, не пропадет напрасно! — рявкнул он.
— Да, сын мой. Мы должны поторопиться.
Хуфу повернулся к женщине.
— Фараон щедро наградит тебя за преданность, — сказал он. — Теперь, когда ты выполнила свой долг, скажи нам, куда бы ты желала поехать?
— Господин, я хочу благополучно добраться до деревни Куна, где живет мой отец.
— Пока она не доедет до своего дома, вы в ответе за ее жизнь, — сказал фараон офицеру. Тот покорно кивнул.
Подав знак командующему Арбу, царь встал на свою колесницу и приказал ехать вперед. Словно ветер судьбы, он вновь сорвался с места — остальные колесницы держались за ними — по направлению к городу Он, чьи стены и верхушки колонн великого святилища, храма Ра-Атума, уже виднелись на горизонте.
4
А в этот момент верховный жрец храма бога Ра стоял на коленях у постели жены и страстно молился.
— О Ра, наш владыка, создатель, сущий со времени небытия, со времени, когда вода текла в пространство первозданного океана, над которым висела тяжелая тьма. Ты создал, о владыка, своей силой величественно прекрасную вселенную. Ты наполнил ее завораживающим порядком, установив ее единую власть над кружащими в небесах звездами и над изобилующей зерном землей. Ты сотворил из воды всех живых существ — птиц, парящих в высоте, рыбу, плавающую в море, человека, бредущего по земле, финиковые пальмы, цветущие в опаленной солнцем пустыне. Сквозь тьму ты распростер яркий свет, и он озарил твое величавое лицо, перенес себя в виде жизни и тепла во все сущее. О владыка, я поверяю тебе свою тревогу и печаль! Прошу тебя освободить меня от мук и страданий, ибо я твой преданный слуга и твой верующий раб. О бог наш, я слаб — так даруй же мне силу твоих безграничных знаний. О бог наш, я напуган — так даруй же мне уверенность и умиротворенность. О бог наш, мне угрожает ужасное зло — так защити же меня твоей бдительностью и состраданием. О бог наш, в моей старости ты наградил меня сыном; ты благословил его и предначертал ему судьбой, что он станет царем-правителем — так огради же его от всех бед и отрази зло, которое может пасть на его голову.
Монра молился. Голос его дрожал, из глаз текли горячие слезы, скатывавшиеся по исхудавшим морщинистым щекам. Седая борода была влажна от них. Встав с коленей, он с волнением поглядел на мертвенно-бледное лицо своей юной жены, лежавшей на постели, потом перевел взгляд на крохотного младенца, безмятежно зевавшего возле материнской груди.
Открыв темные, как маслины, глазки, ребенок тут же в испуге смежил веки. Руджедет крепче прижала сына к себе, надеясь спасти, защитить его, и слабым голосом спросила:
— Есть ли новости о Сарге?
— Солдаты догонят ее, если так угодно владыке, — вздохнув, ответил Монра, но он уже ни в чем не был уверен.
— Увы, мой господин! Нить жизни нашего ребенка тонка… Вдруг она порвется?
— Как ты можешь так говорить, Руджедет! С момента побега Сарги я, не переставая, думаю о том, как защитить тебя и младенца от зла и напастей. Владыка посоветовал мне пойти на хитрость, но я переживаю за тебя, потому что в своем болезненном состоянии ты можешь оказаться неспособна вынести какие-либо тяготы.
Жена с мольбой протянула к нему руку.
— Сделай все, что в твоих силах, чтобы спасти наше дитя, — жалобно попросила она. — Пусть моя слабость не беспокоит тебя, ибо материнство придало мне сил, которых нет у здоровых людей.
— Слушай, Руджедет, — сказал измученный жрец, — что я приготовил повозку и наполнил ее пшеницей. В ней я оставил свободный уголок… Туда ляжешь вместе с сыном. Я смастерил из дерева ящик, и, если вы заберетесь внутрь, он скроет вас от любопытных глаз. В этой повозке ты вместе со своей верной служанкой Катой отправишься к дяде в деревню Сенка.
— Позови Зайю, потому что Ката вчера тоже разрешилась от бремени, как и я, ее госпожа, — сказала Руджедет. — Разве ты не знаешь, что она произвела на свет мальчика?
— У Каты родился сын? — удивленно воскликнул жрец. — Что ж, это интересно… Ну тогда, я надеюсь, Зайя будет предана тебе. Не то что Сарга…
— А что будет с тобой, муж мой? — взволнованно спросила Руджедет. — Что, если судьба в лице предательницы донесет тайну нашего младенца до фараона? Что, если твои люди не догонят Саргу? А если фараон пришлет сюда своих воинов? Что ты ответишь им, когда они спросят тебя о твоем сыне и жене?
Верховный жрец не думал о собственном спасении. Он прожил жизнь и покорится судьбе в любом случае. Сейчас его более всего заботило то, как спасти жену и сына, ибо он представлял себе, как будет разгневан Хуфу, а особенно его наследник, жестокий принц Хафра, узнай они о предначертании судьбы. Монра солгал, желая утешить жену:
— Не волнуйся, Руджедет. Сарга не скроется от тех, кого я послал за ней. Что бы ни случилось, меня не застигнут врасплох. Вскоре я непременно буду с вами…
Верховный жрец покинул покои жены и позвал служанку. Зайя почтительно поклонилась своему господину.
— Я поручаю тебе заботу о твоей хозяйке и ее новорожденном ребенке, — повелел Монра. — Ты должна сопровождать их до деревни Сенка. Прошу тебя, — добавил он, глядя в глаза женщине, — будь настороже, поскольку им обоим грозит опасность…
— Я отдам жизнь за свою госпожу, — молитвенно сложив руки, ответила Зайя, — и ее благословенного сына.
Жрец попросил ее помочь перенести госпожу в хранилище для зерна. Служанка изумилась, но повиновалась. Монра завернул свою жену в мягкое одеяло и взял ее под голову и плечи, тогда как Зайя поддерживала ее за ноги. Вместе они пронесли Рудженет через внешний коридор и спустились по лестнице во двор. Войдя в амбар, они уложили молодую мать в повозку на заранее приготовленное место. Затем жрец отправил за сыном. Младенец расплакался — хотел есть. Отец нежно поцеловал его и поднес к материнской груди. Немного постояв у повозки, жрец долго смотрел на них, будто прощался навсегда. Сердце у него громко стучало, на лбу выступила испарина. Монра поцеловал жену и тихо сказал:
— Ты должна быть спокойна ради нашего дорогого ребенка. Не позволяй страху овладеть тобой. Тебе нужно выкормить его сильным, здоровым, лишенным волнений молоком, слышишь, Руджедет?
— Ты так и не назвал его, — она всхлипнула.
— Сим нарекаю его именем моего отца, который покоится рядом с Осирисом. Джедеф… Джедефра… Джедефра, сын Монры. Клянусь богом Ра, я буду молиться за него, я восславлю его имя и сумею оградить малыша от злых козней тех, кто будет замышлять недоброе против него.
Верный слуга жреца накрыл ящик деревянной крышкой со специальными отверстиями для дыхания. Когда Зайя села на место погонщика, взяв поводья двух волов, Монра сказал ей:
— Отправляйтесь с благословением нашего владыки-хранителя. Ничего не бойтесь. Да охранит вас в пути моя молитва.
Повозка медленно выехала за ворота храма. Сквозь слезы жрец смотрел, как волы запылили по дороге — в противоположную сторону от Мемфиса… Он бросился к лестнице, взбежав по ней с энергией юноши, потом поспешил к окну, выходившему на дорогу, и все провожал взглядом повозку, которая удалялась прочь, увозя с собой и его сердце, и его радость.
Потом произошло то, чего, он надеялся, никогда не произойдет — и уж точно не так быстро. Монру вдруг охватил непередаваемый ужас. Жрец позабыл о печали расставания с женой, прощальных муках и своих отцовских терзаниях. Страх сковал его настолько, что почти лишил рассудка и способности к здравому размышлению. Стиснув руку, жрец в испуге зашептал:
— О владыка Ра, о владыка Ра! — Старик увидел, как за поворотом дороги, ведущей к храму, показался, вздымая пыль, отряд царских колесниц. Они быстро приближались, выстроившись в строгий боевой порядок, на одинаковой скорости и держа между собой расстояние ровно в два шага.
«О владыка небесный! Солдаты фараона приехали раньше, чем я предполагал, — холодея, размышлял Монра. — Стало быть, Сарге удалось исполнить задуманное и сбежать от моих стражников. О, если бы ты мог так же молниеносно ниспослать ангелов смерти на их головы!»
Войска фараона мчались подобно ужасным гигантским демонам.
Лошади ржали, колеса грохотали, а на блестящих шлемах отражались косые лучи солнца. И зачем только они прибыли сюда?
Чтобы убить невинного ребенка, любимого сына, которого владыка даровал ему в преклонные годы, когда он уж отчаялся иметь наследника…
Монра ударил себя кулаками в грудь и быстро затряс головой, словно слабоумный. Он горестно оплакивал жену и сына.
— О владыка!.. Они окружили повозку… Один из них допрашивает бедную Зайю. Что он хочет узнать от нее? Как она ответит ему? Зачем им мой малыш? Жизнь моего ребенка и жены зависит от единственного слова Зайи. О мой бог! О священный Ра! Придай ей сил и спокойствия, положи на ее язык слова жизни, а не смерти! Спаси своего возлюбленного, благословенного сына, дабы исполнил он предопределенное тобой пророчество судьбы, о котором ты поведал мне…
Казалось, время остановилось. Солдат продолжал допрашивать Зайю, задерживая ее отъезд. Что, если один из них поднимет крышку ящика и заглянет в него, желая выяснить, что внутри? Что, если ребенок закричит или расплачется?
— Лежи спокойно, сын мой… — шептал жрец, не сводя глаз с повозки. — О владыка, пусть Руджедет вложит свой сосок тебе в рот. Один твой вздох может стать для вас смертным приговором… Владыка наш, мое сердце разрывается, моя душа возносится к небесам…
Внезапно жрец замолчал. Его глаза широко раскрылись, и он шумно выдохнул — на сей раз от переполнившего его счастья.
— Хвала тебе, о Ра! — рыдая, говорил Монра. — Они разрешают повозке ехать. Именем Ра, да полетит она на крыльях к своему убежищу! Хвала тебе, о милосердный владыка!
5
Жрец прекрасно понимал, что опасность вовсе не миновала, что его самого ожидают страшные трудности. Ощущение радости и облегчения длилось всего несколько мгновений. Медленно подойдя к столу, он взял серебряный кувшин, налил себе из него кристально-чистой холодной воды, чтобы утолить жгучую жажду. Однако вскоре до ушей Монры долетел шум той могучей силы, которая прибыла во двор храма с жестоким намерением убить новорожденного, только что побывавшего на расстоянии всего в два поклона от неминуемой гибели. Испуганный слуга доложил жрецу, что отряд царской стражи занял весь дом и поставил охранников на все выходы. Потом прибежал другой слуга, сказав, что командующий фараоновым войском приказывает верховному жрецу немедля спуститься вниз.
Собрав все свое мужество и стараясь казаться спокойным, Монра накинул на плечи свою священную мантию и надел жреческий головной убор. Он спустился по лестнице, размеренным шагом покинул покои, всем своим видом демонстрируя истинное достоинство и величавость самой важной религиозной персоны города Он. С полным осознанием своего авторитета жрец остановился на пороге приемной залы, окинув взглядом солдат, неподвижно стоявших у дверей, словно застывшие изваяния. Подняв руку в знак приветствия и не обращаясь к кому-то в отдельности, Монра сказал:
— Приветствую вас. Да благословит вас бог Ра, творец вселенной и создатель жизни.
Ему ответил громкий властный голос:
— Это мы приветствуем тебя, о жрец священного Ра.
При звуке этого голоса Монра содрогнулся. Он стал искать его владельца, пока не остановил взор на колеснице в центре войска, выстроившегося в каре. Осознав, что к нему прибыл сам фараон Хуфу, жрец вышел во двор. Когда колесница фараона подъехала к нему, Монра распростерся перед ней ниц.
— Мой повелитель, фараон, сын владыки Хнума, свет восходящего солнца, даритель жизни и сил, — с дрожью в голосе произнес он. — Я, мой господин, молю бога, чтобы он вдохновил ваше великое сердце простить мое невежество и дерзость и смилостивиться надо мной.
— Я прощаю ошибки благородных людей, — сказал царь.
С трепещущим сердцем Монра спросил:
— Почему мой господин удостоил своим присутствием мою скромную обитель? Пожалуйста, проходите. Мой дом — ваш дом.
Улыбнувшись, фараон сошел с колесницы. За ним последовал принц Хафра с братьями, визирь Хемиун, командующий Арбу и архитектор Мирабу. Жрец шел впереди, а царь в сопровождении принцев и подданных — чуть сзади, пока они все не остановились в приемной зале. Хуфу уселся в центре в окружении своей свиты. Монра попытался уйти, сославшись на необходимость приготовить дворец к приему царя, но фараон сказал ему:
— Мы освобождаем тебя от обязанностей гостеприимного хозяина. Мы приехали по чрезвычайно важному делу и не можем тратить время попусту. У нас его нет.
Жрец учтиво поклонился.
— Как будет угодно вашему величеству. Я всецело в распоряжении моего господина.
Хуфу устроился в кресле поудобнее и своим пронизывающим, вселяющим ужас голосом спросил жреца:
— Ты один из самых знатных людей нашего царства, располагаешь и знаниями, и мудростью. Поэтому скажи мне: для чего боги возводят фараонов на трон Египта?
— Боги избирают их среди своих сыновей, одаряя божественным духом, чтобы те привели нацию к процветанию и осчастливили верующих, — с достоинством ответил Монра.
— Хвалю за столь прекрасный ответ, — милостиво улыбнулся фараон, — ибо каждый египтянин стремится к благополучию и процветанию. Но фараон — дом бога. Он несет на своих плечах бремя забот о людях и молится за них владыке, даровавшему ему власть. Тогда скажи мне, что должен делать фараон, воцарившись на троне?
Монра храбро ответил:
— Воцарившись на троне, фараон должен поступать так же, как поступил бы любой верующий человек, получив священный дар от щедрых богов. То есть выполнять свои обязательства, пользоваться данными ему правами и защищать своей честью то, что должно защищать.
— Отлично, добродетельный жрец! — удовлетворенно воскликнул Хуфу, хлопнув в ладоши. — Так просвети же меня, а что должен делать фараон, если кто-то самовольно — и без всякого на то права — вдруг посягнет на его трон?
Сердце отважного жреца учащенно забилось. Он точно знал, что ответ на этот вопрос определит его дальнейшую судьбу, но, как благочестивый священнослужитель, решился сказать правду:
— Тогда его величество должен уничтожить тех, кто посмеет замыслить недоброе против него.
Фараон улыбнулся. Глаза принца Хафры зловеще сверкнули.
— Отлично, отлично!.. Ибо если он не сделает этого, то предаст свой статус наследника владыки, забудет свою божественную веру и лишится доверия верующих, — лицо царя посуровело, выражая решимость, с которой можно было бы сдвинуть горы. — Услышь же меня, жрец. Тот, кто угрожает трону, был найден.
Монра оцепенел.
— Судьба по своему обыкновению посмеялась над нами, — продолжил Хуфу, — и произвела на свет младенца мужского пола.
— Мальчика, ваше величество? — дрогнувшим голосом спросил старый жрец.
В глазах фараона вспыхнул гнев.
— Жрец, как ты можешь притворяться, будто ничего не знаешь? — закричал он. — Ты так хорошо говорил о честности и вере, но почему же, стоя прямо перед своим господином, позволяешь лжи закрасться в свое сердце? Ты наверняка догадываешься, почему мы приехали сюда! Потому что ты — отец этого ребенка, а также его пророк!
Кровь отхлынула от лица жреца, и он покорно сказал:
— Мой сын — всего лишь крохотное дитя. Ему несколько часов от роду. Разве он может угрожать вашему трону?
— И тем не менее он уже стал послушным орудием в руках судьбы, которой все равно, кто ее игрушка — взрослый или младенец.
Чудовищный ужас овладел всеми. Люди старались не дышать, ожидая того слова, которое пустит стрелу смерти в несчастливое дитя. Терпение покинуло принца Хафру. Его злое от рождения лицо ожесточилось еще больше.
— О-о-о, жрец! — протянул владыка Египта. — Мгновение назад ты заявлял, что фараон должен уничтожить любого, кто осмелится угрожать его трону, не так ли?
— Да, ваше величество, — в отчаянии ответил Монра.
— Несомненно, боги жестоко обошлись с тобой, на старости лет подарив тебе этого ребенка, — сказал Хуфу, — но безжалостность по отношению к тебе меркнет по сравнению с той опасностью, которая нависла над Египтом и его троном.
— Истинно так, мой господин, — кивнул жрец.
— Тогда исполни свой долг, жрец!
Монра потерял дар речи; у него не осталось слов.
— У нас, египетских царей, есть традиция: уважать жрецов и заботиться о них, — продолжал фараон. — Не заставляй меня изменять ей.
Что хотел сказать этим Хуфу? Желает ли он, чтобы жрец понял, что фараон относится к нему с уважением и не убьет его сына, и поэтому он сам обязан совершить то, от чего отказывается царь? Но как он может требовать, чтобы отец умертвил сына своими руками? Ведь у него самого столько сыновей! Вон они, принцы, все здесь… А у жреца только один, крошка…
Воистину, преданность фараону принуждала Монру выполнить божественное повеление правителя без малейших колебаний. Он знал, что любой человек из народа Египта с радостью отдаст свою душу, чтобы умилостивить великого фараона. Должен ли он тогда взять своего сына и вонзить кинжал в его сердце?
«Но кто определил, что мой сын сменит Хуфу на египетском троне? Разве не владыка Ра? И разве царь не объявил о своем намерении убить невинное дитя, выступив против воли создателя? Кому же я должен повиноваться — Хуфу или Ра? И что станет делать фараон и его приспешники, которые ждут моего ответа? Они начинают беспокоиться и злиться… Так что же мне делать?»
В эти минуты мучительных раздумий опасная мысль подобно вспышке молнии посреди черных облаков, озарила мозг жреца. Он вспомнил о Кате и ее сыне, родившемся вчера утром. Служанка всегда спала в комнате напротив покоев своей госпожи. Чей это был сын? Кто соблазнил девушку? Ну да не все ли равно? Несомненно, то была злодейская идея, которую служитель бога обязан был сразу же отринуть, но любые угрызения совести отступили бы, не выдержав того давления, которое выпало на долю Монры, стоявшего перед царем и его свитой.
В знак уважения он склонил голову и вышел, чтобы совершить самое омерзительное в своей жизни преступление: отдать чужого младенца на заклание ради спасения собственного сына. Фараон последовал за ним; принцы и придворные шли сзади. Они сгрудились позади, но, увидев, что жрец стал открывать дверь в комнату, остановились в коридоре. Монра, не в силах переступить порог, повернулся к Хуфу.
— Ваше величество, у меня нет никакого оружия, — сказал он. — Даже простого кинжала.
Хуфу смотрел на него, но не пошевелился. Хафра почувствовал, как ярость сдавила его ребра. Он вынул кинжал из ножен и грубо сунул его в руку верховного жреца.
Дрожа, Монра взял его и спрятал в своем одеянии. Он вошел в комнату, с трудом передвигая отяжелевшие ноги. Появление жреца разбудило Кату, которая радостно улыбнулась ему, полагая, что господин пришел благословить ее и новорожденного. Она откинула покрывало с личика невинного ребенка, сказав ему:
— Благодари владыку своим маленьким сердцем, ибо он возместил смерть твоего отца божественным состраданием.
Самообладание покинуло охваченного ужасом Монру: чувствуя отвращение к себе, он отвернулся, мысли о том, что предстояло сделать, переполнили его, и их поток унес прочь сомнения. Чем все закончится? Фараон ждал за дверью, и времени на раздумья не было. Жрец терзался такими душевными муками, что у него помутился разум. Обезумев, он закричал. Затем, сделав глубокий вдох, сильно отвел в сторону руку с кинжалом и глубоко вонзил его в свое сердце. Его тело содрогнулось в конвульсиях, и Монра, лишив себя жизни, навзничь рухнул на пол. Ката в ужасе закричала.
Обуреваемый гневом, царь ворвался в комнату в сопровождении своих людей. Никто не мог отвести глаз от тела верховного жреца с кинжалом в груди и испуганной женщины с остекленевшим взглядом на родовом ложе. Никто, кроме принца Хафры, которого это зрелище не могло отвлечь от вожделенной цели. Он, только он будет наследником трона, и никакой младенец не сможет — не должен! — отнять у него дарованную свыше власть. Он не упустит такую возможность! Хафра сжал рукоятку меча, размахнулся и опустил на новорожденного. Его мать, метнувшись подобно молнии, инстинктивно накрыла собой сына, но ей не удалось обмануть судьбу: одним сильным ударом Хафра отрубил голову и ей, и ребенку.
Фараон взглянул на сына. Принц посмотрел на отца. Визирь Хемиун, перехватив эти взгляды, решил разрядить ужасную атмосферу, воцарившуюся в комнате.
— Мой господин, — сказал он царю, — вам лучше покинуть это кровавое место.
Хуфу молча вышел в коридор. За ним потянулись остальные.
Визирь предложил немедленно отправиться в Мемфис, чтобы вернуться туда засветло, но царь не согласился с ним.
— Я не собираюсь спасаться бегством, будто преступник. Напротив, я созову жрецов бога Ра, чтобы рассказать им историю, которая привела к прискорбной кончине их незадачливого собрата. Пока этого не будет сделано, в Мемфис я не вернусь.
6
Повозка меж тем медленно катилась за двумя еле переступавшими ленивыми волами. Зайя дрожащими руками перебирала поводья. Целый час она тащилась по главной улице города Он. Наконец через восточные ворота повозка покинула город. Там Зайя, погоняя волов, свернула на пыльную пустынную дорогу, ведущую к деревне Сенка, где жили родственники Монры. Служанка до сих пор не могла прийти в себя, вспоминая тот страшный момент, когда ее окружили солдаты и строго допрашивали, глядя прямо в глаза. Однако, даже осознавая всю опасность положения, Зайя не растерялась и, сохранив выдержку, смогла убедить солдат отпустить ее восвояси. О, если бы они только знали, что было спрятано в повозке! И как хорошо, что сынишка госпожи не заплакал, не закричал. Должно быть, мать дала ему грудь — и он сосал молоко и молчал…
То действительно были грозные солдаты. У нее перед глазами все еще стоял великолепный образ человека, подъехавшего к ним в золоченой колеснице. Она не могла забыть той величавости, с которой он себя держал. Это делало его похожим на живого идола или какое-то божество. Но до чего удивительно: неужто этот достойный человек явился, чтобы убить невинного младенца, лишь вчера появившегося на свет?
Зайя обернулась, чтобы взглянуть на свою бедную госпожу. Та спала, прижав к себе ребенка, укрывшись одеялом. И малыш тоже спал рядом с теплой грудью. «Несчастная женщина. Кто бы мог подумать, что ее постигнет?! Ведь она еще так слаба! И вот ей приходится покинуть великолепный дом, своего мужа! — думала служанка. — Да и верховный жрец… Разве мог он помыслить о тех страданиях, что ниспослала ей судьба? О, если бы он умел предвидеть будущее, то не пожелал бы сделаться отцом и не женился бы на госпоже Руджедет, которая моложе его на тридцать лет!»
Зайя пожалела и себя: «Если бы только владыка подарил мне сына, пусть даже это навлекло бы на меня все невзгоды мира!»
Служанка была бесплодна, но страстно мечтала о ребенке и надеялась, что боги осчастливят ее, так же как незрячие надеются увидеть хоть проблеск света. Сколько раз обращалась она за советом к врачам и чародеям, пила разные травяные настои и отвары!.. Ничего не помогало. Муж ее, рабочий на строительстве пирамиды, редко бывал дома, но тоже мечтал о ребенке, которого он бы любил всем сердцем и который согревал бы его обещанием бессмертия. Однажды он даже пригрозил Зайе, что возьмет новую жену, которая родит ему сына. Уже почти год он работает на этом безумном строительстве, а она, его жена, служит верховному жрецу и его супруге. И надо же такому случиться: госпожа Руджедет и служанка Ката обе забеременели и родили сыновей в один день! Счастливые! «О владыка! Тогда зачем ты создал меня женщиной? Что такое женщина без потомства? Женщина без детей подобна вину без дурмана, розе без запаха, верующему, забывшему своего бога», — продолжала терзать себя Зайя.
Внезапно сзади раздался слабый голос. Зайя спрыгнула с повозки и подошла к деревянному ящику. Госпожа приподнялась на своем ложе вместе с ребенком, которого держала в руках. Милое смуглое лицо Руджедет осунулось от перенесенных мучений и, вероятно, голода.
— Как вы себя чувствуете, госпожа? — спросила служанка.
— Хвала богу Ра, со мной все в порядке, — тихо ответила Рудженет. — Но какая опасность грозит нам сейчас?
— Не волнуйтесь, хозяйка, — сказала Зайя. — Угроза вам и моему маленькому господину уже миновала.
Женщина глубоко вздохнула.
— Нам еще долго ехать? — спросила она.
— Около часа, — мягко сказала Зайя. — Вы должны поспать под защитой владыки Ра.
Госпожа снова вздохнула и повернулась к дремлющему младенцу Ее лицо засветилось материнской любовью. Зайя смотрела на нее с сыном, на их прекрасный, радостный союз, который уже не могли разрушить никакие препятствия, вставшие у них на пути.
Какое чудесное зрелище! Если бы она сама могла хоть раз вкусить прелесть материнства, покормить грудью малыша, то с радостью отдала бы за это свою жизнь! О бог наш! Владыка не поможет и не сжалится над ней, и муж не простит ее. Возможно, супруг действительно оставит ее, выгонит из своего дома, и она будет обречена на одинокую и несчастную жизнь. Без мужа, без ребенка.
Зайя все смотрела на счастливую мать. «Ах, если бы у меня был такой сын! — подумала она про себя. — Что, если я возьму этого ребенка и притворюсь, будто он мой, особенно после стольких лет молитв богам с просьбой подарить мне дитя?»
В ее замыслах не было зла. Скорее, служанка грезила — подобно душе, мечтающей о невозможном и о том, что никогда не исполнится.
Зайя совсем забылась в своем выдуманном мире — небеса создавали для нее счастье на крыльях мечтаний. В них она уже видела себя идущей в Мемфис к своему мужу с прекрасным ребенком на руках. «Я родила тебе чудесного мальчика, Карда». И супруг стал бы целовать и обнимать ее вместе с маленьким Джедефом. Уставшая от тяжелой дороги, от тяжких дум и фантазий, она привалилась на правый бок, держа поводья одной рукой, а другой подперев голову. Зайя отпустила свой разум в свободное плавание, пока его полностью не поглотило царство грез. Тем временем дневное светило опускалось за западный горизонт, освещая небо кровавым заревом заката…
Наконец служанка очнулась и вернулась в мир реальных ощущений. Сначала Зайя долго не могла сообразить, где она и что с ней происходит. Будто бы она пробуждается в своей постели в доме своего покровителя, жреца бога Ра. Ее знобило. Она вытянула руку, пытаясь подтянуть к себе одеяло, но рука ее погрузилась во что-то, похожее на песок. Удивившись, Зайя открыла глаза и увидела над своей головой черное небо, усеянное звездами. Она почувствовала странное покачивание и вспомнила повозку, госпожу Руджедет с ее маленьким ребенком и все, что всемогущий сон заставил ее позабыть.
Но где же они очутились? Какое сейчас время ночи?
Зайя огляделась вокруг — с трех сторон ее окружал океан тьмы. В четвертой она увидела далекий тусклый свет, несомненно исходивший от деревень, разбросанных вдоль берега Нила. Других признаков жизни в том направлении, куда брели волы, не было.
Опустошенность мира забралась в ее душу. Его мрак пронзил сердце женщины. Было холодно, от жуткой дрожи и страха ее зубы стучали. Зайя вглядывалась во тьму расширенными глазами, ожидавшими появления непередаваемых ужасов.
Служанке показалось, что на темном горизонте она различила призрачные силуэты бедуинов. Она помнила, что люди рассказывали о синайских племенах — как они врывались в деревни, похищали заблудившихся путешественников и нападали на торговые караваны. Наверняка, повозка станет для них отличной добычей — со всем тем зерном, что в ней было насыпано, и волами, которые тащили ее. Что уж говорить про двух женщин — их красота обязательно привлечет внимание вождя разбойников. Зайя обезумела от страха. Спустившись на землю, она посмотрела на спавшую мать и ребенка, чьи лица освещал свет луны и мерцающих звезд. Уже не раздумывая, она протянула руки, подняв малыша, служанка обернула его тельце теплым одеялом и отправилась туда, где тускло светились огни какого-то города. Может быть, это Мемфис? Зайя отошла далеко, когда ей показалось, что сзади ее окликает чей-то испуганный голос. Она решила, что бедуины окружили повозку с ее госпожой. Объятая первобытным страхом, служанка ускорила шаг. Ничто уже не могло остановить ее: ни пески, ни чудовищная усталость. Она напоминала человека, провалившегося в бездну, увлекаемого собственным весом и неспособного
остановить свое падение.
Возможно, уснув, она забралась не так уж далеко в пустыню, как думала раньше, или преодолела гораздо большее расстояние, направляясь к своей цели, потому что скоро почувствовала под ногами не песок, а твердую землю, похожую на покрытие великой пустынной дороги. Обернувшись, Зайя не увидела ничего — лишь непроглядную тьму. Ноги женщины отяжелели. Идти больше не было сил. Она упала на колени, отчаянно хватая ртом воздух. Страх все еще владел всем ее существом, она не могла пошевелиться, подобно оцепеневшей от ужаса жертве, преследуемой хищниками, Зайя застыла. Откуда к ней может прийти спасение? Или погибель?
Внезапно ей почудилось, что она слышит грохот колесниц и ржание лошадей. На самом ли деле она видела колеса, воинов и жеребцов или это кровь шумела у нее в голове? Голоса в ночи стали отчетливее, женщина действительно увидела очертания всадников, возвращавшихся с севера. Зайя не знала, едут они с миром или хотят убить ее и ребенка. Прятаться было поздно, да и некуда. Вдобавок младенец проснулся и залился горьким плачем. Стоя на коленях посреди дороги и боясь оказаться раздавленной колесницами, Зайя закричала:
— Всадники! Услышьте меня! Я здесь!
Она снова окликнула их и потом сдалась на милость судьбе. Колесницы быстро приближались, но затем, чуть не доехав до нее, остановились. Она услышала, как кто-то спросил, кто это кричал, и подумала, что уже где-то слышала этот голос. Зайя крепко обхватила ребенка и нарочито грубовато, по-деревенски сказала:
— Я простая женщина… Сбилась с пути, не знаю, куда дальше идти… Мне страшно… Мой малыш плачет, ветер и сырость ночи чуть не убили его.
— Куда ты идешь? — спросил ее тот голос.
— Я направляюсь в Мемфис, мой господин, — ответила Зайя, почти уверившись, что разговаривает с египетскими солдатами.
Человек рассмеялся и удивленно сказал:
— В Мемфис? Добрая женщина, разве ты не знаешь, что даже всаднику потребуется два часа, чтобы добраться туда?
— Я вышла еще засветло, — сказала Зайя со страдальческой ноткой. — Бедность вынудила меня покинуть деревню. Я решила по глупости, что смогу добраться до Мемфиса к вечеру…
— Кто из твоих родственников живет в Мемфисе?
— Мой муж Карда. Он как раз строит пирамиду для нашего фараона-повелителя.
Тот, кто расспрашивал женщину, наклонился к колеснице слева и что-то прошептал на ухо другому человеку.
— Хорошо, пусть один из солдат проводит ее обратно, — сказал второй мужчина.
Первый возразил:
— Нет, Хемиун, там ее ждет лишь голод. Почему бы нам не взять ее с собой в Мемфис?
Повинуясь приказу фараона, Хемиун слез с колесницы и, подойдя к несчастной, помог ей подняться с коленей. Затем он предложил ей взойти на ближайшую колесницу и велел возничему везти женщину с ребенком в Мемфис.
В этот момент Хуфу обернулся к своему архитектору.
— Убийство невинной матери и младенца, которые никому не причинили зла, разорвало твое нежное сердце, Мирабу, — сказал он. — Но ты не должен обвинять своего господина в жестокости. Видишь, с какой радостью я помогаю измученной женщине и ее ребенку, избавляя их от смерти здесь, во тьме ночи, и везу туда, куда они смогли бы добраться лишь ценой нечеловеческих усилий или умерли бы по дороге… — Хуфу рассмеялся и похлопал Мирабу по плечу. — Фараон милостив к своим подданным. И он был так же милостив, когда предопределилась судьба того несчастного ребенка. Таким образом, поступки царей подобны деяниям богов — будучи скрыты накидкой злодейства, в сущности своей они являются небесной мудростью.
— Первым делом, Мирабу, — сказал принц Хафра, — ты должен изумляться силе превозмогающей воли, которая победила судьбу и отменила ее приговор.
Ни Мирабу, ни визирь Хемиун не ответили жестокому наследнику, на их глазах свершившему злодеяние, от которого содрогнулся бог Ра. И оба остались при своем мнении.
Хемиун вернулся на колесницу, приказав возничему отправляться. Отряд сорвался с места по направлению к Мемфису, прокладывая свой путь сквозь волны тьмы.
7
Зайя оказалась в Мемфисе до полуночи. Царь дал ей две золотые монеты, за что она с благодарностью поклонилась, посчитав его важным военачальником, но не более того. Они так и не увидели лица друг друга.
Зайя была в ужасном состоянии — как душевном, так и физическом. Она мечтала о том, чтобы отдохнуть, поэтому спросила у стражника, не посоветует ли он ей какой-либо постоялый двор, где можно провести остаток ночи. Войдя наконец в комнату, она уложила ребенка, с облегчением вздохнула и без сил упала на постель.
На какое-то мгновение Зайя позабыла об агонии боли и страха, но уснуть ей не давали душевные муки. Что же она натворила? Куда привели ее зависть и бесплодные мечты иметь собственного ребенка? Изнуренная и напуганная, Зайя закрывала глаза, и перед ней сразу возникало лицо ее госпожи, сынишку которой она похитила, а ее предательски бросила в повозке посреди пустыни. А ведь она дала верховному жрецу клятву, что отдаст жизнь за свою госпожу! Ей представлялось, как повозку окружили синайские разбойники, не ведавшие ни жалости, ни сострадания, и набросились на бедную Руджедет, еще не оправившуюся после трудных родов.
Возможно, они надругались над ее хозяйкой, и их вождь сделал ее своей пленницей-рабыней. И все это время Руджет будет рассказывать богам о своем унижении, жалуясь на то, что страдает от отчаяния, вероломного предательства и жестокого обращения.
Мучимая душевным расстройством и страхом, Зайя ворочалась на кровати, но гримасничавшие призраки не оставляли ее в покое. Отчаявшись забыться сном, она переворачивалась с боку на бок, пока наконец дремота не унесла ее прочь от безжалостного пламени проклятия.
Служанка проснулась от громкого плача голодного ребенка. Солнце уже встало — его лучи проникали сквозь крошечную прорезь в глинобитной стене. Мальчик заходился криком. Зайя попыталась покачать его, приласкать, но малыш расплакался еще сильнее, и она пришла в полное замешательство: как же и чем его накормить? Женщина приняла единственно возможное решение. Она подошла к двери и сильно постучала. Вошла пожилая служанка и спросила, что ей нужно. Зайя попросила принести половину ротля
[109] козьего молока.
Держа Джедефа в объятиях, она ходила по комнате, положив свою пустую грудь ему в рот. Зайя неотрывно смотрела на его красивое личико, темные глазки и шептала с нежностью, охватившей все ее существо:
— Улыбайся, Джедеф, улыбайся и будь счастлив, малыш. Скоро ты увидишь своего отца.
Но прежде чем сладко вздохнуть, она испуганно сказала самой себе:
— Теперь ты видишь, что я заполучила ребенка, несмотря ни на что? С его настоящей матерью покончено. И с его отцом тоже!
Его мать взяли в плен бедуины, и она — Зайя — ничем не могла ей помочь. Если бы она хоть немного промедлила с побегом, то тоже стала бы добычей свирепых кочевников. Было несправедливо брать на себя вину за преступление, которого не совершала, поэтому она не испытывала угрызений совести. Что касается верховного жреца, отца Джедефа, его, конечно, убили солдаты фараона в отместку за то, что Монра организовал побег своей жены и сына. Сарга предала, Сарга, а она, Зайя, спасла малыша. Ей не в чем себя винить…
Эти мысли приободрили ее. Служанка еще раз обдумала все, чтобы прогнать от себя тот ночной ужас, который она испытала в пустыне, когда покинула свою госпожу в повозке и бросилась бежать с ребенком на руках…
Зайя постоянно утешала себя, что поступила правильно: ведь если бы она осталась с госпожой, то не смогла бы защитить ее от нападения и погибла бы вместе с ней. В конце концов, у нее не было сил, чтобы тащить хозяйку на себе или отыскать в пустыне укрытие для нее. К тому же было бесчеловечно оставлять ребенка в повозке с Руджедет, обрекая его на верную смерть от клинков людей с Синая. Нет-нет, она совершила доброе дело, когда бежала с Джедефом!
Прогнав от себя остатки угрызений совести, Зайя успокоилась. Разве не чудесно было обрести сына и ни с кем не делить его? Она стала его матерью без всяких оговорок, и Карда будет ему отцом. Словно желая убедить в этом саму себя, она ворковала над младенцем, приговаривая:
— Джедефра сын Карды… Джедефра сын Зайи.
Пришла пожилая женщина с козьим молоком. Зайя накормила ребенка не тем естественным способом, которым кормила его госпожа. Ну что же, бывает ведь так, что женщина рожает, а молока у нее нет. Насытившись, малыш уснул. Зайя стала готовиться к встрече с мужем. Она помылась, расчесала волосы и, прежде чем покинуть постоялый двор с Джедефом на руках, набросила на плечи накидку.
Улицы Мемфиса, как обычно по утрам, уже были запружены народом. Все куда-то шли или ехали в повозках: женщины и мужчины, горожане, деревенские жители, иноземцы. Зайя не знала дорогу к священному плато, поэтому спросила у стражника, как ей туда добраться. Плато находилось на юго-востоке от стены Мемфиса. Чтобы попасть туда, понадобится два часа ходьбы, а на лошади будет быстрее… Так объяснил ей любезный стражник. Зайя разменяла на рынке одну золотую монету и наняла повозку с двумя лошадьми. Она села туда безмятежная и счастливая.
Но до того как грезы забрали ее из этого мира на небеса наслаждения и восторга, воображение Зайи понеслось впереди повозки к ее дорогому мужу Карде. Не было более привлекательного зрелища, чем вид его смуглой кожи и сильных мускулистых ног. Продолговатое лицо с узким лбом, большим носом и широко расставленными глазами, его громкий, сильный голос с шикарной фиванской манерой растягивать слова приводили Зайю в экстаз. Сколько раз в разлуке она мечтала обнять его, поцеловать и просто послушать, как он говорит! Когда же он после долгого отсутствия обнимал и страстно целовал ее, а потом говорил: «Не переживай, жена, для меня ты словно впитывающая воду земля, на которой ничего не растет», ей становилось горько и обидно. Бесплодная жена? О нет, теперь Карда не посмеет так назвать ее, ведь она встретит мужа, держа у своей груди самое прекрасное создание, когда-либо рожденное женщиной! Поначалу он, конечно, отнесется к этой новости недоверчиво, но она сумеет убедить мужа в том, что это его дитя. И тогда суровое лицо Карды смягчится, а гневное выражение сверкающих глаз сменится нежным. Или он сразу закричит ей, не в силах сдерживать переполняющую его радость: «Наконец-то, Зайя, у нас родился ребенок! Это ведь мой сын? Иди же ко мне, иди!» Горделиво подняв голову, она ответит: «Возьми свое дитя, Карда. Целуй его маленькие ножки и, встав на колени, благодари владыку Ра. Это мальчик, и я назвала его Джедеф». Зайя решила, что они с мужем покинут Мемфис и там, в чудесных Фивах, под защитой бога солнца Амона, будут растить сына и заживут жизнью, которой так долго были лишены.
От сладких грез, которыми полна была голова Зайи, ее пробудил окружающий гам и хаос Мемфиса. Чуть поодаль она увидела повозку, спускавшуюся по петляющей дороге. Мужчина погонял лошадей кнутом. Со своего места она не могла разглядеть поверхность плато, но веселые голоса, частный перестук инструментов и пение рабочих звенели у нее в ушах. Среди этих песен Зайя узнала ту, которую обычно заводил Карда в былые счастливые времена:
Нас с юга воды Нила принесли сюда,
И строим мы в пустыне города.
Мы возвели дворцы и храмы с колоннадой,
И ничего другого нам не надо,
Лишь видеть, как красива тут земля,
Как камень стал податлив и покладист,
И вид вокруг нам дарит радость.
Завидуют пускай нубийцы и синайцы,
Пусть наш Египет вечно процветает!
Она слушала, как мужчины с силой и чувством повторяли эти горделивые слова, и хотела быть вместе с ними, будто голубка, истосковавшаяся по воркованию своего голубя. Сердце Зайи, трепеща, подхватывало их песню.
Проехав через дорогу под названием Лощина смерти, повозка выкатилась прямо к плато. Зайя вышла из нее и направилась к скоплению людей на необъятном просторе, подобному огромной армии. По пути она миновала храм Озириса, Большого сфинкса и мастабы предков, чьи прижизненные дела обеспечили им упокоение на этой святой земле. Она увидела длинный канал, вырытый рабочими, по которому на плато стекали воды Нила. По волнам плыли большие корабли, везя на борту массивные гранитные глыбы, а у причала их дожидались толпы грузчиков с тележками. Издали Зайя увидела основание пирамиды, которое охватить полностью глазу было не под силу, и людей, усеявших его поверхность, словно небо — крохотные звезды. Звуки песнопения смешивались с криками надсмотрщиков, командующих царской стражей, и шумом тысяч орудий труда. Растерявшись, прижимая к себе ребенка, Зайя остановилась, поворачиваясь туда-сюда и не зная, куда пойти. Наконец она поняла, что искать мужа в таком безбрежном океане смуглых человеческих тел было просто бессмысленно. Ее уставшие глаза перескакивали с одного лица на другое.
Один из проходивших рядом стражников строго спросил женщину.
— Что тебе здесь нужно?
— Я ищу своего мужа Карду, господин.
— Карду? Он кто? Архитектор или стражник? — один за другим задавал вопросы солдат, нахмурив брови, словно пытаясь припомнить это имя.
— Он простой рабочий, господин, — робко ответила она.
Стражник рассмеялся, а потом указал на ближайшую постройку:
— Можешь поспрашивать о нем в домике смотрителя.
Зайя направилась к изящному строению средних размеров, у входа в которое, преграждая ей путь, стоял вооруженный охранник. Женщина назвала причину своего визита, и он пропустил ее внутрь. В просторной комнате, заставленной низкими столами, на табуретах сидели служащие и писцы. На полках вдоль стен были навалены свернутые папирусные свитки. В глубине виднелась еще одна приоткрытая дверь, на которую ей жезлом указал охранник. Другая комната оказалась поменьше. Здесь стояли деревянные кресла с подлокотниками. В углу за столом в кресле восседал тучный, приземистый мужчина с необычайно большой головой, коротким, приплюснутым носом, широким подбородком и щеками, надутыми, будто два пузыря. Подняв тяжелые веки, он надменно взглянул на вошедшую бедно одетую женщину с ребенком на руках и с явным пренебрежением спросил твердым властным голосом:
— Что тебе нужно, женщина?
Смутившись и оцепенев от страха, Зайя тихо сказала:
— Я ищу своего мужа, господин.
— И кто таков этот твой муж?
— Он рабочий, господин.
Он ударил кулаком по столу и затем гневно пророкотал — его голос эхом отразился от стен, словно в подземелье:
— И по какой же причине ты хочешь оторвать его от работы, а нас заставить попусту тратить свое время?
Зайя испугалась еще сильнее, нёбо пересохло, и она не смогла больше ничего сказать. Смотритель продолжал разглядывать женщину. Он отметил овальное смуглое лицо, теплые, медового оттенка глаза, красивые волосы. Ему совсем не хотелось заставлять искажаться от страха такое милое личико. Показная строгость служила лишь для хвастовства и тщеславия: сердце у этого человека было доброе, чувства — искренние. Сжалившись над женщиной, он сказал ей своим обычным высокомерным тоном, но как можно мягче:
— Зачем ты ищешь своего мужа?
Облегченно вздохнув, Зайя спокойно ответила:
— Я пришла из города Он, после того как лишилась там средств к существованию. Хотела, чтобы он знал, что теперь я здесь…
Смотритель взглянул на ребенка, которого она держала на руках, потом спросил:
— Ты говоришь правду, женщина? Или ты пришла сюда, чтобы сообщить ему о рождении этого ребенка? И его ли это ребенок? — усмехнулся он.
Щеки Зайи залила густая краска стыда. Какое-то мгновение мужчина с вожделением смотрел на нее, а затем сказал:
— Хорошо… Из какого города твой муж?
— Он родился в Фивах, но жил в Оне. Там мы и поженились, а потом он отправился на заработки в Мемфис. Он — каменотес.
— И как же его зовут?
— Карда, сын Ана, господин.
Смотритель кликнул писца из соседней комнаты.
— Поищи-ка каменотеса Карду, сына Ана, из города Он, — приказал он.
Писец стал рыться в запечатанных свитках. Отыскал один, развернул и, водя пальцем, нашел символ «к» и имя «Карда». Вернувшись к начальнику, он наклонился и что-то тихо прошептал ему на ухо, прежде чем вернуться обратно за свой стол.
Смотритель напустил на себя прежний властный вид, долго смотрел на лицо стоявшей перед ним женщины, затем тихо сказал:
— О женщина, я должен сообщить тебе горестную весть. Карда недавно отправился в город мертвых. Умер на работе, исполняя свой долг.
Когда слово «умер» дошло до сознания Зайи, она издала вопль ужаса. Придя в себя от нервного потрясения, женщина помолчала, потом с отчаянной мольбой спросила смотрителя:
— Неужели мой муж Карда действительно умер?
— Да, — вздохнул он.
«Ничего не поделаешь, — подумал про себя смотритель. — Они мрут здесь как мухи. А женщина просто чудо как хороша…»
— Но… откуда вы знаете, господин?
— Это мне сообщил писец. Он же при тебе смотрел списки рабочих из города Он.
— Но, может быть, глаза обманули его? — пыталась протестовать Зайя. — Имена иной раз бывают очень похожи…
Смотритель приказал принести свиток к нему на стол, сам изучил его и с сожалением покачал головой. Он взглянул на лицо женщины. Оно стало мертвенно-бледным.
— Тебе придется смириться и покориться воле богов.
Зайя разрыдалась, и смотритель, выйдя из-за стола, усадил ее в кресло. Ребенок проснулся и тоже заплакал.
— Вот видишь, ты испугала сына, — укоризненно сказал смотритель. — Это ведь сын, я угадал?
Зайя кивнула, все еще всхлипывая. Как мираж в пустыне, ей мерещился ее живой красивый смуглый муж, и она цеплялась за эту надежду.
— Может быть… господин, тот, кто умер, был другим человеком с таким же именем, как у моего мужа? — сквозь слезы спросила она.
— Карда, сын Ана, был единственным, кто скончался среди каменотесов из города Он, — уверенно ответил толстяк.
Женщина застонала.
— Какое несчастье на мою голову, господин! Неужто судьба не могла найти другую цель для своих жестоких стрел? О бедная я, бедная! Что же мне теперь делать? — вопрошала она.
— Не принимай это слишком близко к сердцу, — успокаивал ее смотритель.
— Но у меня не было другого мужчины, кроме него, господин.
Желая подбодрить женщину, добрый смотритель сказал:
— Фараон не забывает о своих верных слугах. Его милость снисходит ко всем умершим. Слушай, что я тебе скажу. Наш царь-повелитель приказал построить дома для семей тех тружеников, которые скончались на строительстве пирамиды. Их возвели у подножия плато, и теперь там живут многие женщины и дети. Наш фараон Хуфу выплачивает им ежемесячное пособие. Своим указом он постановил, чтобы мужчин из их родственников брали на службу стражниками. Есть ли у тебя кто-то из мужской родни, кого ты бы хотела увидеть назначенным для присмотра за рабочими?
— Кроме этого ребенка у меня больше никого не осталось, — со слезами ответила Зайя.
— Вы двое будете жить в хорошей комнате, — пообещал смотритель, — и я прослежу, чтобы никто не донимал тебя расспросами.
Зайя вышла из дома смотрителя несчастной вдовой, горестно оплакивая беду, постигшую ее мужа, и собственные злоключения.
8
Построенные по приказу фараона дома для семей умерших рабочих располагались за пределами белых стен Мемфиса, на востоке от священного плато. Этот поселок был обнесен оградой. Дома представляли собой скромные двухэтажные строения с четырьмя просторными комнатами на каждом этаже и плоской крышей-террасой. Зайю и ребенка поселили в одной из таких комнат с низким потолком и зарешеченным проемом вместо окна. Она постепенно привыкала к жизни среди вдов и матерей-одиночек с детьми, большинство из которых не переставая оплакивали своих умерших родичей. Как у отдельной социальной группы, у них были свои занятия. Трудились все: мальчишки таскали воду для рабочих, а женщины продавали им приготовленную еду и пиво. Этот квартал вскоре превратился в недорогой базар, где можно было купить глиняную посуду, циновки, изготовленные руками женщин, игрушки-трещотки для бедной детворы. Сюда же рыбаки привозили на продажу свежую рыбу, а крестьяне торговали здесь козьим сыром, смоквами, финиками…
Первые дни в своем новом доме Зайя все еще печалилась, горюя о безвременно покинувшем ее муже. Ее горе не утихало, несмотря на всю заботу и участие, которые проявлял к ней Бишару, смотритель пирамиды. Он уверял вдову, что смерть не внемлет мольбам тех, кто остается жить на земле. Да и что означают все годы жизни на земле? Каждый стремится рано или поздно соединиться со своими родичами в городе мертвых. В загробном мире можно не гнуть спину и наконец-то отдохнуть. Нет ни врагов, ни войн, ни надсмотрщиков… Вечный покой. И если на земле ты был хорошим мужем, честно трудился, никакие испытания на суде тебя не ожидают. Да, он утешал Зайю, как мог, имея на нее виды; Зайя же понимала, что бог Ра прогневался на нее за то, что она натворила, оставив несчастную госпожу одну во мраке пустыни и украв ее благословенного ребенка. Наказание последовало незамедлительно и неотвратимо. Но признаться в своем злодеянии она не могла никому и никогда. Заботы о растущем малыше отвлекали Зайю от ее мучительных дум.
За эти месяцы смотритель Бишару навещал ее каждый раз, когда ему доводилось заезжать в этот поселок, чтобы проверить состояние построек. На самом же деле он навещал многих вдов, но к Зайе относился с особой теплотой и состраданием. Хотя вряд ли те остальные были менее несчастны, нежели эта вновь прибывшая женщина, просто ни у одной из них не было горячих, медового оттенка глаз, как у Зайи, и такого же стройного тела, как у нее. Размышляя над его интересом к себе, она думала: «Какой прекрасный человек! Конечно, он невысок и толст, с грубыми чертами лица и немного староват, зато так добр ко мне и нежен!» Она давно заметила, что, когда Бишару смотрел на ее гибкий стан, его тяжелые веки трепетали, а толстые губы подрагивали. Он уже не напускал на себя надменного вида, а когда она шутливо или ненароком касалась его, замирал на месте.
Зайя поставила себе цель убраться из этого поселка, где жили тусклые, бесцветные женщины, рано постаревшие, с поджатыми губами, с заплаканными глазами. Ей понадобилось все ее женское коварство и кокетство, чтобы покорить смотрителя и перебраться в хороший дом, пусть даже в гарем. Когда Бишару явился в очередной раз, она стала жаловаться на свое одиночество и на то, как плохо живется ей в этом лишенном счастья доме, в этом унылом поселке.
— Господин мой, добрый мой наставник! Быть может, от меня будет больше пользы в каком-нибудь другом месте? Я много чего умею. Я долгое время служила во дворце одной из лучших семей города Он, — сказала она. — У меня есть опыт работы служанкой. (Зайя не назвала верховного жреца храма бога Ра, ибо инстинкт подсказывал ей, что имена Монра и Руджедет лучше не упоминать.)
Веки смотрителя перестали дрожать.
— Я понимаю, Зайя, — сказал он, плотоядно глядя на красивую вдову. — Ты жалуешься вовсе не от безделья, нет. Раз ты привыкла к роскоши, пребывание здесь причиняет тебе чудовищные муки.
Хитрая женщина кокетливо улыбнулась, показав ему красивое личико маленького Джедефа.
— Разве это место подходит для такого милого ребенка?
— Нет, — покачал головою смотритель. — Конечно, нет, Зайя.
Покраснев, она захлопала длинными ресницами. Улыбнувшись, показала ямочки на щеках.
— У меня есть дворец, о котором ты мечтаешь, — сказал он. — И может быть, дворец тоже мечтает о тебе.
— Только позовите, господин.
— Моя жена умерла, оставив мне двух сыновей. У меня есть четыре наложницы. Станешь ли ты пятой, милая Зайя?
— О да! С наслаждением! — воскликнула она и дотронулась кончиком своего носа до толстого носа Бишару (так целовались в Древнем Египте).
В тот же день Зайя и Джедеф переехали из убогой комнаты на женскую половину ослепительного по красоте дворца Бишару, смотрителя пирамиды. Усадьба его, огороженная белой каменной стеной, с прудами, фруктовыми садами и виноградниками, простиралась до самого канала, по которому текли воды Нила. Зайя считалась простой наложницей, обитательницей гарема, но у нее было особое положение. Тамошняя атмосфера благоприятствовала ее уловкам и чарам, ибо во дворце не хватало настоящей хозяйки. Сыновья смотрителя были прелестными детьми. Бишару в них души не чаял, и Зайя, балуя мальчиков, привлекая их на свою сторону, добилась того, чтобы они незаметно подтолкнули своего отца к принятию важного решения. Эти действия хитрой женщины увенчались успехом. Ей удалось женить Бишару на себе. Новая жена смотрителя сразу взяла в свои руки бразды правления во дворце и заботу о двух мальчиках, Нафе и Хени. Добившись высокого положения в обществе и не нуждаясь более во лжи и обмане, она поклялась, что даст его детям, как и своему дорогому Джедефу, надлежащее воспитание и станет для этих троих мальчиков настоящей матерью.
Так после злоключений судьба улыбнулась Зайе, и мир предложил ей совсем другую — достойную и богатую жизнь. Полоса ее несчастий закончилась.
9
Дом, где провел свое детство божественный сын Ра, был поистине удивительным. Первые три года, по традиции, существовавшей тогда в Египте, мальчик покидал объятия матери только на время сна. В течение тех трех лет он оставил в сердце Зайи след, который не стирался до самой ее смерти. Ухаживая за ним и кормя его, она переполнялась нежностью и любовью, но ничего более подробного о раннем воспитании Джедефа мы сказать не можем. В конце концов, то была — как и любое детство — тайна, похожая на джинна, запертого в бутылке, о сущности которой знали только боги, не желая раскрывать ее остальным. Единственное, что можно было отметить, так это то, что подрастал мальчик очень быстро, подобно египетским деревьям под лучами ослепительного солнца. Его характер расцвел, явив свою доброту, словно роза, распускающая прекрасные лепестки, когда тепло жизни проникает в ее стебель. Он был счастьем Зайи, светом ее глаз, а любимым занятием Нафы и Хени стало тискать малыша, учить его говорить, бегать, играть.
Но его раннее детство закончилось со знаниями, которые прочно обосновались в голове мальчика. Он называл Зайю мамой, а она, в свою очередь, научила его звать Бишару отцом. Смотритель принял как добрый знак красоту этого ребенка, сравнимую с блеском лотоса. Мать неустанно приучала его любить имя бога Ра. Она требовала от него повторять это имя и перед сном, и в ранний утренний час, чтобы милость владыки коснулась его прекрасного сына.
В три года Джедеф выбрался из объятий Зайи. Он начал ходить по комнате матери, а затем по всему дому. Его направляло желание потрогать рисунки на подушках, резные украшения на ножках кресел, картины на стенах, расставленные тут и там произведения искусства и висячие светильники. Руки ребенка тянулись ко всему, что можно было схватить, радостно исследуя находки, и наконец, запыхавшись, он восклицал: «Ра!» Или из его неокрепшей груди вырывалось глубокое «Ах!», и Джедеф снова продолжал свои полные невероятных открытий поиски. Смотритель подарил ему роскошные игрушки: деревянного коня, маленькую боевую колесницу и крокодила с открытым ртом. С ними Джедеф пребывал в своем собственном мире, где жизнь шла так, как хотелось ему, и где все появлялось по первому же его желанию. Деревянный конь, боевая колесница, крокодил с разинутой пастью — у каждой игрушки было особое предназначение. Он разговаривал с ними, а они отвечали ему. Он отдавал им приказы — и они подчинялись, разделяя с ним секреты неодушевленных вещей, которые были недоступны для понимания взрослых.
В это же время во дворце у собак старой уважаемой породы из Арманта родился щенок, которого назвали Гамурка. Джедеф полюбил его с первого взгляда и забрал жить в свою детскую комнату. Связь между ними стала неразрывной еще в том раннем возрасте. Несомненно, самой судьбой было предопределено, что Джедеф так сильно полюбит Гамурку. Щенок рос буквально в его объятиях, охранял сон мальчика и рычал, если кто-то ненароком хотел нарушить его. А Джедеф с нежностью произносил его имя, и первый лай щенка был обращен к нему. И он впервые помахал хвостом, чтобы приветствовать своего маленького хозяина. Но, к сожалению, щенячьи дни Гамурки не были лишены неприятностей, потому как его подстерегал крокодил с разинутой пастью. Когда Гамурка видел монстра, он принимался лаять — его глаза сверкали, тело напрягалось от страха. Щенок метался из стороны в сторону и не успокаивался до тех пор, пока Джедеф не прятал жуткую игрушку подальше.
Эти двое были неразлучны: когда Джедеф ложился спать, Гамурка забирался к нему под бок. Если Джедеф сидел тихо, что бывало крайне редко, щенок, вытянув кривые лапы, разваливался рядом с ним, или облизывал щеки и руки своего друга, как того требовали его чувства к мальчику Он сопровождал Джедефа на прогулках в саду и катался вместе с ним на лодке, если Зайя брала их в плавание по дворцовому пруду. Оба опускали головы, стараясь разглядеть свое отражение в воде. Гамурка не переставая тявкал, а Джедеф с восторгом дивился тому прекрасному, так похожему на него маленькому созданию, обитавшему в глубине водоема.
В Египте не было обычного деления на времена года. Смену времен определяли по разливу Нила. Четыре месяца разлива называли ахет, затем шел перет — время сева, совпадающее с прохладным сезоном, и наконец шему — сезон уборки урожая и несносной жары. Когда разлив Нила постепенно начинал спадать, ахет и был началом нового, «совершенного года». Тогда цвели масличные деревья, обещая обильный урожай, птицы вили гнезда, молодежь веселилась, катаясь на лодках, а детишки голышом носились по берегу. Нафа и Хени прыгали в воде, плавали и кидали друг другу мяч. Джедеф стоял рядом с Гамуркой, с завистью поглядывая на них. Он спрашивал у матери, можно ли ему делать то же самое, чем занимались они. Зайя поднимала его под руки, потом опускала в воду по пояс, а он взбивал ногами пену, ликуя и крича от счастья.
Насытившись играми и шалостями, они вместе возвращались в цветущий, наполненный ароматами сад. Зайя сидела на диванчике. Перед нею располагались Джедеф, Нафа и Хени, а возле них укладывался криволапый Гамурка.
Она рассказывала им историю о потерпевшем кораблекрушение матросе, который на обломке доски выплыл к затерянному острову. Описывала, как из пучины появился правивший тем островом гигантский змей. Он мог бы убить моряка, если бы не понял, что тот был искренне верующим человеком похвального поведения, а также одним из подданных фараона. Змей позаботился о моряке и дал ему корабль, доверху груженный всякими сокровищами, на котором тот живым и здоровым вернулся на землю Египта.
Джедеф еще не совсем понимал эти сказки, но с неподдельным интересом следил за развитием сюжета, глядя на мать своими прекрасными темными глазами. Он был счастлив и любим, ибо кто же мог не обожать Джедефа за его добрый, веселый нрав? Мальчик просто купался в лучах любви. Он ощущал и впитывал эту любовь всем своим существом, когда говорил или молчал, играл или сидел смирно, когда был доволен и когда его снедало беспокойство. Он жил подобно бессмертным богам и не задумывался о завтрашнем дне.
Когда Джедеф достиг возраста пяти лет, жизнь стала раскрывать ему некоторые свои тайны. В то время Хени исполнилось одиннадцать, а Нафе двенадцать лет. Они завершили первый этап обучения. Хени решил поступить в школу Пта, чтобы пройти через несколько ее уровней, изучая религию и мораль, науку и политику, потому что мальчик, который по своей природе был предрасположен ко всему этому, намеревался когда-нибудь занять религиозный пост или даже стать судьей. Нафа же, нисколько не сомневаясь, записался в школу искусств Хуфу, потому что любил проводить время за рисованием.
Пришел срок и Джедефу поступать в начальную школу. На четыре часа в день он был лишен мира фантазий и общества Гамурки. Мальчик проводил эти часы с детьми и незнакомыми ему людьми, учился читать и писать, решать арифметические задачи, правильно вести себя и любить свою родину.
Первым, что дети услышали в день начала занятий, было: «На уроках вы должны полностью сосредоточиться на получении знаний. Непослушным следует запомнить: у людей уши находятся над щеками, и они сразу становятся внимательными, как только им их надерут».
Впервые в жизни Джедефа розги играли роль в его обучении, хотя ему удалось сразу проявить себя с лучшей стороны, поскольку у него была неплохая подготовка. Он с радостью посвятил себя красивому языку клинописи и быстро преуспел в сложении и вычитании.
Большое влияние на него оказывал преподаватель морали и этики. У него была обаятельная улыбка, которая разжигала в душах учеников страстное увлечение и убежденность. Джедеф любил его еще больше за то, что он своим огромным животом, тяжелыми подбородками и громким голосом напоминал ему отца — Бишару. Джедеф замирал, когда учитель говорил.
— Послушайте изречения нашего мудреца Кагемни, да будет благословлен его дух на небесах: «Не упрямьтесь в споре или иначе вас покарает владыка». Или: «Недостаток вежливости — это стыд и позор». Или: «Если вы приглашены на пир, когда вам предложат лучшее блюдо, не берите его и не пытайтесь съесть, ибо люди плохо подумают о вас. Утолите жажду глотком воды, а голод — кусочком хлеба».
Позже преподаватель стал объяснять детям смысл этих слов, а потом читал им изречения и рассказы. Частенько он напоминал ученикам: «Воздай своей матери за все, что она сделала для тебя! Снабди ее хлебом в изобилии и носи ее, как она тебя носила. Ты был для нее нелегкой ношей. Когда ты родился после положенных месяцев, она еще долго носила тебя на руках и кормила своим молоком. Не докучай ей, ибо владыка слышит ее жалобы и отвечает на ее мольбы».
Джедеф с восторгом тянулся к учителю, наслаждаясь его стихами и сказками. Начальное образование длилось для мальчика семь лет, за которые он изучил основы наук и достиг мастерства в чтении и письме.
Помимо учителя Джедеф был сильно привязан к своему брату Нафе. Мальчик сидел рядом, пока тот рисовал и чертил, следя своими прекрасными глазами за извилистыми линиями, которые наносил брат и которые в своем скоплении представали самыми чудесными формами и произведениями искусства. Нафа умел передать на пергаменте и папирусе движения женских и мужских фигур, прекрасно рисовал лошадей, воинов с копьями, чертил планы красивых домов и мечтал стать архитектором. Когда Джедеф и Нафа проводили время вместе, их комната наполнялась задорным смехом. Старший брат придумывал шутки и проказы, и Джедеф просто хохотал от души, глядя на Нафу.
Однако его формировавшимся разумом полностью владел Хени. Его жажда к знаниям не довольствовалась простыми принципами, впитывая в себя теологию и высшие науки в этом раннем возрасте.
Джедеф стал хорошим писцом и Хени диктовал младшему брату отрывки из своих лекций, просвещая его молодой ум цитатами из Кагемни, великой Книги мертвых и поэзии Тайи. Все это мягко проникало в незрелый разум Джедефа вместе с аурой неуловимой неясности, пробуждавшей его от невинности и заставлявшей с тревогой и беспокойством размышлять о жизни.
Несмотря на угрюмую серьезность Хени, Джедеф очень его любил. Когда старший брат позволял себе отвлечься на игры, Джедеф с Гамуркой сразу неслись в его комнату. Мальчик записывал для брата лекции или с интересом листал расписанные картинками книги. Он разглядывал изображения Пта, владыки Мемфиса, и его длинный посох с резным концом, украшенный тремя символами — силы, жизни и бессмертия, а также Аписа, священного быка, в котором обитал дух божественного Пта.
Он забрасывал Хени вопросами, на которые тот терпеливо отвечал. Хени рассказывал Джедефу великие египетские мифы. Потрясали истории об Анубисе, главном боге в царстве мертвых, Апопи — олицетворении сил мрака и хаоса, враге бога солнца. Этот Апопи посылал своего огромного змея, чтоб остановить плавание ночной ладьи бога Ра, и тот выпивал весь подземный Нил. Джедеф пугался и прижимался к брату. Хени, погладив мальчика по густым волосам, успокаивал его:
— Бог Ра побеждает чудовище, а солнце снова всходит.
Беззаботное детство подходило к концу. Джедеф получил от него все сполна, и даже больше, однако его умственные способности переросли свой возраст.
Он был похож на молодое расцветающее дерево, покрытое пышной листвой.
10
К сожалению, время двигается только вперед и никогда не возвращается вспять. Неустанно спеша, оно приносит каждому человеку предопределенную именно ему судьбу, исполняя ее волю, вариации которой остаются единственным развлечением для скучающей вечности. От нее идет все, что время разрушает, и все, что возрождает, все, что веселится в молодости и стонет от болей в старости. Не стала исключением для течения времени и семья Бишару.
Главе семейства уже исполнилось пятьдесят. Его тучное тело стало обвисать, волосы поседели, и постепенно он начал утрачивать свою силу и энергию. Его нервы напрягались до предела, когда он все чаще и чаще кричал, ругая стражников и попрекая писарей. Бишару скорее походил на быка, который громко мычал, даже не испытывая боли, ибо по натуре обладал двумя качествами, никогда не сдававшимися на милость времени. То были его чувство чести и доброта его сердца. Он все еще пребывал в должности смотрителя на строительстве пирамиды Хуфу, и горе тому просителю, который осмеливался обратиться к нему, если тот не был одного с ним звания или ранга. Бишару неустанно восхвалял свои доблести, пока у него хватало сил, и ничто так не ублажало его, как слова льстецов.
Если благодаря своей должности Бишару попадал на прием к фараону, то его глашатаи распространяли новости повсюду, куда проникало влияние смотрителя, чтобы их узнали люди его круга, крупные и мелкие чиновники, а заодно и друзья вместе с подчиненными. Но полагая, что этого недостаточно, Бишару говорил сыновьям:
— Ступайте и сообщите славные вести своим друзьям. Соревнуйтесь между собой за право рассказать о той чести, которой удостоился ваш отец за верную службу и великий талант.
Несмотря на показное хвастовство и кичливость, на самом деле Бишару оставался тем же добрым и отзывчивым человеком, каким был всегда, не желающим причинять никому вреда. Гнев смотрителя пирамиды никогда не шел дальше кончика его языка.
Зайе было сорок лет, но этот возраст почти не отразился на ее внешности. Она сохранила красоту и свежесть, став высокочтимой дамой, в немалой степени благодаря своей укоренившейся добродетели. Все, кто видел ее живущей во дворце Бишару, даже и не предполагали, что когда-то она могла быть женой рабочего Карды и служанкой госпожи Руджедет. Зайя не только обернула воспоминания о прошлом пеленой забытья, но и запретила своей памяти приближаться к той истории, сокрытой в складках времени. Она хотела наслаждаться лишь одной причиной своего счастья — материнской любовью к Джедефу. Зайя любила его так, словно на самом деле девять месяцев проносила под сердцем. Самой сокровенной ее мечтой было увидеть, как он вырастет и станет благородным, довольным жизнью человеком.
В это же время Хени почти завершил дополнительное обучение: ему оставалось только три года, чтобы постичь все секреты учености. Будучи склонным к глубоким знаниям и погружению в тайны вселенной, он выбрал теологию и тот путь, который привел бы его к жречеству. Однако не все зависело от него, ибо жрецами в Мемфисе могли становиться лишь сыновья жрецов — двери храмов открывались только для избранных. Хени прекрасно учился, он знал образы всех богов, их атрибуты, все связанные с ними мифы и обряды. Тот, кого признавали достойным войти в жреческую корпорацию, должен был снять свои светские одежды: его купали, брили наголо, умащивали благовониями, и затем он в жреческом священном одеянии вступал в «небесный горизонт». Еще прежде юноша должен был выдержать множество испытаний, пройти все стадии: от уаба (чистого) через божественного отца (ит нечер) до херихеба — человека, держащего свиток с программой праздника. В храме Пта Хени приняли благожелательно, ибо в своей ученой жизни он проявил и острый ум, и высокие нравственные принципы, унаследовав от отца только его грубый, хриплый голос. Стройный, с заостренными чертами лица, спокойным поведением и характером он больше походил на свою мать, которая отличалась благочестием и набожностью.
Нафа, обладавший добрым и веселым нравом, был полной противоположностью своего брата Хени. Закончив учебу, он стал художником и — с помощью отца — снял небольшой дом на улице, названной в честь царя Снеферу, по которой проходил самый важный торговый путь Мемфиса. Там он обустроил студию, где создавал и выставлял напоказ свои художественные творения, и повесил вывеску, которая гласила: «Нафа, сын Бишару, выпускник школы изобразительных искусств Хуфу». Он продолжал работать и мечтать, терпеливо дожидаясь появления покупателей и поклонников.
Гамурка вырос. Его мягкая черная шерсть стала жесткой, а острые клыки, обнажаясь, предупреждали о том, что он — пес жестокий и может причинить боль. Его лай стал грубым, эхо от него было настолько жутким, что вселяло страх в сердца кошек, извещая их о том, что защитник дома смотрителя всегда на страже. Но, несмотря на свои размеры и норов, пес был нежнее южного ветра со своим дорогим другом Джедефом, к которому с каждым днем привязывался все сильнее. Когда мальчик звал его, он являлся без промедления, получая от хозяина команду, пес исполнял ее, а если Джедеф ругал его, Гамурка прижимался брюхом к земле и затихал, глядя покорным взглядом. У них были тайные послания друг другу, отличающиеся от человеческого языка. Когда Джедеф возвращался домой из школы и только подходил к воротам, Гамурка уже срывался с места и мчался ему навстречу. Собака улавливала любое настроение своего хозяина, она обладала редкой, потрясающей чуткостью, которой иногда недоставало даже братьям. А когда мальчик по какой-либо причине выглядел усталым и раздражительным, Гамурка молча ложился у его ног и преданными глазами смотрел на него снизу.
Джедефу исполнилось двенадцать лет. Настало время выбирать, чему он хочет посвятить свою дальнейшую жизнь. Еще совсем недавно он вовсе не задумывался над этим сложным вопросом. Он интересовался буквально всем. Хени он так усиленно демонстрировал свою увлеченность
философией, что старший брат твердо уверился: в будущем Джедеф непременно должен был стать жрецом. А вот Нафа, чьими помыслами руководила любовь к искусству, наблюдал за младшим братом, когда тот плавал, бегал, танцевал. Он смотрел на его стройное тело, подтянутую фигуру и, представляя его одетым в военную форму, восклицал: «Какой бы из него получился отличный солдат!» Нафа и Джедеф очень любили друг друга, и потому именно Нафа подвинул мальчика посвятить свою жизнь той сфере деятельности, которой и Зайя больше всего желала для любимого сына. С того дня ничто так не привлекало внимание Зайи во время народных празднеств, как вид солдат, всадников и особенно воинов фараоновой стражи. Блестящие шлемы, загорелые победители на колесницах, яркие знамена…
Бишару не интересовался тем, каким искусством или наукой предпочтет заниматься Джедеф. Он решил не вмешиваться в выбор сыновей. Хени и Нафа предпочли заниматься каждый своим делом. Но однажды, когда вся семья сидела в летней гостиной, смотритель, почесывая свой массивный живот, сказал, что хочет вслух поразмышлять на эту тему.
— Джедеф… О боги! Джедеф, который, кажется, еще только вчера учился ходить… Джедеф как ответственный совершеннолетний человек очень серьезно подошел к выбору своей дальнейшей профессии. Время быстротечно, поэтому, о время, сжалься над Бишару и отнесись к нему с милосердным терпением, пока не будет закончено строительство пирамиды, ибо найти ему достойную замену тебе не удастся.
Зайя высказала свое пожелание:
— Лишние рассуждения ни к чему. Джедеф красив, высок и строен. Все, кто видит его, сразу говорят, что он выглядит как офицер фараонова войска.
Джедеф улыбнулся матери, чья речь совпадала с его собственной страстью, вспоминая отряд колесниц, который однажды на его глазах в день праздника Пта пронесся по улицам Мемфиса. Они ехали строгими параллельными рядами. Возничие стояли прямо, словно каменные обелиски, привлекали к себе взгляды всех горожан и приезжих иноземцев.
Хени предложение Зайи не понравилось, и он возразил густым отцовским голосом:
— Нет, мама, Джедеф по своему темпераменту настоящий жрец! Я сожалею, что приходится выступать против твоего желания, брат, — продолжал он. — Сколько раз он демонстрировал мне свою готовность учиться и склонность к науке и знаниям? Сколько раз я был вынужден отвечать на множество его умных вопросов? Его место в школе Пта, а не в военной. Что скажешь, Джедеф?
В тот день у Джедефа проснулись храбрость и решимость, и он не колеблясь выразил свое мнение.
— К сожалению, я вынужден разочаровать тебя, брат, — сказал он. — Я действительно хочу стать солдатом.
Хени был ошеломлен, а Нафа, громко смеясь, сказал Джедефу:
— Мудрый выбор — ты вылитый солдат. Только таким я и вижу тебя. Если бы ты избрал в своей жизни другое занятие, то потом так сильно разочаровался бы, что потерял веру в себя.
Бишару пожал плечами.
— Мне все равно, выберешь ты армию или жречество. В любом случае у тебя есть еще несколько месяцев, чтобы все как следует обдумать. Ну ладно, сыновья! Я полагаю, что никто из вас не пойдет по стопам отца и ни одному из вас не достанется та важная роль, которую я исполнил в своей жизни.
Шли месяцы, но Джедеф пока не менял решение. И в это же время Бишару одолело душевное расстройство, причиной которого стало его ненастоящее родство с Джедефом. В замешательстве он размышлял сам с собой: «Должен ли я по-прежнему считать себя его отцом или настал момент поведать ему правду и освободиться от тяжких пут скрываемой тайны? Хени и Нафа все знают, но из любви к мальчику, не желая причинять ему боль, они никогда не говорили об этом ни между собой, ни на людях».
Бишару подумал о последствиях такого потрясения для невинной души счастливого юнца, и его громоздкое тело содрогнулось. Вспомнив Зайю и то, какой она бывает в минуты ярости и обиды, он передернулся в мрачном предчувствии. Но он размышлял об этом не со зла или от нелюбви к Джедефу, просто был уверен, что правда рано или поздно заявит о себе, если только он сам не опередит ее.
В самом деле, лучшим выходом было рассказать сыну все прямо сейчас и покончить с этим, а не скрывать до тех пор, пока Джедеф не вырастет, тем самым только удвоив мучения, которые причинит ему такая новость. Добрый смотритель все же засомневался и оставил решение вопроса на потом.
И когда подошло время принимать его, прежде чем отдавать Джедефа в военную школу, он обратился со своими тайными мыслями к своему сыну Хени.
Услышанное ужаснуло молодого человека, и он с глубокой болью и печалью сказал отцу:
— Джедеф наш брат, и любовь, связавшая нас, сильнее любви кровных братьев. Отец, разве тебе будет плохо, если ты оставишь все как есть и не станешь обрушивать на бедного мальчика неожиданный удар позора и унижения?
Единственное, чего Бишару мог лишиться в результате усыновления Джедефа, так это своего наследства. Но из всех богатств мира смотритель пирамиды обладал не более чем солидным жалованием и большим дворцом, и его отцовство — или отсутствие такового — никак не угрожало этим благам. Поэтому он понял чувства Хени и сказал в свое оправдание:
— Нет, сын мой, я никогда не унижу его. Я назвал его своим сыном и не отрекусь от этих слов. Он будет записан среди учеников военной школы как Джедеф, сын Бишару, — он рассмеялся в своей обычной манере и, потирая руки, добавил: — Я заслужил эту честь.
Утерев слезу, скатившуюся по щеке, Хени возразил:
— Нет, ты заслужил милость владыки и его прощение.
11
Почти закончился месяц тут. Всего несколько дней осталось Джедефу провести в отцовском доме до отъезда на обучение военному ремеслу. Зайя ужасно нервничала. Пока она думала о двух долгих месяцах, которые ему придется прожить в школе, а потом о долгих годах, когда сможет встречаться с сыном только раз в месяц, приступы рассеянного смятения обуревали ее. Она не будет видеть его прекрасное лицо, не будет слышать звук любимого голоса… Ей казалось, что дом лишится благоденствия, а сама она — той уверенности, которую сын вселял в нее. Как жестока жизнь! Печаль омрачила ее душу задолго до появления причин для истинной грусти. Окутывающие складки боли угнетали ее, подобно волнам облаков, подгоняемых туманными ветрами темных и мрачных месяцев хатур и кияк.
Когда петух объявил о наступлении рассвета первого месяца ваба, Зайя проснулась и уселась в своей постели, снедаемая тоской. Страстным вздохом из мира уныния приветствовала она этот день. Потом Зайя встала с кровати и тихонько пошла к небольшой комнате Джедефа, чтобы разбудить и приласкать сына. Не желая беспокоить его, она вошла на цыпочках, и Гамурка встретил хозяйку радостным потягиванием. Но ее план был разрушен, когда она увидела, что Джедеф уже проснулся. Он тихо напевал гимн: «Мы дети Египта; мы потомки расы богов». Мальчик покинул объятия сна самостоятельно, повинуясь зову воинской службы. Из глубины своего сердца она окликнула сына: «Джедеф!» Он увидел, что мать на пороге, и бросился к ней, словно птица, летящая на утренний свет. Повиснув на ее шее, кончиком носа дотронулся до ее носа. Он уже вырос, стал почти мужчиной и не позволял себе чмокать материнские щеки губами, как в детстве. Хени однажды побранил его: «Лижешься, как Гамурка. Стыдись! Ты уже взрослый юноша, тебе не пристало распускать слюни».
— Пойдем, попрощаешься с отцом, — вздохнув, сказала Зайя.
Бишару крепко спал, громко храпел, покряхтывал, постанывал по-стариковски. Зайя стала трясти мужа одной рукой. Он сел, выпучив глаза:
— Кто? Где? Что случилось?
— Мальчик пришел попрощаться с тобой, Бишару, — рассмеялась Зайя, но глаза ее были полны слез.
Бишару протер глаза и поднялся со своего ложа.
— Джедеф, сын, ты уже уезжаешь? — спросил он. — Иди сюда, я благословлю тебя. Да защитит тебя владыка Пта! — Обняв Джедефа, Бишару продолжил: — Но наш Пта — покровитель ремесленников, а ты должен быть храбрым воином. Есть еще бог Сетх — он воитель, спас бога Ра от гигантского змея Атопи. Он покровитель фараонов. Хотя многие жрецы нынче и считают Сетха коварным убийцей, погубившим Озириса, но я не почитаю Озириса, владыку загробного мира. А Сетх храбр, это бог-сокол, бог жизни. Но самый главный — бог солнца Ра, и да сохранит тебя его свет, да согреют в походах его лучи, да спасет он твою голову от сабли недруга… Я предрекаю тебе большую воинскую славу, сын мой, а предсказания Бишару, подданного фараона, всегда сбываются. Отправляйся с богами Ра и Сетхом, а я помолюсь за тебя в святыне святынь.
Бишару крепко обнял юношу и отвернулся, чтобы Джедеф не увидел непрошеную слезу, скатившуюся по щеке отца. В дальней приемной зале они встретили собравшихся провожать брата Хени и Нафу. Нафа побранил его: — Эй, бесстрашный воин, повозка давно ждет! Сердце Зайи сжалось от острой тоски. Джедеф тонкими пальцами погладил ее по лицу. В его прекрасных глазах светилась любовь к матери. Что ж, мальчик вырос, пришло время разлуки. Джедеф сбежал к повозке. Обернулся, махнул рукой, и колеса застучали по камням мостовой. Мать все смотрела вслед сквозь пелену слез, пока повозка не растворилась в рассветной синеве.
12
С восходом солнца повозка прибыла в военную школу Мереаписа, самого прекрасного пригорода великого Мемфиса. Плац перед зданием уже был запружен мальчиками, надеявшимися на поступление, приехавшими в сопровождении одного или нескольких родственников. Каждый дожидался, когда его вызовут на смотр. Отбор был очень строгий. Юношей отбирали по росту, осанке, происхождению, по физической подготовке, даже по зубам — как коней. Тем утром площадь перед школой была похожа на ярмарку, где демонстрировались сила, выносливость, красота, а также богатство повозок, ибо только сыновья привилегированного сословия допускались служить в войсках фараона. Джедеф поначалу забеспокоился, озираясь по сторонам, но потом увидел лица знакомых и друзей — со многими из них он учился еще в начальной школе. Воспрянув духом, юноша улыбнулся, дожидаясь своей очереди. Глашатай выходил на крыльцо и выкликал имена. Те, кого отобрали, возвращались с видом победителей и прощались с родичами. Но были и печальные, унылые лица — испытания эти мальчики не выдержали.
Хени рассматривал толпу с суровым видом.
— Ты злишься на меня? — спросил Джедеф, глядя на старшего брата.
Хени положил ладони мальчику на плечи.
— Да защитит тебя владыка небесный, дорогой Джедеф, — сказал он. — Военное ремесло — священная профессия, но лишь до той поры, пока ты исполняешь свой долг и защищаешь родину и фараона. Но если воины идут в другие земли, начинают убивать, грабить и угонять в рабство, это, поверь мне, уже не доблесть и не талант, полученный от богов. Тебе, Джедеф, не стоит увлекаться показным величием возничих, между выездами и парадами пребывающих в праздности и не развивающих свой ум. Оттого и лбы у них узкие, что мозг не развит. Я уверен, Джедеф, что ты не оставишь ни одной из тех надежд, что воспылали в твоей душе. Что касается твоего нынешнего выбора и непоколебимой решимости осуществить задуманное, запомни: это повлечет за собой отказ от человеческих чувств и крах твоей творческой жизни.
Нафа же, как обычно, рассмеялся над словами брата:
— Правда в том, Хени, что ты восхваляешь непорочную жизнь в мудрости, которая присуща жрецам. Что до меня, я пою хвалу красоте и удовольствиям. Есть другие — это как раз солдаты, которые отвергают любые размышления и предпочитают грубую силу. Да восславится мать Изида за то, что наделила меня умом, видящим красоту в каждом цвете и любой вещи. И все же я должен признать, что не способен позаботиться о ком-то еще, кроме себя самого. В действительности, пространство для выбора между этими двумя жизнями — жреца и воина — доступно лишь тому, кто познал их обе и не имеет предубеждений против какой-либо из них. Однако найти такого мудрого судью невозможно…
Джедеф выслушал обоих братьев. Ему пригодятся в жизни эти наставления.
Наконец глашатай крикнул: «Джедеф, сын Бишару!» Сердце юноши екнуло. Нафа обнял брата:
— Прощай, Джедеф, ибо я думаю, что сегодня ты уже не вернешься с нами домой.
Хени тоже обнял младшего брата и прошептал: «Помни, мальчик, ты — сын Ра, зачатый от семени Его. Будь светел умом, мужествен делом, да защитит тебя наш владыка!» Что означали эти слова? Что было известно молодому жрецу о происхождении Джедефа? Или это было наитие? Или тайна о достойном преемнике фараона Хуфу — не из его династии — уже обросла слухами и легендами? Или в жреческих кругах знали, что божественный отрок, рожденный Руджедет в храме Ра, что в городе Он, не умерщвлен, а спасен? Загадка… Тайна… Но тогда Джедеф, прощаясь с Хени, не понял его слова, да и не придал им значения. Он вошел в стены академии и предстал перед лекарем и офицерами. Старший из них предложил юноше раздеться, снять даже набедренную повязку. Джедеф смутился, однако пришлось повиноваться. Его стали щупать, осматривать, заставили наклоняться, подпрыгивать, открывать рот. Пройдя через этот унизительный осмотр, Джедеф оделся, ответил на несколько ничего не значащих вопросов и, услышав скупое: «Принят», вне себя от радости выбежал на крыльцо, чтобы обрадовать братьев, но их повозки на площади уже не было. Это не огорчило юношу, и он вернулся в школу, где уже собирались отобранные слушатели, будущие воины царской стражи.
Территория школы была размером с большую деревню. С трех сторон ее окружали высокие стены, расписанные воинственными изображениями сражений, солдат и пленников. В четвертой стороне располагались казармы, склады для оружия и провизии, штаб для офицеров и командующих, зернохранилище и навесы, под которыми стояли колесницы.
Джедеф удивленным и восторженным взором оглядывал окрестности. Потом он направился к своим сверстникам. Юноша слышал, как каждый из них хвалился своей родословной, кичился заслугами отца и дедов, будто то были их собственные…
— Твой отец военный? — спросил его один новобранец.
Джедеф покачал головой:
— Нет. Мой отец — Бишару, смотритель царской пирамиды.
Тот разочарованно хмыкнул, титул смотрителя не произвел на юнца должного впечатления, и хвастливо заявил:
— Мой отец — Сака, командующий подразделением Сокола в войске копьеносцев.
— Это еще не прибавляет тебе доблести, — окинув презрительным взглядом сутулую спину и выпяченный живот хвастуна, ответил Джедеф и отошел.
Он дал себе зарок, что придет время и он восторжествует над этими хвастунами, превзойдет их всех своими способностями. Пока продолжался осмотр и отбор кандидатов, уже принятые в школу вынуждены были ждать. Наконец из штаба к новобранцам вышел офицер. Сурово глядя на них, он громко объявил:
— С этого момента вы должны забыть о проделках и шалостях! Здесь вы обязаны подчиняться приказам, соблюдать дисциплину и режим. Вы будете обучаться воинской службе. Еду и отдых станете получать при условии хорошей учебы, тренировок и беспрекословного подчинения. Сейчас вас разместят по казармам и укажут распорядок дальнейших действий.
Офицер выстроил их друг за другом и повел к зданию казарм. Приказал юношам входить по одному. По его команде из окошка склада они получили пару новых сандалий, белую набедренную повязку с очень большим треугольным передником, острым концом обращенным вниз, и тунику. Затем их разместили по разным корпусам, где в два ряда тянулось по двадцать жестких кроватей и шкафчиков, на которых были наклеены прямоугольные кусочки папируса. Каждый должен был написать на нем свое имя.
Все сразу почувствовали, что жизнь их круто изменилась. Теперь они обязаны были подчиняться жесткому управлению, пропитанному духом строгости и усердия. Офицер приказал им снять свою обычную одежду и облачиться в военную форму.
— Во двор будете выходить только по сигналу рожка, — предупредил он.
Оживленно переговариваясь, мальчишки выполняли свое первое задание: переодевались в белые воинские одежды, примеряли жесткие сандалии. Когда прозвучал рожок, они стремглав выбежали во двор, где другие офицеры построили их в две ровные шеренги.
Вслед появился начальник школы, старший офицер в звании коменданта. На его груди красовались знаки отличия и тяжелый бронзовый орден. Он внимательно посмотрел на новобранцев и сказал:
— Еще вчера вы были беззаботными детьми, играли, бегали, купались, загорали. С этого дня вы начинаете зрелую жизнь, которая пройдет для вас в буднях военной борьбы. Вчера вы принадлежали вашим матерям и отцам, а сегодня стали собственностью вашего народа и вашего правителя. Жизнь солдата — это сила и самопожертвование. Порядок и послушание станут вашими обязанностями и залогом успешного выполнения вами священного долга перед Египтом и фараоном.
Потом начальник восславил имя Хуфу, царя Египта, и маленькие солдаты вторили ему. Раздались звуки гимна, и все разом запели еще ломкими мальчишескими голосами: «О боги, сберегите вашего сына, которому мы поклоняемся, и его счастливое царство от истоков Нила до его дельты».
В тот вечер, когда Джедеф впервые лег на эту жесткую кровать в незнакомом окружении, ощущение одиночества и тоска долго не давали ему уснуть. Он вздыхал, пока его воображение металось между темнотой казармы и счастливым образом дворца, где он вырос, где его любили, желали доброй ночи, а Гамурка лизал ему руки и щеки и ложился на ковер у его постели, чтобы оберегать сон своего юного хозяина. Казалось, что это было не вчера, а давно — в другой жизни. И когда юноша предался своим воспоминаниям и уже готов был всплакнуть, глубокий сон одолел его.
Громкий звук рожка заставил мальчишек вскочить со своих неудобных кроватей, быстро одеться и мчаться на плац. Все. Не будет игр, любящих матерей и братьев, не будет жалоб и капризов. Началась совсем другая — строгая жизнь. Жизнь по приказу и резкому звуку рожка.
13
Архитектор Мирабу испросил у фараона аудиенции и предстал перед ним в зале для официальных приемов. Хуфу восседал на троне Египта, который он занимал уже двадцать пять лет, творя для своей страны самые благородные дела. Он выглядел грозным, решительным и могущественным. Невозможно было одним взглядом объять всю его грандиозность, так же как и пятидесяти двух прожитых им лет было слишком мало, чтобы ослабить это сильное тело и укротить неудержимое жизнелюбие. Хуфу все еще сохранял свое острое зрение, черные волосы без единой сединки и здравый разум. Мирабу распростерся на полу, целуя край царского одеяния. Фараон радостно приветствовал его.
— Мир тебе, Мирабу, — сказал Хуфу. — Поднимись и поведай мне, зачем пришел.
— Мой господин, дарующий жизнь и свет, — сказал архитектор, сияя от счастья, — моя преданность вашему величеству позволила мне завершить мое великолепное начинание и увенчать службу вам этим бессмертным монументом. В один радостный час я получил то, о чем мечтает верующий, совершая молитву, и то, что художник желает воплотить в своей картине, ибо боги, от которых зависят все их создания, повелели, дабы я сообщил вашему почтенному величеству добрые вести. Самое масштабное строительство из всех затеянных на земле Нила с века сотворения мира, самого огромного здания, над которым солнце восходило в Египте с первого своего появления над нашей долиной, полностью завершено. Я уверен, господин, что оно простоит многие столетия, неся на себе ваше святое имя, свидетельствуя о прекрасной эпохе вашего царствования, сохраняя в себе ваш священный дух. Оно возвестит о труде миллионов египтян и гениальности тысяч выдающихся мастеров и каменотесов. Сегодня для этого произведения зодчества нет ничего равного, а завтра оно станет местом упокоения самой прославленной души, когда-либо правившей египетской землей. Послезавтра — и навсегда — оно превратится в храм, под чьими сводами забьются сердца миллионов ваших любящих подданных, которые придут туда и с севера, и с юга.
Красноречивый мастер на мгновение замолчал. Потом, вдохновленный ободряющей улыбкой царя, он продолжил:
— Сегодня, мой господин, мы возликуем в честь вечного символа Египта, рожденного от силы, связывающей север с югом. Это плод терпения, переполняющего всех его детей — от земледельца с мотыгой до писца с листом папируса. Это вдохновение для той веры, которая живет и будет жить в душе египтян. Это образец гения, сделавшего нашу родину правительницей всей земли, вокруг которой плавает солнце на своем священном корабле. И он навечно останется бессмертным откровением, проникшим в сердца египтян, — даровавшим им силу, привившим терпение, воодушевившим их веру и вдохновившим на созидание.
Царь слушал архитектора с восторженной улыбкой. Его проницательные глаза сверкали, а лицо выражало восхищение. Когда Мирабу закончил, фараон сказал:
— Что же, мы поздравляем тебя, о архитектор, с несравненным великолепием и благодарим за блистательную работу, которая так возвеличивает твоего царя и страну. За это тебе полагается наше признание и похвала. Мы отметим твое бесподобное чудо празднеством, достойным его бессмертной красоты.
Склонив голову, Мирабу слушал речь Хуфу, словно божественный гимн.
Чтобы торжественно открыть свой грандиозный монумент, фараон устроил официальную церемонию невероятных масштабов, во время которой священное плато вместило на себе людей в два раза больше, чем на нем раньше трудилось рабочих. На сей раз египтяне несли в руках не мотыги и прочие инструменты, а флаги, оливковые ветви, пальмовые листья, побеги базилика и распевали священные гимны. Среди этих толп солдаты обустроили широкую дорогу, которая тянулась от Долины вечности на восток, после чего огибала пирамиду, чтобы затем спуститься на запад, где она снова заворачивала на плато. По ней вышагивали группы чиновников, совершая обход вокруг колоссальной пирамиды. Впереди шли жрецы, а за ними — светская знать. Потом двигались отряды армии, расквартированные в Мемфисе, на лошадях и пешие, пробивая себе путь сквозь скопление народа. Но все взгляды были прикованы к Хуфу и его сыновьям: люди поворачивали головы им вслед, славословя царя из глубин своих сердец. И казалось, что все они тянулись вперед, в одном направлении, будто совершая общую молитву.
Фараон приветствовал открытие пирамиды краткой речью, а затем визирь Хемиун освятил ее благословением. Покончив с этим, царский кортеж отправился обратно в Мемфис, и знать стала постепенно расходиться. Простой народ в своем безудержном ликовании продолжал обходить грандиозное строение. Люди не покидали плато до тех пор, пока луна не простерла свое волшебное сияние и магическое спокойствие над зеленой, словно драгоценный камень, долиной.
Вернувшись во дворец, Хуфу пригласил принцев и своих приближенных в уединенные покои западного крыла. Воздух уже был напоен ароматами из сада. Зажгли светильники, и кресла из чистого золота в роскошной комнате, на которые расселись приглашенные, засияли тревожным огнем пожара.
Взгляд фараона выдавал внутреннее напряжение от тяжелых обязанностей, которые были возложены на него. Хотя внешне владыка Египта не изменился, было очевидно, что тяготы правления надломили что-то внутри него. Это не прошло незамеченным для его ближайшего окружения — Хафры, Хемиуна, Мирабу и Арбу. Они видели, что фараон мало-помалу становился аскетом, погружаясь в дела, не требовавшие физических усилий, как бы ни были дороги его сердцу гораздо более мужественные занятия вроде охоты. Теперь он предпочитал миросозерцание и чтение: иногда утренняя заря заставала его сидящим на ложе с книгой по теологии или философии в руках. Былое чувство юмора сменилось у него сарказмом, насыщенным унылыми мыслями и дурными предчувствиями.
Самым удивительным в этот вечер — и самым неожиданным — было то, что фараон выказывал признаки непонятной тревоги и душевных страданий, в то время как ему следовало бы весело отмечать самое значительное достижение в истории его страны.
Из тех, кто был рядом с ним, первым распознал мрачное настроение царя архитектор Мирабу Он не смог удержаться, чтобы не спросить:
— Что так явно беспокоит моего господина?
Фараон с легкой усмешкой взглянул на него и тоже задал вопрос, словно размышляя вслух:
— Знавала ли история царей, чей разум не был бы полон забот?
Не раздумывая над этим ответом-вопросом, мастер возразил:
— Но сегодня вечером моему господину пристало праздновать без всяких отговорок.
— И по какой же причине твой господин должен веселиться и ликовать? — иронически поднял бровь Хуфу.
Мирабу после этих полных горького сарказма слов царя потрясенно замолчал и чуть не забыл о великолепии хвалебной речи в честь фараона и пышности устроенного им торжества. Принцу Хафре и вовсе не нравились перемены в настроениях отца.
— Потому, мой господин, — твердо заявил он, — что сегодня мы отмечаем благословение величайшего свершения в летописи Египта.
Хуфу рассмеялся:
— Это ты о моей гробнице, о принц? Разве подобает человеку приходить в восторг, когда ему уж уготована могила? Пусть даже великолепная?
— Да продлит владыка долгую жизнь нашего повелителя, — сказал Хафра. — Славная работа заслуживает признания и праздника.
— Да-да, — кивнул царь, — но если она напоминает о смерти, то к тому, что ты перечислил, надо бы еще добавить и печаль.
— Напротив! Эта гробница будет говорить поколениям о бессмертии, мой повелитель! — со страстью в голосе воскликнул Мирабу.
— Мирабу, — улыбнулся фараон, — я восхищаюсь твоей работой, но намеки на то, что человек смертен и царя не минует чаша сия, наполняют душу скорбью. Да, я не заостряю внимание на том, что именно вдохновило тебя на создание этого монумента, обреченного простоять многие века. Просто говорю, что бессмертие само по себе есть смерть для наших дорогих, недолговечных жизней.
В разговор вмешался визирь Хемиун. Он сказал спокойно, серьезно и с искренней верой:
— Мой господин, гробница — это ворота в вечное существование.
— Конечно, Хемиун. Но все же грядущее путешествие через реку смерти требует серьезных приготовлений, особенно когда оно бесконечное. Ты не думай, будто фараон страшится того или сожалеет. Нет, нет и нет! Просто я поражаюсь этому символическому жернову, который крутится и крутится, перемалывая всех — царей, жрецов, воинов, простолюдинов…
Принц Хафра устал от философствований отца.
— Мой господин слишком много времени тратит на размышления, — скептически заметил он.
— Возможно, принц, тебе эти размышления не нравятся, ибо ты ждешь не дождешься, когда меня забальзамируют и поместят в виде мумии в мой вечный дом, а ты наконец-то займешь мой трон…
— Как вы можете так думать, отец? — Хафра побагровел от злости, но взял себя в руки и уже более хладнокровно сказал: — Правда в том, что созерцание течения времени — это занятие для мудрецов. Что же до тех, кого боги обременяют тяготами правления, неудивительно, что они стараются отгородиться от этих сложных проблем.
— Ты хочешь сказать, что я совсем состарился? — с насмешкой спросил его Хуфу. — Что я должен читать лишь Книгу мертвых, а не мудрые трактаты философов? Ты это хочешь сказать, сын мой? — повторил он уже с некоторой угрозой в голосе.
Присутствующие встревожились, а принц просто испугался.
— Пусть меня покарают боги, отец, если я смею думать и говорить такое! — выпалил он.
С иронией, но уже твердо царь сказал:
— Успокойся, Хафра. Знай, что твой отец сохраняет властную хватку своей железной руки.
— В этом ни у кого нет сомнений, — ответил Хафра. — Теперь я доволен вашими словами, хотя и не услышал ничего нового.
— Или ты думаешь, что царь не царь, если только он не объявит кому-нибудь войну? — не сдавался Хуфу.
Принц Хафра постоянно указывал отцу на то, что ему следовало послать войска, чтобы усмирить племена Синая. Он понял, что имел в виду фараон, и был чрезвычайно удивлен.
Коротким мгновением тишины не преминул воспользоваться Хемиун.
— Мир гораздо лучше характеризует сильного, могущественного царя, чем война, — сказал он.
Принц, распалившись, возразил грозным тоном, подчеркивавшим жестокость и суровость его характера:
— Но царь не должен позволять политике мира мешать ему начать войну, когда для этого имеется более чем серьезная причина!
— Вижу, ты до сих пор не выбросил из головы эту мысль, — заметил Хуфу.
— Да, ваше величество, — сказал Хафра, — и я не отступлюсь, пока не будет принята моя точка зрения. Ибо племена Синая оскверняют нашу землю, угрожают спокойствию египтян и государственному престижу!
— Племена Синая! Племена Синая! — вскричал Хуфу. — О чем ты говоришь? Пока еще стражники в пустыне справляются с их небольшими группами. Отправлять войска, чтобы уничтожить их опорные пункты, я считаю преждевременным. Сначала нужно выяснить, есть ли они, эти пункты, или разбойники нападают на караваны в ночи стихийно. И потом, не забывай, принц, каких огромных усилий народа потребовалось, чтобы возвести пирамиду Мирабу! И все-таки придет время, когда я положу конец злодеяниям синайских племен. Ты можешь быть спокоен, Хафра.
Полководец Арбу одобрительно покивал головой.
В комнате опять повисла тягостная тишина. Наконец фараон, отпив из чаши воды, пробежался взглядом по лицам присутствовавших.
— Я позвал вас сегодня, — сказал он, — чтобы поведать о непреодолимом желании, бьющемся в моем сердце.
Все настороженно смотрели на Хуфу. Он продолжил:
— Ныне я спросил себя: «Что сделал я для Египта и что Египет сделал для меня?» Не стану скрывать от вас правду, друзья мои. Я понял, что люди сделали для меня в два раза больше, нежели я для них. Это признание далось мне нелегко, ибо все эти дни я буквально терзался от боли. Я вспоминал почитаемого нами фараона Мину, который подарил нации священное единство. Родина же дала ему лишь частицу того, что получил от нее я. Тогда я усмирил свою гордыню и поклялся отплатить людям добром за их великодушие, а за их красоту — еще большей красотой.
Тронутый речью повелителя, командующий Арбу возразил:
— Ваше величество слишком строги к себе, если вы приняли такое решение.
Не обратив внимания на замечание Арбу, Хуфу говорил дальше:
— Хотя правители должны стремиться быть справедливыми и честными, они зачастую становятся тиранами. Пытаясь достичь процветания и благоденствия страны, они также причиняют ей большой вред. И чем же, как не бессмертными добрыми делами, могут они расплатиться за проступки и искупить свои грехи? Итак, моя боль подтолкнула меня к прекрасному и благородному начинанию.
Присутствующие, не понимая, к чему клонит Хуфу, не сводили с него изумленных глаз.
— Я намереваюсь, — продолжил фараон, — да, намереваюсь написать великую книгу, собрав в ней доказательства мудрости и секреты исцеления, которыми страстно увлекаюсь с самого детства. Таким образом, я оставлю о себе долгую память в умах народа Египта, указывая путь их душам и защищая их тела.
Мирабу, обуреваемый беспредельной радостью, воскликнул:
— Какой чудесный замысел, мой господин! Благодаря ему вы будете править народом Египта вечно!
Поразмыслив над тем, чем собрался заняться царь, принц Хафра скептически заметил:
— Но, отец, на этот проект уйдет немало лет.
Арбу подхватил:
— Кагемни на написание своего труда потратил целых два десятилетия!
Фараон не принял возражений и пожал широкими плечами.
— Я посвящу этому всю свою оставшуюся жизнь… Знаете ли вы, какое место я избрал для написания своей книги ночь за ночью? Это как раз те погребальные покои пирамиды, в честь которой мы устроили сегодняшний праздник.
Все воззрились на царя, решив, что это жестокая шутка.
— В мирских дворцах, — спокойно закончил Хуфу, — царит суета скоротечной жизни. Они не годятся для создания работы, которой суждено остаться в вечности!
Он поднялся с золотого кресла, и все тоже разом встали. Приближенные фараона желали бы высказаться, но Хуфу не любил вести пустые разговоры, когда сам уже принял окончательное решение. Его друзья разошлись в недоумении.
Наследник престола, становясь в свою колесницу, сказал командующему:
— Царь предпочел поэзию силе и крепости своей власти!
А Хуфу отправился во дворец царицы Мерититес, найдя ее в спальне вместе с молодой принцессой Мересанх, сестрой принцев, которой минуло всего десять лет. Принцесса подбежала к отцу. Ее прелестные темные глаза сияли счастьем. При виде дочери, ее милого лица, золотистой кожи и сверкающих глаз, которые могли прогонять хандру и печаль своим задором и энергией, фараон улыбнулся. Его переполняла нежность. Уняв в груди боль тоски и сомнений, он распростер руки и заключил девочку в объятия.
14
Атмосфера радости царила в доме Бишару. Подтверждением тому были веселые лица Зайи, Нафы и самого смотрителя. Казалось, даже Гамурка чуял приближение чего-то хорошего, нутром ощущая, что ему следует ликовать. Пес с веселым лаем носился по саду, словно пущенная из туго натянутого лука стрела.
Наконец раздался шум, и один из многочисленных слуг восторженно воскликнул:
— Наш молодой господин!
Услышав этот возглас, Зайя побежала к лестнице. Через минуту она оказалась внизу и в конце приемной залы увидела Джедефа в белой униформе и военном головном уборе, сиявшего подобно лучам солнца. Зайя бросилась к сыну, но Гамурка опередил ее. Пес в волнении наскочил на своего хозяина, поставил лапы ему на грудь и громко залаял от радости.
Зайя оттащила пса в сторону и прижала своего дорогого мальчика к сердцу.
— Владыка внял мне! — воскликнула она. — О, как мне недоставало твоих глаз и как я горевала, желая увидеть твое лицо! Мой любимый, ты стал еще красивее, но солнце обожгло твои щеки. О, как ты исхудал, мой дорогой Джедеф!
Нафа, смеясь, тоже приветствовал брата:
— Добро пожаловать, могучий солдат!
Джедеф всем улыбался, а Гамурка восторженно вытанцовывал перед ним, не давая сделать ни шагу. Бишару тепло обнял сына.
— Ты изменился за эти два месяца, — сказал он. — Возмужал. Джедеф, ты пропустил праздник окончания работ на строительстве великой пирамиды, но не переживай по этому поводу, я сам тебе все там покажу, ибо я был, есть и буду ее смотрителем, пока не уйду в отставку. Но почему ты выглядишь таким уставшим, сын мой?
Гладя Гамурку по голове, Джедеф ответил:
— Армейская жизнь сурова, но в школе я многому научился и, кстати, стал отличным наездником! Кормят нас не очень хорошо, так что не растолстеешь, — он засмеялся.
— Да сберегут всех вас боги, сын мой, — сказала Зайя.
— А ты умеешь метать копья и стрелять из лука? — спросил Нафа.
— Нет, — ответил Джедеф. — Первый год мы проводим в игровых тренировках и учимся ездить верхом. На второй год нас научат владеть мечом, кинжалом и копьем. Ну и, конечно, мы учим теоретические предметы: тактику боя, умение маневрировать и прочее. Потом, в следующие два года, мы станем оттачивать мастерство стрельбы из лука, а также изучать историю, а на пятый год будем управлять боевыми колесницами. На последнем году обучения мы до тонкости овладеем военными науками, а заодно посетим все крепости. Кажется, я перечислил все! — улыбнулся Джедеф.
— Сердце подсказывает мне, что ты станешь великим полководцем, Джедеф, — сказал Нафа. — Не забывай, что мы, художники, можем предсказывать будущее людей по чертам их лица.
Джедеф, словно вдруг вспомнив что-то очень важное, поинтересовался:
— А где же Хени?
— Разве ты не знаешь, что он стал жрецом? — ответил вопросом на вопрос Бишару. — Теперь он живет в храме Пта.
Учит там религиозные науки, этику и философию — вдали от шума и суеты мира. Их готовят к жизни, очень похожей на солдатские будни, но будущие властители умов моются два раза днем и дважды ночью. Еще они бреют волосы на голове и на теле, носят одеяния из грубой шерсти и отказываются от употребления в пищу многих продуктов. Они должны выдержать тяжелые испытания, чтобы потом обучать других людей священным тайнам знания. Давайте помолимся богам, дабы они направили Хени на путь истинный, сделав его преданным слугой себе и всем истинно верующим.
— А когда я смогу встретиться с ним? — спросил Джедеф.
— Ты не увидишь брата целых четыре года — четыре года величайших искушений, — с сожалением в голосе сказал Нафа.
Джедеф был очень расстроен этой новостью, между тем, Зайя спросила сына:
— Как часто мы теперь будем встречаться с тобой?
— В первый день каждого месяца нас будут отпускать домой. Если не будет никаких нареканий, — ответил юноша.
Зайя схватилась за сердце, а Нафа рассмеялся.
— Не надо так пугаться, мама! — сказал он. — Давайте решим, как нам провести этот день. Что ты думаешь о прогулке по Нилу?
Зайя воскликнула:
— В месяц кияк?!
— Неужели нашего бравого солдата испугают волны? — поднял бровь Нафа.
— Я не смогу поехать с вами в такую погоду, — возразила Зайя. — Но я не хочу разлучаться с Джедефом ни на миг, поэтому давайте останемся дома. Мне нужно задать ему столько вопросов!
Между тем все они заметили, что беззаботное настроение Джедефа вдруг улетучилось. Он стал говорить скупо, отвечать однозначно. Какая-то непривычная скованность овладела им, и непонятная тяжесть легла на его плечи. Нафа смотрел на него с тайной тревогой и спрашивал себя: «Что происходит с Джедефом? Сначала он был восторжен, затем вдруг стал печален… Возможно, он не ощущал одиночества, когда был поглощен своими армейскими тренировками.
А хочет ли он снова вернуться в казарму?» Но он счел необходимым пояснить встревоженной матери:
— Для Джедефа военная жизнь только начинается. Он пока не привык ко всем ее тяготам. Разумеется, путь этот не легок, но скоро Джедеф забудет о своем унынии, и к нему вернутся привычная радость и добрый нрав. — Решив, что, если Джедеф сходит посмотреть на его картины, это, возможно, пробудит угасшее веселье брата, он предложил: — Эй, отважный солдат, что ты скажешь насчет того, чтобы пойти ко мне в студию и полюбоваться произведениями искусства кисти твоего брата?
Зайя этому предложению воспротивилась:
— Нет! — закричала она. — Сегодня он никуда не пойдет!
Нафа замолчал, но ненадолго. Он достал большой лист папируса и камышовое стило и сказал брату:
— Я нарисую твой портрет в этой прекрасной белой форме и сохраню на память, чтобы взглянуть на него, когда твои плечи и грудь украсят знаки отличия командующего. Ты сиди спокойно, а мама пусть любуется тобой.
Все они провели великолепный день. По этому образцу проходили все последующие побывки Джедефа в начале каждого месяца, которые, казалось, сменяли друг друга в мгновение ока. Опасения Нафы развеялись, поскольку у юноши уже не было перепадов настроения, и он не предавался меланхолии. Он становился все крепче, мускулы налились силой. Джедеф становился все более привлекателен.
В сезон шему, жаркий и сухой, военная школа закрывалась, и это было счастливейшей порой для Зайи и Гамурки. Семья часто ездила в сельскую местность или северную дельту Нила — там мужчины охотились. Бишару стоял между своими сыновьями Нафой и Джедефом. Каждый держал в руках изогнутую палку, пока утка, не подозревая о том, что судьба уготовила для нее, не пролетала над ними. Они старались попасть в птицу, используя всю свою силу и навыки.
Бишару, оказавшись довольно ловким охотником, добывал дичи в два раза больше, чем его сыновья. Он посмеивался над Джедефом:
— Видишь, солдат, насколько хорош в охоте твой отец? Не удивляйся, ибо я когда-то служил офицером в армии царя Снеферу и был там не последним.
Эти охотничьи вылазки были истинным удовольствием, конечно, Бишару сводил Джедефа к пирамиде. Его основной целью было показать сыну свое влияние и власть — пусть он увидит почести, которые оказывали ему солдаты и служащие.
Нафа позвал Джедефа к себе в студию, чтобы показать ему свои работы. Юноша усиленно трудился, надеясь на то, что однажды его пригласят украшать новый дворец кого-либо из знати. Джедефу нравились творения Нафы, особенно свое изображение в белой военной форме, в котором художник прекрасно передал малейшие детали его лица и выражение глаз.
Сейчас Нафа писал портрет архитектора фараона Мирабу. Делая черновой набросок, он сказал Джедефу:
— Ни в одну картину я не вложил столько сил, сколько в эту…
— Ты рисуешь его по памяти? — спросил младший брат.
— Да. Я ведь могу лицезреть прославленного творца только во время народных гуляний и официальных праздников, на которых появляются придворные фараона. Но этого достаточно, чтобы сохранить его образ в моем сердце и душе!
— А что, если ты покажешь архитектору этот портрет, когда закончишь? Уверен, ему понравится и он пригласит тебя украшать какой-нибудь дворец. А, Нафа?
Нафа покачал головой и рассмеялся. «О милый мой брат! Как же ты наивен!» — подумал он.
Закончился еще один год, и Джедеф вновь вернулся в военную школу. Колесо времени продолжало вращаться, а жизнь семейства Бишару текла по своему предопределенному судьбой руслу, неся отца к старости, мать — к зрелости, Хени — к религиозному благочестию, а Нафу — к совершенству в изящных искусствах. Сам Джедеф размашистым шагом шел к превосходному овладению тонкостями военного дела — в школе у него была репутация самого способного ученика за все время ее существования.
15
Джедеф прогуливался по улице Снеферу, а нескончаемый поток прохожих замирал, чтобы полюбоваться на его белую армейскую униформу, высокую, стройную фигуру и изящное, красивое лицо. Он шел к студии Нафы, сына Бишару, имевшего диплом школы изобразительных искусств Хуфу. Молодой человек с интересом прочитал имя на табличке, словно видел ее впервые, и расплылся в улыбке. Войдя в дом, он увидел поглощенного работой брата, который, похоже, и не замечал, что происходило вокруг него. Смеясь, Джедеф окликнул его:
— Мир тебе, о великий создатель рисунков! Нафа обернулся, и на его мечтательном лице отразилось искреннее удивление.
— Джедеф! Какая приятная неожиданность! Как у тебя дела? Домой заходил?
Братья обнялись. Джедеф, усаживаясь на стул, который принес ему художник, сказал:
— Да, заходил, а потом отправился проведать тебя. Ты ведь знаешь, что твой дом для меня просто райский уголок!
Нафа расхохотался. Его лицо сияло от удовольствия.
— Как же я люблю тебя, милый Джедеф! Впрочем, одного не могу
понять: разве офицеру, такому как ты, может нравиться мое тихое, идиллическое рабочее место? Куда подевался Джедеф, поклонник сражений и крепостей Пер-Усира и Пирамеса?
— Не изумляйся, Нафа. Я на самом деле солдат, но такой, который любит искусство так же, как мудрость и знания. Вы оба — ты и Хени — пробудили мой мозг и душу, и я не мыслю, как бы жил без ваших уроков!
Нафа был поражен.
— Представь себе, что ты наследник престола нашего царства! Ведь его тоже, прежде чем он займет трон, подготавливают, обучая мудрости, искусству и военному ремеслу… — Помолчав, он продолжил: — Священная проницательность превращает царей Египта в богов — так же как однажды она сделает тебя командующим, которому не будет равных. Поверь мне, брат.
На щеках Джедефа запылал румянец удовольствия. Он улыбнулся:
— Нафа, ты похож на нашу маму… Еще толком не зная, на что я способен, вы приписываете мне все лучшие качества! Смотрите, как бы я не возгордился раньше времени!
Услышав это, художник рассмеялся и не сразу сумел совладать с собой.
Джедеф удивился:
— Что с тобой? Что смешного я сказал?
Молодой человек, все еще хохоча, ответил:
— Я смеюсь, Джедеф, потому что ты сравнил меня с нашей мамой!
— И отчего ты так развеселился? Я просто имел в виду…
— Не нужно объяснений или извинений. Я знаю, что ты хотел сказать, — прервал брата Нафа, — но сегодня ты уже третий, кто сравнил меня с женщиной. Сначала, утром, отец сообщил мне, что я «переменчив, как девица». Потом, всего час назад, жрец Шелба, пока я разговаривал сам с собой, рисуя его портрет, сказал: «Ты, Нафа, находишься во власти чувств, совсем как женщина». И вот приходишь ты и заявляешь, что я похож на нашу мать! Кого же ты сам-то видишь во мне — мужчину или женщину?
Теперь настала очередь Джедефа рассмеяться.
— Конечно, мужчину, Нафа. Но у тебя тонкая натура в сочетании со страстной впечатлительностью. Разве ты не помнишь, как Хени однажды сказал, что художники — представители того пола, который нельзя назвать ни мужским, ни женским?
— Хени считал, что искусство несет в себе что-то от женственности. И все же я считаю, что в плане чувств женщина и художник — абсолютные противоположности, ибо женщина по натуре старается достичь своих целей всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, тогда как у художника нет другой цели, кроме выражения духа вещей, то есть красоты. Красота — это высшая сущность, из которой и происходит гармония окружающего нас мира.
Джедеф снова улыбнулся:
— Думаешь, философствованиями тебе удастся убедить меня в том, что ты настоящий мужчина?
Нафа стал серьезен.
— Нужны другие доказательства? — ответил он. — Хорошо, тогда, наверное, тебе следует знать, что я собираюсь жениться.
— Это правда? — Джедеф был удивлен.
Нафа чуть не захлебнулся от смеха, когда сказал:
— Неужели я так плох, что ты не допускаешь мысли о моей женитьбе?
— Разумеется, нет, Нафа. — ответил Джедеф. — Но я помню, как отец сердился на тебя за то, что ты противник брачных уз.
Нафа положил ладонь на сердце.
— Я влюбился, Джедеф, — признался он. — Влюбился — и так внезапно.
Джедеф — весь внимание — с тревогой переспросил:
— Внезапно?
— Да. Я будто птица, парил в небе, пока стрела не пронзила мое сердце и я не упал.
— Когда это случилось и где?
— Джедеф, в разговоре о любви ты не должен спрашивать о месте и времени!
— Кто она?
Он ответил с почтением, словно произнося имя Изиды:
— Мана, дочь Камади из казначейства.
— И что ты собираешься делать?
— Я женюсь на ней.
Джедеф спросил, будто подумал вслух:
— Значит, так все и происходит?
— И даже быстрее, — сказал Нафа. — Стрела, куда же деваться птице?
Воистину, любовь была удивительной сущностью. Джедеф разбирался в искусстве, учениях древних мудрецов и владении оружием, но любовь оставалась для него загадкой. А как же иначе, ведь ей в одно мгновение удалось сразить его брата! Между тем молодой человек почувствовал, как внутри него разгорелось желание испытать нечто подобное, а душа улетела куда-то в дальние края.
— Счастливая судьба повелела, чтобы я преуспел в жизни как художник, и господин Фани пригласил меня украсить его приемную залу. Некоторые из моих картин оценили в десять золотых, хотя я отказался продать их. Взгляни-ка!
Джедеф повернул голову туда, куда указывал Нафа, и увидел миниатюрное изображение девушки-крестьянки на берегу Нила на фоне заката. Словно пробудившись от красоты этой картины, которая вернула его в реальность из страны грез, юноша медленно подошел к ней и остановился на расстоянии вытянутой руки. Нафа заметил его изумление и был очень доволен собою.
— Видишь, какие на этой картине цвета и тени? Ты только посмотри на Нил, на горизонт! — восклицал он.
— Просто попроси меня смотреть на крестьянку! — прошептал Джедеф.
Разглядывая свое произведение, Нафа сказал:
— Моя кисть увековечила течение Нила, в котором чувствуется великое достоинство и гордость.
Джедеф, не обращая внимания на слова Нафы, шептал:
— О боги… Такое легкое, гибкое тело, стройное и прямое, словно копье!
— Посмотри на поля и на склонившиеся злаки, по которым можно увидеть… — продолжал художник.
Юноша, будто вовсе не слыша брата, бормотал:
— Как великолепно это смуглое лицо. Оно подобно луне!
— … что дует южный ветер! — не унимался Нафа.
— Как прекрасны эти темные глаза! У них такое неземное выражение!
— В этой картине есть не только радость. Обрати внимание на закат! Одним богам известно, каких усилий мне стоило добиться таких оттенков.
Джедеф смотрел на брата с изумлением.
— Она живая. Нафа, я слышу ее шепот. Как ты можешь обитать под одной крышей с ней?
Художник потер руки.
— Я собираюсь выручить за нее десять золотых.
— Эту картину нельзя продавать, — резко сказал Джедеф.
— Почему?
— Потому что она моя, даже если мне придется отдать за нее свою жизнь!
Нафа расхохотался:
— О, пора юности нашей! Ты будто ярко горящий огонь и прыгающее до небес пламя. Ты наделяешь душой камни, цветы и воду. Ты безудержно обожаешь иллюзии и грезы, путаешь мечты с явью…
Джедеф покраснел и замолчал. Нафа сжалился над братом и сказал:
— Приказывай же, о солдат!
— Эту картину нельзя продавать, Нафа, — юноша умоляюще сложил ладони.
Нафа снял миниатюру и подал брату.
— Дорогой Джедеф, она твоя. Можешь любоваться ею сколько захочешь.
Молодой человек нежно взял ее — так, словно это было его собственное сердце, и поблагодарил:
— Спасибо, Нафа!
Довольный художник сел обратно на свой стул, а Джедеф застыл на месте, не сводя взгляд с лица крестьянки. Спустя какое-то время он спросил:
— Как придуманный образ может настолько зачаровывать?
— Это не вымышленное создание, — спокойно ответил Нафа.
Сердце Джедефа чуть не остановилось… Он еле вымолвил:
— Ты хочешь сказать, что эта девушка существует на самом деле?
— Да, — кивнул брат.
— Она… она похожа на ту, что на твоей картине?
— Возможно, в жизни она еще прекраснее.
— Нафа! — вскричал Джедеф. — Ты знаешь ее?
— Видел пару раз на берегу Нила.
— Где?
— К северу от Мемфиса.
— Она всегда ходит туда?
— Девушка приходила после полудня в компании своих сестер. Они сидели, играли или купались, а с заходом солнца исчезали.
— Они все еще приходят туда? — спросил Джедеф.
— Не знаю. Я там не был с тех пор как закончил картину.
Джедеф был потрясен:
— Как же так?
— Я поклоняюсь красоте, но не люблю ее.
Джедеф задал следующий вопрос:
— Где именно ты видел ее?
— К северу от храма Аписа.
— Думаешь, ее можно там встретить?
— И по какой же причине, о офицер, ты все это спрашиваешь?
В глазах Джедефа промелькнуло замешательство, и Нафа спросил:
— Возможно ли, чтобы за одну неделю судьба ранила стрелой любви двух братьев?
Юноша задумчиво рассматривал миниатюру.
— Не забывай о том, что она крестьянка, — напомнил ему брат.
— Для меня эта девушка — богиня, — прошептал в ответ юноша.
— Ах, Джедеф, я был сражен наповал во дворце Камади, — смеясь сказал Нафа, — но боюсь, что тебе придется падать на пол в скромном домике бедняка!
16
В тот день в воздухе витали грезы. В полдень Джедеф, держа у груди прелестный портрет, отправился на берег Нила, нанял лодку и поплыл на север. Он не до конца понимал, что делает, но не мог остановиться. Юноша был околдован и подчинялся лишь зову любви. Он преследовал неведомую ему цель, распаленный страстью, которой был не в силах противостоять. Волшебные чары сразили человека, который не боялся смерти и презирал опасность, и вот он устремился на поиски, ибо не в его обычаях было отступать.
Лодка разрезала волны, подгоняемая течением и силой его рук. Джедеф все время поглядывал на берег реки, высматривая незнакомку. Сначала его взгляду предстали особняки состоятельных семей Мемфиса, чьи мраморные лестницы спускались к самой воде. За ними виднелись бескрайние поля. Затем на небольшом удалении показался сад дворца фараона в городе белых стен. Джедеф вел лодку по средней части реки, чтобы избежать встречи с нильской стражей, и повернул к берегу только возле храма Аписа. Оттуда юноша поспешил на север, где людей можно было увидеть лишь по большим праздникам. Он уже был готов сдаться, но вдруг заметил на берегу группу крестьянских девушек, сидевших свесив босые ноги в воду. Его сердце сильно забилось, уныние исчезло, а в глазах появилась восторженная надежда. Пока он греб к суше, его руки стали еще сильнее; с каждым взмахом весла он поднимал голову и пристально глядел на них. Когда он сумел различить их лица, с его губ слетел легкий вздох, подобный тому, что издает слепой, внезапно узревший свет. Он ощутил радость утопающего, когда ноги его касаются твердой земли, ибо отыскал именно ту девушку, которую так желал. Ту, чей портрет хранился на его груди. Она отдыхала на берегу в окружении своих подруг. Аромат грез витал и здесь. Над рекой спускались голубые сумерки.
Джедеф встал в лодке во весь рост. Чудесная белая униформа, которая сидела на нем как влитая, делая его похожим на изваяние неземного могущества и соблазнительной красоты. Он был словно бог Нила, появившийся из разверзшихся священных волн. Юноша смотрел на лицо крестьянки, преисполненное одновременно чувственности и невинности. Ее взгляд был прикован к красивому юноше. Подруги в изумлении не сводили с нее глаз, не понимая, что произошло, почему она так сияет. Проследив за ее взором, они увидели мужчину в лодке, встревожились и стали надевать сандалии.
Джедеф выпрыгнул на берег, подошел к ним на расстояние вытянутой руки и почтительно обратился к той, ради которой оказался здесь:
— Да ниспошлет тебе владыка добрый вечер, о милая красавица!
Девушка сначала смутилась, но затем, горделиво вскинув головку, ответила, и голос ее оказался мелодичнее пения птиц, летавших над водой:
— Что вам нужно от нас, господин? Лучше следуйте своей дорогой!
Он с укором посмотрел на нее.
— Ты не хочешь приветствовать меня?
Девушка с негодованием отвернулась. Окружавшие ее подруги поддержали ее:
— Мы не ведем разговоры с теми, кого не знаем!
— Вы всегда так недоброжелательно относитесь к путникам? — улыбнулся Джедеф.
Одна из крестьянок резко ответила:
— Вы скорее похожи на помешанного, а не на простого путника!
— Как вы жестоки!
— Если бы вы на самом деле были путешественником, то не пришли бы сюда. Возвращайтесь на юг, в Мемфис, или ступайте на север, а нас оставьте. Мы не разговариваем с теми, с кем не знакомы!
Джедеф пожал плечами и сказал, указывая на прекрасную крестьянку:
— Эта девушка знает меня.
Подруги с изумлением посмотрели на ту, что стала предметом интереса молодого человека.
— Это ложь! — с негодованием воскликнула она.
— Нет, это правда. Мы знакомы уже давно.
— Как ты можешь утверждать это, если я никогда тебя не видела?
— И не хочет видеть! — вмешалась в разговор одна из крестьянок.
Другая поддержала ее:
— Нет никого страшнее солдат, не дающих проходу честным девушкам!
Джедеф не обращал на них ни малейшего внимания, продолжая улыбаться красавице и не сводя с нее глаз.
— Чем больше я на тебя смотрю, тем больше ты заполняешь мою душу…
— Лжец… — еще раз прошептала она, а сама все смотрела на красивого юношу.
— В моих словах нет ни капли лжи, но я с любовью принимаю твой жестокий ответ, из уважения к милому рту, произнесшему его.
— Нет, ты лжец!
— Я же сказал, в моих словах нет ни капли лжи — и вот тому подтверждение, — он опустил руку за пазуху, откуда достал портрет, и спросил: — Смог бы я нарисовать эту картину, если бы мои глаза не узрели воочию, как ты прекрасна?
Девушка, подобной которой никогда не видели,
Волосы ее чернее мрака ночи.
Уста ее слаще винограда и фиников.
Улыбка ее — словно утренняя заря, — прошептал он стихи, исторгшиеся вдруг из его сердца.
Девушка бросила взгляд на картину и не сумела сдержать восторженного вздоха, смешанного со страхом. На лицах ее подруг отразилось наигранное негодование. Одна из них подошла к юноше и попыталась выхватить рисунок, но он быстро отвел руку в сторону и победоносно улыбнулся.
— Теперь ты видишь, что завладела моим разумом и душой? — спросил он.
— … это нечестно… Значит, ты подглядывал за мною, — на глазах ее блеснули слезы.
— Нет. Просто однажды я проплывал мимо, сразу был очарован тобой, а потом по памяти создал твой портрет.
— Отдай его мне, — попросила девушка.
— Ни за что! Я не расстанусь с ним до конца своей жизни.
— Я вижу, что ты из военной академии, — заметила крестьянка рассердившись. — Берегись — своими дурными манерами ты достоин самого сурового наказания.
— Я готов вытерпеть любые пытки ради одного твоего доброго взгляда, — спокойно промолвил Джедеф.
— Просто невероятно, что ты накликал на себя такое несчастье!
— Да, особенно если учесть, что я больше всего заслуживаю сочувствия.
— Чего же ты хотел добиться, написав свой портрет? — спросила девушка.
— Я пытался исцелить себя от того, что твои глаза сделали со мной. А сейчас хочу, чтобы ты исцелила меня от того, что ты сотворила со мной этой картиной, — сказал молодой человек.
— Я и не предполагала, что когда-либо повстречаю такого нахала.
— А разве я мог предположить, что потеряю свое сердце и разум в одно мгновение?
Тут его перебила другая девушка:
— Ты преследовал нас? Как ты посмел?
Ее поддержала товарка:
— Если ты не оставишь нас в покое, мы позовем на помощь!
Джедеф оглядел пустой берег и тихо сказал незнакомке:
— Я не привык просить, поэтому у меня не очень хорошо получается.
Красавица отвернулась:
— Ты хочешь силой заставить меня слушать твои речи?
— Нет, но я прошу твое сердце смягчиться, а губы — улыбнуться мне…
— А если сердце мое будет непреклонно?
— Может ли такая нежная грудь скрывать в себе камень?
— Только когда передо мной стоит глупец.
— А перед лицом страдающего от любви человека?
Она вскинула голову:
— Тогда мое сердце становится еще жестче.
— Сердце даже самой жестокой девушки подобно кусочку льда: если его коснется теплое дуновение, он растает и обратится в кристальную воду, — возразил Джедеф.
— Эти твои слова, — насмешливо ответила она, — показывают, что ты не настоящий солдат, а девчонка, надевшая армейскую одежду. Возможно, ты украл эту форму, точно так же, как раньше украл мой образ.
Джедеф покраснел.
— Да простит тебя владыка. Я действительно солдат и я завоюю твое сердце, как завоевывал победы на поле боя.
— О каком поле боя ты говоришь? — смеясь, спросила она. — Египет покончил с войнами задолго до того, как искусство военного ремесла снизошло до знакомства с тобой. Ты солдат, который приписывает себе боевые заслуги в мирное время.
Смутившись, Джедеф тем не менее возразил:
— Известно ли тебе, красавица, что в военной школе жизнь ученика сравнима с непрерывным сражением? Конечно, ты об этом не знаешь, поэтому мое сердце прощает тебе дерзость.
Девушка продолжала дерзить:
— Воистину я заслуживаю упрека за то, что до сих пор слушаю речи такого наглеца!
Глаза же ее говорили совсем иное. Она повернулась к подружке и жестом предложила уйти, но юноша, улыбнувшись, встал у нее на пути.
— Интересно, как я могу заслужить твою любовь? — спросил он. — Я очень этого хочу. Скажи мне вот что: ты когда-нибудь плавала по Нилу на лодке?
Перепугавшись за свою подругу, девушки обступили ее, желая защитить от его посягательств.
— Позволь нам уйти. Уже темнеет, — примирительно сказала одна из них.
Джедеф тем не менее не собирался их отпускать. Решив, что им все равно придется защищаться, одна девушка, улучив момент, бросилась на него, словно львица. Потом они все навалились на молодого человека, цепляясь за одежду и удерживая его силой. Он попробовал сопротивляться, но не смог пошевелиться. Та, ради которой он здесь оказался, бежала на другой конец поля, словно спасавшаяся от хищника газель. Джедеф позвал ее, моля о помощи, но потерял равновесие и упал в траву, а остальные девушки не отпускали его, пока не убедились в том, что их подруга благополучно скрылась. Юноша вскочил, обуреваемый гневом и досадой, и побежал туда, где исчезла красавица. Увы, там уже никого не было. Опечалившись, он вернулся в надежде найти ее, когда за нею последуют подруги, но они перехитрили солдата, отказавшись двинуться с места.
— Можешь остаться с нами или уйти — тебе решать, — со смехом сказала одна из них.
— Наверное, солдат, это твое первое поражение, — поддержала другая.
— Битва еще не окончена, — ответил раздосадованный Джедеф. — Я пойду за вами хоть до самых Фив.
Но первая девушка дала понять, что они не отступят:
— А мы заночуем прямо здесь.
17
Следующий месяц, проведенный в школе, был для Джедефа самым долгим. Сначала он сильно мучился из-за уязвленной гордости, спрашивая самого себя: «Как я мог потерпеть такую неудачу? Разве я не молод, не красив, не силен, не богат?» Юноша долго смотрел на свое отражение в зеркале и бормотал: — Что во мне не так?
Действительно, что могло оттолкнуть от него ту прекрасную девушку? Что навлекло на него оскорбление за оскорблением? Почему она бежала от него как от прокаженного? Но потом к нему возвращалось жгучее желание видеть ее снова, и Джедеф размышлял о том, что, если бы она позволила ему ухаживать за собой, ему удалось бы укротить ее норов и завоевать расположение сердца. Разве красивые девушки могут злиться вечно? Тем более что смотрела она, когда он подплывал, как на бога Нила, а не как на захватчика из Синая. Ох, уж эти подруги! Это они во всем виноваты! Такие мысли посещали Джедефа, когда он на месяц оказался пленником за высокими стенами военной школы.
Несмотря на душевные страдания, Джедеф все еще оставался во власти чар прекрасной незнакомки и хранил на груди ее портрет. Каждый раз, когда удавалось остаться в одиночестве, он любовался им. «Ты знаешь, кто эта неприступная дева? — думал он, вспоминая встречу на берегу. — Простая крестьянка? Не может быть! И эти девушки явно ее служанки, а она их госпожа. У какой крестьянки могут быть такие блестящие, волшебные глаза? И где же крестьянская простота в ее остром сарказме и звонких насмешках?»
Если бы он так неожиданно появился перед обыкновенной крестьянкой, то она, скорее всего, просто бы убежала, не вступая в разговор, но ведь все произошло совсем по-другому! Неужели он сможет забыть, как она сидела там со своими подругами, словно принцесса, в окружении служанок и придворных дам? Разве можно выбросить из головы то, как они храбро защищали ее? А то, что остались с ним — после короткого поединка — и не убежали, боясь, что солдат последует за ними и найдет ее? Наоборот, они решили ночевать на холоде под открытым ночным небом. Поступили бы они подобным образом ради такой же, как они сами, крестьянки? А то, что она пообещала ему серьезные неприятности за неучтивость? О-о, и она не простая крестьянка, это уж точно! Вот если бы он добился ее благосклонности, то потом смог бы рассказать обо всем Нафе, и тот больше не стал бы дразнить брата, что он найдет свою любовь в бедняцкой хижине! Какая жалость!
Но, как бы то ни было, месяц, показавшийся Джедефу вечностью, наконец закончился. Он покинул стены своей школы, словно человек, вышедший на свободу из ужасной тюрьмы, и отправился домой, скучая отнюдь не по своей семье. Юноша встретил родных с той радостью, что была несравнима с их счастьем, и сидел рядом с ними с отсутствующим сердцем. Он не заметил безразличия и вялости, овладевших Гамуркой, поскольку сгорал от нетерпения, и час в родном доме тянулся для него будто неделя. При первой же возможности он уехал к священному храму Аписа в надежде на новую встречу.
Стоял месяц бармуда — воздух был влажным и мягким, позаимствовав у прохлады свежесть, а у жары — живое дыхание, которое пробуждало веселье и страсть. Небо было окрашено легкой, прозрачной белизной с бледно-голубым сиянием вдали.
Джедеф с нежностью взирал на дорогое место и спрашивал себя: «Где же та девушка с прелестными глазами? Вспомнит ли она меня? Злится ли до сих пор? И будет ли мое вожделение все еще таким же пугающим для нее?»
Пустой берег ничего не ответил. Камни были глухи к его зову, и чувство тоски и одиночества овладели юношей.
Даже время насмехалось над ним — сначала надежда заставляла его верить, что девушка еще появится, поэтому оно тянулось медленно и вяло. Потом отчаяние подсказало Джедефу, что она уже приходила и ушла, и тогда время полетело как стрела, пока солнце катилось в своей быстрой колеснице к западному горизонту.
Он по-прежнему бродил вокруг того места, где впервые увидел ее, всматриваясь в зеленую траву, мечтая разглядеть следы ее сандалий. Увы, на траве не осталось ничего, да и вода не сохранила следов ее изящных ног!
Приходит ли она сюда, как раньше, или вовсе отказалась от прогулок, чтобы не встречаться с ним? Где она сейчас? И как ему найти ее? Может быть, позвать? Но кого? Ведь он даже не знает ее имени! Джедеф в замешательстве ходил по берегу, где встретил удивительную крестьянку, подталкиваемый то надеждой, то унынием. Погрузившись в раздумья, он поднял голову к небу и увидел огненное солнце, клонившееся к закату Светило показалось ему похожим на старого, сраженного болезнью великана. Юноша перевел взгляд на широкое поле, по которому тогда убежала девушка, и увидел вдали деревню. Он решил идти туда. На пути ему попался крестьянин, возвращавшийся домой после рабочего дня. Джедеф спросил его, что это за поселение. Крестьянин, с уважением глядя на его форму, ответил: «Это деревня Ашар, господин». Джедеф чуть было не показал ему картину, спрятанную на груди, чтобы задать несколько вопросов о девушке, изображенной на ней, но сдержался.
Он пошел в деревню, и теперь в душе юноши было облегчение. Словно надежда, разочаровавшая его на берегу Нила, сбежала сюда, в это поселение, и теперь он шел, чтоб вернуть ее.
То был вечер, которого он никогда не забудет. Джедеф исходил деревню вдоль и поперек, вглядываясь в лица крестьян. Заходил с расспросами в каждый дом. Вид этого прекрасного воина, его интерес вызвали у жителей любопытство, и его со всех сторон окружили девчонки, мальчишки, юнцы. Они все говорили наперебой, смеялись, заглядывали незнакомцу в глаза, шумели, и Джедеф понял, что попусту тратит время. Наконец ему удалось вырваться из этого окружения, и он заторопился к Нилу во мраке своей души и в темноте быстро надвигающейся ночи.
Чувство утраты разрывало сердце Джедефа на части. Это состояние напоминало ему о суровом испытании, выпавшем на долю богини Изиды, когда она отправилась на поиски останков своего мужа Озириса, погубленного злым Сетхом. Если бы его любимая была видением, являвшимся к нему во сне, то отыскать нечто похожее наяву было бы гораздо проще. Красавец Джедеф влюбился, но то была странная влюбленность — в отсутствие самой возлюбленной. Страсть поглощала его существо не из-за отказа или предательства, капризов времени или козней недоброжелателей. Мучения его были вызваны исчезновением той, которая осталась лишь на рисунке Нафы. Девушка же, реальная, живая, стала ветром, унесшимся через поле. Она бесследно исчезла, оставив в сердце юноши саднящую боль. Джедеф не знал, куда умчался тот ветер, где живет та красавица, и это не давало ему покоя. Как жестоко поступила судьба, обратившая его взор на эту картину! Безжалостная судьба, спокойно взирающая на страдания людей…
Джедеф вернулся домой. В саду его ждал Нафа.
— Где ты пропадал, Джедеф? — спросил художник. — Тебя так долго не было! Приехал Хени!
— Хени? — ошеломленно переспросил юноша. — Правда? Но откуда же я мог знать? Давно он здесь?
— Приехал два часа назад. Он ждет тебя, — Нафа вгляделся в печальное лицо младшего брата и подумал: «С ним что-то творится… Неужели это все-таки любовь?»
Но Джедеф, позабыв обо всем, уже мчался к старшему брату, с которым не виделся столько лет. Хени, точно так же как в былые дни, сидел с книгой в руке. Увидев юношу, он бросился навстречу:
— Джедеф! Как поживаешь, о доблестный офицер? Как ты вырос, как возмужал! Я так рад видеть тебя!..
Они долго сжимали друг друга в объятиях, и Хени благословлял его именем владыки Ра. Качая головой, он все повторял:
— Как летят годы, Джедеф! Твое лицо все такое же красивое… смотреть на тебя удовольствие. Ты похож на тех бесстрашных солдат, которых по окончании великих сражений царь одаривает своим благословением и чей героизм увековечен на стенах храмов. Мой дорогой Джедеф, как же я счастлив видеть тебя спустя столько лет!
Преисполненный радости, Джедеф сказал:
— Я тоже очень счастлив, дорогой брат. Послушай, ты совсем не похож на жреца! Ты не тучен, как они, напротив, строен, в тебе столько достоинства, ум так и светится во взоре! Ты уже закончил обучение, мой дорогой Хени?
Хени, улыбнувшись, сел на ложе и пригласил брата присесть рядом.
— Жрец никогда не перестает учиться, ибо знания бесконечны, — улыбнулся он. — Кагемни писал: «Ученый муж стремится к знаниям от колыбели до могилы и все равно умирает невеждой». Тем не менее первую стадию своего обучения я завершил.
— Расскажи, как тебе жилось в храме, — попросил Джедеф.
Хени внимательно посмотрел на младшего брата.
— О, как же давно это было! — воскликнул он. — Когда десять лет назад я слушал тебя, а ты забрасывал меня тысячью вопросов, помнишь, Джедеф? Не удивляйся, потому что жизнь жреца проходит между вопросом и ответом или вопросом и попыткой ответить на него. Вопрос — это сущность духовной жизни. Джедеф, ты хочешь узнать о жизни в храмах? Я могу рассказывать не обо всем, что мне известно. Это тайна, святая святых. Скажу лишь то, что веду там жизнь, наполненную внутренней борьбой. Верховные жрецы приучают нас делать тело чистым и послушным нашей воле, затем передают священное знание, ибо на чем же взойдет добро, как не на хорошо подготовленной почве?
— А чем занимаешься ты, дорогой брат? — спросил Джедеф.
— Я скоро стану слугой на жертвоприношениях владыке Ра, да восславится его имя. На меня обратил внимание верховный жрец. Он предсказал, что через десять лет я буду хорошо известен в Мемфисе.
— Я верю, что это пророчество обязательно исполнится, — страстно сказал Джедеф. — Ты замечательный человек, брат мой!
Хени скромно улыбнулся:
— Благодарю тебя, дорогой Джедеф. А теперь скажи мне, читаешь ли ты что-нибудь полезное?
Юноша рассмеялся.
— Ну, если так можно назвать труды по военной стратегии или истории египетской армии, то тогда да — я читаю что-нибудь полезное!
Хени расстроился.
— Жаль, Джедеф! Ты с таким вниманием слушал слова ученых на этом самом месте, но то было десять лет назад! Неужели ты посвятишь свою жизнь воинской службе, до конца жизни будешь маршировать в строю?
— Правда в том, что ты заронил семя любви к мудрости в моем сердце, — улыбнулся Джедеф. — И я не буду ходить в строю, поверь мне, брат! Просто военная жизнь почти не оставляет мне времени для чтения, которого я так жажду. Но как бы то ни было, учиться мне осталось совсем немного.
И все же Хени был обеспокоен.
— Достойный разум не отвергает мудрость даже на один День, так же как здоровый желудок не отказывается от пищи. Ты должен наверстать то, что упустил, о Джедеф. Достоинство военной науки лишь в том, что она обучает солдата верой и правдой служить своей родине и своему правителю. Но при этом ни мозг, ни душа ничего не получают, пойми! Солдат, отрицающий мудрость, подобен верной собаке, но не более. Вероятно, он будет преуспевать у хорошего командира, может и сам стать полководцем, но, будучи предоставлен сам себе, ничего не сумеет сделать для себя, хотя и сможет помогать другим. Боги выделили человека из животных тварей, наделив его разумом и душой, но если душу и разум не питать постоянно мудростью, мыслями, чувствами, человек может пасть, низвергнуться на уровень низших существ. Не забывай об этом, о Джедеф! В глубине своего сердца я чувствую, что ты благороден духом. Ты создан для высшего служения. На твоем лице видны прекрасные линии величия и славы, да благословит владыка Ра твои деяния.
Потом Джедеф рассказал Хени о предполагаемой женитьбе Нафы и спросил:
— Брат, а ты можешь жениться?
— Почему же нет, Джедеф? — удивился жрец. — Священнослужитель не может быть уверен в своей мудрости, если не женится. Ведь как смертному вознестись к небесам, если его душу обременяют земные желания? Благодать брака в том, что он удовлетворяет человеческие страсти и таким образом очищает тело.
Он хотел рассказать Джедефу историю о верховном жреце храма бога Ра и его молодой жене Руджедет, об их сыне, о пророчестве, но сдержался — это была священная тайна, которая хранилась за стенами храмов и не должна была выйти за их пределы, ибо нет спасения от гнева наследника фараона, принца Хафры…
Джедеф покинул покои брата ближе к полуночи и направился в свою комнату. Он стал снимать одежду, попутно вспоминая беседу с Хени, и вдруг, когда подумал о том, что случилось в этот день и какое разочарование постигло его, ощутил острую печаль. Прежде чем упасть на постель, он услышал легкий стук в дверь.
То была Зайя. Лицо ее было искажено гримасой страдания.
— Я тебя не разбудила? — спросила она.
— Нет, мама, я еще не ложился. Чем ты так взволнована?
Женщина пыталась заговорить, но язык не повиновался ей. Она жестом позвала сына за собой, и он решительно направился следом… Джедеф увидел Гамурку, распростертого на ковре.
— Гамурка… Гамурка… Что с ним, мама?
— Мужайся, сынок, мужайся, — дрожащим голосом прошептала мать.
Сердце солдата едва не разорвалось от боли, когда он опустился на колени рядом со своей собакой, которая не встретила его привычными радостными прыжками. Гамурка не шевелился.
— Мама, что произошло?
— Крепись, Джедеф, Гамурка умирает.
Страшное слово ужаснуло юношу.
— Но что случилось? — отчаянно закричал Джедеф. — Он же приходил ко мне утром, был таким, как всегда…
— Нет, он был уже не таким, как всегда, мой дорогой, хотя его любовь к тебе заглушила на время боль, он очень стар, Джедеф, и предсмертная слабость была заметна в последние дни.
Боль Джедефа стала нестерпимой, он повернулся к своему верному другу и в глубочайшем горе прошептал ему на ухо:
— Гамурка… разве ты не слышишь меня? Гамурка! Посмотри на меня!
Преданный пес с трудом поднял голову и глянул на своего хозяина, словно прощаясь с ним. Сразу после этого он впал в тяжелое забытье и стал хрипло постанывать. Джедеф вновь окликнул его, но ответа не последовало. Юноша почувствовал, что смерть уже распростерла свои крылья над его надежным товарищем и другом детства. Джедеф обнял пса, пытаясь защитить, вдохнуть в него жизнь, но силы были неравны. Гамурка содрогнулся всем телом, вытянулся и безмолвно отправился в вечность. Юноша закричал: «Гамурка!», но мольба его была напрасной.
Впервые с тех пор как он стал солдатом, слезы потекли из глаз Джедефа. Он упал на ковер рядом с уже холодеющим телом своего дорогого друга и разрыдался как мальчишка.
Зайя помогла Джедефу подняться и вытерла его слезы своим платком. Она увела к себе, усадила рядом на постель и стала утешать. Но Джедеф не слышал ее. Он долго молчал, а потом прошептал:
— Мама, можно забальзамировать Гамурку и положить в саркофаг? Я поставлю его в саду на том месте, где мы с ним раньше играли. И знаешь, пусть его перенесут в мою могилу, когда владыка призовет меня к себе…
Зайя испуганно смотрела на сына: «О боги, о чем он говорит?», кивнула.
Так завершился тот долгий день.
18
Шестой — последний — год Джедефа в военной школе подошел к концу. Приближались традиционные ежегодные соревнования, на которых выпускники состязались друг с другом, прежде чем получить назначения в войска. В тот день в знаменитой академии царило праздничное оживление. Ее стены были украшены флагами военных подразделений, а во дворе с утра раздавались гимны.
Наконец ворота распахнулись, и толпа приглашенных хлынула на плац, где уже выстроились будущие воины.
Празднество длилось долго. После полудня в колесницах явились прославленные государственные мужи, возглавляемые жрецами. Впереди шествовал визирь Хемиун, командующий Арбу, множество придворных фараона и художники. Все они собрались на площади, чтобы приветствовать принца Хафру, наследника престола, которого Хуфу назначил председательствовать на празднестве от своего имени. Когда показалась царская колесница, шеренги выпускников замерли. Во главе отряда выступали дворцовые стражи. Раздалась приветственная музыка, и все собравшиеся в едином порыве стали возносить хвалу фараону и наследному принцу.
С Хафрой прибыли его сестра принцесса Мересанх, братья — принцы Бафра, Хорджедеф, Хорсадеф, Каваб, Седжедеф, Хуфухаф, Хата и Мериб.
Все поклонились престолонаследнику. Зрелый возраст сделал выражение лица еще более жестоким и надменным. Хафра едва удостоил присутствующих кивком головы и небрежным жестом правой руки. Он занял место в центре, принцесса и остальные принцы сели справа от него, а слева расположились Хемиун, командующие и сановники. После прибытия принца шум утих, гости расселись, и началось празднество. Прозвучал рожок, и со стороны казарм появились офицеры-выпускники, маршировавшие строем. Возглавлял их командующий, гордо державший знамя школы. Сегодня молодые военные впервые надели форму, зеленые туники, леопардовые накидки.
Поравнявшись с троном, на котором восседал наследный принц, они отсалютовали ему вынутыми из ножен мечами. Хафра, чуть приподнявшись, тоже приветствовал выпускников.
Состязание открывали скачки. Офицеры оседлали богато украшенных жеребцов и выстроились в ряд. По звуку рожка они ринулись вперед, будто стрелы, выпущенные из гигантских луков. Копыта боевых коней сотрясали землю подобно мощному извержению вулкана. Скорость была так высока, что зрители быстро потеряли их из виду. Сначала все мчались рядом, но потом группа рассыпалась. Внезапно, словно поймав безумный порыв ветра, один всадник оказался впереди остальных и первым помчался к финишу. Зрители услышали имя победителя: «Джедеф, сын Бишару!» Если бы посреди грома оглушительных аплодисментов молодой человек смог услышать крик своего отца: «Вперед, сын Бишару!», он вряд ли сумел бы удержаться от смеха.
Потом состоялась гонка на колесницах. Офицеры, выстроились в боевом порядке. Вновь прозвучал рожок, и они помчались, будто титаны, сопровождаемые грохотом, подобным обрушению скал и низвержению гор. Молодые люди стояли на колесницах, словно вросшие в землю пальмы, боровшиеся с ветром, желавшим перевернуть их. Но ветру пришлось признать свое поражение.
И тут из общей группы выделился колесничий, который пронесся мимо всех как на крыльях. Он двигался так быстро, что остальные казались замершими на месте. Этот юноша победил, и вновь все услышали его имя: «Джедеф, сын Бишару!» Опять послышались крики ликования и грома аплодисментов.
Далее настал черед скачек с препятствиями. По длинному полю расставили деревянные барьеры. Их высота увеличивалась от первого к последнему. Со звуком рожка лошади молниеносно рванулись вперед, перелетев первое препятствие, словно атакующие орлы. Они одолели второе, третье, пятое, подобно волнам яростно бушующего моря. Казалось, финиш уже близок, но удача отвернулась от большинства из них. Лошади одних всадников перестали слушаться команд, другие падали под жалобные крики, не одолев высокий барьер. И лишь один юноша преодолел все препятствия. Он перелетал их, словно желая воспарить в небо, по велению судьбы, воплощая победу. Никто из присутствующих уже не сомневался в том, кто стал победителем. Джедеф, сын Бишару! Конечно, это был он — смуглый красавец. Ни следов усталости, ни надменной улыбки. Воистину — божественный сын солнца, отражавшегося на его блестящем шлеме.
Успех сопутствовал Джедефу во всех испытаниях. Он точнее других попадал в цель, метая копье и стреляя из лука. Выиграл все поединки на мечах и топорах. Боги даровали ему абсолютный триумф. Джедеф стал героем дня, был признан самым одаренным учеником школы, завоевав любовь всех присутствовавших.
Победители должны были подойти к наследнику престола, чтобы получить от него поздравления. В тот день Джедеф один пошел отдать честь принцу, и престолонаследник, положив руку ему на плечо, сказал, кривя губы:
— Поздравляю тебя, бесстрашный! Ты превзошел всех в этих соревнованиях, и я избрал тебя офицером моей личной стражи.
Лицо молодого человека осветила радость. Он отсалютовал принцу и вернулся на свое место. Пока Джедеф шел, довольно улыбаясь, глашатай громко объявил публике, что наследный принц Хафра поздравил победителя и назначил его офицером своей стражи. Сердце юноши учащенно забилось, он представил, как ликует его семья. Бишару, Зайя, Хени и Нафа, несомненно, слышали эти слова и испытывали поистине неописуемый восторг.
После этого отряд выпускников промаршировал к креслу наследника престола, откуда он обратился к ним с речью:
— О доблестные офицеры, я выражаю полное удовлетворение вашей отвагой, вашим талантом и рвением, вашим благородным воинским духом. Надеюсь, что вы, подобно своим предшественникам, останетесь символом победы для своей родины и фараона, правителя двух земель.
Солдаты вознесли хвалу родине и фараону Затем прозвучало объявление об окончании праздника. Гости стали расходиться, наследный принц тоже покинул школу.
Джедеф пребывал на небесах. Но не от своего успеха, нет! Когда он подошел к принцу Хафре и слушал его поздравление, взгляд молодого человека невольно скользнул в сторону. По правую руку от наследника престола он увидел ту самую девушку, любовь к которой пронзила его сердце. Ту самую красавицу-крестьянку, что изобразил его брат Нафа. О боги, то была дочь фараона, принцесса Мересанх! Девушка тоже смотрела на Джедефа и улыбалась. О владыка Ра! Солнце радости вдруг померкло в его глазах — радости от победы. Он не должен смотреть на принцессу, это может вызвать скандал. Выслушав короткую речь принца и узнав, что Хафра берет его в свою личную стражу, Джедеф приложил руку к сердцу и удалился под гром аплодисментов. Руку и сердцу приложить нужно было непременно — не в знак признательности принцу, а чтобы оно не выскочило из груди. В казарму он вернулся сам не свой…
Возможно ли, что прелестная крестьянка — на самом деле ее царское высочество принцесса Мересанх? Этого нельзя было даже представить, не то что поверить в происходящее!
С другой стороны, неужели могло существовать два лица такой чарующей красоты? И разве можно было забыть высокомерие, с каким говорила с ним та «крестьянка» на берегу Нила? Уже тогда у Джедефа появилась мысль, что девушка более образованна, нежели деревенская простушка. О, если бы можно было увидеть еще раз эти сияющие темные глаза, это очаровательное лицо, услышать ее голос!
«Что ж, совсем неплохо, что я буду теперь служить при дворце принца. Возможно, сестра Хафры навещает брата… Хотя нет, царица с дочерьми живет в другом дворце», — юноша не знал, что ему и думать.
— Как поразительно! — сказал он наконец вслух. — Джедеф, сын Бишару, влюбился в принцессу Мересанх! — И долго время не сводил с рисунка печального взгляда.
— Скажи, ты и правда принцесса? — спрашивал он у ее образа. — Лучше бы ты была простой крестьянкой, ибо потерянная крестьянка ближе моему сердцу, нежели обретенная принцесса.
19
Впервые Джедеф был готов покинуть дворец Бишару как самостоятельный человек. Провожать его к воротам вышла вся семья. На этот раз он оставлял после себя грусть, смешанную с восхищением и гордостью. Зайя припадала к его груди, гладила по лицу и заливалась слезами. Хени благословил его на прощание: сам жрец начинал приготовления к переезду из дома в храм. Нафа пожал брату руку и сказал:
— Скоро мое пророчество подтвердится, Джедеф! Вот увидишь.
Старый Бишару положил свою широкую ладонь на плечо молодого офицера и с довольным видом сказал:
— Я счастлив, Джедеф, что ты делаешь первые шаги по пути своего великого отца.
Джедеф не забыл положить цветок лотоса на могилу Гамурки, прежде чем оставить свой дом и отправиться во дворец принца Хафры. По счастливому стечению обстоятельств одним из его товарищей в помещении, где размещалась стража принца, оказался старый друг детства.
Приятель былых времен Сеннефер обрадовался приезду Джедефа и тепло его приветствовал.
— Ты всегда будешь преследовать меня? — смеясь, поддразнивал старый друг новоиспеченного офицера.
— До тех пор, пока ты на дороге к славе, — широко улыбаясь, подхватил шутку Джедеф.
— Слава вся твоя, Джедеф. Я как-то был победителем в гонке на колесницах, но ты превзошел всех во всем! Поздравляю тебя от всей души.
Джедеф поблагодарил друга. Вечером Сеннефер достал из своего шкафчика флягу мариутского вина и пару серебряных кубков и предложил:
— Знаешь, перед сном я привык выпивать немного этой влаги — очень полезный для организма ритуал. Что скажешь?
— Я иногда пью пиво.
Сеннефер расхохотался.
— Вино — отрада любого воина. — Выпив, старый друг признался: — О брат Джедеф, ты начинаешь поистине непростую жизнь!
Юноша улыбнулся:
— Я уже привык к солдатской жизни.
— Она всем нам не в диковинку, но его царское высочество — совершенно особый случай, — тихо сказал Сеннефер.
— Что ты имеешь в виду? — удивился Джедеф.
— Прими мой совет, брат. Ты должен понимать истинное положение дел, и предупреждаю тебя, держи этот совет втайне. Служение принцу Хафре — дело трудное.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Его высочество необычайно жесток, сердце его из железа, — ответил Сеннефер. — Любая ошибка для него — злостное оскорбление. Он мнителен, ему постоянно мерещится, что кто-то готовит на него покушение. Он жаждет власти, ждет, когда отец освободит ему трон. Но боги, боги, не допустите этого! Египет получит в этом случае жестокого правителя, который не станет лечить рану мазями, как иногда поступает его отец Хуфу. Хафра не колеблясь отрубит конечность…
— Решительному монарху, возможно, необходима частичка жестокости, — предположил Джедеф.
— Частичка — да, но не абсолютная жестокость, — возразил Сеннефер. — Со временем ты сам убедишься в этом. Здесь ни дня не проходит без вынесения наказаний — слугам, солдатам, военным из низших чинов и даже офицерам. С годами Хафра становится все раздражительнее, грубее и надменнее. Ему надоело столько лет быть лишь наследником трона, а не полновластным правителем, понимаешь?
— Обычно характер человека с возрастом смягчается. Так учит Кагемни.
Сеннефер громко засмеялся:
— Офицеру не пристало цитировать изречения мудрецов. Так учит нас его высочество! Жизнь принца полностью отличается от описаний Кагемни. Почему? Потому что ему уже сорок лет! Сорокалетний наследник престола — подумать только! Хуфу в сорок лет уже половину из них был фараоном. Он стал править Египтом двадцатилетним…
Джедеф недоумевая смотрел на друга. Сеннефер тихо пояснил:
— Престолонаследник должен приходить к власти молодым. Если судьба сурово поступает с ним и не дает престола, тогда он отыгрывается на всех остальных…
— Разве его высочество не женат? Он что, одинок?
— Нет. У него есть и сыновья, и дочери, — ответил Сеннефер.
— Тогда пусть ждет своего часа. Трон достанется ему или его потомкам.
— Это нисколько не облегчает его горе… Принц боится не этого.
— А чего? Его братья знают законы престолонаследия. Никто, кроме него, на трон не претендует.
— Без сомнения, — сказал Сеннефер. — К власти они не стремятся, да и не могут стремиться, ибо их матери — простые наложницы из гарема, а ее величество царица родила только старшего сына, наследного принца, и младшую дочь, принцессу. Трон по праву принадлежит этим двоим. Но что действительно беспокоит принца… так это слишком крепкое здоровье отца.
— Народ Египта боготворит своего фараона, — сказал Джедеф.
— И с этим тоже не поспоришь, — согласился Сеннефер. — Но мне кажется, что я вижу затаившиеся глубоко в людских душах страстные желания, которым совесть не позволяет выбраться наружу. О владыка Ра, не дай свершиться злодеянию! Коварный Сетх ведь умертвил даже Озириса… Словом, будь начеку, Джедеф… Да, а как тебе мариутское вино? Я сам из Фив, но…
— Того, что ты мне налил, было достаточно. Больше не надо, — улыбнулся Джедеф.
Сеннефер счел разговор законченным и лег спать. Джедеф задумался. Его щека не коснулась подушки, потому что упоминание другом принцессы Мересанх вновь пробудило в душе юноши страдание и утихшую было любовь, подобно тому, как светильник, уже совсем потухший, вдруг вновь вспыхнул бы ярким пламенем. Снедаемый волнением и беспокойством, он провел долгую бессонную ночь, перешептываясь со своим печальным сердцем.
20
Во дворце престолонаследника Джедеф испытывал чувство, что он, как никогда, близок к разгадке тайны. Несомненно, он жил на том самом горизонте, где должна была взойти яркая звезда истины. Все станет ясно: любимая девушка — это принцесса, недоступная и далекая. Джедефу, сыну Бишару, будь он трижды победителем всех состязаний, не добраться до нее. Останется лишь истрепанный кусок папируса с ее изображением. Все!
Однажды после полудня он стоял в карауле у ворот, выходивших к Нилу. Солнце месяца хатур излучало радостный свет, напоминая всем о счастье. Джедеф увидел причаливавший царский корабль, но у лестницы не оказалось никого из придворных, чтобы встретить его. Юноша поспешил, как того требовали его служебные обязанности, принять гостя, прибывшего во дворец принца, и, встав лицом к кораблю, замер, словно статуя.
Его взгляду предстало божественное, сияющее видение — дочь фараона. С царским величием и неземным изяществом девушка сошла с корабля и стала подниматься по лестнице в сад. Она была так воздушна, что, казалось, перепархивала со ступеньки на ступеньку. Джедеф, не сводя глаз, смотрел на принцессу Мересанх.
Вынув из ножен свой длинный меч, он по-военному отсалютовал, когда принцесса прошла мимо него, будто восхитительная мечта… Через минуту она исчезла…
Кто же это еще, как не она?
Слух и зрение могут обмануть, но сердце никогда. Если это была не она, почему его сердце билось так сильно, что чуть не разорвалось на кусочки? И почему он продолжал пребывать в состоянии такого восторга? Но, похоже, сама принцесса вовсе не была удивлена. Она не захотела взглянуть, узнать его! А разве между ними не произошло ничего, достойного хотя бы воспоминания? Неужели она могла так быстро забыть ту встречу на берегу реки? Или она просто надменно притворилась, будто впервые видит его?
Да и что ему с того, вспомнила бы она его или нет? Сколь велика разница между очаровательной девушкой на портрете и этим видением, проплывшим мимо! Та, на рисунке Нафы, живая, добрая и веселая… А эта… Только и достоинства, что прекрасна лицом и принцесса по рождению. Но зла, высокомерна, презрительно смотрит на всех людей, кто ниже ее по происхождению. Джедефу стало легче, когда он подумал о ней так. По крайней мере, его меньше будет терзать отчаяние. Хотя куда денешься от любви? Разве только ненависть… Но ненавидеть красавицу Джедеф не мог, он вообще не умел ненавидеть, ибо с детства купался в любви…
Юноша устремил взгляд на деревья и увидел птиц, гнездившихся в пышных кронах, непрерывно издававших мелодичные трели. Их пение выражало счастье верной любви и преданности. Он позавидовал птицам. Это было чувство, которого Джедеф не ведал ранее. Да, он завидовал тому, что они могли беззаботно перелетать с ветки на ветку, любить без всяких мучений. Жизнь их была так естественна и прекрасна, что ему захотелось стать птицей. Джедеф в своей чудесной форме, роскошном головном уборе, с мечом в руках почувствовал себя таким ничтожным, несвободным и горестно усмехнулся.
Да, он мастерски освоил стрельбу из лука и верховую езду в совершенстве овладел искусством рукопашного боя, достигнув всего, к чему может стремиться молодой человек, и тем не менее не знал, как стать счастливым! Нафе повезло больше он полюбил Ману и женился на ней. Хени тоже женится, потому как рассматривает брак как религиозную обязанность. А Джедеф скрывал в груди тайную, отчаянную любовь, которая иссушала его сердце так же, как в сезон шему уходят воды Нила и солнце иссушает египетскую землю и горы докрасна.
Он не сходил с места, страстно желая увидеть принцессу еще раз. Визит сестры к брату, видимо, был неожиданным, ибо если бы о нем знали во дворце, то встретили бы ее с почестями, подобающими царственной особе.
Поэтому, конечно, было возможно, что Мересанх вернется к своему кораблю сама, без сопровождения. Надежды юноши сбылись — принцесса действительно появилась наверху одна, после того как принц, вероятно, простился с ней на пороге дворца.
Джедеф стоял возле садовой лестницы. Когда она прошла рядом, он достал меч и отсалютовал. Мересанх остановилась, повернулась к нему и язвительно спросила:
— Ты знаешь свои обязанности, офицер?
— Да, ваше высочество, — выпалил юноша, задрожав всем телом.
— И что, в твои обязанности входит оскорбление девиц?
Щеки его загорелись. Она продолжала смотреть строго.
— Разве для египетского солдата допустимы вероломные действия?
— О моя госпожа, храбрый солдат никогда не совершит ничего вероломного, — не в силах выносить сердечную боль, ответил Джедеф.
— Тогда что ты скажешь о том, кто трусливо прячется за деревьями, поджидая целомудренных девушек, и тайком рисует их? — насмешливо спросила принцесса.
Глаза ее при этом сияли, лукавые ямочки на щеках говорили о добром нраве. Зачем она напускала на себя этот суровый и язвительный вид?
— Я хочу забрать у тебя ту картину, — изменив тон, строго потребовала Мересанх и протянула тонкую руку.
Джедеф подчинился, потому что привык выполнять приказы. Он достал рисунок и отдал принцессе.
Мересанх не ожидала такого поступка. Глаза ее расширились от удивления, алые губы раскрылись, как лепестки розы… Но девушка тут же вспомнила, что она вовсе не крестьянка, подняла бровь, посуровела и, взяв портрет, свернула папирус, даже не взглянув на него.
Принцесса отвернулась и, подобрав подол туники, горделиво поднялась по лестнице на свой корабль…
21
Жизнь Джедефа во дворце протекала без особых перемен, пока однажды не появился новый источник боли.
В тот день принц Хафра должен был отправиться куда-то в своих самых нарядных официальных одеждах и велел, чтобы его сопровождала стража, среди которой был Сеннефер. Джедеф же остался при дворце начальником караула. Вернувшись после захода солнца в казарму, он увидел Сеннефера. Лицо друга было утомленным, потным. Он стал умываться, с наслаждением скинул с себя форму и натянул свободную тунику. Затем Сеннефер налил себе вина и залпом выпил. Джедеф не приставал к товарищу с расспросами, хотя он очень хотел узнать, почему принц покидал дворец так торжественно, как обычно бывает при больших праздниках. Джедеф тоже разделся, умылся и лег на свое ложе.
— Знаешь, куда мы сегодня ездили? — наконец спросил Сеннефер, зажигая светильник.
— Нет, — спокойно ответил Джедеф.
— Его высочество принц Ипувер, правитель нома Арсина, — важно сказал Сеннефер, — приехал сегодня в Мемфис, где его принимал наследник престола.
— Разве принц Ипувер — не сын дяди нашего фараона царя по линии матери? То есть номарх — внучатый племянник Хуфу, так, кажется?
— Да, — подтвердил Сеннефер. — Так вот, этот номарх привез с собою донесение по поводу племен Синая — буквально за несколько месяцев в землях восточной дельты произошло множество нападений на наши караваны…
— Значит, принц Ипувер стал вестником грядущей войны?
— Истинно так, Джедеф, — ответил Сеннефер. — Еще я узнал, что уже долгое время престолонаследник мечтает о том, чтобы усмирить племена Синая, и командующий Арбу, вопреки мнению фараона, поддерживает его. Хуфу предпочитает подождать, пока Египет не восстановит силы, особенно после серьезных усилий, затраченных на строительство последней пирамиды. Так вот, принц попросил отца исполнить обещанное, но, говорят, его величество очень занят написанием своей грандиозной книги, которую он намерен сделать путеводной звездой для египтян в религиозных и мирских делах. И раз уж царь оказался не готов к серьезному разговору о начале войны, принц Хафра за спиной отца обратился к своему родственнику, принцу Ипуверу. Тот согласился встретиться с престолонаследником. Принц обещался рассказать отцу о фактах неповиновения со стороны племен Синая и их презрительном отношении к власти, а также о последствиях, которые может повлечь за собой подобное положение дел, если не будут приняты меры. Следовательно, в ближайшем будущем на северо-восток направят армейские подразделения.
Воцарилась тишина, потом Сеннефер, не дождавшись вопросов, продолжил:
— Его величество устроил в честь приезда своего племянника номарха пир, на котором присутствовали все члены Царской семьи, включая принцесс.
Сердце Джедефа екнуло. Он сразу же вспомнил Мересанх и прерывисто вздохнул, не осознавая, что этот вздох достиг ушей Сеннефера. Молодой человек с укором посмотрел на него и сказал:
— Именем Пта, ты меня совсем не слушаешь!
Смутившись, Джедеф пожал плечами:
— С чего ты взял?
— Но ты вздыхал, как человек, мысли которого далеко отсюда. Так вздыхают только о возлюбленной.
Джедеф хотел ответить другу, но Сеннефер не позволил. Громко смеясь, он с интересом спросил:
— Кто она? Кто она, Джедеф? Ну вот, опять этот твой упрямый взгляд! Пока отстану от тебя, но я все равно узнаю, кто она, в тот день, когда получу приглашение на вашу свадьбу. Эх, какие воспоминания! Знаешь ли ты, о Джедеф, что я точно так же вздыхал в этой самой комнате два года назад и проводил бессонные ночи, мучая себя фантазиями и мечтами? На следующий год она вышла за меня замуж, сегодня она мать моего сына Фаны. Что за комната, сколько же в ней страстей и эмоций! Но почему ты не хочешь сказать мне, кто она?
Джедеф резко ответил:
— Ты ошибаешься, Сеннефер!
— Ошибаюсь? — рассмеялся офицер. — Это я-то?! Молодой, красивый, сильный, и не влюблен? Не может такого быть!
— Но это правда, Сеннефер.
— Как скажешь, Джедеф. Не буду настаивать. Но пока мы не ушли далеко от сладостных мне воспоминаний, перескажу тебе слухи из коридоров дворца фараона. Говорят, есть еще одна причина для визита принца Ипувера, кроме уже помянутой войны.
— О чем ты?
— Я слышал, что принцу дадут возможность близко познакомиться с самой младшей из принцесс, а она известная красавица. Наверное, народ Египта скоро услышит новость о помолвке принца Ипувера и принцессы Мересанх.
Джедеф усилием воли взял себя в руки и встретил это известие с поразительной стойкостью. Его лицо осталось непроницаемо и ничем не выдало борьбу, кипевшую внутри. Он не решился спрашивать друга о подробностях, ибо боялся, что выдаст себя дрожащим голосом. Охваченный ужасом, Джедеф молчал…
Сеннефер, не подозревая о том, что происходило в душе товарища, повалился на свое ложе. Зевая, он продолжал рассказывать новость:
— Принцесса Мересанх настоящая красавица. Ты видел ее? Она самая прекрасная из дочерей фараона. И так же, как ее брат, ужасно высокомерна… Цена за ее прелести будет высокой — тут двух мнений быть не может. Красота всегда кружила мужчинам головы…
Сеннефер еще раз зевнул, потом закрыл глаза. Сердце Джедефа разрывала тоска. Убедившись, что друг уснул, он застонал, а потом встал с постели и вышел из комнаты. Воздух был влажным, с прохладным ветром, а ночь черной, словно смола. Финиковые пальмы выглядели призраками или душами, чьи мучения тянулись в вечность.
22
Через несколько дней весь дворец знал, что принц Хафра пригласил принца Ипувера вместе с принцессой Мересанх, а также остальных принцев с придворными поохотиться в восточной пустыне.
Утром назначенного дня приехала принцесса Мересанх. Ее лицо сияло красотой, пробуждавшей сердца и наполнявшей радостью. Следом за ней прибыл тридцатипятилетний принц Ипувер вместе со свитой. Всем своим видом он являл благородство, честность и отвагу. Главный управляющий царским двором лично наблюдал за сборами на охоту, он заранее приготовил воду, съестное оружие и сети. Начальник стражи выбрал сотню солдат для сопровождения высочайшего выезда, назначив десять офицеров — среди них был и Джедеф — командовать ими.
В назначенное время огромный караван тронулся в путь. Во главе ехал отряд всадников, хорошо знающих путь к месту, выбранному для охоты, за ними скакал принц Хафра, по правую руку от него — очаровательная принцесса Мересанх, а по левую — принц Ипувер. Их окружала группа из знати и принцев. Следом катилась повозка с водой, еще одна с припасами, посудой для приготовления пищи и палатками, дальше медленно тащились еще три повозки, нагруженные охотничьим снаряжением, луками и стрелами. Все они двигались между двух рядов вооруженных всадников, в то время как остальные колесницы из отряда стражи, под командованием офицеров — Джедеф был в их числе — замыкали процессию. Караван удалялся на восток, оставляя позади оживленный город и священный Нил. Когда они въехали в пустыню, где властвовали лишь желтые пески до самого горизонта и не было никакой зелени, на душе Джедефа стало тоскливо. Казалось, как бы далеко ты ни заходил, пустыня с каждым шагом, подобно тени, лишь убегала все дальше.
С восходом солнца песчаные дюны покрылись ковром света, но свежий ветерок укрощал жаркое солнце. Они укрывались в его лучах, словно львята в клыках своей матери.
Караван шел, следуя за проводниками.
Джедеф искоса смотрел на молодую принцессу, любовь к которой занимала все его мысли. Лицо Мересанх было высокомерным, за исключением тех моментов, когда она поворачивалась к брату, чтобы что-то сказать ему или послушать, что говорит он. В такие мгновения профиль девушки был похож на изображение богини Изиды на стенах храмов. Когда принц Ипувер, рассказывая какую-либо историю и смеясь, наклонялся к ней, принцесса улыбалась в ответ. Джедеф впервые увидел, как та, что носила на лице такую заносчивую маску, дарила кому-то добрую улыбку. И тем не менее для него она была словно небо Египта — всегда голубое и прекрасное.
Яд ревности впервые отравил его доверчивое и чистое сердце. Смотреть на счастливое лицо Ипувера не было сил. Этот номарх прибыл к ним в роли посланца войны, но по пути преобразился в пророка мира и любви. В душе Джедефа поселилось горькое раздражение, которого он прежде никогда не испытывал, и он, гневаясь и беспокоясь, продолжал винить в этом лишь себя. Юноша пытался успокоиться, не глядеть в их сторону, не обращать внимания, но ничего не мог с собою поделать.
Почему он так сильно влюбился и изнывал от отчаяния ничего не получая взамен? Разве это справедливо, что тот, кто прошел через все испытания огня любви, кто ощущает такое страстное желание, должен ехать на расстоянии вытянутой руки от той, которую жаждет всей душой? В чем же тогда смысл жизни? И в чем смысл надежд, которые во все эти годы придавали ему сила и выносливость? Сердце юноши и впрямь становилось как эта выжженная солнцем пустыня, где никогда ничего не вырастет…
Кто этот раб, что носит имя «послушание»? И кто этот тиран, которого зовут «долг»? Что такое царственная власть, а что — неволя? Как эти слова могли разбить его сердце и разметать осколки ветром смирения? Почему он не вытащит меч и не набросится на эту жестокую, надменную девушку? Или почему он не умчит ее прочь, растворившись вместе с ней в желтых песках? Тогда он мог бы сказать: «Взгляни на меня: я сильный мужчина, а ты слабая женщина. Отбрось высокомерие, которое жизнь в царском дворце отобразила на твоем лице. Опусти свой надменный подбородок, который традиции правителей подняли так высоко. Избавься от презрительного взгляда, которым ты привыкла окидывать тех, кто опускался перед тобой на колени, и встань на колени передо мной. Если ты хочешь любви, я дам тебе ее. Дам прекрасную любовь, которой не подарит тебе никто другой.
Караван тем временем продвигался дальше. Вот она, необъятная пустыня, свидетельница вечной тишины — и какая это пустыня! Джедеф долго всматривался в барханы, и мучительные мысли постепенно уступили место страху. Он лишил юношу чувства благоговейного трепета, и караван стал всего лишь песчинкой в огромной пустыне. И вообще, что такое его любовь? И какое дело остальным до его мук? Кто может прочувствовать их в этом безграничном пространстве, в этой бесконечной вселенной, где крик одного человека всегда останется неуслышанным! Разве сам Джедеф для кого-то что-нибудь значит — и кому нужна его любовь?
Внезапное фырканье лошади заставило его очнуться. Караван остановился — головная часть добралась до местечка под названием Райян, где они сделали привал. То был один из лучших охотничьих районов в пустыне — гора Сет тянулась здесь с севера на юг, служила прибежищем для разнообразного зверья, которого как раз и искали охотники. С горного склона расходились два холма, огораживая большой участок пустыни, потом они постепенно сближались, уходя на восток.
Все путники устали. Начальник стражи распорядился, чтобы солдаты расставили палатки. Слуги были заняты не менее важными делами: одни разбирали привезенные дрова и разводили огонь, другие готовили еду. За несколько минут был разбит лагерь, привязаны лошади, расчищено место для костра. Стражники заняли свои посты возле большого шатра, державшегося на деревянных колышках, инкрустированных чистым золотом. Он предназначался для принцев.
Слуги натянули огромную охотничью сеть рядом с самым узким проходом между двумя холмами. Солдаты выстроились вдоль треугольника, образованного горой Сет и этими двумя холмами. Остальные шли по горному склону, обращая в бегство безмятежных животных, пока принцы седлали лошадей, проверяли оружие и затем — в полной готовности — рассредоточились по обширной равнине.
Принцесса Мересанх на своем коне оставалась перед большим шатром, щуря глаза в предвкушении схватки людей и зверей. На ее лице, в глазах светился неподдельный интерес к происходящему. Но затем он потух — будто задули светильник. Девушке стало скучно, и она громко, не поворачивая головы, капризным голосом спросила офицеров, стоявших сзади ее:
— Почему я не вижу здесь никаких зверей?
Джедеф — он находился к принцессе ближе всех — пояснил:
— Солдаты выгоняют животных из зарослей. Скоро, ваше высочество, вы увидите, как они помчатся вниз по склону…
Мересанх посмотрела на далекий склон горы Сет и убедилась: офицер прав. Не прошло и минуты, как с холмов, подпрыгивая, сбивая друг друга с ног, помчались вниз испуганные животные, еще не подозревавшие о том, что им уготовила коварная судьба. Принцы пришпорили коней и со сверкающими азартом глазами бросились вперед. Каждый из них уже выбрал себе добычу и схватка началась. Охотники преследовали зверей, пытаясь загнать их в расставленную сеть.
Самым опытным и искусным оказался принц Хафра. Все отметили ловкость его движений и совершенство в управлении конем. О, с каким хищным выражением лица наседал он на беззащитную газель, загоняя ее в ловушку! Каким злобным огнем сверкали глаза его от жестокой, бесчеловечной забавы! Рука его не дрогнула ни разу…
Принц Ипувер тоже демонстрировал редкую сноровку, вызывая изумление быстротой своей атаки, точностью попадания в цель и проворством — он был всадником, не знавшим себе равных.
Время бежало, принцы продолжали свои жестокие развлечения, и охота окончилась бы для них удовольствием, если бы не случай, который чуть было все не испортил. Принц Хафра погнался за газелью вдоль горного склона: миновав высокую вершину, он вдруг увидел, что ему навстречу вышел огромный лев, огласивший рыком округу. Снизу принцу кричали, чтобы он поостерегся, но, престолонаследник схватился за копье. Он не успел метнуть свое оружие, как лев, не дожидаясь, стремительно прыгнул на коня принца. От мощного удара львиной лапы ноги жеребца подкосились, он споткнулся и затем, когда лев клыками впился в шею коня, рухнул замертво. События развивались мгновенно. Хафра успел все же прицелиться и изо всех сил метнул копье во льва. Хищник изготовился к новому прыжку, но на сей раз его жертвой должен был стать не конь, а человек, пытавшийся убить царя зверей. Принц упал, он впервые в жизни оказался во власти того, кто был сильнее его…
Другие принцы, солдаты и офицеры, увидев, в какой смертельной опасности находился престолонаследник, подгоняя своих скакунов, помчались вверх по склону. Каждый из них готов был пожертвовать жизнью, чтобы спасти Хафру. Джедеф тоже пришпорил лошадь и полетел, словно птица. Он быстро преодолел расстояние, отделявшее его от принца, опередил других и успел как раз в тот момент, когда лев сделал свой прыжок. Юноша схватил свое копье, с молниеносной скоростью соскочил со спины несущейся галопом лошади и ринулся на разъяренного льва. Погрузив острие копья в пасть хищника, Джедеф пригвоздил льва к земле. Рев раненого зверя огласил эхом и склон, и горд, и, казалось, всю пустыню. Все остальные, примчавшись на помощь, стали выпускать в умирающего зверя стрелы из луков, и тот наконец испустил дух. Подъехала на своем коне и принцесса Мересанх. Ее лицо было искажено от ужаса и страха. Увидев, что брат жив, она спрыгнула с лошади, подбежала к нему, обняла и воскликнула, вся дрожа: «Да восславится милосердный владыка Пта!»
Люди по очереди подходили к престолонаследнику и поздравляли его с благополучным спасением: все вместе они молились владыке Пта и проникновенно восхваляли его.
Принц Хафра с горечью поглядел на своего поверженного коня, потом на тело огромного льва, который чуть было не стал причиной его преждевременной кончины. Бесчисленные стрелы торчали из спины зверя, словно иглы дикобраза. Хафра обвел глазами присутствующих и остановил взгляд на всаднике, стоявшем поодаль, словно изваяние. Принц вспомнил его. Да, это тот самый герой, победитель соревнований в военной школе, которого он назначил офицером своей личной стражи. Видимо, боги избрали для этой роли его. Принц был одновременно удивлен и безмерно признателен ему Хафра подошел к Джедефу, положил ладонь ему на плечо и сказал хрипло:
— О отважный воин! Ты спас мне жизнь! Благодарю тебя. Ты заслуживаешь награды за свой подвиг!
Принц Ипувер тоже подошел к Джедефу, чьи храбрые действия ошеломили и потрясли его. Он крепко пожал ему руку и сказал:
— О доблестный офицер, ты оказал своей стране и фараону поистине неоценимую услугу.
Все отправились вниз, в лагерь. Воодушевление людей испарилось, уступив место потрясению. По пути обратно один из членов свиты принца Ипувера сказал ему:
— Боги избавили нас от страшного испытания — принести владыке Египта весть о смерти его сына…
Поужинав, наследный принц приказал слугам раздать солдатам кубки с красным мариутским вином, чтобы они отпраздновали его спасение от верной гибели. Солдаты отведали напитка и еще раз вознесли хвалу своему богу. Потом они запели гимн фараона это было похоже на рокот грома. Вскоре последовала команда готовиться к отъезду. Палатки были собраны, утварь и охотничье снаряжение упакованы и караван тронулся в обратный путь. Наследник престола повелел Джедефу ехать рядом с ним. Он во всеуслышание объявил, что собирается повысить своего спасителя в чине.
Сердце бесстрашного героя учащенно забилось от радости и восторга, ибо никто еще не удостаивался столь высокой чести в таком юном возрасте. Джедеф был счастлив: он ехал рядом с наследником престола, в непосредственной близости от принцессы Мересанх. Правда, юноша боялся посмотреть на нее, чтобы не оскорбить взглядом, в котором она без труда угадала бы бушующую в его сердце страсть. Между тем над горизонтом появились темные тени, предвещавшие быстрое наступление ночи. Лошади и повозки стали двигаться быстрее, потому что тьма, обещавшая очень скоро поглотить пустыню, покоя не предвещала.
23
Наследный принц не забыл обещание, что вознаградить Джедефа за спасение своей жизни. Видимо, судьбе было угодно, чтобы именно Хафра проложил для удачливого юнца дорогу к славе. И действительно через два дня после того случая на охоте фараон пригласил к себе наследника, среди приближенных которого был Джедеф, сын Бишару. О такой чести сын смотрителя пирамид даже не смел мечтать. Тем не менее он шел за принцем Хафрой, пересекая длинные коридоры с их высокими колоннами, пока все они не оказались перед тем, чье величие не имело себе равных.
Хуфу, восседал на троне. Признаков почтенного возраста, за исключением нескольких седых волосков, выглядывавших из-под двойной короны Египта, и двух-трех морщин на его осунувшихся щеках никто бы не увидел. Изменилось только выражение глаз — вместо осознания жесткой власти и силы в них зажегся свет мудрости и знания.
Принц поцеловал отцу руку и представил ему своего спасителя:
— Перед вами, мой господин, храбрый офицер, Джедеф сын Бишару, чья удивительная смелость спасла мне жизнь. Он явился к вам по вашей священной воле.
Фараон наклонился вперед, подал Джедефу руку, и молодой человек поцеловал ее, с глубоким почтением опустившись на колено.
— Своей доблестью, о офицер, — промолвил Хуфу, — ты заслужил мое расположение.
— Мой господин, — сказал Джедеф дрогнувшим голосом, — я один из солдат царя, и для меня нет более высокой чести, чем пожертвовать своей жизнью ради благополучия трона и моей родины…
— Я прошу у вашего величества позволения назначить этого офицера начальником моей личной стражи, — перебил резко Хафра.
Глаза юноши широко раскрылись от изумления — он был застигнут врасплох. Царь спросил Джедефа:
— Сколько тебе лет, офицер?
— Двадцать лет, Ваше Величество, — ответил он.
Хафра понял причину вопроса.
— Многие лета, мудрость и знания — это достоинства, присущие жрецам, о повелитель, — пояснил он. — Этот неустрашимый воин не должен лишиться чести, о которой я прошу из-за возрастных ограничений. Он храбр и достоин признания.
— Пусть будет так, как ты хочешь, Хафра, — улыбнувшись, сказал фараон. — Ты же мой наследник!
Джедеф распростерся у ног владыки Египта, поцеловал его покрытый резьбой посох и услышал его напутствие:
— Поздравляю тебя. Его царское высочество принц Хафра верит в твои силы, о командующий Джедеф, сын Бишару.
Джедеф произнес клятву верности царю, и на этом аудиенция закончилась. Молодой человек покинул дворец фараона одним из командующих египетской армии.
В доме Бишару это был день всеобщей радости, и Нафа сказал брату:
— Мое пророчество сбылось. Позволь мне нарисовать тебя в форме командующего.
Бишару возразил сыну:
— Это вовсе не твое предсказание помогало Джедефу в его испытаниях на прочность. Скорее, то была непоколебимая вера его отца, потому что боги предначертали ему стать сыном одного из самых верных подданных фараона.
Никогда еще Зайя не смеялась и не плакала так, как в тот чудесный день. Мыслями она возвращалась в тьму и ужас того далекого прошлого, окутанного минувшими двадцатью годами. Она видела там крохотного младенца, чье рождение дало повод для опасных пророчеств и стало причиной гибели его настоящего отца. Ох, какие это были воспоминания! Повозка в ночи, пустыня, Руджедет, брошенная на произвол судьбы, и отряд фараона, спасший Зайю с новорожденным от неминуемой гибели…
Вечером Джедеф вернулся к себе и его сердцем вновь овладели печаль и мрачные предчувствия, словно споря с радостью, испытанной юношей днем. Были и другие причины терзаться в муках, подобно огню пожирающих его душу. Джедеф смотрел в окно на усыпавшие ночное небо звезды и вздыхал. «Лишь вы, о звезды, — думал он, — знаете, что творится на сердце у Джедефа — начальника личной стражи престолонаследника. Там такой мрак, который несравним с черным бархатом небес».
24
На другой день Джедеф занял свой пост начальника стражи наследника престола. Одновременно с этим принц перевел старших офицеров своей стражи в разные армейские подразделения, заменив их другими. Люди приняли своего нового командующего с радушием, уважением и благоговением, ибо слава Джедефа была уже известна не только среди солдат и офицеров — она распространилась по всему Мемфису. Едва Джедеф устроился на новом месте, офицер Сеннефер попросил об аудиенции. Джедеф пригласил его к себе. Друг, покраснев, отсалютовал ему с порога.
— О начальник, — сказал Сеннефер, — моему сердцу недостаточно простых официальных поздравлений, поэтому я разыскал тебя, чтобы лично выразить свое восхищение и симпатию. Джедеф ласково улыбнулся:
— Я высоко ценю твои чувства, но не сделал ничего такого, чтобы заслужить такую благодарность.
— Мой друг, возможно, эти слова смягчат для меня потерю дорогого товарища.
— Почему ты полагаешь, что потерял меня? — возразил молодой человек. — Я собирался сделать тебя своим заместителем.
— Что бы нам ни готовила Судьба, я никогда не покину тебя, Джедеф! — обрадовался Сеннефер.
Через несколько дней Джедеф был приглашен на встречу с наследным принцем — уже в должности начальника его личной стражи. Он впервые очутился наедине с Хафрой и был удивлен жестокой складкой у его губ и непроницаемым лицом, словно вырубленным из камня — так его встретил престолонаследник.
Не теряя времени, принц сразу перешел к делу.
— Объявляю тебе, о командующий, что ты будешь вызван вместе с армейскими командирами и правителями провинций, чтобы услышать приказ его величества о наших действиях на горе Синай. Мы сразимся с племенами Синая. После долгих размышлений фараон поддержал мое желание объявить им войну. Египет снова увидит, как соберутся его сыновья, но уже не для строительства очередной пирамиды, отнимающего так много времени и сил, нет! Мы поквитаемся с кочевниками, которые угрожают благополучию нашей священной долины.
Джедеф ответил пылко:
— Позвольте мне, ваше высочество, поздравить вас с успехом вашей политики.
На строгом лице принца появилось подобие улыбки.
— Я был настолько уверен в твоей отваге, Джедеф, — сказал Хафра, — что приготовил для тебя приятную новость. Ты узнаешь ее после официального объявления войны.
Джедеф возвращался от принца в приподнятом настроении, спрашивая себя: что же это за приятная новость, о которой говорил Хафра? Принц уже повысил его в чине и сделал командующим. Так какие же еще хорошие новости он может сообщить сыну Бишару? Неужто судьба приготовила ему новый повод для гордости и восторга?
Наконец настал назначенный день. Приехали все командующие и наместники Верхнего и Нижнего Египта, и приемная зала дворца фараона была полна могучими мужами нации, подобно жемчужинам ожерелья выстроившимся в шеренге по правую и левую руку трона Хуфу Номархи сели в одном ряду, командующие в другом, принцы заняли места около подножия трона. Престолонаследник сел в центре группы принцев, визирь Хемиун расположился около самого фараона. Во главе номархов — правителей номов, царских наместников египетских провинций — сидел принц Ипувер а напротив него командующий царской армии Арбу, чьи волосы, как и у фараона, уже тронула седина.
Главный управляющий дворцовыми делами возвестил о прибытии его царского величества. Все присутствующие встали; командующие отсалютовали, а номархи и знать склонили головы в знак почтения. Хуфу сел, разрешив и остальным занять свои места. На плечах фараона была накидка из шкуры льва, что означало проведение военного совета.
Фараон лучился силой и энергией, в глазах его появился прежний молодой блеск. Властным голосом, один звук которого наполнял тех, кто его слышал, благоговейным трепетом, он сказал лучшим мужам своего царства:
— О наместники и командующие, я созвал вас всех по делу, не терпящему более отлагательства. Речь идет о безопасности нашей страны и наших подданных. Его высочество принц Ипувер, номарх Арсины, сообщил мне, что племена, населяющие Синайский полуостров, нападают на удаленные деревни, а в пустыне держат в страхе торговые караваны и купцов. Мы видим, что стражники, охраняющие селения и караваны, не могут противостоять кочевникам. Им не хватает вооружений и средств, чтобы уничтожить укрепления, где скрываются эти разбойники. Пришло время покончить с грабителями и убийцами, избавить египетский народ от их зла и укрепить власть фараона.
Собравшиеся внимательно слушали своего повелителя. Их лица выражали готовность хоть сейчас выступить в поход, сжатые губы и сверкавшие глаза говорили о решимости тотчас взять оружие. Царь повернулся к Арбу и спросил:
— Командующий, готова ли армия выполнить свой долг?
Арбу встал.
— Ваше величество, царь Верхнего и Нижнего Египта, источник силы и жизни, — начал он. — Сто тысяч солдат находятся в полной боевой готовности. В нашем распоряжении войско под командованием закаленных в сражениях военачальников. И еще вдвое больше людей можно призвать на службу в кратчайшие сроки.
Выпрямившись на троне, Хуфу сказал:
— Мы, фараон Верхнего и Нижнего Египта, Хуфу, сын Хнума, защитник Нила и владыка земель Нубии, объявляем войну племенам Синая. Мы приказываем сровнять с землей их крепости, поработить их мужчин, захватить в плен их женщин. И мы повелеваем каждому из вас, о номархи, вернуться в свои номы, дабы каждый из вас выслал отряд, составленный из жителей вашей провинции.
Царь сделал знак Арбу, чтобы тот подошел ближе и негромко сказал ему:
— Я хочу, чтобы численность войска не превышала двадцать тысяч человек. Нам дороги наши люди.
Фараон встал. Присутствовавшие тоже поднялись, громко восхваляя его имя и дела. Судьбоносное собрание подошло к концу.
Джедеф возвращался обратно, следуя за наследным принцем, лицо которого светилось от удовольствия. Хафра, всегда воинственно настроенный, наконец добился своего. Ничто так не поднимает престиж политика, как война. Египетское войско не раз доказывало свое превосходство в захвате чужих земель, присоединении провинций, борьбе с народами моря и с племенами пустыни. К тому же народ возносил того, кто выиграл войну и принес очередную победу, на небывалую в мирные времена высоту.
А Джедеф жаждал услышать обещанную престолонаследником новость. Хафра не стал томить его слишком долго. Войдя во дворец, он сказал юноше:
— Я обещал тебе приятные вести и сообщаю их. Я получил разрешение отца и назначаю тебя командующим моей гвардией на Синае.
25
Весь Египет, от севера до юга, пришел в движение. Отовсюду созывались солдаты, огромные лодки бороздили воды священного Нила, спускаясь по течению и поднимаясь против него. На них везли в великий Мемфис войска, оружие и припасы. Здесь воинов размещали по казармам, которые уже были переполнены. Улицы столицы запрудили воины. На площади перед дворцом фараона в торжественной обстановке происходила раздача оружия и снаряжения. Принц Хафра принимал приветствия и выслушивал доклады прибывающих командиров, а затем обращался ко всем собравшимся со словами: «Верю, что вы усмирите наглецов, посмевших восстать против великого Египта!»
Принц Ипувер отправился в свой ном собирать войско. Джедеф воспринял новость о его отъезде с тревогой. Он спрашивал себя: «Будет ли сопутствовать принцу в личной жизни такой же успех, что в военных делах? Неужели он ехал домой, неся на сердце счастье от объявления войны и заключения любовного союза? Что у него за чувство к принцессе Мересанх? Каким романтическим сценам стали свидетелями пальмы в саду фараона? Какие тайные беседы и любовные шептания подслушали птицы? Увидели ли они, как покорилась надменная принцесса? Услышали ли стоны страсти, которые сорвались с губ, привыкших отдавать приказы и запрещать?»
Сердце Джедефа было разбито. Завтра он уйдет сражаться. Он бесстрашно посмотрит в глаза смерти, приветствуя опасность и мечтая о воинской славе. Если бы он мог одержать победу для своей родины и пожертвовать жизнью ради ее триумфа и славы! Если бы только мог выполнить свой солдатский долг, а затем уснуть вечным сном, о котором просила его измученная душа. Какое прекрасное намерение обманывало ее, так же, как она была обманута своей верой в возможность любви. И все же юноша не сдавался: «Как можно распрощаться навеки, не встретившись напоследок? Неужели моя любовь была для жестокой простым развлечением, игрой?» Джедеф жаждал увидеть принцессу. Блеск ее глаз стал бы для него дороже, чем свет солнца. «Разве не ее прелестное лицо позволяет мне ощутить радость мира и наслаждаться жизнью?» — спрашивал он сам себя снова и снова. Джедеф твердо решил во что бы то ни стало встретиться с Мересанх, поговорить с ней. Это было непросто сделать любому человеку, но не проще ли тому, кто должен был завтра идти в поход, кто искал смерти как избавления от сердечных терзаний?!
Молодой командующий не знал, как исполнить свое потаенное желание. Время для приготовлений пролетело быстро, и последовал приказ, что армия выступит на рассвете. Боги соблаговолили указать Джедефу кратчайший путь для встречи с любимой девушкой. Принцесса решила попрощаться с братом, но Хафра покинул дворец — поехал проверять войска. Начальник личной стражи престолонаследника узнал о прибытии принцессы и пошел сам встречать ее. Мересанх в опустевшем дворце не задержалась и, попрощавшись с управляющим царским двором, вышла в сад. Джедеф приветствовал ее самоуверенно, как никогда прежде, если не считать первую встречу на берегу Нила. Он отсалютовал и предложил принцессе проводить ее. Держался Джедеф при этом в двух шагах сзади и мог наслаждаться ее изящными движениями и стройной фигурой. Обуреваемый чувствами, юноша хотел упасть на колени и умолять девушку выслушать признания, рвущиеся из его сердца. Храбрый воин, победивший льва, был готов целовать землю, по которой ступала принцесса. Взгляните на этого отважного офицера. Природа наградила его мужеством, храбростью, силой. И посмотрите на тоненькую Мересанх, обладающую неоспоримой властью. Он был готов пасть ниц перед ней по первому ее слову.
Они медленно шли по аллее, обсаженной благоухающими цветами и уставленной статуями божеств. Вдали виднелась царская лодка, стоявшая на якоре возле последней ступени лестницы. Молодого человека охватило беспокойство: Мересанх уедет, не сказав ему на прощание ни слова! Равнодушие принцессы — деланое или подлинное — не позволяло Джедефу заговорить первым, а расстояние между ними и лодкой все сокращалось. Наконец, он решился.
— Как я счастлив видеть вас, ваше высочество, — сказал он с дрожью в голосе. — Мы ведь завтра выступаем в поход.
Мересанх вздрогнула и обернулась.
— Вы достигли высокого положения, о командующий, — сказала она, смерив его взглядом одновременно суровым и смущенным. — Так почему же рискуете своей славой и будущим?
— Моя слава и мое будущее? — переспросил он. — Им может воспрепятствовать смерть в битве.
— Я вижу, что мой брат поставил во главе своей гвардии командующего, одержимого отчаянием смерти, а не победой и триумфом, — усмехнулась принцесса.
— Я помню о своем долге, ваше высочество, — решил не отступать Джедеф. — И исполню его, как полагается египетскому воину, которого боги наградили доверием его повелителя. Я отдам свою жизнь, чтобы доказать, что ни фараон, ни
наследный принц не ошиблись, избрав меня.
— Бесстрашный человек не забывает о своем прошлом и не нарушает традиции, даже перед лицом смерти.
Не раздумывая над своими словами, юноша выпалил:
— Это правда, но зачем мне такая жизнь, если традиции не дают моему языку сказать то, что велит говорить сердце? Завтра я уезжаю и молился богам, чтобы они позволили мне увидеть вас перед отъездом. Боги услышали меня, и разве могу я отречься от божественной милости трусливым молчанием?
— Может быть, вам все-таки лучше помолчать? — спросила Мересанх.
— Только после того как скажу вам одно слово.
— И что это за слово?
Джедеф посмотрел ей прямо в глаза:
— Я люблю вас, моя госпожа. Я полюбил вас с того самого момента, когда ваш лик предстал моему взору. Это печальный факт: я не набрался бы смелости высказать это вашему высочеству, если бы не та необыкновенная сила, что поселилась в моей груди… Кроме того, я прошу вас простить меня.
— И это называется одно слово? — рассмеялась принцесса. — Ну да все равно! Что нового вы мне сказали? Все это я уже слышала на берегу Нила.
Джедеф вздрогнул, услышав это «на берегу Нила».
— Я буду повторять эти слова до конца своей жизни, о моя госпожа! Это самое важное, что я могу сказать.
Они подошли к мраморной лестнице, и Джедеф задал вопрос, который так его мучил:
— Что вы скажете мне на прощание?
— Я взываю к богам от вашего имени, о командующий, — улыбнулась принцесса. — Я молюсь владыке Пта, чтобы вы вернулись живым, одержали победу для нашей любимой родины.
Она спустилась по ступеням к лодке. Джедеф с печалью в сердце смотрел ей вслед, наблюдая, как судно медленно растворяется вдали.
Вместо того чтобы сразу же пройти вниз, принцесса задержалась на палубе, оттуда с загадочной улыбкой смотрела на прекрасного юношу. И он тоже не отрывал от нее взгляд, пока лодка не исчезла за излучиной.
Джедеф ощутил, как в его груди копится гнев вперемешку с возмущением, но он обладал чудесным качеством характера, не позволявшим сделаться жертвой эмоций, как бы сильно ни захлестывали они порой его чувствительную и ранимую душу. Брат Хени научил его хладнокровно воспринимать любые нелестные замечания в свой адрес, признавать ошибки, философски осмысливать происходящее и не поддаваться искушениям. Он смирился с насмешками принцессы и принял мудрое решение: раз она не нашла в своем сердце сострадания, значит не разделяет его пылкие чувства.
Да и с чего он взял, что она может любить его? Впрочем, Джедеф был рад, что признался в своем чувстве. Он сам любил, и не все ли равно, отвечает ли принцесса взаимностью храброму красивому воину? Ее следовало бы пожалеть за то, что она выйдет замуж за нелюбимого, выбранного ей в супруги отцом ли, братом — все равно. Ну и что ж с того, что его любовь безответна? Зато он богат, неизмеримо богаче, чем дочь фараона! Ведь у него есть душа, есть сердце, он любит — а у нее, если и есть сердце, то оно скорее похоже на камень… Но с палубы она все-таки смотрела на него не так, как прежде! Во взоре не осталось высокомерия, холодной надменности — в нем было сострадание…
И потом, принцесса выслушала его речь, а не оборвала на первом же слове!
Утешая себя этими мыслями, Джедеф отправился домой, чтобы попрощаться со своими родными.
В доме, где все его обожали, юноша старался быть радостным и веселым, не желая расстраивать своих любимых мрачным настроением. Все собрались за обеденным столом: Бишару, Зайя, Хени, Нафа и его жена Мана, а в центре сидел молодой командующий. Бишару рассказывал всем военные истории из собственной юности и смеялся над своей неловкостью, когда не попадал в цель, над чувством страха, когда приходилось отступать.
Словом, смотритель пирамиды как мог отвлекал и развлекал и сына, и жену, глаза которой то и дело наполнялись слезами.
— Тяготы войны в основном ложатся на плечи простых солдат, — вздохнул Бишару, отсмеявшись. — Жизнь старших офицеров не так опасна, они ведь планируют и обдумывают будущие сражения. Не находятся в гуще битвы…
Джедеф понял, к чему клонит отец.
— Не хочешь ли ты сказать, что проявил свою выдающуюся доблесть на войне с Нубией как младший офицер? Или ты тоже планировал сражения?
Старик гордо выпрямился в своем кресле:
— В те годы я был офицером отряда копьеметателей. Мои боевые заслуги стали одной из причин, по которой меня и назначили на должность смотрителя пирамиды фараона.
Джедеф слушал воспоминания отца рассеянно. Зайя, по-видимому, инстинктивно чувствовала печаль сына. На сердце у нее тоже было тяжко. Она почти ничего не ела, не сводя глаз со своего прекрасного мальчика.
Нафа хотел, чтобы вечер прощания с братом закончился повеселее, поэтому попросил свою жену Ману сыграть на кифаре и спеть песню: «Я был удачлив в любви и на войне». Голос Маны оказался прекрасным и играла она очень искусно, наполняя комнату чарующими звуками.
В это время в сердце Джедефа горел огонь, чье пламя совершенно не трогало никого из присутствовавших, кроме него самого.
Нафа с любовью взглянув на младшего брата, подсел к нему и прошептал на ухо:
— Слушай внимательно, о командующий. «Вчера ты был удачлив в любви, завтра ты будешь удачлив на войне».
— О чем ты? — смущенно спросил Джедеф.
Художник расплылся в улыбке.
— Думаешь, я забыл о портрете красивой девушки-крестьянки? Ах, какие же они красавицы, крестьянки с берега Нила! Все мечтают оказаться объятиях храброго офицера! А вдруг этим офицером был не кто иной, как наш Джедеф?
— Замолчи, Нафа.
Слова Нафы разволновали его, так же как и пение Маны; Джедефу захотелось остаться одному. Он бы исполнил свое желание, если бы не видел глаза матери. Она не сводила с него тревожного и проницательного взора. О, лишь бы не прочла мама тайную страницу его сердца, ибо то, что она прочтет, сильно ранит и опечалит ее. Джедеф обнял Зайю и улыбнулся ей, решив обмануть мать напускным весельем.
26
Командующий гвардией наследника престола Джедеф сидел в своей палатке в военном лагере, разбитом у стен Мемфиса, внимательно изучая карту Синайского полуострова, острым резцом впившегося в воды Красного моря. От столицы его отделяли пески Аравийской пустыни. Здесь и хозяйничали синайцы, не признававшие никаких законов, кроме закона силы. Что же, война объявлена, но примут ли вызов эти лжехрабрецы, коварно нападавшие под покровом ночи? Или придется брать их укрепления штурмом… Сеннефер вошел в палатку Джедефа и отсалютовал ему.
— Приехал посланник его царского высочества принца Хафры, — доложил он, — и хочет пройти к вам.
— Пригласи, — кивнул Джедеф.
Через минуту Сеннефер впустил в палатку посланника. На госте было просторное одеяние жреца, скрывавшее его фигуру от плеч до щиколоток. Лицо скрывал черный капюшон, виднелась лишь длинная густая борода. Джедеф с изумлением смотрел на вошедшего — он ожидал увидеть кого-то из тех, с кем обычно встречался во дворце наследного принца. Гость поклонился и сказал тихим голосом, который, несмотря на невнятность, почему-то показался юноше знакомым.
— Я прибыл по чрезвычайно важному делу. Прикажите закрыть дверь и запретите кому-либо входить сюда без вашего разрешения.
Джедеф выполнил приказ гостя. Он кликнул Сеннефера, приказал закрыть откидным полотнищем вход в палатку и никого не пускать, пока он будет говорить с прибывшим. Сеннефер выполнил указания командира, и в палатке стало темно — свет утра не проникал из-за плотного занавеса. Джедеф повернулся к посланнику.
— Какое у вас дело? — спросил он.
Убедившись, что они остались в палатке одни, гость откинул с головы капюшон. Роскошные черные волосы хлынули на плечи, затем незнакомец тонкой рукой сорвал с лица бороду, и глазам Джедефа предстала принцесса Мересанх! Он задохнулся в изумлении и воскликнул:
— О моя госпожа, принцесса! Боги мои, да вы ли это?
Джедеф бросился к ее ногам и стал целовать край жреческого одеяния. Принцесса почувствовала горячее дыхание влюбленного юноши. Она погладила его волосы и мягко прошептала: «Встань». Джедеф так хотел прижать ее к груди, но не решался.
— Это на самом деле ты, моя Мересанх? То, что я слышу, правда? А то, что видят мои глаза? — Джедеф задыхался от восторга.
Они посмотрели друг на друга. В глазах Мересанх Джедеф прочел признание поражения.
— Ты покорил меня, и вот я пришла к тебе, — тихо сказала дочь фараона.
— Боги радости поют для меня. Их песни сопровождали меня все эти месяцы терзаний и скрашивали бессонные ночи. Их мелодии очистили мое сердце от горечи страданий и теней отчаяния. О владыка Ра! Кто теперь скажет, что я тот, над кем еще вчера смеялась судьба? — восклицал Джедеф, взяв руки принцессы в свои и почувствовав, как они дрожат.
Она удивилась:
— Разве жизнь была к тебе несправедлива? Ни за что не поверю, о мой прекрасный и храбрый воин!
Не сводя с нее сияющих глаз, Джедеф признался:
— Да, она обошлась со мной очень сурово, и я желал скорейшей смерти. Душа, мечтающая о смерти, лишена каких-либо надежд. Я никогда не был трусом, моя госпожа, поэтому остался верен своему долгу. Но безответная любовь не придает отваги. Мои глаза заволокло пеленою уныния…
Мересанх прерывисто вздохнула.
— Я сражалась со своей гордыней, боролась сама с собой…
— Как жестока ты была со мной!
— Я была еще более жестока к самой себе, — ответила девушка. — Я помню тот день на берегу Нила. День, когда странное беспокойство наполнило мое сердце. Позже я поняла, что судьба предначертала мне проснуться от глубокого сна, услышав твой голос. После этого меня мучил страх перед неизведанным чувством, но каждый раз, встречаясь с тобой, я все больше убеждалась, что ничего не могу с собой поделать. Я же не могла открыть тебе свое сердце…
— Как же я страдал! Помнишь нашу вторую встречу? Ту, в саду твоего брата? Ты бранила меня и упрекала. Отобрала свой портрет. Еще вчера ты не стала слушать мое признание в любви и оставила меня без прощального слова. Знала ли ты, какую боль мне пришлось вытерпеть? Я молил богов избавить меня от мучений.
— И боги подсказали мне, как нужно поступить. Ты рад?
— Конечно, и в то же время расстроен. Я не могу не думать о том времени, которое мы потеряли! — улыбнулся Джедеф.
— Это я… я во всем виновата.
— Я отдам свою жизнь за то, чтобы ты была счастлива, — нежно сказал он.
— Мне пора возвращаться, — вздохнула принцесса.
Он грустно кивнул. И Мересанх протянула юноше руки:
— Перед нами долгое будущее, освещенное любовью. Мечтай о жизни так же, как ты недавно мечтал о смерти. Я буду молиться за тебя…
— Теперь смерть обойдет меня стороной, — заверил он.
— Нет, не говори так! — испуганно воскликнула принцесса, прижав палец к его губам. — Смерть не любит, когда ею пренебрегают…
Джедеф рассмеялся:
— Я верю в судьбу. Она соединит нас навеки. Я благодарен ей! — В порыве нежности и страсти Джедеф крепко обнял принцессу.
— Я останусь во дворце и не покину его, пока не услышу звуки горна, возвещающего о твоем триумфальном возвращении! — прошептала Мересанх.
— Попросим богов о том, чтобы наше расставание оказалось коротким!
— Да, я буду молиться Пта. Прощай!
Принцесса накинула капюшон, черные волны ее волос исчезли под ним.
— О, как я счастлив и как несчастлив одновременно! — прошептал Джедеф.
— Почему несчастлив?
— Принц Ипувер…
Она рассмеялась:
— Разве ты ничего не слышал? Странно… Принц прекрасный человек. Он разговаривал со мной однажды, когда мы остались одни, на беспокоящую тебя тему. Я сказала, что хотела бы остаться ему хорошим другом. Несомненно, он был разочарован, но потом великодушно улыбнулся: «Я люблю правду и свободу и ни за что не стал бы принуждать к браку девушку, которая меня не любит». Так он сказал.
— Как это великодушно! — воскликнул Джедеф.
— Да, это так.
— Неужели возможно, чтобы… — пробормотал Джедеф. — А фараон? Твой отец?
Мересанх опустила глаза:
— Мой отец станет не первым фараоном, принявшим одного из подданных в свою семью.
Этот ответ привел юношу в восторг. Неудержимая страсть овладела им. Он хотел помешать принцессе нацепить бороду — так не хотелось, чтобы ее прелестное лицо исчезло. Джедеф вновь опустился пред ней на колени, в восхищении покрывая поцелуями руку. Наконец, вздохнув, принцесса сказала:
— Да пребудут с тобой боги! — С этими словами она протянула Джедефу рисунок, когда-то запечатлевший ее на берегу Нила.
Потом, приладив кое-как накладную бороду и опустив капюшон, она, вновь приняв обличье посланника наследного принца, быстро откинула полог палатки и исчезла, как дивный мираж в мареве знойной пустыни.
Джедеф поднес портрет к губам. Он еще до конца не верил в то, что сила его любви растопила холодное сердце. Так бывает?
О да! Юноша вышел из палатки. Никаких следов на песке. Ни девичьих, ни лошадиных. И впрямь — мираж, сон. Но нет! Она была здесь, она его любит, она будет молиться за него и ждать!
Возвращение Сеннефера прервало его мечтания. Офицер доложил, что все готово, и Джедеф приказал музыкантам трубить — это был сигнал к выступлению. В лагере сразу началось движение, и первые части отправились в путь. Джедеф поднялся на колесницу командующего, которой управлял Сеннефер.
Старшие офицеры заняли свои места, и их группа проехала в центр отряда. С новым звуком горна колесница Джедефа выдвинулась вперед. За ней следовали три тысячи боевых колесниц, ощетинившихся копьями. Сзади шли пешие войска. Сначала лучники, затем копьеносцы, а далее вооруженные мечами и саблями солдаты. Замыкали шествие громоздкие повозки, нагруженные оружием, провиантом и лекарствами. Их охраняли всадники.
Армия пересекала Аравийскую пустыню, направляясь к великой стене, за которой укрывались племена синайских кочевников.
Под желтым, как песок, небом они катили и катили к Синаю, пока прохладный ветер с Красного моря не долетел к ним, обдувая лица защитников Египта.
Казалось, пустыня жалобно стонала, неся на себе их огромный вес.
Поход начался.
27
К ним подъехала колесница разведчиков. Ее командир подошел к Джедефу и доложил, что они заметили бедуинов рядом с Тель аль-Дума. Разведчик предлагал отправить отряд солдат уничтожить синайцев. Джедеф развернул перед собой карту пустыни, отыскивая на ней названное селение.
— Тель аль-Дума находится к югу от нас… Бедуины обычно ездят небольшими группами, совершают грабежи, а потом быстро скрываются. Они не ожидают, что наши воины нападут на них. Мы должны этим воспользоваться.
Один из офицеров выразил свое мнение:
— Я думаю, ваше превосходительство, можно просто сделать вид, будто мы их не заметили.
— Несомненно, нам еще попадутся группы, подобные этой, — возразил молодой командующий. — Если мы будем высылать отряд солдат для сражения с каждой из них, то лишь рассредоточим свои силы, поэтому давайте помнить о главном. Мы должны прорваться через оборонительные сооружения в глубь их территории и захватить их командира, Хана. Внезапность нападения — что может быть лучше в стратегии? Они же не идут на открытое столкновение. Примем правила их игры…
Тем не менее Джедеф принял решение усилить охрану повозок с припасами. Армия продолжала двигаться дальше, не встречая на пути никакого сопротивления. Все, кто был в пустыне, услышав о приближении к полуострову многотысячной армии, спасались бегством. Египтяне шли по безопасной, свободной дороге, пока не добрались до Арсины.
Там они остановились отдохнуть и пополнить запасы пищи. Принц Ипувер посетил лагерь и был встречен там соответствующим образом. Номарх осмотрел армейские подразделения, а потом вместе с командующим и старшими офицерами стал обсуждать дальнейшие действия. Он предложил организовать отряд для обмена новостями между армией и Арсиной, чтобы иметь возможность быстро доставить египтянам все необходимое.
— Вы должны знать, что войско Арсины в любой момент готово вступить в схватку с врагом, — сказал Ипувер, — и что сейчас в Арсину направляются подкрепления из Серапума, Дхака и Мендеса.
— Мы заклинаем богов, ваше высочество, — ответил Джедеф, — чтобы нам не потребовалось больше солдат. Его величество тревожится за жизни своих верноподданных.
Утром армия фараона двинулась на восток от Арсины. Египтяне были на марше несколько дней и скоро оказались у высокой стены, которая начиналась к югу от залива Хиерополис, затем изгибалась к востоку, описывая большую дугу. Здесь разбили лагерь.
Джедеф смог рассмотреть препятствия. Были хорошо видны ходившие по стене лучники, готовые защищать Синай от любого противника.
Все офицеры согласились, что нет смысла медлить с атакой, — нужно проверить, каковы вражеские силы, таившиеся за стеной.
Конечно, в первом сражении использовать колесницы египтяне не стали. Вперед двинулись лучники, выстроенные так, чтобы расстояние между ними составляло десять локтей. Они стали медленно наступать. Синайцы посчитали их легкой добычей, но вслед за лучниками двинулась остальная армия.
Джедеф наблюдал за битвой, восхищаясь умением своих солдат стрелять из лука, в чем им поистине не было равных. Потом он перевел взгляд на ворота.
— Какой огромный вход, — сказал он Сеннеферу, — словно в храме Пта.
— Как раз для наших колесниц! — рассмеялся старый друг.
Молодой командующий отметил, что кочевники не сделали на стене своей крепости ни башен, ни бойниц, чтобы оттуда обстреливать нападавших. Их лучники не могли стрелять, не высовываясь за край укрепления. Джедеф решил следующий раз атаковать синайцев под защитой больших бронированных щитов, называвшихся «дома». Достаточно высокие, чтобы прикрыть солдата с головы до пят, в верхней своей части они имели маленькую прорезь, сквозь которую египетские лучники могли выпускать стрелы. Тем, кто находился на стене, пробить такие щиты и попасть в эти самые небольшие отверстия было очень трудно.
Джедеф приказал нескольким сотням воинов, закрытых щитами, приблизиться к стене. Солдаты должны были построиться широким полукругом, двинуться к стене, не обращая внимания на град стрел, падавших на них сверху. Установив щиты на земле, египтяне тоже стали стрелять — между ними и их врагом завязалось жестокое, кровопролитное сражение, и послания смерти понеслись с обеих сторон. Кочевники на стене погибали сотнями, но тем не менее показывали стойкость и редкое бесстрашие. Каждый раз, когда десяток синайцев падали замертво, их место тотчас занимали другие. Сколько врагов скрывалось там, за стеной? Этого никто не знал. Многих египтян тоже сразили стрелы. В рядах лучников появились и раненые, и — увы! — убитые.
Жестокий бой продолжался до тех пор, пока западный горизонт не окрасило кроваво-красное вечернее сияние. Египтяне получили приказ отступить.
28
Мемфис с нетерпением ждал новостей с Синайского полуострова. Все были убеждены в победе египтян и все же переживали за свою армию.
Фараон, который продолжал писать свою книгу, жаждал новостей так же, как Зайя, жена Бишару, охваченная тревогой, мучимая бессонницей. Было и сердце, которое ранее не ведало горечи страха и не терзалось от беспокойства, — сердце принцессы Мересанх, наделенной богами красотой и богатством. Боги защищали ее всегда: зимний холод не обжигал принцессу, а летняя жара не опаляла; не налетал на нее ветер с юга и не падал дождь с севера. Мересанх плясала и веселилась, пока в ее сердце не вошла любовь и не обожгла его подобно тому, как пальцы ребенка впервые обжигает пламя. Огонь любви стал причиной тоски и страданий.
Состояние принцессы заметила ее любимая служанка Най. Однажды Най спросила, глядя на свою госпожу испуганным, полным беспокойства взглядом:
— Вы все время вздыхаете и стонете во сне, а что же делать нам, простым людям, на которых ни боги, ни фараоны не обращают внимания? Вы постоянно молитесь… Скажите мне, кому, чтобы я могла сделать то же самое? Вы опускаете глаза, моя госпожа? И где же ваша надменность?
Но в мыслях принцессы не было места добродушным подшучиваниям служанки. В те дни она могла думать лишь о своем обещании. Мересанх хотела бы сдержать слово, данное возлюбленному: о том, что она не покинет дворец, пока не услышит труб, возвещающих о его триумфальном возвращении, но она поняла, что очень хочет побывать во дворце своего брата, наследного принца — там, где ее настигла любовь.
Приняв у себя сестру, престолонаследник завел странный разговор. Он был недоволен действиями фараона:
— Наш отец сейчас занимается не тем, чем должен заниматься владыка Египта.
Мересанх удивленно посмотрела на брата.
— Воистину, — сердито продолжил Хафра, — он сохранил здоровое тело и остроту ума. Но его сердце не болит об армии. Неужели ты не видишь, что он охладел к государственной политике, отвлекаясь — умом и сердцем — на философию? Он тратит свое драгоценное время на написание книг! Разве пристало могущественному правителю заниматься подобным?
— Ученость, как и могущество, — добродетель, присущая хорошему правителю, — осторожно ответила Мересанх.
— Отец учил меня совсем другим изречениям, — усмехнувшись, сказал принц. — Он всегда обращался к бессмертным примерам самых известных работ. Его подданные строили пирамиды, сносили горы и ровняли с землей скалы. Он был грозен, как лев, и люди подчинялись ему, неважно, из уважения или из ненависти. Он убивал непокорных. Таким был мой отец, по которому я тоскую и которого ныне уже нет. Теперь я вижу старика, проводящего все ночи в своей усыпальнице в размышлениях и диктовке. Старика, который жалеет жизнь своих солдат, будто они созданы для чего-то иного, кроме сражений.
— О, не говори так об отце, брат мой, — взволнованно сказала Мересанх. — Фараон служил своей родине в те дни, когда был силен, сейчас служит ей вдвойне — своей мудростью. Разве можно осуждать его за то, что он постарел и не летит в колеснице впереди войск?.. Почему ты сам не в военном лагере? Ты, брат, вполне мог бы находиться рядом со своими воинами.
Принц Хафра ничего не ответил сестре.
Следующий раз Мересанх навестила брата через две недели. Престолонаследник бы в приподнятом расположении духа. Суровые черты Хафры смягчились довольной улыбкой, и сердце девушки дрогнуло, а мысли понеслись к далекому возлюбленному.
— Что скрывается за твоей радостью? — спросила она брата.
— Прекрасные новости достигли моих ушей — наша армия одержала несколько побед, — улыбнулся Хафра. — Вскоре вражеская крепость падет.
— Есть ли еще какие-нибудь счастливые вести?
— Гонец сказал, что солдаты под укрытием щитов подошли на расстояние вытянутой руки к стене, на которой кочевники теперь уже не появляются. Многие из них стали жертвами наших лучников.
Это были самые радостные новости, какие принцесса когда-либо слышала от своего брата. Из дворца она направилась в храм Пта просить всемогущего владыку, чтобы армия победила, а с ее возлюбленным ничего не случилось. Мересанх долго оставалась погруженной в молитву, на что способны лишь те, кто любит.
29
Египетские войска подобрались к крепостной стене так близко, что могли дотронуться до нее своими копьями. Лучники, когда на укреплениях появлялся синаец, наводили на него свое оружие и убивали врага. Правда, на головы египтян летели камни, а тех, кто пытался взобраться наверх по стене, пронзали стены. Обе стороны выжидали, но на рассвете двадцать пятого дня осады Джедеф отдал лучникам приказ перейти к атаке. Они разделились на две группы: одна держала под прицелом стену, а другая двигалась под прикрытием больших щитов, неся с собой деревянные лестницы, луки и стрелы. Египтяне приставили лестницы к стене и полезли наверх. Многим удалось это сделать, но за стеной их встретили тысячи стрел, летевших со всех направлений. Синайцы яростно сопротивлялись. Отовсюду неслись дикие крики, радостные возгласы тех, кто попал в цель, стоны боли и вопли страха. Во время отчаянной схватки отряды египтян атаковали главные ворота, используя таран, изготовленный из стволов пальм.
Джедеф стоял на своей боевой колеснице, наблюдая за сражением — его сердце было готово к битве. Юноша переводил взгляд с солдат, усеявших стену, на тех, кто только собирался туда подняться, а потом на воинов, штурмовавших ворота.
Через какое-то время лучники стали спрыгивать внутрь крепости, за стену. По лестницам полезли солдаты, вооруженные копьями. Синайцы отступали в глубь полуострова.
Напряжение боя достигло предела, и вдруг ворота распахнулись — их открыли египетские солдаты для своих колесниц. Лошади, подгоняемые возничими, бросились в открывшийся проход, подняв шум, сравнимый с горным обвалом. Оставляя за собой клубы пыли и песка, они одна за другой влетали в ворота, поворачивая кто вправо, кто влево.
Пока лучники укреплялись на окрестных холмах, колесницы окончательно смяли синайцев. Копьеносцы двигались в арьергарде, чтобы защитить колесницы от возможного нападения с тыла.
Решающее сражение закончилось через пару часов. Землю усеяли тела убитых и раненых… Солдаты беспорядочно сновали тут и там — искали среди погибших своих товарищей, которые пали на поле боя. Их относили к лагерю возле стены и бережно укладывали там. Собирали и мертвых врагов, чтобы потом пересчитать их. Пленных связывали веревками, отбирая у них оружие и выстраивая у стены в шеренги, ряд за рядом. Потом из небольших сел выгнали женщин с детьми. Женщины рвали на себе волосы и оплакивали своих погибших мужчин. Со всех сторон их окружали стражники. Отряды возвращались туда, где реяли их знамена.
Джедеф проехал на колеснице в сопровождении уцелевших командиров. Он приветствовал солдат, офицеров и поздравил их с победой, отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью для спасения родины. Потом Джедеф прошел к тому месту, куда сбрасывали останки солдат поверженного противника. Тела были свалены друг на друга, из-под них рекой текла кровь. Юноша спросил старшего офицера:
— Сколько убитых и раненых?
— У врага три тысячи убитых и пять тысяч раненых, — отрапортовал он.
— А у нас?
— Тысяча убитых и три тысячи раненых.
Джедеф был потрясен.
— Неужели победа над бедуинами далась нам столь дорогой ценой? Это ужасно… — сказал он.
Затем командующий гвардией престолонаследника поехал туда, где собрали пленных. Их держали под охраной, разделив длинными веревками на группы. Руки у них были связаны за спиной, головы опущены. Джедеф распорядился:
— Их надо отправить на шахты Кифта, там сейчас не хватает рабочих рук.
Затем Джедеф направился к загону, из которого не было выхода. Там сгрудились пленники из числа мирного населения. Дети визжали и орали, а женщины продолжали, оплакивать сыновей и мужей, которые были убиты, ранены, захвачены в плен или спасались бегством. Джедеф смотрел на них со своей колесницы не без доли сочувствия. Его взгляд упал на женщин, выделявшихся своими богатыми нарядами.
— Кто это? — спросил он офицера, начальника стражи.
— Наложницы из гарема главаря кочевников, — ответил тот.
Командующий еще раз посмотрел на женщин. Они подняли на него глаза, в которых бушевал огонь. Эти женщины готовы были броситься на врагов, лишивших их всего.
Одна из них действительно кинулась на Джедефа, явно собираясь выцарапать ему глаза. Солдат преградил женщине путь и нацелил на нее острие копья. Другая пленница, немолодая, но сохранившая следы былой красоты, обратилась к Джедефу по-египетски:
— О командующий, позволь мне подойти к тебе, и да благословит тебя владыка Ра!
Юноша был ошеломлен, как, впрочем, и все другие офицеры, услышавшие эти слова. Джедеф приказал копьеносцу пропустить женщину. Она подошла размеренно, неторопливо и поклонилась всем с уважением и почтением. Джедеф не мог отвести глаз от женщины. Гордая осанка, чувство собственного достоинства, печать горя и несчастий на когда-то красивом лице изумили его. В ее чертах было несомненное сходство с дочерьми Нила.
— Вы знаете наш язык, — сказал ей Джедеф.
Из глаз женщины ручьями хлынули слезы.
— Я египтянка, мой господин, — ответила она.
Молодой человек удивился еще больше.
— Вы египтянка?
— Да, мой господин, египтянка, дочь египтян.
— И что же привело вас сюда, на Синай?
— Судьба. В молодости я была похищена бедуинами… Сегодня они получили по заслугам от ваших солдат. Я подвергалась самым мерзким пыткам… Их главарь спас меня от издевательств своих соплеменников, но только для того, чтобы мучить меня самому. Он взял меня в свой гарем, где я терпела ужасные унижения без малого двадцать лет…
Выслушав ее историю, Джедеф, переполненный эмоциями, сказал:
— Но вы теперь свободны!
Женщина, прожившая в рабстве двадцать лет, вздохнула. Она хотела упасть на колени перед командующим, но он удержал пленницу.
— Из какого вы города?
— Из Она, мой господин — обители нашего владыки Ра.
— Владыка подверг вас двадцатилетним мукам по одной лишь ему известной причине, — сказал Джедеф. — Но он не забыл о вас. Вы можете вернуться домой.
Женщина взволнованно попросила:
— Умоляю вас, мой господин, отправьте меня в родной город прямо сейчас. Если боги смилостивятся надо мной, быть может, я отыщу свою семью.
Джедеф покачал головой.
— Я не имею права отпускать пленных. Вы и все остальные пленники будут отправлены в Египет, фараон Хуфу, наш повелитель, не станет держать вас в заточении и унижать.
Лишь к ночи солдаты закончили хоронить погибших и перевязывать раненых. Уставшие воины разбрелись по своим палаткам. Джедеф сидел около костра и задумчивым взглядом озирал окрестности. Вид египетских знамен, водруженных на крепостной стене, разорвал его сердце, как и звезды, сверкавшие в вечности, сотворенной могущественным Создателем. Прекрасные мечты, подобные этими звездам, витали в его воображении — счастливые воспоминания о Мемфисе и вызванные ими грезы. Джедеф думал о том что скоро он сможет предстать перед фараоном и просить руки его дочери! О, какой бы замечательной была его жизнь, если бы ему всегда сопутствовали триумф за триумфом и удача. Да продлилась бы она вечно! Если бы только судьба сжалилась над ним! Но счастье нужно заслужить. И как забыть ту гордую женщину, которую бедуины похитили в молодости, лишив ее радостей жизни, и держали в неволе двадцать лет? Как это жестоко!
У Джедефа перед глазами все стоял образ той бедной пленной египтянки.
30
Над Мемфисом взошло солнце. Город выглядел так, словно в нем устраивали одно из великих празднеств в честь владыки Пта. Над крышами домов реяли флаги. Дороги и площади были запружены народом и походили на гигантские волны во время ахет — четырехмесячного разлива Нила. Везде были слышны гимны приветствия фараону, его победоносной армии и ее героическим солдатам. Ветви пальм и олив хлопали, подобно веселой птице, бьющей крыльями и заливающейся радостными трелями. Сквозь эти ликующие толпы колесницы принцев и знати прокладывали себе путь к северным городским воротам, чтобы достойно встретить свою армию. Ветер донес до них военные песни. На горизонте показались передовые отряды с развевавшимися знаменами. Раздались радостные возгласы, люди хлопали в ладоши и махали ветками. Толпу переполнял восторг, и выглядела она словно море во время шторма. Армия приближалась. Впереди шли военнопленные со связанными руками и склоненными головами. За ними следовали большие повозки со взятыми в плен женщинами и детьми и захваченной добычей. Потом ехали колесницы, возглавлял которые молодой командующий в окружении знатных государственных мужей, приветствовавших его.
Дальше двигались боевые колесницы, а за ними маршировали лучники и копьеносцы, пехотинцы. Все они двигались каждый под музыку собственных маршей. В стройных шеренгах незанятыми были места тех, кто погиб. Так солдаты отдавали дань памяти боевым товарищам на благо родины и фараона.
Джедеф, счастливый, гордый смотрел на охваченную страстью толпу, приветствуя людей взмахами своего меча, отдавая им честь. Взглядом он искал любимые лица тех, кто, по его мнению, никогда бы не стал громко выкрикивать его имя, даже завидев его. На мгновение ему показалось, что он услышал голос Зайи и крики Бишару. Его сердце сильно колотилось, и Джедеф гадал, взирали ли на него те темные глаза, которые вселили в него любовь, подобно тому, как восходящее солнце побуждает сердца египтян поклоняться своему божественному появлению. Видит ли она его в этот славный час? Слышит ли, как его имя восхваляют тысячи собравшихся людей? Узнает ли его лицо, осунувшееся в разлуке и тоске?
Армия продолжала шествие к дворцу фараона. Царь с царицей показались на балконе, возвышавшемся над огромной площадью. Под ней прошли пленники и проехали повозки с трофеями. Потом прошли войска, Джедеф, приблизившись к балкону, вынул из ножен свой меч, подняв вверх руку и повернул голову к Хуфу и его жене.
За их спинами стояли принцессы Хенутсен, Неферхетепхерес, Хетепхерес и Мересанх. Глаза юноши встретились с ее чарующим взглядом… Они не могли оторвать глаз друг от друга, и если бы на их пути оказался один из войсковых штандартов, он в тот же миг, вероятно, вспыхнул бы, объятый пламенем.
Джедеф был вызван к фараону. Спокойным и уверенным шагом прошел он в тронный зал. Его величество наклонился и поставил перед ним свой посох. Джедеф пал ниц, чтобы поцеловать его, а потом положил к подножию трона засов от ворот грозной крепости, которую он покорил вместе армией Египта.
— Мой господин, его величество фараон Верхнего и Нижнего Египта, повелитель восточных и западных пустынь и хозяин земель Нубии, — начал он. — Ваше величество! Боги даровали нам силу для выполнения непростой задачи, и мы ее выполнили. Племена Синая побеждены. Под взглядом вашего величества смиренные и униженные пленники, страдая, жмутся друг к другу, присягая вам на верность.
Хуфу улыбнулся:
— Фараон поздравляет тебя, о храбрый командующий. Да продлят боги твою жизнь, чтобы ты принес как можно больше пользы своей родине.
Фараон выпрямился и протянул молодому командующему руку. Джедеф почтенно поцеловал ее.
— Сколько моих солдат пожертвовали собой ради отечества и фараона? — спросил царь.
— Тысяча героев пала на поле боя, — в ответе Джедефа послышалась печаль.
— А число раненых?
— Три тысячи, мой повелитель.
Фараон немного помолчал.
— Великая жизнь требует великих жертв, — наконец сказал он. — Да восславится владыка, который создает из смерти жизнь. — Он внимательно посмотрел на Джедефа, прежде чем промолвить: — Ты оказал мне две услуги: спас жизнь моему наследнику и обеспечил благоденствие моему народу. Чего же пожелаешь ты, мой храбрый герой? Говори — ты получишь любую награду.
«О боги! — подумал Джедеф. — О владыка Ра! Час, которого так жаждала моя душа, который я всегда представлял в своих счастливых мечтах, наконец настал».
— Мой господин, — сказал он, — то, что я сделал, — всего лишь долг любого солдата, поэтому я не прошу за это никакой награды. Но у меня есть мечта, в исполнении которой я надеюсь на вашу царскую милость.
— И какова же эта мечта? — улыбнулся Хуфу.
— Боги, ваше величество, своей неописуемой мудростью вознесли мое обыкновенное сердце до высот моего повелителя, где оно упало к ногам принцессы Мересанх!
Фараон бросил на него странный взгляд.
— Но что боги начертали в сердце принцессы? — спросил он.
Джедеф замолчал.
Царь снова улыбнулся, уже шире.
— Они говорят, что слуга не должен входить в святилище владыки, если не уверен в том, что может это сделать, — сказал он. — Сейчас мы узнаем, как обстоит дело!
Хуфу с довольным видом, словно ожидая развлечения, повернулся к принцессе Мересанх. Природная застенчивость и смущение оказались сильнее прежней надменности — и девушка потупилась. Сердце ее билось так же сильно, как сердце возлюбленного, но она не смотрела на него, а он боялся взглянуть на нее. «Что затеял отец? — в смятении думала Мересанх. — Он посмеется над ним! О боги, сжальтесь!»
Фараон сказал ей нежно, но и с долей иронии:
— Дочь моя! Этот храбрый воин говорит, что ему покорились две крепости: стена Синая и твое сердце!
— Мой господин! — невольно вырвалось из уст Джедефа.
Более он ничего сказать не решился. Хуфу поглядел на командующего, чья храбрость вдруг оставила его. Он посмотрел на принцессу, чья надменность тоже оставила ее, уступив место замешательству и робости. Сердцем фараон потянулся к любимой дочери и подозвал ее поближе. Потом он подозвал к себе и Джедефа. Юноша, не поднимая глаз, подошел к царю.
Хуфу неторопливо вложил руку принцессы в крепкую ладонь Джедефа и просто сказал:
— Именем богов благословляю вас. Да будет счастлив ваш союз!..
31
А вскоре после аудиенции у фараона Джедефу пришлось пережить великие события, которые потрясли его душу до самых глубин и полностью изменили привычные представления. И, казалось бы, успокоившуюся, беззаботную жизнь они ворвались подобно потопу, залившему дельту Нила с полями, домами, скотом и людьми.
Выйдя из тронного зала фараона, юноша попросил встречи с визирем Хемиуном, которому вкратце изложил историю несчастной пленницы египтянки. История эта не выходила из его головы. Добрый визирь проявил благородство и передал женщину на попечение командующему. — Радуйтесь, моя госпожа, — сказал ей Джедеф, — вы вновь обрели свободу после столь долгой неволи. Да залечит время раны вашего сердца! Поскольку час уже поздний, вы переночуете в моем доме, а потом, под защитой богов, отправитесь в свой родной город Он. Женщина схватила его руку и с искренней благодарностью целовала ее. Когда она подняла голову, юноша увидел, что по ее щекам льются слезы. Он проводил женщину к своей колеснице, где его дожидался Сеннефер. Отсалютовав Джедефу, офицер сказал:
— Его Царское Высочество принц Хафра приказал мне сообщить командующему, что он немедленно желает поговорить с ним.
Джедеф спросил его:
— Где сейчас его высочество?
— В своем дворце.
Джедеф повез Сеннефера и женщину вместе с собой на колеснице к дворцу наследного принца. Когда они приехали, он попросил ее подождать на улице и прошел во дворец в сопровождении своего друга. Еще не доходя до покоев Хафры, Джедеф вдруг почувствовали, что принц что-то затевает. Предчувствие его не обмануло. Лицо Хафры заострилось, глаза горели каким-то исступленным огнем — он был сильно взволнован и с трудом сдерживал себя. Престолонаследник не стал тратить время на приветствия, а сразу перешел к делу:
— Командующий Джедеф, я всегда буду помнить о твоей верности в тот момент, когда ты спас меня от неминуемой смерти. Я полагаю, что ты тоже помнишь о моей щедрости, ведь из обыкновенного солдата ты превратился в начальника моей личной охраны.
— Я помню об этом и никогда не забуду, — кивнул Джедеф. — Разве я смею забыть благие деяния моего повелителя принца?..
— Теперь мне снова нужна твоя верность, — резко прервал его престолонаследник. — Ты должен будешь сделать то, что будет приказано, и следовать моим указаниям без малейших колебаний. Командующий, я требую, чтобы ты сегодня не распускал свое войско. Прикажи солдатам оставаться в их лагере у стен Мемфиса. Жди моих распоряжений, которые тебе передадут на рассвете. Не медли с их выполнением, какими бы странными они тебе ни показались. Всегда помни, что отважный солдат стремится к своей цели, словно стрела, не задающая вопросов тому, кто ее выпустил.
— Слушаю и повинуюсь, ваше высочество.
— Тогда на рассвете в лагере жди моих посланников. И никому ни слова. Тебе нужно будет следовать только моим указаниям!..
Принц так и не присел, меряя залу широкими шагами. Кивнув рассеянно Джедефу, он стал рассматривать какие-то свитки на столе. Юноша поклонился и вышел из покоев, будучи совершенно сбитым с толку столь причудливыми приказами принца. «Почему, — спрашивал он себя, — Хафра повелевает мне оставить армию в лагере? Что же это могут быть за странные приказы, которые с восходом солнца привезут мне гонцы? Что он задумал?» Мысль о дворцовом перевороте и захвате власти с помощью армии, вдруг пронзившая его мозг и сердце, казалась Джедефу столь ужасающей и кощунственной, что он тут же отбросил ее. «Но тогда что же? Что за напасть угрожает Египту?»
Он очень нервничал. И не с кем было посоветоваться. Вернувшись к колеснице, Джедеф пригласил ожидавшую его женщину и покатил в ночь, но чем ближе он подъезжал к дому Бишару, тем меньше у него оставалось сомнений. Внутренние перешептывания утихли, а мысли его обратились к семье, так долго ожидавшей его приезда. Добравшись домой, он провел женщину в комнату для гостей, а потом поднялся наверх, к дорогим, любимым людям, которых так давно мечтал увидеть.
Зайя встретила сына с распростертыми объятиями. Осыпая поцелуями, она страстно прижимала его к груди и не отпускала, пока Бишару не вырвал его у нее из рук.
— Добро пожаловать, о герой! Наш доблестный командующий! — кричал он.
Потом Хени и Нафа тоже обняли брата. Джедеф поприветствовал жену Нафы, которая держала на руках младенца.
— Посмотри на своего племянника, малыша Джедефа! — сказала Мана, протягивая ему сына. — Знаешь, мы дали ребенку твое имя, чтобы боги ниспослали ему славу, такую же, как у его замечательного дяди!
Джедеф обнял малыша, пощекотал его мягкую шейку и спросил брата:
— Нафа, ты можешь написать его портрет?
Нафа довольно улыбнулся — сын дарил ему счастье наравне с любовью к искусству — и взял его на руки. Тут Джедеф смог объявить родным прекрасные новости:
— Скоро и я смогу стать отцом!
Все удивились, а Нафа радостно спросил:
— Командующий, ты нашел себе невесту?
Джедеф скромно кивнул.
Мать восторженно смотрела на него.
— Ты говоришь правду, сын мой? Кто же твоя избранница?
— Ты только что вернулся с поля битвы, — рассмеялся Нафа. — Неужто посватался к одной из пленниц?
— Моя невеста — ее высочество принцесса Мересанх, — спокойно и гордо ответил Джедеф.
— Принцесса? Дочь фараона?
— Да.
Сраженные наповал, все были охвачены всепоглощающим счастьем и попросту лишились дара речи. Джедеф поведал им о том, как фараон благословил их, и в его красивых глазах заблестели слезы радости.
Зайя не смогла совладать с собой и разразилась громкими рыданиями, вознося хвалу владыке Пта, великодушному и милосердному. Бишару был вне себя от переполнявших его чувств. Нафа похлопал брата по плечу и рассмеялся. Хени спокойно благословил его, заверив, что боги не предопределяют такие события, не имея в уме какой-либо возвышенной цели, которой ранее не добивался ни один человек. Все родные выражали свое веселье и ликование, которые сейчас преобладали в их мыслях.
Джедеф вспомнил о женщине, оставленной им в комнате для гостей. Быстро рассказав ее историю, он попросил Зайю:
— Мама, я надеюсь, что ты радушно примешь ее.
— Я спущусь вниз и поприветствую гостью, сын мой.
Джедеф последовал за матерью, и они вместе вошли в гостевую комнату.
— Добро пожаловать, — начала Зайя. — Вы можете чувствовать себя как… — тут она осеклась и побелела как полотно.
Женщина медленно встала со стула. Взгляды гостьи и хозяйки скрестились. Зайя узнала ее первой, а синайская пленница внимательно вглядывалась в лицо хозяйки дома, словно пытаясь заглянуть за тяжелую пелену, которой время обволокло далекое прошлое. И тут женщина схватилась за сердце, глаза ее расширились от изумления и ужаса, и она закричала: «Зайя!»
Зайя была в таком ужасе, что не знала, куда бежать. Джедеф недоуменно переводил взор с лица гостьи на бледное лицо матери.
— Откуда вы знаете мою мать? — наконец спросил он бывшую пленницу.
Но женщина будто не слышала этого вопроса, ее взгляд по-прежнему был прикован к испуганному лицу Зайи, будто хотел прожечь его насквозь.
— Зайя… Зайя! Ты же Зайя? Почему ты молчишь? Отвечай, подлая служанка! Скажи мне, что ты сделала с моим сыном! Где мой сын?!
Зайя молчала. Она не сводила глаз с лица разгневанной женщины, но смятение парализовало ее. Раздираемая страхом, она дрожала, ее лицо стало смертельно-бледным. Джедеф взял мать за ледяную руку, усадил на стул, а затем повернулся к незнакомке:
— Как вы смеете так разговаривать с моей матерью? Ведь я взял вас в свой дом, я спас вам жизнь…
Женщина хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Слова юноши сильно задели ее. Она хотела что-то сказать, но лишь указала на Зайю, едва выговорив:
— Спросите у нее.
Джедеф наклонился к Зайе и мягко спросил ее:
— Мама, ты знаешь эту женщину?
Зайя по-прежнему молчала. «Вот он — час расплаты за содеянное в пустыне двадцать лет назад!» — стучала мысль в ее голове. Гостья больше не могла выносить это тягостное молчание и вновь закричала:
— Спросите ее, знает ли она Руджедет, жену Ра? Спросите ее, помнит ли она женщину, которую после родов, слабую, оставила на растерзание жестоким синайским тиранам двадцать лет назад? Ту, у которой она украла ребенка? Отвечай мне! — она упала на стул и разрыдалась. Затем, собравшись с силами, стала говорить чуть спокойнее: — Расскажи ему, как ты кралась под покровом ночи, чтобы похитить моего младенца. Расскажи всем, как ты бросила меня в пустыне, отчаявшуюся душу, обреченную на несчастья. И те звери нашли меня и превратили в свою наложницу. Отвечай, Зайя! Расскажи мне, куда ты дела моего сына? Отвечай!
— Почему ты молчишь, мама? — Джедеф ничего не мог понять. — Эта женщина… Она знает тебя? О каком ребенке она твердит? Ну, скажи же что-нибудь…
Зайя застонала, а потом заговорила — впервые с того момента, когда оцепенение овладело ею.
— Нет смысла… Руджедет… Моя жизнь кончена… Я знала, что расплата придет… Руджедет… Госпожа моя… Я должна ответить за зло…
Юноша вскричал, и голос его был подобен рыку льва, упустившему добычу:
— Мама, не говори так! За какое зло ты должна ответить?
Зайя глубоко вздохнула, переживая свалившееся на нее суровое испытание, и прошептала:
— О дорогой Джедеф, о боги, я не хотела… не хотела совершать зло, но судьба предрешила то, что человеку не под силу предотвратить. О владыка Ра! Неужели вся моя жизнь будет уничтожена в один миг?
— Мама! — крикнул Джедеф. — Не говори так! Помни, что бы ни скрывало твое прошлое — поступки хорошие или дурные, — мне все равно. Для меня нет ничего важнее того, что ты моя мать, а я твой сын, который оберегает тебя — будь ты тираном или угнетенной, злобной или доброй. Молю тебя, не плачь, когда я рядом с тобой!
— Я не плачу, — обреченно сказала Зайя, — но мне уже ничем нельзя помочь!
— Что не так, мама! Ну, скажи же ты наконец этой женщине, скажи, что ты не знаешь ее! Обрети свой разум, силу воли — и скажи наконец, что тебя мучает! — взмолился Джедеф.
Зайя вздрогнула, поднялась со стула и вдруг сама закричала на синайскую пленницу:
— Ты думаешь, я предала тебя, о Руджедет? Нет, я никого не предавала! Я оставалась подле тебя в ту роковую ночь, но на нас напали бедуины, и мне пришлось сбежать. Я избавила твоего ребенка от их зверств, унесла его на своих руках, умчалась в пустыню, словно сумасшедшая. И отряд фараона, возвращавшийся в Мемфис, подобрал меня и младенца. Я не смогла бы спасти тебя… мы заблудились, повозка увязла в песке… Ты была так слаба, Руджедет, я… Как я могла потащить еще и тебя? Я спасала дитя… Ты не можешь обвинять меня! Так было предопределено судьбой! Зато я заботилась о твоем сыне, я посвятила ему свою жизнь. Моя любовь помогла ему, он вырос человеком, почитаемым всем Египтом. Вот же он, Джедефра, стоит перед тобой. Видела ли ты когда-нибудь смертного, подобного ему?
Руджедет обернулась к своему сыну. Она хотела заговорить, но язык не повиновался ей. Женщина смогла лишь раскинуть руки, подбежать к нему и обнять, а дрожащие губы едва прошептали:
— Мой сын… мой сын!
Джедеф был ошеломлен, ему казалось, что все это происходит в каком-то кошмарном сне. Он не мог больше проронить ни слова, переводя взор с мертвенно-бледного лица Зайи на залитое слезами лицо Руджедет, обнимавшей его. Какая-то обреченность была в этой сцене. Наконец он оторвал от себя руки чужой ему женщины, считавшей себя его матерью, и потребовал:
— Успокойтесь и расскажите мне обо всем! Я ничего не понимаю! Я устал от бесконечных тайн, странных взглядов, которые вы бросаете на меня.
И Руджедет, которую Джедеф усадил на диван, поведала ему длинную историю о его рождении, об опасном пророчестве, о том, как Монра, желая спасти жену и новорожденного благословенного сына, уложил их в повозку с зерном, укутал одеялом и отправил с Зайей в деревню, где их должны были спасти и спрятать родственники верховного жреца.
Сам же он остался в храме и стал ожидать неминуемой смерти. Он знал: фараон непременно убьет того, кому был завещан трон. Или Хуфу, или престолонаследник Хафра — кто-то из них явится в Он. Монра взял с Зайи клятву, что она спасет его жену и сына, и Зайя поклялась отдать жизнь за свою госпожу, за него, Джедефру, сына Монра и Руджедет…
32
Так случилось, что Бишару невольно услышал историю, рассказанную Руджедет. Решив увидеть женщину, спасенную Джедефом из синайского плена, он, тяжело ступая, спустился вниз как раз в тот момент, когда из гостевой комнаты вышла Зайя с блуждающим взором, с отрешенным лицом. Не на шутку встревожившись, Бишару подошел к двери, откуда доносился надрывный голос Руджедет. Он стоял за дверью и слушал все, о чем говорила Джедефу гостья. Бишару был так потрясен, что у него чуть не отнялись ноги. Когда он опомнился, в гостевой комнате стало тихо. Он медленно отошел от двери и отправился в свою спальню. Бишару не знал, что ему делать. Он то в волнении ложился, то снова вставал и шагал по комнате. Мысли его крутились в голове, словно в бешеном водовороте. «О Зайя! Почему ты никогда не говорила мне об этом?» Потом он вспомнил, как когда-то молодая женщина пыталась что-то рассказать ему, смотрителю, но он не стал ее слушать… Да, он не хотел знать, что кроется в ее сердце, он просто принял ее в свой дом, сделал своей женой, ее полюбили его сыновья, а он полюбил Зайю и Джедефа всем сердцем, назвал малютку своим сыном…
— Бишару! Ох, несчастный ты старик! Боги нанесли тебе сильный удар, — наконец сказал он.
И какой удар!
Красивый темноглазый мальчик, которого он полюбил как родного сына, которого растил и воспитывал, которым так гордился, оказывается, сын не Зайи, а Руджедет! И он, Бишару, давший Джедефу свое имя — Джедеф, сын Бишару! — не отец ему. Джедеф, сын верховного жреца храма Ра, и ему — о боги, боги! — предрекли, что он займет трон после кончины фараона Хуфу! В это невозможно было поверить, и Бишару отказывался верить… Но Руджедет говорила правду. Судьба раскрыла Джедефу правду о нем — и фараон вдруг стал его врагом. Внезапно он превратился в орудие, которое владыка Ра приготовил, чтобы, бросив вызов его величественному хозяину, лишить прав Хафру, благородного престолонаследника! О ужас! О зачем, зачем Джедеф привез в их дом эту несчастную женщину?
Смотритель пирамиды фараона повторил:
— Бишару! Бедный ты старик! Боги нанесли тебе сокрушительный удар! — Охваченный смятением, он продолжал с болью и печалью: — О любимый Джедеф, будь ты сыном погибшего рабочего или наследником жреца всемогущего Ра, я искренне люблю тебя, так же как Хени и Нафу, и кроме меня не было у тебя другого отца. Я дал тебе свое имя. Я так любил тебя! О боги, теперь ты стал юношей, чей характер сияет добротой и отвагой, подобно лучам солнца. Но, к сожалению, боги сделали тебя предвестником величайшей измены в истории — измены властителю вечного трона. Предателем доверия Хуфу, нашего фараона. Хуфу, имя которого наши дети восхваляют, прежде чем научатся писать. Зачем судьба радуется нашим несчастьям? Почему обрекает нас на мучения и горе в час великого счастья и благополучия? Неужели ей было бы плохо, если бы я окончил свою жизнь, так же как начал — счастливым и довольным?
Измученный душевно и физически, Бишару почувствовал, что конец его уже близок. Он взял со стола зеркальце Зайи и при лунном свете стал разглядывать свое лицо.
— Бишару! — тихо сказал он своему тусклому отражению. — Ты ведь никогда никому не причинял вреда! Станет ли дорогой Джедеф первой жертвой, которую покарает твоя рука? Немыслимо! К чему все эти муки? Почему бы не промолчать, не сделать вид, что я ничего не слышал? Ответ предопределен: потому что твоей душе не будет покоя. Я слуга фараона, его верноподданный. Я знаю свой долг. Вот в чем причина: ты верен долгу, Бишару, и потому сегодня, в сей тяжкий час, обязан исполнить свой долг. Итак, от чего ты откажешься, Бишару, смотритель царской пирамиды? От долга или от нежелания творить зло? Даже ученик начальной школы Мемфиса моментально ответил бы на этот вопрос. Долг превыше всего. Бишару не закончит свою жизнь предателем. Нет, он никогда не предаст своего повелителя: фараон — на первом месте, а любимый сын Джедеф — на втором, — старик прерывисто вздохнул и повторил: — Любимый сын… Но чей? Владыки Ра? Этой чужой женщины?
Бишару вышел из спальни. Он хотел спуститься в сад. Проходя мимо гостевой комнаты, Бишару увидел стоящего возле двери Джедефа, погруженного в глубокие раздумья. Сердце старика бешено заколотилось при виде сына, но он не остановился. Разговор с ним выдаст то волнение, которое распирало его грудь до боли.
Юноша с удивлением посмотрел на Бишару и тихо спросил:
— Куда ты идешь… отец?
«Запнулся при слове "отец"», — отметил с горечью Бишару, а вслух сказал:
— Я иду выполнить свой долг. С этим нельзя медлить ни минуты, сын мой.
Он отправился на конюшню, растолкал спящего слугу и велел запрягать лошадь. На вопрос «Куда ехать?» смотритель ответил:
— Во дворец фараона.
Ночь опускалась на Мемфис, поглощая остатки сумерек. Уже взошла полная луна — кроваво-красная, не предвещавшая покоя, хотя город уже готовился ко сну. Было тихо, прохладно, но в воздухе таилась тревога. Тревога билась и в сердце мрачного смотрителя пирамиды, ехавшего по опустевшим улицам столицы Египта.
«Я знал, что долг — это и невзгоды, и восторженная радость, — думал Бишару, сцепив до боли пальцы и пытаясь не слушать сильно бьющееся сердце. — Но сейчас мне досталась лишь горькая его часть — подобная смертельному яду…»
33
Руджедет закончила свои трагический рассказ и спросила Джедефа:
— Сын мой, не знаешь ли ты, кто сейчас является жрецом храма Ра?
— Шудара, — ответил юноша.
— Я так и знала, что бедный отец твой станет жертвой… — горестно вздохнула женщина. — Без вины виноватый…
— Это настолько неожиданно, что я окончательно сбит с толку… — признался Джедеф. — Еще днем я был Джедеф, сын Бишару, а сейчас уже другой человек. Мое рождение принесло столько ужасных несчастий! Сын безвинно погибшего отца и бедной матери, прожившей двадцать лет в плену… Значит, мое рождение было проклято? Прости меня… мама!
— Не говори так, сын мой! Ты не проклят. Ты благословен. Ты — светлый, ты — великий сын Египта. Ты был как солнце, как Ра, когда стоял на колеснице у стены проклятого Синая… — Руджедет заплакала, ломая руки. Она не находила слов, дабы утешить сына.
— Какой ужас! — не слыша ее, повторял потерянно Джедеф. — Мой отец был убит, а ты двадцать лет жила в мучениях!
— Да смилостивятся боги над моим сыном, — прошептала Руджедет. — Да укрепит тебя владыка Ра! Отбрось эти горестные мысли и подумай о том, что будет дальше… Мое сердце неспокойно…
— О чем ты, мама?
— Опасность все еще подстерегает нас, о сын мой! И сейчас она исходит от того, кто был так добр к тебе днем. Я чувствую это…
— Невероятно! — воскликнул юноша. — Могу ли я, Джедеф, стать врагом фараона? И фараон, который даровал мне свое расположение — неужели он мог быть убийцей моего отца и мучителем моей матери?
— Ничего не скроется от того, кто правит народом и миром. Смотри в будущее, потому что я не хочу, лишь найдя тебя, сразу же потерять… После стольких лишений и долгих лет разлуки!.. О нет! Владыка Ра не допустит, чтобы снова свершилось зло!..
— Куда же нам идти, мама?
— Страна владыки широка и необъятна.
— Разве я могу сбежать как предатель, совершивший преступление?
— Но разве твой отец сделал что-нибудь плохое?
— Я не хочу бежать. Не имею права, — упрямо повторил Джедеф. — Пусть распоряжается судьба. Я солдат! Я жених дочери фараона, принцессы Мересанх…
Руджедет в ужасе посмотрела на сына и прошептала: «Какое несчастье!»
— Не бойся, мама! Моя преданность и верность трону помогут мне убедить фараона.
— Ничто не сможет убедить Хуфу ни в чем, — предостерегла сына Руджедет. — Когда он узнает, что ты враг, которому боги предрекли унаследовать его трон, он тотчас убьет тебя, как хотел уничтожить младенцем…
Глаза юноши широко раскрылись от удивления.
— Унаследовать трон фараона? — вскричал он. — Какое ложное пророчество! Зачем мне трон?
— Умоляю, сын мой, успокой мое сердце.
Юноша обнял женщину и крепко прижал к себе.
— Я прожил двадцать лет, и никто не узнал тайну моего рождения. Она канула в забытье и больше не напомнит о себе.
— Сын мой, я не понимаю почему, но вся дрожу. Мое сердце ждет беды. Быть может, это из-за Зайи…
— Зайя! — воскликнул Джедеф. — Все двадцать лет я называл ее своей матерью. Если материнство — это милосердие, любовь и слепая привязанность к ребенку, тогда она тоже моя мать. Зайя никогда не пожелает нам зла. Она несчастная женщина, похожая на добродетельную царицу, которая в одно мгновение лишилась трона.
Но прежде чем Руджедет успела открыть рот, чтобы сказать еще что-то, в комнату вбежал слуга. Задыхаясь, он сказал, что заместитель Джедефа Сеннефер хочет немедленно встретиться с ним по делу, не терпящему отлагательства. Молодой человек был чрезвычайно изумлен, потому что разговаривал с Сеннефером всего два часа назад. Джедеф тут же вышел в сад. Его товарищ был очень взволнован и чем-то сильно расстроен. Он все время поглядывая по сторонам.
— Что привело тебя ко мне в столь поздний час, друг мой? — спросил Джедеф.
— Мне совершенно случайно стало известно о страшных фактах, предвещающих неминуемое злодеяние…
Джедеф был потрясен. Про себя он подумал: «О мама! Твое сердце не зря предрекало беду… О боги, да избавят они всех нас от новых напастей!»
— Что ты хочешь этим сказать, Сеннефер?
— Сегодня, уже на закате, я пошел в винный погреб, чтобы выбрать себе бутылочку. Я стоял возле окна, выходящего в сад, и вдруг услышал голос главного управляющего дворцом наследного принца. Он негромко говорил с каким-то странным человеком. Хотя мне не удалось разобрать их речь, я четко расслышал, как он сказал: «Принц Хафра, который к завтрашнему утру будет фараоном!» Я перепугался — решил, что наш фараон отправился к Озирису, в царство мертвых. Забыв о своих поисках, я выбрался из погреба к солдатским казармам. Увидел, что офицеры болтают и смеются, как обычно в свободное время, поэтому решил, что страшная весть еще не добралась до них. Я не захотел быть глашатаем смерти, поэтому направился ко дворцу фараона, чтобы лично удостовериться в том, жив ли наш Хуфу. Во дворце все было спокойно. Его огни, как всегда, мерцали подобно ярким звездам, стража расхаживала туда-сюда, и ничто не указывало на трагическое происшествие. Несомненно, наш повелитель жив и здоров. Я пребывал в полном замешательстве от услышанного в погребе и долго ломал над этим голову. Потом меня посетила мысль о тебе, подобно тому, как маяк в темноте указывает путь к берегу сбившемуся с курса кораблю. Я тут же помчался сюда, надеясь на твою мудрую помощь.
Обеспокоенный Джедеф, забыв о собственных переживаниях и о том удивительном, что случилось в этот вечер, спросил друга:
— Ты уверен, что уши не обманули тебя?
— То, что я стою перед тобой, — вот доказательство моей уверенности.
— Ты не пьян?
— За целый день я не выпил ни капли.
Молодой командующий пристально посмотрел на друга:
— А что ты сам думаешь по этому поводу?
Сеннефер замолчал, словно охраняя свой ответ и предоставляя командующему возможность самостоятельно домыслить его. Джедеф понял, что скрывалось за нежеланием друга говорить. Он погрузился в раздумья. Юноша вспомнил необычные наставления принца Хафры: его приказ не распускать солдат, ждать указаний на рассвете и выполнить их, какими бы странными они ни казались. Эти тревожные мысли вернулись, когда он вспомнил о том, как Сеннефер рассказывал ему про характер принца, его вспыльчивость и жестокость. И еще про то, что Хафре уже сорок лет, а он все еще лишь престолонаследник. Джедеф спросил самого себя: «Что еще ты скрываешь от нас, о мир незримого? Над фараоном нависла угроза? В Египте появились изменники?»
Сеннефер прошептал:
— Мы, конечно, солдаты Хафры, но присягали на верность фараону. Вся наша армия — это люди, преданные ему. Предатели могут желать того, чтобы принц Хафра занял трон. Но займет он его при помощи жестокого переворота, не иначе…
Да, подозрения Сеннефера совпадали с собственными подозрениями Джедефа. Он кивнул:
— Боюсь, что жизнь фараона в опасности!
— Я уверен в этом. Мы обязаны действовать, о командующий. Мы должны избежать кровопролития, раскрыть заговор и наказать изменников. Это наш долг! — воскликнул Сеннефер.
Джедеф задумался:
— Почти все ночи фараон проводит внутри пирамиды с визирем, Хемиуном, диктуя ему свою великую книгу. Мы должны отправиться на священное плато и предупредить его. Я боюсь, что вероломные изменники сделают свое черное дело, пока он будет находиться в усыпальнице.
— Это невозможно, — покачал головой Сеннефер. — Только три человека знают секрет того, как открыть дверь пирамиды, — царь, Хемиун и Мирабу. К тому же на окружающем пирамиду плато днем и ночью находится стража и жрецы бога Озириса.
— Кто-нибудь из стражи фараона ездит с ним на колеснице?
— Нет, Джедеф, — сказал Сеннефер, — могущественный монарх, посвятивший жизнь Египту, не считает нужным защищать себя от своих подданных в своей же стране.
— Я думаю, Сеннефер, если наши предположения оправдаются, опасность подстерегает правителя в лощине смерти. Там длинная безлюдная дорога… Предатели скорее всего нападут именно там.
Тяжело вздохнув, Сеннефер спросил:
— Что же нам делать?
— У нас две цели, — ответил Джедеф. — Первая: предупредить фараона об опасности. Вторая: схватить предателей.
— А что, если среди них окажутся принцы?
— Да пусть хоть сам наследник престола!
— Нам не следует полагаться на стражу наследного принца…
— Мудро, Сеннефер, — согласился Джедеф. — Она нам и не потребуется, ибо у нас есть отважная армия, каждый солдат которой не колеблясь отдаст свою жизнь за нашего повелителя.
Лицо Сеннефера посветлело.
— Так призовем же нашу армию!
Молодой командующий положил свою ладонь на плечо усердного заместителя.
— Армию нельзя использовать для таких целей. Только для сражения с другой армией, — сказал он. — Наш враг, если мы не ошибаемся, — небольшая группа заговорщиков, которая, строя свои коварные козни, прикрывается ночной тьмой. Необходимо подкараулить их и нанести им сокрушающий удар, прежде чем они успеют атаковать нас.
— Но, командующий, может быть, сначала лучше предупредить фараона?
— Это плохая мысль, Сеннефер, — возразил Джедеф. — У нас ведь нет прямых доказательств ужасной измены — одни лишь сомнения, а они могут оказаться пустыми. Сейчас мы не можем рассказать фараону о делах его собственного сына — наследника!
— Так что же нам все-таки делать? — в тревоге воскликнул Сеннефер.
— Мне кажется, лучше всего выбрать несколько десятков офицеров из числа тех, в чьем бесстрашии мы оба уверены, — сказал Джедеф. — Мы рассредоточимся и спрячемся в лощине смерти. Там, сохраняя бдительность и будучи настороже, устроим засаду. Все, не будем терять времени! Мы должны опередить заговорщиков, чтобы увидеть их прежде, чем они заметят нас.
В подтверждение своих слов молодой командующий начал действовать быстро и решительно. Но, несмотря на важность того, что ему предстояло сделать, он не мог забыть о своей матери. Вернувшись в дом, он отвел Руджедет в покои Нафы, поручив его жене Мане позаботиться о ней. Затем юноша вернулся к поджидавшему его Сеннеферу, и они отправились в военный лагерь у стен Мемфиса. По дороге Джедеф продолжал размышлять: «Теперь я понимаю, почему принц приказал мне ожидать его распоряжений на рассвете. Он решил убить отца! Если бы Хафре удалось добиться своей цели, он хотел бы, чтобы я тайком перебросил армию в столицу и покончил с дворцовыми стражами, верными соратниками фараона Хемиуном, Мирабу, Арбу и всеми остальными из ближайшего окружения. После этого никто не смог бы помешать ему в осуществлении коварного замысла — Хафра объявит себя фараоном. Какое гнусное предательство!.. Нет никаких сомнений в том, что принц больше не может ждать. Но неужели он не понимает, что своим злодеянием разрушит свои же надежды, когда до их исполнения осталось так немного времени… Однако суждено ли сбыться нашим подозрениям или мы заблуждаемся?»
34
Ночь еще не отдавала свою власть, но над Нилом уже забрезжили предрассветные сумерки, на священном плато пирамиды Хуфу слышались крики стражников, звуки рожков и религиозные песнопения жрецов. Дверь пирамиды открылась, и из нее вышли два человека. Затем они закрыли и крепко заперли ее. Фигуры этих людей были закутаны в плотные одеяния, похожие на жреческие. Тот, что был пониже ростом, сказал второму:
— О мой господин, вы совсем перестали щадить себя.
— Мой визирь, — ответил фараон (это был именно Хуфу), — похоже, что чем старше мы становимся, тем больше возвращаемся в детство. Как же мое рвение в этом великом труде напоминает о прежних страстных увлечениях охотой и верховой ездой! Пожалуй, отныне мне следует приложить вдвое больше усилий, Хемиун, ибо от моей жизни осталась совсем малая ее часть. Визирь, воздел руки в молитве.
— Да продлят боги жизнь нашего фараона! — воскликнул он.
— Да ответят боги на твою молитву, прежде чем я закончу свою книгу, — улыбнулся Хуфу.
— Я хочу, — ответил Хемиун, — чтобы нашему повелителю было даровано достойное утешение.
— Нет, о мой визирь, — возразил фараон. — Египет построил храм для упокоения моей души, а я не дал ему ничего, кроме своей смертной жизни.
Они замолчали. Хуфу взошел на свою колесницу, туда же встал старый визирь, взял поводья, и лошади иноходью тронулись с места. Всякий раз, когда они проезжали мимо отряда солдат или группы жрецов, те падали ниц, приветствуя правителя и выражая свое почтение. Лошади перешли на рысь, миновали плато и выбрались за его границы к дороге лощины смерти, что вела к воротам Мемфиса. Тьма ночи еще не рассеялась, и на небе виднелись звезды, сверкавшие так ярко, что можно было подумать, будто они сливались воедино — любящие сердца в своем необъятном величии.
На полпути через долину бессмертия, пока фараон и его визирь ехали, погруженные в спокойные раздумья, их неожиданно напугало громкое ржание. Один из коней, впряженных в колесницу, вдруг встал на дыбы и тут же замертво свалился наземь. Второй жеребец тоже испуганно заржал и остановился. Хуфу и Хемиун, потрясенные, переглянулись. Визирь решил пойти посмотреть, что случилось, но не успел сойти с колесницы. Острая боль пронзила его… Хемиун успел закричать:
— Спасайтесь, ваше величество! Меня ранили!
Хуфу понял, что кто-то убил лошадь, а затем бросился на визиря. Подумав, что это разбойники, он властно выкрикнул:
— Остановитесь, трусы! Кто осмелился поднять руку на фараона?
Тут же Хуфу услышал голос, подобный раскату грома: «Ко мне, Сеннефер!»
Подхватив раненого Хемиуна, фараон посмотрел туда, откуда раздался зов, и увидел силуэт, вылетевший с правой стороны лощины, подобно пущенной из лука стреле. Потом этот же голос снова пророкотал:
— Укройтесь за колесницей, мой господин!
Во тьме Хуфу заметил еще чей-то силуэт, выскочивший с левой обочины дороги. Зазвенели мечи. Две тени яростно сражались, обмениваясь убийственными ударами. Кто-то, поверженный, вдруг взвыл и рухнул на землю — замертво, в том не было никакого сомнения. Но кто же из них погиб, друг или враг? Фараону не пришлось долго терзаться и тревожиться, ибо он услышал, как его спаситель спросил:
— Мой господин, с вами все в порядке?
— Да, о храбрейший, — дрогнувшим голосом ответствовал фараон. — Но мой визирь ранен.
Тут Хуфу услышал звон клинков позади своей колесницы. Быстро обернувшись, он увидел армейский отряд, вовлеченный в ожесточенный поединок. Тот отважный человек, который лишил жизни его несостоявшегося убийцу, присоединился к ним. Слышно было, как падают на землю один за другим убитые. Царь молча наблюдал за сражением.
Перевес в бою был в пользу сторонников фараона. Офицеры побеждали своих противников. Предателей обуял смертельный ужас, когда вдали они увидели всадников, несшихся со священного плато с факелами в руках и именем фараона на устах. Дрожа от страха, заговорщики попытались скрыться, но те, кто бился с ними, были начеку. Они перехватили врагов и пронзили их вероломные сердца мечами, не пощадив никого.
Подъехавшие всадники окружили колесницу фараона, их факелы осветили лощину смерти. Множество тел покрыло дорогу. Были тут и злоумышленники, и те — увы! — кто сложил голову, защищая фараона. Земля жадно впитывала кровь павших в ночной битве.
Командир всадников подошел к колеснице Хуфу. Увидев, что его величество не пострадал, он восславил богов и почтительно опустился на колени.
— Как себя чувствует наш владыка?.
Спускаясь с колесницы, Хуфу поддерживал под руку своего визиря.
— Я цел, благодаря милости богов и отваге твоих людей, о храбрейший, — сказал он и с тревогой спросил: — Но как ты, Хемиун?
— Я жив, мой господин, — слабым голосом ответил визирь. — Меня ранили в предплечье, но это не смертельно. Давайте же все вознесем хвалу Пта, спасшему жизнь фараону.
Хуфу увидел молодого командующего.
— Ты здесь, Джедеф? Ты, наверное, хочешь, чтобы вся моя семья оказалась у тебя в долгу! — воскликнул он.
Юноша поклонился:
— Все мы готовы пожертвовать собой ради нашего повелителя.
— Но как такое могло случиться? — спросил фараон. — Мне кажется, что это произошло не просто так и отнюдь не по удивительному стечению обстоятельств. Я чую измену, планы которой расстроили твои преданность и смелость. Сейчас мы посмотрим на лица убитых. Давайте начнем с того, кто выпустил стрелы, стараясь преградить нам дорогу…
Джедеф, Сеннефер и командир всадников, освещая путь факелами, пошли вперед. Хемиун, едва волоча ноги, следовал за ними. Через несколько шагов, возле павшего царского коня, они обнаружили убийцу, покушавшегося на жизнь фараона. Он лежал ничком — острие копья пронзило левый бок. Он стонал, изнемогая от боли. Царь вздрогнул при звуке этого стона и, подбежав к человеку, перевернул его на спину. Тревожно вглядываясь в его лицо, фараон закричал:
— Хафра… сын мой!
Забыв о своем величии, Хуфу умоляюще смотрел на тех, кто стоял с факелами рядом, взывая о помощи. Вид убитого горем несчастного отца был ужасен. Фараон наклонился над поверженным у его ног принцем и спросил с горестным изумлением:
— Значит, это ты? Ты… сын мой, хотел убить меня? О боги, боги! Но за что? Ты хотел занять престол, не мог дождаться, когда я сам уйду в царство мертвых?..
Голос Хуфу прерывался, страдание сдавило ему грудь… Принц Хафра уже бился в предсмертных судорогах. Он продолжал хрипеть. Тяжкое молчание нависло над всеми стоявшими над телом злодея. Хемиун позабыл о своем раненом плече и грустно поглядывал на Хуфу, который молил богов избавить его от мучений сего страшного момента. Склонившись над умирающим сыном, фараон сам готов был застонать. Противоречивые мысли и чувства боролись в его сердце… Он не мог отвести взгляд от тела престолонаследника, сотрясаемого конвульсиями, но вот последняя искра жизни погасла, и Хафра навеки затих. Первый луч всходившего над лощиной смерти солнца осветил эту ужасную картину.
Фараон долго не мог двинуться с места, но постепенно величие и уверенность вернулись к нему. Он выпрямился, повернувшись к Джедефу, и сказал:
— Доложи мне обо всем, что тебе известно об этом деле.
Дрожащим от печали голосом Джедеф поведал его величеству о том, что сообщил ему офицер Сеннефер, о сомнениях, одолевших их обоих, и о том, что они предприняли для спасения своего повелителя.
— О боги! — воскликнул Хуфу. — Так это правда!
Он был застигнут врасплох подлостью человека, от которого никогда бы не ожидал ничего подобного, — своего сына, собственного наследника. Боги спасли Хуфу от ужасного злодеяния, но, исполнив свою волю, заставили его заплатить слишком большую цену. Душа престолонаследника не вознеслась на небеса, а низвергнулась в страшное подземное царство, ибо очернила себя омерзительным грехом.
Фараон остался жить, был спасен, но не испытывал от этого радости. Его сын убит, и Хуфу не ведал, как скорбеть по нему.
35
Утром, когда закат окрасил землю и воды Нила алым цветом, царь и его спутники вернулись во дворец. Всемогущий фараон почувствовал в своем сердце опустошающую усталость. Страшные новости между тем распространялись по коридорам дворца, неся с собой уныние и смятение. Царица Мерититес была потрясена до глубины души. Всепоглощающее пламя разгорелось в душе матери, и никакой разлив Нила не смог бы затушить его. Она отправилась к своему великому мужу, желая получить у него поддержку и утешение. Царица нашла Хуфу спящим или изображавшим сон. Прикоснувшись к его лбу холодными пальцами, Мерититес почувствовала, что лоб царя пылает подобно гигантскому костру, от которого летели в воздух искры. В испуге она прошептала: — О мой господин, ты горишь! Ты болен! Фараон открыл бушевавшие гневом глаза. С не свойственной ему яростью Хуфу пронзил супругу взглядом, источавшим огонь. Взбешенным тоном, которого никто никогда от него не слышал, он спросил свою царицу:
— Оплакиваешь ли ты своего сына, проклятого убийцу?
— Я оплакиваю свою несчастную судьбу, мой повелитель, — ответила женщина, заливаясь слезами.
Обезумев от гнева, он вскричал:
— Ты родила мне преступника вместо сына!
— Мой господин…
— Божественная мудрость предопределила его смерть, ибо трон Египта не создан для отцеубийц!
— Пожалей меня, — взмолилась Мирититес. — Пожалей мое сердце и свое тоже! Не говори со мной так. Молю, утешь меня! Давай вспомним, что он был нашим сыном, и сейчас заслуживает того, чтобы его оплакивали!
Царь был в бешенстве:
— Я вижу, что ты жалеешь его!
— Мы должны горевать, мой господин. Разве не потерял он себя и в этом мире, и в загробном?
Хуфу схватился за голову и возбужденно зашептал:
— О боги! Неужели я сошел с ума? Что за удары сыплются на мою голову? Как ей теперь носить корону? О царица, страданиями тут не поможешь! Призови моих сыновей, дочерей и всех моих друзей. Я хочу видеть Хемиуна, Мирабу, Арбу и Джедефа… Ступай! Я должен говорить с ними, ибо жить мне осталось недолго…
Несчастная царица покинула покои фараона и передала его просьбу принцам, принцессам и приближенным. Еще она попросила немедля явиться Кару, личного целителя фараона.
Каждый откликнулся на зов, явившись во дворец в безмолвии, как если бы их пригласили на похороны. Они вошли в комнату фараона. Он принялся расхаживать между ними — членами своей семьи, родственниками и преданными друзьями. Взгляд метался по сторонам. Заметив Кару, он напустился на него:
— Зачем ты пришел сюда, врач, без моего на то разрешения? Ты служишь мне уже сорок лет, и за все это время мне ни разу не понадобилась твоя помощь! Неужели тот, кто обходился без лекаря при жизни, не сможет обойтись без него на смертном одре?
Упоминание о смерти встревожило всех. Что до Кары, он вежливо улыбнулся и сказал:
— Моему господину нужно…
Хуфу прервал целителя:
— Оставь своего господина! Прочь с моих глаз!
Лицо Кары выражало искреннюю печаль. Он тихо сказал:
— Мой повелитель, возможно, иногда лекарь должен ослушаться приказа своего господина.
Фараон побагровел от ярости. Он обвел злобным взглядом ошеломленные лица тех, кто окружал и не узнавал царя, и закричал:
— Разве вы не слышите, что он говорит? И стоите, ничего не делая? Невероятно! Неужели измена поразила своим копьем и ваши сердца? О визирь Хемиун, скажи мне, что делают с тем, кто осмелился перечить фараону?
Хемиун шагнул к лекарю и что-то шепнул ему на ухо. Кара поклонился своему повелителю и, пятясь, покинул его покои.
Визирь приблизился к Хуфу:
— Не гневайтесь так, ваше величество, ибо он желал вам только добра. Может быть, мой господин хочет выпить воды?
Не дожидаясь ответа, визирь покинул комнату, и Кара передал ему золотой кубок, наполненный водой с размешанным в ней успокоительным средством. Хемиун поднес кубок фараону. Хуфу тотчас осушил его. Лекарство подействовало мгновенно, лицо владыки Египта смягчилось. И все же надломленность и потрясение все еще владели царем. Ему помогли улечься на ложе, приподняв подушки.
Глубоко вздохнув, фараон сказал:
— Горе человеку, страдающему от старости и немощи. Эти две слабости способны поставить на колени сильнейших!
Хуфу взглянул на собравшихся подле его кровати.
— Я был могучим правителем, — начал он. — Я устанавливал законы, принуждавшие к поклонению и послушанию. Каждый миг своей жизни я помышлял лишь о добрых делах и процветании страны. О, я не хотел, чтобы мое служение народу Египта закончилось моей смертью. Я написал труд, который будет приносить пользу до тех пор, пока человек безжалостен к самому себе. Судьба продлила мою жизнь, даровала мне эту возможность, и труд свой я завершил. Однако боги захотели подвергнуть меня суровому испытанию. Они избрали моего сына орудием в своих руках, отравили ядом стрелы зла и пустили в его сердце. Он стал врагом, пытавшимся убить меня под покровом ночи. Но мое спасение было предрешено, и преступный сын поплатился своей жизнью — ради тех последних часов, что еще остались мне…
Слушавшие Хуфу в один голос воскликнули:
— Да ниспошлют боги царю многие лета!
Фараон поднял руку. Воцарилось молчание, и он продолжил:
— Конец мой уже близок. Я призвал вас, чтобы вы выслушали мою последнюю речь. Вы готовы?
Хемиун не мог сдержать слезы:
— Мой господин! Не говорите о смерти… Печаль ваша пройдет, и вы будете жить долго — для Египта и для нас.
Фараон улыбнулся.
— Не горюй, Хемиун, — сказал он. — Если бы смерть была злом, то Мина вечно правил бы Египтом. Хуфу не печалится о смерти и не боится ее. Смерть несравнима с тем, что человеку приходится вынести при жизни. Но все же напоследок я хочу разрешить вопрос о престолонаследии.
Он повернулся к сыновьям, пристально глядя на них, словно стараясь прочесть их мысли и желания.
— Вы молчите, — сказал фараон. — Каждый из вас глядит на брата с подозрением и обидой. Да и как иначе, если мой наследник мертв? Умру я, и вы все захотите занять трон. Моя воля такова. Я хочу обрести покой, избрав себе нового преемника, и избавить вас от терзаний.
Бафра, старший из принцев, прервал отца:
— Хотя нас разделили желания, мы все повинуемся вам. Ваша воля подобна божественному закону, который велит нам подчиниться без малейших сомнений.
Фараон улыбнулся:
— Твои слова прекрасны, Бафра, — сказал он. — В сей нелегкий час я обрел в себе силу, возвышающуюся над человеческими чувствами. Я утверждаю, что мое отцовство над верноподданными важнее, чем кровное родство. Мне кажется, что сказанное мною вовсе не вызвало у вас изумления. Правда в том, что, не отрицая перед вами своего отцовства, я нашел того, кто заслуживает права на трон больше, чем любой из вас. Того, кто, приняв корону из моих слабеющих рук, поможет вам сохранить ваше достоинство и добродетели. Это юноша, чье рвение, и преданность, и храбрость, и верность, и долг перед родиной и народом уготовили ему особую роль, чья отвага принесла Египту великолепную победу. Сегодня ночью он спас жизнь фараона от предательства, как ранее спас из лап льва моего вероломного сына. Он будет мужем моей единственной наследницы — принцессы Мересанх, в которой течет царская кровь. Она сольется с кровью моего достойнейшего преемника.
От этих слов все онемели. Ошеломленный Джедеф обменялся полным замешательства взглядом с принцессой Мересанх.
Принц Бафра первым рискнул нарушить молчание:
— Мой повелитель, спасение жизни царя — долг каждого египтянина, и все мы, не колеблясь, выполнили бы его. Но как можно за это отдавать трон?
Фараон поднял руку, останавливая сына:
— В тебе горит огонь возмущения… О сыновья мои, вы принцы этой земли и ее правители. У вас будет богатство, влияние и высокое положение, но трон достанется Джедефу. Это моя последняя воля. Пусть визирь услышит ее, чтобы претворить в жизнь своей властью. Пусть услышит ее и главнокомандующий, который проследит за ее исполнением, призвав для этого силу своей армии. Это мое завещание тем, кого я люблю, и тем, кто любит меня; тем, с кем я дружил, и тем, кто, в свою очередь, дарил мне свою преданность.
Пугающая тишина повисла в покоях царя. Погрузившись в раздумья, никто не посмел издать ни звука. Наконец дверь отворилась и в комнату вошел главный управляющий дворцовыми делами. Он пал перед фараоном ниц и сказал:
— Мой господин, смотритель пирамиды Бишару просит аудиенции у вашего величества.
— Пригласи, ведь с этого момента он член нашей семьи.
Бишару сразу распростерся у ног фараона. Хуфу приказал ему встать и разрешил говорить.
Подавленным голосом смотритель сказал:
— О мой господин! Прошлой ночью я хотел прийти к вашему величеству по очень важному делу, но прибыл уже после отъезда моего повелителя к пирамиде. Мне пришлось ждать до утра…
Бишару смотрел только на Хуфу. Он не видел, что в покоях фараона собралось столько людей, не видел и Джедефа, стоявшего позади него рядом с принцессой Мересанх.
— Какое у тебя дело, о отец храброго Джедефа?
— Мой господин, — голос Бишару стал совсем хриплым, и старик низко опустил голову. — Я не отец Джедефа, и Джедеф — не сын мне.
Ошеломленный фараон засмеялся:
— Ночью один сын отрекся от своего отца, а утром другой отец отказывается от своего сына!
Бишару печально продолжал:
— Мой господин, боги знают, что я питаю к этому молодому человеку поистине отцовскую любовь. Я вырастил его и горжусь им, как самым прекрасным сыном. Я бы не стал произносить эти слова, если бы моя верность трону не была сильнее, чем власть человеческих чувств…
Недоумение царя возрастало, и необъяснимая тревога овладевала сердцем Хуфу. Лица принцев просияли надеждой, что новость заставит фараона изменить свою последнюю волю. Все смотрели то на Бишару, то на Джедефа, чье лицо побледнело и посуровело.
— Что ты хочешь сказать этим, смотритель? — спросил фараон отрекшегося отца.
Не поднимая головы, Бишару ответил:
— Ваше величество… Джедеф — сын бывшего жреца Ра, звали которого Монра.
Фараон остановил на нем непонимающий взгляд, а лица Хемиуна, Мирабу и Арбу окаменели. Однако Хуфу, мысленно вернувшись во тьму далекого прошлого, растерянно сказал:
— Ра! Монра, жрец храма Ра из города Он!..
Архитектор Мирабу первым вспомнил трагический день, события которого навсегда запечатлелись в его памяти и постоянно преследовали его в снах.
— Сын Монры? — изумленно спросил он. — Этого не может быть, мой повелитель! Жрец храма Ра… он погиб, а его сын, младенец… Его убил принц Хафра на наших глазах, как и мать мальчика…
Услышав это, Джедеф крепко сжал руку своей возлюбленной.
Горестные воспоминания нахлынули на фараона, принеся с собой беспощадный огонь. Его уставшее сердце содрогнулось:
— Да, я помню… Маленький сын Монры был умерщвлен на том же ложе, где и родился. Что ты скажешь на это, Бишару?
— Ваше величество, — прошептал смотритель. — Мне ничего не известно об убитом ребенке. Я знаю только старую историю, достигшую моих ушей совершенно случайно или по мудрости нашего владыки Ра… Это было непростое испытание для моего сердца, любящего Джедефа, но преданность фараону заставляет меня рассказать ее.
Бишару поведал своему повелителю — с благородными слезами на глазах — историю о Зайе и ее младенце, с самого начала и до того ужасного момента, когда он подслушал невероятный рассказ освобожденной пленницы Руджедет. Закончив свое горестное повествование, он снова склонил голову и замолчал.
Все присутствовавшие слушали в изумлении, а в
глазах принцев вновь затеплилась надежда. Что касается принцессы Мересанх, она благоговейно трепетала, широко распахнув глаза.
Пока ее сердце билось в страхе, девушка сходила с ума от дурных предчувствий. Ее горящий взгляд был устремлен на лицо отца, вернее — на его губы, словно она хотела силой своей любви подавить слова, которые могли бы лишить ее счастья.
Повернув мертвенно-бледное лицо к Джедефу, фараон спросил:
— Командующий, этот человек говорит правду?
Джедеф не стал медлить с ответом:
— Да, мой господин! То, что рассказал вам смотритель Бишару, чистая правда.
Фараон взглянул на Хемиуна, потом на Арбу и, наконец, на Мирабу, моля спасти его от кошмара этих не укладывавшихся в голове совпадений.
Злобно посмотрев на Джедефа, принц Бафра во всеуслышанье заявил:
— Наконец-то мы узнали правду!
Фараон не обратил внимания на слова своего сына. Он, как в бреду, говорил:
— Вот оно, предсказание того чародея! Двадцать лет назад я объявил войну судьбе, решив изменить волю владыки Ра. Я отправился сражаться с грудным младенцем. Мне казалось, что все будет так, как я того пожелаю, и потому я ни в чем не сомневался. Я думал, что исполнял свою собственную волю, и был уверен в том, что делал. Поистине, сегодня моя самонадеянность выглядит нелепой, и теперь — благодаря владыке Ра — от моей гордости не осталось и следа. Все вы свидетели тому, как спасенный божественный сын Ра отмстил мне. Он убил предателя, моего наследника, а я избрал его своим преемником на троне Египта.
Фараон замолчал, что-то обдумывая. Собравшиеся поняли, что Хуфу готовился принять окончательное решение, и в тревоге замерли. Принцы ожидали, испытывая острые муки, смешанные со страхом и надеждой. Принцесса Мересанх смотрела на отца немигающими глазами, в которых можно было увидеть мольбу и заклинания о пощаде. Взгляд ее, сдаваясь на милость судьбе, метался между отцом и доблестным возлюбленным, который всем своим видом являл потрясающую выдержку и удивительное мужество.
И снова первым не выдержал принц Бафра.
— Мой господин, одним словом вы можете исполнить свою волю, и да восторжествует она наконец! — вскричал он.
Хуфу поднял голову, будто пробудившись от крепкого сна, и долго смотрел на сердитое лицо одного из своих сыновей. Затем он обвел взглядом лица всех присутствующих и тихо сказал:
— Фараон — это плодородная почва, подобная земле его царства, и благодатные знания всходят на ней. Если бы не невежество и глупость молодости, я никогда не лишил бы жизни непорочные, невинные души.
Все молчали. Многие сердца отравленным кинжалом отчаяния пронзило горькое разочарование. Принцесса Мересанх не сдержалась и охнула так громко, что до фараона долетел этот вздох.
Хуфу сразу понял, кому он принадлежал. Царь жестом подозвал к себе любимую дочь. Она подлетела, словно ручная голубка, и припала к его руке.
Глянув на Хемиуна, царь попросил:
— Принеси мне папирус, о визирь, чтобы я мог закончить свою книгу мудрости самым серьезным уроком собственной жизни. Да поспеши, ибо мне осталось жить не больше часа.
Визирь принес свиток папируса, и фараон развернул его у себя на коленях. Он взял спил из камыша и стал записывать свое последнее наставление. Мересанх вместе с убитой горем царицей стояли на коленях возле царского ложа. Все затаили дыхание, и единственным звуком в комнате был скрип спила фараона.
Закрепив на папирусе свои мысли, фараон опустился на подушки. Он с трудом смог сказать:
— Послание Хуфу его любимому народу полностью завершено.
Прежде чем обрести вечный покой, Хуфу посмотрел на Джедефа и жестом попросил его подойти. Юноша приблизился к ложу владыки Египта и замер, словно статуя. Хуфу взял дрожащую руку дочери и вложил ее в ладонь своего преемника, спасителя и лучшего из сыновей Египта. Свою худую ладонь он положил поверх сцепленных рук детей, а затем обвел взглядом всех окружающих:
— Египтяне, приветствуйте своего нового фараона и его супругу!
Никто не ответил, но все склонили головы и повернулись к Джедефу и Мересанх.
Хуфу смотрел ввысь — он был уже далек от земных радостей и страданий. Царица Мирититес прильнула к нему, и только она одна увидела божественный свет, озаривший великого фараона.
То был свет не могущественного Озириса, владыки загробного мира, а свет бога солнца Ра, плывущего в своей сияющей ладье по небесному Нилу.
Пояснения к тексту
Арсина — очевидно, название этого нома имеет отношение к названию горы Синай на иврите (Хар-Синай произносится как «харсина»).
Ахет — четырехмесячный период половодья, разлива Нила в Древнем Египте.
Баба — второй месяц коптского календаря, ориентировочно соответствующий апрелю по григорианскому календарю.
Лощина смерти/долина вечности — длинная мощеная дорога, соединявшая пирамиду и погребальный храм царя, пролегавшая в восточной части долины. Вопреки ее описанию в этой книге, дорога была не общедоступной, а обнесенной богато расписанными стенами (позже ее покрыли крышей). Долина, в которой был возведен храм пирамиды Хеопса, сейчас является частью современной деревни Назлат аль-Сумман у подножия плато в Гизе. Хотя на месте ее мощеной дороги археологами было проведено множество раскопок, сам храм по-прежнему остается погребенным под новыми постройками.
Мастабы — форма этих погребальных сооружений, обычно использовавшихся в додинастический период и ранние годы Древнего царства, напоминает каменные скамьи, встречающиеся в общественных местах сегодняшнего Египта — на арабском они называются мастабас. Само слово взято из древнеегипетского языка.
Мирабу — по мнению специалиста по Древнему царству Рейнера Стейделмана, во время правления Хеопса, старшего инженера в подчинении у верховного архитектора Хемиуна (см. ниже) звали Мериб. Это вероятный источник происхождения имени главного прораба, строителя пирамиды Хеопса, в этом романе объединившего в себе личные качества и роль исторического Хемиуна.
Перет — четырехмесячный период, сезон сева после разлива Нила.
Пер-Усир — Обитель Озириса, додинастический центр культа бот а загробного мира и возможное место зарождения этого культа, располагался в дельте на территории современного города Абусир-Бана к югу от Саманнуда. Греческий историк Страбон называл его Кинополис.
Пирамес — столица Нового царства (XIX династия) фараона Рамзеса II (1304–1227 гг. до н. э.), располагавшаяся в восточной дельте современного Кантира.
Покоится рядом с Озирисом/вознесся к Озирису — эвфемизмы, основанные на веровании, что мертвые находились под покровительством Озириса, главного бога загробного мира.
Породы из Арманта — считается, что эта хорошо известная порода собак, похожих телосложением на лабрадоров, была выведена во времена фараонов в области Армант (древнее название Иуну-Монту, позже Хермонтис). Рыжеватый окрас послужил причиной появления пренебрежительного выражения по адресу белых людей: азфар зайю кальб арманти — «светлый как собака из Арманта».
Ротль — мера веса, используемая в некоторых арабоязычных и средиземноморских странах от одного фунта (как, например, в Египте) до пяти фунтов в других странах.
Стена (в Синае) — изменники-бедуины Синайского полуострова в романе используют стену или другое укрепление для отражения атак возглавляемой Джедефом армии. Исторически же, начиная с поздней поры Древнего царства (2687–2191 до н. э.), и особенно во времена Среднего царства (2061–1664 гг. до н. э.), египтяне возвели серию укреплений, известную в наши дни под названием Стена принца, чтобы защитить долину Нила от набегов азиатских племен, попадавших в страну через Синайский полуостров.
Тут — первый месяц коптского календаря, названный в честь Тота, древнеегипетского бога письма и колдовства, ориентировочно соответствует григорианскому сентябрю.
Хатур и кияк — третий и четвертый месяцы коптского календаря, приблизительно соответствующие ноябрю и декабрю по григорианскому календарю.
Хемиун — в оригинале на арабском языке Махфуз назвал визиря «Хумини», что, по-видимому, является искажением от имени Хемиун — реальной исторической личности, который на самом деле был главным архитектором Хеопса, начальником строительных работ и, вероятно, проектировщиком великой пирамиды.
Шему — четырехмесячный период сбора урожая, жары и засухи.
Нагиб Махфуз
Война в Фивах
Секененра
1
Корабль поднимался вверх по священной реке, увенчанный лотосом нос рассекал спокойные величавые волны, которые с незапамятных времен катились нескончаемой чередой, словно эпизоды бесконечного течения времени. Обе стороны реки усеяли деревни, пальмы росли поодиночке и группами, зеленая растительность простиралась к востоку и западу. Солнце поднялось высоко, его лучи трепетали там, где встречались с кронами деревьев, и искрились там, где касались поверхности воды, на которой покачивалась горстка рыболовецких лодок. Лодки расступались перед крупным судном, их владельцы вопрошающе и недоверчиво взирали на изображение лотоса, символ Севера.
На палубе перед каютой сидел короткий плотный человек с круглым лицом, длинной бородой, белым цветом кожи, одетый в свободно облегающее платье. В правой руке он сжимал толстую трость с золотой рукояткой. Перед ним расположились два столь же плотных человека, одетых точно так же. Внешне все трое походили друг на друга. Главный из них устремил взор к югу, его темные глаза выражали скуку и усталость. Он зло взглянул на рыбаков. Молчание, казалось, стало невыносимым, он повернулся к спутникам и спросил:
— Интересно, затрубит ли завтра труба и прервет тягостную тишину, которая сейчас окутала южные земли? Нарушится ли мир в этих тихих домах, взлетит ли в безмятежное небо ястреб войны? Ах, как бы мне хотелось, чтобы эти люди узнали, что предвещает им и их повелителю наш корабль!
Оба спутника кивнули, выражая согласие с тем, что сказал предводитель.
— Пусть будет война, гофмейстер, — произнес один из них, — раз этот человек, которому наш повелитель разрешил править Югом, дерзко венчает свою голову царской короной, возводит дворцы, словно фараон, и безмятежно разгуливает по Фивам, точно в мире не осталось никаких забот!
Гофмейстер стиснул зубы и стукнул тростью по палубе перед собой, что выдало его гнев и озлобление.
— Египтянин правит лишь этими землями — Фивами, — продолжил он. — Как только избавимся от него, Египет навеки станет нашим. А думы нашего повелителя освободятся от тревоги, ибо ему не придется остерегаться бунта ни с чьей стороны.
Второй человек, лелеявший надежду однажды стать правителем большого города, с жаром ответил:
— Эти египтяне ненавидят нас.
Гофмейстер произнес что-то в знак согласия и сердито добавил:
— Вот именно, вот именно. Даже жители Мемфиса, столицы царства нашего повелителя, прилюдно выказывают покорность, но в сердцах вынашивают ненависть. Мы исчерпали все средства, теперь остался лишь кнут и секира.
Спутники гофмейстера впервые улыбнулись, и второй из них воскликнул:
— Да будут благословенны ваши намерения, мудрый гофмейстер! Египтяне понимают только кнут.
Все трое погрузились в молчание, слышались лишь удары весел о поверхность воды. Тут один из собеседников заметил рыбацкую лодку, в узкой части которой стоял молодой человек с мускулистыми руками. На нем не было ничего, кроме юбки. Его кожа обгорела на солнце.
— Эти южане выглядят так, будто вылупились из своей земли! — сказал он.
— Разве это удивительно? — насмешливо откликнулся гофмейстер. — Стихотворцы египтян даже воспевают красоту смуглых лиц!
— В самом деле! По сравнению с нами цвет их кожи все равно, что грязь в лучах величественного солнца.
Гофмейстер заметил:
— Один из наших людей говорил мне об этих южанах так: «Несмотря на цвет кожи и наготу, они полны самомнения и гордости. Южане утверждают, будто вышли из чресл богов, будто их страна неистощимый источник истинных фараонов». Боже всемогущий! Я знаю, как излечить их от этого. Нам стоит только простереть руку к границам их страны.
Едва гофмейстер произнес эти слова, как услышал, что один из его спутников воскликнул, указывая рукой на восток:
— Смотрите! Неужели это Фивы? Это ведь Фивы!
Двое спутников посмотрели в сторону, куда указывал их товарищ, и увидели большой город, окруженный серой стеной, за которой ввысь поднимались верхушки обелисков, словно столпы, поддерживающие небосвод. На северной стороне города виднелись высокие стены храма Амона, священного повелителя Юга. Взору они казались могучим великаном, тянувшимся к небу. Это зрелище потрясло спутников. Верховный гофмейстер сдвинул брови и тихо сказал:
— Да, это Фивы. Мне доводилось видеть их прежде, и за минувшее с тех пор время я лишь утвердился в желании, что их следует покорить нашему повелителю. Тогда я увижу, как он, одержав победу, возглавит триумфальное шествие по улицам этого города.
Один из спутников добавил:
— Тогда в этом городе станут поклоняться нашему богу Сету.
Судно замедлило ход и степенно приближалось к берегу, проплывая мимо роскошных садов, спускавшихся сочными террасами к священной реке, чтобы насытиться ее водой. Позади них виднелись величественные дворцы, а к западу от дальнего берега к земле припал Город вечности, где бессмертные покоились в пирамидах, мастабах
[110] и могилах наедине со смертью.
Корабль повернул к пристани Фив, он скользил между одномачтовых рыбацких лодок и торговых кораблей. Величина, красота корабля, изваяние лотоса на его носу привлекали взоры. Наконец судно остановилось у причала и бросило огромный якорь. Явилась стража, вперед вышел офицер в белой льняной блузе и юбке и задал вопрос одному из судовой команды:
— Откуда прибыло это судно? Оно везет товар для торговли?
Один из членов судовой команды приветствовал офицера и сказал:
— Следуй за мной!
Он провел офицера в каюту, где тот оказался перед верховным гофмейстером Северного дворца — обители царя пастухов, как его величали на Юге. Офицер почтительно поклонился и отдал честь. С откровенным высокомерием гофмейстер поднял руку, отдал честь и снисходительным тоном произнес:
— Я посланник Апофиса, нашего повелителя, фараона, царя Севера и Юга, сына бога Сета.
Прислан к правителю Фив, принцу Секененре, дабы огласить ему официальное заявление, которое находится при мне.
Офицер внимательно выслушал посланника, еще раз отдал честь и удалился.
2
Прошел час. На судно, держась с большим достоинством, поднялся человек с выступающим лбом, невысокого роста и хрупкого телосложения. Он с уважением поклонился посланнику и ровным голосом произнес:
— Вас имеет честь приветствовать Гур, гофмейстер Южного дворца.
Посланник величаво наклонил голову и ответил резким тоном:
— А я Хаян, верховный гофмейстер Дворца фараона.
Гур сказал:
— Наш повелитель с радостью немедленно примет вас.
Посланник встал и сказал:
— Тогда не станем медлить.
Гофмейстер Гур шел первым, Хаян неспешно следовал за ним, опираясь тучным телом на трость. Оба спутника почтительно поклонились ему. Хаян был уязвлен и задавался вопросом: «Разве не самому Секененре положено встречать посланника Апофиса?» Его крайне раздражало то обстоятельство, что Секененра принимает его точно царь. Покидая судно, Хаян шел между двумя рядами солдат и офицеров и увидел, что на берегу его ждет царская кавалькада, впереди и позади которой стояли боевые колесницы.
Солдаты отдали ему честь, он высокомерно ответил им и забрался в предназначенную ему колесницу. Гур занял место рядом с ним. Затем небольшая процессия двинулась к дворцу правителя Юга. Хаян поворачивал голову то направо, то налево, рассматривая храмы и обелиски, статуи и дворцы, рынки и непрерывный поток людей всех слоев: простой люд ходил почти нагим, офицеры — в элегантных накидках, жрецы — в длинных одеждах священнослужителей, знать — в свободных мантиях. Женщины нарядились в красивые одежды. Казалось, все свидетельствовало о могуществе этого города и его стремлении соперничать с Мемфисом, столицей Апофиса. Хаян сразу заметил, что процессия привлекает взоры и люди собираются вдоль дороги, чтобы посмотреть на нее. Их глаза холодно и пристально разглядывали его белое лицо и длинную бороду, в них отражались удивление, неприязнь и недовольство. Хаян кипел от злости, что могущественный Апофис в лице своего посланника удостоился такого приема. Хаяна раздражало, что он явился в Фивы как чужестранец, ведь прошло уже двести лет с тех пор, как его народ завоевал землю Египта и стал ее хозяином. Он был недоволен тем, что Южный Египет не потерял самобытность, характер и независимость за двухсотлетнее правление его народа. В этом городе не жил ни один гиксос.
Процессия достигла площади перед дворцом. Это была просторная площадь, по ее сторонам расположились правительственные здания, министерства и штаб армии. Посреди площади стоял освященный веками дворец, его внушительный вид слепил глаза. По великолепию дворец не уступал своему собрату в Мемфисе. Гвардейцы расположились на его стенах и стояли в два ряда у главных ворот. Когда шествие во главе с посланником оказалось на уровне ворот, оркестр заиграл приветственный гимн. Пока процессия пересекала дворцовую площадь, Хаян подумал про себя: «Неужели Секененра примет меня с белой короной на голове? Он живет подобно царям, соблюдает их церемониал и правит соответствующим образом. Появится ли он передо мной с короной Юга на голове? Осмелится ли он сделать то, на что не решались его предки и отец?» Посланник вышел из колесницы у входа в длинную колоннаду и обнаружил, что его встречают распорядитель дворца, начальник царской гвардии и высшие офицеры. Все отдали честь и впереди него направились в царский зал приемов. Вестибюль, ведущий к двери зала, с обеих сторон украшали сфинксы. По углам стояли офицеры-великаны, отобранные из самых крепких жителей Хабу. Все поклонились посланнику и расступились, давая ему дорогу. Гофмейстер Гур вошел в зал впереди него. У порога Хаян заметил, что на некотором удалении от входа возвышается трон, царский трон, на котором восседал человек с короной Юга на голове, скипетром и посохом в руке. И справа и слева от трона расположились по два человека. Гур, за которым следовал посланник, приблизился к трону, почтительно поклонился своему повелителю и по обыкновению спокойно произнес:
— Мой повелитель, представляю вашему величеству верховного гофмейстера Хаяна, посланника царя Апофиса.
После этих слов посланник поклонился в знак приветствия, царь тоже ответил поклоном и жестом пригласил его расположиться в кресле, стоявшем перед троном. Гур встал справа от трона. Желая представить придворных послу, царь указал посохом на человека, который находился ближе к нему справа и сказал:
— Это Усер-Амон, главный министр. — Затем он указал на следующего придворного и произнес:
— Нофер-Амон, верховный жрец Амона. — Царь повернулся налево, указал на человека, находившегося рядом с ним, и сказал:
— Каф, командир флота. — Затем он представил следующего придворного: Пепи, командир армии.
Когда представление закончилось, царь обратил взор на посланника и заговорил голосом человека, наделенного непринужденным благородством и занимающего высокое положение:
— Вы явились сюда и желанны не менее чем тот, кто облек вас своим доверием.
— Да хранит вас Бог, уважаемый правитель, — ответил Хаян. — Я действительно рад тому, что меня избрали посланником в вашу прекрасную страну со славной историей.
Царь расслышал слова «уважаемый правитель» и понял их смысл, но его лицо не выдало внутреннего волнения. В то же мгновение Хаян устремил взгляд своих выпуклых проницательных глаз на египетского правителя и убедился, что тот производит впечатление — высокий рост, овальное красивое очень смуглое лицо, заметно выступают передние верхние зубы. На вид он дал ему лет сорок с лишним. Царь подумал, что посланник Апофиса явился с Севера, следуя давно укоренившемуся обычаю — истребовать камни и зерно. Цари пастухов считали это данью, а цари Фив — взяткой, при помощи которой можно избавить себя от посягательств захватчиков.
Царь ответил спокойно и с достоинством:
— Я с удовольствием выслушаю вас, посланник могущественного Апофиса.
Посланник заерзал на кресле, точно собирался вскочить и учинить драку. Резким голосом он сказал:
— Уже двести лет посланники Севера посещают Юг и каждый раз возвращаются довольными.
— Надеюсь, этот прекрасный обычай сохранится, — ответил царь.
Хаян продолжил:
— Правитель, фараон поручил мне передать вам три просьбы. Первая касается моего повелителя фараона, вторая — его бога Сета, третья — дружественных отношений между Севером и Югом.
Сейчас царь полностью сосредоточил свое внимание на посланнике, и на его лице появились признаки тревоги. Посланник продолжал:
— В последнее время царь, мой повелитель, жалуется на страшные боли, лишающие его покоя ночью, и на ужасный шум, режущий его благородный слух. Царь стал жертвой бессонницы и недомогания. Отчаявшись, мой повелитель пригласил врачей и поведал тем о своих ночных мучениях. Врачи тщательно осмотрели его и ничего не обнаружили. Они все высказали мнение, что царь в отличном здравии. Совсем отчаявшись, мой повелитель обратился к прорицателю храма Сета, и этот мудрец тут же догадался о природе его недомогания. Прорицатель сказал: «Источником всех ваших страданий является рев обитающих на Юге гиппопотамов, который проникает в самое сердце повелителя». Прорицатель заверил, что нет иного пути к исцелению, как истребить этих животных.
Посол знал, что гиппопотамы, водящиеся в озере Фив, священны, и тайком взглянул на правителя, чтобы оценить, какое впечатление произвели на того эти слова. Однако его лицо хранило каменное выражение, хотя и немного покраснело. Хаян ждал, что скажет правитель, но тот не проронил ни слова и, казалось, слушал и ждал, что последует дальше. Поэтому Хаян продолжил:
— Пока мой повелитель болел, к нему во сне явился наш бог Сет во всем своем ослепительном великолепии и упрекнул его такими словами: «Разве справедливо, что на всем Юге нет ни единого храма, где упоминалось бы мое имя?» И мой повелитель дал клятву, что попросит своего друга, правителя Юга, возвести Сету храм в Фивах рядом с храмом Амона.
Посол умолк, но Секененра тоже молчал, хотя сейчас у него был вид человека, которого застали врасплох и удивили чем-то таким, что ему раньше никогда в голову не приходило. Однако Хаяна не беспокоило мрачное расположение духа царя. Возможно, посланником двигало желание вывести его из равновесия. Гофмейстер Гур, догадываясь об опасном характере подобных требований, наклонился к уху повелителя и прошептал:
— Будет лучше, если мой повелитель сейчас не станет обсуждать эти вопросы с посланником.
Царь согласно кивнул, хорошо понимая, к чему клонит гофмейстер. Хаяну показалось, будто гофмейстер передал своему повелителю слова, только что сказанные им. Поэтому он выдержал небольшую паузу. Но царь лишь спросил:
— Вы имеете еще что-нибудь сообщить мне?
Хаян ответил:
— Уважаемый правитель, до сведения моего повелителя дошло, что вы носите белую корону Египта. Он удивлен и находит, что это идет вразрез с нашими хорошими отношениями и узами традиционной дружбы, которые связывают семью фараона и ваше славное семейство.
Удивленный Секененра воскликнул:
— Но белая корона ведь является головным убором правителей Юга!
Посланник ответил уверенно и требовательно:
— Наоборот, ее носили цари, и именно по данной причине вашему славному отцу и в голову не приходило надевать корону, ибо он знал, что в этой долине есть всего один царь, который имеет право на это. Я надеюсь, уважаемый правитель, что вы учтете искреннее желание моего повелителя укреплять добрые отношения между династиями Фив и Мемфиса.
Хаян умолк, и снова воцарилась тишина. Секененра предался грустным размышлениям, резкие требования царя пастухов тяжелым камнем легли на его сердце. Они посягали на истоки веры в его сердце и гордости в его душе. Эти чувства нашли отражение в бледных каменных лицах придворных, окружавших его. Внимая совету Гура, царь не стал отвечать, а лишь сказал голосом, который звучал спокойно, вопреки всему, что он услышал:
— Посланник, ваши требования носят деликатный характер, затрагивают нашу веру и традиции. Поскольку дело обстоит так, думаю, будет лучше, если я сообщу вам о своем мнении завтра.
— Лучшее мнение то, которое достигнуто в результате обсуждения, — ответил Хаян.
Секененра повернулся к гофмейстеру Гуру и сказал:
— Проводите посланника в крыло, которое отведено для него.
Посланник поднялся всем своим коротким тучным телом, поклонился и удалился самодовольной и высокомерной походкой.
3
Царь послал за наследным принцем Камосом. Принц явился немедленно, что говорило о том, насколько ему не терпится узнать, какие вести принес гофмейстер Апофиса. После того как принц почтительно приветствовал отца и занял место справа от него, царь обратился к нему со словами:
— Принц, я послал за тобой, чтобы ознакомить тебя с сообщением посланника с Севера и узнать твое мнение. Положение очень серьезное, поэтому слушай меня внимательно.
Царь ясно и подробно изложил наследному принцу то, что сказал посол. Принц слушал отца с большой тревогой, которая отразилась на его красивом лице, по цвету, чертам и выступавшим верхним зубам напоминавшем лицо отца. Затем царь взглянул на свое окружение и продолжил:
— Итак, господа, вы видите, что в угоду Апофису придется снять эту корону, безжалостно истребить гиппопотамов, рядом с храмом Амона соорудить еще один, где будут поклоняться Сету. Посоветуйте, как надлежит поступить!
Негодование на лицах присутствующих говорило о тревоге, обуревавшей их сердца. Первым нарушил молчание гофмейстер Гур.
— Мой повелитель, — сказал он, — я не только отвергаю эти требования, но и сам дух, в каком они были облечены. Они были высказаны тоном хозяина, диктующим условия рабу, тоном царя, упрекающего собственный народ. Я воспринимаю их лишь как давний конфликт между Фивами и Мемфисом, принявший иное выражение. Мемфис пытается поработить Фивы, которые всеми имеющимися средствами отстаивают независимость. Нет сомнения, пастухи и их царь недовольны тем, что Фивы существуют и не распахивают ворота перед правителями Мемфиса. Видно, пришельцы разуверились в своем утверждении, будто это царство всего лишь самостоятельная провинция, подчиненная короне пастухов. Поэтому они решили лишить Фивы возможности проявлять независимость и подавить верования их жителей.
Гур говорил убедительно и прямо. Секененра вспоминал, как повелители пастухов вмешивались в дела царей Фив, а те, отводя от себя зло, меткими ответами, подарками и деланным притворством избавляли Юг от их назойливости и посягательств. В этом семейство Секененры сыграло большую роль, причем его отец сумел незаметно подготовить мощное войско, дабы отстоять независимость своего царства, если хитрости и деланная преданность не помогут. Затем слово взял командир Каф:
— Мой повелитель, я считаю, что мы не должны уступить ни одному из этих требований. Как можно допустить, чтобы наш повелитель снял корону? Или уничтожить священных гиппопотамов, чтобы угодить врагу нашего народа? И как можно сооружать храм богу зла, которому поклоняются эти пастухи?
Слово взял верховный жрец Нофер-Амон:
— Мой повелитель, бог Амон не согласится на то, чтобы рядом с его храмом возвели другой для Сета, бога зла, чтобы эту чистую землю оросили кровью священных гиппопотамов, чтобы хранитель этого царства, первым из царей Юга надевший эту корону, снял ее со своей головы по его велению! Нет, мой повелитель, Амон никогда не потерпит такого! Воистину он ждет того, кто поведет армию его сыновей освободить Север и объединить страну! Тогда страна станет такой же, какой была во времена первых царей.
Командир Пепи, точно кровь в его жилах вскипела, встал во весь грозный рост, расправил широкие плечи и низким голосом произнес:
— Мой повелитель, наши великие люди говорят правду. Я уверен, эти требования имеют целью испытать нашу храбрость и заставить нас унизиться и покориться. Как мы должны относиться к тому, что этот дикарь, нагрянувший на нашу долину из глубин бесплодной пустыни, требует, чтобы наш царь снял корону, поклонялся богу зла и истребил священных гиппопотамов? Раньше пастухи требовали богатств, и мы щедро расставались с ними. Однако теперь они жаждут отнять у нас свободу и честь. Перед такой угрозой смерть нам покажется легкой и восхитительной. Наши люди на Севере стали рабами, они пашут землю и корчатся под ударами плетей. Мы надеемся однажды освободить их от таких мучений и не собираемся по собственному желанию низвести себя до такого же положения!
Царь молчал. Он слушал внимательно и, опустив голову, сдерживал эмоции. Принц Камос пытался определить по лицу отца, о чем тот думает, но это ему не удалось. Принц склонялся к мнению командира Пепи и страстно заговорил:
— Мой повелитель, Апофис собирается подавить нашу национальную гордость и желает добиться от Юга такой же покорности, как от Севера. Но Юг не унижался, когда враг достиг расцвета могущества, и не пойдет на это сейчас. Кто осмелится сказать, что мы должны безрассудно отказаться от того, за что наши предки вели борьбу и пытались сохранить?
Усер-Амон, главный министр, оказался самым умеренным из всех. В своей политике он старался не гневить пастухов, не давать им повода для применения грубой силы, чтобы множить богатство Юга, используя ресурсы Нубии и Восточной пустыни, и создать сильное, непобедимое войско. Обращаясь к придворным, он сказал:
— Не забывайте, господа, что пастухи привыкли грабить и воровать. Хотя чужеземцы правят Египтом двести лет, их взоры все еще привлекает золото, ради которого они готовы идти на все. Золото отвлечет их внимание от более опасных намерений.
Однако командир Пепи покачал головой, облаченной в сверкающий шлем, и возразил:
— Ваше превосходительство, мы живем вместе пастухами достаточно долго и знаем их. Если они чего-то хотят, то открыто скажут об этом, не прибегая к хитростям и утайкам. В прошлом они просили золото и получали его. Однако сейчас они требуют, чтобы мы отказались от свободы.
Главный министр заметил:
— Пока армия еще не готова, нам следует выиграть время.
Командир возразил:
— Наша армия уже сейчас готова дать отпор врагу.
Принц Камос взглянул на отца и увидел, что тот еще не поднял головы. Принц сказал с горячностью:
— Какой смысл рассуждать? Нашей армии понадобится некоторое количество новобранцев и оружие, но Апофис не станет ждать, пока мы достигнем полной готовности. Если принять выдвинутые им требования, то наша страна будет обречена на развал и забвение. На юге нет человека, который не пожертвует жизнью за свободу. Поэтому давайте с презрением отвергнем эти требования и высоко поднимем головы перед длиннобородыми пастухами с белой кожей, которую солнце так и не сможет облагородить!
Воодушевление юного принца подействовало на остальных. Лица придворных выражали решимость и гнев, и казалось, что они уже достаточно сказали и желают принять бесповоротное решение. Царь поднял голову и, внимательно посмотрев на наследного принца, спросил властным голосом:
— Принц, ты считаешь, что нам следует отвергнуть требования Апофиса?
— Решительно и с презрением, мой повелитель! — страстно ответил Камос.
— А что, если это вовлечет нас в войну?
— Тогда будем сражаться, мой повелитель, — ответил Камос.
Командир Пепи заговорил с не меньшей горячностью, чем принц:
— Будем сражаться, пока не выдворим врага за пределы наших границ и, если повелителю угодно, станем биться до тех пор, пока не освободим Север и не изгоним последнего белого пастуха из земли Нила!
Царь повернулся к Нофер-Амону, верховному жрецу, и спросил:
— А вы, ваше святейшество, какого придерживаетесь мнения?
Старый священнослужитель ответил:
— Только безбожник попытался бы погасить этот священный гнев!
Царь Секененра улыбнулся в знак согласия и, повернувшись к главному министру, сказал:
— Министр, вы единственный еще не высказались.
Министр торопливо заговорил:
— Мой повелитель, я советую медлить не потому, что не люблю воевать или боюсь войны. Давайте завершим оснащение армии, которая, надеюсь, добьется цели славного семейства моего повелителя — освободить долину Нила от железной хватки пастухов. Однако если Апофис действительно собирается отнять у нас свободу, то я первым призову к войне.
Секененра посмотрел на лица придворных и заговорил голосом, полным решимости и силы:
— Люди Юга, я разделяю ваши чувства и не сомневаюсь, что Апофис желает поссориться с нами и покорить нас, либо устрашив нас, либо пригрозив войной. Но мы не из тех, кого можно запугать. Мы готовы воевать. Север уже двести лет стонет под гнетом пастухов. Пришельцы грабят богатства этой земли и унижают ее народ. Что же касается Юга, то он сопротивляется двести лет и не теряет из виду главную цель — освобождение всей долины. Разве можно отступать при первой угрозе, отдать права народа и швырнуть свободу к ногам этого ненасытного человека? Нет, люди Юга! Я отвергну эти унизительные требования Апофиса и дождусь его ответа, каким бы он ни был. Если он предпочтет мир, пусть будет мир, а если решит начать войну, путь будет война!
Царь встал, остальные поднялись как один и почтительно поклонились ему. Затем царь неторопливо покинул зал. Принц Камос и гофмейстер последовали за ним.
4
Секененра направился к крылу царицы Ахотеп. Едва заметив, что царь, облаченный в церемониальные одежды, приближается к ней, она догадалась, что посланник с Севера принес неприятные вести. Ее прелестное смуглое лицо выражало озабоченность. Она встала. Высокая стройная царица вопрошающе посмотрела на него. Царь спокойно сообщил:
— Ахотеп, похоже, близится война.
Темные глаза царицы застыли, и она удивленно переспросила:
— Война, мой повелитель?
Секененра наклонил голову, подтверждая свои слова, и поведал о том, что сказал посланник Хаян, как это восприняло его окружение и какое решение он сам принял. Говоря, царь пристально следил за ее лицом. В глазах царицы он прочитал обуревавшие ее чувства — сожаление и покорность перед неизбежным.
Царица заключила:
— Ты избрал единственный путь, достойный своего положения.
Он улыбнулся и погладил ее по плечу.
— Пойдем к нашей священной матери, — сказал он.
Оба шли рядом к крылу царицы, матери Тетишери, жены прежнего царя Секененры, и застали ее в туалетной комнате за обычным занятием — чтением.
Царице Тетишери минуло шестьдесят лет. Ее лицо выражало благородство, величие и достоинство. Жизнерадостность и энергия царицы не знали границ, ее возраст выдавали лишь несколько седых волос у висков и чуть увядшие щеки. Глаза сохранили прежний блеск, тело осталось столь же очаровательным и стройным. Ее отличала та же черта, что остальных членов семейства, — выступающие передние зубы, которые люди Юга находили столь привлекательными и достойными восхищения. После смерти мужа царица полностью отошла от государственных дел, как этого требовал закон, и оставила бразды правления в руках сына и его супруги. Однако к мнению Тетишери прислушивались в трудные времена. Она вселяла надежду и желание бороться. Уйдя от дел, царица предалась чтению, все время просматривала книги Хуфу и Кагемни, Книги мертвых и историю славных веков, которые обессмертили мудрые изречения Мина, Хуфу и Аменхотепа. Слава о царице-матери пронеслась по всему Югу, где не было ни одного мужчины или женщины, которые не знали бы, не любили бы ее и не клялись бы ее именем, ибо она привила всему двору и прежде всего своему сыну Секененре и внуку Камосу любовь к Египту, к его Северу и Югу и ненависть к алчным пастухам, приведшим столь славные дни к печальному концу. Тетишери твердила всем, что они должны посвятить себя великой цели — освобождению долины Нила от деспотической власти пастухов. Она призывала всех священнослужителей, будь то настоятели храмов или школьные преподаватели, все время напоминать людям об опустошенном Севере и хищном враге, о преступлениях, на которые тот шел, чтобы поработить народ, грабить его землю, богатства и низвести людей до уровня скота, обрабатывающего поля. Если на Юге хоть один уголек священного огня тлеет в их сердцах и поддерживает надежду, то заслуга Тетишери в том, что она раздувает его своим патриотизмом и мудростью. Поэтому весь Юг боготворил ее и называл «святой матерью Тетишери», как верующие обращались к Исиде, и искали в ее имени спасения от зла, отчаяния и поражения.
К этой женщине шли Секененра и Ахотеп. Она ожидала их визита, ибо уже знала о приезде посланника от царя пастухов. Тетишери помнила посланников, являвшихся к ее покойному мужу за золотом, зерном и камнем, которые они требовали в качестве дани, какую платит подданный своему господину. Муж отправлял им нагруженные до отказа судна, чтобы не оказаться полностью порабощенным этими дикими людьми и удвоить тайные усилия по созданию армии, которая станет самым драгоценным завещанием его сыну Секененре и потомкам. Царица думала об этом, ожидая царя, а когда тот прибыл вместе с женой, она протянула к ним свои худые руки. Оба поцеловали ей руки, царь сел справа, его супруга — слева от матери. Затем Тетишери нежно улыбнулась и спросила сына:
— Что угодно Апофису?
Сын ответил полным негодования голосом:
— Мама, ему угодны Фивы со всем, что в них имеется. Нет, более того, на этот раз он хочет лишить нас чести.
Встревоженная мать смотрела то на сына, то на его супругу, однако хранила спокойствие, несмотря на плохие вести.
— Его предки, невзирая на жадность, довольствовались гранитом и золотом, — заметила она.
Царица Ахотеп возразила:
— Мама, но Апофис требует, чтобы мы истребили священных гиппопотамов, чей рев не дает ему спать, и построили рядом с храмом Амона такой же его богу Сету. Он желает, чтобы наш повелитель снял белую корону.
Секененра подтвердил слова Ахотеп и рассказал матери все о визите посланника и его требованиях. На благородном лице матери появилось выражение отвращения, дрожащие тубы говорили о негодовании и раздражении. Она спросила царя:
— Что ты ему ответил, мой сын?
— Мне еще предстоит ответить ему.
— Ты уже принял решение?
— Да. Полностью отвергнуть все требования.
— Тот, кто выдвинул эти требования, не примет отказа!
— А тот, кто способен категорически отвергнуть их, не должен опасаться последствий своего решения.
— Что, если он объявит войну?
— Тогда я отвечу ему тем же.
Упоминание войны прозвучало странно, пробудив в ее памяти воспоминания о давних событиях. Тетишери вспомнила времена, похожие на эти, когда ее муж в отчаянии не знал, к кому обращаться, и жаловался ей о своих невзгодах и тревогах, жалел о том, что у него нет сильной армии, способной дать отпор алчному врагу. Теперь же ее сын говорил о войне смело, решительно и уверенно, ибо времена изменились, надежда воскресла. Тетишери украдкой посмотрела на жену сына и поняла, что та смятенна, надежды царицы и дурные предчувствия матери безжалостно раздирали ее. Тетишери тоже была царицей и матерью, но не находила в себе сил сказать что-либо, кроме того, что наставнице народа и его святой матери полагалось сказать. Она спросила сына:
— Эта армия сможет избавить Египет от оков?
— По крайней мере, она не допустит вторжения пастухов на Юг страны.
Затем он с презрением пожал плечами и сердито сказал:
— Мама, мы угождаем этим пастухам уже не первый год, но их жадности нет предела. Они уже хотят заполучить наше царство. Теперь вмешалась сама судьба, и я считаю, что лучше проявить храбрость, чем тянуть время и умиротворять врага. Я пойду на этот шаг и посмотрю, что будет дальше.
Тетишери улыбнулась и гордо произнесла:
— Да благословит Амон эту гордую душу!
— Что ты скажешь, мама?
— Я скажу, мой сын: «Следуй избранному пути и да хранит тебя Бог, а мои молитвы принесут тебе благословение!» Такова наша цель, именно так должен поступить юноша, избранный Амоном для осуществления бессмертных надежд Фив!
Секененра обрадовался, его лицо сияло. Он наклонился и поцеловал Тетишери в лоб. Она поцеловала левую щеку сына и правую щеку Ахотеп и благословила обоих. Они вернулись к себе счастливые и радостные.
5
Посланнику Хаяну сообщили, что Секененра примет его утром следующего дня. В назначенное время царь явился в зал приемов в сопровождении придворных старших рангов. Там он застал главного министра, верховного жреца, командиров армии и флота. Они ждали царя у его трона. Все встали и поклонились. Он занял свое место на троне и разрешил остальным сесть. Затем гофмейстер, стоявший у двери, громко объявил о приходе посланника Хаяна. Появился короткий тучный посланник с длинной бородой. Он приближался высокомерной походкой и думал про себя: «Что мне ждать от этих людей? Мир или войну?» Приблизившись к трону, он поклонился, приветствуя сидевшего на нем царя. Тот ответил послу таким же поклоном, дал ему знак сесть и спросил:
— Надеюсь, вы провели приятную ночь?
— Ночь была приятной благодаря вашему щедрому гостеприимству.
Хаян взглянул на голову царя и, увидев на ней белую корону, расстроился и пришел в неистовый гнев, считая недопустимым, что правитель Юга бросает ему подобный вызов. Царь же и не собирался проявлять к нему вежливость, ибо вполне отдавал себе отчет, что означает отказ от требований Апофиса. Желая выразить свое мнение смело, решительно и прямо, царь сказал:
— Посланник Хаян, я изучил требования, которые вы столь точно передали нам, и обсудил их с ответственными лицами моего царства. Мы все пришли к мнению, что их следует отвергнуть.
Хаян не ожидал столь резкого,
недвусмысленного отказа. От удивления он лишился дара речи. Хаян с изумлением и неверием смотрел на Секененру, его лицо покраснело, словно коралл.
Царь продолжил:
— Я считаю, что эти требования противоречат нашим верованиям и чести.
Придя в себя от удивления, Хаян сказал спокойно и высокомерно, будто не расслышал слов царя:
— Если мой повелитель спросит: «Почему правитель Юга отказывается возвести храм Сету?», что я должен ему ответить?
— Скажите ему, что жители Юга поклоняются только Амону.
— А если он спросит: «Почему они не хотят истребить гиппопотамов, лишающих меня сна?»
— Скажите, что жители Юга считают их священными.
— Поразительно! Разве фараон не священнее гиппопотамов?
Секененра на мгновение опустил голову, будто обдумывая ответ. Затем он решительно ответил:
— Апофис священ для вас. Гиппопотамы священны для нас.
Услышав столь ясный ответ, придворные почувствовали облегчение. Хаяна же обуревал гнев, хотя он и не дал ему взять верх над собой. Он сдержался и спокойно сказал:
— Уважаемый правитель, ваш отец правил Югом и не носил эту корону. Вы считаете, что у вас больше прав, чем у вашего отца?
— Он оставил мне Юг в наследство, и эта корона давно принадлежит ему. Поэтому я имею право носить ее.
— Однако в Мемфисе есть другой человек, который носит двойную корону Египта и называет себя фараоном Египта. Что вы думаете о его правах?
— Я думаю, что он и его предки незаконно захватили власть над этим царством.
Терпение Хаяна иссякло, и он заговорил с гневом и презрением:
— Правитель, не думайте, что вы царь, раз надели эту корону. Царь — это, прежде всего, сила и власть. В ваших словах я не нахожу ничего, кроме пренебрежения к добрым отношениям, которые связывали ваших предков с нашим царем, а также вызов, последствия которого вам неподвластны.
Лица придворных вспыхнули от гнева, но царь хранил спокойствие и любезно ответил:
— Посол, мы намеренно не стремимся к злу. Но если кто-то посягнет на нашу честь, мы не пойдем на уступки и не свернем на безопасный путь. Одно из наших достоинств заключается в том, что мы не преувеличиваем свои силы, так что не ждите от меня хвастливых слов. Но знайте, что мои предки, насколько могли, хранили независимость этого царства, и я никогда не отдам то, что Бог и люди сочли нужным сберечь.
На губах Хаяна появилась насмешливая улыбка, за которой скрывалась жгучая ненависть. Он заключил вкрадчивым тоном:
— Как вам угодно, правитель. Я всего лишь выполнил долг посланника, но вам придется нести ответственность за последствия своих слов.
Царь наклонил голову и ничего не ответил. Затем он встал, давая понять, что аудиенция закончена. Все встали, оказывая ему почтение, и продолжали стоять до тех пор, пока он не скрылся за дверью.
6
Царь, осознавая опасность положения, выразил желание посетить храм Амона, помолиться ему и объявить в священном дворе храма о начале войны.
Он известил об этом главного министра и придворных, и министры, командиры, гофмейстеры, высокие должностные лица группами направились к храму Амона, чтобы встретить там царя. Жители Фив, не ведая ни о чем, заметили, что происходит за величественными стенами дворца, и шепотом говорили о том, что посол Севера прибыл с большой помпой, а уехал в гневе. Среди жителей Фив распространилось известие, что Секененра собирается побывать в храме Амона, чтобы просить у Бога совета и помощи. Большие толпы мужчин, женщин и детей шли к храму, где застали других людей, которые окружили храм и заполняли улицы, ведшие к нему.
Лица всех были серьезны, взволнованны, полны любопытства. Люди нетерпеливо задавали друг другу вопросы, и каждый по-своему толковал возникшее положение. Появился царский эскорт, впереди которого ехал эскадрон гвардейцев. Затем показалась колесница царя и другие колесницы, в которых прибыли царица, принцы и принцессы царского двора. Людей охватило волнение и радость, они махали своему повелителю, громко приветствовали его и ликовали. Секененра улыбнулся им и помахал скипетром.
Все обратили внимание на то, что царь одет в походное обмундирование и держит сверкающий щит. Люди с растущим нетерпением ждали новостей. Царь вошел во двор храма, мужчины и женщины его семейства следовали за ним. Жрецы храма, министры и командиры встретили их, распростершись ниц, а Нофер-Амон громко воскликнул:
— Да сохранит Бог навеки жизнь царя и Фиванское царство!
Люди радостно снова и снова повторяли его слова. Царь приветствовал их, приложив руку к голове и широко улыбаясь. Затем царь и его окружение вошли в алтарный зал, где солдаты тут же принесли Богу в жертву быка. Затем все обошли жертвенник и зал колонн, выстроились в два ряда, после чего царь передал скипетр наследному принцу, приблизился к священной лестнице, поднялся к святая святых, смиренно переступил через священный порог и затворил за собой дверь. Казалось, его окутали сумерки, он наклонил голову, снял корону из благоговения к непорочности этого места, направился с трепетной дрожью в коленях к нише, в которой покоился Господь Бог. Там он пал ниц у его ног, поцеловал их и молчал, пока его прерывистое от волнения дыхание не успокоилось. Затем он произнес низким голосом, будто начиная сердечную беседу:
— Господь Бог, Повелитель славных Фив, Царь богов Нила, даруй мне свою милость и силу, ибо сегодня на меня легла ответственность, справиться с которой без твоей помощи мне не по силам! Речь идет о защите Фив и битве с твоим и нашим врагом, напавшим на нас из глубин северных пустынь дикими отрядами, которые разорили наши дома, унизили наших людей, закрыли двери в твои храмы и незаконно захватили наш трон. Помоги мне дать отпор армиям пастухов, изгнать их дивизии, освободить долину от жестокого гнета пришельцев, так чтобы здесь правили только твои сыновья со смуглой кожей и упоминали лишь твое имя!
Царь умолк, подождал немного, затем снова произнес горячую и долгую молитву, прижавшись челом к ногам статуи. Затем он поднял голову в священном страхе и долго всматривался в благородное лицо бога, облаченного величественным покоем, точно занавесом в будущее, за которым скрывался рок.
* * *
Царь, надевший корону на покрытую по́том голову, явился перед своими людьми, которые все, как один, пали ниц. Принц Камос протянул ему скипетр, и царь, взяв его правой рукой, произнес громовым голосом:
— Люди славных Фив! Пока я говорю, возможно, враг уже сосредотачивает армию у границ нашего царства, дабы вторгнуться в наши земли. Поэтому готовьтесь к войне! Пусть боевым кличем каждого станет беззаветный труд ради укрепления нашей армии к жестокому сражению. Я молил Бога и просил у него помощи. Бог не забудет свою страну и народ!
Все крикнули так, что содрогнулись стены храма:
— Боже, помоги нашему царю Секененре!
Царь повернулся, собираясь уходить. Верховный жрец Амона приблизился к нему и спросил:
— Не угодно ли моему господину задержаться для того, чтобы я мог преподнести ему небольшой подарок?
Царь улыбнулся и ответил:
— Как вашему священству будет угодно.
Верховный жрец подал знак двум другим священнослужителям, те направились к сокровищнице и вернулись с небольшим золотым ларцом, тут же приковавшим взгляды окружающих. К ним подошел Нофер-Амон, медленно и осторожно открыл ларец. Взорам царской свиты открылась царская корона — двойная корона Египта. Глаза присутствующих сделались большими от удивления. Все переглянулись. Нофер-Амон склонил голову перед своим повелителем и с дрожью в голосе произнес:
— Мой повелитель, это корона царя Тимаюса!
Некоторые из присутствующих воскликнули:
— Корона царя Тимаюса!
Нофер-Амон страстным и сильным голосом сказал:
— Это действительно так, мой повелитель! Это корона царя Тимаюса, последнего фараона, который правил объединенным Египтом и Нубией до того, как в нашу землю вторглись пастухи. Мудрый Бог наслал кару на нашу землю при его царствии, и благородная корона скатилась с его головы после того, как он многое выстрадал, защищая ее. Так корона лишилась трона и своего хозяина, но сохранила чистоту. Поэтому наши предки перенесли ее в храм и поместили среди священных фамильных сокровищ. Ее владелец умер смертью героя и мученика, так что корона достойна умной головы. Я венчаю твою голову этой короной, царь Секененра, сын святой матери Тетишери, и объявляю тебя повелителем Верхнего, Нижнего Египта и Нубии. И я призываю тебя во имя бога Амона, памяти Тимаюса, народа Юга подняться на битву с врагом и освободить чистую, дорогую нам долину Нила!
Верховный жрец приблизился к царю, снял с его головы белую корону и передал ее одному из священнослужителей. Затем он под радостные крики и возгласы в хвалу Бога водрузил ее на его курчавую голову и громко произнес:
— Да здравствует Секененра, фараон Египта!
Люди подхватили слова верховного жреца, один священнослужитель тут же вышел из храма и провозгласил Секененру фараоном Египта. Жители Фив с радостью вторили ему. Затем священнослужитель призвал мужчин подниматься на битву с пастухами. Людской ответ прозвучал как гром. Теперь сомнения рассеялись, все узнали правду.
Фараон отдал честь жрецам, направился к выходу из храма, за ним последовали члены его семьи, придворные и крупные чиновники южного царства.
7
Вернувшись во дворец, фараон пригласил к себе на совещание главного министра, верховного жреца, главного распорядителя двора, командиров армии и флота и заявил им:
— Судно быстро несет Хаяна на север. Пастухи вторгнутся в наши земли, как только он пересечет южные границы, так что мы не должны терять ни часу времени.
Повернувшись к Кафу, командиру флота, он сказал:
— Надеюсь, перед вами стоит легкая задача, ибо пастухи годятся нам в ученики по части битвы на воде. Готовьте корабли к сражению и отправляйтесь на север!
Командир Каф отдал своему повелителю честь и быстро покинул дворец. Царь повернулся к командиру Пепи и сказал:
— Командир Пепи, главные силы нашей армии расположились лагерем у Фив. Выступите в поход к северу, а я присоединюсь к вам вместе со своей несгибаемой гвардией. Я молю Бога, чтобы мои воины оказались достойными задачи, которая легла на их плечи. Не забудьте, командир, отправить посыльного в Панополис, чтобы предупредить гарнизон, который стоит на страже наших северных границ, иначе его застанут врасплох.
Командир отдал честь своему повелителю и удалился. Царь взглянул на лица главного министра, верховного жреца и главного распорядителя двора и сказал:
— Господа, обязанность оборонять тыл нашей армии ложится на ваши плечи. Да выполнит каждый свой долг с известными мне умением и преданностью!
Они как один ответили:
— Мы готовы сложить головы за царя и Фивы!
Секененра приказал:
— Нофер-Амон, отправьте своих людей в деревни и города. Пусть они зовут всех к битве! А вы, Усер-Амон, соберите губернаторов провинций и велите им набрать сильных и способных людей, а вам, Гур, я поручаю заботиться о моих домочадцах. Будьте для Камоса тем, кем вы стали для меня.
Царь отдал честь своему окружению и удалился. Он направился в свое крыло, чтобы проститься с семьей, прежде чем отправиться в путь. Секененра послал за всеми членами семьи. Пришли царица Ахотеп, царица Тетишери, принц Камос, его жена Сеткимус, их сын Яхмос и маленькая дочка, принцесса Нефертари. Царь приветливо встретил всех и усадил их подле себя. Любовью полнилось его сердце, когда он нежно смотрел в глаза дорогих ему людей. Ему казалось, будто он видит одно и то же лицо, которое множилось и отличалось лишь количеством прожитых лет. Тетишери минуло шестьдесят лет, Ахотеп и ее мужу — сорок, Камосу и Сеткимус исполнилось по двадцать пять лет. Яхмосу скоро десять, а его сестра была на два года моложе. Царь видел те же черные глаза, те же уста с чуть выступающими верхними зубами, тот же смуглый цвет лиц, символ здоровья и красоты. На широких устах царя заиграла улыбка.
— Хорошо. Посидим немного вместе, прежде чем я отправлюсь в путь, — произнес он.
— Мой сын, я молю Бога, чтобы он даровал тебе решающую победу! — пожелала Тетишери.
— Мама, я очень надеюсь одержать победу, — ответил Секененра.
Царь заметил, что наследный принц надел походную форму и догадался, что тот вообразил себе, будто отправится в путь вместе с ним. Сделав вид, что ни о чем не догадывается, царь спросил:
— По какому поводу ты облачился в такую одежду?
На лице юноши мелькнуло удивление, точно он не ждал подобного вопроса.
— По той же причине, что и вы, отец, — с недоумением ответил он.
— Разве я велел тебе так одеться?
— Отец, я думал, что в этом не было надобности.
— Ты ошибся, сын.
На лице юноши появились признаки тревоги, и он спросил:
— Мой повелитель, меня хотят лишить чести участия в битве за Фивы?
— Поля битвы столь же почетны, что и другие места. Камос, ты останешься во дворце и позаботишься о благополучии нашего царства, снабжении армии людьми и продовольствием.
Лицо юноши побледнело, он склонил голову, будто приказ царя стал для него бременем. Тетишери, желая успокоить его, сказала:
— Камос, бремя заботы о государстве не может быть плохим или постыдным. Эта задача достойна тебя.
Царь обнял наследного принца за плечи и сказал:
— Слушай, Камос. Близится кровопролитная война, из которой мы надеемся с помощью Бога выйти победителями и освободить нашу любимую землю от опутавших ее оков. Однако будет разумно, если мы учтем все возможные исходы. Как сказал наш мудрец Кагемни, «не кладите все стрелы в один колчан!»
Секененра умолк, воцарилась тишина, и никто не решился нарушить ее.
— Если мудрый Бог пожелает, чтобы наше сражение за справедливость закончилось поражением, то борьба не должна закончиться на этом. Слушайте меня все. Если я погибну, не предавайтесь отчаянию. Камос займет мое место. Если погибнет Камос, его заменит маленький Яхмос. А если погибнет наша армия, в Египте найдется достаточно мужчин для создания новой. Если падет Птолемаида, Коптос продолжит сражение! Если враг захватит Фивы, пусть Омбос, Сайин и Бига придут им на помощь. Если пастухи захватят весь Юг, останется Нубия, где живут сильные и преданные нам люди. Тетишери завещает нашим сыновьям то, что наши праотцы завещали нам. Я предостерегаю вас лишь от одного врага — отчаяния.
Слова царя больно отдались в сердцах членов его семьи. Даже маленькие Яхмос и Нефертари опустили взоры, расстроились и были поражены тем, что дедушка впервые говорил с ними столь серьезно. Глаза царицы Ахотеп наполнились слезами, что вызвало недовольство Секененры.
— Ты плачешь, Ахотеп? Будь столь же храброй, как Тетишери! — сказал он ей не без упрека в голосе. Затем он взглянул на маленького Яхмоса, к которому был сильно привязан. Тот являл собой вылитую копию дедушки. Царь притянул его к себе и, улыбнувшись, спросил:
— Яхмос, какого врага мы должны остерегаться?
Мальчик ответил, не совсем понимая смысл этого слова:
— Отчаяния.
Царь рассмеялся и снова поцеловал его. Затем он встал и тихо сказал:
— Давайте обнимемся!
Он обнял всех по очереди — Тетишери, жену Ахотеп, Сеткимус, жену сына, затем Яхмоса и Нефертари. Затем он повернулся к Камосу, который стоял неподвижно с удрученным выражением лица, и крепко пожал ему руку, наклонился, поцеловал его и тихо произнес:
— Да хранит тебя Бог, мой дорогой сын!
Царь помахал всем рукой и твердым шагом покинул дворец. Он смотрел перед собой решительно и смело.
* * *
Царь отправился в путь во главе своей гвардии. На дворцовой площади его встретили толпы жителей Фив. Женщины и мужчины собрались, чтобы приветствовать царя и поддержать тех, кто уходил с надеждой освободить долину Секененра пробирался через бурное море людей в сторону северных ворот Фив. Там собрались жрецы, министры, гофмейстеры, знать, высокопоставленные должностные лица, чтобы пожелать ему доброго пути. Они пали ниц перед его кавалькадой и долго твердили его имя. Последним царь расслышал голос Нофер-Амона, который твердил:
— Я скоро встречу тебя, мой повелитель, с увенчанной лавровым венком головой! Да услышит Бог мою молитву!
Держа путь к северу, царь выехал через Большие ворота Фив и оставил позади себя мощные стены города. Все, что царь увидел и услышал, произвело на него глубокое впечатление, он сознавал, сколь серьезное испытание его ждет, и с тревогой думал о том, обернется ли в будущем все для его народа счастьем или бедами. Судьба Египта находилась в руках царя, ему грозили опасности, которые его отец хотел отвести, оттягивая время и откладывая решающий шаг. Секененра не был избалованным правителем. По природе он отличался стойкостью, храбростью, суровостью и набожностью. Он лелеял великую надежду и полностью доверял своему народу. К вечеру царь догнал свою армию к северу от Фив. Она стояла лагерем в городе Шанхуре. Пепи встретил царя во главе командиров подразделений. Усталость и трудный переход сказались на его духе, и это не ускользнуло от внимания царя.
— Командир, я вижу, что вы устали, — заметил он.
Пепи был рад видеть своего повелителя. Он ответил:
— Мой повелитель, мы сумели собрать гарнизоны Гермонтиса, Хабу и Фив. Все вместе они составляют армию почти из двадцати тысяч воинов.
Когда царь проезжал в колеснице между рядами палаток, солдаты ощутили прилив воодушевления и радости. По всему лагерю громко произносилось имя царя.
Затем фараон повернул назад и в сопровождении Пепи подъехал к царской палатке. Секененра верил в свою армию, подготовке которой он посвятил добрую часть юности.
— Наша армия храбра. Как вы находите моральный дух командиров? — спросил царь.
— Все полны оптимизма, мой повелитель, и жаждут боя. Все восхищены подразделением лучников, оставившим свой след в истории.
— Я разделяю с вами это восхищение, — сказал царь. — А теперь послушайте меня. Нам не следует терять времени, кроме того, которое необходимо такому количеству солдат для отдыха. Мы должны встретить врага, если он действительно нападет на нас, в покатой долине между Панополисом и Батлусом. Долина очень неровная, подходы к ней узкие. В лучшем положении окажется тот, кто завладеет господствующими над ней высотами. К тому же Нил там узок и это обстоятельство может сыграть на руку нашему флоту во время столкновения с врагом.
— Мы выступим вперед перед рассветом.
Царь согласно кивнул головой и сказал:
— Мы обязательно должны достичь Панополиса и разбить лагерь в его долине до того, как Хаян вернется в Мемфис.
Затем царь созвал командиров на совещание.
8
Перед самым рассветом армия двинулась дальше. Еще раньше в путь отправились разведчики. Подразделение из двухсот колесниц во главе с фараоном возглавило движение, затем следовали копейщики, лучники, подразделение воинов со стрелковым оружием, повозки с продовольствием, оружием и палатками. В то же время флот направился к северу. Стоял кромешный мрак, который пронизывало мерцание звезд и огни факелов. Когда армия достигла города Гесии, его жители проснулись и вышли навстречу фараону и его армии. Из самых дальних полей пришли крестьяне, неся пальмовые ветви, травы со сладким запахом, кувшины с пивом. Крестьяне шагали рядом с солдатами, громко приветствовали их, протягивали им цветы и чаши с вкусным пивом. Крестьяне провожали солдат большой отрезок пути. За это время ночь отступила, над горизонтом на востоке забрезжил спокойный голубой свет, возвещая приближение дня. Все купалось в лучах света, армия быстро продвигалась вперед и к полудню достигла Катута. Там солдаты устроили привал среди местных жителей, которые их тепло встречали. Секененра решил, что армия должна на ночь расположиться лагерем в Дендаре. Царь приказал продолжить путь, армия шла дальше и к ночи достигла Дендары, где все воины погрузились в глубокий сон. День за днем солдаты вставали до рассвета и шли маршем до темноты. Наконец они разбили лагерь в Абидосе. Разведчики уже выдвинулись к северным окраинам города, когда один офицер заметил вдали приближающиеся группы людей. Офицер во главе разведчиков направился к этим людям. Приближаясь к ним, он начал догадываться, что происходит. Офицер увидел крестьян, шедших неровными рядами. Те несли все, что смогли прихватить с собой, некоторые гнали перед собой птиц или коров. Все говорило о том, что эти люди несчастны и лишились имущества. Толком не понимая, что происходит, офицер приблизился к шедшим впереди и уже хотел задать вопрос, как из толпы кто-то крикнул:
— Спаси нас, солдат!..
Встревоженный офицер громко спросил:
— Спасти вас? Что случилось?
Люди запричитали:
— Пастухи, пастухи!
Один из них сказал:
— Мы жители Панополиса и Птолемаиды. Явился страж границы и предупредил, что пастухи огромной армией двинулись к нашим рубежам и вскоре ворвутся в наше селение. Он велел нам бежать к югу. В селении и на полях людей охватил страх, мы все спешили к своим домам за женщинами и детьми. Мы взяли все, что смогли унести. Затем мы бежали, оставляя селения. Со вчерашнего утра мы не знаем ни мгновения отдыха.
По лицам людей было видно, что они совсем выбились из сил. Офицер сказал им:
— Отдохните немного, затем идите дальше без промедления. Скоро эта мирная долина станет полем боя!
Затем офицер взял поводья лошади и поскакал в Абидос к командиру сообщить о том, что случилось. Пепи тут же направился к фараону и передал ему эту новость. Фараон встретил ее с изумлением и отчаянием.
— Как это объяснить? Неужели Хаян сумел предупредить Мемфис за столь короткое время?
Пепи гневно ответил:
— Мой повелитель, нет сомнений в том, что враг двинул свою армию к нашим границам до того, как направил к нам посланника. Враг расставил нам ловушку и выдвинул эти требования, рассчитывая, что мы отвергнем их. Когда Хаян, возвращаясь, пересек нашу границу, он дал уже приведенным в готовность войскам приказ перейти в наступление. Это единственное разумное объяснение столь стремительному и быстрому наступлению врага.
Лицо царя Секененры побледнело от гнева и негодования. Он произнес:
— Значит, Панополис и Птолемаида уже стали добычей врага?
— Увы, это так, мой повелитель. Храбрости нашего маленького гарнизона не хватило, чтобы отбить врага.
Царь печально покачал головой и заключил:
— Мы лишились лучшего поля для битвы.
— Это не скажется на храбрости наших замечательных воинов.
Царь задумался, затем сказал командиру своих войск:
— Мы должны вывести всех людей из Абидоса и Дендары.
Пепи вопросительно посмотрел на царя.
— Мы не сможем защитить эти города, — объяснил Секененра.
Пепи догадался, что имел в виду царь.
— Мой повелитель собирается встретить врага в долине Коптос? — спросил он.
— Именно таково мое желание. Там на врага можно напасть с разных направлений. Близ долины можно найти естественные укрепленные пункты. В городах, из которых будут выведены жители, я оставлю отряды людей, которые начнут изматывать врага, не вступая с ним в бой. Так мы задержим продвижение врага до тех пор, пока не укрепим наши позиции. Приступим к делу, Пепи. Отправьте гонцов в эти города. Пусть они велят жителям покинуть их, а командирам гарнизонов немедленно отступить. Не теряйте времени, ибо один конец веревки, на которой повисла судьба нашего народа, Апофис держит в своей руке.
9
Глашатай предупреждал жителей Абидоса, Барфы и Дендары:
— Берите свои пожитки, деньги и отправляйтесь на юг! Ваши жилища станут местом беспощадного сражения.
Люди знали пастухов и их обычаи. Всех охватил страх, люди забрали деньги, вещи погрузили в повозки, запряженные волами, собрали рогатый скот и птиц и погнали их перед собой. Убитые горем, они двинулись на юг, покидая свои земли и дома. Чем дальше они уходили, тем чаще мрачно оглядывались назад. Сердца велели им вернуться к своим домам. Затем ими завладевал страх, и они торопливо шли вперед, к ожидавшей их неизвестности. По пути этим людям встречались подразделения армии, и им становилось легче на душе. Надежда прорезала их грустные думы, на губах появлялась радостная улыбка, которая словно отражалась на мрачном небе, когда лучи солнца в этот пасмурный день на мгновение пробивались через трещину в облаках. Люди махали солдатам и кричали:
— У нас отняли земли. Верните их нам, храбрые солдаты!
Во время этих событий фараон расставлял свои войска в долине Коптос и с печалью смотрел на группы беженцев, поток которых не иссякал. Он переживал беды людей, точно был одним из них. Боль в сердце Секененры удваивалась, когда он слышал, что люди громко произносят его имя и возносят ему свои молитвы.
Командир Пепи все время поддерживал связь с разведчиками, получал от них сведения и передавал их своему повелителю. Единственный уцелевший солдат гарнизона в Абидосе принес весть, что враг напал на этот город и маленький гарнизон оказал ему упорное сопротивление. Утром следующего дня разведчик сообщил о нападении гиксосов на Барфу, о хитрости и маневрах, к которым прибегли защитники этого города, чтобы как можно дольше задержать продвижение врага. В Дендаре гарнизон на протяжении многих часов сдерживал наступление врага, заставляя того бросать в бой все больше солдат. Казалось, что враг имеет дело с большой и хорошо вооруженной армией. По оценкам разведчиков и офицеров гарнизонов, сумевших выбраться из окруженных городов, количество воинов врага составляло пятьдесят или семьдесят тысяч, а число боевых колесниц — не менее тысячи. Последнюю новость царь встретил с удивлением и отчаянием, ибо ни он, ни его командиры не ожидали, что армия Апофиса столь велика. Он обратился к командиру:
— Как же нам противостоять столь огромному количеству колесниц?
Пепи не знал, что ответить, ибо сам задавался этим вопросом.
— Ими займется отряд лучников, — ответил он своему повелителю.
Царь удивленно покачал головой и ответил:
— В прошлом пастухи не применяли колесницы в качестве орудия войны. Как же могло получиться, что у них гораздо больше колесниц, чем у нас?
— Мой повелитель, меня печалит то, что они сделаны руками египтян.
— Это действительно безрадостная новость. Смогут ли лучники устоять перед лавиной колесниц?
— Мой повелитель, наши люди не стреляют мимо цели. Завтра Апофис убедится в том, что руки лучников сильнее его колесниц, сколько бы их ни было!
В тот вечер фараон остался один, ощущая себя беспомощным и подавленным. Он долго и горячо молил Бога дать ему силы, твердости духа и даровать победу ему и его армии.
Все чувствовали, что враг рядом. Боевая готовность была повышена, ночь прошла тревожно, все с нетерпением ждали наступления рассвета, готовые ринуться в смертельную битву.
10
Солдаты были на ногах задолго до рассвета. Храбрые лучники заняли укрепленные места на поле боя, каждому была придана колесница. Секененра стоял перед своей палаткой вместе с командиром Пепи. Их окружало кольцо рослых гвардейцев. Фараон говорил:
— Было бы неразумно бросить подразделение колесниц на врага, с которым им не справиться. Однако рассредоточенные колесницы помогут нашим лучникам нанести урон всадникам и коням врага. Нет сомнений, Апофис сначала бросит в бой колесницы, ибо другие подразделения армии не смогут выступить, пока не определится исход сражения на колесницах. Так что сделаем все, чтобы вывести из строя колесницы пастухов, затем непобедимые отряды нашей армии вступят в бой и истребят врага.
Мечта об уничтожении вражеских колесниц не покидала царя. Всем сердцем он молил бога Амона: «О Боже, дай нам силы преодолеть это препятствие! Встань на сторону верных тебе сыновей, ибо, если ты оставишь нас сегодня, имя твое больше не станут произносить в твоем благородном святилище, а двери твоего непорочного храма закроются!»
Царь и командир Пепи поднялись в свои колесницы, царская гвардия окружила их, позади них ждали приказа двести колесниц. Затем подошло подразделение копьеносцев, которые выстроились в две колонны, справа и слева от царя. Все ждали, когда он даст приказ вступить в бой, после того как поддерживающие их колесницы выполнят свою первую задачу.
Когда забрезжил свет, явился разведчик и сообщил царю, что египетский флот вступил в бой с пастухами за гарнизон, стоявший к северу от Коптоса. Царь обратился к командиру своей армии:
— Нет сомнений, Апофис догадался, что столкнется с яростным сопротивлением. Именно поэтому он отдал своему флоту приказ перейти в наступление, с тем чтобы высадить войска в тылу наших позиций.
Пепи ответил:
— Мой повелитель, пастухи еще не овладели искусством сражаться на борту корабля. Священный Нил проглотит трупы их солдат, а вместе с ними надежды Апофиса окружить нас.
Секененра относился к воинам фиванского флота с большим доверием, однако он велел командиру разведчиков постоянно сообщать о ходе сражения на Ниле. Мрак отступал перед утренним светом, и воины стали различать очертания поля боя. Секененра взглянул на своих лучников, которые уже держали луки наготове. Рядом с ними к бою готовили несколько колесниц. На противоположной стороне он увидел армию пастухов, которая разворачивалась, точно клубы песка. Враг ждал наступления утра, и как только рассвело, колесницы изготовились к бою. Вдруг несколько колесниц ринулись на передовые укрепленные позиции, полетели стрелы, заржали лошади, воины издавали пронзительные крики. За колесницами вперед бросились другие отряды, вступая в яростный бой с египетскими лучниками и колесницами. Секененра воскликнул:
— Битва за Фивы началась!
Пепи с дрожью в голосе ответил:
— Воистину это так, мой повелитель. Как прекрасно вступили в бой наши солдаты!
Взоры всех были прикованы к полю битвы. Все следили за ходом сражения. Они видели, как колесницы пастухов наступали, выстроившись в одну линию, затем разделились на отдельные группы и тут же устремились на лучников и египетские колесницы, преградившие им путь. С обеих сторон гибли солдаты, храбро бросая вызов смерти. Лучники оказались на высоте, они не дрогнули перед наступающим врагом, их стрелы косили и всадников, и боевых коней, образуя бреши в рядах пастухов. Пепи крикнул:
— Если битва и дальше пойдет так, еще несколько дней, и враг лишится всех колесниц!
Тем временем отряды пастухов бросались в бой, сражались и возвращались в свой лагерь, их сменяли другие, давая первым отдохнуть. Египтяне же оборонялись без передышки, стойко удерживая свои позиции. Всякий раз, когда Секененра замечал, что его всадника или колесницу вывели из строя, он сердито восклицал: «Какое несчастье!» и вел точный счет потерям в рядах своей армии. Пастухи вводили в бой все больше сил, атакуя сначала тремя колесницами, затем шестью и десятью. Битва становилась все яростней, число колесниц гиксосов росло. Секененру охватила страшная тревога.
— Нам следует как-то противодействовать растущему количеству сил противника, чтобы восстановить равновесие на поле боя.
— Мой повелитель, но мы должны приберечь колесницы, стоящие в запасе, для завершающих этапов битвы.
— Разве вы не видите, что враг каждый раз наступает на нас свежими силами?
— Мой повелитель, я понимаю замысел врага, но мы не можем действовать так же, ибо у него так много колесниц, у нас же совсем мало.
Царь стиснул зубы и сказал:
— Мы не рассчитывали, что у врага окажется такое превосходство в колесницах. Что бы ни случилось, я не могу допустить, чтобы мои лучники лишились отдыха, ибо им нет замены в моей армии.
Царь дал приказ бросить в атаку двадцать колесниц пятью группами. Они ринулись в бой, точно хищные орлы, и битва разгорелась с новой силой, однако Апофис, надеясь раз и навсегда отбить новое наступление Секененры, бросил в бой двадцать отрядов по пять колесниц в каждом. Все кругом заполнилось их грохотом, в воздухе кружились облака пыли, битва достигла лихорадочного накала, кровь лилась рекой. Проходило время, но битва не затихала и не ослабевала. Солнце уже стояло в зените. Разведчики сообщили царю, что флот пастухов отступил, когда египтяне захватили два их корабля и потопили один. Весть об этой победе пришлась кстати, она укрепила решимость и боевой дух египтян. Офицеры распространили эту новость среди сражающихся отрядов и тех, кто ждал своей очереди вступить в бой. Маленькая победа радостно отозвалась в их сердцах и вызвала прилив энергии. Однако Апофис тоже узнал об этом и, охваченный гневом, тут же изменил тщательно обдуманный план и приказал бросить в бой все колесницы, чтобы учинить возмездие. Секененра заметил, что на его лучников широкой лавиной устремились боевые колесницы, охватывая их с двух сторон и намереваясь взять в клещи. Царь сильно встревожился и гневно воскликнул:
— Наши воины истощены непрекращающейся битвой и не смогут устоять перед такой лавиной колесниц! — Секененра обратился к командиру своей армии и сказал тоном, не терпящим возражений:
— Мы вступим в решающую битву теми силами, которыми располагаем. Прикажите нашим храбрым офицерам вести отряды в наступление и скажите, что я желаю, чтобы каждый выполнил свой долг как солдат бессмертных Фив!
Секененра знал, какие опасности подстерегают его и армию, но он был храбр, исполнен огромной веры. Не колеблясь ни на мгновение, он взглянул на небо и ясным голосом произнес:
— Бог Амон, не забывай своих верных сынов!
Царь отдал приказ бросить в бой окружавшие его колесницы и сам, опережая всех, ринулся вперед навстречу врагу.
Разгорелось беспощадное сражение, кричали люди, ржали лошади, летели шлемы, катились головы, лилась кровь. Однако доблесть египтян не могла устоять против быстрых, защищенных колесниц, которые врывались в ряды воинов и косили их точно солому. Секененра бился отважно, не теряя присутствия духа и не зная усталости. Иногда казалось, будто он ангел смерти, разящий любого из рядов врага по своему усмотрению. Наступал вечер, но битва не прекращалась. Казалось, что успех сопутствует пастухам, которые собирали силы для решающего удара. Большая колесница, прикрываемая крупными силами во главе с всадником с длинной белой бородой, устремилась к колеснице царя и пробивалась сквозь ряды солдат с невероятным упорством. Царь догадался о намерении лихого всадника и устремился ему навстречу. Они встретились лицом к лицу. Оба два раза метнули копьями друг в друга, но каждый отразил их щитом и готовился к продолжению поединка. Секененра увидел, что противник обнажил меч и догадался, что того не удовлетворило начало поединка. Поэтому он тоже обнажил свой меч и бросился на противника, но в этот решающий миг ему в руку угодила стрела. Руку царя схватила судорога, и меч выпал из нее. Многие гвардейцы воскликнули:
— Берегитесь, мой повелитель, берегитесь!
Однако враг настиг царя быстрее, чем предупреждение гвардейцев, и изо всех сил нанес ему удар в шею. Меч угодил в цель, смуглое лицо царя исказилось от ужасной боли, он застыл и не смог оказать сопротивление. Противник схватил копье правой рукой, метнул его что было сил и попал царю в левый бок. Секененра закачался, словно оцепенев, и рухнул на землю. Кругом раздались крики египтян:
— Великий Бог! Царь пал! Защитите царя!
Улыбнувшись, как победитель, командир врага воскликнул:
— Прикончите этого наглого бунтаря и не щадите никого из его воинов!
Вспыхнуло сражение вокруг мертвого тела, один всадник, снедаемый злобой, бросился к нему, занес острый топор и опустил его на голову царя. Двойная корона Египта отлетела в сторону, кровь брызнула, словно из родника. Тут всадник нанес ему еще один удар выше правого глаза, раздробив кости и разбрызгав мозги. Многим хотелось ухватить из кровавого пира хотя бы кусочек добычи и утолить свою злобу. Враги набросились на тело, нанося ему жестокие, безумные удары в глаза, рот, нос, щеки и грудь. Они разорвали тело на куски, обильно оросив его кровью.
Пепи сражался во главе уцелевших солдат, отбрасывал врага и прорывался к тому месту, где встретил смерть его повелитель. Для солдат, которые отчаялись добиться успеха, продолжая сражение, жизнь потеряла всякое значение, и они решили искать мученической смерти на том месте, которое оросил своей кровью их повелитель. Один за другим они сложили свои головы. Наступила ночь, все вокруг окутал траурный мрак. Обе стороны, истощенные жестокой битвой и ослабленные ранами, прекратили сражение.
11
Солдаты вышли с факелами искать своих погибших и раненых. Совершенно выбившись из сил, командир Пепи стоял у колесницы, ему не давали покоя мысли о бездыханном теле царя, невинная кровь которого оросила поле битвы. Он слышал голос одного командира: «Трудно поверить в это! Как могло сражение закончиться так быстро? Кто бы мог подумать, что мы за один день потеряем большую часть своих солдат? Как могло случиться, что наши храбрые солдаты оказались побежденными?»
Другой голос, напоминавший предсмертный хрип, ответил ему: «Они не смогли устоять перед боевыми колесницами. Эти колесницы разбили все надежды Фив».
Командир Пепи громко обратился к солдатам:
— Вы выполнили свой долг перед телом Секененры? Давайте разыщем его среди убитых!
Дрожь прошла по согбенным телам воинов. Каждый из солдат взял факел и молча, будто у него отнялся язык, последовал за Пепи. На том месте, где пал царь, они разделились. В их ушах звучали стоны раненых и бред впавших в лихорадку. Пепи охватила такая печаль и боль, что он едва видел перед собой. Он не мог поверить, что ищет тело Секененры. Ему не хватило духа признать, что битва за Фивы завершилась в этот печальный день. Проливая горючие слезы, командир произнес:
— Будь свидетелем и поражайся, земля Коптоса! Мы ищем останки Секененры среди твоих дюн. Будь нежна к нему и стань мягким ложем для его истерзанного тела! Увы, мой повелитель, кто заступится за Фивы теперь, когда ты оставил нас? На кого же нам теперь положиться?
Удрученный Пепи умолк, но вдруг услышал голос:
— Друзья, сюда! Вот тело нашего повелителя.
Пепи с факелом в руках побежал туда, откуда прозвучал голос. Глаза командира сделались круглыми, когда он с ужасом представил, что увидит. Когда Пепи добрался до трупа, с его губ сорвался крик, полный гнева и боли, отдавшийся многократным эхом. От царя Фив осталась куча расчлененной обезображенной плоти, из которой торчали кости. Все кругом было залито кровью. Рядом валялась корона.
Пепи гневно воскликнул:
— Подлые чужеземцы! Они обошлись с мертвым телом, как гиены с убитым львом. Но они не могли причинить тебе зла, разорвав на куски твое непорочное тело, ибо ты жил так, как должен жить царь Фив, и умер смертью бесстрашного героя!
Затем он крикнул тем, кто в печали застыл вокруг него:
— Принесите царский паланкин! И быстрее!
Офицеры принесли паланкин, помогли поднять останки царя на паланкин. Пепи взял двойную корону и положил ее рядом с головой царя, затем прикрыл тело куском ткани.
Солдаты молча подняли паланкин, понесли его к опустевшему лагерю и поставили в палатке, навеки лишившейся своего защитника и хозяина. Все уцелевшие командиры и офицеры встали вокруг паланкина, опустили головы, охваченные великим несчастьем и печалью. Пепи повернулся к ним и сказал твердым голосом:
— Пробуждайтесь, товарищи! Не поддавайтесь печали! Печаль не вернет Секененру, а лишь приведет к тому, что мы забудем о своем долге перед мертвом телом царя, перед его семьей и нашей страной, ради которой он погиб. Что произошло, то произошло, но оставшиеся главы трагедии еще не разыгрались. Мы должны непреклонно оставаться на местах и полностью выполнить свой долг.
Солдаты подняли головы, стиснули зубы, как люди, исполненные решимости и силы, и смотрели на своего командира, выражая готовность сражаться до последнего дыхания.
Пепи сказал:
— Настоящие храбрецы в горе не забывают о своем долге. Правда, нам следует признать, что мы проиграли битву за Фивы, но еще не выполнили своего долга. Нам предстоит доказать, что мы достойны героической смерти не меньше, чем благородной жизни!
Все громко ответили:
— Царь подал нам пример. Мы последуем за ним!
Лицо Пепи просветлело, и он с удовлетворением продолжил:
— Вы потомки храбрых солдат! Слушайте, что я скажу! Наша армия поредела, но завтра мы все до одного пойдем в бой и, сражаясь, задержим продвижение Апофиса до тех пор, пока семейству Секененры не удастся скрыться. Пока семья царя жива, война между нами и пастухами не прекратится, хотя на полях сражений на какое-то время воцарится затишье. Я ненадолго покину вас, чтобы отдать должное мертвому телу царя и его храбрым потомкам, а к рассвету вернусь, чтобы мы вместе могли сложить головы на поле боя.
Пепи просил всех помолиться у тела Секененры. Солдаты опустились на колени и произнесли страстные молитвы. Пепи закончил свою молитву словами:
— Милостивый Бог, окажи милосердие нашему доблестному царю в жилище Осириса и даруй нам такую же счастливую смерть, как ему, чтобы мы могли встретиться с ним в Другом мире с высоко поднятыми головами!
Затем он позвал нескольких солдат и велел им отнести паланкин на царский корабль.
— Оставляю вас в руках Бога! До скорой встречи, — произнес Пепи, обратившись к своим товарищам.
Командир шел за паланкином до самой каюты на палубе и приказал солдатам:
— Когда корабль достигнет Фив, отнесите паланкин в храм Амона, поставьте его в священном зале и не отвечайте никому, кто спросит вас о царе, до тех пор, пока я не приду.
Командир вернулся к своей колеснице и велел вознице ехать к Фивам. Колесница сорвалась с места и понеслась вперед на огромной скорости.
* * *
Фивы погрузились в сон, покров мрака окутал храмы, обелиски и дворцы. Никто не ведал о печальных событиях, произошедших за стенами города. Пепи направился прямо к царскому дворцу и объявил гвардейцам о своем прибытии. Тут же явился главный распорядитель двора, ответил на приветствие Пепи и с тревогой спросил:
— Командир, какие новости?
Подавленным и печальным голосом Пепи ответил:
— Главный распорядитель, вы скоро узнаете обо всем. А теперь попросите наследного принца принять
меня.
Распорядитель ушел полный дурных предчувствий. Вскоре он вернулся и произнес:
— Его высочество ждет вас в своем крыле.
Командир направился к крылу наследного принца и, войдя, застал его в зале для приемов. Пепи распростерся ниц перед принцем, который был удивлен этим неожиданным визитом. Когда командир поднял голову, принц увидел изможденное лицо, усталые глаза, бледные губы, и его охватила тревога. Принц задал тот же вопрос, что и распорядитель двора:
— Какие новости, командир Пепи? Должно быть, важное дело заставило вас покинуть поле боя в такое время.
Командир ответил полным печали мрачным голосом:
— Мой повелитель, боги… по причинам мне неведомым… все еще гневаются на Египет и его народ!
От этих слов сердце принца защемило, точно ему набросили петлю на шею, и он догадался, сколь горестный смысл затаился в них. Снедаемый тревогой и страхом, он спросил:
— Нашу армию постигла неудача? Мой отец просит о помощи?
Пепи опустил голову и тихо произнес:
— Увы, мой повелитель, в этот злосчастный день Египет потерял своего наставника.
Принц Камос подскочил от ужаса и громко спросил:
— Мой отец тяжело ранен?
Пепи ответил печальным глухим голосом:
— Наш царь пал как настоящий герой, сражаясь во главе своего войска. Перевернулась славная, бессмертная страница в анналах вашего могущественного семейства.
Подняв голову, Камос спросил:
— Боже милостивый, как ты мог допустить, чтобы враг победил твоего верного сына? Однако какой смысл жаловаться? Сейчас не время проливать слезы. Мой отец погиб, и я должен занять его место. Подождите, командир. Я вернусь в походной одежде!
Но командир Пепи остановил его, сказав:
— Я не явился сюда, мой повелитель, чтобы звать вас в бой. Увы, исход битвы уже решен.
Камос внимательно посмотрел на него и спросил:
— Что вы хотите этим сказать?
— Сражаться нет смысла.
— Наша храбрая армия истреблена?
Пепи опустил голову и с глубокой печалью ответил:
— Мы проиграли решающую битву за освобождение Египта. Наши главные силы уничтожены. Мы ничего не добьемся, продолжая сражение. Мы пойдем в бой лишь для того, чтобы дать семье царя, павшего мученической смертью, время спастись.
— Вы хотите сражаться, чтобы мы бежали, словно трусы, и оставили наших солдат и землю на милость врагу?
— Нет. Я хочу, чтобы вы бежали, как это делают мудрецы, которые взвешивают последствия своих действий и смотрят в далекое будущее. Они мирятся с неизбежным поражением, на время выходят из битвы, тут же собирают свои разрозненные силы и приступают к новому сражению. Прошу вас, мой повелитель, пригласите цариц Египта и вместе примите решение.
Принц Камос вызвал распорядителя двора и послал его за царицами. Он шагал взад и вперед, предаваясь то печали, то гневу. Командир стоял перед ним, храня молчание. Тут же явились царицы Тетишери и Ахотеп, затем Сеткимус. Царицы взглянули на командира Пепи, который поклонился им в знак приветствия, и заметили выражение боли на лице Камоса, хотя тот держался спокойно. Их охватил страх и волнение. Царицы отвели взгляды. Камос нетерпеливо пригласил их сесть и сказал:
— Царицы, я пригласил вас, чтобы сообщить плохие новости.
Он выдержал небольшую паузу, чтобы смягчить удар, но царицы встревожились. Тетишери спросила:
— Пепи, какие новости? Как дела у нашего повелителя Секененры?
Камос ответил дрожащим голосом:
— Бабушка, у тебя восприимчивое сердце и верное чутье. Пусть Бог крепит ваши сердца и поможет вам выслушать печальные вести. Мой отец Секененра убит во время сражения, и мы потерпели поражение.
Камос отвернулся, чтобы не видеть их горе, и сказал, будто обращаясь к собственной отчаявшейся душе:
— Мой отец погиб, наши армии разбиты, наши люди от близкого юга до дальнего севера обречены на несчастья.
С невыразимой болью в сердце Тетишери произнесла:
— Как моему слабому сердцу залечить столь глубокую рану?!
Ахотеп и Сеткимус сидели с опущенными головами, горячие слезы текли по их щекам и, если бы рядом не было командира Пепи, они бы громко разрыдались.
Пепи безмолвно стоял среди этого моря печали, на сердце у него было тяжело, душу охватило полное смятение. Он не любил тратить время впустую и, опасаясь, как бы семья повелителя не упустила благоприятное время для спасения, сказал:
— Царицы, мой повелитель Камос, запаситесь терпением и силами! Хотя в столь тяжелый день трудно хранить спокойствие, однако нам следует проявить мудрость и не предаваться горю. Умоляю вас памятью моего повелителя Секененры сменить слезы на терпение и собрать вещи, ибо завтра Фивы станут ненадежным местом.
Тетишери спросила:
— А тело Секененры?
— Будьте спокойны, царица. Я исполню свой долг до конца.
Царица заговорила снова:
— И куда, по вашему мнению, мы должны идти?
— Царица, Фиванское царство временно окажется в руках захватчиков, но у нас есть другая безопасная родина — Нубия. Пастухи никогда не позарятся на Нубию, ибо выжить там можно, ведя непрерывную борьбу, а они слишком изнежены. Считайте, что там вы будете в безопасности. В Нубии вы найдете поддержку нашего народа и сторонников среди наших соседей. Там вы все спокойно обдумаете, обретете надежду на новое будущее и будете стремиться к нему терпеливо и храбро до тех пор, пока Бог не озарит светом мрак этой ночи.
Камос спокойно и внимательно слушал его, затем сказал:
— Пусть семья отправляется в Нубию. Я же предпочитаю занять место во главе своей армии и разделить ее участь, будь то жизнь или смерть.
Охваченный тревогой, командир c мольбой посмотрел на принца и сказал:
— Мой повелитель, я не могу изменить вашего решения и полагаюсь на вашу мудрость. Я лишь прошу выслушать меня. Мой повелитель, продолжать битву значит напрасно растрачивать свои силы, ибо она закончится полной гибелью. Ваша смерть не поможет Египту. Ваша гибель не избавит народ от страданий. Однако нет сомнений в том, что для страны ваша смерть станет невосполнимой утратой. Все надежды на избавление зависят от вас, так что не лишайте Египет надежды, раз он лишен счастья. Изберите Напату своей конечной целью и отправляйтесь в путь! Там у вас будет время подумать, строить планы, подготовиться к обороне и сражению. Эта война закончится не так, как хочется Апофису, ибо наш народ, живший в свободе, долго не потерпит унижений. Мой повелитель, Фивы скоро обретут свободу. Ваша решимость не иссякнет, вы начнете преследовать грязных пастухов до тех пор, пока не выдворите их из страны. Я вижу грядущее чудесное время сквозь мрак и печаль сего дня. Так что не теряйте времени, будьте решительны в своей мудрости. Я указал вам истинный путь, вам остается принять свое решение.
Пепи умолк, но его глаза смотрели с мольбой. Тетишери повернулась к Камосу и тихо сказала:
— Командир говорит правду, следуй его совету.
Несчастный командир чувствовал, что забрезжила надежда, и его сердце снова возрадовалось. Но Камос лишь нахмурился и ничего не ответил. Пепи впервые в жизни решил соврать и сказал:
— Я сам вскоре прибуду к вам. Мне осталось выполнить лишь две священные обязанности: позаботиться о теле моего повелителя и проследить за укреплением стен, окружающих Фивы. Возможно, тогда нам удастся добиться приемлемых условий при сдаче города.
Царицы больше не выдержали и разрыдались. Пепи тоже еле сдерживался и продолжил:
— Мы не должны терять присутствие духа перед лицом несчастья. Мой повелитель, возьмем пример с Секененры и не забудем, что причиной нашего поражения в этой войне стали боевые колесницы. Если вы однажды столкнетесь с этим врагом, пусть колесницы станут вашим главным оружием. А теперь пора велеть рабам погрузить драгоценности из золота и оружие, которые хранятся во дворце. Их нельзя оставить врагу.
Сказав эти слова, командир Пепи удалился.
12
Вдруг дворец ожил. Во всех комнатах зажгли огни, рабы начали собирать одежду, оружие и ларцы с золотом и серебром. Под наблюдением главного распорядителя двора они в траурном безмолвии несли все это на царский корабль. Члены царской семьи сидели в крыле Камоса, храня грустное молчание, склонив головы, уставившись пред собой глазами, полными отчаяния и горя. Они сидели так, пока не вошел гофмейстер Гур.
— Мой повелитель, погрузка закончена, — тихо произнес он.
Слова гофмейстера пронзили их слух, точно стрела плоть. Их сердца забились быстрее, все рассеянно подняли головы и обменялись отчаянными и горестными взглядами. Неужели всему пришел конец? Неужели настал миг прощания? Неужели настали последние дни дворца фараонов, славных Фив и бессмертного Египта? Неужели они больше никогда не увидят обелиск Аменхотепа, храм Амона и стены со ста вратами. Неужели Фивы откажутся от них сегодня, а завтра раскроют ворота перед Апофисом, чтобы тот взошел на трон и решал вопросы жизни и смерти? Как могли командиры проиграть битву, повелители стать беженцами, а хозяева домов лишиться имущества?
Камос заметил, что никто не шевельнулся. Он безвольно встал и тихо пробормотал:
— Простимся с покоями моего отца.
Все встали и тяжелыми, неуверенными шагами направились к покоям убитого царя и благоговейно остановились перед закрытой дверью. Они не решались войти в это помещение без его разрешения и встретить там пустоту. Гур шагнул вперед и открыл дверь. Прерывисто дыша и тяжело вздыхая, они вошли. Все с нежностью и любовью смотрели на большой зал, роскошные кресла, изящные столы. Их взгляды задержались на молельне царя с красивой священной нишей, в которой стояло его скульптурное изваяние в почтительном поклоне перед богом Амоном. Присутствующие вообразили, будто царь расположился на диване, облокотившись на подушки, и, мило улыбаясь, приглашает их сесть. Они чувствовали, как его душа окутывает и обнимает всех, витая, и не удержались от скорбных и безутешных слез.
Камос понимал, что сердца окружавших его людей разрываются от горя. Он приблизился к изваянию отца, почтительно поклонился ему, поцеловал в лоб и отвернулся. К дорогому изваянию подошла Тетишери, склонилась над ним, поцеловала его в лоб, вкладывая в этот поцелуй всю боль от утраты и горя. Семья простилась с изваянием убитого повелителя и вышла, храня траурное безмолвие.
Камос заметил, что гофмейстер Гур ждет его, и спросил:
— Как вы намерены поступить, Гур?
— Повелитель, мой долг следовать за вами, словно верная собака.
Благодарный царь положил руку ему на плечо, и все пошли через залы с множеством колонн. Впереди шел командир Пепи, Камос возглавлял членов семьи, дальше следовали маленький принц и принцесса, Яхмос и Нефертари, царица Сеткимус. Строй замыкал гофмейстер Гур. Они спустились по лестнице к колоннаде, вышли в сад, где по обе стороны выстроились рабы и, держа факелы в руках, освещали им путь. Они достигли корабля и один за другим взошли на борт. Настала пора отправляться в путь, и они бросили прощальный взгляд, который растворился во мраке, опустившемся над Фивами и окутавшем город в траурные одежды. Их сердца разрывались от горя и тоски, безмолвие овладело всеми. Пепи стоял перед ними, не говоря ни слова и не осмеливаясь нарушить горестное молчание. Царь заметил его присутствие и произнес:
— Настало время прощаться.
Пепи сказал печальным, дрожащим голосом, стараясь овладеть своими чувствами:
— Мой повелитель, лучше бы я погиб первым, нежели оказался в этом положении. Пусть меня утешает то, что вы пойдете по пути Амона и славных Фив. Вижу, что действительно настал миг прощания, как вы, мой повелитель, сказали. Отправляйтесь в путь. Пусть Бог защитит вас своим милосердием и окружит вас своими заботами. Надеюсь, что доживу до того дня, когда увижу ваше возвращение так же, как ваш отъезд, и мой взор снова возрадуется при виде дорогих Фив. Прощайте, мой повелитель! Прощайте!
— Скажите до новой встречи!
— Верно! До новой встречи, мой повелитель!
Командир приблизился к своему повелителю и поцеловал ему руку, едва сдерживаясь, чтобы не оросить его благородную ладонь слезами. Затем он поцеловал руки Тетишери, царице Ахотеп, царице Сеткимус, наследному принцу Яхмосу и его сестре Нефертари. Он осторожно взял руку гофмейстера Гура, склонил голову перед всеми и, потрясенный, молча покинул корабль.
У ступеней, ведущих в сад, Пепи остановился и наблюдал, как весла коснулись воды и корабль медленно отчалил от берега. Он словно ощущал печаль людей, находившихся на его борту. Все собрались у поручней и мысленно прощались с Фивами. Затем Пепи дал волю чувствам, не сдержал слез и задрожал всем телом. Он не спускал глаз с драгоценного корабля до тех пор, пока его не проглотил мрак. Затем он глубоко вздохнул и продолжал стоять на месте, не в силах покинуть берег, и чувствовал себя столь одиноким, будто очутился в глубокой могиле. Наконец Пепи медленно отвернулся и, едва перебирая ногами, направился к дворцу, бормоча про себя: «Мой повелитель, мой повелитель, где ты? Где ты, мой повелитель? Люди Фив, как можно спокойно спать, когда над вашими головами витает смерть? Пробуждайтесь! Секененра мертв, а его семья бежала на край света, а вы спите. Вставайте! Во дворце больше нет хозяев. Фивы распрощались со своими царями, а завтра враг займет ваш трон. Как вы можете спать? За стенами затаились враги, которые несут вам унижение!»
Взяв факел, удрученный горем командир пошел по залам дворца из крыла в крыло и наконец оказался перед тронным залом, повернулся к нему и пересек порог, сказав: «Прости, мой повелитель, за то, что я вошел сюда без твоего разрешения!» При свете факела он неуверенно прошелся меж двух рядов кресел, на которых раньше сидели придворные и решали государственные дела. Он остановился у трона, распростерся ниц и поцеловал землю. Затем, опечаленный, командир встал перед ним. Мерцающий красноватый свет факела озарил его лицо. Пепи громко произнес:
— Воистину перевернута славная и бессмертная страница! Мы умрем завтра и станем самыми счастливыми людьми в этой долине, которая никогда раньше не знавала мрака. Трон, мне с печалью приходится сказать, что твой хозяин никогда не вернется к тебе, а его преемник отправился в далекую страну. Что же касается меня, я никогда не допущу, чтобы с этого места завтра произнесли слова, которые обрекут Египет на страдания. Апофис никогда не будет сидеть на этом троне. Исчезни так же, как исчез твой хозяин!
Пепи решил вызвать гвардейцев дворца, чтобы те унесли трон туда, где он определит ему место.
13
По приказу Пепи гвардейцы подняли трон и положили его на большую повозку. Командир шел впереди нее к храму Амона. Там гвардейцы подняли трон и несли его за командиром. Впереди них жрецы шли к священному залу. В священном обиталище рядом со святая святых они увидели царский паланкин, окруженный солдатами и жрецами. Гвардейцы опустили трон рядом с паланкином. Жрецы смотрели с удивлением, ибо не знали, что произошло. Пепи велел солдатам удалиться и пригласил верховного жреца. Верховный жрец куда-то ненадолго ушел, затем вернулся следом за жрецом Амона, который, хорошо понимая серьезность такого ночного визита, шел торопливо. Он протянул руку командиру и спокойно произнес:
— Добрый вечер, командир.
Голос Пепи выдал тревогу и боль:
— Вам того же, ваше священство. Можно мне поговорить с вашим священством наедине?
Жрецы услышали, что он сказал, и тут же удалились, хотя их снедали любопытство и тревога. Командир и жрец остались наедине. Когда верховный жрец заметил паланкин и трон, его охватило отчаяние. Он спросил командира:
— Как паланкин оказался здесь? Что это за паланкин и как случилось, что вы оставили поле боя среди ночи?
Пепи ответил:
— Выслушайте меня, ваше священство. Мы ничего не выиграем, если станем медлить или отнесемся к создавшемуся положению без должного внимания. Вы должны выслушать меня. Я посвящу ваше священство во все, что мне известно, затем отправлюсь выполнить свой долг. Состоялась битва, которая никогда не забудется. В ней боль и слава разделились пополам. Это неудивительно, ибо мы проиграли битву за Египет, наш царь погиб, защищая свою страну, предательская рука расчленила его священное тело, царская семья покинула Фивы. Когда проснутся жители города, они не найдут и следа от своих царей и их славы. Слушайте, ваше священство, слушайте! Уже почти полночь, и долг велит мне не мешкать. В этом паланкине тело нашего повелителя Секененры и его корона. А здесь его трон. Жрец Амона, я вручаю вам наше национальное достояние, чтобы вы могли сохранить его тело и эти реликвии в надежном месте. Теперь я оставляю вас в руках Бога, жрец Фив, которые никогда не погибнут, хотя и будут стонать от нанесенных им ран!
Жрец прервал бы командира, ибо пришел в большое волнение, но Пепи не дал ему такой возможности. Поэтому жрец хранил гробовое молчание и продолжал стоять неподвижно, будто лишился всяких чувств. Командир чувствовал оцепенение и боль, охватившие этого человека, и продолжил:
— Ваше священство, оставляю вас на попечение Бога и не сомневаюсь, что вы полностью выполните свой долг к этим священным, драгоценным останкам.
Командир повернулся к паланкину, почтительно склонил голову, поцеловал его покрывало и отдал воинскую честь. Затем он попятился назад, слезы застилали ему глаза. Дойдя до лестницы, ведущей в Колонный зал, он повернулся к паланкину спиной и быстро вышел из храма, смотря прямо перед собой. Он отдавал себе отчет, что пора вернуться к своим офицерам и солдатам, чтобы начать, как он им обещал, последнее наступление.
Хотя Пепи был озабочен выполнением последнего долга, одно не давало ему покоя. Как только он вспоминал об этом, ему становилось тяжело на сердце. Командир думал о семье — Эбане, своей жене, маленьком сыне Яхмосе и всех родственниках, живших вместе на окраине Фив, где находился его земельный надел. За ночь Пепи не успел бы к своей семье, а если бы поехал к ней, то не смог бы выполнить обещания, данного солдатам, и те подумали бы, что он бежал. Командир встретит смерть, не увидев в последний раз лиц Эбаны и Яхмоса. Еще одно обстоятельство не давало покоя его душе. Он печально спросил себя: «Оставят ли пастухи землевладельца на его земле и сохранят ли богатство за теми, кто его имели? Завтра хозяев выгонят либо на улицу, либо истребят в их домах, а за Эбану и Яхмоса никто не заступится». Пепи совсем пал духом, сердце приказывало вернуться к своему дому и семье. Но сердце велело ему одно, а стальная воля — другое. Командир печально вздохнул и решил: «Напишу жене письмо». Сидя в колеснице, он распрямил лист, стал писать Эбане, передавал ей приветы, вручал ее заботам Бога, молился за безопасность и счастье сына. Затем он сообщил ей о последних событиях, о том, что произошло с армией и царем, о том, что царская семья скрылась в неизвестном направлении (он по своим соображениям не упомянул Нубию), советовал взять больше вещей и бежать вместе с сыном, членами семьи, соседями, зависевшими от нее, за пределы Фив или в один из бедняцких кварталов, где легко смешаться с простым людом и разделить с ним общую судьбу. Пепи благословил жену и сына и в конце написал: «Эбана, мы обязательно встретимся либо здесь, либо в царстве мертвых». Он передал письмо вознице, велел доставить его в дом семьи и вручить жене. Затем он прыгнул в колесницу, последний раз оглянулся на храм Амона и мирно спавший город, окутанный темнотой. Из глубин его сердца вырвался крик: «Господь Бог, храни свой город! Фивы, прощайте!»
Командир отпустил лошадей, и они понеслись по дороге, ведущей к северу.
14
Командир прибыл в лагерь после полуночи. Уставшие воины спали. Он направился к своей палатке и от изнеможения бросился на походную кровать, прошептав: «Отдохну немного и встречу смерть, достойную командира армии Секененры». Он закрыл глаза. Однако непрошеные мысли толстым занавесом опустились между ним и сном. Перед ним являлись призраки ужасов, с которыми он сталкивался предыдущим днем и ночью. Пепи видел лучников, преградивших путь колесницам, которые устремились на них словно стихийное наводнение, своего повелителя, пронзенного копьем, Камоса, пришедшего в ярость, затем впавшего в уныние, пока Тетишери стонала от раны, нанесенной ее сердцу.
Прощание с Эбаной и маленьким Яхмосом. Облака, собиравшиеся над южным горизонтом. Все эти мысли слились в единую волну, которая поднялась и разбилась. Но Пепи уже ничего не чувствовал, ибо сон сомкнул его глаза.
Командир проснулся на рассвете при звуках горна и встал. Он почувствовал странный прилив энергии, несмотря на усталость, слабость и недостаток сна. Пепи вышел из палатки и в утренней тишине услышал, что лагерь пробуждается, и увидел своих людей, похожих на призраки. Они приближались к нему. По голосам командир узнал своих верных и храбрых офицеров и тепло приветствовал их.
Пока Пепи отсутствовал, они успели многое сделать. Один из них сообщил:
— Мы отправили тяжело и легко раненных на лодках в Фивы, чтобы они могли влиться в ряды защитников города. Фивы сумеют хорошо защитить себя, они окажутся в выгодном положении.
Другой офицер сказал ему с горячностью:
— Мы, жители Юга, мало считаемся с жизнью в трудные времена. Среди нас нет никого, кто бы не жаждал ринуться в решающую битву.
Третий воскликнул:
— Мы горим желанием встретить мученическую смерть в этом священном месте, орошенном невинной кровью нашего царя!
Пепи тепло похвалил их и рассказал о том, что случилось в Фивах, о том, что город покинули члены царской семьи, но не сообщил, куда они направились. Эта новость произвела глубокое впечатление на офицеров, и они громко выразили свое одобрение царю Камосу, наследному принцу Яхмосу и святой матери Тетишери.
Тени ночи рассеялись, на горизонте вспыхнул яркий свет. Солдаты выстроились, готовясь к смертельной битве. Царь пастухов Апофис хорошо понимал, какое настроение царит в египетской армии после смерти Секененры, и собирался нанести ей молниеносный удар такими силами, которые лишили бы ее возможности оказать малейшее сопротивление. Перед его войском выстроились боевые колесницы и лучники, с тем чтобы одним ударом покончить с малочисленной армией, преградившей им путь. Когда обе армии увидели друг друга, битва началась, бушующее море слилось со спокойным потоком, армия Апофиса устремилась на египтян, и начало вращаться колесо смерти. Египтяне проявляли чудеса храбрости и героизма, но быстро погибали один за другим. Один за другим на землю падали герои, их безжалостно топтали кони. Пепи казалось, что битва скоро закончится, когда он увидел, как много командиров и офицеров встречали смерть. Видя, что от правого крыла его армии почти ничего не осталось, а враг вот-вот окружит египтян, Пепи решил отдать свою жизнь как можно дороже. Он наблюдал за армией врага и следил за тем местом, где знамя гиксосов
[111] развевалось над Апофисом и его высшими командирами, среди которых, несомненно, находился убийца Секененры. Он избрал это место своей целью, приказал гвардии следовать за ним и прикрыть его с тыла. Затем командир приказал возничим устремиться вперед. Этот шаг оказался неожиданным для врага, который никогда не забывал о своей безопасности. Колесница Пепи обходила всех, кто пытался преградить ей путь, неуклонно приближаясь к Апофису. Почти все догадались о том, что задумал командир. Затем они вскрикнули от страха и гнева. Пепи вместе со своими воинами бился так, будто безумно желал смерти. Смерть относилась к командиру благосклонно так долго, что он прорвался к линии, за которой находились Апофис и его командиры. Пепи оказался в окружении всадников и заметил, что сотни солдат встали между его колесницей и царем. Командир сражался отчаянно, с его лица, шеи и ног текла кровь, врагу уже показалось, будто он бессмертен, и стрелы, копья, мечи и кинжалы устремились к нему, словно голодные псы. Пепи пал так же, как Секененра, окруженный своими доблестными гвардейцами. Все были потрясены этой лихой атакой. Сражение на поле боя закончилось, египтяне испускали последние вздохи. Апофис приказал своим воинам отойти от тела противника, который прорвался к нему сквозь замкнутый строй, вышел из колесницы, приблизился к Пепи, остановился у его головы и уставился на стрелы, торчавшие из тела командира, точно иголки ежа. Апофис покачал своей крупной головой, улыбнулся и сказал своему окружению:
— Он погиб смертью, достойной нашего самого храброго воина!
15
Фивы проснулись как обычно, не зная, что парки записали в книге судьбы города. Тут появились крестьяне, неся раненых с поля боя. Люди собрались вокруг них и стали задавать вопрос за вопросом. Крестьяне рассказали правду о том, что произошло. Они поведали, что армия разбита, фараон погиб и его семья бежала в неведомое место. Люди были потрясены, стали тревожно переглядываться, точно не веря услышанному. Эта весть распространялась по городу, вызывая страх и волнение. Люди покидали дома, шли к дорогам и рынкам, собирались в правительственных зданиях, в храме Амона, чтобы уйти от толпы и выслушать, что скажут лица, занимающие высокое положение. Знать и богачи, владевшие землями и роскошными домами, в ужасе бросали все и толпами устремлялись к югу или скрывались в бедных кварталах.
Пришли новые печальные известия о том, что пали Гесии и Шанхур, а кочевники приближаются к Фивам, чтобы взять их в окружение и принудить к сдаче. Министры, священники и тридцать судей собрались в Колонном зале храма Амона на совет, отдавая себе отчет в серьезности положения, чувствуя, что конец близок и сопротивление бесполезно. Тем не менее они не желали сдавать город без условий и ограничений, веря, что смогут продержаться за неприступными стенами до тех пор, пока враг не даст обещания пощадить граждан. Только Усер-Амон не был согласен с ними. Он пришел в сильное волнение и не мог сдержать гнева:
— Не сдавайте Фив! Будем сопротивляться до конца, как наш повелитель Секененра. Стены Фив неприступны, но если возникнет угроза захвата города, тогда разрушим и подожжем его! Пусть Апофису ничего не достанется!
Усер-Амон пришел в сильный гнев и размахивал руками, точно на проповеди, но его замысел никому не понравился. Заговорил Нофер-Амон:
— Мы отвечаем за жизни обитателей Фив! Уничтожение города приведет к тому, что тысячи людей останутся без крова, еды и будут влачить жалкое существование. Хотя мы проиграли сражение, давайте сведем к минимуму ущерб и разрушения.
Тем временем пастухи неистово штурмовали северную стену, гвардейцы стойко и храбро отражали их натиск. Обе стороны несли потери. Министры осмотрели стену и убедились, что ее можно оборонять. Однако вражеский флот, получив подкрепление, напал на египетские корабли. Началась жестокая битва, которая завершилась разгромом египетского флота. Флот пастухов блокировал западную часть Фив, на берег высадилось множество солдат и полностью окружили город. Лица, занимающие высокое положение, не видели иного выхода, как сдаться ради того, чтобы избежать катастрофы. Они послали офицера объявить о прекращении сражения и найти посланника, который обсудит условия сдачи города. Офицер вернулся, получив согласие на перемирие, и сражение у стен города прекратилось. Посланником избрали Нофер-Амона, верховного жреца Амона.
Нофер-Амон неохотно согласился с таким поручением, сел в свою повозку и, опустив голову, с тяжелым сердцем направился к лагерю пастухов. На своем пути он проезжал мимо подразделений врага. Солдаты смотрели на посланника надменно и с вызовом. Нофер-Амона ждали офицеры, перед ними стоял короткий дюжий человек с густой бородой, в котором он сразу узнал посланника Хаяна, предвестника несчастья. Своим появлением он принес гибель Фивам. Нофер-Амон заметил злорадные лица встречающих. Хаян был самонадеян, его так и распирало от гордости. Он краем глаза взглянул на Нофер-Амона и, не поздоровавшись, спросил:
— Теперь вы видите, священник, к чему привело упорство вашего принца? Вы заводитесь и произносите хорошие речи, но не умеете сражаться в войне. Ваше царство обречено — оно исчезнет навсегда!
Гофмейстер не стал дожидаться ответа и направился к палатке царя. Нофер-Амон заметил, что эта палатка напоминает шатер. Она была скрыта занавесками, перед ней выстроились белые рослые гвардейцы с длинными бородами.
Дали разрешение войти, и Нофер-Амон увидел перед собой царя Апофиса в одеждах фараона с двойной короной Египта на голове. Внешний вид царя вселял ужас, его глаза смотрели проницательно, лицо сияло белизной с красноватым оттенком. У него была красивая, свободно ниспадавшая борода. Царь сидел в окружении командиров, гофмейстеров и советников. Священнослужитель почтительно поклонился царю и безмолвно стоял, ожидая, что тот скажет. Апофис насмешливо произнес:
— Милости просим, жрец Амона. Отныне на земле Египта этому богу больше никогда не станут поклоняться!
Посланник сделал вид, будто не расслышал этих слов, и хранил молчание. Царь громко рассмеялся и с презрением спросил:
— Ты пришел сюда диктовать нам свои условия?
Нофер-Амон ответил:
— Нет, царь. Я пришел выслушать ваши условия, как полагается вождю народа, проигравшему битву и потерявшему своего повелителя. У меня лишь одна просьба — не проливать кровь людей, которые взялись за оружие, чтобы защитить свое существование.
Царь покачал своей крупной головой и ответил:
— Будет лучше, священник, если ты выслушаешь меня внимательно. Законы гиксосов не меняются с течением времени и сменой поколений. Их определяет война и сила. Мы белого цвета, вы смуглого. Мы хозяева, вы крестьяне. Трон, власть и сила за нами. Поэтому скажи своему народу: «Тот, кто станет работать на нашей земле, как подобает рабу, получит вознаграждение, а тот, кто не сможет пойти на это, пусть бежит куда хочет или отправляется в другие земли». Скажи им: «Я пролью кровь всех жителей, если пострадает хотя бы один из моих солдат». А если вы хотите, чтобы я не проливал кровь людей, кроме семьи Секененры, пусть ваши хозяева приползут ко мне на коленях с ключами от Фив в руках. Что же касается вас, священников, возвращайтесь в свой храм и навсегда закройте его двери за собой!
Апофис пожелал на этом завершить разговор и встал, давая понять, что встреча закончена. Посланник поклонился еще раз и удалился.
Фивы до дна испили горькую чашу. Министры и судьи взяли ключи города, отправились к Апофису и встали на колени перед ним. Фивы открыли свои ворота, и Апофис вступил в город во главе своей победоносной захватнической армии.
В тот день Апофис заявил, что любому дозволено проливать кровь членов семьи правителя Фив, и приказал закрыть границы между Египтом и Нубией. Затем он отметил победу большим пиром, в котором участвовало все его войско. Царь разделил земли и богатство между своими людьми. Юг вместе с землей и жителями оказался в его руках.
Десять лет спустя
1
Мрачные облака рассеялись, забрезжил сонный голубой рассвет. На поверхности Нила отразились первые лучи света. Вниз по реке плыла группа кораблей, головной из которых направлялся к северу, в сторону Египта. Моряками служили нубийцы, два командира, расположившиеся в передней каюте, были египтянами, о чем свидетельствовал смуглый цвет и черты лица. Первый из них был совсем молодым, ему едва исполнилось двадцать лет. Природа наделила его высоким ростом, стройной грациозной фигурой и широкой мускулистой грудью. Овальное лицо излучало энергию и изысканную красоту молодости. Темные блестящие и добрые глаза, прямой точеный нос придавали лицу мужественность. Природа в равной степени одарила его величественностью и красотой. Он был облачен в платье богатого купца, гибкое тело окутывала дорогая накидка, идеально облегавшая фигуру. Спутнику юноши перевалило за шестьдесят лет. У него был высокий, прямой выступающий лоб, худое короткое тело. Его поза говорила о спокойствии, которое часто свойственно людям преклонного возраста. Глаза смотрели проницательно. Казалось, что юноша интересует его больше, нежели товар, который вез корабль. Когда флотилия приблизилась к границе, оба вышли из каюты и прошли к носу корабля. Они нежно и с тоской вглядывались в даль. С волнением и настороженностью юноша спросил:
— Как вы думаете, мы вступим на землю Египта? Скажите, что мы сейчас будем делать?
Старик ответил:
— Мы причалим к этому берегу, наш посланец на лодке отправится вдоль границы и выяснит, как действовать дальше. Золото поможет ему справиться с этой задачей.
— Все зависит от их склонности брать взятки и жадности до золота. Но если наши ожидания не оправдаются…
Юноша умолк, в его взгляде отразилась тревога. Старик возразил:
— Если от них ждать одних неприятностей, то подобные ожидания могут оправдаться!
Корабль направился к берегу, остальные последовали за ним и встали на якоря. Юноша решил выступить в роли представителя флотилии торговых кораблей. Он был так взволнован и полон решимости, что старик не стал останавливать его. Молодой человек пересел в лодку, его крепкие руки взялись за весла, лодка начала удаляться от кораблей в сторону границы. Старик провожал его взглядом и горячо молился: «Всевышний Бог Амон, твой юный сын ищет путь в твою страну из благородных побуждений: чтобы укрепить твою власть, возвысить твое имя и освободить твоих сыновей. Помоги ему, Господи! Даруй ему победу и храни его!»
Юноша крепко налегал на весла, сидя спиной к своей цели, и временами оглядывался назад. Его сердце ныло от тоски. По мере того как он приближался к цели, сам воздух родной страны, казалось, обретал новую свежесть, и его сердце начинало биться все сильнее. Оглянувшись, юноша заметил небольшой военный корабль, приближавшийся вверх по течению, чтобы перерезать ему путь. Юноша догадался, что охрана границы обнаружила его и решила выяснить, что происходит. Юноша повернул лодку к кораблю и услышал громкий голос офицера, стоявшего на палубе:
— Парень, кто тебе разрешил приближаться к запретной территории?
Юноша молчал, пока его лодка не оказалась в подветренной стороне корабля. Он почтительно и робко приветствовал бородатого офицера и, притворившись несмышленым, сказал:
— Да благословит вас бог Сет, доблестный офицер! Я плыву в вашу славную страну с дорогим товаром на борту!
Офицер сердито уставился на него и грубо сказал:
— Проваливай отсюда, глупец! Разве тебе неизвестно, что этот путь закрыт уже десять лет?
Красавец-юноша состроил удивленное лицо и ответил:
— Что же тогда делать человеку вроде меня, набравшему дорогой товар для божественного фараона Египта и людей его царства? Вы не позволите мне встретиться с благородным губернатором острова Бига?
Офицер ответил столь же грубо:
— Тебе лучше вернуться туда, откуда ты прибыл, если хочешь жить. А то тебя похоронят на том месте, где ты стоишь и болтаешь.
Юноша достал из-под накидки кошелек, набитый кусками золота, бросил его к ногам офицера и сказал:
— В нашей стране мы поклоняемся своим богам, преподнося им подарки. Прими мои подарки и удовлетвори мою просьбу!
Офицер поднял кошелек, открыл его и стал перебирать куски золота. Он захлопал глазами, изумленно смотрел то на золото, то на юношу. Затем он потряс головой, будто не в силах скрыть гнева на юношу, который вынудил его изменить свое решение, и тихо сказал:
— Въезд в Египет запрещен. Однако твои благородные намерения заслуживают того, чтобы сделать для тебя исключение. Следуй за мной, мы отправимся к губернатору острова.
Юноша пришел в восторг, снова сел, изо всех сил налег на весла, и его лодка понеслась вниз по течению к берегам острова Бига следом за кораблем. Корабль встал на якорь, лодка причалила, и юноша осторожно и с трепетом ступил на землю, будто коснулся чего-то чистого и священного. Офицер снова обратился к нему:
— Следуй за мной!
Юноша пошел за ним. Сколько бы он ни пытался сдержать свои чувства, ему это не удалось. У него закружилась голова, сердце, громко стучавшее, полнилось нежностью. Чувства возобладали над ним. Он ступил на землю Египта! Египта, о котором у него сохранились самые прекрасные воспоминания, самые очаровательные образы. Там он провел замечательное детство. Ему захотелось остаться одному, наполнить свою грудь нежным дуновением ветра, потереть щеки родной землей! Он прибыл в Египет!
Он пробудился от мечтаний, услышав незнакомый голос офицера, который уже третий раз повторял:
— Следуй за мной!
Юноша посмотрел перед собой и увидел дворец губернатора острова. Офицер вошел, юноша последовал за ним, оставляя без внимания пронзительные взгляды, которые сверлили его со всех сторон.
2
Юноше разрешили войти в зал приемов. Офицер прошел туда первым. Здесь губернатор принимал тех, чьи жалобы решались, исходя из количества предлагаемого золота. Юноша бросил взгляд на губернатора, когда проходил мимо него. У того была густая длинная борода, проницательные миндалевидные глаза, крупный ястребиный нос, напоминавший парус лодки. Губернатор настороженно и подозрительно разглядывал гостя. Юноша поклонился с большим почтением и с изысканной вежливостью произнес:
— Да благословит Бог ваше утро, почтенный губернатор!
Офицер рассказал губернатору о появлении странного юноши, швырявшегося кошельками, набитыми кусками сверкающего золота, и ведшего за собой корабли с подарками, чтобы познакомиться с лицами, занимавшими в Египте высокие положения. Губернатор в ответ на приветствие взмахнул рукой и спросил неприветливым низким голосом:
— Кто ты и из какой страны прибыл?
— Мой повелитель, меня зовут Исфинис. Я прибыл из Напаты, что находится в Нубии.
Губернатор с сомнением покачал головой и заключил:
— Однако я вижу, что ты не нубиец и, если глаза не обманывают меня, ты крестьянин.
При этих словах, которые губернатор произнес не без презрения, сердце Исфиниса сильно застучало. Юноша ответил:
— Мой повелитель, вы хорошо разбираетесь в людях и не обманулись. Я действительно… крестьянин из египетской семьи, которая прибыла в Нубию много поколений назад и долгое время занималась торговлей, пока не закрыли границу между Египтом и Нубией, после чего мы остались без средств к существованию.
— И чего же ты хочешь?
— Со мной прибыла флотилия кораблей, груженных добротными вещами, сделанными в этой стране. Я хочу воспользоваться ими, чтобы познакомиться с влиятельными людьми в Египте и заручиться их покровительством.
Губернатор играл своей бородой и смотрел на юношу пристально и с сомнением.
— Ты хочешь сказать, что проделал столь нелегкое путешествие, чтобы всего лишь «познакомиться с влиятельными людьми и заручиться их покровительством»? — Благородный губернатор, мы живем на земле, где множество диких зверей и сокровищ, где жизнь крайне сурова, где голод и засуха костлявыми руками взяли жителей за горло. Мы искусно обрабатываем золото, однако нам с трудом удается обрести чашу зерна. Если ваши светлости примут мои подарки и позволят мне вести торговлю между югом и севером, ваши рынки наполнятся драгоценными камнями и животными. Тогда я оберну источник несчастий своего народа ему во благо.
Губернатор громко рассмеялся и сказал:
— Я вижу, твоя голова полна мечтаний! Не лучше ли тебе начать просить милостыню! Но нет, тебе хочется, чтобы твои усилия благословили царские повеления! Пусть будет так. Глупцов на свете хоть отбавляй. Все же скажи мне, парень, какие «сокровища» везут твои корабли?
Исфинис почтительно склонил голову и завел разговор как ловкий торговец, умеющий соблазнять:
— Не изволит ли мой повелитель сам подняться на мои корабли и выбрать драгоценные камни, какие ему придутся по душе?
В душе губернатора пробуждалась алчность и ненасытность. Предложение ему очень понравилось, он встал, чтобы пойти вместе с юношей, и сказал:
— Я удостою тебя этой чести.
Исфинис первым взошел на военный корабль. Когда все добрались до флотилии юноши, он показал браслеты, драгоценности и сказочных животных. Губернатор рассматривал эти сокровища с жадным блеском в глазах. Исфинис подарил ему скипетр из слоновой кости с ручкой из чистого золота, украшенной изумрудами и рубинами. Губернатор принял подарок, не вымолвив ни слова благодарности. Не спрашивая разрешения, он забрал дорогие браслеты, кольца, серьги и уже подумал про себя: «Почему бы и не впустить этого торговца в Египет? Это ведь не торговля. От столь очаровательных подарков фараон никоим образом не откажется. Если после этого фараон удовлетворит желание их владельца, он получит то, ради чего явился сюда, а если откажет, то я тут ни при чем. Мне представилась изумительная возможность, которую нельзя упустить. Ханзар, губернатор Юга, любит подобные драгоценные вещицы. Почему бы мне не отправить к нему этого торговца? Фараон не забудет, что именно я подарил ему эти сокровища, и даст мне возможность чаще общаться с ним. Если однажды ему захочется назначить губернатора в одной из крупных провинций, он точно вспомнит обо мне».
Повернувшись к Исфинису, он сказал:
— Я дам тебе возможность испытать счастье. Отправляйся прямо в Фивы. Вот письмо губернатору Юга. Доставь его по назначению, тогда ты сможешь показать свои сокровища и просить его содействовать осуществлению твоего желания.
Исфинис был вне себя от радости, в благодарность он поклонился губернатору и испытал большое облегчение.
3
Как только губернатор покинул корабль, Исфинис первым делом сказал старику, сопровождавшему его:
— Отныне здесь нет ни Яхмоса, ни Гура. Здесь остались только торговец Исфинис и Лату, его доверенное лицо.
Старик улыбнулся и ответил:
— Ты говоришь мудро, торговец Исфинис!
Подняли паруса, заработали весла, флотилия поплыла вниз по течению к границам Египта и пересекла их безо всяких препятствий. Исфинис и Лату расположились на носовой части корабля и испытывали то же щемящее чувство. Их глаза уже застилали слезы.
— Хорошее начало! — произнес Исфинис.
— Воистину, — ответил Лату. — Поблагодарим бога Амона молитвой, попросим его направлять наши шаги и увенчать наши усилия окончательной победой!
Они опустились на колени на борту корабля и молились
вместе.
— Если нам удастся восстановить связи с Нубией до прежнего уровня, — сказал Исфинис, встав с колен, — то мы выиграем половину битвы. Мы подарим им золото, но заберем у них людей!
— Будь уверен, они не устоят перед золотом. Разве перед нами не открылись границы, которые были закрыты десять лет? Пастухи крайне заносчивы, надменны, очень храбры, но ленивы и предпочитают, чтобы другие работали на них. Они считают ниже своего достоинства заниматься торговлей и не вынесут жизни в Нубии. Так что они смогут добраться до золота Нубии лишь посредством таких торговцев, как ты, Исфинис, который добровольно привезет его в Египет.
Они продолжали разговор, всматриваясь в неведомое, ожидавшее их за далеким горизонтом, который сливался с долиной Нила. Они смотрели на изумрудную траву, покрывшую селения и деревни, на птиц, круживших в небе, быков и крупный рогатый скот, который довольно пасся внизу. То здесь, то там работали обнаженные крестьяне, не отрывая взгляда от земли. В груди юноши проснулись любовь и гнев:
— Видишь, солдаты Аменхотепа стали рабами и гнут спины на глупых, надменных белых с грязными бородами!
Флотилия плыла дальше мимо Омбоса, Салсалиса, Маганы, Нехеба, Тирта. До Фив остался час пути.
— Где мы причалим? — спросил Исфинис.
Лату улыбнулся и ответил:
— К югу от Фив, где расположены кварталы бедняков и рыбаков. Там живут чистокровные египтяне.
Эти слова убедили юношу. Посмотрев вдаль, он заметил, что к ним приближается судно. Юноша следил за ним и вскоре разглядел его очертания. Это было огромное, красиво построенное судно с изящной каютой посреди палубы. Борта судна украшали изысканные произведения искусства. Юноше показалось, будто он уже видел нечто подобное. Лату локтем коснулся его руки и пробормотал:
— Смотри.
Молодой человек посмотрел и торопливо произнес:
— Боже мой, это ведь царское судно!.. — И тут же добавил:
— Я не вижу гвардейцев, так что, видно, на нем плывет чиновник дворца или принц, пожелавший уединиться.
Судно уже приблизилось и почти догнало флотилию, непривычный вид которой вызвал любопытство пассажиров на борту. Из каюты вышла женщина, за ней высыпала стайка юных рабынь. Женщина шла перед ними неторопливо и ослепляла глаза, словно яркие лучи света. У нее были светлые волосы, легкий ветерок играл с каймой белого платья. Красивые золотистые косы женщины развевались на ветру. Юноша и старик не сомневались, что это принцесса из Фив, которая пытается найти уединение среди легкого ветерка, гулявшего над рекой.
Оба заметили, что женщина указывает пальцем на один из кораблей, плывших позади них. Ее уста раскрылись от удивления, оно тут же отразилось на милых личиках юных рабынь. Исфинис оглянулся, увидел одного из пигмеев, которого взял с собой, и догадался о причине удивления красивой принцессы. Юноша взглянул на Лату и заметил, что один из подарков удостоился заслуженного внимания, но Лату с мрачным лицом сурово взирал на женщину. Красавица позвала моряка, тот подошел к борту и тоном, не терпящим возражений, крикнул Лату:
— Нубиец, остановись и встань на якорь!
Исфинис подчинился и приказал флотилии остановиться. Царское судно приблизилось к кораблю, на котором находился пигмей. Моряк спросил:
— Что это за корабли?
— Торговые корабли, господин.
Моряк рукой указал на пигмея, который намеревался скрыться в трюме корабля, и спросил:
— Эта тварь опасна?
— Никак нет, господин!
— Ее царское величество желает ближе взглянуть на эту тварь.
Лату прошептал:
— Это титул дочери фараона.
Исфинис почтительно склонил голову и ответил:
— Слушаюсь с превеликим удовольствием!
Юноша быстро сел в лодку и подплыл к другому кораблю, поднялся на палубу, чтобы встретить принцессу, которая вместе со своей свитой приближалась на лодке. Все поднялись на корабль во главе с принцессой. Юноша поклонился ей, выказал почтение и притворился смущенным. Заикаясь, он пробормотал:
— Вы оказали нашим кораблям огромную честь, ваше высочество!
Затем юноша поднял голову и с близкого расстояния взглянул на нее. Он увидел лицо, воплощавшее красоту и гордость. Оно вызывало восхищение и уважение. Юноша увидел голубые глаза, в которых отражалось высокомерие и смелость.
Принцесса не ответила на его приветствие и осматривалась вокруг себя, явно пытаясь обнаружить пигмея. Она спросила мелодичным голосом, который произвел на всех, кто его слышал, впечатление, будто звучит музыка:
— Где это чудесное создание, которое стояло здесь?
Юноша ответил:
— Оно предстанет перед вами.
Исфинис подошел к люку, ведшему в трюм корабля, и позвал:
— Золо!
Вскоре в люке показалась голова пигмея, а затем он выбрался наружу. Пигмей приблизился к своему хозяину, тот взял его за руку и отвел к принцессе и юным рабыням. Пигмей шел, выпятив грудь и откинув голову, нелепым образом выказывая свою гордость. Ростом он оказался не больше четырех ладоней. Бросалась в глаза черная кожа и кривые ноги пигмея. Исфинис приказал ему:
— Приветствуй свою госпожу, Золо!
Пигмей поклонился, и его курчавые волосы коснулись палубы. Принцесса стала увереннее и, не сводя глаз с пигмея, спросила:
— Это животное или человек?
— Человек, ваше высочество.
— А почему его нельзя считать животным?
— У него есть свой язык и религия.
— Поразительно! Много ли найдется таких, как он?
— Много, моя госпожа. Он один из многочисленного народа, который состоит из мужчин, женщин и детей. У них есть царь и отравленные стрелы, которыми они убивают животных и непрошенных гостей. Однако народ Золо быстро привязывается к чужим людям. Пигмеи искренне любят тех, кого считают друзьями, и следуют за ними точно верные псы.
Удивляясь, принцесса качала головой, увенчанной золотистыми косами, ее уста раскрылись, и все увидели перламутровые ровные зубы. Она спросила:
— А где живет народ Золо?
— В глубинах лесов Нубии, где божественный Нил берет свои истоки.
— Велите ему поговорить со мной, если это возможно.
— Он не знает нашего языка. Золо понимает лишь несколько приказаний. Однако он сможет поприветствовать мою повелительницу на своем языке.
Исфинис обратился к пигмею:
— Призови благословение на голову нашей повелительницы.
Крупная голова пигмея затряслась, будто он весь дрожал. Затем он произнес странные слова голосом, больше похожим на мычание скота. Принцесса не удержалась от милого смеха. Она сказала:
— Право, он очень странный. Но он уродлив. Я бы не обрадовалась, если бы приобрела его.
Юноша казался удрученным и заговорил с бойкостью хитрого торговца:
— Моя госпожа, Золо не самое лучшее, что я привез с собой. У меня есть сокровища, которые пленяют душу и покоряют сердце!
Она с презрением перевела взгляд с Золо на хвастливого торговца и впервые внимательно взглянула на него. Перед ней стоял высокий юноша в цвете молодости, и она не могла поверить, что так может выглядеть обычный торговец. Принцесса спросила:
— У тебя и вправду найдется то, что придется мне по душе?
— Ну, конечно, моя госпожа.
— Тогда покажи мне что-нибудь… из твоих товаров.
Исфинис хлопнул в ладони, к нему подошел раб, и юноша тихо сказал ему несколько слов. Тот удалился и вернулся, неся вместе с другим рабом ларец из слоновой кости. Рабы поставили ларец перед принцессой, открыли его и отошли в сторону. Принцесса заглянула в ларец, юные рабыни вытянули шеи и увидели ослепительный жемчуг, серьги и браслеты. Принцесса оценила все это опытным взглядом, протянула свою нежную гибкую руку и взяла ожерелье несравненной простоты и совершенства: на цепочке из чистого золота висело изумрудное сердце. Она взяла сердце пальцами и пробормотала:
— Откуда у вас это сокровище? В Египте не найдется ничего подобного!
Юноша гордо ответил:
— Это самое знаменитое из сокровищ Нубии!
Принцесса пробормотала:
— Нубия… страна Золо. Как прекрасно это ожерелье!
Исфинис улыбнулся и, внимательно разглядывая ее пальцы, сказал:
— Раз это ожерелье привлекло внимание вашего высочества, ему уже не место в ларце.
Принцесса ответила без смущения:
— Ты прав. Но у меня с собой нет денег, чтобы расплатиться за него. Ты держишь путь в Фивы?
Исфинис ответил:
— Да, моя госпожа.
Она предложила:
— Тебе придется явиться во дворец, там я расплачусь с тобой.
Юноша почтительно поклонился, принцесса бросила прощальный взгляд на Золо, повернулась и стала удаляться. Глаза юноши следили за гибким и тонким станом принцессы, пока та не скрылась за бортом корабля. Тут он пришел в себя и вернулся на корабль, где его с нетерпением ждал Лату. Исфинис не успел вымолвить слова, как старик спросил:
— Какие новости?
Исфинис коротко рассказал, что говорила принцесса, затем улыбнулся и спросил:
— Ты думаешь, что она и вправду дочь Апофиса?
Лату сердито ответил:
— Она дьявол, дочь сатаны!
Грубые слова и сердитые взгляды Лату вывели юношу из мечтательности. Он осознал, что принцесса, вызвавшая его восхищение, — дочь человека, унизившего его народ и убившего его дедушку. А он в ее присутствии не почувствовал законной ненависти. Исфинис был недоволен собой и опасался, что рассказал о принцессе, выдав голосом свое восхищение, что причинило боль старику. Юноша подумал про себя: «Мне следует быть достойным цели, ради которой я прибыл сюда!» Поэтому он перестал следить за лодкой принцессы и уставился на горизонт, пытаясь внушить ненависть к ней и твердя, что она та сила, которой следует всячески сопротивляться. Она навсегда исчезнет из его жизни, однако… Боже милостивый, красота принцессы очаровала его и сестру, и тот, кто имел несчастье видеть ее, уже не мог вычеркнуть из своей памяти эту красоту.
В этот миг он вспомнил Нефертари, свою юную жену с тонким станом, смуглым лицом и очаровательными черными глазами. Ему хватило сил тихо произнести:
— Как непохожи эти две прелестные девушки!
4
Показалась южная стена Фив с великолепными воротами, за ней возвышались храмы и обелиски. Воплощение великолепия, от которого нельзя было отвести глаза. Два спутника с нежностью и печалью смотрели на этот город.
— Пусть Бог дарует вам жизнь, славные Фивы! — произнес Лату.
— Наконец-то я после долгого изгнания вижу Фивы! — откликнулся Исфинис.
Головной корабль направился к берегу, остальные следовали за ним с убранными парусами и поднятыми веслами. Флотилия скользила среди великого множества рыбацких лодок, наполненных рыбой, часть которой еще проявляла признаки жизни. Рыбаки стояли в узкой части лодок, их медного цвета тела были обнажены, на руках играли мускулы. По телу Исфиниса растеклась опьяняющая радость, пока он смотрел на них.
— Поторопимся! Мне давно хочется поговорить с египтянином!
Стояла не очень жаркая и безветренная погода, небо сверкало чистой голубизной, лучи восходящего солнца купались в водах Нила, заливали берега, поля и города. Лату и Исфинис сошли на берег, закутавшись в накидки и надев египетские головные уборы, как крупные торговцы. Они шли к рыбацкому кварталу. Одни рыбаки группами стояли на берегу, держа веревки сетей, которые с лодок опустили в глубокий Нил, и пели песни и гимны. Другие наполняли повозки рыбой и гнали запряженных волов в сторону рынков. Удаляясь от берега, юноша и старик увидели маленькие и средней величины глинобитные хижины с крышами из пальм, свидетельствовавшие о скромной и бедной жизни.
Исфинис шел от дома к дому, все его чувства напряглись, глаза широко раскрылись, он вблизи наблюдал за рыбаками, их движениями, вслушивался в их пение. Он испытывал к ним любовь и печаль и в то же время восхищение и уважение. Проходя мимо рыбаков, он сердцем испытывал к ним близость, доверие и любовь. Юноша жалел, что не может остановить их, прижать к своей груди, поцеловать смуглые лица, на которых трудная жизнь и нищета оставили след. Он вспомнил слова Тетишери, сказанные об этих людях: «Они сильны и способны долго терпеть!»
Лату, переживавший те же чувства, сказал:
— Не забывай, что эти рыбаки живут лучше крестьян. Пастухи считают ниже своего достоинства появляться в этом квартале и тем самым, вопреки своему желанию, избавляют рыбаков от надменного поведения и злодеяний.
Юноша нахмурился от гнева и боли, но ничего не сказал. Оба торговца шли дальше, привлекая внимание гордой походкой и великолепием одежд. Исфинис заметил вблизи подростка, который приближался к ним, неся корзинку. Он был без одежды, если не считать короткую юбку на поясе. Подросток был красив лицом, высок и строен ростом.
— Лату, взгляни на того мальчика, — сказал Исфинис. — Не будь он столь молод, разве из него не получился бы прекрасный воин, ведущий колесницу в бой?
Мальчик уже поравнялся с ними. Исфинису захотелось поговорить с ним. Он в приветствии поднял руку и сказал:
— Пусть Бог дарует тебе долгую жизнь, молодой человек! Будь так добр и покажи нам место, где можно отдохнуть.
Мальчик остановился и уже собрался ответить, однако, разглядев их, закрыл рот, бросил на них странный взгляд, выражавший гнев и презрение, повернулся к ним спиной и пошел дальше. Юноша и старик удивленно переглянулись. Исфинис последовал за мальчиком и, преградив ему путь, сказал:
— Брат, почему ты не ответил и сердито отвернулся от нас?
— Не подходи ко мне, раб пастухов! — закричал мальчик, ускоряя шаг.
Исфинис был удивлен и озадачен. Лату поравнялся с ним и сказал:
— Он точно сошел с ума.
— Лату, он не сошел с ума. Но почему он назвал меня рабом пастухов?
— Действительно, смешное обвинение!
— Действительно! Как только у него хватает смелости оскорблять нас, если учесть нравы пастухов? Лату, он действительно очень смелый молодой человек. Его поведение говорит о том, что десяти лет удушающего гнета пастухов оказалось мало, чтобы вытравить гнев из душ этих благородных людей.
Оба продолжили путь, и вдруг их внимание привлек шум. Повернув головы направо, оба увидели большое здание с маленькой лестничной площадкой и с узкими проходами в верхней стене, через которые люди то входили, то выходили. Исфинис обратился к спутнику:
— Что это за здание?
Лату ответил:
— Это корчма.
— Давай взглянем на нее.
Лату улыбнулся и ответил:
— Пусть будет так.
5
Оба спутника вместе вошли в корчму и очутились в большом пространстве, огороженном высокими стенами. На потолке висела запыленная лампа. В центре стояли кувшины, окруженные одной перегородкой высотой в два локтя и другой, широкой, на которой рядами располагались глиняные чаши. Возле них сидели люди и пили. Внутри огороженного пространства стоял хозяин корчмы и наполнял чаши людей, сидевших вокруг него, или передавал их мальчику-слуге, который относил их посетителям, расположившимся по углам на полу. Едва хозяин отрывал глаза от своих чаш, как кто-то из пьющей братии отпускал в его адрес шутку или колкость, но тут же нарывался на грубость и оскорбление. Спутники огляделись вокруг себя, и юноша решил пробиться к хозяину. Он взял Лату за руку и начал проталкиваться к стене. И это ему удалось, но посетители смотрели на него с удивлением и раздражением. Чувствуя усталость, Исфинис дружелюбно обратился к хозяину корчмы:
— Добрый человек, ты не принесешь нам пару стульев?
Голос молодого человека и его необычная просьба вызвали новую волну раздражения. Не удостоив его взгляда, хозяин корчмы ответил:
— Извини, принц. Завсегдатаи моего заведения родом из тех, кому сиденьем служит матушка-земля!
Пьяницы стали смеяться над Исфинисом и его спутником. Один из них подошел к ним. Это был коротышка с грубым лицом и шеей и огромным животом. Он насмешливо поклонился и заплетающимся языком произнес:
— Господа, позвольте вместо стульев предложить вам свой живот!
Исфинис понял, что его ошибка навредила и ему и спутнику. Чтобы исправить положение, он сказал:
— Мы с благодарностью принимаем твое предложение, но как же ты будешь пить вино, если твой живот окажется занят?
Пьяницы по достоинству оценили ответ юноши, и один из них крикнул толстяку:
— Отвечай, Туна. Отвечай! Как же ты сможешь пить, если предоставишь свой живот в распоряжение этих господ?
Коротышка нахмурился и задумался. Он изумленно чесал в затылке, нижняя губа у него отвисла, словно кровавый кусок печени. Тут его налитые кровью глаза загорелись, точно он нашел удачный ответ.
— Я буду довольствоваться уже переваренным вином!
Все рассмеялись, и Исфинис, которому ответ понравился, примирительно сказал:
— Я отказываюсь от любезного приглашения и не стану злоупотреблять твоим великолепным животом, который создан не для сиденья, а для наполнения вином.
Затем Исфинис посмотрел на хозяина корчмы и сказал:
— Добрый человек, наполни три чаши, две для нас и одну для нашего остроумного друга Туны!
Хозяин наполнил чаши и подал их Исфинису. Туна схватил одну чашу и, не веря своему счастью, залпом осушил ее. Вытерев рот ладонью, он сказал Исфинису:
— Ты точно богач, благородный господин!
Улыбнувшись, Исфинис ответил:
— Благослови Бога за его дары!
Туна воскликнул:
— Судя по внешности, вы ведь египтяне!
— У тебя зоркий глаз! Разве египтянин не может быть богачом?
— Конечно, не может, если только он не пользуется милостью правителей.
В разговор вступил другой человек:
— Эти люди подражают своим хозяевам и не общаются с такими, как мы!
Лицо Исфиниса помрачнело, и он вспомнил мальчика, совсем недавно сердито крикнувшего «Раб пастухов!».
— Мы египтяне из Нубии и совсем недавно прибыли в Египет, — ответил он.
Воцарилась тишина.
Слово «Нубия» как-то странно отдалось в ушах этих людей. Они уже изрядно набрались, пьяный разговор перескакивал то на одну, то на другую тему. Собеседники никак не могли собраться с мыслями. Один из них взглянул на чаши гостей, к которым те не прикоснулись, и заплетающимся языком спросил:
— Почему вы не пьете? Да благословит вас Бог с райским вином!
— Мы пьем редко, — ответил Лату. — Но если пьем, то не спешим.
— Это правильно! — откликнулся Туна.
— К чему расставаться со счастливой жизнью? Что же до меня, то я сыт по горло работой. Я даже устал от семьи и детей. Но больше всего я устал сам от себя. Так что я ни за что не желаю отрывать чашу вина от этих губ!
Один пьяница громко захлопал Туне и восторженно потряс головой:
— Эта корчма стала убежищем для тех, кто лишился надежды, для тех, кто разносит подносы с едой, а сам остается голодным, для тех, кто ткет роскошные одежды, а сам остается голым. Для тех убитых горем и павших духом, кто играет роль шутов на пиршествах владык.
— Послушайте меня, гости из Нубии! — в разговор вступил новый собеседник. — Пьяница счастлив лишь тогда, когда его не держат ноги. Он хочет только одного — забыть обо всем. Вот меня, к примеру, каждый вечер относят в мою лачугу!
Исфинис собрался с духом. Он догадался, что находится среди самых несчастных людей на свете.
— Вы рыбаки? — спросил он.
Туна ответил:
— Мы все рыбаки.
Хозяин корчмы надменно пожал плечами и сказал, не отрываясь от своей работы:
— Кроме меня, господин. Я хозяин корчмы!
Туна грубо расхохотался, затем толстым пальцем указал на короткого, худого, слабого мужчину с широко раскрытыми блестевшими глазами:
— Ради точности скажу, что этот мужчина вор.
Исфинис с любопытством взглянул на этого человека.
Тот почувствовал себя неловко и успокоил его:
— Не волнуйтесь, господин! Я никогда не ворую в этом квартале!
— Он хочет сказать, что в этом квартале нечего красть, — пояснил Туна. — Поэтому он составляет нам компанию, как любой другой, но занимается своим искусством в пригородах Фив, где всюду водятся деньги и всем хорошо живется.
Вор уже изрядно выпил и виновато сказал:
— Я не вор, господин. Я из тех, кого ноги носят повсюду. Меня можно встретить и на востоке, и на западе. И если на моем пути окажется отбившийся от стаи гусь или цыпленок, я отнесу его в безопасное место, обычно в свою лачугу!
— И ты съедаешь его?
— Боже упаси, господин! От хорошей еды у меня возникает пищевое отравление! Я продаю его тому, кто купит.
— Разве ты не боишься стражей порядка?
— Очень боюсь, господин, ибо в этой стране воровать позволено богачам и правителям!
Туна дополнил слова вора:
— В Египте богатые обкрадывают бедных, но бедным запрещено воровать у богачей.
Говоря, Туна все время посматривал на обе чаши, наполненные вином. Он переменил тему разговора и с упреком спросил:
— Почему ваши чаши еще полны? Своей неторопливостью вы сеете смуту в головах пьющих.
Исфинис улыбнулся и дружелюбно сказал:
— Туна, они твои!
У того слюнки потекли. Туна схватил чаши толстыми руками и грозно посматривал на тех, кто сидел вокруг него. Затем он одну за другой опорожнил чаши и довольно вздохнул. Исфинис догадался, что означает грозный взгляд Туны, и заказал всем столько пива и вина, сколько они хотели. Все пили, пели и смеялись, отовсюду раздавались радостные возгласы, разговоры. Невзгоды и бедность оставили след на их лицах, но сейчас они казались счастливыми, смеялись и не думали о завтрашнем дне. Исфинис легко включился в общее веселье, хотя плохое настроение то и дело посещало его. Исфинис и Лату пробыли в корчме уже довольно долго, как вошел мужчина, на вид один из завсегдатаев, поднял руку в знак приветствия и заказал чашу пива.
Не теряя времени, он обратился ко всем:
— Они задержали госпожу Эбану и увели ее в суд.
Большинство завсегдатаев уже опьянели и не обращали на него никакого внимания. Но кто-то спросил:
— На каком основании?
— Говорят, что офицер пастухов, занимающий высокое положение, встретился Эбану на берегу Нила и захотел взять ее в качестве очередной наложницы. Она начала сопротивляться и оттолкнула его.
Раздались гневные крики.
— А что произойдет с ней на суде? — спросил Исфинис.
Мужчина удивленно взглянул на него и ответил:
— Присудят штраф, который ей не выплатить. Она окажется в безвыходном положении. Суд прикажет выпороть ее и бросить в тюрьму.
Исфинис изменился в лице. Он побледнел и обратился к мужчине:
— Вы покажете нам, как найти этот суд?
Туна непослушным языком сказал:
— Вам лучше выпить, ибо тот, кто посмеет защищать эту женщину, прогневает высокого офицера и навлечет на себя наказание, какое трудно представить!
Мужчина, принесший эту весть, спросил:
— Вы иностранец, господин?
Исфинис ответил:
— Да. И я хочу присутствовать на суде.
— Я провожу вас туда, если таково ваше желание.
Когда они вышли из корчмы, Лату наклонился к уху юноши и шепнул:
— Будь осторожен, не вмешивайся ни во что. Не забывай о благородной цели, ради которой мы прибыли сюда.
Исфинис ничего не ответил, повернулся и пошел следом за мужчиной.
6
Суд был битком набит просителями, судебными приставами и свидетелями. Зал заполнили люди всех сословий. На почетном месте расположились судьи с длинными бородами и белыми лицами. Фигурка Тами, богини правосудия, украшала грудь главного судьи. Вновь пришедшие сели рядом, и Лату шепнул Исфинису:
— Они подражают ритуалу нашей судебной системы.
Оба всматривались в лица тех, кто находился в зале, и убедились, что подавляющее большинство составляют гиксосы. Судьи вызывали обвиняемых, учиняли им короткий допрос и тут же выносили жестокие приговоры. Обнаженные жертвы с медного цвета телами и смуглыми лицами сокрушались по поводу приговоров. Настала очередь госпожи Эбаны, и судебный пристав выкрикнул:
— Госпожа Эбана!
Исфинис и Лату насторожились и увидели женщину, которая размеренным шагом приближалась к помосту. Ее походка говорила о достоинстве и печали, лицо сохранило красоту, несмотря на то что ей было почти сорок лет. За ней шел гиксос в прекрасных одеждах, отвесил почтительный поклон судье и сказал:
— Достопочтенный судья, я доверенное лицо командира Руха, на которого напала эта женщина. Меня зовут Хумм. Я буду представлять командира на этом суде.
Судья согласно кивнул, чем поразил Лату и Исфиниса. Судья задал вопрос:
— В чем твой хозяин обвиняет эту женщину?
Хумм ответил с недовольством и раздражением:
— Мой хозяин говорит, что встретил эту женщину сегодня утром и захотел ввести ее в свой гарем, но она неблагодарно отказалась и нагло отвергла его, что он посчитал оскорблением солдатской чести.
Это заявление вызвало шумное негодование в зале, люди неодобрительно перешептывались. Судья поднял жезл и указал на зал. Наступила тишина. Затем он спросил:
— Женщина, что ты на это скажешь?
Женщина хранила спокойствие, точно неверие в справедливый исход дела избавило ее от ощущения страха. Она спокойно ответила:
— Заявление этого человека ошибочно.
Судья сделал ей гневный выговор:
— Остерегайся произносить слова, которые могут задеть достоинство почтенного истца, ибо тогда твое преступление удвоится в тяжести! Расскажи, что произошло, и оставь решение за нами!
Лицо женщины покраснело от смущения, и она заговорила, не теряя спокойствия:
— Когда я шла в рыбацкий квартал, передо мной остановилась карета. Из нее вышел офицер и, не представившись, велел мне немедленно сесть в нее. Я испугалась и хотела уйти от него, но он схватил меня за руку и заявил, будто оказывает мне честь тем, что введет меня в свой гарем. Я ответила, что отвергаю его предложение, но он рассмеялся мне в лицо и заявил, что женщина обычно выражает согласие, если делает вид, будто возражает.
Судья жестом остановил ее, точно ему неприятно было слушать подробности, которые могут бросить тень на достоинство офицера. Он сказал:
— Отвечай! Ты напала на него или нет?
— Ни в коем случае, ваша честь. Я твердо отказалась от предложения офицера и пыталась вырваться из его рук, однако не оскорбила его ни действием, ни словом. Люди, живущие в том квартале, могут подтвердить мои слова.
— Ты говоришь о рыбаках?
— Да, ваша честь.
— Показания подобных людей не имеют силы в этом священном месте.
Женщина умолкла, ее взгляд говорил о недоумении и смятении. Судья спросил:
— Это все, что ты имеешь сказать?
— Да, ваша честь. И я клянусь, что не причинила ему вреда ни действием, ни словом.
— Тот, кто обвиняет тебя, занимает высокое положение. Он из гвардии фараона, и его слова остаются в силе, пока не доказано обратное.
— Как мне доказать обратное, если суд не желает выслушать показания моих свидетелей?
Судья гневно ответил:
— Рыбаки являются в это место лишь как подозреваемые!
Судья наклонился к своим коллегам, чтобы выслушать их мнение. Затем он снова сел прямо и заговорил, обращаясь к госпоже Эбане:
— Женщина, командир намеревался оказать тебе любезность, а ты ответила ему неблагодарностью. Суд предлагает выбор — либо ты внесешь пятьдесят кусков золота, либо тебе грозит три года тюрьмы с предварительной поркой.
Присутствующие внимательно выслушали приговор, и почти на всех лицах появилось выражение удовлетворения, кроме одного человека, который взволнованно, будто не в силах сдержаться, громко обратился к судье:
— Достопочтенный судья! С этой женщиной обошлись несправедливо, она невиновна! Отпустите ее! Помилуйте ее, ибо с ней поступили несправедливо!
Однако судья вышел из себя, начал сверлить заступника грозным взглядом. Тот умолк. Люди со всех сторон смотрели на него. Исфинис узнал того, кто посмел выступить, и от удивления обратился к своему спутнику:
— Это тот самый юноша, который рассердился, когда я заговорил с ним, и обвинил нас в том, будто мы рабы пастухов.
Исфинис был вне себя от гнева и испытывал боль. Он продолжил:
— Я не позволю глупому судье бросить эту женщину в тюрьму!
Встревоженный Лату сказал:
— Ты прибыл сюда с более важной целью, чем заступничество ради обиженной женщины. Смотри, как бы твои действия не обернулись против нас!
Но Исфинис не обращал внимания на своего спутника. Он ждал, пока судья не спросил женщину:
— Ты заплатишь требуемую сумму?
Тут Исфинис встал и приятным голосом любезно произнес:
— Да, господин судья!
Все повернули головы и внимательно смотрели на смелого и щедрого юношу, который в последний миг вызвался спасти женщину Эбана с удивлением глядела на него, как и юноша, который заступался за нее со слезами на глазах. Доверенное лицо командира бросило на него свирепый и угрожающий взгляд, но высокий и стройный юноша с привлекательным лицом, не обращая на него внимания, подошел к помосту, где сидели судьи, и передал им требуемую сумму штрафа.
Судья недоуменно раздумывал и задавался вопросом: «Где этот крестьянин раздобыл золото и откуда у него такая смелость?» Но ему ничего не оставалось, как обратиться к Эбане:
— Женщина, ты свободна. Пусть судьба, от которой ты едва спаслась, станет тебе уроком!
7
Они покинули суд вместе — Лату, Исфинис, госпожа Эбана и незнакомый юноша. Пока они шли, женщина взглянула на Исфиниса и тихим голосом, который тот едва расслышал, сказала:
— Господин, ваша храбрость спасла меня от подземной темницы. Поэтому я обязана считать себя вашей рабой в благодарность за ваш добрый поступок. Я в неоплатном долгу перед вами.
Юноша взял руку Исфиниса и поцеловал ее. Его глаза наполнились слезами. Он сказал дрожащим голосом:
— Да простит меня Бог за то, что я раньше плохо подумал о вас, и наградит вас лучшей наградой за то, что вы сделали для нас, избавив мою мать от темницы и телесного наказания!
Исфинис был переполнен чувств и тихо ответил:
— Вы мне ничего не должны. Моя госпожа, вам учинили жестокую несправедливость. Если несправедливо обошлись хотя бы с одним человеком, от этого не становится легче. Я не сдержался и дал выход гневу — так что вы мне ничего не должны.
Эти слова не убедили госпожу Эбану, которую переполняли чувства. Она смутилась и, запинаясь, сказала:
— Какой благородный поступок! Он не поддается описанию и выше всяческих похвал!
Ее сын был столь же впечатлен. Видя, что Исфинис смотрит на него, он сказал извиняющимся тоном:
— Когда мы встретились, я принял вас за прихвостней пастухов, ибо вы мне показались очень богатыми. Теперь выяснилось, что вы два щедрых египтянина, явившиеся неизвестно откуда. Клянусь, я не оставлю вас в покое, пока вы не окажете любезность и не посетите нашу лачугу, где мы вместе отведаем пива, дабы отметить знакомство, которое является для нас честью. Что скажете?
Приглашение обрадовало Исфиниса, который горел желанием оказаться среди соотечественников. Юноша привлекал его общительностью и приятной внешностью.
— Мы принимаем твое приглашение с великим удовольствием, — ответил Исфинис.
Юноша и его мать были вне себя от радости. Мать сказала:
— Вы должны извинить нас, ибо вы не найдете нашу лачугу подходящей для своего высокого положения.
Сообразительный Лату ответил:
— С такими хозяевами, как вы, нас все устроит, и к тому же мы торговцы, привычные к неудобствам жизни и трудностям пути.
Они шли дальше, испытывая взаимное расположение, точно были друзьями уже много лет. Пока они шли, Исфинис спросил сына Эбаны:
— Как нам называть тебя, мой друг? Меня зовут Исфинис, а моего спутника Лату.
Юноша почтительно склонил голову и ответил:
— Зовите меня Яхмосом.
Исфинису показалось, точно его назвали по имени, и он с любопытством взглянул на юношу.
Через полчаса они достигли лачуги. Это было простое строение, похожее на хижину рыбака, оно состояло из внешнего дворика и двух крохотных сообщающихся комнат. Несмотря на простоту обстановки и бедность, здесь царили чистота и порядок. Яхмос и оба гостя расположились в дворике, широко открыв дверь, чтобы впустить ветерок, дувший со стороны Нила, и видеть саму реку. Эбана ушла готовить напитки, и все какое-то время сидели молча, поглядывая друг на друга.
Яхмос робко сказал:
— Странно видеть столь почтенных египтян. Как это пастухи позволили вам разбогатеть, если вы не пресмыкаетесь перед ними?
— Мы египтяне из Нубии и только сегодня прибыли в Фивы, — ответил Исфинис.
Юноша от удивления и восторга захлопал в ладоши и сказал:
— Нубия! Много людей бежало туда, когда пастухи вторглись в нашу страну. Вы из тех, кто тогда бежали?
Лату по природе был крайне осторожен, поэтому тут же ответил, опережая Исфиниса:
— Нет. Мы уехали туда раньше, чтобы заняться торговлей.
— А как вам удалось въехать в Египет? Пастухи ведь закрыли границы.
Гости поняли, что Яхмос, несмотря на молодость, все хорошо знает. Исфинис почувствовал к нему любовь и доверие. Поэтому он рассказал юноше о том, как они прибыли в Египет.
Пока он говорил, Эбана вернулась с чашами, наполненными пивом, и жареной рыбой. Она поставила чаши и рыбу перед ними, села и выслушала рассказ Исфиниса до конца. Исфинис закончил его такими словами:
— Золото одурманивает этих людей и пленит их разум. Мы отправимся к губернатору Юга и покажем ему наши лучшие сокровища. Надеемся, что он одобрит торговлю между Египтом и Нубией или же добьется соглашения на этот счет. И тогда мы сможем вернуться к прежнему занятию и торговле.
Эбана предложила гостям чаши с пивом и рыбу. Она сказала:
— Если вы добьетесь своей цели, вам придется взвалить всю работу на свои плечи, ибо пастухи отказываются заниматься торговлей, а египтяне, пребывая в бедности и нищете, не смогут принять в ней участия.
У торговцев на этот счет были свои соображения, но они предпочли умолчать о них. Они принялись за рыбу и пиво, всячески хваля хозяйку и ее скромные угощения. Эбана покраснела и начала благодарить Исфиниса за его благородный поступок. Она сказала:
— Вы протянули мне благородную руку помощи в тот миг, когда я больше всего нуждалась в ней. Но что делать несчастным египтянам, на которых утром и вечером давят жернова гнета и никто не может им помочь!
Яхмос тоже заволновался и, как только мать произнесла эти слова, он покраснел от гнева и серьезно сказал:
— Египтяне рабы, им бросают крохи, их бьют кнутами! Царь, министры, командиры, судьи, чиновники, владельцы собственности — все они из пастухов. Сегодня власть целиком находится в руках людей с белой кожей и грязными бородами, а египтяне стали рабами на земле, которая вчера принадлежала им.
Пока Яхмос говорил, Исфинис смотрел на него с восхищением и сочувствием, а Лату отвел глаза, чтобы скрыть свои чувства.
— Здесь много людей выражают недовольство притеснениями? — спросил Исфинис.
— Еще бы! Но мы скрываем свое недовольство и терпим плохое обращение, как поступают слабые люди, у которых нет выбора. Я спрашиваю себя: «Неужели этой ночи не наступит конец?» Прошло уже десять лет с тех пор как Бог, прогневавшись на нас, дал короне упасть с головы нашего повелителя Секененры.
Сердца гостей забились быстрее, Исфинис побледнел. Лату с удивлением посмотрел на юношу и спросил:
— Откуда тебе это известно? Ты ведь совсем молод.
— В моей памяти сохранились воспоминания, четкие и ясные, о первых днях страданий. Однако печальную историю Фив я узнал от матери, она часто рассказывает об этом городе.
Лату с любопытством взглянул на Эбану, смутив ее. Желая успокоить ее, он сказал:
— Вы замечательная женщина, а ваш сын — благородный молодой человек.
Про себя Лату подумал: «Несмотря на все, хозяйка все еще ведет себя осторожно». Старик намеревался спросить ее о том, что касалось его самого, но, отложив свой вопрос на будущее, он ловко переменил тему разговора, направив ее в русло повседневных дел, после чего все почувствовали себя непринужденно. Воцарилась атмосфера взаимного уважения. Когда оба торговца встали, собираясь уходить, Яхмос спросил Исфиниса:
— Господин, когда вы намерены отправиться к губернатору Юга?
Удивившись подобному вопросу, Исфинис ответил:
— Возможно, завтра.
— У меня есть просьба.
— Какая?
— Я хочу отправиться в его владения вместе с вами.
Исфинис остался довольным и спросил юношу:
— Ты знаешь дорогу туда?
— Знаю очень хорошо.
Эбана пыталась возразить, но сын жестом руки заставил ее умолкнуть. Исфинис улыбнулся и сказал:
— Если вы не возражаете, он станет нашим проводником.
8
Первая половина следующего дня ушла на подготовку к нанесению визита губернатору. Исфинис хорошо осознавал значение этого визита и понимал, что будущее всех надежд зависит от его исхода, не говоря о чаяниях тех, кто остался в Напате. Там в душах людей боролись отчаяние и надежда. Исфинис нагрузил свой корабль ларями с изящными предметами и жемчугом, клетками с диковинными животными. Он взял с собой пигмея Золо и множество рабов.
Яхмос пришел к вечеру, радостно поздоровался с ним и сказал:
— Отныне я ваш раб!
Исфинис взял юношу под руку и повел к каюте. Корабль взял курс на север. Небо было ясное, дул попутный ветер. Оба торговца и юноша молчали, каждый думал о своем и смотрел на Фивы. Корабль миновал кварталы бедняков и приближался к высоким дворцам, наполовину скрытым пальмами и платанами, среди которых порхали птицы разных видов и цветов. Деревья отделяли одно владение от другого. Позади них тянулись зеленые поля, испещренные серебристыми потоками, долинами, пальмами и виноградниками. На них паслись волы и коровы. Терпеливые, обнаженные крестьяне, согнувшись, занимались своим обычным трудом. На берегу возвели сооружения, поднимавшие воды из Нила под сопровождение красивых песен крестьян. Легкий ветерок гулял среди деревьев, шелестела листва, щебетали птички, мычал скот, кругом благоухали цветы и ароматные травы. Исфинис чувствовал себя так, будто воспоминания кончиками пальцев гладили его пылавший лоб. Юноша вспомнил радостные дни, когда он в царском паланкине отправлялся на поля, перед ним шли рабы и гвардейцы. Крестьяне приходили в восторг, видя мальчика, здоровались с ним и усевали цветами его путь.
Из размышлений Исфиниса вывел голос Яхмоса:
— Вот и дворец губернатора!
Исфинис вздохнул и посмотрел в ту сторону, куда указывал юноша. Лату тоже взглянул туда. В глазах старика появилось выражение удивления и недовольства.
Корабль повернул к дворцу, весла застыли. Небольшое военное судно, набитое солдатами, преградило им путь. Офицер грубо и высокомерно крикнул:
— Крестьянин, убери отсюда свою грязную посудину.
Исфинис выскочил из каюты, подошел к борту и почтительно приветствовал офицера:
— У меня есть письмо к его высочеству губернатору Юга.
Офицер уставился на него злобным взглядом и велел:
— Передай его мне и жди!
Юноша достал из кармана накидки письмо и передал его офицеру. Внимательно осмотрев письмо, офицер отдал своим людям приказ, и те повернули судно к ступеням, ведущим в сад. Офицер вызвал гвардейца и вручил тому письмо. Гвардеец ушел, затем быстро вернулся к офицеру и тихо сказал тому что-то. Офицер дал Исфинису знак причалить к берегу. Юноша приказал морякам грести, пока корабль не оказался у причала дворца. Офицер сказал:
— Его высочество ждет тебя, так что разгружай свой товар и неси его во дворец.
Юноша отдал приказания нубийцам. Те вместе с Яхмосом выгрузили лари, клетки с животными и паланкин с Золо. Расставаясь с Исфинисом, Лату напутствовал:
— Пусть Бог дарует тебе удачу!
Исфинис догнал своих людей, и все молча пересекли красивый сад.
9
Слуга провел Исфиниса в зал приемов, рабы последовали за ним вместе со своими ношами. Юноша оказался в роскошно обставленном зале. Пол, стены и потолок украшали произведения искусства. В передней половине зала на мягком диване расположился губернатор. Он был облачен в свободные нисподающие складками одежды. Резко и четко выделялись черты его крупного лица, проницательный взгляд говорил о смелости, бесстрашии и прямоте. Исфинис дал знак своим людям, и те поставили лари и клетки на пол перед собой. Исфинис прошел к середине зала, почтительно поклонился губернатору и произнес:
— Пусть бог Сет дарует вам долгую жизнь, могущественный губернатор!
Губернатор бросил в его сторону пронизывающий взгляд. Юноша благородного вида и высокого роста понравился ему. На лице губернатора отразилось удовлетворение внешним обликом юноши.
— Ты действительно прибыл из земли Нубии? — спросил он.
— Действительно, мой повелитель.
— И какие надежды ты возлагаешь на свою поездку?
— Я желаю подарить влиятельным людям Египта сокровища, какие можно найти в Нубии, в надежде доставить им удовольствие, после чего им захочется получить новые.
— А что ты желаешь в обмен за это?
— Немного зерна, которого в Египте больше, чем требуется.
Губернатор потряс своей крупной головой, в его глазах запрыгали насмешливые искорки, и он спросил без обиняков:
— Я вижу, ты молод, но храбр и любишь приключения. Итак, покажи мне сокровища, которые ты привез.
Исфинис позвал Яхмоса.
Тот приблизился к губернатору и поставил у его ног ларец, который держал в руках. Торговец открыл его, и все увидели драгоценности разных форм, украшенные рубинами. Губернатор уставился на сокровища, его глаза загорелись от жадности и восторга.
Он начал перебирать их руками.
— В Нубии много таких драгоценностей? — спросил губернатор.
Исфинис ответил без промедления, ибо ответ на этот вопрос придумал еще до прибытия в Египет.
— Мой повелитель, как ни странно, но эти драгоценные камни находятся в глубине нубийских джунглей, где рыскают дикие звери и смертельно опасные болезни подстерегают на каждом шагу.
Исфинис показал губернатору один ларец с изумрудами, другой с кораллами, третий с золотом и четвертый с жемчугом. Губернатор долго рассматривал все, затаив дыхание. После осмотра он напоминал человека, пришедшего в экстаз от напитка. Затем Исфинис показал ему клетки с газелями, жирафами и обезьянами.
— Как красиво будут смотреться эти животные в садах Дворца! — сказал он.
Губернатор улыбнулся, подумав про себя: «Какой неотразимый черт этот юноша!» Удивление губернатора достигло предела, когда
Исфинис поднял занавес паланкина и все увидели странное создание — Золо. Губернатор невольно встал, приблизился к паланкину, обошел вокруг него.
— Поразительно! Это животное или человек? — спросил он.
Исфинис ответил с улыбкой на устах:
— Конечно, человек, мой повелитель. Он один из представителей многочисленного народа.
— Никогда не видел и не слышал ни о чем подобном.
Губернатор позвал раба и приказал тому:
— Позови принцессу Аменридис, мою жену и брата!
10
Прибыли те, кого пригласил губернатор. Исфинис решил, что лучше опустить глаза в знак уважения, но услышал волнующий голос, тронувший глубинные струны его души:
— Губернатор, что побудило вас прервать нашу встречу?
Исфинис украдкой взглянул на вошедших и увидел принцессу, которая днем раньше ступила на его корабль и выбрала изумрудное сердце. Как он и ожидал, ее красота ослепляла взор. У юноши больше не оставалось сомнений, что губернатор Ханзар и его жена принадлежат к царской семье. В то же время он заметил еще одно знакомое лицо — человека, вошедшего вслед за принцессой и женой губернатора. Это был судья, который вчера вынес приговор Эбане. Исфинис не преминул заметить сходство между судьей и губернатором. Принцесса и судья тоже узнали его, ибо оба многозначительно переглянулись. Губернатор, не догадываясь о безмолвном обмене взглядов, поклонился принцессе и сказал:
— Подойдите, ваше высочество, и взгляните на самые дорогие вещи, которые находятся в глубинах земли, и на самые странные вещи, которые располагаются на ее поверхности!
Губернатор повернулся к ларям, набитым драгоценными камнями, клеткам с животными и паланкину Золо. Все подошли ближе — на их лицах отражались алчность, удивление и восхищение. Пигмей удостоился очередной порции пренебрежения и любопытства. Больше всего была поражена и восхищена жена губернатора. Точно зачарованная, она приблизилась к ларям из слоновой кости. Тем временем судья обратился к Исфинису со словами:
— Вчера я никак не мог догадаться, почему ты так богат, но сегодня понял все.
Губернатор повернулся к ним и спросил своего брата:
— Что ты имеешь в виду, судья Самнут? Ты уже знаком с этим молодым человеком?
— Да, знаком, мой губернатор. Я видел его вчера на суде. Видно, он всегда готов прийти на помощь, ибо пожертвовал пятьдесят кусков золота, чтобы избавить от тюрьмы и порки крестьянку, которую обвинили в оскорблении командира Руха. Похоже, командира Руха в один и тот же день огорчили крестьянка, нагрубившая ему, и крестьянин, бросивший вызов его гневу!
Принцесса Аменридис рассмеялась беспечно и пренебрежительно. Бросив взгляд на юношу, она спросила:
— Что же тут удивительного, судья Самнут? Разве крестьянину не положено засучивать рукава, чтобы заступиться за крестьянку?
— Моя госпожа, дело в том, что крестьяне ни на что не способны. Все зависит от золота и его власти. Один человек точно заметил, что сначала крестьянина надо довести до бедности, затем избить кнутом, если хочешь чего-то получить от него!
Однако губернатор по своей природе любил лихих и храбрых людей. Он сказал:
— Торговец отважный молодой человек. О его храбрости говорит то, что он пересек наши границы. Встретим его как гостя. Поприветствуем его с приездом. Если бы он был воином, я бы мог сразиться с ним, ибо мой меч так долго лежит в ножнах, что заржавел!
Принцесса Аменридис сказала с усмешкой:
— Судья Самнут, вы не посмели бы отказать ему в милости, ведь я его должница!
— Вы должница, ваше высочество? Не может быть!
Удивление губернатора рассмешило принцессу, и она рассказала, как увидела корабли, как, желая взглянуть на Золо, поднялась на корабль и выбрала это прекрасное ожерелье. Аменридис говорила тоном, свидетельствовавшим о том, сколь непринужденно и смело она способна вести себя и сколь она склонна добродушно подтрунивать. Удивление губернатора Ханзара исчезло, и он игриво спросил:
— Ваше высочество, почему вы выбрали зеленое сердце? Мы наслышаны, что белые сердца чисты, а черные — порочны. Что же означает зеленое сердце?
— Спросите того, кто продал это сердце! — рассмеявшись, ответила принцесса.
Исфинис, слушавший внимательно, но безучастно, ответил:
— Зеленое сердце, ваше высочество, является символом плодородия и нежности.
— Мне очень нужно такое сердце, — заметила принцесса, — ибо иногда мне кажется, что я столь жестока, что не без удовольствия проявляю жестокость сама к себе!
Судья Самнут тем временем рассматривал Золо и хотел привлечь к нему внимание невестки, но та не позволила отвлечь себя от ларцов с драгоценными камнями. Испытывая отвращение к внешности пигмея, судья сказал:
— Какая мерзкая тварь!
Исфинис заметил:
— Он принадлежит к расе пигмеев, которые думают, что на нас неприятно смотреть, и считают, будто Творец даровал нам искаженные черты и отвратительные конечности.
Губернатор Ханзар громко рассмеялся и заметил:
— Твои слова более странны, чем сам Золо, все причудливые животные и сокровища, которые ты привез.
Устремив на Исфиниса подозрительный взгляд, Самнут сказал:
— Видно, этот юноша внес смятение в наши умы своими фантазиями, ибо не остается сомнений в том, что такие пигмеи не имеют понятия о красоте и уродстве.
Принцесса Аменридис уставилась на пигмея, будто извиняясь за слова судьи, и спросила:
— Золо, как ты считаешь, мое лицо отвратительно?
Ханзар снова громко расхохотался, а сердце Исфиниса затрепетало перед неописуемой красотой и очаровательным кокетством принцессы. В это мгновение ему хотелось смотреть на нее вечно. Воцарилось молчание, и юноша догадался, что пора уходить. Опасаясь, как бы губернатор не выпроводил его, прежде чем он успеет заговорить о деле, ради которого прибыл сюда, он спросил:
— Великий губернатор, можно ли надеяться, что мои намерения осуществятся под вашим благородным покровительством?
Губернатор задумался, рукой поигрывая своей густой белой бородой.
— Наш народ устал от войн и набегов, он предался роскоши и спокойной жизни, — заговорил он. — Ему присуще считать ниже своего достоинства заниматься торговлей, так что подобные драгоценности нам могут привезти лишь такие искатели приключений, как ты. Однако сейчас я не хочу сообщить тебе свое решение. Прежде чем пойти на это, я должен поговорить со своим повелителем царем. Я предложу великому правителю самое прекрасное из этих сокровищ в надежде, что он одобрит мое мнение.
Ликующий Исфинис сказал:
— Мой повелитель губернатор, я приберег для нашего правителя фараона дорогой подарок, который изготовлен специально для его величества.
Губернатор на мгновение пристально взглянул на лицо юноши, и в его голове возникла мысль, благодаря которой он мог бы еще больше приблизиться к повелителю.
— В конце этого месяца фараон устраивает праздник победы, — сказал губернатор. — Этот обычай он соблюдает уже десять лет. Возможно, мне удастся преподнести приятный сюрприз, представив ему тебя и твоего пигмея. Тогда ты сможешь преподнести ему свой подарок. Не сомневаюсь, что он окажется достойным его высокого положения. Назови мне свое имя и положение.
— Мой повелитель, меня зовут Исфинис. Я живу там, где причалили мои корабли — на берегу рыбацкого квартала, к югу от Фив.
— Мои гонцы скоро явятся к тебе.
Юноша поклонился с великим почтением и покинул дворец. Рабы последовали за ним. Принцесса следила за лицом Исфиниса, пока он говорил губернатору о своих намерениях, внимательно слушала и провожала его взглядом, когда юноша уходил. Благородные черты и цветущее красотой лицо юноши, его стан понравились ей. Принцесса жалела о том, что судьба выбрала его торговцем, странствующим вместе с пигмеями. Как ей хотелось бы встретить человека с таким телосложением среди своих сородичей, которые чаще всего отличались тучностью и коротким ростом. Свои желания она обнаружила в смуглом египтянине, который торговал пигмеями. Догадываясь, что образ молодого человека пробуждает в ней чувства, принцесса разозлилась, повернулась спиной к губернатору, его домочадцам и покинула зал.
11
Исфинис и рабы вышли в сад следом за провожавшим их человеком. Ветерок со стороны Фив охладил его растущее волнение, он стал дышать полной грудью, ибо считал, что это путешествие завершилось большим успехом. В то же время у него из головы не выходила принцесса Аменридис, он вспоминал ее пылающее лицо, золотистые волосы, алые губы и изумрудное сердце, висевшее на изящной груди. Великий Боже! Ему придется отказаться от вознаграждения за ожерелье, чтобы изумрудное сердце могло принадлежать им обоим. Исфинис подумал: «Принцесса женщина, окруженная роскошью и любовью и, вне сомнения, считает, будто весь мир падет к ее ногам, стоит только поманить пальчиком. Она смела и весела, но смеется как избалованный ребенок, и в этом смехе слышится жестокость. Принцесса шутит с губернатором, подтрунивает над неизвестным торговцем, хотя ей нет и восемнадцати лет. Если я завтра встречу ее верхом на боевом коне, то нисколько не удивлюсь».
Исфинис твердил себе, что нельзя предаваться мыслям о принцессе, и, словно одолев свои чувства, начал размышлять о своем успехе. Он с уважением вспоминал губернатора Ханзара. Это могущественный губернатор, отличавшийся большой силой и храбростью, но в то же время отзывчивый и, возможно, глупый. Золото манило губернатора, как и большинство его сородичей. Он забрал все подарки из золота, жемчуг, изумруды, рубины, животных и бедного Золо, даже не сказав спасибо. Однако именно эта алчность распахнула перед Исфинисом ворота в Египет, привела его во дворец губернатора, и скоро он вступит во дворец фараона. Яхмос шел рядом с ним, и Исфинис услышал, как юноша едва слышно произнес: «Шареф!» Исфинису показалось, что Яхмос, должно быть, обращается к нему. Он повернулся к юноше и обнаружил, что тот смотрит на старика, убеленного сединами, который нес корзину с цветами и нетвердой походкой шел по саду. Старик расслышал голос, звавший его, и стал оглядываться вокруг себя, пытаясь обнаружить зовущего плохо видевшими глазами. Однако Яхмос избежал взгляда старика, повернувшись к нему спиной. Исфинис удивился и вопросительно взглянул на Яхмоса, но юноша опустил глаза и ничего не сказал.
Они добрались до корабля и взошли на борт. Их ждал Лату с озабоченным выражением на бледном лице. Исфинис улыбнулся и сообщил:
— Мы преуспели благодаря доброте бога Амона.
Подняли якорь, заработали весла, юноша приблизился к старику и едва начал рассказывать о разговоре с губернатором, как его прервал плач. Оба обернулись и увидели, что Яхмос прислонился к перилам и рыдает как ребенок. Оба испугались, и Исфинис вспомнил странное поведение юноши в саду. Они с Лату подошли к Яхмосу. Исфинис обнял его за плечи и спросил:
— Яхмос, почему ты плачешь?
Однако юноша не ответил, и по его виду нельзя было сказать, расслышал ли он Исфиниса или нет. Он обливался слезами, предаваясь печали, и ничего не замечал вокруг себя. Исфинис и Лату отвели Яхмоса в каюту, усадили его рядом с собой. Исфинис принес чашу воды и спросил:
— Почему ты плачешь, Яхмос? Ты знаешь того старика, которого назвал Шарефом?
Яхмос ответил, содрогаясь от рыданий:
— Как же мне не знать его? Как же мне не знать его?
Удивленный Исфинис спросил:
— Кто он? И почему ты так плачешь?
Печаль побудила юношу открыться, и он рассказал все, что у него наболело:
— Ах, господин Исфинис, этот дворец, куда я вошел как один из ваших слуг, принадлежит моему отцу!
Исфинис не мог скрыть удивления, а Лату изучал лицо юноши с неподдельным интересом. Тот продолжил, испытывая муки печали:
— Этот дворец, который губернатор Ханзар захватил незаконно, моя колыбель и место детских игр. Среди его высоких стен моя бедная мать провела юность и жила, оберегаемая моим отцом, до того, как в Египет пришло несчастье, когда ноги захватчиков ступили на священную землю Фив.
— Яхмос, кто был твоим отцом?
— Мой отец был командиром армии нашего повелителя Секененры, погибшего мученической смертью.
— Командир Пепи? — воскликнул Лату. — Великий Бог! Воистину это дворец отважного командира.
Яхмос удивленно посмотрел на Лату и спросил:
— Вы знали моего отца, господин Лату?
— Разве среди нашего поколения найдется человек, не знавший его?
— Сердце подсказывает мне, что вы из знатных лиц, которые бегством спаслись от захватчиков.
Лату умолк, не желая врать сыну командира Пепи. Затем он спросил:
— И как завершилась жизнь доблестного командира?
— Он погиб, защищая Фивы в последней битве. Мать подчинилась его завещанию и вместе с толпой знатных лиц скрылась в бедняцком квартале, где мы сейчас живем. Прежняя знать Фив разбежалась во все стороны в рваных одеждах и скрылась в рыбацком квартале. Семья нашего повелителя взошла на корабль и отплыла в неизвестном направлении. Двери храма Амона затворились за жрецами, все связи между ними и остальным миром прервались. Только белые бородатые чужеземцы беззаботно ходили по земле и завладели всем. Ханзару досталось больше всех — его сестра приходится женой царю, который пожаловал ему владения и дворец моего отца, назначил его губернатором Юга за то преступление, которое он совершил.
Лату спросил:
— Какое преступление совершил губернатор?
Яхмос перестал плакать и гневно воскликнул:
— От его преступной руки погиб наш повелитель Секененра!
Исфинис отпрянул, будто его обожгло пламя, он уже не мог сидеть и вскочил с грозным видом. Его лицо исказил гнев, способный сеять ужас в сердцах людей. Лату закрыл глаза, его лицо побледнело, он тяжело дышал. Яхмос смотрел то на одного, то на другого. Наконец-то он нашел людей, которые разделяли его жгучие чувства. Он поднял голову к небу и пробормотал:
— Да благословит Господь этот священный гнев!
Корабль прибыл на место стоянки, когда солнце уже погружалось в Нил и вечернее зарево окрасило горизонт. Все трое пришли в дом Эбаны в тот миг, когда хозяйка зажигала лампу.
Почувствовав, что они пришли, она повернулась к ним и приветливо улыбнулась. Лату и Исфинис подошли к Эбане, почтительно поклонились, и старик сказал торжественным голосом:
— Да благословит Бог вечер вдовы нашего великого командира Пепи!
Улыбка исчезла с ее уст, глаза от удивления и тревоги сделались круглыми. Она с упреком смотрела на сына и хотела что-то сказать, но ее глаза наполнились слезами. Яхмос подошел к ней, взял ее за руки и нежно успокоил ее:
— Мама, не бойся и не печалься! Тебе ведь известно, с какой добротой эти два человека относятся ко мне. Знай, что они тоже, как я и думал, выходцы из старой фиванской знати, вынужденной отправиться в изгнание из-за гнета пришельцев. Сюда их привела тоска по египетской земле.
Женщина снова обрела спокойствие и протянула им руку. Оба торговца смотрели на нее, и их лица говорили об открытости и серьезности. Они сели рядом, и Исфинис сказал:
— Для нас большая честь находиться в доме вдовы отважного командира Пепи и его усердного сына Яхмоса. Пепи погиб, защищая Фивы, и столь доблестным образом воссоединился со своим повелителем.
Эбана ответила:
— Я очень довольна, что счастливая случайность свела меня с двумя благородными господами, которым знакомы прежние времена. Вспомним прошедшие дни и вместе обсудим нынешнее время. Яхмос — горячий молодой человек и достоин своего имени, которое отец дал ему в честь внука нашего повелителя Секененры и сына нашего царя Камоса. Они оба родились в один день. Да благословит его Бог, где бы он ни был!
Лату распростер руки в знак, что полностью согласен с ее словами. Он честно и искренне произнес:
— Да хранит Бог нашего друга Яхмоса и его могущественного тезку, где бы он ни был!
12
Взаимная привязанность между двумя торговцами, Эбаной и ее сыном крепла, они жили вместе одной семьей и отлучались только по вечерам. Исфинис и Лату узнали, что в рыбацком квартале скрываются множество людей — фиванские торговцы и прежние владельцы собственности и сельских угодий. Гости обрадовались этой новости и желали познакомиться с наиболее известными из них. Они сообщили о своем желании Яхмосу, убедившись, что эти люди заслуживают доверия. Юноше эта мысль понравилась, и он выбрал четырех человек, близко знакомых с его матерью: Сенеба, Хама, Кома и Диба. Рассказав им, кто эти два торговца, он однажды пригласил их к себе на встречу с Лату и Исфинисом. Гости оделись как бедняки — на них были юбки и поношенные льняные рубахи. Они приветствовали торговцев и здоровались с ними с теплотой, которая говорила о честности и искренности. Яхмос сказал:
— Те, кого вы видите, выходцы из древних родов Египта, как и вы сами. Все они живут как жалкие, никому не нужные рыбаки, и их землей распоряжаются пастухи.
Хам спросил торговцев:
— Господа, вы из Фив?
Лату ответил:
— Нет, господин. Однако мы когда-то владели землей в Омбосе.
Сенеб спросил:
— Много народу, подобно вам, спаслись бегством в Нубию?
Лату ответил:
— Много, господин. В одной Напате живут сотни египтян из Омбоса, Сайина, Хабу и Фив.
Гости переглянулись, но никто из них не усомнился в словах торговцев, после того как Яхмос рассказал о поступке Исфиниса на суде. Хам задал вопрос:
— И как вы живете в Напате, господин Лату?
— Мы испытываем те же трудности, что и сами нубийцы, ибо земля Нубии щедра золотом, но скудна зерном.
— Однако вам повезло, ведь пастухи не могут добраться до вас.
— Это верно. Вот почему мы все время думаем о Египте и его порабощенном народе.
— А на юге у вас есть вооруженные отряды?
— Есть, но они невелики. Раум, египетский губернатор юга, использует их для поддержания порядка в городах.
— Какие чувства испытывают нубийцы к вам после вторжения пастухов?
— Нубийцы любят нас и охотно подчиняются нашему правлению. Поэтому Рауму легко управлять городами с незначительными силами. Если бы нубийцы восстали, никто бы не сумел укротить их.
Глаза гостей мечтательно засверкали. Яхмос рассказал им, как эти два торговца сумели пересечь границу и посетить губернатора и что Исфинис собирается преподнести Апофису подарок на празднике победы.
Хам недовольно спросил:
— Чего вы надеетесь добиться, преподнося Апофису подарок?
Исфинис ответил:
— Разжечь его алчность, с тем чтобы он разрешил мне вести торговлю между Нубией и Египтом и менять золото на зерно.
Гости умолкли, Исфинис тоже молчал, предаваясь своим мыслям.
Наконец он решил сделать еще один шаг для осуществления своей задачи.
— Слушайте внимательно, господа, — серьезным тоном заговорил Исфинис. — Наша цель — не торговля. Было бы недостойно, если бы те, кого вам представили в жилище вдовы нашего великого командира Пепи, стремились только к торговле. Мы собираемся установить связь между Египтом и Нубией с помощью наших кораблей и использовать некоторых из вас в качестве работников. Только для виду, чтобы переправить вас к вашим братьям на юге. Мы будем привозить в Египет золото, а увозить зерно и людей и, возможно, однажды вернемся сюда только с людьми…
Все слушали с удивлением и радостью, в их глазах неожиданно загорелся огонь. Эбана воскликнула:
— Господи! Как чудесен этот голос, который воскрешает надежды, угасшие в наших сердцах!
Хам воскликнул:
— Великий Бог! В Фивах, ставших мертвым городом, снова пробудилась жизнь.
К ним присоединился Ком:
— Молодой человек, ваш голос воскресил наши умершие сердца, мы до сих пор жили без надежды на будущее, задавленные нищетой, и не находили иного выхода, как вспоминать и оплакивать славное прошлое. Сейчас вы приподняли занавес в великое будущее.
Исфинис был вне себя от радости, его сердце полнилось надеждой. Своим красивым и волнующим голосом он сказал:
— Господа, плакать бесполезно. Прошлое исчезнет в глубине веков и окажется во власти забвения, если вы будете лишь оплакивать его. Славное прошлое сохранится, если вы начнете трудиться не покладая рук. Пусть вас сегодня не печалит ремесло торговцев, ибо скоро вы станете солдатами. Тогда в ваших руках будет весь мир, а крепости окажутся у ваших ног. Однако скажите мне правду! Вы доверяете всем своим собратьям?
— Доверяем как сами себе! — в один голос ответили гости.
— Вы не опасаетесь шпионов?
— Пастухи безмозглые тираны. Их бдительность усыплена тем, что они держат нас в рабстве уже десять лет. Они не принимают никаких мер предосторожности.
Исфинис восторженно воскликнул:
— Идите к своим верным собратьям и сообщите им добрую весть о зарождении новых надежд. Давайте собираться так часто, как это возможно, чтобы обменяться мыслями и советами и передать собратьям вести с юга. Если египтяне гневаются в Напате, этой безопасной гавани, у вас имеются все причины на еще больший гнев.
Гости радостно согласились с тем, что он сказал.
— Нас охватил гнев, благородный юноша, — заметил Диб. — Наши старания докажут вам, что мы гневаемся больше, чем наши собратья в Напате.
Гости поклонились торговцам и удалились, ощущая прилив гнева и испытывая жажду к битве. Эти чувства уже не затихнут и не исчезнут. Исфинис и Лату услышали, как Эбана вздохнула и сказала:
— Боже! Кто отведет нас к семье погибшего царя? В какой части земли она находится?
Прошли две недели, в течение которых Исфинис и его пожилой спутник не знали отдыха. В жилище Эбаны они встречались с фиванцами, которые скрывались в этом квартале, и рассказывали им о том, на что надеются египтяне в изгнании, вселяя надежду в их сердца, придавая им силы и вызывая в их душах жажду к битве.
Вскоре в рыбацком квартале с нетерпением и тревогой ждали часа, когда Исфиниса пригласят в царский дворец.
Дни текли своей чередой, и однажды гофмейстер губернатора Юга явился в рыбацкий квартал и спросил, где найти корабли Исфиниса. Он передал Исфинису письмо от губернатора, в котором сообщалось, что молодому человеку дозволяется войти в царский дворец в определенный час того дня, когда наступит праздник. Многие видели гофмейстера и обрадовались, в их сердцах пробуждалась надежда.
В тот вечер, когда на кораблях все отошли ко сну, Исфинис при свете луны один стоял на палубе посреди спокойной и тихой ночи.
Лицо юноши освещали мерцающие лучи, словно драгоценные камни и жемчуг. Он чувствовал легкость и поразительное удовлетворение, пока его воображение беспрепятственно бродило между недавним прошлым и необычным настоящим. Исфинис вспомнил время, когда покинул Напату, вспомнил, как бабушка Тетишери сообщила ему радостную весть — дух Амона подал ей мысль отправить его в Египет.
Камос, его отец, стоял рядом и давал ему советы низким внушительным голосом.
Юноша вспомнил мать, царицу Сеткимус, целующую его в лоб, жену Нефертари, когда та бросила на него прощальный взгляд влажных от слез глаз. В глазах Исфиниса появилось выражение такой чистой и скромной нежности, как свет луны, он ощущал красоту, царившую между небом и водами Нила. Божественная атмосфера освежала и опьяняла его. Однако светлый и яркий образ тайком проникал в сознание юноши, вынуждая его содрогнуться всем телом. Исфинис закрыл глаза, точно пытаясь убежать от него, и отчаянно прошептал: «Боже, я думаю о ней больше, чем следует. Мне вообще не полагается думать о ней».
Наступил день праздника. Исфинис провел светлые часы дня на борту корабля. Вечером он облачился в лучшие одежды, причесал ниспадавшие локоны, надушился и покинул корабль. За ним последовали рабы, неся ларец из слоновой кости и паланкин с опущенными занавесками. Они направились к дворцу. Фивы веселились, воздух полнился звуками тамбуринов и песнями. Луна освещала улицы, забитые пьяными солдатами, оравшими песни, и экипажами знати, следовавшими к царскому дворцу. Впереди них шли слуги с факелами. Юноша впал в глубокое отчаяние и с грустью подумал: «Судьба определила мне участвовать с этими людьми в празднике, которым отмечается падение Фив и гибель Секененры». Он гневно посмотрел на шумную солдатню и вспомнил слова врача Кагемни: «Когда солдаты привыкают к пьянству, их оружие ржавеет, и они не рвутся в бой».
Исфинис шел следом за потоком людей до края площади перед дворцом, чьи стены и окна казались ему нагромождением одной волны света на другую. От этого зрелища ему стало не по себе, сердце громко заколотилось, его настиг благоухающий порыв ветра, пропитанный воспоминаниями о юности; он продолжил путь, и чем ближе он подходил к колыбели детства и месту игр, тем грустнее у него становилось на душе.
Исфинис подошел к одному из гофмейстеров и показал ему письмо губернатора Ханзара. Тот внимательно прочитал письмо, вызвал гвардейца и приказал отвести торговца в сад, где ему предстояло ждать. Юноша следовал за гвардейцем, они свернули на боковую тропинку, ибо центральная дорога была забита гостями, гофмейстерами и гвардейцами. Исфинис очень хорошо помнил это место, будто покинул его последний раз только вчера. Когда они дошли до большой колоннады, ведущей в сад, его сердце забилось быстрее, и он так заволновался, что прикусил нижнюю губу, вспомнив, как играл здесь вместе с Нефертари. Тогда он завязывал себе глаза, она пряталась за одной из огромных колонн, затем он снимал повязку и искал ее повсюду до тех пор, пока не находил. В это мгновение Исфинис вообразил, будто слышит топот ее маленьких ножек и эхо ее веселого смеха. Они вырезали свои имена на одной из колонн… неужели еще сохранились следы? Ему хотелось забыть о гвардейце и поискать следы дней славного прошлого, но гвардеец быстро продвигался вперед, не догадываясь о сердечных муках юноши, следовавшего за ним на расстоянии вытянутой руки. Когда они вошли в сад, гвардеец указал на скамью и сказал молодому человеку:
— Жди здесь, пока тебя не позовут.
Сад был освещен яркими лампами, ветерок со всех сторон приносил запах благоухающих трав и цветов. Он глазами искал то место, где статуя Секененры стояла в конце заросшей травой тропинки, разделявшей сад на две части. Вместо нее он увидел другую безвкусную статую мужчины крупного телосложения с большой головой, крючковатым носом, длинной бородой и широко расставленными выпученными глазами. Юноша не сомневался, что это Апофис, царь пастухов. Он смотрел на статую долго и мрачно, затем бросил на гвардейцев взгляд, полный гнева и ненависти. Все во дворце и в саду сохранилось в прежнем виде. Исфинис заметил летнюю беседку на высоком холме, окруженную пальмами с высокими грациозными стволами, вспомнил счастливые дни, когда вся семья спешила сюда весной и летом. Его дедушка и отец отдавались игре в шахматы, Нефертари устраивалась между царицей Сеткимус и бабушкой, царицей Ахотеп, а он сидел на коленях у Тетишери. Время шло незаметно, пока они тихо разговаривали, читали стихи и угощались спелыми фруктами. Исфинис сидел так некоторое время, неспешно вспоминая время, проведенное в этом саду, тропинки и сводчатые галереи. Тут явился посыльный.
— Ты готов? — спросил он.
Исфинис встал и ответил:
— Вполне готов, господин.
Собираясь уходить, посыльный приказал:
— Следуй за мной.
Исфинис последовал за посыльным, за ними шли его люди. Они поднялись по лестнице, пересекли царскую сводчатую галерею и оказались на пороге царского зала. Здесь они ждали позволения войти. До слуха Исфиниса донеслась бурная музыка и громкий смех, он услышал шарканье ног танцующих. Он заметил виночерпиев, разносивших кувшины, чаши и цветы. Исфинис понял, что эти люди в дни праздников не ведают ни стыда, когда потакают своим прихотям, ни меры в своем поведении. Царь дозволял им отбросить всякое достоинство и вернуться к диким привычкам. Тут один из рабов назвал Исфиниса по имени, он неторопливо вошел и оказался в середине зала. Вокруг сидели гости в лучших праздничных одеждах и с интересом разглядывали его. Исфинису стало неловко. Он понял, что губернатор прекрасно знает, как разжечь интерес людей. Ханзар рассказал о торговце и его подарках, чтобы возвеличить себя в глазах царя. Губернатор видел в этом доброе предзнаменование. Дойдя до середины зала, Исфинис велел своему сопровождению остановиться и приблизился к трону, почтительно склонив голову. Тоном, в котором звучало рабское повиновение, он произнес:
— Божественный царь, хозяин Нила, фараон Верхнего и Нижнего Египта, повелитель Востока и Запада!
Царь ответил низким звучным голосом:
— Раб, я дарую тебе охранную грамоту.
Исфинис выпрямился и бросил взгляд на человека, сидевшего на троне его отцов и праотцев, и тут же обнаружил его сходство со статуей в саду. В то же время юноша догадался по красному лицу, взгляду и сосуду с вином, стоявшему перед царем, что тот пьян. Царица сидела справа от него, принцесса Аменридис — слева. В царских одеждах она показалась Исфинису мерцающей звездой. Принцесса смотрела на него спокойно и гордо.
Царь бросил на юношу пронзительный взгляд и остался доволен тем, что увидел. Он чуть улыбнулся и произнес охрипшим голосом:
— Клянусь Господом, лицом он не хуже наших вельмож!
Исфинис наклонил голову и ответил:
— Богу было угодно наградить таким лицом одного из рабов фараона.
Царь грубо расхохотался и сказал:
— Я вижу, ты говоришь хорошо. Именно сладкими речами твой народ пытается извлечь наше сочувствие и деньги. Мудрый Сет наградил мечом сильного, а бойким языком слабого раба. Но какое это имеет отношение к тебе? Наш друг Ханзар говорил мне, что ты привез нам подарок из земли Нубии. Покажи нам свой подарок.
Юноша склонил голову и отошел в сторону. Он дал знак своим людям. Двое из них приблизились, неся ларец из слоновой кости, и поставили его перед троном. Юноша подошел, открыл ларец и достал из него двойную корону фараона из чистого золота, усыпанную рубинами, изумрудами, жемчугом и кораллами. Юноша поднял корону, которая ослепила гостей, вызвала возгласы удивления и восторга. Апофис уставился на нее алчным взглядом выпученных глаз. Он снял свою корону, взял новую крупными руками и увенчал ею лысую голову. Казалось, он обрел новое величие. Царь ликовал, его лицо светилось от удовольствия. Он изрек:
— Торговец, я принимаю твой подарок.
Исфинис почтительно поклонился. Затем повернулся к своим людям, подал им особый знак, после чего те отодвинули занавес на паланкине — все увидели трех пигмеев, которые сидели, прижавшись друг к другу. Их неожиданное появление вызвало огромное удивление среди гостей. Многие встали и вытянули шеи. По приказу Исфиниса они спрыгнули на пол, встали в шеренгу, приблизились к трону твердыми осторожными шагами и трижды поклонились фараону, затем безмолвно застыли с каменным выражением лиц.
— Торговец, что это за существа? — спросил царь.
— Это люди, мой повелитель, чьи племена обитают в глубинах Южной Нубии. Они верят, что в мире нет других народов, кроме них. Когда эти люди видят нас, удивление сковывает их языки, и они недоуменно обмениваются возгласами. Я вырастил и хорошо обучил этих трех. Мой повелитель найдет в них образец повиновения, в их обществе можно развлечься и отдохнуть.
Царь трясся от безудержного смеха.
— Глупец тот, кто утверждает, будто знает все, — изрек он. — Ты, молодой человек, внес радость в наши сердца, поэтому я дарю тебе свою благосклонность.
Исфинис наклонил голову и, не поворачиваясь к царю спиной, стал удаляться от трона. Дойдя до центра зала, он почувствовал, что кто-то преградил ему путь и схватил его за руку. Исфинис обернулся, чтобы узнать, кому принадлежит эта толстая рука, и увидел человека в изящной военной форме с красивой бородой, густыми усами. У того от злости пульсировали вены. Раскрасневшееся лицо и безумный блеск глаз говорили о том, что он изрядно пьян. Он приветствовал своего повелителя словами:
— Я не сомневаюсь, что на этом празднике вашему величеству придется по вкусу славный поединок, как того требуют наши традиции. Я приберег для священного лица нашего повелителя кровавый поединок, который приведет зрителей в восторг.
Приблизив сосуд к губам, царь сказал:
— Просто замечательно, когда кровь воинов проливается на полу этого зала. Это развеет скуку! Однако, командир Рух, кто же тот счастливец, на которого пал твой выбор?
Пьяный командир указал на Исфиниса и произнес:
— Вот этот, мой повелитель, станет моим противником.
Царь и его окружение удивились. Апофис спросил:
— Каким образом этот нубийский торговец вызвал у тебя гнев?
— Он спас крестьянку, у которой хватило наглости оскорбить меня, от наказания, заплатив выкуп в пятьдесят кусков золота.
Царь громко и звонко рассмеялся и спросил командира:
— Ты выбрал своим противником крестьянина?
— Мой повелитель, я вижу, что он хорошо сложен и у него крепкие мускулы. Если он не трус, я закрою глаза на его низкое происхождение, чтобы доставить приятное царю и внести свою лепту в этот радостный праздник.
Однако губернатор Ханзар не хотел допустить этого поединка и с упреком взглянул на своего брата, судью Самнута, догадавшись, что тот сообщил командиру о присутствии Исфиниса. Он думал о том, какой потерей обернется для него победа Руха. Он подошел к командиру Руху и властным голосом сказал:
— Командир, непостижимо, как можно осквернить награды, которые ты носишь, в поединке с торговцем.
Но Рух не дал ему договорить:
— Раз позорно сражаться с торговцем, тогда не менее позорно допустить, чтобы раб бросил мне вызов и не получил за это заслуженного наказания. Но когда я увидел, что фараон даровал торговцу свою благосклонность, я решил обойтись с ним по справедливости и дать возможность защитить себя.
Те, кто расслышал слова командира, подумали, что он говорит здраво и справедливо. Они очень надеялись, что торговец согласится на поединок, чтобы можно было поглазеть на противоборство и довести праздничный день до кульминации. Исфинис совсем растерялся и не мог придумать, как выйти из этого положения. Он чувствовал, с каким напряжением люди ждут его ответа, и видел вызывающий и презрительный взгляд, который устремил на него командир. У Исфиниса кровь закипела в жилах. Но тут он вспомнил совет Тетишери и Лату. Если этот грубый командир убьет его, то все пойдет прахом и столь благоприятная возможность восстановить справедливость больше не представится его семье. Кровь Исфиниса остыла, а решимость угасла. Великий Бог! Как ему поступить, чтобы избежать всеобщего презрения? Тут он услышал голос командира:
— Крестьянин, ты бросил мне вызов. Ты готов сразиться со мной?
Исфинис молчал, он был подавлен и ничего не чувствовал. Тут он услышал другой голос: «Оставь этого мальчика в покое! Он ничего не понимает в оружии». Другой голос вторил первому: «Оставь его в покое! Воин сражается душой, а не телом». В этот миг Исфиниса охватил гнев. Он почувствовал, что на его плечо легла рука, и чей-то голос произнес:
— Ты не воин и не будет ничего постыдного, если ты откажешься от поединка.
Исфинис увидел перед собой Ханзара и почувствовал, как дрожь пробежала по его телу от прикосновения руки, которая убила его дедушку. В этот страшный миг он взглянул на трон и заметил, что принцесса Аменридис с интересом разглядывает его. Гнев взял верх и, не отдавая отчета своим действиям, он ясно произнес:
— Я благодарю командира за то, что он снизошел до поединка со мной, и принимаю руку, которую он мне протянул.
Людей охватила неописуемая радость, царь рассмеялся и выпил еще одну чашу вина. Все устремили взгляды на соперников. Командир успокоился и мстительно улыбнулся. Он спросил Исфиниса:
— Ты умеешь обращаться с мечом?
Исфинис поклонился в знак согласия, и противник протянул ему меч. Исфинис снял накидку, и все увидели его верхнюю одежду и шаровары. Его высокое, сильное и стройное тело, прямая осанка и красивое лицо привлекли взгляды. Ему дали щит. Он взял меч правой рукой, щит надел на левую и встал на расстоянии протянутой руки от командира, словно одна из статуй, перед которыми закрылись двери храма.
Царь дал команду начать поединок, и противники обнажили мечи. Разгневанный командир первым ринулся вперед и нанес противнику страшный удар, который считал роковым, однако юноша с удивительной ловкостью уклонился от него, и меч соперника пронзил пустой воздух, командир не дал Исфинису передышки и быстро, точно молния, нанес ему удар, целясь в голову. Однако Исфинис быстрым движением отразил его своим щитом. Со всех сторон раздались восторженные крики, и Рух догадался, что сражается с человеком, который хорошо умеет парировать и наносить удары. Он насторожился, и поединок разгорелся с новой силой. Командир прибег к другой тактике. Противники наносили удары, сходились и расходились, делали ложные выпады и снова сходились. Рух был взбешен, юноша поразительно хладнокровен. Исфинис ловко и уверенно отбивал удары противника. Каждый раз, когда Исфинис с поразительным умением отбивал удар противника, тот еще больше приходил в ярость. Всем стало ясно, что Исфинис умеет хорошо защищаться. Он атаковал лишь для того, чтобы отразить удар и не дать противнику развернуться. Ловкость юноши так поразила зрителей, что они громко восторгались поединком и забыли, что в этой борьбе сошлись представители разных народов. Рух обезумел, атаковал напористо и не жалел сил. Не уставая и не замедляя темпа, он наносил удар за ударом. Одни удары Исфинис отражал щитом, от других ловко уклонялся, оставаясь невредимым, невозмутимым и безгранично уверенным в себе, он не терял бдительности и напоминал неприступную крепость. Рух в отчаянии поднял меч, собрался с силами, чтобы нанести смертельный удар, уверенный, что его противник только о том и думает, как защитить себя. Однако, к удивлению Руха, Исфинис нанес блестящий удар в рукоятку его меча и ранил врага в ладонь. Рука командира ослабла, и юноша нанес еще один удар по его мечу. Меч вылетел из руки Руха и приземлился рядом с троном фараона. Рух остался беззащитным. Кровь текла из его руки. Он не мог сдержать гнева. Зрители громко выражали свой восторг, восхищались смелостью торговца и тем, что он великодушно не воспользовался своим преимуществом.
— Почему бы тебе не прикончить меня и тем завершить поединок? — заорал командир.
— У меня для этого нет причин, — спокойно ответил Исфинис.
Командир стиснул зубы, поклонился царю в приветствии, обернулся и покинул зал. Царь смеялся до упаду, затем дал знак Исфинису. Тот передал меч и щит гофмейстеру и, приблизившись к трону, поклонился царю.
— Твоя манера вести поединок столь же странна, что и твои пигмеи, — заметил царь. — Где ты научился сражаться?
— Божественный царь, в Нубии торговец не может ручаться за сохранность своего каравана, если не умеет защищать себя и своих спутников.
Царь сказал:
— Вот это страна! Мы, мужчины и женщины, тоже умели сражаться, когда совершали переходы по северной части пустыни, но когда мы стали жить во дворцах, пользоваться богатствами и достатком, начали пить вино вместо воды, мир показался нам приятным, и теперь я вынужден смотреть, как командир моей армии терпит поражение в поединке с крестьянином-торговцем.
Пока царь говорил, его лицо сияло, уста улыбались. Губернатор Ханзар приблизился к трону и, поклонившись в приветствии, сказал:
— Мой повелитель, этот юноша храбр и достоин охранной грамоты.
Подвыпивший фараон кивнул и сказал:
— Ты прав, Ханзар. Поединок был справедливым, и я даю ему охранную грамоту.
Губернатор подумал, что наступил удобный случай, и произнес:
— Мой повелитель, юноша готов делать особые услуги для трона, в том числе привозить из Нубии удивительные сокровища в обмен на египетское зерно.
Царь какое-то время смотрел на губернатора, думая о короне, которая украшала его голову. Затем твердо сказал:
— Он имеет на то наше позволение.
Ханзар поклонился в знак благодарности, а Исфинис пал ниц перед фараоном и поцеловал край царских одежд. Затем он покорно встал, еле удерживаясь от соблазна взглянуть на левую сторону трона, и стал пятиться назад, пока не скрылся за дверью большого зала. Он был вне себя от радости, но тут же задался вопросом: «Интересно, что скажет Лату, если узнает о поединке?»
В полночь Исфинис и рабы взошли на корабль и обнаружили, что Лату не спит и дожидается их возвращения. Старик с волнением подошел к юноше, желая услышать последние новости. Исфинис рассказал ему об успехах и испытаниях, которые выпали на его долю во дворце. Лату сказал:
— Вознесем хвалу богу Амону за успех, который он нам даровал! Однако я пренебрег бы своим долгом, если бы откровенно не сказал, что ты сделал грубую ошибку, поддавшись гневу и гордости. Ты не должен был подвергать риску наши великие надежды из-за внезапной вспышки гнева. Разве этот командир не мог убить тебя? Разве царь не мог сразить тебя? Ты не должен ни на миг забывать, что здесь мы рабы, а они хозяева. Мы прибыли сюда просить то, что у них есть. Никогда не забывай, что ты должен казаться им благодарным и преданным, и прежде всего губернатору, который нанес роковой удар твоему дедушке и всему Египту. Сделай это ради Египта, ради тех, кого мы оставили позади себя. Они тревожатся и молятся в Напате!
Старик не сдержался и разразился слезами, затем пошел к себе и начал горячо молиться.
Следующим утром оба отправились к Эбане, как обещали ранее своим товарищам. Эбана, ее сын Яхмос и друзья, включая Сенеба, Хама, Диба и Кома, встретили их. Всем не терпелось узнать новости. Хам сказал:
— Наши сердца томятся от нетерпения, их гложет страх, однако в них горит пламя надежды. В хижинах позади нас остались сотни друзей, которые прошлую ночь не сомкнули глаз.
Исфинис улыбнулся и ответил:
— Друзья, я принес хорошие вести! Царь разрешил нам вести торговлю между Египтом и Нубией.
На лицах друзей отразилась радость, в глазах горела надежда. Лату решительно сказал:
— Настала пора браться за работу. Нельзя терять время попусту! Не забывайте, что впереди долгий путь, так что надо собрать столько людей, сколько мы сможем. Не уставая, уговаривайте простых людей отправиться в путь вместе с нами. Говорите, что они извлекут большие прибыли, но не доверяйте им истинной цели. О ней мы сообщим, когда пересечем границу. Я не сомневаюсь в верности жителей Фив и всего Египта. Приступайте к делу и собирайте
вещи!
Люди повсюду начали действовать скрытно, исполненные радости и веры. Они одевались как рыбаки, спешили к кораблям, занимали все места на палубе и под ней. Перед Исфинисом встала трудная задача. Как переодеть женщин и детей в мужчин и найти им занятие, которое лучше подходит мужчинам и юношам? Или же оставить их, причиняя им и их родственникам страдания? Юноша решил обсудить этот вопрос с ближайшими друзьями. Они долго спорили, пока Яхмос, сын Эбаны, наконец не произнес твердо:
— Господин Исфинис, нам нужна непобедимая армия, состоящая из мужчин. Женщины не должны мешать созданию такой могущественной армии, к тому же ничего плохого не случится, если они останутся в Фивах до тех пор, пока мы не вернемся победителями. Я взываю к нашей воле бороться. Пусть женщины остаются дома, что лучше, чем бросить их в Нубии. Хотя разлука причинит нам боль, пусть каждый потерпит и принесет жертву ради нашей великой цели!
Эбана, находясь под впечатлением этих слов, сказала:
— Какое мудрое решение! Наше место здесь. Мы разделим судьбу с жителями Фив. Если нам суждено умереть, мы умрем, если суждено жить, будем жить.
Все тут же согласились, и женщины смирились с тем, что им придется расстаться с мужьями и сыновьями. Жители южной части Фив проливали горячие слезы в день расставания, неистово молились и не теряли надежд.
В те дни, наполненные великолепными делами и безмолвными жертвами, Исфинис не знал отдыха. Он встречался с мужчинами, навещал семьи, помогал будущим спутникам собраться. Им двигали мечты, думы о настоящем и будущем. Юноша умерял терпением вспышки гнева и желание мести. При этом он был вынужден подавить страстное желание, горевшее в его сердце, преодолевать страсти, одолевавшие его изнутри, что ослабляло ненависть, ведшую битву с любовью. Как много он пережил, сколько вынес за эти несколько дней! Сколько терпения для этого понадобилось, и как он страдал!
Губернатор Юга наконец позволил Исфинису отправиться в путь, выдав ему разрешение пересекать границу, когда он того пожелает. Корабли снялись с якорей и отчалили на рассвете, пока стояла прохлада. Исфинис, Лату и Яхмос, сын Эбаны, заняли места в каюте головного корабля. Их сердца полнились тоской. После прощания с матерью в глазах Яхмоса все еще стояли слезы. Исфинис предался своим мечтам: он думал о Фивах и их жителях. Фивы — самый крупный город на земле, город сотни ворот, обелисков, устремившихся в небо до созвездия Близнецов, великолепных храмов и высоких дворцов, длинных аллей и огромных площадей, рынков, не знающих передышки ни днем, ни ночью.
Славные Фивы, Фивы Амона, который велел закрыть двери своего храма перед верующими на десять лет, пока будет длиться плен. Фивы захватили варвары и заняли положение министров, судей, командиров, знати. Они поработили жителей Фив. Судьба измазала лица жителей грязью тех, кто еще вчера был у них рабами. Из глубин раненой груди юноши вырвался вздох. Затем он мысленно вернулся к тем, кто притаился в трюмах его кораблей. Всеми двигала одна надежда — непоколебимая любовь к Египту, передававшаяся из поколения в поколение. Как они страдали, оставив позади на милость врагу жен, дочерей и сыновей! Возможно, они все столь же храбры, как юный Яхмос, скрывший свою тоску. Среди этих мыслей, набегавших одна на другую, перед мысленным взором Исфиниса возник образ, и он отвернулся от пристального взгляда Лату. Тот снова разозлился бы, узнав, о чем он думает. Исфинис удивлялся, почему его мысли вращаются вокруг ее образа, пребывая в смятении, он подумал: «Разве возможно, чтобы один человек стал предметом любви и ненависти?» Глаза юноши стали печальными, и он сказал про себя: «Как бы там ни было, я больше не увижу ее, так что нет причин для беспокойства. Разве в мире есть сила, способная победить забвение?» Лату прервал его мечтания, заговорив тоном, в котором звучало беспокойство:
— Взгляни на север! Я вижу, что к нам стремительно приближается конвой.
Исфинис и Яхмос оглянулись и увидели конвой из пяти кораблей, на большой скорости разрезавших гребни волн. Было трудно определить, кто находился на них. Расстояние между конвоем и кораблями Исфиниса быстро сокращалось. Вскоре можно было различить людей на палубах кораблей. Исфинис заметил человека, стоявшего на палубе головного корабля, и узнал того.
— Это командир Рух, — сказал он с тревогой в голосе.
Лицо Лату побледнело, и он с растущим волнением спросил:
— Думаешь, они хотят догнать нас?
Исфинис не знал, что ответить. Все с тревогой и опасением следили за конвоем. Лату в голове уже перебрал ряд неблагоприятных возможностей и гневно спросил:
— Этот глупец собирается задержать нас?
Тут Исфинис догадался, что ему придется расплачиваться за свою ошибку, а его кораблям грозит опасность как раз в то время, когда они подходили к надежным берегам. Следя за Рухом, он убедился, что конвой командира быстро сокращает расстояние и уже настигает его корабли. Конвой состоял из пяти кораблей, на палубах которых расположились отряды гвардейцев. Их присутствие явно не сулило ничего хорошего. Головной корабль близился к судну, на котором находился Исфинис, и поравнялся с ним. Юноша заметил, что командир смотрит на него жестким взглядом, и услышал, как тот резким голосом приказал:
— Поставить судна на якоря!
Остальные корабли конвоя изменили направления, чтобы окружить торговые суда. Судовые команды флотилии Исфиниса подчинились, видя, что на кораблях пастухов полно вооруженных до зубов солдат, будто те готовились к бою. Исфинис встревожился еще больше, опасаясь, что одержимый ненавистью командир выместит свой гнев на его людях и сведет на нет надежды целого народа. Он сказал своему спутнику:
— Раз этому человеку потребовалась моя голова, не так уж плохо, если в назревающей битве я погибну первым. Если я погибну, ты, Лату, продолжишь начатое дело. Ты последуешь тем же путем и не дашь гневу взять верх над собой, ибо тогда погибнут наши надежды.
Старик взял его за руку, его неожиданно охватило отчаяние. Но Исфинис твердым голосом продолжил:
— Лату, даю тебе тот же совет, который ты дал мне вчера: избегай неблагоразумного гнева. Я один несу ответственность за свою ошибку. Если ты завтра вернешься к моему отцу, передашь соболезнования за мою смерть и поздравишь его с новым пополнением египетских воинов, которых ты доставишь ему, это лучше, чем вернуться вместе со мной, но уже без всяких надежд на будущее.
Он услышал громкий голос Руха:
— Крестьянин, выходи на середину корабля!
Юноша крепко пожал руку Лату и твердым шагом вышел на середину палубы. Командир, стоявший на палубе своего корабля, обратился к нему:
— Помешанный крестьянин, ты заставил меня выронить меч, когда я был пьян и нетвердо держался на ногах. Сейчас я жду тебя с решимостью в сердце и с твердой рукой.
Догадавшись, что командир по натуре мстителен и собирается вызвать его на поединок, чтобы смыть пятно позора, Исфинис спокойно, уверовав в безопасность своих кораблей, спросил:
— Командир, ты хочешь возобновить поединок?
Тот надменно ответил:
— Верно, раб. На этот раз я убью тебя собственными руками самым ужасным образом.
Исфинис спокойно ответил:
— Я не боюсь твоего вызова. Но ты обещаешь не причинять вреда моим кораблям, каким бы ни был исход поединка?
Командир с презрением ответил:
— Я не трону твои корабли из уважения к желаниям моего повелителя. Они продолжат путь, но твой труп останется здесь.
— Где ты хочешь сразиться?
— На палубе моего корабля.
Не говоря ни слова, юноша прыгнул в лодку и стал грести крепкими руками, пока не причалил к кораблю командира. Он по трапу поднялся на борт и оказался лицом к лицу со своим врагом. Командир одарил Исфиниса жестоким взглядом, его злило спокойствие, самообладание и презрительное выражение на красивом лице юноши. Командир дал знак одному из солдат. Тот протянул юноше меч и щит. Подготовившись к поединку, командир сказал юноше:
— Сегодня не жди пощады.
Командир бросился словно хищный зверь, и они сошлись в страшном поединке. Их окружали вооруженные до зубов солдаты. На носу другого корабля стояли Лату и Яхмос и наблюдали за поединком, время от времени отводя глаза. Командир нанес ряд ударов, которые Исфинис отразил с изумительным искусством. Затем Исфинис нанес сильный удар, который пришелся по щиту недруга, оставив на нем вмятину. Юноша воспользовался благоприятным моментом и ловко перешел в стремительное наступление, заставляя командира отступать. Юноша отражал удары, направленные на него опытным врагом, не давал тому возможности ни передохнуть, ни перейти в контрнаступление. Лицо командира стало злобным, он стиснул зубы в безумном гневе и отчаянно бросился на юношу. Однако тот отступил в сторону и нанес командиру изящный удар, который рассек тому шею. Руки командира ослабели, он перестал сражаться, зашатался, точно пьяный, и рухнул лицом на палубу в лужу собственной крови. Солдаты издали гневный крик и вытащили длинные мечи, готовясь ринуться на юношу, как только офицер, командовавший ими, даст знак. Не сомневаясь в близкой смерти, Исфинис понимал, что сопротивляться бесполезно, ибо на него было нацелено множество стрел. Он покорно ждал смерти, не отрывая глаз от командира Руха, растянувшегося у его ног. В этот роковой миг он услышал гневный голос:
— Офицер, прикажите своим солдатам вложить мечи в ножны!
Исфинису этот голос показался знакомым, его сердце дрогнуло. Юноша повернулся и увидел царский корабль, который почти касался борта судна, на котором закончился поединок. У перил стояла принцесса Аменридис, ее прелестное лицо исказил гнев.
* * *
Солдаты вложили мечи в ножны и отдали честь. Еще не очнувшись от удивления и не веря, что спасся от неизбежной гибели, Исфинис почтительно склонил голову. Принцесса обратилась к офицеру:
— Он убил командира Руха?
Офицер приблизился к Руху, положил руку тому на сердце и осмотрел шею. Затем он встал и ответил:
— Я обнаружил очень опасную рану, ваше высочество, но командир еще дышит.
Принцесса холодно спросила:
— Это был честный поединок?
— Да, ваше высочество.
Принцесса с гневом в голосе спросила:
— Как в таком случае вам могло прийти в голову убить человека, которому царь даровал охранную грамоту?
Лицо офицера выражало смятение, он промолчал. Принцесса приказала властным тоном:
— Освободите торговца и отвезите раненого командира к придворным врачам!
Офицер повиновался и отпустил Исфиниса. Юноша покинул корабль, сел в лодку и направил ее к царскому кораблю, с облегчением подумав: «Как это принцесса успела в самый роковой миг?» Не встречая возражений гвардейцев, он поднялся на борт корабля и обнаружил, что Аменридис вернулась в каюту. Он твердым шагом направился туда и спросил у девушки-рабыни разрешение войти. Девушка исчезла в каюте, затем вернулась и сказала, что он может войти. Сердце Исфиниса сильно забилось, он вошел и застал принцессу на роскошном диване, она лежала на шелковой подушке, ее лицо источало лучезарный свет. Исфинис поклонился ей с неподдельным уважением. Выпрямившись, он увидел на ее шее ожерелье с зеленым изумрудом. Исфинис покраснел. Принцесса заметила чувства, отразившиеся на его лице и в глазах. Указывая пальцем на ожерелье, она спросила приятным мелодичным голосом:
— Ты пришел требовать с меня плату за это ожерелье?
Юношу ободрил ее любезный голос и обрадовал шутливый тон.
— Нет, ваше высочество. Я пришел искренне благодарить вас за то, что вы благословили меня жизнью. Я останусь вашим вечным должником.
На ее губах, словно молния, вспыхнула яркая улыбка. Принцесса ответила:
— Воистину ты обязан мне своей жизнью. Не удивляйся моим словам, ибо я не из тех, кого лицемерие побуждает разыгрывать ложную скромность. Этим утром я обнаружила, что командир отплыл во главе небольшой флотилии, чтобы отрезать путь твоим кораблям. Поэтому я догнала его на этом корабле и увидела часть поединка. Затем в решающий миг я вмешалась, чтобы спасти тебе жизнь.
Благосклонность принцессы означала для его сердца то же, что вода для погибающего от жажды. Взгляд мечтательных глаз Аменридис и открытое признание, что она желала спасти ему жизнь, вселили радость в сердце юноши. Он спросил:
— Можно надеяться, что моя госпожа прямо скажет, раз я узнал о ее нелюбви к лицемерию и притворству, что побудило ее взять на себя труд спасти мою жизнь?
Принцесса ответила весело, точно смеясь над его попытками смутить ее:
— Чтобы сделать тебя своим должником.
— Такой долг делает меня богаче, а не беднее.
Аменридис взглянула на него голубыми глазами, и он почувствовал себя так, точно вот-вот потеряет равновесие и упадет к ее ногам.
— Какой же ты лгун! — воскликнула принцесса. — Разве так разговаривает должник с кредитором, перед тем как повернуться к нему спиной и отправиться в путешествие, из которого никогда не вернется?
— Совсем наоборот, моя госпожа. Должник очень скоро вернется из этого путешествия.
Словно обращаясь к себе, принцесса произнесла:
— Любопытно, какую выгоду мне удастся получить от этого долга.
Сердце юноши громко стучало, он заглянул в голубую бездну глаз принцессы, заметил в них готовность покориться судьбе. Глаза принцессы дарили ему нежность, которая была слаще жизни. Юноше казалось, будто воздух между ними пульсирует от сильного жара и волшебного чувства, сближает их души, готовые слиться воедино. Отбросив всякие предосторожности, Исфинис опустился у ног Аменридис.
Пряди золотистых волос упали ей на лоб и глаза. Она спросила:
— Когда ты вернешься?
Он вздохнул и ответил:
— Через месяц, моя госпожа.
В глазах принцессы мелькнула печаль, и она спросила:
— Но ты ведь намерен вернуться, правда?
— Правда, моя госпожа. Клянусь своей жизнью, которая принадлежит вам, и этой священной каютой!
Аменридис протянула ему руку и сказала:
— До новой встречи.
Исфинис поцеловал ей руку и ответил:
— До новой встречи.
* * *
Лату встретил его с распростертыми объятиями и полными слез глазами.
Он прижал Исфиниса к своей груди, Яхмос бросился ему на шею и поцеловал в лоб. Корабли подняли якоря и полным ходом отправились дальше. Трое мужчин провожали взглядами корабль принцессы, удалявшийся в противоположном направлении, к северу, до тех пор, пока у них не устали глаза. Вернувшись в каюту, они сели, точно ничего не случилось.
Исфинис отвлекался от своих дум тем, что разглядывал деревни и закаленных мужчин с медного цвета телами, но сердце возвращало его к разговору, состоявшемуся в каюте принцессы. Неужели Лату что-то заподозрил? Лату благородный человек, сердце которого состарилось и отвергло все, кроме любви к Египту. К тому же юноша не мог избавиться от мысли, которая преследовала его, — поступил ли он верно или неверно? Но какой смертный сумеет достичь цели, которую ставил перед собой, если не принимать во внимание обстоятельства, с которыми он может столкнуться в пути? Сколько людей хотели подняться в гору, но срывались в глубокое ущелье? И сколько мужчин оперяли стрелы, готовясь к охоте, но сами становились жертвой добычи!
13
Флотилия торговых кораблей без происшествий пересекла границу Египта, мужчины вместе вознесли молитву богу Амону. Они благодарили его за успех, который тот даровал им, и молили осуществить их надежды и избавить их женщин от всякой опасности. Корабли поднимались вверх по течению несколько дней и ночей, пока не пристали к небольшому островку, чтобы дать людям отдохнуть и восстановить силы. Лату пригласил всех сойти на берег и, стоя посреди них вместе с Исфинисом, который занял место справа от него, сказал:
— Братья, позвольте открыть вам секрет. Я хранил его по причинам, которые вы поймете. Знайте, что мы посланы к вам семьей погибшего повелителя Секененры и что Камос, ваш повелитель, ждет нашего прибытия в Напату.
Лица всех выражали удивление и радость.
— Правда, что наша царская семья живет в Напате? — спросил кто-то.
Улыбнувшись, Лату наклонил голову в знак согласия. Другие спрашивали:
— Наша святая мать Тетишери тоже там?
— А наш повелитель Камос, сын Секененры?
— Он там, вы увидите его собственными глазами и услышите собственными ушами.
— А наследник престола Яхмос?
Лату улыбнулся и указал на Исфиниса, затем склонил голову и произнес:
— Господа, представляю вам наследного принца египетского царства, его царское высочество принца Яхмоса.
— Торговец Исфинис — наследный принц Яхмос?!
Яхмос Эбана пал ниц перед ногами принца и расплакался. Остальные поступили так же. Люди плакали, и в то же время радостные возгласы исходили из глубин их сердец.
Флотилия поплыла дальше, всех охватила безграничная радость и сожаления лишь о том, что корабли не могут долететь до Напаты, где их ждали божественный повелитель Камос и святая мать Тетишери. Проходили дни и ночи, и вдруг на горизонте показалась Напата с простыми хижинами и скромными строениями. Город близился, его очертания вырисовывались отчетливее. Корабли встали на якоря в его гавани. Солдаты заметили их и отправились во дворец губернатора. На берегу собралась толпа нубийцев, чтобы поглазеть на корабли и тех, кто прибыл на них. Египтяне сошли на берег во главе с принцем Яхмосом и гофмейстером Гуром. Тут приехала быстрая колесница, из которой вышел Раум, губернатор юга. Он приветствовал принца и тех, кто сопровождал его, передал приветствие царя, его семьи и сообщил, что его величество ждет всех во дворце. Все наградили царя радостными возгласами, затем большими группами последовали за принцем. За ними шествовала толпа нубийцев.
Царская семья устроилась под большим навесом во дворе губернаторского дворца. Десять лет не бесследно прошли. Лица говорили о серьезных намерениях, строгости и печали. Время уже не сотрет эти следы. Больше всего прошедшие годы сказались на двух царицах — Тетишери и Ахотеп. Святая мать уже была не столь гибка, она чуть ссутулилась, душевные муки оставили морщины на лучезарном челе. От прежней Тетишери остались лишь сверкающие глаза, излучавшие мудрость и терпение. Что же до Ахотеп, то седые волосы придали ее голове почтенный вид, а печаль и тревоги оставили следы на милом лице.
Увидев своего повелителя, люди распростерлись ниц. Затем Яхмос подошел к отцу, поцеловал руки матери, царице Сеткимус, бабушке Ахотеп и Тетишери. Он поцеловал в лоб жену, принцессу Нефертари. Яхмос обратился к царю со словами:
— Мой повелитель, Амон даровал нам успех. Представляю вашему величеству первые батальоны Армии освобождения.
Лицо царя озарилось радостью, он встал, поднял скипетр, приветствуя своих людей, которые долго славили его радостными возгласами. Затем все приблизились к царю и один за другим целовали ему руку. Камос сказал:
— Да продлит Бог ваши дни, добрые и храбрые люди, с которыми нас сначала разлучила несправедливость, затем судьба обрекла вас на унижения, а нас заставила вкусить горечь изгнания, длящегося целых десять лет! Однако я вижу, что вы из тех, кто отвергает неравенство и предпочитает безопасной жизни в тени бесчестья боль разлуки с любимыми и нелегкую борьбу. Я вас всегда знал такими, какими вас знал мой отец. Вы приехали, чтобы сражаться за наше дело, которое чуть не погибло, и крепить мое сердце, которое расстроила безразличная судьба. Бог Амон оказал нам любезность, явившись во сне к тому из нас, кто больше всех чист сердцем и лелеет самую великую надежду — к матери Тетишери. Бог велел ей отправить моего сына Яхмоса в страну наших отцов и дедов и привести солдат, которые избавят Египет от врага и унижений. Приветствую вас, воины Египта, солдаты Камоса! Завтра прибудут новые солдаты. Вооружимся терпением и возьмемся за работу. Пусть слово «битва» станет нашим боевым кличем, нашей надеждой, надеждой Египта, а нашей верой — бог Амон!
Все как один крикнули:
— Битва, Египет, Амон!
Затем встала Тетишери, вышла вперед, оперлась о царский посох и обратилась к солдатам сильным и ясным голосом:
— Сыновья страдальных и славных Фив, примите поздравление вашей старой матери и разрешите преподнести вам подарок, который я сделала для вас собственными руками, дабы вы могли трудиться под его сенью.
Она дала знак посохом одному из солдат, тот приблизился к прибывшим и протянул им большой флаг, на котором был изображен храм Амона, окруженный стенами Фив со ста вратами. Нетерпеливые руки схватили флаг, и мужчины вознесли горячие молитвы и хвалу Тетишери и славным Фивам. Тетишери улыбалась, радостный свет озарил ее лицо. Она продолжила:
— Дорогие сыны, разрешите мне сказать, что я никогда не поддавалась отчаянию. Именно от отчаяния предостерегал нас Секененра, когда прощался с нами. Я не перестаю молить Бога продлить отведенные мне судьбой дни, чтобы мне снова удалось видеть Фивы, над которыми будут развеваться наши флаги, а Камос займет трон фараона Верхнего и Нижнего Египта. Сегодня, когда ваши юные руки соединились с моими, я приблизилась к осуществлению этой надежды.
Все снова стали рукоплескать. Царь начал расспрашивать о великих людях Египта, жреце Амона, храме Бога, а гофмейстер отвечал ему как мог. Затем принц Яхмос подвел Яхмоса Эбану, сына командира Пепи, к своему отцу. Царь приветствовал его и сказал:
— Надеюсь, что ты станешь мне столь же дорогим, что и твой отец — доблестный командир, посвятивший себя долгу и отдавший жизнь, исполняя его.
Затем царь пригласил всех прибывших на пир. Они ели и пили за здравие и успех. Все задумались о грядущем дне, о том, что он сулит им. Обитатели Напаты впервые за десять лет уснули с радостью и оптимизмом, с полными надежд сердцами.
Яхмос отправляется на войну
1
Жизнь царской семьи в изгнании не проходила в бездействии, она готовилась к далекому будущему. Тетишери, сердце которой не знало ни отчаяния, ни отдыха, стала движущей силой. Едва прибыв сюда, она просила Раума, губернатора юга, пригласить в Напату самых искусных мастеров и египетских ремесленников, живущих в Нубии. Губернатор отправил гонцов в Арго, Атлал и другие нубийские города. Гонцы вернулись с ремесленниками и рабочими. Пожилая царица потребовала, чтобы сын нанял их делать оружие, шлемы и другое военное снаряжение, строить корабли и боевые колесницы. Чтобы ободрить его, она сказала: — Однажды ты решишь пойти на врага, который незаконно захватил твой трон и страну. Когда этот день наступит, ты ринешься в наступление, имея крупный флот и множество колесниц, которые сметут все на своем пути. Именно так враг наступал на армию твоего отца.
За десять лет Напата превратилась в огромный завод, где строились корабли, боевые колесницы, изготавливалось оружие всех видов. Дни проходили, результаты труда стали очевидны и вселяли новые надежды. Люди, прибывшие с первым конвоем, обнаружили необходимое оружие и материалы в достаточном количестве и начали готовиться с радостью и верой в будущее. Через день после прибытия в Напату их зачислили в армию и готовили под наблюдением офицеров египетского гарнизона в боевых искусствах и применении разных видов оружия. Во время подготовки они не жалели сил и упражнялись от зари до заката.
Никто не щадил себя, ни знатные, ни люди низкого происхождения. Царь Камос лично следил за подготовкой войска и созданием разных батальонов. Для службы на флоте он вместе с наследным принцем отбирал тех, кто лучше всего подходил для этого. Три царицы и юная принцесса настаивали на том, чтобы участвовать в работе наравне со всеми. Они выпрямляли и оперяли стрелы, шили военное обмундирование, часто общались с солдатами, ремесленниками, ели и пили вместе с ними, чтобы ободрить их и вселить уверенность в их сердцах. Как чудесно было видеть мать Тетишери, когда та, не зная усталости, преданно склонялась над работой, ходила среди воинов, наблюдая за их подготовкой и находя слова, вселявшие радость и надежду! Увидев ее, солдаты трепетали от волнения и преданности. Царица улыбалась в ответ и говорила тем, кто находился рядом с ней:
— Корабли и колесницы станут могилами для воинов, которые поведут их в бой, если их сердца не окажутся крепче железа, из которого те сделаны. Смотрите, как работают люди из Фив! Любой из них справится с десятью пастухами с грязными бородами и белой кожей и обратит их в бегство.
И действительно, эти люди, движимые волнением, любовью и ненавистью, казалось, превратились в хищных зверей.
Гофмейстер Гур удалился готовиться ко второму плаванию в Египет. Он удвоил число кораблей, наполнил их трюмы золотом и серебром, пигмеями и экзотическими животными. Тетишери высказала мнение, что ему следует взять с собой верных нубийцев и подарить их знати пастухов в качестве рабов. Они станут скрытыми помощниками египтян, готовыми напасть на врага с тыла, когда начнется война. Царь и гофмейстер Гур пришли в восторг от этой мысли. Гофмейстер тут же взялся за ее претворение в жизнь.
Подготовив корабли, Гур попросил разрешение отчалить. Принц Яхмос ждал этого мгновения с томлением в сердце и одержимый страстью. Он просил, чтобы ему разрешили отправиться в путь в качестве командира флотилии, однако царь, которому стало известно, что произошло с ним и каким опасностям он себя подверг, решил избежать лишнего риска и не позволил принцу отправиться во второе путешествие. Царь сказал:
— Принц, долг велит тебе остаться в Напате.
Слова отца стали для принца неожиданностью и остудили горевшее в его сердце желание, словно вода, выплеснутая на раскаленные уголья. Он искренне молил отца:
— Видеть Египет и общаться с его народом значит избавить мое сердце от недугов, поразивших его.
Царь ответил:
— Ты избавишься от всех недугов в тот день, когда вступишь в Египет как воин во главе Армии освобождения.
Юноша еще раз пытался уговорить отца:
— Я так часто мечтал снова увидеть Фивы!
Однако царь решительно возразил:
— Тебе не придется долго томиться. Наберись терпения и дождись дня, когда начнется сражение!
По тону царя юноша понял, что тот сказал последнее слово. Принц боялся разозлить его новыми увещеваниями. Он склонил голову в знак повиновения, хотя боль пронизывала его сердце и сдавливала дыхание. Яхмос проводил дни в упорной работе и выкраивал немного свободного времени лишь перед сном. Оставаясь наедине с собой, он предавался сладким воспоминаниям о прекрасной каюте на царском корабле, где во время прощания смотрел на ослепительную красоту и испытал нежную страсть. В такие мгновения ему казалось, будто он слышит звонкий голос, обращенный к нему: «До новой встречи!» Тогда из глубины души Яхмоса исторгался вздох, и он с печалью думал: «Настанет ли день новой встречи?»
Однако в те дни Напата стала местом, где человек забывал о себе, своих заботах и сосредотачивал все внимание на самых важных и неотложных делах. Мужчины полностью отдавались работе, занимались боевой подготовкой. Если со стороны Фив дул ветерок и тоска по тем, кого они там оставили, становилась невыносимой, они вздыхали некоторое время, затем принимались с еще большей решимостью за начатое дело. Проходили дни, и они уже не верили, что в мире есть еще что-то, кроме работы и надежды на будущее.
Корабли вернулись с новыми людьми, которые радовались не менее громко, чем их предшественники в день своего прибытия, и с таким же волнением громко вопрошали:
— Где наш повелитель Камос? Где наша мать Тетишери? Где наш принц Яхмос?
Они тоже прибыли в военный лагерь, работали и упражнялись вместе с остальными.
Гофмейстер Гур пришел к принцу Яхмосу и приветствовал его. Он протянул ему письмо и сказал:
— Мне велели передать это письмо вашему высочеству.
Вертя письмо в руках, Яхмос удивленно спросил:
— От кого это письмо?
Однако Гур хранил мрачное молчание, и принца осенила догадка, от которой его сердце затрепетало. Он еле держался на ногах, в его сердце вспыхнул огонь, пока его глаза пробегали по строчкам письма:
С печалью сообщаю тебе, что я взяла к себе в свои покои одного из твоих пигмеев, заботилась о нем, кормила его самой лакомой пищей, одевала его в лучшие наряды, хорошо обращалась с ним. Он полюбил меня, а я его. Однажды я заметила отсутствие пигмея и нигде не могла найти его. Я велела своим юным рабыням-служанкам разыскать его. Они обнаружили, что пигмей сбежал в сад к своим сородичам. Его неверность причинила мне боль, и я отвернулась от него. Ты можешь прислать мне другого пигмея, который способен хранить верность?
Аменридис
Яхмос почувствовал себя так, будто его сердце пронзило тяжелое копье. Казалось, что земля стала уходить из-под его ног. Он бросил взгляд на Гура. Тот пристально следил за ним, пытаясь по его лицу угадать содержание письма.
Юноша удалился, испытывая печаль и боль, твердя себе, что Аменридис так и не узнает, что помешало ему вернуться к ней и что он никогда не сможет рассказать ей о своем горе и переживаниях. Воистину, принцесса всегда будет считать его неверным пигмеем.
Однако Яхмос ни с кем не поделился своими печалями, и никто не догадался, какая борьба разгорается в его сердце, кроме самого близкого человека — Нефертари. Она не знала, что с ним делать, и не понимала, что стоит за его смятением, рассеянностью и печалью в красивых глазах, появлявшейся всякий раз, когда он смотрел перед собой невидящим взором.
Однажды вечером она сказала:
— Яхмос, ты сам не свой.
Эти слова встревожили его и, играя кончиками пальцев с ее косами, он с улыбкой сказал:
— Это просто усталость, моя дорогая. Разве ты не видишь, что ради предстоящей битвы мы готовы горы сдвинуть?
Нефертари покачала головой и ничего не ответила, но юноша насторожился.
Однако Напата никому не давала погрузиться в печаль, ибо работа побеждает любые заботы. Город стал свидетелем трудовых свершений, каких никогда не видывал. Солдаты готовились, появлялись новые корабли, колесницы и оружие, снова и снова отчаливали конвои, груженные золотом, и привозили людей. Минула длинная вереница дней и месяцев, пока не настал счастливый долгожданный миг, и царь Камос, не в силах сдержать радость, пришел к бабушке Тетишери, поцеловал ее в лоб и весело сказал:
— Бабушка, я принес хорошие новости! Армия освобождения готова к бою!
2
Забили походные барабаны, армия построилась батальонами, корабли флота подняли якоря. Тетишери пригласила к себе царя, наследника престола, главных командиров и офицеров и сообщила им:
— Настал счастливый день, которого я долго ждала. Передайте своим храбрым солдатам, что Тетишери умоляет их избавить ее из плена и разбить оковы, лишившие Египта свободы. Пусть девизом каждого станут слова: «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра». Да благословит вас бог Амон и ожесточит ваши сердца!
Все целовали ее тонкую руку, и царь Камос на прощание сказал ей:
— Девизом каждого из нас должны быть слова: «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!» Те из нас, кто погибнут, погибнут с честью, а те, кто останется жить, будут жить достойно.
Жители Напаты, царская семья во главе с губернатором Раумом вышли попрощаться с рвавшейся в бой армией. Били барабаны, играли оркестры, армия выступила в путь, соблюдая традиционный походный порядок. Впереди шли отряды разведчиков со знаменами. Царь возглавлял войско, его окружали слуги, гофмейстеры и командиры, за ними ехала царская гвардия в красивых колесницах. За ними двигался батальон боевых колесниц. Колесницы выстроились рядами, и глаз не видел им конца. Колеса издавали оглушительный скрип, ржание лошадей напоминало резкие завывания ветра. Далее следовал батальон тяжеловооруженных лучников в кольчугах, с луками и колчанами, полными стрел. За ними шел батальон хорошо обученных копейщиков, несших копья и щиты. За ними следовал батальон легкой пехоты, строй замыкали повозки с оружием, продовольствием, палатками. В то же время флот из огромных кораблей поднял паруса. Они везли солдат, вооруженных всеми необходимыми видами оружия — луками, копьями и мечами.
Войска продвигались под звуки оркестра, в молодых гневных сердцах росло волнение. Грозный вид армии вселял благоговейный страх в сердцах и умах. Войска шли весь день, сокращая расстояние, и останавливались с наступлением темноты. Никто не устал, не жаловался на тяготы долгого пути. Все были полны решимости, способной сдвинуть горы. На своем пути войска оставили позади Семну, Бухен, Ибсахлис, Фататсис и Нафис. Они шли, пока не достигли Дабода, последнего нубийского города. Тут им в лицо с Нила подул благоухающий ветерок Египта. Воины разбили лагерь, воздвигли палатки, чтобы восстановить силы после перехода и подготовиться к бою.
Царь и его окружение намечали первый план вторжения. Они хорошо справились с этим. Яхмосу Эбане, самому искусному воину на флоте, отдали приказ прибыть к границе с Египтом с частью кораблей, чтобы пограничники приняли их за торговую флотилию, к которой те уже привыкли. На рассвете четвертого дня после прибытия армии в Дабод небольшая флотилия отчалила к границам Египта. Уже было совсем светло. Яхмос Эбана стоял на палубе корабля в ниспадающих одеждах торговца. Он предъявил пропуск стражам границы и без приключений достиг вод Египта. Яхмос знал, что границу охраняют несколько кораблей и небольшой гарнизон. В его планы входило захватить команды этих кораблей врасплох, затем окружить остров Бига и держать его в осаде до подхода армии и флота. После этого будет легко нанести удар по Сайину, ибо город не успеет подготовиться к обороне. Флотилия плыла дальше свободным строем и приблизилась к южному берегу острова Бига, где стояли корабли пастухов. На палубы кораблей флотилии высыпали солдаты с луками в руках, Яхмос сбросил накидку торговца и предстал в форме офицера. Он приказал солдатам стрелять в тех, кто охранял корабли пастухов. Флотилия Яхмоса быстро подошла к берегу, приблизилась к кораблям неприятеля, прежде чем к ним с берега могла подоспеть помощь. Солдаты набросили сети на корабли пастухов и завладели ими. Они столкнулись с малочисленной охраной и после недолгого сражения подавили сопротивление. Во время этого маневра с корабля Яхмоса вели стрельбу по гвардейцам, находившимся на берегу, и не дали тем прийти на помощь своим товарищам на кораблях. Корабли врага были захвачены без больших потерь со стороны нападавших. Конвой окружил остров Бига, чтобы не дать никому возможности связаться с северными городами. Гарнизон на Биге заметил неожиданный маневр и бросился к берегу, но его тут же окружили и взяли в плен. Корабли гарнизона стали добычей египтян.
Едва закончилось сражение, как на горизонте, рассекая волны, показались подразделения египетского флота. Они направлялись прямо к границе и миновали ее, не встретив никакого сопротивления. Огромные корабли присоединились к флотилии Яхмоса Эбаны и взяли остров в кольцо. Солдаты гарнизона отступили к середине острова, чтобы спастись от стрел, которые летели на них со всех сторон.
Как только передовые части армии вторглись на египетскую территорию и вышли на восточный берег, солдаты гарнизона, окруженные на острове Бига, догадались, что имеют дело не с пиратами, как сначала полагали, а наступающей армией. Кумкаф, командир флота, отдал приказ захватить остров. К нему со всех сторон приблизились корабли, вооруженные до зубов солдаты стали высаживаться на берег, их прикрывали лучники. Затем солдаты начали со всех сторон наступать на гарнизон, занявший позиции в середине острова. Солдаты гарнизона оказались в трудном положении, египтяне стремительно наступали и на земле, и на воде. У них не слушались руки, храбрость оставила их, они бросили оружие и были пленены. Яхмос оказался в первых рядах наступавших и победоносно вошел во дворец губернатора. Он поднял над ним египетский флаг и приказал взять чиновников и знать пастухов в плен так же, как и солдат.
Когда крестьяне, рабочие и слуги на острове увидели египетских солдат, они не могли поверить своим глазам, все, мужчины и женщины, спешили к дворцу нового губернатора, собрались перед ним, пытаясь выяснить, что происходит. В их сердцах боролись надежда и страх. Яхмос Эбана вышел к ним. Они безмолвно уставились на него. Он сказал:
— Да благословит вас бог Амон, защитник египтян и губитель пастухов!
Слово «Амон», которое они не слышали уже десять лет, отдалось в сознании людей как волшебное заклинание, и их лица засияли от радости. Кто-то спросил:
— Вы действительно явились спасти нас?
Дрожащим голосом Яхмос Эбана ответил:
— Мы явились спасти вас и порабощенный Египет, так что радуйтесь! Разве вы не видите это могущественное войско? Это Армия освобождения, войско нашего царя Камоса, сына погибшего мученической смертью фараона Секененры. Она пришла освободить народ и вернуть царю трон.
Люди с удивлением повторяли имя Камоса. Их охватили радость и волнение, они громко и долго приветствовали Яхмоса. Многие опустились на колени, чтобы вознести молитву богу Амону. Кто-то спросил:
— Неужели нашему рабству пришел конец? Неужели мы снова свободные люди, какими были десять лет назад? Неужели прошли те дни, когда нас оскорбляли, были кнутами и палками за то, что мы крестьяне?
Яхмос Эбана рассердился и гневно сказал:
— Не сомневайтесь, времени угнетения, рабства и побоев пришел конец. Оно никогда не вернется. Отныне вы будете жить как свободные люди под великодушным покровительством нашего повелителя Камоса, законного фараона Египта. Вы получите свои земли и дома, а тех, кто незаконно захватил их, бросят в подземные темницы.
Радость охватила страждущие души. Все вместе тут же стали молиться, слова молитвы достигали Амона на небесах и Камоса на земле.
3
Свежим утром царь Камос, наследный принц Яхмос, гофмейстер Гур и их окружение ступили на остров, где люди радостно встречали их, падая ниц, целуя землю перед их ногами. Они громко выкрикивали имена Секененры, Тетишери, принца Яхмоса. Камос жестом руки приветствовал их, разговаривал с людьми, ел фрукты пальмы дум, которые принесли жители, и пил из чаши вино из Мариута вместе со своим окружением и командирами. Все отправились к дворцу губернатора, и царь указом назначил одного из своих верных людей по имени Самар губернатором острова, обязав его обращаться справедливо со всеми и соблюдать законы Египта. На этой же встрече командиры согласились, что на Сайин следует напасть неожиданно при первых лучах света и нанести решающий удар до того, как город успеет проснуться.
Армия рано отошла ко сну, пробудилась перед рассветом и направилась к югу. Флот сопровождал ее, чтобы блокировать небольшие бухты. Солдаты шли среди мрака, на них смотрели сияющие звезды. Солдат охватил гнев, они жаждали мести и битвы. Они приблизились к Сайину, когда ночь стала отступать перед пробуждающимся робким рассветом. На восточном горизонте замерцали первые лучи солнца. Камос отдал колесничим приказ приблизиться к городу с юга и востока. На поддержку им придали батальон лучников и копейщиков. Царь приказал флоту блокировать западный берег города. Выделенные силы атаковали город одновременно с трех сторон. Колесницы вели опытные офицеры, знавшие город и его стратегически важные пункты. Они направили колесницы на казармы и штаб блюстителей порядка. За ними шла вооруженная пехота и учинила врагу бойню, пролив реки крови. В некоторых местах пастухам удалось оказать сопротивление, они отчаянно отбивались, но падали, точно сухие осенние листья, подхваченные бурными ветрами. Флот же не встретил на своем пути ни сопротивления, ни боевых кораблей противника. Корабли приблизились к берегу, с них высадились группы воинов, атаковали дворцы, находившиеся ближе к Нилу, захватили их владельцев, включая губернатора города, судей и главных представителей знати. Затем эти же воины через поля направились к городу.
Внезапность стала главным фактором в этой непродолжительной битве, в ходе которой погибло множество пастухов. Как только над горизонтом взошло солнце и озарило город своими лучами, группы воинов уже захватывали казармы, дворцы и гнали перед собой пленных. Трупы, лежавшие в лужах крови, усеяли улицы и дворы. По окраинам города и близлежащим полям распространилась весть, что Камос, сын Секененры, вошел в Сайин во главе огромной армии и захватил город. Вскоре вспыхнуло кровавое восстание, жители напали на пастухов и убивали их, пока те спали. Они калечили и безжалостно избивали их кнутами.
Многие пастухи в ужасе бежали, как это произошло с египтянами, когда Апофис приближался к Югу со своими колесницами и воинами. Вскоре гнев остыл, армия, вошедшая в город во главе с царем Камосом, установила порядок. Впереди шли оркестр и гвардейцы, несшие развевающиеся флаги. Люди бросились приветствовать царя. Это был славный день.
Офицеры сообщили царю, что множество молодых людей, включая солдат прежнего войска, выразили горячее желание добровольно вступить в армию. Камос пришел в восторг и отправил в город человека по имени Шо, которому приказал собрать и готовить добровольцев, чтобы их можно было включить в армию подготовленными. Командиры также сообщили царю, сколько колесниц и лошадей они захватили в качестве военных трофеев. Их было множество.
Гофмейстер Гур предложил без промедления двинуться дальше, чтобы не дать врагу передохнуть, подготовиться и собрать свое войско.
— Первая настоящая битва состоится у Омбоса, — заявил он.
— Ты прав, Гур, — ответил Камос. — Наверно, уже десятки беженцев стучатся в ворота Омбоса, поэтому застать врага врасплох не удастся. Враг встретит нас подготовленным. Не исключено, что Апофис встретит нас со своим диким войском у Иераконполиса. Так что идем вперед навстречу нашей судьбе!
Египетское войско двинулось вперед по земле и реке, к северу по дороге, ведущей в Омбос. Воины входили во множество деревень и не встретили никакого сопротивления. На пути не попадался ни один пастух, а это означало, что враг забрал свое имущество и, гоня перед собой скот, бежал к Омбосу. Крестьяне вышли приветствовать Армию освобождения и победоносного царя. Они встречали его радостными криками. Их сердца полнились радостью и надеждой. Армия быстро шла вперед и
приблизилась к окраинам Омбоса. Передние отряды разведчиков сообщили, что враг разбил лагерь к югу от города и готов к битве. Его флот средней величины стоит на причале к западу от Омбоса. Царь предугадал, что первая крупная битва состоится у ворот города. Он хотел знать, сколько у пастухов воинов, но разведчикам не удалось это выяснить, поскольку враг стоял лагерем на широкой равнине, к которой было трудно приблизиться. Молодой командир по имени Мхеб сказал:
— Мой повелитель, я думаю, что силы врага в Омбосе не превышают нескольких тысяч.
Царь Камос приказал:
— Приведи ко мне всех офицеров и солдат, которые родом из Омбоса.
Гофмейстер Гур догадался, что царь намерен делать, и сказал:
— Извините меня, мой повелитель, но Омбос за последние десять лет изменился. В городе построили казармы, которых раньше не было. Я это видел своими глазами во время одной из торговых поездок. Вероятно, пастухи считают эти казармы центрами обороны города, расположенного близ границы.
Командир Мхеб сказал:
— Мой повелитель, как бы то ни было, я считаю, что нам следует атаковать небольшими силами, чтобы избежать больших потерь.
Однако принц Яхмос не разделял его мнения и обратился к отцу:
— Мой повелитель, я придерживаюсь противоположного мнения. Я думаю, что мы должны бросить в бой силы, которые сметут сопротивление. Надобно отправить основные силы, чтобы как можно быстрее нанести врагу решающий удар. Этим мы внесем смятение в души воинов, которых собирают в Фивах, готовясь к противоборству с нами. Тогда впредь мы будем иметь дело с воинами, которые уверуют, что противостоять нам — значит идти на верную смерть. Мы ничем не рискуем, ибо наша армия увеличится вдвое за счет добровольцев в каждом захваченном городе. А врагу не удастся восполнить свои потери.
Эти слова понравились царю. Он сказал:
— Мои воины с радостью пожертвуют своими жизнями ради Фив.
Царь знал, что флот играет решающую роль в битвах, ибо способен блокировать берега близ богатых городов и высадить войска в тылу врага. Поэтому он приказал командиру Кумкафу атаковать корабли пастухов, стоявшие на причале к западу от Омбоса.
Две армии сейчас разделяла лишь широкая равнина. Пастухи были воинственны и жестоки, бесстрашны и сильны. В них глубоко засело презрение к египтянам. Не ведая о силах египтян, они первыми пошли в наступление, выслав против них батальон из сотни боевых колесниц. Камос дал приказ к наступлению, и три сотни колесниц ринулись навстречу врагу и окружили его. Поднялись столбы пыли, лошади ржали, звенели луки. Разыгралась жестокая битва. Тут принц Яхмос решил покончить с врагом раз и навсегда. Он бросил еще двести боевых колесниц на пехоту врага, которая, выстроившись перед воротами Омбоса, ждала исхода битвы колесниц. За колесницами двинулись отряды из батальонов лучников и копейщиков. Колесницы налетели на пехоту врага, смяли ее построение, сея неуверенность и ужас, обстреливая ее градом стрел. Ряды пехотинцев дрогнули. Среди них были раненые, убитые. Часть пехотинцев бросились бежать, но их встретили превосходящие силы пеших воинов Яхмоса и стерли пастухов с лица земли. Враг был ошеломлен, он не ожидал, что встретится со столь значительными силами противника. Силы пастухов быстро таяли, всадники падали, колесницы разваливались. Египтяне овладели положением на поле боя за невероятно короткое время. Они бились гневно и неистово, воины наносили удары оружием, которое держали окрепшие от длительной ненависти и негодования руки.
Вооруженные силы взломали ворота Омбоса, ворвались в город, захватили казармы и выбили из них оставшихся вражеских солдат. Офицеры осматривали поле боя, собирали батальоны, выносили раненых и убитых. Царь Камос стоял посреди поля боя в своей колеснице в окружении командиров. Принц Яхмос находился справа от него, а гофмейстер Гур — слева. Пришло сообщение, что флот царя яростно атаковал корабли противника и тот беспорядочно отступил. Царь был доволен и, улыбаясь, сказал своему окружению:
— Удачное начало.
Одежда принца Яхмоса была покрыта пылью, лицо испачкано грязью, со лба капал пот. Он сказал:
— Я с нетерпением жду более упорных битв, чем эта.
Камос ответил:
— Тебе не придется долго ждать.
Он покинул свою колесницу, вместе с окружением прошел вперед и оказался среди трупов пастухов. Он смотрел на убитых и видел, что они изранены стрелами и копьями, а пролившаяся кровь перепачкала белые тела. Царь произнес:
— Не думайте, что это кровь наших врагов — это кровь наших людей, которую сосали пастухи и обрекли наш народ на голодную смерть.
Лицо Камоса осунулось, скрылось за темной маской печали. Устремив взор к небу, он прошептал:
— Пусть твоя душа, мой дорогой отец, пребывает в мире и счастье!
Затем он посмотрел на окружающих и сказал голосом, в котором звучали решимость и смелость:
— Наша сила подвергнется испытанию в двух яростных битвах — за Фивы и Аварис. Если победа останется за нами, мы навсегда освободим родину от пастухов и восстановим Египет дней славного Аменхотепа. Когда мы, как сейчас, будем стоять на трупах тех, кто станет оборонять Аварис?
Царь уже собрался вернуться к своей колеснице, но в этот миг один из «трупов», точно молния, вскочил на ноги, прицелился в Камоса и выпустил стрелу. Никто не успел остановить руку судьбы, никто не успел поразить этого воина до того, как он выпустил стрелу, угодившую царю в грудь. Из уст окружающих вырвался тревожный крик, они пустили стрелы в воина гиксосов, затем поспешили к царю, испытывая ужас и жалость, когда из груди повелителя вырвался тяжелый вздох. Царь зашатался, точно опьяненный, и упал на землю перед наследным принцем.
— Принесите носилки и приведите врача! — крикнул Яхмос.
Яхмос склонился над отцом и дрожащим голосом сказал:
— Отец, отец, ты можешь говорить с нами?
Тут же явился врач, принесли носилки. Царя подняли и очень осторожно положили на носилки. Врач опустился на колени, начал снимать с царя доспехи и верхнюю одежду, чтобы осмотреть грудь. Приближенные к царю безмолвно застыли вокруг носилок и смотрели то на бледное лицо царя, то на врача. Печальная новость облетела поле битвы, и шум прекратился. Затем наступила мертвая тишина, будто могущественная армия перестала существовать.
Врач потянул за стрелу, и из раны тут же хлынула кровь. Лицо царя исказилось от боли, глаза принца потемнели от печали, и он тихо сказал Гуру:
— Великий Боже, царю больно.
Врач промыл рану и наложил на нее травы, но царю не стало лучше. Он открыл глаза и остановил свой взор на Яхмосе. В глазах мелькнула улыбка, и он произнес слабым, едва слышным голосом:
— Я уже думал, что дойду до Авариса, но Богу было угодно, чтобы мое путешествие закончилось здесь, у ворот Омбоса.
Голосом, полным печали, Яхмос воскликнул:
— Отец, пусть Бог возьмет мою душу вместо твоей!
Камос ответил слабым голосом:
— Ни в коем случае! Береги себя, ибо без тебя не обойтись! Будь осторожнее меня и не забывай, что ты должен сражаться до тех пор, пока Аварис, последняя крепость пастухов, не падет и враг до единого человека не покинет нашу землю!
Врач опасался, что попытка говорить может навредить царю, и дал ему знак молчать. Но Камос витал в царстве переживаний, отделявшем смерть от бессмертия. Он сказал изменившимся голосом, который всем показался странным на слух:
— Скажи Тетишери, что я отправился к своему отцу столь же храбро, как и он!
Царь протянул сыну руку, принц встал на колени и прижал отца к своей груди. Прощаясь, отец держался за плечо сына. Затем пальцы Камоса ослабли, и он испустил дух.
4
Врач накрыл тело, все пали ниц перед ним и произнесли прощальную молитву, затем встали, оцепеневшие от печали. Гофмейстер Гур послал за командирами батальонов и главными офицерами. Когда те явились, он обратился к ним со словами:
— Товарищи, с печалью сообщаю вам о смерти нашего славного Камоса. Как его отец, он пал мучеником на поле боя, сражаясь за Египет. Его оторвали от наших сердец, и он перенесся в царство Осириса. Но перед этим царь завещал нам не прекращать сражения до того дня, пока не падет Аварис и враг не покинет наши земли. Как гофмейстер этой благородной семьи приношу вам соболезнования за эту тяжелую утрату и объявляю, что его место займет новый повелитель, Яхмос, сын Камоса, внук Секененры. Да хранит его Бог и дарует ему решающую победу!
Командиры отдали честь телу покойного царя, поклонились Яхмосу, новому повелителю. Гофмейстер разрешил им вернуться к воинам, объявить о гибели Камоса и принятии командования новым царем.
Гур, снедаемый горем, приказал солдатам поднять носилки на плечи. Вытерев глаза, он сказал:
— Да покоится твоя великая душа в счастье и мире рядом с Осирисом! Ты собирался войти в Омбос во главе победоносной армии, но Бог распорядился, чтобы тебя внесли в город на носилках. Однако ты останешься самым благородным среди нас.
Армия вошла в Омбос в традиционном порядке во главе с царем, мертвое тело которого покоилось на носилках. Печальная новость распространилась по городу, чашу победы и смерти осушили одним залпом. Отовсюду прибывали огромные толпы людей приветствовать Армию освобождения и прощаться с погибшим царем. В их сердцах перемешались радость с печалью. Увидев нового царя Яхмоса, люди пали ниц в безмолвной покорности. В этот день не раздалось ни единого радостного возгласа. Жрецы Омбоса приняли тело могучего царя, а Яхмос, выполняя просьбу отца, удалился составить письмо Тетишери и отправил его с гонцом.
Быстрые всадники принесли от флота новость, которая оказалась и радостной, и печальной. Она гласила, что египетский флот победил пастухов и захватил часть вражеских кораблей, однако командир Кумкаф пал. Его место занял офицер Яхмос, он достиг полной победы и сразил командира пастухов собственными руками в жестоком поединке. Чтобы вознаградить Яхмоса Эбану, царь издал приказ назначить его командиром флота.
Следуя политике отца, Яхмос назначил своего друга Хама губернатором Омбоса, велел ему навести порядок в городе и множить армию пригодными к службе мужчинами. Царь сказал Гуру:
— Мы немедленно двинем армию вперед. Пастухи мучили наших людей в мирное время, они удвоят их страдания в ходе войны. Мы должны как можно быстрее помочь нашему многострадальному народу.
Царь вызвал губернатора Хама и обратился к нему в присутствии своего окружения и командиров:
— Знайте, я дал себе слово с того дня, как отправился в Египет в одежде торговца, что отвоюю страну для египтян. Пусть эта мысль станет нашим девизом, когда мы начнем править страной. Пусть избавление страны от белых станет нашим руководящим принципом. Пусть отныне в Египте только египтяне владеют собственностью. Пусть земля принадлежит фараону, а крестьяне пользуются ею по праву, отдавая излишки урожая государству. Все египтяне равны перед законом. Возвыситься над братом позволительно лишь благодаря заслугам. Единственными рабами в этой стране станут пастухи. Наконец, я передаю вам тело своего отца для отправления священных ритуалов.
5
Армия покинула Омбос на рассвете, флот поднял паруса, передовые отряды проходили через деревни, встречая самый теплый и радушный прием, и достигли окраин Великого Аполлонополиса, где начали готовиться, чтобы ринуться в новую битву. Однако передовые отряды не встретили сопротивления и без боя вошли в город. Флот плыл вниз по Нилу, подгоняемый попутным ветром, и не обнаружил кораблей врага. Гур, никогда не забывавший о бдительности, советовал царю отправить разведчиков на восточные поля, чтобы не угодить в ловушку. Армия и флот провели ночь в Великом Аполлонополисе и выступили в путь с рассветом. Царь и его гвардейцы находились во главе армии позади разведчиков. Колесница гофмейстера Гура ехала справа от царя. Вместе с ними ехали приближенные царя, многие из которых были знакомы с этой землей.
— Разве мы сейчас не идем на Иераконполис? — спросил царь Гура.
— Мы идем именно туда, мой повелитель, — ответил гофмейстер. — Это передняя линия обороны Фив и там, в долине, состоится первая жестокая битва между двумя равными армиями.
К полудню от разведчиков поступили сведения, что египетский флот вступил в бой с кораблями пастухов. Судя по количеству кораблей и подразделений, пришли к заключению, что против египтян выступил весь флот врага. Сообщалось также, что развернулась ожесточенная битва. Царь посмотрел на запад с выражением надежды и мольбы на лице. Гур заметил:
— Мой повелитель, пастухи новички по части ведения войны на воде.
Царь ничего не ответил. Солнце близилось к зениту, пока батальоны армии и отряды снабжения продвигались вперед. Яхмос погрузился в размышления. Он представил, как семья встретит новость о гибели Камоса, как мать Сеткимус начнет безутешно горевать, как запечалится бабушка Ахотеп, как застонет терпеливая святая мать Тетишери и как его жена Нефертари, уже ставшая царицей Египта, разразится слезами. Великий Боже! Камос пал жертвой коварства, армия лишилась храброго и опытного воина, а Яхмосу досталось наследство, которое легло на него тяжелым бременем ответственности. Затем он мысленно перенесся в Фивы, где правил Апофис и жители выносили муки и унижения. Он вспомнил Ханзара, смелого, грозного губернатора. Душа Яхмоса никогда не успокоится, пока он не отомстит за отца, которому Ханзар нанес роковой удар. Затем его мысли остановились на принцессе Аменридис. Он вспомнил каюту, где страсть священным огнем пленила его, и спросил себя: «Неужели она все еще вспоминает о приятном торговце Исфинисе и надеется, что тот сдержит свое обещание?»
Тут Гур кашлянул, и это напомнило Яхмосу, что ему не следует тосковать по Аменридис, находясь во главе армии, которая идет освобождать Египет от врага. Яхмос гнал прочь мысли о принцессе. Он взглянул на огромную армию, последние отряды которой скрывались за горизонтом, и мыслями перенесся к сражению, разгоревшемуся на Ниле. В полдень разведчики принесли весть, что два флота сошлись в ожесточенной битве и обе стороны несут огромные потери. Оба флота столь равны, что невозможно предсказать исход. Лицо царя нахмурилось, он не мог скрыть тревоги.
— Мой повелитель, для тревоги нет причин, — сказал Гур. — Флот пастухов крепок и его так просто не одолеть. Наш флот вступил в решающую битву на Ниле.
— Если мы в ней потерпим поражение, то проиграем половину войны, — ответил Яхмос.
Гур уверенно возразил:
— А если победим, мой повелитель, на что я очень рассчитываю, то выиграем всю войну.
К вечеру армия находилась в нескольких часах марша от Иераконполиса. Настала пора сделать привал и отдохнуть перед битвой. Едва армия остановилась, как пришла весть о том, что передовые отряды ведут бои с разрозненными силами армии врага. Яхмос сказал:
— Пастухи уже отдохнули. Нет сомнений, они готовы сразиться с нами прямо сейчас.
Царь приказал отправить на помощь разведчикам колесницы, если на них нападут превосходящие силы. Он также собрал командиров и приказал быть готовыми вступить в бой по первому приказанию.
Яхмос чувствовал бремя огромной ответственности, впервые в жизни возглавя армию. Он еще не сознавал, что является покровителем этой огромной армии и несет ответственность за вечную судьбу Египта. Он сказал Гуру:
— Нам следует выдвинуть войско, чтобы уничтожить колесницы пастухов.
Гофмейстер ответил:
— Так же думает командир вражеской армии. Если удастся уничтожить колесницы пастухов и взять над ними верх в бою, тогда их армия станет мишенью наших лучников.
В этот миг, когда Яхмос решил пойти на риск и бросить свое войско в бой, с Нила прибыли гонцы и сообщили царю, что египетский флот понес серьезные потери и Яхмос Эбана считает, что лучше отступить с главными силами, чтобы перестроиться, но битва не ослабевает. Тревога охватила юного царя, у него возникло предчувствие, что можно потерять огромный флот. Но тут его мысли прервало сообщение, что войско врага перешло в наступление. Царь распрощался с Гуром и придворными, двинулся вперед вместе со своей гвардией и приказал батальону колесниц перейти в наступление. Армия ринулась в бой тремя потоками в сомкнутом строю с такой скоростью и грохотом, что земля содрогнулась, словно началось землетрясение. Едва египтяне заметили наступавшую армию пастухов, устремившуюся на них сплоченными отрядами колесниц, точно ураган, как поняли, что враг бросил в бой необузданные силы, от которых они долго терпели унижения. Злость египтян росла. Клич «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!» сотряс воздух.
Египтяне бросились в атаку, их сердца жаждали битвы и мщения. Обе стороны бились яростно и с исключительной жестокостью, и земля стала красной от крови. Крики солдат смешались с ржанием коней и звоном тетив. Жестокая и беспощадная битва продолжалась до тех пор, пока солнце не стало клониться к горизонту и погружаться в озера крови. Щупальца ночи поползли по небу, обе армии отступили и вернулись в свои лагеря. Яхмос находился в окружении гвардейцев, которые защищали царя во время его вылазок. Встретив своих приближенных во главе с Гуром, Яхмос сказал:
— Это была жестокая битва, мы потеряли храбрых людей.
— Затем он спросил:
— Есть новости о битве на Ниле?
Гофмейстер ответил:
— Оба флота еще сражаются.
— От нашего флота есть новости?
Гур сказал:
— Отступая, флот сражался весь день. Затем мы взяли множество кораблей врага на абордаж. Наступила ночь, но корабли не разошлись. Битва продолжается, и мы ждем дальнейших вестей.
На лице царя появилось выражение усталости, и он сказал своим приближенным:
— Будем молить Бога, чтобы он помог нашим братьям, которые сражаются на Ниле.
6
Армия поднялась с рассветом и начала готовиться к бою. Разведчики принесли важные сведения: в лагере врага всю ночь наблюдалось движение. Некоторые разведчики рискнули приблизиться к полю боя и сообщили, что новые потоки воинов и колесниц всю ночь двигались в сторону Иераконполиса. Движение прекратилось с наступлением рассвета. Подумав, Гур сказал:
— Мой повелитель, враг собирает большую часть своих сил, чтобы обрушиться на нас всей армией. Это неудивительно, ибо, если мы войдем в Иераконполис, то ничто не сможет остановить наше продвижение, кроме стен славных Фив.
С Нила пришли хорошие вести. Царю сообщили, что его флот отчаянно сражался и враг не смог добиться своих целей. Наоборот, многих солдат врага сбросили с кораблей, на которые те сумели взобраться. Флот пастухов был вынужден отойти, потеряв треть своих сил. После этого оба флота на некоторое время прекратили битву. Они снова сошлись после рассвета, причем наступал флот Яхмоса Эбаны. Эти новости обрадовали царя, и он с бодрым настроением стал готовиться к сражению.
С рассветом обе армии вышли на поле боя. Появились ряды колесниц, и египтяне, издав знаменитый боевой клич «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!», бросились в опасный бой точно одержимые. Они сошлись с врагом в смертельной схватке, отвечая ему за прежние обиды, пуская в ход стрелы, копья и мечи. Царь Яхмос, несмотря на яростное сражение, заметил, что из центра армии врага боевые действия управляются с большим искусством. Отряды воинов направлялись то в одно, то в другое место четко и своевременно. Яхмос обнаружил этого способного командира, управлявшего сражением. Им был не губернатор Иераконполиса, а сам Апофис. Тот самый тучный человек с длинной бородой и острым взглядом, которому во дворце в Фивах он подарил усеянную драгоценностями корону. Яхмос предпринял ряд неожиданных вылазок и сражался как доблестный герой. Его гвардия отбивала нападения врага. Любого всадника, который приблизился к царю, в мгновение ока выводили из строя. По мере того как разгоралась битва, новые силы вступали в бой с обеих сторон. Битва не ослабевала до конца дня. В тот момент, когда обе стороны проявляли признаки усталости, на левое крыло египтян ринулся отряд колесниц пастухов под началом бесстрашного воина и стал теснить их с такой силой, что те не смогли остановить их. Образовалась брешь, в которую хлынули колесницы, стремясь либо окружить отступающих египтян, либо напасть на их пехоту. Яхмос догадался, что неустрашимый командир ждал, пока египтяне не устанут, чтобы воспользоваться этим, и держал своих людей в запасе, готовясь нанести решающий удар. Опасаясь, что этот человек и вправду может добиться своей цели и внести смятение в сомкнутые ряды его армии или уничтожить пехоту, царь решил возглавить наступление на центр вражеских сил, чтобы либо окружить их, либо частично блокировать грозного командира пастухов. Царь не стал медлить, ибо возникло опасное положение. Он приказал своим силам перейти в наступление, а сам совершил неожиданный маневр и устремился к центру вражеских сил, что до предела накалило противоборство. Врагу пришлось отступить под безудержным натиском египтян. В то же время Яхмос бросил в бой группу колесниц с целью окружить силы, теснившие его левое крыло. Командир вражеских сил оказался очень проницательным и разгадал план царя. Он чуть не пробил брешь в рядах египтян, бросил небольшую группу колесниц на противника, а сам быстро отступил с остальными силами в расположение армии пастухов. Во время этой важной операции Яхмос разглядел смелого командира и узнал в нем Ханзара, великого губернатора Юга, отличавшегося крупным телосложением и стальными мышцами. Его нападение стоило египтянам больших потерь среди цвета колесничих. Вскоре после этого битва закончилась, царь и его армия вернулась в лагерь. Разъяренный Яхмос с угрозой в голосе произнес: «Ханзар, мы неизбежно встретимся лицом к лицу». В лагере воины встретили царя молитвами. Среди них он увидел только что прибывшего Яхмоса Эбану. Обнадеженный его присутствием, царь спросил:
— Какие новости, командир?
Яхмос Эбана ответил:
— Победа, мой повелитель. Мы нанесли поражение флоту пастухов, захватили четыре крупных корабля, потопили половину их флота. Остальные корабли беспорядочно отступили. Они ничем не смогли помочь пастухам.
Лицо царя просияло, он положил руку на плечо командира и сказал:
— Этой победой ты выиграл половину войны за Египет. Я горжусь тобой.
Яхмос Эбана покраснел и радостно ответил:
— Нет сомнений, мы дорого заплатили за эту победу, но теперь мы полностью господствуем над Нилом.
— Враг нанес нам серьезные потери, — озабоченно сказал царь. — Боюсь, нам не удастся восполнить их. Эту войну выиграет тот, кто сумеет уничтожить колесницы противника. — Царь умолк, затем продолжил: — Наши губернаторы на юге готовят солдат, строят корабли и колесницы. Однако подготовка колесничих требует времени, и в предстоящей битве нас выручит храбрость. Нельзя допустить, чтобы вражеские колесницы снова напали на нашу пехоту.
7
С рассветом армия начала готовиться к сражению. Царь облачился в боевые одежды и принял своих людей в палатке.
— Я принял решение сразиться с Ханзаром в поединке, — заявил он.
Слова царя встревожили Гура. Он со страстной мольбой в голосе сказал:
— Мой повелитель, один безрассудный удар не должен уничтожить плоды наших усилий.
Каждый командир умолял царя позволить ему сразиться с губернатором Юга, но Яхмос поблагодарил их и отклонил эти просьбы.
— Никакая неудача, сколь велика бы она ни была, не может перечеркнуть наши усилия, — ответил он Гуру. — Если я погибну, ничто не остановит наше продвижение. В моей армии нет недостатка в командирах, а в моей стране достаточно людей. Я не могу отказаться от встречи с убийцей Секененры. Так что позвольте мне сразиться с ним и воздать должное благородной душе, которая смотрит на меня из Другого мира. Бог проклинает тех, кто колеблется и проявляет слабость!
Царь отправил офицера сообщить о своем желании противнику. Тот вышел на середину поля и выкрикнул:
— Враг! Фараон Египта желает сразиться с командиром Ханзаром в поединке, дабы рассчитаться по старому счету.
От Ханзара вышел воин и объявил:
— Передайте тому, кто называет себя фараоном, что командир Ханзар никогда не отказывает врагу в чести умереть от своего меча.
Яхмос вскочил на чистокровного боевого коня, вложил меч в ножны, копье в чехол, пришпорил коня и выехал на поле. Он увидел, что высокомерный и гордый враг устремился к нему на сером коне, напоминая огромную гранитную глыбу.
Оба постепенно сближались, вскоре головы их коней почти коснулись. Противники внимательно разглядывали друг друга, Ханзар не смог скрыть удивления, не веря своим глазам, он воскликнул:
— Великий Боже! Кто это предо мной? Разве это не Исфинис, торговец пигмеями и жемчугом? Вот это шутка! Как сейчас идут твои дела, торговец Исфинис?
Яхмос безмолвно и серьезно смотрел на него.
— Исфиниса больше нет, командир Ханзар, и у меня нет иного дела, чем это, — ответил он, указывая на свой меч.
— Кто же ты в таком случае? — овладев собой, спросил Ханзар.
— Яхмос, фараон Египта, — последовал простой и спокойный ответ.
Ханзар громко расхохотался, его смех эхом отдался в поле. Он с усмешкой спросил:
— Кто же назначил тебя правителем Египта, ведь его царем является тот, кто носит двойную корону, которую ты подарил ему, стоя на одном колене!
— Меня назначил тот, кто до того назначал моего отца и моих праотцев, — ответил Яхмос. — Знай, командир Ханзар, ты погибнешь от руки внука Секененры.
Лицо губернатора стало серьезным, и он спокойно ответил:
— Секененра. Я помню того человека, чья неудачная судьба предопределила, что меня однажды попытаются убить. Я начинаю понимать все, извини, что я так долго думал. Мы, гиксосы, совершаем подвиги на поле боя, не отличаемся хитростью и не знаем иного языка, кроме меча. Что же до вас, египтян, претендующих на трон, то вы скрываетесь под длинными накидками торговцев, прежде чем набраться смелости и облачиться в одежды царей. Пусть будет так, как ты желаешь. Исфинис, ты действительно собираешься сразиться со мной один на один?
— Какие бы одежды мы ни носили, они наши, — страстно ответил Яхмос. — Однако вы так и не научились носить одежду, пока не вторглись в Египет. И не называй меня Исфинисом. Я Яхмос, ведь ты знаешь, что я сын Камоса, отцом которого был Секененра из почетного рода. Он родился в знаменитых Фивах и никогда не кочевал по пустыням, не имея кровли над головой, и не пас стада. Воистину я собираюсь биться с тобой один на один. Для тебя это честь, ибо я воздам должное величайшему человеку Фив.
— Вижу, самомнение ослепило тебя, и ты не представляешь, чего стоишь на самом деле, — воскликнул Ханзар. — Ты думаешь, что победа над командиром Рухом дает тебе право стоять передо мной. Да смилостивиться над тобой Бог, надменный юноша! Какое оружие ты выбираешь?
— Меч, если тебе угодно, — ответил Яхмос с усмешкой на губах.
— Меч — мой лучший друг, — сказал Ханзар, пожав широкими плечами.
Ханзар спрыгнул с коня и передал поводья своему оруженосцу. Затем обнажил меч и взял щит. Так же поступил Яхмос, и оба молча встали друг против друга на расстоянии двух вытянутых рук.
— Начнем? — спросил Яхмос.
— Как чудесны эти мгновения, когда перешептываются Жизнь и Смерть! — смеясь, ответил Ханзар. — Нападай, молодой человек!
При этих словах царь ринулся вперед, смело атаковал своего огромного противника и нанес Ханзару мощный удар, который тот отразил щитом. Затем губернатор перешел в наступление.
— Хороший удар, Исфинис! — похвалил он. — Мне кажется, звон твоего меча о мой щит напоминает мелодию смерти. Хорошее начало, хорошее начало! Моя грудь приветствует посланников смерти. Как часто смерть хотела обнять меня, когда я резвился среди ее когтей. Затем смерть, сбитая с толку, отпускала меня, сообразив, что в действительности явилась забрать совсем другого!
Ханзар дрался, не переставая говорить, точно искусный танцор, поющий во время исполнения своего номера. Яхмос, понимая, что соперник со стальными мышцами упрям и бесстрашен, очень хитер, легок на ногах, мастер атаки и притворства, использовал все свое умение и силу, чтобы отразить нацеленные на него удары. Он понимал, что эти удары смертельны и от них нет исцеления, если они достигнут цели. Несмотря на это, он принял на щит удар, чью мощь ощутил. Яхмос заметил, что соперник уверенно улыбается. Это вызвало в нем прилив гнева и ярости, и он нанес противнику сильный удар, который тот парировал щитом. Пытаясь совладать со своими нервами и волей, он спросил Яхмоса:
— Где сработан твой прочный меч?
Сдерживая свои чувства, Яхмос ответил:
— В Напате, далеко на юге.
Уклоняясь от удара, нанесенного царем, Ханзар сказал:
— Мой меч сработан в Мемфисе руками египетских ремесленников. Тот, кто делал его, не догадывался, что вкладывает в мои руки оружие, которым я убью его повелителя, торгующего и сражающегося ради него.
Яхмос ответил:
— Как он обрадуется завтра, узнав, что этот меч принес гибель врагу его страны!
Яхмос выжидал удобного случая, чтобы перейти в наступление, и, едва закончив говорить, один за другим нанес грозному сопернику три молниеносных удара. Ханзар отразил их щитом и мечом, но ему пришлось отступить на несколько шагов. Царь бросился за ним и атаковал противника, нанося удар за ударом. Понимая, что сражение принимает для него опасный оборот, Ханзар перестал отпускать шутки в адрес соперника. Улыбка исчезла с его лица. Он нахмурился и защищался от атак соперника с большим умением и храбростью, выказывая невероятное искусство и доблесть. Кончик его меча пробил шлем Яхмоса, и пастух, считая, что уже разделался с упрямым соперником, громко выразил свою радость. Яхмос подумал про себя: «Неужели я ранен?» Однако он не чувствовал ни усталости, ни слабости и, собрав все силы, нанес противнику мощный удар, который тот принял на щит. Удар был такой силы, что Ханзар выпустил щит из руки. С одной стороны раздались крики радости, с другой — гнева. Яхмос остановился и уставился на своего противника с улыбкой победителя. Ханзар размахивал мечом и собирался продолжать единоборство без щита. Яхмос тут же снял свой щит и отбросил его в сторону. На лице Ханзара появилось удивление, и он произнес:
— Благородство достойно царя!
Противники возобновили поединок и обменялись двумя мощными ударами, но Яхмос оказался быстрее, и один его удар пришелся по мощной шее соперника. Ханзар стал корчиться в ужасных судорогах, его рука выпустила эфес меча. Он свалился, словно рухнувшее здание. Яхмос медленно приблизился к сопернику, с уважением посмотрел на него и сказал:
— Ты доблестный и бесстрашный воин, губернатор Ханзар!
— Верно говоришь, царь. После меня больше ни один воин не устоит перед тобой, — вымолвил Ханзар и испустил дух.
Яхмос поднял меч Ханзара, положил его рядом с телом противника, вскочил на коня и вернулся в свой лагерь, зная, что пастухи будут сражаться неистово и с жаждой мести. Приблизившись к колесничим египтян, он громко сказал:
— Солдаты, повторите наш бессмертный клич «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!». И не забудьте, что наша судьба зависит от исхода этой битвы. Не допустите, чтобы плоды многолетнего терпения и борьбы поколений погибли из-за мимолетной слабости!
Египтяне в едином порыве бросились в наступление вслед за своим царем. Битва не утихала до заката.
Так продолжалось десять дней.
8
Вечером десятого дня царь Яхмос вернулся с поля боя измученный, его силы были на исходе. Он пригласил к себе приближенных и командиров. Хотя гибель Ханзара стала для армии пастухов невосполнимой потерей, их батальоны колесниц продолжали оказывать сопротивление и отражать атаки египтян, которые несли немалые потери. Царь испытывал тревогу и опасался, как бы враг через несколько дней не уничтожил его батальон колесниц. В тот вечер царя печалило то, что погибло много его храбрых колесничих, которые не отступали перед лицом смерти. «Иераконполис, Иераконполис! Что принесет нам этот город — победу или поражение?» — с тревогой думал он.
Присутствующие гневались и печалились не меньше царя, но усталость и волнение на его красивом лице встревожили их.
— Мой повелитель, наши колесничие в полном составе и изо всех сил бьются с батальоном колесниц пастухов, — сказал гофмейстер Гур. — Так что потери нас не страшат. Если мы скоро победим врага и уничтожим колесницы пастухов, их пехота не устоит перед нами. Пастухи, спасаясь от наших колесниц, скроются за стенами своих крепостей.
Царь ответил:
— Моя главная цель — уничтожить колесницы врага и сохранить значительную часть наших колесниц, которые со временем обеспечат нам преимущество на поле боя. Как раз такое преимущество дали противнику его колесницы, когда пастухи напали на Фивы. Я опасаюсь, что наши колесницы будут уничтожены и нам придется вести длительную войну, в ходе которой не уцелеет ни один город.
Царь велел уточнить недавние потери. Египетский батальон потерял одну треть колесниц и людей.
— У нас осталось всего две тысячи колесниц, — сказал царь, обращаясь к приближенным. — Каковы, по-вашему, потери врага?
— Мой повелитель, думаю, что его потери не меньше наших, — ответил командир Диб. — Скорее всего они больше.
Царь склонил голову и задумался. Затем он посмотрел на своих людей и сказал:
— Завтра все прояснится. Завтра настанет решающий день, в этом нет сомнений. Возможно, наш враг, как и мы, или даже больше нас испытывает тревогу и сомнения. Как бы то ни было, никто не станет винить нас, и мы не станем никого винить. Богу известно, что мы все отдаем битве и не щадим своих жизней.
— Наш флот сейчас не сражается, почему бы не использовать его, чтобы высадить войска в тылу врага между Иераконполисом и Нехебом? — спросил Диб.
— Наш флот теперь полный хозяин над Нилом, но мы не имеем права рисковать и высаживать войска в тылу врага, пока не вся его армия участвует в бою, — ответил Яхмос Эбана. — Дело в том, что сейчас в битве участвуют два батальона колесниц, а остальная часть армии в полной готовности ждет своего часа за пределами поля боя.
— Мой повелитель, разве у нас в запасе нет колесниц? — спросил один из жрецов Омбоса.
— У нас было шесть тысяч колесничих, доблестно сражавшихся в изматывающей войне, — ответил Яхмос. — За двенадцать адских дней мы потеряли четыре тысячи.
— Мой повелитель, в Сайине, Омбосе и Великом Аполлонополисе все время изготавливаются колесницы и готовятся колесничие, — сказал Гур.
Яхмос Эбана, не теряя оптимизма, добавил:
— Нам достаточно боевого клича «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!», которому нас учила святая мать Тетишери. Наших колесничих не покорить, наша пехота рвется в бой. Будем все время помнить, что Бог знал, почему отправил вас в Египет.
Слова юного командира ободрили всех, царь лучезарно улыбнулся. Как обычно, армия ночью отдохнула, пробудилась на рассвете и стала готовиться к бою. Когда засверкали первые лучи солнца, с места тронулся батальон колесниц, посреди которого находились царь и его гвардия. Царь, взглянув на поле боя, удивился, когда не обнаружил там противника. Присмотревшись, он вдали разглядел стены Иераконполиса. Между египтянами и городом не было ни одного пастуха. Однако удивляться ему пришлось недолго. Явились разведчики и доложили, что армия Апофиса со всеми огромными подразделениями покинула поле боя, ночью оставила Иераконполис и быстрым маршем направилась к северу.
— Теперь все ясно, — не сдержавшись, сказал командир Мхеб. — Нет сомнений, колесницы врага уничтожены, и Апофис предпочел скрыться в своих крепостях, вместо того чтобы подставлять пехоту нашим колесницам.
— Мой повелитель, мы победили в великой битве за Иераконполис, — радостно воскликнул командир Диб.
— Вы думаете, что грозовые тучи прошли мимо? — спросил царь Яхмос. — Вы считаете, что опасности действительно миновали? — Затем он повернулся к Дибу и добавил: — Признаемся, что мы уничтожили колесницы пастухов и не более того.
Эту новость узнали все и были вне себя от радости. Люди из окружения Яхмоса спешили к царю и поздравляли его с бесспорной победой, которую им подарил Бог. Яхмос вошел в Иераконполис во главе армии, люди с полей, где они скрывались, опасаясь мести пастухов, спешили приветствовать своего царя и Армию освобождения громкими возгласами, которые возносились до самых небес.
Царь первым делом вознес молитву богу Амону, протянувшему ему руку помощи, когда он был на грани отчаяния.
9
После ожесточенной битвы, продолжавшейся двенадцать дней, армии дали отдохнуть несколько дней в Иераконполисе. Царь за это время решил навести порядок в городе и восстановить египетское правление, вернуть сельским хозяйствам, рынкам и храмам египетский облик. Отступая, враг разграбил и разрушил город.
Армия двинулась к северу, флот в то же время поднял паруса. В полдень того же дня армия вошла в Нехеб, не встретив никакого сопротивления. Она оставалась там до рассвета следующего дня, затем двинулась дальше, занимая деревни, поднимая над ними египетский флаг, не встречая при этом никаких вражеских сил. Через три дня египтяне приблизились к долине Латополиса. Царь и его приближенные подумали, что враг начнет оборонять ее, поэтому Яхмос отправил вооруженные подразделения в город, а Яхмос Эбана блокировал западные подступы к нему. Однако авангард вошел в город, не встретив сопротивления. Следом в город мирно вступила армия. Жители рассказали, что армия Апофиса прошла мимо города, неся с собой раненых. Напуганные пастухи, владевшие домами и сельскими угодьями, прихватили с собой мебель, драгоценности и в страшной спешке следовали за армией.
Громадная армия египтян продолжала идти вперед, занимая деревни и города без всякого сопротивления, пока не достигла Тирта, который тогда назывался Гермонтисом. Всем не терпелось встретить врага, чтобы сорвать на нем злость, которая накопилась в их сердцах. Однако лица воинов сияли от радости, когда они поднимали флаг над деревней или городом. Египтяне чувствовали, что они освобождают частичку родной земли. Новость об уничтожении колесниц врага ободрила войска, вселила надежду и радость в сердца воинов. Они шагали медного цвета ногами по долине, распевая веселые песни, пока перед ними не выросли высокие стены города Хабу, стоявшего на пути к Фивам. В этом месте долина круто спускалась вниз в южном направлении. Авангард двинулся вперед, но этот город тоже никто не оборонял, и армия беспрепятственно вошла в него. Сердца солдат полнились радостью, ибо Хабу и Фивы были похожи на ветви одного дерева. Здесь родились многие доблестные солдаты. На площадях все радостно обнимались горячо и неистово, выражая свои чувства. Затем армия двинулась дальше к северу, солдаты были полны надежд и жажды добиться своей цели, понимая, что скоро грянет решающий бой, который определит ход истории и судьбу Египта. Воины спустились в огромную долину, которую жители Фив называли «Дорогой Амона». Чем дальше они шли, тем шире становилась долина. Наконец воины увидели большую стену со многими воротами к востоку и западу, которые преграждали им путь. Над стеной возвышались обелиски, храмы, высокие здания. Все здесь дышало славой и бессмертием, все навевало воспоминания о величии. Видя все это, солдаты испытали бурный прилив волнения и тоски по дому. Открывшийся перед воинами вид тронул их сердца, и долина сотряслась от криков: «Фивы! Фивы!» Это слово было у всех на устах, сердца солдат пылали, они повторяли его до тех пор, пока слезы не заставили их позабыть о гордости. Суровые воины плакали, не стесняясь. Старик Гур плакал вместе с ними.
Огромная армия разбила лагерь, Яхмос занял место посреди него. Над ним развевался флаг, который своими руками вышила Тетишери. Яхмос мечтательно смотрел на город.
— Фивы, Фивы, земля славы, пристанище наших отцов и дедов, завтра над тобой засияет новое утро! — торжественно произнес он.
10
Царь вызвал командира Яхмоса Эбану и сказал:
— Я поручаю тебе западный берег Фив. Можешь вести наступление или блокировать его. Поступай, как считаешь уместным, действуй по обстоятельствам.
Люди царя стали обдумывать план наступления на Фивы. Командир Мхеб сказал:
— Стены Фив прочны и грозны и попытка взять их приступом будет стоить многих жизней. Однако без наступления не обойтись, ибо в город можно проникнуть только через восточные ворота.
— Лучше бы осадить город и измором вынудить к сдаче, — сказал командир Диб. — Но мы даже на мгновение не можем допустить мысль о том, чтобы морить Фивы голодом. Поэтому остается лишь штурмовать стены города. У нас для этого есть средства — лестницы и осадные башни, но их мало. Мы надеемся получить эти средства в достаточных количествах. Как бы то ни было, если за Фивы придется заплатить высокую цену, мы с радостью пойдем на это.
— Это верно, — подтвердил Яхмос. — Нельзя терять времени, ибо жители не смогут покинуть город, и тогда их настигнет жестокая месть врага.
В тот же день флот египтян приблизился к западному берегу Фив и обнаружил там флот пастухов, собранный из кораблей, покинувших Иераконполис. Египетский флот пошел в наступление, и началось ожесточенное сражение. Однако превосходство египтян в воинах и кораблях было значительным, они окружили врага и подвергли его уничтожающему обстрелу.
Яхмос отправил батальоны лучников и копейщиков испытать силы обороняющегося врага. Те начали обстреливать укрепленные пункты вдоль большой стены и обнаружили, что пастухи расставили там стойких гвардейцев и обеспечили их неисчерпаемым запасом вооружения. Командиры египтян перестроили свои порядки, и когда последовал приказ идти в наступление, они отправили отряды солдат, защищенных доспехами, в разные стороны долины, чтобы те могли обстреливать стены во многих местах. Ожесточенное сражение продолжалось, из лагеря в бой один за другим шли отряды солдат, жаждущих битвы. Они сражались, пренебрегая смертельной опасностью, и дорого заплатили за свою храбрость. День закончился страшной бойней. Царь удручился, видя раненых и погибших, и воскликнул:
— Мои воины не боятся смерти, а смерть пожинает богатый урожай.
Смотря на поле боя с
пронзительной болью, Гур сказал:
— Какая битва, мой повелитель! Все поле усеяно телами…
У командира Мхеба лицо помрачнело, одежда покрылась пылью. Он спросил:
— Разве во время наступления мы не смотрим смерти в лицо?
— Я не стану бросать свою армию на верную гибель, — сказал Яхмос. — Лучше послать в бой ограниченное количество воинов, защищенных осадными башнями, и нанести потери врагу в тех местах, которые удастся преодолеть.
Царь пребывал в глубокой тревоге, которую не рассеяла даже весть гонцов о том, что египтяне разбили остатки флота пастухов и полностью завладели Нилом. В тот вечер гонец, которого царь отправил в Напату к своей семье, вернулся с письмом от Тетишери. Яхмос разгладил письмо и стал читать:
От Тетишери моему внуку и повелителю, фараону Египта, Яхмосу, сыну Камоса, за сохранение ценной жизни которого я молю великодушного Бога. Пусть Бог направит его мысли по верному пути, крепит его сердце верой и руку для поражения врага. Гонец принес нам весть о смерти твоего доблестного отца Камоса и сообщил его последние слова, обращенные ко мне. Мне кажется уместным в тот миг, когда ты сражаешься с врагом, сказать в нескольких строках о том, что обременяет наши сердца, ибо мое сердце дважды за одну короткую жизнь испытало смерть. Но соболезнование не чуждо тем, кто сражается в горниле страшной войны, где жизнь ничего не стоит, и отважные воины идут навстречу смерти. Не стану скрывать от тебя, весть гонца о гибели Камоса и победе нашей армии, вопреки боли и горю, мне дороже. Хуже было бы, если бы Камос явился ко мне с вестью о поражении. Так что продолжай начатое сражение, пусть милостивый Бог благословит тебя своей заботой. Пусть молитва моего сердца и нежных сердец моего окружения, которые разрываются между печалью, силой духа и надеждой, хранит тебя! Знай, мой повелитель, что мы отправимся в город Дабод, ближе к границе с нашей страной, чтобы быть рядом с твоими гонцами. Прощай.
Яхмос прочитал письмо и почувствовал страшную боль и страстную надежду, которая скрывалась за этими строками. Перед его взором возникли лица тех, кто остался в Напате: Тетишери с изможденным лицом и седыми волосами, величественная и печальная бабушка Ахотеп, его добрая мать Сеткимус, большеглазая и стройная жена Нефертари. Он тихо сказал про себя: «Великий Бог, Тетишери спокойно и с надеждой принимает на себя эти ужасные удары, вопреки печали она не забывает о цели, к которой мы стремимся. Я никогда не забуду ее мудрость, она станет мне образцом для ума и сердца!»
11
Захватив в плен корабли пастухов, флот египтян продолжал выполнять стоявшую перед ним задачу. Он блокировал западный берег, вселяя страх в сердцах обитателей дворцов, возвышавшихся над Нилом. Лучники стреляли в форты на берегу, оборонявшиеся отвечали им тем же. Однако флот не собирался атаковать эти форты, поскольку они были хорошо укреплены и находились слишком высоко по сравнению с уровнем Нила во время сбора урожая. Флот ограничился тем, что прощупывал возможности оборонявшихся и держал их в осаде. Душа тянула Яхмоса Эбану к южному берегу, где жили рыбаки, где билось нежное, любящее его сердце. Он подумал, что там сможет проникнуть в Фивы. Однако пастухи оказались более осторожны, чем он ожидал. Они отобрали у египтян тот обширный берег и разместили на нем хорошо вооруженных гвардейцев.
Царь Яхмос решил воздержаться от массированного наступления и отправил в бой элитные подразделения обученных воинов под прикрытием высоких щитов. Они соревновались с защитниками крепкой стены в разных хитростях и точной стрельбе, без устали показывали свое традиционное искусство и высокую точность. Сражение продолжалось несколько дней. Было трудно предсказать, чем оно закончится. Все больше беспокоясь, царь сказал:
— Врагу не следует давать передышки, чтобы он не смог перестроиться или создать новые батальоны колесниц. — Яхмос схватился за эфес меча. — Я отдам приказ возобновить наступление всеми силами. Если без потерь не обойтись, тогда не станем жалеть себя, как полагается воинам, которые поклялись освободить Египет от тяжелого ига врага. Я отправлю гонцов к губернаторам юга с приказом, чтобы те делали осадные орудия и хорошо защищенные осадные башни.
Царь отдал приказ к наступлению и сам следил за расстановкой батальонов лучников и копейщиков на широком поле боя. Командир Мхеб был на правом фланге, командир Диб — на левом. Египтяне катились вперед, словно широкие волны. Догнав переднюю волну, следующая заполняла освободившееся место и тут же вступала в бой с врагом, скрывавшимся за вселяющими страх стенами. Время шло, на поле выходили все новые отряды воинов и приближались к стене Фив. Египтяне стали наносить врагу огромные потери, хотя сами тоже несли значительный урон. И все же египтяне потеряли меньше, чем в первый день. Сражение продолжалось еще несколько дней. Правый фланг египтян усилил нажим на врага, и ему удалось подавить одну из оборонительных точек, уничтожив всех, кто стрелял из отверстий в стене. Храбрые офицеры воспользовались этим и шли на приступ этой точки, установив лестницу и взбираясь по ней с доблестными бойцами. Товарищи прикрывали их, обрушивая на врага тучи стрел. Царь пришел в восторг от этой атаки, ставшей примером для его армии.
Действительно, эта атака произвела сильное впечатление. Ее повторили на второй день, на третий день ее провели в двух разных местах. Натиск египтян неуклонно рос, и победа стала приобретать осязаемые очертания. В этот миг явился гонец от Шо, губернатора Сайина, во главе вооруженных до зубов воинов, которые недавно прошли обучение. Их сопровождал корабль, груженный осадными приспособлениями, лестницами и несколькими осадными башнями. Царь радостно встретил солдат, его вера в победу удвоилась. Он велел им пройти маршем на поле перед лагерем, чтобы воины могли приветствовать пополнение и черпать в нем новую надежду и силу.
На следующий день разыгралась ожесточенная битва. Египтяне поставили все на ряд атак и без тени страха встречали смерть. Они наносили врагу тяжелые потери. Враг выказывал усталость и отчаяние, его воины уже не могли твердо держать мечи в руках. Командир Мхеб, вернувшись с поля боя, мог сказать своему повелителю:
— Мой повелитель, завтра мы возьмем эту стену.
Поскольку все командиры были с ним единого мнения, Яхмос отправил гонца к своей семье и пригласил ее в Хабу, над которым развевался египетский флаг, чтобы всем вместе скоро вступить в Фивы. Царь провел ночь, лелея большую надежду на успех.
12
Обещанный день настал, египтяне пробудились в страшном волнении. Они рвались в бой, их сердца жаждали услышать музыку, возвещающую начало боя и победу. Отряды воинов заняли места за броней и осадными башнями. И тут их взору предстала чудовищная картина: к стене, которую они собирались взять приступом, были прикованы обнаженные египтянки и маленькие дети, которых пастухи использовали в качестве щитов от быстрых стрел и снарядов египтян. Пастухи скрывались за ними, смеялись и злорадствовали. Египтяне видели обнаженных, оскорбленных женщин с распущенными волосами, маленьких детей со связанными руками и ногами. Сердца тех, перед кем открылось это страшное зрелище, разрывались от боли. И не только сердца мужей и сыновей этих женщин. У воинов опустились руки, они не могли удержать мечи, их сердца охватило смятение. Царь встретил эту весть, словно гром среди ясного неба, и гневно воскликнул:
— Какая варварская жестокость! Эти трусы прячутся за телами женщин и детей!
Среди окружения царя и командиров воцарилось молчание. Светало, вдали перед их взорами предстали стены Фив, защищенные телами женщин и детей. По коже воинов поползли мурашки ужаса, их лица побледнели, руки и ноги онемели. Сердца воинов были вместе с измученными пленницами и их храбрыми семьями. Воины беспомощно застыли в поле, бессилие мучило и угнетало их. Раздался дрожащий голос Гура:
— Бедняги! Если стрелы не разорвут их на куски, то, находясь в таком положении днем и ночью, они погибнут.
Царя охватило смятение, он смотрел полными ужаса печальными глазами на пленниц и их детей, защищавших врага своими телами. Что он мог предпринять? Сражение, длившееся несколько месяцев, могло закончиться поражением, надежды, вынашиваемые десять лет, разочарованием и отчаянием. Что он мог придумать? Ради чего он явился сюда? Чтобы спасти свой народ или подвергнуть его мучениям? «Амон, Амон, мой божественный повелитель, это сражение ведется ради тебя, ради тех, кто верит в тебя. Скажи, как я должен поступить, прежде чем мне придется самому найти выход!» — шептал он, удрученный. Грохот колесницы, приближавшейся со стороны Нила, прервал его молитву. Из колесницы вышел Яхмос Эбана, приветствовал царя и спросил:
— Мой повелитель, почему наша армия не атакует дрогнувших пастухов? Разве к этому времени ваши воины не должны были захватить стены Фив?
Указав на стену, подавленный происходящим царь печально сказал:
— Командир, посмотри туда и ты сам все увидишь!
Однако Яхмос Эбана не стал смотреть, как они ожидали, а спокойно ответил:
— Я уже видел это подлое варварское злодейство, но разве можно стать сообщниками Апофиса, ведь мы столь хорошо знаем его? Неужели мы откажемся от сражения за Фивы и Египет ради немногих женщин и детей?
Царь Яхмос с горечью спросил:
— Ты считаешь, что я должен отдать приказ разорвать на части тела этих несчастных женщин и детей?
Командир ответил с воодушевлением и уверенно:
— Да, мой повелитель. Они приносятся в жертву ради нашей битвы! Они не хуже наших доблестных солдат, погибающих каждый день. Они не хуже нашего повелителя Секененры, павшего мученической смертью, и храброго Камоса, отдавшего свою жизнь. Разве мы должны прекратить битву из-за того, что они могут погибнуть? Мой повелитель, сердце мне подсказывает, что и моя мать находится среди них. Если чувства не обманывают меня, то она, без сомнений, молит Амона, чтобы он поставил вашу любовь к Фивам выше жалости к ней и ее несчастным сестрам. Я не единственный из солдат, кто страдает из-за этого, так что пусть каждый соберется духом, вооружится решимостью и идет в атаку!
Царь долго смотрел на командира своего флота. Затем с мрачным и бледным лицом обратился к своему окружению, командирам, гофмейстеру Гуру и тихо произнес:
— Яхмос Эбана сказал правду.
Из уст всех вырвался тяжелый вздох. В один голос они воскликнули:
— Да! Да! Командир флота сказал правду. Перейдем в наступление!
Царь обратился к командирам и решительно сказал:
— Командиры, идите к своим воинам и скажите им, что их царь, потерявший ради Египта дедушку и отца, готов и сам без колебаний погибнуть и приказывает любой ценой взять приступом стены Фив, которые прикрывает ваша плоть и кровь.
Командиры тут же удалились, затрубили в трубы, и ряды воинов, храня мрачные лица, двинулись вперед с оружием в руках. Офицеры громко крикнули: «Живи как Аменхотеп, умри как Секененра!» Началась самая ужасная и опасная битва, в какую воинам еще не доводилось вступать. Пастухи не жалели стрел, египтяне отвечали им. Стрелы египтян поразили женщин в грудь, а детей в сердце. Кровь лилась рекой. Женщины склонили головы перед солдатами и громко кричали охрипшими голосами:
— Не жалейте нас! Пусть Бог дарует вам победу и отомстит за нас!
Египтяне обезумели и наступали, словно хищные звери, чьи сердца не знают жалости и жаждут крови. Их крики отдавались в долине, словно раскаты грома и рев львов. Они бросились вперед, невзирая на смертоносные стрелы, обрушивавшиеся на них. Воины точно перестали чувствовать, понимать и превратились в оружие ада. Сражение было яростным, обе стороны бились изо всех сил, кровь орошала их тела и струилась, словно вырвавшись из источника. Каждый египетский воин исполнился безумной решимости не прекращать боя до тех пор, пока не поразит мечом врага в сердце. К полудню правому флангу удалось подавить ряд оборонительных точек. Солдаты приставляли лестницы к стене и взбирались по ним, презирая смерть. Битва перенеслась с поля на укрепленную стену. Некоторые воины спрыгнули на внутренний парапет и устремились на врага с копьями и мечами в руках. Ожесточенные атаки следовали одна за другой, солдаты действовали храбро. Царь внимательно следил за битвой и отправлял подкрепления в те места, где упорно наступал враг. Когда солнце стояло в зените, его солдаты преодолели стены в самой середине и в двух местах справа. Наблюдая за этим, царь сказал:
— Мои воины прилагают невероятные усилия, однако я опасаюсь, что ночь опередит нас, и мы не успеем захватить всю стену. Тогда завтра придется все начать с самого начала.
Царь приказал новым подразделениям вступить в бой, и натиск на противника усилился. Солдаты находили другие места, где можно было преодолеть стену. Пастухов охватило отчаяние, пока египтяне наносили им страшные потери. Враг видел, что наступление не прекращается, египтяне, точно муравьи, карабкаются по лестницам и стволам деревьев. Никто не ожидал, что оборона развалится так быстро. Воины Яхмоса преодолели целые участки стены, так что ее полный захват стал лишь вопросом времени. Яхмос продолжал бросать в бой сильные подкрепления. Тут к нему приблизился сияющий от радости офицер из отряда разведчиков, проникшего в поля, которые окружали Фивы. Он поклонился царю и сказал:
— Радостные вести, мой повелитель! Апофис и его армия бегут через северные ворота Фив.
Удивленный Яхмос спросил офицера:
— Ты уверен? Это правда?
Офицер ответил твердо:
— Я сам видел группу всадников царя пастухов и его гвардейцев, за ними шли вооруженные до зубов подразделения армии.
Яхмос Эбана заключил:
— Должно быть, Апофис понял, что после атак наших воинов стену Фив оборонять бесполезно. Его армия внутри не могла оказать сопротивления. Вот почему он бежал.
Гур сказал:
— Теперь он воочию понял, сколь подло прятаться за женщинами и детьми египетских воинов.
Гур едва закончил говорить, как явился другой гонец с берегов Нила. Он отдал честь царю и сказал:
— Мой повелитель, в Фивах вспыхнуло восстание, оно распространяется как пожар. С кораблей мы видели, что началось отчаянное сражение между крестьянами и нубийцами, с одной стороны, и с владельцами дворцов и гвардией, расположенной на берегу, с другой.
Яхмос Эбана встревожился и спросил офицера:
— Флот выполнил свой долг?
— Разумеется, командир. Наши корабли приблизились к берегу, и солдаты обстреливают гвардейцев врага, не давая им выступить против восставших.
Командир успокоился и просил у царя разрешения вернуться на флот, чтобы предпринять наступление на берег. Царь дал на это свое согласие и восторженно сказал Гуру:
— На этот раз владельцы дворцов не убегут вместе со всем имуществом.
Гур, пребывая в радостном волнении, ответил:
— Верно, мой повелитель. Осталось недолго, и славные Фивы откроют свои ворота перед вами.
— Но вместе с Апофисом ушла его армия.
— Мы не перестанем сражаться до тех пор, пока не возьмем Аварис и все пастухи не покинут Египет.
Царь, следя за сражением, увидел, что его воины бьются, стоя на осадных лестницах и на стене. Они теснили пастухов, те отступали. Значительные силы лучников и копейщиков поднимались на стену и перебирались на другую сторону. Они окружали пастухов и истребляли их.
Вскоре царь увидел, как его воины сорвали флаг гиксосов и подняли флаг города Фивы. Следом широко отворились большие ворота Фив. Через них в город врывались воины, громко выкрикивая его имя. Царь тихо прошептал: «Фивы, источник моей жизни, мой первый дом, игровая площадка моей души! Открой свои объятия и прижми к нежной груди своих храбрых и кровных сынов!» Он опустил голову, чтобы скрыть слезы, исторгнувшиеся из глубины его существа. Гур, стоявший справа от царя, молился и вытирал глаза. Его худые щеки оросились слезами.
13
Прошло несколько часов, солнце начало склоняться к западу. Командиры Мхеб и Диб приблизились к царю, за ними следовал Яхмос Эбана. Они почтительно поклонились Яхмосу и поздравили его с победой.
Яхмос сказал:
— Прежде чем поздравлять друг друга, нам следует выполнить долг перед телами героев и солдат, женщин и детей, которые погибли мученической смертью ради Фив. Принесите их в лагерь!
Тела, перепачканные грязью и кровью, лежали по всему полю, на стене, за воротами. Железные шлемы упали с их голов, над ними повисла мертвая, гнетущая тишина смерти.
Солдаты бережно поднимали их, относили в лагерь и клали рядом. Они принесли тела женщин и детей, пораженных стрелами своих же солдат, и положили их отдельно.
Царь приблизился к месту упокоения мучеников, за ним шли гофмейстер Гур, три командира и его окружение. Подойдя к телам павших в бою, он безмолвно и с печалью поклонился им. Остальные последовали его примеру. Затем царь медленно прошел перед ними, точно по торжественному случаю устроил им смотр перед зрителями, и направился в ту сторону, где лежали женщины и дети. Их тела скрывали льняные покрывала. На лицо царя надвинулось облако печали, его глаза потемнели. Посреди этой горестной картины он услышал командира Яхмоса Эбана, который, не удержавшись от отчаяния, сдавленно рыдал:
— Мама!..
Царь вернулся назад и увидел, что командир, охваченный страшной болью, опустился на колени перед одним из тел. Яхмос узнал госпожу Эбану. Ее лицо исказила ужасная гримаса смерти. Царь покорно и с печалью в сердце застыл рядом со своим командиром. Он испытывал огромное уважение к этой поистине мужественной и мудрой женщине.
Бесспорно, она воспитала достойного сына. Царь поднял глаза к небу и с дрожью в голосе произнес:
— Божественный повелитель Амон, творец вселенной, дающий жизнь и устраивающий все по своему разумению, это твои питомцы, которые сейчас возвращаются к тебе по твоему велению. В нашем мире они жили ради других и умерли. Они бесценные частички, вырванные из моего сердца. Даруй им свою милость и воздай за их мимолетную жизнь, с которой они расстались ради счастливого вечного наслаждения в потустороннем мире!
Царь обратился к гофмейстеру Гуру и сказал:
— Гофмейстер, я желаю, чтобы все эти тела сохранили и предали земле на западном кладбище Фив. Клянусь жизнью, самыми достойными на земле Фив являются те, кто умер мученической смертью ради этого города!
Тут вернулся гонец, которого царь отправил к семье в Дабод, и вручил ему послание. Удивленный царь спросил:
— Моя семья вернулась в Хабу?
Гонец ответил:
— Нет, мой повелитель.
Яхмос развернул послание, написанное Тетишери, и стал читать.
Мой повелитель, которому победить врага помогает дух бога Амона и его благословение. Пусть Бог поможет доставить тебе мое письмо в тот миг, когда Фивы откроют перед тобой свои ворота, дабы ты мог войти в город во главе Армии спасения, исцелить раненых и порадовать души Секененры и Камоса. Что же до нас, то мы не покинем Дабод. Я долго думала об этом и решила, что лучше всего разделить боль с нашим измученным народом, оставаясь в изгнании, где мы сейчас находимся, переживая боль разлуки и тоску по родине, пока не наступит время, когда мы разобьем оковы, которыми он скован, и избавим его от испытаний. Тогда мы без опасений ступим на землю Египта и разделим с народом его счастье и мир. Да заботится о тебе Бог, иди дальше, освобождай города, бери крепости и избавь Египет от врага, не оставив ему ни пяди родной земли. Затем призови нас, и мы без страха явимся к тебе.
Яхмос поднял голову, сложил письмо и сказал:
— Тетишери пишет, что не вернется в Египет, пока мы не изгоним с его земли последнего пастуха.
Гур заметил:
— Наша святая мать желает, чтобы мы не прекратили сражаться, пока не освободили Египет.
Царь согласно кивнул. Гур спросил:
— Мой повелитель не собирается вступить в Фивы сегодня вечером?
Яхмос ответил:
— Я не вступлю в Фивы. Пусть армия войдет в город без меня. Что же до меня, я войду в Фивы вместе с семьей после того, как мы вышвырнем пастухов. Мы войдем в город вместе, как вместе покинули его десять лет назад.
— Жители испытают великое разочарование!
— Скажи всякому, кто спросит обо мне, что я преследую пастухов, чтобы изгнать их за пределы наших священных границ. Пусть те, кто любит меня, следуют за мной!
14
Яхмос вернулся в царскую палатку. Он собирался издать приказ своим командирам войти в город в традиционном порядке под музыку военного оркестра. Однако к нему явился офицер и сказал:
— Мой повелитель, группа вождей восставшего народа возложила на меня обязанность испросить разрешение явиться перед вами и предложить вашему величеству подарки, отобранные из трофеев, взятых во время восстания.
Яхмос улыбнулся и спросил офицера:
— Ты пришел из города?
— Да, ваше величество.
— Двери храма Амона открыты?
— Их открыли восставшие, мой повелитель.
— Почему верховный жрец не приветствует меня?
— Мой повелитель, говорят, он поклялся не покидать своего убежища до тех пор, пока в Египте остается хотя бы один пастух, если только он не раб или не пленный.
— Хорошо. Пригласи вождей восстания.
Офицер покинул палатку и отправился в город. Он вернулся вместе с множеством людей, шедших группами, причем каждая из них гнала перед собой пастухов, собираясь преподнести их в качества дара царю. Офицер просил разрешения впустить первую группу. Вошли египтяне, на них не было ничего, кроме юбок, их лица говорили о пережитых трудностях и бедности. Они гнали перед собой пастухов с обнаженными головами, спутавшимися бородами и перепачканными грязью лицами. Египтяне пали ниц перед царем, их лбы коснулись земли. Когда они взглянули на царя, тот заметил, что их глаза полны слез счастья и радости. Египтянин, возглавлявший эту группу, сказал:
— Повелитель Яхмос, сын Камоса, внук Секененры, фараон Египта, освободитель и защитник, высокая ветвь того огромного древа, чьи корни погибли мученической смертью ради славных Фив, который пришел благословить нас и избавить от дурного обращения…
Яхмос снова улыбнулся и прервал его:
— Приветствую свой благородный народ. Его надежды — мои надежды, его боль причиняет мне не меньшие страдания, его цвет кожи такой же, как у меня!
Лица людей озарились лучезарным светом, их предводитель обратился к пастухам со словами:
— Падайте ниц перед фараоном, нижайшие его рабы!
Пастухи молча пали ниц. Предводитель восставших сказал:
— Мой повелитель, это те пастухи, которые незаконно захватили владения, будто они поколение за поколением наследовали их от своих праотцев. Они унижали египтян, обращались с ними жестоко, заставляли их выполнять самые тяжелые работы за жалкие гроши. Они заставили их жить в нищете, голоде, болезнях и невежестве. Они презрительно называли египтян «крестьянами» и делали вид, будто оказывают одолжение, позволяя им жить. Вчера они были тиранами, сегодня стали пленными. Мы привели их к вашему величеству как самых презренных из ваших рабов.
Царь сказал:
— Благодарю вас, мой народ, за подарок. Поздравляю вас с обретением независимости и свободы.
Египтяне второй раз пали ниц перед своим повелителем и покинули палатку. Солдаты увели пастухов в огороженное место для пленных. Вошла вторая группа, перед ней стоял человек огромного роста с белым цветом лица. Одежда на нем была разорвана. Плети оставили четкие отметины на его спине и руках. От измождения он упал перед царем, не обращая внимания на своих мучителей, которые уже пали ниц перед своим повелителем. Пав ниц перед царем, один из египтян сказал:
— Мой повелитель, фараон Египта, сын бога Амона! Этот злодей в жалком тряпье возглавлял стражей порядка в Фивах и обхаживал наши спины страшной плетью за малейшую провинность. Бог предал его в наши руки, и мы своими плетьми прошлись по его спине до тех пор, пока с нее не слезла кожа. Мы привели его в лагерь царя пополнить число рабов.
Когда вошла третья группа египтян и приблизилась к царю, он с первого взгляда узнал Самнута, судью из Фив, брата Ханзара. Царь невозмутимо смотрел на него. Самнут был изумлен, в его глазах отражались испуг и неверие. Группа египтян приветствовала царя, а их представитель сказал:
— Фараон, мы привели к вам того, кто вчера творил суд в Фивах. Он клялся справедливостью, но выносил только несправедливые приговоры. Теперь его заставили испить из чаши несправедливости, которую он протягивал невиновным, и узнать ее вкус.
Яхмос обратился к судье с такими словами:
— Самнут, всю свою жизнь ты судил египтян. Теперь готовься к тому, что они будут судить тебя.
Затем он передал Самнута солдатам и поблагодарил верных соотечественников.
Вошла последняя группа египтян. Они были взволнованны и кипели от гнева. Среди них находился человек, с ног до головы завернутый в льняную ткань. Египтяне радостными возгласами приветствовали царя. Предводитель этой группы сказал:
— Фараон Египта, покровитель и мститель за египтян, мы из тех, чьих жен и детей пастухи использовали в качестве щитов в битве за Фивы. Богу было угодно отомстить за злодеяния тирана Апофиса. В то время как он отступал, мы напали на его женские покои и похитили ту, которая ему дороже собственной души. Мы привели ее сюда, чтобы вы сами могли отомстить ей за то, что она творила с нашими женщинами.
Предводитель группы подошел к закутанной в льняную ткань фигуре. Когда с фигуры сорвали ткань, все увидели женщину, на которой не было ничего, кроме прозрачной юбки. У нее была белая кожа, чистая как свет, волосы, словно золотые нити, обвивали голову, на очаровательном лице отражались раздражение, гнев и гордость. Яхмос побледнел. Оба уставились друг на друга. На лице фараона появилось смятение, на ее лице — удивление, стершее выражение раздражения, гнева и гордости. В полной растерянности фараон едва слышно пробормотал:
— Принцесса Аменридис!
Гур снял накидку, подошел к женщине и накрыл ее. Яхмос грозно спросил египтян:
— Почему вы дурно обошлись с этой женщиной?
Предводитель группы ответил:
— Это дочь страшного убийцы Апофиса.
Яхмос понял, что чувствуют эти разгневанные люди, жаждущие мщения. Он сказал:
— Не позволяйте гневу взять верх над своими традициями, освященными веками. Истинно благороден тот, кто не изменяет своему благородству, когда вскипают страсти и вспыхивает гнев. Вы из народа, который уважает женщин и не убивает пленных.
Один из египтян, потерявший родственника, но не вкусивший мщения, сказал:
— Покровитель Египта, наш гнев утолится только тогда, когда голову этой женщины отправят Апофису.
Яхмос ответил:
— Вы настаиваете, чтобы ваш повелитель стал подобен Апофису, который проливает невинную кровь и убивает женщин? Предоставьте мне во всем разобраться и уходите с миром.
Египтяне пали ниц перед фараоном и удалились. Яхмос вызвал офицера своей гвардии, тихим голосом приказал доставить принцессу на царский корабль и не спускать с нее глаз.
В сердце и душе царя разыгралась буря. Он не мог сидеть спокойно и приказал командирам войти в Фивы во главе армии победным маршем. Повернувшись к Гуру, он заметил, что тот смотрит на него со страхом, смятением и жалостью.
15
Поле опустело, и царь во главе гвардии направился к Нилу. Он велел колесничим ехать быстрее и погрузился в свои думы. Какой удар сегодня испытало его сердце! Какая неожиданность! Он и не думал, что еще раз встретит Аменридис, она стала для него мечтой, которая на мгновение озарила его ночь, затем растворилась во мраке. Но вот он снова увидел ее, неожиданно и непреднамеренно. Судьба бросила Аменридис к его ногам, она вдруг оказалась полностью в его власти. В душе Яхмоса кипели страсти, сердце билось неистово, проснувшиеся чувства достигли предельного накала, вернулись сладкие воспоминания, и он покорился им, забыв обо всем остальном.
Но принцесса, неужели она узнала его? А если не узнала, помнит ли она счастливого торговца Исфиниса, чью жизнь спасла от верной смерти и которому сказала с волнением и слезами в глазах: «До новой встречи!»? Аменридис тосковала по нему, когда он был в изгнании, и прислала письмо, между строк которого скрыла свою любовь, точно огонь в кремне. Неужели ее сердце все еще билось так же, как впервые забилось в каюте царского судна? Великий Бог! Как случилось, что он чувствует приближение безграничного счастья? Следует ли ему доверять своему сердцу или относиться к этому чувству с подозрением? Царь вспомнил, какой несчастной принцесса выглядела, когда повстанцы привели ее к нему. Его сильный дух не выдержал, и по его телу пробежала дрожь. Царь печалью задался вопросом, стихнет ли гнев Аменридис, если она узнает, что стала пленницей Исфиниса? Фараон представлял, как разгневанные египтяне окружают принцессу, плюют в нее, оскорбляют, вымещая на ней весь свой гнев к ее отцу. Яхмос вспомнил ее негодующее и гордое лицо и ощутил тревогу, какая не охватывала его в самые трудные мгновения. Колесницы фараона подъехали к берегу, он вышел и направился к царскому судну. На борту судна он вызвал офицера, которому доверил принцессу, и спросил:
— Как себя чувствует принцесса?
— Мой повелитель, ее поместили в отдельную каюту и принесли новую одежду. Ей предложили еду, но она отказалась прикоснуться к ней. Она разговаривала с солдатами с презрением и называла их рабами. Несмотря на это, к ней относятся так, как приказало ваше величество.
Царю стало не по себе, он тихо подошел к каюте принцессы. Гвардеец открыл дверь и закрыл ее после того, как царь вошел. Каюта была небольшой и уютной, ее освещала большая лампа, прикрепленная к потолку. Справа от входа на диване с роскошной обивкой сидела принцесса в простой льняной одежде. Она причесала волосы и заплела их в большую косу. Яхмос взглянул на принцессу, улыбнулся и обнаружил, что та смотрит на него с удивлением, точно не веря своим глазам. Она была смущена и полна недоверия. Фараон приветствовал ее, сказав:
— Добрый вечер, принцесса.
Аменридис ничего не ответила, но, услышав его голос, видно, еще больше смутилась, в ее взгляде мелькнуло сомнение. Юноша долго смотрел на нее влюбленными глазами и спросил:
— Вы нуждаетесь в чем-нибудь?
Принцесса пристально всматривалась в его лицо, перевела взгляд на его шлем, затем на доспехи и спросила:
— Кто ты?
— Меня зовут Яхмос. Я фараон Египта.
В ее взгляде появилось отвращение. Желая смутить принцессу еще больше, он снял шлем и поставил его на стол, твердя себе, что принцесса не поверит своим глазам. Он заметил, что она с недоверием смотрит на его курчавые волосы. Будто удивившись, Яхмос спросил:
— Почему вы смотрите на меня так, точно знаете человека, похожего на меня?
Принцесса не нашлась, что ответить, и промолчала. Ему хотелось услышать голос Аменридис, почувствовать ее нежность.
— Если бы я сказал, что меня зовут Исфинис, вы бы ответили мне? — спросил он.
Едва услышав это имя, она вскочила и воскликнула:
— Значит, ты Исфинис!
Он приблизился к принцессе, нежно взглянул на нее, взял ее за руку и сказал:
— Я Исфинис, принцесса Аменридис.
Она вырвала руку и прошептала:
— Ничего не понимаю.
Яхмос улыбнулся и нежно сказал:
— Разве имена имеют значение? Вчера меня звали Исфинисом, сегодня меня зовут Яхмосом, но я тот же человек с тем же сердцем.
— Как странно! Как можно утверждать, что ты и Исфинис одно и то же лицо? Ты был торговцем, продававшим безделушки и пигмеев, а теперь сражаешься в одежде царя.
— Что тут странного? Раньше я переодевался торговцем и вел разведку в Фивах, сегодня я возглавил свой народ в борьбе за освобождение Египта и возвращение украденного у меня трона.
Принцесса одарила его долгим взглядом, смысл которого он не понял. Яхмос пытался еще раз приблизиться к ней, но она жестом руки остановила его, ее лицо помрачнело, в глазах мелькнула жестокость и гордость. Яхмос почувствовал, как разочарование подавляет чувства, убивает соловьев, которые своим пением породили надежду в его груди. Принцесса резко сказала:
— Не приближайся ко мне!
Он с мольбой спросил:
— Разве вы не помните?..
Однако гнев, свойственная ее народу черта, уже завладел принцессой, и она не дала ему договорить.
— Я помню и никогда не забуду, что ты жалкий шпион.
Царь был потрясен этим ответом, его лицо исказила гримаса. Он спросил:
— Принцесса, вам ведомо, что вы говорите с царем?
— С каким царем, парень?
Гнев взял верх над Яхмосом, и он резко ответил:
— С фараоном Египта.
Принцесса ответили с презрением:
— В таком случае мой отец должен стать одним из твоих шпионов?
Гнев царя рос, гордость взяла верх над остальными чувствами. Он ответил:
— Ваш отец не годится в шпионы. Он незаконно захватил мой трон. Я окончательно сокрушил Апофиса и заставил его бежать через северные ворота Фив, бросив свою дочь. Она попала в плен к тем, с кем ее отец обращался жестоко. Я буду преследовать его во главе своих армий, пока он не найдет пристанище в пустынях, откуда вторгся в нашу долину. Разве вам это неизвестно? Что до меня, я законный царь этой долины, потому что происхожу из рода фараонов славных Фив и потому, что я полководец, который возвращает себе страну силой и умением.
Принцесса ответила холодно и насмешливо:
— Ты гордишься тем, что являешься царем народа, который отличается умением воевать с женщинами?
— Поразительно! Вы знаете, что обязаны этим египтянам своей жизнью? Вы оказались в их власти и, убив вас, они не нарушили бы правила, которые установил ваш отец, когда подставил женщин и детей под стрелы.
— Ты считаешь, что я ровня этим женщинам?
— Чем вы отличаетесь от них?
— Извини, царь. Не могу представить себя равной с твоими женщинами или свой народ равный твоему народу, если только хозяева не стали рабами. Тебе известно, что наша армия не испытала унижение от поражения, когда покидала Фивы. Наши воины презрительно говорили: «Наши рабы взбунтовались, мы вернемся и разберемся с ними».
Царь окончательно вышел из себя и крикнул:
— Кто хозяева и кто рабы? Вы ничего не понимаете, высокомерная девочка! Вы родились в этой долине, которая вдохновляет мужчин к славным и честным делам. Но если бы вы родились на сто лет раньше, то очутились бы среди бесплодных пустынь холодного севера, и никто бы не стал величать вас принцессой, а вашего отца царем. Ваши люди явились из тех пустынь, незаконно захватили нашу долину и превратили ее великих людей в своих рабов. Затем ваши люди по невежеству и высокомерию стали утверждать, будто они принцы, а мы крестьяне и рабы, что они белые, а мы смуглые. Сегодня справедливость восторжествовала, хозяева займут прежние места, а рабы снова станут рабами. Белый цвет кожи станет символом тех, кто бродит по холодным пустыням, а смуглый цвет кожи — символом хозяев Египта, которых облагородили лучи солнца. Такова бесспорная истина.
Сейчас гнев вспыхнул в груди принцессы, кровь прилила к ее лицу. Она презрительно ответила:
— Я знаю, мои праотцы пришли в Египет из северных пустыней, но как ты мог упустить из виду, что они были царями этих пустынь до того, как пришли сюда, и благодаря силе стали хозяевами этой долины? Они уже были хозяевами. Эти гордые и достойные люди не знали иного средства, как добиться цели, кроме меча. Мои люди не скрывались под одеждами торговцев с тем, чтобы напасть на тех, перед которыми только вчера падали ниц.
Царь смотрел на принцессу жестким и пронзительным взглядом и видел, что она одержима гордостью и жестокостью, которая никогда не смягчится и не уступит места страху. Властность и высокомерие, свойственные ее народу, завладели принцессой. Охваченный негодованием, царь испытывал горячее желание осадить и унизить Аменридис, особенно после того, как она оскорбила его чувства своей гордостью и высокомерием. Надменным, тихим голосом он сказал:
— Не вижу смысла продолжать разговор с вами. Я не забуду, что я царь, а вы пленница.
— Пусть я пленница, если тебе угодно. Но никому меня не унизить.
— Наоборот, вы защищены моей милостью, так что подобная смелость вам идет.
— Смелость никогда не покидает меня. Спроси у своих людей, которые захватили меня, прибегнув к коварству, и они скажут тебе, что я сохранила смелость и презрение к ним в самый решающий и опасный миг в моей жизни.
Царь пренебрежительно пожал широкими плечами, повернулся к столу, взял свой шлем и надел его. Не успел он сделать шаг, как принцесса сказала:
— Ты говорил правду, когда сказал, что я пленница. Твой корабль ведь не место для пленниц. Отведи меня к пленным из моего народа!
Он гневно посмотрел на принцессу и, чтобы подразнить и напугать ее, сказал:
— Все не так, как вы воображаете. По традиции пленные становятся рабами, а пленницы пополняют гарем победившего царя.
Глаза принцессы сделались круглыми. Она возразила:
— Но я принцесса.
— Вы были принцессой, теперь вы пленница.
— Всякий раз, когда вспоминаю, что спасла тебе жизнь, я сожалею об этом.
Царь спокойно ответил:
— Пусть память об этом остается с вами! Именно поэтому я спас вас от повстанцев, которые хотели отправить вашу голову Апофису.
Он повернулся к ней спиной и удалился, охваченный гневом и негодованием. Гвардейцы отдали ему честь. Царь приказал им поднять паруса и направить корабль к северной части Фив и тяжелыми медленными шагами пошел к носу корабля, вдыхая воздух влажной ночи. Корабль, рассекая мрак, плыл дальше по вечному течению Нила в сторону Фив.
Царь смотрел на город, стараясь забыть тревоги, терзавшие его душу. Корабли флота, стоявшие на причале у города, были освещены, а высокие дворцы погрузились во мрак, после того как владельцы покинули их и бежали. Вдали, среди дворцов и садов, показались огни факелов, которые несли радостные люди, праздновавшие победу. Ветер донес эхо их голосов, радостные крики и пение гимнов. На устах царя появилась улыбка, он понял, что Фивы встречают Армию освобождения с восторгом и благодарностью, которую та заслужила за победы и бессмертные подвиги.
Корабль приблизился к царскому дворцу, прошел рядом с ним, и царь увидел, что там горят лампы. Окна и сад были освещены. Яхмос догадался, что Гур к его приезду хочет вернуть дворцу ту роль, которую тот играл во времена Секененры. Яхмос посмотрел на место стоянки кораблей у сада и с болью вспомнил ночь, когда царское судно увезло его семью далеко на юг, когда позади кровь лилась рекой.
Он расхаживал по палубе, его взгляд возвращался к запертой каюте принцессы. Тогда он спрашивал себя с недовольством и раздражением: «Зачем они привели ее ко мне? Зачем они привели ее ко мне?»
16
Утром следующего дня Гур, командиры и советники нанесли царю ранний визит на корабле, стоявшем на причале к северу от Фив. Царь принял их в своей каюте, они пали ниц перед ним. Гур размеренным голосом сказал:
— Пусть Бог наградит тебя радостным утром, победоносный царь! Мы оставили позади ворота Фив. Сердца жителей трепещут от радости и желания увидеть лик покровителя и победителя.
— Пусть Фивы радуются, — ответил Яхмос. — Но мы встретимся лишь после того, как Бог дарует нам победу.
— Среди народа идет молва, что царь идет на север и рад любому, кто готов следовать за ним, — сказал Гур. — Мой повелитель, не спрашивайте о радости, которая переполняет сердца молодых людей, или о том, что они не отпускают офицеров, прося зачислить их в армию божественного Яхмоса!
— Вы посетили храм Амона? — улыбнувшись, спросил царь своих людей.
— Мы все вместе посетили храм, солдаты спешили туда, руками трогали углы здания, касались лицами земли перед входом в него, обнимали жрецов. Было принесено множество жертв, жрецы пели гимн бога Амона, их молитвы эхом отдавались среди стен храма. Любовь растопила все сердца, жители Фив вознесли общую молитву. Нофер-Амон продолжает оставаться затворником.
Царь улыбнулся и, повернувшись, увидел, что командир Яхмос Эбана безмолвно стоит в стороне. Он дал ему знак подойти и, когда командир приблизился, положил руку ему на плечо.
— Яхмос, неси свою долю горя и не забывай девиз своей семьи «Будь храбрым и приноси жертвы».
Командир склонил голову в знак благодарности — сочувствие царя немного утешило его. Царь взглянул на своих людей и сказал:
— Посоветуйте, кто достоин стать губернатором Фив и взять на себя тяжелую задачу привести город в порядок?
Командир Мхеб сказал:
— Лучший человек на эту важную должность — мудрый и преданный Гур.
Однако Гур тут же возразил:
— Мой долг пристально следить за слугами повелителя и не оставлять его.
— Ты прав, я не могу обойтись без тебя, — согласился Яхмос.
Затем Гур высказал свое мнение:
— Есть человек, обладающий великими достоинствами и опытом, он прославился мудростью и необычным мышлением — это Тутти-Амон, служитель храма Амона. Если моему повелителю угодно, пусть он возложит на него обязанность заниматься делами Фив.
— Мы объявляем его губернатором Фив, — согласился Яхмос.
Затем царь пригласил всех отведать завтрак за его столом.
17
Днем солдаты залечивали раны, отдыхали и восстанавливали силы, пели песни и пили. Те воины, которые были родом из Фив, стремились скорее вернуться домой, где сливались сердца и общались души. Столь велики были радость и прилив чувств, что Фивы казались пульсирующим сердцем мира. Однако Яхмос не покидал корабль. Он вызвал офицера, отвечавшего за принцессу, и спросил о ней. Офицер ответил, что та провела ночь, не прикоснувшись к еде. Царю пришла в голову мысль перевести ее на другой корабль под опеку преданных офицеров, но он так и не принял определенного решения. Яхмос не сомневался, что Гур недоволен ее присутствием на корабле. Он догадывался, что гофмейстеру трудно понять, почему дочери Апофиса оказывают такую честь. Царь хорошо знал Гура, думавшего только о борьбе за Фивы. Царь же обнаружил, что его чувства не находят выхода и бьют через край. Он никак не мог забыть о каюте с пленницей или перестать желать ее, вопреки недовольству и гневу. Гнев не убивает любовь, а только скрывает ее на короткое
время так же, как пелена, затуманившая чистое зеркало, исчезает, и зеркало снова становится ясным. Царь не стал предаваться отчаянию и тешил себя, что принцесса, возможно, страдает от уязвленной гордости. Возможно, гнев исчезнет, и она обнаружит любовь, которая скрывается за показной ненавистью. Ненависть и гнев умрут и уступят место любви. Разве не она тогда спасла ему жизнь, проявив к нему сочувствие и любовь? Разве не она расстроилась тем, что его нет, и написала ему письмо с укором, пытаясь скрыть муки тайной любви? Разве могут эти чувства угаснуть из-за порыва гордости и гнева?
Он ждал до вечера и направился к каюте принцессы. Гвардеец отдал честь и шагнул в сторону. Фараон вошел, лелея большие надежды. Он увидел, что принцесса сидит неподвижно и безмолвно, ее голубые глаза смотрят подавленно и с тоской. Такое настроение принцессы причиняло царю боль, и он подумал: «Фивы, невзирая на свои просторы, оказались слишком тесными для нее. Какие чувства принцесса может испытывать сейчас, когда она заточена в небольшой каюте?» Он неподвижно стоял перед ней, она села прямо и дерзко посмотрела на него.
— Как вы провели ночь? — тихим голосом спросил Яхмос.
Аменридис не ответила, опустила голову и уставилась в пол. Он с тоской смотрел на ее голову, плечи и грудь. Яхмос повторил свой вопрос, чувствуя в то же время, что надежда еще не угасла.
— Как вы провели ночь?
Казалось, принцесса будет упорствовать в своем молчании, но она резко подняла голову и сказала:
— Это была самая плохая ночь в моей жизни.
Царь не обратил внимания на ее тон и просил:
— Почему? Разве вам чего-то не хватает?
Она ответила тем же тоном:
— Мне всего не хватает.
— Как это так? Я распорядился, чтобы офицер, опекающий вас…
Принцесса раздраженно прервала его:
— Даже не трудись говорить о подобных вещах! Мне не хватает всего, что я люблю. Мне не хватает отца, моих людей и свободы. Однако у меня есть все, что я ненавижу: эта одежда, пища, каюта и гвардейцы.
Царя снова охватило разочарование, он чувствовал, как исчезают его надежды и все, чего он так страстно желал. Его лицо напряглось. Он спросил:
— Вы хотите, чтобы я избавил вас от плена и отправил к отцу?
Аменридис решительно покачала головой и резко ответила:
— Ни за что!
Он посмотрел на нее с удивлением и смятением, но принцесса продолжила тем же тоном:
— Чтобы потом не говорили, будто дочь Апофиса унизилась перед врагом своего великого отца или ей понадобилось утешение.
Надменность и гордость принцессы вызвали в нем гнев и отчаяние.
Царь сказал:
— Вы не стесняетесь демонстрировать свое высокомерие, ибо уверены в моем сочувствии.
— Ты лжешь!
Лицо царя побледнело, он сурово посмотрел на принцессу и сказал:
— Как вы черствы, вы совсем не ведаете, что такое горе и боль! Вы знаете, какое наказание полагается за оскорбление царя? Вам доводилось видеть, как женщину бьют плетью? Стоит мне только захотеть, и вы будете валяться в ногах моего нижайшего по положению воина и молить о прощении.
Царь долго смотрел на нее, пытаясь выяснить, какое впечатление произвела на нее эта угроза. Но принцесса лишь посмотрела на него жестким пристальным взглядом и резко ответила:
— Мы из тех людей, к чьим сердцам не знает дороги страх и чью гордость не могут растоптать те, кто хватает с неба звезды.
Почему бы ему не пристыдить принцессу и не втоптать ее гордость в грязь? Разве она не пленница, которую он может низвести до положения рабыни? Однако эта мысль пришлась ему не по душе. Царь рассчитывал на более любезный поворот в разговоре. Его охватило разочарование, гордость оказалась задетой, а гнев усилился. Не выдавая своих чувств, он воздержался от желания унизить Аменридис и сказал не менее властным тоном, чем принцесса:
— В мои намерения не входит подвергнуть вас мучениям, и этого не случится. Воистину было бы странно истязать столь прелестную рабыню, как вы.
— Нет! Я гордая принцесса!
— Вы были ею до того, как попали в мои руки и стали пленницей. Я охотнее заключу вас в мой гарем, нежели стану истязать. Все решит моя воля.
— Тебе следует знать, что ты имеешь право решать за себя и свой народ, но твоя рука не коснется меня, пока я жива.
Царь пожал плечами, будто серьезно не воспринимал ее слова.
Но Аменридис продолжила:
— По традиции, унаследованной от предков, мы не принимаем пищу, пока не умрем с честью, если оказываемся в унизительном положении и теряем надежду на спасение.
Царь с презрением сказал:
— Правда? Однако я видел, как доставленные ко мне судьи из Фив падали ниц и ползали передо мной, взглядами моля о пощаде.
Лицо принцессы побледнело, и она не промолвила ни слова.
Царь уже был не в состоянии слушать ее, он испытывал горечь разочарования и не мог больше оставаться в каюте. Собираясь уходить, он сказал:
— У вас нет необходимости воздерживаться от пищи.
Он ушел разгневанный и подавленный и решил отправить принцессу на другой корабль. Однако как только гнев угас, царь, оставшийся наедине с собой в каюте, передумал и не отдал приказ.
18
К царю в каюту явился Гур и сообщил:
— Мой повелитель, посланники от Апофиса просят разрешения явиться перед тобой.
— Что им угодно? — спросил удивленный Яхмос.
— Они говорят, что привезли твоему высочеству послание, — ответил гофмейстер.
— Пусть войдут немедленно! — велел царь.
Гофмейстер вышел из каюты, отправил офицера к посланникам, вернулся к своему повелителю и стал ждать. Вскоре явились посланники в сопровождении офицеров гвардии. Их было трое, впереди шел главный, двое несли ларец из слоновой кости. Судя по ниспадавшим одеждам, это были распорядители двора с белыми лицами и длинными бородами. Они подняли руки в приветствии, но не поклонились и остановились в явно вызывающей позе. Яхмос гордо ответил на их приветствие и спросил:
— Что вам угодно?
Главный из посланников ответил надменно с чужеземным акцентом:
— Командир…
Гур не дал ему договорить то, что он намеревался сказать, и заметил с присущим ему спокойствием:
— Посланник Апофиса, ты разговариваешь с фараоном Египта.
Главный посланник сказал:
— Война еще продолжается, и ее исход не ясен. Пока у нас есть солдаты и оружие в руках, Апофис остается фараоном Египта. Другого фараона нет.
Яхмос жестом дал Гуру знак молчать и обратился к посланникам:
— Говорите о том, ради чего вы пришли сюда.
Главный посланник сказал:
— Командир, в тот день, когда мы отступили из Фив, крестьяне похитили ее царское высочество принцессу Аменридис, дочь нашего повелителя Апофиса, фараона Египта, сына нашего бога Сета. Наш повелитель желает знать, жива ли его дочь или же крестьяне убили ее.
— Ваш хозяин помнит, как он поступил с нашими женщинами и детьми во время осады Фив? Он не забыл, как подставил их под стрелы сыновей и мужей? Стрелы разорвали их тела на куски, а ваши трусливые солдаты скрывались за ними.
Посланник резко ответил:
— Мой повелитель не уклоняется от ответственности за свои дела. Война — смертельная битва, и жалость способна привести лишь к поражению.
Яхмос с отвращением покачал головой и ответил:
— Наоборот, в войне противоборствуют солдаты, ее исход определяет сильный, а слабые страдают. Война для нас борьба, в ходе которой нельзя отказываться от жизненных и религиозных ценностей… поразительно, как он может спрашивать о дочери, если держится таких взглядов на войну.
Посланник высокомерно ответил:
— Мой повелитель спрашивает о ней по причине, которая известна ему одному. Он не просит пощады, да и сам не станет щадить никого.
Яхмос задумался, не понимая, какая причина побудила врага наводить справки о своей дочери.
Поэтому он произнес ясным голосом, в котором звучало презрение:
— Возвращайтесь к своему хозяину и скажите ему, что крестьяне благородные люди, они не убивают женщин, и что египетские воины считают ниже своего достоинства убивать пленных. Его дочь пленница и пользуется великодушием тех, кто пленил ее.
На лице посланника появилось выражение облегчения. Он сказал:
— Эти слова спасли жизни многих тысяч твоих людей — женщин и детей, которых царь взял в плен. Их жизни зависят от жизни принцессы Аменридис.
Яхмос сказал:
— А ее жизнь зависит от их жизней.
После некоторых раздумий посланник сказал:
— Мне приказано не возвращаться, прежде чем я не увижу ее собственными глазами.
На лице Гура появилось недовольное выражение, но Яхмос опередил его и сказал:
— Ты увидишь ее своими глазами.
Главный посланник указал на ларец из слоновой кости, который держали двое его спутников, и сказал:
— В этом ларце одежда принцессы. Ты позволишь оставить ларец в ее каюте?
Царь подумал и сказал:
— Можешь оставить его.
Однако Гур наклонил голову к повелителю и прошептал:
— Сначала необходимо досмотреть эту одежду.
Царь согласился с мнением гофмейстера, тот велел поставить ларец перед Яхмосом. Царь сам открыл его и начал доставать из него содержимое, один предмет одежды за другим. Вдруг он наткнулся на маленькую шкатулку. Царь взял ее, открыл и обнаружил в ней ожерелье с изумрудным сердцем. Сердце царя затрепетало, когда он вспомнил, как принцесса из множества драгоценностей выбрала именно это ожерелье. Тогда его звали Исфинисом, и он продавал драгоценности. Лицо царя покраснело.
— Разве в тюрьме уместно держать безделушки? — спросил Гур.
— Это ожерелье — любимая драгоценность принцессы, — ответил посланник. — Если командиру угодно, мы оставим его. Если нет, заберем с собой.
— Не случится ничего плохого, если оставить это ожерелье, — сказал Яхмос.
Затем царь обратился к офицерам и приказал им отвести посланников в каюту принцессы. Посланники удалились, офицеры последовали за ними.
19
В тот же вечер с юга прибыли солдаты, недавно обученные в Великом Аполлонополисе и Иераконполисе, и влились в состав армии. Из Омбоса прибыли также небольшие корабли, груженные оружием и осадными башнями, и бросили якоря в гавани Фив. Капитан сообщил царю хорошую новость — скоро поступят колесницы и обученные всадники. Солдаты из Фив и Хабу пополнили ряды армии Яхмоса, которая не только восполнила потери, но и умножила свои ряды. Солдат стало больше, чем их было, когда армия пересекла границу Египта. Царь больше не видел причин задерживаться в Фивах и приказал командирам на рассвете быть готовыми к походу. Солдаты прощались с Фивами, их жителями. Спокойные дни закончились, все готовились к битве. На рассвете солдаты затрубили в трубы, и огромная армия покатилась вперед точно морские волны. Впереди шел авангард с царем и его гвардией, за ними батальон колесниц и другие подразделения. Флот под командованием Яхмоса Эбаны поднял паруса, и мощные корабли стали разрезать волны Нила. Все жаждали битвы. Волю солдат, ставшую прочнее железа, закалили победы.
В деревнях армию принимали с огромной радостью, крестьяне выходили ей навстречу, громко приветствовали воинов, размахивали флагами и ветвями пальм. Не встречая преград, армия продвигалась вперед и к полудню вышла к Шанхуру. Армия вступила в город, не встречая сопротивления. Вечером армия подошла к Гесии и перед ней открылись ворота города. Ночь армия провела в городе и возобновила поход на рассвете. Она быстро продвигалась вперед и достигла края поля Коптос. Солдаты увидели долину, которая простиралась до самого города. Всех охватили печальные воспоминания о прошлом. Яхмос вспомнил, что в этой долине армия Фив десять лет назад потерпела поражение, вспомнил гибель храброго дедушки Секененры, оросившего землю своей кровью. Царь, вглядываясь в долину, подумал про себя: «Хотелось бы узнать, где он погиб». Он невольно взглянул на Гура и увидел, что лицо гофмейстера побледнело, а глаза полнились слезами. Это еще больше подействовало на царя, и он сказал:
— Какие мучительные воспоминания!
Гур ответил с дрожью в голосе:
— У меня такое впечатление, точно я слышу голоса погибших, которые обитают в этом священном месте!
Командир Мхеб сказал:
— Как много крови пролили наши отцы на этой земле!
Гур вытер слезы и произнес:
— Помолимся, мой повелитель, за душу нашего погибшего мученической смертью повелителя Секененры и его храбрых солдат!
Яхмос, его командиры и окружение вышли из колесниц и вознесли горячую молитву.
Армия вошла в город Коптос, над его стенами трепетал египетский флаг. Солдаты громкими возгласами воздали должное Секененре. Затем армия двинулась к Дендаре, не встречая ни малейшего сопротивления. Точно так же воины вступили в город Диосполис Парва, затем стали продвигаться к Абидосу, ожидая, что в долине столкнутся с пастухами. Однако воины не встретили ни единого врага.
— Где же Апофис и его могущественные армии? — спросил пораженный Яхмос.
— Наверно, ему не хочется выставлять пехоту против наших колесниц, — ответил Гур.
— И как долго продолжится эта погоня?
— Кто знает, мой повелитель? Погоня может продолжаться до самого Авариса, неприступной крепости пастухов, чьи стены они возводили целый век. Похоже, взятие этого города не обойдется египетским воинам без большой крови.
Абидос открыл ворота перед Армией освобождения, она вошла в город как победительница и в тот день остановилась там на отдых.
Яхмос жаждал войны, отчасти потому что с нетерпением ждал решающей встречи со своим врагом. Ему не терпелось ринуться в бой, забыть о смуте в своей душе и вычеркнуть из души печаль. Однако Апофис не предоставил ему такой возможности. Мыслями Яхмос все время возвращался к упрямой пленнице. Его сердце тянулось к ней, невзирая на недобрые чувства, которые она питала к нему. Царь вспоминал свои мечты. Он поверил, что сама судьба передала Аменридис в его руки, и ему захотелось превратить корабль заточения в рай любви. Безудержная любовь бурным потоком обуяла его и смела такие преграды, как нерешительность и гордость. Он взошел на корабль, направился к волшебной каюте и вошел. Принцесса сидела на диване в обычной позе, закутанная в изящные одежды из Мемфиса. Видно, она узнала его по походке, ибо не подняла головы и продолжала смотреть в пол. Влюбленный взгляд царя скользнул по пробору ее волос, челу, опущенным ресницам. Он почувствовал, что сердце бьется в его груди, словно раскаты грома. Гонимый желанием, он был готов броситься к принцессе, заключить ее в страстные объятия. Тут Аменридис неожиданно подняла голову и дерзко взглянула на него. Царь застыл на месте.
— Посланники навестили вас? — спросил он.
— Да, — ответила она тоном, не выдававшим никаких чувств.
Взгляд царя скользнул по каюте и остановился на ларце из слоновой кости.
— Я дал разрешение принести вам этот ларец, — сказал он.
— Спасибо, — небрежно поблагодарила она, и в ее голосе прозвучало раздражение.
Царю стало легче на душе, и он сказал:
— В ларце находилось ожерелье с изумрудным сердцем.
Губы Аменридис дрогнули, она собиралась что-то сказать, но вдруг передумала и плотно сжала губы, что говорило о смятении.
— Посланники говорили, что это ожерелье вам дорого, — с нежностью произнес Яхмос.
Аменридис резко покачала головой, точно отвергая обвинение, выдвинутое против нее, и ответила:
— Это правда. Я раньше часто носила это ожерелье, потому что ведьма при дворе сделала из него талисман, который отводит порчу и зло.
Ответ прозвучал неубедительно, но царь не отчаялся и сказал:
— Я подумал, что оно предназначено для других целей, о чем говорила встреча в каюте царского корабля.
Лицо принцессы густо покраснело, она гневно ответила:
— Сегодня я не помню капризы вчерашнего дня. Было бы лучше, если бы ты относился ко мне как враг к пленнице.
Царь заметил признаки жестокости на ее напряженном лице и еще раз испытал разочарование. Однако, пытаясь обуздать свои чувства, он сказал:
— Разве вам неизвестно, что мы заключаем женщин наших врагов в дворцовые гаремы?
— Не таких, как я, — резко возразила Аменридис.
— Вы снова угрожаете голодовкой?
— Сейчас в этом нет надобности.
Царь с подозрением взглянул на нее и с усмешкой спросил:
— Как же вы тогда сумеете защитить себя?
Аменридис подняла руку, в которой держала крохотное оружие, величиной не больше ногтя, и уверенно ответила:
— Видишь! Это отравленный кинжал. Если им порезать кожу, яд проникнет в кровь и убьет меня в мгновение ока. Посланник тайком передал мне его, твои соглядатаи ничего не заметили. Я знала, что отец пришлет мне оружие, которым можно покончить с собой, если на меня падет бесчестие или кому-то вздумается причинить мне зло.
Яхмос рассердился и, нахмурившись, сказал:
— И в этом заключался секрет ларца? Будь проклят тот, кто верит слову пастушеского отродья с грязной бородой! В ваших венах течет не кровь, а предательство. Однако я вижу, что вы превратно истолковали намерение своего отца, ибо он тайно передал вам это оружие, чтобы вы могли убить меня.
Принцесса покачала головой, будто смеясь над ним, и сказала:
— Ты не понимаешь Апофиса. Он согласится лишь на то, чтобы я сохранила честь или умерла с честью. Что же до врага, то он сам убьет его, как привык это делать.
Яхмос топнул ногой и с великим раздражением сказал:
— К чему все эти потуги? Мне меньше всего нужна такая рабыня, как вы, ослепленная высокомерием, гордостью и скверным характером! Раньше я представлял вас в ином свете, но в действительности вы оказались совсем другой. Так что к черту все иллюзии!
Царь повернулся и вышел из каюты. Он позвал начальника гвардии и приказал ему:
— Переведите принцессу на другой корабль под усиленной охраной.
Удрученный царь с мрачным лицом покинул корабль и, сев в колесницу вернулся в лагерь.
21
Бездействие угнетало царя. Он приказал командирам привести войско в готовность. На рассвете второго дня многочисленная армия двинулась дальше. Флот поднял паруса. Через два дня армия достигла Птолемаиды. Врага поблизости не оказалось, и авангард мирно вошел в город. Армия следовала за ним. Авангард дошел до Панополиса, самого северного города, находившегося под защитой Фив, и вступил в него, не встретив сопротивления. Царю Яхмосу сообщили радостную весть.
— Панополис находится в руках египтян.
— Фиванское царство избавлено от пастухов! — воскликнул он.
— Скоро весь Египет избавится от них, — добавил Гур.
Победоносная армия приблизилась к Панополису и гордо вошла в него под звуки патриотической музыки. Затрубили трубы, возвещая победу. Над стеной взвились египетские флаги, солдаты разбрелись по рынкам, смешались с жителями города, радовались и пели. Великая радость охватила сердца, отзывалась в каждой душе, наполнила весь город. Царь пригласил командиров армии и флота, свое окружение на роскошный пир. В конце веселья принесли старые вина Мариута вместе с цветками лотоса и веточками базилика. Царь обратился к своим людям со словами:
— Завтра мы пересечем границу Северного царства, над его стенами впервые за сто с лишним лет взовьются египетские флаги.
Все благословили царя и долго славили его имя.
Однако поздно вечером того же дня гвардейцы заметили отряд колесниц под белым знаменем, стремительно приближавшийся к городу с севера. Солдаты окружили колесницы и стали выяснять, куда они направляются. Один из колесничих ответил, что они посланники, которых царь Апофис направил к Яхмосу. Солдаты провели их в город. Узнав об их прибытии, Яхмос отправился во дворец губернатора, вызвал Гура, командира флота и командиров Мхеба и Диба. Царь сел на трон губернатора, командиры заняли места рядом с ним, а их окружили гвардейцы в парадных формах. Царь дал разрешение ввести посланников. Это были командиры и гофмейстеры в военном и гражданском облачении. Их лица не выражали дерзости и надменности, чего ожидал Яхмос. Наоборот, они приблизились к царю, поклонились с великим почтением и уважением. Представитель посланников сказал:
— Да множит Бог твои дни, царь Фив! Мы посланники от фараона Верхнего, Среднего и Нижнего Египта.
Яхмос бросил на них взгляд, не выдававший, какая буря разыгрывается в его груди, и спросил:
— Да множит Бог ваши дни, посланники Апофиса! Что вам угодно?
Посланники остались недовольны тем, что царь пропустил титулы их повелителя. Их представитель сказал:
— Царь, мы военные люди. Мы выросли на полях битв и живем по правилам войны, храбро и доблестно, что тебе известно по долгому опыту. Мы поклоняемся герою, даже если он наш враг, и доверяем мечу, хотя он нам не благоволит. Царь, ты одержал победу и вернул трон своего царства. Поэтому ты имеешь право обладать им, а мы обязаны уступить его. Это твое царство, и ты его повелитель. Фараон передает тебе свои приветствия и предлагает остановить кровопролитие, заключить почетный мир, когда уважаются права всех, восстановить между Царством юга и Царством севера дружественные отношения, которые были нарушены.
Яхмос внимательно слушал, внешне храня спокойствие, но в душе не переставая удивляться. Он смотрел на посланника и не без удивления спросил:
— Вы явились просить мира?
— Да, царь, — ответил посланник.
Яхмос произнес решительно и твердо:
— Я отвергаю подобный мир.
— Царь, почему ты настаиваешь на продолжении войны?
— Посланники Апофиса, вы впервые обращаетесь к египтянину с уважением, — ответил Яхмос. — Вы впервые говорите с ним не как с рабом, потому что это уже невозможно. Вы знаете, почему так происходит? Потому что вы разбиты. Вы, мои добрые люди, ведете себя как дикие звери, когда побеждаете, и становитесь ягнятами, когда вас бьют. Вы спрашиваете, почему я настаиваю на войне. Вот мой ответ: я объявил вам войну не ради освобождения Фив, а потому что дал обязательство Богу и своему народу избавить весь Египет от несправедливости и гнета, вернуть ему свободу и славу. Если тот, кто вас прислал ко мне, действительно желает мира, пусть он оставит Египет его народу, а сам вернется в северные пустыни.
Посланник спросил царя властным тоном:
— Это твое окончательное слово?
Яхмос ответил уверенно и твердо:
— Ради этого мы начали войну и закончим ее, когда добьемся своей цели.
Посланники встали, и их представитель сказал:
— Раз ты не желаешь мира, жестокая война продолжится между нами до тех пор, пока Бог не завершит ее по своему разумению.
Посланники снова поклонились царю и тяжелыми шагами покинули дворец.
22
Яхмос пробыл в Панополисе два дня. Затем он отправил авангард к границам государства Апофиса. Вооруженные отряды двинулись к северу и, столкнувшись с небольшими силами врага, рассеяли их и освободили путь для армии, стоявшей лагерем в Панополисе. Яхмос ехал во главе армии, какой у Египта никогда не было ни по количеству, ни по оружию, ни по снабжению. Победоносный флот Яхмоса Эбаны поднял паруса. Пока армия совершала переход, разведчики сообщили Яхмосу, что крупное войско пастухов разбило лагерь к югу от Афродитополиса. Царя не беспокоила численность армии противника. Однако он спросил гофмейстера Гура:
— Как ты считаешь, у Апофиса найдутся колесницы, которые он сможет выставить против нас?
Гур ответил:
— Нет сомнений, мой повелитель, что Апофис потерял большую часть колесничих. Если бы у него было достаточное для предстоящей битвы число колесниц, он бы не настаивал на прекращении войны и заключении мира. Как бы то ни было, пастухи потеряли нечто более ценное, чем колесничие: они лишились уверенности и надежды.
Армия шла вперед и приблизилась к лагерю врага. На горизонте замаячили предвестники войны. По приказу царя батальон колесниц готовился ринуться в гущу битвы. Яхмос громко обратился к своим командирам:
— Мы будем сражаться на земле, по которой нам сто лет запрещали ходить. Нанесем мощный удар, который положит конец страданиям миллионов наших порабощенных братьев. Вступим в бой с решимостью вершить подвиги, ибо Бог даровал нам множество солдат, надежду и оставил врага на гибель и отчаяние. Я, следуя примеру Секененры и Камоса, возглавлю битву.
Царь отдал авангарду приказ перейти в наступление. Солдаты бросились вперед, словно хищные орлы. Он заметил, что навстречу его воинам двинулись около двухсот колесниц, пытаясь окружить их. Горя желанием уничтожить колесницы врага, царь велел атаковать головную колонну колесниц. Его воины бросились на врага со всех сторон. Гиксосы поняли, что их колесницы не устоят перед превосходящими силами египтян. Апофис двинул в поддержку ограниченного числа колесниц отряд лучников и копейщиков. Битва разгоралась, однако удача была не на стороне пастухов, их колесницы были уничтожены.
Ночью воины отдыхали, и Яхмос не знал, бросит ли отчаявшийся Апофис пехоту в бой или отойдет во главе армии, как он поступил в Иеранкополисе, предпочитая не возобновлять сражение. Все прояснилось утром, когда царь увидел, что отряды пастухов с луками и копьями в руках занимают исходные позиции. Гур тоже наблюдал за этим и сказал:
— Мой повелитель, теперь счастье им изменило. Пехота Апофиса подвергнется атаке наших колесниц. Десять лет назад наш повелитель Секененра оказался точно в таком же положении к югу от Коптоса.
Царь обрадовался и готовился бросить в бой батальон колесниц. Их должны были поддержать отборные силы копейщиков и других подразделений. При поддержке лучников колесницы ринулись на позиции пастухов и прорвали их во многих местах. Копейщики прикрывали колесницы с тыла, преследовали бежавших врагов, истребляли и пленяли их. Пастухи сражались с обычной храбростью, но падали, точно сухие листья под натиском бурных осенних ветров. Египтяне завладевали полем боя. Яхмос опасался, как бы Апофис не ускользнул, и поэтому вел атаку на Афродитополис одновременно с флотом. Однако внутри города царь не обнаружил присутствия пастухов и не встретил заклятого врага. Разведчики донесли, что Апофис покинул город с частью своего войска после кошмарного для него предыдущего дня. Апофис оставил часть сил, чтобы задержать продвижение египтян.
— Отныне сопротивление бесполезно, — сказал Гур царю. — Возможно, Апофис спешит отступить к Аварису, чтобы укрыться за его неприступными стенами.
Египтяне во главе с царем не могли не испытывать огромной радости, войдя в город, который двести лет был недосягаем для них. Яхмос решил отвлечься от дум, осмотреть город и встретиться с его жителями.
23
Армия шла дальше, не встречая сопротивления и не обнаруживая присутствия врага. Жители деревень и городов радостно приветствовали ее и не могли поверить, что спустя двести лет боги перестали гневаться на них, и тот, кто освобождает египетские города и вынуждает врага к отступлению, — царь, вышедший из их среды, чтобы возродить славные дела фараонов. Яхмос видел, что пастухи бегут из городов, оставляя свои дворцы, владения, забирая с собой из вещей и драгоценностей все, что могли унести. Везде он слышал, что Апофис стремительно бежит к северу со своей армией и жителями. Яхмос за один месяц освободил Хабсил, Ликополис и Кусай. Последним освобожденным городом стал Гермополис. Вступление войск в этот город имело большое значение для царя и его воинов, ибо в Гермополисе родилась святая мать Тетишери. Она появилась на свет в старинном доме до захвата города пастухами. Яхмос отметил освобождение этого города, его окружение, командиры армии и флота, все воины приняли участие в великом празднике. Царь написал Тетишери письмо и поздравил с освобождением родного дома бабушки, заверил ее в своей любви и любви всех воинов. Царь, командиры, главные офицеры подписали это письмо.
Армия двинулась дальше победоносным маршем. Она вошла в Титнави, Синополис, Эбену и наконец в Арсиное. Воины шли среди пирамид по дороге, ведшей к славному Мемфису, не обращая внимания на трудности долгого пути. По пути Яхмос разбивал кандалы, в которые были закованы его несчастные соотечественники, и своей великой душой вдохновлял их на новую жизнь. Однажды Гур сказал ему:
— Твое полководческое величие, мой повелитель, можно сравнить лишь с твоим политическим и административным искусством. Ты изменил черты городов, отменил старое и создал новое. Ты положил начало действиям, которым необходимо следовать, и обычаям, которые необходимо соблюдать. Ты назначил губернаторов, преисполненных патриотизма. Жизнь снова возродилась в долине, люди впервые со времен далекого прошлого увидели египетских губернаторов и судей. Опущенные головы поднялись, человек больше не страдает и не подвергается унижениям из-за смуглого цвета кожи. Наоборот, этот цвет стал источником силы и гордости. Внук Секененры, да покровительствует тебе бог Амон!
Царь трудился беззаветно и неустанно, не ведая ни отчаяния, ни упадка сил. Его неизменной целью стало возвращение народу, которого унижения, голод, нищета и невежество довели до отчаяния, чести, уважения к себе, просвещения, достойной жизни без лишений.
Однако его сердце, невзирая на труды и заботы, продолжало страдать. Он страдал от любви, гордость истощала его силы. Он часто повторял: «Меня обманули. Она просто бессердечная женщина». Царь надеялся, что работа избавит его от воспоминаний, принесет утешение, однако обнаружил, что мысли, вопреки его воле, переносятся на корабль, который покачивается на волнах в тылу царского флота.
24
Армия быстро шла вперед и приближалась к бессмертному Мемфису, пробуждая славные воспоминания. Уже показались высокие белые стены города. Яхмос подумал, что пастухи станут оборонять город своего царства до последней капли крови. Однако он ошибся. Авангард мирно вошел в город. Выяснилось, что Апофис вместе с армией отступил в северо-восточном направлении. Яхмос вошел в северные Фивы и встретил невиданный до этого прием, напоминавший праздник. Люди радостно и с почтением приветствовали его, падали ниц перед ним и называли его «Сыном Меренпта». Царь провел несколько дней в Мемфисе, посещая кварталы города, рынки и районы, где располагались мастерские. Он обошел три пирамиды, молился в храме Сфинкса и принес жертвы. Взятие Мемфиса радовало солдат не меньше, чем изгнание врага из Фив. Яхмос не мог понять, почему пастухи не стали оборонять Мемфис.
— Пастухи больше не станут испытывать судьбу перед нашими колесницами, после того что они испытали в Иераконполисе и Афродитополисе, — заметил командир Мхеб.
Гофмейстер Гур уверенно сказал:
— Из северных районов к нам все время прибывают корабли, груженные колесницами и лошадьми, так что Апофису следует позаботиться о стенах Авариса.
Разложив перед собой карту, цари и его приближенные обсуждали, какое направление избрать для продвижения войск. Командир Мхеб сказал:
— Нет сомнения, что враг полностью отступил из северных земель к востоку и скрылся за стенами Авариса. Нам следует двинуть туда все силы.
Однако Яхмос был крайне осторожен. Он послал одно небольшое подразделение армии к западу через Ленополис, другое отправил к Атрибису, а сам двинулся с главными силами и крупным флотом к востоку по дороге, ведущей в Он. Армия прошла много миль, ведомая радостью и надеждой, что грянет последняя битва и долгое сражение увенчается решающей победой, и вступила в Он, бессмертный город Ра. Затем она вступила в Факуссу и Фарбайтос и вышла на дорогу, ведущую в Аварис. Начали поступать донесения об Апофисе, и выяснилось, что пастухи отступали отовсюду и направлялись к Аварису, гоня перед собой тысячи бедных египтян. Эта новость сильно опечалила царя, он всем сердцем переживал за пленников, которые оказались в руках жестоких пастухов.
Наконец на горизонте показались грозные стены Авариса, напоминавшие цепь скалистых гор.
— Это последняя крепость пастухов в Египте! — крикнул Яхмос.
Гур, рассматривая крепость плохо видящими глазами, сказал царю:
— Разбей ворота города, и чудесный Египет будет принадлежать тебе одному.
25
Аварис находился к востоку от того места, где разветвлялся Нил. Стена города тянулась к востоку дальше, чем могли разглядеть глаза. Многие солдаты были из этого укрепленного города и знали его, некоторые из них раньше трудились и за этими стенами, и на них. Они обратились к царю:
— Четыре очень толстые стены окружают Аварис, за ними город со всех сторон защищен рвом, который наполняют воды Нила. Внутри города имеются широкие поля, способные обеспечить потребности всех жителей, большинство из которых солдаты, если не считать египетских земледельцев. Вода из рукавов Нила поступает в город по искусственным каналам под западной стеной, которая прикрывает их. Дальше каналы тянутся в восточном направлении, к городу.
Яхмос и его воины находились к югу от грозной крепости. Они с удивлением смотрели то в одну, то в другую сторону этих грозных стен, рядом с которыми солдаты казались карликами. Воины установили палатки рядами вдоль южной стены. Флот по реке приблизился к западной стене на такое расстояние, чтобы стрелы не могли поразить корабли.
Флот вел наблюдение и установил осаду. Яхмос выслушал тех солдат, которые бывали в этом городе, изучил местность вокруг него и реку, бегущую на запад. Царь все время раздумывал. Он посылал солдат верхом и пешком в деревни, расположенные в окрестностях города. Они вошли туда без препятствий и завершили осаду города. Однако царь и его люди понимали, что осада ни к чему не приведет, ибо город располагал собственными источниками продовольствия. Блокада могла безуспешно продолжаться годами, и солдаты стали бы проявлять недовольство тем, что стоят на месте без надежды на успех и испытывают на себе превратности ужасной погоды. Во время очередного обхода вокруг крепости царя осенило, и он собрал в палатке свое окружение, чтобы посоветоваться.
— Дайте мне совет, — заговорил царь. — Я думаю, что осада является пустой тратой времени и сил. Мне так же кажется, что наступление бесполезно и равносильно самоубийству. Возможно, противник ждет, когда мы перейдем в наступление. Тогда он расстреляет наших храбрых воинов или загонит их во рвы. Что вы советуете?
Командир Диб сказал:
— Мой повелитель, я советую оставить для осады крепости часть наших сил и считать войну оконченной. Тогда вы сможете объявить независимость долины и приняться за выполнение обязанностей, полагающихся фараону объединенного Египта.
Однако Гур возразил ему:
— Разве можно дать Апофису возможность спокойно готовить своих солдат, строить новые колесницы, чтобы напасть на нас через некоторое время?
Командир Мхеб заявил:
— Мы дорого заплатили за Фивы, а битва по своей природе требует усилий и жертв. Почему бы не принести жертвы за Аварис и атаковать город так же, как мы действовали при взятии фортов в Фивах?
Командир Диб возразил:
— Мы не жалеем себя, но наступление на толстые стены, защищенные рвами с водой, равнозначно уничтожению нашей армии безо всякой надежды на успех.
Царь молчал, погрузившись в раздумья. Затем он сказал, указывая на реку, которая протекала под западной стеной города:
— Аварис хорошо защищен. Его нельзя ни захватить, ни взять измором. Однако ему можно дать почувствовать жажду.
Все посмотрели на реку, на их лицах появилось удивление. Гур с тревогой спросил:
— Мой повелитель, как же ему дать почувствовать жажду?
Яхмос спокойно ответил:
— Надо отвести от города воды Нила.
Все снова взглянули на Нил, не веря, что можно заставить могучую реку изменить свое течение. Гур спросил:
— Разве можно справиться со столь непосильной задачей?
Яхмос ответил:
— У нас предостаточно инженеров и рабочих.
— Мой повелитель, сколько времени это займет?
— Год, два или три. Время не имеет значения, ибо это единственный выход. Нил придется отвести на север к Фарбайтосу при помощи нового канала, который пойдет к западу на Мендес. Так что Апофису придется выбирать между смертью от голода и жажды или же покинуть крепость и вступить с нами в бой. Мои люди простят меня за то, что я подвергаю египтян, находящихся в Аварисе, опасности и смерти, так же как они простили меня, когда мы стреляли в своих женщин в Фивах.
26
Яхмос готовился к выполнению грандиозной задачи. Он вызвал из Фив знаменитых строителей и познакомил их со своей идеей. Те внимательно и ревностно изучили ее, затем заключили, что она осуществима при условии, что царь даст им достаточно времени и тысячу рабочих. Яхмос выяснил, что на осуществление проекта уйдет не менее двух лет, но он не стал предаваться отчаянию, он отправил посланников в города вербовать добровольцев для выполнения колоссальной работы, от которой зависело освобождение страны и изгнание врага. Со всех сторон начали прибывать группы рабочих, и вскоре набралось необходимое количество людей. Царь торжественно взял мотыгу и воткнул ее в землю, положив начало мощной стройке. Его примеру последовали люди с крепкими руками, привыкшие трудиться под звуки гимнов и песен.
Царю и армии ничего не оставалось, как мириться с долгим ожиданием. Солдаты ежедневно готовились под наблюдением офицеров и командиров. Царь же проводил свободное время, либо охотясь в восточной пустыне, либо скача на конях, чтобы не покориться велению сердца и любовной страсти. В это время гонцы доставили ему письмо от святой матери Тетишери, в котором та писала:
Мой повелитель, сын Амона, фараон Верхнего и Нижнего Египта, да хранит его Бог и принесет ему победу: маленький Дабод сегодня стал раем счастья и радости благодаря новости о бесспорной победе, дарованной тебе Богом. Эту новость нам принесли гонцы. Сегодня мы в Дабоде уже не ждем так, как мы ждали вчера, ибо сейчас наше ожидание исполнено спокойствия и ближе к надежде. Как мы все рады, узнав, что Египет избавлен от унижения и рабства, что враг и угнетатель заточил себя в стенах крепости и трусливо ждет удара, которым ты уничтожишь его! Могущественный Бог в своей заботливости и милосердии желал преподнести подарок тебе, кто низверг врага Амона и возвысил его слово, он подарил сына. Он свет твоих очей и наследник трона. Я назвала его Аменхотепом в честь божественного повелителя. Я взяла твоего сына в свои руки, как я поступила с его отцом, дедушкой и прадедушкой. Сердце говорит мне, что он станет наследным принцем великого царства, где живут разные расы, говорят на множестве языков, исповедуют не одну религию под покровительством его дорогого отца.
Сердце Яхмоса забилось, как должно биться сердце каждого отца, его охватили нежные чувства. Он радовался великой радостью, забыв о боли, которую ему причиняла подавленная страсть. Яхмос сообщил своему окружению о рождении наследного принца Аменхотепа, и этот день стал памятным.
27
Дни тянулись медленно и тоскливо, хотя и были заполнены великим трудом, в котором участвовали величайшие умы, сильнейшие руки и непреклонные воли. Никто не обращал внимания на трудности или время, которое требовалось для осуществления работы. Но однажды, через несколько месяцев после начала осады, гвардейцы заметили колесницу, которая под белым флагом покинула крепость и стала приближаться. Гвардейцы перехватили ее и обнаружили, что в ней едут три гофмейстера. На вопрос, куда они держат путь, их представитель ответил, что являются посланниками царя Апофиса и направляются к царю Яхмосу. Гвардейцы тут же передали эту весть царю, тот созвал в павильоне свое окружение, командиров и приказал ввести посланников. Посланников привели. Они вошли робко, с опущенными глазами. От их прежнего высокомерия и гордости осталось так мало, что казалось, будто это вовсе не посланники Апофиса. Они поклонились царю, главный среди них приветствовал его словами:
— Пусть Бог умножит твои дни, о царь!
Яхмос ответил:
— И ваши тоже, посланники Апофиса. Чего желает ваш царь?
Посланник ответил:
— Царь, человек меча, ищет приключений. Он жаждет победы, но может найти смерть. Мы люди войны. Война подарила нам вашу страну, и мы правили ей более двухсот лет. Тогда мы были господами. Затем судьба распорядилась, чтобы мы потерпели поражение и скрывались в своей цитадели. Мы, царь, не слабы. Мы способны перенести поражение не менее достойно, чем сорвать плоды победы…
Яхмос сердито прервал его:
— Я вижу, что вы поняли значение нового канала, который роют мои люди, и пришли снискать нашу благосклонность.
Посланник покачал своей огромной головой.
— Отнюдь нет, царь. Мы не желаем ничьей благосклонности, но мы признаем свое поражение. Мой повелитель прислал меня предложить вам две возможности, из которых вы можете выбрать ту, какая вам угодна. Война до конца, в ходе которой мы не станем отсиживаться за стенами, чтобы умереть от голода и жажды, а истребим ваших плененных людей, которых более тридцати тысяч. Затем мы убьем своих женщин и детей собственными руками и бросим против вас триста тысяч воинов. Они все как один презирают жизнь и жаждут мести.
Посланник умолк, словно собираясь с духом. Затем он продолжил:
— Или же вы вернете нам принцессу Аменридис, наших пленных, позволите нам уйти вместе с имуществом и богатством. В таком случае мы вернем вам пленных, покинем Аварис, уйдем в пустыню, откуда мы пришли, предоставив вам распоряжаться страной по своему усмотрению. Тогда завершится противоборство, длившееся двести лет.
Посланник умолк, и царь понял, что он дожидается ответа. Однако у него не было ответа, к тому же нельзя было поддаваться настроению мгновения. Поэтому царь сказал посланнику:
— Вам придется ждать, пока мы не примем решения.
Посланник ответил:
— Как тебе угодно, царь. Мой повелитель велел сообщить ему ответ до конца дня.
28
Яхмос встретился со своими людьми в каюте царского корабля и сказал им:
— Выскажите свои мнения.
Все пришли к единому мнению, и необходимость в дальнейшем обсуждении отпала. Гур сказал:
— Мой повелитель, ты добился верха над пастухами во многих сражениях. Они признали твою победу и свое поражение. Так ты стер все следы поражений, которые нам нанесли в безрадостном
прошлом. Ты истребил огромное количество пастухов и отомстил за гибель несчастных среди нашего народа. Нас не станут упрекать за то, что мы спасем жизни тридцати тысяч наших людей и избавим себя от действий, выполнения которых не требует долг, если разбитый враг покинет нашу землю, а наша родина навсегда станет свободной.
Царь посмотрел на лица своих людей и убедился, что они все с радостью готовы принять эту идею. Командир Диб заключил:
— Каждый наш солдат полностью выполнил свой долг. Для Апофиса возвращение в пустыню страшнее самой смерти.
Командир Мхеб согласился с ним:
— Нашей главной целью является освобождение родины от гнета пастухов и изгнание их из нашей земли. Все это даровал нам Бог, так что нет смысла по собственной воле множить страдания наших людей.
Яхмос Эбана добавил:
— Мы спасем жизни тридцати тысяч мучимых жаждой пленников в обмен на принцессу Аменридис и горстку пастухов.
Царь внимательно выслушал своих людей и сказал:
— Вы рассуждаете здраво. Однако я думаю, что будет лучше, если посланник Апофиса получит ответ в самом конце дня, иначе он подумает, будто наше поспешное согласие объясняется слабостью или нежеланием сражаться.
Окружение Яхмоса покинуло корабль, и он остался один. Несмотря на то что имелись все основания радоваться, он был подавлен. Его борьба увенчалась бесспорной победой, могучий враг стоял перед ним на коленях. Завтра Апофис, подчиняясь необратимой судьбе, скроется в пустынях, из которых явился. Почему же царь не радовался? Или почему его радость не была полной? Настал решающий миг, миг прощания навсегда. Даже перед ним царь испытывал страшное отчаяние, ведь она была там, на небольшом корабле. Что он станет делать завтра? Вернется в Фивы, после того как ее увезут в неведомую пустыню? Разве можно отпустить принцессу, не бросив на нее прощального взгляда? «Нет!» — ответило его сердце. Сбросив оковы смирения и гордости, он покинул каюту, сел в лодку и направился к кораблю, где находилась плененная Аменридис. Он подумал: «Как бы она ни встретила меня, я найду, что сказать». Царь поднялся на борт корабля и направился к каюте. Гвардейцы отдали ему честь и открыли дверь. У царя громко забилось сердце. Он переступил через порог и оглядел небольшую простую каюту. Он застал пленницу сидящей на диване посреди каюты. Видно, она не ждала его возвращения, ибо на ее прелестном лице появилось выражение удивления и недовольства. Яхмос пристально смотрел на принцессу и нашел ее столь же красивой, как и прежде. Лицо Аменридис было таким же, как в тот день, когда он запечатлел его в своем сердце во время встречи на борту царского судна. Он прикусил губу и сказал:
— Доброе утро, принцесса.
Она подняла голову, ее глаза смотрели с удивлением. Видно, она не знала, что сказать. Царь не стал ждать ответа и продолжил тихим, невыразительным голосом:
— Сегодня вы свободны, принцесса.
По лицу Аменридис стало видно, что она ничего не поняла, поэтому царь спросил:
— Вы слышали, что я сказал? Сегодня вы свободны. Вашему плену наступил конец. Принцесса, вы имеете право уйти.
Ее удивление росло, в глазах засветилась надежда. Она с нетерпением спросила:
— Ты говоришь правду? Ты сказал правду?
— То, что я сказал, совершившийся факт.
Ее лицо засветилось, щеки покраснели. После некоторых раздумий она спросила:
— Но как это могло случиться?
— Ага! Я вижу большие надежды в ваших глазах. Неужели вы надеетесь, что обрели свободу благодаря победе своего отца? Вот что я вижу в ваших глазах. Увы, вашему пленению положило конец его поражение.
Принцесса лишилась дара речи и не вымолвила ни слова. Царь коротко рассказал ей о предложения посланников ее отца и о том, какое решение было достигнуто. Затем он добавил:
— Вскоре вас отведут к отцу. Вы пойдете вместе с ним, куда он предпочтет направиться. Так что для вас наступил счастливый день.
Ее лицо выражало печаль, оно застыло. Принцесса отвела взгляд. Яхмос спросил:
— Поражение отца печалит вас больше, чем радость собственной свободы?
Она ответила:
— Тебе не приличествует радоваться нашему несчастью, ибо мы покинем твою страну не менее почетно, чем жили в ней.
Яхмос сказал с явным беспокойством:
— Я не злорадствую, принцесса. Мы сами испили горечь поражения, а длительные войны научили нас уважать вашу храбрость.
Успокоившись, она сказала:
— Спасибо, царь.
Он впервые не услышал в ее голосе гнева и гордости. Царь был тронут и, печально улыбнувшись, сказал:
— Принцесса, я слышу, что вы назвали меня царем.
Отвернув взгляд, она ответила:
— Потому что ты царь этой долины и ни с кем не делишь власть. Однако после сегодняшнего дня меня уже больше не станут называть принцессой.
Эти слова еще больше тронули царя, ибо он не ждал, что ее непреклонность улетучится столь быстро. Царь ожидал, что после поражения она станет еще более надменной. Он с печалью сказал:
— В этом мире человек испытывает удовольствие и боль. На вашу долю выпала и радость и горечь, но перед вами есть будущее.
С поразительной торжественностью принцесса сказала:
— Воистину, у нас есть будущее за миражем неведомой пустыни, и мы смело пойдем навстречу своей судьбе.
Воцарилось молчание. Их глаза встретились, и он прочитал в ее взгляде чистоту и нежность. Он вспомнил встречу с принцессой на царском судне, тогда она спасла ему жизнь и подарила нектар любви и нежности. У него возникло чувство, будто с тех пор он видит ее впервые. У царя сильно застучало сердце, он серьезно и печально сказал:
— Мы скоро расстанемся, и вы забудете меня. Но я навсегда буду помнить, что вы обращались со мной грубо и резко.
В его голубых глазах мелькнула печаль, на ее губах появилась едва заметная улыбка. Она сказала:
— Царь, ты мало знаешь о нас. Нам легче пойти на смерть, чем терпеть унижение.
— Я никогда не хотел унизить вас. Но я обманулся надеждой, поверив, что нашел место в вашем сердце.
Аменридис тихо сказала:
— Разве я не унизилась бы, раскрыв объятия перед человеком, пленившим меня и ставшим врагом моего отца?
Царь с горечью ответил:
— Любви чужд подобный ход мыслей.
Принцесса молчала. Затем, точно слова царя убедили ее, пробормотала так тихо, что он не расслышал ее:
— Я виню только себя.
Она уставилась перед собой невидящим взором, потом неожиданно протянула руку к подушке и достала ожерелье с изумрудным сердцем, спокойно и покорно надела его себе на шею. Царь следил за ней, не веря своим глазам. Затем он бросился к Аменридис, не в силах больше сдерживаться, обнял ее за шею и неистово прижал к своей груди. Она не стала сопротивляться, а лишь печально сказала:
— Смотри. Уже слишком поздно.
Царь обнял ее еще крепче и сказал дрожащим голосом:
— Аменридис, как ты можешь так говорить? Как же мне найти свое счастье, если оно вот-вот исчезнет? Нет, я не отпущу тебя.
Принцесса уставилась на него с сочувствием и жалостью и спросила:
— Что ты станешь делать?
— Я не отпущу тебя.
— Разве ты не понимаешь, что случится, если я останусь с тобой? Ты пожертвуешь тридцатью тысячами пленных из твоего народа и еще большим числом своих солдат?
Царь нахмурился, его глаза потемнели, и он пробормотал, будто говоря с собой:
— Мой отец и дед погибли мученической смертью за свой народ, а я подарил ему жизнь. Неужели он лишит мое сердце счастья?
Аменридис печально покачала головой и нежно сказала:
— Послушай меня, Исфинис, позволь мне называть тебя этим именем, ибо таково было имя первого мужчины, которого я полюбила. Нам не избежать разлуки. Мы расстанемся. Ты никогда не согласишься пожертвовать тридцатью тысячами своих людей, которых ты любишь, а я не соглашусь на то, чтобы мой отец и народ покончили жизнь самоубийством. Поэтому каждому из нас придется вынести свою долю страданий.
Царь рассеянно посмотрел на нее, точно не в силах вынести мысль, что у его любви нет иного выхода, чем расставание и боль, и с надеждой в голосе сказал:
— Аменридис, не спеши отчаиваться и отбрось мысль о расставании. Когда я слышу, как это слово столь легко слетает с твоих губ, моя кровь начинает безумный бег. Аменридис, я буду стучаться во все двери и даже пойду к твоему отцу. Я ведь могу просить у него твоей руки?
Она печально улыбнулась и, нежно коснувшись его руки, сказала:
— Увы, Исфинис, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты думаешь, мой отец согласится на брак своей дочери с царем-победителем, нанесшим ему поражение и выгнавшим его из страны, в которой он родился и царствовал? Я знаю отца лучше, чем ты. У нас нет надежды. Единственный выход — терпение.
Яхмос рассеянно слушал ее и спросил себя: «Неужели эта женщина, говорящая тихим, подавленным, печальным голосом, действительно принцесса Аменридис, для которой весь мир был тесен, когда ее охватывали безрассудство, презрение и высокомерие?» Царю все казалось странным и ужасным. Он сердито сказал:
— Самый плохой из моих солдат не станет противиться зову сердца и не позволит разлучить его с любимой.
— Ты царь, мой повелитель, и на долю царей выпадает больше удовольствий, чем на долю остальных людей. На долю царей выпадает также больше обязанностей. Они подобны высокому дереву, которому достается больше солнечных лучей и ветров, чем тем растениям, которые находятся под ним. Они также больше подвержены непослушным ветрам и неистовым бурям.
Яхмос простонал и сказал:
— Ах, как же я несчастен! Я полюбил тебя с первой встречи, когда ты взошла на мой корабль.
Принцесса опустила глаза и сказала скромно и честно:
— Любовь постучалась и в мое сердце в тот же день, но я догадалась об этом позднее. Мои чувства пробудились в тот вечер, когда командир Рух вынудил тебя сразиться с ним. Я так волновалась за тебя… Я провела ночь в смятении, не зная, что делать с зародившейся любовью, она захватила меня всю, и я потеряла голову.
— Бог мой! Какая жизнь ждет меня без тебя?
— Исфинис, она будет похожа на мою жизнь без тебя.
Яхмос прижал Аменридис к груди и коснулся щекой ее щеки, будто это соприкосновение могло отогнать призрак разлуки, маячивший перед ними. Царю стало невыносимо при мысли, что он нашел свою любовь и тут же расстается с нею. Его мысли разбегались во все стороны в поисках выхода, но повсюду на пути вставали отчаяние и горе. Он лишь еще крепче обвил принцессу руками. Оба чувствовали, что пришло время расставания, но никто из них не шевельнулся. Они продолжали стоять, точно слившись воедино.
29
Яхмос покинул корабль принцессы, едва переставляя ноги. Он смотрел на какой-то предмет в своей руке и пробормотал: «И это все, что оставила мне возлюбленная?» Это была цепочка от изумрудного ожерелья Аменридис. Принцесса подарила ее царю на память, а сама сохранила зеленое сердце. Царь поднялся в свою колесницу и направился в лагерь армии, где его ждали приближенные во главе с гофмейстером Гуром. Гофмейстер украдкой и с жалостью поглядывал на своего повелителя. Царь отправился в палатку и, вызвав посланника Апофиса, сообщил тому:
— Посланник, мы внимательно изучили твое предложение. Поскольку моя цель — освобождение страны от вашего владычества, а вы с этим согласились, я сделал выбор в пользу мира, дабы избежать нового кровопролития. Мы немедленно обменяемся пленными, но я не отдам приказа прекратить работы до тех пор, пока ваш последний солдат не покинет Аварис. Так будет перевернута мрачная страница в истории этой страны.
Посланник наклонил голову и сказал:
— Твое решение мудро, о царь. Война, если она не ведется ради разумной цели, не что иное, как массовое убийство.
Яхмос сказал:
— Теперь я оставлю вас обсудить подробности обмена и вашего ухода из нашей страны.
Царь встал. Все встали, почтительно поклонились ему. Царь отдал им честь и удалился.
30
Обмен пленными состоялся вечером того же дня. Отворились одни из ворот Авариса и из них стали выходить группы пленных. Женщины и мужчины радостно приветствовали своего повелителя и махали руками. Пленные врага во главе с принцессой Аменридис молча и в подавленном настроении направились к городу.
Утром следующего дня Яхмос вместе со своим окружением поднялись на ближайший холм, откуда открывался вид на восточные ворота Авариса, чтобы проследить за уходом пастухов из последнего египетского города. Никто не мог скрыть радости, лица всех светились от счастья. Командир Мхеб сказал:
— Скоро распорядители двора Апофиса принесут вашему величеству ключи от Авариса. Именно так Апофис получил ключи от Фив.
Распорядители двора явились, как предсказал командир Мхеб, и вручили Яхмосу шкатулку из черного дерева, в которой лежали ключи от Авариса. Царь взял ключи и передал их верховному гофмейстеру, затем отдал честь посланникам врага, и те молча удалились.
Затем широко раскрылись восточные ворота, их скрип эхом отдался в долине. Яхмос и его приближенные молча уставились на ворота. Появились первые группы воинов на колесницах, которых Апофис отправил разведать неведомую ему дорогу. За ними последовали группы женщин и детей верхом на мулах и ослах. Некоторых несли в паланкинах. Исход тянулся долгие часы. Затем появилось множество всадников, их окружали конные гвардейцы. За ними ехали повозки, запряженные волами. Наблюдавшие с холма догадались, что город покидает Апофис вместе с домочадцами. Сердце Яхмоса сильно забилось, когда он увидел их. Он подавил горячие слезы, готовые вырваться наружу. Яхмос недоумевал, где принцесса. Быть может, Аменридис тоже ищет его глазами, как и он ее? Она думает о нем так же, как он о ней? Принцесса тоже еле сдерживает слезы? Яхмос следил за всадниками, не обращая внимания на солдат, которые стали выходить из всех ворот. Царь наблюдал за всадниками с тоской в сердце и тревогой в душе до тех пор, пока те не скрылись за горизонтом.
Царь очнулся, услышав голос Гура:
— В этот бессмертный час сердца нашего повелителя Секененры и славного героя Камоса обрели счастье. Сражение за Фивы, не ведавшее отчаяния, увенчалось окончательной победой.
Армия освобождения вступила в грозный Аварис, расположилась у неприступных стен города и пробыла там до рассвета следующего дня. Яхмос направился к востоку с батальоном колесниц вслед за передовыми отрядами и вошел в Танис и Дифну. Там его встретили разведчики и поздравили с избавлением земли Египта от последнего из пастухов. Вернувшись в Аварис, царь велел армии вознести общую молитву богу Амону. Выстроились батальоны с командирами. Во главе армии стоял царь и его окружение. Затем все опустились на колени в почтительном уважении и вознесли Богу горячую молитву. Яхмос закончил молитву следующими словами:
— Я прославляю и благодарю тебя, божественный повелитель, ибо ты защитил меня, крепил мое сердце, оказал мне честь, позволив достичь цели, ради которой погибли мой дед и отец. О Бог, вдохнови меня на праведные дела, помоги мне обрести решимость и веру, дабы исцелить раны людей моего народа и сделать их достойными рабами самых лучших повелителей!
Затем Яхмос велел своим людям явиться к нему, и они тут же выполнили его приказ. Царь сказал им:
— Сегодня война закончилась и нам предстоит вложить мечи в ножны. Но сражение продолжается. Верьте мне, когда я говорю, что в мирное время требуется больше бдительности и готовности ради того, чтобы вершить великие дела, чем в войне. Будьте преданы мне, чтобы Египет мог зажить новой жизнью.
Царь взглянул на лица своих людей, затем продолжил:
— Я решил начать борьбу за мир, избрав себе верных помощников. Назначаю Гура своим министром.
Гур встал, подошел к своему повелителю и поцеловал ему руку.
— Я считаю, что Сенеб достойно заменит Гура в моем дворце, — сказал царь. — Диб возглавит царскую гвардию.
Царь взглянул на Мхеба и продолжил:
— Тебе, Мхеб, надлежит стать главнокомандующим моей армией.
Затем он обратился к Яхмосу Эбане:
— Ты будешь командовать флотом. Владения твоего отца Пепи будут возвращены тебе.
После этого царь обратился ко всем и сказал:
— Сейчас возвращайтесь в Фивы, столицу нашего царства, и пусть каждый приступит к выполнению своего долга.
— Фараон не вернется в Фивы во главе своей армии? — с тревогой спросил Гур.
Собираясь встать, Яхмос ответил:
— Нет. Я отплываю в Дабод, чтобы сообщить семье радостную весть о победе. Затем я с семьей вернусь в Фивы, и тогда мы сможем войти в город вместе так же, как мы покинули его.
31
Царское судно отчалило в сопровождении трех военных кораблей. Яхмос оставался в каюте и с каменным лицом уставился на далекий горизонт. В его глазах отражались печаль и боль. Прошло несколько дней, и к вечеру показался маленький Дабод. Повсюду виднелись хижины, флот стоял у берега. Царь и его гвардия спустились на берег. На них были красивые одежды, привлекавшие взоры встречавших. К ним приблизилась толпа нубийцев и впереди них прошла к дому губернатора Раума. По городу разлетелась весть, будто великий посланник фараона прибыл навестить семью Секененры. Эта весть достигла дома губернатора раньше, чем туда прибыл царь. Подойдя ближе, царь обнаружил, что губернатор и царское семейство уже ждут его во дворе дворца. Когда царь приблизился к ним, все от удивления и радости потеряли дар речи. Раум опустился на колени, счастливый от радости. Первой к царю подбежала юная царица Нефертари, обняла его и поцеловала в щеки и лоб. Яхмос поднял глаза и увидел свою мать Сеткимус, заключил ее в объятия, прижал к груди и подставил ей свои щеки, которые та нежно поцеловала. Его бабушка царица Ахотеп ждала своей очереди, он подошел к ней, поцеловал ей руки и лоб. Наконец Яхмос увидел последнего и самого дорогого человека — Тетишери. Ее голову венчали седые волосы, щеки от времени увяли. Сердце царя быстро забилось, он обнял ее и сказал:
— Ты нам всем приходишься матерью!
Тетишери поцеловала его тонкими губами и, посмотрев ему в лицо, сказала:
— Дай мне взглянуть на живую копию Секененры.
— Я предпочел стать посланником, чтобы принести тебе радостную весть о великой победе, — сказал Яхмос. — Знай, что наша доблестная армия одержала полную победу, разбила Апофиса и его войско, изгнала пастухов в пустыню, откуда те пришли, и избавила весь Египет от рабства. Так исполнилось обещание Амона, и возрадовались души Секененры и Камоса.
Лицо Тетишери просветлело, усталые глаза засияли, и она радостно сказала:
— Сегодня нашему пленению настал конец, и мы вернемся в Фивы. Я найду этот город славы и независимого духа, каким я его оставила. Я увижу тебя на троне Секененры. Он продолжит славные дела Аменхотепа, жизнь которого так рано оборвалась.
Прибыла госпожа Рей, фрейлина царицы, с наследным принцем на руках. Отвесив царю поклон, она сказала:
— Мой повелитель, поцелуйте своего маленького сына, наследного принца Аменхотепа.
Глаза царя увлажнились, его охватила безграничная нежность. Он взял малыша на руки, поднес к своим устам и коснулся губами. Аменхотеп улыбнулся отцу и потрогал его своими маленькими ручонками.
Затем члены царской семьи, пребывая в радостном и умиротворенном настроении, вошли в дом и провели вечер вместе, вспоминая минувшие дни.
32
Солдаты погрузили имущество семейства на царское судно. Затем Яхмос с домочадцами поднялся на борт, попрощался с губернатором Раумом, членами его правительства и жителями Дабода. Прежде чем корабль поднял якорь, Яхмос обратился к Рауму так, что все слышали:
— Благородный губернатор, я вверяю тебе Нубию и ее народ, ибо эта страна приняла нас, когда нам было некуда идти. Она стала нашей землей, когда мы потеряли родину, опорой, когда у нас почти не осталось сторонников, а наши друзья погибли. Нубия стала местом сосредоточения нашего оружия и подготовки солдат, когда раздался зов к битве. Не забудем, что Нубия сделала для нас. Не станем с этого дня отказывать Южному Египту в том, что мы желаем себе, защитим от того, чего не желаем себе!
Судно подняло якорь и отчалило в северном направлении, за ним следовали корабли сопровождения. На борту судна стояли мужчины и женщины, чьи сердца тосковали по Египту и его народу. После непродолжительного путешествия судно достигло границ Египта. Его радостно встретили жители юга, прибывшие на корабле губернатора Шо. Вокруг царского судна сновали лодки с местными жителями, они радостно кричали и пели. На борт корабля поднялся Шо вместе со жрецами из Биги, Билака и Сайина, старостами деревень и старейшинами городов. Они пали ниц перед царем и выслушали его советы. Затем судно поплыло дальше к северу. С берегов царя приветствовал народ, судно окружали лодки. На его борт у каждого города поднимались судьи, старосты и знатные люди. Судно продолжало путь к северу, пока однажды на рассвете у дальнего горизонта во всем блеске не показались высокие стены Фив и огромные ворота. Члены семьи покинули каюты, перешли на нос судна и устремили взоры к горизонту. Их глаза наполнились слезами радости и благодарности, губы шептали: «Фивы! Фивы!» Царица Ахотеп дрожащим голосом произнесла:
— Великий Бог! Я уже не думала, что мои глаза когда-либо увидят эти стены.
Подгоняемое попутным ветром, судно приближалось к южной части Фив. С него уже можно было различить группы солдат и знатных людей города, ждавших на берегу. Яхмос понял, что Фивы дарят первые приветствия своему освободителю. Царь вернулся в каюту вместе с членами семьи, сел на трон. Все расположились вокруг него. Солдаты отдали честь царскому кораблю, знаменитые люди Фив поднялись на борт во главе с первым министром Гуром, командирами Мхебом и Яхмосом Эбаной, верховным гофмейстером Сенебой и губернатором Фив Тутти-Амоном. За ним неторопливо, согнув спину и опираясь на посох, шел престарелый жрец с седыми волосами. Все пали ниц перед фараоном, и Гур обратился к нему:
— Мой повелитель, освободитель Египта, освободитель Фив и губитель пастухов, фараон Египта, повелитель Юга и Севера, все жители Фив вышли на базарные площади и с нетерпением ждут появления Яхмоса, сына Камоса, внука Секененры, и его славного семейства, чтобы передать им свои приветствия.
Яхмос улыбнулся и сказал:
— Пусть Бог множит ваши дни, верные подданные. Я приветствую Фивы, начало и конец моего пути!
Гур указал на почтенного жреца и произнес:
— Мой повелитель, позволь мне представить твоему величеству Нофер-Амона, верховного жреца храма Амона.
Жрец поцеловал Яхмосу руку и сказал:
— Мой повелитель, фараон Египта и сын Амона, вернувший Египту жизнь и восстановивший традиции его величайших царей! Я дал слово, мой повелитель, что не выйду из своих покоев, пока в Египте остается хотя бы один из проклятых пастухов, которые унизили Фивы и погубили их славного правителя. Я отказался от всего мирского, ел лишь крохи хлеба, чтобы продлить свои дни, пил чистую воду, чтобы разделить жалкое существование и голод, от которого страдал наш народ. Я пребывал в таком положении, пока Бог не вложил судьбу Египта в руки его верного сына Яхмоса. Царь вел справедливую борьбу с врагом, заставил его бежать и изгнал из Египта. Тогда я позволил себе выйти из заточения, дабы встретить славного царя и молиться за него.
Царь улыбнулся. Жрец просил разрешения приветствовать семью царя. Яхмос дал ему разрешение. Жрец приблизился и приветствовал Тетишери, царицу Ахотеп, с которой был близок во время правления Секененры, поцеловал Сеткимус и Нефертари. Тут Гур обратился к Яхмосу:
— Мой повелитель, Фивы ждут своего царя, и армия выстроилась вдоль дорог. Однако у верховного жреца есть просьба.
— И какова твоя просьба, верховный жрец?
Жрец почтительно сказал:
— Я прошу нашего повелителя проявить доброту и посетить храм Амона, прежде чем отправиться в царский дворец.
Улыбнувшись, Яхмос ответил:
— Какая приятная и животворная просьба!
33
Яхмос покинул корабль, за ним последовала царица и знатные люди его царства. Офицеры и солдаты, сражавшиеся вместе с царем с первого дня, отдали ему честь. Царь тоже приветствовал их. Он сел в красивый царский паланкин, царицы заняли места в своих паланкинах. Впереди шел батальон царской гвардии, за ним следовали колесницы, в которых расположилось окружение царя. Далее следовал еще один батальон царской гвардии. Царское шествие приближалось к центральным южным воротам Фив, украшенным флагами и цветами. По обе стороны стояли храбрые солдаты, совсем недавно штурмовавшие стены города.
После того как гвардейцы, стоявшие на стенах, протрубили в трубы, царский паланкин пронесли через ворота города между двумя рядами сверкающих копий. На него посыпались цветы и благоухающие травы. Яхмос оглянулся вокруг себя и увидел сцену, которая могла поразить самое каменное сердце. Он одним взглядом узрел весь египетский народ. Царь увидел людей, заполнивших улицы, стоящих на стенах и домах. Более того, он ощущал души, очищенные молитвой, любовью и радостью. Воздух оглашался радостными возгласами, которые исторгались из глубин сердец. Люди были в восхищении, видя святую мать в достоинстве и величии почтенного возраста, ее храброго правнука в цвете сил молодости. Процессия шествовала дальше сквозь бездонное волнующееся людское море. Все взоры были прикованы к ней. Прошло несколько часов, пока шествие не оказалось у храма Амона.
У входа в храм царя встретили жрецы, долго молившиеся за него. Они прошли перед царем в колонный зал, где на алтарь приносились жертвы. Жрецы произнесли гимны Бога приятными мелодичными голосами, которые долго отдавались в сердцах присутствующих. Затем верховный жрец обратился к царю:
— Мой повелитель, разрешите мне войти в святая святых, дабы подготовить священные вещи, имеющие касательство к вашему величеству.
Царь дал разрешение, и верховный жрец удалился с группой других священнослужителей. Они отсутствовали недолго и вскоре появились снова, неся гроб, трон и золотой ларец. Жрецы поставили все это с уважением и почтением перед царской семьей, и Нофер-Амон, приблизившись к Яхмосу, сказал трогающим душу голосом:
— Мой повелитель, вещи, которые я поставил перед тобой, самые ценные реликвии Священного Царства. Доблестный командир Пепи, вечная память ему, передал их мне на хранение двенадцать лет назад, чтобы до них не дотянулись жадные руки врага. Это гроб Секененры, погибшего мученической смертью, в нем лежит его бальзамированное тело. Саван скрывает многочисленные раны, каждая из которых вошла в бессмертную страницу храбрости и самопожертвования. Это его славный трон, который сыграл свою законную роль, когда Секененра, восседая на нем, заявил, что Фивы не откажутся от борьбы, и предпочел тяготы и ужасы войны молчанию и унизительному миру. В этом золотом ларце находится двойная корона Египта, корона Тимаюса, последнего нашего царя, правившего объединенным государством. Я вручил ее Секененре, когда он отправился на битву с Апофисом. Надев ее на свою благородную голову, царь бросился в гущу боя, и всем в долине хорошо известно, как он защищал ее. Эти вещи, мой повелитель, являются священным наследием, оставленным командиром Пепи, и я молю Бога продлить мои дни, дабы я мог вернуть их владельцам. Пусть они всегда живут во славе, и пусть слава живет в них!
Все обратили взгляды на царский гроб. Затем присутствующие во главе с царским семейством распростерлись ниц и вознесли скромную молитву.
Царь и его семейство приблизились к гробу и встали вокруг него. Наступило молчание, погибший царь Секененра говорил с их сердцами и душами. Тетишери впервые почувствовала усталость. Она оперлась о руку Яхмоса, слезы скрыли драгоценный гроб от ее взора. Гур решил утешить святую мать и облегчить страдания ее сердца, сказав Нофен-Амону:
— Верховный жрец, храни этот гроб в святая святых до тех пор, пока его можно будет опустить в могилу, соблюдая торжественный обряд, достойный положения того, кто покоится в нем.
Жрец получил разрешение царя перенести гроб в святая святых бога Амона. Затем жрец открыл ларец, достал из него двойную корону Египта, почтительно приблизился к Яхмосу и водрузил ее на его курчавую голову. Люди радостно воскликнули:
— Да здравствует фараон Египта!
Нофер-Амон пригласил царя и цариц войти в святая святых, и все направились туда. Тетишери все еще опиралась о руку Яхмоса. Все переступили через священный порог, отделявший этот мир от другого, пали ниц перед богом Амоном, целовали занавески, скрывавшие его статую, вознесли молитву благодарности и хвалы за то, что он даровал им успех и возможность вернуться на родину победителями.
Царь вышел и сел в паланкин, так же поступили царицы. Трон поставили на большую повозку, и процессия двинулась к дворцу, окруженная людьми, радостно встречавшими царя, молившимися, восхвалявшими величие Бога, махавшими веточками и разбрасывавшими цветы. К вечеру шествие подошло к древнему дворцу. Тетишери переполняли чувства, сердце у нее громко билось, дыхание стало прерывистым. Ее отнесли в царское крыло, где к ней присоединились царь и царицы и с тревогой сели перед ней. Однако Тетишери снова обрела спокойствие и, с нежностью глядя на лица любимых и дорогих ей людей, сказала чуть слышно:
— Прошу, извините меня, дети. Впервые сердце не послушалось меня. Оно так много вынесло и так долго терпело! Позвольте мне поцеловать вас всех, ибо, когда вы доживете до моих лет, достижение надежд будет означать конец пути.
34
Подоспел вечер, стало темно, но Фивы не собирались спать. Жители города бодрствовали, шумно веселились, улицы и окраины города освещали факелы, люди собирались на площадях, пели, оглашали все вокруг радостными возгласами. Из жилищ доносились звуки музыкальных инструментов и песни. В ту ночь Яхмос не мог уснуть, невзирая на усталость. Ложе раздражало его, поэтому он вышел на балкон с видом на огромный сад, сел на роскошный диван. Горела лишь тусклая лампа. Душа Яхмоса странствовала в гнетущем мраке. Пальцами он нежно и с любовью перебирал золотую цепочку, время от времени посматривая на нее, будто она источала тепло той, которой принадлежала.
Неожиданно к нему вышла юная царица Нефертари, беспокойство лишило ее сна. Царица думала, что муж столь же счастлив, что и она, и села рядом с ним, полная радости и счастья. Царь улыбнулся, повернулся к ней, и она заметила цепочку в его руке. Удивленная царица взяла ее и спросила:
— Это ожерелье? Какая прелесть! Но оно сломано.
Собравшись с мыслями, царь сказал:
— Да. Ожерелье осталось без сердца.
— Как жаль! И где же оно потерялось?
Царь ответил:
— Я лишь знаю, что оно потерялось вопреки моему желанию.
Она с любовью взглянула на мужа и спросила:
— Ты собирался подарить его мне?
Царь ответил:
— Я приберег для тебя более ценную и красивую вещь, чем эта.
Она спросила:
— Почему же потерянное сердце печалит тебя?
Стараясь говорить естественно и спокойно, он ответил:
— Цепочка воскрешает в памяти первые дни борьбы, когда я отправился в Фивы, переодевшись в торговца и назвавшись Исфинисом. Тогда-то я и собирался продать ее. Чудесные воспоминания! Нефертари, зови меня Исфинисом, ибо я влюбился в это имя и люблю тех, кто меня так называет.
Царь отвернулся, чтобы скрыть свои чувства и тоску, которые читались на его лице. Царица радостно улыбнулась и, подняв глаза, увидела свет лампы, мерцавший вдали. Указав на него, она воскликнула:
— Посмотри на этот свет!
Яхмос посмотрел в том направлении, куда она указывала. Он сказал:
— Это лампа. Она горит на лодке, проплывающей вдоль нашего сада.
Видно, лодочнику хотелось приблизиться к саду дворца, чтобы новые обитатели услышали его красивый голос, точно желая приветствовать их, после того как царя встретили Фивы. Возвысив голос, он запел в тишине ночи. Его пение сопровождали звуки тростниковой свирели.
Долгие годы я лежу в своем жилище,
Страдая от горестного недуга!
Семья и соседи, лекари и знахари
Пришли, но болезнь сбила их с толку,
Тут явилась ты, моя любовь, и твои прелести оказались
сильнее их врачеваний и заклинаний,
Ибо тебе одной известна причина моего недуга.
Голос певца звучал чарующе и пленял слух. Яхмос и Нефертари умолкли. Царица провожала свет лампы с сочувствием и нежностью, царь уставился перед собой, прикрыв глаза. Воспоминания не выпускали его сердце из плена.

Нагиб Махфуз
Эхнатон, живущий в правде
Кто вы, фараон Эхнатон?
Предисловие
Одним из культурных феноменов нашего времени является заметный рост интереса к Древнему Египту, наблюдающийся во всем мире. Общество, сталкивающееся с неразрешимыми проблемами, пытается искать прецеденты в прошлом. Следует признать, что бесконечная история Египта дает для этого все основания. Известно, что новое — это хорошо забытое старое. Не приходится сомневаться, что именно Эхнатон, решившийся на радикальную реформу в стране, скованной тысячелетними традициями, стал предшественником как всех будущих моисеев, иисусов, магометов, Савонарол, лютеров и никонов, так и робеспьеров с Лениными и альенде. Эту деятельность можно оценивать по-разному, считать подобных реформаторов либо движущей силой истории, либо фанатиками одной идеи, спорить, насколько прогрессивным был переход от политеизма к монотеизму, однако ясно, что человек, рискнувший вступить в сражение со всесильными жрецами культа Амона-Ра, должен был обладать неслыханной смелостью и верой в свою правоту.
Что мы знаем об Эхнатоне? Не слишком много, но и не так уж мало. Вот что написано о нем в «Британской энциклопедии»:
«ЭХНАТОН (Аменхотеп IV), египетский фараон XVIII династии Нового царства, правил ок. 1353–1336 гг. (по другим сведениям, ок. 1347–1338) до н. э. Сын Аменхотепа III и Тийи (Тэйе), незнатной женщины, сестры жреца бога Ра из г. Гелиополя. Вступил на престол в 15-летнем возрасте под именем Аменхотепа IV (древнеегипетское „Амон доволен“) Находился под сильным влиянием царицы-матери и своего воспитателя Аменхотепа, сына Хапу. Как и его отец, в нарушение вековой традиции женился не на старшей дочери царствовавшего до него фараона (египетский престол формально передавался по женской линии), а на Нефертити — видимо, дочери одного из египетских вельмож, впоследствии принимавшей активное участие в его религиозных преобразованиях.
В самом начале своего царствования принимает титул верховного — „величайшего среди видящих“ — жреца бога Ра в Гелиополе, подчеркивая этим свою приверженность культу Солнца и особенно выделяя почитание самого солнечного диска Атона, культ которого стал общеегипетским еще при его деде, Тутмосе IV, правившем в 1400–1390 гг. до н. э. Постепенно в противовес другим богам и особенно Амону, главному богу столичных Фив, расширяются культовые функции Атона; в нем одном воплощаются представления о благости, могуществе и творческой силе солярных (от лат. sol — солнце) божеств. Наконец, имя Эхнатон (древнеегипетское „Полезный Атону“), принятое фараоном, декларирует новую ориентацию его религиозной политики.
На шестом году правления Эхнатон переносит столицу из Фив, центра оппозиционно настроенного жречества Амона, в основанный им на земле, не посвященной никакому другому божеству, „великий очарованием, приятный красотой для глаз“ город Ахетатон (древнеегипетское „Горизонт Атона“; совр. Тель-эль-Амарна в Среднем Египте) и клянется вместе с Нефертити никогда не покидать столицы, объявленной священной обителью Атона. Вскоре он запрещает культ Амона, его жены Мут и их сына Хонсу (фиванская триада богов). Около 1346 г. до н. э. Атон провозглашается единственным богом, и к 1343 г. до н. э. начинаются преследования почитания всех других культов прекращается строительство храмов, искореняются сами слова „бог“ и „боги“; даже Атон именуется не иначе как „властитель“ (его имя, подобно царскому, заключается в картуши).
В новой по сути религии особое место уделяется также прославлению божественности самого фараона; он считается возлюбленным сыном и соправителем Атона, „единственным познавшим истинного бога“ и способным вступать в прямое общение с воплощенным солнцем. В столице пышно отмечаются годы их „совместного“ царствования. Прежнее жречество в правление Эхнатона утрачивает свои позиции, новое жречество Атона и придворная элита царя состоят главным образом из вышедшей из низов служилой знати. При Эхнатоне, всецело поглощенном религиозной реформой, практически не ведутся завоевательные походы, не поддерживается контроль Египта над Палестиной и Сирией, ослабевают связи с Вавилонией и другими государствами Ближнего Востока, Египет теряет в этом регионе своего главного союзника — государство Митанни — и не противостоит росту могущества своего будущего главного соперника в Сирии — Хеттского царства.
Преобразования Эхнатона, в значительной мере вызванные политическими целями, несли на себе, однако, печать искренней и даже фанатичной веры. Для поклонения Атону строятся многочисленные храмы, представляющие собой большие открытые дворы с пилонами. Отныне молитвы человека возносятся к самому богу, между ними не существует преград. Сам Атон изображается не в привычном антропоморфном облике, но в виде солнечного диска, лучи которого оканчиваются ладонями со знаками „анх“ (символом силы, жизни и благодати), которые он протягивает к обращенным к нему в молитве фараону и его супруге. Религиозная реформа отразилась на всех сторонах жизни Египта; в искусстве формируется новый образ человека, в изображениях царя, Нефертити и приближенных подчеркиваются главным образом милосердие и благость, мягкая красота и открытость души миру эмоций.
Эхнатон и Нефертити имели шесть дочерей[112], третья из которых, Анхесенпаатон, стала супругой Тутанхатона (изменившего имя на Тутанхамон), а старшая, Меритатон, — супругой Семнехкара, в конце царствования Эхнатона объявленного его соправителем. (После смерти фараона Семнехкар около двух лет правил самостоятельно, а затем возможно, еще несколько лет — вместе с Тутанхамоном.) Судьба Нефертити после появления новой жены Эхнатона Кийи неизвестна.
Кроме дочерей от Нефертити Эхнатон имел одного или двух сыновей — то ли от второй жены, Кийи, то ли от собственной дочери Макетатон[113], которая умерла при родах вместе с ребенком, похороненным в царской гробнице. Подлинные обстоятельства смерти самого Эхнатона неизвестны[114]. Непосредственной эфемерной преемницей Эхнатона стала женщина — возможно, его старшая дочь Меритатон. Либо она, либо вдова Тутанхамона Анхесенпаатон (скорее последняя, но об этом история умалчивает) обратилась к хеттскому царю Суппилулиумасу с просьбой предоставить ей супруга, потому что в Египте она никого найти не могла. Ее жених, царевич Заннанза, был убит по пути в Фивы, и из первой в истории Египта попытки получить фараона-иностранца с помощью дипломатического брака ничего не вышло. После короткого правления Семнехкара (1335–1332 гг. до н. э.) трон унаследовал девятилетний Тутанхатон — вероятнее всего, сын Эхнатона от Кийи. Для легализации прав на престол он объявил себя сыном Аменхотепа III и по обычаю женился на своей единокровной сестре, третьей дочери Эхнатона Анхесенпаатон, которая была намного старше его. В третий год своего царствования Тутанхатон переносит столицу в Мемфис, оставляет культ Атона и меняет свое имя на Тутанхамон, а имя царицы — на Анхесенамон. В надписях о деяниях Тутанхамона „амарнский период“ назван „несчастным временем, когда от Египта отвернулись боги“. Возможно, это было сделано с подачи высших чиновников, самыми влиятельными из которых были Эйе, „Отец Бога“, ставший визирем и регентом (что указывает на его тесную связь с царской семьей), и главный военачальник Хоремхеб. Согласно новой религиозной доктрине (как и при Эхнатоне, являвшейся трансформацией существовавших к тому моменту верований), верховными богами Египта становятся Амон, Ра и Птах (позже к ним добавляется Сет); эта троица объявляется единосущей. Самым ранним свидетельством существования данной триады является надпись на трубе Тутанхамона, где перечислены три части армии, названные в честь этих богов. Видимо, в то время существенное сокращение пантеона было выгодно жрецам Амона, стремившимся избавиться от конкурентов. Впоследствии имя Эхнатона предается забвению и даже не включается в списки правивших в Египте царей».
Широко известен классический польский роман Болеслава Пруса «Фараон» (1897 г.), экранизированный в 1960-х годах Ежи Кавалеровичем. Реальные исторические события в этом романе (и фильме) сильно романтизированы, а Древний Египет больше напоминает Древний Рим в изображении Генрика Сенкевича, поэтому соотечественник знаменитого фараона Нагиб Махфуз имел полное право вернуться к данной теме, опираясь на достижения современной египтологии. Правда, белых пятен в истории Египта еще немало. Так, исследователи расходятся в ее периодизации и определении времени правления той или иной из тридцати трех династий фараонов. Дело в том, что фараоны в расчете на обряд Хеб-Седа, проводившийся в честь 25- или 30-летнего юбилея коронации и якобы возрождавший жизненные силы престарелого царя, стремились максимально увеличить формальный срок своего правления за счет предшественников и стирать надписи о них, сделанные на специальных памятниках; далеко не всегда это вызывалось ненавистью к предыдущему властителю и желанием вытравить о нем всякие воспоминания. Наличием подобных «купюр», а также тем, что в последние годы жизни фараоны обычно назначали наследников престола своими соправителями, и объясняются разночтения в датах правления того или иного царя.
Историки придерживаются разных мнений о том, кем были таинственные гиксосы, захватившие страну примерно в 1700 г. до н. э. и правившие в ней 160 лет, когда произошел исход евреев из Египта; и был ли потерян ритуал восшествия на престол нового властителя и его отождествления с богом Гором, в результате чего правители Египта утратили право именоваться
царями и стали «просто» фараонами. Остаются неизвестными обстоятельства смерти Эхнатона, подлинное происхождение жены Эхнатона Нефертити и его легендарного преемника Тутанхамона.
Нагиб Махфуз берет на себя большую смелость, предлагая собственные решения этих спорных вопросов — например, изображая Нефертити дочерью мудрого жреца Эйе (будущего преемника Тутанхамона), самого Эйе — учителем юного Эхнатона (хотя известно, что наставником наследника престола был Аменхотеп, сын Хапу), а Семнехкара и Тутанхамона — близнецами, сыновьями Аменхотепа III и Тийи, младшими братьями Эхнатона. Умалчивает он и о том, что в действительности венценосные супруги расстались еще за пять лет до смерти фараона-реформатора, причем отнюдь не по желанию Нефертити; вероятнее всего, причиной развода была неспособность Нефертити родить Эхнатону сына. Вряд ли подданные Эхнатона, привыкшие обожествлять своих властителей, осуждали его за кровосмешение (они скорее удивились бы обратному). И презирать его как вырожденца они тоже не могли, поскольку печать вырождения носил на себе чуть ли не каждый второй фараон. А мысль о том, что Эхнатон был гермафродитом, могла прийти в голову только нашему современнику, видевшему его стилизованные изображения, в которых специально подчеркивались «женственные» мягкость и доброта нового фараона, разительно контрастировавшие с жестокостью и воинственностью его предшественников. При этом автора не смущает, что на парных скульптурных портретах работы мастера Тутмеса (ныне хранящихся в музеях Каира и Берлина) «чудовище» Эхнатон и «красавица» Нефертити похожи как брат с сестрой. Однако в целом версия, предложенная Махфузом, выглядит весьма правдоподобной и убедительной.
Действие романа происходит в конце царствования Тутанхамона; после смерти Эхнатона прошло много лет
[115]. Повествование ведется от лица некоего Мериамона, сына неназванного вельможи из Саиса. Вид заброшенного Ахетатона, «города еретика», вызывает у молодого человека жгучее любопытство и желание узнать правду о фараоне-реформаторе. С этой целью он опрашивает четырнадцать человек, среди которых есть как злейшие враги, так и преданные друзья и соратники покойного Эхнатона, в том числе его ссыльная вдова Нефертити. С мастерством, достойным нобелевского лауреата, Махфуз изображает осторожного мудреца Эйе, брызжущую ядом завистницу Тадухипу, великого архитектора Бека, тяжело переживающего гибель построенного им прекрасного города, «ястреба» и экстремиста жреца Тото… Естественно, их рассказы противоречивы (тот же прием использует Акутагава в «Расёмоне»); автор предлагает читателю делать выводы самостоятельно. Однако чтобы понять всю глубину конфликта, описанного в романе, необходимо иметь хотя бы приблизительное представление не только о Египте 14 века до нашей эры, но и о событиях, которые происходили до и после этого времени.
Основные события египетской истории
История Древнего Египта делится на пять основных периодов: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Точная хронология бесконечной египетской древности весьма затруднительна. В письменных источниках обычно указывалась династия, к которой принадлежал фараон — современник летописца, поэтому историки стали обозначать время не по столетиям, а условно — по династиям. Годы правления того или иного фараона также подвергались постоянной ревизии, поскольку часто новый властитель, стремясь вытравить из памяти подданных малейшие воспоминания о своем нежелательном предшественнике, переписывал историю, уничтожал все письменные свидетельства о нем и прибавлял время его правления к собственному. Жрец Манефон, написавший около 300 г. до н. э. свое знаменитое сочинение об истории Египта, насчитывал до тридцати династий фараонов.
Ниже перечислены некоторые наиболее важные моменты истории Древнего Египта. Все даты — до н. э.:
Ок. 6000 г. — Образование Верхнего царства на юге страны
Ок. 5000 г. — Образование Нижнего царства на севере, в дельте Нила.
Ок. 3000 г. — Объединение обоих царств в правление царя Мины (Менеса), основателя города Мемфиса (египетское название — Минфи) и I династии фараонов. С тех пор царя стали отождествлять с богом Гором как с представителем божественной силы на земле.
3000–2640 гг. — РАННЕЕ ЦАРСТВО
Около 2660 г. — Правление фараона Хасехемуи, при котором возникла централизованная государственная система с администрацией, управлявшей царской казной. Мемфис становится столицей Египта.
2640–2155 гг. — ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО
2600–2290 гг. — Расцвет Египта, расширение его территории. Верховным богом египтян становится бог Солнца Ра. Строятся великие пирамиды. За полтора века их было сооружено не менее 15, из которых наиболее известны пирамиды фараонов Джосера (III династия, 2600 г… работы обожествленного впоследствии зодчего Имхотепа, ставшего покровителем наук и искусств), Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура) (IV династия, 2575–2471 гг.). Начинается колонизация севера Эфиопии. Фараоны V династии завоевывают Сомалийский полуостров и часть аравийского побережья.
2290–2160 гг. — Период бедствий и внутренних конфликтов, связанный с упадком царской власти и усилением высших чиновников, управлявших провинциями.
2155 (или 2134)-1700 гг. — СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО
Классическая эпоха высшего расцвета науки, культуры, литературы и искусства.
Ок. 2060 г. — Перенос столицы в Фивы (египетское название — Унса или Уасет).
1991 г. — Фараон Аменемхет I основывает к югу от Мемфиса новую столицу — Иттауи.
1878–1840 гг. — Окончательное завоевание Нубии при Сенусерте III.
1700–1540 гг. — Вторжение, а затем господство в Египте гиксосов, кочевых племен Центральной Азии (вероятно, семитического происхождения). Один из вождей гиксосов, Салитис, провозглашается фараоном, а новой столицей становится город Аварис, построенный гиксосами на востоке дельты Нила.
1552–1070 гг. — НОВОЕ ЦАРСТВО
Ок. 1540 г. — Борьба с гиксосами, начатая последним фараоном XVII династии Камосом, заканчивается полным изгнанием захватчиков при младшем брате Камоса, фараоне Яхмосе I (он же Аахмес или Ахмес), правившем в 1539—514 гг. и считающемся основателем XVIII династии (официальные годы правления династии — 1539–1292 гг. до н. э.). Начало нового подъема Египта. Фивы вновь становятся столицей. Возвышается, превращаясь в общегосударственный, культ солнечного бога Амона (Амона-Ра), фиванские жрецы которого сыграли большую роль в борьбе с гиксосами.
1514–1493 гг. — Правление Аменхотепа I, побочного сына Яхмоса I, женившегося на дочери последнего.
Ок. 1493–1482 гг. — Правление Тутмоса I (греческая транскрипция древнеегипетского Джехутимесу — «Бог Тот родил его»), побочного сына Аменхотепа I и мужа его дочери Аахмес (она же Яхмос-Нофретари), официального третьего фараона XVIII династии
[116]. Южная граница Египта перемещается за третьи пороги Нила, а северная достигает берегов Евфрата.
1482–1479 гг. — Правление Тутмоса II Немощного, сына Тутмоса I и Мутнофрет (младшей сестры царицы Аахмес), мужа своей единокровной сестры Хатшепсут.
1479–1458 гг. — Правление царицы Хатшепсут. Возобновление строительства храмов, рытья каналов и торговых связей с Пунтом, прервавшихся из-за нашествия гиксосов.
1479–1426 гг. — Эпоха роста политического могущества Египта при сыне Тутмоса II и наложницы Исет, фараоне Тутмосе III (с 1479 г. он формально считался правителем Египта и четвертым фараоном XVIII династии (хотя на самом деле был пятым после Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I и Тутмоса II), однако фактическую власть приобрел лишь в 1458 г., после смерти своей тетки Хатшепсут) Завоевание Сирии и Палестины, а также Эфиопии вплоть до четвертых порогов Нила.
1426–1400 гг. — правление Аменхотепа II, продолжавшего завоевательную политику своего отца, Тутмоса III. Сохранились письменные свидетельства, что он был прекрасным стрелком из лука и гребцом.
1400–1390 гг. — правление Тутмоса IV, сына Аменхотепа II и внука Тутмоса III.
1390–1353 гг. — Период наивысшего могущества Египетской империи при фараоне Аменхотепе III, сыне Тутмоса IV от его младшей жены Мутемвии, дочери правителя Митанни.
1353–1336 гг. — Правление Аменхотепа IV (Эхнатона). Аменхотеп провозглашает созданную им религию, основанную на принципе монотеизма. Он признает единым богом Атона — божество солнечного диска. По его указанию в Среднем Египте строится новая столица — Ахетатон (совр. Тель-эль-Амарна). Преемники Аменхотепа IV упраздняют его реформы, возвращают культу Амона и его жрецам ведущее положение в духовной жизни государства, а также восстанавливают столицу в Фивах.
1335–1333 гг. — Правление Семнехкара.
1333–1323 гг. — Правление Тутанхамона.
1323–1319 гг. — Правление Эйе.
1319–1292 гг. (по другим сведениям, ок. 1334–1306 гг. до н. э.) — Правление Хоремхеба.
1292–1290 гг. (по другим сведениям, 1306–1304 гг. до н. э.) — Правление Рамсеса I, основателя XIX династии.
1290–1279 гг. — Правление Сети I.
1279–1213 гг. — Правление Рамсеса II Великого, походы в Эфиопию, Аравию и на Евфрат. Война с хеттами, живущими в Малой Азии. Новый расцвет египетского строительства и искусств. Начало сооружения канала между Средиземным и Красным морями.
1213–1204 гг. (по другим сведениям, 1224–1215 гг. до н. э.) — Правление Мернептаха, при котором произошел исход евреев из Египта. На пятом году царствования он отразил массовое нашествие ливийцев с запада и так называемых «народов моря» с северо-востока на Нижний Египет и восстановил власть Египта над отпавшей во время этого нашествия Палестиной (в том числе израильским плотным союзом). Надпись Мернептаха «Израиль пуст, нет семени его» является первым в истории письменным упоминанием этого этнонима
[117].
1204–1198 гг. — Правление Сети II.
1198–1193 гг. — Правление узурпатора Сиптаха (Сипта). сына поддержанного сирийцами мятежника Аменмоса, поднявшего восстание в Нубии.
1193–1190 гг. — правление Таусерт, вдовы Сети II. прибавившей к годам своего царствования годы царствования Сиптаха. Конец XIX и XX династий (эпохи Рамсесидов) связан с именем сирийского узурпатора (возможно, Бея, бывшего канцлером при Сиптахе), который обложил народ тяжелыми податями и запретил приносить жертвы в храмах.
1170-332 гг. — ПОЗДНЕЕ ЦАРСТВО
Ок. 1150 г. — Распад Египта на два царства. Междоусобные войны, связанные с ослаблением царской власти и усилением жрецов Амона.
1075-950 гг. — Севером правит XXI танитская (эфиопская) династия, югом — фиванские жрецы, иногда объявляющие себя фараонами, роднящиеся с фараонами Нижнего Египта и поддерживающие с ними мирные отношения. Границей между царствами становится крепость аль-Хиба.
713 г. — Кушиты, обитающие в Нубии, вторгаются в Верхний Египет, захватывают Фивы и объединяют страну под властью своего царя Шабаки (XXV династия). Кушитское владычество длится до 672 г.
702-672 гг. — Тридцатилетняя война с Ассирией, закончившаяся поражением Египта.
672-664 гг. — Египет, оказавшийся под властью ассирийцев, разделен на 12 областей-додекархий.
663-610 гг. — Правление фараона Псамметиха I (XXVI династия), которому удается избавиться от ассирийского владычества, откупившись золотом.
610-594 гг. — Правление Нехо II сына Псамметиха I. Египетские войска, посланные фараоном к Евфрату разгромлены вавилонским царем Навуходоносором… Возобновляется строительство канала, начатое при Рамсесе II.
525 г. — Вторжение персов. Египет становится шестой сатрапией огромной Персидской империи. Персидские цари Камбиз, Дарий I, Ксеркс последовательно провозглашают себя фараонами. Господство персов продолжается почти два столетия, прервавшись на 20 лет, когда фараон Нектанеб I (380–362 гг. до н. э.; по другим сведениям, 378–360 гг.) сумел временно восстановить независимость Египта.
332–305 гг. — МАКЕДОНСКИЙ ПЕРИОД
Вторжение Александра Македонского с радостью встречено египтянами. Сам Александр признан сыном бога Амона и в качестве фараона возведен на трон в Мемфисе.
305-30 гг. — ПТОЛЕМЕЕВСКИЙ ПЕРИОД
После смерти Александра в 323 г. и распада его империи власть в Египте захватывает один из его полководцев, Птолемей I Лаг, который становится основателем новой, XXXIII династии египетских царей.
Вплоть до 221 г. Египет переживает новый расцвет, однако с восшествием на престол Птолемея IV Филопатора начинается период окончательного упадка, выразившийся в нескончаемых дворцовых интригах, убийствах и конфликтах с соседними государствами.
47-30 гг. — Правление Клеопатры VII, принявшей участие во внутренних политических распрях Рима сначала на стороне Помпея, впоследствии разгромленного Юлием Цезарем, а затем Марка Антония, правителя восточной части Римского государства, который в конце концов потерпел поражение от Октавиана Августа. После самоубийства Клеопатры и казни Августом ее сына Цезариона последняя, XXXIII династия египетских царей обрывается. В 30-м г. до н. э. Египет становится римской провинцией.
Социальное устройство Древнего Египта
Вершиной государственной пирамиды Египта был фараон. Пожалуй, ни в одной стране мира божественность владыки не воспринималась так буквально, как в Египте. Фараоны признавались преемниками и прямыми воплощениями богов: сначала Гора — бога, которому поклонялся легендарный царь Мина (Менес), а позже солнечного бога, Амона-Ра.
Поскольку имя и титул египетского царя были священны и обладали магической силой, властителя избегали называть по имени без особой надобности. С середины II тысячелетия до н. э. египтяне стали пользоваться иносказанием <пер-'о>, или «пер-аа» — «большой дом», откуда и происходит видоизмененное слово «фараон»
[118]. Фараон с помощью магии поддерживал миропорядок, установленный богиней Маат — законодательницей и владычицей «правды» (поискам, обретению и распространению которой уделяется центральное место в данном романе). Только благодаря царю солнце всходило в положенное время и не отклонялось от курса, правильно чередовались времена года, поднимались всходы на полях. Сам великий животворящий Нил разливался в положенный срок лишь потому, что перед началом его подъема фараон бросал в воду папирус с указом, повелевавшим реке разлиться.
Стоит отметить любопытную особенность царской власти: престол формально передавался по женской линии, и фараоном становился, как правило, супруг старшей дочери предыдущего фараона; последний же в большинстве случаев приходился отцом своему зятю. Так под предлогом защиты священной крови фараона возникла традиция близкородственных браков (как известно, приводящих к быстрому вырождению). Подобное наследование престола являлось своеобразной данью богине Маат — признанием того, что вселенский порядок определяется женским началом.
Правой рукой фараона и вторым лицом в государстве был советник, которого историки обычно именуют арабским словом «визирь». Он обладал высшей судебной властью, осуществлял руководство местным управлением, а также контроль над выполнением всех царских указов и деятельностью государственных хранилищ и мастерских.
К высшему правящему классу относились также номархи — правители областей Египта (номов). В периоды ослабления царской власти они становились полновластными князьками, противостояли центру, воевали между собой и требовали от своих подданных оказывать им почести, полагавшиеся лишь самому фараону.
Верховную знать составляли также различные царские сановники, военачальники, хранители сокровищ, начальники работ, жрецы великих храмов.
Чиновничья пирамида представляла собой многоступенчатую иерархию различных начальников — от высших должностных лиц до «начальника двора молольшиц муки для остроконечного хлеба», «начальника молольщиц муки для лепешек» и так далее.
Особым статусом и влиянием в эпоху Нового царства пользовались жреческая и воинская касты.
Магия и тесное «сотрудничество» с богами пронизывали все египетское общество. Капризы погоды, прихоти Нила и пустынных ветров заставляли египтянина не выпускать из рук амулеты и постоянно заботиться о том, чтобы боги не теряли своей благосклонности. Поэтому у египетских жрецов было много забот. Номархи с древнейших времен являлись начальниками жрецов местных храмов, а высшие жреческие функции исполнял сам фараон. Однако со временем ритуалы усложнялись, храмовые богатства возрастали, и жречество все сильнее стремилось к освобождению от контроля светской власти и приобретению большего политического влияния в государстве. Если в эпоху Древнего и Среднего царств жречество Амона способствовало единству страны, а в начале Нового царства приложило большие усилия к изгнанию из страны захватчиков-гиксосов, то со временем оно превратилось в замкнутую касту и привело Египетскую империю к крушению и распаду. Стремлением остановить деградацию и было вызвано столкновение Аменхотепа IV со жрецами Амона.
Жречество Амона-Ра в Новом царстве подразделялось на несколько рангов. Его верхушку составляли первый, второй и третий пророки, «Отец Бога» и «Чистый». Как они делили между собой функции, неясно. Особое значение имели жрецы-канторы, знавшие, как следует нараспев читать божественное слово. Канторов считали волшебниками, поскольку только они могли правильно, с нужной интонацией читать священные изречения. В обязанности жрецов входило также устройство многочисленных праздников руководство процессиями, приготовление и принесение жертв, а также толкование различных знамений и снов. Все ритуалы были жестко регламентированы. К примеру, в Фивах, главном городе культа Амона-Ра, жрецу предписывалось совершать в день около 60 церемоний по поднесению богу пищи и питья и очищению его жилища в храме.
Кроме того, египетским жрецам испокон веков принадлежала монополия на обладание и хранение астрономических, математических, медицинских знаний, поддерживавших их влияние в царстве и до сих пор поражающих ученых своей глубиной.
Египетское войско Нового царства состояло из пехотинцев и колесничих. Военачальники и колесничные бойцы стояли в обществе на одной ступени с высшим жречеством. В пехоту же набирали простолюдинов, причем не только молодых. Рядовых воинов использовали также как рабочую силу в каменоломнях, при доставке каменных глыб, рытье каналов. В эпоху XVIII династии, когда Египетская империя достигла вершины могущества, а внешняя угроза возрастала с каждым годом, войско приобрело привилегированное положение. Особенно это проявилось в правление преемника царицы Хатшепсут, великого завоевателя Тутмоса III.
Фараоны раздавали воинам земли и рабов, а также золотые и серебряные знаки отличия (ожерелья, браслеты, «львы», «мухи»). Войска получали обильное угощение. Однако поскольку в правовом отношении воины-иноплеменники приравнивались к египтянам, с годами, как и в Древнем Риме, все большую часть войска стали составлять «варвары» — эфиопы, сирийцы, ливийцы и прочие. В результате к закату Нового царства именно они составляли основную часть военной силы фараонов.
Пантеон Древнего Египта
Богов в Древнем Египте было множество. Каждый дом, каждый город и деревня имели своего небесного покровителя. Укрепление власти фараонов, объединение областей, возвышение отдельных городов и храмов привели к тому, что египетский пантеон с годами стал сложной иерархической системой.
В Раннем и Древнем царствах больше всего почитали Гора — бога неба и света. Считалось, что первый фараон получил власть из рук самого Гора, став его преемником и воплощением. Согласно легенде, именно Гор объединил Верхнее и Нижнее царства и возложил Двойную корону обоих царств на голову царя Мины (Менеса). Гор изображался как человек с головой сокола, увенчанный двузубой короной.
Когда в середине III тысячелетия до н. э. в стране воцарилась V династия Среднего царства, происходившая из Аны (Гелиополя), на первое место вышел покровитель этого города — бог Солнца Ра. В отличие от местных богов, Ра жил не на земле, а двигался по небу в своей барке, освещая землю. Вечером Ра пересаживался в другую барку, спускался в преисподнюю и плыл по подземному Нилу, сражаясь с силами тьмы, чтобы утром вновь появиться на востоке. Ра также представлялся египтянам как человек с головой сокола, но носил другую корону — в виде солнечного диска.
Когда в середине II тысячелетия столицей стали Фивы, Египет начал постепенно переходить под покровительство местного бога Амона («Сокрытого», «Потаенного»), творца мира, бога воздуха и урожая. Однако поскольку понизить статус бога Солнца, дающего свет и жизнь, было уже невозможно, Амон соединился с Ра и стал именоваться Амоном-Ра. Культ Амона-Ра достиг своего пика в эпоху Нового царства. Амон-Ра носил корону с двумя высокими перьями, а в руке держал длинный скипетр. Иногда его изображали с человеческой головой, иногда — с головой барана или быка.
Атон («Диск Солнца») олицетворял видимый на небесах солнечный диск. Первоначально он был одной из ипостасей Солнца, телом Ра. Культ Атона получил распространение еще при Тутмосе IV, деде Аменхотепа IV, но именно Аменхотеп IV объявил Атона единым богом всего Египта запретив поклонение другим богам. После его смерти почитание Атона как общеегипетского божества прекратилось. Этот бог изображался в виде солнечного диска, лучи которого заканчивались либо раскрытыми ладонями, либо руками, держащими знаки жизни «анх» (петлистый крест) — символ того, что жизнь всем существам дана Атоном.
Особое место в египетском пантеоне отводилось Осирису, первоначально богу производительных сил природы, ежегодно умирающему и возрождающемуся, позднее — богу загробного мира и судье умерших. Его культ развился в городе Абидосе, но, как и Амон-Ра, Осирис стал одним из наиболее почитаемых богов всего Египта.
С судьбой бога Осириса связан главный миф египетской цивилизации, пронизывающий всю ее культуру. Некогда Осирис был мудрым и кротким царем Египта. Родной брат Сет (ставший богом пустынь и олицетворением злого начала) хитростью заключил его в гробницу, которую бросил в море. Богиня Исида (олицетворение плодородия, воды и ветра, символ женственности), сестра и супруга Осириса, родила на свет Гора и отправилась вместе с ним на поиски своего брата и мужа. Найдя гроб, она спрятала его, но Сету удалось добраться до тайника, разорвать труп Осириса на части и рассеять их по всему миру. Исида собрала их с помощью Гора, бога Анубиса (покровителя мертвых, изображавшегося в виде человека с головой шакала или собаки) и собственного волшебства восстановила тело Осириса и оживила его, после чего Осирис стал повелителем загробного царства.
Образ Осириса, олицетворявшего вечное возрождение, постепенно соединился с образом Амона-Ра. Люди стали представлять Осириса одним из его воплощений; ночью, опустившись в преисподнюю, Амон-Ра становится Осирисом, а утром возвращается в исходное состояние. Каждый египтянин знал, что после смерти он попадет в блаженную страну только в том случае, если с помощью заклинаний (которые ему будет подсказывать оставшийся в царстве живых жрец) сможет убедить богов и злобных низших духов в том, что он является воплощением Осириса. Осирис изображался в виде мумии с зубчатой короной и бородой, а также со скипетром и плетью в согнутых руках.
К главным богам Египта относились также:
Птах (Пта) — покровитель Мемфиса, бог плодородия и ремесел (его образ — мумия с открытой головой и жезлом, стоящая на иероглифе, значение которого «правда»);
Тот — бог Луны, мудрости, письма и счета (изображал человеком с головой ибиса, часто с кистью для письма и палитрой в руках);
Хатор — богиня любви и судьбы, а также неба, кормилица фараонов и властительница дальних стран (корова или женщина с рогами коровы);
Хнум — бог-творец, создавший человека на гончарном круге, хранитель истоков Нила (человек с головой барана и спирально закрученными рогами).
* * *
Так кем же был в действительности фараон Эхнатон? Боговдохновенным мистиком или жалким юродивым? Религиозным фанатиком или борцом за свободу совести? Абсолютным монархом, видевшим угрозу в лице консолидированного духовенства, или наивным мечтателем, верившим в утопию, стремившимся к нравственному усовершенствованию своих подданных и построившим Город Света? Искусным оратором, завоевывавшим сердца толпы, или дервишем, умевшим впадать в религиозный транс? Певцом чистой любви или извращенцем-кровосмесителем? Ясно одно: этот человек предпринял первую в истории отчаянно дерзкую попытку перейти от политеизма к монотеизму, предвосхитив идеи иудаизма, христианства и ислама. Именно эту истину и подтверждает талантливый роман Нагиба Махфуза
[119].
Е. А. Кац
Эхнатон, живущий в правде
Начало
Все началось со взгляда — взгляда, который становился все более жадным по мере того, как корабль плыл против спокойного, сильного течения в конце сезона Половодья
[120]. Мы начали путешествие в родном городе Саисе и поплыли на юг, по направлению к Панополю, где жила моя сестра после выхода замуж. Однажды в конце второй половины дня наш корабль проплывал мимо странного города. На западе этот город граничил с Нилом, а на востоке от него находилась величественная гора. Его здания говорили о былой пышности, сменившейся пугающим забвением. Дороги были пустыми, деревья — голыми, ворота и окна — закрытыми, как глаза покойников. Город, лишенный жизни, охваченный тишиной, мраком и источающий запах смерти. При его виде я пришел в смятение и поспешил к отцу, который сидел на палубе с достоинством, подобающим пожилому возрасту.
— Отец, что случилось с этим городом?
— Мериамон, это город еретика. Проклятый и неверный город, — спокойно ответил он.
Я что-то вспомнил и снова посмотрел на город с растущим любопытством.
— Он необитаем?
— Эта женщина, жена еретика, все еще живет в своем дворце — точнее сказать, в своей тюрьме. И, должно быть при ней несколько стражей.
— Нефертити
[121], — пробормотал я себе под нос, вспоминая эту женщину и гадая, как она выносит свое заточение.
Меня продолжали одолевать воспоминания детства, прошедшего в саисском дворце моего отца; воспоминания о яростных спорах взрослых из-за смерча, который уничтожал Египет и всю империю. Они называли это «войной богов». Я вспомнил рассказы о молодом фараоне, отвергшем наследие своих предков, отринувшем жрецов и бросившем вызов судьбе. Вспомнил те приглушенные голоса, толки о новой религии и ошеломление людей, неспособных сделать выбор между своей старой верой и преданностью фараону. Люди шептались о необычных событиях, ужасном крушении империи и триумфе, за которым последует неминуемый крах.
Стало быть, тут находился город чудес, принадлежавший духу смерти. И тут была его хозяйка, одинокая пленница, пившая горечь. Мое сердце часто забилось, отчаянно желая услышать всю историю.
— Отец, ты больше никогда не обвинишь меня в равнодушии, ибо меня обуревает священное желание, сильное, как северные ветры, желание узнать правду и записать ее, как делал ты сам в расцвете юности.
Он устало посмотрел на меня и спросил:
— Мериамон, чего ты хочешь?
— Я хочу все узнать об этом городе и его правителе. О трагедии, которая разорвала страну пополам и опустошила империю.
— Но ты уже все слышал в храме, — возразил он.
— Отец, мудрец Какимна говорил: «Не суди о деле, пока не услышишь всех свидетелей».
— Но в этом случае правда очевидна. Кроме того, еретик Эхнатон мертв.
— Однако большинство его современников еще здравствует, — с растущей решимостью заявил я. — Они тебе ровня и друзья. Отец, твоя рекомендация отворит мне все двери и позволит раскрыть секреты. Тогда я смогу увидеть разные оттенки правды перед тем, как она исчезнет подобно этому городу.
Я настаивал до тех пор, пока не получил разрешение. Возможно, отец дал его не без скрытой радости. Он сам питал страсть к знаниям и запечатлению правды; именно эта страсть сделала наш дворец местом встреч как светских, так и религиозных деятелей. Наш дворец славился приемами, на которых рассказывали истории, читали стихи и пировали, заедая тонкие вина нежной уткой. Друзья считали моего отца человеком, благословленным не только обильными землями, но и неповторимой мудростью.
Он снабдил меня письмами, которые следовало доставить известным людям, помнившим то время, принимавшим в тогдашних событиях непосредственное участие или следившим за ними со стороны и познавшим как их горечь, так и сладость.
— Ты сам выбрал свой путь, вот и ступай им. Да защитят тебя Боги, — сказал отец. — Твои предки выбирали войну, политику или торговлю, но ты, Мериамон, ищешь правды, а в этом деле успех зависит только от тебя самого. Будь осторожен, не вызывай гнева властей и не насмехайся над несчастьем того, кто впал в забвение. Будь таким же бесстрастным и внимательным к каждому свидетельству, как сама история. Только так можно познать правду, свободную от пристрастий, и поведать эту правду тем, кто желает над ней поразмыслить.
Я был рад проститься с праздностью и вступить на тропу истории, ведущую к правде, на тропу, у которой нет ни начала, ни конца, ибо ее всегда прокладывают те, кто стремится к вечной истине.
Верховный жрец Амона
В брошенные еретиком Фивы вернулось процветание. Они снова стали столицей империи, трон которой занял юный фараон Тутанхамон. Военные и чиновники вернулись на свои посты, а жрецы возобновили выполнение обязанностей в храмах. Дворцы были восстановлены, сады цвели, а храм Амона, сохранивший величие, гордо стоял, окруженный гигантскими колоннами и цветниками. Рынки были заполнены покупателями, купцами и товарами, и богатство постоянно прибывало. Город вновь купался в славе.
Это была моя первая поездка в Фивы. Я был ошеломлен их великолепными зданиями и изумлен количеством жителей. Меня поразили звуки города и вид дорог, заполненных повозками и телегами. По сравнению с Фивами мой родной Саис выглядел маленькой, тихой, глухой деревней.
Я пришел к храму Амона в назначенное время. Служитель впустил меня в зал с величественными колоннами и провел по боковому коридору в помещение, где меня ожидал верховный жрец. В середине комнаты стояло кресло черного дерева с подлокотниками из чистого золота. В нем сидел пожилой человек с бритой головой, одетый в просторную длинную юбку и белый шарф, опоясывавший грудь и плечи. Несмотря на почтенный возраст, он выглядел бодрым и уверенным в себе. Услышав имя моего отца, жрец отозвался о нем с уважением и похвалил за преданность.
— Тяжелые времена и превратности судьбы помогли нам по достоинству оценить таких людей, как твой отец, — сказал верховный жрец. Потом он сдержанно одобрил мое намерение и продолжил: — Мы разрушили все стены с фальшивыми надписями. Однако правда должна быть сохранена. — Он благодарно склонил голову. — Сейчас глава богов Амон восседает на своем троне в святая святых, защищает Египет и сражает его врагов. Его жрецы тоже восстановили свое положение. Амон освободил нашу долину силой, дарованной им Яхмосу
[122], и расширил империю во всех направлениях силой, которой он облек Тутмоса III
[123]. Ибо он дает победу тому, кому пожелает, и попирает тех, кто его предает.
Я благоговейно преклонял колени до тех пор, пока верховный жрец не велел мне подняться и сесть в кресло рядом с ним. Потом он заговорил; я чутко внимал его словам.
— Это очень грустная история, Мериамон, хотя поначалу она казалась невинной. Все началось с великой царицы Тийи
[124], матери еретика и супруги великого фараона Аменхотепа III
[125]. Родом она была из простой нубийской семьи; в ее жилах не текло ни капли царской крови. Но она была такой прозорливой и проницательной, словно имела четыре глаза и могла смотреть сразу во всех направлениях. Царица намеревалась поддерживать с нами дружеские отношения. Я никогда не забуду ее слова, сказанные в день праздника Нила: «Вы, жрецы Амона, — счастье и благословение Египта». Она была такой сильной, что могла смотреть прекрасными большими глазами в лица могучих мужчин, пока те смущенно не опускали взгляд. Однако мы относились к ней без предубеждения, ибо знали, что фараоны этого славного рода всегда лелеяли и поддерживали жрецов Амона. Но затем царица проявила интерес к теологической доктрине, решив расширить ее за счет других божеств — в частности, Атона. Сначала это выглядело как стремление к углублению знания религии; мы относились к желанию царицы с уважением и считали его богоугодным делом. Возражать не имело смысла, хотя мы были недовольны тем, что здесь, в Фивах, доме Амона, будут чтить других божеств. Тийя заверяла нас, что Амон всегда будет оставаться главой богов и что его жрецы всегда будут в Египте главнее прочих. Но ее слова нас не убеждали.
Однажды Тото, жрец-кантор, сказал мне:
— За решением царицы кроется новая политика, которая не имеет ничего общего с религией.
Когда я спросил, что он хочет этим сказать, Тото продолжил: — Великая царица ищет поддержки провинциальных жрецов, чтобы обуздать нас, ограничить нашу власть и усилить власть фараона.
— Но мы — слуги Амона и заботимся о народе. Учим людей, лечим их и являемся их поводырями как в этом, так и в загробном мире. Царица — мудрая женщина; она должна знать наши достоинства, — ответил я.
— Но это борьба властей. Царица честолюбива. По моему мнению, она более могущественна, чем фараон, — с досадой сказал он.
— Мы — сыновья величайшего из богов. Мы опираемся на наследие более надежное, чем сама судьба, — возразил я, борясь с собственными дурными предчувствиями.
Может быть, настала пора рассказать тебе о фараоне Аменхотепе III. Его прадед, Тутмос III, основал империю, превосходившую все остальные размерами и численностью подданных. Аменхотеп III был могучим владыкой. Он вставал на защиту своей страны при малейшей тревоге и одерживал такие победы, что вся империя присягала ему на верность. Во время его долгого правления в стране царили мир и процветание; он пожинал плоды трудов своих предков. В Египте было вдоволь зерна, руд, тканей и прочих товаров. Он строил прекрасные дворцы, храмы и воздвигал статуи. Аменхотеп любил вкусную еду, вино и женщин, но жена Тийя знала все его достоинства и недостатки и умело пользовалась этим. Она вдохновляла мужа во время войны, терпела его распутство, жертвуя своими женскими чувствами ради возможности разделять с ним трон и утолять свое безграничное честолюбие. Я не отрицаю ее достоинств — она действительно знала все, что происходило в стране. Так же, как не сомневаюсь в ее преданности, дальновидности и заботе о славе Египта. Но порицаю ее за жажду власти. Именно эта жажда заставила ее использовать религию для усиления царской власти и устранения жрецов. Постепенно я узнавал другие мысли, которые были у нее на уме. Однажды она пришла в храм, принесла жертвы Амону, а затем решительно направилась в приемный зал, заставив меня следовать за ней. Как только мы сели, царица спросила:
— Тебя что-то тревожит?
— Жрецы Амона — верные подданные вашего славного рода, — ответил я.
— Именно так я и думаю, — сказала Тийя. Глаза царицы вспыхнули, и она продолжила: — Амон — глава всех богов Египта. Для граждан империи он — символ власти. Они боятся его. Но Атон светит всем. Он — бог Солнца, и все могут его видеть.
Я задумался. Искренни ли ее слова, или это еще одна попытка замаскировать желание лишить нас власти? Как бы, там ни было, но ее доводы меня не убедили.
— Ваше величество
[126], — сказал я, — этими дикарями следует править силой, а не жалостью.
— И жалостью тоже, — с улыбкой возразила она. — То, что годится для дикого зверя, не всегда годится для ручного животного.
Эта мысль показалась мне несерьезной, слишком женской и способной вызвать катастрофу. Последующие болезненные события только доказали мою правоту.
После выхода замуж Тийя столкнулась с трудностями. Некоторое время она оставалась бездетной и боялась оказаться бесплодной — возможно, из-за своего простого происхождения. В конце концов по милости Амона и его жрецов, наших молитв и заклинаний царица понесла. Однако родила всего лишь девочку. Когда мы встречались во дворце или в храме, она смотрела на меня осторожно и подозрительно, словно я был виноват в ее несчастье. Мы никогда не помышляли нарушить порядок престолонаследия. Недоверчивой ее делала только собственная порочность.
Жрец снова умолк, словно не испытывал желания продолжать, а затем сказал:
— Потом она каким-то чудом выносила двух сыновей. — Он немного подумал, еще сильнее разжигая мое любопытство. — Старший и лучший из двоих умер, а второй выжил, чтобы дать волю своей разнузданности и разрушить Египет.
Я молчал, но верховный жрец заметил мое нетерпение и заговорил снова:
— У нас есть способы узнавать правду даже тогда, когда она скрыта от других. Мы владеем тайнами колдовства и видим все, что происходит в империи. Еретик был человеком сомнительного происхождения, женоподобным и склонным к причудам. Следуя по стопам своего официального отца, Аменхотепа III, он женился на простолюдинке. Нефертити напоминала его мать не только худородностью
[127], но ненасытным честолюбием и похотливостью. Она была красива, дерзка и упряма. Вмешивалась в государственные дела, поддерживала разрушительную политику своего мужа. Родила шестерых дочерей, плод связей с разными мужчинами. Любовь Эхнатона к Нефертити была лишь видимостью; на самом деле он не любил никого, кроме своей матери, которая дала ему жизнь и внушила абсурдные идеи. Он ощущал боль и одиночество Тийи и таил гнев на своего отца. Когда Аменхотеп III умер, Эхнатон стер его имя со всех памятников. Говорил, что хочет вычеркнуть имя Амона из людской памяти, а потому имя его отца, означающее «Амон доволен», тоже должно быть вычеркнуто. Но правда заключалась в том, что, будучи не в силах отомстить отцу при его жизни, Эхнатон убил его после смерти. Когда Тийя учила сына культу Атона, это был всего лишь политический маневр. Но мальчик поверил в него всеми фибрами души. Его женственная природа гнушалась политики. А потом случилось то, чего не ожидала даже его мать. Он стал еретиком.
Я все еще помню его отталкивающую внешность — не мужскую и не женскую. Он был таким слабым и хрупким, что волей-неволей ненавидел всех сильных мужчин, жрецов и богов. Именно поэтому он придумал бога, слабостью и женственностью похожего на него самого, отца и мать одновременно, у которого нет другой цели, кроме любви. Бога, которого почитают танцами и песнями! Эхнатон погрязал в трясине глупости и пренебрегал своими обязанностями самодержца, в то время как наших людей и преданных союзников истребляли враги империи. Они взывали о помощи, но не получали ее, и в конце концов империя пала, Египет был уничтожен, храмы опустели, а люди умирали с голоду. Таков был еретик, который называл себя Эхнатоном.
Пораженный яркостью собственных воспоминании, верховный жрец на время умолк. Я терпеливо ждал. Наконец он переплел пальцы и положил руки на колени.
— Я начал получать донесения об Эхнатоне еще тогда, когда он был всего лишь мальчиком. У меня были свои соглядатаи во дворце — люди, посвятившие себя служению Амону и стране. Они говорили мне, что наследник престола питает подозрительную страсть к Атону и ставит его выше Амона, главы всех богов. Я узнал, что мальчик каждый день ходит в уединенное место на берегу Нила, чтобы в одиночестве встретить рассвет. По моему убеждению, это странное поведение сулило в будущем большие трудности. Я пошел во дворец и поделился своими опасениями с царем и царицей.
— Мой сын еще мал, — улыбнулся Аменхотеп III.
— Но мальчик вырастет и сохранит идеи своего детства.
— Он всего лишь невинный ребенок, ищущий мудрости там, где считает возможным ее найти, — сказала Тийя.
— Скоро он начнет изучать военное дело и узнает свое истинное призвание, — добавил фараон.
— Мы нуждаемся не в расширении империи, а в мудрости, которая нужна, чтобы удержать завоеванное, — сказала Тийя.
— Моя государыня, — возразил я, — безопасность империи зависит от благословения Амона и демонстрации силы.
— Меня удивляет, что такой мудрый человек, как ты, недооценивает значение мудрости в делах подобного рода, — коварно сказала царица.
— Я не отрицаю значения мудрости, — не отступал я, — но без силы мудрость — всего лишь пустой звук.
— В этом дворце, — прервал меня фараон, — никто не сомневается, что Амон является главой всех богов.
— Но царевич перестал посещать храм, — с тревогой сказал я.
— Прояви терпение, — ответил царь. — Скоро мой сын будет выполнять все свои обязанности наследника престола.
Я вернулся из дворца, не найдя утешения. Наоборот, после того как царь и царица выступили в защиту царевича, мои страхи стали еще сильнее. А потом я услышал о беседе царевича с родителями и убедился, что в тщедушном теле наследника скрывается бездна зла. Однажды у меня попросил приема один из моих людей.
— Теперь даже Солнце перестало быть богом, — сказал он. Когда я спросил, что он имеет в виду, человек продолжил: — Ходят слухи, что в царевиче воплотился новый бог, который утверждает, что только он является единственным истинным богом, а все остальные боги — ложные.
Эта новость ошеломила меня. Смерть, постигшая старшего брата, была милосерднее безумия, обуявшего наследника престола. Трагедия достигла своего пика.
— Ты уверен в своих словах?
— Я лишь повторяю то, что говорят все.
— Как этот так называемый бог воплотился в наследнике?
— Царевич услышал его голос.
— Это не солнце? Не звезда? Не идол?
— Ничего похожего.
— Как он может поклоняться тому, кого не может видеть?
— Он верит, что его бог — единственная сила, способная творить.
— Он выжил из ума.
Жрец-кантор Тото сказал:
— Царевич безумен и не сможет взойти на престол, когда придет время.
— Успокойся, — ответил я. — Отступничество наследника ничего не меняет. Амон и наши боги останутся единственными божествами, почитаемыми
подданными империи.
— Как может еретик сесть на трон и править империей? — гневно спросил Тото.
— Не будем торопиться. Дождемся, когда правда выйдет наружу, а потом обсудим это дело с царем, — продолжил я, хотя на душе у меня было тяжело. — Такого в истории еще не бывало.
Когда наследник престола женился на Нефертити, старшей дочери мудреца Эйе
[128], я цеплялся за последнюю надежду, веря, что брак вразумит царевича. Я вызвал Эйе в храм. В ходе беседы я обратил внимание на то, что мудрец очень тщательно выбирает слова. Он явно был в затруднительном положении. Я сочувствовал ему и ничего не говорил о ереси наследника. Перед расставанием я попросил Эйе устроить мне тайную встречу с его дочерью.
Нефертити прибыла незамедлительно. Я внимательно посмотрел на нее и увидел, что за ее чарующей красотой скрывается бушующий поток силы и властности. Я тут же вспомнил великую царицу Тийю; оставалось надеяться, что эта сила окажется на нашей стороне.
— Благословляю тебя, дочь моя.
Она поблагодарила меня нежным приятным голосом.
— Не сомневаюсь, что ты прекрасно знаешь свои обязанности супруги наследника престола. Но мой долг напомнить тебе, что престол империи зиждется на трех основах: Амоне, главе всех богов, фараоне и царице.
— В самом деле. Я счастлива, что удостоилась твоей мудрости.
— Умная царица должна разделять с царем бремя защиты империи.
— Дорогой верховный жрец, — решительно сказала она, — мое сердце наполнено любовью и преданностью.
— Египет — страна с древними традициями, и женщины являются священными стражами этого наследия.
— Чувство долга тоже живет во мне.
В течение всего визита Нефертити хранила осторожность и сдержанность. Она говорила много, но не выдавала ничего. Напоминала таинственное изображение без объяснявшей его надписи. Я ничего не мог почерпнуть из ее слов и не мог прямо выразить свои страхи. Однако осторожность Нефертити означала, что она все знает и находится не на нашей стороне. Ее позиция меня ничуть не удивила. Нефертити была будущей царицей; от подобной удачи могла закружиться голова у самого мудрого человека в стране. Эту женщину не заботил ни Амон, ни любой другой бог; она жаждала занять трон. Мы с другими жрецами прочитали в святилище молитву об избавлении от опасности, а потом я сообщил им подробности моей встречи с Нефертити.
— Скоро не останется ничего, кроме тьмы, — сказал кантор Тото. Когда все остальные ушли, он добавил: — Наверно, тебе следует обсудить это дело с главным военачальником Меем.
— Тото, — серьезно ответил я, поняв, что в его намеке таится угроза, — мы не можем свергнуть царя Аменхотепа III и великую царицу Тийю.
Тем временем во дворце нарастала напряженность между безумным царевичем и его родителями. Царь Аменхотеп III издал указ, повелевавший наследнику совершить путешествие по бескрайней империи. Возможно, фараон надеялся, что после знакомства со страной и ее подданными царевич увидит реальное положение вещей и поймет, насколько он сбился с истинного пути. Я был благодарен царю за эту попытку, но мои страхи не развеялись. Во время отсутствия наследника произошли некоторые важные события. Царица Тийя родила двойню: Семнехкара и Тутанхамона
[129]. Вскоре после этого здоровье фараона ухудшилось, и он умер. Посланные из дворца гонцы отнесли эту новость царевичу; он должен был вернуться и занять трон.
Я обсудил будущее страны со жрецами Амона, и мы пришли к соглашению. Я тут же начал действовать и попросил аудиенции у царицы, несмотря на то что она носила траур и была занята мумификацией
[130] тела мужа. Горе не мешало царице оставаться сильной и стойкой. Я решил сказать ей все, чего бы это мне ни стоило.
— Государыня, я пришел высказать законному матриарху империи то, что у меня на уме. — Судя по взгляду, который бросила на меня Тийя, она прекрасно знала, о чем пойдет разговор. — Всем известно, что наследник престола не почитает наших богов.
— Не верь всему, что слышишь, — ответила она.
— Ваше величество, я готов поверить вашим словам, — быстро ответил я.
— Он поэт, — сказала она. Ее ответ меня не удовлетворил, но я хранил молчание до тех пор, пока Тийя не добавила: — Он выполнит все свои обязанности.
Я собрал остатки смелости и промолвил:
— Моей царице хорошо известно, какими бедами для престола может обернуться оскорбление богов.
— Твои страхи беспочвенны, — с досадой ответила она.
— Если потребуется, мы можем передать трон одному из ваших младших сыновей, а вы будете при нем регентшей.
— Империей будет править Аменхотеп IV. Он — наследник престола.
Так любящее материнское сердце победило в царице мудрость. Она потеряла последнюю возможность исправить дело и снабдила судьбу оружием, которое нанесло нам роковой удар. Безумный наследник вернулся как раз вовремя, чтобы присутствовать на погребении царя.
Вскоре после этого меня вызвали на официальный прием к будущему фараону. Тогда я впервые увидел его вблизи. Он был довольно смуглым, с мечтательными глазами и тонким, хрупким телом, явно напоминавшим женское. Черты его лица были уродливыми и отталкивающими. Это презренное создание не заслуживало трона; он был так слаб, что не мог бросить вызов и мухе, не говоря о Хозяине Богов. Я испытывал отвращение, но не показывал виду, вспоминая слова мудрых людей и великих поэтов — слова, которые помогали мне хранить терпение. Он смерил меня взглядом, не враждебным, но и не дружеским.
Я был так ошеломлен его внешностью, что не мог вымолвить ни слова.
— Из-за тебя мне пришлось пережить множество неприятных разговоров с родителями, — наконец промолвил он.
Ко мне снова вернулся дар речи.
— Моя единственная цель в жизни, — сказал я, — это служение Амону, трону и империи.
— Не сомневаюсь, у тебя есть что сказать мне, — ответил он.
— Государь, — начал я, готовясь к битве, — я слышал огорчительные новости, но не верил им.
— Ты слышал правду, — с виду беспечно сказал он. Я вздрогнул, а он продолжил: — Я — единственный верующий в этой языческой стране.
— Не верю своим ушам.
— Обязан поверить. Нет бога, кроме Единственного и Единосущего.
— Амон не простит подобного святотатства! — Я пришел в такой гнев, что больше не заботился о последствиях своих слов; моей единственной заботой была защита Амона и наших божеств.
— Никто, кроме Единственного и Единосущего, не может даровать прощение, — с улыбкой ответил он.
— Чушь! — дрожа от злости, крикнул я.
— В Нем весь смысл этого мира. Он — создатель. Он — сила. Он — любовь, мир и счастье. — Потом царевич бросил на меня пронизывающий взгляд, не вязавшийся с его хрупкой внешностью, и продолжил: — Я призываю тебя поверить в Него.
— Бойся гнева Амона! — яростно воскликнул я. — Он создает, и Он уничтожает. Он дает и отбирает, помогает и отказывает в помощи. Страшись Его мести, ибо она падет на всех твоих потомков, уничтожит твой трон и империю!
— Я — всего лишь ребенок в безбрежном пространстве Единственного и Единосущего, бутон в Его саду и слуга под Его началом. Он даровал мне свою нежную любовь и открылся моей душе. Он наполнил меня сияющим светом и прекрасной музыкой. Все остальное не имеет для меня значения.
— Наследник престола не станет фараоном до тех пор, пока не будет коронован в храме Амона.
— Я буду коронован на поляне, под солнечными лучами, и благословит меня сам Создатель.
Мы расстались врагами. На моей стороне были Амон и его последователи. На стороне Эхнатона — наследие его великого рода, привычка подданных обожествлять фараонов и его безумие. Я готовился к священной войне и ради Амона и моей страны был готов пожертвовать всем. Я взялся за дело безотлагательно.
— Новый фараон — еретик, — сказал я жрецам. — Вы должны знать про его отступничество и сообщить о нем каждому жителю страны.
— Смерть еретику! — яростно воскликнул Тото.
Я тоже был вне себя, но считал, что гневу Тото следует придать другое направление. По моему плану, он должен был сделать вид, что присоединился к еретику, и стать нашими глазами во дворце. Что же касается царя, то он тоже не тратил время даром. Он был коронован с благословения своего так называемого бога. И даже построил для него храм в Фивах, городе Амона, объявил о новой религии кандидатам на руководящие посты, и в конце концов виднейшие вельможи Египта подтвердили свою веру в нового бога. Причины у каждого были свои, но цель одна — удовлетворить свое честолюбие и обрести власть. Возможно, отвергни они его религию, все бы пошло по-другому. Но они продались, как последние шлюхи. Взять хотя бы мудреца Эйе. Он считал себя членом царской семьи и был ослеплен желанием славы. Мотивы храброго воина Хоремхеба
[131] были иными. Он был человеком истинной веры; происходившее было для него всего лишь заменой одного имени другим. Но все остальные были бандой лицемеров, рвавшейся к богатству и власти. Если бы в критический момент они не одумались и не покаялись в грехах, то заслуживали бы смерти. В конце концов они спасли свои жизни, но я не питал уважения ни к одному из них.
В Фивах начался разброд. Люди разрывались между своей преданностью Амону и верностью безумному отпрыску величайшего рода в нашей истории. Великая царица Тийя изнывала от тревоги, следя за тем, как посеянное ею семя превращалось в ядовитое растение. Эхнатон падал в бездонную пропасть и тащил за собой всю семью. Тийя продолжала приносить жертвы в храме Амона, пытаясь справиться с разбродом в умах, угрожавшим трону.
— Ты выигрываешь в верности, но проигрываешь в дерзости, — однажды сказала она мне.
— Ты сама просила нас быть терпимыми к еретику. Если бы ты послушалась меня с самого начала…
— Мы не должны отчаиваться.
Ее прежняя сила рухнула под напором его религиозного безумия; царица была беспомощна перед своим женственным, испорченным сыном. Поэтому продолжение нашей священной борьбы было неизбежно. Услышав враждебные крики горожан во время праздника Амона, безумный царь больше не мог находиться в Фивах. Заявив, будто его бог велел ему покинуть Фивы и построить новый город, он устроил великий исход восьмидесяти тысяч еретиков, которым предстояло жить в позорной ссылке. Отъезд из Фив дал нам время для подготовки к священной войне, но позволил ему укрепиться в своем святотатстве и сделать новую столицу местом шумных сборищ и нечестивых оргий. «Любовь и Радость» — таков был девиз его нового безымянного бога. Когда природная испорченность Эхнатона брала верх, он лез вон из кожи, стремясь доказать, что его власть не имеет границ. Закрыл храмы, изгнал жрецов, конфисковал статуи богов и все храмовое имущество. Я сказал жрецам:
— Это смерть. В загробном мире вы будете процветать, ибо теперь, когда храмы закрыты, нам больше не для чего жить.
Но мы нашли убежище в домах последователей культа Амона. Они были нашими воинами, и мы не ослабляли борьбу, сохраняя надежду и решимость.
Еретик продолжал демонстрировать свою власть; он ездил по всей стране, выступал перед людьми и призывал их присоединяться к его ереси. Это были самые темные дни. Люди были сбиты с толку, не зная, кому отдать предпочтение — своим богам или своему хилому царю и его бесстыдно прекрасной жене. То были дни скорби и мучений, лицемерия, сожалений и страха перед гневом небес. Но слова «любовь» и «радость» делали свое дело. Местное начальство пренебрегало своими обязанностями и использовало граждан для собственного удовольствия. Всю страну охватили мятежи. Враги больше не боялись нас и начали угрожать нашим границам. Когда номархи
[132] просили помощи, вместо солдат им присылали поэмы. Они умирали как мученики, с последним вздохом посылая проклятия вероломному еретику. Поток товаров, стекавшихся в Египет со всего света, иссяк, рынки пустовали, купцы бедствовали, а страна голодала. Я кричал людям:
— На нас пало проклятие Амона! Мы должны уничтожить еретика, иначе все погибнем в войне!
И все же я продолжал искать мира, дабы избавить страну от ужасов войны. Я предстал перед царицей-матерью Тийей.
— Я горюю и скорблю, верховный жрец Амона, — сказала она.
— Я больше не верховный жрец. — Меня охватила горечь. — Теперь я — преследуемый беглец.
— Я молю богов о милосердии, — заикаясь, выдавила она.
— Вы должны что-то сделать. Эхнатон — ваш сын, он любит вас. Вы в ответе за случившееся. Остерегите его, пока гражданская война не уничтожила все, что нам дорого.
Когда я напомнил царице о ее ответственности, она рассердилась и сказала:
— Я решила ехать в новую столицу, Ахетатон
[133].
Царица Тийя действительно предприняла некоторые усилия, но не смогла исправить содеянное. Я не отчаялся и сам поехал в Ахетатон, несмотря на опасность этого предприятия. Там я встретился с приближенными еретика.
— Я предъявляю вам ультиматум, — сказал я. — Люди ждут моего сигнала, чтобы напасть на вас. Я прибыл с целью сделать последнюю попытку спасти то, что можно, без разрушения и кровопролития. Я дам вам немного времени на раздумье в надежде, что вы образумитесь и вспомните свой долг.
Похоже, они действительно образумились и вскоре откликнулись на мое предложение; при этом каждый преследовал свои цели. Но страна была спасена от катастрофы. Они встретились с еретиком и предъявили ему два категорических требования — объявить свободу вероисповедания и послать армию для защиты империи от врагов, начавших нарушать наши границы. Безумный царь отказал им. Тогда они предложили Эхнатону отречься от престола в обмен на право сохранить свою веру и исповедовать ее там, где он пожелает. И снова их предложение было отвергнуто. Но после этого Эхнатон назначил соправителем своего брата Семнехкара. Мы отменили его указ и передали престол Тутанхамону. Сторонники еретика оставили его и присягнули новому фараону. Вскоре во всей стране удалось восстановить порядок, причем без войны и кровопролития. Мы побороли желание отомстить безумцу, его жене и тем, кто сохранил им преданность.
Почитатели Амона торопились в храмы, открывшиеся после долгого запустения. Кошмар кончился, и жизнь начала возвращаться в нормальное русло. Что же касается еретика, то он, снедаемый безумием, заболел и умер, разочаровавшись в своем боге и потеряв на него надежду. Он оставил после себя порочную жену, обреченную на одиночество и сожаления о прошлом.
Верховный жрец долго смотрел на меня молча, а затем продолжил:
— Мы все еще лечимся. Для полного выздоровления нужно время и большие усилия. Сосчитать наши потери внутри империи и за ее пределами невозможно. Как это случилось? Как мог испорченный, безумный человек причинить стране такие мучения? — Он немного помолчал, а потом закончил: — Это правдивый рассказ. Запиши его дословно. И передай мой горячий привет твоему дорогому отцу.
Эйе
Эйе был мудрецом, советником покойного Эхнатона и отцом Нефертити и Мутнеджмет. Старость покрыла морщинами его чело. Я встретился с ним в его дворце с видом на Нил, расположенном в южных Фивах. Эйе говорил со мной безмятежным тоном; при этом его лицо не выражало никаких чувств. Его серьезный, достойный вид и богатый опыт вызывали у меня благоговейный страх.
— Жизнь, Мериамон, это чудо, — начал старик. — Она подобна небу, затянутому облаками противоречий. — Он ненадолго задумался, отдавшись потоку воспоминаний, а потом продолжил:
— Эта история началась в тот летний день, когда меня вызвали к фараону Аменхотепу III и великой царице Тийе.
— Ты мудрый человек, Эйе, — сказала царица. — Твое знание мирских и духовных дел не имеет себе равных. Мы решили доверить тебе воспитание наших сыновей Тутмоса и Аменхотепа.
Я благодарно склонил свою бритую голову и сказал:
— Счастлив тот, кому выпала честь служить царю и царице.
Тутмосу было семь лет, а Аменхотепу — шесть. Тутмос был сильным, красивым и хорошо сложенным, хотя не слишком высоким. Аменхотеп был смуглым, высоким и хрупким, с мелкими и женственными чертами лица. Его мягкий, но пронизывающий взгляд произвел на меня сильное впечатление. Красивый мальчик умер, а слабый выжил. Смерть брата потрясла Аменхотепа; он долго плакал. Однажды он сказал мне:
— Учитель, мой брат был набожен, он часто посещал храм Амона, получал от него амулеты и талисманы, но все же умер. Мудрый учитель, почему ты не воскресил его?
— Сын мой, — ответил я, — душа человека бессмертна. Пусть это будет твоим утешением.
Это была первая из наших многих бесед о жизни и смерти. Я был искренне доволен его проницательностью и понятливостью во всем, что касалось духовных дел. Мальчик был явно старше своих лет. Мне часто приходило в голову, что Эхнатон был от рождения наделен некоей нездешней мудростью. Он быстро освоил чтение, письмо и алгебру. Я говорил царице Тийе:
— Способности мальчика так необычны, что он начинает пугать своего учителя.
Я учил его с радостью и гадал, что он придумает, когда начнет править империей своих предков. Я был уверен, что его империя превзойдет славой отцовскую.
Аменхотеп III был великим и могучим правителем, беспощадным к своим врагам и ослушникам. В мирные времена он наслаждался женщинами, едой, вином и предавался этим занятиям так, что вскоре стал жертвой собственных излишеств и провел свои последние дни в муках, испытывая невыносимую боль. Что же касается Тийи, то она принадлежала к почтенной нубийской семье. Сила и мудрость этой женщины были таковы, что она затмила даже легендарную царицу Хатшепсут
[134]. Смерть старшего сына и неверность мужа заставили ее без памяти привязаться к маленькому Аменхотепу. Казалось, она была его матерью, возлюбленной и учительницей одновременно. Тийя отдавалась политике с такой страстью, что стремление к власти заставило ее пожертвовать своей женской сущностью. Жрецы напрасно считали царицу виновной в пороках ее сына. На самом деле она хотела, чтобы царевич был в курсе всех религий. Возможно, Тийя желала, чтобы Атон заменил Амона и стал богом, которому подчиняются все остальные, ибо Атон был богом Солнца, вдыхающим жизнь во все живое. Его поклонников объединяло не столько давление сверху, сколько искренняя вера. Царица надеялась использовать религию как политический инструмент, способный обеспечить единство Египта. В намерения Тийи не входило, чтобы ее сын отдал религии предпочтение перед политикой; Аменхотеп сам отказался ставить религию на службу чему бы то ни было. У матери был четкий политический план, но сын воспринял ее слова буквально. Он посвятил себя религиозному призванию, подвергнув опасности страну, империю и трон.
Эйе умолк и туже завязал шарф, охватывавший плечи. Его лицо под пышным париком казалось маленьким. На какое-то время наступила тишина, а затем он продолжил:
— Я продолжал поражаться интеллекту этого маленького мальчика. Казалось, он родился с разумом верховного жреца. Иногда до меня доходило, что я спорю с ним как с равным. К десяти годам его ум напоминал горячий источник, кипящий идеями. В его слабом теле скрывались такая воля и такое упорство, что я считал это живым доказательством превосходства человеческого духа над самыми тренированными мускулами. Он был до того предан своим религиозным взглядам, что не тратил времени на подготовку к занятию престола. Мальчик не принимал на веру ни одну идею без ее обсуждения и не стеснялся выражать свои сомнения, которые у него вызывали многие из наших традиционных учений. Я был потрясен, когда однажды он сказал:
— Фивы! Священный город! Разве не таким его считают? Учитель, Фивы — это всего-навсего притон пьянства, разврата и сборище алчных торгашей. Что собой представляют эти великие жрецы? Они заражают людей суевериями и забирают у бедняков последнее. Соблазняют женщин, оправдывая это волей богов. Их храм превратился в вертеп блуда и греха. Фивы прокляты.
Услышав эти слова, я пришел в ужас.
Мне уже мерещилось, что в меня, его учителя, тычут пальцами.
— Эти жрецы являются опорой трона, — ответил я.
— Если так, то трон стоит на лжи и смерти.
— Силы у них не меньше, чем у армии, — предупредил я.
— Воры и бандиты тоже сильны.
С самого начала было ясно, что ему не по душе Амон, правивший в святая святых. Он предпочитал Атона, свет которого сиял миру.
— Амон — бог жрецов, а Атон — бог небес и земли.
— Ты должен почитать всех богов.
— Значит, я не должен доверять своему сердцу, которое говорит мне, что правильно, а что нет? — спросил он.
— Однажды тебя коронуют в храме Амона, — сказал я, пытаясь убедить его.
Он раскинул тонкие руки и ответил:
— Я бы предпочел короноваться под открытым небом, при свете солнца.
— Амон — бог, который даровал твоим предкам силу, позволявшую одерживать победы над врагом.
Он умолк, задумался, а потом сказал:
— Я не могу понять, как бог может кому-то позволять убивать его собственные создания.
Я встревожился еще сильнее, но продолжил попытку переубедить мальчика:
— Мы, дети Амона, не всегда можем понять его божественную мудрость.
— Солнечный свет Атона, льющийся на нас сверху, не разделяет людей на своих и чужих.
— Ты не должен забывать, что жизнь — это поле битвы.
— Учитель, — печально ответил он, — не говори мне о войне. Разве ты никогда не видел солнца, встающего над полями и Нилом? Разве ты не видел горизонта на закате? Не слышал пения соловья или воркования горлицы? Неужели ты никогда не ощущал священного счастья, скрытого в глубине твоего сердца?
Я понял, что бессилен. Он был подобен дереву, и я не мог мешать ему расти. Я рассказал о своих страхах царице, но она не разделила моих опасений.
— Эйе, Аменхотеп — всего лишь невинный ребенок, — сказала она. — Когда он вырастет, то лучше узнает жизнь. Скоро он начнет учиться воинскому искусству.
Благочестивый юный царевич начал военную подготовку вместе с сыновьями вельмож. Он ненавидел эти упражнения — возможно, из-за своей физической слабости. Вскоре он бросил занятия, потерпев неудачу, не подобавшую сыну царя.
— Я не хочу учиться убивать, — с горечью сказал он.
Отца расстроило его решение.
— Правитель, который не умеет сражаться, отдает себя на милость собственных полководцев, — сказал он.
Царь и наследник престола часто ссорились. Возможно, эти ссоры таили в себе зерно ненависти, которую мальчик питал к своему великому отцу. Однако я считаю, что жрецы Амона раздули этот факт, обвинив Эхнатона в том, что он стер имя своего отца со всех памятников из чувства мести. Он всего лишь хотел выкорчевать имя Амона. С той же целью он сменил собственное имя Аменхотеп на Эхнатон. А потом наступила ночь, которая сделала его изгоем. Он ждал восхода солнца в темном царском саду на берегу Нила. Я узнал все подробности, когда встретил его утром. Кажется, это было весной. В воздухе не чувствовалось ни пыли, ни сырости. Я поздоровался с мальчиком, и он обернулся ко мне. Его лицо было бледным, глаза — широко раскрытыми.
— Учитель, мне открылась правда, — сказал он, не ответив на мое приветствие. — Я пришел сюда перед рассветом. Ночь была моим спутником, а ее молчание — моим благословением. Я приказал тьме уйти и почувствовал, что поднимаюсь вверх вместе с окутывавшим меня воздухом. Казалось, что я ухожу вместе с ночью. А потом вспыхнул чудесный свет, и перед моими глазами возникли все создания, которые я видел и о которых только слышал; они радостно приветствовали друг друга. Я решил, что преодолел боль и смерть. Меня опьянил нежный аромат Создателя. Я услышал Его звонкий голос, сказавший мне: «Я есмь Единственный и Единосущий Бог; нет другого Бога, кроме меня. Я — правда. Живи в моем царстве и почитай одного меня. Отдайся мне; я даровал тебе мою небесную любовь». Мы долго молча смотрели друг на друга. Меня охватило отчаяние; я потерял дар речи.
— Учитель, ты мне не веришь?
— Ты никогда не лжешь, — ответил я.
— Тогда ты должен поверить мне! — пылко воскликнул он.
— Что ты видел?
— Я лишь слышал его голос на радостном рассвете.
— Сын мой… — Я замешкался. — Если ты ничего не видел — значит, ничего и не было.
— Именно так он являет себя, — решительно ответил мальчик.
— Возможно, это был Атон.
— Нет. Не Атон и не солнце. Он выше их и не имеет с ними ничего общего. Он — Единственный и Единосущий Бог.
Я был поражен.
— Где ты будешь его почитать?
— Всюду и всегда. Он даст мне силу и любовь, нужные для такого почитания.
Эйе умолк. Я хотел спросить, верит ли он сам в бога Эхнатона, но вспомнил совет отца и промолчал. Эйе вместе со многими другими бросил Эхнатона в минуту крайней опасности. Возможно, он был вынужден отрекаться от этой веры до конца своих дней.
— Я был обязан все рассказать царю и царице. Спустя несколько дней я обнаружил, что царевич ждет меня в своем любимом уголке сада.
— Учитель, ты как всегда, выдал меня, — с укоризненной улыбкой сказал он.
— Это мой долг, — спокойно ответил я.
Он засмеялся и промолвил:
— Стычка с моим отцом была довольно любопытной. Когда я рассказал ему о своем видении, он скорчил гримасу и проворчал:
— Тебя следует показать врачу Бенто. — Я вежливо ответил, что совершенно здоров. — Я еще не видел человека, который признался бы в своем безумии, — сказал он. А потом продолжил, на этот раз грозным тоном: — Боги — опора Египта. Царь должен верить во всех богов своего народа. Этот бог, о котором ты говорил, ничто. Он не заслуживает того, чтобы присоединиться к нашим божествам. — Я сказал отцу, что Атон — Единственный и Единосущий Бог. — Это ересь и безумие! — крикнул он. Я повторил, что он — Единственный и Единосущий. Он страшно разгневался и сказал: — Я приказываю тебе отречься от этих абсурдных идей и почитать наследие твоих предков. — Я больше не сказал ни слова, чтобы не оказывать ему неуважения. А потом моя мать добавила:
— Мы просим от тебя только одного — почитать и уважать свой священный долг. Пусть твоя душа любит что хочет, пока ты не вернешься на истинный путь. А тем временем не пренебрегай своим долгом.
Я ушел от них расстроенный, но еще более укрепившийся в своей решимости.
— Мой дорогой царевич, — серьезно сказал я, — власть фараона есть плод древних и священных традиций. Никогда не забывай этого.
С того дня я был уверен, что Египет ждут тяжелые испытания, которых он никогда не видел и не мог себе вообразить. Великая династия фараонов, освободившая страну и создавшая империю, ныне стояла на краю пропасти. Примерно в то же время или немного раньше (я не силен в хронологии) меня вызвали на тайную встречу с верховным жрецом Амона.
— Эйе, мы с тобой знаем друг друга целую вечность, — сказал он. — Что означают эти слухи?
Я уже сказал, что не помню, когда именно состоялась эта встреча — то ли после того, как стало известно о тяге царевича к Атону, то ли после того, как наследник публично объявил о своей вере в Единственного и Единосущего Бога. Как бы там ни было, я ответил:
— Царевич — славный и умный юноша. Просто он еще слишком молод. В таком чувствительном возрасте люди склонны без разбора следовать своему воображению. Скоро он повзрослеет и вернется на истинный путь.
— Как он мог отвергнуть мудрость лучшего учителя в стране?
— Разве можно управлять течением реки в сезон Половодья? — пытаясь оправдаться, спросил я.
— Наш долг, долг элиты этой страны, заключается в том чтобы ставить на первое место интересы нашей религии и империи.
Пытаясь справиться с тревогой, которая день и ночь звенела в моем мозгу, я вел бесконечные разговоры с женой Тей и дочерьми Нефертити и Мутнеджмет. Тей и Мутнеджмет обвиняли царевича в ереси, Нефертити же поддерживала его безоговорочно. Ей действительно нравились его идеи.
— Отец, он говорит правду, — шептала она. Ровесница Эхнатона, Нефертити тоже была умна не по годам. Обе девочки получили начальное образование и умели вести домашнее хозяйство. Мутнеджмет отличалась в письме, декламации, алгебре, вышивании, шитье, кулинарии, рисовании и ритуальных танцах. Нефертити тоже владела этими предметами, но их ей было мало. С годами у нее развился интерес к теологии и логике. Я замечал любовь девочки к Атону, но ужаснулся, когда она объявила о своей вере в Единственного Бога.
— Только этот бог может избавить меня от мучительных сомнений, — заявила Нефертити.
Тей и Мутнеджмет рассердились и обвинили ее в отступничестве.
В это время нас пригласили во дворец фараона на праздник Хеб-Седа в честь тридцатилетия его правления
[135]. Наши дочери попали во дворец впервые, и по повелению судьбы Нефертити завоевала любовь царевича. Все остальное произошло очень быстро. Мы и опомниться не успели, как Эхнатон и Нефертити стали мужем и женой. После этого верховный жрец Амона вызвал меня снова. Представ перед ним на этот раз, я почувствовал, что он видит во мне возможного врага.
— Эйе, ты стал членом царской семьи. — Судя по тону жреца, его одолевали дурные предчувствия.
— Я из тех людей, которые никогда не отступают от своего долга.
— Только время показывает истинную ценность людей — холодно ответил он.
Жрец попросил меня устроить ему встречу с Нефертити. Перед этой встречей я поговорил с дочерью и дал ей совет. Впрочем, надо сказать, что в советах Нефертити не нуждалась; собственная мудрость помогала ей лучше, чем любой совет. Она непринужденно отвечала на вопросы верховного жреца, не выдавая секретов и не беря на себя никаких обязательств. Я думаю, что именно после этой встречи возникло враждебное отношение жрецов к моей дочери.
— Отец, — по возвращении доложила она, — с виду все выглядело вполне невинно, но на самом деле между нами началась необъявленная война. Жрец утверждает, что заботится о благе империи, а в действительности боится за свою долю богатств, стекающихся в храм. Он — злой и коварный человек.
Когда между фараоном и его сыном возникла ссора, царь вызвал меня и сказал:
— Думаю, мы должны отправить царевича в путешествие по империи. Он нуждается в опыте; пусть больше узнает о жизни и своем народе. — В то время царь услаждал остаток своих дней с молодой женой, годившейся ему во внучки — Тадухипой, дочерью Тушратты, царя Митанни
[136].
— Это хорошая мысль, мой государь, — искренне ответил я.
Вскоре Эхнатон покинул Фивы в сопровождении свиты, состоявшей из самых знатных молодых людей страны. В это памятное путешествие отправили и меня. Провинциалы ожидали увидеть мощное, непобедимое существо, могучего верховного бога, смотрящего на них сверху вниз. Однако наследник престола скромно здоровался с ними, прогуливаясь в общественных садах и на возделываемых участках земли. Созывал жрецов и теологов и устраивал с ними религиозные диспуты. «Как можно почитать кровожадных богов, требующих, чтобы им приносили в жертву человеческие души?» — спрашивал Эхнатон. Он рассказывал им о своем Боге, единственном создателе вселенной. Говорил, что этот Бог любит все свои создания без исключения, желает им мира и радости; что любовь — это всеобщий закон, мир — конечная цель, а радость — благодарность, выражаемая создателю. Где бы ни побывал Эхнатон, он всюду оставлял за собой сумятицу, беспорядки и волнения. Я не на шутку встревожился.
— Мой дорогой царевич, — сказал я, — ты подрываешь устои империи.
Он засмеялся.
— Учитель, ты когда-нибудь поверишь в мою правоту?
— Ты отказываешься от религии наших предков, религии, которую мы учили почитать и уважать. Равенство… любовь… мир… Для подданных это означает только одно: призыв к мятежам и восстаниям.
Эхнатон немного подумал, а потом спросил:
— Почему такие мудрые люди, как ты, упорно верят во зло?
— Мы верим в реальность.
— Учитель, — с улыбкой промолвил он, — я всегда буду жить в правде.
Но посетить все концы страны, как было задумано, мы не успели; гонец, прибывший из дворца, принес нам весть о смерти великого фараона.
Эйе пересказал подробности их возвращения в Фивы, пышной погребальной церемонии и возведения царевича на египетский трон.
Эхнатон стал царем Аменхотепом IV, а его жена Нефертити — великой царицей. По обычаю новый фараон унаследовал отцовский гарем. Эхнатон хорошо обращался с его обитательницами, но воздерживался от наслаждении, которые они ему предлагали.
Потом Эйе рассказал мне, как Эхнатон вызвал всех знатных людей страны и убедил их присоединиться к его религии. Своих ближайших помощников он выбрал из числа тех, кто заявил о своей вере в Единственного и Единосущего. Командующим армией был назначен Мей, Хоремхеб стал начальником полиции, а Эйе занял пост советника фараона.
— Ты услышишь разные мнения о том, почему мы приняли веру Эхнатона, — сказал мне Эйе. — Но никто не знает, что таится в человеческом сердце. — Поняв, что именно это мне и хочется знать, он промолвил: — Я поверил в нового бога как в высшее существо, которому будут поклоняться наряду с другими божествами. Но при этом считал что каждый должен иметь право почитать любого бога по собственному выбору.
Эхнатон продолжил распространять свою веру по всей стране, снизил налоги и запретил наказания.
— Государь, — говорил ему Эйе, — если чиновники перестанут бояться наказаний, они начнут брать взятки и сделают бедняков своими несчастными жертвами.
Царь пожимал плечами и решительно отвечал:
— Эйе, ты все еще колеблешься; твоя вера недостаточно крепка. Скоро ты увидишь, какие чудеса может совершать любовь. Мой Бог никогда не разочарует меня. — Тем временем отношения нового царя со жрецами Амона накалились до такой степени, что Эхнатон решил построить новый город и перенести в него столицу.
Так мы переехали в Ахетатон, город несравненной красоты. По прибытии мы провели первую службу в великолепном храме, который был возведен в центре города. Нефертити играла на мандолине. Подобная драгоценному камню, она сияла юностью и красотой и пела:
О Любимый Бог, Единственный Создатель,
Ты наполняешь вселенную своей красотой.
Нет любви более великой, чем твоя.
Каждый прошедший день казался чудесным сном, наполненным счастьем и любовью. В наших душах быстро распускались цветы новой религии. Но царь не забывал о своей миссии. Во имя любви и мира фараон вел самую ожесточенную войну, которую доводилось видеть Египту. Он повелел закрыть все храмы, конфисковать статуи богов и стереть их имена с памятников. Именно тогда он сменил имя на Эхнатон. Потом он ездил по стране, распространяя свою веру. Люди встречали его с поразительной любовью и радостью. Раньше они слышали о фараонах, но никогда не видели их; образы Эхнатона и Нефертити, появлявшихся на публичных сборищах, навсегда запечатлелись в их памяти.
Но сон длился недолго. Вскоре стали собираться мрачные тучи; сначала это происходило медленно, но затем разверзлись хляби небесные. Сначала умерла вторая дочь фараона Макетатон, самая красивая и любимая из его детей
[137]. Эхнатон был охвачен горем и пролил по ней больше слез, чем в детстве когда он оплакивал смерть брата Тутмоса.
Услышав, как фараон крикнул своему богу «зачем?», я заподозрил, что он готов потерять свою веру. А потом мы начали получать новости о росте продажности чиновников и купцов. Вопли голодных людей становились все громче. Некоторые номы были охвачены мятежами. Враги начали нападать на границы империи. Тушратта, царь Митанни и наш самый сильный союзник, погиб на поле брани, защищая свою страну.
— Мы должны с корнем вырвать все случаи взяточничества и послать армию для защиты наших границ, — отчаянно взывал я.
— Мое оружие и доспехи — любовь, — неизменно отвечал Эхнатон. — Ты должен быть терпеливым.
Я не могу объяснить некоторые тогдашние странные события. Жрецы обвиняли фараона в безумии. В последние дни правления Эхнатона некоторые его приближенные пришли к тому же выводу. Я тоже был изрядно сбит с толку, но полностью отвергал эту мысль. В отличие от всех остальных, Эхнатон не был ни здоров, ни болен. Это было что-то среднее между двумя состояниями. Я никогда не мог его понять.
Царица-мать Тийя сообщила, что хочет посетить Ахетатон. Эхнатон так обрадовался, что специально для этого случая построил дворец в южном квартале; праздник, устроенный в ее честь, был самым пышным из всех, которые видел город. Вскоре после прибытия Тийя пригласила меня к себе. Я удивился тому, насколько она постарела.
— Эйе, — начала она, — я приехала ради долгого разговора с сыном. Но для начала решила посоветоваться с тобой.
— Я никогда не пренебрегал своим долгом советника, — ответил я.
— Я верю тебе, — продолжила она. — Эйе, я тоже считаю, что все мы не должны пренебрегать своим долгом. Но хочу получить честный ответ: сохранишь ли ты преданность моему сыну в любых обстоятельствах?
— В этом вы можете не сомневаться, — серьезно ответил я.
— Как бы ты поступил, если бы произошло то, что освободило бы тебя от долга перед царем?
— Я — член его семьи и никогда не покину зятя.
— Спасибо тебе, Эйе, — облегченно вздохнула царица-мать. — Ситуация довольно опасна. Как ты думаешь, остальные тоже верны ему?
После недолгого раздумья я ответил:
— Могу заверить, что, по крайней мере, в некоторых из них сомневаться не приходится.
— Меня особенно интересует Хоремхеб. Что ты можешь о нем сказать? — Она казалась озабоченной.
— Он честно выполняет свои обязанности начальника полиции и дружит с царем с юности, — без промедления ответил я.
— Именно он заботит меня больше всего.
— Наверно, потому что в его руках сосредоточена большая власть. Однако, сказать по правде, он предан царю не меньше, чем верховный жрец Атона Мери-Ра.
Как и всем остальным, Тийе не удалось поколебать царя. В конце концов она сдалась и, скрывая разочарование, вернулась в Фивы. Там ее здоровье ухудшилось, и вскоре царица-мать умерла, оставив после себя легенды о ее святой жизни.
Недовольство в империи нарастало, и вскоре все номы выступили против царя. Мы со своим Единственным и Единосущим Богом были заключены в Ахетатоне как в тюрьме и чувствовали, что катастрофа неминуема. Все, кроме Эхнатона, который продолжал надеяться.
— Мой Бог никогда не оставит меня, — настаивал он.
А потом в Ахетатон тайно прибыл верховный жрец Амона. Когда выяснилось, что он в городе, я посетил его первым и сильно удивился, увидев его в одеянии купца.
— Ты хочешь скрыть свою личность? Зачем? Ты же знаешь, что царь никому не причиняет зла.
Он пропустил мой вопрос мимо ушей и велел:
— Собери всех приближенных царя и приведи их ко мне.
Мы встретились с ним в саду дворца покойной царицы Тийи. Он попросил нашего содействия с целью избежать кровопролития. Казалось, жрец предъявлял нам ультиматум. Долго говорил о гневе богов и судьбе империи. Потом сурово предупредил нас и ушел. Мы почувствовали себя так, словно о наши ноги потерлась змея. Я не знал, как расценивать его действия; впрочем, я никогда не доверял этому человеку. Похоже, верховный жрец не верил, что отряды из номов находятся на его стороне, и боялся крупного столкновения, которое могло закончиться либо его смертью, либо победой, доставшейся слишком дорогой ценой. Угроза с которой он сталкивался, была не меньше угрозы, нависшей над Эхнатоном. Впрочем, если бы в стране разразилась гражданская война, за нее пришлось бы расплачиваться всем жителям Египта. После ухода верховного жреца мы начали обсуждать ситуацию, надеясь прийти к решению.
Тут мне пришлось прервать его.
— Кто из приближенных царя присутствовал на этой встрече?
Он прищурился, раздумывая над моим вопросом, а потом продолжил:
— Не вспомню точно. Прошло столько времени… Однако помню, что там были Хоремхеб и Нахт. Во всяком случае, Хоремхеб первым взял слово.
— Я — друг царя и начальник полиции. — Некоторое время он смотрел на нас глазами цвета меда, а потом спокойно, но решительно продолжил: — Однако я считаю, что в данной ситуации соглашение неизбежно.
Никто ему не возразил. Мы попросили царя о встрече.
Мы предстали перед фараоном и царицей и отдали почести трону и империи. Эхнатон безмятежно улыбался. Но Нефертити, в отличие от ее всегдашней веселости, была холодна и полна дурных предчувствий. Когда с формальностями было покончено, Эхнатон сказал:
— Я вижу, вы чем-то озабочены.
— Возлюбленный царь, — начал Хоремхеб, — нас собрала здесь любовь к Египту.
— Все мои поступки продиктованы любовью к Египту и всему миру, — ответил фараон.
— Страна находится на грани гражданской воины. Необходимо принять срочные меры по ее предотвращению, иначе империя рухнет, — продолжил Хоремхеб.
— Что ты предлагаешь? — спросил царь.
— Даровать людям свободу вероисповедания и послать армию для защиты наших границ.
Эхнатон покачал головой, увенчанной Двойной короной
[138], и сказал:
— Это будет означать возврат к языческой тьме. Я не имею права издавать указы без разрешения Создателя.
— Ваше величество, — продолжил Хоремхеб, — вы имеете полное право придерживаться своей веры, но в таком случае вам придется отречься от престола.
— Я никогда не изменю Богу, которого чту. Никогда не отрекусь от Него. — Глаза фараона блеснули как солнечные лучи. Потом он посмотрел на меня, и я почувствовал себя так, словно проваливаюсь в преисподнюю.
— Есть только один способ защитить вас и вашу веру, — сказал я.
— Ступайте с миром, — грустно ответил он.
— У вас еще есть время подумать над нашим предложением.
Когда мы выходили из огромного тронного зала, я чувствовал себя так, словно мне в сердце беспощадно вонзили тысячи игл. Это чувство не оставляет меня и по сей день.
После нашего столкновения с царем произошли жизненно важные события. Нефертити покинула дворец фараона и переехала в свой личный дворец, расположенный на севере Ахетатона. Не зная, что это значит, я посетил ее.
— Я не покину свой дворец до самой смерти. — К сказанному она не прибавила ни слова. Эхнатон назначил своим соправителем брата Семнехкара. Но жрецы
лишили Семнехкара и Эхнатона престола и передали его Тутанхамону. Выбора не было: требовалось либо смириться, либо начать воину. Когда срок, данный нами фараону на раздумье, истек, Хоремхеб пошел во дворец.
— Я не откажусь от своего Создателя, а Он не откажется от меня. И буду стоять на своем даже в том случае, если меня бросят все, — сказал фараон.
— Государь, — ответил ему Хоремхеб, — тогда мы просим вашего позволения покинуть Ахетатон и вернуться в Фивы, чтобы дать возможность вновь объединить страну. Никто из нас не хочет покидать ваш город, но мы вынуждены это сделать во имя спасения Египта. Я позабочусь о том, чтобы вам не причинили вреда.
— Делай что хочешь! — пылко и решительно воскликнул Эхнатон. — Я не нуждаюсь в твоей защите! Бог на моей стороне; он не покинет меня!
Мы собрали свои вещи и уехали, оставив Эхнатона погруженным в печаль. Вскоре нашему примеру последовали жители Ахетатона. Так продолжалось до тех пор, пока в городе не осталось никого, кроме Эхнатона и Нефертити, живших в разных дворцах, их немногих стражей и рабов. Эхнатон, который с детства не страдал никакими болезнями, занемог и умер в одиночестве. Я узнал, что даже на смертном одре он молился своему богу:
Ты создаешь в женщине зародыш,
Создаешь мужское семя,
Позволяешь нам насладиться жизнью
Перед тем, как мы видим свет Твоей страны.
Если Твоя щедрость иссякнет,
Земля погрузится во тьму
И молчание смерти.
Эйе умолк. Когда мудрец очнулся от переполнивших его воспоминаний и повернулся ко мне, его взгляд был полон сочувствия.
— Это история Эхнатона, фараона, одно имя которого означает «еретик». Я не могу отрицать, что он принес стране бедствия. В Египте началась междоусобица, он перестал быть империей. Но не могу не признать, что так и не сумел избавиться от любви к этому человеку и восхищения им. Пусть последнее слово о нем скажет Осирис
[139], правитель вечной жизни, перед судом которого когда-нибудь предстанем все мы.
Покидая дворец мудреца, я подумал, что последнее слово о самом Эйе тоже будет произнесено тогда, когда он предстанет перед судом Осириса.
Хоремхеб
Хоремхеб был хорошо сложен, довольно высок, с сильным, вызывающим доверие лицом. Он принадлежал к старому жреческому роду из Мемфиса, регулярно поставлявшему стране знаменитых врачей, священнослужителей и полководцев. Отец Хоремхеба первым достиг высокого положения при дворе, когда Аменхотеп III назначил его командующим кавалерией
[140]. Хоремхеб был единственным из приближенных Эхнатона, кто в новую эру сохранил свой пост начальника полиции
[141]. В то время его главной обязанностью было искоренение распространившегося в стране взяточничества и восстановление мира. Он справлялся с ней так успешно, что в критический момент перехода власти от Эхнатона к Тутанхамону прослыл героем. Верховный жрец Амона дал ему блестящую характеристику, а мудрец Эйе подтвердил ее. Хоремхеб принял меня в зале для посетителей, имевшем выход в дворцовый сад.
— Эхнатон был моим товарищем и другом с детства — задолго до того, как стал царем. С момента нашего знакомства и до тех пор, пока мы не расстались, он не думал ни о чем, кроме религии. Сначала я оказывал ему уважение, потому что меня учили чтить особ царской крови, не испытывая при этом никаких личных чувств и привязанностей. Эхнатон был наследником престола, а я — одним из его подданных. Я почитал его, однако в глубине души презирал за слабость и девчоночью внешность. Не представлял себе, что мы сможем дружить. Но в конце концов он победил мое предубеждение, и я стал его верным другом. Для меня до сих пор загадка, как это случилось. Наверно, я не смог сопротивляться его нежному и тонкому обаянию. Он обладал поразительной способностью брать в плен людские сердца. Когда Эхнатон призывал подданных отречься от богов их предков, ему хлопала вся страна.
Мы с Эхнатоном были полными противоположностями. Но это не мешало нам крепко дружить до тех пор, пока эта дружба не рухнула под бременем разногласий. Я все еще вижу его улыбку, с которой он говорил:
— Хоремхеб, мой кровожадный друг, я люблю тебя.
Тщетно я искал между нами что-то общее. Несколько раз приглашал его на свое любимое развлечение — охоту. Он всегда отвечал одинаково:
— Берегись. Не оскорбляй любящую душу природы.
Ему не нравилась ни военная подготовка, ни военная форма. Однажды он посмотрел на мой шлем и меч и сказал:
— Разве не странно, что таких достойных людей, как ты, готовят в профессиональные палачи?
— Что бы сказал твой великий прапрадед Тутмос III, если бы услышал тебя?
— Мой великий прапрадед! — воскликнул он. — Его величие основано на груде трупов несчастных людей! Разве ты не видел на стенах храмов изображения того, как он приносит рабов в жертву Амону? Что за великий прапрадед, что за кровожадный бог!
«Странные мысли, — думал я. — Пока он делится ими с друзьями, это еще куда ни шло, но что будет, когда он сядет на престол?» Я не мог представить себе Эхнатона фараоном, равным величием его предкам. Мои чувства не изменились даже в самые веселые и блаженные времена. Потому что в эти времена он был далек от величия и славы фараонов как никогда прежде. Однажды во время правления его отца меня послали на подавление мятежа в дальнем конце империи. Я впервые командовал военным отрядом. Карательная экспедиция закончилась успешно, и я вернулся со множеством рабов и добычи. Царь Аменхотеп III был очень доволен и щедро наградил меня. Когда царевич поздравлял меня с благополучным возвращением, я пригласил его посмотреть на пленников. Они стояли перед ним, скованные и полуголые. Когда Эхнатон смотрел на них, их глаза молили о сочувствии; казалось, эти люди ощущали его слабость. Лицо наследника престола омрачилось.
— Не бойтесь, — мягко сказал он. — Никто не причинит вам зла.
Я чуть не вышел из себя, потому что поклялся сурово наказывать пленников до тех пор, пока они не научатся соблюдать порядок и подчиняться приказам.
— Хоремхеб, — спросил он, когда мы ушли вместе, — ты гордишься тем, что сделал?
— Мой царевич, — ответил я, — я заслужил это право.
— Очень жаль, — пробормотал он, а потом шутливо добавил: — Ты всего-навсего просвещенный бандит.
Таков был Эхнатон, царевич, которому в свое время предстояло занять трон и править империей. Я был заворожен и жаждал услышать новые странные плоды его ума. Впрочем, на мой образ мыслей они никакого влияния не оказывали. Так слушаешь голос из другого мира, чарующий, но непостижимый. Как мы стали друзьями? Почему мое сердце было полно любви к нему? На эти вопросы у меня нет ответа.
Я вспомнил один наш спор о религии. Мы отдыхали в его любимом месте на краю дворцового сада.
— Хоремхеб, — спросил он, — почему ты молишься в храме Амона?
Я опешил. Ответа, который мог бы удовлетворить нас обоих, у меня не было. Пришлось промолчать.
— Ты действительно веришь в Амона и во все, что нам о нем рассказывали?
Какое-то время я размышлял над вопросом, а потом ответил:
— Не так, как в него верят другие люди.
— Либо ты веришь, либо нет. Середины не существует.
— Религия заботит меня только как одна из древнейших традиций Египта, — со всей честностью ответил я.
— Хоремхеб, ты поклоняешься только самому себе, — с пугающей уверенностью промолвил он.
— Скажем так: я поклоняюсь Египту.
— Ты никогда не испытывал соблазна спросить, в чем заключается тайна жизни и смерти?
— Я знаю, как следует бороться с такими мыслями, когда они появляются, — ответил я.
— Какое несчастье… Что же тогда ты делаешь для собственной души?
— Я считаю священным свой долг. — Его настойчивые вопросы начинали меня пугать. — А на будущее я построил себе гробницу.
Он вздохнул.
— Надеюсь, однажды ты насладишься сладостью близости.
— Близости?
— Близости с единственным создателем вселенной.
— Почему с единственным? — довольно рассеянно спросил я.
— Потому что он слишком велик, чтобы иметь себе равного, — спокойно ответил он.
Эхнатон! Бесплотная тень, бесцельно бродившая по дворцовому саду, разговаривавшая с цветами и птицами и певшая, как девушка. Я мог поклясться, что он должен был родиться женщиной, но в последнюю минуту природа изменила свое намерение. Что стало для Египта большим несчастьем.
Нефертити впервые появилась в царском дворе на празднике Хеб-Седа, устроенном в честь тридцатилетия правления фараона, и поразила всех красотой и умом. Она танцевала с дочерьми вельмож и очаровывала нас своим чувственным голосом:
О брат мой,
Приди к пресному источнику.
Посмотри, как я буду купаться у тебя на глазах.
Мое просторное одеяние
Мокнет и липнет к телу,
Сверкающему на солнце.
Приди посмотреть на меня,
Брат мой.
Должно быть, родители, Эйе и Тей, специально готовили ее к этому выступлению; именно оно проложило их дочери путь к египетскому трону. Не следует забывать, что Эйе был учителем царевича. Несомненно, у него были все возможности повлиять на неустойчивый характер Эхнатона и за руку привести царевича в западню, которую он расставил вместе с дочерью. Как бы там ни было, но на празднике Хеб-Седа Нефертити завоевала любовь не только наследника, но и его матери. Вскоре после этого она вышла за Эхнатона замуж.
Во время свадебной церемонии верховный жрец Амона сказал мне:
— Возможно, брак поможет царевичу повзрослеть и забыть свои глупые идеи.
— Эта простолюдинка не могла и мечтать о троне, — указав на Нефертити, ответил я. — Она не осмелится подвергать опасности свое положение, сердя мужа.
Я часто думал, вышла бы Нефертити за Эхнатона, если бы он не был наследником престола? Видишь ли трудно представить себе его мечтой девушки. Даже если эта девушка — простая крестьянка.
Семейная жизнь не заставила его остепениться. Наоборот, он стал еще более дерзким.
Вскоре я узнал о его странном виде́нии. Эхнатон утверждал, что ему явился новый бог, невидимый, но обладавший голосом. Уже тогда я подумал, что это не к добру. Спустя некоторое время до меня дошел слух, что Аменхотеп III разгневался на наследника и послал его в долгое путешествие по империи.
Далее Хоремхеб подробно рассказал мне о беседах Эхнатона с жителями империи, о том, как он призывал людей присоединиться к его новой религии и обещал им любовь, радость и равенство. Но все это я уже слышал от Эйе.
— Несмотря на нашу дружбу и мою преданность царевичу, мне впервые захотелось убить его собственным мечом, пока он не утопил нас всех. Однако ты должен понять, что мое желание убить его было вызвано вовсе не злобой.
Аменхотеп III умер, и наследника отозвали для коронации. Став фараоном, Эхнатон предложил всем своим приближенным принять его новую религию. Настал и мой черед.
— Хоремхеб, — сказал он, — тот, кто будет служить мне, должен заявить, что верит в Единственного и Единосущего.
— Мой дорогой фараон, ты знаешь мое отношение ко всем богам и религиям. Тем не менее я человек долга и верный слуга трона. Преданность престолу и отечеству заставляет меня подтвердить свою веру в Единственного и Единосущего.
Он улыбнулся.
— Пока этого достаточно. Я не желаю жить во дворце без тебя. Может быть, в один прекрасный день ты обретешь истинную веру.
Так я начал служить новому богу и новому царю. Но должен признать, что фараон проявил силу, которой я в нем не подозревал. Несмотря на физическую слабость и женственную внешность, он сражался со всеми препятствиями на своем пути. Воевал со жрецами, самыми коварными и могущественными из людей. Разрушал древние традиции, укоренившиеся в нашей стране сотни лет назад. Боролся даже с черной магией и колдовством. Нефертити тоже проявила себя настоящей царицей. Складывалось впечатление, что она родилась на свет с одной-единственной целью: затмить величием Тийю и Хатшепсут. Именно она занималась государственными делами, в то время как царь отдавал всего себя своему религиозному призванию. К несчастью, оказалось, что Нефертити верит в новую религию. Об этой женщине было сказано слишком много, а я ненавижу слухи. Однако должен признать, что ее вера так и осталась тайной, которая требует разгадки. Я не сомневался в искренности ее веры, но всего остального понять не мог. Разыгрывала ли она святость, чтобы усилить свою позицию царицы? Поощряла ли погружение мужа в религию, чтобы в одиночку править страной и подданными? Была ли всего лишь орудием в руках отца, который плел какую-то таинственную интригу? Жрецы пытались предупредить Нефертити, но она им не ответила; в результате их осторожное любопытство переросло в ненависть. Жрецы были убеждены в слабости Эхнатона и не могли представить себе, что он способен бросить им вызов. Поэтому они обвиняли Тийю в том, что она внушила сыну ложные идеи, и приписывали его упрямство и несговорчивость влиянию Нефертити. Лично я считаю это чушью. Они могут указывать пальцем на кого угодно, но я не сомневаюсь, что эту глупость Эхнатон придумал сам. Переехав в новую столицу, Эхнатон объявил войну всем богам.
Он стал миссионером и проповедовал свою религию в разных уголках страны. Мы наслаждались благословенными днями победы и мира, и мне начинало казаться, что этот немощный молодой царь действительно сможет изменить привычный уклад жизни и построить ее заново по собственному замыслу. Я с благоговейным страхом следил за тем, как легко он завоевывал красноречием провинцию и с каким жаром люди принимали его. Я чувствовал, что в Эхнатоне появилась новая сила, которой он с успехом пользовался. И все же в глубине моей души всегда тлела искра сомнения. Новый мир, созданный так быстро, не мог быть долговечным. Можно ли добиться порядка с помощью одной любви? Если так, то почему в долгой истории нашей страны ничего подобного раньше не было? Однажды Нефертити, словно подслушав мои мысли, сказала мне:
— Он вдохновлен свыше. Бог благословил его небесной любовью. Мы всегда будем одерживать победы, потому что Бог на нашей стороне.
Однажды мы сидели с хранителем царской казны Нахтом и небрежно потягивали вино. Я считал (и считаю до сих пор), что Нахт обладал непревзойденным даром убеждения. Я спросил его:
— Ты действительно веришь в Единственного и Единосущего, бога любви и мира?
— Да, — спокойно ответил он, — но я не поддерживаю запрет других богов.
Я ощутил облегчение.
— Ты не советовал царю заключить компромисс?
— Советовал. Он считает это ересью.
— А Нефертити?
— Теперь она говорит его языком, — с сожалением сказал Нахт.
Затем Хоремхеб рассказал мне, как призыв к миру и счастью в конце концов привел к краху. И снова не добавил ничего нового к уже сказанному верховным жрецом и Эйе.
В это время я попытался дать Эхнатону совет.
— Мы должны сменить политику, — сказал я. Но он отверг все предложенные мной меры, в которых был хотя бы намек на компромисс. Казалось, препятствия только раззадоривали его.
— Мы должны вести свою священную войну до конца, — ответил он. — А конец может быть только один — победа.
Потом он нежно потрепал меня по плечу и продолжил:
— Ты не должен уподобляться остальным испорченным людям, которые любят предвещать несчастья.
Когда положение страны катастрофически ухудшилось, я снова пожалел о том, что не могу убить его; на этот раз мною руководили любовь и преданность. Стало ясно: то, что я считал невероятной силой, заключенной в его хилом теле, на самом деле было яростным безумием, которое следовало как-то обуздать. Когда дела пошли хуже некуда, приехала царица-мать и вызвала меня в свой дворец в южной части Ахетатона.
— Может быть, вы преуспеете там, где мы потерпели неудачу, — сказал я.
Она пристально посмотрела на меня, а потом промолвила:
— Я верю, что ты советовал фараону принять меры, которые считал необходимыми для спасения ситуации.
Я слышал, как Тийя расценивает любое колебание перед ответом, и поэтому сказал не задумываясь:
— Ваше величество, я предложил ему сменить внутреннюю и внешнюю политику страны.
Казалось, она испытала облегчение.
— Именно этого я и ожидала от такого преданного человека, как ты, Хоремхеб.
— Ваше величество, вы наверняка помните, что он не только мой царь, но и мой друг.
— Хоремхеб, ты можешь пообещать мне, что сохранишь эту преданность в любых обстоятельствах? — спросила она, глядя мне прямо в глаза.
Я немного подумал и ответил:
— Да, могу. Независимо от обстоятельств.
На сей раз ее облегчение было явным.
— Они требуют его смерти. Ты обладаешь силой, которая может защитить его. Рано или поздно они попытаются переманить тебя на свою сторону.
Я повторил свое обещание хранить верность и преданность царю. И сдержал его. Защитить фараона можно было только одним способом: оставив его в Ахетатоне. Тийя могла убедить кого угодно, но переубедить Эхнатона ей не удалось.
Она покинула Ахетатон, умирая от страха. Когда над городом сгустилась туча, я убедился, что новый бог неспособен защитить себя, не говоря о своем любимом избранном царе. Мы пили горечь отрезанности от страны; со всех сторон нас окружала смерть. Но фараон не колебался. Наоборот, казался настроенным еще более решительно. Пламя его духа отказывалось гаснуть.
— Мой Бог никогда не покинет меня, — продолжал твердить он. Я видел лицо Эхнатона, сиявшее от воодушевления, и все сильнее убеждался, что он безумен. С виду могло казаться, что речь идет о религиозной битве, но на самом деле это был острый припадок безумия, охвативший мозг человека, который родился с клеймом на лбу.
А потом прибыл верховный жрец и сделал нам последнее предупреждение. Он крепко сжал мою руку и сказал:
— Хоремхеб, ты человек, обладающий множеством достоинств. Облегчи свою совесть, сбрось с себя бремя и сделай то, чего от тебя ждут.
Признаюсь тебе честно, меня восхитил этот человек, поднявшийся над желанием отомстить и пытавшийся избавить страну от новых бед.
Мы попросили у царя аудиенции. Встреча получилась трудная, болезненная и грустная. Все выглядело так, словно мы нарушали клятву верности человеку, который не знал ничего, кроме любви, человеку, который создал из искры безумия чудесную мечту и хотел только одного: разделить ее с нами. Я посоветовал ему издать указ о свободе вероисповедания и немедленно разработать план защиты границ империи от внешнего врага. Выслушав отказ, я предложил фараону отречься от престола и полностью посвятить себя религиозному призванию. Мы дали ему время на раздумье. Затем он назначил Семнехкара своим соправителем. Царь продолжал стоять на своем даже тогда, когда его покинула Нефертити. Поэтому мы тоже решили оставить его и заключить мир с его врагами во имя сохранения единства страны. Мы приняли это решение только тогда, когда получили гарантии, что никто не причинит зла ни Эхнатону, ни его жене. Я присягнул новому фараону, Тутанхамону. Это был последний эпизод величайшей трагедии в истории Египта. Ты сам видишь, что сделало со страной безумие одного человека.
Наступило молчание, которое обычно означает конец аудиенции. Я начал собирать свои приспособления для письма
[142], готовясь уйти. Но тут мне пришло в голову задать вопрос:
— Как вы думаете, почему она покинула его? Я имею в виду Нефертити.
Он ответил без промедления:
— Должно быть, она поняла, что безумие фараона угрожает ее собственной жизни, и ушла из дворца, чтобы спастись.
— Но тогда почему она осталась в городе? Почему не уехала из Ахетатона вместе с вами?
— Была уверена, что жрецы считают ее виновной в преступлениях мужа, — насмешливо сказал Хоремхеб.
Пожимая ему руку на прощание, я спросил:
— Как он умер?
— Природная слабость делала его неспособным перенести поражения. Когда Эхнатона оставил его бог, вера фараона поколебалась. Он проболел несколько дней и умер.
— Начальник, как вы узнали о его смерти? — слегка помешкав, спросил я.
— Я сказал все, что должен был сказать, — непреклонно ответил он.
Бек
Я встретился со скульптором Беком в его доме, расположенном на одном из нильских островов, в двух милях к югу от Фив. Он жил в добровольном изгнании, в маленьком, но изящном домике, стоявшем в середине его скромной фермы. По всеобщему признанию, Бек был самым талантливым скульптором в стране, но когда страна начала отстраиваться после войны, его не привлекли к работам — в отличие от многих других. Бек был известен преданностью своему бывшему царю. Его самого часто обвиняли в ереси. Этому высокому, стройному, смуглому, полному сил мужчине не было и сорока, но его взгляд переполняла печаль. Он приветствовал меня теплой улыбкой и раскрыл рекомендательное письмо, полученное мною от отца. Закончив чтение, Бек приступил к рассказу:
— Когда Эхнатон покинул этот свет, вместе с ним исчезли красота и мир; ни краски, ни музыка больше не доставляют мне удовольствия. Впервые я увидел его, когда был еще мальчиком и овладевал основами профессии в школе моего отца Менна, скульптора Аменхотепа III. Однажды нашу школу посетил юноша, которого несли в паланкине. Отец шепнул мне:
— Это наследник престола.
Я увидел подростка примерно моего возраста — тоненького, хрупкого, скромного, но с пронизывающим взглядом. Он смотрел на резец и камень с таким восхищением, словно те были чудом. Мальчик пришел посмотреть и поучиться; он общался с нами так дружелюбно, что скоро мы забыли о его принадлежности к царскому роду. Он продолжал регулярно посещать школу, и мы стали друзьями. Эта дружба доставляла мне огромное счастье. Отец гордился нашим близким знакомством и дал нам свое благословение.
— Сынок, Эхнатон — мальчик, обладающий мудростью взрослого мужчины, — часто говорил он.
Так оно и было. Даже верховный жрец Амона признавал его мудрость и зрелость, необычные для столь раннего возраста. Жрецы объясняли ее тем, что Эхнатоном владела некая злая сила. Это неправда, Мериамон. Злая сила обитала в душах самих жрецов. Мой царь не ведал зла. Возможно, в этом и заключалась его трагедия. Однажды в дни нашей юности отец вместе с помощниками высекал статую для царя Аменхотепа III, а Эхнатон следил за их работой.
— Мастер Менн, — сказал он, — я вижу, ты придерживаешься традиционного стиля. Лично я нахожу его отталкивающим.
— Традиции — это большая сила, ваше высочество. Они помогают преодолевать время, — с гордостью ответил мой отец.
— Новая красота приходит с каждым рассветом! — пылко воскликнул Эхнатон. Потом он повернулся ко мне. — Бек, друг мой, эта статуя может стать прекрасной, но правдивой она не будет. Где правда?
Эхнатон жил для правды и умер за нее. С самого раннего возраста его вдохновляло все мистическое, словно он был порождением чистой духовности. Однажды он сказал мне:
— Бек, я очень люблю тебя. Если ты станешь мастером своего дела, то когда я займу трон, поручу тебе все искусство и архитектуру.
Правда состоит в том, что я обязан Эхнатону всем — как в религии, так и в искусстве. Сначала он научил меня вере в Атона, потом показал путь к Единственному Богу. Когда я услышал, с какой верой и любовью он читает стихи, моя душа наполнилась миром:
Земля сияет в Твоем свете,
И больше нет тьмы.
О Господь,
Властитель вселенной,
Небес и земли,
Людей и животных,
О наш Создатель.
Однажды по дороге из каменоломни в школу я сказал Эхнатону:
— Мой царевич, я верю в твоего бога.
Он был вне себя от радости.
— Ты мой второй обращенный после Мери-Ра; но врагов у нас будет достаточно.
Позже я узнал, что в то же время к числу почитателей Атона присоединилась Нефертити, еще жившая во дворце своего отца. Эхнатон время от времени жаловался мне на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться из-за своей веры. Постоянное пребывание в оторванной от мира каменоломне не мешало мне быть в курсе происходившего.
Основам профессии меня научил отец, но духовность я получил от Эхнатона. Он посвятил себя правде — как в жизни, так и в искусстве. Именно поэтому он сердился на тех, кто вел суетную жизнь и слетался на любой пир, как вороны или стервятники.
— Бек, — однажды сказал мне он, — не позволяй, чтобы во время работы тебе сковывали руки учения мертвецов. Пусть твой камень станет вместилищем правды. Именно Бог создал все, поэтому будь верен ему в своих созданиях. Не позволяй, чтобы на твою работу влияли страх или алчность. Когда ты изваяешь мою статую, пусть на моем лице и теле будут видны все изъяны; красота твоего изделия будет заключаться в его честности.
Таков был Эхнатон, отвергший старые пути и очарованный новизной.
Он сверг кумиров и с корнем выкорчевал старые традиции. Правда вдохновляла его.
Когда Эхнатон занял престол, я снова присягнул ему в своей вере, и он назначил меня первым царским скульптором.
Когда Бог вдохновил его построить новый город и перенести в него столицу, у меня под началом было восемьдесят тысяч рабочих, создававших Ахетатон — самый прекрасный город на свете, город света и веры.
Мы строили самые широкие дороги, самые чудесные дворцы, разбивали самые прекрасные сады и пруды. Это было настоящее произведение искусства, в конце концов павшее жертвой злобы жрецов.
Бек ненадолго умолк, заново переживая гибель своего любимейшего творения, ныне медленно исчезавшего под слоем пыли. Я тоже молчал из уважения к этому человеку, дожидаясь продолжения рассказа.
Эхнатон и сам был художником. Он читал стихи, рисовал и даже пытался резать из камня, несмотря на свои слабые руки. Я открою тебе секрет, о котором мало кто знает. Он изваял статую Нефертити, соответствовавшую всем канонам красоты. Наверно, она до сих пор находится либо в покинутом царском дворце, либо во дворце Нефертити — конечно, если ее не уничтожили вместе со всем остальным. Когда царица неожиданно покинула его, Эхнатон с досады вырвал у статуи левый глаз, но все остальное сохранил в целости как знак вечной любви.
Царица и Эхнатон были символом Бога — отца и матери одновременно. Их соединяла большая любовь, выдержавшая множество бурь. Я до сих пор не понимаю, почему в самом конце она ушла от него. Враги обвиняли Нефертити в том, что она сбежала с тонувшего корабля. Говорили, что она хотела найти себе место в новой стране. Но после случившегося она не пыталась никого завоевать. Царица оставалась в своем дворце по собственной воле, пока он не стал ее тюрьмой. Неправда, что она преследовала собственные интересы. Может быть, ее вера поколебалась после того, как во время этих болезненных событий Бог не пришел к ним на помощь. В это мрачное время она отреклась как от своего трона, так и от своей религии. Но Эхнатон не сдавался до самого конца. Как он мог бросить свою веру, если сам слышал небесный глас Бога, обратившегося к своему возлюбленному сыну? Как можно слышать голоса людей, считаться с их мнениями, внимать их советам, если человек ищет правду? Потерпел поражение не он, а мы. Я тоже испытывал большие сомнения, когда они потребовали, чтобы фараон отрекся от престола, но особенно тогда, когда все его покинули. Я видел, как он стоял в одиночестве и спокойно следил за их уходом. Увидев меня, он сказал:
— Бек, ты должен уйти с ними.
— Государь, никто не смеет сказать мне это! — с жаром воскликнул я.
— И все же ты уйдешь, — с улыбкой ответил он.
— Я останусь со своим царем навсегда.
— Бек, — мягко промолвил он, — либо ты уйдешь сам, либо тебя уведут силой.
Я немного помолчал, а потом спросил:
— Учитель, может ли зло победить?
На мгновение Эхнатон погрузился в свои мысли, а потом я услышал его голос:
— Нет, не может. То, что мы видим сейчас, преходяще. Только смерть может избавить нас от поисков правды.
Затем он запел:
Господь мой, ты живешь в моей душе.
Никто не знает тебя,
Кроме твоего сына Эхнатона.
Ты вдохновляешь меня своим знанием,
Ты — сила, которая творит.
Он не мог отречься ни от своей веры, ни от любви. Даже тогда, когда построенная им пирамида рухнула, друзья присоединились к врагам, а любимая жена ушла без объяснений, в его душе не было ни злобы, ни ненависти. Эхнатон был выше чувства мести; он любил людей, животных и даже неодушевленные предметы. Когда он впервые сел на трон, Египет был огромной империей с любящими и послушными подданными. Он мог позволить себе выбирать все самое лучшее: женщин, вино и еду. Но он отвернулся от этих соблазнов и посвятил себя правде, бросив вызов силам алчности и себялюбия. Поэтому он жертвовал всем с улыбкой на устах.
— Почему ты не используешь силу, чтобы защитить любовь и мир? — однажды спросил я его, когда семена зла уже начали прорастать.
Он ответил:
— Бек, порочные люди и преступники всегда находят предлог для удовлетворения собственной кровожадности, но я не из их числа.
Никогда не забуду доброту, которую он проявил, узнав, что я люблю его свояченицу Мутнеджмет. Он пытался свататься за меня. Когда она ответила отказом, Эхнатон утешал меня:
— Не жалей, она похожа на стервятника, ждущего подходящего момента для нападения. — Я спросил, что он имеет в виду, но Эхнатон не ответил.
Когда все остальные уходили, мы со жрецом Единосущего Бога Мери-Ра хотели остаться с ним. Но нас встретил мудрец Эйе и сказал:
— Мы — единственные, кто способен защитить его от неминуемого нападения. Есть только один способ спасти ему жизнь. Поверьте, если бы кто-то мог остаться с ним, это был бы я. Я — его тесть и первый учитель.
— Эйе, если мы останемся с ним, это никак не повлияет на ход событий.
— Соглашение, которое мы заключили со жрецами, предусматривает, что Эхнатону не причинят вреда при условии, что в Ахетатоне не останется никого из его приближенных и последователей. Жрецы согласились лишь на то, чтобы за ним присматривало несколько слуг.
Когда я не по своей воле присоединился к остальным, мое сердце сжалось от боли. Меня до сих пор одолевают сомнения. Почему Бог покинул его? Иногда я возношу Ему молитвы, иногда нет. Узнав о смерти Эхнатона, я плакал до тех пор, пока не пересох источник слез. Я уверен, что он умер не своей смертью. Жрецы извели его колдовством или каким-нибудь другим жестоким способом. Теперь я живу здесь, не имея цели, не зная счастья, и жду, когда смерть заберет меня так же, как она забрала мой прекрасный город.
Тадухипа
Тадухипа была дочерью Тушратты, царя Митанни, ближайшего союзника Египта. Аменхотеп III женился на ней в самом конце своей жизни. Ему было шестьдесят
[143], а ей — пятнадцать. Когда Аменхотеп умер и царем стал Эхнатон, Тадухипа досталась ему в наследство вместе с отцовским гаремом. Ныне она с тремя сотнями рабов жила во дворце на севере Фив. Она согласилась поговорить со мной только по рекомендации Хоремхеба. Тадухипа оказалась красивой женщиной лет тридцати с небольшим, исполненной чувства собственного достоинства и окутанной аурой таинственности. Мы встретились в роскошном приемном зале; она сидела в кресле из черного дерева, отделанном золотом. Ее улыбка подбодрила меня, и я попросил Тадухипу начать рассказ.
— Я жила с царем Аменхотепом III очень недолго; это время было наполнено желчью и ревностью. Познакомившись с великой царицей Тийей, я сильно удивилась. Мне было непонятно, как эта женщина сумела подняться до столь высокого положения. Во дворце моего отца такие женщины, как Тийя, были бы вне себя от радости, если бы их просто взяли в служанки его гарема. Но еще сильнее я удивилась, когда впервые увидела гулявшего в саду наследника престола. Он был хилым и уродливым созданием. Я испытывала к нему не столько жалость, сколько отвращение.
Вскоре после моего выхода замуж за Аменхотепа III его здоровье начало ухудшаться. Некоторые злонамеренные люди смели обвинять в его болезни меня. Но это было не в моих интересах. В первую же брачную ночь я увидела на морщинистом лице царя признаки своего неминуемого несчастья — то, что скоро я достанусь в наследство отвратительному мальчишке. Я невольно подумала, что жить с его старым отцом куда лучше, чем с ним. В конце концов, что бы ни думали люди о стариках, Аменхотеп III был человеком живым, веселым и полным сил. В гареме женщины часто говорили о царевиче. Мы потешались над страстью Эхнатона к таким женским занятиям, как пение и рисование, и его подозрительным отсутствием интереса к женщинам. Мы считали, что для трона он совершенно не годится.
Вскоре стало известно о страсти царевича к новой религии, из-за которой у него были ссоры с родителями. Мы слышали о тревоге жрецов Амона. Все это вызывало наше любопытство, но не слишком волновало; в гареме личные интересы женщин важнее интересов страны. Только смерть царя потрясла нас и поставила в затруднительное положение, из которого мы не видели выхода. Мерзкий мальчишка стал законным царем и разделил трон с Нефертити, на которой женился еще при жизни отца. О да, теперь все мы стали его собственностью. Конечно, он был щедр и заботлив, но относился к нам как к ручным животным и ни разу не посетил свой гарем. В результате его пренебрежения женщины, стремившиеся утолить свои желания, начали вступать в противоестественные связи.
— Лучше бы он занимался нами, чем религиозными распрями со жрецами и всеми остальными, — сказала одна из женщин.
— Должно быть, он импотент, иначе зачем бы ему понадобилась вся эта религиозная чепуха? — ответила ей другая.
Тем не менее Нефертити была очень ревнива. Однажды она решила нанести визит в гарем. Женщины правильно поняли истинную причину ее прихода. Нефертити хотела увидеть меня, ибо слышала во дворце, что я молода и хороша собой. Я была единственной обитательницей гарема, близкой ей по возрасту и столь же красивой. А мое происхождение было намного выше. Я — царская дочь, в то время как ее отец Эйе — всего-навсего простолюдин. Эйе одним из первых заявил о своей вере в нового бога. Позже, когда солнце Эхнатона зашло, он первым бросил зятя и присоединился к его врагам. Но это к слову… Царица пришла в гарем, окруженная рабынями. Она приветствовала нас одну за другой, по старшинству. Когда настала моя очередь — а я была последней, — Нефертити пристально осмотрела меня; ее взгляд был полон любопытства. Я стояла в вызывающей позе, пока ее лицо не помрачнело. Я не удивилась, когда услышала, что Нефертити рассердилась на царицу-мать, посоветовавшую сыну уделять больше внимания гарему, а особенно мне, дочери Тушратты, друга и союзника Египта. Этого она Тийе не простила до самой смерти. Но еще сильнее она разозлилась, когда царь решил пойти навстречу желанию матери и нанести мне визит.
Я ждала Эхнатона в своей позолоченной кровати, совершенно обнаженная. Он пришел в одной набедренной повязке, сел на край кровати и нежно улыбнулся.
— Ты будешь рада родить мне ребенка? — прошептал он.
Я пыталась побороть охватившее меня чувство отвращения.
— Это мой долг, ваше величество.
— Но я ищу любви. — В его глазах стояло отчаяние. — Любовь — мой единственный долг.
— Учитель, это любовь заставляет вас желать меня?
— Прости меня. — Он бережно погладил меня по руке поцеловал в лоб и покинул мою комнату так же тихо, как и вошел в нее.
Я никому не сказала, что произошло в моей спальне в ту ночь, и большинство женщин гарема считало, что Нефертити утратила по крайней мере половину души царя. Время шло, и мы получали все новые известия о событиях, происходивших за пределами дворца. Потом мы узнали о решении царя построить новый город. Через несколько лет переехали в Ахетатон. В новом городе были счастливы все, кроме нас. Нас отправили в самое дальнее крыло дворца, где мы вели невыносимую и угнетающую жизнь, приводившую к новым извращениям. Когда стало известно, что этот идиот царь решил бороться с грехами любовью, а не наказаниями, те обитательницы гарема, которые не хотели спать с другими женщинами, начали бесстыдно зазывать к себе в постель дворцовых стражей. Рушились последние моральные устои. Но единственной заботой царя было распространение его новой религии по всей стране. Все окружавшие меня женщины начали молиться Единственному и Единосущему, хотя подлинной веры не испытывали. Позже я поняла, что религия Эхнатона была религией без верующих. Я до сих пор считаю, что его религия превратила Египет в страну лицемеров, рвущихся к богатству и власти. У меня не укладывалось в голове, как в бесконечной вселенной может существовать только один бог. Почему? Каждому городу нужен свой бог-покровитель; представителю каждой профессии требуется бог, который за нее отвечает. И почему люди обязаны испытывать друг к другу только любовь? Что за чушь! Должно быть, мать совершенно избаловала его, вот он и свихнулся. Он часто читал стихи при большом стечении публики, а его жена пела. Священный трон осаждали толпы нищих поэтов и певцов, после чего достоинство фараонов рассыпалось в прах.
Дальнейшее было неизбежно. Повсюду воцарилось уныние, похожее на долгую ночь, не сулящую рассвета. На империю посыпались катастрофа за катастрофой. Мой отец был одним из немногих союзников, сохранивших верность Египту в эти страшные времена. Кончилось тем, что он погиб в битве, защищая идиота Эхнатона. По мнению некоторых, беда заключалась в том, что Эхнатон был талантливым поэтом, оказавшимся на троне благодаря капризу судьбы. Но правда состоит в том, что он был странным созданием, ни мужчиной, ни женщиной, терзался стыдом и поэтому стремился уничтожить себя и страну. Хотел, чтобы любовь стала маяком, который светит всем, но вражда и злоба охватили сердца людей как пламя, и его империя рухнула. Что же касается его жены, хитрой Нефертити, она мирилась с этой чушью в надежде получить доступ к власти и возможность удовлетворять свою ненасытную похоть со всеми, кого пожелает. Нефертити сумела убедить всех, что они с мужем — идеал любви и верности. Они целовались на глазах у подданных на улицах Ахетатона и во время его выступлений в номах. Но обитательницы дворца прекрасно знали, что царь и его жена никогда не спят вместе. Эхнатон был неспособен иметь дело с женщинами. У Нефертити была связь со скульптором Беком, военачальником Хоремхебом, Меем и многими другими; именно так она родила своих шестерых дочерей. Среди рабынь ходили слухи, что единственной сексуальной связью Эхнатона была связь с собственной матерью, царицей Тийей.
Должно быть, Тадухипа заметила мое смущение, потому что какое-то время смотрела на меня молча. Потом она продолжила:
— В гареме знали, что Тийя родила от него дочь. Факт был неоспоримый. Не одна рабыня заявляла, что видела, как Эхнатон и Тийя занимались сексом. Естественно, для Нефертити это тоже не было секретом; именно поэтому они со свекровью презирали друг друга.
Проблема заключается в том, что большинство людей не может себе представить, что человек, вызвавший в мире столько шума, на самом деле был никчемной и презренной личностью.
Однако это правда, которую следует записать и довести до всеобщего сведения. Если бы Эхнатон не принадлежал к одной из величайших династий в истории, он бродил бы по фиванским переулкам, пуская слюни, и дети осыпали бы его насмешками. Неудивительно, что империя пала именно во время его правления. А что касается Нефертити, то если бы не Эхнатон, она стала бы профессиональной шлюхой.
Незадолго до конца трагедии царица-мать отправилась в Ахетатон, надеясь спасти тонущий корабль. Между Тийей и Нефертити разыгрался страшный скандал. Нефертити обвинила Тийю в пособничестве врагам престола.
Обвинение жены причинило Эхнатону сильную боль. Он стал с жаром защищать мать — точнее, любовницу.
Конечно, это разозлило Нефертити, но тогда она сдержалась и отомстила мужу позже — тем, что ушла от него в критический момент без всяких объяснений.
Потом она пыталась восстановить дружбу со жрецами, чтобы найти себе место в новой жизни. Возможно, надеялась стать женой Тутанхамона. Но все ее усилия оказались тщетными. Если бы не заступничество ее любовника Хоремхеба, жрецы разорвали бы Нефертити на куски.
Тадухипа немного помолчала, потом насмешливо улыбнулась и завершила рассказ следующими словами:
— Такова история слабоумного царя Эхнатона и его дурацкой религии.
Тото
— Я никогда не отрекался от Амона и не присоединялся к каравану лицемеров и приспособленцев. Я служил еретику по заданию верховного жреца Амона. Я был внимательным глазом, защищавшим Амона, и кулаком, который наносил удары его врагам.
Так начал свой рассказ Тото, начальник писцов канцелярии Эхнатона. Этого человека явно мучила мысль, что его могут счесть таким же лицемером, как всех остальных, кто служил Эхнатону.
Я встретился с Тото в ризнице храма, где он служил кантором; в правление Тутанхамона он вернулся на пост, который занимал при жизни Аменхотепа III. У него было мясистое лицо, глаза навыкате, но самой заметной чертой этого человека был скверный характер. Он с жаром изложил мне свою версию трагедии:
— Праотцы еретика были великими царями. Сложности начались, когда Аменхотеп III выбрал себе жену из простонародья и она родила ему этого глупого, безумного сына, наследника престола. Аменхотеп III и царица Тийя применили по отношению к жрецам Амона новую политику. Они ценили их достоинства и статус Амона и верили в него как в главу всех богов. Но в то же время уделяли много внимания жрецам других богов, чтобы обеспечить преданность каждого. Объединенные жрецы других богов обладали властью, равной власти жрецов Амона. Чета фараонов использовала нас против друг друга и таким образом монополизировала власть в стране. Нам не слишком нравилась их политика, но мы имели достаточное количество привилегий, поэтому не считали себя обиженными и не протестовали; в конце концов, люди все равно почитали Амона больше других богов.
Когда Эхнатон стал царем, перед ним открылась прямая дорога. Он мог выбрать тот же
путь, что и его пращуры, и мирно следовать им. Но мышь возомнила себя львом. В этом и заключалась катастрофа. Ему не хватало мудрости и силы предшественников. Он стыдился своей врожденной слабости, своего уродства и женоподобности. Такую злобу и страсть к обману можно объяснить только сознанием собственной неполноценности. Поэтому он решил избавиться от жрецов вообще и сосредоточить в своих руках всю власть в стране.
Новый фараон объявил себя единственным богом без всяких соперников, кроме иллюзорного бога, которого он использовал как маску, скрывавшую его честолюбие. Сначала мы услышали о не по годам зрелом чудо-мальчике. Позже нам рассказали байку о новом боге, который якобы явился ему и потребовал упразднить всех других богов. В тот день я сказал верховному жрецу:
— Это заговор, который нужно задушить в колыбели. — Похоже, мои слова жреца не убедили. Тогда я продолжил: — Подозреваю, что за этим стоят царица Тийя и мудрец Эйе. Мальчик — просто орудие в их руках.
Верховный жрец сказал:
— Не сомневаюсь, что часть вины царицы тут есть. Но это ее ошибка, а не преступление. Заговором здесь и не пахнет. Что же касается мудреца Эйе, то, похоже, он сам встревожен не меньше нашего.
Я поверил ему, потому что верховный жрец не может ошибаться.
— Если так, то мальчик обуян духом Сета
[144], бога зла. Его нужно убить, причем немедленно.
— Потерпи, Тото, — сказал верховный жрец. — Царь и царица еще могут все исправить.
Я был убежден, что это промедление будет нам дорого стоить, и вознес молитву Амону:
О Амон, Учитель безгласных,
Отец бедняков,
Когда я призываю Тебя,
Ты внимаешь моим мольбам.
О Амон, Покровитель Фив,
Наш Спаситель от преисподней.
Затем Тото описал события, о которых я уже слышал: путешествие престолонаследника по империи, его возвращение и восшествие на египетский престол.
— Люди меняли свою веру на высокую должность. Забывали чувство собственного достоинства и роились вокруг еретика как мухи. Со временем этот яд отравил всю страну. Измена, вот как это называлось. Измена, не имевшая никакого оправдания. Именно они ответственны за постигший нас крах.
— Нет преступления без наказания, — сказал я верховному жрецу. — Мы должны взять Ахетатон и убить их всех: еретика, его жену, Эйе, Хоремхеба, Нахта и Бека.
— Страна не вынесет еще одного испытания, — ответил верховный жрец.
— Только кровь может утолить жажду Амона, — не уступал я.
— Мне лучше знать, что нужно Амону.
Я умолк, но пламя гнева продолжало бушевать в моей душе. Я уверен, что отсутствие наказания поощряет преступление и способствует распространению зла. Люди начинают искать справедливости на небесах. Мне больно видеть, как бесчестные наслаждаются миром и уютом, раньше принадлежавшими тем, кто действительно обладал честью. Почему мы должны миловать виновников нашего упадка?
Далее Тото рассказал мне о строительстве Ахетатона, исходе фиванцев в новую столицу и растущем рвении, с которым Эхнатон распространял свою религию по всей стране.
Я тоже переехал в Ахетатон и стал работать в канцелярии еретика. Только услышав бредовые речи фараона, я понял размеры его безумия. Ему следовало стать поэтом или певцом. Вместо этого он стал царем Египта и прятал свою слабость под вуалью мистического вдохновения. Кто-то верил ему, другие считали бесноватым. Но это был не священный бред, а практичность человека, униженного собственной слабостью, человека, у которого нет никакой другой силы, кроме обмана. Именно обман помог ему захватить всю власть в стране. Эхнатону мучительно хотелось доказать, что даже без военных завоеваний и физической силы он более велик, чем Тутмос III. Он создал фантастический мир с нелепыми законами и обычаями, жители которого тоже были его выдумкой. Эхнатон был богом и властелином иллюзии. Неудивительно, что его царство рухнуло при первом порыве ветров реальности, а собранная им толпа трусов бежала при первом намеке на опасность.
Когда он входил в транс, люди изумлялись. Они без конца повторяли странные, неземные слова, которые вытекали из него как магическая мелодия. Я был свидетелем некоторых таких случаев. Однажды я принес еретику составленные мной письма. Внезапно Эхнатона охватил один из припадков, отрывавших его от действительности и уносивших в неизвестность, пока к нему не возвращалось сознание.
— Бог нас не оставит, — обычно после этого говорил он.
В такие минуты я украдкой косился на Хоремхеба, Эйе и Нахта и гадал, верят ли они ему. Лично я считал это бесстыдной насмешкой над тем, что было для нас свято. И был убежден, что они думали так же. Их вера в его бога была наглым притворством. В конце концов эти люди бросили его, лишний раз доказав, что они могут хранить верность лишь собственному неистощимому честолюбию.
Тото рассказал мне о продажности чиновников, о страданиях граждан, о распространении мятежей, о нападениях врагов на окраины империи и трагической гибели самого сильного союзника Египта, царя Митанни Тушратты.
— Меня снедал страх за будущее Египта, — продолжил он. — Я составил план убийства еретика, которое должно было избавить мир от его зла. Найти охотника сделать это было проще простого. Я подготовил для него укромное место в дворцовом саду, по которому царь любил гулять в одиночестве. Этот человек сделал бы свое дело, если бы в последний момент его не заметил начальник стражи Махо. Убив его, Махо заслужил вечное проклятие богов. Тогда я решил прибегнуть к колдовству. Но оно тоже не помогло; наверно, я не смог преодолеть защитные чары еретика и его приближенных.
Потом Тото рассказал мне о посещении Ахетатона царицей Тийей и чрезвычайной встрече жреца Амона с приближенными Эхнатона.
Когда царь узнал, что жрецы требуют от него отречения и передачи престола Тутанхамону, он был вынужден назначить соправителем своего брата Семнехкара. Но окончательно мир еретика рухнул тогда, когда дворец покинула Нефертити. Со злом было покончено; наконец-то змея выплеснула свой яд. Союз Эхнатона с Нефертити стал для Египта величайшим несчастьем. Отрицать не приходится, Нефертити была сильной, способной и мудрой царицей. И вдобавок писаной красавицей. Но ее, как и мужа, сгубило честолюбие. Она делала вид, что разделяет веру Эхнатона в Единственного Бога, а на самом деле не уступала ему в искусстве обмана. Она никогда не любила его. Не могла бы любить даже в том случае, если бы захотела. Ее единственной истинной страстью была страсть к абсолютной власти. Возможно, Нефертити — последнее неоспоримое доказательство роли, которую в этой трагедии сыграл Эйе; она была порождением отцовских пороков. Я помню, как Эйе и его жена гордо восседали на террасе дворца во время публичных церемоний и получали в подарок слитки чистого золота. После каждой церемонии рабы уносили во дворец мудреца корзины, наполненные дарами. И все же непонятно, как разумная женщина вроде Нефертити могла не видеть мрачных последствий политики своего мужа. Неужели она действительно верила в бога любви и радости? Я не могу смириться с этой мыслью. По моему мнению, Нефертити совершила ошибку, переоценив авторитет трона в глазах народа Египта. Ей казалось, что этот авторитет можно использовать как волшебную палочку и совершать с его помощью самые отвратительные поступки. Возможно, она поняла свою ошибку намного раньше, но не хотела о ней говорить, потому что боялась утратить доверие мужа. Когда приближенные решили покинуть Ахетатон, Нефертити бросила царя, отчаянно надеясь, что любовники не предадут ее. Думаю, Хоремхеб пытался убедить верховного жреца Амона позволить ей вернуться в Фивы, но его усилия оказались тщетными. Дело кончилось тем, что еретик умер, а Нефертити все еще живет в своей тюрьме, терзаемая скорбью и раскаянием.
Даже если бы после смерти Аменхотепа III престол захватил злейший враг Египта, он не смог бы нанести стране большего ущерба, чем этот проклятый еретик.
Тей
Тей была женой мудреца Эйе. Этой маленькой женщине исполнилось семьдесят лет, но она сумела сохранить здоровье и обаяние. Тей вышла замуж за Эйе после смерти его первой жены. В то время Нефертити был всего год-два. Вскоре после этого Тей родила Мутнеджмет. В отличие от типичной мачехи, она любила Нефертити без памяти. Любовь была взаимной; выйдя замуж за Эхнатона. Нефертити сделала Тей своей фрейлиной и присвоила ей титул матери царицы.
Я показал Тей сведения, которые уже успел собрать.
— Я не хочу злоупотреблять вашим временем. Если вам нечего добавить, я откланяюсь.
Но она уже начала свой рассказ.
— Я мало общалась с царем, несмотря на близость к его жене. Он обращался ко мне лично всего несколько раз. Но я всегда знала, что он очень мил. Мой муж был наставником маленького царевича, поэтому мы много о нем слышали. Нас с Мутнеджмет злили его обидные высказывания об Амоне, его тяга к Атону и, наконец, его претензии на то, что он нашел нового бога. Но Нефертити думала по-другому.
Для начала нужно рассказать тебе кое-что о Нефертити. Она была очень умной девушкой, горячей и страстной, ценившей красоту и обладавшей непреодолимой тягой к религиозной мистике. Она была настолько старше своего возраста, что однажды я сказала Эйе:
— Похоже, твоя дочь станет жрицей!
Нефертити и Мутнеджмет иногда ссорились (с сестрами такое случается), но Нефертити всегда оказывалась права. Я не помню, чтобы хоть раз отругала ее. И именно она первой мирилась с Мутнеджмет, как подобает старшей сестре. Училась она очень хорошо, и я боялась, что зависть к ней толкнет мою родную дочь на какой-нибудь ужасный поступок.
Сначала мы заметили, что Нефертити с восхищением слушает рассказы отца о наследнике престола. Потом ей стал все больше и больше нравиться Атон. Но когда она заявила, что уверовала в эхнатоновского Единственного и Единосущего Бога, мы пришли в ужас.
— Твой Эхнатон — еретик, — сказала Мутнеджмет Нефертити.
— Он слышал голос Бога, — решительно ответила ей сестра.
— Тогда ты тоже еретичка! — воскликнула Мутнеджмет.
У Нефертити был прекрасный голос, и мы часто наслаждались ее песнями.
Что я скажу матери?
Я каждый день возвращалась с добычей,
Но сегодня не ставила силки,
Потому что сама попала в силки твоей любви.
После того как Нефертити заявила о своей новой вере, мы часто слышали, как она одна пела в саду своему новому богу. Голос у нее был небесный, но мы не торопились высказывать свое одобрение, чтобы не поощрять ее. Я до сих пор помню песню, которую услышала однажды утром, расчесывая волосы:
О Вечный,
О Могучий и Милостивый,
Мы радуемся Тебе,
И вся вселенная наполняется светом.
Наш дворец стал одним из первых мест, где прозвучали гимны новой религии. Однажды нас пригласили на празднование тридцатой годовщины коронации Аменхотепа III. Нам впервые позволили прибыть на него вместе с дочерьми, поэтому они тоже смогли попасть во дворец фараона. Я очень обрадовалась. Зная, что на этом празднике Нефертити и Мутнеджмет смогут познакомиться с достойными молодыми людьми, я сделала все, чтобы они были одеты соответственно случаю. На них были красивые просторные платья, плечи окутывали вышитые шали, а на ногах красовались золотые сандалии с ремешками.
Прибыв в царский дворец, мы вошли в зал размером с весь наш дом. На стенах горели факелы, окружавшие места для гостей. Трон стоял между двумя рядами кресел для царевичей и царевен. Середину комнаты оставили свободной для музыкантов и обнаженных танцовщиц. Среди гостей сновали рабы с курильницами и подносами, наполненными самыми изысканными блюдами и напитками. Я разыскивала взглядом лучшего из молодых людей, собравшихся в зале, и в конце концов решила, что моим дочерям подошли бы многообещающий молодой офицер Хоремхеб и талантливый скульптор Бек. А потом увидела, что Хоремхеб, Бек, Нахт, Мей и многие другие вельможи не сводят глаз с Нефертити. Это стало особенно заметно, когда знатным молодым женщинам дали возможность танцевать и петь перед царем. Моя любимая Нефертити танцевала так изящно и пела таким нежным, завораживающим голосом, что затмила профессиональных певиц. Наверно, именно в тот вечер я сама испытала молчаливую ревность, от которой страдала Мутнеджмет, но утешила себя тем, что после выхода Нефертити замуж у моей дочери не останется соперниц. Я пристально следила за Нефертити, пытаясь понять, не привлек ли кто-нибудь ее внимание, и удивилась, когда заметила, что она смотрит на царевича, своего духовного учителя. Я тоже посмотрела на наследника престола и испугалась, увидев его странную внешность.
— Он представлялся мне великаном, — прошептала Нефертити, когда наши взгляды встретились.
Нефертити была не столько удивлена, сколько очарована, но я уверена, что она и не мечтала о подарке, который ей сделала судьба. Когда мы вернулись домой, я оказала мужу:
— Скоро к нам в дверь постучат поклонники, так что готовься.
— Наша судьба в руках богов, — как обычно, спокойно ответил он.
Через день-другой Эйе принес нам удивительную новость.
— С Нефертити хочет познакомиться царица, — сказал он.
Мы опешили.
— Эйе, что бы это значило? — спросила я.
Муж немного помедлил, а потом ответил:
— Наверно, царица хочет предложить ей какую-нибудь придворную должность.
— Ты наверняка знаешь больше, чем говоришь.
— Тей, откуда я могу знать, что у государыни на уме?
Эйе рассказал Нефертити, как следует держать себя с ее величеством. Я помолилась Амону, чтобы он благословил и уберег ее.
— Я молюсь только Единственному и Единосущему, — возразила Нефертити.
— Не вздумай сказать об этом царице! — отчитал ее Эйе. Когда она вернулась после встречи с государыней, то была так переполнена чувствами, что крепко обняла меня и заплакала.
— Царица выбрала ее в жены наследнику престола, — объяснил Эйе.
Мы были вне себя от радости. Отныне Нефертити была выше ревности, возможно, жившей в глубине наших душ. Благодаря ей мы становились членами царской семьи; ее везение позволяло нам подняться над остальными. Я поздравила ее от всего сердца; то же сделала Мутнеджмет. Нефертити подробно пересказала нам свой разговор с великой царицей, но я была так возбуждена, что все прослушала. Признаюсь честно: из ее рассказа я не запомнила ни слова. Но какое значение имеют слова по сравнению с самим событием?
Церемония бракосочетания не уступала роскошью памятной всем пожилым людям свадьбе самого Аменхотепа III. Мы породнились с царями, а моя дорогая Нефертити присвоила мне титул матери царицы, выше которого был только титул царевны. Брак сделал Нефертити и царевича единой душой, разъединить которую может лишь смерть. Она разделяла его скорби и радости почти до самого конца. Вместе с ним правила страной, причем делала это так искусно, словно была рождена для трона. Делила с ним бремя его миссии так, словно Единственный Бог выбрал ее в свои жрицы. Поверь мне, она была настоящей великой царицей. Именно поэтому меня так потрясло сообщение о ее внезапном уходе от мужа накануне грозившей ему беды. Это было единственное решение, которое она приняла, не посоветовавшись со мной. Я устремилась во дворец Нефертити, села у ее ног и заплакала. Казалось, она не замечала моего горя.
— Ступай с миром, — спокойно сказала она.
— Те, кто покинул царя, хотели всего лишь защитить его от опасности, но ты…
— Ступай с миром, — холодно прервала меня Нефертити.
— А как же вы, ваше величество? — не веря своим ушам, переспросила я.
— Я не покину этот дворец, — ответила она.
Я хотела что-то сказать, но она властно остановила меня.
— Ступай с миром.
Когда я покидала ее дворец, то чувствовала себя самой несчастной женщиной на свете. Я долго пыталась понять, что заставило ее исчезнуть и замуровать себя в четырех стенах. В голову приходило только одно: Нефертити так боялась увидеть гибель царя, что в минуту отчаяния предпочла бежать. Но я уверена, что она оставила мужа с намерением вернуться к нему после ухода всех остальных. Более того, я не сомневаюсь, что Нефертити пыталась вернуться, но ее к нему не пустили. Не верь тем, кто утверждает обратное. Ты услышишь разные мнения; каждый будет настаивать, что говорит правду, но у всех этих людей есть свои причины лгать. Жизнь научила меня никому не верить и никому не доверять. С тех пор много воды утекло, но я продолжаю гадать, заслуживал ли Эхнатон столь печального конца. Он был благородным, правдивым и любящим человеком. Почему они не ответили на его любовь, почему набросились на него как дикие звери и разорвали на части его самого и его царство так, словно он был их врагом? Несколько лет назад я видела его во сне. Он лежал на земле, и из глубокой раны на его шее сочилась кровь. Я уверена, что они убили его и сделали вид, будто он умер своей смертью.
Мутнеджмет
Мутнеджмет было немного за сорок. Медовые глаза этой красивой, стройной женщины светились умом. В ее присутствии я чувствовал себя скованно и понимал, что преодолеть эту отчужденность будет нелегко. Мутнеджмет, дочь Эйе и Тей и единокровная сестра Нефертити, жила в отдельных покоях отцовского дворца. Поклонники у нее были, но замуж она так и не вышла; причина этого навсегда осталась тайной. Когда я сел перед ней и разложил свои письменные принадлежности, Мутнеджмет приступила к рассказу:
— Судьбе было угодно, чтобы мы приняли участие в трагедии еретика. Моего отца Эйе выбрали в его учителя, и от него мы слышали о странных идеях царевича. Эхнатон не нравился мне с самого начала. Я сомневалась в его рассудке; время доказало мою правоту. Но Нефертити придерживалась другого мнения. Я всегда знала, что она жаждет привлекать к себе внимание. Часто она превращала обычный спор в настоящий диспут — только для того, чтобы показать, какая она умная. И все же я удивилась, когда она высказала свое мнение о бредовых речах наследника престола. Никто не сомневался в ее остром и блестящем уме. Но самым большим пороком Нефертити была ее неспособность к искренности. Она говорила, что заменила Амона Атоном, но на самом деле отвергла всех богов ради бога, о котором мы раньше никогда не слышали.
Однажды днем я случайно подслушала ее разговор с Эйе.
— Отец, пожалуйста, скажи царевичу, что я верю в его Бога, — попросила Нефертити.
— Не болтай глупостей! — взвился отец. — Ты сама не понимаешь, что говоришь!
Я боялась, что ее ересь навлечет проклятие на всех нас. Моя вера в прежних богов была непоколебимой. Да, я признала нового бога, но только по необходимости. В конце концов, я была членом царской семьи. Кроме того, я надеялась, что смогу успешнее защищать своих богов, если окажусь внутри, а не снаружи правящего круга. Но ты должен понять, что я никогда не отказывалась от своей веры. Никогда.
Впервые я увидела еретика на праздновании тридцатилетия правления Аменхотепа III. Его внешность была такой же уродливой, как его идеи. Он с самого начала показался мне хилым и болезненным. Не верь тому, что ты слышал о высокой любви Эхнатона и Нефертити. Мы росли вместе; я слишком хорошо знала ее, чтобы верить, будто это отталкивающее, женоподобное создание имело хоть что-то общее с мужчиной ее мечты, о котором она грезила всю юность, проведенную в отцовском дворце.
Во время праздника Хеб-Седа проявилась истинная натура Нефертити — натура опытной шлюхи, бесстыдно выставляющей напоказ свою красоту. Я помню, как она пыталась привлечь внимание Хоремхеба, но он отверг ее заигрывания. Когда меня попросили выступить перед царем и царицей, я танцевала с достоинством девушки из знатной семьи. И выбрала песню, славившую нашего фараона:
Когда ты пришел на великий праздник,
Все осветилось, как горизонт после шторма.
Ты — источник тепла, конец голода
И убежище от бурь.
В отличие от Нефертити, которая вызвала ужас публики, исполнив непристойный танец; конечно, это помогло ей привлечь внимание нескольких порочных молодых людей. Хуже того, она спела песню, которой постыдилась бы последняя шлюха:
Пои нас своей красотой,
Пока мы не опьянеем.
Вечером я пошла ставить силки,
Надеясь, что в них попадем мы оба.
Приди, возьми меня за руку
И отведи туда,
Где мы будем только вдвоем.
Мой отец опустил голову от стыда, мать сначала остолбенела, а потом сурово посмотрела на нее, требуя объяснений. Даже профессиональные певицы шептались друг с другом, не веря своим ушам. Когда ночью мы вернулись домой, я не сомневалась, что предметом грез Нефертити был Хоремхеб. Она надеялась, что утром он постучит в нашу дверь. Но судьба приготовила сюрприз не только нам, но и всему Египту. Нефертити пригласили на встречу с царицей Тийей. Она вернулась из дворца невестой Эхнатона.
— Разве наследник не обязан закрепить свои права на трон, женившись на особе царской крови? — спросила я мать.
— Если фараон согласился женить сына на девушке, не принадлежащей к царскому роду, это не имеет значения, — ответила Тей. — Вспомни, фараон и сам женился не на царевне. — Потом она нежно поцеловала меня в лоб и прошептала. — Потерпи, Мутнеджмет. Никто не сомневается, что ты превосходишь Нефертити во всех отношениях. Но когда в дело вмешивается судьба, мы превращаемся в бессильных наблюдателей. Постарайся утешиться тем, что ты станешь сестрой царицы, почти царевной. Не забудь: твое собственное счастье будет зависеть от верности сестре.
— Спасибо за совет, мама, — решительно ответила я. — У меня хватает ума, чтобы понимать свои новые обязанности. Однако ты напрасно надеешься, что я откажусь от своих богов.
Позже мы с Нефертити поговорили с глазу на глаз.
— Ты действительно любишь его? — спросила я.
— Кого ты имеешь в виду? — лукаво ответила сестра.
— Твоего будущего мужа, конечно.
— Он не человек, а чудо! — с жаром воскликнула Нефертити.
— И как мужчину тоже?
— В каждом жреце есть что-то от мужчины, а в каждом мужчине — что-то от жреца. Эти вещи неотделимы друг от друга.
Мне было ясно, о чем думает Нефертити; я видела ее насквозь. Она разделит трон с царем, станет царицей и жрицей, после чего сможет тешить свою похоть где угодно. Так она и поступала, пользуясь половым бессилием мужа и его политикой, запрещавшей наказания. Я узнала о сексуальных извращениях Эхнатона во время ежедневных посещений гарема. Там знали то, о чем не догадывались даже его ближайшие друзья. Именно обитательницы гарема рассказали мне о греховной связи между царем и его матерью — единственной женщиной, в объятиях которой он мог преодолеть свое половое бессилие. Великая царица была одновременно его матерью и матерью его дочери. Раньше наша страна ничего подобного не знала. Тогда я поняла, что судьба предназначила мне стать свидетельницей самого мрачного времени в истории Египта, и поклялась всегда стоять за правду, чего бы это мне ни стоило.
Аменхотеп III умер, и Нефертити стала царицей Египта и всей империи. Мы влачили в Фивах смертельно скучные дни, пока не переехали в Ахетатон, самый прекрасный город на свете. На первых порах там было чудесно. Мы жили удобно и счастливо. Боги дали еретику передышку и проторили ему путь к успеху, но только для того, чтобы он еще глубже погряз в грехе. Амон отомстил за себя как раз тогда, когда Эхнатон счел, что его бог непобедим.
— Куда смотрят боги? — спросила я мать, оставшись с ней наедине. — Почему они ничего не делают?
— Мутнеджмет, это значит, что новый бог — истинный, — к моему изумлению, ответила она.
Я смотрела на нее, не веря своим ушам. Казалось, мир, который я знала, рухнул, а ему на смену пришел другой. Но звезда Эхнатона начала гаснуть так же быстро, как и вспыхнула, и на горизонте заклубились грозовые тучи. Вскоре они накрыли Ахетатон.
— Наконец-то Амон дал волю своему гневу, — сказала я отцу.
— Ты говоришь так же, как эти злобные жрецы.
— Отец, скажи, каков твой долг в такое время?
— Мутнеджмет, я не нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали о моем долге, — с досадой ответил он.
Однажды я спросила Нефертити:
— Как ты собираешься защищать свой трон?
Мы делаем все, чтобы защитить трон Единственного Бога, — ответила она. Но ее пыл меня не убедил.
Не подумай, что ее слова были продиктованы преданностью своей вере. Чем-чем, а преданностью Нефертити не отличалась. Она просто боялась предупредить мужа о последствиях его упрямства, опасаясь, что он лишит ее доверия и выберет себе другую жену, с которой разделит трон
[145]. Пытаясь вразумить приближенных Эхнатона, я обнаружила, что главный писец Тото тайно сохраняет верность Амону. Тото стал посредником между мной и верховным жрецом Амона. Это было настоящей пыткой. Я очутилась перед выбором: либо моя семья, либо моя страна и мои боги. Присоединившись к лагерю жрецов, я рисковала миром в семье и даже собственной безопасностью.
— Верховный жрец хочет переманить царицу на нашу сторону, — однажды сказал мне Тото. — Он просит твоей помощи.
— Поверь мне, я пыталась. Не думай, что в таких простых вещах мне нужна подсказка верховного жреца. Но, увы, Нефертити так же глупа, как и еретик.
Верховный жрец убедил царицу Тийю посетить Ахетатон. Когда ее попытка провалилась, он лично прибыл в город, чтобы сделать приближенным Эхнатона последнее предупреждение. Тото не соглашался с верховным жрецом. Он настаивал на незамедлительной карательной экспедиции.
— Предадим город нечестивых огню! — заявлял писец.
Я очень хотела привлечь на нашу сторону начальника полиции Хоремхеба, обладавшего в Ахетатоне неограниченной властью. Поскольку этого человека считали крайне простодушным, я отправилась прямо к нему, однако убедилась, что он очень осторожен. Возможно, он не доверял мне (так же, как на первых порах не доверяла ему я). Пришлось встретиться с Хоремхебом несколько раз, прежде чем я окончательно убедилась, что он — наш человек. Я ждала до тех пор, пока Египет не оказался на грани гражданской войны.
— Нам нужно изменить стратегию, — сказала я. Хоремхеб посмотрел на меня с любопытством, и я продолжила: — Мы не можем позволить Египту сгореть дотла.
— Ты не говорила с сестрой? — деликатно спросил он. — Она повторяет слова царя. Два дурака. — Моя прямота заставила его вздрогнуть.
— Что ты предлагаешь? — резко спросил он.
— Ради блага страны позволено все, — ответила я.
После короткой паузы Мутнеджмет продолжила:
— Это была настоящая трагедия. Хуже вторжения гиксосов. Наверно, ты уже не раз слышал, как все кончилось. Эхнатон был безумен; к несчастью для всех нас, он унаследовал трон Египта и использовал его для распространения своих бредовых идей. Еще бо́льшая вина лежит на Нефертити, потому что ума ей хватало. Но она стремилась утолить свое честолюбие и получить как можно больше власти. Когда слава Эхнатона начала угасать, она просто бросила его. И даже пыталась присоединиться к его врагам — возможно, в надежде стать новой царицей. Но где она теперь? Сидит в полном одиночестве, горюет и кается.
Мери-Ра
Лицо Мери-Ра без слов говорило о печали, царившей в его душе. Кожа этого довольно высокого, стройного мужчины лет сорока пяти была бронзовой от солнца. Он жил в маленьком домике один, без слуг и рабов. Когда-то Мери-Ра был верховным жрецом Единственного и Единосущего Бога в Ахетатоне, городе света. Я посетил его в крошечном городке Дешаша, расположенном в двух дня пути к северу от Фив. Прочитав отцовское письмо, он с улыбкой спросил:
— Зачем ты взваливаешь на себя такое бремя?
— Чтобы найти правду, — ответил я.
— Приятно знать, что на свете еще есть человек, ищущий правду, — кивнув, сказал Мери-Ра. — Наверно, я был единственным, кого увезли из Ахетатона силой. Я отказался покинуть своего царя. Голос Бога молчал, храм был разрушен, но судьба еще не сказала своего последнего слова. — Он посмотрел на меня грустными карими глазами и начал рассказ:
— Мне повезло: я с детства был одним из ближайших друзей царевича. Нас с Эхнатоном неудержимо влекло к мистике. Мы вместе изучали культы Амона и Атона. Я был очарован им так же, как многие взрослые. Восхищался его чувствительностью и даром предвидения. Эхнатон был выдающимся теологом. Он благословил меня словами, которые позже завоевали сердце каждого:
— Я люблю тебя, Мери-Ра. Не отказывай мне в своей любви.
Его любовь проникла в мое сердце и охватила душу. Часто он звал меня в свое убежище, расположенное с западной стороны дворца, на берегу Нила. Это был навес на четырех колоннах, окруженный лотосами и пальмами. Вместо пола там была густая трава, а в середине лежала зеленая циновка с подушкой. Эхнатон просыпался рано утром, еще в темноте. Когда за полями вставало солнце, он пел гимн Атону. Эхо его нежного голоса до сих пор звучит у меня в ушах и опьяняет, как запах ладана:
О Атон, вершина неба,
Животворящий Бог,
Когда твои лучи появляются на востоке,
Мир становится праздником света.
О Атон, животворное Солнце,
Сияющее в небе,
Твой свет объединяет два царства
[146]И все, что ты создал.
Ты далеко от нас, но твои лучи
Здесь, на земле.
Когда вставало солнце, мы ощущали блаженство и начинали бродить по саду.
— Нет радости более чистой, чем радость молитвы. — Его лицо сияло. Но даже тогда жизнь Эхнатона не была легкой. Провал попытки освоить военное дело огорчил его. — Мери-Ра, отец не откажется от мысли сделать из меня воина, — однажды пожаловался царевич. Потом он посмотрел в зеркало в золоченой раме и вздохнул. — Увы! Ни красоты, ни силы.
Смерть старшего брата Тутмоса оставила неизгладимый шрам на его душе. Только еще более глубокая рана — смерть любимой дочери Макетатон — смягчила боль от потери, перенесенной в детстве. Он горько оплакивал брата. Смерть была страшной тайной, не дававшей ему покоя.
— Что такое смерть, Мери-Ра? — спрашивал он. Я молчал, избегая банальных ответов, которые он презирал. — Даже Эйе не знает, — продолжал Эхнатон. — После своего ухода возвращается только солнце. А Тутмос не вернется никогда.
Такова была вечная война, которую он вел со слабостью и горем. Эхнатон выбрал дорогу такую же прямую, как солнечные лучи, каждое утро сулящие погожий день. В одно прекрасное утро я встретил царевича на его обычном месте. Эхнатон побледнел, но в его остановившемся взгляде не было страха.
— Солнце — это ничто, Мери-Ра, — не ответив на мое приветствие, сказал он. Я не понял, что он имел в виду. Он притянул меня к себе на циновку и продолжил: — Слушай меня внимательно, Мери-Ра, ибо я говорю правду. Вчера вечером со мной произошло чудо. Моим спутником была темная ночь, ласковая, как любящая невеста. Я изнывал от желания увидеть Создателя. И вдруг ощутил тысячи видений. Мне открылась правда, куда более явная, чем то, что видит глаз. Я услышал голос нежнее запаха цветов, сказавший: «Наполни свою душу моим дыханием. Отвергни то, что дал тебе не я. Я — Создатель. Я — источник, из которого струится жизнь. Я — любовь, мир и радость. Наполни свое сердце моей любовью и утоли жажду всех страдающих душ на земле».
Его лицо сияло от экстаза.
— Не бойся правды, Мери-Ра, — продолжил он, — потому что в правде ты найдешь счастье.
Я затаил дыхание, а потом пробормотал:
— Какой ослепительный свет…
— Пойдем. Живи со мной в правде. — Он потянул меня за руку.
— Я буду с тобой, мой царевич. До самого конца.
Эхнатон стал первым жрецом Единственного и Единосущего Бога. Он стал моим учителем и духовным пастырем, отвечавшим на мои вопросы раньше, чем я успевал их задать. Однажды я сказал:
— Я верю в твоего Бога.
— Радуйся! — воскликнул он. — Ты будешь первым жрецом в его храме!
Эхнатон рассказал о своей новой вере нескольким близким друзьям. Когда он женился на Нефертити — а их брак был счастливым, — его больше всего радовало, что она тоже поверила в Единственного и Единосущего. Отвергать других богов он стал позже. Во время правления отца Эхнатон не мог делать то, что ему нравилось. Став царем, он перешел к решительным действиям. Сначала он отрекся от всех богов, потом запретил поклоняться им, закрыл храмы и раздал их имущество беднякам. При Эхнатоне я стал верховным жрецом Единственного Бога. Когда мой государь решил закрыть храмы, я предупредил его:
— Ты бросаешь вызов силе, которая пережила века и распространилась по всей стране — от Нубии
[147] до моря.
— Все жрецы — мошенники, — уверенно ответил он. — Они распространяют суеверия, морочат голову беднякам и лишают их последнего куска хлеба. Их храмы превратились в бордели, в которых не осталось ничего святого, кроме их плотских желаний.
Позже я открыл, что в слабом теле Эхнатона скрывалась сила, о которой никто и не догадывался. Его смелость превосходила смелость Хоремхеба и Мея, слывших храбрецами. Для всех остальных он был загадкой, но для меня был ясен как солнце. Он истово любил своего Бога и целиком отдавался служению Единственному и Единосущему, не думая о последствиях. В проповедях, которые он читал во время незабываемого путешествия по империи, для меня не было ничего удивительного. Не удивлялся я и тому, что он хранил верность своему девизу «любовь и мир» даже в чрезвычайных обстоятельствах. Он обитал в безбрежной империи Бога и подчинялся Его приказам. Для Эхнатона мудрость политиков и сила военных не имели значения. Его интересовала только правда. Его обвиняли в том, что он живет в мире иллюзий, и называли безумным.
Однако правда состояла в том, что в испорченном, иллюзорном мире жили они сами; эти люди были толпой бесноватых. На самом деле престол заботил его меньше всего на свете. Я помню, в какой ужас пришел царевич, когда после смерти отца его вызвали на коронацию.
— Разве обязанности фараона не будут держать меня вдали от моего Бога? — мрачно спросил он.
— Мой государь, — с жаром ответил я, — небу угодно, чтобы царская власть сделала для Единственного то же что ваши пращуры делали для своих фальшивых богов.
— Ты говоришь правду, Мери-Ра. — Казалось, на душе у него полегчало. — Они приносили в жертву своим богам бедных крестьян. Я буду сражать зло и приносить его в жертву моему Богу. Стану орудием в Его руках, чтобы разрывать оковы тех, у кого нет силы.
Эхнатон взошел на трон, чтобы начать самую яростную из войн. Он сражался за счастье людей, как повелел ему его Бог. И во время этой войны превзошел в силе и стойкости самого Тутмоса III.
Когда он рассказывал о своей религии в номах, люди радовались. Они встречали его с любовью и цветами.
Он каждый день укреплял веру людей, особенно самых близких. Они выстраивались перед троном, и когда Эхнатон заканчивал обсуждать с Нефертити государственные дела, он говорил с ними о религии, ибо был уверен, что они заслуживают Божьей благодати.
Какое-то время Мери-Ра молчал. Потом он испустил тяжелый вздох и продолжил:
— А потом на нас стала надвигаться одна черная туча за другой, гонимые ветрами ненависти, которые бушевали как внутри страны, так и за ее пределами. Каждый воспринимал несчастья в силу своей веры. Некоторые дрогнули, но моего государя это не напугало.
— Бог меня не покинет, — говорил он. Однажды в храме Эхнатон насмешливо спросил: — Приближенные советуют мне умерить пыл, а мой Бог велит укреплять веру. Кого я должен слушать, Мери-Ра? — Вопрос был чисто риторический.
Когда дела пошли совсем плохо, в храм пришел Хоремхеб.
— Мери-Ра, ты верховный жрец Единственного и ближайший друг царя, — сказал он.
— Это всего лишь дар Бога ничтожнейшему из слуг фараона, — ответил я, гадая, что привело его ко мне.
— Ситуация требует смены политики, — начал он.
Я решительно ответил:
— Внимай только Божьему гласу.
Он нахмурился.
— Я надеялся на деловой разговор.
— Вести деловые разговоры способны лишь искренне верующие, — отрезал я.
Узнав о решении приближенных Эхнатона покинуть царя под предлогом защиты его жизни, я сказал Эйе:
— Я не могу одобрить возвращение к язычникам.
Мой государь отказался пойти на компромисс. Нельзя сказать, что Эхнатона не заботило благополучие страны; у него тоже был свой план, позволявший избежать гражданской войны. Он собирался выступить перед народом и мятежниками в одиночку. Царь не сомневался, что сможет заново обратить людей в свою веру. Но к тому времени приближенных Эхнатона успели убедить, что его собираются убить, а если они не согласятся уйти, то скоро заплатят за это собственной жизнью. Все бросили его. За мной пришли вооруженные воины. Стражам, оставшимся с Эхнатоном, было приказано остановить царя, если он попытается выйти из дворца. Так они помешали ему обратиться к народу. От него ушла даже Нефертити. Не могу представить себе, что она сделала это добровольно; думаю, ее тоже увели силой. Он очень переживал за веру, которую пытался растить в душах людей и потратил на это всю свою жизнь. Потом мы узнали, что он заболел, а сразу вслед за тем пришла весть о его смерти. Честно говоря, я сомневаюсь, что его смерть была вызвана болезнью. Думаю, что грязные руки жрецов Амона наконец добрались до его чистой, непорочной души. Он умер, так и не узнав, что я не хотел покидать его до последнего.
Мери-Ра снова умолк. Он долго смотрел на меня, а потом сказал:
— Эхнатон не умер и не умрет. Потому что он обрел вечную правду. Настанет день, когда он победит. Он слышал голос Бога, обещавший никогда не покидать его.
Мери-Ра протянул руку, открыл стоявший рядом шкафчик, достал лежавший там свиток папируса и протянул мне.
— Здесь записаны все его проповеди и гимны, — сказал он. — Изучи их, юноша. Может быть, твоя душа любителя правды найдет некоторое утешение в его словах. Ты бы не отправился в такой долгий путь без важной причины.
Мей
Чтобы встретиться с Меем, мне пришлось совершить поездку на окраину империи, в Рано-Колбура, где стояли палатки его Пограничной армии. При Эхнатоне он командовал вооруженными силами страны и в новую эру по праву сохранил свой пост. Это был пожилой человек огромного роста, с суровым лицом. Он показался мне довольно тщеславным. Прочитав отцовское письмо, Мей обрадовался возможности поговорить. Думаю, я дал ему возможность излить свои чувства, редкую в этой отдаленной местности.
— Еретик! Подлый простолюдин, извращенность которого заставляла опускать глаза первых вельмож страны! Армейские барабаны умолкли, торжественные знамена были опущены; с трона фараонов доносились звуки музыки. Я, командующий вооруженными силами, был вынужден прозябать в праздности в то время, когда империю рвали на части. Наши верные друзья и союзники молили о помощи, а я не мог и пальцем пошевелить. Так продолжалось до тех пор, пока их крики не растаяли в воздухе. Потому что при Эхнатоне армия потеряла боевой дух. Мы стали предметом насмешек и легкой жертвой для бандитов.
К счастью, я никогда не относился к числу его близких друзей. Но долг службы требовал, чтобы я время от времени ездил в Ахетатон. При этом я неизменно спрашивал себя, как этому извращенцу удалось обмануть таких людей, как Эйе, Хоремхеб и Нахт. Я всегда чтил богов и традиции своей страны и пришел в неистовый гнев, когда впервые услышал о его пресловутом новом боге. Когда Эхнатон приказал закрыть храмы, я был уверен, что на всех нас падет страшное проклятие. Однажды мне пришлось приехать в Фивы. Вечером меня посетил верховный жрец.
— Надеюсь, мой визит не смутил тебя, — сказал он.
— Для меня это большая честь. Мой дворец к твоим услугам. — Моя прямота заставила его опешить.
Жрец поблагодарил меня, а потом сказал:
— Ты спасен, Мей. Понимаешь, люди лишились своего единственного утешения. Они привыкли искать убежища у богов, приносить им жертвы и получать их благословение. В трудную минуту они торопились к жрецам, которые были их поводырями как на этом, так и на том свете. А посмотри на этих бедняг сейчас. Они похожи на заблудившихся овец.
— Что толку в жалобах? — с досадой сказал я. — Разве наш долг не заключается в том, чтобы избавить страну от его безумия?
— Если мы поступим так, как ты советуешь, начнется страшная война, — после недолгого раздумья ответил жрец.
— Значит, решения нет?
— Есть. Нужно убедить его приближенных.
— И надеяться нечего.
— Мы прибегнем к крайним мерам только тогда, когда у нас не останется выбора.
— Если понадобится помощь военных, я вам ее гарантирую, — сказал я.
Убедить людей из ближайшего окружения Эхнатона все же удалось, но на это ушло больше времени, чем мы рассчитывали. Стране уже начинала грозить гражданская война. Оставалось только одно: спасти то, что оказалось под руинами.
Люди спрашивали себя, почему светлый сон превратился в кошмар. Лично я считаю, что это было неизбежно. Все объясняется слабостью еретика, как телесной, так и умственной. Царица баловала сына и прятала его от всех. Когда же царевич смог сравнить себя с такими умными и талантливыми сверстниками, как Хоремхеб, Нахт и Бек, это возбудило его ревность. Контраст был разительный. Он таил свой позор под вуалью женственной мягкости и нежности, но в глубине души мечтал уничтожить всех, кто сильнее его, будь то бог или жрец, и стать единственной силой в стране. Некоторые люди видели его душевную слабость и пользовались ею в собственных корыстных целях. Они быстро приняли его религию — не из страха перед его властью или веры в его бога, но исключительно из алчности. Его слабость поощряла жадных и честолюбивых. Они пели с ним в храмах, а потом выходили и отнимали у бедняков последнее. Когда люди начали бунтовать, он обращался к ним с проповедями любви, вместо того чтобы послать войска. Эти продажные твари покинули своего недоумка только тогда, когда им самим начала грозить смерть. Они бросили
фараона и присоединились к его врагам, нагруженные добычей. Именно поэтому я и возражал, когда верховный жрец Амона предложил поторговаться с ними.
— Не нужно предупреждать их, — сказал я. — Не езди в Ахетатон. Позволь моим воинам захватить их врасплох, уничтожить и восстановить справедливость.
Тото с жаром поддерживал меня, но верховный жрец выступал за мирные переговоры и возражал против кровопролития.
— Наши потери и так слишком велики, — говорил он. — Нам не нужны лишние сложности.
Я понимал его мотивы. Он не давал мне согласия на штурм, боясь, что в случае победы я стану защитником отечества и получу право претендовать на трон. Тогда бы ему пришлось иметь дело с сильным царем и действовать только в указанных мной рамках. Поэтому он решил доверить престол юному Тутанхамону. Теперь все они кружат над троном как стервятники — верховный жрец, Эйе и Хоремхеб. И все же ныне Египет находится в куда лучшем положении, чем при еретике. Эхнатона оставили умирать в тоске и одиночестве. Что же касается Нефертити, то она ждет своего конца в руинах языческого города.
Молчание Мея означало, что рассказ окончен.
— Главнокомандующий, кстати, о Нефертити. Мне хотелось бы узнать о ней больше, — сказал я.
Он презрительно махнул рукой.
— Красивая женщина, родившаяся шлюхой. У нее была одна цель — сесть на трон и получить возможность заняться своим любимым делом: соблазнять мужчин. Не верь разговорам о том, что она была толковой царицей. Будь это правдой, при ее правлении страна не рухнула бы в яму продажности и разрухи. Она тоже бросила Эхнатона в последнюю минуту, когда он лишился той крошечной власти, которая у него еще оставалась. Но Нефертити опоздала и не сумела вовремя забраться на другой корабль.
Махо
Махо я посетил в его деревне, расположенной к югу от Фив. При Эхнатоне он был начальником полиции Ахетатона, а теперь зарабатывал себе на жизнь крестьянским трудом. Когда я встретился с Махо, ему было сорок лет. У него была хорошая фигура, грубые черты лица и грустные глаза. Закончив читать письмо моего отца, он закинул руки за голову и некоторое время оставался в такой позе, собираясь с воспоминаниями.
— Когда Эхнатон покинул наш мир, родник радости пересох, — начал он. — О Египет, да простят тебя боги!
Эхнатон впервые обратился ко мне, когда я был простым дворцовым стражем. Человеку моего положения о беседе с царевичем и мечтать не приходилось. Я часто видел его в саду издалека. Однажды утром он с любопытством подошел к моему посту, словно впервые заметил мое существование. Я окаменел. Он смотрел на меня до тех пор, пока я не восстановил дыхание и по моим жилам вновь не побежала кровь.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Махо.
— Откуда ты родом?
— Из деревни Фина.
— Чем занимается твоя семья?
— Сельским хозяйством.
— А почему Хоремхеб взял тебя в стражи?
— Не знаю.
— Он берет к себе только смелых. — Мое сердце сжалось от счастья, но я промолчал. — Я вижу, ты честный человек, Махо. — Я едва сдержал радость. — Ты примешь мою дружбу? — спросил он.
— Я не заслуживаю такой чести, — выдавил я, пытаясь справиться с потрясением.
— Мы будем часто встречаться, друг мой.
Ты не поверишь, но именно такой была моя первая встреча с царевичем. Именно так он отбирал людей. Мы обменивались короткими репликами, когда Эхнатон видел меня в дворцовом саду. Я следил за его жизнью издалека. Сначала я слышал о том, что он почитает Атона, а потом узнал о Единственном и Единосущем. Я часто слышал, как он пел прекрасные гимны своему Богу. Мое сердце полностью открылось ему. Вышло так, что его любовь стала чарами, навеки приковавшими меня к этому человеку. Признаюсь, я плохо понимал то, что он говорил. Меня долго смущал этот его таинственный невидимый бог, который любит людей и не наказывает их. Я не прекращал верить в Амона, но из любви к Эхнатону верил и в другого бога тоже. Он был самым жалостливым человеком на свете. Не причинял вреда ни людям, ни животным, никогда не пачкал руки кровью и никого не осуждал. Даже закоренелых преступников. Унаследовав трон после смерти отца, он вызвал меня и сказал:
— Махо, я не собираюсь заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Ты будешь получать свое жалованье в любом случае. Ты согласен присягнуть, что веришь в Единственного и Единосущего?
— Да, мой государь. Я готов принять за Него смерть, — тут же ответил я.
— Ты станешь начальником полиции, — спокойно сказал он, — и никто не будет требовать, чтобы ты отдал за Него жизнь.
Я был готов сражаться со жрецами, хотя меня с детства учили любить и почитать их. Но за все время работы в полиции Эхнатона я ни с кем не сражался. За исключением одного раза. Но и тогда я сделал это без разрешения царя.
— Отныне, — сказал он мне в день моего назначения, — оружие для тебя — всего лишь украшение. Исправляй людей любовью, как я тебя учил. Помни: что нельзя вылечить любовью, страхом не вылечишь.
Когда мы ловили вора, то просто возвращали людям украденное. Потом отправляли его работать на плантации и учили словам мира и любви. Пойманных убийц мы отправляли на рудники. Но и там в свободное время они изучали новую религию. Нас много раз обманывали, наказывая за щедрость, но Эхнатон не огорчался.
— Скоро вы увидите, как дерево любви начнет приносить плоды, — упрямо повторял он.
Эхнатон начинал день с посещения храма, где он в одиночестве молился и пел свои гимны. Потом он общался с людьми, стоя на террасе своего дворца. Они с Нефертити ездили по Ахетатону в царских носилках без всякого сопровождения. Иногда выходили из носилок, чтобы приветствовать людей, собравшихся вокруг. Старых традиций, отделявших фараонов от простого народа, больше не существовало. Где бы ни оказалась царская чета, она всех призывала к любви и почитанию Единственного и Единосущего Бога.
Однажды утром молодой подчиненный доложил мне:
— Я слышал, как приближенные царя подозрительно шептались друг с другом.
Это было началом конца. Чиновники брали взятки, крестьяне страдали, а вся империя была охвачена мятежами. Обман и злоба текли рекой, как воды Нила. Я боялся, что царь впадет в уныние, но препятствия только укрепляли его убежденность и решимость. Он был уверен в победе. Никогда не сомневался в том, что любовь преодолеет все. «Тьма сгущается перед рассветом», — говорил он. В эти мрачные дни жрецы подослали к царю убийцу. Он прятался в кустах неподалеку от беседки Эхнатона и преуспел бы, не всади я ему в грудь стрелу. Только тогда царь понял, какая опасность ему грозила. Он помрачнел и долго смотрел в лицо убийце, испускавшему последний вздох.
— Ты выполнил свой долг, Махо, — наконец неохотно сказал он.
— Ради спасения моего государя я бы пожертвовал жизнью, — ответил я.
— А ты не мог взять его живьем? — тем же тоном спросил он.
— Нет, мой государь, — честно ответил я.
Он грустно промолвил:
— Жрецы сговорились совершить гнусное преступление. Они потерпели неудачу, но мы тоже опустились до зла.
— Иногда в борьбе со злом нельзя обойтись без меча, — ответил я.
— Именно так они и говорили со времен Менеса
[148], объединившего два царства. Но удалось ли им одолеть зло? — Тут царя посетило вдохновение, и он воскликнул: — Придет время, когда восток и запад будут залиты светом одновременно!
Но это время так и не пришло. Наоборот, становилось все хуже и хуже. Окружавшие его люди проявили свою истинную суть и отпали, как сухие листья под осенним ветром. В них не было ни веры, ни преданности. Они лгали и лицемерили до последней минуты, а потом бросили царя, притворившись, что таким образом спасают ему жизнь.
Я вернулся в Фивы с сердечной болью, которая не оставляет меня и по сей день. Меня уволили со службы, как многих других, преданных фараону, после чего я вернулся в свою деревню оплакивать Эхнатона. Сначала мне сообщили, что царя держат в его дворце как в тюрьме, а потом — что он заболел и умер. Я был уверен, что они убили его.
Почему прекрасный сон закончился так быстро? Почему Бог отступился от него? Какой прок жить, если Эхнатон оставил нас?
Махо дал волю скорби и надолго умолк. Я тоже молчал, уважая его чувства, но потом все же спросил:
— Как бы вы описали Эхнатона двумя словами? — Казалось, мой вопрос его удивил.
— Он был сама мягкость и доброта. Это следует из того, что я рассказал. Добавить мне нечего.
— А Нефертити?
— Она была сочетанием красоты и ума.
После небольшой паузы я подсказал:
— О ней многое болтали…
— Скажу как бывший начальник полиции: ни в каких грехах она замечена не была. Правда, на нее бросали похотливые взгляды Хоремхеб, Нахт и Мей. Но могу заверить, что она никого не поощряла. Эти люди должны были знать свое место.
— Как по-вашему, почему она его оставила?
Он огорченно развел руками.
— Это тайна, которую я так и не смог постичь.
— Мне кажется, что вы потеряли веру в бога своего царя.
— Я потерял веру во всех богов вообще.
Нахт
Нахт принадлежал к старинному знатному роду. Ему было немного за сорок; рост у него был средний, а кожа светлая, с розоватым оттенком. Он поразительно владел собой намного лучше, чем те, с кем я уже встречался. При Эхнатоне он был хранителем царской казны, в новую эру не занял никакого поста, но время от времени его вызывали в Фивы для консультаций. Я встретился с Нахтом на его родине, в номе Декма, расположенном в Средней Дельте. Он приветствовал меня, напомнив о старом родстве наших семей, а потом приступил к рассказу. Я пропускаю то, что уже знал.
— Признаюсь, я человек невезучий. Не сумел воспользоваться выгодами своего положения. Не только потерял все шансы взойти на престол, но и собственными глазами видел крах империи. Я ушел из политики и общественной жизни, но всегда буду жалеть об этом. Часто я спрашиваю себя: «Что собой представлял мой царь Эхнатон?» Или лучше сказать «еретик», как его называют сейчас?
Я был одним из его друзей детства, как Хоремхеб и Бек. Я мог бы долго говорить о его необычно женственной внешности, его тщедушном теле и странной наружности. Но все это не мешало нам любить его и восхищаться его умом и зрелостью не по годам.
Конечно, у Эхнатона были недостатки. Я первым открыл его самый большой изъян — полное отсутствие интереса к государственным делам. Они наводили на него скуку. Он насмешливо наблюдал за тем, как его отец соблюдал распорядок дня, предусмотренный традициями, на которых держался престол: вставал в один и тот же час, принимал ванну, ел, молился, совещался со своими приближенными, а затем посещал храм.
— Это настоящее рабство, — говорил Эхнатон. Он относился к традициям как испорченный ребенок, который развлекается, ломая дорогие вещи. Но когда речь заходила о жизни, смерти и таинственных силах вселенной, тут он был в своей стихии. Еще больший интерес он стал проявлять к этим вопросам после смерти своего брата Тутмоса. Он безмерно страдал от этой потери и решил объявить беспощадную войну любому страданию. Пылкое воображение помогло ему, но в конце концов привело к катастрофе. Наверно, у всех нас были фантастические видения, но мы знали, что это всего лишь игра воображения. Однако Эхнатон хотел воплотить свои фантазии в действительность в результате его объявили идиотом и сумасшедшим. Но он не был ни тем ни другим, хотя назвать его нормальным тоже было нельзя.
Он стал бременем для отца и жрецов Амона с самого раннего возраста. А для нас он был загадкой. Сначала он сомневался в превосходстве Амона над другими богами, потом стал почитателем Атона, а закончил тем, что придумал бога, который был единственной творческой силой во вселенной. Все это было выше нашего понимания. Я не сомневался в его искренности, но был уверен, что он ошибается. Эхнатон никогда не лгал, но голоса бога он не слышал. Это говорила его собственная душа. Если бы о своем видении заявил жрец, это было бы еще туда-сюда, но наследнику египетского трона такое не пристало. Царевич начал рассказывать людям о том, что ему явился бог любви, мира и радости. Во время правления отца Эхнатон был бессилен, но он заранее решил, что при первой возможности упразднит всех традиционных богов и их храмы. Когда он стал царем, мечта наложилась на действительность. Жизненное равновесие было нарушено. И это закончилось трагедией. Заняв трон, он предложил нам принять его новую религию. Я считал, что нам следует отклонить это предложение.
— Возможно, если он останется в одиночестве, то откажется от своей затеи, — говорил я Хоремхебу.
— Боюсь, тогда он найдет других людей, у которых не будет ни знаний, ни опыта, ни моральных принципов, и они доведут страну до краха.
— Но разве то же самое не сможет случиться при нас?
Хоремхеб саркастически улыбнулся.
— Он слишком слаб, чтобы не считаться с нашим мнением. — Потом он пожал плечами и пробормотал: — У него нет ничего, кроме слов, а у нас есть сила.
Так я и присягнул его богу. Эхнатон назначил меня хранителем царской казны, и мои страхи улеглись. Я каждый день встречался с ним и в Фивах, и в Ахетатоне для обсуждения дел, связанных с управлением страной, финансами, безопасностью и снабжением водой. Пока мы разговаривали с царицей, он молчал. Политические таланты Нефертити превосходили всякое воображение; страной правила именно она. Что же касается царя, то он занимался только своим богом, своими проповедями и давал лишь те указания которые касались его религии. Кода Эхнатон решил запретить традиционные культы, я предупредил его о последствиях.
— Твоя вера все еще слаба, Нахт, — с укоризной ответил он.
Мы вместе вышли на террасу и предстали перед толпой, которая собралась внизу. Эхнатон умел влиять на души своих подданных. Он объявил о своем решении с пугающей решимостью. Оно было встречено криками одобрения. Я почувствовал себя пигмеем; казалось, это тщедушное создание, стоявшее рядом со мной, обладало таинственной силой, которой раньше у него не было. Несмотря на весь свой ум, Нефертити подчинялась мужу и слушала его проповеди с таким восторгом, словно они были ее собственными. Ее позиция удивляла меня. «Эта женщина либо его духовный спутник, — думал я, — либо самое коварное создание, которое когда-либо видел мир». Думаю, уверенность Эхнатона в себе объяснялась тем, что ему с самого начала никто не смел возражать, кроме меня. Хоремхеб не говорил ни слова против, пока кризис не достиг своего пика. А что касается Эйе, то он притворялся благочестивым и преданным новому богу. Если бы я хотел кого-то обвинить в обмане и злом умысле, то первым назвал бы его имя. Эйе придумал план захвата трона Египта. Будучи учителем наследника престола, он хорошо знал слабости Эхнатона. Именно Эйе подтолкнул царевича к Атону и подкинул ему идею Единственного Бога. Брак Эхнатона и Нефертити тоже был частью его плана, хотя Эйе догадывался, что царевич — импотент. Так он стал тестем и советником царя; весь Египет называл его не иначе как Мудрецом. Именно он подал Эхнатону мысль запретить традиционных богов и конфисковать их храмы; это должно было посеять семена раздора между царем и жрецами. Он надеялся, что в результате этой борьбы Эхнатон либо отречется от престола, либо будет убит. Эйе хорошо знал свои козыри, которые позволяли ему претендовать на трон. Он был тестем царя и мудрецом Египта. Но он стар — следовательно, его правление будет недолгим. Он не представит угрозы для тех, кто сам мечтает о троне. Возможно, он даже собирался жениться на собственной дочери, чтобы закрепить престолонаследие и позволить ей оставаться египетской царицей. Ты должен понять, что это мнение основано не только на на впечатлениях. Мои люди, заслуживающие доверия, предоставили мне неоспоримые доказательства. Но его план провалился. Эйе не учел две вещи. Во-первых, верность народа своему фараону. А во-вторых, то, что в критический момент жрецы сделают царем Тутанхамона. Но я уверен, что Эйе еще не отказался от своей старой мечты.
Поделиться этими мыслями мне было не с кем, но я продолжал давать советы царю.
— Мой государь, — сказал я, — несомненно, истинным является только ваш Бог. Но вы должны позволить людям поклоняться их собственным богам. Постройте храм Единственного Создателя в каждом номе, и Он сам одержит окончательную победу. Пожалуйста, избавьте страну от лишних волнений.
Но было легче сдвинуть с места пирамиду, чем упершегося Эхнатона.
— Твоя вера еще слаба, Нахт, — только и сказал он.
— Любовь и мир не лишают человека права защищать собственную веру, — не отступал я.
— Даже самые порочные люди подчинятся власти любви, ибо любовь сильнее меча.
Когда тучи сгустились, я тайно встретился с верховным жрецом Амона и командующим армией Меем.
— Мы должны действовать, пока не потеряли остатков чести. — Они посмотрели на меня с любопытством, и я продолжил: — Пусть жрецы перестанут сеять раздор. Тогда Мей сможет повести войска на защиту империи.
— Без приказа фараона? — спросил Мей.
— Да, — спокойно ответил я.
Но самым крепким из нас троих оказался верховный жрец. Он спросил:
— А что потом?
— Когда Мей одержит победу, царь будет вынужден объявить свободу вероисповедания.
— Возражаю, — сказал верховный жрец. — Это плохой план. Если Мей прикажет войскам выступить в поход без повеления фараона, командиры отрядов могут поднять против него бунт. — Потом жрец нахмурился; его лицо побагровело. — Нахт, ты предан не нам, а своему царю. Должно быть, ты узнал о наших успехах в номах и решил помешать им своим безумным предложением.
Разгневанный этим обвинением, я ушел. Теперь я не сомневался, что в этом деле каждый преследовал свою цель. Египет оказался в руках мерзавцев. Они все виновны в крахе страны — и сторонники царя, и его враги. Наверно, Эхнатон был последним, кого следовало осуждать. Они использовали его для собственной выгоды. Когда царь стал бесполезен, они решили сместить его и захватить трон. По натуре он был доверчив, а потому верил их лжи. Но потом в нем проявилась сила, которой никто не ожидал, и на время смела их, пока не разбилась о скалу реальности. Тогда каждый бросился к спасательному плоту, оставив свою боговдохновенную жертву тонуть в одиночку и гадать, почему от нее отступился ее бог. Они сбросили маски и обнажили свои подлинные лица; при этом самыми уродливыми оказались лица Нефертити и ее отца Эйе. Каждый из них выбрал свой путь, но никто не получил по заслугам. За исключением бедного еретика и, может быть, Нефертити, фальшивого покаяния которой не приняли жрецы. Что же касается Египта, то раны, нанесенные ему нашими грубыми ошибками, кровоточат до сих пор.
Бывший царский казначей долго молчал, а потом печально пробормотал:
— Это история невинности, обмана и бесконечного горя.
Бенто
Бенто был личным врачом Эхнатона. Когда я встретился с ним, он продолжал исполнять обязанности личного врача фараона во дворце Тутанхамона. Этому человеку благородной внешности с явными следами нубийского происхождения было шестьдесят лет. Подходя к его прекрасному дворцу в центре Фив, я ожидал увидеть впавшего в маразм старика с тихим голосом, но он оказался очень бодрым и энергичным. Его одежда говорила о безупречном вкусе. Бенто собрался с мыслями и приступил к рассказу.
Сегодня Эхнатона называют не иначе как «этот еретик». Но что бы о нем ни говорили, при одном звуке его имени моя душа вновь наполняется любовью. Каким человеком он себя сделал! Неужели Эхнатон действительно жил среди нас? Неужели действительно посвятил свою жизнь любви? Если так, то почему он оставил после себя столько злобы и ненависти? Когда я думаю о нем, то вспоминаю, сколько волнений он причинял всем в детстве. Великая царица часто спрашивала меня:
— Бенто, почему Эхнатон такой хрупкий?
Я помню, что терялся в поисках ответа. Никакой конкретной болезнью он не страдал, но был слабым и худеньким. В отличие от своего брата Тутмоса, он становился жертвой любой хвори. Не любил физических упражнений и страдал отсутствием аппетита. Часто я молился покровителю врачей Тоту
[149] и просил дать мне совет, как быть с Эхнатоном. Но все мои попытки оказывались тщетными. Амулеты Тота на него никакого влияния не оказывали, а травы, освященные самой Исидой
[150], не приносили пользы его щуплому телу. Когда задул хамсин
[151], Эхнатон заболел и заразил своего брата. Я очень боялся за них обоих. Они лежали в одной комнате. Царица сказала мне:
— Посмотри, Бенто, у них желтые лица, а животы как каменные. Никто из них не облегчался уже несколько дней.
Я тщательно осмотрел их.
— У них жар и вздутие живота. Дайте им питье, очищающее внутренности. Потом добавьте в солодовую закваску немного муки и оставьте смесь на ночь. В течение четырех дней это будет их единственной едой.
Не прошло и четырех дней, как крепкий Тутмос умер, а его слабенький брат выжил. Эхнатон бродил по дворцу, горевал и искал брата.
— Ты дал Тутмосу умереть, — сказал он, увидев меня. Потом посмотрел на своего отца и продолжил: — Когда я стану фараоном, то убью смерть.
— Может быть, однажды Тутмос вернется? — спросил он меня в другой раз.
— Эхнатон, благодари богов, которые не забрали твою душу, ибо мертвые не возвращаются. Все мы умрем в свое время, — ответил я.
— Почему? — не отставал он.
— Эхнатон, — мягко сказал я, — вспомни песню которую ты пел со своим братом:
Любимые уходят от нас,
Оставляя на память одни слова.
Скорбящие, не плачьте понапрасну,
Ибо Осирис глух к мольбам
И просьбам вернуть ушедшего.
Грусть долго была его единственным товарищем; мне казалось, что царевич оплакивал брата сильнее, чем его мать. Однажды во время лечения он сказал:
— К чему наши усилия, если мы все равно умрем? — улыбнулся и продолжил свое дело. Он сказал: — Ты улыбаешься так, словно сам бессмертен.
Чтобы отвязаться от него, я ответил:
— Спроси своего наставника Эйе.
— Эйе знает не больше твоего, — мрачно ответил он.
Зрелость ума этого тщедушного мальчика произвела на меня сильное впечатление. Я внимательно следил за ростом его духа и восхищался. Мало кто знал, что у Эхнатона было одно потрясающее свойство: он умел преодолевать любое препятствие на своем пути. Физическую слабость он компенсировал необычайным упорством. Он почти не спал. Постоянно молился как жрец и читал как мудрец. Без устали задавал вопросы или вел философские диспуты. Я часто гадал, что готовит судьба ребенку, который однажды сядет на трон своих предков. Его отец, царь Аменхотеп III, так переживал, что однажды признался мне:
— Этот мальчик достоин чего угодно, только не трона.
Однажды я заметил, что он сердито смотрит на отца.
— Ты развит не по годам, — сказал я ему, — но пока не в состоянии понять величие твоего отца.
Он с досадой ответил:
— Я не могу видеть, как он жрет!
Ему внушали отвращение люди, испытывавшие плотские желания. Я привык считать, что здоровый дух может жить только в здоровом теле, но Эхнатон доказал, что верно и обратное. Он научил меня тому, что душа может вдохнуть в слабое тело силу, которая находится за гранью его физических возможностей.
— Ты уделяешь такое внимание телу, что складывается впечатление, будто ничего другого у человека нет, — говорил он. — Тело — всего лишь скорлупа, греховная и несовершенная. Оно может упасть и разбиться после единственного укуса насекомого. Но душа бессмертна. — А потом он воскликнул так, словно начисто забыл о моем существовании: — Не знаю, чего именно я хочу, но знаю, что изнываю от желания. О, как мучительна эта долгая ночь!
Он молча сидел в темноте, дожидаясь рассвета, а когда тот наступал, сиял от счастья. Так продолжалось до тех пор, пока он не услышал голос Единственного Бога, прозвучавший с первыми лучами солнца. Тогда я понял, что Эхнатон — не нежный весенний ветерок, а зимняя буря. С тех пор Фивы не знали покоя.
Меня вызвали царь с царицей.
— Бенто, что значит этот голос, который он слышал? — спросила Тийя.
Я развел руками.
— Государыня, наверно, мудрец Эйе сумеет лучше ответить на ваш вопрос.
— Царица спрашивает тебя как врача, — сурово промолвил фараон.
— Ваше величество, умственно он абсолютно здоров, — чистосердечно ответил я.
— Значит, он издевается над нами?
— Это самый серьезный человек на свете.
— Выходит, объяснения у тебя нет?
— Вы правы, ваше величество.
— Значит, по-твоему, он в своем уме? — нахмурившись, спросил царь.
— Да, ваше величество.
— Это мог быть голос какого-нибудь злого духа?
— Нужно растолковать его слова. Только они содержат ответ на ваш вопрос.
Он сердито воскликнул:
— Ответом будет буря, которая обрушится на нас, когда его дурацкие речи услышат жрецы!
Когда Эхнатон женился на Нефертити, все надеялись, что он умерит свой религиозный пыл и увидит окружающий мир в более реальном свете. Но его жена тоже оказалась жрицей. Они вместе шли по пути Единственного и Единосущего. Никакая сила на земле не могла остановить их. Аменхотеп III умер, и его место занял Эхнатон, общавшийся с Единственным Создателем. Мы знали, что в его царствование случится что-то очень важное, но боялись предсказывать, что это будет. Как и всем остальным, мне предложили выбор: либо принять его веру, либо покинуть дворец фараона. Я не мешкая присягнул его Богу. Мысль оказаться вдали от него была нестерпима. Кроме того, я действительно любил его Бога и втайне считал его главой богов. Но свою старую веру в других богов я сохранил, особенно в бога медицины Тота, талисманы которого использовал для лечения людских болезней. А потом появился новый город — Ахетатон, прекрасный город Единственного Бога. Мы переехали туда все вместе, радуясь и распевая торжественные гимны. Царь впал в транс; его лицо сияло от экстаза.
— О Всемогущий Бог, наконец-то мы, жалкие смертные, здесь, в твоем чистом городе! О Великий, мы входим в Твой дом, который никогда не знал иного божества, кроме Тебя!
Сначала мы были безмерно счастливы и желали быть бессмертными, чтобы жить в этом раю вечно. Каждый день я сравнивал услышанное в храме Единственного Бога с литургиями в честь старых богов и ритуалами «Книги Мертвых»
[152]. Сомнений больше не было: поток божественного света наполнял нас чистой радостью. Первый порыв холодного ветра мы ощутили, когда умерла всеми любимая царевна Макетатон.
— Бенто, спаси ее. Она — любовь всей моей жизни, — умолял Эхнатон.
Когда прекрасная царевна угасла, царь и царица пролили потоки слез. Он хулил своего Бога, пока Мери-Ра не сказал:
— Не гневи Единственного своими воплями.
Но после слов верховного жреца Эхнатон заплакал еще громче. Никто не знал, от чего — то ли от горя, то ли от чувства вины. Возможно, и от того и от другого.
— Это колдовство жрецов Амона! — кричала Нефертити. Она повторяла эти слова, когда рожала очередную дочь вместо наследника престола. Эхнатон переживал тоже.
— Бенто, — спрашивал он, — ты не можешь помочь нам родить сына?
— Я пытаюсь изо всех сил, ваше величество.
— Ты веришь в колдовство жрецов?
— Вообще-то их не стоит недооценивать, — неохотно ответил я.
Царь на мгновение задумался.
— Господь все преодолеет, и Его радость наполнит вселенную. Но мы, его смертные создания, никогда не избавимся от своих мелких скорбей, — мрачно сказал он. Вера помогала ему подниматься от горя к вершинам святой правды, где его душу заливал сияющий свет Бога.
Когда напряжение внутри Египта и на его границах дошло до предела, верховный жрец Амона тайно направил ко мне своего человека.
— Тебе можно доверить спасение страны от грозящего ей злого рока? — спросил посланец, предварительно напомнив мне о клятве, данной в храме Амона.
Сразу поняв, что верховный жрец хочет воспользоваться моим положением придворного врача, чтобы убить Эхнатона, я ответил:
— Моя профессия запрещает предательство.
Встретившись с начальником полиции Махо, я попросил его усилить меры безопасности.
В первую очередь следовало установить слежку за царскими поварами.
Какое-то время Бенто молчал, отдыхая от этих утомительных воспоминаний. Я вспоминал противоречивые отзывы о сексуальности Эхнатона, но сомневался, что Бенто упомянет о ней. Все же любопытство заставило меня задать этот вопрос.
— Тело и внешность Эхнатона имели и мужские, и женские черты, — сказал он. — Но как мужчина он был способен любить и производить потомство.
У меня чесался язык задать следующий вопрос. После минутного замешательства я собрал всю свою смелость и спросил:
— Вы слышали сплетню о его связи с собственной матерью?
Бенто нахмурился и сказал:
— Конечно, слышал. Но всегда отвергал ее как злобную клевету. — Явно взволнованный, он сделал паузу, а потом продолжил: — Эхнатон был особенным человеком. Слишком хорошим для нас. Он был духовидцем и сулил людям рай, несовместимый с человеческой природой. Презирал тупиц и вызывал у них суеверный страх. Поэтому они и набрасывались на него как звери.
Обрадовавшись его откровенности, я продолжил:
— А что вы думаете о Нефертити?
— Она была великой царицей, причем по праву.
— Как вы можете объяснить ее уход от Эхнатона?
— У меня есть только одно объяснение. Она не смогла вынести сыпавшихся на них ударов, почувствовала себя беспомощной и сбежала. — Затем он продолжил рассказ:
— Трагедия подошла к ужасному концу, когда приближенные Эхнатона решили покинуть его. Я попросил Хоремхеба позволить мне остаться с царем как его личному врачу. Он ответил, что жрецы пришлют фараону своего врача, который будет о нем заботиться. Но перед уходом разрешил мне осмотреть царя в последний раз. Я тут же поспешил во дворец. Там не было никого, кроме Эхнатона, нескольких рабов и стражей, приставленных к нему жрецами.
Как всегда, царь был один, молился и негромко пел:
О Прекрасный Бог Прекрасного,
Благодаря Твоей любви бьются сердца
И трепещут крылья птиц.
О Господь, Ты живешь в моей душе.
Никто не знает Тебя,
Кроме Твоего сына,
Эхнатона.
Закончив петь, он посмотрел на меня и улыбнулся. Я отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.
— Бенто, как тебе удалось пройти сюда? — спросил он.
— Хоремхеб дал мне разрешение осмотреть вас перед уходом.
— Я отлично себя чувствую, — спокойно сказал он.
— Они силой заставили уйти всех преданных вам людей, — голосом, дрожавшим от чувств, сказал я.
— Я знаю, кого заставили силой, а кто предпочел уйти сам. — Улыбка не сходила с его лица.
Я наклонился и поцеловал ему руку.
— Мне больно при мысли, что вы останетесь один.
— Я не один. Храни свою веру, Бенто, — не повышая голоса, сказал он. А потом с воодушевлением продолжил: — Они думают, что мы с моим Богом разбиты. Но Он никогда не предает и не мирится с поражением.
Я так плакал, что перед уходом из дворца у меня воспалились глаза. Я был уверен, что врач, которого они пришлют, убьет самую благородную душу, которая когда-либо жила в человеческом теле. После ухода из Ахетатона я испытывал только одно чувство — чувство бесконечного одиночества.
Нефертити
Мне позволили прибыть в Ахетатон только по личному разрешению начальника полиции Хоремхеба. Вдоль всего берега Нила на коротком расстоянии друг от друга стояли посты. От порта до северного квартала города, в котором находился дворец заключенной царицы, меня сопровождал воин. Переполнявшие меня чувства были чем-то средним между грустью и восхищением. Когда-то великолепные улицы Ахетатона исчезли под кучами пыли и листьев, облетевших с чахлых деревьев. Парадные двери дворцов были закрыты, как веки заплаканных глаз. Сами дворцы рухнули, ограды упали. В садах, потерявших листву, стояли остатки деревьев, высохшие, как мумии. В городе стояла гнетущая тишина. В центре были видны руины храма Единственного и Единосущего Бога, в котором прежде звучали мелодичные священные гимны.
Когда я добрался до дальнего угла северного квартала, миновал полдень. Дворец царицы, окруженный пышной зеленью и ухоженным садом, был виден издалека. При виде открытого окна, единственного во дворце, у меня заколотилось сердце. Стояла середина осени, и Нил еще не вернулся в свои берега. Его мутно-красная вода наполняла дворцовое озеро. При мысли о том, что я достиг конца своего путешествия, мое сердце забилось еще быстрее. Можно было подумать, что единственной целью моего расследования была встреча с этой женщиной, жившей в одиночестве.
Меня провели в изящную маленькую комнату, на стенах которой были выгравированы священные тексты. В середине комнаты стояло кресло из черного дерева с золотыми подлокотниками и ножками в форме львов.
Наконец я увидел ее. Ко мне грациозно приближалось видение в просторном белом платье. Она была прекрасна и изящна. Сорок лет горя и несчастий не согнули ее спину. Я подождал, пока она не села в кресло. Потом царица жестом велела мне подойти и сесть перед ней. Красоту ее безмятежных глаз подчеркивали усталые тени. Она сказала несколько теплых слов о моем отце, а потом горько спросила:
— Как тебе понравился город света?
Я понял, что не свожу с Нефертити глаз, околдованный ее внешностью. Смутившись, я опустил взгляд и ничего не ответил.
— Наверно, ты слышал немало выдумок о нас с Эхнатоном, — сказала она — Теперь ты сможешь услышать всю правду.
— Я всегда питала страсть к истинному знанию, которую поощрял мой отец Эйе. Моя настоящая мать умерла, когда мне был всего год. Но я не ощущала потери, потому что нашла в Тей добрую и любящую мать, а не мачеху. Детство у меня было счастливое и беззаботное. Даже после того как Тей родила мою сестру Мутнеджмет, ее чувства ко мне не изменились. Она была мудрой женщиной. Сначала мы с Мутнеджмет тоже любили друг друга. Но сестра во многих отношениях уступала мне, а потому со временем начала ревновать и злиться. Но это выяснилось намного позже. Тей относилась к нам одинаково — по крайней мере, с виду. Я была ей благодарна, и когда пришло время, присвоила Тей титул матери царицы, приравнивавший ее к царевнам. Однажды отец вернулся домой со святым человеком — одним из тех, которые обладают даром видеть будущее, и тот предсказал, какая судьба ждет нас с Мутнеджмет.
— Эти девушки будут сидеть на троне Египта, — сказал он.
— Обе? — с изумлением спросил мой отец.
— Обе — подтвердил предсказатель.
Конечно, святым людям следует верить, но его пророчество казалось нам странным.
— Наверно, одна из нас будет первой, а вторая займет ее место потом! — засмеялась я.
По какой-то непонятной причине мои слова Тей не понравились.
— Может быть, забудем это пророчество и предоставим будущее богам? — резко сказала она.
Мы пытались забыть. Но оно так часто отбрасывало на нас свою тень, что в конце концов дело приняло неожиданный оборот. Пророчество сбылось буквально у нас на глазах. Я впервые услышала об Эхнатоне от отца, когда его назначили наставником наследника престола. Во время семейных сборищ отец часто рассказывал о недетской мудрости и зрелости Эхнатона.
— Эхнатон — необычный человек, — однажды сказал он. — Он критикует жрецов, богов и не верит ни в одного бога, кроме Атона.
В отличие от матери и сестры, я была заинтригована и даже захвачена услышанным. Потому что я тоже любила Атона. На меня производило сильное впечатление то, что в его владения входили и небо, и земля, в то время как другие божества обитали только во мраке храмов.
— Отец, царевич прав, — невинно ответила я.
Матери с сестрой моя реплика не понравилась. А отец с улыбкой сказал:
— Нефертити, мы готовим тебя в жены, а не в жрицы. Не стану отрицать своей любви к материнству и другим земным радостям, но правда состоит в том, что я родилась для роли жрицы. Со временем отец рассказал нам о новом Боге, Единственном Создателе. Поднялся большой шум, и царевич стал предметом злых сплетен.
— Что об этом думают царь и царица? — спросила моя мать.
— Во дворце поднялся настоящий переполох. Я не знаю, что там думают и чему верят, — мрачно ответил отец.
— Боюсь, они осудят тебя. Ты же его учитель.
— Он — их сын. Они знают, что царевич никого не слушает. Даже самых великих людей.
— Он безумен, — сказала Мутнеджмет. — Ему нельзя оставлять трон. У них есть другой наследник?
— Только больная старшая сестра.
Во время этого разговора я испытала такое сильное чувство, что едва не потеряла сознание. Царевич казался мне героем волшебной сказки, чарам которой невозможно сопротивляться. Однажды вечером я подслушала, как отец пел один из гимнов новому богу:
О Прекрасный Бог Прекрасного,
Благодаря Твоей любви бьются сердца
И трепещут крылья птиц.
О Господь, Ты живешь в моей душе.
Эти слова навсегда запечатлелись в моем сердце, и я возликовала от радости. Я повторила гимн и позволила его сладкому нектару проникнуть в мою душу. Его слова влекли меня так же, как бабочку влечет свет. И, как бабочка, я сгорела в пламени. Что за прекрасное, блаженное чувство!
— Мой Единственный Бог, — прошептала я, — я буду верить в Тебя вечно.
Потом я пошла к отцу и спела ему этот гимн.
— Ты подслушивала, — нахмурившись, сказал он.
Я пропустила его мягкий укор мимо ушей.
— Отец, что ты думаешь о голосе, который он слышал?
— Не знаю, — осторожно ответил он.
— Может быть, он лжет?
Он на мгновение задумался, а потом покачал головой.
— Царевич не лжет никогда.
— Тогда это должно быть правдой.
— Возможно, это ему приснилось, — неохотно сказал он.
— Отец, — призналась я, — я верю в Единственного Бога Создателя.
Внезапно отец побледнел.
— Берегись, Нефертити! — воскликнул он. — Храни эту тайну в своем сердце, пока я тебя от нее не избавлю!
Потом нас пригласили во дворец на празднование Хеб-Седа. Для Тей это была возможность найти дочерям выгодных женихов.
— Тебя должны увидеть в самом красивом платье, — сказала она. Но мне хотелось увидеть только одного человека — того, кто показал мне свет правды. В пышном дворцовом зале я встретила людей, с которыми позже шла по жизненному пути со всеми его радостями и горестями: Хоремхеба, Нахта, Мея и многих других. Однако в тот вечер мое сердце не видело никого, кроме Эхнатона. Когда я увидела царевича впервые, меня поразила его странная внешность. Наследник престола представлялся мне верхом совершенства, а он был тоненьким, тщедушным и вызывал скорее жалость, чем восхищение. Признаюсь, я была слегка разочарована. Но это разочарование тут же прошло. За необычной внешностью и слабым телом я увидела дух, который избрал сам Бог и вручил ему свою небесную любовь, и молча поклялась всегда хранить верность этому хрупкому созданию. Он сидел справа от отца и равнодушно наблюдал за танцами. Я не сводила с него глаз. Это не осталось незамеченным; многие видели мой интерес к царевичу. Никогда не забуду фразу, которую сказала мне Мутнеджмет, изнывая от ревности:
— Нефертити, ты нашла свою цель. Теперь ступай к ней.
Я хотела, чтобы он заметил меня. И это случилось. Он посмотрел в мою сторону, и наши взгляды встретились — впервые за вечер. Царевич был готов отвернуться, но задержался и снова посмотрел на меня. Думаю, он слегка испугался того, что на него пристально и жадно смотрит молодая женщина. Краем глаза я увидела, что за мной наблюдает царица Тийя. Мое сердце заколотилось, а мечты воспарили ввысь. Но того, что случилось потом, я не ожидала.
Я вернулась в наш дворец взволнованная и полная неясных желаний. А вот Мутнеджмет дулась.
— Я так и знала, — сказала она, когда мы пришли в свою комнату. Я спросила, что она имеет в виду, и сестра продолжила: — Он больной и безумный.
— Ты видела только его внешность и ничего не знаешь о его душе.
На следующий день отец вернулся домой и сказал, что меня хочет видеть великая царица. Эта весть ошеломила всю семью. Мы с недоумением уставились друг на друга.
— Думаю, — гордо продолжил отец, — что царица хочет назначить тебя своей фрейлиной.
Я отправилась в царский дворец в сопровождении отца. Меня провели в личный кабинет царицы с видом на сад. Я низко поклонилась. Она велела мне подняться и сесть на диван рядом с ней.
— Тебя зовут Нефертити? — спросила она. Я кивнула, и царица негромко продолжила: — Нефертити… «Красавица грядет». Что ж, ты заслуживаешь этого имени. — Я вспыхнула от радости. — Сколько тебе лет?
— Шестнадцать, государыня
[153].
— Ты выглядишь старше. — Она сделала паузу, а потом спросила: — Как ты думаешь, почему я послала за тобой?
— Чтобы сделать мне щедрый подарок, которого я не заслуживаю.
— Хорошо сказано, девочка, — улыбнулась она. — Ты образована?
— Я умею читать, писать, сочинять стихи, знаю историю, теологию, алгебру и домоводство, — ответила я.
— Что ты знаешь о Египте?
— Египет — мать мира, а его фараон — царь царей.
— Кто твой любимый бог? — спросила она. Я насторожилась: вопрос был задан неспроста.
— Атон, ваше величество. — Я была вынуждена скрыть правду.
— А как же Амон?
— Амон только защищает империю, а Атон каждый день совершает над ней круг.
— Никто не властен над своим сердцем, но ты должна понимать, что Амон — глава всех богов.
— Я понимаю это, ваше величество.
— Скажи мне честно, — продолжила она, — твое сердце когда-нибудь знало любовь к мужчине?
— Нет, ваше величество, — без задержки ответила я.
— У тебя есть жених?
— Многие просили моей руки, но отец не считал их достойными меня.
Она пристально смотрела мне в глаза, а потом сказала:
— Должно быть, ты слышала разговоры о странных идеях наследника престола относительно Амона и других богов. Признайся, что ты об этом думаешь?
Я впервые не нашлась, что ответить. Молчание продолжалось до тех пор, пока она не сказала властным тоном: — Говори
только правду.
— То, что таится в сердце, принадлежит только сердцу. Но традиционные связи между троном и жрецами нужно сохранять.
— Хорошо сказано! — вновь воскликнула царица. Казалось, она ощутила облегчение. — Расскажи мне о мужчине своей мечты. Каков он?
— Он обладает силой воина и душой жреца.
Она засмеялась.
— Вот это запросы! Будь твоя воля, кого бы ты выбрала — воина или жреца?
— Душа важнее.
— Ты говоришь честно?
— Да, ваше величество.
— Ты не похожа на других молодых женщин, — покачала головой царица.
— Жизнь без веры мертва, — сказала я.
— А вера без жизни?
— Нет веры без жизни и нет жизни без веры.
Она на время умолкла. Я пыталась скрыть возраставшее волнение.
— Ты видела наследника престола? — наконец спросила она.
— На празднике Хеб-Седа, ваше величество.
— Что ты о нем думаешь?
— В царевиче есть таинственная сила, отличающая его от других мужчин.
— Я имею в виду, что ты думаешь о нем как о муже.
От изумления я лишилась дара речи. Она повторила вопрос.
— Не могу найти слов, ваше величество, — дрожащим голосом ответила я.
— Ты когда-нибудь мечтала стать царицей?
— Мечты моей смиренной души так высоко не залетали.
— Неужели тебя не привлекает трон?
— Это небо слишком высоко, чтобы в нем парила моя душа.
Какое-то время Тийя молчала.
— Я выбрала тебя в жены сыну, наследнику престола.
Сила собственных чувств заставила меня зажмуриться.
Взяв себя в руки, я пролепетала:
— Но царевич не знает меня и не испытывает ко мне интереса…
— Он считается с моими желаниями. Я его мать, и он любит меня больше всех, — гордо сказала Тийя. — Я должна была найти ему подходящую жену. Увидев тебя, я поняла, что вы — пара. При этом я учитываю не только свои личные чувства, но и свои цели. — Я была сбита с толку и продолжала молчать. — Но ты должна помнить, что для царицы долг важнее всего остального.
— Государыня, я надеюсь оправдать ваши ожидания.
— Поклянись мне в верности до гроба, — решительно велела она.
— Клянусь, — ответила я, не догадываясь, какие беру на себя обязательства.
— Я уверена, что ты сдержишь слово.
Я была вне себя от радости и благодарности. Но попрощавшись с царицей и выйдя из ее кабинета, почувствовала себя так, словно мои руки закованы в кандалы с царским клеймом.
Отныне я была рабыней царицы. Затем я вспомнила наследника престола и поняла, что величие души не делает его более привлекательным как мужа. Мне стало ясно, что за славу придется заплатить дорогой ценой.
Эта новость стала для моих родных громом среди ясного неба. Конечно, я понимала, что Мутнеджмет изнывает от зависти, а Тей частично разделяет ее чувства. И все же новость для моей семьи была радостная. Судьба возводила меня на египетский трон и поднимала их до уровня особ царской крови. Поэтому они осыпали меня поцелуями и поздравлениями.
Я вспомнила пророчество старика и вздрогнула, поняв, что оно частично сбылось. Интересно, как сядет на престол Мутнеджмет… Видимо, сестра тоже вспомнила пророчество и нашла в нем некоторое утешение.
— Отныне твоя мать может спокойно спать в своей могиле, — сказал отец, когда мы остались в его комнате одни.
— Надеюсь, — грустно ответила я.
— Дочь моя, кажется, ты не слишком рада, — смерив меня взглядом, с улыбкой промолвил он.
— Действительность страшнее всякого воображения, — серьезно ответила я.
— Судьба не могла дать тебе большего шанса на счастье.
— Отец, ты уверен, что я буду счастлива?
— Трон принесет тебе славу, но счастье — только в твоем сердце.
— Я верю тебе, отец.
— Я буду просить богов даровать тебе и славу, и счастье.
Брак был заключен с необычной поспешностью.
Роскошь состоявшегося во дворце праздника была достойна великого царя Аменхотепа III и его любви к мирским удовольствиям. Тийя отвела меня в золотую комнату и усадила на царскую кровать, сверкавшую золотом. Я надела прозрачную ночную рубашку, сквозь которую просвечивало обнаженное тело. Вскоре появился наследник престола. Когда он открыл дверь, в стенах отразились отблески пламени факелов. Он снял одежду и остался в одной прозрачной набедренной повязке. Глаза царевича сияли. Он подошел, остановился, взял мои ноги и прижал их к своей груди.
— Ты — солнце моей жизни, — прошептал он. Моя душа радовалась его близости, но тело корчилось. Он продолжил: — Я полюбил тебя на празднике Хеб-Седа. Вечером я пошел к матери и сказал, что хочу взять тебя в жены. — Он весело засмеялся. — Сначала она мне отказала. Не хотела, чтобы я женился на девушке нецарской крови. Когда я напомнил, что она и сама нецарской крови, мать сделала вид, что рассердилась, и сменила тему. А в следующий раз сказала, что познакомилась с тобой, и дала согласие.
Я вспомнила, как Тийя говорила, будто мой брак с наследником престола — ее идея, и скрыла улыбку. Похоже, Эхнатон ждал от меня ответа. Желательно правдивого.
— Я верила в твоего Бога еще до знакомства с тобой.
— Какое счастье! — воскликнул он. — Ты слышала о Нем от Эйе?
Я кивнула.
— Нефертити, ты — первая женщина, которая в Него поверила, — сказал царевич.
Мне хотелось подольше поговорить с ним и оттянуть момент, когда он ляжет рядом.
— Я хочу быть первой, кто споет гимн в Его храме.
— Это я тебе обещаю, — прошептал он и поцеловал меня. — Ты родишь мне наследника трона. — Внезапно все высокие чувства, которые я испытывала, испарились. Я был разочарована. Остались только молчаливые досада и раздражение.
Мы продолжали вместе идти по жизненному пути — как супруги и единоверцы одновременно. Под его руководством я все глубже погружалась в вопросы религии. Его дух окружал меня, наполнял светом, и я надеялась, что вскоре Бог заговорит со мной так же, как заговорил с ним. Что же касается моего тела, то оно молча корчилось каждый раз, когда он ложился рядом. Его семя зрело во мне. Я побледнела и плохо себя чувствовала; казалось, ребенок, живший внутри, издевался над моим стройным, прекрасным телом. Эхнатон жил в правде. Он презирал ложь и притворство. Я гадала, что отвечу, если он спросит: «Ты любишь меня, Нефертити?» Солгать ему мне не хватило бы духу. Я пыталась подготовиться. «Любовь придет со временем», — сказала бы я. Попросила бы у него прощения и объяснила, что он сам научил меня любить правду. Задай Эхнатон этот вопрос до свадьбы, вряд ли я стала бы царицей. Но он его не задал.
Однажды меня вызвала царица Тийя. Когда я пришла, она внимательно осмотрела меня и начала:
— Тебе следует заняться своим здоровьем. Ты носишь в себе драгоценную жизнь, которая скоро станет частью истории нашей страны.
— Помолитесь за меня, государыня.
— Тебе предстоит долгая жизнь, — уверенно ответила она. — Не давай страху воли над собой.
— Есть вещи, неподвластные людям, — сказала я.
— Царица больше, чем человек. — Она тяжело вздохнула.
Тийя заставила меня сдаться. Мой отец всегда называл ее могучей женщиной. Мой муж любил ее без памяти, а она относилась к нему как к своей собственности. Даже после свадьбы я чувствовала тяжесть ее оков.
Новость о Единственном Боге дошла до жрецов, и борьба началась. Только тогда я поняла, какая сила таится в тщедушном теле моего мужа. Я ощущала мощь его духа, смелости и решительности.
— Я ни за что не отступлю. Легче сдвинуть с места каменные пирамиды, — однажды сказал он мне.
— Я всегда буду с тобой, — ответила я.
— Господь не оставит нас! — воскликнул он.
Его не могла переубедить даже мать. Как-то Тийя вызвала меня к себе в кабинет. Войдя туда, я поняла, что. возможно, настал самый важный день в моей жизни.
— Беременность не отвлекла тебя от дел, которые происходят в Фивах? — спросила она.
— Дела Фив — мои дела. — Я приготовилась к битве.
— Твои добрые слова не оказали влияния на мужа? — спросила она.
— Слова его Бога могущественнее моих.
— Похоже, ты не слишком расстроена.
— Государыня, я верю в то, что он говорит. — Наконец мои запястья освободились. Этой фразой я дала ей знать, что любовь к моему Богу сильнее моей любви к престолу.
Тийя вспыхнула.
— Ты действительно веришь в Единственного Создателя?
— Да, государыня.
— И отвергаешь богов Египта?
— Бог один. Равных у него нет, — ответила я.
— Ты не считаешь, что другие люди имеют право почитать собственных богов?
— Мой Бог ни для кого не представляет угрозы.
— Но однажды твой муж станет царем, и ему придется служить всем богам.
— Мы служим только Единственному и Единосущему.
— Ваше упрямство будет иметь самые тяжелые последствия! — воскликнула она.
— Господь нас не оставит. Никогда.
— Ты поклялась мне в преданности до гроба, — с горечью напомнила царица.
— Вы — моя государыня. Но Господь превыше всех.
Я вернулась к себе с тяжелым сердцем и заплаканными глазами, не зная, какая судьба меня ждет. И все же на душе у меня полегчало. Вскоре царевич получил приказ отправиться в поездку по империи. Я поняла, что Тийя начала свою месть. Она оставляла меня без мужа накануне родов. Когда Эхнатон уехал, я испытала новое для себя чувство. Свет жизни померк; даже солнце потемнело. Меня душил страх. Ничто не могло возместить мне отсутствие мужа, даже постоянная близость Тей. Я погрузилась в скорбь и каждую минуту тосковала по царевичу. Неужели он так много значил в моей жизни? Я поняла, что без него мне счастья нет. Именно тогда до меня дошло, что я люблю его не только как духовного спутника, но как мужа и любовника. По моему лицу струились горькие слезы. Я каялась в своей слепоте и невежестве и мечтала, чтобы он поскорее вернулся и позволил мне упасть к его ногам.
Роды у нас с царицей Тийей состоялись одновременно. Я родила Меритатон, а она — двойню, Семнехкара и Тутанхамона
[154]. Когда я узнала, что родила девочку, меня охватила скорбь. В гареме шептались, что это проклятие жрецов Амона. Они говорили, что я никогда не смогу родить сына.
Примерно тогда же фараон Аменхотеп III женился на Тадухипе, дочери Тушратты, царя Митанни, чтобы скрепить узы дружбы между двумя странами.
Тадухипа славилась своей красотой. Она въехала в Фивы во главе величественной процессии, состоявшей из трехсот рабов. Тей пыталась развлечь меня рассказами о новой царевне, поселившейся во дворце. Говорила о ее богатстве и красоте, но в конце неизменно добавляла, что, конечно, ни одно солнце не сияет ярче моего. Царь Аменхотеп III обожал новую жену Тадухипу, которая годилась ему во внучки. Но долго наслаждаться своим новообретенным счастьем ему было не суждено.
Пришла весть о том, что наследник престола насаждает в номах свою религию. Меня вызвали к царю и царице. Я не ожидала увидеть царя таким слабым и изможденным; казалось, он изнурил себя мирскими удовольствиями.
— Он сошел с ума! — гневно воскликнул фараон.
— Мы можем послать в номы армию, чтобы исправить причиненный им вред, — сказала Тийя.
— Он потерял право на трон. Что бы мы ни сделали, это ему не поможет.
— Возможно, он победит. Возможно, они прислушаются к его словам, — после небольшой заминки сказала я.
— Ты дура, Нефертити! — крикнул царь — Такая же, как твой муж!
— Ты могла попытаться привести его в чувство, — добавила Тийя. — А вместо этого присоединилась к его блажи.
— Как я могу добиться того, чего не добились вы, ваше величество? — парировала я, пытаясь справиться с гневом.
— Ты его не отговаривала, а поддерживала, — укорила меня царица.
— Когда царевич вернется, — махнув рукой, прервал нас Аменхотеп, — я заставлю его сделать выбор между троном и его религией.
Я очень огорчилась. Но на следующее утро после этой встречи меня разбудила Тийя и прошептала:
— Царица Нефертити, фараон умер.
Мое сердце сжалось от горя. Что было бы, если царь Аменхотеп III успел перед смертью выполнить свою угрозу? Неужели Тийя согласилась бы принести в жертву любимого сына? Однажды царица, наблюдавшая за мумификацией мужа, вызвала меня и сказала:
— Я решила, что тебе следует это знать. Жрецы потребовали, чтобы трон перешел к Семнехкару или Тутанхамону, а я стала при нем регентшей.
Я боялась слов, которые должны были прозвучать следом.
— Ваше решение будет самым мудрым, и я приму его, каким бы оно ни было, — ответила я.
— Ты говоришь правду? — спросила Тийя.
— А разве у меня есть выбор? — придя в отчаяние, пробормотала я.
— Я отвергла их требование. Любовь к сыну оказалась сильнее моей мудрости.
Я снова смогла дышать, но дар речи ко мне не вернулся.
— Ты счастлива?
— Да, государыня, — серьезно ответила я. Ложь вызывает у меня отвращение.
— Ты обещаешь мне защищать традиции?
— Такого обещания я дать не могу.
— Ты заслуживаешь наказания, — сказала царица. — И все же я восхищаюсь тобой. Вы с Эхнатоном выбрали свой путь, вот и ступайте им. Наверно, так было суждено богами.
Я вернулась к себе окрыленная и осыпала Меритатон поцелуями. А потом вернулся из путешествия мой любимый. Я бросилась к нему и заключила в объятия.
— Наконец-то к тебе пришла любовь, Нефертити, — спокойно сказал Эхнатон.
Я испугалась и ответила:
— Я полюбила тебя раньше, чем увидела.
— Но как мужа полюбила только сейчас. — Его способность читать в глубинах сердца потрясла меня.
После похорон Аменхотепа III Эхнатон пришел ко мне с заплаканными глазами.
— Смерть пугает меня, — сказал он. — Я не любил отца, хотя должен был любить.
Мы заняли трон, окруженные врагами и недоброжелателями. Эхнатон призвал своих друзей присоединиться к новой религии. Они охотно сделали это. Я не сомневалась в их искренности до тех пор, пока они не покинули его, чтобы спасти свои жизни. Все, кроме Мери-Ра, верховного жреца Единственного Бога. Думаю, Эхнатон знал, что они кривят душой. Но он верил, что любовь — лекарство от всех болезней. Думал, что со временем любовь укрепит их веру и они станут больше доверять ему. Так же терпеливо ждал этого, как когда-то ждал моей любви. Но они этого не заслуживали. Некоторые из них лелеяли желание претендовать после него на трон. В том числе Хоремхеб и даже мой отец, Эйе. Ты можешь решить, что я всё придумала под влиянием обиды, горечи или собственных впечатлений. Нет, я узнала это из бесед, которые вела с ними в последние дни Эхнатона. Меня обрадовало, что жрецы решили посадить на трон не их, а Тутанхамона. Думаю, что они еще цепляются за свою старую мечту.
Несмотря на враждебность, окружавшую нас на первых порах, мы с Эхнатоном были безмерно счастливы. Меритатон только начинала ползать, а во мне уже теплилась новая жизнь. У Эхнатона не было других жен, кроме меня. Он унаследовал отцовский гарем с прекрасной митаннийкой, но воздерживался от его посещения. Однажды пришла царица Тийя. Ничего хорошего от этого визита я не ждала.
— Эхнатон, — начала она, стоя так близко, чтобы мне было слышно, — теперь ты царь. Ты не должен пренебрегать своим гаремом.
— У меня одна любовь и один Бог, — засмеялся он.
— Но ты должен быть справедливым. Не забывай, в твоем гареме находится Тадухипа. Она заслуживает лучшего обхождения. Хотя бы ради ее отца Тушратты. — Тийя посмотрела на меня, заметила мою досаду и продолжила: — Нефертити доказала свою царскую мудрость. Наверно, она согласится со мной насчет гарема.
Я молчала, пытаясь скрыть раздражение, но Тийя продолжала разглагольствовать о долге царицы.
Гарем и особенно Тадухипа вызвали мое любопытство. Я посетила их, сделав вид, что хочу просто познакомиться. Тадухипа действительно оказалась красавицей, но это не поколебало моей уверенности в себе. Мы обменялись несколькими словами и расстались врагами.
Когда на следующий день мы с мужем сидели в дворцовом саду, я небрежно спросила его:
— Что ты собираешься делать с гаремом?
— Он мне не нужен, — просто ответил Эхнатон.
— Но царица-мать не считается с твоими желаниями, — пожаловалась я.
— Моя мать любит традиции.
— А ты — нет.
— Ты права, любимая, — со смехом ответил он.
Кажется, примерно в это время я встретилась с верховным жрецом Амона.
— Государыня, — начал верховный жрец, — наверно, вам ведомо, зачем я пришел.
— Я тебя слушаю, верховный жрец, — без особой радости ответила я.
— Пусть царь почитает любого бога, который ему нравится. Но все другие боги, а особенно Амон, тоже имеют право на то, чтобы им поклонялись! — взмолился он.
— Мы не пытаемся причинить вред твоему богу.
— Надеюсь, когда придет время, вы поддержите нас.
— Я могу обещать только то, что в моих силах.
— Мы с вашим отцом — старые друзья. Ничто не может повредить этой дружбе.
— Рада слышать.
Когда он ушел, я поняла, что нажила себе смертельного врага Эхнатон посвящал религии все свое время. Он призывал к любви, запретил наказания и освободил бедняков от уплаты налогов. Люди начинали верить, что наступила новая эра любви и милосердия. Родив свою вторую дочь Макетатон, я испытала новое разочарование и вспомнила все, что говорили о проклятии жрецов. Но Эхнатон любил своих дочерей.
— Наследник родится тогда, когда придет его время, — утешал он меня. Мы построили в Фивах храм Единственного Бога и впервые посетили его. Жрецы собрали толпу своих сторонников, и они стояли у храма, выкрикивая имя Амона. Царь был расстроен. Он провел ночь на террасе нашей комнаты и кричал, обращаясь к Фивам:
— О город зла, жилище похотливого бога и безжалостных жрецов! О Фивы, я ни за что не стану жить в вас! — Голос Бога велел ему построить новый город. Скульптор Бек набрал восемьдесят тысяч человек и начал работу по возведению города Единственного Создателя. Тем временем мы продолжали жить в Фивах, счастливые в своем дворце, но со всех сторон окруженные злом. Я родила еще двух девочек, Анхесенпаатон и Нефернатон. Потом мы переехали в новый город. Семнехкар и Тутанхамон отправились с нами, но Тийя решила остаться в Фивах, чтобы сохранить последнюю связь между троном и жрецами Амона.
Когда мы добрались до Ахетатона, города света, я пришла в экстаз и воскликнула:
— Как велика твоя красота, как благостен твой дух, о Бог этого города и всей вселенной! — Мы молились в храме и пели гимны Единственному Богу. Верховным жрецом Единственного Создателя был назначен Мери-Ра. Мы жили, наслаждаясь безоблачным счастьем, но однажды царь вышел из своего уединенного места в храме с серьезным лицом.
— Мой Бог велел мне, чтобы в Его стране не поклонялись никакому другому божеству.
Я сразу поняла важность того, что он сказал.
— А что будет с другими божествами?
— Я прикажу закрыть их храмы и конфисковать храмовое имущество. — Он был настроен решительно. Я продолжала хранить молчание. — Нефертити, кажется, ты меня не одобряешь.
— Ты выгоняешь на улицу жрецов всей страны, — ответила я.
— Да. Это в моей власти.
— Если ты это сделаешь, тебе придется использовать насилие и наказания. Ты мирный человек. Зачем прибегать к таким мерам?
— Никогда в жизни я не прибегну к насилию.
— А если они тебя ослушаются?
— Я передам имущество храмов беднякам всей страны, призову их почитать Единственного Бога и отринуть других богов.
Я сразу почувствовала себя так, словно с моих плеч свалилась огромная тяжесть, и поцеловала его.
— Господь никогда не оставит тебя.
Указ был подписан и исполнен, не вызвав бурь, которых я ждала. Такова была сила Бога и сила трона. После этого мы стали действовать увереннее. По вечерам мы в царских носилках объезжали разные кварталы Ахетатона. Люди принимали нас с воодушевлением. Мы выходили из носилок и вместе с ними гуляли под пальмами, нарушая традицию, отделявшую царскую семью от простого народа. Мы познакомились с людьми так близко, что помнили их имена, лица и профессии. По всему Ахетатону слышались гимны в честь Единственного и Единосущего.
— Боюсь, вы принижаете традиционный статус царей, — однажды сказал мне отец.
— Отец, — со смехом ответила я, — мы всего-навсего живем в правде.
Потом мы отправились в путешествие по империи, призывая людей поклоняться Единственному Создателю. Враги с благоговейным страхом следили за нашими успехами. Начальник полиции Махо рассказал нам о попытках жрецов переманить людей на свою сторону с помощью цареубийства и передачи трона другому лицу. Но мы не обратили на это внимания. Люди все больше привыкали к странным проповедям Эхнатона, его рвению и полной самоотдаче. Но подозреваю, что я была для них загадкой. Как можно почитать Бога и одновременно управлять страной и ее казной? Наверно, они даже сомневались в искренности моей веры. Правда заключалась в том, что я верила каждому слову Эхнатона и делила с ним не только веру, но и жизнь.
Когда все души очистятся и освободятся от малейших следов зла, — часто повторял он, — каждый услышит голос Бога, и мы все будем жить в правде. — Именно такой была его конечная цель; он хотел, чтобы все жили в правде. Вернувшись из поездки, мы узнали, что Макетатон больна и лежит в постели. Ее лицо было таким бледным, что мы с трудом узнали собственную дочь. Эхнатон остался с ней и молился не переставая. Я попросила врача Бенто спасти ее.
— Бенто, — сказала я, отозвав его в дальний угол спальни Макетатон, — моя дочь умирает.
— Я сделал все, что было в моих силах, — мрачно ответил он.
— Жрецы решили с помощью злых чар лишить Эхнатона самой любимой из его дочерей! — с ужасом воскликнула я.
— Милостивый Господь, не терзай мою душу горем, заставляя оплакивать ее, — слышала я шепот Эхнатона. — Я люблю эту девочку и не смогу без нее жить. Она намного старше своего возраста. О Господь, если ты сохранишь ей жизнь, она проведет остаток этой жизни, служа Тебе.
Но душа Макетатон становилась все слабее, а потом покинула этот мир и устремилась к звездам Царства Божьего. Мы стояли рядом с ее телом и плакали, охваченные горем.
— Зачем, о Боже! — кричал Эхнатон. — Зачем Ты так сурово испытываешь мою веру? Неужели Ты хочешь с помощью жестокости показать мне, что я еще не знаю всей силы Твоего могущества? Зачем так обращаться со мной, если Ты полон сочувствия, зачем быть таким холодным, когда Ты есть любовь, зачем быть таким гневным, если я — Твой послушный слуга? Зачем Ты хочешь стать тьмой, если Ты — свет? Зачем Ты сделал ее такой прекрасной и подарил ей глубокий ум? Зачем заставил нас любить ее и готовить к службе Тебе? О Всемогущий Господь, зачем?
Мы оставались в трауре до тех пор, пока бедствия страны не отвлекли нас от горя и не заставили повернуться лицом к ее трагедии. Мы поговорили с Нахтом, и он рассказал нам, что вся империя охвачена восстаниями. Должна признаться, что смерть Макетатон сильно поколебала мою решимость. Но Эхнатон выдерживал самые сильные бури не моргнув глазом, словно он действительно был Великой Пирамидой.
— Господь все преодолеет, — говорил он. — Я не пойду на соглашение.
Его стойкость вдохновляла меня, и вскоре силы ко мне вернулись. Мои дурные предчувствия утихли, и я осуждала себя за слабость. А потом к нам в Ахетатон приехала с визитом царица-мать. Сначала Тийя встретилась с нашими приближенными в своем дворце, расположенном в южном Ахетатоне, а потом вызвала нас с мужем.
— Небеса наполнены темными тучами, — начала она. — Ваши приближенные дали мне честное слово, что сохранят вам верность при любых обстоятельствах.
— Вы верите им? — с любопытством спросила я.
— В такие времена я предпочитаю доверять людям, — с укором сказала она.
— Мой Бог победит, — промолвил Эхнатон.
— Скоро всю страну охватит гражданская война! — вспыхнула царица-мать.
— Господь меня не оставит, — повторил он.
— Я не могу говорить за богов, но зато знаю, что говорят люди!
— Мать, — грустно сказал он, — ты не веришь.
— Не говори со мной о том, чего я не знаю. Говори как царь и обращайся со мной как с царицей. Ты должен действовать, пока не стало слишком поздно. Используй армию, чтобы защитить границы от врагов. Используй стражей и полицию для борьбы со взяточничеством, поразившим империю. И поторопись, иначе твой трон достанется врагам.
— Я не пролью ни одной капли крови.
— Не заставляй меня жалеть о том, что я доверила тебе трон.
— Я верю в трон только как в средство служения Господу.
Тийя посмотрела на меня и велела:
— Говори, Нефертити. Может быть, боги решили сделать тебя его женой, чтобы ты могла в последний момент спасти его.
— Наш Господь нас не оставит, — ответила я.
— Безумие победило. — На лице царицы-матери было написано отчаяние.
Тийя уехала из дворца больной и печальной. По возвращении в Фивы она прожила всего несколько дней, умерла с горя. Вскоре у нас попросили аудиенции Хоремхеб, Нахт и мой отец Эйе.
— Ваши лица говорят о плохих новостях, — сказал Эхнатон.
— Нас привела сюда любовь к Египту и империи, начал мой отец.
— А как насчет вашей веры в Единственного Создателя?
— Мы все еще верим в Него. Однако отвечаем не только за свою веру, но и за свои жизни.
— Ответственность, о которой вы говорите, без веры ничего не стоит, — спокойно возразил Эхнатон.
— Враги империи нарушили наши границы, — сказал Нахт. — Номы охвачены восстанием. Мы заперты в Ахетатоне.
— Господь не оставит меня, а я не изменю его учениям, — стоял на своем царь.
— Нам грозит гражданская война, — предупредил Хоремхеб.
— Никаких войн не будет.
— Значит, мы должны ждать до тех пор, пока нас не зарежут как овец? — спросил Хоремхеб.
— Я сам выступлю против армии, которая будет атаковать нас. Один и без оружия, — сказал царь.
— Они убьют вас, а потом придут за нами. Если вы настаиваете на верности вашему учению, то отрекитесь от трона и посвятите себя делам веры.
— Я не оставлю трон моего Господа. Это будет предательством. Освобождаю вас от ваших клятв в верности.
— Мы дадим вам немного времени на размышление, — сказал Хоремхеб.
Они сделали нам последнее предупреждение и ушли. Сильнее унизить фараона было нельзя. Я гадала, за что Бог прогневался на нас, но вера Эхнатона была непоколебима. Я восхищалась его решимостью.
Потом Хоремхеб попросил о встрече с глазу на глаз.
— Действуйте, — сказал он. — Сделайте все, что в ваших силах. Если Эхнатон будет стоять на своем, его убьют. Это могут сделать его собственные слуги. Но действовать нужно срочно!
Я была ошеломлена. Мне повсюду мерещились страшные тени смерти и поражения.
Моя вера пошатнулась. Меня терзало ощущение собственной беспомощности. Как я могла спасти своего любимого? Мне пришло в голову, что если я уйду от него, он поколеблется и последует совету своих приближенных. Он решит, что я предала его, но, по крайней мере, его жизнь будет спасена. Поэтому я оставила своего любимого царя и мужа, хотя мое сердце сжималось от горя. Я переехала во дворец в северном Ахетатоне. Там меня посетила сестра Мутнеджмет и сказала, что царь не изменил своей позиции. Поэтому приближенные решили, что для спасения жизни Эхнатона они должны покинуть его и присягнуть новому царю, Тутанхамону.
— Когда ты переедешь в Фивы? — спросила она.
— Старое пророчество частично сбылось, — сказала я, поняв, что скрывается за ее словами. — Пришла пора второй части. Ступай с миром в Фивы, Мутнеджмет. Я останусь здесь, рядом с моим мужем и моим Богом.
Печаль так глубоко укоренилась в моей душе, словно я никогда не была счастлива. Когда я из окна следила за тем, как люди покидали город света из страха быть про́клятыми, меня мучило чувство вины. Я слышала их голоса, крики их детей и лай их собак. Люди шли волнами, неся с собой все, что у них осталось от прежних, более счастливых дней. Спешили к Нилу, чтобы уплыть на север или на юг. Я смотрела в окно, пока город не покинул последний из них. Ахетатон обезлюдел. Над великолепными домами, садами и улицами навис мрак.
— Ахетатон! — крикнула я. — О город света, где твои гимны и мелодии, где победа, где любовь? Где ты, мой Бог? Почему ты нас оставил?
Город был пуст, если не считать двух заключенных — меня и моего любимого — и нескольких стражей, приставленных к нам жрецами.
Когда я хотела вернуться в царский дворец, увидеться с мужем и поговорить с ним, меня не пустили стражи. И даже не позволили написать ему. Тогда я поняла, что ничего не могу сделать. Только ждать смерти в этой тюрьме. Я пыталась писать новому фараону, моему отцу и Хоремхебу, не прося ничего, кроме возможности увидеть Эхнатона. Но стражи сказали, что я не имею права общаться с внешним миром. Я терпеливо и безнадежно ждала конца моих дней, не чувствуя бега времени. Постоянно молилась, пока наконец вновь не обрела веру в Единственного Бога. И теперь твердо знаю, что последняя победа останется за Единственным Создателем.
Однажды ко мне пришел начальник стражей и сказал: — Мне приказано передать вам, что еретик умер после долгой болезни. За телом прибыла экспедиция, чтобы мумифицировать и похоронить его в царской усыпальнице согласно ритуалу.
Я не поверила ни единому его слову. Мой любимый не заболел и не умер. Должно быть, они убили его. Теперь его душа покоится в вечности. Однажды я последую за ним, объясню, почему я оставила его, попрошу прощения, и он посадит меня рядом с собой на трон правды.
Царица Нефертити умолкла, ее нежный голос затих. Я попрощался, проклиная тропу, которая уводила меня от нее. Ее красота покорила мое сердце.
Когда я вернулся в Саис, отец радостно приветствовал меня, спросил, как прошло мое путешествие. Мы проговорили несколько дней, и я изложил ему подробности моих поездок. Рассказал все, что узнал, за исключением двух вещей — моего растущего увлечения гимнами в честь Единственного Бога и моей безмерной любви к прекрасной Нефертити.
Эдисон Маршалл
«Победитель»

Из энциклопедии «Британика».
Издательство Вильяма Бентона, 1968, т. 1[155]
АЛЕКСАНДР III, известный под именем Великий (356–323 гг. до н. э.), царь Македонии, был сыном Филиппа II из рода Македонов и эпирской царевны Олимпиады, дочери Неоптолема; отец обладал даром выдающегося практика, руководителя и организатора, мать была женщиной с необузданным темпераментом, странной, таинственной, склонной к галлюцинациям и внушающей окружающим суеверный страх; а сам Александр среди людей дела выделяется блеском воображения, которое вело его по жизни, а среди романтических мечтателей — тем, чего он достиг. Родился он в Пелле в 356 г. до Рождества Христова, примерно в октябре. Царский двор, где он рос, являлся средоточием кипучей активности, ибо Филипп путем войн и дипломатии стремился поставить Македонию во главе греческих государств-полисов, и атмосфера царского дворца была буквально насыщена планами и идеями. Объединение греческого народа в войне против Персидской империи стало глобальной целью для честолюбия эллинов, постоянной темой философов-идеалистов.
Греческие достижения в областях литературы, философии, истории V века уже удалились достаточно в прошлое, чтобы носить печать классического благородства: таким образом смыслу эллинистической цивилизации была придана такого рода новая конкретность, которая могла вызвать восторженное отношение к системе идеальных ценностей, освященных традицией. И когда Александру шел четырнадцатый год, в 343–342 годах до н. э., в Пеллу прибыл по приглашению Филиппа Аристотель, чтобы руководить образованием его сына. Нам неизвестно, как смог этот выдающийся ум овладеть пылким духом юного Александра; во всяком случае, Александр сквозь всю свою жизнь пронес горячую, страстную любовь к Гомеру. Но не только из книг получал он образование. Посещение Пеллы послами из многих стран, греческих и восточных, дало ему дополнительные знания о действительном состоянии мира. Его рано обучили военному делу. В возрасте 16 лет он в отсутствие Филиппа правил в Македонии и подавил восстание горных племен на северной границе; в следующем (338-м) году он возглавил атаку на «Священную Ленту» (отборный отряд тяжеловооруженных воинов города Фивы. —
Примеч. пер.) в битве при Херонее и разбил ее.
Затем пришла очередь семейных раздоров, какие обычно досаждают полигамным царским домам Востока. В 337 году Филипп оставил Олимпиаду, взяв себе другую жену, Клеопатру. Александр уехал с матерью на ее родину в Эпир, и хотя вскоре вернулся и было достигнуто внешнее примирение отца с сыном, внутренне между ними возникло отчуждение. Новая жена царя забеременела, ее родня приобретала все больший вес; возникла угроза праву Александра как наследника престола. Переговоры с Пиксодаром, сатрапом Карии, начатые при македонском дворе с целью связать оба дома брачным союзом, толкнули Александра на новые ссоры с отцом. Но…
В 336 г. в Эгах в присутствии гостей, съехавшихся со всей Греции на праздник бракосочетания его дочери с Александром I из Эпира, Филиппа неожиданно убивают. Ясно, что рука убийцы направлялась кем-то из царского окружения; среди других и Александр не смог избежать подозрения, но такого рода вина вряд ли соответствовала его характеру, каким он вырисовывается в те ранние годы его юности.
Вступление на престол. Александр не был единственным претендентом на пустующий трон, но, получив признание и поддержку армии, он вскоре сметает со своего пути всех своих соперников. Преданы смерти новорожденный сын Филиппа и Клеопатры и двоюродный брат Александра Аминта, и Александр принимается за прерванные труды своего отца. Эти деяния стояли на пороге открытия самой блестящей их главы — вторжения во владения великого персидского царя. Была собрана мощная армия из объединенных греческих сил, и ее часть уже отправилась для переправы через Геллеспонт на малоазийский берег и захвата плацдарма для дальнейшего вторжения в Персию. Убийство Филиппа отсрочило нанесение удара, так как это сразу же лишило надежности основную базу армии, Македонию, а в таком предприятии, связанном с углублением в бескрайние территории Персидской империи, надежность тыла решала все.
Устранение Филиппа явилось поводом для всех горных народов севера и запада поднять голову, а для греческих государств — освободиться от своих страхов. Демонстрация силы в Греции, возглавленная новым царем Македонии, моментально отрезвила горячие головы, и на совете в Коринфе Александр был признан главнокомандующим армии эллинистического мира в борьбе против варваров, вместо его отца Филиппа. Весной 335 года он пошел из Македонии на север, перевалил через Балканы и, разбив горные племена, положил конец войне с ними. Его армия проявила при этом невиданные доселе умение и дисциплинированность. Затем он прошел по земле трибаллов (Румелия) к Дунаю и привел эти племена к покорности. Удовлетворяя собственную тягу к необычному и желая поразить воображение всего мира, он переправился с армией на другой берег Дуная (с точки зрения тогдашнего военного искусства, это невероятно сложная техническая задача. —
Примеч. пер.) и сжег укрепленный город гетов. Тем временем иллирийцы подняли восстание против власти Македонии и захватили город Пелий, господствовавший над горными проходами к западу от Македонии. Александр с войском прошел напрямую через горы, разбил иллирийцев и восстановил престиж и власть Македонии в этом регионе. В это время к нему пришло известие, что в Греции беспорядки, а Фивы взялись за оружие. Форсированным маршем приведя свою армию под стены города, он застал фиванцев врасплох, и через несколько дней город, который поколение назад занимал главенствующее положение в Греции, был взят. Теперь уж со стороны Александра не последовало никаких полумер: город был уничтожен до основания, за исключением храмов и дома, где когда-то жил великий греческий поэт Пиндар. Теперь можно было верить и надеяться, что какое-то время ошеломленные греки не доставят беспокойства македонскому царю. Возобновилась деятельность Всегреческого (Панэллинского. —
Примеч. пер.) союза, который все еще игнорировала Спарта, против варваров. К Афинам, — хотя, как известно, власть Македонии была им не по душе и они частенько стояли за спиной многочисленных Александровых неприятностей, — Александр относился неизменно с большим почтением.
Вторжение в Малую Азию. Весной 334 г. Александр переправился в Азию с армией, состоявшей из македонцев, иллирийцев, фракийцев и контингентов греческих государств — общей численностью 30 000—40 000 человек. Местом сосредоточения армии стал город Абидос на Геллеспонте. Сам Александр, переправившись, сначала посетил место, где стояла древняя Троя, и там принес жертвы Афине Илионской, взял себе щит, который, по преданию, принадлежал Ахиллу, и оставил приношения великим мертвецам гомеровских сказаний — это красноречиво свидетельствует о том, что в душе молодого царя все это предприятие представлялось в поэтическом блеске, что люди впоследствии оценят по-разному, в соответствии с тем, какую роль они отводят воображению в делах человека.
Чтобы встретить захватчика, у великого персидского царя в Малой Азии имелась армия, не намного превышающая армию Александра, собранная под командованием сатрапов западных провинций у города Зелея. Под их началом находился также отряд греческих наемников — воинов-профессионалов, а они представляли куда более серьезную угрозу армии македонского царя, нежели остальные силы персов. Связь с Македонией, то есть своей базой, у Александра могла осуществляться только через узкое место Геллеспонта, и он, удаляясь от него, рисковал быть начисто отрезанным от своего тыла, своих резервов. Для персидских военачальников разумной была бы стратегия заманивания греческой армии за собой в глубь страны, избегая до поры прямого столкновения, на чем настаивал командир греческих наемников родосец Мемнон.
Граник. Кодекс чести персидской знати, или неприятие всерьез противника, не позволил персам принять эту стратегию, и Александр застал их поджидающими его армию на берегу реки Граник. Это был в основном конный бой, в котором общий кодекс чести заставил македонцев и персов завязать рукопашную схватку, и в конце дня остатки персидской армии спасались бегством, оставляя захватчику открытыми большие дороги Малой Азии. Теперь Александр мог осуществить первую часть принадлежащего ему как главнокомандующему эллинов плана освобождения греческих городов Малой Азии, чего так долго публично требовали энтузиасты панэллинизма: Александр двинулся к старой лидийской столице Сарды, резиденции персидского наместника по эту сторону Тавра, и сильный город сдался без боя. После этого во всех греческих городах Эолии и Ионии пали дружественные Персии правительства олигархов и тиранов и были установлены демократические порядки под надзором командиров отрядов армии македонского царя. Только там, где города защищались гарнизонами, состоящими на службе у Персии, и укомплектовывались в основном греческими наемниками, освободитель мог ожидать вероятность сопротивления. На самом же деле из Эфеса гарнизон бежал, лишь узнав о поражении на Гранике; правде, Милет пришлось осаждать. Персидский флот напрасно пытался снять с города осаду, и Милет не мог долго устоять против штурмующей армии македонцев. Только в Галикарнасе Александр впервые встретился с упорным сопротивлением, куда Мемнон с сатрапом Карии собрали все наземные силы, еще остававшиеся у Персии на западе. С наступлением зимы Александр захватил сам город, но две его укрепленные цитадели еще долго выдерживали осаду.
Тем временем македонский царь ясно давал понять, что он пришел сюда не просто чтобы отомстить персам, не просто чтобы вести карательную войну, а чтобы стать царем Персии. В завоеванные провинции он назначал македонских наместников, а в Карий вернул власть княжне местной династии Аде, которая приняла его как сына. Зимой, пока Парменион, его заместитель на посту главнокомандующего, продвигался по центральному плато, подчиняя провинцию Фригия, Александр прошел берегом моря, где ему сдались ликийцы и поклялись в верности греческие города прибрежной Памфилии. Горы в глубине материка были местом обитания воинственных племен, которые персидские власти так и не смогли себе подчинить. Для их завоевания у Александра не было времени, но он штурмом взял некоторые из их крепостей, чтобы держать их под контролем, и прошел по всей их территории, после чего свернул на север от Памфилии в глубь материка.
Весной 333 г. он прошел прибрежной дорогой в Пергу, миновав утесы гор Клаймакс благодаря своевременной перемене ветра. Падение уровня моря во время этого перехода, вследствие чего Александр и смог пройти этой дорогой, было истолковано льстецами Александра, включая историка Каллисфена, как знак божественной милости. Миновав Пергу, он пришел в Гордий, фригийский город, где разрешил знаменитую задачу с Гордиевым узлом, который мог быть развязан только будущим правителем Азии; Александр рассек его мечом. Но этот рассказ, возможно, является апокрифическим или, по крайней мере, искаженным. Здесь до него дошло известие о смерти Мемнона, талантливого полководца персов и командующего их флотом. Александр немедленно извлек выгоду из этого известия и, оставив Гордий, быстро двинулся на Анкиру, а оттуда на юг через Каппадокию и Киликийские ворота. В Киликии его на время задержала лихорадка. Тем временем Дарий со своей огромной армией подошел к восточной стороне горы Аман. Разведка с обеих сторон ошиблась, и Александр уже разбил лагерь у Мириандра, когда узнал, что Дарий находится на его тыловых коммуникациях в Иссе. Повернув сразу же навстречу Дарию, Александр обнаружил его армию растянутой вдоль реки Пинар. Здесь Александр одержал решительную победу. Персы были разгромлены, Дарий бежал, оставив свою семью в руках Александра.
Завоевание Средиземноморского побережья и Египта. От Исса Александр двинулся на юг в Сирию и Финикию, захватывая прибрежные города с целью изолировать, лишить персидский флот его баз и потом уничтожить эту серьезную боевую силу. Финикийские города Мараф и Арад спокойно подчинились, и вперед был послан Парменион, чтобы не пропала богатая добыча в Дамаске, где хранилась часть сокровищ Дария, предназначенная для ведения войны, так называемый военный сундук. В ответ на письмо Дария, где тот предлагал мир и раздел Персии, Александр ответил
высокомерно, перечислив все прошлые беды Греции и требуя безоговорочной капитуляции ему, как господину Азии. Взяв города Библ и Сидон, он застрял у островного города Тира, который закрыл перед ним свои ворота. Чтобы взять его, он применил способы осады на плаву, но тирийцы сопротивлялись, продержавшись семь месяцев. Тем временем (зимой 333/332 г.) персы предприняли ряд контратак на суше в Малой Азии, но потерпели поражение от Антигона, полководца Александра и наместника Большой Фригии. Удача сопутствовала грекам и на море, где они вернули себе ряд городов и островов.
Пока продолжалась осада Тира, Дарий прислал письмо с новым предложением: он заплатит огромный выкуп в десять тысяч талантов за свою семью и уступит Александру все свои земли к западу от Евфрата. Говорят, Парменион сказал: «Я бы согласился, будь я Александром». «Я бы тоже, — последовал знаменитый ответ Александра, — будь я Парменионом». Штурм Тира в июле 332 года явился величайшим военным достижением Александра; за ним последовала большая резня и продажа оставшихся жителей, в основном женщин и детей, в рабство. Оставив Пармениона в Сирии, Александр двигался на север, не встречая сопротивления, пока не подошел к Газе. Город стоял на высоком холме. Яростное сопротивление задержало его здесь на два месяца, и во время вылазки врага он получил серьезное ранение в плечо. Нет никакого основания верить, что он якобы свернул с пути, чтобы посетить Иерусалим.
В ноябре 332 г. он пришел в Египет. Народ встретил его как освободителя, и персидский сатрап Мазак предпочел сдаться. В Мемфисе Александр принес жертву священному быку египтян Апису и был коронован традиционной двойной короной фараонов; в результате местные жрецы были умиротворены, а их религия получила поддержку власти македонского царя. Зиму он провел, занимаясь административным устройством Египта, назначая наместников провинций из местной знати, держа, однако, армейские отряды в городах в постоянной готовности под командованием преданных македонцев. Он основал город Александрию в устье западного рукава Нила, а также отправил экспедицию в верховья реки, чтобы выяснить причины постоянного летнего разлива Нила. Из Александрии он пошел вдоль моря к Паретонию, а оттуда с небольшим отрядом в глубь пустыни, чтобы посетить Сиутский оазис, где находился знаменитый оракул бога Амона. Жрецы Амона встретили Александра традиционным приветствием, как фараона, сына Амона. Александр задал прорицателю ряд вопросов об успехе своего похода, но не получил ответа ни на один из них. Однако все равно использовал это посещение с большой выгодой для себя. Позже этот случай способствовал возникновению истории о том, что он был признан сыном Зевса, и тем самым его «обожествлению». Весной 331 года он вернулся в Тир, назначил наместником Сирии знатного македонца Асклепиодора и приготовился выступить в глубь персидской державы, в Месопотамию. С завоеванием Египта его власти на всем восточном побережье Средиземного моря более ничего не угрожало; она была полной.
От Гавгамел до смерти Дария. В июле 331 г. Александр находился в Фапсаке, на реке Евфрат. Вместо прямого пути вниз по реке до Вавилона он выбрал путь через Северную Месопотамию к реке Тигр. Дарий, узнав об этом от своего полководца Мазея, посланного с передовым отрядом к месту переправы через Евфрат, прошел вверх по Тигру, чтобы ему помешать. На равнине у Гавгамел, между Ниневией и Арбелами, произошла решающая битва этой войны. Александр преследовал разбитую армию персов тридцать пять миль до Арбел, но Дарий со своей бактрианской конницей и греческими наемниками скрылся в Мидии.
Александр занял и провинцию, и город Вавилон. Сдавший город Мазей был утвержден на посту сатрапа вместе с македонским военным командующим и в порядке исключения получил даже право чеканить монеты. Такое же поощрение получило в Египте местное жречество. Столица Персии Сузы сдалась без сопротивления, и здесь Александр захватил огромные сокровища. В столице Александр оставил захваченную еще при Иссе семью Дария. Затем, разгромив горные племена уксиев, он прошел через перевалы хребта Загр в Центральную Персию и, успешно обойдя горный проход Персидские врата, удерживаемые сатрапом Ариобарзаном, захватил Персеполь и Пасаргады.
В Персеполе он торжественно сжег дотла дворец Ксеркса как символ того, что панэллинистическая война отмщения за поруганные ранее греческие святыни подошла к концу: таким представляется вероятное значение этого поступка, который позже предание объясняет как совершенный в состоянии пьяного веселья и вдохновленный афинской куртизанкой Таис. Весной 330 г. македонец двинулся в Мидию и занял ее столицу Экбатаны. Здесь он отпустил многих воинов фессалийцев и греческих союзников домой, щедро наградив их. С этого времени он постоянно подчеркивает, что ведет чисто личную войну против Дария.
Назначение Мазея сатрапом Вавилона говорило о том, что взгляды Александра на империю меняются. Он стал привлекать к управлению огромной захваченной территорией не только македонцев, но и местную знать, персов, и это послужило причиной растущего непонимания между ним и его людьми. Прежде чем продолжать преследования ушедшего в Бактрию Дария, он собрал всю персидскую казну и поручил ее Гарпалу, который должен был, как главный казначей, хранить ее в Экбатанах. Парменион тоже был оставлен в Мидии для охраны коммуникаций: присутствие этого пожилого человека, одного из полководцев Филиппа, стало его тяготить.
В середине лета 330 г. Александр стремительно двинулся в восточные провинции через Раги (ныне Рэй близ Тегерана) и Каспийские ворота, где он узнал, что бактрийский сатрап Бесс сместил Дария с престола. После стычки близ современного Шахруда узурпатор заколол Дария и оставил его умирать. Александр отправил тело Дария для погребения со всеми почестями в царской усыпальнице в Персеполе.
Поход на восток в Центральную Азию. Со смертью Дария у Александра не осталось никаких препятствий, чтобы объявить себя великим царем, и в Родосской надписи этого года (330) он именуется «Повелителем, господином Азии» — то есть Персидской империи. Вскоре после этого на монетах, отчеканенных в Азии, с его профилем появляется титул царя. Перейдя горы Эльбрус и пройдя в Каспий, он захватил город Задракарты в Гиркании и принял капитуляцию группы сатрапов и персидской знати; некоторых из них он оставил на прежних местах управлять городами и провинциями. Отклонившись во время этого похода на запад, возможно к современному Амолу, он частично уничтожил, частично покорил мардов и принял капитуляцию греческих наемников Дария. Теперь ничто не мешало ему стремительно двигаться на восток. В Ариане он учинил резню за то, что арии сначала сдались, но затем по наущению своего сатрапа Сатибарзана взялись за оружие. Сатибарзан бежал. Здесь, в этих землях, Александр основал еще один город — Александрию Арианскую (ныне Герат). Находясь в Дрангиане, в Фарахе, Александр получил известие о заговоре Филота, сына Пармениона. Здесь он наконец решился и принял меры, чтобы уничтожить Пармениона и его семью. Сын Пармениона Филот, командир элитарной конницы «друзей», был якобы замешан в заговоре против жизни Александра, осужден армией и казнен, а Клеандр, заместитель Пармениона, получил тайный приказ убить его, которому он покорно подчинился. Эта жестокость навела много страха на всех критиканов его политики и тех, кого он считал людьми своего отца, но укрепила его положение по отношению к сторонникам. Все сторонники Пармениона были ликвидированы, а люди, близкие Александру, получили повышение. Конница «друзей» была реорганизована и разбита на два отряда по четыре гиппархии в каждом (гиппархия — современный эскадрон. —
Примеч. пер.). Одной частью командовал старый друг Александра, Гефестион, другой — Клит, младший брат кормилицы Александра.
Из Фразы македонец во время зимы 330/329 г. прошел вверх по долине реки Гельманд через Арахозию и далее по горам мимо месторасположения современного Кабула в страну парапамисатов, где он основал город Александрию Кавказскую.
Бактрия и Согдиана. Бывший сатрап Дария Бесс пытался в Бактрии и других восточных провинциях поднять народное восстание, присвоив себе титул великого царя. Перевалив через Гиндукуш по высокогорному перевалу, ведущему на север, Александр, несмотря на нехватку продовольствия, привел свою армию к Драпсаку (современный город Андараб). Обойденный с фланга, Бесс бежал за реку Окс (ныне Амударья), а Александр, двигаясь теперь уже на запад, прибыл в Бактры — Зариаспу (ныне Балх) в Афганистане. Здесь он сместил прежних и назначил новых правителей провинций Бактрии и Арианы. Переправившись через Окс, он отправил своего полководца Птолемея вдогонку за Бессом, который тем временем был свергнут согдианином Спитаменом. Бесса схватили, бичевали и отправили в Бактры, где пытали и искалечили на персидский лад (отрубили нос и уши); позже он был предан публичной казни в Экбатанах.
Из Мараканд (ныне Самарканд) Александр прошел к городу Кирополю и реке Яксарт (ныне Сырдарья), границе Персидской империи. Там он сломил сопротивление скифских кочевников, пользуясь превосходством в техническом оснащении своей армии, разбил их на северном берегу реки и прогнал в глубь страны, в пустыню, и основал город Александрию Дальнюю. Тем временем Спитамен за его спиной поднял восстание во всей Согдиане, втянув в него и племена массагетов. Только осенью 328 года Александру удалось сокрушить самого решительного противника, с которым ему пришлось столкнуться. Позже в том же году он напал на Оксиарта и оставшихся бывших приближенных Дария, которые укрепились в горах Паратасены (ныне Таджикистан); легковооруженные воины-добровольцы захватили скалу, на которой стояла крепость Оксиарта, и среди пленных оказалась его дочь Роксана. Александр женился на ней в знак примирения, и оставшиеся его противники либо перешли на его сторону, либо были сокрушены.
Движение к абсолютизму. Случай, произошедший в Маракандах, вызвал еще большее отчуждение между Александром и его македонцами. В пьяной ссоре он убил Клита, одного из своих самых надежных командиров; но его армия и близкие друзья, видя, как сильно он страдает, испытывая чувство вины, принимают постановление, посмертно обвиняющее Клита в измене. Таким образом, трагическое событие послужило ступенью на пути Александра к восточному абсолютизму. Эта растущая тенденция нашла свое внешнее выражение в носимой Александром одежде персидских царей. Вскоре после этого в Бактрии он попытался навязать церемониалы персидского двора, включая падение ниц, грекам и македонцам; но для них этот обычай, привычный для персов, появляющихся в присутствии царя, связывался с богопочитанием и в отношении к человеку был нетерпим. Даже Каллисфен, который своей явной лестью, возможно, подталкивал Александра к тому, чтобы он видел себя в роли бога, с возмущением отказался от этого унижающего человеческое достоинство свободного эллина церемониала. Смех македонцев вызвал провал этого эксперимента, и Александр оказался достаточно умен, чтобы отступиться. Вскоре Каллисфена обвинили в том, что он был посвящен в заговор придворных против жизни царя, и казнили. (По другой версии, он умер в заточении. —
Примеч. пер.)
Вторжение в Индию. В начале лета 327 года Александр с новой, более мощной армией, командование которой подверглось реорганизации, выступил из Бактр. Если цифра, приводимая Плутархом, сто двадцать тысяч человек, сколько-нибудь достоверна, то сюда следует отнести все виды вспомогательных служб: погонщики мулов и верблюдов, медицинский корпус, торговцы-разносчики, артисты и художники, женщины и дети. Саму же, собственно, армию надо оценивать в тридцать пять тысяч человек. Повторно перевалив через Гиндукуш, Александр разделил свои силы. Половина армии с обозом под командованием Гефестиона и Пердикки пошла ущельем Хибер, сам же он повел остальную часть с осадными орудиями через холмистую местность к неприступной вершине с построенной крепостью Аорн и взял ее штурмом. Эта вершина расположена в нескольких милях к западу от реки Инд и чуть севернее реки Бунер. При этом македонцы показали чудеса осадного искусства. Весной 326 года, переправившись через Инд близ Аттока, Александр вошел в Таксилу, чей правитель дал ему слонов и воинов, взамен попросив помочь в борьбе с царем Пором, правившим землями между Гидаспом (ныне Джелам) и Акесином (ныне Шенаб). В июне Александр дал свое последнее великое сражение на левом берегу Гидаспа. После победы он основал там два города: Александрию Никею (в честь своей победы) и Букефалы (в память о своем коне Букефале, павшем в той битве); побежденный Пор стал его союзником. Точно неизвестно, слышал ли Александр о реке Ганг, но тем не менее ему не терпелось идти все дальше. Когда же он подошел к реке Гифасис, армия отказалась следовать за ним под непрекращающимися тропическими дождями: физические и психические силы воинов были на пределе. Недовольных представлял главный военачальник Александра Кен. Непреклонность армии заставила Александра повернуть назад.
Возвращение из Индии. На Гифасисе он воздвиг двенадцать алтарей, посвященных главным олимпийским богам, а на Гидаспе построил флот в 800–1000 кораблей. Расставшись с Пором, он отправился вниз по Гидаспу, впадавшему в Инд; половина армии погрузилась на корабли, а другая половина тремя колоннами шла маршем по двум берегам. Флотом командовал Неарх, а собственным кораблем Александра — кормчий Онесикрит; оба впоследствии составили отчет о плаваниях, дошедшие в качестве свидетельств до нас. Этому походу сопутствовало много небольших сражений и безжалостная резня, учиненная при штурме города племени маллов близ реки Гидраот (ныне Рави). Александр получил серьезную рану, которая ослабила его здоровье.
Прибыв в Паталы, он построил гавань и доки и исследовал оба рукава Инда, которые далее, вероятно, впадали в Великое море. Он предполагал повести назад часть армии по суше, а остальные войска должны были на 100–150 кораблях под командованием Неарха совершить исследовательское плавание вдоль берегов Персидского залива. Из-за стычек с местными племенами Неарх отплыл в сентябре 325 года, но, дожидаясь северо-восточного муссона, задержался до конца октября. Александр тоже в сентябре отправился вдоль берега через Гедросию, но из-за непроходимой дикой местности, отсутствия воды вскоре был вынужден повернуть в глубь материка и поэтому не сумел осуществить свой план обеспечения флота продовольственными базами. Еще ранее он отправил под командованием Кратера вещевой обоз, осадные орудия, слонов, больных и раненых воинов, дав для охраны три отряда тяжеловооруженной пехоты. Кратер должен был через проход Муллы, Кветты и Кандагар вести их в долину Гельманда, а уже оттуда через Дрангиану воссоединиться с главными силами армии на реке Аман (ныне Минаб) в Кармании.
Поход Александра через безводную пустыню Гедросии (ныне Белуджистан) оказался губительным: мучила нехватка питья, еды, топлива. К тому же во время стоянки у пересохшего русла реки внезапный ночной паводок, вызванный муссоном, унес много жизней, особенно женщин и детей. В конце концов Александр воссоединился с отрядами, плывшими на кораблях Неарха. Флот за это время также понес потери, и моряки испытали множество приключений.
Политические деяния. Александр продолжил свою политику замещения старших чиновников и предания казни нерадивых наместников, которую уже начал проводить, еще находясь в Индии. За время между 326–324 гг. он сместил свыше трети своих сатрапов и шестерых предал смерти. В Мидии три военачальника, и среди них Клеандр, брат Кена, умершего чуть ранее, были обвинены в вымогательстве, вызваны в Карманию, где их арестовали, судили и приговорили к казни.
Весной 324 года Александр вернулся в Сузы, где обнаружил, что его главный казначей Гарпал, очевидно боясь расплаты за казнокрадство, бежал с шестью тысячами наемников и пятью тысячами талантов денег в Грецию. В Сузах Александр устроил празднество, отмечая захват Персидской империи и свадьбу — свою собственную и своих восьмидесяти военачальников: в продолжение его политики слияния македонян и персов в единую расу они взяли себе жен — персиянок. Александр и Гефестион женились соответственно на дочерях Дария Статире и Дрипетиде, а десять тысяч его солдат, женатых на местных женщинах, получили от него щедрые дары.
Политика этнического слияния все больше портила его отношения с македонцами, которым совсем не нравилось его новое понимание империи. Их сильно возмущала его решимость включить персов в армию и администрацию провинций на равных с ними правах. Прибытие тридцати тысяч юношей, прошедших македонскую военную подготовку, и включение восточных воинов из Бактрии, Согдианы, Арахозии и других земель империи в конницу «друзей» только раздуло огонь их недовольства; в дополнение ко всему, персидская знать с недавних пор получила право служить в конной гвардии царя. Большинство македонцев видели в этой политике угрозу их привилегированному положению. Этот вопрос крайне обострился в 324 году, когда решение Александра отправить на родину македонских ветеранов во главе с Кратером было истолковано как намерение перенести местопребывание власти в Азию. Вспыхнул открытый мятеж, в котором не участвовала только царская охрана. Но когда Александр все-таки распустил почти всю армию македонцев и на их место набрал персов, оппозиция была сломлена. За эмоциональной сценой примирения последовало грандиозное пиршество (девять тысяч гостей) в ознаменование окончания разногласий и установления партнерских отношений в управлении македонянами и персами. Подчиненные, покоренные народы в это содружество партнеров не вошли. Десять тысяч ветеранов отправились с дарами в Македонию, и кризис был преодолен.
Летом 324 года он попытался решить проблему неприкаянных наемников, тысячи которых скитались по Азии и Греции; многие из них — политические изгнанники из собственных городов. Декрет, привезенный Никанором в Европу и провозглашенный в Олимпии (сентябрь 324 года), предписывал всем городам Греческого союза вернуть всех изгнанников и их семьи (кроме фиванцев).
Последний год. Осенью 324 года в Экбатанах умер Гефестион, и Александр устроил своему ближайшему другу небывалые похороны в Вавилоне. Греции он велел чтить Гефестиона как героя, и, видимо, именно с этим повелением было связано требование, чтобы и ему самому воздавали божественные почести. Уже давно он лелеял мысли о своей божественности. Греческая философия не проводила четкой разделительной черты между богом и человеком. Их мифы дают не один пример того, как человек, совершив великие деяния, обретал статус божества. Александр не раз поощрял лестные сравнения своих деяний с теми, которые совершили Дионис или Геракл. Теперь он, похоже, становится убежденным в реальности своей божественности и требует признания ее другими. Нет причины полагать, что это требование было обусловлено какими-то политическими целями (статус божества не давал его обладателю никаких особых прав в греческом городе-государстве); скорее это было симптомом развивающейся мании величия и эмоциональной неуравновешенности. Города волей-неволей уступали его требованию, но зачастую делали это с иронией: в спартанском декрете говорилось: «Если Александр желает быть богом, пусть будет богом».
Зимой 324 года Александр осуществил жестокую карательную экспедицию против коссеев в горах Луристана. Следующей весной в Вавилоне он принял посольство из Италии, но позже появились рассказы, что приходили посольства и от более далеких народов: карфагенян, кельтов, иберийцев и даже римлян. Приезжали к Александру и представители греческих городов — в венках, как и положено было появляться перед божественным. Весной же, следуя по маршруту Неарха, он основывает еще одну Александрию — в устье Тигра, составляет планы развития морских связей с Индией, для чего предварительно необходимо было совершить экспедицию вдоль Аравийского побережья. Он также отправил Гераклида исследовать Гирканское (Каспийское) море. Внезапно, занимаясь усовершенствованием ирригационной системы Евфрата и заселением побережья Персидского залива, он после длительной пирушки заболел и через десять дней, тринадцатого июня 323 года, умер, на тридцать третьем году жизни. Он царствовал двенадцать лет и восемь месяцев. Тело его, отправленное Птолемеем, впоследствии ставшим царем в Египте, было помещено в Александрии в золотой гроб. В Египте и Греции ему воздали божественные почести.
Наследник на трон указан не был, и его полководцы высказались в пользу слабоумного незаконнорожденного сына Филиппа II Арридея и сына Александра от Роксаны, Александра IV, родившегося уже после смерти отца; сами же после долгих споров разделили сатрапии между собой. После смерти Александра Великого империи не суждено было сохраниться как единому целому. Оба царя были убиты: Арридей в 317 году, Александр IV в 310–309 гг. Провинции стали независимыми государствами, а военачальники, следуя примеру Антигона, провозгласили себя царями.
Достижения Александра, личность и характер великого македонца, его военное искусство. Мало достоверной информации сохранилось о планах Александра. Если бы он остался жив, то несомненно завершил бы завоевание Малой Азии, где все еще существенно независимыми оставались Пафлагония, Каппадокия и Армения. Но в последние годы цели Александра, похоже, сместились в сторону исследований окружающего мира, в частности Аравии и Каспия.
В организации своей империи он во многих сферах импровизировал и приспосабливал найденное к своим нуждам. Исключением была его финансовая политика: он создал централизованную организацию со сборщиками налогов, возможно независимую от местных сатрапов. Частично неудачи этой организации объясняются слабостью руководства со стороны Гарпала. Но выпуск новой монеты с определенным фиксированным содержанием серебра, основанным на афинском стандарте, вместо старой биметаллической системы, распространенной в Македонии и Персии, везде способствовал развитию торговли, и это, вместе с притоком большого количества золота и серебра из персидской казны, послужило очень нужным и важным стимулом для экономики всего Средиземноморского региона.
Основание Александром новых городов — свыше семидесяти, — согласно Плутарху, открыло новую страницу в истории греческой экспансии. Несомненно, многие колонисты, вовсе не добровольцы, оставляли города, а браки с коренными жителями Азии приводили к растворению греческих обычаев. Однако в большинстве городов влияние греков (более, чем македонян) осталось сильным. И поскольку наследники власти Александра в Азии Селевкиды продолжили этот процесс ассимиляции, распространение эллинистической мысли и культуры на значительную часть Азии, до Бактрии и Индии, явилось одним из самых замечательных результатов завоеваний Александра.
Его планы расового слияния потерпели неудачу: македоняне единодушно отвергли эту идею, и в империи селевкидов четко доминирующим был греческий и македонский элемент.
Империя Александра скреплялась его собственной динамической личностью. Он соединял в себе железную волю и гибкий ум со способностью доводить себя и своих воинов до высшего напряжения сил. Он знал, когда нужно отступить и пересмотреть свою политику, хотя делал это очень неохотно. У него было развитое воображение, не без романтических импульсов: личности, подобные Ахиллу, Гераклу и Дионису, часто приходили ему на ум, а приветствие жреца у оракула Амона определенно повлияло на его мысли и честолюбивые устремления, на весь последующий период жизни. Он быстро поддавался гневу, и тяготы долгих походов все резче обозначали эту черту его характера. Безжалостный и своенравный, он все чаще прибегал к устрашению, без колебаний уничтожая людей, вышедших у него из доверия, причем его суд не всегда претендовал на объективность. Долго после его смерти сын Антипатра Кассандр не мог без содрогания пройти мимо его статуи в Дельфах. Однако Александр, несмотря на эти качества своего характера, пользовался любовью у солдат, в верности которых не приходилось никогда сомневаться, без жалоб прошедших с ним долгий путь до Гифасиса и продолжавших верить в него, какие бы трудности ни выпадали на их долю. Единственный раз Александру не удалось настоять на своем, когда, измотанное физически и психологически, войско отказалось следовать за ним далее, в незнакомую Индию.
Александр — величайший среди известных миру полководцев — проявлял необычайную гибкость как в комбинировании различных видов вооружения, так и в умении приспособить свою тактику к тем новым формам ведения войны, которые противопоставлял ему противник, будь то кочевники, горцы или Пор со своими слонами. Его стратегия была искусно подчинена богатому воображению, и он знал, как воспользоваться малейшими шансами, представляемыми в любом сражении, которые могли бы сыграть решающую роль в победе или поражении. Он также, победив никогда не останавливался на достигнутом и безжалостно преследовал бегущего врага. Александр чаще всего использовал для нанесения сокрушительных ударов конницу, и делал это настолько эффективно, что ему редко приходилось прибегать к помощи своей пехоты.
Недолгое царствование Александра явилось решающим моментом в истории Европы и Азии. Его поход и личный интерес к научным исследованиям во многом продвинули знания о географии и естественной истории. Его деятельность привела к перенесению великих центров европейской цивилизации на восток и к началу новой эры греческих территориальных монархий. Она способствовала распространению эллинизма по всему Ближнему Востоку широкой колонизаторской волной и созданию — если не в политическом смысле, то, по крайней мере, в экономическом и культурном — единого мира, простирающегося от Гибралтара до Пенджаба, открытого торговле и социальным взаимоотношениям. Справедливо будет сказать, что Римская империя, распространение христианства как мировой религии и долгие века существования Византии явились в некоторой степени плодами трудов Александра Великого.
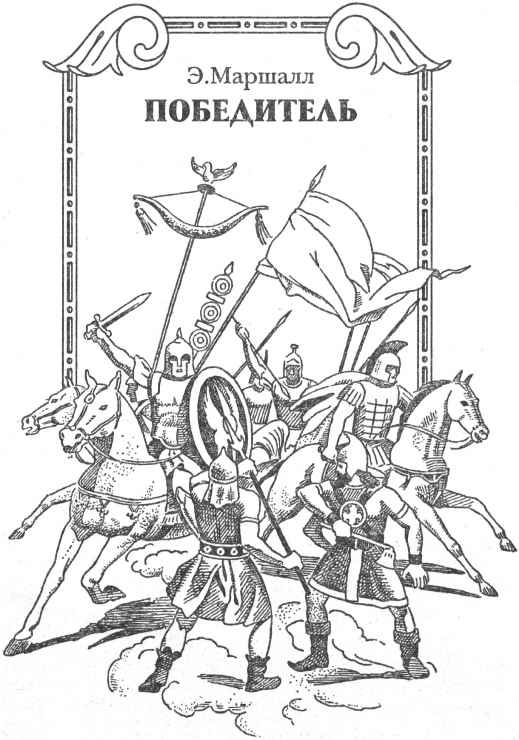
Персонажи, действующие в романе
Реальные исторические лица:
Александр Великий;
Филипп из Македонии — отец Александра;
Олимпиада — мать Александра;
Роксана — бактрианская принцесса, первая жена Александра и мать его последнего сына;
Таис — афинская куртизанка;
Аристотель — учитель Александра на протяжении 3–4 лет;
Клеопатра — сестра Александра;
Клеопатра — вторая жена Филиппа;
Ланис — няня Александра;
Клит — младший брат Ланис, друг детства Александра;
Птолемей Лаг — товарищ Александра по играм, а впоследствии военачальник в его армии;
Леонид — дядька и наставник Александра;
Лисимах — воспитатель Александра;
Антипатр — регент Македонии в отсутствие Александра;
Парменион — один из лучших полководцев Александра;
Аттал — военачальник;
Филот — сын Пармениона;
Барсина — вдова Мемнона;
Мемнон из Родоса — талантливый полководец армий персидского царя, грек;
Каллисфен — племянник Аристотеля;
Бесс — сатрап одной из областей Персии; убийца Дария;
Гефестион — близкий друг Александра, способный военачальник;
Статира — вторая жена Александра в полигамном браке;
Парисатида — третья жена Александра в полигамном браке;
Гарпал — друг детства Александра;
Верховные жрецы в Додоне, в храме Зевса-Аммона.
Возможно, существовавшие, но оставшиеся истории неизвестными лица, которые поэтому можно считать вымышленными персонажами по праву поэтической вольности. Что касается последней сцены с Роксаной и Александром, когда он лежал в лихорадке, возможно малярийной, ничто не свидетельствует ни в пользу ее, ни против. То, как она происходила, зависело бы от характера Роксаны, в моем понимании, благородного. То же самое относится и к вопросу — была ли Таис его любовницей или нет. Некоторые историки полагают, что была, исходя при этом из ее действий в Персеполе, которые, по всей вероятности, входили в тайный политический план Александра. Стихотворение Драйдена, хоть и основывается на правде, в целом является вымыслом. Прекрасная опера Массне основывается лишь на одном вероятном факте. Встреча Роксаны и Александра в детстве вымышлена, хотя вполне могла и быть. Эта книга — роман с множеством вымыслов, ни один из которых не противоречит известным фактам.
Вымышленными являются следующие персонажи:
Элиаба (Абрут) — личный летописец Александра;
Шаламарес — дядя Роксаны;
Сухраб — первый муж Роксаны;
Клодий — шпион Александра;
Глава 1
НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНИЯ

1
Я, Александр, сын и наследник Филиппа из Македонии и Олимпиады, дочери царя Эпира,
[156] написал эту первую главу своей тайной истории, нечто вроде предисловия к ней, своей собственной рукой.
По греческому летосчислению шел 433 год, или год 108-х Олимпийских игр.
[157] Прошло сто тридцать семь лет с тех пор, как греки в битве при Саламине заставили персидские флотилии повернуть назад. Стоял день осеннего равноденствия, и только семь дней назад отмечалась годовщина этой незабываемой победы.
Возле дороги в торговом городе Пелла в Македонии тринадцатилетний отрок — его четырнадцатый год пребывания на земле стремительно приближался — наблюдал за партией пыльных и грязных рабов: мужчин, женщин и детей, гонимых по древней караванной дороге. Эта дорога от Фракии тянулась на запад вдоль северных берегов Эгейского моря до Фермы. Здесь она поворачивала на север, чтобы, коснувшись Пеллы и старой столицы Эги, через горные проходы извилистым путем пробраться к верховьям реки Апс и затеряться в богатых городах иллирийцев на Ионическом море.
Сей отрок был я, Александр. Тем, кто читает эту хронику, будет ли интересно взглянуть на меня, когда я стоял там, уже не мальчик и еще не мужчина, крепкого сложения, как и большинство македонских юношей, с рыжевато-золотистыми волосами, нередко встречающимися у моих сверстников. Голубые глубоко посаженные глаза смотрели на мир внимательно и зорко. Одежды мои были, несомненно, богаче, чем у большинства юных македонцев, ибо даже сыновьям зажиточных коневодов полагалось придерживаться свойственного Македонии старомодного образа жизни, простых и строгих манер.
Случилось так, что я остался один, если не считать друга детства Клита, младшего брата Ланис, бывшей мне когда-то няней. Даже строгого Леонида, наставника, более известного моим высокородным сотоварищам под кличкой «Каменнолицый Старик», услали прочь с каким-то поручением, и в тот момент я не был под его неусыпным надзором. С любопытством глядя на бредущих людей, я испытывал странное возбуждение, которое с каждой минутой все возрастало. Грубые одежды и несвойственные нам цвет и черты лица — все это давало пищу воображению. Вдруг меня осенила мысль, от которой защекотало под кожей, что эти рабы идут из земель, лежащих далеко за Фракией, что на самом востоке Греческого государства, возможно, из-под Геллеспонта и самых западных окраин Персидской империи. А эта империя, как всем известно, охватывала добрую половину знакомого человечеству мира.
Один из рабов привлек к себе мое особое внимание. Юноша моего возраста, с четко очерченным орлиным носом, он был, как и большинство фракийцев, рыжеволос. Но нет, он не фракиец — не та посадка глаз, не тот в них блеск, когда он бросил на меня изучающий и испуганный взгляд. Вид его обожженной загаром кожи наводил на мысль, что он из какой-то страны в пустыне неподалеку от устья Нила.
Вскоре он должен был удалиться за пределы досягаемости моего голоса и затем исчезнуть за поворотом дороги. Тогда ничего бы не вышло из моего страстного желания поговорить с ним, вступить с ним в какие-то очень важные деловые отношения, хотя я лишь смутно догадывался, какие именно. Эта возможность быстро уплывала, как случалось и со множеством других, частью из них благородных, которые дразнили меня своей досягаемостью только для того, чтобы потом исчезнуть. Разве не предупреждали меня постоянно то мать, то Каменнолицый Старик, чтобы я не поддавался первому побуждению, а действовал с трезвым расчетом?
Несомненно, они были правы…
И вдруг на сердце у меня полегчало. Я и забыл об источнике питьевой воды совсем неподалеку от того места, где стояли мы с Клитом. То ли у охранника пересохло во рту от дорожной пыли, а может, он не поил свой двуногий скот с наступления полуденной жары, только он выкрикнул распоряжение, и рабы, с трудом волочившие ноги, остановились. Я замер на месте, опасаясь спугнуть судьбу. Конечно, я мог подбежать к охраннику и велеть прекратить шествие, что вправе был сделать в своем государстве как царский сын. И если этот малый не знает греческого, я все же смог бы заставить его понять меня, и он непременно бы узнал царевича по богатому плащу с застежкой в виде льва, украшенной драгоценным камнем. Но я избежал досадного промаха и был весьма благодарен манящей прохладе живительного источника, предотвратившей мою ошибку. Возможно, Гермес, бог странствующих, именно с этой целью и поместил здесь родник.
— Я собираюсь поговорить с молодым рабом, — сказал я Клиту, быстро трогаясь с места. — И не суетись, я не приму возражений.
Да, я желал порасспросить загорелого до черноты юношу и теперь точно знал, какие задам вопросы. Даже если он почти не говорит по-гречески и изъясняется на каком-нибудь диковинном диалекте, я был уверен, что все равно мы поняли бы друг друга. Но что для меня оставалось загадкой, так это собственный интерес к чужеземцу. Отчего меня так разбирало любопытство? Ведь толпы рабов проходили здесь через каждые несколько дней. Я смотрел, как они идут, скованные цепями и с ярмом на шее, и, ощутив только легкий укол быстропроходящей жалости, спокойно возвращался к своим трудным играм: бегу, прыжкам и другим упражнениям по военной подготовке, предписанным Филиппом и осуществляемым на деле Каменнолицым Стариком, которые поглощали большую часть моего времени между едой, сном и учебой.
Между тем где-то в глубине моего сознания уже созревал план. Не могу сказать определенно, что это был за план и почему я так верил в его осуществимость. Он возник из чего-то неясного, но волнующего, что я разглядел в лице молодого раба.
Наверняка голова моя склонилась слегка влево, что всегда случалось, если меня занимало какое-то дело. Не доходя пятнадцати футов до группы рабов, я встретился с Клитом взглядом и тихо сказал:
— Побудь здесь. Я хочу побеседовать с ним наедине.
Несмотря на приглушенность, голос мой сохранил властный звон металла. «Даже Филипп не бывает столь убедителен», — подумал Клит. Царь отдавал свои распоряжения сильно рокочущим баритоном или, случалось, пьяными выкриками.
Я медленно приближался, и губы сами складывались в вопрос: «Твое имя и племя?» Но прежде чем он прозвучал, юноша-раб заговорил на чистом аттическом греческом языке, которым, восседая на троне, пользовался Филипп, принимая послов от других царей. И я владел им исправно, как требовал от меня в учебные часы выживший из ума Лисимах, но слишком уж часто сбивался на македонский диалект, на котором в то же время говорили во всех украшенных колоннами городах Греции и в деревнях.
Юноша произнес негромко, но твердо и без нытья, часто свойственного рабам:
— Молю, юный господин, купите меня.
В тоне его я ясно расслышал нотки мужества, но чувствовалась и такая глубина горя и страстного желания, которые мне редко доводилось слышать.
— Кто ты? И прибыл откуда?
— Я родом из Палестины. А имя мое Элиаба. Я сын ученого еврея, который вызвал немилость нашего сатрапа.
Говоря это, он прижимал руки к бокам, очевидно желая скрыть от охранника умоляющий жест, но густые рыжие брови поднимались и опускались, подкрепляя слова. Эта манера говорить казалась несколько странной, но каким-то непонятным мне образом внушала мысль, что предо мной мальчик с глубоким и сильным умом.
— Я знаю о Палестине под Тиром, — сказал я. — Ты умеешь писать по-гречески?
— О, да. Рука моя так же проворна, как ваш благородный язык. Я пользуюсь тайнописью собственного изобретения, поэтому шпионам прочесть ее нелегко.
— Куда вас ведут, Элиаба? Как трудно произносить это имя, если…
— Господин, я прежде работал на плантации в Византии, а теперь нас ведут в Эпидамн в Иллирии. Бог отца моего свидетель, это долгий путь! Жена одного благородного господина заказала у работорговца несовершеннолетнего мальчика, который стал бы слугой ее сына и научил его языку, дабы тот избежал эпитета «варвар». Помощник работорговца выбрал меня и купил по дешевке. Но наш охранник как раз из тех, кто с радостью положит в карман горсть золотых монет. Он не моргнув глазом солжет госпоже, что я умер в пути, к чему я был очень близок. Купите меня, благородный господин, я согласен стать вашим летописцем, чтобы выразить всю глубину вашей мысли.
— Когда я стану царем, у меня будет несметное число и писарей, и историков. Впрочем, мне и теперь нужен хоть кто-нибудь, кто записывал бы самые потаенные мои мысли, о которых ты говоришь, мои планы и цели, чтобы ученые, когда я стану всего лишь прахом, размышляли над ними и расшифровывали их для людей. Ладно, я переговорю с охранником. Ты же останься среди последних, кто будет пить из источника. И молись богу отца своего!
Я подошел к человеку с лукавым лицом и окладистой черной бородой. Держа в руке плетку, он сидел на зеленом берегу в некотором отдалении от источника, но, заметив мое приближение, тотчас вскочил на ноги.
— Я — Александр, сын и наследник царя Филиппа.
Прижав локти к бокам, растопырив пальцы и выгнув спину, что на Востоке выражало полную прострацию, он отвечал хнычущим голосом просителя:
— Чем могу услужить тебе, Александр, сын великого Филиппа?
— Я хочу приобрести мальчика Эли… Элиабу, если цена не будет слишком уж высока. — К этому времени я уже догадался, что он армянин, чья родина находится к востоку от Таврических гор.
— О, прекрасный царевич, хоть лет ему и не больше, чем тебе, он самый ценный раб в этой партии. Мой господин выбрал его в наставники своему сыну…
— Да хоть бы и в любовники своей дражайшей супруге, которая, как всем известно, томится по незрелым мальчикам. Так какова же будет цена?
— Как насчет десяти статеров в монетах из желтого металла горы Пангея, которую захватил великий Филипп? Но чтобы одинакового веса и пробы…
— Дороговато. Я предложу тебе пять.
— А семь дашь?
— Тоже большая цена. Во столько обходится девственная танцовщица самому персидскому царю. Впрочем, в моем кошельке есть семь монет, и я готов отдать их тебе.
— Тогда попрошу, сунь их незаметно мне в руку, когда никого не будет поблизости, и прикажи Элиабе спрятаться в зарослях за источником. Предатель из их же среды — ведь у рабов нет чести — расскажет мне об этом за сикель ячменной муки, но клянусь, что отправлю мерзавца на каторгу в соляные копи, где у него живо усохнет и отнимется язык. Вот, я протягиваю тебе ладонь. Умоляю, загороди ее своим телом, чтоб не увидели эти проныры.
— Лови кошелек. Он из серебряной ткани и сам по себе стоит уже полстатера.
— О, Александр, я еще не раз услышу о тебе, — бормотал изумленно охранник, в то время как кошелек исчезал в складках его одежды.
— Да, услышишь! И впрямь услышишь, если только солнце не провалится в море до того, как я сяду на трон.
2
Мой новый раб широко раскрытыми испуганными глазами внимательно следил за каждым моим движением, и мне было достаточно лишь указать пальцем на заросли кустарника, чтобы он тотчас же растаял подобно тени, покинув толпу теснившихся у источника рабов. Возможно, некоторые из них заметили этот маневр и догадались об истинной его причине, но если кое-кто и хотел забить тревогу, дабы извлечь из этого выгоду, то вовремя передумал, взвесив, насколько это рискованно. Большинству же послужила прибежищем мысль, — почти единственная, в которой раб находил утешение, — что судьба других рабов не стоит и малого клочка кожи с собственной спины. Да и охранник уже спешил отдать приказ двигаться дальше. Я смотрел и слушал до тех пор, пока они не скрылись за поворотом дороги. Ни переполоха, ни возмущения я не заметил в их жалких рядах. Это была всего лишь очередная партия рабов, перегоняемых с одной плантации на другую по воле неведомых им богов и людей и по велению неблагосклонной к ним судьбы.
Я отыскал еврейского юношу в зарослях кустов. Глаза его светились отчаянной надеждой. Но я знал, — не зря же меня учили, — как следует обращаться с только что купленными рабами.
— Я заплатил за тебя немалые деньги, — сказал я сухо.
— Моему господину угодно, чтобы я знал свою цену? — спросил Элиаба, нервно вскидывая и опуская рыжие брови.
— Да, и это не прихоть, а твердое намерение. Я отдал семь золотых статеров и кошелек из серебряной ткани в придачу.
— Вас не надули, клянусь Иовом, богом отца моего и моим собственным.
— Ба! Еще одно имя, которым варвары называют Зевса. Впрочем, может статься, что ты говоришь правду. В таком случае удел твой не будет тяжелым. Но если меня обманули, ты будешь выводить свои письмена острием железной кирки на стенах соляных копей. Следуй за мной и держись от меня в трех шагах. Хочу показать тебя матери, царице Олимпиаде. Царской дочерью она была когда-то сивиллой в храме бога Виноградной Лозы
[158] в Самофракии. Она точно скажет, что предвещает мне эта покупка: добро или зло.
Мы отправились во дворец моего отца, царя Филиппа. Так грубые македонцы называли царские палаты, потому что они значительно превышали размеры жилищ его подданных, выстроенных из гранитных глыб, и украшались портиком и террасой наподобие роскошных домов знати в центрах столиц, находящихся к югу от нас: в Фивах, Коринфе, Олимпии, даже в Спарте, ставшей с закатом ее мощи мрачной и угрюмой, в Дельфах и некогда надменных Афинах, низведенных теперь до размера лапы персидского льва. Пелла располагалась в приятном местечке с видом на чистое озеро, но сам город не блистал
ни благородством, ни красотой и до недавних пор служил посмешищем для посторонних, не находивших в нем ни высоких стен, ни просторных храмов, ни прекрасных садов, ни уличных колонн, возведенных в честь каких-либо великих событий.
У нас отсутствовала старая аристократия — окружение Филиппа состояло исключительно из богатых владельцев огромных табунов лошадей и иного скота. Ничтожество наших рынков было под стать коринфским, а наши праздники больше напоминали пьяные разгулы. Все это было мне хорошо известно и без обличительных речей моей матери, презрительно адресовавшей их городу, который она именовала не иначе как «постоялый двор». Но я знал и то, что имена «Пелла» и, в особенности, «Филипп» стали влиятельнейшими именами в моей собственной жизни и жизни других македонцев и греков.
До прихода к власти Филиппа казалось, что боги наложили проклятье на царствующий дом Македонии. Доживая здесь свои последние дни, старый озлобленный Еврипид мог бы вплести его печали в одну из своих гениальных трагедий. Незаконнорожденный сын убил своего дядю и братьев, родного и двоюродного, чтобы завладеть троном; царица отравила царя Аминту из-за кровосмесительной любви к мужу собственной дочери, а чуть позже и дочь постигла та же судьба. Но Филипп был сделан из другого материала. Вместо того чтобы оставаться мелким царьком над пастухами овечьих отар и табунов с номинальной властью над дикими горными племенами и грызущимися кланами, он в свои пятнадцать лет объединил всю Македонию под своей единоличной властью, сколотил великолепную армию с прекрасно вымуштрованной пехотой, конницей и самой непобедимой фалангой в истории. С ними он завоевал Амфиполь с богатыми рудниками Пангейской горы, Пидну и Потидею, Абдеры и Маронею во Фракии и вассальный город Афин Метону. После двух чувствительных поражений он разбил фокейцев, после чего стал повелителем всей Фессалии с ее щедрыми пастбищами и виноградниками. Главный город севера Олинф пал, сраженный его мечом, за одиннадцать лет до того, как жена-колдунья Олимпиада родила ему сына. В следующем году после того, как Фракия стала его провинцией, он двинулся в центральную Грецию, и вскоре афинский оратор Демосфен произнес свою первую филиппику.
[159]
Требовалось кое-что посильнее бури, чтобы остановить завоевателя — порывистого, сильного, крепко пьющего, грубо обтесанного македонца. Он объявил себя победителем всех эллинов, защитником панэллинизма
[160] и гробницы бога Аполлона в Дельфах — так кто же смог бы противиться ему?
— Мой царь-отец идет бодрым маршем, — говаривал я своим друзьям детства, — и руки у него загребущие. Боюсь, когда вырасту, мне уже нечего будет завоевывать.
Но это были всего лишь слова, которые только отражали вечное недовольство моей матери; в сердце же у меня упрямо горел огонь.
И вот я стоял, по привычке склонив голову набок, и думал. Как утверждает Каменнолицый, я трачу слишком уж много времени на размышления и чтение разных книг. В особенности доставалось моей любимой «Илиаде», которая и ночью лежала у меня, спящего, под подушкой. Ко всем моим приобретениям — будь то купленный раб, рог с чернилами или простое перо — он относился с неодобрением, считая, что эти «забавы» лишь отвлекают меня от главного. А главным он называл умение управлять и вести безжалостные войны. Да и моя мать при всей ее склонности к таинственному и сладостному, болея душой за меня, страстно желала, чтобы я поскорее вырос, взялся за оружие и позаимствовал у Филиппа хоть часть его славы. Но я не мог расти так уж быстро, даже в угоду Олимпиаде. И все же я полагал, что она одобрит покупку, хотя бы лишь для того, чтоб насолить Филиппу. Ведь будь царь здесь, он с яростью возражал бы. Оставив иудейского юношу в коридоре, я приблизился к ее покоям и отодвинул занавес из плотной ткани, закрывавший вход.
Она занималась тем, что убирала в серебряную клетку пятнистую змею длиной в двенадцать футов, которая в обхвате превосходила руку тяжеловеса от плеча до локтя. Принес эту гадину, купив ее на рынке диких зверей, что на побережье Понта Эвксинского,
[161] один из родственников Олимпиады. А называлась змея питоном. Поскольку пифоном назывался также и священный табурет высшего жреца в Дельфах, а жрица, читавшая пророчества, звалась пифией, нетрудно было догадаться, что эта змея примет участие в оргиастических ритуалах Олимпиады, посвященных культу Диониса, бога Виноградной Лозы. А иначе зачем же еще понадобилась ей змея? Я не верил пьяной шутке Филиппа, что питон заменяет ей мужа в его отсутствие. И все же нельзя было не заметить, как ласкает она томным взглядом эту мерзкую гадину, как предается восторженным речам, когда змей кольцами обвивается вокруг ее стройного прекрасного тела. Перед тем как она захлопнула дверцу клетки, стреляющий язычок питона скользнул по ее губам. Затем царица повернулась, пристально поглядела на меня, и колдовской взгляд ее сменился любящим, материнским.
— Ну, чем занимался? — ласково спросила она. — Конечно же, ничем путным.
— Я купил раба.
— Рабыню? — быстро переспросила она. Последнее время она то и дело намекала, что мне пора заиметь собственную служанку — это ускорило бы мое возмужание.
— Нет, секретаря. Думаю, что могу называть его именно так. Он иудей. Правильно говорит по-гречески и умеет бегло писать.
— Что ж, совсем неплохо. Он пригодится тебе, когда ты станешь царем или регентом. В особенности если способен запоминать и быстро записывать обрывки разговоров, услышанные им при дворе. Может быть, он поможет выловить шпионов и предателей и разоблачит заговоры против твоей царской персоны; и тогда древо виселицы принесет обильный урожай фруктов, свисающих с его ветвей на железных черенках.
— Нет, я купил его не для этого.
Я был откровенен. Мне нужен был не соглядатай, а верный и преданный друг, товарищ по играм и по охоте, а придет срок — и в военных делах. А все эти разговоры об изменах и хитрых уловках мне нисколько не нравились.
— По крайней мере, он будет тебе полезен. А где ты взял золото, чтобы заплатить за него? Того, кто умеет бегло писать на правильном греческом, не купишь за белые или червонные деньги — только за желтые.
— Я заплатил семь статеров.
— Почему бы и не заплатить, коль он тебе нужен? Разве ты не Александр, наследник трона Филиппа и много чего еще, происходящий от самого Ахиллеса по моей линии, а по линии Филиппа — от Геракла Железнорукого! Клянусь Дионисом и Адонисом, которые любят меня неземной любовью, это, должно быть, золото, накопленное тобой на покупку у старого Пармениона большого скифского лука.
— Да, оно самое. Ах, этот лук из рога и слоновой кости… Таких в Греции еще не видали. Бьет на двести шагов, если его согнуть до упора. Представь только, охранник запрашивал десять статеров — вдвое больше, чем стоит красивая рабыня-девственница.
— Я не нахожу в этом ничего предосудительного. Пора бы уж золоту Пангейских гор послужить тебе, ради твоего удовольствия и пользы, а не Филиппу, который разбазаривает его на оружие и лошадей, на содержание македонских олухов, которых он называет своими воинами. Я уж не говорю о женщинах, которых он наряжает в шелка и усыпанные драгоценностями платья — можно подумать, что я об этом не знаю. Ха!
Мать замолчала, задумалась. Лицо ее оставалось спокойным, в нем не было ни злобы, ни ненависти, но было нечто более страшное, чему я не мог подобрать названия. Я называл это твердой решимостью, в которой она находила тайное удовольствие.
— Но ведь он еще не взял себе второй жены, чтобы та нарожала ему кучу наследников.
— Лучше уж и не брать ее, если ему дорог солнечный свет.
И тут лицо ее осветилось пугающе-дивной красотой. Темнобровое, как у египтянок, с огромными ясными глазами, светящимися жемчужно-голубым блеском, оно было красивым всегда, за исключением редких моментов ярости. И тело ее было роскошно, оно отличалось изысканной утонченностью форм; а дивные груди, которые она любила обнажать предо мной, думается, для того, чтобы разбудить во мне чувственность, были прекрасны, как у Афродиты Праксителя.
[162]
— Александр, помнится, я рассказывала тебе, как в день твоего рождения сгорел дотла большой эфесский храм богини Артемиды и зарево пожара было заметно с острова Самос.
— Да, и не раз.
— Задумывался ли ты над этим? Я-то размышляла, да толку мало. Никак не пойму, зачем Зевсу понадобилось сжигать храм своей дочери, сестры-близнеца Аполлона, зачатой им под видом лебедя, возлежащего с прекрасной Ледой… Ах да, она же враг Афродиты, богини любви, от которой Зевс без ума. Забудь об этом. Как-нибудь, не в столь отдаленном будущем, я поведаю тебе о другом чуде, куда более замечательном, которое произошло в ночь твоего зачатия. Теперь поскорей уходи. Малейшее воспоминание об этом жжет меня как огонь.
С трудом подавив волнение, неизменно пробуждаемое во мне необузданными речами Олимпиады, я неохотно удалился.
Пора было приступать к делам, и первое, чем я намеревался заняться, это проверить способности моего нового раба, Элиабы. Приведя юного иудея в свое жилище, я процитировал ему отрывок из «Илиады», который он записал с той же быстротой, с какой произносились эти бессмертные слова.
— Прекрасно! — похвалил я, глянув мельком на странного вида письмена. — Теперь выслушай мои требования. Прежде всего, я дам тебе тайное имя — «Мой Дневник». Многие дети царей, не говоря уже о самих царях, ведут дневники, но пишут в них скудно, а зачастую и вовсе бесчестно лгут. Имя у тебя слишком длинное и не подходит моему языку…
— Оно означает «Мой Бог Явился», — вставил Элиаба.
— Мне безразлично, что оно означает у варваров. Отныне для других и для меня самого твое имя будет Абрут.
[163] Так вот, запомни мои слова: если я укажу средним пальцем правой руки вверх, для тебя это будет знак, что не стоит писать о том, что я говорю и делаю, будь мы наедине или в компании, пока я снова не прижму его к указательному пальцу. Затем снова описывай все — каждый поступок, каждое мое слово, обращенное к тебе или к другим. И не забывай проставлять дату. А кстати, какого календаря мы будем придерживаться? Мой воспитатель считает, что греческий календарь — это нагромождение ошибок. А что скажешь ты, Абрут?
— В моей стране сейчас 2418 год с сотворения Вселенной.
— Ба! Тогда война титанов с богами произошла за тысячи лет до этого. Греки ведут счет времени от первых Олимпийских игр. В Персии это год двести с чем-то — я точно не помню — Заратустры. Он знаменует рождение первого великого мага, которого у нас называют Зороастр.
И тут меня осенила идея — нет, проблеск, сияющий и прекрасный.
— Абрут, я знаю! Конечно же, вот он — единственно подходящий календарь, сверяясь с которым мне и следовало считать все эти годы, годы стремительно наносящей удары Судьбы. Если младенец доживает до первого дня рождения, он начинает свой второй год жизни на земле. Мой тринадцатый день рождения миновал, и значит, Абрут, сейчас год четырнадцатый о. А.
— Я слушаю тебя, господин, но не понимаю.
— За семь статеров мне следовало бы купить более живой ум. Надеюсь, придет время, и он будет соображать побыстрее. Четырнадцать о. А. означает четырнадцатый год от Александра. Не говори об этом с другими, но не забывай.
3
То, о чем я рассказываю и что записывает Абрут, в некотором смысле и есть моя биография. Здесь я поведаю о своих сомнениях, скрытых поражениях и неприятностях; о победах, которых я добивался, как это задумано мной, победителем, а не вульгарной толпой. Все важные события, происшедшие в отсутствие моего секретаря, я непременно изложу ему подробно или же вкратце, чтобы он придал рассказанному литературную форму и записал все в должном порядке и соответствующей последовательности. Словом, это будет книга о том, каким Александр видит самого себя.
Да, я говорю дерзко, неподобающе дерзко для историка, пишущего о себе. Описывать происшедшее не в конце пути, когда все уже свершено, а в самом его начале считается неприличным; но есть уже знаки того, что нить моей жизни, которую спряла одна из трех Парок, Лахезис,
[164] многоцветна и весьма необычна. Мне неведомо, что они там решили, но одно я вижу ясно — указание на большие события, в которых я сыграю далеко не последнюю роль. Это признание моей души, которое я не берусь оспаривать и до умаления которого я не снизойду.
Когда холодными зимними ночами я смотрю в небо на многочисленные звезды, я вижу, что они своим взаимным расположением составляют причудливый узор, таинственный и необъяснимый. Они не движутся, но могут говорить, и, когда я останавливаю взгляд на одной из них, она перестает мерцать и горит чистым пламенем, будто чувствует, что я ее созерцаю и что у нас есть общая тайна.
Но внешне мало что говорит о моей редкостной судьбе. Меж тринадцатым и четырнадцатым днем рождения, то есть на четырнадцатом году жизни, я достаточно рослый, хотя, должен признать, найдется немало юношей-македонцев моего возраста ростом повыше меня. Когда я повзрослею, во мне, возможно, будет четыре локтя, что примерно равняется двум огромным шагам, но все же я покажусь коротышкой рядом с рабом-кельтом, которого я однажды увидел на рынке. Он был слишком высокомерен, чтобы демонстрировать свою мускулатуру возможным покупателям, он даже не смотрел на них, и, чтобы увидеть его великолепные зубы, приходилось разжимать ему рот железным прутом. У меня крепкие мышцы, но не хватает еще ловкости и должной координации для достижений в спорте и для искусного владения мечом. Я недостаточно опытен в искусстве метания копья и диска, но, правда, могу бегать очень быстро и в этом виде спорта мог бы с честью выступить на Олимпийских играх. Когда я заявил о своей готовности соревноваться, но только с сыновьями царей, мой бесстрашный и язвительный друг Птолемей заметил, что истинная причина заключается в моей боязни проиграть. В высоту и длину я прыгаю красиво и точно, но в плавании вечно борюсь с течением, вместо того чтобы ладить с ним, тогда как мои соперники с выгодой пользуются его движением и всегда побеждают.
Все македонцы, равно как и фессалийские юноши, отличные наездники. Увы, пока я не вправе считать себя одним из лучших. У моего друга Гарпала, сына крестьянина, косолапость, и, когда, соревнуясь с Птолемеем, я проигрываю, он подсмеивается, что у меня тоже что-то вроде косолапости, будто к лодыжке привязана толстенная книга, вполне вероятно, что «Илиада». Да, я чересчур увлекаюсь чтением — мой наставник Леонид не устает твердить об этом, и мать с ним соглашается. Им непонятно, почему я держу при себе этого рассеянного, неотесанного старика-деревенщину Лисимаха, вместо того чтобы взять в педагоги кого-нибудь, кто был бы более в курсе современных событий. Они и не подозревают, что этот седовласый книжный червь — знаток военной истории, которому известны все памятные битвы со времен первой Олимпиады. Его методика, может быть, необычна, но учит мыслить: сообщив об особенностях местности, о маневрах враждующих армий, он предлагает мне назвать победителя, а затем просит рассказать, каким образом побежденный мог бы стать победителем.
Судя по тому, что я вижу в зеркале, мой мальчишеский вид быстро уступает место зрелости. Македонцы представляют собой костяк старой Греции до вторжения дорических племен. Они высокого роста, белокурые, голубоглазые, шире в кости, нежели ослабевшие сограждане к югу от нас, и, как говорят, и, возможно, не без оснований, большие тугодумы. Кое-кто желал бы назвать нас варварами, несмотря на то, что мы истинные греки, потомки Аргоса. Был случай, когда оспаривалось наше право на участие в Олимпийских играх на том основании, что мы чужаки. Мы доказали наше истинно эллинское происхождение. Играли. А иногда и выигрывали.
Мои рыжевато-желтые волосы с некоторых пор растут надо лбом тяжелой копной, и я, пожалуй, помогаю этому, когда энергично орудую расческой и щеткой, добиваясь схожести с львиной гривой. Мой классически правильный нос, хотя ему и недостает смелого размаха, с каким был вылеплен нос чудесного изваяния Праксителя, все же коренится меж бровей, слегка расширяясь в ноздрях. Носовая перегородка коротка и сильно вогнута. Чувственные губы, особенно нижняя, без сомнения, достались мне по наследству от Олимпиады. Подбородок тяжелый, за что я благодарен богам, ибо греки склонны верить, впрочем, без достаточных на то оснований, что тяжелый подбородок говорит о силе характера его обладателя. На подбородке уже появился первый пушок, и, как только он станет заметным, я сбрею его, как это сделали Ахилл и другие герои нашей незабываемой войны против троянцев. Их величали объездчиками лошадей и за это почитали в бессмертной поэме Гомера, но, да будут свидетелями те же боги, я считаю, что они как объездчики не лучше, чем мы, с диких северных пастбищ.
Примерно в тот же год случилось так, что я, похоже, добился звания объездчика лошадей. Не так давно Филипп вернулся в Пеллу, подавив мятеж во Фракии и распяв всех его зачинщиков. Тогда от правителей Фессалии пригнали на продажу табун лошадей, а Филипп редко отказывался раскошелиться при виде коней, подходящих для его тяжелой конницы. Но когда мы прогоняли их на равнине, только немногие оказались стоящими. Самый же красивый, самый гордый и сильный артачился, производя впечатление строптивого и плохо обученного жеребца, так что царь резко взмахнул рукой в знак того, что этот конь ему не нужен.
— Отец, могу я сказать? — обратился я к нему.
— Ладно, говори, если твои слова будут разумны.
— Ты совершаешь ошибку, отвергая это прекрасное животное.
— Царь не делает ошибок. А коли и так, то не признается в них. В особенности если обвинение исходит от отрока тринадцати лет. Александр, не следует ли нам опасаться того, что ты слишком много берешь на себя?
— Может, и так, но я прав насчет этого жеребца и докажу свою правоту, если ты мне позволишь.
— Клянусь Посейдоном, богом лошадей: тех, что пасутся на сочных лугах, и тех, что дыбятся и играют на своих морских пастбищах! Разве ты не видел, как он крутился и бил копытами, злобно скалясь, когда его пытались оседлать объездчики? Или ты лучше всех управляешься с лошадьми? Неприлично твое хвастовство, тебе слишком много давали воли, и, похоже, ты больше, чем этот конь, нуждаешься в крепкой узде.
Голос Филиппа противно задребезжал, а единственный глаз — вражеская стрела лишила его второго — загорелся сердитым блеском, но еще не налился кровью, как это бывало в минуты ярости, которую я не желал пробуждать в отце.
— И все же позволь оседлать его. По крайней мере, ты вдоволь повеселишься, когда я свалюсь с лошади.
— Что ж, посмеемся. Да только удар о землю — недостаточное наказание за такую самонадеянность. Какой штраф ты заплатишь золотом?
— Цену лошади.
Объездчики засмеялись над этим глупым ответом, а Филипп возмущенно хмыкнул.
— Думаю, что хороший удар о землю будет тебе на пользу, юный Ахилл! — проговорил он с большим презрением.
Этот последний выпад вызвал во мне безрассудную храбрость. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моих мечтах, которые можно было бы назвать преклонением перед Ахиллом, и, особенно, о моем самоуподоблении этому герою, о мистическом чувстве, возникающем каждый раз при чтении моей обожаемой «Илиады». И впрямь, я полагал, что об этом никто не знает, за исключением няньки Ланис, которая все еще оставалась моей ближайшей наперсницей. Птолемей же, друг и соперник во всех играх, зачастую превосходящий меня в ловкости, лишь громко расхохотался — не из лести царю, а насмехаясь надо мной. Меня бросило в жар. Теперь я был просто обязан испытать себя, пусть даже здоровенный черный жеребец переломает мне ребра.
Я обошел вокруг, внимательно присматриваясь к нему. Это был очень крупный экземпляр. Наверняка он уже покрыл кобылу, но в силу молодости и неопытности вряд ли пробил брешь в девственнице. У него были массивная грудь и изящные ноги. Красиво выгнутую шею венчала голова, показавшаяся бы необычной и без белой — в форме быка — отметины на лбу. Да и сама голова больше напоминала бычью — огромная, с широко расставленными ушами. Глаза, темно-карие, почти без белков, предупреждающих о ярости к человеку, смотрели вокруг настороженно, и мне подумалось, что его норовистость — это простая нервозность: становясь на дыбы, он видит на равнине собственную удлиненную и дерзкую тень и нервничает.
Доводилось мне любоваться скакунами с фессалийских пастбищ, где земля плодородна и трава растет сочная и шелковистая, но ни разу не видел я лошади со столь лоснящейся кожей такой необычной масти.
— Опомнись, и я помогу тебе с честью выйти из игры, — крикнул отец. Вот уж не ожидал подобной уступки от этого твердокаменного человека. Однако затем, словно бы пожалев о своей маленькой слабости, он съязвил: — Услуги хирургов и костоправов школы Гиппократа нынче безбожно дороги.
Я взял коня за поводья и отвел его в тень, подальше от зрителей. Все повернулись, внимательно и серьезно следя за моими действиями. Жеребец следовал за мной довольно-таки спокойно, и мне даже показалось, что он стал чуть покорнее после того, как я погладил его по шее. Все ускоряя шаг, я заставил его перейти на бойкую рысь. Теперь мы бежали рядом, и я чувствовал, что ему это нравится — он двигался ритмичным галопом легко и с таким изяществом, что оставалось лишь удивляться, как это хозяин или хозяева решились расстаться с ним. Возможно, я пойму, в чем тут дело, когда попытаюсь его оседлать. Это испытание было не за горами, и я все с большим трудом подавлял растущий во мне холодный постыдный страх. От людских насмешек меня спасало лишь то, что взгляды всех были устремлены только на скакуна, с каждой минутой набиравшего скорость. Ему явно не терпелось побегать, причем в таком темпе, из-за которого мне, возможно, придется влачиться за ним в пыли. Не оставалось ничего другого, как сбросить плащ, закинуть поводья ему за шею и, ухватившись за длинную соболиную гриву, вскочить на него.
Он тут же сорвался с места, да так внезапно, что я опрокинулся и полетел кувырком. Едва коснувшись ногами травы, я рухнул на землю.
Я поднял голову и увидел, что мой здоровенный черный жеребец летит, будто вышел на последнюю прямую на скачках. «Ну все, — подумал я с мрачной уверенностью, — пари проиграно, и сраму не миновать». Я глядел на него во все глаза и вдруг заметил, как скакун наступил на волочащиеся по земле поводья, отчего его голову резко дернуло вниз. Он снова помчался вперед и вновь наступил на веревку и на этот раз, сильно споткнувшись, упал на колени. Поднявшись, он уже не так резво снялся с места, а едва разогнался, как веревка опять попала ему под переднее копыто, и снова голову резко рвануло книзу.
Теперь он ступал очень осторожно, и я окриком заставил его взглянуть в мою сторону. Он остановился и уставился на меня. Не знаю, способны ли животные думать, но в какой-то момент мне показалось, что мысли его работают весьма исправно. Очевидно, он припоминал, что, пока я был рядом, пока сидел у него на спине, ничего неприятного с ним не происходило. Нет, он не питал ко мне злых чувств, напротив, со мной у него было связано самое приятное — разрешение на первый с тех пор, как его забрали с фессалийских равнин, хороший пробег. К моей глубочайшей радости, он пошел ко мне, время от времени встряхивая волочащимися по земле поводьями.
Мне показалось, что он с удовольствием позволил мне взять веревку и нисколько не возражал, когда, свернув ее кольцами в правой руке и ухватившись за гриву левой, я вскочил ему на спину.
Ласково потрепав жеребца по шее, я мягким ударом веревки подстегнул его к бегу, и вскоре он уже несся вскачь, сперва мелким, а затем крупным галопом. Я чувствовал, как ветер путает мои волосы и звенит в ушах. Вряд ли я был бременем для его широкой спины и потому позволил себе ослабить поводья, затем снова натянул их, и, действуя так попеременно, я сумел-таки заставить жеребца быть покорным. Ему же так приятна была эта забава, возможность дать выход накопившимся силам, что он вовсе не возражал против управления. Проскакав на нем далеко по равнине, я развернул коня и начал свое триумфальное возвращение. Приблизившись к смотревшим на нас во все глаза зрителям, я остановил его. Он подчинился натяжению поводка. Теперь я уже не хватался испуганно за конскую гриву, а ласково похлопывал его по спине, блестевшей от легкой испарины, и был почти уверен, что конь признал мое право не только давать ему волю, но и прерывать его радостный бег.
Он остановился в каком-нибудь шаге от Филиппа, и я соскочил на землю. Меня так и подмывало похвастаться, но, вовремя спохватившись, я вместо этого нежно погладил жеребца по бархатистому черному носу.
— Ты выиграл пари, — проговорил Филипп, словно бы и не веря этому.
— Это была нечестная игра, царь, — отвечал я. — Я вызвался заплатить за него, если проиграю, но теперь-то я знаю, что истинная цена слишком велика для моего кошелька. Сколько бы за него ни запросили, это будет все равно что даром, и я готов пожертвовать чем угодно, лишь бы этот замечательный жеребец стал моим.
— Не стану в этом препятствовать, хотя, клянусь моими богами, я сам жажду его иметь. На таком красавце и я бы не прочь проехаться по украшенным колоннами улицам Афин, когда — надеюсь, что скоро, — я укрощу их гордыню. Однако он твой, если тебе хватит сообразительности назвать его добрым именем.
— Взгляни, у него на лбу белое пятно в форме быка, да и сама голова больше походит на бычью. Почему бы не назвать его Букефалом?
— Бычьеголовым? Пусть будет так. Мне нравится простота имен у могучих людей или животных. И вот что еще, Александр. Если ты станешь всадником под стать этому скакуну, думаю, он может понести тебя далеко.
«Объеду на нем полмира, — подумал я. — А поскольку мы оба молоды, то будем вместе расти и мечтать о приключениях и победах, ждущих нас впереди». Мне уже чудилось, как он, возбужденный сражением, мощно храпит и оглашает воздух яростным ржанием.
4
Возможно, потому, что я легко справился со здоровенным черным жеребцом — легко, если не считать одолевавшего меня перед схваткой с ним страха, — Филипп призвал меня к себе и в присутствии Олимпиады сделал необычное для него заявление.
— Мой сын Александр прилежен в учебе, во всяком случае, так утверждает этот выживший из ума старик Лисимах, — начал он, обращаясь к Олимпиаде так, словно меня не было с ними, — и, полагаю, он для своих лет прекрасный наездник.
— В первом я и не сомневаюсь. А еще кое-где поговаривают — не знаю, может, слух этот ложный, — что он укротил черного жеребца, которого оседлать не решился сам македонский правитель, — отвечала мать самым что ни на есть сладким голосом.
— Не стану этого отрицать, но Леонид сообщает мне, что в других делах он не столь старателен: в искусстве владения мечом он выдерживает экзамен только на «хорошо». Он должен им овладеть, если хочет иметь хоть половину шансов на победу в сражении.
— Филипп, отец мой, можно мне слово?
— Если с умом, то да.
— Говорил ли тебе Леонид, как я владею большим скифским луком и метательным дротиком?
— Лучше, чем прежде, но все же недостаточно. И если начистоту, он восхищается тем, как сильно ты можешь согнуть лук, но только в том случае, если кипишь от злости или полон уязвленной гордости. Тебе следует больше практиковаться — но как это сделать, не пренебрегая учебой? Я не позволю необразованному олуху восседать на троне, даже если для этого мне придется вернуться из царства Аида.
[165] Тебе выпадет иметь дело и с хитрыми персами, и с заносчивыми афинянами. Единственный ответ — тебе нужен лучший учитель в Греции.
— Но Платон умер в прошлом году, — заметила Олимпиада невинным голосом. — Может ли грохот сражений Филиппа пробудить его от вечного сна и призвать к нам, оторвав от спокойного уединения?
— Разумеется, нет. — Филипп раскраснелся. — Как, впрочем, и дикие заклинания неких безумных полуголых особ, все эти кровавые жертвоприношения и извивающиеся змеи на праздниках Диониса. Но я могу вызвать умнейшего человека Греции для службы у меня во дворце.
— Кого же?
— Аристотеля.
— Филипп, кто из нас безумен?! Ты думаешь, Аристотель оставит свою высокую науку и покинет прекрасный город, украшенный колоннами, чтобы прибыть на этот грубый постоялый двор, в Пеллу? И захочет ли он обучать будущего повелителя народа, который все греки и до сих пор считают варварским племенем?
— Пусть варварским, но их царь умеет крушить города с колоннами одним ударом кулака. Отец Аристотеля был лекарем у моего отца. Держу пари, что приедет, и ставлю колесницу с золотыми колесами против вон той змеи, чтобы переломить ей хребет, если выиграю. Что скажешь?
— С тобой, Филипп, никаких пари. Может, кровопролитием ты и завоевал любовь бога войны Ареса, и он настоящий бог Олимпа, тогда как мой милый Дионис — получеловек… И все же я поверю этому, только когда увижу своими глазами, как сказал грубый возница твоему предку Гераклу, когда тот похвастал, что за одну ночь лишит девственности пятьдесят царских дочерей.
— Тебе не придется долго ждать, — заверил он.
И это пророчество в точности сбылось. Казалось, стоило Филиппу лишь поманить пальцем — и великий философ тут же примчался. Позже мне стало известно, что тут не обошлось без громкого звона золотых монет, и в придачу царь дал согласие восстановить Стагиру, родной город великого мыслителя. Будучи скромным человеком, Аристотель прибыл в сопровождении немногочисленной свиты помощников и рабов. За его колесницей следовала повозка, груженная книгами. И все же его приезд взбудоражил весь город, отчасти потому, что наш неотесанный народ так и не отделался от чувства ревнивой зависти к культурным Афинам, и был в чем-то прав, полагая, что мы одержали над ними верх, хотя и не побеждали их в битве и не громили их Парфенона.
[166]
Я тоже боролся с чувством жгучей ревности, глядя на то, как восторженно его встречают, как девушки украшают его венками, как осыпают цветами, пока не взглянул на него вблизи. В чувствах моих моментально произошел переворот. За всю мою жизнь мне никогда не приходилось видеть такого человека. Мне показалось, что это лицо — самое прекрасное в мире, хотя по моим прежним меркам оно не было даже красивым: худое, с глубоко запавшими щеками; лоб в обрамлении седеющих волос; длинный острый нос. Возможно, впервые я тогда ощутил покалывание в шее, когда вгляделся в его удивительно красноречивые глаза; а затем я различил окружавшие их морщины — сказывались двадцать с лишним лет напряженных исследований, великого умственного труда и мук, которых я не знал и не понимал.
Он приветствовал Филиппа как равного, и я оценил справедливость этого так же, как и царь, к моему удивлению, покрасневший застенчиво, словно мальчишка, когда великий ученый наградил его дружеским поцелуем в память их близости в детские годы. Когда подошла моя очередь, он и меня приветствовал как равного. Этой чести я был недостоин и знал, что это только естественная снисходительность великого человека, и в сердце прокралось мало мне знакомое чувство, доводящее почти до слез, чувство, название которому — смирение.
Аристотель организовал свою школу в Лесу Нимф, вдалеке от дворца Пеллы. Здесь, стоя на каменном возвышении, он беседовал со мной и моими соучениками из числа избранных Филиппом благородных мальчиков, включая острого на язык Птолемея. Он говорил нам о единстве всей Природы, несмотря на многообразие ее форм, указывал на их взаимосвязи и различия, вследствие чего тот или иной вид мог подразделяться на большие общества, такие, как нации, эти общества на семьи, семьи на кланы и кланы на виды, уникальные сами по себе. Из ручья и близлежащего пруда мы вылавливали рыб, лягушек и черепах с целью анатомирования их и изучения, ставили ловушки на птиц и змей и сети на жуков и бабочек. Все живое, растительного или животного происхождения, заслуживало нашего пристального внимания, и ничто не отбраковывалось как нечто слишком обыкновенное или низменное. Иногда он указывал на нити, неуловимые для различия, но, когда нужно было обобщать и делать выводы, он приучал нас думать самостоятельно.
Больше всего удовольствия нам доставляли прогулки с нашим учителем по тенистым тропинкам леса, где, как казалось, прячутся, наблюдая за нами, нимфы и где мы выискивали формы жизни, еще не отнесенные нами к тому или иному классу. И как велика была радость ученика, который, найдя что-нибудь, правильно определял вид своей находки. Мы с увлечением познавали мир, учились видеть и делать выводы, и Аристотель помогал нам в этом. Он не предлагал готовых ответов, а задавал вопросы, которые поначалу казались нам нелепыми. Например, рога в известное время года носят благородные олени и круглый год — дикие представители крупного рогатого скота; почему же тогда они не спариваются? Который из этих двух ближний родственник змее: угорь или морская черепаха? Все наши ученики дружно кричали: «Угорь!» — радуясь случаю решить такую простую задачу. Но, вскрыв под наблюдением Аристотеля оба эти существа, мы обнаруживали, что полностью заблуждались. Оказалось, что морская черепаха — самая настоящая рептилия, а угорь — обычная рыба с жабрами.
Был случай, когда вопрос, заданный учителем, поставил в тупик его самого. Как-то раз мы отправились на большой пруд, чтобы понаблюдать за птицами, и увидели там два семейства диких уток: одни, крякая, рылись на отмели, а другие ныряли на глубине в поисках сочных кореньев. Внезапно два красногрудых сокола — за каждую из этих великолепных птиц не жалко было бы отдать золотой статер, и, по словам Аристотеля, они переселились сюда из района Понта Эвксинского — налетели на них быстрее ветра и стали преследовать утиный клан. Тут мы заметили, что утки подразделяются на более мелкие кланы: на короткокрылых, способных летать с большой скоростью, но не очень увертливых, и длиннокрылых, летающих помедленнее, но в мгновение ока способных изменить направление и рассеяться. Хорошенько запомнив их окраску, на другой день мы с Птолемеем смогли с близкого расстояния подбить по одной утке из обоих кланов.
— Вчера мы видели, как налетели соколы и убили уток той и другой разновидности, — сказал наш учитель. — Мы заметили, что эти хищники способны летать так же быстро, как короткокрылые утки, и маневрировать так же ловко, как длиннокрылые. Так почему же наша мать-Природа создала сокола с этими двумя качествами, а не утку?
— У чирка они есть, — возразил Птолемей.
— Да, верно, чирок очень быстр, но он не спасется от сокола, летя напрямик. Он может ловко увернуться, и все же многие чирки становятся добычей этих превосходных мастеров полета — соколов и ястребов. Утки достигли бы равной удали, если бы не физиологическое препятствие в них самих, некое неизменное качество. Что это за качество, кто знает?
Мы, ученики, стояли онемев, чуть ли не высунув языки, словно уличные мальчишки. К нашему удовольствию, самому учителю пришлось поломать голову, чтобы ответить на им же поставленный вопрос. Анатомировав уток, мы не нашли никаких существенных различий в структуре крыла. Разница была лишь в длине, мышцы же казались одинаково сильными. Учитель довольно хмыкнул, что мы слышали от него и прежде, и сверкнул своей удивительной улыбкой.
— Взгляните-ка на внутренности обеих птиц, — предложил он нам.
Мы так и сделали, но не нашли никакой разницы.
— Помните, мы как-то вскрывали обычного серого сокола, тоже хорошего охотника на уток? Кто мне скажет, чем его кишки отличаются от утиных?
— Кишки сокола умещаются в ладони, — отвечал Гарпал. — А у этой утки они тяжелее и длиннее.
— А почему наша мать-Природа не сотворила их легче и короче, чтобы весили они не больше, чем кишки их врага сокола? У кого есть какие-нибудь догадки на этот счет?
— Может быть, дело в том, что они едят… — осмелился я предположить после затянувшегося молчания.
— Остроумная догадка. Пойдем немного дальше. Мы как-то сравнивали внутренности хорька и зайца. Животные обладали примерно одной и той же массой. А в чем заключалось различие между ними?
— У зайца кишки тяжелее, а у хорька легче.
— В отношении пищи — чем заяц похож на утку, а хорек — на сокола?
— Ну, заяц и утка едят растительную пищу, они травоядные. Хорек же и сокол — плотоядные, они питаются мясом.
— Вот в этом-то все объяснение. Пищеварение сокола — процесс несложный и быстрый, нуждающийся в небольших и легких органах, тогда как переваривание растительной пищи является сложным процессом, требующим крупных и тяжелых органов пищеварения. Что легче тянуть волу: легко или тяжело нагруженную телегу?
Это была типичная задача из тех, что задавал нам учитель с целью заставить нас думать. Но моя мысль в тот день уносилась далеко и я видел, как применить этот урок на практике. Когда я стану командовать большой армией, в значительной части она будет состоять из летучих отрядов конницы, легковооруженной и одетой в легкие доспехи, с тем чтобы можно было быстро передвигаться и легко маневрировать. Эти соколы рассеют стаи уток — неповоротливых персов. А уж затем мои орлы — тяжелая конница — разгромят их наголову и перебьют.
Итак, если подытожить принесенную мне Аристотелем пользу, я бы сказал, что он научил меня внимательному взгляду на все, с чем я имел дело, будь это вещи высшего или низшего порядка; научил стремиться видеть причину каждой из них и то, как извлечь максимальную пользу из одной и исправить другую, если на то было мое желание. Он применил к нашей обыденной жизни и обычным проблемам свое великое учение о динамической вселенной, подверженной изменению и росту, в которой то, что мы называли цивилизацией, содержало огромную потенциальную возможность развития. От нас требовалось только одно чудо — упорная работа мысли. Великий Аристотель был таким же практичным человеком, как проницательный скотовладелец на македонской равнине.
5
Миновал мой шестнадцатый день рождения, и я оказался в году 17-м о. А. Хоть учение Аристотеля и пошатнуло былую веру, я все еще верил в богов, которые, если их умилостивить, а проще говоря, дать им взятку, могли бы прямым вмешательством успокоить разбушевавшееся море или погубить вражеский город чумой, пожаром или потопом. Я готов был принять на веру разные заклинания и знамения, которые, если они сбывались, требовали беспрекословного признания неумолимого Рока. Но с болью и ужасом отшатнулся я от гадания, виденного мной в храме Диониса на острове Самофракия, что лежит от материка на расстоянии одного дня плавания в полугалере. Именно в этом храме впервые, в год, предшествующий моему рождению, встретились мои родители, полюбили друг друга и поженились.
В тот вечер, о котором я собираюсь рассказать, в жертву возле мечущегося пламени алтаря принесли не козу, не овцу, не голову коровы, а человека. Правда, он был злодеем, пролившим кровь собрата на территории храма. И я возблагодарил неизвестного бога за то, что это не прекрасный безгрешный юноша, каких не раз, как об этом шептались люди, приносили в жертву во время осенних ритуальных мистерий. Когда его кишки вывалились из вспоротого живота на камень и взбешенный жрец ткнул в них своим жезлом, стремясь отыскать в их извивах и сплетениях некое предзнаменование, я сбежал в свой шатер, несмотря на протесты Олимпиады, созерцавшей это зрелище со странно горящими глазами.
Здесь я пробыл, не смыкая глаз, далеко за полночь — после жертвоприношения начался оргиастический праздник с варварской музыкой, криками и дикими танцами; участники передавали друг другу чаши со священным вином. Заглянув в храм ненадолго, я увидел их, полуголых, нередко в похотливых объятьях друг друга; пары то исчезали в темных углах помещения — ради чего, догадаться было нетрудно, — то появлялись снова. Участвовала ли моя мать в общем распутстве, я постарался не замечать, хотя супружеские измены на празднествах в честь Диониса не признавались за таковые — ведь благодаря им в будущем году щедро заколосится посеянное зерно и низко под тяжестью богатого урожая прогнется виноградная лоза.
Когда мать, бледная и изнуренная, взошла на палубу нашего судна, чтобы плыть домой, ни я, ни она и словом не обмолвились о том, что произошло этой ночью.
В тот год я все еще был учеником Аристотеля, и мне предстояло оставаться им, по крайней мере, до наступления моего семнадцатилетия. К этому времени круг наших интересов значительно расширился. Классификации живых существ, будь то птицы, насекомые, обитатели водной среды, рептилии или млекопитающие, мы отводили теперь меньше времени, в основном изучая медицину. Этот предмет, можно сказать, пленил меня. Эта область науки до сих пор оставалась малоизученной; даже учитель порой терялся, не зная, почему какое-либо из лекарств обладает тем или иным лечебным эффектом. И нередко мне в голову приходила мысль, что, если мне не суждено было бы стать великим завоевателем, я непременно захотел бы стать умелым лекарем. Мы, ученики, испытывали лекарства на больных рабах; кроме того, мы проводили опыты с множеством различных химических веществ — смешивали их, нагревали на заправленной маслом горелке с небольшим узким пламенем, усовершенствованной Аристотелем. Говорят, это было изобретение великого Гиппократа. Мы узнали кое-что о том, как вправлять сломанные кости и очищать гноящиеся раны.
Столь же увлекательны были и догадки, высказываемые учителем насчет формы Земли. Не вызывало сомнений, что она круглая, о чем свидетельствовала ее тень, отбрасываемая на Луну и вызывающая лунное затмение, но диск это или шар — он затруднялся сказать. Здравый смысл подсказывал мне, что, скорее всего, это диск, но Аристотель был склонен согласиться с мнением ученых прошлых времен, считавших, что наша планета — огромный шар и мы ходим по его поверхности наподобие мух, ползающих по большому мячу, обтянутому искусно сшитой кожей и набитому тряпьем, каким мы играем в игру, которую ребята прозвали «Тосс энд скрамбл» («брось-и-борись»). Тогда почему же мы не падаем с Земли в пустое пространство? Это, возможно, и случилось бы, если бы мы жили на нижней, а не на верхней половине шара, но ни в истории, ни в мифе ни один путешественник никогда не видел эту нижнюю половину, равно как и не доходил до края дискообразного мира. Почему при вхождении судна в порт мы видим сперва верхушку мачты, затем
паруса и уж потом весь корпус, будто судно взбирается вверх по склону холма? Почему далекие горы видны нам только вершинами, а не всей своей массой?
Он озадачивал нас, ставя эти и подобные им вопросы, он заставлял нас думать, не принимать ничего на веру, он будил в нас мысль. Почему уровень воды в Ниле возрастает год за годом не в сезон дождей, заливающих поля; каков источник столь полноводной реки и какова ее протяженность? В любом случае, мир, будь он диском или шаром, был бесконечно больше того, что мы могли себе представить в самых ярких фантазиях.
Обучаясь у Аристотеля, я и сам стал, можно сказать, воспитателем. Моим воспитанником был Букефал, которого я учил разным трюкам, не забывая при этом совершенствоваться в искусстве верховой езды. Говорят, в Азии верблюдов и слонов приучают опускаться на колени, чтобы наездникам легче было сесть на них. Мне захотелось, чтобы и мой черный скакун выказывал мне такое же почтение. Разумеется, мне не стоило труда оседлать его, когда он стоял и даже на скаку — для чего, правда, пришлось бы бежать рядом с ним; но это стало бы невозможно, будь на мне шлем и панцирь с нагрудником. К тому же такой фокус мог бы оказаться полезным в битве и произвести впечатление на моих товарищей по оружию.
Чтобы осуществить свой план, я вырыл в земле ямку, достаточно глубокую, и влил туда для приманки пойло из отрубей — излюбленное лакомство Букефала. Он подошел, понюхал приманку и, сообразив, что стоя дотянуться до нее невозможно, медленно опустился на передние бабки. Пока он ел, я сидел у него на спине, а потом дал ему порезвиться. Постепенно я стал приучать его к жесту, который он должен был запомнить: каждый раз, когда конь приближался к угощению, я слегка хлопал его по передним ногам, добиваясь того, чтобы он по этому сигналу опускался на землю всякий раз и в любом месте, где бы я ни захотел. Этот трюк мне удался. Букефал в удивительно короткое время приучился вставать на колени, когда, под седлом и в узде, видел, как я приближаюсь к нему, помахивая кнутовищем; и теперь я садился на него только так.
Много бегая и взбираясь по крутым склонам, я развил и укрепил свои мышцы, и тело мое стало крепким и ловким, но все же, несмотря на старания Леонида, в схватке на мечах я уступал Птолемею. Об этом свидетельствовали не только бесчисленные зазубрины на деревянных щитах, но и свыше десятка шрамов у меня на боках и конечностях. Стоило Леониду отвлечься, как Птолемей, делая быстрый выпад мечом вниз или вбок, пускал мне кровь. Время от времени воспитатель поругивал его, но только для виду, при этом в глазах его зажигался озорной огонек, ибо он считал, что легкие царапины мне на пользу.
Бывало, Леонид, разгневанный тем, что я никак не могу сравняться с Птолемеем в искусстве владения мечом, жестоко корил меня, в своем раздражении начисто забывая, что я первенствую в метании дротика, беге и, уж конечно, в стрельбе из лука. Он искренне недоумевал, почему тот, кто в схватках на мечах легко одолевает других своих товарищей, никак не может справиться с Птолемеем. Причина же моих поражений была достаточно проста. И лучшее объяснение этому — дружеское расположение, которое я испытывал к юному македонцу. Стоило мне оказаться с ним лицом к лицу, как я терял свое мастерство: моим атакам не хватало ярости, а обороне — прочности. Должно быть, происходило это оттого, что из всех благородных друзей Птолемей нравился мне больше других, как, впрочем, и я ему, несмотря на все его насмешки. И мне было не по силам прикидываться его смертельным врагом, даже если это требовалось во время учебных поединков.
В тот год произошло событие столь удивительное, столь важное для моего будущего, что трудно было приписать его случайности, и я поневоле подумал, уж не привлек ли я внимание какого-нибудь из богов; и для его ли забавы, во вред ли себе иль на пользу, но я сделал маленький шаг ему навстречу.
Справедливости ради должен заметить, что, хотя я и назвал это событие удивительным, ничего необычного в нем в общем-то не было. Вряд ли кому-нибудь могло показаться странным то, что персидский царь Артаксеркс, учитывая победы Филиппа, направил к нам из своей столицы в далеких Сузах послов, чтобы, вероятно, заключить нечто вроде договора в отношении торговых путей или перевозок товаров по Геллеспонту. Великолепно одетые, они прибыли верхом на лошадях либо в повозках, а их помощники — на двугорбых бактрианских верблюдах; там было множество верблюдов, груженных шатрами, нарядами и провиантом. Филипп отсутствовал, поскольку все еще вел одну из своих нескончаемых войн. Не было даже старого Антипатра, регента, чтобы встретить гостей. Не зная, как обратиться к ним, я чувствовал свое косноязычие и неловкость, хотя и старался делать все, что мог, побуждаемый к тому моей матерью. На некоторые их вопросы я умудрялся отвечать не заикаясь, а после со свойственным мне любопытством, разожженным занятиями с Аристотелем, и сам стал расспрашивать. Они, внимательно меня выслушав, отвечали весьма охотно и, я бы сказал, с удовольствием. Не стану гадать, в чем была истинная причина такой их словоохотливости, — тоска ли по дому сыграла здесь свою роль, или тот факт, что они видели перед собой наследника Филиппа, с которым со временем Персии придется вести дела, — но отвечали они вдумчиво и обстоятельно, так что в целом я заслужил одобрение матери. А заодно и жгучую зависть своих друзей, особенно Птолемея. Что ж, у меня оставалось достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим до того, как я сяду на трон.
После столь долгого предисловия пора наконец перейти к самому событию, ставшему для меня поистине знаменательным. Группа магов с помощниками решили отправиться в путешествие — прежде всего для того, чтобы посетить наши великие святыни, поскольку полжизни они посвящали овладению мудростью, другую же половину проводили в странных церемониях и занимались практической магией, благодаря которой составляли гороскопы и творили чудеса. Это были мужчины крепкие и высокие, в белых одеждах; они носили эмблемы, каких прежде я никогда не видел. «Как удивительно красивы и чисты их лица! Точно такой же свет был в глазах Аристотеля!» — подумалось мне невольно. До возвращения в чудесные страны Востока они намеревались посетить великую святыню, сооруженную в честь Зевса и Додоны, которая располагалась неподалеку отсюда, в Эпире.
Да, лица их были светлы и прекрасны, так светлы, что хотелось пасть на колени и плакать или молиться. Но не это, вернее, не только это меня взволновало. Было нечто еще более пленительное, что поистине ошеломило меня.
Один из магов приходился братом сатрапу Бактрии Оксиарту. Бактрия теперь находилась на северо-восточной окраине Персидской империи, примерно на том же расстоянии к востоку от Вавилона, что и Греция к западу. С этим магом шла девушка; лет ей было не более тринадцати, и я сначала предположил, что это его юная наложница — обычное явление в восточных царствах, особенно в далекой, как звезды, Индии. Но я никогда не слышал, чтобы такое было принято у магов, верных учению великого Зороастра.
Когда я впервые увидел ее рядом с человеком в возрасте Филиппа, волна гнева захлестнула меня. Возможно, это чувство было вызвано ревностью. Лицо и фигура девушки обещали стать даром — если уже не были им — потрясающей красоты. Волосы ее, цветом напоминавшие ячменную солому, казались пышнее и золотистее, чем у наших македонских девушек, и были заплетены в две тяжелые косы. Ресницы и выгнутые дугой брови, как и волосы, были светло-золотистого цвета. Только серые с синей окаемкой слегка раскосые глаза позволяли догадываться, что родом она с далекого Востока.
В отличие от моей матери, которая вышла уже на террасу к послам, ее стан не обтягивали шелка. На ней был теплый капюшон, шерстяной халат по колено, чулки, отороченные светло-коричневым мехом, и грубые кожаные башмаки. Этот наряд, догадался я, защищал ее от зимнего холода и летней жары, а обувь, наверное, не позволила бы ей промочить ноги, если бы пришлось преодолевать вброд холодные горные потоки. В первый раз я увидел ее, когда она только что слезла с косматого пони, невеликого ростом, но зато отважного и крепконогого, как горный козел. На неровной местности в скорости и выносливости он не уступал, на мой взгляд, породистым жеребцам, на которых ехали послы царя. Наездница его, если не лгали мои глаза, тоже отличалась отвагой, ведь ей, должно быть, пришлось проехать полных тридцать тысяч стадий от дикой Бактрии до Македонии, не считая заездов в различные святые места, так что весь путь, по моим расчетам, равнялся расстоянию от Тира до «Ворот Геракла».
[167] Но отважные купцы одолевали этот путь на судах, а не верхом. Тем не менее она резво спрыгнула на землю, не являя никаких признаков усталости, и буквально вприпрыжку подбежала к своему господину, чтобы взять его за руку.
Меня охватило яростное пламя ревности. Видимо, маг заметил это. Пристально посмотрев на меня, он, не дожидаясь, когда я, выполняя свой долг, подойду к нему с приветствием, сам неторопливо приблизился ко мне, все еще держа за руку девушку.
— Царевич, я родом из Мараканды,
[168] что за рекой Окс, и зовут меня Шаламарес, — представился он мне.
Он говорил на непривычном мне греческом, на диалекте, которого мне еще не приходилось слышать, но не на таком уж искаженном, как диалект Соли, по вине которого в языке появилось слово «солецизм», или просто «грамматическая ошибка».
— Маг, я Александр, сын и наследник Филиппа.
Видя его учтивость, я изо всех сил старался не выказать затаенную в сердце враждебность.
— Это моя племянница Роксана, дочь брата моего, Оксиарта, сатрапа Бактрии.
И тут вся злоба моментально выветрилась у меня из сердца, и мне захотелось кричать.
Девушка сложила ладони так, что кончики пальцев обеих рук соприкасались, и поднесла их к опущенному лицу в знак приветствия, виденного мной всего лишь раз: так делал раб, схваченный близ Герры на Персидском проливе, которого продавали и перепродавали, пока он, наконец, не попал в ту же партию рабов, из которой я выкупил Абрута.
— Приветствую тебя, княжна Роксана. Но меня удивляет, Шаламарес, не слишком ли она молода для паломничеств по святым местам, разбросанным на полсвета?
— Боюсь, ей недостает должной почтительности к великим святыням. Она скакала через веревку у самого входа в храм Аполлона в Ксанфе. Она здесь по моей настоятельной просьбе — мне нравится общество этой дерзкой девчонки — и еще из-за своей собственной любви к приключениям. Когда она отдаст поклон царице Олимпиаде, не удостоишь ли ты ее чести показать ипподром Филиппа, который называют лучшим в Северной Греции? Она обожает лошадей, и, кажется, те отвечают ей взаимностью — показывают перед ней всю свою прыть.
— Княжна, и вы тоже говорите по-гречески? — поинтересовался я.
— Немного учила в храмах магов в Мараканде. Так же плохо, как и мой дядя, — весело ответила девушка. — И мне не мешало бы получиться, ведь во всех городах от Синопы до Пеллы — а это два месяца дороги — купцы говорили только по-гречески.
— Синопу основал мой предок, Геракл, — заметил я.
— Ты не похож на его изображение, которое я видела там, в его храме.
— Боюсь, это правда, ведь мне не дано разорвать льва голыми руками — по крайней мере, так говорят. Но я сразил из скифского лука леопарда, который задирал овец.
— Ты можешь натянуть скифский лук? — Неожиданно в ее голосе прозвучало уважение.
— И лучше, чем ты говоришь по-гречески, — ответил я с жаром, и это, кажется, понравилось великому магу.
Когда ее повели на ипподром Филиппа, кроме которого в Пелле и смотреть-то больше было не на что, она намекнула, словно бы невзначай, что македонские скакуны и в подметки не годятся бактрианским. Я тотчас же приказал своему конюху вывести из конюшни славного Букефала. К моему удовольствию, глаза ее расширились, в лице появилась жадная зависть, дыхание перехватило.
— Не сомневаюсь, что бактрианские скакуны — или, может, я ослышался, ты сказала верблюды? — могут доказать этому жалкому недоноску, что он им и в подметки не годится, — съязвил я.
— О, Александр! Я сдаюсь. Откуда же такой красавец? Неужели к западу от царских конюшен могут рождаться такие жеребцы?
Она приближалась к нему, не испытывая ни малейшего страха.
— Больше ни шагу, Роксана, — предостерег я. — Ему неприятен запах незнакомых людей, и если он хватанет тебя своими зубищами…
— Вот еще! Да ему понравится, как я пахну, ведь я недавно ездила на кобыле, у которой течка.
— Но он даже конюху не позволяет себя оседлать…
— На что поспорим, что я справлюсь с ним и он станет меня слушаться? Но не на скифский лук. Я не хочу, чтобы ты потерял его. Ведь если тебе под силу натянуть его да еще как следует выстрелить, значит, ты не такой уж мальчишка, как кажешься. Нет, я не хочу лишить тебя возможности доказать свою удаль. Я заметила, что ты носишь золотой медальон с головой Геракла на одной стороне и, кажется, с героем Греции Ахиллом на другой. У меня в жемчужной шкатулке есть такой же. И на нем выгравированы слова Заратустры.
— Ты хочешь сказать — Зороастра?
— Нет, Заратустры. Там с одной стороны сфинкс, а с другой — высказывание учителя на авестском языке.
— И что оно значит по-гречески?
— Дай подумать. На авестском
[169] это звучит коротко и довольно просто, но на греческом… «Дай душе говорить — и она решит любую загадку». Ну как, будем держать пари?
Букефал уже обнюхивал ее с пристрастием, пока она щекотала его меж ушей.
— Если бы я не боялся, что это животное сбросит тебя, переломав твои тонкие кости…
— Мои кости — моя забота.
— Хорошо, я прикажу, чтобы его взнуздали и оседлали.
— Этого недоуздка будет вполне достаточно. Дай-ка мне лучше плетку да подставь свою руку мне под ногу — этот скакун будет повыше строевой лошади у персидского царя.
Я подсадил ее, и она ловко устроилась на широкой спине жеребца. Он даже не закатил глаза и пустился легким галопом, радуясь столь невесомому всаднику и отсутствию стального мундштука. Он заржал от удовольствия, чувствуя, как напрягаются его могучие мышцы. Потянув за поводья, девушка слегка повернула его голову вбок, держась одной рукой за гриву, и затем они пустились по всему пастбищу к глубокой расселине, служившей ему границей. Легчайшим ударом кнутовища по боку она дала коню понять, что он может дать волю своим резвым ногам.
Она ехала мягко, как ездят наездники на фессалийских лугах, и толчки от конской поступи принимала не основанием спины, а всем телом.
Когда расселина оказалась уж слишком близко, я обеспокоился. Но тут она попридержала коня, не торопясь немного проехалась вдоль ущелья, развернулась и, к моему великому облегчению, легким галопом поскакала в мою сторону. И снова остановилась и повернула назад. И вот опять они двинулись к крутому обрыву, все набирая скорость по мере того, как ритмические удары хлыста становились понемногу все резче и резче. В сотне футов от впадины она крепко хлестнула скакуна, и тот, похоже, разъяренный, погнал во весь опор. «Нет, — подумалось мне, — не ярость ощутило его большое сердце, а прилив радости. А я и не знал, что он способен на столь стремительный бег». Она подалась вперед, распласталась на нем, почти касаясь головой его шеи, подстегивая при этом его хлыстом и неслышными мне словами.
И конь не отказался от прыжка через это препятствие. Она позволила ему увидеть и оценить глубину и устрашающую ширину ущелья, но жеребец был уверен в своих силах.
На самом краю он взмыл в воздух, как, вероятно, взлетал Пегас на высокогорных пастбищах, и я увидел, как лошадь с всадницей летят по пологой дуге, резко вырисовываясь на фоне низко нависшего облака, на одно краткое, но яркое мгновение вырвавшись из цепких объятий земли. И вот они уже благополучно приземлились на другом берегу.
Сдержав безудержный бег коня, девушка развернулась и переехала расселину в нашем обычном месте, там, где она была проходима. Затем подскакала ко мне, с раскрасневшимся лицом, с прыгающими за спиной косами. Букефал же храпел, явно хвастаясь и выражая свое лошадиное торжество. Яркими жемчужинами показались мне светло-серые с синей каймой глаза девушки. Не будь она с гор лежащей в глубине материка Бактрии, я бы решил, что это морская нимфа, разъезжающая верхом на огромных конях Посейдона.
[170]
Глядя на это прелестное создание, я готов был рыдать от восторга, но, заставив себя вспомнить, что я — Александр, сын Филиппа, и мне судьбой предназначено проявить нечто большее, нежели искусство верховой езды, бесстрастно заметил:
— Ты рисковала не только собой, но и костями моего бесценного жеребца. Слава богам, все обошлось. Но и в самом деле, это было прекрасное зрелище.
Выражение ее лица изменилось, и за этим последовало презрительное «Фу!». Потом небрежным тоном, который звучал для меня музыкой, она стала рассказывать:
— В Бактрии ребенка, независимо оттого, мальчик это или девочка, принято сажать на лошадь, едва он начинает ходить. А иначе как бы нам удавалось разъезжать по нашей гористой стране, где мчатся стремительные потоки, и по кручам, где пасутся большерогие овцы Памира?
[171] Что же касается переправы через вон тот ручей… Знаешь, это не так уж трудно, как кажется. У моего отца в телохранителях есть новообращенные, — признаюсь, они лучшие наездники во всей Азии, — так вот, и в полных доспехах они способны совершать такие прыжки!
— Буду остерегаться их, когда перейду через ваши горы, чтобы расквитаться по старому счету — мы, греки, кое-что задолжали вашему царю.
6
На следующий день регент царя, старый Антипатр, возвратился из военной экспедиции, предпринятой с целью наказания дикого племени, обитающего в северной области. Теперь уже он мог играть роль гостеприимного; хозяина, принимающего послов, и представлять Филиппа на переговорах с ними. По странной случайности я никогда еще не был в святилище Додоны, великого оракула Зевса, куда теперь намеревались идти маги. Случай был подходящий, и Олимпиада, без всякого намека с моей стороны, предложила оказать им любезность и сопровождать их; возможно, она надеялась, что там мне приоткроется тайна и будет предсказан знак моей будущей судьбы.
— И может статься, — заметила она как бы вскользь, разглядывая роскошный пояс, который вышивала, — что на пути туда тебе не придется спать в холодной постели.
— Мать, Роксана — княжна, дочь благородного и знатного человека. И ей от силы тринадцать лет.
— Значит, она уже расцвела. К тому же на Востоке при выборе невесты не принято поднимать шум из-за потери невинности. Наоборот, известная искушенность в любви является, скорее, достоинством в глазах их незрелых женихов, а некоторые их религиозные ритуалы, особенно в честь богини Исиды, мы, греки, считаем сладострастными. Мне сейчас вспомнилась поговорка: «Негоже печным щипцам возмущаться тем, что труба черная».
Если и были в Азии ритуалы сладострастней, чем во Фракии и Эпире, то я о таких не слыхивал; зато пьяный разгул в Самофракии с отвращением вспоминался мне и до сих пор.
Однако я только сказал:
— Сомневаюсь, знает ли Роксана об Исиде вообще. Как мне известно, Исида первоначально была богиней Египта и культ ее распространился только на семитские народы, такие, как финикийцы, а не на далекую от Египта Бактрию.
— Гм! Да у нее почитатели аж в самих Афинах! Это ты первый заговорил о Роксане, а не я. И эти маги вовсе уж не такие неземные, как кажется. Уверяю, под белыми одеждами — совершенно плотские человеческие существа. Видала я в их караванах и красивых наложниц. Да ладно, как бы там ни было, думаю, совершить паломничество к Додоне тебе сейчас самая пора.
7
От Пеллы по долине Галиакмона путь в Додону был приятен. Там, где роскошная река поворачивала в своем течении на север, дорога по холмам, а затем по высоким горам приводила в город Халкиду, затем следовала за течением быстрых вод реки Арахос до побережья озера Памбот. Немного погодя она пересекалась со старой тропой паломников, приводившей от Иллирии и северного Эпира прямо к святилищу Додоны.
Лебедь на трепетных крылах, возможно, любящий Зевс под видом этой птицы, мог покрыть это расстояние часа за полтора. По прямой это составляло примерно тысячу того, что мы, влачащие свои ноги смертные, называли стадией, но мы не могли идти по прямой, нам приходилось обходить кручи, поворачивать, петлять, и в целом путь для нас растянулся примерно на тысячу двести стадий. Для неторопливого путешествия, когда можно полюбоваться видами, спокойно поесть, нам требовалось около шести долгих дней позднего лета.
У нас не было никакого конвоя. Шайки разбойников, затаившихся в теснинах, не посмели бы тронуть и пальцем одетых в белое магов, а не то пожухли бы травы и на их скот напал бы ящур. Будучи самым достойным из этой группы как по рождению, так и по числу совершенных паломничеств, а также благодаря приобретенному запасу священных знаний и сведений, Шаламарес шел впереди отряда, проводниками которому служили только местные пастухи. Казалось немного странным то, что наследник македонской короны позволяет всем этим мудрецам шествовать впереди себя, и мне бы досталось за это от скорого на язык Птолемея. И все же надменная моя душа не жаловалась, а скорее даже утешалась этим, как если бы на этот раз в виде исключения я подчинился ее истинному велению.
Там, где дорога была достаточно широка для двух верховых, рядом с размашисто шагающим Букефалом семенил косматый пони, и на нем восседала девушка с золотистыми косами и удивительно живым лицом. В узких теснинах я уступал ей дорогу и ехал сзади, соблюдая правила приличия в отношении равных мне по высоте положения царских детей, которым в детстве меня учила няня.
Роксана была тремя годами моложе меня, к тому же незнакома с этой местностью, поэтому мне вполне подходила роль заботливого наставника. Если я и подражал манерам Аристотеля, среди моих сверстников вряд ли нашелся бы хоть один, кто посмеялся бы надо мной. На юную княжну, похоже, моя образованность произвела впечатление. Она с интересом слушала, когда я называл встречавшихся на пути птиц, змей и зверьков; я говорил ей также об их родственных видах, которые были ей известны у себя на далекой родине.
Не было нужды обращать ее внимание на красоту природы Греции, с которой для нас, греков, никакая другая земля не могла сравниться. Она и сама зорко подмечала и буйное цветение среди камней, и ежевику, и шумную радость жизни наших прозрачных рек, и божественный вид наших далеких гор в сосновом оперении, хоть они и казались не более чем скамеечками для ног в сравнении с упирающимися в небо великими вершинами Памира — родины гигантских овец величиной с наших ослов. Даже наши лучшие овцы казались невзрачны и малы по сравнению с толстохвостыми особями далекой Азии; и все же при виде небольшой отары на сочном лугу, заботливо охраняемой древним пастухом, глаза ее тепло заблестели.
Нередко мы вдвоем засиживались после ужина у костра в долго тянущихся бледных сумерках, когда маги уже скрылись в своих шатрах для молитв или медитаций или чтобы дать покой старым костям. Шаламарес весьма охотно оставлял ее в моей компании, возможно, потому, что, как это свойственно более пожилым людям, считал ее еще ребенком, а может, и вполне способной защитить себя от домогательств похотливого обожателя. В такие минуты мы были доверчивей, то и дело поверяли друг другу свои секреты; а когда костер догорал до рубиновых углей и спускалась прохлада ночи, она просовывала мне в ладони свои нежные пальцы, чтобы я мог их согреть. Они были тонкие, шелковистые, однако твердые и сильные. И когда, наконец, ей приходилось расставаться со мной и я просил поцеловать меня на ночь, она целовала без всякой неприязни, по-детски невинно и очаровательно. Мне еще не доводилось касаться губ теплее и мягче.
Затем она живо вскакивала на ноги, будто кто-то ее подстегивал, и это мог быть наш греческий бог Эрос, сын великого вора Гермеса и его единокровной сестры Афродиты, которая обожала наблюдать за юношами и девушками, забавляющимися играми ее собственного изобретения, а не за состязанием колесниц.
Что до меня, то я заставлял себя помнить, что Ахилл впервые познал любовь с Брисеидой, своей прекрасной троянской пленницей, лишь одержав победу в ужасной битве. Я же еще не окровавил конец своего копья, если не считать крови зверей, и поэтому, подчиняясь древнему обычаю, носил кожаный пояс, который каждый македонский юноша обязан был носить до тех пор, пока не убьет врага. Как сына Филиппа меня бы могли избавить от этого знака незрелости, но я все равно носил его — к удовольствию воинов, которым нравилась честная игра. Именно по этой причине я не искал близости с Роксаной, а вовсе не потому, что она молода и невинна. Мне было хорошо известно, что молодость и неискушенность не всегда идут рука об руку, недаром на рынке наибольшую цену давали как раз за тринадцати-, а то и двенадцатилетних рабынь.
Мягкая постель и приятные мечты, полагал я, скоро успокоят ее и даруют ей сон. Я же на своем жестком соломенном тюфяке, навязанном мне Леонидом, долго ворочался, задаваясь вопросом, отразится ли на моей жизни эта случайная встреча с девушкой из таких далеких краев. Не отразится, думалось мне, если оставить это на волю случая, ведь случай — вещь непостоянная и ненадежная, как коварная сводня. Филипп, величайший из признанных полководцев нашего времени, стремился просчитывать все наперед, чтобы избегнуть случайности, хотя бывало — играл наугад и выигрывал.
Стоило мне подумать о Филиппе, как мысли тотчас же поменяли направление, и теперь я предавался размышлениям или, лучше сказать, мечтам о собственных военных походах, которые предстояли мне в будущем. Я представлял, как пройду по следам его окованных броней сапог, а возможно, и дальше. И в суматохе воображаемой мною битвы, под грохот копыт, я наконец заснул.
По мере приближения нашего каравана к местности, откуда до Додоны рукой подать, появились милые сердцу желтоватые нивы, и утопающие в виноградниках дома, и пастухи с отарами овец, усеявших белыми точками необозримые дали. Вскоре с вершины холма нам открылся вид на храм, вовсе не столь грандиозный, как я ожидал, без величественной колоннады, которая окружает и менее славные храмы. Видны были преддверие и прилегающая к храму территория, огороженная галереями значительных размеров. Шаламарес что-то быстро залопотал по-персидски, указывая на нечто такое, что вызвало у его спутников трепетное благоговение. Я озирался кругом, не понимая, чем было вызвано их возбуждение, но ничего, кроме дубового леса, окружавшего храм, там не приметил. Хотя нет… Рос с краю леса гигантских размеров высокий дуб, с ветвей которого свисали золотые или бронзовые котелки, сверкающие в солнечном свете.
Мы подъехали ближе и перед галереями увидели скульптуру. И все же самым захватывающим зрелищем был этот гигантский дуб. По моим соображениям, он пустил первые корни несколько веков назад, возможно, еще до того, как Ахилл отправился в плаванье к Трое. Все остальные деревья, сами по себе превосходные и вызывавшие почтение, по сравнению с ним казались просто карликами.
Мы разбили свой лагерь неподалеку. После обеда маги уединились, чтобы поразмышлять о Зевсе, о его возможном родстве с Ахурамаздой, величайшим из персидских богов, или об их единосущности, чтобы совершить омовение тел и подготовить души к возвышенному общению с ним.
Спустя какое-то время они покинули свой шатер и, все еще в трансе, выстроились в ряд. Возглавляемые Шаламаресом, медленно и смиренно зашагали они к воротам храма с высокими башнями. Там их примут жрецы и жрицы Зевса. Ни их слуги, ни мы с Роксаной не могли быть участниками этих обрядов, поэтому, обойдя стороной территорию храма и лишь украдкой взглянув на скульптуру, мы углубились в лес.
На своем пути мы не встретили ни одного живого существа, не считая голубей, которые пугливо перелетали с дерева на дерево, издавая свойственный им мелодичный крик, похожий на звуки флейты. Стоя на опушке леса, я проследил за небольшой стаей, стремительно взлетевшей и исчезнувшей в ветвях гигантского священного дерева, чтобы оттуда подавать знаки грядущей судьбы: жрецы храма, оценив их движения и прислушавшись к тихому печальному клекоту, смогут прочесть в них ответы на вопросы магов и предскажут, куда влечет неумолимый рок. Жрецы и жрицы умели также различать вести о грядущих событиях по шепоту листьев громадного дуба-оракула. Зная об этом, мы чутко прислушивались к каждому звуку, но легкий ветерок над нашими головами, едва прикасаясь к листве, доносил до нас лишь слабое и монотонное шуршание. Нам не дано было познать тайну, и все же тихий таинственный шелест будил воображение, рождая странные фантазии. Мне вдруг почудилось, что эти священные кроны над нами с их грациозными крылатыми гостями, возможно, также священны для Зевса и, если к ним обратиться с должным почтением, могли бы предсказать будущее юноши и девушки.
— Знаю, о чем ты думаешь, — прошептала Роксана.
— А если попытаться, вреда не будет?
— Не вижу никакого вреда. Попробуй. Ты первым задашь свой вопрос, а я после. Что молчишь? Или думаешь, что мне не подобает знать о твоих секретах?
— Дубы-оракулы, после того как я расстанусь с Роксаной, увижу ли я ее снова?
Схоронившиеся в кроне голуби не пошевелились, но от дуновения ветерка чуть громче зашелестели листья.
— Теперь твой черед, Роксана. Спрашивай.
— Что будет, если мы все-таки встретимся: тут же и разойдемся или как-то повлияем на жизнь друг друга, изменим ее?
Еще сильнее оживился ветерок, задрожали листья, беспокойно засуетились голуби, завертели своими изящными шейками.
— Будешь ли еще спрашивать, Александр? — донесся до моего слуха благоговейный шепот Роксаны.
— Пожалуй. Дубы-оракулы, каковы будут влияния и перемены, ждущие нас с Роксаной: будут ли они незначительными и преходящими или, наоборот, важными?
Едва прозвучали эти слова, как сильным порывом ветра повалило высокое дерево, погибающее от какой-то болезни. Почти голое, оно, падая, ударилось о дубок, росший по соседству. Крепкий и стройный, покрытый густой сочной зеленью, он был моложе, чем остальные, и, видимо, радовался своей молодости, представляя, как станет этаким могучим гигантом с глубоко уходящими корнями и мощными ветвями, когда его старшие соплеменники рухнут и сгниют. И вдруг от удара ствол его раскололо надвое, он весь как-то сморщился, сник под тяжестью дерева-убийцы, мертвые ветви которого издали зловещий вопль. Чуть помедлив в объятьях живого собрата, гнилое дерево глухо ударилось о землю, покрыв ее щепками, словно кучей старых костей.
В неожиданно наступившей тишине я увидел медленное движение губ Роксаны и догадался, что она, втайне от меня, пытается задать еще один вопрос. К ее огорчению, на этот раз попытка не удалась. Деревья оставались молчаливы, ни один листочек не шелохнулся на их ветвях. Девушка тихо заплакала, а стоило мне взять ее за руку, как она зарыдала в голос: бурно заволновалась молодая красивая грудь. Настигнутый внезапным желанием оградить ее от горя, я обнял нежные плечи, и так случилось, что наши губы встретились. У Роксаны они были влажные, горячие и чуть солоноватые от слез. Мы жадно поцеловались, а потом еще и еще, и эта страсть, не имеющая ничего общего со сладострастием, зародилась у нас в душах, за пределами нашего понимания.
Мы осушили глаза и вернулись к воротам храма. И как раз вовремя: маги уже выходили оттуда, завершив церемонию и выразив свое почтение. Роксана, как ей и подобало, задержалась у одной из колонн, и я вошел в храм один.
Беспрепятственно приблизился я к алтарю, бросил в его огонь фимиам и преклонил колена, дабы произнести молитву. Помолившись, я поднялся и положил в серебряный ящик, предназначенный для пожертвований, драгоценный камень. Затем вместе с почтенным жрецом мы пошли к раскидистому дубу-оракулу, тому самому, что рос неподалеку от ворот храма. Здесь мы остановились, и этот служитель богов сосредоточил на мне взгляд своих старых и мудрых глаз, видевших так много неземных вещей, столько всяких предвестников над головами просителей, вникавших в смысл предвещаемой ими судьбы, но не способных изменить ее ни на йоту. Затем сморщенные губы его, выговорившие столько переданных ему оракулом предсказаний, — одним они сулили торжество победы, другим смерть и сердечные муки, — раздвинулись и заговорили:
— Александр, сын Филиппа, желаешь ли ты задать вопрос Громовержцу, Собирателю облаков, тому, кто мечет ужасные смертоносные молнии, Господину небес, Зевсу Олимпийскому?
— Да, желаю.
— Тогда спрашивай.
— Через сколько лет стану носить я корону Филиппа Македонского?
Жрец коротко взглянул на сидящих в ветвях голубей, прислушался к шелесту вновь ожившего ветерка.
— Сын мой, ответ ясен. Когда у самого последнего родившегося в этом лесу потомка благородного оленя появятся красивые, широкие и ветвистые рога.
— Могу ли я задать еще один вопрос?
— Да, ибо ты, Александр, потомок Пелея и его супруги Фетиды — дочери морского старца Нерея, а следовательно, и великого Ахилла, вправе задать три вопроса.
— Будет ли мое царствование более значительным, чем царствование Филиппа, или менее славным?
На сей раз жрец дольше выслушивал шепот листьев, которые, зашелестев, смолкли и снова затрепетали. Внимательно посмотрел он на черного голубя, взлетевшего и примостившегося среди серых ветвей и беспокойно крутившего головой в разные стороны.
— Теперь знаки не так ясны; боюсь ошибиться, но, кажется, твое правление в какой-то степени будет более славным.
— Ответь же, отец мой, жрец Зевса, в какой степени будет оно более славным: в малой или великой? Или в той мере, как это рисуется мне в мечтах?
С сосредоточенным выражением старого изможденного лица, с потускневшим взором, жрец долго молчал. Тем временем маги вереницей медленно обходили галереи, разглядывая множество скульптурных изображений. Ветер, задувая сильными резкими порывами, то затихал, то усиливался, чтобы снова затихнуть. Черный голубь, из тех, что, по словам насмешника Птолемея, вырастали в голубятнях и отпускались на волю, взлетел и стал парить, вычерчивая широкие круги так высоко, что казался на фоне неба лишь быстро движущейся точкой. А жрец со страдальческим видом прислушивался к журчанию бьющего неподалеку родника, и мне показалось, что в тот момент душа его вознеслась вслед за голубем в небесные дали, дабы различить тайные знаки: добрые или нет — мне было неведомо. Наконец, описав три громадных круга, черный голубь стремительно полетел вниз, а все остальные птицы беспокойно защебетали. Мне не терпелось увидеть, куда он опустится: на самую ли макушку, на средние ветки или на нижние.
Падая камнем на землю, голубь вдруг забил крыльями и вновь устремился ввысь, чтобы устроиться на одной из веток у самой верхушки, намного выше серых своих собратьев. Темная густая листва заслонила его от моего взора.
Жрец, закатив глаза, пристально посмотрел вверх и прижал обе ладони к вискам. Постепенно лицо его вновь оживилось, и он заговорил низким голосом, с трудом выговаривая слова, как бегун, закончивший факельную эстафету, взявшую все его силы до последней капли.
— Почему он прячется в листьях? — тихо пробормотал он.
— Ты толкователь знаков, а не я.
— В моем видении мне предстал смертный, соревнующийся с Аполлоном в игре на лютне. Я узрел стремящегося к полету Икара — крылья его крепились не хрупким воском, а стальными надкрыльями — и, поистине, он летел близко к солнцу, пока полет его не оборвался, а как — этого я не смог или не захотел увидеть. Мне грезились золотые короны, которым не было числа, но в той же дали я видел реки, красные от пролитой крови, и рушащиеся высокие стены. Сквозь победные возгласы мне слышались крики страданий и боли. Ни разу за время служения в храме я не слыхал, чтобы листья оракула издавали такой странный шелест, а ручей сменил свое сладкое пение на мелодию безысходности и печали. О Александр! Мне не разгадать этой тайны. Весть оракула мне непонятна. Ступай к пифии в Дельфы. Поищи святилище Аммона — он же и Зевс — в далекой пустыне. Теперь оставь меня, сын мой. Я удаляюсь к себе: хочу прилечь, успокоиться и постараться снять боль, вызванную этим пророчеством. Сердце волнуется, но я не могу понять — добро оно предвещает или зло.
— Я повинуюсь, отец мой, сейчас я уйду. Лишь скажу на прощание, что, как мне кажется, смысл этих предзнаменований, не разгаданный тобой, жрецом, понятен мне, просителю. Думаю, не ошибусь, если скажу, что смерть я приму в сражении — да и где можно встретить более милосердную смерть?! Но до этого еще далеко и нужно пройти большой путь, чтобы достичь той цели, к которой я стремлюсь; и мне открыт широкий простор для множества побед.
— Я не скажу ни да, ни нет. Возможно, тебе пригрезились собственные юношеские мечты, а не то, что выпало по жребию. Но скажу напоследок: в добрый путь!
Глава 2
ЗНАМЕНИЯ И СОБЫТИЯ

1
На другой день маги отдыхали, ибо были уже почтенных лет, к тому же главная и самая дальняя цель их путешествия на запад была достигнута, и им требовалось восстановить силы прежде, чем идти в Дельфы. Было решено отправиться в путь на рассвете следующего дня. Роксана оставалась со своим дядей, мы же с Клитом, взяв пару вьючных лошадей и трех помощников, должны были возвращаться назад, в Пеллу.
После скромного ужина накануне отъезда мы с Роксаной так долго засиделись у костра, что его угли почти погасли, издавая лишь бледное мерцание. Но это был теплый вечер конца лета, и нам не нужно было спасаться от холода в своих шатрах; и хотя солнце давно уж село, полукруглая прибывающая луна позволяла мне смутно различать прекрасные черты ее лица. Я не рассказал ей о том, что поведал мне старый жрец, и не собирался доверять эту тайну никому, кроме своего «живого дневника» Абрута, который занесет мой рассказ в летопись, выбрав подходящее место. Однако ее глубоко тронуло то, что произошло между нами в священном лесу, и эти чувства придали ее лицу новую, более зрелую красоту, по-новому задевавшую меня за живое.
Возможно, ее коснулась тоска по дому, но мне показалось, что нечто иное заставляло ее говорить о родине с таким страстным воодушевлением, а вовсе не с печалью. Она сперва объяснила, что Бактрия не является частью Персидской империи,
[172] не управляется сатрапом, и отец ее, Оксиарт — почти самостоятельный царь. Но факт остается фактом: он принял защиту персидского царя против свирепых скифов, могучего племени, обитающего к северу от Бактрии, которые в своих немыслимых ритуалах пожирали собственных мертвецов. И в качестве платы за эту защиту Оксиарт ежегодно отправлял в Сузы, столицу Персии, шестьдесят талантов золотой пыли, что было, конечно, данью, хотя и могло бы принять форму благодарственного приношения. Кроме того, он платил царю неизменной верностью и снабжал его могучую армию вооруженными отрядами всадников на косматых пони.
Но теперь она рассказывала мне в основном о Бактре, столице, где правил ее отец, и о Мараканде, лежащей на границе Бактрии, где у магов был большой храм и где она проводила лето. Эти чудесные города появились в далекие времена, и строили их высокие светловолосые люди, которые, по мнению одних, прибыли на юго-восток из района, называемого Оксиан, а по мнению других — с далекого Кавказа. В давно брошенных храмах стояли изображения богов, неизвестных народу, а высеченные на камне надписи никто не мог прочесть. На тучных землях паслись выносливые лошади, красный густошерстый скот и курдючные овцы. В особо плодородных долинах стояли сады миндаля, персиков, слив, гранатов; и под легким дыханием ветерка шелестели листвою рощи, в которых росли приятные на вкус серповидные орехи, а также другие орехи, известные в Греции как фисташки. Были здесь также и бахчи с дынями, неописуемо нежными, и грядки с горохом и луком, и высокие хлебородные нивы. А подсолнухов росло столько, что не счесть. Их семена, сырые или обжаренные, не только ели, но изготавливали из них масло, как и из восточного кунжута.
В диких пустынях бродили стада двугорбых верблюдов, газелей и диких ослов, с которыми в скорости не мог сравниться ни один породистый жеребец с ипподромов Греции. Бесчисленные реки изобиловали съедобной рыбой, а пруды — водоплавающей птицей. В высоких горах на юге, с вершинами, вечно покрытыми снегом, обитали не только гигантские овцы и каменные козлы, но и белые леопарды с богатым мехом, а в лесах рыскали звери, осанкой и свирепостью похожие на львов, но с черными и желтыми полосами на теле. А повсюду на холмах охотники гонялись за небольшим оленем-самцом со странно растущими рогами, потому что в сезон спаривания его гениталии напоминали стручковидные железы, полные черного зернистого мускуса со странным сладким запахом, который нужен был старикам для поддержания силы своих чресел. Он мог использоваться также как самое сильное стимулирующее средство, как добавка к стойким духам для шелковых одежд и для умащения тела и продавался на вес золота.
Мать Роксаны, скифская княжна, отличалась несравненной красотой, а старший брат ее, бесспорный престолонаследник, был отличным наездником и метким охотником.
Обо всем этом поведала мне Роксана, и речь ее напоминала веселое журчание ручейка солнечным утром. Но тон ее изменился, когда она заговорила о персидском князе Сухрабе, сыне сатрапа, которого Оксиарт прочил ей в мужья либо с ее согласия, либо насильно, самое позднее, до того, как ей исполнится семнадцать лет.
— Да хочешь ли ты вообще выйти за него замуж? — спросил я.
— За этого изверга — ни за что! Он забил насмерть свою лошадь кнутом, когда та проиграла скачки. Но он приходится царю двоюродным братом, и мой отец Оксиарт ищет его благосклонности. Его рабыня рассказывала мне, что сам Митра
[173] не сравнится с ним, когда он воспылает огнем страсти, и все же он чудовище, и я бы скорей убила его, чем стала его женой.
Я поймал себя на том, что мне трудно ей поверить, несмотря на эту внезапную вспышку ненависти в ее раскосых глазах.
— Роксана, а есть ли у меня тот огонь, о котором ты говоришь?
— Наверное, есть, но ты не даешь ему разгореться. Твои мысли заняты великими походами, тайнами богов и скучной
учебой. Ты целовал меня, как брат младшую сестру, к которой он испытывает греховное вожделение и желает его подавить.
— Роксана, по греческим понятиям ты еще мала. Правда, и у нас случается, что крестьянских дочерей выдают замуж в тринадцать, а то и в двенадцать лет; а высокие господа берут девушек такого нежного возраста к себе в наложницы или в служанки.
— У каждого народа по-своему. В Бактрии девушка созревает для любви, как только она расцветет. По правде сказать, моя пора цветения запоздала. Это случилось только в конце нашего путешествия на запад, но даже теперь мое тело подает мало признаков жизни, а в одном отношении — совсем никаких. Но я почти полжизни прожила в гаремах или около них, и мне известно все, что происходит между любовниками.
— А на деле?
— Нет, если не считать того, что я несколько раз украдкой поцеловалась с двоюродным братом. Теперь он далеко и женат.
— А что, если нам поцеловаться — с душой и жаром, который так удлиняет твои глаза, наполняет их влагой и темнотой, с тем огнем, которому, как ты говоришь, я не даю разгореться?
— В этом нет ничего плохого. — Это выражение, должно быть, широко бытовало в арабских странах и к востоку от нас, ибо я уже слышал его из уст восточных рабов и торговцев.
Мы качнулись друг к другу, словно движимые двумя ласковыми, но непреодолимыми ветрами. Наши рты, юные и неопытные, встретились и прильнули друг к другу. И тут вступили в игру иные стихийные силы, развязанные или сдерживаемые богами. Природа их — тайна для великих умов. Порой они потрясают ничтожных смертных до самого естества, и эти силы вынесли нас из самих себя. Никогда еще я не испытывал такого возбуждения — колдовство овладело мною; и луна с зачарованным видом висела у нас над плечом. Несмотря на то, что наши пути должны были разойтись, мне чудилось, что я физически ощущаю, как связаны наши жизни.
Но краткое ощущение тайны поблекло, исчезло, остались только юноша и девушка, жадно ищущие друг друга под луной; и на волне этого чувства нас неудержимо влекло соединиться телами. Если бы хоть на мгновение один из нас раскрыл свои объятья, покоряясь порыву страсти, этому суждено было бы сбыться. Но ощущение реальности уже возвращалось. Между нами и нашими желаниями встали старые назидания, предупреждения и увещевания, и наши «я» не были уже растворены в единой личности. Дрожа, мы отстранились друг от друга. И ночь окутала нас своим молчанием, и немота сковала нам языки.
— Ты приедешь в Бактрию? — наконец спросила она, как мне показалось, подбирая слова с большой осторожностью и произнося их с огромным усилием.
— Приеду.
— А скоро?
— Как только представится случай. Все мы во власти рока.
— Это бессмыслица. Может, ты приедешь через три года?
— Как же я смогу это сделать? Вам с магами понадобилось два года, чтобы прийти сюда. Вы не спешили, но мое продвижение будет еще медленнее, ибо на пути у меня воздвигнут много препятствий, которые придется устранять мечом.
— А разве ты не можешь прийти как паломник, у которого было видение, заставившее его пуститься в дорогу?
— Не могу. Ведь я — сын Филиппа Македонского; и у жреца уже было видение, как рушатся стены и текут багровые от крови реки. Может, за эти три года он сделает меня полководцем своих армий?
— Наверное, я разбудила великое зло.
— Если ты имеешь в виду войну, то нет. Это декретировано сто сорок лет назад, когда Ксеркс вторгся в Грецию, осквернил наши алтари и назначил нашими правителями сатрапов, а получил только то, что греки уничтожили его флот при Саламине и разбили его армию при Платеях. Теперь новый царь Артаксеркс восстановил мощь Персии, снова захватил греческие города в Малой Азии и натравливает один греческий полис на другой. Греции остается одна надежда: объединиться под властью царя Македонии и победить саму Персию. Филипп, возможно, удовлетворится своей властью над всей Грецией и над греческими полисами, прилегающими к Эгейскому морю. Но для нашего будущего требуется больше, чем просто возврат своей собственности. Змею бы это поранило, а не убило. Царь Македонии — это орудие судьбы.
— Никто не может быть рабом судьбы. Так мне сказал Шаламарес. Люди могут изменять или строить свою собственную судьбу. Ты просто хочешь оправдать свои завоевательные мечты — вот для чего ты все это говоришь.
— Ты просила меня приехать в Бактрию, и я приеду.
— Обязательно приезжай. Может, то, что я говорю — большое зло, достойное наказания смертью. Я буду ждать тебя четыре года. Если ты не приедешь, тогда я выйду за Сухраба, но я буду только разыгрывать из себя его жену и скоро отделаюсь от него.
Глаза ее казались еще более раскосыми, чем прежде, и поблескивали в свете луны.
— Я убью его и возьму тебя как свою добычу, — сказал я, чувствуя покалывание в коже. — Не хочу, чтобы твоя рука запачкалась кровью или чтобы ты передавала ему отравленную чашу.
— Я сделаю то, что нужно, хотя это может и разгневать вашу богиню Артемиду — нам на Востоке она известна под другим именем. Я тебе говорила, что любовью еще не занималась, но знаю ее ласки. Дай мне руку.
Я протянул ей руку, и она медленно завела ее себе под юбку, затем под плотно облегающий пояс для чулок, к мягкому шелковистому бугорку, дала ей немного полежать на нем, и мной овладело страстное желание. Но когда я коснулся теплой и влажной ложбинки и она почувствовала напор моих бедер и выброс жизненных соков, которые прежде истекали только в эротических видениях, она поспешно убрала мою руку и с кружащейся головой лихорадочно вскочила на ноги. Я тоже поднялся, но с некоторым усилием.
— Вот где ждет тебя награда за победу, и будет она дарована со всей сердечной любовью, — пообещала она. — Завтра я уезжаю, и если мы встретимся опять, то будет это в Бактрии, за снежным Памиром. Так что спи допоздна, Александр, чтобы не видеть мне, как ты все уменьшаешься в серой предрассветной дали. Привет и прощай.
Она стрелой бросилась в сторону своего шатра, как убегает газель в пустыне от подкрадывающегося к ней льва.
2
Долго мы возвращались с Клитом назад в Пеллу. Весь первый день я находился в состоянии какого-то ошеломления, почти ничего не говорил, несмотря на сумятицу мыслей, а когда заснул, меня одолела беспорядочная вереница снов, не серых, как обычно, а в ярких цветах. Проснувшись, я не смог вспомнить ни одного и решил, что они были ниспосланы мне какой-то богиней из царства сновидений.
На следующий день ошеломленность прошла, придорожные виды приобрели знакомые формы и очертания, а мысли упорядочились, хотя временами я еще поглядывал вверх, ожидая увидеть девушку на косматом пони. Четыре года? Если только Филипп не оставит Антипатра своим регентом и не поведет в поход свою армию, где я буду по крайней мере командовать отрядом всадников, у меня не было ни малейшей надежды, что предложенное Роксаной свидание состоится; и в случае исключительного везения это было почти неосуществимо.
Отвечая на мой первый вопрос, храмовой жрец в Додоне предсказал, что я обрету корону, когда у последнего новорожденного олененка в лесу вырастут прекрасные ветвистые рога. А долго ли ждать? Некоторые благородные олени увенчивались такими рогами за четыре года, но мне приходилось видеть могучие раскидистые рога с множеством отростков, которые, по словам охотников, говорили о десятилетнем возрасте оленя.
У Филиппа было мало шансов прожить еще десять лет, но радовался ли я этому или нет? То, что я вдруг задался таким вопросом, значило, что у меня в груди вылупился василиск, ибо суровость обрел я, а не жестокость. Сам Филипп убил одного единокровного брата и отправил в изгнание еще двоих, чтобы обезопасить свой трон. На кровавом пути нашего рода это было последнее кровопролитие, но считалось, что убийство единокровного брата — это детская шалость по сравнению с убийством родного брата, а последнее было — чуть ли не пустячный грешок по сравнению с убийством родного отца, которое тяжелым неумолимым проклятием ложилось на четыре поколения потомков, обреченных на горестный путь к гибели, и фурии слетались со своих отвратительных гнезд, чтобы творить это страшное наказание, и не питали земли этой освежающие, дожди, и не слышно было там больше ни певчих птиц, ни сладкого журчания ручьев, и только вороны Зевса каркали на ветках сохнущих деревьев.
Пожелать ему смерти и принести ему смерть было не одно и то же. На первое у меня было право, ведь он дурно поступил с Олимпиадой, больше не разделяя с ней постель, но, покопавшись в себе, я признал себя виновным в том, что это радует меня, а не гневит. И все же он мог дать ей как царице отставку и жениться на более молодой, причиняя моей матери большое зло и подвергая опасности мое законное право на трон, если бы та, что узурпировала ее место, родила царю мальчика.
Если бы это произошло, всем троим грозила бы смерть. Примером такого чистого выметания послужили мои предки, и к тому же многих из них смела с трона одна и та же метла. Вероятней всего, судьбы войны решат мой вопрос. Филипп приобрел множество сильных врагов, вел бесконечные войны против мятежных племен, а на этих войнах брошенное из кустов копье, метко пущенная стрела, даже камень с вершины какой-нибудь кручи могли бы распорядиться его жизнью не хуже, чем масса мечей, окруживших его в сражении. Скоро предстояла война с Фивами, и под угрозой срыва было его перемирие с Афинами. Но факт оставался фактом, что смерть приближалась к нему не раз — и проходила мимо. Не исключено, что этот храбрый, яркий и нередко жестокий человек был любимцем Ареса, нашего бога войны, которого римляне, чья мощь уже распускалась первыми цветами, называли Марсом.
Тайно ходили слухи, что у него есть незаконнорожденный сын моего возраста, которого он сильно любит, — и это больше всего тревожило меня. Поэтому в тот вечер, когда племянница Аттала, военачальника, которому он доверял, налила ему вина и поцеловала чашу, я заговорил о мучившем меня вопросе с Олимпиадой. Племянница Аттала была не старше Роксаны, но царь пожирал ее глазами, а упившись, поцеловал — чем сильно разгневал мою мать. Я был разгневан не менее ее, хотя и по другой причине: меня не пригласили на этот пир, и я должен был есть вместе с воинами.
— Мать, верно ли, что у Филиппа есть незаконнорожденный сын, угрожающий моему престолонаследованию?
— Если нет, то это было бы чудом, — отвечала она, сверкая глазами.
— Коли так, то знаешь ли ты, кто он?
— Нет, но придет время — узнаю.
Но мне показалось, что, отвечая на последний вопрос, мать соврала.
В приближающемся октябре мне исполнится семнадцать лет, а в легкой кавалерии Филиппа насчитывалось немало илархов и лохагов, начальников из благородных юношей, именно этого возраста. Не пройдет и года, как мне поручат командную должность, и, возможно, это будет первым слабым шагом на пути в Персию, уже теперь собирающую свои армии. Я знал одно: мне следует прекратить мечтать о далекой звезде и устремить свои мысли к более неотложным делам — подумать, например, о своем праве престолонаследия.
Да, светловолосая Роксана с серыми глазами в голубой окаемке, доблестная наездница, смелая искательница приключений, девушка несравненной, все прибывающей красоты, придет время — и я приду за тобой! Но как долог путь до этого часа, как томительно ожидание и сколько надо одержать побед!
3
Иногда великие испытания или кризисы в жизни людей видны издалека, и хотя еще точно неизвестно, в какой момент, но они неизбежно настанут, когда пересекутся пути времени и событий. Ко мне, а также и к моему противнику это не относилось — так я полагаю. Этот день был сродни бессчетным осенним дням северной Греции, с прохладным, отменно свежим и чистым воздухом, принесенным ветрами с гор, бодрящим, но не холодным. Ветер рябил прозрачные воды озера за южными пределами города, и на них — чтобы отдохнуть и покормиться, перед тем как продолжить перелет на юг с холодных северных болот, где они родились, — уселось множество яркооперенных, способных глубоко нырять и стремительно летать уток, но не так уж много гусей: им было не дотянуться клювом до слишком глубокого дна озера и не попировать. Их сбившиеся в клинья братья, не задерживаясь здесь, пролетали мимо, держа путь к дельте Нила, и долго еще не смолкали в воздухе их одиночные крики. Я только мельком смотрел на них, ведь для осенних небес это была обычная картина, но порой то ли более мелодичный, то ли более жалобный крик заставлял меня взглянуть вверх, чтобы увидеть стаи лебедей и переливы солнца на их великолепных крыльях.
Этим утром Аристотель ограничился кратким рассуждением, потому что накануне всю ночь промучился головной болью, и мы, его ученики, еще задолго до полудня отправились восвояси. Прекрасная фессалийская кобыла Птолемея не могла тягаться с Букефалом, и я дал ему большую фору; но все равно в трудной скачке на расстояние около пяти стадий я взял верх, и мой черный жеребец заржал от ликования. Впереди еще был весь день, и Птолемей остался со мной; а поскольку свежий воздух, сытная еда по пути домой и свойственное юности приподнятое настроение вызвали у нас прилив кипучей энергии, мы пустились в такие тяжкие состязания, как прыжки с шестом, в высоту и длину, метание диска и импровизированные скачки с препятствиями.
Когда к нам пришел Леонид, мы взяли свои мечи и деревянные щиты и под его ревностным взглядом принялись фехтовать, подстегиваемые его колкими замечаниями при каждом неудачном выпаде или отражении удара. Птолемей все еще превосходил меня в этом, хоть и казалось, что я стараюсь изо всех сил, и часто, когда, желая застать его врасплох, я неожиданно переходил в стремительную атаку, он быстрым контрударом отбивал конец моего меча, когда тот почти уже коснулся его щита. Эти четверть часа стоили нам большого пота: мне — восьми новых зазубрин на щите, ему — четырех, поэтому мы с радостью освежились ячменным пивом. Леонид, вызванный во дворец по делу, оставил нас остыть и отдышаться в приятном одиночестве.
— Мне кажется странным, что я все время побеждаю тебя, — недоуменно заметил Птолемей.
— Что же поделаешь, если ты лучше меня фехтуешь.
— Ну, это как сказать. Меня часто побеждают парни, которых победил ты, и тебе хорошо известно, что ты превосходишь меня как атлет. Может, ты немного сдерживаешься, чтобы только не поцарапать меня? Я ведь сколько хитрил, чтобы оставить свой след на твоей царской коже, а ты все лупишь по щиту. А что, если мы пофехтуем без щитов?
— В этом нет ничего плохого, — сказал я, вспомнив Роксану.
— Может, и есть. Например, проигрыш крупного пари, которого я тебе не советую заключать, или, что похуже, если один из нас или мы оба получим не такие уж пустяковые раны. При первой крови мы не остановимся — это может оказаться счастливой случайностью. Победителем будет тот, кто первый пустит кровь другому два раза подряд.
— Ты говорил о пари? На сколько статеров? — спросил я.
— Я думал о пари куда покрупнее. Если ты выиграешь, я даю слово перед богами служить тебе верно, пока мы оба будем живы, кем бы ты меня ни назначил: простым ли командующим маленького отряда или одним из своих военачальников. Кроме того, по смерти Филиппа я буду помогать, а не препятствовать твоему восхождению на трон вопреки всем остальным претендентам. Но если выиграю я, эта клятва недействительна и, возможно, я сам стану претендовать на корону как один из достойнейших наследников царской крови, фессалийских правителей и прочих искателей приключений. Если ты победишь и убьешь их и тем самым завоюешь трон, в твоих руках будет только гражданское правление. Ты расскажешь мне о своих устремлениях и поставишь меня полководцем всех своих армий, чтобы я мог защищать и приумножать твои владения.
— Это немыслимо, Птолемей. Филипп командует всеми своими армиями, водит их в сражения, и я собираюсь делать то же самое. Ты бы не сделал такое нелепое предложение, если бы не был твердо уверен, что превзойдешь меня в воинских делах. Что привело тебя к такому убеждению?
— Я долго и упорно размышлял и внимательно присматривался. Александр, ты слишком импульсивен, чтобы быть на высоте в холодной науке войны. Даже в шахматы ты не можешь играть как следует. Кто же так безрассудно рискует своими фигурами! По правде говоря, характером ты больше в Олимпиаду — такой же страстный и необузданный, — чем в Филиппа с его предусмотрительностью. Что же касается сообразительности, то я больше похож на него, чем ты.
Я начал было говорить, но придержал язык, пораженный невероятно странной мыслью, волной прокатившейся в мозгу. Наверное, я побледнел. Наверное, дико оглянулся вокруг, ища успокоения в знакомых перспективах, ибо внезапно мне показалось, что я затерялся в каком-то совершенно неизвестном, враждебном мире — где мне приходилось бывать во снах, которые я считал навсегда забытыми. Я взглянул в горящие глаза Птолемея и увидел его как бы в новом свете. А затем ощутил прилив новых сил — возможно, я почерпнул их из собственного неизвестного мне источника, они прихлынули ко всем моим мышцам, укротили бешено бьющееся сердце, и я почувствовал себя спокойным, как в те моменты, когда размышлял над вопросом, поставленным Аристотелем. И теперь я мог говорить.
— Птолемей, почему это ты похож на Филиппа больше, чем я, его сын?
— А разве ты еще не догадался, Александр?
— Возможно, я и догадываюсь, но твердой уверенности нет.
— Олимпиада тебе ничего не говорила?
— Нет.
— Ты знаешь, что моей матерью была Арсиноя, куртизанка, одна из самых красивых и совершенных женщин во всей Греции. Теперь она жена Лага, но кто устроил этот брак? Филипп. Это когда он очаровался Филинной, фессалийской танцовщицей, от которой у него родился сын. А до этого всеми его мыслями владела Арсиноя. Она забеременела от него и в должный срок родила ребенка — он тоже сын Филиппа.
— И ты — это он?
— А как же иначе я бы осмелился предложить тебе такое пари? Ведь я бы заслуживал казни как зарвавшийся ублюдок — впрочем, каким я и являюсь на самом деле.
— Ты старше меня на год.
— Да, но мою мать так и не признали, иначе я был бы коронованным наследником вместо тебя. И конечно, ты помнишь, что Архелай, незаконнорожденный сын царя Александра, сам после цепи убийств стал царем, и при этом великим. А вспомни еще одного незаконнорожденного, Ясона, чьи победы на севере остановило только его убийство. Александр, я был бы сильным соперником в борьбе за корону Филиппа, но я не стану домогаться ее или какого-либо иного высокого поста, если не смогу победить тебя в честном состязании. Я совсем не уверен, что буду лучшим фехтовальщиком, если ты будешь бороться за такую высокую награду. Клянусь богами, мое предложение благородное и честное.
— Я тоже так считаю. Я принимаю его. Если я выиграю, ты будешь верно служить мне, на какой бы пост я тебя ни поставил, и, несомненно, это будет превосходная служба. Если выиграешь ты, то поступишь как тебе заблагорассудится, и, если я все же отниму корону у всех претендентов, я назначу тебя главнокомандующим своих армий, чтобы осуществить высокие замыслы, которые роятся у меня в голове.
— Это немного меньше того, что я предлагал, хотя все равно: ты будешь лучшим стратегом, а я — лучшим тактиком. Я согласен.
— В этом случае я все же буду иметь в своей власти гражданское управление и, в силу своего высокого положения, получать все доходы и пышные почести, и потому ты никогда не обратишься ко мне как к равному, несмотря на твой высокий командный пост.
— Да, мой господин.
— Ты можешь называть меня Александром до того, как я стану царем, а я им стану. Чтобы занять это величественное место, мой друг Птолемей, у тебя нет ни единого шанса, даже если ты победишь на дуэли. Позволят ли старые соратники Филиппа восседать на троне сыну шлюхи? Кроме того, меня любят отцовские телохранители, которые не входят в состав вооруженных сил государства, и я сохраню их как необходимое приложение к трону. Если же я выиграю дуэль, я могу поставить тебя распоряжаться повозками, запряженными волами. — Но мне не удалось придать своему голосу достаточную убежденность.
— Можешь, но не поставишь; ведь не станешь же ты бросаться хорошими мозгами, которые пригодятся тебе в твоих походах. Ты сумасброд по натуре, но нужного тебе богатства не упустишь.
— В этом ты прав. Теперь возьмем мечи, отложим щиты в сторону и начнем.
4
Я отбросил все сожаления, всякую мысль, что поступаю глупо, когда мы с Птолемеем скрестили мечи. Я знал, что подчиняюсь велению своей натуры, а также, возможно, и своих высоких мечтаний, и, невзирая на их истинность или обманчивость, я поклялся, что выиграю. На мгновение мелькнуло предчувствие, что клятву я дал правильную. До сих пор судьба как-то очень странно склонялась то в мою, то в его сторону, а то и сразу в обе, но сейчас я чувствовал ее одобрение, а пожалуй, и расположение богов.
Концы наших мечей стали прощупывать друг друга. Я не думал больше о том, что он фехтует лучше меня: это состязание покажет. Если бы я нашел время обдумать это, я бы удивился переполнявшей мое сердце радости. Я ли был почти равен ему, он ли мне, но только глупец мог сомневаться в нем как в моем самом серьезном противнике. Когда я немного увлекся, он едва не поранил мне правую руку.
Мы сражались на траве, и у нас под ногами, вытанцовывающими столь замысловато, шуршали опавшие листья. Солнце стояло уже невысоко, и каждый из нас старался повернуться так, чтобы солнечные лучи не падали ему в глаза. Лицо Птолемея оставалось спокойным, если не считать блестящих прищуренных глаз; мое, насколько я чувствовал, мало чем отличалось от его своим выражением. Вскоре стало ясно, что мы лучше, чем мне когда-либо мечталось, соответствуем друг другу. Примерно одного роста, при одинаковой длине руки, мы оба располагали обычным для Македонии подвижным мускулистым телом и оба были в расцвете нашей первой возмужалости. Мне было семнадцать, ему — восемнадцать лет. Он дрался с большей хитростью, чем я, часто делая выпады без надежды на неминуемый успех, но рассчитывая на то, что я откроюсь на долю секунды и он нанесет мне молниеносный удар, выиграв очко. Но, соблюдая предельную внимательность или яростно нападая, я пока парировал его удары, нарушая его тонкий расчет. Я еще не строил никаких замыслов, а только зорко следил за ним, дожидаясь того момента, когда он откроется.
Мне казалось, что мы одни, и не только на этом участке территории, но и во всем мире — настолько сильно мы были поглощены друг другом. И только звон наших мечей да сухой шелест и треск листьев у нас под ногами нарушали тишину. Я потерял ощущение времени, чувствовал только, что оно тянется уже долго. Когда мы развернулись, глядя друг на друга в новой позиции, я заметил человека, стоящего у галереи, и в голове мелькнула тревожная мысль, что это Леонид, и он, исполняя свой долг перед царем, остановит наш поединок; но в следующий момент понял, что это старый Антипатр, наш регент, и страшно обрадовался.
Забыв на мгновение о мече Птолемея, я дал ему возможность сделать моментальный выпад, слишком поздно отразив его, и почувствовал, как острое лезвие коснулось плеча. Он отступил назад, опустив меч, и я сразу понял, что у меня кровавый порез.
— Тебе сильно досталось? — донесся крик Антипатра.
— Пустяки, — отвечал я, тоже опустив свой меч. — Сокол клюнет — крови бывает больше.
— Все же тебе лучше немного отдохнуть, чтобы восстановить силы, — чрезвычайно любезно предложил Птолемей. — У тебя кровь течет по голой руке и просачивается через рубашку, так что я с радостью дам тебе передохнуть, пока мы будем смачивать губы пивом.
— Отклоняю это великодушное предложение, — отвечал я. — Мне не нужно собираться с силами. Теперь припоминаю, что, когда мы взбирались на крутые утесы, ты выдыхался первым.
— Это правда. Мое почтение, Александр. Считаем до трех и начинаем.
— Но пока я вызову царского лекаря, — крикнул регент. — Не ради этой пустяковой царапины. Пусть стоит наготове с губками, пластырями и бинтами, а то следующая рана может быть совсем не шуточной.
— Ладно. Только ни слова Олимпиаде. Итак, могучий мой соперник Птолемей: раз… два… три!
Птолемей напал на меня еще до того, как полностью прозвучала последняя цифра. Атака была яростней прежних, и первый ее напор не принес ему успеха, иначе бы он выиграл поединок, поэтому я защищался с одинаковой яростью. Я провел контратаку, весь сосредоточившись на острие своего широкого меча, жаждущего крови моего противника, и видя, что он приоткрылся на долю секунды, равную той, что разделяет падение двух капель, которой бы хватило осе, чтобы юркнуть и ужалить его, но чуть-чуть запоздал с выпадом, и Птолемей отскочил назад.
Он снова бросился на меня, как леопард на овцу из темных зарослей — прежде, чем отара уляжется спать и вспыхнут сторожевые костры. И мы оба сражались отчаянно, ибо ему, чтобы выиграть, а мне, чтобы проиграть, нужен был всего лишь еще один меткий удар. Я не помню, какие удары мы наносили друг другу и отбивали; лязг стали, звуки скольжения одного лезвия о другое — все это тянулось и тянулось, словно целая жизнь проходила во сне, где резкий звон металла то бешено разгорался, то затихал, так и не прекращаясь, и от этого сон принимал характер ночного кошмара. Кое-как сохраняя ориентацию, я понял, что он хочет оттеснить меня назад, к невысокому монументу из камня с выбитой на нем древней надписью, который мой дед Аминта похитил из вражеского храма и установил здесь по возвращении из военного похода, предпринятого с целью усмирения варварских племен.
Я притворился, будто не понимаю, чего он добивается, а его напор все нарастал, пока я не оказался в двух шагах от западни. Я это понял не потому, что помнил точное местоположение камня, а потому, что натиск Птолемея достиг высшей точки, и еще по блеску глаз — он выдавал в нем нетерпеливое ожидание очень скорой победы, когда через три-четыре секунды я перевалюсь через камень. В его потном лице, отражающем низкие лучи солнца, я мельком заметил, как он уже мечтает увидеть острие своего меча, рассекающего мою плоть, почувствовать ее еле заметное сопротивление, перед тем как обагриться кровью. Я был благодарен богам за то, что этого не видит Олимпиада, иначе она бы закричала, предупреждая меня, и тогда моя собственная западня захлопнулась бы впустую.
На краю пропасти поражения я дождался того момента, когда он отведет плечо для резкого броска вперед. На мгновение открылся крошечный просвет, когда мой клинок отбить было нельзя. Я сделал выпад подобно смертоносной гадюке, с острием меча вместо ядовитых зубов, и ужалил его в правую грудь, которая моментально окрасилась кровью.
Ловко отскочив в сторону, чтобы не споткнуться о камень, я опустил меч, упершись его концом в землю. У Птолемея не было иного выбора, как сделать то же самое со своим, и, пожалуй, он обрадовался этой возможности: ведь для достижения своей цели он призвал себе на помощь всю свою силу и выдержку, и теперь, когда все сорвалось, его охватила внезапная слабость. Однако очень скоро он уже снова заговорил с прежней своей энергией.
— Александр, когда я выиграл один удар, я предложил тебе краткую передышку, хотя я ничего от этого не выигрывал и многое терял. Теперь, когда счет равный, может, предложишь то же самое и мне? На твоем месте твой герой Ахилл поступил бы именно так.
— Нет, Птолемей. Считай до трех и…
— Подожди! Это же не проверка дыхания, это испытание искусства владеть мечом.
— Нет, это испытание всего человека, меня и тебя. Может, попросим Антипатра сосчитать до трех?
— Ладно, сам сосчитаю. Только учти, у меня ведь есть и второе дыхание. Раз… два… три!
Словно видя продолжение сна, я снова вступил в бой со своим единокровным братом.
И вот мой меч подчинил себе все мои силы, ранее до конца еще не востребованные, и я пошел в наступление. Птолемей устал гораздо больше меня и в основном держался за счет железной воли, а она была крепка, как у отца его, Филиппа. Ослабь я свой натиск хоть на малую толику, он бы это заметил — недаром он так отчаянно следил за мной — и выиграл бы последний и решающий удар. В низких лучах солнца наши мечи уже не сверкали, как отполированное серебро, а горели, как желтое золото. Рядом присел и закаркал ворон, нередко бывающий предвестником близкой смерти; он был также священной птицей для двух греческих богов. Когда бог войны Арес творил свой ужасный пир, вороны очищали поле. Зевсу же птица смерти придала мудрости. Но я не полагался на его расположение, данное мне как предзнаменование в Додоне, а бился с полным накалом, похоже, достигшим уже высшей точки перед тем, как смениться физическим утомлением. У меня обострилось зрение, и я заметил, что Птолемей и впрямь обрел второе дыхание, и еще я, кажется, улавливал заранее его намерения нанести удар — вероятно, потому, что его движения слегка замедлились.
Я должен был теперь победить — или оставался риск потерпеть поражение. Если бы это случилось, изменилась бы вся моя жизнь и я бы познал горький вкус еще многих поражений прежде, чем встретил ужасную смерть где-нибудь в далекой земле. В памяти людей не я, а Птолемей был бы завоевателем Персии. Боги, чем я только не рисковал, приняв вызов брата! И все же в глубине своей души, охваченной смятением чувств, я был рад своему поступку — им я почтил кровь Ахилла, ставшую во мне жиже за несколько поколений, но все же сохранившую могущественную силу.
Я придумал уловку и стал ее осуществлять. Нужно было только притвориться ослабшим, то есть перейти в оборону, не нападая, а только отбиваясь от его все более дерзких атак. Наступил долгожданный момент, когда он стал делать слишком долгие, слишком смелые броски и в промежутке между ними на долю секунды ослабил свою бдительность. И вот наконец он вдруг сделал мощный выпад, чтобы сокрушить мою защиту и довести дело до конца, но я из последних сил напряг свою руку, принял удар и вдруг заметил, что сбоку он остался незащищен. Я сделал стремительный выпад. Удар концом меча пришелся ему под левые ребра. Будь он чуть правее, я бы рассек ему сердце. Как бы то ни было, я нанес ему опасную рану. Он выронил меч и повалился на землю.
К нему сразу же поспешили Антипатр с врачом. Врач опустился на колени возле моего падшего врага и принялся останавливать кровь. Для этого он засовывал в рану куски расщепленной ткани, смоченные уксусом, и наложил на нее тугую повязку. Постепенно кровотечение ослабло, и по лицу Птолемея я понял, что страшная смерть прошла совсем рядом, продолжив свой мрачный путь.
Антипатр взглянул мне в глаза и заговорил:
— Почему вы вступили в схватку без щитов? Клянусь богами, это была не тренировка, а настоящий бой, который едва не кончился смертью! И чего ты добился своей победой? Ради чего стоило так рисковать?
— Ставки, Антипатр, были выше, чем ты себе представляешь. Если Птолемей умолчит о них, я тоже не буду распространяться. Могу только сказать, что для будущей службы я приобрел надежного и способного полководца. Приняв его вызов и победив, я избавился от сильнейшего претендента на трон Филиппа, которым он мог бы стать, когда пробьет час борьбы.
5
Мои неожиданные успехи в искусстве фехтования, причина которых крылась в перемене, происшедшей у меня в сердце и голове, а не в мускулах, проявились весьма кстати, если старый Антипатр не преминул понять, в чем дело. В некотором смысле я стал его доверенным лицом. После моей победы над Птолемеем его отношение ко мне совершенно изменилось. Филипп заварил здесь, в Македонии, большую кашу, говорил он, и скоро она потечет на крупные полисы, что лежат к югу, и во всей Греции начнутся беспорядки.
— А Филиппу только этого и надо, — продолжал Антипатр. — Как раз теперь он ищет предлог, чтобы выступить с армией на юг, и ты ни в коем случае не должен недооценивать его хитрости. Этот модный болтун Демосфен достаточно умен, чтобы понять честолюбивые замыслы Филиппа, но он способен только болтать, будоражить людей и толкать их на грубые ошибки; а когда дойдет до драки, ему ли тягаться мозгами с Филиппом, заранее просчитывать его шаги и уворачиваться от его ловушек.
Царь как раз обдумывал ситуацию, сложившуюся на северном берегу Коринфской гавани, которая давала возможности для нанесения крупного удара. В земли, принадлежавшие храму Аполлона в близлежащих Дельфах, хлынули толпы народа из Амфиссы. В качестве главы Дельфийской амфиктионии
[174] Филипп являлся также защитником великих святынь. И, наказывая захватчиков земель, он мог легко разжечь войну между Фивами, союзником Амфисс, и Афинами, которые из всех греческих полисов упорней всего сопротивлялись его власти.
Прежде, чем он мог что-то предпринять, заварилась каша в самом дворце, в Пелле. Сатрап Карии,
[175] союзник Филиппа, задумал укрепить их узы, выдав свою дочь замуж за моего слабоумного единокровного брата Арридея, сына фессалийской танцовщицы, которая когда-то была любовницей Филиппа. Я попытался воспрепятствовать этому браку, думая о его возможных последствиях, если у Филиппа появится внук с нормальной психикой и он захочет сделать его престолонаследником. Когда у меня самого голова была не в порядке, я сделал опрометчивое брачное предложение — величайшую глупость в моей жизни, о которой мне трудно говорить. Она не имела далеких последствий, хотя на какое-то время пятеро моих друзей — кривоносый Птолемей, косолапый Гарпал и трое других, уму и честности которых я доверял и которые также служили послами в этом печальном деле, — были изгнаны из Македонии. Так велика была ярость Филиппа.
Перед тем как мне исполнилось восемнадцать лет, я искупил свою глупость участием в осаде Перинфа в звании небольшого военачальника. Там я познал вкус войны и что такое настоящая схватка на мечах, когда наградой победителю служит не будущая слава, а непосредственно жизнь. Моим противником был дюжий парень. Чуть старше меня по возрасту, хороший рубака, он отчаянно размахивал мечом, и мне стало немного не по себе, когда я глубоко вонзил в него свой клинок. Живое до этого лицо парня стало пустой маской, и он с глухим стоном замертво повалился на землю. Он не был варваром: те, о которых рассказывал нам Аристотель, повторяя своего учителя Платона, годились только для рабства или истребления. Это был фракиец и, наверное, хорошо играл в наши игры и был славным товарищем в застольях и веселье. Мне больше не нужно было носить повязанный вокруг бедер пояс — знак того, что я еще не отнял жизнь у врага. Но какое-то время честь освобождения от него казалась мне вряд ли стоящей такой цены.
Вскоре после этого я был назначен регентом: Антипатр жаждал сменить дворцовые сплетни и административные заботы на звон мечей. Хотя, по правде говоря, я только числился на этой должности, а настоящим регентом была Олимпиада, мольбам и интригам которой я легко уступал. А Филипп все пропадал в походах.
Впрочем, так было не всегда. Бывало, в промежутках между походами он устраивал пьяные кутежи и любовные игры. Однажды он занялся самым опасным видом любви — любовью в трезвом состоянии, что с его стороны было гибельной, если не сказать фатальной, ошибкой.
Клеопатра была племянницей его приближенного военачальника Аттала. Мало было Филиппу лишить ее девственности, несколько недель спариваться с ней по всем углам и закоулкам. Его фантазия разыгралась не на шутку, и он предложил ей сочетаться с ним браком. То ли пьян он был не в меру, то ли, скорее всего, она сама, обладая достаточной твердостью характера, настояла на этом условии, прежде чем разделить с ним ложе. Назначая себе такую высокую цену, она вызывала во мне уважение, и, по правде говоря, она была одной из самых прелестных женщин во всей Македонии. Светлыми тонами красок она напоминала мне Роксану, что теперь затерялась в бескрайних просторах могучей Азии, и лицо ее выражало ту же силу характера. Она не была такой же живой и веселой, как утраченная возлюбленная моего детства, но трогательно нежная улыбка смягчала ее лицо, и, если бы я попытался ее ненавидеть — за то, что она заняла место Олимпиады, — у меня бы это не получилось. Так или иначе, у меня было предчувствие, что придет время и моя мать восторжествует — не над Клеопатрой — над Филиппом.
Это время пришло, пожалуй, скорее, чем я ожидал.
Филипп велел объявить, что отстраняет Олимпиаду, что она больше не царица и что вместо нее царицей будет Клеопатра. Затем они отправились в наш маленький храм Афины Паллады, богини супружества, и посему обладающей большей властью, чем Афродита, которая являлась богиней только эротической или посторонней любви. Я не сопровождал их, чтобы стать свидетелем их брачных обетов, и не хотел быть на свадьбе в большом зале дворца, но Антипатр настоял на моем обязательном присутствии по той единственной причине, что Филипп был царем.
Филипп подошел к двери, ведущей в покои Олимпиады, постоял немного, прислушиваясь к ее разгневанным воплям, затем прокричал грубым голосом, чтобы она его услышала:
— Ложись в постель со своим питоном и любись с ним сколько хочешь. — В глубине своей ненависти он ей не уступал. Заперев дверь, чтобы не слышать ее завываний, и спрятав ключ в кошелек, он устроил пир.
Со своего места на кушетке, недалеко от царской — возле каждой из них стоял накрытый стол — я все еще улавливал приглушенные вопли отвергнутой царицы. Но вскоре они уже потонули в шуме и гаме застолья, где крепкое вино лилось рекой, и мало кто из собравшихся гостей вспоминал об Олимпиаде, помышляя прежде всего о том, чтобы польстить Филиппу и его прекрасной невесте ради обеспечения большей надежности своих собственных мест. По правде говоря, я не видел в этом большой их вины, ведь милость царя вещь ненадежная; да к тому же военачальники и «товарищи» Филиппа никогда не одобряли его брака с дочерью царя Эпира, лежащего за пределами Греции, да еще помнили ее вакханалии в святилищах бога вина.
Шум голосов нарастал. С покрасневшим лицом Филипп орал и хохотал, настроившись на большую попойку, в то время как Клеопатра едва прикасалась к бокалу. В разгар пира ее дядя Аттал, чья кушетка примыкала к царской, добился тишины в зале, постучав по столу рукоятью меча. Он встал и высоко поднял свою золотую чашу.
— За Филиппа Македонского, повелителя всей Греции, и за новую царицу! — провозгласил он, самонадеянно гордясь своими новыми почестями. — И да сделают боги плодотворным этот брак, чтобы царица Клеопатра родила своему супругу мальчика — достойного и законного наследника своего царства; и за все короны, которые он завоюет впредь.
Это изобилие пышных фраз вызвало во мне ярость. Я даже не пытался подавить ее, напротив, дал ей волю, вскочив на ноги и прокричав:
— Аттал, ты, лживый плут! А я, по-твоему, что — незаконный? — И швырнул в него тяжелой серебряной чашей, едва не попав ему в голову. Вино растеклось по его одежде.
Я ощутил хрупкую напряженность зала. Не будь я таким разгоряченным, я бы мог со страхом почувствовать, что этот пир, как и многие другие в нашей полудикой Македонии, приведет к убийству и кровопролитию. Филипп, похоже, предвидя такой конец, в бешенстве поднялся со своей кушетки и бросился ко мне с обнаженным мечом в руке, но, будучи в стельку пьяным, споткнулся и упал: не иначе как внутренний враг — предательский дух виноградной лозы подставил ему ножку. Тогда, обратившись к гостям, — в основном это были воины с обожженными солнцем лицами — я выкрикнул злую колкость, которая, вполне вероятно, могла бы стать моим смертным приговором.
— Соратники царя, взгляните на человека, который хотел вести вас в далекую Азию! Куда там! Он даже не может перейти с одной кушетки на другую, не свалившись на пол!
Наступило тягостное молчание, нарушаемое только бормотанием и поступью слуг, помогающих растянувшемуся на полу царю встать на ноги и вернуться на свою кушетку. Один из них поднял оброненный им меч и, видя, что Филипп не делает попыток схватить его, убрал в ножны. Я выждал еще немного, весь настороже и готовый к прыжку, как загнанный собаками леопард. Никто не двинулся, никто не проронил ни слова. Я повернулся и вышел из зала.
6
К моему большому удивлению, эта мрачная сцена не имела никаких видимых последствий. Старик Антипатр рассказал мне, что Филипп посидел немного, как сыч, мрачно выдерживая смехотворное приличие, и, когда хмель почти выветрился, церемонно, насколько позволяли нетвердые ноги, встал из-за стола, приветственно поднял руку — в ответ раздались прощальные возгласы — и, поддерживаемый под руки слугой и Клеопатрой, вышел, слегка пошатываясь, из зала. Новобрачные удалились в свои покои, а воины оживленно стали биться об заклад, сможет ли он до утра исполнить свой супружеский долг. Сомневающихся было немного: люди знали своего предводителя, его неугасимую мужскую силу, знали также о его способности быстро приходить в себя после попоек.
Антипатр полагал, что в большинстве старые вояки остались довольны тем, что я сумел постоять за себя и свои права и даже пошел на то, чтобы задеть своего отца и царя язвительным замечанием. «Это по-македонски, — сказал он. — Пусть эти подхалимы с востока кланяются и выклянчивают милость, когда их оскорбят; мы, крепкие и стойкие горцы, вытесаны из другого камня!»
Филипп не напоминал мне о происшедшем и не пытался как-то отомстить. Я обдумал его поведение и понял, что и это соответствовало его характеру. Трезвый он не был высокомерным, хотя в состоянии опьянения склонен был к ссорам, а мог и убить. Его предусмотрительность советовала ему, что лучший способ избежать разобщения в своем непосредственном окружении — это не придавать значения безобразному происшествию, пока оно само собой не забудется. Я не мог бы назвать Филиппа мстительным, по крайней мере, он не прибегал к мщению, когда это могло повредить его планам. Как бы там ни было, но он был страстно влюблен в свою молодую жену, отчего мое престолонаследие оказалось в еще большей опасности, чем прежде.
Поэтому я решил, что, поскольку Олимпиада возвращается во дворец своего отца в Эпире, будет лучше всего сопровождать ее в Иллирию, пока у Филиппа не пройдет первый приступ влюбленности. Когда я подошел к нему, чтобы проститься с подобающим почтением, в его единственном глазу зажегся веселый огонек, и он озорно улыбнулся, словно нашкодивший мальчишка, попавшийся на шалости.
— На что поспоришь, — спросил он, — что Клеопатра — ну, мягко говоря — не с ребенком?
— Так скоро?
— Не так уж и скоро, если, конечно, в постели с ней настоящий мужчина. Я познал ее
девственницей, Аттал не обманул, но я не уверен, что она не понесла после первой же ночи. Помню, как закричала она от боли, как тяжело дышала и корчилась — и вовсе не из притворства, как афинские куртизанки за большие деньги, а потому, что природа победила ее стеснительность. А когда наступил финал, она вскрикнула не один раз, а два — говорят, это к двойне. Если не сейчас, то скоро. К тому же у сорокалетних мужчин семя поактивнее, чем у двадцатилетних обожателей. У тебя будет брат, Александр; и его могут признать, в отличие от других. Так что, когда вернешься из Иллирии, отложи-ка в сторону свои книги. Отдавай богам то, что им причитается, но не слишком усердствуй, и учись тому, что нужно для войны — а она уж непременно будет. Если я доживу до шестидесяти пяти, тебе уже будет за сорок и придется подсуетиться, чтобы справиться с юным наследником, у которого тот же отец, да мамочка получше. Я тебя вызову, когда ты мне понадобишься. А теперь прощай.
Но я был уверен, что Филипп не доживет и до шестидесяти — теперь-то, когда он развелся с мстительной Олимпиадой, жаждущей его смерти. У многих оленят, родившихся в тот год, когда я посетил Додону, росли красивые рога.
Хотя скучно тянулись мои дни в Амбракии, одном из главных городов Эпира, но не столичном, я не охотился на оленей, опасаясь, как бы случайно не затравить гончими именно того, чьи рога, согласно предсказанию, могли бы великолепно разрастись. К счастью, в царской библиотеке мне попались четыре тома по искусству государственного управления, замечательно написанных Ксенократом из Халкедона. Из них я почерпнул много знаний, которые позже могли бы мне пригодиться. Одновременно кое-какие странные уроки мне преподала и Олимпиада; и я не знал, чьи наставления сыграют большую роль в будущей моей жизни.
Приблизилась пора, когда я должен был ехать в Иллирию: меня пригласил незаконнорожденный брат Олимпиады, верховный вождь приблизительно пятнадцати племен — Филиппу хотелось включить их в свои растущие армии, я же на всякий случай желал заручиться поддержкой этих дюжих парней. Но выбранный для поездки день выдался таким ненастным, что я отложил свой отъезд до следующего утра. Во второй половине дня тучи сгустились и стали еще тяжелее, по поросшей лесом равнине гулял беспокойный ветер, а по черепичной крыше хлестали шквалы дождя. Затем разразилась невиданная доселе гроза. Зевс метал бесконечные стрелы огня, похоже, с единственной целью — созерцать их неистовство, и оглушительные раскаты грома сотрясали дворец. Когда молния ударила совсем рядом, только тогда мрак раскололся и в небесную трещину брызнул свет. Заиграли дождевые капли, и стали видны мечущиеся деревья.
Только я начал зажигать свечи, как раздвинулись занавеси арочного проема и вошла Олимпиада.
Я разглядел в полутьме, что ее темные волосы заплетены в косы и уложены кольцами вокруг головы и что одета она в белое. Когда она приближалась, ее одеяние, хотя различал я его еще не совсем отчетливо, показалось мне тем же, что я уже видел на гибких телах персидских танцовщиц: прямоугольный отрез тонкотканого шелка, создающего иллюзорное впечатление прозрачности на фоне сильно раскрашенного тела. Концы этой ткани скреплялись двумя блестящими застежками у нее под левой рукой, откуда она ниспадала до ее колен. За исключением сандалий, на ней не было ни одного знакомого предмета одежды.
Но самым любопытным показался мне схватывающий ее талию пояс, один конец которого уходил вверх и, пройдя меж грудей над обнаженным плечом, исчезал за спиной. Другой же конец, сильно сужающийся, спускался к нижнему краю ее одеяния. Пояс был пестро разрисован и казался необыкновенно тяжелым. Вглядевшись попристальней, отчего по спине у меня поползли мурашки, я увидел, что это живая змея, по объему туловища и длине уступающая только тому здоровенному питону, которого она на моих глазах убирала в клетку, и другого вида. И все же змея была очень крупной по сравнению с большинством виденных нами в Северной Греции.
Позади матери шел слуга. В одной руке он нес золотую или позолоченную клетку с мелкими ячейками, а в другой — ящик, на одной стороне которого была ручка и запертая на крючок дверца.
— Не зажигай свечей, Александр, — сказала она мне. — Вспышек молний Зевса будет нам достаточно. — Эти вспышки отделяли друг от друга всего несколько секунд.
Было сразу же заметно, что Олимпиада сильно возбуждена: в голосе звучали глубокие, теплые нотки, лицо было по-особенному красиво, глаза горели.
— Эта змея — твоя любимица? — поинтересовался я.
— Не в том же смысле, что Кришина, мой огромный питон, но родилась и выросла в моей змеиной яме.
— Я вижу, она не ядовитая — у нее короткие, скошенные назад резцы. Скорее всего, какая-то разновидность удава. Вряд ли это самец. В школе Аристотеля мы изучали подобную ей змею; думаю, не ошибусь, если скажу, что это самка.
— Ошибаешься. — Олимпиаду явно задели мои замечания, и она хмуро замолчала.
— Сильная гроза, — сказал я.
— Это больше чем гроза. — Голос ее зазвучал значительней — она снова становилась жрицей. — Это сам Зевс посылает мне знак того, что пробил час, которого я так долго ждала. Вспомни, я обещала тебе рассказать, что произошло в ночь твоего зачатия. Теперь я это сделаю.
Она подождала, пока слуга не поставит рядом с ней клетку и ящик, не отвесит нам низкий поклон и не покинет комнату. Ярость грозы, гибкость тела матери, очертаний которого не скрывал кусок тончайшего шелка, ее странный пояс, голос и взгляд — все это взволновало меня, и мне почудилось, что сейчас она откроет что-то чрезвычайно важное. Олимпиада заговорила; удары грома служили как бы ритмическим сопровождением ее рассказу, и голос ее возвышался над эхом его раскатов.
— Окончился брачный пир… Филипп отвел меня в свою опочивальню… Он сильно отяжелел от вина… Пытался раздеть меня… Руки все больше запутывались в моих одеждах… Вдруг он все бросил и потащился к ложу… Рухнул на него и моментально погрузился в глубокий сон… Я продолжала раздеваться… Появилось захватывающее чувство ожидания… Я легла, не укрываясь, так как ночь вдруг стала теплой и влажной… Постепенно меня обуяла страсть… Нет, не к пьяному скоту рядом со мной, а к какому-то неизвестному возлюбленному, лица которого я никогда еще не видала… Я широко раздвинула ноги… Я задыхалась — волны эротического желания захлестывали меня.
Мать говорила отрывисто, тяжело дыша. Грудь ее высоко вздымалась, и едва подвластная мне греховная страсть незаметно овладела всем моим существом.
— Затем я ощутила, как невидимый палец коснулся моего лона… Не твердый и тычущий палец, как у Филиппа… Он был одновременно и мягким, и вибрирующим… От него вибрации вошли в мягкую плоть… С быстротою солнечных лучей они пронеслись по моим бедрам, ногам, вошли в ступни… Устремились вверх по бокам… По всей груди… По рукам… По голове… Острая тоска мешала мне прийти в исступленный восторг… Мне так и хотелось окликнуть моего невидимого любовника… Я бы умоляла его больше не медлить и совершить акт любви, но чтобы говорить, у меня совсем не было дыхания… Палец дошел до моих девичьих врат… Осторожно испробовал проход, пока не убедился в моей девственности… Наступила краткая пауза…
И вдруг мощная вспышка огня осветила комнату чудным сиянием… В ту же секунду мое тело вспыхнуло пожаром… Пламя занялось в промежности и оттуда распространилось глубоко по всему телу… Моя девическая боль была почти невыносима… Она утихла и сменилась невыразимым блаженством… В ответ на многократные толчки внутри меня я закричала от восторга… Мой муж немного очнулся и забормотал… Я страстно желала, чтобы этому не было конца… Но медленно угасло и это… Сияние в комнате померкло… Я впала в забытье.
После продолжительного молчания я заговорил. Пока длилось это молчание, могучие удары грома постепенно перешли в протяжное громыхание, совсем неярко вспыхнула молния, у меня по коже пробежали мурашки, и наступила тишина.
— Что бы это значило, Олимпиада? — спросил я.
— Да что бы это могло еще значить, кроме как не самое очевидное? Я не первая женщина, которую так осчастливили. Была еще Алкмена, из твоих предков, мать Геракла. Была Леда, которая потом стала матерью Клитемнестры, чьей дочерью была Электра. Семела, мать моего милого Диониса. А сколько еще? И вот теперь я, Олимпиада, мать Александра!
Снова мне пришлось ждать, пока я не смогу говорить — кружилась голова, глухо колотилось сердце. Наконец, кое-как взяв себя в руки, успокоившись, я спросил:
— А Филипп в ту ночь пришел в себя, чтобы выполнить свои супружеские обязанности?
— В ту ночь — нет. Он тогда видел сон, который рассказал мне на следующий день. Ему снилось, что он пытается совокупиться со мной, но мое тело было опечатано печатью с головою льва. Заметь, пустой сосуд не затыкают пробкой! Позже я ему уступила, ведь я была ему законной женой, и, несмотря на неземное блаженство, испытанное брачной ночью, я нашла в грубом соитии с ним телесное облегчение и в положенный срок родила ему ребенка. Но никогда больше я и близко не испытывала того блаженства, о котором тебе поведала. Тогда я еще восхищалась им, в каком-то смысле даже любила — пока эта любовь не превратилась в ненависть.
— Что мне делать? Откуда мне знать, что ты тоже не размечталась о том, чтобы сбылось какое-то твое страстное желание, которое было всего лишь фантазией?
— Делай то, что велят тебе твоя судьба и твое право в силу рождения. Если тебе нужны еще доказательства, ступай к Зевсу-Аммону в пустынях Египта — там он говорит яснее, чем в Додоне. А сейчас я совершу ритуал, который жрице Диониса разрешается в любое время и в любом месте. Иногда так можно прочесть будущее.
— Олимпиада, у меня не осталось сил! Нельзя ли отложить до другого случая? Хватит с меня и того, что я уже услышал.
— Мой сын, это не может ждать. Зевс — собиратель туч, и теперь он скрыт в темных несущихся облаках. Ты ведь видел и слышал знаки — разве не так? Если мы сейчас не примемся за дело, он отвернется от нас. Ты не будешь принимать в обряде никакого участия, только смотри и, если сможешь, читай.
Нежно, с любовью она взялась за змею обеими руками, освободила талию от ее объятий и, пока та медленно извивалась, будто желая снова вернуться на прежнее место, открыла клетку, поместила туда змею и захлопнула дверцу. С молчаливым благоговением она подняла деревянный ящик, снова открыла клетку и просунула в открывшийся проем конец ящика с маленькой дверцей. Сняв пальцем крючок, она нажала на расположенный наверху ящика маленький рычажок, которого я до этого не заметил — и тут же раздался пронзительный писк боли. Из ящика в клетку перебежала очень большая белая крыса с красными глазами. Олимпиада быстро убрала ящик из клетки и заперла ее дверцу.
— Жертва испытала всего лишь булавочный укол, — пояснила Олимпиада, — ее проворство не снизилось, и зубы ее остры. Теперь смотри внимательно.
Я уже смотрел — с неприязнью, близкой к отвращению. На какое-то мгновение мое внимание приковал к себе тот вроде бы незначительный факт, что змея-то все-таки самка, а крыса — самец; доказательством последнего служили как размер крысы, так и мельком замеченные мною яички. Вскоре мне все-таки пришлось увлечься тем, что происходило в клетке.
Змея и крыса заметили друг друга одновременно. Подняв верхнюю часть туловища, змея начала свиваться в кольца. Грызун же отчаянно забегал вдоль дальней стенки в поисках лазейки, повернулся и устремился к дверце — но та была заперта. Змея, шурша чешуей по полу, двинулась было в ту сторону, но крыса вернулась в свой прежний угол и отважилась на пробежку вдоль стенки, противоположной дверце. Охотница снова развернулась, вся заряженная хищнической страстью, с горящими в полумраке глазами.
Тучи явно рассеивались, мрак в комнате поредел, и я прекрасно видел все перипетии этого первобытного состязания. Вот змея сделала свой первый бросок, так широко разинув рот, что челюсти образовали почти вертикальную прямую линию. Она не промахнулась, но намеченная ею жертва, взвизгнув от безумного ужаса, юркнула под нее с бешеной скоростью и бросилась наутек. Змея же только ударилась головой об пол.
И вот началось самое захватывающее зрелище: быстрота и изворотливость крысы против неустанных и безжалостных нападок змеи. Крыса не могла выбраться за пределы ограниченного пространства клетки, но та же решетка мешала развернуться и преследовательнице, ограничивая ее фланговые маневры, не давая воспользоваться всей ее гибкостью. Змея снова нанесла удар и снова промахнулась. В ярости, созерцание которой вызывало благоговейный страх, столько в ней было неумолимой жестокости, она забыла о своей змеиной мудрости и стала преследовать крысу, крутясь и крутясь вдоль стенок клетки. Под блестящей кожей мышцы ее ходили ходуном, и за непрестанным шуршанием чешуи топот крысиных лап был едва различим. Сперва крыса оглушительно пищала, давая выход своему страху, но вот заметила, что враг ее уступает ей в догонялки, и стала экономить дыхание, потом даже немного замедлила бег — чтобы унять бурное сердцебиение, так мне подумалось.
— Сдается мне, у твоей любимицы маловато шансов, Олимпиада. Крысы высоко прыгают и сильно кусают. Если этой хватит сообразительности, она подпустит змею к самому кончику хвоста — ведь змее, чтобы сделать бросок, нужно свиться для опоры в кольцо; без этого она, измотав свои силы, не нападет. И тогда крыса сделает прыжок ей на спину, ближе к голове, и ее острые зубы глубоко вопьются в змеиную шею. Вот и будет конец состязанию.
Я видел, что Олимпиаду огорчили мои слова — главным образом потому, что в них была правда, хотя отчасти, возможно, еще и по той причине, что в ее глазах эта крыса была уже не просто крысой, а воплощением человека, который мог бы услышать меня и прибегнуть к предложенной мною тактике.
Вскоре змея поняла, что бешеная погоня ничего ей не даст. Она затаилась, пытаясь совладать с безрассудной яростью, глаза ее теперь не горели, а только мерцали холодным блеском, и она медленно свилась в кольца в углу клетки. Остановилась и крыса. Но была наготове, вперив влажные бусинки глаз в своего врага. Хвост змеи шевельнулся, крыса отпрыгнула, но, не видя других движений, снова остановилась. Теперь змея лежала в инертной позе, глаза заволокло пленкой, погасившей их блеск, и казалось, что она уснула. Крыса в напряженном ожидании припала к земле.
— Неужели эта дуреха отказалась от погони? — Голос Олимпиады дрожал от беспокойства. — Разумеется, эта крыса в моем садке самая крупная и подвижная, но они должны быть стоящей друг друга парой, иначе в гадании нет никакого смысла.
— Я не верю, что змея сдалась. Во всяком случае, не стоит ее подстрекать. Смотри и жди.
Все еще следя за своим внешне вялым врагом, крыса пошевелилась. Змея оставалась спокойной и безразличной. Крыса, несколько осмелев, робко двинулась, выискивая в стенках клетки лазейку для бегства, но действовала очень осторожно, держась на почтительном расстоянии и не теряя бдительности. Случилось так, что она все же чуть приблизилась к змее. Затем, должно быть, приняв небольшую тень за дыру, помедлила, глядя попеременно то на тень, то на свившуюся в кольца змею, приблизилась к ней еще немного, отступила, выждала, продвинулась еще и снова отступила. И тут я явственно увидел, как по кольцам змеи пробежала рябь, вызванная напряжением мышц, не изменивших своего расположения ни на йоту. Очень медленными, крадущимися шажками крыса двинулась вперед. Не было слышно ни звука, кроме тяжелого дыхания Олимпиады. Крыса прокралась к своей цели и не обнаружила выхода — безжалостная решетка по-прежнему ограничивала ее свободу.
Наверное, душа грызуна не выдержала такого удара: крыса пришла в бешенство, стала грызть прочную проволоку, забыв о бдительности. В этот момент змея и нанесла удар.
Самого броска я не заметил — он был слишком стремителен для моих глаз, но мне удалось-таки уловить, как пружинисто развернулись ее передние кольца. Разинутые челюсти сомкнулись на крысиной спине, и в мгновение ока страшные кольца обвились вокруг зверька — видны были только его голова, передние лапки и хвост. И в тот же миг он издал протяжный писк, невыносимо пронзительный для слуха — визг ужаса. Постепенно он утих, и, как мне думалось, я знал почему. Боль не уменьшилась, а возможно, и возросла, оставался неописуемый страх. Но зверек все еще тужился, стараясь воздухом легких помочь ребрам и грудной клетке выдержать давление страшных объятий. И вот охотник с добычей замерли в полной неподвижности, не издавая ни малейшего звука.
— В природе нет никакой жалости, — сказал я Олимпиаде.
— Нет — когда боги распорядились о смерти, — отвечала она.
— А я считаю, нет жалости вообще. Волчица будет сражаться за своих волчат, но это только инстинкт, данный ей для сохранения своего вида.
— Ты читал слишком много книг, Александр, слишком долго размышлял о причине вещей, а в дальнюю синь небес не заглядывал.
— Тише! — Я услышал слабый звук, не громче треска сухого листа под ногой. Звук повторился. Не требовалось особой догадливости, чтобы понять его происхождение. В смертельных объятьях удава ломались крысиные ребра. Должно быть, этот звук услышал и удав; вероятно, он почувствовал, как крепкие косточки поддаются его напору, потому что издал резкое шипение, какое издает внезапно вырвавшийся из бурно кипящего котла пар. Тиски все сжимались, пока острые концы сломанных костей не пронзили легкие и сердце зверька, пока он без всяких признаков жизни не замер в кольцах удава.
— Ты узрел, Александр, символический смысл исхода этого поединка?
— Нет, но я видел, как змея схватила крысу и убила ее.
— Змея посвящена Дионису, а значит, и Зевсу, его отцу. В этом ритуале удав стал орудием Зевса. Божественности преисполнились его прекрасное извилистое тело и широкие челюсти. В этом обряде белая крыса стала Филиппом, а удавом — ты.
— Если ты всерьез полагаешь, что я способен убить Филиппа, ты неверно прочла предсказание — если таковое было дано. Я никогда не подниму руку на своего отца, разве что защищаясь. Я стану лишь наблюдать, дожидаясь своего часа. И если в твоем гадании змея олицетворяла человека, то человек этот не Александр, а Олимпиада. Мне противно, меня тошнит от всех этих действий. Я должен выйти на свет.
7
В конце зимы, в восемнадцатом году о. А., когда прошло уже несколько месяцев, как мне исполнилось семнадцать лет, царь Филипп послал гонца, чтобы вызвать меня из Иллирии.
Долго же мне пришлось прохлаждаться по его милости. Я догадывался, что его план вторжения в Грецию под предлогом наказания осквернителей дельфийского храма натолкнулся на препятствия; возможно, Афины и Фивы раскусили его хитрость.
Не исключалось также, что ему хотелось внушить мне мысль, будто мое присутствие во дворце Пеллы не имело значения.
Теперь, когда пришел вызов, мне было грустно покидать этих гостеприимных, суровых и горячих людей, живущих кланами. С ними я часто с упоением мчался верхом, охотился в диких лощинах и зимних лесах, предварительно поставив условие, что нельзя убивать самца благородного оленя на третьем году жизни, потому что согласно моему гороскопу, составленному магами, это дурной знак. К тому же, говорил я, такие самцы еще незрелые и мясо их не придает сил человеку, одолеваемому врагами, независимо от того, кто является этим врагом — человек, зверь или буря, На четвертом же году олень — прекрасная дичь, и мясо его полезно.
Члены клана слушали мои наставления с трезвым вниманием, и их жрецы, в основном посвященные Артемиде, богине охоты, обнаруживали путем гадания, что предупреждение мое имеет все основания. Но при этом они со всем пылом охотились на медведей, несмотря на свою посвященность богине охоты, а поскольку это были крупные бурые медведи, всегда раздражительные и предрасположенные к приступам бешеной ярости, мы чувствовали особое возбуждение, когда наши пути пересекались. Однажды, когда здоровенный самец напал на вождя клана, сбил с ног и стал месить его своими когтистыми лапами, я стрелой из скифского лука удачно угодил зверюге в мохнатый бок и, несомненно, спас жизнь этому крепкому парню.
Иногда у меня возникало желание, чтобы мы втроем — я, Абрут и Клит — остались жить в этой северной стране, вдали от дворцов и великих дел, уж не говоря о мечтах о далеких походах. Мы бы здоровели от простой пищи, охоты и рыбной ловли, вели бы маленькие войны с еще более северными племенами и переженились бы на их светловолосых большегрудых дочерях. Мне часто предлагали этих дочерей — чтоб теплее была постель в холодные ночи, но я отказывался. Возможно, не желал рождения сына, который со временем мог бы стать претендентом на мой трон, соперничая с сыновьями моей настоящей царицы.
Филипп послал ко мне самого Леонида. Он прибыл вечером и сообщил мне, что из всех царских яичек вылупились цыплята. На совещании совета, хитро нашпигованного людьми Филиппа, который по удивительной глупости игнорировали Афины и Фивы, он наконец был «приглашен» двинуться маршем в Грецию и наказать осквернителей дельфийского храма. Теперь вся Македония бурлила от мобилизации в армию Филиппа, готовую нанести важный стратегический удар. Ранней весной ожидается поход на юг.
— Кем поставит меня Филипп? — спросил я Леонида. — Во главе отряда конницы?
— Я в угадках не лучше тебя. Знаю только одно: его личное отношение к тебе — за то, что ты на стороне матери, за то, что ты уязвил его, когда он свалился на пиру, — не повлияет на это совсем. Мысли Филиппа настроены только на победы в битвах. Так что его решение будет зависеть от твоих бойцовских способностей, как он их понимает. Для поля битвы ты еще новичок, но старый Лисимах говорил Филиппу, что ты хорошо постиг науку войны из книг и на бумаге и хорошо проявил себя в Перинфе; а царю как раз сейчас не хватает молодых честолюбивых и изобретательных военачальников. У него есть старик Парменион — его правая рука, и старик Антипатр — спокойная голова. Так что ты мог бы подняться выше, чем думаешь.
Я подступил к Филиппу с этим делом, улучив момент, когда он был склонен отвечать на вопросы; а это случилось, когда вино только слегка подогрело его, еще не приведя в раздражительное состояние.
— Царь, получу ли я чин, достойный моего высокого аристократического положения? — спросил я.
— Скажи лучше, достойное моих достоинств. Личное высокое положение я не ставлю ни в драхму, хоть оно сначала и производит на людей впечатление. Затем, если военачальник имеет большие способности, люди чувствуют, что он на своем месте, но если маленькие, то тем более катастрофично его падение в их глазах. По вине высокородных тупоголовых полководцев проиграно больше сражений, чем по всем остальным причинам, вместе взятым. Ну, царевич, что скажешь насчет командования моими гетайрами?
[176]
— Ты шутишь, царь.
— Почему ты так думаешь? Конечно, такой пост не пустяк для юнца, которому нет и восемнадцати, а? Это всадники и пехотинцы несравненные в бою, в совершенстве обученные, верные до смерти… — Филипп замолчал, сделав вид, что ему нужно подумать. — А, понимаю. Ты хочешь сказать, что не стремился подняться так высоко. — Филипп действительно шутил со мной, и мне было неизвестно, где шутка началась и где она окончится.
— Я хотел сказать, что и не мечтал… — Но это была ложь.
— Ладно, как бы то ни было, командные знаки отличия будет носить Букефал, а не ты. Этот боевой конь вдохновит всех других строевых лошадей, поведет их сквозь сталь, тучи дротиков и смертельный град стрел. Ей-богу жаль, что в тот день, когда ты купил его, я был так слеп, а теперь никто, кроме тебя, не может его оседлать. Да и что мне еще остается делать, как не отдать тебе командование над моими отборными отрядами? Меня немного утешает то, что на коне ты будешь выглядеть красавцем. Эти белые доспехи, купленные тобой у старого вояки в Иллирии — наверняка они ограбили караван из Византии — хорошо оттеняют то, что дано тебе природой. Если бы о тебе пел Гомер, он бы даже мог назвать тебя богоподобным — вон какие у тебя золотые кудри; сейчас-то они старательно зачесаны в гриву, а как разовьются по ветру… Откуда у тебя этот цвет лица — белый с розовым, да и влага в глазах, как у влюбленной резвушки? Явно не от Олимпиады и не от меня. Постой, уж не от того ли красавчика, мальчишки-слуги, которого она купила в Аркадии? Если бы я раньше догадался об этом, я бы его кастрировал; но теперь уже слишком поздно.
— Доволен ли ты, царь, командирами отдельных отрядов гетайров? — осмелился я спросить, чтобы изменить тему разговора.
— Все они хорошие воины. Твоя тактика будет проста, если все пойдет как обычно: нападаешь с фланга на амфиссианскую фалангу.
— Отец, я никогда не слышал, чтобы у амфиссианцев была фаланга. Может, ты оговорился — хотел сказать, афинская или фиванская фаланга?
— Может, и так. Судьбы войны непредсказуемы.
Все военачальники в нашей армии и большинство солдат догадались о намерениях Филиппа, когда, вместо того чтобы выйти на прямую дорогу в Амфиссу, он повернул на восток, к Фермопилам, имя которых было священным для каждого грека. В этой области он заменил фиванские гарнизоны своими собственными и начал укреплять Элатею как базу для продвижения на север. И теперь он стал виновным в одном из самых циничных поступков в своей карьере: он направил в Фивы послов, прося город трусливо изменить его союзу с Амфиссой и примкнуть к нему в священной войне против осквернителей храма!
Фивы и Афины забили тревогу. Оба города стали готовиться к войне, тогда как Филипп изображал из себя невинного голубя. Он явно хотел, чтобы они первыми выступили против него, и тем самым избежать обвинения в агрессии.
— Какое это имеет значение? — удивился Парменион. — Мы раздавим и тех, и других.
— Не обязательно, старый друг, получится именно так. Если они будут настолько неблагодарны, что нападут на нас, — при том, что я сделал все возможные шаги для достижения дружбы, — они могут легко одолеть нас. Афиняне мягки, но фиванцы тверды как железо, а Священная Лента Фив
[177] — это сейчас единственная на земле самая непобедимая военная организация. К тому же, мой славный Парменион, мне небезразлична моя собственная судьба, когда я сойду в Аид. Греция должна быть едина, но мне бы хотелось добиться этого по возможности самой малой кровью.
— Едина под твоей властью! Клянусь богами, это похвально! Что ж, думаю, твое желание сбудется: враг выступит первым. Этот старый крикун Демосфен накалил страсти народа до предела — ей-богу, он не иначе как сын бога ветров Эола — так мастерски он владеет дыханием!
Продолжая дипломатический обмен с охваченными паникой городами, Филипп прибегнул к характерной уловке. Он написал Антипатру в Пеллу письмо, в котором объявил, что готов выступить в поход на север для подавления мятежа во Фракии. И подстроил так, что письмо попало в руки Хареса, все еще охраняющего проходы. Сторожевые отряды Хареса ослабили бдительность; Филипп, разумеется, совершил форсированный ночной бросок и яростное нападение на его войска. Разгромив Амфиссы, он обошел Дельфы и принялся изводить объединенные армии в тылу.
Союзники уже больше не могли защищать свою выгодную позицию близ Элатеи, поэтому они отошли по долине и развернули свои силы на равнине близ Херонеи. Филипп пока что воздерживался от нападения, он все еще предлагал дружбу, а Демосфен в громовых речах призывал народ к битве. И в начале сентября, спустя чуть меньше месяца после моего восемнадцатилетия, Демосфен в полной мере получил то, чего добивался.
Равнина близ Херонеи отличалась тучностью и красотой, славными оливами, жирным молоком коров, богатыми пастбищами. Местные жители убирали урожай ячменя и свозили его домой. Это были простые миролюбивые люди, которые возносили молитвы главным образом Деметре, богине урожая, и Афине Палладе, покровительствующей вместе с Артемидой беременным женщинам. И вдруг к ним шумно вторгается огромная армия фиванцев, афинян и союзников помельче со всей бесцеремонностью солдатни. Трубы напугали скот с кормящимся молодняком, а скачущие взад и вперед курьеры разогнали стада овец.
И все же они молились, чтобы не было никакой войны. Ведь еще на их земле не развернул своих знамен светловолосый одноглазый завоеватель, чье имя было у всех на устах. Но думаю, надежда их пошатнулась при виде поднимающихся вдали, еще не совсем отчетливо различимых клубов пыли. Они становились все плотнее, росли вширь и вверх. А вскоре юноши с острым зрением уже могли видеть верховых и пеших солдат, блеск мечей и наконечников копий фаланги.
Мы остановились в двадцати пяти стадиях от врага. Наши солдаты прошли долгий путь, и дело близилось к вечеру, поэтому Филипп распорядился стать лагерем на ночной отдых. Союзникам же ночь не сулила покоя. Они бы удивились, если бы Филипп не преподнес им сюрприза и не напал неожиданно. Но это и был тот сюрприз, стоящий им хорошего сна и аппетита, — наши лазутчики донесли, что половина их армии не спит, находясь в дозоре. На правом фланге они развернули тяжелую фиванскую фалангу с Фиванской Священной Лентой посредине. Слева от них располагалась афинская фаланга, а еще левее — ахейцы и другие союзники с лучниками, метателями дротиков и пращниками на самом левом фланге.
Только стемнело, Филипп созвал совет всех крупных военачальников. На правом крыле он думал разместить фессалийскую конницу, свою фалангу — в центре, с тяжелой пехотой наемников справа от нее и отборной македонской пехотой под командованием Пармениона — слева; Филипп со своей почетной охраной хотел расположиться еще левее, а на самом крайнем левом фланге перед мощной фиванской фалангой предполагалось поставить несравненных «конных друзей» под моим командованием. Обратись я с мольбой к Зевсу, прося дать мне позицию, где было бы больше возможности доблестно проявить себя в тяжелом бою, я бы не осмелился просить о лучшей. Она была лучшей на всем нашем фронте.
— Это будет отчаянное сражение, — сказал нам Филипп низким хриплым голосом. — Когда история будет написана, я не сомневаюсь, что его занесут в разряд наиважнейших. Оно решит, остаться ли Греции кучкой слабых, вечно грызущихся между собой полисов, разорванных гражданской войной, неспособных защитить себя от внешнего нашествия или хотя бы усмирить варварские племена на своих границах, или же она станет единым государством, возглавляемым Македонией, и сможет справиться со своими внутренними и внешними врагами. Конечно, таким мощным полисам, как Афины и Фивы, придется уступить кое-что из своих свобод: у демоса и его вождя Демосфена больше не будет власти. Но, во-первых, это ничтожная потеря по сравнению с потерей всего, если к ним вторгнется тиран, а во-вторых, когда поутихнут ораторские ветры, погода наладится.
Завтра вы будете биться с греками, но в то же время помните, что вы бьетесь за Грецию — Грецию будущего, способную не склонять головы перед Карфагеном, Римом с его прибывающей силой, даже перед могущественной Персией. За Грецию будущего, более великую, чем она была во времена Геракла, или Ахилла, или Перикла; ибо она станет одним неделимым львом с головой в Македонии и хвостом в Спарте, цельным и неделимым государством с одним правителем, владыкой Ионического и Эгейского морей. Теперь ложитесь спать. Трубы разбудят вас на рассвете.
Я полежал, не засыпая, размышляя над тем, что мне предстоит совершить в завтрашней битве, моей первой на пути… К чему и куда? Я не знал. Может, моей первой большой битве и последней — на пути к Реке Скорби. Затем я незаметно заснул и впервые за многие месяцы видел во сне Роксану: она стояла в слезах, и я не знал, в чем их причина.
Трубы зазвучали властно и настойчиво. Часть наших телег прибыла ночью, и рабы приготовили горячий завтрак для нескольких высокопоставленных военачальников, но я ел ту же пищу, что и мои солдаты: сушеные мясо и рыбу, лук и кукурузные лепешки. Потом Леонид помог мне облачиться в доспехи: шлем, кожаный панцирь, покрытый металлической чешуей, и высокие сапоги. Когда Букефал опустился передо мной на колени, чтобы я мог сесть на него, мой старый учитель подал мне меч и копье — он не дал мне ни дротика, ни щита.
В этом сражении цельная армия Филиппа должна была встретиться со сборной армий Фив, Афин и других полисов. У последних не было никакого прочного взаимодействия, их ничто не сплачивало-воедино, кроме ненависти к господству Македонии. Сидя на громадном Букефале и ожидая сигнала атаки, я думал о старом робком, как мышь, Лисимахе и о военных играх, разыгрываемых нами на бумаге, о том, как он настойчиво показывал мне, как меньшая, но единая армия побеждает намного большую, но разрозненную, пользуясь прорехами в состыковке ее сил, которые разрывались при быстром натиске. Старик рассказывал мне, что, когда пара львов вторглась на пастбище, вызвав панику в стадах и отарах, все же овца бежала бок о бок с овцой, корова с коровой, а лошадь с лошадью.
Плотная фаланга фиванцев первой начала сражение. Она пошла в наступление, чтобы связать македонскую пехоту, состоящую в основном из ветеранов войн Филиппа, хорошо обученных и стойких воинов. Это была настоящая война, кровопролитная и безжалостная, между двумя стоящими друг друга врагами, и многие мои храбрые соотечественники полегли в столкновении с этой ощетинившейся копьями стеной, но многие ворвались в небольшие щели, пробитые метателями дротиков и лучниками, и поработали мечом и копьем прежде, чем их сбили с ног и затоптали. У вражеской фаланги все-таки была одна слабость: она стремилась быть непобедимой за счет слишком большой глубины и плотности, проигрывая при этом в мобильности.
В это же время афинская фаланга, состоявшая из легковооруженных гоплитов, атаковала фалангу наемников Филиппа, прорубила себе путь сквозь нее с такой легкостью, что ее воины потеряли голову и считали, что победа в этот день осталась за ними. Пробившись на свободное пространство, афиняне рванулись вперед, крича: «Вперед! В Македонию!» Увы, это была пиррова победа, забава враждебных им богов, танталовы муки перед поражением. Зоркий как орел Филипп увидел брешь в рядах и бросил в нее свою собственную фалангу. Я просигналил своему горнисту, и медное горло запело: «В атаку!»
Я коснулся Букефала холодным лезвием меча. До этого он стоял совсем неподвижно, несмотря на нервное поведение других жеребцов гетайров, но когда он большим скачком вырвался вперед, за моей спиной раздался грохот копыт устремившейся за нами конницы. Целью нашей атаки был фланг фиванской фаланги, неспособной высвободить свои копья, развернуться и встретить наши пики.
Я мечтал о таких минутах, но реальность оказалась слаще мечты. Бешеная скачка, освежающий ветер, и вот, наконец, расправа с почти беспомощным неприятелем — это было несравненное блаженство, и я радовался, что такое блаженство редко выпадало мне прежде и острота его не притупилась. Обычно я в своих мечтах вступал в схватку со свирепо сопротивляющимся противником, почти равным мне во всем. Теперь же, куда бы я ни погружал пику, я пронзал вражескую грудь, тогда как враг не мог броситься на меня со своими длинными тяжелыми копьями. Я познал восторг, какой, должно быть, испытывает волк, проникший в овчарню. Но действия мои и чувства были хуже волчьих, ведь принадлежали они человеку.
Затем произошло событие, начало которого мне неясно. Стоял чудовищный рев, крики победителей смешались с предсмертными воплями павших, ржанием лошадей и топотом копыт. Каждый, кто был в моем подчинении, старался отнять чужую жизнь или спасти свою, и я уже не мог уследить за тем, что происходило где-то еще. Чтобы восстановить то, что случилось перед моим вмешательством, я могу полагаться только на рассказанное мне позже: между македонцами и наемниками фаланги, которая распалась под натиском афинян, началась жестокая ссора. Вдруг я заметил скакуна Филиппа — без всадника, — рвущегося вперед, и, присмотревшись, увидел распростертого на земле царя, которому грозила неминуемая опасность быть растоптанным. Пока Клит ловил жеребца за удила, я спрыгнул на землю и поднял Филиппа на ноги: он был в крови и ссадинах, но ни одной серьезной раны я не заметил. Он тут же снова вскочил на коня и, не сказав ни слова, не взглянув на меня, поскакал на свое место впереди отборной гвардии. Он сразу же стал отступать — медленно, в полном порядке, — пока афиняне не заняли низменность, только что оставленную им, он же сам удерживал склон холма.
Не мешкая, он приказал контратаковать. Тем временем налет «конных друзей» здорово потрепал фиванскую фалангу. Оба наших крыла сошлись, взяв в клещи и мощным ударом разбив центр союзников.
Священная Лента Фив билась и пала до последнего воина. То, что осталось от союзных армий, обратилось в бегство, и не избежать бы резни, если бы Филипп не отдал переданный горнистами приказ отставить преследование и убийство врага. Филипп остался хозяином положения на равнине Херонеи и тем самым — на всех равнинах и горах, во всех полисах древней земли Греции.
8
Как обычно после сражения, Филипп в первую очередь позаботился о раненых соратниках, затем о почетных похоронах погибших, большинство которых составляли цвет нашей пехоты, отразившей первый натиск фиванской фаланги. Я вспомнил, что эта страшная орда, бывшая когда-то как правой, так и левой рукой Фив, больше не существует. Их длинные копья лежат там, где их выронили из рук. Поле усеяли их гордые щиты. Лежат в пыли и крови, растоптанные, с открытыми невидящими глазами доблестные мужи Фив.
Я подъехал к Филиппу и спешился. Он еще несколько минут отдавал распоряжения подчиненным, затем без особого интереса взглянул на меня.
— Спасибо, Александр, что помог мне снова сесть на коня, когда в меня врезался какой-то беотийский буйвол и выбил из седла, — заметил он мимоходом.
— Не стоит благодарности, царь.
— Ты немного поздно заметил незащищенный фланг фиванской фаланги, но атаковал ты прекрасно, особенно если учитывать, что для тебя это первая настоящая битва.
Меня так и подмывало сказать ему, что именно атака гетайров решила исход сражения и именно мы с Клитом спасли жизнь этому неблагодарному. И я непременно сделал бы это, если б не Клит, предупредительно ткнувший меня локтем в бок. И тут меня, словно обухом по голове, ударила мысль, что Филипп предпочел бы, чтобы его спас какой-нибудь самый чумазый и засаленный поваренок из обоза, нежели я, Александр, сын Олимпиады.
Когда прибыли послы побежденного войска с просьбой о выдаче убитых, Филипп заставил их ждать, пока не устроил роскошный пир победителей. Вино лилось рекой, подавались целиком запеченные туши овец и свиней, и, что поразило меня больше всего, неизвестно откуда появилось множество молодых женщин. На войне я был совсем новичок, чтобы знать, что женщины всегда присутствовали на победных пирах, особенно там, где было много добычи; и я бы не удивился, если бы даже на поле битвы в обширных аравийских пустынях они бы вдруг появились, подобно стервятникам в чистом небе, слетевшимся на свое мрачное пиршество.
В начале празднества Филипп вел себя наилучшим образом, стараясь произвести благородное впечатление на афинских пленников. Солдатам не позволялось приставать к ним, насилие или совокупление скрывалось или допускалось в ограниченном виде. Но это благоразумие оказалось преходящим. В полночь к нему, перегруженному вином, вернулись упоенность победой и вспыльчивость, а на рассвете он пошел бродить, шатаясь из стороны в сторону, выкрикивая проклятья и непристойности, хуля Демосфена. Но все же один афинянин, оратор по имени Демадес, отважился посмотреть ему в лицо и сурово упрекнуть его.
— Царь, когда судьба даровала тебе роль Агамемнона, неужели тебе не стыдно подражать этому нечестивому дураку Терситу?!
К моему удивлению, Филипп устыдился. Он сорвал с себя и растоптал венки и гирлянды, которыми украсили его сопровождавшие армию гражданские, приказал, чтобы отважного пленника отпустили, и завалился спать.
С Фивами Филипп обошелся круто. Он освободил враждебные им города, восстановил власть их старых врагов Орхомена и Платеи, изгнал их руководство, заменив его своими ставленниками, вызванными из изгнания. Чтобы унизить их окончательно, он поставил в фиванской цитадели македонский гарнизон.
К Афинам, наоборот, он проявил великодушие. Пока город лихорадочно готовился к войне не на жизнь, а на смерть, вооружая своих рабов, отбирая у храмов их сокровища, он делал дружеские предложения и в подтверждение своих серьезных намерений вернул полису три тысячи пленных, захваченных в битве при Херонее. Он не требовал никакой контрибуции и даровал Афинам статус пограничного полиса, на который претендовали Фивы. Афинам, чтобы стать его клятвенным союзником, нужно было только признать его право верховного владыки всей Греции, кем фактически он уже стал.
Гордые Афины не желали быть в подчинении у грубой Македонии, и требование Филиппа вызывало у них отвращение. Но был ли у них другой выбор? Они не осмеливались пробуждать гнев царя Македонии, у них не было силы, без которой гордость пуста.
Личными его послами на этих переговорах были Антипатр и, так уж случилось, я сам. Впрочем, это решение не было случайным. Филипп никогда не полагался на капризный случай. Он мог воспользоваться подвернувшимся ему случаем, как нередко это бывало в сражении, когда враг делал ошибку. Он выбрал меня для выполнения этой высокой миссии, в то время когда моя близость к трону, если не само мое существование, раздражали его больше всего на свете. Солдаты уже поговаривали, что не он, а я одержал победу в решающей битве. Хуже этого было то, что я спас ему жизнь, которую прежде он защищал и поддерживал своей собственной отвагой. Когда он смотрел на меня, я полагаю, он видел самое ненавистное ему лицо — лицо Олимпиады.
Можно только предположить, что выбор его диктовался победой честолюбия над личной злобой. Победа над Афинами здорово тешила его тщеславие, но то, что они задирали так свои красивые носы и свысока смотрели на Македонию, называя нас варварами, все еще глубоко задевало его за живое. Я учился у Аристотеля. Моя начитанность, которую он презирал, выработала у меня умение непринужденно вести беседу. Олимпиада, желая хоть чем-то компенсировать наше положение новых богачей, настояла на том, чтобы я учился хорошим аттическим манерам у разных наставников. Я играл немного на флейте, не часто на пирушках валился под
стол и мог вести с самыми культурными эллинами пространные беседы на тему «Илиады» — излюбленную у всех образованных греков. И наконец, держась с таким царственным достоинством, чему я в основном обязан материнским наставлениям, я почувствовал, что ко мне привились манеры и вид царского наследника, несмотря на скрытые под ними дикость и жестокость.
Филипп выбрал меня своим личным послом в Афины потому, что, приложив усилия и пользуясь своим внешним багажом, я мог сойти за афинянина.
9
В Афинах я только и делал, что раскланивался и обменивался комплиментами с людьми высокого звания, присутствовал на церемониях в храмах и осматривал достопримечательности. Разумеется, величайшей достопримечательностью в Афинах был Парфенон с его колоннами, украшенный божественной рукой Фидия и увенчанный огромной статуей Афины Паллады, богини — покровительницы города, в честь которой он и получил свое название. Удивляло, почему эта статуя не входила в число семи чудес света, как, например, «висячие сады» Вавилона,
[178] и вскоре был намерен сам решить для себя, какое из этих двух чудес лучше.
Самым приятным и, вероятней всего, важным для моего будущего переживанием в Афинах явился для меня пир, устроенный в честь послов Македонии Медием Младшим, чрезвычайно богатым человеком и сыном старого врага Демосфена, в богато украшенном зале его частного дворца.
Никто из приглашенных молодых государственных мужей, полководцев и флотоводцев не привел с собой своих благородных жен и дочерей; однако все кушетки в альковах вдоль стен были двухместными. Из занавешенного алькова несколько минут лилась тихая и мелодичная музыка флейт и арф, хотя вина еще не наливали. Затем зазвучали фанфары, резко распахнулись тяжелые занавеси и через арку в зал ступила стайка смеющихся, щебечущих юных женщин; все они были в роскошных одеждах, а некоторые — с драгоценными украшениями. Каждая из них знала свое место. Трое направились в мою сторону: средняя из этого «трио» выглядела совсем юной — ей можно было дать не больше тринадцати, — просто одетой и ослепительно красивой. Две ее подруги оказались на скамьях слева и справа от меня. Та, что слева, принадлежала хозяину дворца Медию; шедшая в центре девушка робко приблизилась ко мне.
Я поднялся, приветствуя ее — этого требовали хорошие афинские манеры независимо от нашего положения в обществе относительно друг друга, и тем временем внимательно ее разглядывал. Красота ее не вызывала никаких сомнений, красота утонченная, обволакивающая ее с головы до ног. Мне подумалось, что, возможно, она самая красивая девушка в Афинах, специально подобранная мне в подружки на этот вечер. И удивляться тут было нечему, ведь я — сын Филиппа. Но как бы то ни было, я все-таки был поражен. В моей жизни личность Филиппа настолько подавляла своей величиной, что я сам себе казался чем-то малозначительным. Я старался скрыть эту приниженность за властными манерами и прочими жестами и непрестанно стремился избавиться от нее любым путем, каким бы трудным он ни был. Победы мои были незначительными, если не считать историй с Букефалом и Птолемеем. Тому, что мне предсказывали, и мистическим толкованиям моей судьбы матерью не хватало прочной фактической обусловленности, чтобы завоевать мое доверие. Но в последнее время произошли два события — все это было на глазах у людей, и вся Греция знала о них как о случившихся фактах, которые отличались своей необычностью: это атака гетайрами фиванской фаланги и помощь, которую я оказал распростертому на земле Филиппу. Кто среди гостей Медия, кто даже во всей Греции, за исключением самого Филиппа, заслуживал больше, чем я, этой почетной награды?
Красота — это отвлеченное понятие, которое трудно определить словами. Мои глаза, не ослепленные предрассудками и не затуманенные женоненавистничеством, видели, что эта девушка прекрасна. Чем возвышенней ум глядящего, чем больше красоты он уже видел и осмыслял, тем чудесней будет вновь увиденная. Праксителю хватило одного взгляда, чтобы захотелось запечатлеть ее в вечном мраморе. Если Апеллес
[179] еще не написал ее в красках, он неизбежно скоро сделал бы это или предал бы свое небом данное искусство. Я ошибся, когда предположил, что ей около тринадцати. Теперь я знал, что ей шестнадцать, а то и семнадцать лет, и секрет ее красоты, возможно, кроется в тайне, в чуде вечного девичества, которому никогда не перейти в юную женственность. Афина Паллада, возможно, хотела уязвить своего врага Афродиту, говоря о маленьком ребенке не более чем пяти лет от роду, которого воинственная богиня увидела в колыбели, что в должное время эта девочка превзойдет красотой саму богиню любви. Но когда Афродита разыскала девочку, намереваясь удушить ее, то увидела, что они никогда не смогли бы стать соперницами, что бывает красота и иного рода; и богиня, наклонившись, поцеловала малышку в нежную щечку, прошептала благословение и пошла своей дорогой.
Она вскармливалась в безвестной колыбели, размышлял я, в незнатном доме или лачуге. Ее появление здесь определенно доказывало то, что она училась в известной афинской школе куртизанок, а может, уже и окончила ее. Впрочем, посещение этой школы еще не говорило о скромном происхождении. Многие дочери афинских аристократов, узнав по достижении брачного возраста, что их приданое потеряно или размотано, искали в этом выход из положения. Немало и других прибегало к этому средству, видя в нем возможность утолить свою страсть к приключениям.
В школу не допускались девушки непривлекательные, с изъянами, тупоголовые и косноязычные, неспособные играть на арфе, с акцентом, оскорбляющим тонкий слух афинянина. Почти всегда они были веселыми и жизнерадостными, любили шутку, умели пить, не напиваясь, и служили в первую очередь для развлечений, а уж потом для любовных утех. По своему желанию они могли отказаться от предлагаемого за их услуги золота, могли становиться любовницами своих избранников, но при этом лишались покровительства своей гильдии и вынуждены были сами устраивать свою жизнь. Стоили они по-разному, в зависимости от красоты и очарования, но не меньше одного статера за ночь. Считалось неэтичным, когда они отдавались понравившемуся им прохожему без вознаграждения, если это не было почетной наградой герою Олимпийских игр или прославленному наследнику короны. Так что это учреждение по праву можно было бы назвать дополнением к афинской демократии.
— Я Александр, сын Филиппа, — сказал я девице, когда мы раскланялись.
Она хихикнула самым очаровательным образом.
— Как будто мне нужно об этом говорить, — отвечала она. — Это все равно что Сфинксу представляться паломникам в пустыне. Твое описание уже известно не меньше, чем одноглазого Филиппа, который последние двадцать лет был страшным пугалом афинян. Не присесть ли молодому царевичу?
— Если ты сядешь со мной.
— Об этом услышат мои внуки — если я доживу до этих лет. Александр, ты с виду странный, но смотреть на тебя чрезвычайно приятно. Чем дольше я это делаю, тем больше твой вид удивляет меня. Уж не Ахилл ли ты, который родился заново?
— Нет, я Александр, но мальчиком я поклонялся Ахиллу. Если бы я не смог быть Александром, я бы предпочел быть Ахиллом, родившимся заново, и никем другим из греков в истории или живущих сейчас.
— Тогда, царевич, со вчерашнего утра ты изменил свое решение. Говорят, ты пошел засвидетельствовать почтение старому цинику Диогену, который наслаждался досугом у себя во дворе. На твой вопрос, что ты для него можешь сделать, он ответил: «Мне от тебя ничего не надо, только, будь любезен, скажи своим спутникам, чтобы не загораживали солнце». И вместо того чтобы оскорбиться, ты сказал, что из всех греков ты бы предпочел быть Диогеном.
— Этот слух верен. Быстро же он распространился. Но все же я себе не противоречил: оба моих заявления истинны и соответствуют моменту, когда я их сделал. Вчера утром я позавидовал крепости ума и возрастному величию великого мизантропа, бесстрашному, как немолодой уже волк в последней схватке за власть над своей стаей. Но сегодня вечером я люблю юность, которую я разделяю с Ахиллом перед его преждевременной смертью. Иначе я бы не мог ухаживать за тобой.
— Достойно вышел из положения, царевич. Не сомневаюсь, что на войне ты способен выпутаться из многих трудных ситуаций.
— С твоего разрешения, не будем говорить о войне. Не скажешь ли мне, как тебя зовут?
— Я полагала, ты знаешь, или, по крайней мере, хозяин этого дома сообщил тебе мое имя, когда указывал, куда тебе сесть. Заявление старого Леохара, что я послужу ему моделью Гебы, богини юности, завоевало мне некоторую известность. Я возглавляла многие процессии к храму Афродиты. А если спуститься немножко на землю, меня избрали царицей Сыновей Гедона
[180] на их празднике в Коринфе.
— Ты все же не сказала, как тебя зовут.
— Таис.
Она произнесла свое имя с грустной улыбкой. Я не знал, что за этим скрывается: возможно, досада оттого, что для меня ее имя ничего не значит — ведь, насколько мне известно, прежде я никогда его не слыхал. Однако в свое время я его еще услышу. Все, что она говорила или делала, игра выражений на ее лице, ее теплый мелодичный голос не могли объяснить ее невыразимого обаяния. Нет, не я, а какой-нибудь царь с громким именем, который целиком унаследовал свое царство и которому нет нужды с кем-то бороться, который не испытывает никакого давления извне и не одержим обитающим в его груди демоном — именно такой царь позволит ей править его рукой, держащей скипетр. Если я и мог сопротивляться ее тонкой вкрадчивости, в чем я был вовсе не уверен, так только по двум причинам: в безжалостном честолюбии, доходящем до безумия, и в пробужденной во мне и созданной мной самим мечте, фантазии — когда я узнал юную с волосами цвета соломы малышку из далекой Бактрии.
— Ты говорила об Ахилле, — прервал я затянувшееся молчание. — Ты читала Гомера?
— Мне следовало прочесть, иначе меня бы признали темной невеждой. Один зеленый юнец, командир конницы, у которого молоко еще на губах не обсохло, из тех, кого мы развлекаем в школе на практических вечеринках, который не знал, что ему делать со своими красными ручищами, посмотрел на меня как на пресмыкающееся, когда я спутала Хрисеиду и Брисеиду. Естественно, я ошиблась, ведь обе были блестящие троянские красавицы, и Ахилл поссорился с царем
[181] из-за того, кому какая достанется…
— Это не совсем так…
— Во всяком случае, Брисеиде повезло больше. После того как царя заставили отказаться от Хрисеиды, так как она была посвящена Аполлону, царь отнял у Ахилла Брисеиду, чтобы не чувствовать своей потери, и Ахилл дулся на него в своем шатре. Но царь так и не призвал Брисеиду разделить с ним ложе… Интересно, как себя чувствуешь, когда тебя призывает на свое ложе настоящий царь… Наверное, царь вспомнил, каким вспыльчивым может быть Ахилл, и решил быть осторожным. Как бы там ни было, а все же Ахилл со временем получил назад свою девушку, перестал дуться, пошел на войну и завоевал Трою.
— Прекрасная аннотация всей «Илиады».
— Мне не понравилось там одно место — скорее, оно не вызвало у меня доверия.
— Какое?
— А ты на меня не рассердишься? Ведь я должна удовлетворять все твои прихоти. Хозяин этого дома сказал, что ситуация весьма… щекотливая. Афины, затаив дыхание, ждут, что случится сегодня вечером между мной и тобой. Это льстит, но и пугает.
— Я не рассержусь.
— Ну, тебе меня не убедить, что доблестный шлемоблещущий Гектор, укротитель лошадей, сын Гекубы и Приама, единственный поистине благородный мужчина в этой книге, мог пуститься наутек от Ахилла и три раза обежать стены Трои. Он бы не захотел пробежать и шага! Но хуже всего, если хочешь знать, вот что: я просто ненавидела Ахилла за то, что он исколол его всего уже мертвого! И только тогда, когда он уступил старому Приаму его тело, снова свежее, как роса, с зажившими ранами, только тогда я перестала его ненавидеть.
Зажегшиеся огнем глаза Таис снова обрели свою детскую мягкость.
— Нет жалости в природе, — сказал я ей. — Зачем было Ахиллу возвращать тело, вместо того чтобы скормить его собакам? Ведь это собственный сын Приама, Парис, похитил Елену. Так почему же Приам не вынудил Париса отослать ее назад и не предотвратил войну? И все же — все же доброта Ахилла к старику заставила меня испытать некоторое удовольствие.
— Разве ты не был доволен также и тем, что муж Елены принял ее назад?
— Не понимаю, к чему ты клонишь?
— Это свидетельствует о том, как действительно прекрасна была Елена и как человечен был царь.
В этот момент слуга принес кувшин вина, столь же драгоценного, что и содержащий его сосуд, украшенный золотыми и серебряными фигурками сатиров и нимф; верхом на козле во главе триумфальной процессии ехал Пан
[182] с большим и жестким фаллосом; который легко можно было принять за седельный рог. Вино из далекой Умбрии имело золотистый оттенок.
Слуга наполнил мой кубок, и я передал его Таис. Сам же попросил Клита принести мне чашу нашего фессалийского вина.
— Выпей его на свой страх и риск, — предложил я Таис, когда слуга не мог нас слышать.
— По-моему, тут нет никакого риска, — ответила девица. — Не тебе, а Филиппу следует сейчас опасаться чаши с ядом. Ты — надежда Афин. Горожане верят, что ты пощадишь священный город, если царь даст тебе разрешение. Мы думаем о тебе не как о македонце, а как об афинянине, с рождения оказавшемся в изгнании.
— Я македонец до последнего волоска на моей голове. Однако я чрезвычайно счастлив быть в одной компании с дочерью Афин, хотя и должен выполнять жесткие требования и воздерживаться от вина, если оно не налито моим собственным слугой.
— Может, ты поцелуешь мой кубок, чтобы я смогла выпить за твое здоровье и долголетие.
Я выполнил ее просьбу и, чтобы прозондировать глубину ума своей случайной подруги, поинтересовался, есть ли у нее какие-нибудь претензии к «Одиссее» Гомера, составляющей, как известно, пару «Илиаде».
— Никаких, если не считать того, что она слишком часто бывает скучна. Одно чудо, нагромождаемое на другое, вскоре утомляет читателя. Как ты думаешь, Александр, а не написана ли она более поздним поэтом — гораздо меньшего таланта, чем автор «Илиады»?
Собственно говоря, такая мысль приходила мне в голову. Но для меня было бы непростительной ересью сказать подобное нашим ученым; от других я тоже ничего похожего не слышал. Поэтому меня очень удивило, что я слышу это из ненакрашенных детских уст этой красивой девчонки — такой она мне представлялась, а вовсе не торговкой своими услугами.
— Тебе не хочется рассказать мне о своем происхождении, детстве и о том, что у тебя скрыто глубоко внутри? — спросил я.
— Да что говорить о моем происхождении и воспитании… В городе об этом знают все. Мой отец Гермаполлон полагает, что его род восходит к Тезею. Моя мать приходилась ему троюродной сестрой и была очень красива. Отец разбогател, торгуя рабами. За несколько недель до моего рождения он в битве с Филиппом под Харетом получил кастрационное ранение и с тех пор торговал только рабынями, отыскивая на рынках самых красивых. Похоже, поставляя их в благородные дома Греции и соседних стран, он испытывал удовольствие, которое сам не мог уже испытать с женщиной, — даже не удовольствие, а страсть: после продажи рабыни он не мог уснуть до тех пор, пока не получал от покупателя сообщение о том, что она стоит вдвое дороже своей цены. Когда он стал замечать меня, он думал обо мне только как о любовнице какого-нибудь богатого отпрыска царского рода или аристократа, если уж мне не суждено будет стать знаменитой куртизанкой.
— Чем ты и стала.
— Еще нет. Меня приняли в школу, и теперь я обучилась почти всему, что должны знать ее питомицы: манерам, музыке, танцам, играм, научилась читать многие стихи и немного сочинять, вести беседу.
— Я грубый македонец и хочу задать грубый вопрос: вас совсем не обучали искусству любви?
Девушка слегка покраснела — совершенно искреннее проявление стыдливости, которое вряд ли можно было бы имитировать.
— По правде говоря, пожилые женщины иногда секретничали с нами.
— Разумеется, и речи не было о всяких там номерах, о которых я наслышан…
Таис с негодованием прервала меня:
— Такое можно увидеть в борделях, а не в салонах госпожи Леты. Ну вот, я нарушила главное правило нашей профессии: никогда не прерывать собеседника. Ты, царевич, должен узнать, что за потерей девственной плевы следовало немедленное исключение из школы. Но если девушка мечтала обзавестись когда-нибудь семьей, на ее проступки смотрели сквозь пальцы. Такой позволялось все и ее не наказывали за потерю невинности, поскольку желающие выйти замуж почти никогда не становятся хорошими куртизанками. Мы жили в просторных комнатах, питались изысканной и дорогой пищей, одевались в роскошные одежды. Время от времени госпожа Лета устраивала для нас, собрав всех вместе, приемы, длившиеся до полуночи. За все это — за содержание и обучение — мы отдавали один статер в залог каждых пяти, вырученных нами потом. И так до тех пор, пока нам не исполнится двадцать и не истечет срок договора.
— Госпожа Лета, должно быть, весьма состоятельная особа, раз согласилась на такие большие расходы.
— Нет, она не очень богата. В ее дело вложили средства кое-кто из известных афинян. Мой собственный отец владеет половиной школы. Но не по этой причине я получила более широкое образование, чем большинство девушек, а скорее потому — я нисколько не хвастаюсь, — что я была более одаренной в танцах, умении вести беседу и, как считала госпожа Лета, в искусстве пробуждения желания.
— Значит, ты начинающая.
— Нет. Я еще не посвященная.
У меня перехватило дыхание и пришлось немного помолчать. Таис говорила очень тихо, едва различимо, подперев подбородок рукой, с задумчивым взглядом на прекрасном лице. Мы сидели совсем близко, и я ощущал тепло ее тела. Шум голосов в зале возрос, но не сильно, живее забегали слуги, потчуя гостей винами, кое-где в альковах задернули занавески. Не было явного сходства между этим благородно-изысканным пиршеством и пьяными оргиями, которыми Филипп имел обыкновение отмечать победу. Сходство появлялось только в последний момент.
— Можно я спрошу тебя, Таис?
— Ты, Александр, сын Филиппа, а я должна тебя развлекать.
— Спрошу тебя напрямик, грубо, по-македонски. Насколько я понял, ты еще девственница?
— Ну конечно. Неужели ты думаешь, что страшащиеся за свою жизнь Афины, этот цветок цивилизации, принадлежащий всем странам, выходящим на Внутреннее море, могли бы предложить тебе меньшее?
— О, великий Зевс Олимпийский!
— Отчего ты так поражен? Или ты настолько еще новичок в завоеваниях, что не успел пока ощутить вкус власти, которую они дают?
— Нужно еще столько завоевать, что мой дух остается смиренным. Я боюсь говорить об этом — боюсь показаться грубым, — но каково вознаграждение за то, что ты отдашься в первый раз?
— Отец упоминал о большой сумме золотых талантов.
— За которую у тирийцев можно было бы купить одну из их лучших трирем!
— Конечно, ты понимаешь, что, если ты хочешь меня сегодня вечером, я приду к тебе как дар. Это будет почетной наградой за смягчение условий перемирия с Афинами после их тяжкого поражения.
— Сами условия не были такими уж мягкими. И они оговаривались Филиппом, а не мною.
— Ты также понимаешь, что госпожа Лета и мой отец получат вознаграждение из городской казны.
— А как ты сама относишься к этому, Таис?
— Можно сказать, я польщена, хоть и смущаюсь немного. Я афинянка и с радостью готова отдаться даже и козлоногому сатиру, если это принесет ощутимую пользу моему родному городу. Многие, с кем я танцевала на наших праздниках, погибли в Херонее. Ты не козлоногий сатир, а юноша, на которого приятно смотреть, прекрасный наездник, и ты покорил меня своей вежливостью. Царевич, неизбежный час моей зрелости наступил уж давно, и могу ли я желать большего, если меня просит отдаться ему прославленный отпрыск царского рода?
— Может, наклонишься немного ко мне, чтобы я мог тебя поцеловать?
— Задернуть занавеску?
— Не надо.
Она исполнила мою просьбу, и это чудное соприкосновение с ее губами позволило мне ощутить радость погружения в обволакивающую ее красоту.
— Я хочу тебя сегодня, Таис, но есть одно условие, которое необходимо выполнить.
Мягкий свет в ее глазах моментально погас. Страха в них не было — только чуткая настороженность.
— Ты мне скажешь, что это за условие?
— Да. Ты примешь мой дар золотых талантов.
Она отпрянула от меня, глубоко задетая за живое. Не заплакала, не произнесла ни звука, но было видно, что ей очень больно. Наконец губы ее пошевелились; она заговорила:
— И это говорит Александр, сын владыки всей Греции, сам победитель, разбивший великую фиванскую фалангу и уничтоживший Священную Ленту.
— Так и должен говорить, будучи пленником этих деяний и этого наследия, тот, кто действует и побеждает.
— Значит, иного выбора у меня нет. Я должна принять твое условие.
— Но только с радостью. Иначе я не согласен. И вот что еще. Не знаю, почему или каким образом, но то, что я скажу, могло бы уменьшить преграду, которую воздвигают между нами троны, короны и победы. В этом нет никакой логики. Я только смутно чувствую, может, только мечтаю, что, когда ты будешь об этом знать, в другом свете предстанет союз наших тел, эта ночь любовной взаимности. Мы с тобой, Таис, в некотором смысле находимся в одинаковом положении. Я слегка приласкал одну девушку, но она осталась девственницей, так что я тоже остаюсь непосвященным.
Она резко вздохнула, словно ей не хватало воздуха.
— Царевич, мне в это как-то не верится.
— Не заставишь же ты меня клясться, Таис.
— Конечно, нет! Я только поплачу. Тогда этот союз, эту взаимность благословят боги, даже строгая Афина Паллада, наша божественная покровительница. Моя судьба — стать куртизанкой, но как мало горечи в моем первом падении! Александр, сердцем я уже с тобой. Страсть моя разгорается, твоя тоже: я вижу, как пылает твое лицо и сверкают глаза. Если ты желаешь, мой господин, пойдем со мной. Я вытру слезы и буду улыбаться любопытным, когда мы пойдем к выходу — здесь все будут радоваться нашему уходу, зная его причину. Уменьшится их беспокойство за судьбу Афин. А что до нас с тобой, мы предадимся таким радостям, что тебе позавидует бог войны, обвитый прекрасными руками Афродиты, а мне, Таис, позавидует та, что в наших культах зовется Киферой. И если меня за мое нечестивое хвастовство не поразит гнев Божий, нас ожидает чудесная ночь.
10
Размышляя над встречей с Таис, я пришел к единственному определенному заключению, что она дала мне много земного и в то же время возвышенного счастья и что я недаром потратил свои золотые таланты, Отныне свидание с Таис принесет богатую награду любому поэту, философу, путешественнику или царю, каковы бы ни были его возраст и любовный опыт, — если, конечно, у него будет при себе туго набитый кошелек. Да что там — даже тупейшему олуху будет доступна жизнь, полная чувства и мысли.
Я не мог этого объяснить; мне только казалось, что все это очарование Таис — ее внешность, манеры, ее голос и мысли — проистекает из одного источника, имя которому эротичность, и в этом состоит главная ее гениальность. Я не мог сравнить ее с другими девицами, не обладая ни одной из них в полном смысле слова. Интуитивно я чувствовал, что, если смерть пощадит ее достаточно долго, она, наравне с Аспазией, станет второй знаменитой куртизанкой в истории Эллады.
Составив проект договора, который предстояло ратифицировать Филиппу, я вернулся в Пеллу. Там я исполнял функции регента, тогда как Филипп устроил что-то вроде демонстрации на дальнем юге сперва захватив Коринф и нанеся заключительные штрихи, как скульптор на прекрасно выделанную статую, на свой греческий доминион, фактически укрепляя базу для предполагаемой экспедиции в Малую Азию с целью захвата греческих колоний, находящихся во власти Персии. Антипатр готовил запасы и обучал солдат для нового похода. Тем временем на западе жужжали пчелы, в основном в уме Олимпиады, — она подбивала к восстанию горные племена. Это не предвещало ничего доброго для меня как наследника македонского трона: чем больше между нею и Филиппом расширялась трещина, тем выше поднимался невидимый опасный барьер между Филиппом и мною.
Олимпиада возлагала свои надежды на брата Александра, могущественного царя племени молоссов, живших в Эпире, но Филипп нанес один из своих внезапных, коварных и могучих ударов, расстроивший все ее планы.
Мне не представилась еще возможность упомянуть в этой летописи мою единственную законную сестру, Клеопатру, тезку молодой жены Филиппа. Между нами было мало симпатии и понимания. Даже Клита я знал вдвое лучше, чем ее. Она была хорошенькой, хрупкой и нерешительной и идеально подходила для той роли, которую ей отвела судьба, — роли пешки в играх Филиппа. Чтобы привлечь на свою сторону потенциально опасного врага, Александра, он предложил ему жениться на моей сестре Клеопатре, приходящейся ему племянницей. К ярости Олимпиады, царь молоссов живо откликнулся на это предложение, отказался от сговора с сестрой, и в октябре, за несколько дней до моего двадцатилетия, была назначена свадьба.
Этому событию надлежало быть праздничным и великолепным, ибо повелитель всей Греции выдавал замуж свою дочь Клеопатру за вождя могущественного племени. Филипп разослал приглашения, по сути — настоящие приказы, не только членам своей марионеточной лиги, но и всем подчиненным ему царям, государственным деятелям, ученым, поэтам, драматургам, художникам и скульпторам. Собирались самые известные актеры и музыканты. Победителям Олимпийских игр предстояло выступить в состязаниях, должны были разыгрываться театральные представления и пиры сибаритов
[183] следовать один за другим.
Но Филипп был не из тех, кто пренебрегает более серьезными делами ради таких мелочей. Он оставался грубым и твердым, одноглазым и хромым старым воякой. Пока дворец в Эги драпировали для свадьбы, он послал Аттала с десятью тысячами солдат в Малую Азию для захвата тактически важных населенных пунктов и подготовки их для прибытия основных сил осенью. Вслед за ним вскоре должен был отправиться Парменион.
И вот на исходе лета Олимпиаде был нанесен второй смертельный удар. Жена Филиппа, моя приемная мать, занявшая место Олимпиады, затяжелела. Она не умерла в родовых муках и родила не девочку, как предсказывали гадания Олимпиады, а крепкого мальчика, получившего имя полулегендарного царя Македонии Карана, которого Филипп почитал как героя.
Меня немного напугало, но вовсе не удивило, когда Олимпиада оставила свое жилище в Эпире, чтобы появиться на свадьбе.
Среди больших кипящих горшков недовольства царем Филиппом был один совсем небольшой, из которого выбивалась струйка пара, вроде бы и не стоящая внимания. Я все-таки прислушался к этой истории, ибо в ней принимал участие Аттал, которого я так и не мог выбросить из головы из-за того тоста на свадьбе Филиппа и Клеопатры. Он, без сомнения, нанес молодому родовитому командиру отряда грязное оскорбление. Этот командир, Павсаний, не очень-то подходил для своей командирской роли, будучи слишком напыщенным, и ходили слухи, что он гермафродит, о чем якобы говорили его манерность и высокий голос. Аттал отказался извиняться за свое оскорбление, и Павсаний обратился с жалобой к Филиппу, но безрезультатно. Теперь, когда Аттал отплыл в Малую Азию, молодой человек не находил себе покоя от мрачных мыслей.
Случилось так, что однажды лунным вечером в заброшенном саду дворца я приблизился к ажурной беседке, увитой зеленью. В ней разглядел я парочку, очевидно, назначившую тайное свидание. Первой беседку оставила женщина. Ее походка, фигура и смутно освещенное лицо показались мне очень знакомыми. Конечно же, это могла быть только Олимпиада.
Минутой позже наружу вышел мужчина. Я тихо отступил с тропинки поближе к тени и, приглядевшись, узнал в нем без всякого сомнения оскорбленного Павсания.
Вернувшись к себе, я задумался над трудной моральной проблемой: враги Филиппа уединились для тайной беседы — сообщать ли отцу об этой встрече? Не сообщить — значило бы причинить ему вред, а если бы я сообщил, это поставило бы под удар мою мать. Филипп был бы только рад обвинить ее в заговоре и убрать со своего пути, а я бы стал невольным убийцей матери. Я не мог предвидеть будущего развития событий и поэтому решил не вмешиваться.
На рассвете дня бракосочетания собрались толпы людей, чтобы полюбоваться на движущуюся к театру свадебную процессию. Вдоль колоннады первыми шли жрецы, несущие изображения двенадцати олимпийских богов; тринадцатый жрец нес небольшую статую Филиппа. За ними на значительном расстоянии шел сам Филипп, одетый в белую мантию и с лавровым венком на голове. Ни близкой к нему знати, ни телохранителям не было позволено следовать за ним — Филипп хотел показать всему греческому миру, как он великолепен в своем одиночестве, хотел напомнить, что он один, без помощи какого-либо другого царя, овладел всей Грецией.
Сам не зная того, он неумолимо приближался к перекрестку времени и событий. Спрятавшись у ворот, его поджидал Павсаний. Он выскочил с обнаженным мечом в руке и вонзил острый клинок в тело царя, издав при этом нечленораздельный крик, после чего бросился к взнузданной лошади, дожидавшейся всего лишь в нескольких шагах с поводьями, зацепленными за сломанную ветку.
Дорогу меж колонн моментально запрудили перепуганные хозяева празднества, и убийца мог ускользнуть. Но случилось так — возможно, это было угодно богам, — что за одну из его сандалий зацепилась виноградная лоза, и он упал. Прежде чем он успел вновь встать на ноги, с десяток копий приковали его к земле.
Именно я своим криком утихомирил толпу. Не знаю, как удалось мне перекричать шум и почему охранники и побледневшие жрецы обратили на мой окрик внимание, если не предположить, что я как стоящий ближе всех к трону являлся в их глазах представителем короны или ее наследником. Подобно сложенным крыльям, на толпу опустилось молчание. Я медленно — ибо не было нужды торопиться — подошел к тому месту, где лежал мой отец. Побывав в сражении, я достаточно насмотрелся на мертвых и сразу понял, что свет жизни в его глазах окончательно угас; понял я и то, почему Гомер часто пользовался выражением «его глаза покрыла тьма».
Отец упал головой вперед, слегка повернув ее вбок и распластав руки. Его мантия белого цвета стала ярко-красной; куда-то исчезло его царственное величие, и он казался таким маленьким! В этом не было никакого чуда: просто вдруг стерлись все приметы его личности. Казалось невозможным, чтобы кипучая энергия Филиппа, его грубость и сила улетучились сквозь рану, пробитую в его теле вражеским мечом. Но увы — остался только прах.
Перехватив взгляд Пармениона, я нарушил жуткое молчание, сказав: «Царь мертв».
Он тут же прогремел в ответ:
— Да здравствует царь!
Глава 3
ПОБЕДА И ОПАСНОСТЬ

1
Я не мог «здравствовать» долго, если бы не приступил немедленно, прямо сейчас, к стремительным действиям.
Назначив родственника моей матери, Леонида, распорядителем останков и похорон отца, я тут же объявил о сборе македонского войска в ближайшей долине Вардар. Мне надо было заручиться его верностью, без которой я был ничто. В белых доспехах на черном жеребце я проехался вдоль выстроившихся рядов, и солдаты с радостью в сердцах вспомнили, как впереди доблестных гетайров я обрушился на страшную фиванскую фалангу с фланга. Я ел с ними их грубую пищу, парировал их грубые шутки. Этот элитарный отряд разразился овацией, решившей, буду ли я иметь поддержку армии: они салютовали мне мощным ревом голосов и поднятыми вверх пиками. Их рев подхватили пехотинцы, стуча по щитам рукоятками мечей, а фаланга построилась знаменитой стеной, сомкнув щиты и ощетинившись копьями. Позволив им накричаться сколько душе угодно, я велел трубить сигнал возвращения в казармы.
До того как уехать с поля, я отправил пять лошадей в сопровождении двух быстрых всадников в город Пидну, где томились в изгнании Птолемей, Гарпал и другие мои юные друзья. Они мне здорово понадобятся, думал я, пока я еще жив.
Одной только поддержки армии было недостаточно, чтобы обеспечить мне преемственность царской власти, но она придала мне уверенность в борьбе с противниками моего престолонаследия. У нас сильна была партия шовинистов: они ратовали за то, чтобы на троне Македонии восседал македонец, а не сын варварки, которую сам Филипп обвинял в измене, — а посему я не законный его наследник, а безымянный ублюдок. Много было также и тех, кому не нравились мои «греческие» манеры и иностранные понятия, кто возмущался тем, что я не живу по-македонски. Наибольшая угроза для меня как наследника короны исходила от моего двоюродного брата Аминты, настоящего македонца, и новорожденного сына Клеопатры.
На пир по случаю моего избрания собрались все члены Совета и множество посланцев других государств. Им я ясно дал понять, что намерен остаться на посту стратега всей Греции и главы Совета. Все присутствующие пообещали сохранить мне верность, которая, я знал, превратится в пустую труху и разлетится по ветру в тот самый момент, когда проявлю слабость.
Я никак не мог позволить себе быть слабым. Перед короной должно было скатиться немало голов, прежде чем она прочно утвердится на моей собственной голове. Я стал думать, кому из своих ближайших друзей мог бы доверить это мрачное кровавое дело, и остановил свой выбор на косолапом Гарпале. Я видел, как при Херонее он ехал по полю и добивал копьем всех раненых врагов на своем пути. На листе бумаги я написал несколько имен и против некоторых из них сделал пометку. Первыми шли имена двух царских отпрысков из Линкестиды, товарищей Павсания по пирушкам, разделявших его гнев против Филиппа, который не желал исправлять своих ошибок. Если бы я не действовал стремительно и безжалостно против всех, подозреваемых в том, что он знал о заговоре, меня бы самого обвинили в причастности к нему. Возле имени третьего я поставил знак вопроса: он поклялся в верности мне сразу же после убийства Филиппа.
Что было делать с Атталом, дядей Клеопатры? Я приказал, чтобы его арестовали, а если это не подействует, чтобы его сослали туда, откуда он бы не смог больше оспаривать мои притязания на корону в пользу своего племянника. Это нажило мне сильных врагов в клане Аттала, родовитых, имеющих большую власть, и у меня не оставалось никакого выхода, кроме одного. Ведь даже такой человек, как Платон, открыто признавал, что оправдывается зло, сотворенное ради пользы и безопасности государства; и Аристотель повторно выразил это убеждение. Таким образом в Македонии строго соблюдалась традиция большого кровопускания при восхождении на трон нового царя — та же самая, что и в Персии, да и в любом другом монархическом государстве, завоевавшем себе имя и широкое признание. Я не сомневался, что после моей смерти в бою или от меча заговорщика эта традиция не умрет.
К счастью, мне не нужно было лично разбираться с Клеопатрой и ее новорожденным. Роксана рассказывала мне об обитающих в далекой Азии львах с черными и желтыми полосами, которых в Индии называли «ба». Они были пострашней серовато-коричневых львов и куда более коварными. Один такой был и среди моих домашних. Олимпиада ненавидела Клеопатру и ее отпрыска такой лютой ненавистью, какой не знал ни один дикий зверь. Я бы предпочел не слышать о том, во что она выльется, но это было трусливое желание и лицемерное — ведь не запретив, я разрешил. И все же я думал, что никогда больше не поцелую мать, не ощутив на ее губах вкус крови.
Невинного младенца закололи на руках у его матери; сама же она, разбитая горем, в трогательном страхе за свое юное и прекрасное тело, которое искалечит сталь, выбрала смерть от веревки. Больше я ничего не знал.
Пока происходили эти жуткие события, вся Греция радовалась смерти Филиппа и кажущемуся падению его власти в Македонии. Эти новости подтвердили правильность избранного мною кровавого пути к укреплению безопасности и усилению мощи моей власти. Будучи в трауре по своей умершей неделю назад дочери, Демосфен все же выступил перед Советом в своем праздничном платье, объявил Павсания героем-мучеником и попросил Совет издать декрет, устанавливающий день общественного благодарения за избавление страны от тирана. Его спросили, каким образом эта новость так быстро дошла до него. Он отменно солгал, будто эти славные вести принесла, явившись ему во сне, Афина Паллада и что, более того, она сообщила по секрету, будто я, Александр, не более чем набитый соломой лев, который не осмелится покинуть свою золотую клетку в Пелле. Его красноречие повлияло на Совет и было услышано далеко за пределами Афин: фиванцы взялись за оружие и изгнали из цитадели македонский гарнизон, амбракиоты тоже; другие полисы совершили враждебные акции. Вся Греция была в беспорядке. Филипп лучше меня знал бы, что делать. Нет, мне бы не хотелось, чтобы Филипп вернулся из небытия и приказывал мне, но я бы с удовольствием выслушал старого тактика Антипатра, который мог бы дать мне несколько советов — скорее всего, как проявить выдержку и умеренность. Кое-какие из наставлений я бы принял, но большинство бы отверг. Я решился выступить в тайный поход с большими силами.
Солдатам не дали попрощаться с женами и возлюбленными. И вот двадцать пять тысяч уже оказались в пути. Каждый пехотинец нес свое собственное оружие и ранец, так как при наибольшем количестве лошадей под седлом мы взяли с собой как можно меньше вьючных и только крайне необходимое число рабов. Первое препятствие нас поджидало в конце второго дня пути в устье реки Пеней, как только мы миновали долину Темпе. Мы не могли войти в проход, пока начальник фессалийского отряда в Пидне с несколькими помощниками не получит разрешения от старшего начальства в Лариссе. Его можно было бы и подкупить; без сомнения, можно было бы взять этот проход стремительным приступом. Вместо этого, к печали чиновников и радости моих солдат, я приказал прорубить тропу вдоль горы Осса, выходящей к морю. Они живо исполнили мое приказание — все молодые ребята под предводительством также молодого человека, при отсутствии седобородых стариканов с их ворчанием и неодобрительным покачиванием голов.
Преодолевая пересеченную местность, карабкаясь на кручи, перебираясь через теснины, мы овладели вратами Лариссы еще до того, как гонцы из Пидны принесли новость о нашем прибытии.
С испуганными лариссианцами я быстро и уверенно вступил в дружеские отношения. Они поставили меня архонтом Фессалии, не прибегая к долгим церемониям, и избрали гегемоном Лиги, где я занял место Филиппа. Для меня эти любезности мало что значили, разве что давали право призывать под свои знамена превосходных фессалийских всадников, уступающих только моим несравненным гетайрам. Я представил себе кислое лицо Демосфена, когда с первым гонцом из Лариссы прибудут к нему эти новости, и пришел в мальчишеский восторг. Тем временем мы за три дня проделали семьдесят миль и были в Фермопилах, где я сразу же собрал Совет. Убедившись в их лояльности, мы поспешили в Фивы, стали лагерем у их стен, рядом с цитаделью. К этому времени Афины, в пятидесяти милях от Фив, были охвачены волнением. Сельские жители сбежались в город, под защиту его стен; созвали городское собрание, избрали послов и готовы были согласиться на любые угодные мне условия мира. Вырвав листок из записной книжки Филиппа, я письменно заверил афинян в моих мирных намерениях, в почтении и любви ко всему эллинскому и пообещал предоставить им самоуправление. За такую политику, проводимую в моих же лучших интересах, я удостоился двух золотых венков и звания благодетеля города.
Наука матери или, скорее, ее внушения о пользе мистицизма все еще цепко жили в моем сознании, и я физически не мог взяться за осуществление своих широких планов, не посоветовавшись с дельфийской жрицей, самой знаменитой в эллинском мире, предсказания которой, как было известно, всегда сбывались. Да, уже прошла осенняя пора, убрали урожай и не положено было давать предсказаний; зимой в храме поклонялись богу Виноградной Лозы Дионису и богине Урожая Деметре. Но все же я разыскал прорицательницу в ее келье и совершил кощунство: когда она отказалась садиться на треножник, я схватил ее за руку и потащил к нему силой. «Тебе невозможно сопротивляться!» — вырвалось у нее.
Я услышал от нее то, что хотел, и ни в каком другом предсказании я больше не нуждался — иначе мог бы услышать нечто совсем противоположное. С легкостью убедив себя в том, что ее устами говорил сам бог Аполлон, как будто бы она сидела в исходящих из скалы парах, я не стал испытывать судьбу, сделал храму приношение из золотых монет и удалился.
Я еще не воевал в качестве царя Македонии и главнокомандующего ее армий, но знал, что время не заставит долго ждать: горные кланы и племена, которые вечно не давали покоя Филиппу, снова, тайно или открыто, выражали свое недовольство. Старый одноглазый царь умер, думали они, возможно, у сына его не тот характер. Эти дикари, что жили на севере, ничего не желали делать — только охотиться, воевать, роптать да расхищать чужое. А наши недавно покоренные соседи, фракийцы и иллирийцы, подшучивая над своим ярмом, весело смотрели на их грабежи. Если бы я действительно был набитым соломой львом, как назвал меня Демосфен, и не нанес бы им прямого удара, они бы тоже взбунтовались. Да, не следовало мне предпринимать задуманного мной великого похода на восток, не обезопасив всю древнюю Элладу и ее границы; кроме того, царю Македонии должны были заплатить по старому долгу трибаллы, один из самых воинственных кланов. Это они, застав Филиппа врасплох, отняли у него добычу, захваченную им в Дунайском походе.
Ранней весной я после своего коронования отправился с сильным войском к границе трибаллов — живших не более чем в неделе пешего пути к западу от Эвксинского моря. Там нам пришлось выдержать сражение, в котором бывалые воины увидели для себя что-то новое. Проходя по длинному ущелью, мы вышли на племя фракийцев, которые в союзе с горцами занимали возвышающиеся над
нами горные кручи. Их главным оружием были тяжелые телеги, которые они держали наготове на краю крутых обрывов. Ясно, что они намеревались столкнуть их на наши головы, когда мы будем проходить внизу, и под этой страшной лавиной нам бы не поздоровилось.
Чтобы перевалить через гору без тяжелых потерь, я составил хитрый план, который старый Антипатр, будь он командующим, наверняка отверг бы как безрассудно рискованный. Я отдал своим гоплитам приказ идти как можно более разреженным строем, чтобы телеги не могли задеть людей, а в узких местах, где раздвинуться нельзя, пусть они ложатся, прижавшись друг к другу, и укроются тесно сомкнутыми щитами, наподобие крыши.
Загремели, устремившись вниз, страшные снаряды, набирая скорость с каждым поворотом колеса, порой взлетая над землей, переворачиваясь и разбиваясь вдребезги. Какое там рискованное, — думал я о своем предприятии, — эти телеги перемелют кости десяткам храбрых моих соратников. Но результат был настолько поразительным, что этого я не забуду до конца своих дней. Солдатам удалось избежать всех телег, кроме четырех, которые, ударившись о щиты, отлетели далеко в сторону, так что ни один человек серьезно не пострадал и ни одна кость не была сломана.
Я тут же протрубил сигнал атаки, в которую воины бросились с устрашающими криками. Если бы слабо вооруженные варвары смекнули, что после неудачи с телегами им лучше обратиться в бегство, большинство из них смогли бы остаться в живых, но, будучи не трусливого десятка, они продолжали сопротивляться, и наша сталь косила их рядами. Их пало около полутора тысяч — замертво или со смертельными ранами. Помимо прочей добычи мы захватили множество женщин и детей, чтобы отослать их в города на побережье Эвксинского моря, где они будут проданы в рабство. Народ этого племени отличался необычайной красотой, почти все женщины были яркими блондинками, так что вряд ли их ожидала тяжелая участь. Многие красавицы, размышлял я, станут наложницами или рабынями в роскошной обстановке гаремов.
Моя хорошо обученная армия быстро расправилась с вооруженными варварами у подножья гор. Те, кто остался в живых, сбежали на остров посреди могучей реки. Мы упорно преследовали их, но наши наспех сколоченные суда не смогли причалить к крутым берегам острова. На противоположном берегу собралось большое племя гетов, видимо, ожидая, когда им преподадут хороший урок. На челноках и плотах из мехов, набитых сеном, я с наступлением ночной темноты с сильным отрядом переправился через реку. Высадившись на поле, где колосились высокие хлеба, мы крадучись подобрались к их лагерю и с первыми лучами рассвета напали. Застигнутые врасплох геты в основной своей массе пустились в бегство, оставив убитых и раненых лежать там, где они пали.
Я надеялся, что эта карательная акция успокоит волнения у моих северных границ и обезопасит их, ибо когда мы снова переправились в свой лагерь, к нам отовсюду стали прибывать послы, чтобы отдать мне дань уважения и просить о мире. Многие обещали прислать солдат для моей армии: крепких метателей дротиков, лучников и превосходных наездников. Но стоило мне отправиться в обратный путь на родину по землям агриан, как гонец принес весть о восстании вождя племени трибаллов, который носил любимое мной имя, принадлежавшее другу моего детства Клиту. Клит вступил в союз с другим вождем по имени Главкий. Получив подкрепление от кланов, я подступил к цитадели Клита на македонской границе. Дрожащие туземцы говорили нам, что нас непременно побьют, так как Клит принес в жертву всемогущему богу трех мальчиков, трех девочек и трех черных баранов.
Наш первый же ложный выпад заставил гарнизон скрыться за стенами города. Прежде чем мы установили осадные орудия, мои лазутчики сообщили, что Главкий ведет на помощь своему союзнику сильное войско. Наперехват ему выехала моя тяжелая конница, но заблудилась в теснинах и чуть было не попала в ловушку, что явилось бы для нас неизмеримым бедствием. Я поспешил ей на выручку, собрав все силы, которые у меня были под рукой, — пестрое воинство из агрианских лучников и копейщиков и тысячи моих ветеранов, с которыми Главкию вряд ли бы захотелось вступить в бой. В тот день пехотинцы торжественно окрестили мою элитарную конницу «заблудшими овцами», но тем было не до обид — с таким рвением возносили они благодарственные молитвы Зевсу и Посейдону, богу коней, за то, что им чудом удалось спастись.
Три ночи спустя мы напали на неохраняемый лагерь Клита. Многие из его горцев, едва пробудившись от одного сна, навеки заснули другим, более глубоким. И теперь, подавив все открытые восстания, уж почти полгода не видя, как течет Аксий, мы собрались с силами для обратного похода в Македонию.
Тем временем за горами время и события не стояли на месте. В день похорон Филиппа пришло несомненное свидетельство смерти царя Персии Артаксеркса, хотя слухи об этом дошли до нас еще раньше. Он был убит убийцей своего отца, евнухом Багосом, который теперь посадил на трон одного из наследников царствующего дома Ахеменидов Кодомана. Последний взял себе имя Дарий III. Все сообщения говорили о том, что как личность и полководец это могущественный человек. Непосредственно под его начальством служил Мемнон из Родоса, прославленный военачальник, остановивший вторжение Пармениона в Малую Азию и гнавший его назад до Геллеспонта. Таково было положение дел в далекой Персии. А что же в мое долгое отсутствие происходило по соседству?
Об этом я узнал как раз вовремя. Грецию облетела молва, что я погиб в битве в Иллирии. В своем стремлении принять желаемое за действительность фиванцы и афиняне решили, что так оно и есть. Демосфен представил свидетеля, клявшегося, что он видел мой труп. Дарий III послал сотни талантов персидского золота, чтобы подкупить греческую верхушку и вооружить греческих солдат, которые должны были восстать против власти Македонии.
Они решили, что теперь, когда Филипп лежит в своей гробнице, а Александр стал добычей воронов на какой-то одинокой скале, все у них пройдет гладко. Повторялась старая история: элейцы изгнали моих сторонников, Афины превратились в военный лагерь. Фиванские изгнанники вернулись в родной город, что послужило еще одним доказательством моей смерти. На улицах стали убивать моих воинов, Кадмейскую цитадель окружили блокадным кольцом. Трезвые граждане, те, что настаивали на осторожности, подвергнулись избиениям. С караваном телег прибыло оружие, купленное на персидское золото. Поскольку Коринфский договор явно потерял силу, всенародно было объявлено об освобождении Фив из-под власти Македонии. Под звон колоколов отслужили благодарственный молебен и отпраздновали это событие пирами.
По всей Греции из Афин помчались гонцы, провозглашая вновь обретенную свободу. Войско из Аркадии вышло на воссоединение с афинским. Во всех отношениях государство, оформившееся при Филиппе и консолидировавшееся под Херонеей, разваливалось на части.
Я услышал эти новости, преследуя мятежных иллирийцев. Собрав все свои полки, я повернул на юг — к общей радости солдат, хотя они еще не знали, куда мы идем. «Дело пахнет жареным», — поговаривали они; и эта старая поговорка очень хорошо подходила к данному случаю, когда я приказал им пройти форсированным маршем долину реки Галиакмон. На седьмой день пути мы достигли северной Фессалии, а на восьмой вышли на равнину. На следующий день мы прошли Фермопилы и вступили в Беотию. Весь поход занял у нас тринадцать дней, причем последние сто двадцать стадий мы отшагали за шесть дней. Мы догоняли и обгоняли беженцев из северных городов, видевших, как мы проходили мимо. Мы были в Амфиссе, что рядом с Фивами, прежде, чем там узнали о нашем приближении.
Фиванские власти отказались этому верить. Некоторые считали, что карательным войском командует старый Антипатр или же Александр из Линкестии. Разбив лагерь у южных ворот Фив, я облачился в свои белые доспехи и проехался на Букефале перед толпой вытаращивших на меня глаза зрителей. Все сомнения отпали. Доказательством тому служили войсковые ополчения из близлежащих полисов, которые питали ненависть к Фивам и спешили, надеясь поживиться добычей. Я дал фиванцам срок одуматься и сложить оружие без ущерба для своей чести. Вместо этого они выслали всадников, чтобы пощекотать мои передовые посты — но их быстро рассеяли. На следующий день я перенес лагерь поближе к цитадели и стал выжидать, надеясь снискать себе славу терпеливого и миролюбивого человека, хотя, по правде говоря, мне не терпелось услышать звон оружия.
В ответ на мое требование открыть ворота и выдать главарей восстания я получил от этих же главарей наглое письмо с требованием выдать им Антипатра и командира Кадмейского отряда. Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, явился герольд на городской стене, призывавший всю Грецию сплотиться вокруг Фив и с помощью персидского царя уничтожить узурпатора, грабителя и тирана почище собственного отца, Филиппа.
Мой старый товарищ Пердикка, несший охрану лагеря и стоявший со своим отрядом впереди него, ударил первым. Историки будут полагать, что сделал он это, не дожидаясь моего приказа, — эта шутка чрезвычайно потешала моего веселого друга. Он кинулся на частокол, разметал его, и тут же вслед за ним повел свой отряд Птолемей, еще один «ослушавшийся» воли своего миролюбивого полководца начальник. Тогда фиванцы подтянули к месту прорыва все свои силы и выбили вторгшегося противника, который понес потери. Как я и предполагал, фиванцы сели отступающим на хвост, и когда большое их войско оказалось за воротами, моя фаланга, как ни странно, уже выстроенная и готовая к бою, нанесла им сокрушительный удар. Они бросились в беспорядочное бегство, преследуемые по пятам моими всадниками, и не успели закрыть ворота, которые тут же оказались в наших руках. Сквозь них основные мои силы ворвались в город, и к ним присоединился сделавший вылазку гарнизон — солдаты его так и кипели от ярости. Фиванцы попробовали было в последний раз закрепиться на площади народных собраний, но бесполезно — их смела моя фаланга, и сражение окончилось скверно: вражеские солдаты убегали и прятались в узких улицах и переулках, забегали в дома и магазины, забивались в углы, где их находила холодная сталь и, не зная жалости, убивала и убивала.
Около шести тысяч погибло в тот день, а наказание не свершилось еще и наполовину. По моему приказанию весь город, за исключением святынь и дома поэта Пиндара, был срыт до основания. С какой радостью принимали участие в избиении фиванцев жители близлежащих полисов, давно уже стонавших под жестокой властью Фив. Осталось, однако, в живых тридцать тысяч; и все они, кроме нескольких сторонников Македонии, были поделены на партии и проданы в рабство на большом рынке в Коринфе.
Работорговцы жаловались, что такой избыток рабов привел к затовариванию невольничьего рынка. Это было единственное недовольство, которое возникло у них в связи с разрушением Фив. Вот какой мрачный конец постиг древний и величавый город, где родился мой предок Геракл. Против Фив ходила в бой Бессмертная Семерка в великой трагедии Эсхила. Когда-то ее правящим домом был великий Дом Кадма,
[184] откуда происходил терзаемый богами Эдип.
Воистину жестокая судьба постигла город, но невозможно было как-то иначе объединить Грецию под моим знаменем, не было иного урока, чтобы научить ее покорности, пока я буду топтать земли старого врага Эллады и всего эллинского мира — Персии.
И вот еще что: разве фиванцы не нарушили своей клятвы — клятвы верности мне, своему царю, Александру?
2
Весной года 22-го о. А. я повел свою армию из Пеллы на восток, по первому отрезку пути, протяженность которого знали только боги, да еще могли предсказать мне мои смутные и невероятные мечты. Я знал, куда хочу идти: сначала до Геллеспонта, а там все дальше и дальше по не отмеченным на карте просторам Персидской империи, совершая по пути завоевания, и вторгнуться в Индию, чтобы отдать дань уважения шаху. От Океанского моря, я полагал, она будет всего лишь в нескольких днях пути.
О таком мероприятии до меня еще не помышлял ни один завоеватель. Геродот, опубликовавший свое великое произведение за сто одиннадцать лет до моего рождения, ни о чем равном этому не упоминал. Когда я обратился с этим вопросом к Шаламаресу, дяде Роксаны, он сказал, что ничего не знает о таких завоеваниях, хотя сам склонен верить в тот морской путь, на который ссылался Геродот. Если это факт, а не вымысел, путь был пройден за триста пятьдесят лет до моего рождения и был протяженней предполагаемого мной пути, хотя и имел целью исследования, а не завоевания.
Согласно этой ссылке, смелые купцы из Тира и Сидона оснастили флот на Красном море и, обогнув Африку, вернулись путем Геркулесовых Столпов. Вполне возможно, что мореплаватели дошли до Индии. Храбрецы, несомненно, побывали на Оловянных Островах
[185] и на Азорских, исследовали север и часть западного побережья Африки и берега Аравии. Большинству греков наша колония в Массилии
[186] представлялась почти концом света.
Я осмотрел собранный мной в Амфиополе флот и двинулся дальше, к Сесту, где предполагал переправиться через Геллеспонт и вторгнуться в персидские владения. Здесь в туманном прошлом Ксеркс переправлялся на связке судов, влюбленный Леандр переплывал к жрице Геро, чтобы поухаживать за ней. Туда же прибыл и мой флот. Персидского флота, слава всевышним богам, там еще не было, и только боги знали почему, ибо с этого места было бы естественней всего прервать наше вторжение еще до того, как оно началось. Должно быть, командующий персидским флотом только что купил себе такую прекрасную и обольстительную наложницу, что никак не мог оторваться от ее ложа.
Мои разведчики разыскивали вражеские суда, но безрезультатно. Я нашел время и совершил краткое паломничество к месту высадки греческих сил в войне против Трои. На полпути через Геллеспонт я принес жертву богам моря Посейдону, Фетиде, которая была матерью Ахилла, Протею и остальным. На берегу я поставил алтари Зевсу, покровителю высадок, и Афине Палладе, а также возложил венки на могилы павших на войне великих эллинов и троянцев. В небольшом храме на месте Трои я умилостивил душу павшего здесь Приама, оставил почетный дар и унес оттуда щит, желая, чтобы его во всех сражениях носили перед моим войском. Сюда же прибыл Харес, командующий афинян при Херонее. Он раскаялся в своем отпадении от меня и был прощен.
Теперь мои войска были готовы выступить в поход. Разведуя местность, мы направились в Зелею, находящуюся менее чем в четырех днях пути, где стояла лагерем персидская армия. Приняв, почти на бегу, послов из приморских городов, мы выслали вперед разведку и отряд легковооруженных всадников, следовавших за нашими главными силами вне поля их видимости. Наши быстрые «бегуны» обнаружили персидскую армию на противоположном берегу небольшой реки Граник. Когда я смог хорошенько разглядеть противника, то ничего особенного, с нашей точки зрения, не заметил, если не считать того, что командовал ею великий военачальник — Мемнон Родосец. С точки зрения же персов, все было не так как надо.
Внедренные мною в персидские ряды лазутчики сообщили, что место выбрано, вопреки упорному сопротивлению Мемнона, по воле сатрапов, высших представителей администрации, назначаемых царем. Мемнон предлагал отступать по выжженной земле, пока мы не окажемся в глубине Персии, а затем нанести нам удар с такой позиции, которая бы обеспечила им победу. Словно глубоко возмущенный тем, что отвергли его совет, он позволил сатрапам развернуть свою армию самым невыгодным образом, недостойным такого способного полководца. Когда я впервые четко разглядел их позиции, то едва поверил своим глазам. Персидская конница стояла так близко к крутому берегу, что просто не могла совершить броска; а его эллинские наемники, отменные воины, были слишком удалены, чтобы препятствовать нашему наступлению.
И все же этот старый перестраховщик и трещотка Парменион стал меня уговаривать оставаться лагерем на этом берегу реки и дать отдохнуть солдатам до рассвета! Да ведь задолго до этой поры какому-нибудь простому начальнику конного отряда станет заметна невероятная глупость позиции персов, и он сделает все возможное, чтобы голос его услышал один из высокопоставленных сатрапов; войско перестроят, и мы потеряем великолепный шанс. Парменион еще говорил, а я уже приказал армии строиться в боевые порядки. Выбрав атаку строем наискосок, так хорошо послужившим Филиппу, я занял свое место перед правым крылом, с тем чтобы персы могли ожидать, что наш главный удар придется на их левое крыло. Они, как послушные дети, стали именно там концентрировать свои силы, а когда увидели Аминту, возглавлявшего легкую конницу, отряд тяжеловооруженных пехотинцев и одно подразделение фаланги, смещение сил влево стало еще интенсивней, отчего центр становился слабее. Все шло хорошо. Мои горнисты протрубили сигнал атаки, и я со своими гетайрами ринулся в реку, держа строй наискосок к течению.
С некоторым трудом переправившись через реку и после небольшого замешательства на крутом берегу, мы ударили в полную силу. Персы тем временем сдерживали свою конницу, ограничиваясь метанием дротиков.
Внезапно я оказался в разгаре рукопашной схватки с обломком копья в руке. Один из друзей отдал мне свое — сломалось и оно. Мне в руку сунули третье. Я выбрал себе особую цель — зятя Дария, Митридата,
[187] и этот храбрец, поскакав мне навстречу, получил удар копьем в лицо, который сбросил его на землю. Тут на мой шлем обрушился сильный удар кривой саблей. Казалось, у меня разошлись кости. Но прочный металл выдержал, отлетел только большой осколок, и я поразил нападавшего в грудь. Но вот и еще одна из этих страшных кривых сабель занеслась над моей головой. Я увидел ее слишком поздно, чтобы спастись от смертельного удара. Но не столь медлительным оказался взгляд моего друга Клита. Он на мгновение опередил знатного перса и одним махом отсек ему от самого плеча руку вместе с саблей.
Я приказал Букефалу встать на колени. Пока я приводил в порядок сбрую, в голове у меня прояснилось, мои мысли и чувства вернулись в прежнюю колею. Снова поднялись в атаку мои верные гетайры, чьи сердца бились в унисон с моим, и, размахивая смертоносными копьями, мы со всей силой врезались в гущу персов. Старый Парменион, который в разгаре битвы совсем не принимался в расчет, переправился через реку с подкреплением из фессалийских всадников и отразил опасную атаку противника. Теперь центр персов оказался под мощным давлением. Он уже понес серьезные потери от длинных копий фаланги и теперь стал ломаться под ударами наших пик и коротких копий тяжелой пехоты. В рядах персов началось бегство; они напоминали уток, бросающихся врассыпную, когда на них сверху падает сокол. Из всего персидского войска оставалось справиться только с эллинскими наемниками, опытными воинами, которых царь кормил и щедро осыпал своим золотом.
Иногда вспышка раздражения одного-единственного высокопоставленного человека может изменить ход истории. Сдавалось мне, что какой-то приближенный к царю советник так разгневался, когда Мемнон настаивал на том, чтобы завлечь нас в Персию, чтобы в конце концов свернуть нам шею, а заодно и на его презрительное отношение к плану развертывания войск Дария, что приказал арестовать этого талантливого военачальника или нарочно препятствовал его приготовлениям и исполнению всех его распоряжений. Как бы там ни было, лучший корпус персидской армии еще не вступал в сражение, не обагрил своих мечей и копий и не пострадал ни от одной раны. Они стояли в ровном строю, как топчущиеся на отмели утки, которые видят, как носится над ними коршун, пронзительно свистя и готовясь напасть.
Видимо, им приказали стоять до тех пор, пока нас не разгромят или не возьмут в окружение, а там навалиться и нанести смертельный удар. Может быть, эта важная персона пожелала, чтобы честь разбить нас и поставить на колени осталась за персами, а их непосредственный командующий не осмелился ослушаться приказов своего начальника — возможно даже, самого брата царя. И вот, видя, как смыкаются наши войска, с развевающимися знаменами, сохраняя образцовый порядок, греческому военачальнику захотелось отдать приказ — но какой? Ни один из них не имел бы смысла для этих греков-перебежчиков, кроме одного: умереть, как подобает эллинам.
Наша конница ударила им в лоб, наша фаланга — сбоку. Ни одна армия на земле не могла бы выдержать такого натиска, и это великолепное войско из пятнадцати тысяч солдат было сразу же разбито наголову. Уцелело только две тысячи пленных — те, кто неминуемой смерти предпочел цепи. Среди груды мертвых тел я увидел человека, который пошевелился, искоса понаблюдал за другим, не похожим на мертвеца; но, когда я взглянул на него в упор, глаза его были полузакрыты и казались остекленевшими. Я не стал вытаскивать этих двоих, чтобы отправить их на тот свет, как не стал выискивать и других, прячущихся среди погибших. Каждый из них расплатился позорной ценой за свою жизнь, и я решил: пусть живут.
Среди убитых мы не нашли брата Дария; а его ближайшим родственником был убитый мною Митридат — его зять. В одной из жутких груд лежал внук Артаксеркса и двоюродный брат Дария, а также его шурин, сатрап Лидии и Ионии и предводитель наемников. Но самого опасного из них, Мемнона, нигде не было видно. Возможно, он ушел в отставку и уехал из страны, когда отвергли его добрый совет.
Я потерял только двадцать пять своих товарищей: статуи их я приказал поставить в святилище в Македонии. Жены и дети всех остальных погибших солдат моего войска были освобождены от налогов. Несмотря на эти и другие благородные жесты, я все же с тревогой задался вопросом: если Ахурамазда, как я когда-то думал, действительно является Зевсом, но под другим именем, доволен ли он этими знаками искупления вины.
С поля сражения наше войско двинулось в древний город Сарды, принимая присягу верности лежащих на пути городов. В Сардах мы наполнили сокровищами наши пустые сундуки и проследовали в Эфес, где в ночь моего рождения сгорел храм Артемиды. Здесь я надеялся схватить Мемнона, но он успел ускользнуть. Мне пришлось ввести в городе военное положение, так как народ стал заниматься убийствами и грабежом своих бывших хозяев. Когда я предложил отстроить святилище заново, один старый циничный эфесянин, который жизнь свою и в грош не ставил, заметил: не подобает одному богу возводить храм для другого. Совершенно очевидно, против кого был направлен его сарказм, но у меня были связаны руки, поэтому я ответил ему спокойно и вежливо и отвернулся.
Не знаю, что меня толкнуло на это, но я устроил большой военный парад в честь Артемиды, которая в сознании персов имеет удивительное сходство с богиней Иштар.
Крупный город Милет выслал послов, обещая сдаться, но, получив известие о том, что к нему на выручку идет персидский флот, отрекся от этого обещания. Я не боялся наспех сколоченных армий, но бывший где-то поблизости персидский флот внушал мне полное уважение, поэтому я поспешил захватить гавань.
Наконец мы узнали, что вражеский флот стоит на якоре у острова Самос. Парменион — что было восхитительным исключением из привычных правил — высказался за то, чтобы немедленно напасть на него, тогда как я предпочел захватить его береговые базы, без которых флот был бы скован. Сначала нужно было разрушить прочные стены Милета. Мы подтянули наши осадные орудия и приступили к делу. За несколько дней мы проделали в них зияющие дыры, после чего на улицах и дворах завязались упорные кровавые сражения, и хотя многим удалось спастись вплавь или на плетеных щитах, как плотах, множество храбрецов погибло и было похоронено в безвестных могилах или стало добычей акул. Теряя время и людей, я предложил щедрые условия сдачи, которые были приняты. Тем временем я подумывал о расформировании своего собственного флота, поскольку на его содержание требовалось так много средств, а вся история побед Македонии писалась на суше.
Многие города сдались, но вскоре на пути у нас возникли прочные стены Галикарнасса — их защищал сам Мемнон. Печально закончилась вылазка против Минда, города, расположенного в семи милях от Галикарнасса в глубь полуострова, но стены самой столицы начали рушиться под ударами таранов и крупных камней наших катапульт и других осадных машин. Понимая, что скоро конец, Мемнон приказал уничтожить город огнем, а сам со своими сильно потрепанными силами укрылся в двух цитаделях. Когда мы почти потушили пожар, я, хоть и добивался пленения Мемнона, на удивление ему и себе тоже решил: пусть он сидит себе на своем бесполезном насесте над разбитым, выжженным, бесполезным городом.
После этого я вернулся в город Траллы в долине реки Меандр, который взбунтовался против меня, и сровнял его с землей, изгнав из него население или продав его в рабство. Я совершил эту жестокость без угрызений совести, теперь уже сообразив, что тактика примирения никогда не достигнет своих целей — их достижение куда труднее, чем мне это представлялось вначале, куда удаленней во времени и пространстве.
Первый год моего похода приближался к концу. Мы захватили по меньшей мере пятьдесят городов — часть из них сдались без боя. Я добился всего, о чем раньше мечтал Филипп, — и даже большего: освободил из-под власти персов все греческие города, которые стали членами Лиги. К западу от Киликии персидскому флоту стало уже затруднительно предпринимать военные операции, и теперь я мог приступить к завоеванию Армении. А пока я послал Пармениона через Фригию на подчинение непокорных областей Малой Азии, договорившись встретиться с ним в Гордии — городе важного стратегического значения, там, где находился известный во всем мире Гордиев узел. Для этого мне пришлось бы уклониться со своего идущего вдоль моря пути далеко на север, и я намерен был это сделать в том месте, где горный хребет Тавр выступает над морем, и здесь установить восточную границу моих владений.
Я сказал «моих владений», а не греческих, и тут я не оговорился и не допустил перекоса в мыслях. Я только что вступил в Персию, и моему сознанию пришлось расти вместе с расширяющимся видом на эту страну.
Великолепная дорога царя царей с почтовыми станциями, отстоящими друг от друга на сто шестьдесят стадий, проходила мимо Гордии, а оттуда за шесть дней марша по ней можно было попасть в Византию на берегу Пропонтиды.
[188] Говорили, что в восточном направлении дорога имеет фантастическую протяженность в двадцать две тысячи стадий. Маленькая Греция просто затерялась бы в таких обширных пространствах; ее армиям никогда бы не осилить такой дали — если только это не армии завоевателя мирового масштаба, целиком подчиненные одной лишь его воле, продиктованной ему богами.
Это мало меня тревожило. Моей теперешней заботой был Сагалас, с крыш которого мы слышали бросаемые нам страшные угрозы. Чтобы взять этот незаметный городишко, все-таки понадобилось подвести осадные орудия и выдержать жаркое сражение.
Холодной зимой я двинулся на север, все еще идя берегом моря, и на этом пути занял обширную царскую область, Ликию. Солдаты срочно нуждались в отдыхе, поэтому мы повернули назад и дошли до Фигелид. И здесь ожили прежние слухи: они появились с письмом от Пармениона, где сообщалось, что третий царский отпрыск Линкестии, тот, которого я пощадил, под начальством которого находилась моя фракийская конница, тайно замышляет меня убить. Доказательств его вины было еще недостаточно, чтобы приговорить его к казни. Я отправил к Пармениону своего человека, который должен был на словах передать ему мой приказ, чтобы этого стратега, моего тезку, арестовали и взяли под стражу.
Это могла быть простая случайность, думал я, но моей охране следует строже относиться к подобным случайностям, а мне самому быть не столь доверчивым и управлять безжалостной рукой. За доказательство моей смерти заплатили бы столько золотых талантов, что жадности не хватило бы, чтобы представить в своем воображении. Никому не известный человек мог бы одним махом стать сатрапом царя, зажить во дворце с гаремом, полным прекрасных персиянок, с придворными, простирающимися у его ног. Поистине роскошным призом было то, что я носил на своих плечах под своей якобы львиной гривой.
Под горой с трудно произносимым названием Тахтали-Даг, где море омывало утесы, узкая полоса отмели была проходима, только когда сильный ветер с севера отгонял бурное море. Так случилось, что именно сейчас необходимо было нанести смелый удар. Слух о заговоре просочился в войска, а восточные ветры принесли вести куда посерьезней — о том, что со всей Персии стекаются добровольцы, чтобы в будущем году создать огромнейшую в мировой истории армию в количестве тысячи тысяч солдат, что мне казалось невероятным. Но я все же не забывал об этом, как и мои военачальники, и у некоторых от испуга отвисали челюсти.
Вместо того чтобы повернуть в глубь материка, я решился на рискованный бросок через захлестываемый волнами проход под Тахтали-Даг. Если бы мне пришлось повернуть назад, это бы для меня было равносильно серьезному поражению, способствующему дальнейшему падению и без того уже низкого духа в стане моих соратников, находящихся далеко от возлюбленной Македонии. Но если бы я добился успеха, легенда о моей непобедимости всколыхнулась бы снова, захлестнув сердца мощным приливом веры, и тогда мои солдаты стойко встретили бы мощную армию Дария.
Приближаясь к этому суровому месту, я следил за ветром, обращая внимание на раскачивание верхушек горных сосен и наносимые на суживающийся берег массы жалящего лицо песка. Прямо с юга дул сильнейший штормовой ветер. Бешено мчались кони Посейдона, не облегчая, а затрудняя мою задачу. Накануне вечером я допустил глупость, приказав войскам становиться лагерем после часового похода, и теперь, спустя два часа после восхода солнца, я не мог допустить разбивки лагеря ни под каким предлогом, ибо солдаты сразу же догадаются о моем намерении дождаться более приятной погоды, чтобы преодолеть этот проход. У меня таилась слабая надежда, что ветер ненадолго изменит направление на западное и задует сильными порывами.
Лучшим пловцом в нашей армии считался невзрачный на вид пехотинец Солон, который уже не раз демонстрировал свою доблесть в наших переправах через реки. Его давно уважали за ум, но мне казалось, что сегодня в этом разбушевавшемся прибое может рискнуть своими костями только глупец. Чем дольше я наблюдал, тем безнадежней представлялось мне задуманное дело. Высокие волны разбивались о подножья отвесных скал — а это был твердый камень, а не земля, которую мы срывали, чтобы обойти гору Осса. Однако я все же вызвал к себе Солона, приказав тем временем собирать лес, прибитый к берегу, и разводить костры, без которых нельзя было отправлять людей принимать холодный душ.
Наконец прибыл Солон — небольшого роста, но жилистый. Он прямо, по-мужски, взглянул мне в глаза, затем обвел внимательным и хладнокровным взглядом пенящиеся отмели.
— Думаешь, переправишься? — спросил я.
— Царь, я родился на острове Эолия, как говорится, на родине ветров, но мальчишкой сколько я ни бродил, так и не нашел того места, где они родились. Но все равно мы с ветром старые знакомые. У нас в телегах есть веревки для штурма вершин длиной в сто морских саженей. Может, царь Александр обратит внимание на ту длинную отмель в форме пастушьего крюка, которая выступает к нам навстречу шагов на сто?
— Да, вижу.
— А еще заметь то место, где берег резко поворачивает на юг, сразу же за скалами.
— Отлично различаю.
— Веревки легкие, но крепкие. Если три из них сцепить вместе, я могу переправить один конец со стрелки на тот берег. Конец будут держать шесть здоровых парней, а когда я буду вон там, пусть они прикрепят к ней канаты длиной в пятьдесят шагов — те, что мы используем в осадных орудиях. Их я буду перетаскивать в связке через воду, пока не получится надежного веревочного моста. Вода будет еще глубже, прибойные волны длинней и мощней, но веревки, если их натянуть, не дадут людям ударяться о скалы. Теперь я знаю, как переправить и телеги.
— Они могут подождать северного ветра. Теперь командуй — ты начальник.
Дело быстро двигалось вперед. Через час наши веревки и канаты были собраны в бухты на краю стрелки, и Солон, голый, как только что вылупившийся птенец, бросился в прибой, держа в руке конец небольшой веревки. Он плыл, странно извиваясь телом, делая медленные круговые движения руками, по-лягушачьи отталкиваясь ногами и почти все время держа голову под водой; но всегда, когда нам, лихорадочно следящим за ним, казалось, что его навсегда захлестнуло волной или что какое-то морское чудовище схватило его своими щупальцами, голова его по-тюленьи вырывалась на поверхность, и мы ликовали. Чтобы удержать веревку, людям приходилось тянуть изо всей силы — с такой яростью мчались гонимые ветром волны.
Наконец мы увидели, как он вышел на сушу, сверкая белизной, на несколько защищенной от ветра береговой полосе, загибающейся в сторону моря. Здесь он прикрепил веревку к большому камню, а с нашей стороны к концу ее прицепили канаты. Теперь ему понадобилась вся сила жилистого тела, чтобы перетянуть к себе связку канатов, а затем прочно их закрепить. Я вызвался первым последовать за ним, но мое намерение было встречено общим недоброжелательством.
— Умоляю, не делай этого, — взмолился мне на ухо горбоносый Птолемей. — Если ты утонешь или тебя сожрет рыба-дьявол, солдаты взбунтуются и уйдут домой. Пусть первым пойдет отряд моих всадников с упряжью на спине, без лошадей, а за ним уж и ты. И на той стороне прикажи трубачу дать сигнал сбора. Тогда Букефал бросится в воду, а за ним наверняка и все другие кони. Без груза они удержатся на тропе Солона, только несколько ослабевших разобьются об утесы — ведь лошади плавают получше самих рыб.
Пока, цепляясь за канат, переправлялись эти великолепные всадники, выкрикивая непристойные шутки каждый раз, когда у них во рту не было соленой воды, я следил за волнами. Мне казалось, что сила их, пусть и невыносимо медленно, но убывает, а ветер, хоть и ужасно лениво, но смещается к югу. Мне представилась картина спора между Эолом, богом ветров, и Посейдоном, богом моря, насчет того, кто чьи права ущемляет. Эол приказал ветру дуть в южную сторону, а Посейдон распорядился иначе; последний же — брат Зевса, а у Эола нет такого могущественного родственника. Поэтому я решил пока что не следовать за людьми, а подождать, чем кончится этот спор.
Он кончился с поразительной неожиданностью. Все ветры улетучились, слышались только ослабевшие удары затихающего прибоя о скалы. И вот на севере зародился ветер-ребенок, он рос быстрее, чем легендарный Гермес — тот вор от рождения, который сбежал на второй день жизни, угнав скот Аполлона; и прежде чем мы это осознали, появился легкий бриз, который быстро крепчал и стал настоящим ветром, задувшим вдруг с такой силой, что птицы на голых скалах не удержались и взлетели, кружась в беспорядочном полете. Чувствуя покалывание в спине, я в сопровождении Клита покинул край стрелки и направился к главному берегу.
Под ударами Борея
[189] по гребням волн море стало отступать от скал, и люди, несомненно, видели в этом чудо, ниспосланное свыше. И я решил воспользоваться этим и пройти по узкому проходу под скалами. Я свистнул Букефала, и он примчался, ведя за собой всех остальных лошадей. Конечно, нам не удалось переправиться так, чтобы совсем не намокнуть. Еще оставались мелкие заводи, по которым пришлось шагать, поднимая фонтаны брызг, а в одном месте воды было по пояс. Букефал, как его тому учили, приближаясь ко мне, замедлил шаг, а за ним и другие лошади, потому что проход был узким. За нами тянулись и скрипели телеги и осадные машины.
Скопившись на открытом берегу и на склоне холма, солдаты разразились мощными криками ликования. И теперь, уже слишком поздно, меня поразила неожиданная мысль: ведь я бы мог проехать по этому проходу на Букефале во всей своей царской славе. Еще одно небесное знамение, подумалось мне, заключается в том, что я к своей конечной цели не ехал верхом на своем могучем жеребце, а значит, это можно бы истолковать так: он умрет от болезни либо погибнет на поле брани молодым, и довольно скоро. Но можно было истолковать и иначе — что эта цель чудовищно далека.
Когда я вызвал к себе Солона, крики прекратились: всем хотелось услышать, что я ему скажу. Он отдал мне воинский салют, я ответил тем же.
— Твоей матери следовало бы назвать тебя не Солоном — Почитателем древних книг, а Посейдоном.
— С твоего позволения, царь, — отвечал он, — я не бог морей и никакой другой. Я хороший пловец — только и всего.
И это тоже, не знаю почему, заставило меня задуматься.
3
В Перге меня встретили полномочные послы из Аспенда с предложением сдать мне город, но на определенных условиях. Я согласился и пошел на Силлий. Но когда я готовился взять его штурмом, пришло сообщение, что аспендийцы отреклись от нашего договора, и я вернулся, чтобы проучить их. Когда мы окружили их цитадель, они, пораскинув своими ветреными умишками, запросили мира на прежних условиях. Понимая, что предстоит длительная осада этой мощной крепости, и не желая тратить времени даром, я согласился, но условия выдвинул более жесткие. Неприступные Келены угрожали втянуть нас в жаркую схватку, но мне на радость сдались без единой стрелы, пущенной с зубчатых стен. После десятидневного отдыха мы за шесть дней пути дошли до знаменитого Гордия.
Здесь, в храме Зевса, давно уже стояла повозка крестьянина Мидаса, которого сделало царем предсказание оракула. Веревка из лыка дикой вишни, которая связывала ярмо с дышлом, была завязана в огромный узел, концы которого были спрятаны где-то в нем самом. Согласно народному поверью, завязал его сам Зевс, приняв облик тележного мастера, а тот, кто его развяжет, будет владеть всей Азией.
Я внимательно осмотрел узел, но убедился только, что сплетен он хитрее, чем те мережи, которые мы мальчишками ставили на щуку, судака и угря, наживив их лягушками и прочей мелюзгой, на озере Бортур или на нашей вялотекущей речке. С другой стороны, я не мог уйти из храма, не найдя какого-нибудь решения этой загадки.
Я сразу же вспомнил про свой меч. Он был длинным и тяжелым, и один из моих рабов заботился о том, чтобы он с обеих сторон оставался острым как бритва. Этот раб когда-то ковал кривые персидские сабли, и мой меч был предметом его гордости, а для меня большим подспорьем в сражениях, где зачастую тупой меч пускал лишь кровь, не выводя противника из строя, тогда как прекрасно заточенное лезвие сразу же рассекало и мышцы, и ткань, и артерию. Внезапное, непреодолимое желание вызвало во мне радость, и жар бросился мне в лицо. Я вытащил меч и со всей силой обрушил его на узел. Он ровненько, как дыня, раскололся на две части, и ярмо упало на пол.
Жреца храма, надо полагать, подрасстроило столь своевольное решение головоломки с развязыванием узла, который стал уже почитаться священным и привлекал в святилище множество посетителей, оживлявших приятным звоном монет ящик для сбора пожертвований. Однако он не осмелился высказать мне недовольство, а только набожно воздел руки к небесам. Мои же спутники, свидетели этой сцены, не теряли времени даром: они живо пересказали все солдатам, чем сильно их позабавили.
Из почтения к сатрапу провинции я принял приглашение погостить у него во дворце, вместо того чтобы жить рядом со своими солдатами в своей просторной палатке, обогреваемой снаружи жаровнями. Его гостеприимство насторожило моих слуг, и они стали более внимательны к тому, что я собирался есть или пить, а также к моей постели. Известно, что в такие постели, в поисках тепла в прохладные ночи, заползали василиски и аспиды. А еще я слышал, что иногда в Египте простыни посыпали настолько мелким порошком, что он вызывал лишь слабый зуд, едва заметный во время глубокого сна, но, если почесаться, наступало заражение крови, кожа чернела, и человек умирал.
В этой постели во время последней поездки по своей империи спал царь Артаксеркс; здесь же возлежал и его кратковременный преемник Арсес. Но я все же приказал убрать ее, объяснив сатрапу, что из суеверия не сплю на чужих постелях. Он отлично понимал, в чем корень этого суеверия — в трезвой осторожности.
Палаты были поистине великолепны. В афинских дворцах я не встречал таких изящных вещей — наверное, их привезли с далекого Востока. Воздух пропитался сильным запахом ладана. Даже вода в ванной была насыщена ароматами. Хорошо еще, что меня не видели и не чуяли носом мои лишенные лоска друзья детства: из них всех один только Гефестион научился не давать воли своему языку. Впрочем, ему и не нужно было заботиться о своем языке — ведь он один знал, что причитается царю, покорившему обширную Малую Азию. Справедливости ради надо сказать, что и прочие мои друзья перед посторонними выказывали мне подчеркнутые знаки уважения.
Пока я дожидался позднего ужина, будучи в компании одного лишь Клита, взволнованный слуга сатрапа попросил разрешения поговорить со мной.
— Великий царь! — обратился он ко мне. — Пришла посетительница, которая ищет встречи с тобой. Она сказала, что если я прогоню ее, не сообщив о ней тебе, то ты, когда узнаешь об этом, непременно прикажешь меня распять.
— Эта женщина назвала свое имя?
— Не женщина, а почти ребенок. Ей лет четырнадцать. Когда я осведомился о ее имени, она сказала, что имя ее Кифера — а потом рассмеялась мне в лицо.
Киферой в древности звали Афродиту, богиню любви. Что ж, возможно, таково и было ее первоначальное имя, ведь она родилась на острове Кифера, далеко на юге, когда там жили финикийцы. Аристотель склонялся к тому, что она являлась семитской богиней, возможно, идентичной Иштар, прежде чем Греция присвоила ее себе.
— В каком она одеянии — богатом или бедном? — поинтересовался я.
— В очень богатом, мой царь. И на лице ее прозрачная чадра, которая не скрывает ее красоты.
— Пустил ли ты ее в переднюю?
— Да, мой царь. Но она желает пройти в твои покои.
— Клит, ступай со слугой, поговори с девицей. Если мы раньше были знакомы и ты уверишься, что вреда от нее не будет, то допусти ее ко мне.
Клит отсутствовал совсем недолго. Он впустил кого-то в дверь, но сам не вошел, а тихо прикрыл ее за
собой. Я взглянул на приближающуюся ко мне девушку и сразу же понял, что не ошибся в своем предположении. Она сняла чадру и опустилась на одно колено.
— Как поживаешь, Таис? — спросил я хорошо управляемым голосом. — Сейчас зима, и просто чудо, что ты не отморозила свой хорошенький носик. Ну-ка вставай.
— Было бы глупо спрашивать, как поживаешь ты, царь Александр, — отвечала она. — Где бы мне ни меняли лошадей, везде только и разговоров что о тебе. Рада видеть, мой господин, что ни дороги, ни войны на тебе не отразились. Ты выглядишь все таким же, как тогда в Афинах, когда ты был еще просто царевич и мы вместе пили вино — из разных чаш.
— Если память мне не изменяет, мы не только пили вино.
— Я тоже смутно припоминаю, что между нами было что-то еще, какая-то незначительная случайность. Разумеется, если бы ты был царем…
— И было это, кажется, в постели.
— Клянусь всемогущим Зевсом, именно так все и было!
— Ну а теперь, когда я царь, разве тебе подобает шутить со мной?
— А что же, царь, мне остается делать еще? Я просто не знаю, как мне спрятать свой страх и маленький позор, которых я стыжусь.
Вместо ответа я внимательно посмотрел на нее. Она сидела совсем неподвижно, не глядя прямо мне в глаза, но держа голову высоко. Теперь откинутый назад меховой воротник не скрывал уже ее прекрасной шеи. Эта поза и впрямь наилучшим образом выявляла ее красоту. Если Апеллес написал с нее портрет, он изобразил ее именно такой.
— Писал тебя Апеллес? — поинтересовался я.
— Да. И двух недель не прошло, стоило тебе предположить, что он может это сделать.
— Что стало с картиной?
— Он нанял меня натурщицей и оставил картину у себя. Сказал, что не расстанется с ней даже за пять талантов золота.
— Если увидишь его снова, скажи ему, пожалуйста, что я дам шесть талантов. Не думаю, что он откажется.
— Может и отказаться. Великие художники — цари в собственных владениях. Но он с радостью сделает тебе копию.
— За копию я заплачу один талант — она вряд ли сможет сравниться с оригиналом. Он ведь писал и меня. Некоторые из эллинских царей захотели получить копии с моего портрета: не потому, что жаждали лицезреть мое изображение, а скорее затем, чтобы проткнуть его ножом — ведь до моей спины им было не добраться. Впрочем, своим заказом они хотели польстить Александру, верховному повелителю Греции. И должен сказать, ни одна картина не могла сравниться с первой.
— Может, я никогда больше не встречусь с Апеллесом, ну а если и встречусь, то это будет не очень-то скоро. Но я непременно скажу ему о твоем желании. Значит, либо шесть талантов, либо один. По-моему, ты все же получишь оригинал. А если к тому же он тебе понравится, ты будешь очень доволен.
Она замолчала и, почувствовав на себе мой заинтересованный взгляд, постаралась принять прежнюю позу. С того самого вечера, когда она впервые вышла в свет, ее красота ничуть не потускнела; она все еще казалась девственницей, и неудивительно, что слуга ошибся в определении ее возраста. В ее красоте была какая-то неопределенность: она была сильней, чем у Роксаны, но не такой яркой. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы определить, какого цвета у нее глаза. Их синева сгущалась так сильно, что напоминала свод небес холодной зимней ночью при совершенно полной луне в окружении света далеких звезд.
И вновь ощущение тайны коснулось моей души: ведь в этом женском обличье выражала себя какая-то основная первобытная сила. И имя Кифера, которым она назвалась сегодня, показалось мне выбранным ею очень удачно.
— А почему Кифера — ведь так мне сказал слуга? — Я старался говорить очень спокойно, чтобы не помешать ее настроению.
— Прошлой ночью я видела сон, будто я — это она. А в общем-то это всего лишь глупая фантазия — то, что я назвалась ее именем. Умоляю тебя, забудь.
— Ну нет, по-моему, не такая уж глупая фантазия. Для меня ты не Таис — это имя ничего мне не говорит — и не Афродита, в которой потом проявила себя финикийская богиня. Все великие божества выступают или же выступали во многих лицах. Кифера… Это имя подходит тебе как нельзя более, в ней я узнаю тебя.
— Мы знали друг друга до нашей встречи в Афинах?
— Не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Я тоже.
Теперь настала пора задать вопрос, который с самого начала казался таким очевидным. Я словно бы расспрашивал нимфу, которую встретил у горного ручья. Когда встречаешься с чудесами, лучше всего принимать их целиком на веру и не искать им объяснения. Однако другого выбора у меня не было.
— Не скажешь ли мне, где ты провела прошлую ночь?
— В хане, персидской гостинице на царской дороге, в тридцати пяти стадиях к западу отсюда.
— А что делает Кифера так далеко от родных Афин?
— На это я могла бы ответить по-разному. Первый ответ — потому что ты здесь — прозвучал бы самонадеянно: будто я смею надеяться видеть тебя снова после сегодняшнего вечера. Другой же — а это и есть мой ответ — потому что ты указал мне сюда дорогу. Как ты мне подсказал, так я и поступаю.
— Видимо, у меня сегодня не все в порядке с мыслями, ибо я не понимаю тебя.
— Разве не ты отказался от дара, что я предлагала тебе тогда: моего тела, красоты, любовной ночи?
— Да, так и было. Я не принял его, одарив тебя золотыми талантами.
— «Одарил» — не то слово, царь. Ты хотел сказать: «Заплатил». Разве это не могло напомнить мне о моей профессии? Если я иногда и чувствую себя Киферой, я все же Таис, афинская куртизанка.
— Однако…
— Есть ли для такой лучшее место, чем в обозе победоносной армии?
4
Ни того ответа, который я мог бы дать, ни того, который Таис хотела бы услышать, на ее вопрос не последовало. Она была профессиональной куртизанкой точно так же, как я — профессиональным воином. Если бы я взял ее к себе в любовницы, то нарушил бы принятое мною ранее решение. В отличие от многих молодых мужчин, я редко страдал от острых приступов эротического желания — видимо, потому, что был глубоко погружен в дела войны, с первых минут пробуждения на рассвете до того часа, когда я с наступлением темноты валился без задних ног на свой соломенный тюфяк и почти мгновенно засыпал.
Арес, греческий бог войны, известный римлянам как Марс, нередко, согласно нашей легенде, бывал супругом Афродиты. Но в этой легенде редко случалось, чтобы он спал с другими богинями, уж не говоря о смертных женщинах. Афродита, уже сочетавшаяся браком с хромым закопченным Гефестом, богом-кузнецом, не отличалась такой верностью. И по-моему, это было вполне естественно, поскольку единственное, чем она могла заниматься, это любовными утехами и их поощрением, отчего бывали хорошие хлеба и тяжелые виноградные лозы, словно их связывала с ней какая-то мистическая симпатия. Так что времени и сил у нее хватало, и в наших сказаниях полно историй ее любовных похождений. От своего единокровного брата Гермеса она родила Эроса, а имена обоих родителей составляют наше слово «гермафродит», означающее «двуполый человек». И ведь это Эроса обвиняли юные девицы в том, что у них распухли животы — по той причине, что он завлекал в укромные уголки не только девственных девушек, но и молодых обожателей.
Часто ее имя звучало рядом с именем Адонис. И он родился от кровосмесительного союза — союза отца и дочери, которых толкнула на это Афродита. Втихомолку поговаривали, что она пленила самого Зевса. Согласно «Илиаде», он неоднократно становился на ее сторону против ее сестры Афины Паллады с вечно суровым лицом.
В связи с этим кажется любопытным тот факт в жизни эллинов, что, считая инцест между смертными ниже своего достоинства, мы принимаем его без сомнения или оскорбления для себя, если дело касается наших богов и богинь. Аристотель говорил нам, что это атавистические следы бездумного начального периода нашей истории, когда кланы строго придерживались эндогамии, высшим выражением которой был брак между царями и их дочерьми, сыновьями царей и их сестрами с целью сохранения чистоты их божественной или царской крови. Даже в наши времена царские семьи греков не поднимали никакого шума по поводу браков между дядьями и их племянницами, тетками и их племянниками. Моя собственная сестра вышла замуж за брата моей матери.
С другой стороны, Абрут, еврей, смотрел на такие союзы с ужасом. И это несмотря на существующую в общем во всем его народе довольно строгую эндогамию. Всем, разумеется, известно, что египетские фараоны должны были жениться на своих сестрах. В племени, живущем недалеко от наших границ, существовал обычай, согласно которому первое половое сношение юноши должно было состояться с его матерью. Этот обряд в переводе на греческий язык назывался «блаженным возвращением в материнское лоно». Дочь же, по их мнению, должна посвящаться в тайну пола ее отцом. Это называлось «восстановлением семени».
Во всяком случае я намеревался поспорить в воздержании с богом войны и даже превзойти его в этом до той поры, пока не найду женщину древних царских кровей, которая вместе с этим обладала бы для меня неотразимой привлекательностью, достойной, чтобы стать матерью наследников империи.
Тем не менее я признавался самому себе в желании приласкать Таис и ощутить ее ответные ласки. Я снова в своем воображении рисовал ее себе раздетой, худенькой, но сложенной в совершенстве, ее прелестно сужающиеся ноги и руки, грудь, как у нимфы, маленькую плотную окружность талии. Все это превосходно венчалось красотой ее лица. С приятно разгорающимся возбуждением я припоминал наш восторг в пропитанной духами слабо освещенной царской горнице дворца Медия в Афинах. И тут, подобно холодному дождю с ветром в жаркий летний полдень, мне в голову пришла мысль о том долгом пути, пройденном ею после той ночи, о множестве прибывающих и убывающих лун. Я посвятил ее в женщины. Много с тех пор она занималась любовью, возможно, каждую ночь, зачастую в холодных мрачных спальнях гостиниц для путешественников (персы называли их ханами) — и с мужчинами неизвестно какого имени и звания, грубыми парнями-толстосумами. Кроме того, по рождению она была дочерью, и к тому же очень верной дочерью, Афин — по сути, извечного врага Македонии. А так как теперь, когда Фивы были стерты с лица земли, мы стояли на разных полюсах, Афины стали нашим единственным могущественным врагом в Греции. Откуда мне было знать, чью сторону примет Таис, мою или Афин, в последний час ожесточенной схватки между нами?
— Ну как, оправдала ли жизнь куртизанки твои ожидания? — поинтересовался я, стараясь говорить небрежным тоном.
Выражение ее лица изменилось, став тем же, что я видел тогда, когда просил принять ее, еще девственницу, золотой талант за ночное приключение со мной.
— Ты великий завоеватель, царь Александр, — ответила наконец она. — Я думала, что это естественно обязывает быть и корректным человеком. Но я ошибалась.
— Действительно ошибалась. Непонятно, как при твоем уме ты могла думать как ребенок. Если слово «корректность» является не более чем бессмысленным синонимом, означающим «мягкий, добрый человек». Как можно быть завоевателю мягким и добрым? Он живет грабежом и жестокостью. Но если ты хотела сказать, что он мог бы быть тактичным и внимательным к людям в общественных отношениях, то ты права, что осуждаешь меня. Снимаю свой вопрос.
— Подожди, с твоего царского позволения я желаю ответить на него. Прошло уже около четырех лет с тех пор, как мы сошлись с тобой в Афинах. Из них три я была куртизанкой с хорошим положением среди лиц моей профессии. Клиентов мне подбирала наша хозяйка, Лета. Это прежде всего были богатые люди — иначе они не платили бы полсотни золотых статеров, что вдвое больше цены высокосортного раба или красивой девушки-рабыни, хоть это и далеко до золотого таланта, который, как помнишь, ты мне тогда заплатил. Часто это были члены посольств в Афинах из других греческих полисов или иноземных государств, таких, как Рим, Карфаген и Египет. Был один вождь большого клана варваров, который обращался со мной, как ты говоришь, с большим тактом и вниманием. Был один высокий военачальник из твоей армии, очень уважаемый.
— Ради всех богов, скажи кто! Я требую, чтобы ты сказала!
— Не требуй, не скажу.
— Клянусь богами, я это узнаю!
— По какому праву, царь Александр? — Она говорила очень спокойно.
Кровь, ударившая мне в голову, отхлынула. Я не мог ответить на ее вопрос. Мне было стыдно, что я задал его.
— Возможно, по праву царя, в чьей власти я теперь нахожусь, — высказала она сама единственно возможный ответ на свой вопрос. — Применив пытки, ты мог бы заставить меня назвать его имя: мне ведь не хватит большой стойкости, чтобы вынести боль. Но тогда тебе потребуется калечить мое тело, а для тебя это зрелище будет не из легких, ведь ты его хорошо знаешь и сам говорил мне, что готов заплатить шесть золотых талантов, чтобы иметь его чудное подобие в исполнении Апеллеса.
— Сразу же после разрушения Фив у меня в Афинах было несколько представителей из военачальников и близких союзников. Среди них был Птолемей. Мне не хотелось посылать его — из-за тебя, но я поборол это чувство, так как считаю Птолемея способнейшим дипломатом из тех, кто подчиняется мне. Да, наверное, это Птолемей. Боги знают, что я не могу винить его, если он видел картину, где ты изображена как Геба, богиня юности. Я сглупил, прости.
— Даже высокие боги иногда снисходят до глупости, Александр, — сказала она, и при этом в ее лице и голосе было столько очарования. — Сам Аполлон дошел до этого, когда помогал своей сестре Артемиде убить детей Ниобы,
[190] и запятнал свое великое имя так, что никогда ему не очиститься.
— Наверняка среди твоих клиентов были поэты, художники, скульпторы.
— Что правда, то правда. Бывали и важные господа из Афин и других больших городов. Был один крупнейший математик — слишком старый, чтобы соединить свое тело с моим, но я целовала его почтенную голову и чудесные руки и слушала его рассуждения по тригонометрии, хотя и не понимала ни одного предложения. Спустя некоторое время меня потянуло на острова Эгейского моря — не могу объяснить почему. Сначала я посетила остров Кифера и отдала должное богине, которую теперь называют Афродитой, хотя для моей души она, как и прежде, Кифера. Оттуда я направилась на Мелос, где видела еще одну Афродиту с драпировкой, на ногах. Ее стан, грудь, лицо невообразимо прекрасны. Эта Афродита работы молодого ученика Скопаса; я забыла его имя, оно очень трудное. Родился он в Фивах, и Апеллес говорил, что проживи он подольше, он затмил бы славу своего учителя.
— Как он умер? — Я тут же пожалел о заданном вопросе, поняв, что Таис умышленно навела меня на это.
— Он родился в Фивах и пал в последнем бою фиванцев на агоре, когда они дерзнули восстать против Александра III из Македонии.
— Много молодых людей, обещающих быть великими, погибают в битвах, — ответил я после долгой паузы. — Ему бы следовало точить мрамор, а не бросаться с мечом на сторонников верховного владыки Греции.
Она раздумывала, тогда как из водяных часов уже вытекла половина воды. Я заметил, что задумчивость придает ей особую прелесть. Красота всегда была при ней, но она незаметно менялась в зависимости от ее мыслей. Я не заметил, чтобы мое резкое, властное замечание вызвало в ее лице какое-либо возмущение, которое, наверное, даже хотел бы видеть, и, не увидев, несколько растерялся.
— Царь Александр, — заговорила она задумчиво, — а тебе не приходила в голову мысль, что работа рук этого скульптора — ученика, имени которого я даже не могу вспомнить, — может пережить дело рук твоих?
— Такое не может прийти мне в голову, потому что это просто невозможно.
— Разве? Ведь были и другие великие завоеватели — позначительней тебя, если ты сейчас вдруг возьмешь да и прекратишь свои походы. Кир Великий. Дарий Великий. Но ты не намерен бросать свое дело сейчас. Ты стремишься прибрать к рукам все, что они завоевали. И не только это. В таком случае твое имя громче их прогремит через многие века, но сохранится ли твое дело? Варварские орды — разве они перестали размножаться? Разве они прекратят свои нашествия? В Египте может объявиться новый Рамзес Великий. А кто встанет у власти в богатом Карфагене? Рим еще младенец, но что, если он создаст великого полководца, равного твоей царской персоне? Он расположен посреди Средиземного моря, может наносить удары во все стороны света и стать центром известного нам мира. А теперь вернемся к нашему ученику скульптора. Великие города опять и опять станут ареной сражений, рухнут храмы с их божественными творениями, сами города будут похоронены под обломками, снова поднимутся и снова будут разрушены. А вот Мелос — малозначительный остров: правитель морей удержит его одним таксисом, а если это римляне, то одной когортой. Станут ли они уничтожать свою прекрасную Афродиту из белого мрамора? Они, наверное, изменят ее имя, назовут Венерой — ведь так ее знают в Риме. Империи — это насильственные объединения отдельных государств и племен, а Венера из Мелоса — по-латински будет из Мило? — это один цельный кусок мрамора, пользы от которого никакой, кроме той, что это предмет красоты, способный восхищать глаза: и восторгать душу.
Она замолчала. Мне стало стыдно своего замешательства.
— Ты пытаешься внушить мне мысль, Таис, что святилище этого изваяния из мрамора посетит больше паломников, чем могилу Александра Великого?
— Нет, беру свои слова обратно. Это было бы только счастливой случайностью судьбы. От Мелоса наш корабль поплыл на Парос и Наксос, Скарию, а там и на Хиос. Потом заходили в прибрежные города, которые недавно были под властью Дария, а теперь освобождены царем Александром. К тому времени рассказы о твоих победах прожужжали мне все уши. Мне с трудом верилось, что я, Таис, знала Александра так, как не знал его никто другой. И когда корабль пристал к Смирне, мне неожиданно пришла в голову мысль, что, судя по расстоянию, измеряемому по полету кричащих стай диких гусей к Евксинскому морю, я нахожусь недалеко от самого Александра.
— Откуда ты могла знать? Моя армия всегда на марше.
— Слухи не отставали от тебя и летели почти так же быстро, как дикие гуси. Последней новостью было то, что ты вступил в Ликию и наверняка оттуда пойдешь на Киликию. Но я была уверена, что без захода в Гордий ты дальше по побережью не двинешься. Той давней ночью в Афинах ты говорил о Гордиевом узле — что кто развяжет его, станет властелином всей Азии.
— Ты знаешь меня слишком хорошо, Таис.
— Ты не таишь своих мыслей, царь Александр.
— А ты, Таис, скрытничаешь. Как ты платила за столь долгий путь?
— Я отвечу тебе, хотя вопрос этот бестактный. Его бы не задал ни один благородный афинянин. Я покинула Афины с тяжелым кошельком золота, тратила его, не скупясь, и время от времени пополняла свои запасы. В сущности, я больше не была куртизанкой — только искательницей приключений. Я плыла на прекрасной триреме. Персидский флот, если бы мы встретились с ним, не стал бы нам докучать. Персия в хороших отношениях с Афинами — она все еще надеется, что при первой твоей неудаче они вернут себе то, что потеряли. Жажда приключений — это в моей натуре, это страсть, которая захватывает меня целиком. Я не стремилась к обеспеченности и спокойной жизни в браке, с детьми. Может, лет через десять мне этого и захочется, но не сейчас. Я все еще посылаю госпоже Лете один статер с каждых пяти из своего заработка, но, мне кажется, слово «заработок» сюда не подходит. Эти золотые статеры скорее похожи на дань, которую платят моей красоте мужчины, возбудившие во мне, часто сама не знаю почему, желание быть с ними. Я хотела, после того как корабль дойдет до Византии, вернуться на нем в Афины, но во время остановки в Смирне — пока ты занимался осадой Далиана — я встретилась с греком-изменником, который мне не понравился.
— Не понимаю, в каком смысле.
— У него дворец в Смирне и жалование от Дария. Когда мы встретились, он был пьян и хвалился, что знает не только то, что сейчас происходит, но и то, что еще будет впереди, о чем до меня не доходило никаких слухов. Например, он говорил мне о делах Мемнона родосского, которого среди персидских военачальников ты опасался больше всего и который при Минде ускользнул из твоих рук и бежал на остров Кос. А еще он намекал на то, что знает, каковы планы Дария на эту весну.
— Не знал, что Мемнон на острове Кос. Не пожалел бы десяти талантов, чтобы этот греческий шпион оказался у меня в руках, и железо развязало бы ему язык.
— У тебя есть нечто получше золотых талантов и железа. У тебя есть друг. Да-да. В отличие от большинства афинян я друг тебе, царь Александр. У меня в жизни две любви: любовь к самой жизни и любовь к Афинам. Не думаю, что благо Афин заключается в установлении связей с Персией. Если нам нужен верховный правитель, я бы выбрала грека — почти любого грека, а не персидского царя. Век с четвертью до моего рождения Артаксеркс сжег Афины, но сохранилась маленькая обуглившаяся арфа из дворца моих предков, на которой я научилась играть. Я сочиняла песенки и мелодии, моля в них Зевса, чтобы Афины были отомщены. Звали этого грека-изменника Фокион. Я выпила с ним вина в хане, а потом мы пошли к нему во дворец, в спальню. Я не приняла от него никаких денег, платой мне было нечто другое. Он никогда не слышал пословицы: «Ты можешь верить обещанию пьяницы отказаться от чаши, клятве игрока воздержаться от игры в кости, обету волка не задирать овец, но не верь клятве сводни».
[191] В сумерках рассвета я оставила его и направилась в Сарды по царской дороге, проходящей мимо Гордия.
Я во все глаза глядел на афинскую куртизанку Таис. Мне бы не описать того, как изменилось ее лицо, ее осанка. Я даже не видел ее во всех деталях, сознавая только, что предо мной новая Таис, что кое-чего я прежде в ней не заметил. Ее темно-синие глаза светились каким-то совершенно необычайным огнем. Глубокое дыхание выдавало тревогу. Не беспечной Гебой и не соблазнительной Киферой казалась она теперь, а скорее некой древней финикийской богиней, возможно даже, жестокосердной Ашторет. Красота ее не потускнела, но стала другой, и я почувствовал настойчивое желание обладать ею.
— Говори, я приказываю! — потребовал я.
— Я не нуждаюсь в твоих приказах. Я здесь, чтобы говорить, и мне хватит для этого нескольких слов. Великий Мемнон снова завоевал доверие царя. Его план — во-первых, захватить с помощью персидского флота все острова Эгейского моря. Часть из них станут военно-морскими базами, с которых он сможет нападать на все греческие города и на те, что ты недавно захватил на берегах Малой Азии. Предатели сдадут ему остров Хиос, если это уже не случилось. Оттуда он сможет захватить Лесбос. Хоть это и достаточно скверная новость, но худшая еще впереди. Вместо огромной, беспорядочной, многотысячной орды солдат он намерен создать отлично обученную и дисциплинированную Четырехсоттысячную армию с тяжело- и легковооруженной пехотой, могучей конницей с севера и фалангой, которая способна мгновенно перестраиваться из шестнадцатирядной в восьмирядную, как у Филиппа и у тебя самого. Потом он выберет идеально подходящее для своих сил место сражения, где-нибудь к востоку от Тавра, откуда нельзя спастись остаткам твоей разбитой армии. Фокион просто ликовал, когда рассказывал мне все это. Я не стала расспрашивать более подробно, боясь возбудить его подозрения. Надеюсь, я правильно сделала, что поспешила к тебе с этой новостью, — если это действительно правда, а не пустые выдумки Фокиона.
— Увы, это не выдумки Фокиона, а как раз то, чего мне и следовало ожидать от Мемнона. В сущности, я этого и ожидал, но потом старался разуверить себя, полагаясь на то, что сатрапы снова встанут между ним и царем, или на вмешательство богов. Жаль, что я так торопился, когда запер Мемнона в цитадели, вместо того чтобы уничтожить и увидеть его мертвым у своих ног. Это грубейшая, а возможно, и фатальная моя ошибка в этой войне.
Я отлучился, извинившись, и послал гонцов к двум своим самым способным в ведении войны на море стратегам. Им надлежало тотчас отправиться в Понт, чтобы собрать новый флот, поскольку старый я расформировал. Кроме того, я послал нескольких гонцов к Антипатру с приказом двигаться на юг со всеми войсками, которые он сможет собрать, хотя я почти и не сомневался, что он уже на марше. Я отсутствовал вряд ли больше часа, а когда вернулся к Таис, то решил сказать ей кое-что очень важное. Но прежде мы поцеловались долгим и сладостным поцелуем.
— Таис, ты не останешься со мной?
— Сегодня на ночь — ты это хочешь сказать?
— Нет, сколько пожелаешь или сможешь. Пойдем со мной и будь моей супругой в военном лагере, на марше или когда я буду вести осаду. Я чувствую, что с твоим характером ты не долго пробудешь со мной; мой казначей ежедневно станет платить тебе пятьдесят золотых статеров, и ты увеличишь свои накопления, которые привезешь домой, в Афины. Более того, ты заслужишь мою вечную благодарность. В твоих объятиях приятен будет мой отдых, сладкими сны, и я, отдохнувший, со свежими силами, всегда буду готов встретить самого лихого врага. Ты всегда уверена в своих желаниях. Говори.
— Я пойду с тобой, Александр. Я не люблю тебя — сомневаюсь, что в мире много таких женщин, которые могут тебя любить, хотя очень многие хотели бы сделать из тебя идола. Сердце мое не хочет выдавать мне свои секреты; я не могу сказать, что ты для меня значишь и в каком смысле. Я знаю лишь, что тесное общение с тобой будет мне по душе и доставит огромную радость. И всегда помни, мой повелитель, я искательница приключений. Разве могу я позволить себе отказаться от доли величайшего приключения наших, а может, и всех на свете времен?
— Немалой доли, Таис.
— Возможно, и так. Может, я и в самом деле Кифера, одно из проявлений Афродиты, как ты мне однажды сказал. А почему бы и нет? Ведь общаться с богами и богинями — это и есть твоя судьба. Когда я рядом с тобой, я чувствую их близость.
Глава 4
ИСС И ДРЕВНИЙ ТИР
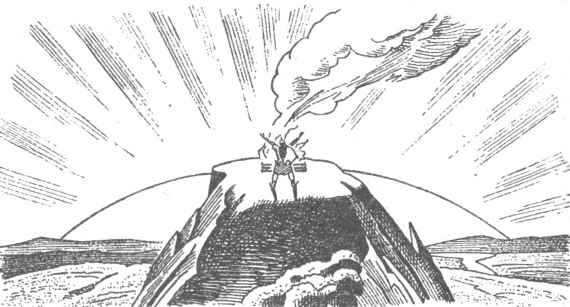
1
Устроив свою жизнь с Таис, я ни в чем не прогадал, находя тихое счастье, стоило мне только подумать о ней; к ней устремлялись мои мысли, когда я ненадолго освобождался от докучных военных проблем. Подобное же счастье лежало в основе всех моих ночных сновидений, какими бы беспокойными они ни были, а телесная любовь повергала меня в экстаз. Я не раз пытался понять или определить, в чем секрет ее неизменного очарования, но ничего удовлетворительного для себя не открыл, кроме того, что источником его является эта странная абстракция — красота. Я заметил, что до сих пор не знал никого, кто бы мог быть так откровенен со мной, исключая Абрута. Тогда почему же сердце ее и душа оставались для меня непроницаемой тайной?
По сути, я не знал женщину, с которой жил бок о бок, не считая разве что тех моментов наибольшей близости, когда каждый из нас достигал самореализации и некоего мистического взаимопонимания. Все, что она делала или говорила, казалось мне восхитительным, но тут же в голову приходила мысль, что именно этого я и ожидал, ведь это так отвечает ее глубинной природе. Сомневаюсь, смогла ли бы она мне солгать, даже если бы и захотела. В отношениях со мной она не прибегала к маленьким лживым ухищрениям, которые столь очаровательны и естественны для большинства женщин. Было непонятно, как ей удалось заморочить голову изменнику Фокиону, бывшему на службе у Дария.
Через три дня гонцы доставили мне информацию, в основном подтверждающую то, что сообщила мне Таис. Однако планы Мемнона простирались дальше того, что было известно Фокиону. В действительности часть из них уже приводилась в исполнение. Он заполучил остров Хиос, воспользовавшись предательством его правителей. Он напал на большой остров Лесбос, захватил его весь, кроме защищенного стенами города Митилена, подвергнув его жестокой осаде. Спарта готовила свои силы к мятежу. Чтобы подперчить блюдо, и так уже чересчур острое для моего вкуса, Афины праздновали и служили благодарственные молебны в честь этого нового поворота событий, и Демосфен провозглашал мое неминуемое падение — мол, попался македонский лев в свою собственную западню. Он даже держал пари на золото, присланное ему его хозяином, персидским царем, что моя голова скатится еще до разгара лета.
Я в бесполезной ярости сожалел о том, что не попотчевал Афины тем же лекарством, что и Фивы, и не похоронил их под развалинами величавых дворцов, зданий судов, колонн и галерей. Но если бы я это сделал, то кто бы тогда таращил в изумлении глаза, когда вся Персия распростерлась бы у моих ног, как и должно было случиться, если высшие боги сдержали бы свое слово?
Изменник Фокион сделал одну любопытную ошибку, или же Таис неправильно его поняла. Собранная Мемноном армия насчитывала не четыреста, а сто тысяч, что для меня явилось пусть слабым, но утешением. Весьма сомнительным утешением, ибо под командованием такого талантливого полководца, каким я считал Мемнона, этой армии обеспечивалась высокая степень маневренности, взаимодействия частей, и ей было легче действовать в условиях сильно пересеченной местности Персидского плато, между долинами рек Евфрат и Инд, где четырехсоттысячная громада застряла бы, лишенная боеспособности. Где-то на этом обширном плато или на его неровных участках, вдающихся в Армению и Малую Азию, должно было произойти сражение из сражений, решающее состязание в военной мощи между Александром и персидским царем.
Таис своими новостями дала мне трехдневную отсрочку, и я был благодарен ей за это. Мое войско сильно поредело в сражениях и от болезней. Многие ветераны с незначительными ранениями были отправлены домой, получив соответствующее вознаграждение. Я вовремя спохватился и отменил свое распоряжение о длительных отпусках для тысяч отслуживших долгий срок или недавно женившихся солдат. Кроме того, я отправил распоряжение захваченным мною городам о формировании ими войсковых контингентов для охраны наших лагерей и обозов и тому подобных задач, пока они не будут готовы занять свое место в действующих войсках.
На следующий день после прибытия гонцов Парменион встретился со мной в Гордии. Его армия не только не поредела, но и разрослась за счет воинов из варварских кланов, охочих до добычи, но отличных наездников, лучников и пращников. Пока мы готовились к походу, к нам на радость вернулись отправленные мною в отпуск ветераны, по своей воле не догуляв положенное им время.
Похоже, я чувствовал легкое изменение ветра, которое могло бы принести нам добро вместо зла. И действительно, на следующий же день, когда мы с Парменионом готовы уже были выступить, прибыло устное сообщение, настолько замечательное, что я отказывался верить своим ушам.
По царской дороге из Сард ехал гонец на измученной лошади. Лошадь под ним споткнулась и упала, всадник вывалился из седла. «У меня новость», — процедил он сквозь зубы сопровождающему солдату, но какая именно, не уточнил. Он не сказал о ней никому, даже моему военачальнику Птолемею, который оказался рядом.
— Я передам ее только самому царю, — заявил он.
Я услышал его через открытую дверь павильона, и, клянусь, мое сердце екнуло. Я никогда не сомневался в своих предчувствиях и потому-то был так уверен, что принесенная мне весть очень важная, хотя и не осмеливался гадать, добрая она или нет.
— Перед тобой царь, — объявил я запыхавшемуся гонцу. — Говори.
— Царь, Мемнон умер.
Удар сердца у меня в груди был так силен, что, казалось, оно на миг остановилось — у меня закружилась голова, и я ощутил предобморочную слабость. Мне трудно было скрыть свое состояние от гонца, смотревшего на меня круглыми от удивления глазами. Я переключил свое внимание на людей, занятых неподалеку осадной машиной, делая вид, что оцениваю их работу. Мне нужна была передышка, чтобы хоть как-то успокоиться. Затем повернулся к посланцу то ли Небес, то ли Аида.
— Прости, друг, — сказал я, — кажется, я отвлекся. Так кто, говоришь, умер?
— Мемнон, твой самый серьезный враг!
— Скорее всего, это просто слухи…
— Царь, поверил бы ты слову Дикта, которого оставил начальником в Пергаме?
— Не знаю никого, чье слово было бы верней.
— Так знай, что он нанял шпионов, когда персидский флот вошел в северные воды Эгейского моря. Один из них был хозяином смэка (одномачтовое рыболовное судно), крепко сколоченного, с парусом, чтобы ловить толстое пузо ветра. Он скрывался под видом простого парня с Хиоса, которому до войны нет никакого дела, и персы, осадившие Митилены, с радостью покупали его улов. Когда в день новой луны он в последний раз побывал там, осаждавшие оставили свои машины; там, где раньше он слышал мощные удары таранов и дикие крики тех, кто стрелял из катапульт, все было тихо, а солдаты горевали, сбившись в молчаливые группы. Он робко спросил одного механика, нужна ли сегодня лагерю рыба — у него, мол, хороший улов морского окуня.
— Нам больше не потребуется твоя превосходная рыба, — ответил начальник. — Сегодня мы оставляем лагерь и завтра уходим в море. Война окончена.
— Быстро отвоевались, — заметил рыбак. — С победой уходите или с поражением?
— С поражением? А ну-ка скажи мне, дорогой друг, что есть душа твоего рыбачьего смэка: мачта, парус, корпус?
— Ни то, ни другое, ни третье, мой господин. Это руль. Судно прокладывает себе путь, когда кладешь руль направо или налево.
— Сломан наш руль. Когда станешь дедом, расскажи своим внукам, что ты был первым из всех рыбаков, кто услышал весть о смерти и уходе в царство Аида великого Мемнона, который, если б жил, победил бы Александра Македонского. Он был единственный полководец в армиях нашего царя, достойный стоять у штурвала великого корабля, имя которому Персия.
— Шпион послонялся вокруг, наблюдая, — продолжал свой рассказ гонец, — и увидел, как в огромную палатку с желтым солнцем и золотыми лучами, изображенными над входом, вошли люди с носилками, а затем вышли, неся на них тело плотного светловолосого мужчины с квадратно подстриженной бородой. Пока тело несли к небольшой галере, солдаты рыдали; потом корабль ушел в море.
Я глубоко вдохнул и заговорил:
— Откуда у шпиона могла быть такая уверенность, что это Мемнон? Ну да, это сказал механик, но иногда ложный слух… — Тут я замолчал, не желая и дальше выглядеть идиотом.
— О царь, шпион знал его в лицо. Еще раньше, когда он побывал на острове, один маркитант направил его к нему.
— Отчего он умер? От яда или оружия?
— Ни от того, ни от другого, мой господин. Шпион знал, что чем больше он выведает, тем больше серебра зазвенит в его кошельке. Он немного поболтался, осмелел и заговорил с рабами, которые варили черное питье из коричневых бобов — их привозят из Византии. Один из рабов был эллин, а царь Александр знает, что эти любят поболтать. Он сообщил, что Мемнон корчился от боли, но это не могло быть действием какого-нибудь из ядов, ведь тогда он схватился бы за живот; боль же была в груди, в верхней части. Мемнон схватился руками за горло и в муках свалился на пол. Должно быть, у него перекрыло дыхательный канал, потому что он пытался хватать воздух ртом, а потом почернел лицом, как будто его душили, и тут же умер.
Ко мне живо вернулось веселое расположение духа, кровь снова прилила к лицу.
— Ты верный гонец, но слаб от голода и усталости. Назови моему казначею свое имя и воинское подразделение и скажи ему, пусть набьет твой кошелек золотыми статерами, я приказываю, а потом плотно наешься, но не до рвоты, и выспись как следует.
Солдат отдал мне головокружительный салют и в ответ получил такой же. Затем я, как сомнамбула, не помня себя от радости, пошел к Пармениону и поведал ему эту новость.
— Как, по-твоему, это правда? — спросил я сурового старого вояку.
— Конечно, правда. Надежней Дикта у нас никого нет. К тому же наши шпионы сообщали, что у Мемнона как раз перед Граником уже был приступ: он сам думал, что из-за колики. Каким же я был глупцом, что отругал того гонца — мол, нечего занимать мое время такими пустяками.
— Кто теперь у них остался ему в замену?
— Перебежчик Харидем, старый наш враг. Стратег он первоклассный и будет хорошим советчиком Дарию, если его божественное величество захочет слушать его советы. Как бы там ни было, нам пока придется смириться с мыслью, что лично сам царь возглавит свое войско. Это может изменить ситуацию. По правде говоря, солдаты почитают его как бога. Да и урок, полученный ими на Гранике, теперь уж небось глубоко запал им в душу. Но даже если это так, у меня на душе легче, как и у тебя — я вижу это ясно по твоему лицу. Сегодня ты будешь спать лучше, чем многие ночи до этого известия.
Я отдал распоряжения, чтобы Дикту было ясно, чего я хочу, и удалился к себе в палатку. Там меня встретила Таис. Она была оживлена сверх меры и рассказала, что прекрасная фессалийская кобыла Птолемея разрешилась от Букефала жеребенком, обещающим стать превосходным конем. Таис уже считала его подарком себе на день рождения. В своем нынешнем настроении трезвой радости, близкой к торжественному восторгу, я не мог сказать этому счастливому ребенку, что намерен был подарить Граника — так я еще заранее назвал жеребенка, зачатого в месяц моей первой большой победы, — другому счастливому ребенку в далекой Бактрии. Тут я вдруг вспомнил, что ни Таис, ни Роксана уже не дети, хотя Таис, а возможно и Роксана, выглядела почти что девочкой. Таис было двадцать, Роксане примерно столько же. Вспомнил я и обширные просторы Азии: Букефалу хватило бы времени породить еще одного жеребенка до того, как я переправлюсь через Гиндукуш.
Парменион ошибся, предсказав, что я буду спать крепко. Я спал, то и дело просыпаясь; Таис спросила, что за новая напасть гложет меня, а затем заставила теснее прильнуть к ее теплой шелковистой спине, как поступают жены. Может, и она недоумевала, почему мы еще не предались любви — впервые за эти ночи, пока она была здесь, я отказался от неземного наслаждения. Единственная причина этого, как и моего беспокойного сна, объяснялась моим восторженным настроением, приведшем меня к созерцанию богов и тех чудес, которые они сотворили.
Однако я проспал достаточно крепко в целительном блаженстве ее ароматного тепла до двух часов после полуночи. Проснувшись, я стал доискиваться причины досады, кольнувшей меня, когда Парменион рассказал о первом приступе у Мемнона той же болезни, что привела к его смерти. Вскоре я обнаружил, что это сообщение ослабило мою веру в то, что Мемнона поразил сам Зевс как препятствие на моем пути к скорейшему обладанию обещанным им мне царством. Я все же полагал, что этот предыдущий удар Зевс нанес с тем, чтобы никто не догадался, что последующий, смертельный удар — дело его рук. Возможно, он хотел скрыть от ревнивой Геры — богини Небес и своей жены — свое посещение покоев Олимпиады в первую ее брачную ночь, если такое действительно было; иногда я этому осмеливался верить, а порой и сомневался. Возможно, никто не должен был знать, что он снова внедрил свое божественное семя в лоно смертной женщины, до тех пор, пока я многими победами не докажу своей божественности.
Вновь обретя уверенность, я пролежал в блаженно-бодрствующем состоянии почти до рассвета, затем, не будя Таис, встал, оделся, положил в карман трутницу и шкатулку с фимиамом, пристегнул меч, закрепил плащ застежкой в виде львиной головы и, прихватив с собой древний щит, который привез из Трои, вышел наружу в этот холодный сумеречный час. В небе нарождалась новая луна, еще слишком слабая, чтобы спорить со светом звезд, которые вновь зажгли свои лампады. Я направился к холму, лежащему неподалеку от моей палатки, насчет которого накануне отдал особые распоряжения.
У подножия холма меня окликнул часовой:
— Аид.
— Душа Мемнона, — ответил я.
— Проходи, о царь.
Холм окружали невидимые в темноте часовые. У них был приказ стоять спиной к вершине, чтобы они не видели того, что там произойдет, и чтобы я мог пребывать в состоянии, равнозначном полному одиночеству, в котором мне подобало находиться именно в данном случае. И еще я не хотел допустить, чтобы какой-нибудь любитель ночных отправлений осквернил священную землю.
На вершине холма были в два яруса сложены сухие бревна около двенадцати футов в длину, шести в ширину и двух в высоту. Между бревен нижнего яруса была набита лучина для растопки. Но пока я был еще не совсем один на возвышенности. Там же стоял привязанный к пню бычок без единого пятна, с широко расставленными рожками и тяжелой мошонкой.
Я обнажил меч и одним скользящим ударом перерезал ему глотку. Он был вдвое тяжелее меня, и, чтобы только подтащить его к бревнам, мне потребовалась чуть ли не вся моя сила, не говоря уж о том, чтобы взгромоздить его наверх, — тут мне пришлось задействовать резерв, к которому прибегают мужчины в случае крайней необходимости или в состоянии: очень сильного возбуждения.
Затем я подул на слабо тлеющий кусочек трута и положил его под сухую траву, подстилающую сосновую лучину. Я дул и дул, пока не появилось пламя, после чего загорелась и вся лучина.
Тем временем на восточном горизонте появились первые признаки рассвета, переходящего от бледного свечения к красному сиянию. В прежние далекие времена крестьяне, направляющиеся к своим полям, сказали бы, что это Эос, богиня утренней зари, встает рядом с Тифоном, своим мужем, которому она подарила бессмертие, но не смогла при этом дать вечной юности, отчего он состарился и стал горой; и хотя она смотрела на него с божественным состраданием, вернуть назад свой дар она уже не могла. И вот теперь она уже облачалась в пламенные одеяния, свет становился все ярче по мере того, как встающее солнце приближалось к горизонту.
Пламя уже охватывало бревна, и я бросил на них фимиам. И как раз в тот момент, когда над восточными холмами засияла первая малая арка солнечного диска, все бревна вспыхнули в едином порыве пламени, в мистическом единстве, которое росло вместе с поднимающимся солнцем. Я распластался перед погребальным костром, творя бессловесную молитву.
Так я принес благодарственное приношение Зевсу, который сам есть Солнце, Повелитель Высоких Небес.
Правда, в большей части Греции Сыном Солнца часто называли Аполлона, а также менее значительное божество, Гелиоса. Но мы, македонцы, северный народ, представляющий самую древнюю и чистую ветвь эллинской расы, никогда не обманывались. Старейший оракул в Греции был на севере. Там стоял храм еще до того, как Афродита вышла из морской пены, еще до рождения Гермеса
и Диониса; храм дряхлел, частью разрушался, снова отстраивался, чтобы вновь развалиться и восстать из руин. Велики были все боги, но все они подчинялись величайшему из них — Зевсу, Собирателю Туч, Громовержцу, ниспосылающему огненные стрелы, которые раскалывали горы.
— Приветствую тебя, отче Зевс! — вскричал я в пылу молитвы, обращенной к востоку, где в небо грозно вплывала громада солнца.
— Привет, Александр, сын мой! — протрещал Священный костер.
2
Когда три дня спустя мы выступили на Анкиру,
[192] впереди, как обычно, были застрельщики. В этой области можно было почти не опасаться засады: с тех пор, как я покорил все прибрежные города, сопротивление здесь прекратилось; но я хотел, чтобы эта группа хорошо обученных всадников не теряла своей сноровки и чтобы воины сохраняли чувство своей значимости и ответственности перед всем войском. Не все они были греками. Немало было и вступивших под мои знамена варваров из фракийских и иллирийских кланов, с детства лихих наездников, учившихся сидеть в седле в скачках по гористым дорогам своих родных мест и отражать внезапные нападения враждебных кланов. Их лошади выросли на горных пастбищах. Твердо держащиеся на ногах, косматые, малорослые, они напоминали мне того резвого жеребца, которого из-за его малого роста язык не поворачивался назвать конем и на котором Роксана проехала весь долгий путь из Бактрии. Эти конники свободно передвигались, подчиняясь только мне и своему начальнику.
Сразу же вслед за ними выступали мои несравненные гетайры, а я на Букефале ехал впереди, окружаемый почетом. В нарушение обычного правила я позволил Таис и хмурой особе, которая была ее единственной служанкой, следовать за элитарными силами в своей кибитке, укрепленной на прочных пружинистых шестах, прибитых гвоздями меж осей. В этой повозке были занавески, которые можно было опустить в случае ветра или дождя, или вновь поднять, чтобы дать доступ воздуху и позволить себе отчетливее видеть окрестности. В этом положении она и расстоянием, и мысленно была отделена от людей, сопровождавших наш лагерь.
На полпути от Анкиры до нас дошли первые вести, что Дарий со своей армией тоже находится на марше. Я насторожился: уж слишком скоро гонцы поспели ко мне с этими вестями, — ведь, согласно их сообщениям, вражеская армия только что вступила в Сирию; что-то тут не вязалось. Кроме того, мне как-то не верилось, что Дарий со своими военачальниками мог за такой короткий срок собрать и обучить четырехсоттысячное войско.
За первыми новостями последовали другие того же содержания, если не считать значительно возросшей оценки численности вражеских сил. В Анкире все мои сомнения сразу же разрешились. Я зашел к Клодию, сыну греческих рабов, родившемуся в Персии, говорившему по-персидски, на языке медов и по-гречески, который легко мог сойти за перса, но ненавидел Персию всю свою жизнь. Самый надежный шпион, состоящий у меня на службе, он уже знал о моем прибытии и встретил меня в хане.
— Совершенно верно, Дарий вступил в Сирию, — сообщил он.
Я задал вопрос, который бы в первую очередь задал любой уважающий себя военачальник и не относящийся к мощи армии:
— Захватил он Киликийские Ворота?
Через этот древний проход семьдесят пять лет тому назад Ксенофонт со своими бессмертными Десятью Тысячами ускользнул из Персии. По нему могла шагать колонна в четыре ряда в окружении отвесных скал. Здесь небольшой, но решительно настроенный отряд мог бы остановить целую армию.
— Нет, царь Александр. Любой из твоих рядовых предполагал бы, что он поступит именно так, и я тоже, а поскольку у меня есть брат, пастух, Несс его зовут, который живет в Киликии в пяти днях езды от ворот, я велел ему, как только он услышит, что Дарий развернул свою армию, смотреть в оба и, если персы приблизятся, купить быстрых лошадей на то золото, что я послал ему, и, гоня их по очереди, привезти мне новость. На лошадей я выделил ему золото из присланного тобой мне. Воистину, без него я бы не мог послужить тебе как следует, но я служу не за золото, а потому что ненавижу персов. От Несса не было никаких сообщений. Ворота остаются неохраняемыми, если не считать небольшого патруля из старых ветеранов, отпущенных на деревенское житье.
— Этому трудно поверить, Клодий. Если бы они перекрыли ворота, мои линии коммуникации и подвозы были бы перерезаны.
— Царь, по-моему, Дарий уверен, что его огромная армия сокрушит тебя одним ударом и ему нет нужды думать о Киликийских Воротах.
— Какова его армия? Ты можешь приблизительно оценить ее численность? — Не дыша я ждал, что ответит Клодий.
— Царь, в этом отношении новости плохие. Если разделить пополам ту цифру, о которой сообщают наблюдатели, то остается пятьсот тысяч.
Клодий наблюдал за моим лицом с великим беспокойством. Видя, что оно не вытянулось, а наоборот, осветилось радостью, он уставился на меня в недоумении.
— Но ведь у тебя нет и сорока тысяч! — воскликнул он.
— Здесь еще лучше было бы тридцать. Клодий, если не ты, так твой брат видел, как стая волков — а для сильной стаи хватит пяти-шести, не больше, — как голодной зимой стая волков нападает на его стадо крупного скота. Общая масса волков не больше, чем весит один из его матерых быков. Тем не менее они прыгают, хватают за горло и убивают полдюжины гладких телок, пока быки беснуются и понапрасну пытаются поддеть волков на рога. Но хватит об этом! Должно быть, шах не прислушался к совету Харидема, продажного вояки, но толкового военачальника.
— Нет, не прислушался, царь.
Клодий сказал это так странно, что я пригляделся к нему повнимательней и догадался, что он выложил еще далеко не все.
— И отчего же? — поинтересовался я спокойным тоном.
— Царь, что может сделать солдат, чтобы его голос услышали из темного и мрачного царства Аида?
— Ты, Клодий, хочешь мне сказать, что и Харидема — последнего из этих двух самых страшных для меня соперников, больше нет среди живых?
— Смерть — обычное явление во дворцах царей. Послушай меня, царь Александр. Харидем советовал то же, что и Мемнон, то есть чтобы армия не превышала ста тысяч, куда включались бы тридцать тысяч греческих наемников. И все равно это войско было бы в три раза больше, чем твое, его можно было бы хорошо обучить, сделать высоко маневренным в любой местности, не нуждающимся в длинных обозах, его можно было бы легко обеспечить продовольствием и снаряжением. Он советовал, чтобы солдаты отступали перед тобой, сжигая поля и житницы — до тех пор, пока ты, с истощившимися запасами, не оказался бы в глубине вражеской страны. Тогда они выбрали бы позицию, чтобы нанести тебе смертельный удар.
— И Дарий его не послушался! Истинно, жертва моя моему, то есть нашему, богу Зевсу принята с благодарностью!
— Выслушай конец этой короткой истории. Сатрапы Дария обвинили Харидема в нарушении своего слова — у них были свои корыстные цели — и сказали, что он сам желает командовать этой малочисленной армией. Харидем восхвалял доблесть греческих наемников, сравнивая их с персами, и это разозлило их еще больше. Конечно, он говорил правду, но правда — штука опасная в ушах повелителя Персии. И наверняка говорилось это слишком горячо, а советникам царя положено говорить тихо.
— Слава небесам, я не таков! — Сказав это, я подумал, а действительно ли это так.
— Царь разъярился, собственноручно ударил Харидема и приказал казнить его. И вот рассказывают — не знаю, правда это или нет — когда его вели на казнь, он дерзко кричал: «Ты безмозглый осел, — так он назвал Дария. — Из-за этой своей чудовищной глупости ты потеряешь все: империю, трон и жизнь!»
— Спасибо великому Зевсу! Я докажу, что Харидем — великий пророк. Хоть и был он пиратом и изменником, все же в храбрости ему не откажешь… В храбрости старого льва, загнанного в угол. За это я поставлю ему памятник. Прямо посреди пепла самого имперского дворца в Вавилоне.
3
Тем же вечером я созвал военный совет.
На рассвете войска построились и ранним утром двинулись в поход на юг, в сторону гор Тавра. От подножия гор мы проследовали старой караванной дорогой до Киликийских Ворот. Небольшой заградительный отряд персов был предан мечу, и теперь, находясь на их месте, я ощутил силу, непреодолимую для любого персидского подразделения, которое, слишком поздно, попытается захватить этот проход. Я с легкой конницей двинулся на город Тавр, что на Киликийской равнине, и его гарнизон бежал, не выдержав нашего беспощадного наступления.
И тут какой-то бог, не любящий Македонию, ополчился на меня. В Тавре я серьезно заболел. Меня одолевали боли, жар, бессонница, и мне не помогали лекарства моих чудных лекарей, учеников Асклепия. Они, с постными лицами, перешептывались между собой, и это еще больше подрывало угасающие силы моего духа. Я слабым голосом распорядился доставить ко мне Филиппа-акарнанца, лучшего из лекарей, который остался с войском у Киликийских Ворот.
Гонец отбыл туда на восходе солнца. Я не надеялся на прибытие Филиппа раньше, чем до следующего восхода, а ночью болезнь достигла кризиса. Зная, что жизнь моя висит на волоске, я прогнал своих растерянных врачевателей и попросил пригласить ко мне Таис. До этого момента я отказывался с ней видеться, ибо опасался, что и она заразится этой ужасной немощью. Она явилась и была этим вечером уже не Киферой, а сестрой сына Аполлона — бога медицины, вокруг жезла которого свилась змея. Послав за ароматным бальзамом, она натерла мне им лоб, но лучше, чем мазь, на меня действовали ее нежные пальцы. Клянусь, что боль немного утихла, но жар все еще не прекращался. Всю ночь я пролежал, держа голову у нее на груди или на коленях, и, когда забрезжил рассвет, я увидел, что глаза ее заволокло влагой.
Ее тепло, ее близость ко мне — а такого рода близости мы еще не знали — расслабили мои напряженные, страдающие нервы; я неоднократно забывался в полусне, и наконец чудища бредовых кошмаров оставили мое ложе, и на смену им пришли сладкие сны.
Она часто целовала мои пылающие губы, остужая их своими, мягкими и нежными, и этим ослабляла чувство страшного одиночества, преследовавшего и терзавшего меня с тех пор, как со мной случилась эта напасть. Раз, где-то в послеполуночные часы, поцеловав меня, она, трепеща от радости, сообщила, что жар спадает и что внезапно выступивший обильный пот — тоже хороший симптом.
Филипп, прибывший с восходом солнца, пощупал мой пульс, внимательно всмотрелся в глаза, задал несколько вопросов, на которые, учитывая слабость моего голоса, ответила Таис, и принялся смешивать принесенные им лекарства. В этот момент гонец вручил мне письмо от Пармениона; я хорошо знал его печать, но теперь на нем стояла маленькая пометка: согласно нашей договоренности она означала высшую степень срочности. Я попросил Таис вскрыть письмо и поднести к моим глазам.
В нем прямо сообщалось, что Филипп в сговоре с Дарием и любое его снадобье не только не вылечит, а угробит меня.
С тяжелым сердцем я передал письмо Таис. Она прочла его и тихо заговорила:
— Царь Александр, кому-то ты ведь должен довериться. Покажи письмо Филиппу.
Так я и сделал. Пока он читал, я внимательно следил за его лицом. Оно опечалилось, но страха в нем не было.
Собравшись с мыслями, он заговорил со мной прямо и открыто:
— Прими лекарство, Александр. Уже наступил перелом в лучшую сторону, но естественные каналы забиты и отравляют все тело, один орган давит на другой, даже на сердце. Если не произвести быструю очистку организма, может наступить новый кризис, уже в худшую сторону, и ты умрешь.
— Поверь ему, мой царь, — прошептала мне на ухо Таис.
Я осушил чашу и, когда лекарство начало действовать, попросил Таис оставить меня — в этом отношении я испытывал стеснительность. Ухаживать за мной позвали мужчину. Вскоре лекарство стало действовать с мощной силой, и Филипп, с удивительно просветленным лицом, засмеялся от радости. Потом он сказал мне, что это снадобье не какой-нибудь редкий и ценный эликсир из дальних стран, а некая соль, содержащаяся обычно в известняковых водоемах.
Я быстро выздоравливал, но Филипп запретил мне на несколько дней интимную близость с Таис. Я должен был экономить прибывающие силы. В ночь, когда ограничение было снято и мы заключили друг друга в объятья, когда взаимная страсть, достигнув высшей точки блаженства, затухла, оставив чудное свечение, когда Таис лежала, положив свою головку мне на плечо, а я, опершись на локоть, взглянул в ее раскрасневшееся юное личико, красноречивое свидетельство ее красоты, тогда-то я наконец смог заговорить с ней о том, что глубоко засело в моей душе.
— Не лекарство Филиппа, а твои заботы спасли меня от ужасной смерти — и именно теперь, когда только начались мои великие дела. Если бы не твоя нежность, которая излечила меня от мучительного одиночества и смягчила боль, было бы слишком поздно лечить меня любыми снадобьями. Ты пришла ко мне на помощь не потому, что любила. Ты когда-то давно говорила мне, что могла бы быть моей любовницей, но ни в коем случае не супругой. Тобой двигало только сострадание, ведь ты видела, что я, тот, что стоял так высоко, вдруг так низко упал. Но если и тебе потребуется когда-нибудь мое сострадание, ты его получишь. Если ты когда-нибудь причинишь мне большое зло — или то, что моя страдающая гордость назовет большим злом, — я этого не забуду. Только ты одна можешь сильно ударить и больно ранить меня, и при этом все же остаться в живых.
4
Было очевидно, что во второй раз Дарий уже не допустит той губительной ошибки, которую он допустил на реке Граник, вступив в сражение со мной на равнине, слишком тесной для того, чтобы он мог развернуть свою огромную армию. Вступив в Сирию, он стал лагерем у города Сохи на равнине, где ему хватало простора. Это заставило меня подумать о защите своих баз не только от горцев, но и от нападения с занятых, но еще не покоренных мною земель. Приходилось считаться и с мнением греков, долго живших в подвластных Персии городах, приспособившихся и поэтому не хотевших перемен. Золото персов застило им глаза. Поэтому я решил — пусть мстительный царь со своей знатью поскучают пока в бездействии, это скажется на воинском духе его армии, а я тем временем закрою двери овечьих загонов, чтобы в них не проникли волки.
Парменион отправился на восток, к проходам в Аманикских горах, а я на запад, к Анхиалу, а оттуда к Солам, основанным ионийцами, чьи потомки говорили на таком испорченном греческом, что в их родном языке появилось новое слово «солецизм».
[193] На этот город я наложил штраф в двести талантов, так как они предали своих предков, подражая образу жизни персов и своим верноподданничеством; к тому же я нуждался в средствах для продолжения своего похода. Оттуда я взял севернее и вторгся в горы. Встретившись с горными племенами, я постарался внушить им, что случится с их крошечными полями, их деревнями, женщинами и детьми, с ними самими, если они посмеют вмешаться в сражение, которое скоро произойдет, и особенно если они будут скатывать со скал камни и метать дротики в мою охрану у Киликийских Ворот. Чтобы вдолбить им это, потребовалась целая неделя.
Тем временем мои военные строители при поддержке пехоты, оставленной мной, чтобы подавить сопротивление в городах, все еще способных беспокоить мой тыл, делали свое суровое дело, сокрушая с помощью технических приспособлений укрепления сопротивляющихся персидских гарнизонов. Мои адмиралы вновь захватили острова Триотий и Кос, уступленные Мемнону, тем самым сильно ослабив персидский флот в восточных водах нашего Внутреннего моря. Чтобы отпраздновать эти победы и мое выздоровление, а главным образом чтобы поднять дух в войсках, мы совершили жертвоприношение богам, в частности, богу медицины, устроили большой пир и игры, доставившие солдатам огромное удовольствие, такие, как бег с факелами, борьба, метание диска и тому подобное. Я надеялся, что рады были не только мои соратники, но и боги. Думать иначе было бы кощунственной ересью.
Мы повернули назад к Тавру, а конницу я отправил с Филотом, велев ему идти через долину Алейя, чтобы умиротворить ее многочисленное население в этот час уготованных нам испытаний. А он стремительно приближался. К нашим основным силам снова примкнул Парменион. Дольше оттягивать встречу с персами было бы равносильно моральному поражению — в моем войске упал бы воинский дух. Оно поредело из-за понесенных в битвах потерь и болезней и насчитывало уже не тридцать тысяч, как на реке Граник. А насколько меньше, я даже не спрашивал, не решался. Я собирался сделать то, что горше желчи для любого большого полководца в истории — напасть на значительно большую армию на выбранной ею территории, где количественное преимущество может склонить чашу весов к победе. Тут опять я больше всего надеялся на раздробленность персидского войска и, насколько мне было известно, на отсутствие у него военачальников с большим военным талантом — что часто бывает там, где они только любимчики или родственники царя, а не ветераны суровой школы войны. Но был еще Аминта, хоть и предатель интересов Греции, но далеко не дурак. Если Дарий станет прислушиваться к его советам, мои и без того уже куцые шансы на победу уменьшатся вдвое.
Никогда я еще не готовился подвергнуться такому серьезному риску — не только риску потерпеть поражение, что было бы поправимо, но, главное, риску полного истребления моей армии и угасания звезды Александра, которая только что взошла и сияет в лучах славы на небесах. Я уж не мог бы бежать и снова сражаться. К северу от нас возвышался большой Таврский хребет, к западу — Имбарские горы, а на востоке — высокий Аман. К югу от нас плескалось море, находившееся частично под надзором персидского флота. Не грозило ли мне это смертельной ловушкой? Теснимый чувствующим близкую победу войском, я бы не мог улизнуть, как Ксенофонт со своими Десятью Тысячами, через Киликийские Ворота.
Мне на пользу было одно обстоятельство (впрочем, я на него особенно не рассчитывал), которое заключалось в свойстве человеческой природы: склонности большой массы людей верить тому, во что им хочется верить, а не тому, о чем неопровержимо свидетельствуют факты. Это было очень заметно даже теперь. Я шел от Анкиры почти четыре месяца, не нападая на персов, занимаясь только запугиванием городов Киликии, усмирением горных кланов, посещением святилищ, устройством праздников и игр; часть этого времени я провалялся в бреду. Но для высокомерной персидской знати эта отсрочка означала только одно: я хочу избежать столкновения. Я понимаю, думали они, что мою относительно небольшую армию разгромит их многочисленная конница, насчитывающая, согласно надежным сведениям, свыше пятидесяти тысяч, и прикончат копья и кривые персидские мечи. Несомненно, в среде знатной персидской верхушки росло нетерпение увидеть мое обезглавленное тело, поднятое на копья, воронов, кружащихся над моими бездыханными соратниками и садящихся на их удивительно неподвижные тела. После этого они могли бы спокойно вернуться в свои дворцы, гаремы, ароматизированные бани, к запахам мирры и ладана.
А почему бы, вопрошали они, не двинуться нам на Александра, а не наоборот? Ведь мы можем разбить его на любом поле, где бы ни пришлось встретиться двум армиям. Может, Аминта и поднял бы свой голос, не соглашаясь с таким доводом, но он не был так прост, как Харидем; он не хотел разъярить Дария и умереть медленной, мучительной смертью, как обычно в Персии умирали приговоренные в камерах пыток. Наверное, какое-то время весы склонялись то в ту, то в другую сторону, и царь, наконец, принял свое высочайшее решение: он сам пойдет войной на этого выскочку Александра.
И вот сложили огромные шатры, больше похожие на дворцы, чем на палатки; в Дамаск потянулись гаремы полководцев и знати помельче, и загромыхали длинные караваны повозок, груженных сокровищами и багажом. За колесницей царя последует лишь сотня повозок, и среди них те, на которых будут ехать славящаяся своей красотой царица Статира, а также его мать, две дочери, мальчишка сын и гаремы самых влиятельных его приближенных. Оставшийся вещевой обоз был невелик: все необходимые для удобства его любимчиков вещи и существенный провиант для солдат. Вот так, со спартанской экономностью, вел он свое войско в Львиный Проход и далее на равнину Исса, где хотел застать Александра и стереть его с лица земли вместе с ничтожно малочисленной армией.
Моя армия была на пути в Сохи, когда мы получили это известие. Мы уже взяли и только что оставили Мириандр, лежащий в тридцати пяти милях к югу от города Исса. Мы тут же свернули со своего пути, и я, сидя на высокой спине Букефала, задыхаясь, вознес молитвы Зевсу. С новостями подоспели и другие гонцы; сомнений не было: Дарий оставил избранное им ранее место сражения, обширные пространства которого являлись мне в мучительных снах, и решил напасть на меня на узкой равнине, запертой между морем и горами. Затем мы узнали, что он овладел городом и устроил там оставленным мною больным и раненым македонцам кровавую резню.
Мы стали спускаться вниз и, насколько позволяла местность, развертывались в боевые порядки. Моя фаланга построилась уже внизу, на равнине; справа от нее возвышались горы, слева тянулись песчаные берега моря. Когда Дарий не застал меня в Иссе, он, несомненно, тут же решил, что Александр, испугавшись его мощного войска, бежал. Но как только его разведчики увидели мою армию, готовящуюся к сражению, его заблуждению быстро пришел конец. Выйдя на широкий участок равнины, я справа от фаланги выстроил своих гетайров, затем великолепных фессалийских всадников, далее отряды легковооруженной пехоты и на самом краю крыла — отряды закаленной в боях тяжеловооруженной конницы. Левое крыло, которым командовал Парменион, состояло из союзников Македонии: лучников из Фракии и Крита, пращников и копьеносцев из горных кланов, вставших под мои знамена. Пармениону было приказано не отходить от моря, чтобы не допустить удара с фланга, а перед фалангой, тяжелой и легкой конницей справа от меня стояла задача нанести первый сокрушительный удар по персам.
И все же крайний левый фланг казался мне уязвимым, и в последний момент я послал ему в подкрепление фессалийскую конницу, уступающую только моим великолепным гетайрам.
Наша армия в целом насчитывала от силы тридцать тысяч человек, армия Дария — вовсе не полмиллиона: лучше всего было бы предположить, что сто пятьдесят тысяч, то есть пять к одному. Однако у нас были все территориальные преимущества за исключением одной детали. Высоко на склоне холма, над рекой Дарий поставил разношерстное войско, рассчитывая, что оно ястребом слетит и накроет мой правый фланг, и это я намерен был исправить в первой стадии сражения. Кроме того, царь намного разумней расставил свои силы, чем его военачальники на реке Граник. Его хорошо обученные наемники стояли ближе всех к реке, его лучшие персидские подразделения — в центре, а на правом крыле, ближе всех к морю — его тяжелая конница, И вот засвистели стрелы — это мои горцы, желая согнать с их насеста на вершине холма смешанные отряды Дария, заиграли прелюдию к сражению.
Но на узкой равнине царю негде было развернуть всю свою армию. За передовой линией скопились массы пехотинцев, лучников, пращников и второразрядной конницы, совершенно бесполезных до тех пор, пока он не сломает наш строй — такого же сорта толпу мы перебили во время большого поражения персов на Гранике.
Я объехал весь наш строй верхом на рослом Букефале, окликая по имени многих предводителей. Я увещевал воинов вспомнить наши многочисленные победы, большие и малые, и обещал им, что сегодня мы навсегда сокрушим врага и Персия со всеми своими богатствами будет нашей. Один храбрый старый конник отважился прокричать мне в ответ:
— Александр, славный будет денек для царя Аида!
Солдаты засмеялись, уверенные в том, что именно персы целыми стаями отправятся в нижнее царство мертвых к его царю в черном колпаке. Но я-то знал: перед нами полный решимости противник, предводительствуемый самим Дарием, а потому полный высоких надежд; и нам не отделаться только малыми потерями. Я отдал приказ к наступлению.
Мы держали безукоризненно прямую линию фронта. Фаланга двигалась мерным шагом, скорее напоминая машину смерти, а не скопище смертных людей с сомкнутыми щитами и выставленными вперед копьями. Когда полетели первые вражеские стрелы и несколько человек упало замертво, я приказал вдвое ускорить атаку. Пока фаланга в полном порядке выстраивалась в эшелон, блестящая конница моих гетайров пошла в наступление. И что же тут происходит? Перспектива легкой победы, полного разгрома ничтожно малой армии, которая с нетерпимой наглостью осмелилась бросить вызов царю, больше уж не кажется такой неоспоримой в умах лучших предводителей. Даже высшие должностные лица из знати с удивлением вытаращили глаза. Сражение идет не так, как они предполагали и притом с такой уверенностью. А какие мысли встревожили самого Дария, абсолютного монарха половины мира, при виде македонцев на храпящих и ржущих конях, несущихся подобно ровному горному обвалу, сметающему линию фронта персов? Она поворачивает назад, неуверенно пытается удержать натиск, снова поворачивает назад. «Меня зовут Кодоман — для меня был создан мир. Тогда почему же левое мое крыло обратилось в бегство?»
«Но, — подумал он, — я все равно выйду победителем». Это было только испытание его веры в Заратустру, первого великого мага, приравненного теперь к божеству. Македонская фаланга оказалась в трудном положении: сомкнутые щиты устояли перед градом дротиков, но, переправившись через мелкую реку, у крутого противоположного берега она подверглась яростной атаке эллинских наемников царя. Копья фалангистов были длиннее, но наемники занимали позицию на более высоком уровне, поэтому схватка была отчаянной. Вода все более багровела от крови по мере того, как эллинские защитники падали и скатывались в реку.
И Дарий не знал, что его страшный соперник, Александр, ранен мечом в бедро.
Я не слезал с коня, глаза мне не застилало, и я тут же замечал и то, что грозило смертельной опасностью, и то, что внушало блестящую надежду. В реке сомкнутый строй моей фаланги распался, отчего правый ее фланг стал доступен для успешной атаки; но из-за прорыва, образовавшегося вследствие бегства персов на левом фланге, я оказался на правом, занятом наемной эллинской фалангой. Я сделал круг налево, поднял руку, и мой трубач протрубил сигнал атаки. Снова я услышал за собой гром копыт конницы гетайров, и мы ударили по стройным рядам подобно ревущему циклону — по каравану в азиатской степи. Наши жаждущие крови пики вонзались в незащищенные сталью участки тел, и солдаты падали такими же стройными рядами, а идущая вслед за нами конница по лодыжки увязала в мягкой бурой жиже.
Вдалеке перед собой я увидел Дария на золоченой колеснице, запряженной серыми лошадьми из его знаменитых на весь мир конюшен. Я во весь опор поскакал к нему, и несколько человек из его личной охраны и доверенных вельмож выскочили, чтобы перехватить меня. Их сшибали пиками и топтали конями увязавшиеся за мной гетайры, но брат Дария Оксиарт
[194] стойко встретил меня лицом к лицу, и нити наших жизней оказались в одинаковой близости к ужасным ножницам Атропос. Но, обрезав его жизнь, мрачная сестра пощадила мою. Ускользнувший от меня в Тавре Арзамес пал под ударом моего копья, и пришлось с силой выдергивать его, чтобы высвободить острие. Другие известные сатрапы и вельможи пополнили груду мертвых тел. От острого запаха льющейся крови лошади в колеснице Дария заволновались, а фонтан крови из почти перерубленной шеи ударил царю в лицо. Тень призрака смерти холодом обдала душу правителя Персии, заставив его отдать приказ колесничему. Тот с большим искусством повернул упряжку из четырех коней и погнал их прочь с поля сражения, давя и разрезая тяжелыми колесами мертвые тела. За ним последовала немногочисленная свита из оставшихся в живых телохранителей.
На дальнем левом фланге, ближе к прибрежной полосе, все еще продолжался жаркий бой превосходной персидской конницы с нашей фессалийской. Враг теснил наши силы до тех пор, пока по его рядам не прошел слух, что Дарий бежал, и странно было видеть, как сцепившиеся в ненависти и жажде крови бойцы вдруг прерывают свои страстные объятья, как гаснет пыл в сердцах персидских всадников и они обращаются в постыдное бегство.
И вот уже все персидское войско охватила паника, за исключением небольших групп, судя по одежде и вооружению, простолюдинов, которые не могли заставить себя повернуться спиной к врагу и поэтому умирали лицом к захватчикам. Мне сообщили, что Дарий все еще здесь, что его колесничий остановил взбесившуюся четверку, и царь пересел из колесницы на оседланного коня. Я тут же устремился в погоню, и со мной рядом Птолемей; отряд гетайров последовал за нами. Это верно, что нам пришлось переправиться через узкую долину по мосту из мертвецов. Но этот славный день победы уже подходил к концу, и слишком мало времени оставалось до темноты, чтобы мы могли победить в скачках с убегавшим владыкой Персии. Уже опустились вечерние сумерки, способные укрыть его бегство от наших глаз, но гуще были сумерки той ночи, в которую ушли тысячи и тысячи бойцов его когда-то кичливого войска с несколькими тысячами моих соратников; и если наша нынешняя ночь окончится завтрашним солнцем, то их черная ночь смерти — без луны, плывущей в сияющей красе, без мерцания звезд — не окончится никогда.
5
Оставив на время погоню за Дарием, мы с Птолемеем и небольшой группой гетайров поскакали к его лагере недалеко от Исса. Множество невоенного люда, в основном рабы, слонялись вокруг, не зная, куда податься, и мы увидели около сотни женщин и девушек, высоких и гибких персиянок с очень приятной внешностью, ибо это были жены, наложницы и служанки персидских вельмож. Мы также обнаружили там моего казначея Гарпала с секретарем, у которого имелись все письменные принадлежности: перо, рог с чернилами и папирус; он быстро что-то писал под диктовку своего хозяина. При нашем неожиданном появлении в свете горелок Гарпал немного смутился и бросил косой взгляд на наши запыленные лица и окровавленную одежду. Сам он избежал этих кровавых пятен войны, потому что я не разрешил ему ходить на поле боя, учитывая его косолапость и измотанность тяготами похода.
— Царь, я делал первую приблизительную оценку брошенных здесь ценностей, — с готовностью доложил он. — К сожалению, основную их массу Дарий еще до сражения отправил в Дамаск. И все же осталось, чем поживиться.
— Нам они очень кстати, — отвечал я. — Ты ведь знаешь, что у нас в сундуках почти пусто.
— Для того чтобы вести победоносные войны нужно много золота. Я не считал денег в его казне; на это бы ушла неделя труда, если бы у меня было несколько надежных людей. Но, судя по весу, здесь примерно пятьсот талантов.
— Золотом или серебром?
— В золотых византийских монетах и статерах. У него также есть несколько кованых сундуков, полных золотой пыли. В покоях царя и в шатрах знати много золотых изделий: кувшины для воды, фляги для мазей, бутыли для духов, подсвечники, таз из литого золота, кушетки с золотыми ножками, чаши, блюда, тарелки и тому подобное — общей ценностью, я думаю, еще в пятьсот талантов.
Эта новость меня порадовала, хотя еще оставалось немного досады на Гарпала за то, что он вошел в царский шатер до меня. Только слава победы, одержанной с благословения богов, о чем я еще не раздумывал, но отчего душа моя ликовала, помешала мне пожурить старого верного друга.
— Я еще не был в шатрах его вельмож и родственников, а также в просторной палатке, где женщины оплакивают смерть царя Дария.
— Дарий не умер. Он бежал, и сейчас к нему сбегаются все больше и больше его соратников, тысячи три или четыре, судя по следам. Это основная сила персов, избежавших смерти во время сражения.
Эти новости, кажется, здорово его напугали и раздосадовали.
— Как же так? Я слышал, что ты убил его собственноручно.
— Ложное сообщение. Надо немедленно довести эту весть до его жены и детей.
— Думаешь, царь, это разумно?
— Иначе я бы этого не предложил.
— Мне кажется, что царица… понимаю теперь: благородство требует, чтобы мы как можно скорее облегчили ее горе. Желаешь, чтобы я сообщил ей эту новость?
— Нет, я пошлю Леонната. Он знатного рода и больше подходит для этой роли.
Это было довольно откровенным напоминанием Гарпалу о его крестьянском происхождении, но меня все больше раздражал жадный огонек в его глазах, хоть эта алчность и служила моим интересам.
— И может, скажешь, какая была бы польза — хоть ты и изменил свое мнение по этому делу — оттого, чтобы скрывать от царицы хорошие для нее новости?
— Конечно, мой царь. Я так подумал: если царица поверит, что тело ее мужа в твоих руках, она в обмен на него предложит свои украшения. Ну разумеется, они принадлежат победителю, это его право, но ведь она может знать и о других сокровищах, которые иначе и не найдешь.
— Леоннат! — позвал я.
Он сразу же отделился от группы моих людей, стоявших неподалеку, и вошел в шатер. Он был не только превосходным наездником и копейщиком, но и юным красавцем с тихим, проникновенным голосом и манерами не хуже, чем у афинянина, что резко выделяло его среди грубых македонцев.
— Слушаю, мой царь, — сказал он, отдавая честь и поспешая ко мне.
— Попросишь разрешение войти вон в ту большую палатку. Скажешь, что у тебя для Статиры, супруги Дария, есть сообщение. Передай ей, что ее господин в бегах и на время она с детьми останется в моем распоряжении, но что ей будут оказаны все почести, причитающиеся ее высокому положению: свита, знаки почтения и прочее. Никто не дотронется до нее и ее детей, никаких приставаний к ней не будет, и она может оставить у себя личные украшения. Если с ней вдова Оксиарта, брата Дария, передай ей те же заверения в личной безопасности и скажи, что ее господин будет похоронен так, как заслуживает его высокое звание. Со всеми женщинами царской крови будут обращаться как с царицами. И наконец, если представится такая возможность, передай Статире, что я не питаю к Дарию ненависти, а империю его захвачу по праву победы — таковы суровые правила войны.
— Слушаю и подчиняюсь, мой царь. — Леоннат отсалютовал и направился в женскую палатку.
— Царь, ты можешь пожалеть о своем обязательстве, когда увидишь Статиру собственными глазами, — заметил Гарпал. — Говорят, она первая красавица Персии. Я только мельком видел ее и готов согласиться с таким утверждением.
— Я смотреть на нее не буду и тебе с этих пор запрещаю.
— Да я же только глядел на ее украшения — это моя обязанность как царского казначея. Хочешь узнать, какова ценность остальной добычи? Например, рабов и рабынь? Или даже наложниц? Или персов помимо царской семьи?
— Не сейчас. В голове путается. Подожду Леонната, а потом отправлюсь к себе в палатку. — Внезапно я почувствовал себя вконец изможденным и телом, и душой и при этом не понимал, в чем дело.
В лагерь мы ехали в молчании. Прибыв туда, мы узнали, что Парменион вывел на поле сражения большинство невоенных и несколько сотен солдат, добровольно вызвавшихся помочь раненым товарищам, которые еще не были совсем безнадежны, собрать тела наших погибших для почетного погребения. Таково было мрачное последствие битвы, и, кроме того, нам придется покинуть это жуткое место сразу же после похорон, так как для персов не будет ни погребения, ни пения труб, ни почестей, причитающихся доблестному врагу; только хищные птицы слетятся сюда на рассвете со всех сторон. Остальные мои солдаты разошлись по своим тюфякам или молча сидели вокруг сторожевых костров. Было удивительно тихо и спокойно. И в голову приходила мысль, что каждая одержанная в бою победа есть также и поражение для человечества, но я поскорее отделался от нее — мне непозволительны были подобные мысли. К тому же, что бы ни говорила мне когда-то давно, будучи совсем еще ребенком, Роксана — разве человек не игрушка судьбы?
6
В просторной палатке с цветной львиной головой над входом меня дожидалась Таис. Хоть по сравнению с роскошным шатром Дария, скорее похожим на дворец, палатка напоминала деревенскую лачугу, по македонским нормам она являлась верхом роскоши: площадью примерно в двадцать шагов, на дощатом полу пушистые ковры из Тавра; пять комнат, задернутых тяжелыми шторами; а также у входа и в глубине — по небольшой прихожей. Самая крайняя принадлежала Вере, хмурой служанке Таис, и отсюда в нашу спальню с примыкающей к ней ванной тянулся шнур колокольчика. Кухня, где хозяйничали два персидских раба, соединялась с нашей столовой, где стояли четыре кушетки и стол из слоновой кости с инкрустацией из жемчуга, золота и серебра, приведший меня в восхищение во дворце сатрапа в Милете. Одна из передних комнат служила мне приемной, где я принимал послов, устраивал совещания с военачальниками — Парменионом, Птолемеем и другими; сюда никогда не ступала нога Таис. Соседняя комната служила нам для совместного отдыха и общения. Таис читала здесь, писала или вышивала, рисовала маленькие картинки, играла на лютне, развлекала меня, как гостя.
Она встретила меня у занавешенного входа, взяла за руку. Видимо, хотела усадить на кушетку, сесть рядом, держа мою руку, разговаривать или слушать — как я пожелаю.
— Не могу составить тебе компанию, пока не вымоюсь, — сказал я ей. — И вид у меня, и запах, как у того поля.
— Ты такой уставший и бледный. Да ты ранен! У тебя кровь на одежде.
— Без крови войн не бывает. Если бы на Земле появился пришелец с другой планеты, он бы, наверное, предположил, что обильное кровопролитие и есть конечная цель войны. Врачи говорят, что время от времени полезно делать человеку кровопускание. Этот пришелец, возможно, решил бы, что мы, хитрые существа, нарочно изобрели войны как средство общего кровопускания — ну, разумеется, избыток лечения приводит к множеству несчастных случаев, но зато мы все чудесно проводим время, до тех пор пока…
Я заметил, что говорю как пьяный.
— Позволь я взгляну на рану.
— Рана пустячная, уверяю тебя. Из пореза больше не течет, кровь подсохла. Рана неглубокая, не задело ни артерии, ни одной крупной вены, но все же смотреть неприятно.
— Я все же хочу на нее взглянуть.
Я показал ей порез с запекшейся кровью. По правде говоря, я вовсе о ней забыл. Таис вызвала слугу и попросила его принести горячей воды, губки, таз, мазь для очистки и заживления и пластырь. Приняв все это из его рук и велев ему идти, она обработала рану своими легкими и красивыми руками.
— Останется великолепный шрам, — сказал я ей. — Какой полководец может считать себя ветераном, если у него нет ни одного шрама? Они — наглядное доказательство того, что он побывал в настоящем бою, а не сидел, словно наседка, в палатке. Однако я нанес своему лучшему другу рану почище этой — когда мы в юности с ним фехтовали.
— Кто же был в ту пору твоим другом?
— Птолемей.
На мгновение она прекратила работу, затем спросила:
— Он все еще твой лучший друг? Я думала, его заменил Гефестион.
— Ни один человек никогда не сможет заменить Птолемея. Но Гефестион держится со мной с большим почтением, нежели другие македонцы, которым не хватает ума, чтобы понять одну простую вещь: мы уже не дети и не в игрушки играем.
Таис хотела что-то сказать, засмущалась и, поймав мой заинтересованный взгляд, спросила как бы из праздного любопытства:
— Когда вы занимались фехтованием, ты его побеждал?
— А ты как думаешь?
— Наверное, так и было. Ты одолеваешь все, за что бы ни взялся. Если бы ты захотел стать поэтом, в Греции тебе не нашлось бы равных. То же самое относится и к скульптуре, живописи, строительству, математике, вполне возможно, и к философии. Тебе бы только пришлось включить другую трубу. Но ты выбрал самую опасную деятельность, и самую яркую. Наверное, это отвечает твоему характеру. И все же меня как-то удивляет, что ты смог побить Птолемея. Это, должно быть, сильно задело его за живое. Видишь ли… он такой одаренный… такой искусный… Он бы всех превзошел, если бы не было тебя.
— Похоже, ты знаешь, хоть я и не говорил об этом, что он мой сводный брат.
— Это всем Афинам известно. Он сам никогда не говорил о вашем родстве, но ведь Арсиноя была знаменитой куртизанкой, и старики еще помнят, что она вынашивала ребенка, когда Филипп женился.
— Ты думаешь, что, если бы я, ему на беду, не родился на белый свет, он бы достиг того же и так же скоро?
— Нет, я этого не думаю, хотя он мог бы стать царем Македонии. Птолемей всего лишь очень одаренный человек. А ты — ты чудо природы.
— И не орудие осуществления замыслов богов?
— Я чувствую, что это опасный разговор. Опасный для меня. Может, переменим тему?
— Как хочешь, но не раньше, чем ответишь на мой вопрос.
— Отвечу, коль велишь, царь Александр. Я сомневаюсь, чтобы у богов было много замыслов: они творят или приводят в движение могучие силы природы. Те, в свою очередь, создают виды животных и растений. Ты заглядывал в калейдоскоп — при каждом повороте возникает новый узор. Они в основном одинаковые по красоте, но один из десяти может быть прекрасней, а уж один из тысячи просто потрясающе красив. А если один из миллиона или из сотни миллионов? Число комбинаций безгранично. Конечно, это весьма примитивное сравнение. Для рождения гения в среде людей требуются непременные условия, чрезвычайно и исключительно благоприятные. Если бы Арсиноя была твоей матерью, ты бы, несомненно, стал знаменитым человеком с превосходными способностями. Но вместо этого матерью тебе стала эта необузданная ведьма Олимпиада. Склонность к безумию наряду с бессчетным множеством других факторов, исключительно благоприятных для случившегося, вызвали рождение Александра Великого.
— И это титул, которым я буду отличаться от множества других Александров?
— Это лишь одно из различий между тобой и всем человечеством в целом. Александр, у тебя такая прекрасная кожа — бело-розовая. Жаль, что приходится закрывать ее этим безобразным пластырем. Телом и лицом ты тоже поистине прекрасен. Пракситель мог бы изваять с тебя великого Гермеса.
— У тебя лицо дивной красоты и прекраснейшее тело.
— Это мне известно. То же самое мне говорили многие скульпторы и художники, славящиеся острым чутьем, и я не могу усомниться в этом. Но в то же время я сознаю и свои
слабости и недостатки.
— Может, ты дашь мне сына или дочь? Я хочу, чтобы ты зажглась от моего семени. Не понимаю, почему этого не произошло до сих пор.
— Сядь рядом со мной на кушетку, и мы поговорим об этом. Вернее сказать, я дам тебе объяснение.
Мы сели рядом, она оперлась рукой на мое колено и нежно поглаживала мою ладонь; пальцы ее слегка дрожали.
— Я бы предпочла заняться чем-нибудь еще, что в моем характере, а не давать объяснений.
— И все-таки объяснись, прошу тебя. Я сгораю от любопытства.
— Ладно. Ты когда-нибудь слышал об Артамании? Это был маг, учившийся в Египте. Он проделал целый ряд опытов.
— Не думаю, что мне известно это имя.
— Он жил очень давно — вскоре после Троянской войны. Он, разумеется, умел писать египетскими иероглифами. Его опыты привели к следующим результатам: исключая необычные обстоятельства, нормальная женщина может зачать только на двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый день после появления у нее «цветов». Это учение мало кому известно, но нам, воспитанницам школы госпожи Леты, это преподавали по вполне очевидным причинам. Ты заметил, что в определенные дни я под разными предлогами не принимаю твоих объятий?
— Я заметил только, что где-то в середине своего месяца ты страдаешь от головных болей. Но дней я не считал.
— Потому-то я и не зачала.
— Клянусь богами, Таис, я не понимаю. Ты не хотела от меня ребенка?
— Не хотела, царь Александр.
Я долго не мог ничего сказать. Может, Таис чувствовала, что недостойна этого? Если так, ей следовало бы признаться. Ведь понятно — она же куртизанка. Но мне как-то не верилось, что в этом причина. Наконец я спросил, стараясь казаться спокойным:
— Может, скажешь почему?
— Скажу, коли на то пошло. Я и сама немного сумасшедшая — не такая одержимая, как Олимпиада, но я ощущаю себя вновь рожденной Киферой, поклоняюсь ее красоте и думаю, что это моя собственная, выбираю любовников по своему вкусу, чтобы черпать страсть из самых потаенных глубин желания. Если бы я зачала от тебя, особенно если бы это был мальчик, боюсь, он бы слишком был похож на Александра Завоевателя.
Мой внутренний голос — возможно, это был голос здравого рассудка, если таковым я обладал, — посоветовал мне больше ничего не говорить. Я не мог послушаться его, хотя знал, что не услышу никакого утешительного для себя ответа. В Таис меня, пожалуй, больше всего восхищала ее детская откровенность — по сути, источник основательной и многогранной честности. Когда-то давно было сказано: величайшая опасность для царей кроется в том, что они вечно окружены лжецами. Сегодня я понял, насколько это верно. Ахеменид Дарий приговаривал к смерти за неудобоваримую правду и тем самым упустил свой шанс одержать надо мной победу.
— Тебе бы не хотелось, чтобы наш сын продолжил мое дело, когда я перестану им заниматься? — спросил я.
— Ты никогда не перестанешь заниматься своим делом — до самой смерти. Если нашему сыну и останется завоевать что-то еще, то это потому, что ты умрешь молодым. А я не выношу и мысли о том, чтобы ты мог лежать мертвым. Такая чудовищная потеря! Я отвечу тебе так: не хочу быть матерью завоевателя. Великие завоевания влекут за собой потоки, море крови. Не хочу, чтобы у моего сына руки были в крови. А еще опустошение земель, разрушение городов, превращение множества людей в рабов. Я хочу быть тебе любовницей — не на всю твою жизнь, но все же надолго. А матерью твоего сына я быть не желаю.
Она наклонилась и поцеловала меня.
— Придется принимать тебя такой, как ты есть, — проговорил я, чувствуя, что этот нежный поцелуй возбудил нас обоих.
— Почему бы не сейчас? Спасибо моей богине, сегодня не запрещенный день. Ты не слишком устал? Вели своей старой рабыне Ионе вымыть тебя, но только не Алфее: она молода и красива. Скажи Ионе, чтобы не намочила пластырь на ране. Ты сегодня одержал великую победу и наверняка захватил большие сокровища. Даже сам царь спасается бегством от твоего меча. И все же нет ли какой-нибудь награды за победу, которой тебе еще недостает?
— И верно, есть такая. Если я ее завоюю, это послужит мне искуплением за все твои горькие признания мне, и вместо них я получу твое мягкое чудесное тело с его разнообразными красотами, которых не перечесть и не описать. Да, я устал. Но просто возьми и сунь свою руку мне под тунику, за воротник, пусть она пройдется по моей груди, спустится к бедрам, потом меж них; легчайшее прикосновение — и снова я буду свеж.
7
Когда наш восторг постепенно утих, Таис тотчас заснула. Впервые мне пришла в голову мысль, что, прислушиваясь к отдаленному шуму битвы, душой и телом она переживала то же самое, что и мы — те, кто, оказавшись в самой гуще этой схватки, остался в живых. Мы могли видеть, что творится на нашем участке поля, Таис же было дано только рисовать это в своем воображении. Пока жизнь солдата била в нем ключом, он ощущал ее таинственное существование. Таис же не имела никаких вестей о сражении, кроме тех, что приносит ветер, она не знала, продолжают ли сражаться дорогие ей люди, взяты ли в плен или полегли костьми в молчаливых рядах павших.
Я лежал в полусне, блаженно-счастливый оттого, что страшное испытание уже позади, что с восходом солнца я вспомню о нем как о дне вчерашнем. Вскоре после полуночи мы полностью очнулись от сна, облачились в персидские наряды и кликнули хмурую служанку Таис, чтобы она принесла нам вина. Выпив, мы принялись за обильный ужин из перепелов, кунжутных пирогов, дикого меда и ароматного шербета, который часто подают на персидских пирах. Мы ели с одинаково завидным аппетитом, потом, зевая и сонно моргая, встали из-за стола и поспешили снова в постель.
Еще до восхода солнца я был уже в седле и выслушивал новости о Дарии. Его преследователи хмуро сообщали, что он бесследно исчез и они не знают, на каких горных тропах искать его.
В это утро мои соратники закончили похороны наших павших бойцов; прозвучали трубы, и мы попросили богов смилостивиться над их душами. Затем поспешно оставили это место, над которым собирались стаи крылатых вампиров. Как только поле сражения осталось позади, я послал Пармениона с легкой конницей в Дамаск, приказав ему перекрыть царскую дорогу, сообщающуюся с Эмесой, и раздобыть свежих лошадей на почтовых станциях. Я не мог пригласить Гарпала участвовать в этом рейде — он бы не поспевал за всеми, — и его это сильно задело, а возможно, и оскорбило.
Со временем я получил сообщение, что экспедиция удалась: Парменион догнал обозы Дария и взял город. Я представил себе, как этот старый, закаленный в боях вояка исследует свой улов, разинув от изумления рот, как какой-нибудь деревенский простак. Он описал это в письме, посланном мне с большой поспешностью, и, похоже, особое впечатление на него произвело огромное число флейтисток у царя — триста двадцать девять. Скажу по правде, меня тоже это не оставило равнодушным. Можно ли прослушать столько флейтисток, если, конечно, они не играют хором? Парменион уверял меня, что поваров было двести семьдесят семь: нечетное число говорило о том, что он сосчитал их по носам с величайшей тщательностью. Семьдесят процеживали вино, сорок составляли духи, но только тринадцать делали сыр. Когда я прочел это кое-кому из своих военачальников, они просто взвыли от хохота. В Македонии мы очень нуждались в составителях духов, так как много потели и редко мылись, но во дворце Филиппа их было только двое. И напротив, мы вряд ли могли прожить без сыра, изготовлявшегося из коровьего, кобыльего, а случалось, и из верблюжьего молока — эти животные с резким запахом давали лучшее молоко для всех видов ароматного сыра.
Согласно первым сообщениям, в царской сокровищнице лежало пятьсот талантов серебра и двадцать шесть сотен талантов золотых монет. Этой баснословной суммы денег, поделенных среди моих солдат, хватило бы, чтобы набить кошелек каждого из них сотней золотых статеров. Но я подозревал, что эта оценка несколько преувеличена, и оказался прав. В добычу также входило свыше пяти сотен лошадей, мулов и ослов, тридцать тысяч рабов, всевозможные ценные вещи и столько молодых женщин, что ему было трудно их пересчитать — глаза слепило от их красоты.
Я же тем временем продвигался на юг и в память о сражении основал город Александрию — для защиты Киликийских Ворот. Два острова, до этого захваченные персами, были, словно на золотом блюдце, преподнесены мне послом их бывшего царя.
Восемь моих кораблей захватили десять персидских, прохлаждавшихся возле Сифноса, тем самым разбив надежды адмирала на восстание в прибрежных городах. Но у нас на родине царила смута: там снова распространилось ложное сообщение, будто я убит, а моя армия разбита. Хмурая маленькая Спарта попыталась было начать собственную войну, но в разгар подготовки к ней пришли вести о моей победе при Иссе. После этого в Греции установилась успокоительная тишина.
Наконец я получил от Дария письмо, в котором он предлагал дружбу и союз, если я немедленно верну его прекрасную жену и любимых детей. Тем вечером, когда я проявил беспримерное благородство души, у меня было намерение вскоре так и поступить, но потом я передумал, сообразив, какую ценность они могут иметь для меня как заложники. Решив с этим не торопиться, я отвечал Дарию с холодным высокомерием, предупреждая его, чтобы впредь он не думал оспаривать мое право на его империю.
— Я рада, что Дарий ускользнул, — заметила Таис, когда я показал ей его письмо.
— Не понимаю твоей радости, — холодно ответил я.
— Я радуюсь за тебя. Если бы Дария захватили или убили, сатрапы тут же сцепились бы из-за того, кому быть его преемником. Никто бы не признал твоего права, царь Александр, потому что ты покорил только Малую Азию и все еще находишься в девяти тысячах стадий от Вавилона, за которым его империя простирается на восток, кончаясь на полпути до восхода солнца. Тот, кому достанется его трон, так вознесется в собственном мнении, что наверняка соберет армию, чтобы постараться вернуть утраченное. Дарий же уже дважды испил из той горькой чаши, которую ты ему подносил, а это заставило его присмиреть. Я не сомневаюсь, что он предложит тебе не только сатрапии, которые ты уже захватил, но, вполне вероятно, и все обширные территории отсюда и до долины Тигра и Евфрата, если ты позволишь ему мирно царствовать над остальной территорией.
— Не вступлю в союз ни с одним персом. Мне нужны только его смирение и покорность.
Ничто из того, что раньше говорила Таис, не уязвило меня так сильно. Казалось немыслимым, чтобы она до сих пор не осознала моей неумолимой решимости завоевать всю обширную Персидскую империю — завоевать или, пытаясь сделать это, умереть. Это было больше чем решимость. Сами боги, я твердо верю, внушили мне свою волю и заставили посвятить свою жизнь этой высокой цели. На большее я бы не претендовал. Но почему Дарий отказался прислушаться сперва к мнению Мемнона, затем Харидема? Какие силы притупили его слух и острый ум, чтобы заставить совершить губительную ошибку и завлечь в мои сети?
Я не забыл: Таис не хватает веры в божественность моей миссии. Не равнялось ли это нарушению верности мне? Вскоре я намеревался двинуться в Дамаск, там поговорить с вдовой Мемнона Барсиной и, если возможно, выяснить обстоятельства его смерти: была ли в самом деле болезнь ей причиной или что-то еще. Ни один из встречавшихся на моем пути не вызывал у меня таких сильных опасений, как Мемнон. Никто другой не мог так близко сравниться со мной в смысле военного гения: если в действительности он и не был таковым в полном смысле этого слова, то каждый из нас превосходил друг друга в одних отношениях и не дотягивал в других. Если бы его не убрали… Впрочем, мне не хотелось взвешивать за и против в этом темном деле. Никогда не забуду, как он выгнал опытного, талантливого вояку Пармениона из района Геллеспонта. Сам я ни разу не одержал серьезной победы над Мемноном. Да, он был мне настоящим соперником, и в одном отношении я жалел о его ранней смерти: она не дала мне возможности подвергнуть свои силы высшему испытанию — испытанию его силой.
Совершенно справедливо: мое предприятие в истории человечества было самым честолюбивым. Ни Ксеркс, ни Рамзес Великий, ни Кир, ни наш Геракл — даже в тех, облаченных в миф, легендах — не достигли столь многого, как я. Таис не нужно было мне напоминать, что это только начало. В результате какого-то духовного процесса, который был для меня незаметен, я пришел к решению, которое не мог полностью переварить своим умом. Труднейшим узлом в дереве, которое я собирался срубить, узлом, самым неподатливым моему мечу, являлся город Тир, с незапамятных времен и до недавних пор могущественнейшая сила, сопредельная нашему морю. Когда Греция была только горным пастбищем, населенным грубыми пастухами, Тир противостоял ей богатством и культурой. Никогда в своей невероятно древней истории этот город не уступал захватчику. Время от времени он подвергался осаде, но стоял до тех пор, пока осаждающие не падали духом. В стенах его никогда не пробивали брешь, ворота никогда не брали штурмом.
Сначала я намеревался покорить соседние Тиру города, Библ и Сидон, и лишить персидский флот баз в этом районе, а потом собственным флотом взять его в блокаду до тех пор, пока моему мечу не покорятся две большие персидские столицы, Вавилон и Сузы. Но теперь я пришел к иному решению. Где найти еще лучшее испытание сил, как не здесь? Я снесу девятиметровые стены Тира, пройду маршем по его улицам, на которые никогда не ступала нога вражеского солдата, уничтожу его гарнизон и захвачу трон наместника.
Дарий вскоре услышит о великой победе, затрепещет его сердце и потемнеет в душе, и, если только не воспламенится какой-то новой надеждой, он больше никогда не пойдет войной против непобедимого Александра. Куда как гладкой ляжет мне дорога в Индию. А в близлежащем Дамаске вдова Мемнона уж никогда не будет рассуждать о ходе событий в том случае, если бы был жив ее супруг, никогда не будет гадать, кто из нас гениальней. И не с гордо поднятой головой будет она стоять, а падет ниц предо мной.
8
В этом древнем районе на восточном берегу нашего Внутреннего моря, являющемся на протяжении двадцати веков родиной семитского народа, я прежде всего направился к Библу, вассальному городу Тира. Библ сдался еще до того, как натянули македонский лук. Сидон, когда-то соперник Тира, а теперь ненавидящий его пленник, с радостью приветствовал меня: Мемнон однажды с помощью предательства овладел им и чуть ли не сжег дотла. Мы не тешили себя надеждой на быструю капитуляцию самого Тира. Верхом мы провели первый тщательный осмотр местоположения города и его фортификационных сооружений.
Город стоял на острове, примерно в четырех стадиях от материка, где лежали руины родственного ему города. Хирам, современник Соломона из Иудеи, построил между двумя городами дамбу, но ее с тех пор размыло волнами. Я сразу понял, что должен построить еще одну дамбу между руинами и живым городом, чтобы можно было подвести под его стены осадные машины и устроить базу для своей армии. Чтобы порадовать солдат, я вывалил в воду первую корзину земли и взял на заметку дату: вскоре после зимнего солнцестояния, года 26-го о. А., спустя несколько месяцев после моего двадцать пятого дня рождения.
Старею, подумал я. А Таис еще нет и двадцати трех, она в расцвете своей юной красоты. И Роксане в далекой Бактрии, по моим подсчетам, года двадцать два. Я не видел ее около девяти лет. Она наверняка уж отчаялась меня ждать или, может, забыла, что когда-то желала моего прихода.
Роксана, далекая искательница приключений, наездница, обладающая красотой не такой мистической, как у Таис, но более живой, ты не забыла мое имя, хотя я слышал, что в Центральной Азии меня зовут Искандер. Туда, в твое далекое горное царство на пронзающем небо Памире, доходят обо мне слухи — их в основном разносят медленно тянущиеся караваны, а еще, наверное, быстро мчащиеся гонцы царя Дария, зовущие на войну бесстрашных всадников на косматых и малорослых лошадях, чтобы они могли пополнить его ряды. Но если какие-либо бактрианские конники и вступали в схватку с моими силами в Иссе, то шпионы мне об этом не сообщали. Не видишь ли ты иногда в своем воображении дубовый лес близ храма Додоны? Когда ты в постели со своим мужем Сухрабом, не является ли тебе во снах воспоминание о тишине и тьме у догорающего вечернего костра, когда ты положила мою руку к себе на мягкий шелковистый холмик, называемый у нас холмом Афродиты, пообещав, что он будет мне наградой победителю, если я в твоем далеком царстве дойду с победой до Мараканды? Ты не думала, что краткая моя ласка кому-то во зло, хотя она могла бы оскорбить целомудренную Артемиду, но ты предполагала, что приглашение, возможно, обернется большим злом, наказуемым смертью, ибо с тех пор мне только мечом приходится прокладывать себе дорогу!
Потерпи, малышка, теперь уж мужняя жена, я скоро приду.
Развалины каменоломни на континенте обеспечили нас всем необходимым материалом для засыпки илистых отмелей около берега. Чтобы облегчить переправу осадных орудий на остров, мы вбили по границам его сваи. Вражеским судам до нас было не добраться, но, достигнув глубоких вод, мы оказались в пределах досягаемости их стрел и камней, и пришлось построить переносные деревянные баррикады для своей защиты и башни, с которых и мы могли посылать в ответ свои стрелы и камни.
Но умудренные жители Тира знали и другие способы ведения войны. Нагрузив дровами большую шаланду, обычно служащую для перевозки лошадей, и установив на палубе фок-реи, с которых свисали железные котлы с маслом и смолой, они готовились сжечь наши баррикады и башни. Будучи опытными моряками, они нагрузили корму пожарного судна, с тем чтобы выше поднялся нос, отчего воспламененные жидкости изливались бы с катастрофическим для нас результатом.
Так и случилось. Да к тому же бросившиеся тушить пожар солдаты становились легкой добычей лучников и пращников, выстроившихся у борта, и мы потеряли немало людей. За каких-то пятнадцать минут наш пятнадцатинедельный труд полностью пошел насмарку.
Тир не ронял своей репутации города, способного дать отпор любой осаде. Все мои военачальники, за исключением Птолемея, были обескуражены до тех пор, пока я не съездил в Сидон для поиска кораблей, способных схватиться с вражескими судами. И там боги снова улыбнулись мне. Морские капитаны Арада и Библа, узнав, что эти города у меня в руках, и ненавидя тиранствующий Тир давнишней ненавистью, покинули на своих кораблях персидский флот, чтобы присоединиться к моей нарождающейся эскадре. Корабли Сидона также стали на мою сторону, Родос и Ликия дали по десять кораблей, а Солы, говорящие на извращенном греческом, три. Даже Македония прислала одну небольшую воинскую галеру. А там и правитель Кипра, узнав о победе при Иссе и будучи другом Дарию, когда тому везло, в этот бедственный для него час быстро стал перебежчиком и отдал под мое знамя свой великолепный флот из ста двадцати кораблей. Итак, в целом у меня оказалось свыше двухсот кораблей.
Тем временем мои люди укрепляли насыпь. Пока суда готовились к осаде, я не мог терпеливо ждать и поэтому с легким, но сильным войском из пехотинцев и лучников предпринял десятидневный рейд против итуреанских племен, воины которых, едва завидев, как мы размахиваем оружием, поспешили сдаться. Мы убедились, что можем безопасно передвигаться вдоль берега, и гарантировали свои фланги и тыл от всяческих напастей.
В Сидоне четыре тысячи греческих наемников под командованием Клеандра — его четыре месяца назад я отправил для найма добровольцев — восполнили то, что я потерял в сражении при Иссе и в других мелких баталиях после него, но их количество разочаровало меня.
Завидев мой новый флот, левое крыло которого было под началом Кратера, а правое под моим, тирийский адмирал изменил план морского сражения. Он и его капитаны поняли, что Тиру предстоит выдержать опаснейшую и упорнейшую осаду за все века его господства на Внутреннем море, а иначе он будет разрушен. И все же его флот, занявший подходы к гавани, нельзя было атаковать, не понеся серьезных потерь, поэтому я удовольствовался тем, что сковал его подвижность своими плавучими силами.
Затем я послал в Финикию и Сирию за опытными инженерами, лучшими в мире, и они приступили к строительству осадных машин, размеры и мощь которых были македонцам в диковинку. Одни устанавливались на связанных вместе шаландах, другие на дамбе, а те, что полегче, на самых больших кораблях. Но когда мы построили башни для своих катапульт, то убедились, что тирийцы в этом отношении посильнее нас: с их возносящихся со стен башен можно было посылать стрелы и большие дротики с горящей смолой, а их катапульты забрасывали камни в мелкий канал, делая его еще мельче и не позволяя нашим плавучим средствам подходить близко к стенам города.
Мы, установив вороты на кораблях, поднимали эти камни со дна, что было делом не только долгим и трудоемким, но и опасным, ведь работать приходилось под градом стрел, камней и дротиков. Верно, эти тирийцы в прошлом заключили союз с Посейдоном, судя по тому, что они знали все хитрости, как отбиваться от флота. Они посылали на стоянку наших кораблей свои с фальш-бортом, защищенным растянутыми шкурами, и перерезали нам канаты, чтобы корабли уносило в море или сажало на каменистые отмели. И когда мы платили той же монетой, посылая корабли, таким же образом защищенные, чтобы таранить беспокоящие нас суда, их пловцы, умеющие долго держаться под водой, продолжали перерезать канаты, и нам оставалось только заменить их железными цепями.
Наконец можно было приступить к штурму этих намозоливших нам глаза стен. Наши осадные корабли вошли в расчищенные каналы, а установленные на дамбе тараны принялись долбить стену. Смотреть, как они раскачиваются на своих стрелах взад и вперед, было одно удовольствие, и, я полагаю, от этих мощных ударов весь Тир охватило дрожью. И все же его защитники так и кишели на стенах, отбиваясь всевозможными метательными снарядами: камнями, зажигательными ядрами, гигантскими дротиками и стрелами.
Горожане молились своему богу Мелкарту, чтобы он не допустил вторжения, но тот, как и Геракл, по рождению эллин, верен был эллинам и, думаю, мало прислушивался к мольбам тирийцев, занимаясь своими любимыми делами: охотой, войной и соблазнением девственниц. Я узнал, что правитель Тира обратился за помощью к Карфагену, тоже семитскому городу, но Карфаген ответил, что поглощен киликийскими войнами и может выделить только одну триеру в знак родственной привязанности и любви. Так что осажденный город понял, что должен полагаться на свои возможности и суровую решимость — все еще серьезный камень преткновения для нашего успеха.
Правители Тира приказали вступить в бой с кипрским флотом, стоящим у Северной гавани. Они наметили налет на полдень, время, когда большинство моряков сходит на берег за водой и провиантом, а я обычно отдыхаю в своей палатке. Но боги в этот критический час заставили меня бодрствовать, и, хотя не было слышно барабанов, под бой которых боцманы добиваются ритмичной гребли весел (на этот раз они обходились голосами), я выскочил из палатки, когда налетчики миновали мыс и кинулись в атаку.
За несколько сумасшедших минут успеха они натворили много дел. Их тараны погубили пентеру
[195] кипрского царя, а вместе с нею и еще два судна. Другие корабли враг взял на абордаж, и, прежде чем киприоты сумели организовать оборону и отбить атаку, их экипажам пришлось понести тяжелые потери. Мои воины со всех сторон бросились к дамбе, чтобы сесть на корабли и провести контратаку. Я же взошел на стоящую у южной стороны дамбы пентеру, управляемую небольшим экипажем, и все мы поплыли вокруг острова Тира. Еще до этого я приказал блокировать вход в гавань, чтобы стоящие в ней на якоре корабли врага не смогли бы соединиться с теми, что напали на киприотов, а те, в свою очередь, не смогли бы вернуться после сражения на свои якорные стоянки.
Люди на моей и других триерах гребли как сумасшедшие. Вода так и пенилась под носами наших кораблей, и мы прошли дугу в двадцать семь стадий прежде, чем из часов вытекла треть воды. Достигнув места сражения, мы бросились таранить корабли налетчиков, и немало их нашли свою смерть на дне морском. Другие разбились о камни, о дамбу или о городские стены, а две самые большие триеры спустили флаги у входа в гавань.
Хотя мы тогда еще того не знали, но эта битва знаменовала конец морского владычества Тира — бича морей с незапамятных времен.
Что пользы рассказывать о последней битве за овладение городом? Мои осадные корабли с нарастающей яростью штурмовали восточную стену, которая оказалась неприступной, как каменная гора, затем северную и после нее западную. Только со штурмом южной стены мои воины обнаружили признаки слабости осажденных. Били и били тараны, метали камни наши огромные катапульты, и для прикрытия их персонала от метательных снарядов защитников стены туда переправлялись полные триеры лучников. Одновременно, чтобы распылить и ослабить силы гарнизона, был предпринят единый штурм всех остальных стен города.
Возникла небольшая брешь, и тут к стене приставили лестницы, но атака была отбита.
На третий день после первой атаки ветер утих, море успокоилось, легче стало маневрировать, и во всех стенах стали появляться и расти трещины, одна за другой. Под самым большим проломом две триеры солдат поставили лестницы и пошли на штурм, возглавляемые храбрым Адметом. Адмет пал, но его солдаты продолжали наседать. Трубачи собрали мою охрану, и мы, овладев верхушкой стены, стали с боем пробиваться к задней части примыкающего к стене дворца. С тридцатиметровой высоты мы могли лишь изредка, меж схватками то с тем, то с другим защитником, бросить беглый взгляд на море, чтобы увидеть взятие в плен или гибель остатков знаменитого Тирского флота. Безветренный, промытый недавним дождем воздух казался огромным стеклом для чтения, сквозь которое все было видно удивительно отчетливо; люди и корабли казались крошечными, но резко очерченными. Наши триеры мчались на врага с какой-то бешеной скоростью. Солнце ритмично вспыхивало на взлетающих в унисон лопастях весел. Они казались многочисленными ножками какого-то быстро семенящего мерзкого водяного жука, хотя в действительности это были всего лишь деревянные метлы, причесывающие спину лениво лежащему морю.
Каждое столкновение между одной из моих триер и вражеской казалось неестественно коротким, как, возможно, часто бывает в сражениях; похоже, прекратилось движение времени вперед, ибо здесь, на стене, повторялось одно и то же: нападение или бегство противника — и событие быстро и внезапно прекращалось, как только он падал, сраженный насмерть. Это был уже не тот враг. Он знал, что после долгой и стойкой обороны город быстро теряет силы; надежда на победу угасла, и воинственный дух сменился отчаянием и слабостью, явно ведущими к поражению.
То же самое происходило на триерах. Две — своя и чужая — сцеплялись, словно их влекла друг к другу какая-то неодолимая сила. Мы не видели подводных таранов с их страшными зубцами, и почти сразу же одна из этой двойни начинала тонуть, кренясь на нос или корму, или иногда просто опускаясь на киль до тех пор, пока вода не захлестывала палубу, и она исчезала. И почти всегда именно тирийской, а не моей триере приходил такой быстрый конец. Солдаты прыгали за борт, но мало кто из гребцов успевал это сделать, к тому же многие из них были прикованными к скамьям рабами. Затем с ближайших триер в барахтающихся пловцов летели стрелы или дротики.
Но на страшный пир явился еще один налетчик, ужасней, чем эти. Рыболовы Тира имели привычку очищать свой улов недалеко от дамбы и выбрасывать за борт не только внутренности, но и целые рыбины, если они не годились для продажи на рынке. Поэтому здесь собирались большие стаи акул, в основном мелких, но бывали и крупные особи. Сюда же спешили и длиннозубые хищницы, такие, как барракуда. С тех пор как началась осада, рыбачьи шаланды держались подальше или удалились в дружественные воды; однако стаи хищников не покидали прикормленное место и становились с каждым днем все прожорливей и свирепей. Они пожирали тех, кто падал со стен и башен, убитых, выбрасываемых за борт по той причине, что на оспариваемой территории похороны были фактически невозможны. Это был их праздник: разрезая воду острыми плавниками, они устремлялись к каждому только что затонувшему кораблю. Даже маленькие акулы, в большинстве случаев не осмеливавшиеся нападать на плывущего человека, теперь брали его в кольцо и, делая молниеносные выпады, кусали и тут же отступали назад. Повсюду были видны круги и воронки, вода в которых из лазурно-голубой превратилась в розовую, красную, алую.
Корабли можно было построить заново. Но мореходное искусство тирийских моряков, с каким они отваживались заплывать за Ворота Геракла в Океаническом море и там соперничать с ветрами, неизвестными на нашем море посреди суши, и ходить в далекие страны за оловом, их знание маршрутов, опасных отмелей, рифов и губительных приливов, которое нам, жившим на Внутреннем море, было недоступно — это искусство с гибелью носителей таких знаний терялось, и, чтобы вновь обрести потерянное, возможно, потребовались бы века. Все это тысячелетиями устно передавалось от отца к сыну, и так, как знал это тирийский моряк, не знал ни один другой.
То был их хлеб, их гордость, и именно этим они отличались от всех остальных. Но их древний островной рай уступал вражеской силе, и, возможно, они предпочитали умереть.
Мои соратники обнаружили спуск, ведущий на крышу примыкающего к стене дворца, и я повел их вниз, к арке, через которую мы без сопротивления проникли во внутренние покои. По всем признакам, это был дворец вассального правителя Тира, но, за исключением сбившихся в небольшие группы плачущих женщин, он оказался брошенным, и мы, ни разу не применив оружие, пройдя коридорами, спустились по величественной лестнице на улицу.
Защитники стен уже обратились в бегство, преследуемые моими солдатами, которые хлынули в город во все пробитые бреши. Те, что избежали смерти, собрались в святилище Агенора, чтобы оказать последнее сопротивление, но моя охрана, подкрепленная со стороны, атаковала с величайшей яростью и быстро их рассеяла.
Над местом битвы уже опускалась тишина, и я совсем было собрался вложить в ножны свой окровавленный меч, когда ко мне подбежал Гефестион. С красивого лица его еще не сошла ярость битвы, на щеке — кровавый порез от меча.
— Царь, мы заперли в узкой улице около двух тысяч этих собак — отборные части, подчиненные непосредственно наместнику. Они отправили в Аид множество наших братьев и никогда не смирятся с пленом. Чтобы их наказать и преподать урок всем другим, кто осмелится не признать твоей власти, мы хотели бы отвести их в соседний парк и прибить гвоздями к деревьям.
Злясь на долгую осаду, которая, наконец, окончилась разъяренной битвой, наполовину лишившись рассудка от потоков пролитой крови и ее тошнотворного запаха, я ответил ему сам не знаю что. Но Гефестион со зверски оскаленными зубами в суетливой спешке бросился прочь, и тут я догадался, каков был мой ответ.
[196] Он уже исчез в толпе, и я не смог бежать за ним, чтобы отменить свой приказ. Летели минуты, и этот шаг стал казаться невозможным без того, чтобы я не выказал своей слабости. Я вытер руки от крови и занялся делами, служащими закреплению нашей победы.
Я даровал прощение тем, кто искал убежища в храме Мелкарта, а также жрецам из Карфагена. Остальное население — около тридцати тысяч человек обоих полов и всех возрастов — обрекались на продажу в рабство. Я принес жертву святилищу Мелкарта, после чего приказал устроить смотр всем своим войскам, а затем игры и торжественное факельное шествие. В храме я оставил также таран, пробивший первую брешь в стене, и старинный корабль, считавшийся у народа священным, посвятив их богу, который являлся Гераклом, хоть и носил чужое имя.
Вот так и прекратил существование древний город, целое тысячелетие господствовавший на море. Возможно, со временем он, с его выгоднейшим для торговли на всем восточном побережье местоположением, и будет восстановлен, но никогда уж ему снова не быть самым драгоценным камнем персидской короны, ибо морская мощь его в основном перейдет к Греции, частично к Карфагену, а остальное достанется молодой энергичной нации, обитающей на «сапоге» Европы, — Риму.
Не много пройдет недель — ведь по царской дороге Дария, от одной почтовой станции до другой, всадники ездят быстро — прежде чем во дворец Ахеменидов в Сузах будет допущен дрожащий гонец, чтобы сообщить царю о падении Тира от руки врага его, Александра. И не исключено, что вестника замучают насмерть: такая судьба часто поджидала тех, кто приносил восточным монархам дурные вести, тогда как за добрые гонцов возносили к почету. И опечалится сердце царя, и помутится в уме его, и одолеют его во сне ночные кошмары.
Было сказано, что сонмы мертвых в царстве Аида не помнят своей земной жизни и бродят по сумрачным залам бесцельными молчаливыми толпами. И когда к ним вниз, в жертвенные ямы, проливается кровь, только тогда их ослепшие души чувствуют смутный испуг и губы их ненадолго остаются открытыми. Но мне представилось, что от пылающих факелов нашего шествия у Мемнона перед остекленевшими глазами заплясали искры и крохотные вспышки, и он как-нибудь догадался, что снова царь Александр поразил его Персию в сердце.
Глава 5
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ

1
Казалось бы, лекарство, которым я попотчевал Тир, заставит поморщиться правителя Газы — города, лежащего на перекрестке караванных дорог, в семи днях пути на юг, там, где восточный берег Внутреннего моря круто сворачивает на запад. Но вместо этого он, похоже, только еще больше рассвирепел.
Его правитель своей известностью не уступал самому городу, древнему и многолюдному. О нем, сидя у костра с готовящейся пищей, любили посудачить караванщики везде, от Синопы на Эвксинском море до великого Карфагена на северном берегу Африки между мысами Аполлона и Гермеса. Лицом и статью он был мужчина как мужчина, за одним исключением. Нумидиец по рождению, он лицом был черен, как Букефал, полон и красив, гигантского телосложения. Исключение, о котором я упомянул, можно было вывести путем дедукции, ибо в городе он один мог похвастаться такой торфянисто-черной кожей — там были загорелые и обветренные, но ни одного желто-коричневого по праву смешения его предков со светлокожими семитскими женщинами. Дело в том, что в детстве его кастрировали для обслуживания гарема — или, лучше сказать, для охраны женщин гарема, чтобы их не могли обслуживать посторонние. В народе его звали Бетис.
Осмотрев местоположение города, я понял, как воинственно этот малый, должно быть, настроен ко всякому чужаку, ступившему в его владения. Город стоял на высоком крутом холме, и стены его поднимались на головокружительную высоту. Негде было поставить наши осадные машины. Если мы построим под стенами террасы, то станем легко уязвимыми мишенями для кипящей смолы, стрел, дротиков и всевозможных метательных снарядов. В городе были запасы продовольствия, рассчитанные на долгую осаду. Когда я обратился к верховному жрецу близлежащего Иерусалима с просьбой прислать дополнительные силы, тот ответил, что Дарий — его господин и он никогда не станет перебежчиком.
Я немедленно привел в действие план, созревший в моей голове при первом осмотре города: насыпать у южной, наиболее доступной стороны города свой, еще более высокий вал, начав строительство с самого южного конца территории, которую он займет, при этом находясь вне досягаемости для метательных снарядов, помимо самых мощных катапульт. Вал рос перед нами, служа нам щитом по мере того, как мы продвигались вперед, к самой стене. В основании ему предстояло стать больше Великой Пирамиды Египта — две стадии, но значительно уступать ей по высоте и опираться не на вечный камень, а на грунт.
Его сооружение было долгим и утомительным предприятием, требовавшим мобилизации всех сил. За это время не произошло ничего примечательного, если не считать вылазки гарнизона, против которого я повел своих щитоносцев. В этой схватке мощная стрела, пущенная со стены из легкой катапульты, поразила меня в плечо, пробив насквозь щит и панцирь и вонзившись на несколько дюймов в тело. Пока у меня заживала рана, по морю на баржах прибыли тяжелые машины. Тем временем мои машиностроители, люди на таранах и другие, ведшие подкоп, не бездействовали, расшатывая стены и ослабляя их фундамент. Три раза мы шли на штурм и трижды с потерями отступали, но в свирепой четвертой схватке мои солдаты пробились в город и овладели им.
И на этот раз я сурово обошелся с захваченным населением, продав его в рабство и вновь заселив город окрестными жителями. Впредь ему предстояло управляться моим наместником, под началом которого я оставил гарнизон своих солдат. Иначе не было способа заставить города, лежащие на моем пути, понять, какой ценой обойдется им отказ от моего требования сдаться. Огромного евнуха Бетиса привели ко мне без единой раны на теле, и я задумался, какой смерти предать его. Как это часто бывало в моих размышлениях, я вспомнил «Илиаду» и героя ее Ахилла. В жестоком бою Ахилл убил Гектора, после чего приковал мертвое тело ступнями к оси своей колесницы и протащил по каменистой земле, сильно его изуродовав. Но богиня, любившая Гектора, златокудрая Афродита и отец ее Зевс, заделали все рваные, а также все колотые раны, во множестве нанесенные мертвому телу копьем Ахилла, так что на похоронах оно казалось «свежим, как роса».
Я мог бы посоревноваться с Ахиллом и в то же время ввести кое-что новенькое. Я приказал живого и еще целого Бетиса приковать ступнями к оси моей колесницы и хлестнуть лошадей. На протяжении порядка тысячи локтей Бетис орал, заглушая своим ревом грохот колесницы и топот копыт. Затем замолчал, и я подумал, что он мертв. Но он снова ожил и до тех пор орал, пока голова его не треснула, ударившись о камень.
Когда колесница вернулась, на тело было страшно смотреть, и ни один бог или богиня не заделали на нем рваных ран и не вернули на свое место волочащиеся за ним кишки. Я приказал выставить его на обозрение проходящих караванов, чтобы караванщики рассказывали о виденном на далеких привалах, и тем самым одна кровавая жестокость могла бы в будущем спасти жизнь бессчетному числу жителей городов, лежащих на моем пути, чьи правители или сатрапы, не сделай я этого, не стали бы со мной считаться. Одновременно я предотвращал серьезные потери среди своих солдат, которым пришлось бы сокрушать упрямых глупцов.
Затем мы двинулись на Иерусалим, и к этому времени его верховный жрец уже желал, и к тому же с большой охотой, переметнуться на мою сторону. Евреев даже их собственные пророки называли «упрямым племенем», и я не сомневался, что моя расправа с Газой уже принесла плоды. И впрямь, у стен нас встретили развевающиеся знамена, громкий звон цимбал и народ в праздничном одеянии; по правде говоря, они питали отвращение к власти персов, и их столь приветливая встреча освободителя порадовала мое сердце.
Но гораздо больше, чем мое, обрадовалось сердце Моего Дневника, Абрута. За эти несколько дней он обрел свое настоящее лицо, включая и имя Элиаба. Он отыскал родственников, пировал с ними, веселился и плакал и посещал службы в храме, посвященном их богу, каковым, несомненно, являлся Зевс, только под другим именем. Теперь путь в Египет был для меня открыт.
Было бы неизмеримой глупостью не присоединить к моим владениям Египет. Египтяне, без сомнения, ненавидели власть персов, однако сатрапы и военные силы Египта вели себя, как флюгер, и при первой же моей неудаче в глубине Азии они раздули бы пламя восстания по всему восточному побережью Внутреннего моря. Похоже, они хорошо поразмыслили над судьбой Тира и Газы, и город Иерусалим сдался, даже не сделав и вида, что сопротивляется. Тем самым большой его гарнизон остался целым, я избежал больших потерь, а жители города — цепей рабства. Акт сдачи не был проявлением слабости: тот же гарнизон уничтожил войско Аминты, этого дважды предателя, который со своей свитой бросил Дария в Иссе. Этот акт был проявлением благоразумия, ради сохранения себя и своего народа.
Из Иерусалима мы быстро отправились к дельте Нила, где в храме Птаха меня объявили фараоном. Птах был греческим богом ремесел, нашим закопченным хромым Гефестом, и номинально, а раз в сто лет, возможно, и на деле — мужем прекрасной Афродиты, поэтому я не чувствовал, что предаю истинных богов. Кроме того, я отдал должное Апису, священному быку Птаха, признаваемому также священным и в культе Митры, распространенном кое-где в Греции и Риме. Египетский бог Гор являлся не кем иным, как нашим Аполлоном, а Озирис — Дионисом. Так что, отдавая должное этим божествам, я не только выказал почтение нескольким нашим, но чрезвычайно обрадовал население и жрецов Египта. Прежде чем покинуть эту страну, я твердо решил наведаться к оракулу Амона в далекой пустыне, как наказал мне жрец в Додоне, и там с горячим сердцем совершить жертвоприношение этому богу, а по сути — именно Зевсу.
Там, рядом с Нилом, меня объявили Гором, с добавлением титула, означавшего «сильный завоеватель», и Александросом, сыном Ра. Так что в отличие от своего предшественника Артаксеркса, вызвавшего в народе жгучую ненависть, я завоевал его поддержку, и он не причинял мне никаких хлопот, пока я преследовал Дария до Вавилона. Подтвердилось то, о чем говорил мне замшелый старик Лисимах: когда чужак вмешивается в дела религии и оскорбляет богов покоренного народа, он ворошит осиное гнездо.
В Мемфисе наши полные сундуки уже распирало от золота — с добавлением в них еще восьмиста талантов.
И вот я предпринял одно дело, доставившее мне больше всего удовольствия в моих походах. Мне для флота нужна была база на северном берегу Египта, куда бы с Нила не попадали илистые наносы, но только не восточнее Пелусия — именно в этом направлении береговое течение несло ил. Следовательно, базу нужно было расположить к западу от него. Я поплыл из Мемфиса вниз по Нилу и вошел в самую западную часть его устья. Со мной была Таис, сияющая от восторга по поводу затеянного мною дела, немного войска и незначительное количество слуг. От торгового города Навкратиса, лежащего близ устья, я направился в
Каноп и повернул на запад.
Я знал, что в этом направлении находится рыбацкая деревня под названием Ракотис, на полосе суши между пресноводным озером и морем. Сюда доходил Менелай из «Илиады».
— И здесь, — сказал я охваченной радостью Таис, — я построю город, стоящий моего имени.
Место было чрезвычайно подходящим: вместо заболоченной земли здесь залегал сухой известняк. Оно возвышалось над дельтой и в изобилии обеспечивалось пресной водой. Можно было бы провести канал, чтобы соединить Нил с озером, и сделать насыпь между островом и материком. При богатстве и большой населенности Египта, этот город мог бы без труда затмить Карфаген.
Мы с Таис представляли себе город две на четыре мили с двумя перекрещивающимися широкими улицами. Сам по себе план этот не был оригинальным: более чем столетие до меня Гипподам и Милет построили портовый город Афины, Фурии в Италии и новый Родос в основном по тому же проекту. С обеих сторон параллельно этим улицам проходили бы другие, делящие город на кварталы или площади. Примерно спустя месяц после зимнего солнцестояния, в год 26-й о. А., состоялась церемония закладки. Дамба между островом Фарос и материком станет волноломом с надежными гаванями по обеим сторонам. Почему-то Таис очень привлекала мысль о безопасности защищенного порта.
— Не хочу думать об Александрии как о будущем прибежище для военных кораблей, — призналась она. — Надеюсь, сюда не будут заходить военные триеры. Пусть ремонтируются и снабжаются провизией в каких-нибудь других портах. Здесь найдут убежище от общего врага и опасностей торговые суда, везущие ячмень из Египта, вино из Галлии, кедр из Ливана, мрамор из Липы, оливы из Иберии и Греции, шерсть из Палестины — в общем, все нужные людям плоды полей, лесов и земных недр со всего света.
— О каком это общем враге ты говоришь? — насторожился я. Нечего было делать из меня олуха: я желал посмотреть, хватит ли Таис дерзости сказать откровенно, кого она имеет в виду. Если бы она отделалась какой-нибудь двусмысленной фразой вроде «то, что подстерегает в море», я бы тоже не стал настаивать на дальнейшем объяснении.
— Я говорю, и ты это прекрасно знаешь, о сильных штормах, которые обрушивают на корабли волны высотой с дом и часто срывают с мачт паруса, рвут их на куски и, что еще опасней, несут их на рифы и скалистые берега, где они бьются о камни до тех пор, пока не развалятся окончательно, и все их матросы гибнут; а бывает, их так искалечит, что родная мать не узнает.
Прошлой ночью я плохо спал и все еще страдал головной болью в висках. Ей, так же, как и мне, было хорошо известно, чье могучее гневное дыхание вызывает сильные бури, проносящиеся над морем и над землей. Также ей было известно и то, что вмешательство этого величайшего из богов расстроило направленные против меня планы Мемнона и Харидема. Если бы не он, она вполне могла бы стать рабыней Дария, а не возлюбленной Александра.
— Строить гавани для того, чтобы корабли могли стоять на якоре, а не уноситься на всех ветрах Эола, это одно, — сказал я ей. — Но давать убежище кораблям от ярости Бога всех богов — это совсем другое. Если бы я хоть на минуту допустил мысль, что Зевс видит мою цель в этом, я бы ни за что не согласился строить здесь город и разрушил бы все волноломы, которые попались бы мне в гаванях других городов. К счастью, он знает, что это не так.
— А разве Зевс прежде всего не бог людей? Не одних царей и завоевателей, а всего простого люда, который рождается без спроса, трудится всю жизнь за кусок хлеба для себя и своих близких и любимых, а затем сходит в безвестные могилы? Это очень древний бог, нередко злобный и вспыльчивый, иногда, похоже, капризный, как ребенок. И все же я не думаю, чтобы Зевс разрушил целый мол за грехи одного человека или даже просто разбил корабль за отсутствие набожности у одного из моряков.
— Разве так уж невозможно, чтобы он разбил флот или целую армию по просьбе сына, которого он любит — например, Диониса или Геракла?
— Надеюсь, что нет. В противном случае я обращусь к Зороастру, который любит всех людей, высокого и низкого происхождения, учит быть милосердными и сражается с человеконенавистником Ариманом.
Я закипел от тихого бешенства: как могла эта куртизанка, которую я взял под свою защиту и которая благодаря моей благосклонности набила свой сундук золотом, — как могла она стоять здесь, предо мною и хулить богов, которым я поклоняюсь? В ее рассуждениях угадывались клеветнические выпады также и против меня. Но тем не менее я строго держал себя в руках. Я говорил себе, что в этих делах она понимает не больше ребенка, каковым она и казалась: юбка и волосы развеваются на морском ветру, руки и плечи отполированы солнцем — нимфа да и только, в этой безлюдной местности, на известняковой косе между озером и морем. По причине жары доступная глазу кожа поблескивала от пота; я знал, что под одеждой она поблескивала влагой, особенно в ямках и впадинах ее тела. Во мне проснулось желание, отчего я вдруг разозлился и на себя, и на нее. И все же, заговорив, я не изменил твердому тону, оставив гнев при себе.
— Надеюсь, Таис, что Зевс не слушает тебя. Частенько он располагается где-то рядом со мной, но сегодня у него дела и он далеко отсюда, а иначе мы бы услышали, как он грохочет от гнева. Знаешь ли ты, что просто цари считают своим долгом разрушить город, опустошить все вокруг него — только бы не позволить существовать одному врагу своего царства или одному препятствию на пути, предназначенному ему судьбой? Я не следовал этому правилу, а иначе я бы не пощадил Афины. Но если это можно сказать о царях, то о богах и подавно, ведь цари — это наместники богов на земле, и тем более о таком боге, как Зевс, Верховном боге Олимпа, Собирателе облаков. Разве не мечет он в ярости стрелы молний, о чем есть свидетельства с тех пор, как под его рукой появилась Эллада? К тому же разве не он устраивает сильные штормы на море и вихревые шквалы на суше? Разве не говорят они о его могучем гневе?
— Это великий Аристотель говорил тебе такие вещи?
Вопрос застал меня врасплох. Я испытывал К Аристотелю величайшее почтение, большее, чем к любому другому смертному. Мне не хотелось, чтобы Таис заметила мою растерянность.
— Нет, он говорил не так, — отвечал я. — Он говорил, что все явления природы присущи самой природе. Он хотел сказать, что они вызываются естественными силами, которых мы еще не понимаем. Даже землетрясения, приливы и горные обвалы — все это результат действия этих сил.
— И молния?
— Кажется, и такое он говорил. Но разве не разумней предположить, что Зевс приходит в ярость оттого, что люди не приносят ему жертв и не оказывают ему почестей, достойных величайшего бога во вселенной? Разве не наказывает он людей за их непочтительность? Разве Артемида не лишила греческие суда благоприятных ветров, когда они шли к Трое, из-за того, что ей не принесли жертву?
— Какую же жертву принес царь Агамемнон, чтобы неблагоприятные ветры подули в нужную сторону? — спросила Таис.
— Любимую дочь Ифигению. Благодаря этой жертве он отмечен печатью великого царя.
— Это не спасло его от кинжала его жены Клитемнестры, который она всадила в него, чтобы продолжать спать со своим любовником. И Артемида тоже его не спасла, несмотря на то, что ради нее он убил собственную дочь.
— Таис, ты кощунствуешь над всем, что для нас свято.
— Так опасно говорить, я знаю. И все же я не могу молчать.
— Ты веришь, что в тот день в Тире Зевс для того успокоил море, чтобы я мог подвести осадные машины и разрушить крепкие стены?
— Нет, царь Александр, не верю.
— Тогда ты не можешь поверить и в то, что Зевс убрал с моего пути Мемнона и Харидема, чтобы я одержал победу при Иссе?
— Надеюсь, ты простишь меня за то, с чем я ничего не могу поделать. Нет, Александр, не верю.
— Я-то, возможно, тебя и прощу, но смогут ли простить боги? Разве я не особое орудие в их руках? Разве не велит мне долг перерезать тебе горло?
— Возможно, и так, не знаю. А может, это вовсе и не долг, а твое непомерное тщеславие, которое я ранила. Мое горло доступно твоему мечу — достаточно будет легкого прикосновения с любой стороны у моего подбородка. Да и кто я такая? Всего лишь куртизанка. Кое-кто считает, что моя жизнь не стоит жизни усердного раба.
Если она испугалась, то и вида не подала. Ее синие глаза цвета ночного неба бесстрашно смотрели прямо в мои.
— Таис, ты навлекаешь на себя смертельную опасность.
— Знаю, царь Александр. Я вижу в твоем лице желание убивать. И я, как подобает верноподданной, буду служить твоему делу, а не своему. Я всего лишь куртизанка. И все же в этом качестве я добилась заметного успеха. И даже немного славы. Хотя никто, кроме Абрута, этого не знает, но я была первой женщиной Александра Великого, а он был моим первым мужчиной. Немало месяцев я жила с ним как любовница, Почти как наложница. Значит, Зевс мог бы счесть меня стоящей жертвой и дать свое благословение на строительство здесь великого города. Мы наедине, если не считать Абрута, который в такие моменты не посторонний человек, а проекция тебя самого. Его перо летает взад и вперед по папирусу; он видит, слышит и записывает; он не судит; он не выдает секретов; он не более реален, чем твоя тень. Царь, ты наедине с жертвой — как на холме, когда ты перерезал горло бычку без единого пятнышка, одному из истинно невинных, тогда как я знала многих мужчин и, возможно, прогневила целомудренную Артемиду. Мы стоим на том месте, которое будет главной площадью Александрии, где вырастет величественный храм, посвященный Зевсу. Моя кровь зальет — и, в твоем представлении, освятит эту в будущем священную землю. Вытащи свой меч!
Моя рука потянулась было к рукояти, но тут же бессильно опустилась вниз. Только после долгого молчания я обрел дар речи.
— Ты прекрасная куртизанка, а потому пользуешься любовью Афродиты, дочери Зевса, которую он любит. Так пускай он и наказывает тебя. Надеюсь, это не пустая отговорка? Снимаю ли я с себя ответственность как, по сути, сын Зевса или, во всяком случае, любимый им смертный? Не могу сказать. А может, его рука удерживает мою от кровавой расправы. Возможно, я узнаю ответ на поле битвы где-нибудь неподалеку отсюда, когда ускользнувший от меня Дарий снова соберет армию. И может, тогда, лежа со смертельной раной от вражеского клинка или копья, прежде чем испустить дух, я сподоблюсь прозрения. Но сейчас я представляю себе только одну картину: твоя кровь уходит в землю, глаза потемнели, навсегда пропала твоя красота. Не могу себе позволить, чтобы это произошло.
Прелестные глаза Таис медленно наполнились слезами. Она подошла ко мне и поцеловала в губы, поглаживая мне щеку нежной рукой.
— Ну ладно, ладно, — проворковала она, как мать, которая утешает ребенка. — Бедняжка Александр! Хотелось бы мне тебя любить. Хотелось бы мне, чтобы когда-нибудь женщина, не такая, как сумасбродная, готовая убить Олимпиада, любила бы тебя. Но я все же буду твоей женщиной, буду делить с тобой ложе, буду утешать тебя, пока ты верен мне. Таис, афинская куртизанка.
— Я не могу говорить, Таис.
Она тут же заговорила свойственным ей мягким красивым голосом, одновременно проводя рукой по глазам и смахивая слезы:
— А есть ли бог рыбаков, царь Александр?
— Что за вопрос! Не сомневаюсь, что есть, но не знаю, как его имя. Рыбаки часто приносят жертву Посейдону и Эолу, эллинскому богу ветров, но, возможно, есть божество и помельче, которое дорого именно им. А почему ты спросила?
— А ты не мог бы посвятить один уголок какой-нибудь гавани, где слишком мелко, чтобы там могли стоять торговые суда, богу рыбаков? Как бы мы жили, если бы они не преодолевали все превратности моря и не привозили нам свой улов? Представь себе — что ни день, у нас ни утром, ни днем, ни вечером нет на еду жареной скумбрии. Разве такое возможно? И еще я хочу знать, что их крепкие суденышки, в которых намного больше благородства, чем в этих жестоких носатых галерах, будут здесь бросать свои якоря. Я вижу, как из какого-нибудь дворцового окошка в Александрии я смотрю на их храбро горящие судовые огни. Ну как, царь, прислушаешься к моей маленькой просьбе?
— Обязательно прислушаюсь, потому что в сердце у меня как-то сразу и беспокойно, и удивительно легко.
2
Самая надежная дорога к храму Амона в пустыне начиналась в Мемфисе. Старый караванный путь, что был намного короче, шел сначала вдоль берега моря, затем сворачивал к югу. Его-то я и выбрал, поскольку по нему можно было попасть в Кирену, город великого богатства и роскоши, который я желал покорить. В этот поход я решил не брать своего любимого спутника Букефала, так как по этим глубоким горячим пескам мог пройти только караван верблюдов. Вдобавок я решил не брать и Таис, к которой испытывал противоречивые чувства, спутавшиеся в клубок столь же сложный, как и Гордиев узел, но распутать его было не просто и ударом меча не перерубить. Кроме того, я не осмелился взять Таис в свою компанию после того, как посоветовался с древним оракулом, чьи предсказания всегда сбывались — в этом отношении он был столь же велик, как и оракул в Додоне или даже в Дельфах, и являлся голосом самого Зевса, носившего египетское имя. Я не мог забыть его непочтение к Зевсу, оставшееся без наказания. За мной последовало сильное войско, включая гетайров, пересевших на верблюдов, но в основном пехотинцев. В них могла возникнуть потребность, когда я обложу Кирену.
Первые дни пути были утомительными, но сносными. Пехотинцы шли, утопая по лодыжку в мягком песке, что их сильно изматывало и замедляло наше продвижение. Недалеко от Кирены мне навстречу вышло посольство; сразу же было предложено сдать город, а также обещано, что впредь мне будет послушно выплачиваться дань. Вдобавок послы предложили мне в дар бесполезных, если не сказать хуже, в этих песках лошадей. За эту передышку от войны и кровопролития я поблагодарил высоких богов. И только когда дорога свернула на юг, к храму, мы узнали, что такое египетская пустыня с ее неумолимой жестокостью — молчаливая и неподвижная, но свирепая и смертельно опасная.
Водные русла, где мы надеялись найти небольшие озерца горячей и вонючей воды, пересохли, превратившись в камень. Запасы воды в наших мехах стали подходить к концу, и я распорядился выдавать ее по рациону — солдатам, их предводителям и их царю: мне хотелось, чтобы они знали, что я так же вынослив, как и они. Скоро в бурдюках почти ничего не осталось, а безлюдным пескам не видно было конца и края, когда мы открывали глаза, страдающие от ослепительного тропического солнца. Когда-то давным-давно персидский царь послал войско, чтобы уничтожить могущественного оракула, но оно не дошло, полностью погибнув в песчаном буране. Я стал молиться, но по всему было видно, что мне и моим солдатам, как и тем неудачливым святотатцам, суждено умереть от жажды и лежать, пока вороны не склюют все мясо с костей, пока их не выбелит солнце и не развеет ветер.
И тут на северном горизонте мы увидели небольшую туманность. Я больше не отваживался глядеть на нее, боясь, чтобы она не исчезла, зато поднял глаза к мучительному блеску солнца и взмолился, прося, чтобы Зевс ненадолго явился, завернутый в облако, и дал пролиться живительному дождю. Когда я снова взглянул на север, облако потемнело и выросло. Видимо, его несло на юг сильными высокими ветрами, потому что мы не чувствовали ни малейшего дуновения. Вскоре померк и этот жестокий свет — благословенная туча наползала на солнце. Постепенно она расползлась по всему небу от горизонта до горизонта, и вот, наконец, хлынул живительный ливень.
Это время не было тем кратким сезоном, когда легкие дожди ублажали это излюбленное демоном место. Люди кричали от радости и прыгали под изумительно прохладными струями, но я сошел со своего храпящего верблюда и в молчаливой покорности и священном страхе отошел в сторону, ибо явно мне на помощь пришли небесные силы. Перед глазами у меня прошли видения. Они клубились и в основном были непонятны: меня пронзила пророческая боль и на мгновение показалось, что я узрел Диониса и Геракла, смертнорожденных, восседающих на тронах под суровыми, мощными фигурами, облаченными в туман; однако эти двое были в одной компании и пристально вглядывались, будто кто-то еще приближался, чтобы присоединиться к ним, и я безотчетно порицал этого новичка. В его внешности было что-то знакомое, и все же у меня не было полной уверенности, что я узнаю его: ведь я тогда не знал, кто я такой и как меня зовут.
Видение скоро исчезло. Неподалеку лежал неглубокий овраг, несколько минут назад абсолютно сухой; приблизившись, я услышал журчание бегущего по нему ручья. Он наполнил небольшую впадину и выливался через край. Выкрикнув приказ, я упал на колени и выпил не больше горсти воды, потому что нас предупредили, чтобы мы не пили вволю, когда нас одолеет жажда. Когда я вновь взглянул на своих людей, они снимали вялые меха с верблюжьих спин и принимались бегать взад и вперед по берегам этого и другого, сходящегося с ним чуть дальше, потока. Дождь все еще лил так, словно тучу прорвало, как мы назвали это явление, и теперь не оставалось сомнений, что мы сможем наполнить все бурдюки и нам не суждено высохнуть и почернеть в безжалостных песках, и я буду жить, чтобы в бессловесной благодарности пасть ниц в храме отца моего, ибо так велика моя благодарность, что невыразима никакими словами.
3
Теперь у нас не было недостатка в воде, но на своем нелегком пути мы встретились с еще одним духом пустыни, почти таким же ужасным, как и жажда. Это был самум, ветер пустынь, налетевший на нас после того, как мы вышли из области осадков. Иначе, до тех пор пока солнце не высушило бы землю, он не причинил бы нам вреда. Заклубились, слепя глаза, пыль и песок, верблюды издавали горловые булькающие звуки и отчаянно кричали; они помчались бы, куда гнал их ветер, если бы крепкие погонщики не держали их за поводья, сами подвергаясь шквальным ударам. Лица их были незащищены, лишь слегка прикрыты кусками ткани. Остальные сбились в длинной ложбине, но, несмотря на это, несущиеся крупицы песка жалили обнаженную кожу, забивались в одежду. Я смотрел, как медленно бледнеет солнце, и постарался запомнить его положение относительно кое-каких наземных вех; затем, взглянув на песочные часы, хорошенько заметил время.
Целых три часа мы не способны были двигаться в спустившихся на нас странных сумерках, где совсем размылась граница между поверхностью земли и насыщенным песком воздухом, слыша только низкий, почти не меняющий тона вой ветра и свистящее шипение несущегося песка. После долгих, томительных часов, показавшихся задыхающимся людям бесконечными, когда клубы песка то оседали, то снова неслись и снова оседали, ветер стих; солнце уже прошло зенит. И когда все это желтое оперение над морем песка улеглось, люди оглянулись в испуганном удивлении, переходящем в глубокое уныние. Дорога, как по мановению волшебной палочки джинна, исчезла — и та ее часть, по которой мы шли, и та, что вела к святилищу.
И тогда я возрадовался тому, что боги надоумили меня заметить положение солнца перед бураном, и теперь, спустя несколько часов, сверяя его положение с теми вехами, что я выбрал, я смог ориентироваться в пространстве. К западу от нас пролегала песчаная дюна с растущим у ее основания кустарником, пищей для верблюдов, а к юго-западу, на милю или две влево вдоль этой метки, тянулся пробившийся сквозь песок утес.
Я уже было собрался отдать приказ о выступлении, когда заметил двух пролетающих именно в этом направлении воронов: они, несомненно, держали путь к Сиутскому оазису, чтобы там воровать финики и зерно и освежаться водой из проточных колодцев после долгой отсидки во время сухой пыльной бури.
— Царь Александр, не кажется ли тебе, что, видя нашу дорогу занесенной, боги послали нам этих двух жителей пустыни — чтобы они указали нам путь? — обратился ко мне Гефестион. — Прошу тебя вспомнить, что вороны — священные птицы Ареса, бога войны, а также и Зевса, ведь ему они даровали мудрость.
Гефестион и здесь был самим собой: он всегда преуспевал в желании сделать мне приятное и раздуть мою славу. В этом он намного превосходил всех остальных моих друзей детства из Пеллы. Возможно, в отличие от тупоголовых македонцев, он, видя приближение самума, догадался заметить вехи и теперь ориентировался не хуже меня.
— Может быть, и так, — отвечал я. — Ты заметил, что эти вороны были побольше и почерней множества тех, что встречались нам раньше. — Это была чистая выдумка, чтобы произвести впечатление на наших соратников.
— Зевс проявляет к тебе, царь Александр, особую заботу, чтобы ты смог благополучно встретиться с великим оракулом, я бы сказал, большую, чем к любому паломнику, ходившему туда со времен Геракла, чтобы поклониться Зевсу-Амону. Доказательство этому — чудесный дождь, когда в наших мехах почти не осталось воды.
Эти слова вскоре облетели мое войско, но все же некоторых не покидала настороженность, когда мы шагали по ровному песку. Но вот тем же путем над нами полетели и другие вороны, с той же миссией, что и предыдущие, и вскоре солдаты стали приветствовать каждую пролетающую птицу громкими криками; мудрых птиц, должно быть, радовал этот рев — не от ветра, дождя или грома, а восходящий от обычно молчаливых песков. Раз, когда пролетела большая стая, вызвав особо шумную радость, Птолемей настолько забылся, что подмигнул мне. До наступления темноты я снова заметил ориентиры, а также концом ножен оставил длинную черту на земле. За ужином люди веселились вокруг костров, теперь уже не сомневаясь, что мы дойдем куда нам нужно и тем самым все они будут вознаграждены. Возможно, они не задавались вопросом, каким именно образом. Они знали только то, что их царь и полководец хочет сделать жертвоприношение в знаменитом храме Зевса и просить совета у оракула.
Этой ночью я выставил часовых, как если бы мы стояли лагерем, вторгшись в чужую землю. Главное, я хотел, чтобы солдаты не расслаблялись; а кроме того, в пустыне были шакалы, которые могли ночью подпортить кожаную сбрую. Не исключались и вылазки льва. Однако небольшие костры, сложенные из сушняка, находимого по руслам пересохших речушек или у основания дюн, наверняка, как новое и чрезвычайно любопытное зрелище, привлекали шакалов, газелей и маленьких, но очень ядовитых змей, которые находили в пустыне скудное пропитание. Этим маршрутом редко ходили караваны, и если останавливались на ночевку, то разводили совсем немного костров и на большом расстоянии друг от друга. Этой ночью подаренные мне послами из Кирены лошади, привязанные к палаточным колышкам, глубоко вбитым в песок, обезумели от жажды, оборвали привязь или вырвали из песка колышки и умчались прочь. Возможно, они почуяли запах воды какого-то отдаленного источника, рядом с которым львы поджидают в засаде газелей и прочих обитателей пустыни. Не всем этим сбежавшим лошадям суждено было добраться до источника или, добравшись, избежать стремительного нападения хищников как раз в тот момент, когда их морды в лихорадочной спешке погрузятся в этот эликсир их жизни — и внезапная смерть так и не даст им напиться вволю.
Вся накаленная за день пустыня остыла еще до наступления полуночи: песок не удерживал дневной жары в этом сухом воздухе. Солдаты просыпались от холода и закутывались в длинные накидки, которые в полуденную жару они проклинали только за то, что приходится их тащить с собой.
На следующий день мы обнаружили признаки караванной дороги, которой редко пользовались, ведущей от прибрежного города в южную сторону. Не исключалось, что этим городом был Карфаген, крупнейший на Внутреннем море, хотя со временем ему придется уступить Александрии. Главному богу Карфагена Ваалу-Амону, иногда называемому Молохом, в жертву приносили сжигаемых заживо детей. Астарта требовала человеческой крови; Изида являлась богиней пророчества. Позже все-таки их стали затмевать некоторые истинно эллинские боги, особенно Аполлон и Геракл, известный здесь под именем Мелкарт, тот же, что и в Тире. Зевса, несомненно, начинали признавать как верховное божество, поэтому поклоняющиеся его еще незначительному культу, наверное, и проложили путь паломничества к храму Зевса-Амона.
На другой день мы увидели низко на горизонте что-то похожее на зеленые перья. Как верхушка мачты корабля на голубом море, они с нашим продвижением вперед все росли и становились изумительно красивыми; мы уже могли различить крышу какого-то высокого здания посередине и поняли, что приближаемся к Сиутскому оазису — цели нашего похода.
Источники, прекрасные ручьи, прохладная тень и колышущиеся на ветру листья пальм — все это приободрило моих солдат, заставив их забыть тяготы утомительного пути. Из храма подали знак, что моя свита должна помыться и сменить одежду. Только мне одному позволялось явиться, не снимая военной формы. Меня встретил верховный жрец и предложил подойти к изображению Зевса-Амона одному, без сопровождения; последний был облачен в такие же одежды, что и эллинский Зевс, воплощенный в статуе. Хотя и Озирис, которого я видел в Египте, также был одет во что-то похожее. Самое интересное в нем было то, что к его рукам и голове прикреплялись бечевки, которые приводил в движение верховный жрец, стоящий сзади. Все было без обмана и совершенно открыто. Жрец заставлял его то утвердительно кивать головой, то качать ею в знак отрицания — как это было желательно духу Зевса — а то и двигать рукой, чтобы подчеркнуть согласие или несогласие.
Но прежде чем жрец занял свое место, он спросил меня, какой дар я принес храму, и я ответил: талант золота. И вот что мне вдруг подумалось: в отдаленные века или в далеких странах люди не будут пользоваться этой мерой или знать ее эквивалент в отношении их собственной. Мне в моих походах иногда приходилось встречаться с племенами, у которых были другие единицы измерения, что затрудняло наши с ними сделки.
Аристотель рассказывал, что общая для всего известного нам мира единица длины — подес, или по-другому фут (ступня). Три фута составляют шаг. По его словам, кубическая емкость, длина, ширина и высота которой полфута, является общепринятой мерой объема жидкостей, таких, как вино, вода и масло, а масса одной восьмой части от этого объема воды также принята за общую меру — многие кубки, а также чаши для ладана, использующиеся во время важных ритуалов жертвоприношения, изготовляются с тем расчетом, чтобы они могли содержать именно это количество жидкости. Примерно ту же массу имеют четыре апельсина обычного размера или одна большая гроздь винограда.
Странно, что для этой удобной меры массы у греков не было названия, хотя ее легко можно было вычислить, пользуясь общепринятой единицей в один фут. У нас имелась еще одна мера, ока, близкая трехкратному содержанию вышеупомянутой массы воды; она содержалась в контейнере — полфута на полфута в основании и три больших пальца в высоту.
В любом случае, талант золота весил две оки, а серебра — двадцать четыре оки.
— Это щедрый дар, царь Александр, — сказал мне жрец и сразу же занял свое место за изображением оракула.
— Сразится ли со мной Дарий еще раз? — поинтересовался я.
Голова фигуры утвердительно кивнула.
— Когда и где?
Рука фигуры указала на северо-запад. Одновременно я услышал странно измененный голос жреца — глубокий, звучный, каким я мог себе представить голос могучего бога.
— Когда опадают листья.
Неопределенный ответ, подумал я. Он может означать не предстоящую осень, а какую-нибудь в отдаленном будущем.
— Кто победит, я или Дарий?
Фигура не шелохнулась, но голос прозвучал в полную мощь:
— После той битвы Дарий больше никогда не пойдет на тебя войной.
Я не осмелился настаивать на более определенном ответе, боясь рассердить Зевса.
— Суждено ли мне попасть в число богов?
— Люди, которые придут царствовать после вас, сочтут тебя за такового. Тебе воздвигнут храмы и будут приносить жертвы. Я, как и всегда, говорю голосом самого Зевса. В этот момент преображения я становлюсь Зевсом.
— Как я буду зваться?
— В некоторых царствах — Аммоном-Ра. За горами тебя будут звать Искандер.
— Стану ли я таким же великим богом, как Дионис и Геракл?
— Твоему образу будут поклоняться во многих землях, где эти два бога неизвестны.
— Завоюю ли я всю Персию и подчиненные ей государства?
— Ты не пойдешь покорять государства далеко на север, но Персидская империя, даже вдающаяся в Инд, будет твоей империей, и ты сядешь на троны Суз и могучего Вавилона. Но не малой ценой. Ты уже задал шесть вопросов, позволяется задать еще один, чтобы стало семь — священное число. Большего Зевс не разрешает даже своим любимцам.
— Еще только один. Являюсь ли я родным сыном Зевса?
— Точно так же, как им был Геракл. Теперь, сын Зевса, прощай.
Я снова пал ниц перед образом, после чего прошел сквозь лес могучих колонн в наружный двор храма, а оттуда — в наружную галерею. Я чувствовал приятное тепло в сердце, голова кружилась от острого приступа счастья. Это состояние длилось не менее часа, и конец ему положила нечаянно пришедшая мне в голову мысль.
Ведь жрец говорил на испорченном греческом. Я вдруг вспомнил, что на греческом языке выражения «сын Зевса» и «мой мальчик» очень схожи
[197] и, чуть оговорившись, можно было произнести одно, имея в виду другое.
Но он же сказал: «Точно так же, как им был Геракл». Мог ли я просить о большем? Кроме того, у меня было ясное свидетельство моей матери, а она мне не лгала даже в мелочах, уж не говоря о деле такой величины. И наконец, я был Александром, уже завоевателем доброй части Персии; я дважды разбивал Дария, и он только еще раз встанет у меня на пути; мне суждено было восседать на тронах Суз и Вавилона, чего еще никогда не удостаивался ни один завоеватель со стороны. По подсчетам наших географов, эта территория равнялась всей Европе. Ее богатства были неизмеримы по сравнению с богатствами Креза, которые были столь велики, что стали притчей во языцех по всей Элладе. Какой смертный, какое существо ниже бога могло бы достичь всего этого?
Странно, но я жалел, что мне было позволено задать семь, а не восемь вопросов. Этот восьмой касался не такого уж важного дела и его незначительность могла бы разъярить величайшего из всех богов, чье ухо снизошло до моего голоса. Мне только хотелось спросить, найду ли я княжну Бактрии, женюсь ли на ней и буду ли ею любим — ту самую девочку, которую я встретил на дороге в храм Додоны, оракула Зевса, уступающего только оракулу Зевса-Амона, рядом с которым я дал клятву.
4
Когда я вернулся в Мемфис, появились и другие доказательства того, что я и впрямь прихожусь Зевсу родным сыном. Лучшее и самое волнующее поступило ко мне из Милета, города на восточном берегу нашего Внутреннего моря. Когда-то там стоял знаменитый храм Аполлона, оракул которого никогда не ошибался. Стремясь во что бы то ни стало навязать персидский культ всем покоренным странам, Ксеркс сжег это замечательное сооружение за век с четвертью до моего рождения. Оракулом там был источник, чьи бульканья и журчание передавали жрецам ответы Аполлона на вопросы прихожан и паломников. Ксеркс пришел с огнем и мечом, и этот источник перестал течь. Он все это время не подавал признаков жизни, и вдруг — о, чудо! — снова заворковал, журча днем и ночью; и когда жрецы прислушивались, они улавливали один и тот же, звучавший не переставая, мотив, и невозможно было ошибиться в том, какую несет он весть. «Александр, освободивший меня от персидского сапога, — урожденный сын Зевса!»
Когда Аполлон увидел, что сообщение понято, оракул снова заговорил, отвечая на разные вопросы, интересующие тех, кто приходил за советом.
Во время этого пребывания в Мемфисе я стремился к знаниям с таким пристрастием, что удостоился бы улыбки и похвального слова от бывшего своего учителя Аристотеля. Египтяне не могли понять, почему Нил разливается летом, а не весной или осенью, в дождливые сезоны. Поэтому я послал вверх по Нилу исследовательскую партию, возглавляемую Птолемеем, для изучения этой тайны. Они проделали рискованный путь далеко за Элефантину, обогнули первый водопад, перетащив снаряжение волоком, затем второй — в центре Нумидии, славящейся своими многочисленными львами с черной гривой, затем третий и вышли к месту впадения в Нил большого притока, текущего на север и чуть на запад. Эта река стекала с могучего черного хребта, большую часть года покрытого снегами, несмотря на тропическое солнце. Но летом белая его мантия таяла, сбрасывая в реку целое море воды, которое отсюда устремлялось непосредственно в Нил. Вдобавок они слышали, что в пятистах стадиях от места этого слияния существовало еще одно, куда более полноводное — слияние двух одинаковых рек, образующих верхний Нил, обширность которого не поддавалась оценке на глаз. Во всяком случае, восточная из двух рек-близнецов сбегала с того же обширного горного хребта и в середине лета сплавляла вниз огромное количество талого снега.
С этой партией я послал черного раба, который был схвачен арабскими охотниками на рабов на берегах Красного моря и куплен Гефестионом на рынке в Андрополисе. Он мог общаться с людьми, живущими в районе первого притока, на их языке. У них кожа была светлей, чем у нумидийцев, волосы были прямые, а носы правильной формы, и они говорили, что родственны евреям, нации Абрута. Многие из них поклонялись тому же богу; и еще они рассказывали о том, как много лет назад их береговые племена торговали с Тиром и Иерусалимом; они хорошо помнили Хирама из Тира и прекрасную царицу по имени Шеба, которая стала возлюбленной великого Соломона из Иерусалима.
Птолемей рассказал мне, что на полупустынных землях слонов насчитывалось больше, чем лошадей, коров и овец на Фессалийской равнине. Кроме того, львов там было без числа, стада газелей тянулись на целые мили, причем разных размеров и формы рога: были величиной с буйвола, а были и крошечные, как весенние ягнята.
Когда поздней весной египтяне сняли урожай хлеба, засеянного предыдущей осенью, я приготовился загрузить трюмы своих кораблей и отчалить. Новости из моего новорожденного города Александрии радовали: под руководством моего архитектора и под плетями его десятников работало множество рабов, и, хотя на его территории еще не появилось ни одного дома, улицы и площади прокладывались согласно моему плану, успешно приступили к строительству мола и заложили основание великого храма Зевса на центральной площади. Пришлось серьезно подумать о том, каким будет правление Египтом, пока я буду осуществлять великую миссию дальнейшего завоевания Персии. В случае восстания его нельзя было бы отбить назад без помощи мощной армии, которую я бы не мог выделить, поэтому оставалось одно — обеспечить постоянное довольство народа. С этой целью я назначил двух популярных в народе египтян править одному Верхним, другому Нижним Египтом; и эта парочка знала, кто намазал маслом их ячменные лепешки. Но, доверяя, проверяй, и чтобы их правление было действительно справедливым, я оставил греческих военных для контроля за ними. Затем я отправился в Тир, а там, по суше, в Дамаск, где находилась груда сокровищ Дария, захваченная в его обозе после Исса. Тут пришлось устроить правительственную чистку — сменить строптивого правителя на более покладистого.
Здесь же до меня дошел неприятный слух о Филоте, сыне моего надежного Пармениона. Он был начальником отряда тяжеловооруженной конницы, который я оставил там, и, как многие другие из воинов, он взял себе наложницу — персиянку — одну из многочисленных красавиц, содержавшихся в гаремах крупных персидских военачальников и второстепенной знати, чьи белые кости усеяли поле битвы при Иссе. В общем, я был доволен этими союзами: я хотел, чтобы Греция вместе с обширной Персией составили одну великую империю, в которой не было бы расового раскола. Но, как следовало из сообщения, Филот высказал своей любовнице нечто похуже обычной глупости, у той же язык был без костей, а для города закулисные тайны — главная пища для толков. Так вот, Филот, говорят, похвалялся, что если бы не он, я бы не одержал победу на Гранике или при Иссе — короче, моя великая слава по праву принадлежит ему, а не мне. Мне не хотелось верить этому слуху, ведь Филот всегда казался таким же преданным, как и его отец, но это отложилось в моем сознании. Тем не менее я не снимал его с поста командира.
В Дамаске мне предстояло разобраться еще в одном очень важном для меня деле. Я незамедлительно направил Гефестиона разузнать, не стала ли вдова Мемнона Барсина наложницей какого-нибудь отрядного начальника. Вскоре он сообщил, что такого не произошло, хотя двое-трое из моих военачальников домогались ее; ей было только тридцать, она отличалась несколько странной и оригинальной, но вполне реальной красотой. Итак, размышлял я, она была второй женой великого стратега, который считался способным военачальником еще за семь лет до моего рождения.
— Почему же она отвергла эти домогательства? — спросил я Гефестиона.
Он не знал того, с какой жадностью я ждал его ответа.
— Она сказала претендовавшим на ее благосклонность, что за всю жизнь любила только одного мужчину — Мемнона, что никогда уже не полюбит другого и не разделит ни с кем ложе, ибо поклялась в этом своему мужу перед самой его смертью.
Итак, оказывается, Мемнон был не только могучим полководцем, чей гений не давал Александру спокойно спать, он был способен не только командовать солдатами, но даже из могилы распоряжался чувствами и мыслями своей прекрасной жены.
Я навел справки о том, где она живет, и узнал, что живет она у знатных родственников в роскошном доме. Я послал ей записку, сообщая о своем намерении зайти к ней и засвидетельствовать свое царское почтение вдове уважаемого врага, и чтобы она ожидала меня спустя два часа после захода солнца того же самого дня. Я жил во дворце покойного сатрапа и мог бы пригласить ее к себе, но не сделал этого из-за Таис, которая жила там со мной, — я не хотел, чтобы она знала о моих отношениях с Барсиной.
Посланец вернулся с ответом, написанным на безукоризненном греческом языке. В очень вежливых выражениях она сообщала, что будет ждать меня в назначенный мною час.
Я отправился туда верхом на Букефале, облаченный в царские одежды, в сопровождении небольшого почетного кортежа охраны. Меня провели в просторную, хорошо обставленную приемную, где, быстро поднявшись с персидского кресла, Барсина отвесила мне низкий поклон.
Я преднамеренно не стал сразу же обращаться к ней с разговором, а сначала оглядел ее с головы до ног. Она, несомненно, отличалась какой-то особой, незнакомой мне красотой, но при этом вполне реальной. Остров Родос лежит рядом с Критом и, конечно же, был заселен минойцами, как мы называем народ древнего Крита, и, возможно, в некоторых его обитателях сохранились еще следы минойской крови. Минойская культура приходится матерью греческой, но иногда поговаривали, что в некоторых отношениях наша культура осталась ниже родительской, о чем явно свидетельствовал пример грубой, неотесанной Македонии. Я видел статуэтки женщин, принадлежавшие древней утонченной аристократии Крита. Эти женщины также отличались изысканной, уникальной красотой. Характерное для них платье оставляло обнаженными округлые полные груди замечательной красоты. Женщины стояли с высоко поднятой головой, и эта поза говорила о том, что они гордятся своей расой и высоким положением; и современные царицы уже не могли соперничать с этой гордостью, на которую минойцы знатного происхождения действительно имели полное право, поскольку среди всех островов и побережий Внутреннего моря их цивилизация была самой высокоразвитой. Своей позой и неподвижностью прекрасного точеного лица Барсина напоминала эти статуэтки.
Мой продолжительный властный осмотр нисколько ее не смутил. Она просто стояла и ждала, когда я заговорю. Ее спокойные, неподвижные глаза не изменили своего выражения и не потупились, даже когда встретились с моими. Неудивительно, подумал я, что кое-кто из моих военачальников домогался этой красавицы. Они бы, помимо прочего, и гордились бы ею; а если не были женаты, то готовы были бы взять ее себе не в наложницы, а в жены. Она произвела на меня впечатление спокойствия, уравновешенности, возможно, даже царственности, только не холодности. Я не сомневался, что под ласками Мемнона она загоралась сильной страстью и вызывала в нем такую же пылкую страсть.
И тут я почувствовал, если уж давно не догадывался об этом, что ненавижу Мемнона даже мертвого.
— Барсина, ты можешь присесть, — сказал я ей. — Я тоже сяду.
— Благодарю тебя, царь Александр, — спокойно ответила она.
Возле стены стояла красивая персидская тахта, и, если бы она села на нее, для меня это было бы приглашением последовать ее примеру. Но вместо этого она снова села в свое величественное кресло, а я выбрал то, что стояло напротив него на расстоянии семи шагов.
— Есть ли у тебя какая-нибудь просьба ко мне? — спросил я.
— Нет, царь Александр. Я живу с братом и его женой. Они родосцы, так же, как и я; обращаются со мной радушно и полностью удовлетворяют все мои бытовые нужды.
— Есть, разумеется, одна нужда, которую никогда уже не удовлетворить, — заметил я, наблюдая за ее лицом.
Она могла бы ощутить какую-то боль, но на ее лице это никак не отразилось.
— Да, царь, это правда.
— Ты вдова очень большого человека.
— Это общеизвестная истина, царь Александр.
— Я полагаю, он делился с тобою планами, с претворением которых надеялся — и не без причины — победить меня на Гранике и при Иссе.
— И это правда, мой повелитель.
— Однако его планам не суждено было осуществиться, потому что вмешались родственники Дария, его военачальники и льстецы.
— Думаю, царь Александр, что это всем известно.
— Предположим, что такого вмешательства не было бы. Изменило бы это исход тех двух сражений?
— Я не знаю, царь Александр.
— Конечно, ты не знаешь. Есть у мудрых египтян старая поговорка, которую я процитирую в приблизительном переводе: «Только боги могут видеть, куда ведет дорога, по которой мы не пошли». Поэтому когда мы говорим: если бы случилось то-то и то-то, результат был бы таким-то и таким-то, — это утверждение не обязательно соответствует истине и, очень даже вероятно, является ложным, ибо непредвиденные обстоятельства могут изменить то, что заранее кажется определенной последовательностью событий. Я иначе поставлю свой вопрос. Если бы Дарий последовал совету
Мемнона, считаешь ли ты, что я потерпел бы поражение?
— Царь Александр, я должна отказаться отвечать на твой вопрос. Ответ на него может обязать меня сделать заявление, которое я не желаю делать. Оно звучало бы неприличным в словах вдовы большого врага царя, обращенных к этому царю.
— И все же я настаиваю на ответе.
— Если ты настаиваешь, у меня нет выбора. Я плохо разбираюсь в стратегии, но та, на которой настаивал Мемнон, казалась разумной. Ты, возможно, еще не ощутил огромных размеров Персидской империи.
— Извини, что прерываю. Правильнее сказать: то, что когда-то было Персидской империей. Теперь это империя Александра Македонского.
— На это я ничего не скажу, с твоего царского разрешения. Ты все еще настаиваешь, чтобы я ответила на твой вопрос?
— Да, настаиваю.
— Я считаю, мой повелитель, что если бы события развивались по плану Мемнона, твоя армия оказалась бы в безнадежном положении, и ты был бы побежден. Это ни в малейшей степени не подразумевает того, что Мемнон был более великим полководцем, чем Александр. Это подразумевает только то, что в этих условиях обстоятельства были бы против тебя.
— Барсина, по-моему, это все же подразумевает, что, с твоей точки зрения, Мемнон, был из нас двоих более выдающимся полководцем. Позволь я втянуть себя в беззащитное положение, я бы продемонстрировал огромную слабость своей полководческой мысли. Значит, я пошел бы на непростительный риск, за что заслуживал бы поражения.
— Я полагаю, царь Александр, ты истолкуешь мои слова согласно своему царскому желанию или как велит тебе твой ум.
— Они допускают только одно толкование. Дело в том, что я прекрасно сознавал, какую ловушку уготавливал мне Мемнон, и все же я твердо решил напасть на персидскую армию. Я ничуть не сомневался, что выйду победителем, что бы там Мемнон ни предпринимал.
— Как бы там ни было, ты действительно победил. Это бесспорный факт. Люди должны принимать факты как они есть, а не фантазировать о том, что могло бы быть.
— Не ожидал в такой молодой красивой женщине обнаружить столько ума. — Сказав это, я солгал. Кому не известен был миф о том, что физическая красота обычно несовместима с блеском ума. И почти всегда бывало наоборот. Таис бесспорно обладала блестящим умом. Многие некрасивые женщины имели яркие умственные способности, но красота, если попытаться найти ей точное определение, обычно является вопросом хорошего телосложения, костяка, и если в наследие дается хороший костяк, то, вероятно, это можно сравнить с унаследованием хороших мозгов. Но последние мысли появились уже потом, а в данный момент философ из меня был никудышный. Я видел красоту и ум Барсины, но еще острее я сознавал, что она — вдова Мемнона, убежденная в его превосходстве надо мной, и что она сама осталась непобежденной.
— Благодарю тебя за комплимент, царь Александр, — спокойно сказала она.
— Как ты совершенно справедливо заметила, факты есть факты, и победа досталась мне. Но это не причина, почему бы нам не быть хорошими друзьями.
— Я благодарна тебе за великодушное предложение, царь.
— Ты примешь мою дружбу?
— С радостью.
— Мы могли бы стать больше чем друзья. Разве это невозможно?
— Царь Александр, если ты имеешь в виду то, что написано на твоем лице, это было бы невозможно.
— Позволь спросить тебя — почему?
— Одна из причин — это обет, который я дала мужу незадолго до его смерти.
— Такие обеты недействительны после смерти одного из супругов. Тот, кто умер, прекращает существовать, так нас учили. Или только существует как бессловесная тень в сумеречном царстве Аида, лишенный памяти о своем пребывании на земле. Его бы это никак не задело, если бы ты провела со мной эту ночь.
— И все же, царь Александр, я не могу этого сделать.
— Ты хочешь сказать — не желаешь.
— Как, мой повелитель, я могу этого желать? Я сильно любила своего мужа. Да, он бы не узнал о нарушенном обете, но я бы об этом знала. И если бы я сошлась с тобой помимо своей воли, тебе бы это не доставило удовольствия.
В этом она ошибалась. Те, кто умер от моего меча, погиб помимо своей воли — потому что они были побеждены.
— Барсина, ты одарила своего мужа детьми? — спросил я.
Минутные часы сочились и сочились крупинками песка, а она все не отвечала. Впервые, пока мы говорили, выражение ее лица изменилось. Я не мог уяснить смысла этой перемены, охарактеризовать ее, я только почувствовал, что в ее сознании что-то произошло, и сердце мое подпрыгнуло.
— Я не понимаю, Барсина, твоего молчания. Разумеется, ты была бы горда, если бы родила детей своему мужу и господину, великому Мемнону.
— Да, я действительно горжусь этим. У нас родилось трое детей.
— Все они живы и здоровы?
— Да, мой повелитель.
— Дерни, пожалуйста, за шнур звонка и попроси слугу привести их и представь мне.
Она дернула за шнур, и тут же появилась девушка-гречанка, которой она спокойным голосом отдала распоряжение. За этим недолгим ожиданием мы сидели молча. Изредка Барсина украдкой заглядывала мне в лицо, но прочесть в нем что-то было невозможно. С испуганно вытаращенными глазами вошли дети: девочка лет двенадцати, мальчик лет девяти и совсем еще крошка — трехлетка.
— Ничего не скажешь, красивые дети, — заметил я. — Ты имеешь полное право гордиться ими. Дочь похожа на тебя. Я видел Мемнона только издали, но, полагаю, мальчик похож на него и, если у него будет возможность, он тоже станет великим полководцем. Теперь ты можешь их отпустить.
— Идите, милые. Вам уже давно пора спать.
Дети поспешили покинуть комнату.
— И я сейчас уйду — при определенных обстоятельствах. Но я уйду с таким ощущением, что не получил причитающееся мне как победителю Персии. Ты, Барсина, моя подданная. Если бы тебя представили Дарию в те дни, когда он был царем, ты бы пала ниц пред ним?
— Да. Таково было требование для всех, кто представал перед ним.
— Но ты не пала ниц предо мною.
— Если желаешь, я это сделаю. Я подойду к твоему креслу, которое сейчас служит тебе троном, стану на колени и коснусь лбом пола. — Барсина сделала движение, чтобы встать.
— Это не подойдет — ты ведь вдова Мемнона. Мне нужно, чтобы ты совершила этот обряд в другом месте, а точнее, в своей спальне, и сделала это таким образом: разденешься и ляжешь в постель на спину, вытянувшись во всю длину.
Барсина посмотрела мне в глаза долгим спокойным взглядом. Затем ее губы скривились в безнадежной улыбке.
— Я подчиняюсь тебе, царь Александр. Ты полновластный монарх той страны, в которой я теперь живу. Может, ты пойдешь со мной?
5
Барсина не скупилась на объятья, но, по правде говоря, ее поцелуям не хватало жара, и она почувствовала мое неудовольствие. И во время нашего соития ее прекрасные ноги сомкнулись вокруг моей талии: этой позой наслаждались родосцы знатного происхождения, чья страстность питалась бодрящим климатом. Возможно, этот обычай дошел до наших времен от сладострастных минойцев. Итак, я все еще мог оказаться в роли ее избранника; и если мое удовлетворение объяснялось окончательным торжеством над могущественным врагом, так и не побежденным мною на поле битвы, то все же оно было полным.
После завершения афродизианского ритуала я встал, оделся и немного поговорил с нею.
— Я не намерен посещать тебя снова, — сказал я ей. — Мои дела с тобой, проистекающие из моих дел с великим Мемноном, теперь закончены. Я буду считать тебя верноподданной, пока не удостоверюсь в обратном. И я имею желание прислать тебе кошелек с сотней статеров золотом, чтобы ты имела запас на крайний случай, а также для оплаты за военное и всякое другое обучение сына Мемнона — чтобы не пропало то, что он, возможно, унаследовал от великого отца. Можно спросить, не назвали ли его тоже Мемноном?
— Так и есть, царь Александр. И спасибо тебе за щедрый дар.
— Пожалуйста. А теперь я оставлю твой дом.
— Удостой меня чести проводить тебя до галереи.
Я вышел, сел на Букефала и в сопровождении своей небольшой охраны вернулся во дворец. В нашей спальне я увидел Таис: возможно, она мирно дремала или, скорее всего, притворялась, что спит, за что, в любом случае, я был ей благодарен, зная, что женщины ведут себя странно, когда чувствуют себя брошенными. Я спокойно разделся без помощи слуги и занял свое место рядом с ней, легонько проведя губами по ее глянцевому плечу.
Утром я не заметил в ней никакой перемены в отношении ко мне, и, поскольку она не осмеливалась допрашивать царя, я решил, что вряд ли она когда-либо узнает о моем ночном приключении. Она сделала одно замечание, которое мне не показалось существенным.
— Жаль, царь Александр, что ты не разбудил меня, когда пришел прошлой ночью. Это последняя ночь перед теми тремя днями, когда у меня бывают… головные боли… двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым после начала моих «цветов», и я надеялась, что мы займемся любовью.
— Возможно, так было лучше. Я уладил одно давнишнее дело и здорово устал. Я не мог бы составить тебе подходящую компанию в эротическом союзе. Твой подсчет дней после начала цветения напоминает мне любопытный и, возможно, очень важный факт, на который нам указывал Аристотель. Не думаю, чтобы он знал то, что известно тебе, что в те три дня матка открывается для оплодотворения, и, как правило, только в эти дни и ни в какие другие. Он, конечно, не читал об опытах учившегося в Египте мага, о котором ты мне рассказывала, но он заметил, что у нормальной, совершенно здоровой женщины месячный цикл длится ровно столько времени, за которое луна делает полный обход вокруг земного шара, — двадцать восемь дней с небольшим. К этому заключению после долгих исследований пришел один биолог, имя которого я забыл, хотя он и допускал, что исключениям из этого правила нет числа: одни вызываются простудами, другие — недоеданием, третьи — наследственностью. Он заметил, что в более примитивных племенах, например, в Африке, где женщины безмятежно трудятся на полях, и в одном очень древнем племени с множеством первобытных черт, которое обитает в горах между Италией и Галлией и называет себя басками, этот цикл остается почти неизменным. Когда он услышал о высоких приливах за Воротами Геракла, он с восторгом узнал, что их полный цикл, когда между двумя необычайно высокими приливами бывают приливы необычайно низкие, также равняется двадцати восьми дням с небольшим. Разумеется, эта схожесть в поведении между женщинами и Океаническим морем сильно возбудила его любопытство и побудила искать причину. Ничего удовлетворительного он не нашел, но наполовину в шутку предположил, что, должно быть, женщины были русалками до того, как стали жить на суше, и по какой-то непонятной причине ритм их тел остается верным ритму морей. Я полагаю, твой собственный месячный цикл — двадцать восемь дней.
— Я скажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, потому что не замечал этого. Мои месячные начинаются в тот день, когда полная луна впервые начинает идти на убыль. Иногда на закате солнца, а иногда в полночь. Я могу только предполагать, что мои предки по женской линии дольше оставались русалками, чем у большинства женщин.
Я легко мог представить себе Таис в виде русалки, загорающей на камне: поблескивает чешуя на хвосте, она расчесывает свои длинные мокрые золотистые волосы морской раковиной.
— Ты хорошо плаваешь, Таис?
— «Хорошо» не то слово.
— А есть ли у тебя по отношению к морю какие-то особые чувства, спрятанные в глубине души?
— Когда я стою на берегу и гляжу на море после долгого пребывания на суше, у меня появляется такое чувство, что я снова вернулась домой. Может, потому я так переживаю за безопасность кораблей — из-за чего ты однажды пришел в ярость. Возможно, я не выношу открытого океана, который, по-моему, явился причиной смерти стольких моих братьев и сестер; а они, если в шутке Аристотеля есть крупица истины, были когда-то русалками и «русалами», и смерть их, следовательно, равносильна убийству детей своей матерью.
— Таис, жаль, что ты тоже не была ученицей Аристотеля. Его рассуждения дали бы столько пищи твоему тонкому уму.
— Мне бы не хотелось резать лягушку после того, как она так весело квакала под дождем, а тем более милую пташку или даже мышку. К тому же, царь Александр, если бы я посещала лицей в Афинах, а не школу для куртизанок госпожи Леты, вряд ли бы мы когда-нибудь встретились, особенно в обстоятельствах, благоприятных для таких отношений, как наши.
Теперь я был убежден, что у Таис не зародилось никаких подозрений в отношении происшедшего в середине ее месяца. В большинстве случаев она проявляла доверчивость. И в последующие четыре недели наши отношения, как мне казалось, достигли наибольшей степени близости. Она, похоже, пользовалась любой возможностью, чтобы поцеловать меня, и обижалась, если я уходил, даже ненадолго, без этого обмена нежностями. Я стал подумывать, что если смотреть фактам в лицо, а не позволять дурачить себя мальчишеским мечтам, то я, по всей вероятности, уже потерял Роксану навсегда. Ей теперь двадцать три года и вот-вот исполнится двадцать четыре, а поскольку ее отец настаивал на ее бракосочетании с Сухрабом в семнадцать, то она уже шесть лет как замужем и, скорее всего, нарожала ему детей. А кому еще принадлежит женское сердце, как не мужчине, с которым она зачала детей.
Сухраб насмерть забил плетью лошадь, проигравшую на скачках — а Роксана любила лошадей. Я, бывало, тоже был бы не прочь казнить военачальника, который проиграл сражение из-за случайной халатности или по глупости, так что вряд ли стоило придавать значение тому, в чем она обвиняла Сухраба, и не исключено, что он стал ей строгим мужем, в котором она готова видеть своего кумира. Более того, я не мог забыть жизнерадостность Роксаны, ее храбрость, импульсивность, ее юную красоту. Она восхищала всех, кто ее знал: ее дядя, знаменитый маг, так восторгался общением с нею, что заручился им на четырехгодичный срок путешествия на запад и назад на восток. И мне всегда казалось, что царь Аида жаждет иметь у себя таких очаровательных людей, избранный цвет земли, и склонен забирать их молодыми в свое мрачное царство безнадежности под землей.
Да я даже не знал, жива ли еще Роксана. Мне так и не подвернулся случай поговорить хотя бы с одним бактрианцем — среди пленных, взятых в сражениях, их не было. Она могла отважно и беззаботно на своем пони, как тогда на могучем Букефале, въехать в раздувшуюся реку и погибнуть в бурном потоке. Ее со спутниками мог погрести под собой даже небольшой снежный обвал или земляной оползень в горах Гиндукуша. В таком случае мне бы хотелось сохранить при себе Таис до конца моей жизни, беря, конечно, молодых наложниц, когда она начнет стареть, но все же любя ее. И несмотря на отсутствие в ее жилах царских кровей, я, возможно, мог бы сделать ее своей царицей. Верно, она говорила мне, что не желает долго оставаться моей любовницей, но это, может, потому, что она хотела заставить меня больше дорожить ею, и я не сомневался, что смогу убедить ее изменить свое решение. И еще она сказала мне, что ни за что не хочет быть матерью моего ребенка. Если бы она не уступила, если бы я не возбудил в ней желания совокупиться со мной в одну из тех ночей, когда ее чрево открыто для зачатия, я бы, возможно, смог бы добиться своего хитростью — например, фальсифицировал бы календарь в какой-нибудь медленно тянущийся бесцветный период времени, когда дни с трудом поддаются счету. И уж если бы она забеременела, я бы не позволил ей сделать аборт, широко распространенный в Греции. Когда плод за несколько месяцев сжился бы с ее телом, особенно когда она почувствовала бы его жизнь, полюбив все его шевеления и толчки, как это бывает с беременными, она была бы рада своему раздувшемуся животу; а когда стала бы кормить его грудью, то полюбила бы его глубокой и беззаветной любовью и в результате полюбила бы и меня. Ясно, что острое удовольствие, которое она испытывала в моих объятиях, и то, что мне казалось нашей растущей близостью, все это лишь на шаг отделяло нас от супружеской любви.
В течение трех недель, в подкрепление моих мечтаний, мы были счастливы как никогда. На четвертой неделе случилось нечто, снявшее розовую пелену с моих глаз. Один из самых доверенных моих слуг с чрезвычайной секретностью передал мне запечатанный свиток. Его не вскрывал ни один из моих секретарей с целью проверки, не докучают ли мне жалобами и нет ли там тарантула или какого другого смертоносного насекомого, или даже детеныша кобры. Очевидно, тот, кто посылал свиток, сумел внушить моему слуге, насколько важно для меня содержащееся в нем послание. А оно было следующим:
«Царю Александру Великому,
Дважды Победителю над Дарием,
Абсолютному Властелину Восточной Персии.
Приветствую тебя.
Я, Барсина, вдова Мемнона, считаю своим долгом поставить тебя в известность относительно истинного факта исключительно важного значения, который ты имеешь право и, по мнению твоей верноподданной, пожелаешь знать.
В ту ночь, когда ты посетил меня и мы возлежали вместе, я зачала. Подтверждение этому в том, что в должное время у меня не начались мои цветы, тогда как до этого много лет они наступали с той же регулярностью, с какой восходит солнце. С тех пор минуло две недели, и у меня появились другие признаки беременности, знакомые мне по прежним, которые повитухи считают верными знаками: например, зуд в сосках и сонливость.
Ты должен знать, что я с радостью буду ждать ребенка и взращу его с той же любовью, что и других своих детей, и без твоего согласия не доверю никому тайну о том, кто его отец, а те немногие, кто знал о твоем посещении: мои брат и сестра да надежные слуги, — будут крепко хранить эту тайну.
Твоя послушная подданная
Барсина».
Письмо это я прочел в полном уединении. У меня слегка закружилась голова, сильно забилось сердце — ведь это была действительно сногсшибательная новость, которая в той или иной степени повлияет на всю мою жизнь на земле. Этот младенец, если роды пройдут успешно, будет моим первенцем. И тут же меня озаботила мысль: когда придет срок, я пошлю к ней лучших своих врачей, чтобы они помогли родам и обезопасили их.
И вдруг мне захотелось сжечь свиток, но я подавил в себе это далеко не лучшее побуждение, решив, что сохраню его среди своих самых личных бумаг как свидетельство, на тот случай, если когда-либо возникнут сомнения в отцовстве ребенка, и для историков после моей смерти. Так случилось, что в палате, где я обычно диктовал Абруту и писал письма матери, а иногда и другим близким мне людям, стоял персидский письменный стол, искусно сработанный и отделанный. Я чисто случайно обнаружил в нем секретный ящик под выдвижной панелью, которым и решил временно воспользоваться для хранения свитка.
Прошла примерно неделя. Однажды я поздно вернулся из лагеря, где инспектировал нашего интенданта. Уже несколько недель ходили слухи, что в глубине Персии ведется массированный набор в армию, и эта сводка почти столь же определенно, как и предсказание оракула Зевса-Амона, обещала новое сражение с Дарием. На сегодня у меня скопились уже десятки таких сообщений отовсюду, куда я послал своих шпионов. И не оставалось никаких сомнений, что собирается и обучается огромнейшая в мире армия. Тяжелые потери, понесенные Дарием на Гранике и в Иссе, не сильно отразились на количестве молодых мужчин обширной империи, лежащей к востоку от Таврских гор и узкой прибрежной полосы, завоеванной мною на нашем Внутреннем море. До сих пор война охватывала только Эгейское море, Малую Азию и южный берег Эвксинского моря. За ними лежали основная часть Сирии, Кавказ, Месопотамия, Ассирия, обширная область Каспийского моря, Мидия за Персидским заливом, Парфия и такое множество других когда-то великих царств, что от их перечисления у меня болела голова. И я намеревался захватить их все. Напрашивался вопрос, уж не сошел ли я с ума.
Таис встретила меня в большом зале, взяла за руку и повела в довольно маленькую, но роскошно обставленную интимную комнату. Я заметил на ней один из самых лучших халатов и на изящной шейке — нитку жемчужных бус из Аммада. В волосах ее поблескивали другие жемчуга того же размера, поднятые со дна Персидского залива. Их она связала нитью только сегодня вечером и обвязала вокруг головы в классическом эллинском стиле. Голос ее был глубоким и теплым, на лице сияла улыбка, блестели глаза.
Пока мы потягивали светло-золотистое вино Лаконии, я передал Таис кое-что из полученных сегодня новостей.
— Остается только гадать, где и когда точно произойдет сражение, — толковал я ей. — Я постараюсь выбрать место и время, но у напавшего на чужую страну почти всегда мало на это шансов, а дело мне предстоит посерьезней всех прежних.
— Какое это имеет значение? Ты всегда побеждал и будешь побеждать. Можно мне снова наполнить твою чашу, царь Александр? Кувшин от меня недалеко, и к тому же для меня будет большой честью налить ее собственной рукой.
— Спасибо, Таис. Но как тебе могло прийти в голову, что если боги были ко мне благосклонны до сих пор, то так будет и впредь? Все наши знаменитые теологи отмечали их переменчивый характер. Зевс, если сможет, будет поддерживать меня даже против воли своей сестры и жены Геры, но ей то и дело удается перехитрить его, когда он погружен в какой-нибудь могучий замысел. И, рассуждая практически, что всегда предписывал нам Аристотель, конечно же, персы извлекут урок из прежних ошибок. Армия Дария будет лучше обучена, более сплоченной; возможно даже, он заменит своих родственников в высшем командном составе на опытных вояк с деловой хваткой типа Пармениона. Не забывай и то еще: на мне нет Ахиллесовых доспехов, все мое тело целиком уязвимо, не только пята. Метко пущенный дротик или стрела, удар копья или кривого персидского меча — и моя жизнь на земле будет окончена. Это в конце концов случится и положит конец моему походу на Восток, сорвет мои широкие честолюбивые замыслы, и моим завоеваниям будет далеко до завоеваний Ксеркса, Дария Великого и многих других полководцев.
— Я допускаю такую возможность, царь, хотя это и кажется невероятным. Мне невыносима такая мысль, как я говорила тебе еще раньше в новорожденной Александрии.
Мне показалось, что выражение ее лица слегка изменилось, хотя я и не понимал, в чем дело.
— А разве это не было бы печально — мрачной шуткой богов, может быть, — если бы ты вдруг умер, не оставив сына, который бы носил твое имя?
Я неторопливо отхлебнул вина, притворяясь, что задумался над этим обстоятельством. Я не смотрел на Таис, она на меня — тоже. Казалось, она погрузилась в свои мысли.
— Тогда, Таис, роди мне сына, чтобы уменьшить эту опасность.
— Первое право носить твое имя будет иметь твой первенец, — медленно проговорила она. — Возможно, он уже родился и ты не сказал мне об этом, или какую-нибудь другую женщину, занимающую более высокое положение, чем мое, уже воспламенило твое семя.
— У меня нет ни одного ребенка на свете.
— Это, царь Александр, звучит двусмысленно.
— Что напоминает мне об одном или двух ответах на мои вопросы, обращенные к оракулу Зевса-Амона. Ведь эти ответы были точно так же двусмысленны.
— Ты настаиваешь на своем желании? — спросила она после долгого молчания.
— Это мое право, если я желаю.
— И ты этого желаешь? Ведь ты же Александр Великий, а я всего лишь Таис, твоя любовница, бывшая куртизанка.
Да, я был Александром Великим. Уже во всей Европе и Западной Азии я сильно отличался от других Александров, многие из которых были могущественными царями. По правде говоря, еще когда удлинялся мой подбородок, я догадывался о своем величии, по крайней мере, о своем превосходстве во многих отношениях над всеми, с кем я встречался; и даже у Аристотеля голова не работала так быстро и уверенно, как у меня. Но в то время об этом другие только смутно догадывались; требовалось доказать это не менее чем великими достижениями. Кое-что было уже позади. Я нанес Дарию два крупных поражения при значительном численном превосходстве его армии над моей, и я первым завоевал Тир. Чувство величия волной поднялось в моей душе. Появилась уверенность, что я в третий, и в последний, раз разобью Дария, как предсказал мне великий оракул. И все же меня беспокоила одна маленькая деталь: что, если каким-то образом Таис проникла в мою тайну, а коли так, как она себя поведет? В моей личной жизни пустяк ли это или нечто неизмеримо важное? Однако я оставался Александром. Я не мог спасовать перед Таис, как и перед военной мощью всей Персии.
— Это не имеет значения, — ответил я наконец. — Если хочешь задать мне вопрос, я честно отвечу на него.
— Ты делаешь мне величайшее одолжение. Я все же до конца не рассчитывала на это, несмотря на твое величие, которое я полностью признаю и вижу отчетливей, чем кто-либо из прочих смертных, ведь я знаю тебя лучше других.
Ее глаза встретились с моими, и в комнате стало как-то необычно тихо. Я отчетливо различил звук обычно почти неразличимый — звук медленно текущей струйки воды в часовой склянке, стоящей на столе возле дальней стены. Она, возможно, говорила мне, что этот час для меня роковой.
— Да, царь Александр, я, Таис, твоя до сей поры любовница, желаю задать тебе, мой господин, один испытующий вопрос — непристойный, когда он обращен к царю.
— Не заботься о пристойности. Но почему ты говоришь «до сей поры»?
— Потому что я не уверена, что наши прежние отношения уже не пришли к концу.
Я пожалел, что не знаю Таис так же хорошо, как она меня. Я бы тогда знал, есть ли хоть малейшая опасность того, что наши отношения прекратятся, как бы я ни ответил на ее вопрос. Мне такое казалось почти невозможным. Я был Александром, она — всего лишь Таис. Моему имени предстояло прогреметь в истории; ее же, если и будет известно, то только благодаря тому, что оно было связано с моим. Она уж и теперь была широко прославлена как моя фаворитка. Эта слава быстро поблекнет, если мы расстанемся. Сейчас она занимала высокое место; но было ли хоть в малейшей степени возможно, чтобы она сошла с него вниз из-за того, что я сделал — что делали все цари: мой отец Филипп, Дарий, женатый на прекраснейшей женщине Персии, — да, в общем, все известные истории цари, то есть делили ложе с другими женщинами помимо их жен или возлюбленных? Это считалось одной из привилегий царей, той же самой, которой пользовались боги. Никто этому не удивлялся, никто не сомневался в правильности такого положения дел. Я был вполне уверен, что если отвечу на ее вопрос, который представлял себе не только в общем смысле, но и в полном словесном выражении, и ее гордость слегка будет задета, то боль скоро пройдет.
— Задавай свой вопрос, Таис, если в этом состоит твое желание.
— Это не мое желание. Мне его навязывает моя природа, при условии, что ты услышишь и ответишь на него, как ты уже согласился сделать.
— Спрашивай — и покончим с этим.
— Существует ли женщина, воспламененная недавно твоим семенем?
— Да.
— У меня есть причина полагать, что это Барсина, вдова знаменитого Мемнона.
— Да, это она. Но она обещала мне, что не доверится никому, и я поверил ей. Наверное, ты наняла шпиона.
— Не обвиняй меня, царь Александр, в такой низости. Барсина тоже не нарушала своего слова. Я узнала правду благодаря случайности. Но мне было просто необходимо услышать это из твоих собственных уст.
— Как же ты узнала это, Таис?
— В этом дворце, царь Александр, много людей, не чистых на руку. Так всегда бывает, когда много слуг, а дорогие вещи не спрятаны как следует или не хранятся под замком. Я не осуждаю этих воришек. Если бы я была рабыней и могла купить себе свободу за небольшую сумму золотом и это золото можно было бы взять так, чтобы о нем не спохватились и не обвинили меня в краже, я бы тоже крала. Винить надо не их, а беззаботность их хозяев и хозяек, которым следовало бы быть более осмотрительными и лучше понимать человеческую натуру. У меня есть несколько дорогих украшений, которые ты подарил, когда был особенно расположен ко мне. Я не знала, где их спрятать, пока моя важная служанка Вера, стирая пыль с мебели в одной из твоих комнат, не наткнулась случайно на пустой ящик под выдвижной панелью в старинном письменном столе. Когда она увидела его в первый раз, он был пустой. Сегодня я дала ей эти знаки твоей любви и велела положить их в тот ящик. Когда она его открыла, в нем лежал свиток. Она не разворачивала его, а принесла мне — и твои дары тоже. Печать на свитке была сломана. Женщина — существо любопытней, чем ворона, поэтому я, преодолев угрызения совести, развернула его и прочла.
— И теперь злишься. Если бы ты понимала…
Она прервала меня, что случалось крайне редко в наших отношениях:
— Я понимаю, понимаю. Возможно, даже лучше, чем ты сам. Я знаю, что у тебя нет никакой преступной страсти к Барсине. И вовсе не злюсь. Только я знаю, что ты нарушил данное мне слово. Я обещала оставаться твоей любовницей, если ты будешь хранить мне верность — в том смысле, что не вступишь в физическую связь ни с кем, кроме меня. И заметь, царь, я была тебе верна.
— Я это знаю. — Говоря, я все еще слышал, словно эхо, ее голос, звучавший у меня в мозгу. В нем не было обвинительных ноток, никакой страстности. Еще никогда она не говорила так спокойно. Но на спокойном ее лице лежала глубокая печаль, глаза потемнели.
— Надеюсь, я могу продолжать. Царь Александр, не в моей природе оставаться верной одному любовнику, иначе я бы не выбрала карьеру куртизанки. Нет, я не жажду объятий других мужчин. Я бы не звала их ради того, что дают они, — мне важнее, что даю я. Боги наделили меня красотой. Мне нужны мужчины, возбуждающие меня и потому способные получить мой дар красоты, пить глубоко из этого источника. Я могу сделать только одно сравнение — с художником, который, нарисовав прекрасную картину, хочет, чтобы на нее глядели все, кто способен оценить эту красоту. Мои губы мягки и гладки, кожа шелковистей самого шелка, запах моего тела кажется сладким для любителей прекрасного. Касаться меня, целовать, ощущать мой запах, вкус моего тела — это чудесно. Даже мой голос, мягкий и мелодичный, называют прекрасным. Жизнь коротка. Такая красота, как уже теперь очевидно, скоро увянет. Потом только художники и люди с особо изысканным вкусом различат в ее остатках ту красоту, что они видят в старой попорченной статуе, в потускневшей картине, в обезображенном лице из мрамора с отбитыми кусками. Тем не менее я стала твоей, желая быть верной тебе, пока ты ценишь меня в достаточной мере, чтобы быть верным мне. Этого, думала я, хватит на несколько лет — до тех пор, пока твое растущее тщеславие не превратится в эгоманию, а то и в мегаломанию,
[198] и для тебя ничего не останется в мире, кроме собственной славы. Я поверила твоему обещанию верности. И в данном случае причина твоей неверности заключалась не в том, что ты встретил более красивую женщину, чем я, а в низменном желании отомстить вдове твоего мертвого врага. О Барсине мне кое-что известно. Она сохраняла верность памяти своего замечательного мужа, и может, это кажется глупым, но такова ее натура. Каким-то образом ты заставил ее подчиниться себе. А потому, царь Александр, я больше не могу оставаться твоей. Я сегодня же покину твой дворец и найду себе какое-нибудь другое жилье или уйду сразу же после рассвета, но буду спать в отдельной комнате.
Я не мог ничего возразить. На нее не подействовали бы никакие угрозы, никакие обещания верности в будущем. На этот раз я оказался неспособным не только действовать, но и говорить. Я потерпел поражение.
Мы сели рядом, не говоря ни слова, моя рука незаметно оказалась в ее ладонях, и она тихонько сжала ее.
После долгого молчания я, царь, смиренно задал ей вопрос:
— Может, скажешь мне, что ты теперь собираешься делать?
— С удовольствием. С твоего позволения, я останусь сопровождать твою армию. Но я поеду не в коляске позади тебя с твоими гетайрами, а в повозке, среди сопровождающих армию гражданских. Многие из твоих соратников погибнут, когда ветви станут снова ронять листья. Если кое-кто из них будет искать моего расположения, если они молоды, смелы и сильны и смогут меня взволновать и разбудить во мне страсть, которая так легко возбудима, я не буду им запрещать этого. Я возьму пять статеров золота с каждого, что для сопровождающей армию женщины высокая цена. Среди тех, кого я буду развлекать, если он этого пожелает, твой сводный брат Птолемей. Ты ведь знаешь, мы с ним провели ночь в Афинах, и он вполне оценил, чего я стою.
— Таис, если ты ляжешь с Птолемеем, я твердо знаю, что убью вас обоих.
— Эта угроза не удержит меня. Не думаю, что она отпугнет Птолемея. Он знает, что как мужчина имеет право на сожительство со мной теперь, когда я больше не твоя фаворитка, а он — большой человек.
— О, великий Зевс! Я, который дважды победил Дария с его несметным войском, терплю поражение от молодой особы, могучей своей таинственной красотой! Беру назад свою угрозу. Ей приличествовало бы звучать только на устах сына бога, потому божественного, а это еще не доказано осуществлением моего богоподобного замысла, хотя в душе я целиком в это верю. Негоже звучать ей на устах просто великого царя. У меня есть еще одна просьба, а не приказ. Я хочу, чтобы ты все-таки ехала в экипаже за мной и моими славными друзьями. Ты должна быть отделена от армейских спутниц, потому что отдаешь тем, чьи принимаешь объятья, не только свое тело, но и ум, и душу. Ты знаменитая куртизанка высшего класса, ты не только проститутка, но и мастер развлечений. Прими экипаж и это место в колонне как знак моей благодарности за то, чего уже не вернуть. Ты понимаешь, в чем тут смысл, ты согласна на это?
— Я не уверена, что вижу в этом смысл, мой царь. Многие из сопровождающих армию — честные проститутки, старающиеся доставить своим гостям как можно больше удовольствия. И все же я благодарна тебе за твою щедрость и заботу.
— Еще один деликатный вопрос. Мне трудно выразить его в словах. Что, если я возжажду тебя и приду к тебе в поисках ночного развлечения, наслаждения и восторга соития с тобой? Ты мне не откажешь?
— Я не откажусь от твоей благосклонности, если такое будет случаться с тобой, царь Александр, и не откажу тебе в своей. Но ты не должен приходить ко мне — это было бы недостойно царя. Просто пошли за мной одного из своих слуг, и я приеду в подаренном тобой экипаже. А утром вернусь назад. Буду рассчитывать, что ты дашь мне десять золотых статеров, — я ведь должна как бывшая фаворитка царя жить с некоторой изысканностью. А что касается того, права я буду или не права, принимая тебя, то наш союз разорван и мне нет дела до того, какие там еще другие женщины приняли тех, кто пришел ко мне. Я не связана с этими мужчинами, как и они со мной, никакими контрактами. Почему я должна допустить, чтобы нас навеки разделило нарушение тобой нашей договоренности, столь свойственное твоей натуре? Я помню, как ты ласкал меня, Александр. Даже Птолемей не дарил мне такого наслаждения, как ты, и именно тебе, и никому другому, давала я так много счастья. Я больше никогда не вступлю с тобой в соглашение, потому что не верю, что ты его вновь не нарушишь. Но надеюсь, ты пошлешь за мной, когда почувствуешь во мне сильную нужду — и ты проведешь блаженную ночь, купаясь в моей красоте. И для меня это будет большая честь.
— У меня еще один вопрос. Я вижу, что наш союз, который приносил нам столько счастья, разорван навсегда. Но сегодня вечером ты мне очень нужна. Я приглашаю тебя, свободного человека, провести ночь не в чужой постели, а в моей. Перед этим мы устроим праздник, ты сыграешь на лире чудесную музыку, я услышу мелодию твоего голоса, потом предъявлю ночные права на тебя и твои ласки и дам тебе не десять статеров, а пятьдесят. Ты принимаешь мое предложение? Умоляю тебя, согласись.
Ее глаза наполнились слезами.
— Бедный Александр, — проговорила она. Таким тоном она говорила со мной второй раз. Я бы не потерпел его ни от кого другого, если бы только не лежал, побежденный или больной, возложив голову на грудь женщины, которую любил больше самого себя. — Ты разбиваешь мне сердце, когда говоришь «умоляю». Сегодня как раз одна из тех ночей, когда мое чрево открыто и я могу забеременеть, но я рискну. Я буду на эту ночь твоей подругой — хотя почему бы и не возлюбленной?
Итак, это произошло. Она пела мне старые, уже слышанные мною песни, но они никогда прежде не звучали так чудесно в моих ушах и никогда еще ее лицо не было так прекрасно какой-то загадочной, печальной, не поддающейся определению красотой.
После ужина она обнажила свое дивное тело, а я обнажил свое, и мы легли рядом, лаская друг друга. Мы оба пришли в такое сильное возбуждение, которого прежде до соития никогда еще не испытывали. Когда ожидание стало невыносимым и мы соединили наши тела в эротической любви, накал страсти достиг такой остроты, что наш экстаз перешел за грань физического, возможно, оттого, что с ним переплелась великая печаль — не лично наша, а печаль самой жизни, подспудно живущая в каждом часе нашего пребывания на земле, ощущаемая каждым человеческим сердцем, от которой свободны только боги; и не сам ли человек создал этих богов в своем тоскующем воображении, с тем чтобы можно было верить в вечное счастье, в коем ему отказано. Достигнув высшей точки нашего соития, мы оба заплакали.
Придет срок, и я высеку на камне изречение, которое слышал когда-то, не помню от кого — изречение, которое, по-моему, невероятно прекрасно и вместе с тем невероятно печально, ибо истина в каком-то непонятном нам смысле есть красота. В нем выразилась ужасная беда человечества:
«КАЖДЫЙ ЧАС РАНИТ,
ПОСЛЕДНИЙ ЧАС УБИВАЕТ».
Глава 6
ГИБЕЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ

1
Пока мы находились в Дамаске, меня одолели некоторые заботы в отношении друга моего детства Гарпала. Врожденная косолапость тенью ложилась ему на душу, отсюда ему не хватало самоуверенности, на которую он имел право, обладая быстрым и ярким умом. В Роще Нимф он был одним из лучших учеников Аристотеля, часто первым находил ответы на поставленные учителем задачи, оставляя нас всех в дураках. Мне кажется, уродство сказывалось на его здоровье. Скорее всего, это происходило от беспокойства и подавленности настроения, чем от физической хрупкости — он часто бывал нездоров. Временами он пытался мстить за причиненные ему богами страдания, проявляя неоправданную жестокость, часто бывал непомерно обидчив. Он, похоже, переоценивал наше внимание к его увечности: в действительности мы свыклись с ней настолько, что зачастую совершенно ее не замечали; ему же казалось, что мы только и смотрим на его ногу.
Он умел быстро считать, и я назначил его казначеем, подчиненным только мне одному, но он все еще не был государственным казначеем. Я не послал его с Парменионом для захвата обоза Дария, идущего в Дамаск, накануне сражения при Иссе, и он впал в мрачное раздумье, а затем совершил нечто похожее на дезертирство. Его без труда догнали и, если бы не наша детская дружба и его увечность, то без промедления судили бы и предали казни. Вместо этого я поговорил с ним и убедил его снова стать моим верным сподвижником.
Чтобы еще больше успокоить его, я назначил его на пост государственного казначея Македонии и поручил его опеке громадные запасы богатств, накопленных в Дамаске.
В тот же самый период времени я пополнил наши интендантские запасы — в основном зерном, а также сушеной говядиной и бараниной с равнин и рыбой, слегка подсоленной и вяленой на солнце — ценный предмет торговли поморов с городами, лежащими в глубине континента. Даже мысль об этих рыболовецких флотах с их смелыми, стойкими экипажами наводила меня на воспоминание о почти потерянной Таис, как с горящими глазами она говорила о них в тот день, когда на месте строительства Александрии я снизошел до чудовищной глупости.
Выступив на север из Дамаска, мы шагали по богатой, густо населенной территории.
[199] Заходя в ряд городов, включая Алеппо, известный изготовлением высокопрочной стали, где был выкован и мой собственный меч, получивший от меня прозвище «рубака». Отсюда мы пошли по караванному пути на Восток, к правому, или западному, берегу реки Евфрат. Так мы впервые вступили во внутреннюю Персию.
Я боялся Евфрата. Мои разведчики все еще не обнаружили войска Дария, и, несмотря на сведения, собранные моими лазутчиками и доставленные мне гонцами или, точнее сказать, подкупленными караванщиками, которых мы встречали на пути, я не знал его точного местоположения. Согласно нескольким донесениям, он расположился громадным лагерем в пустыне, недалеко от поселения, известного под названием Арбела, где жили в основном дорожные рабочие. Однако, если бы я был его доверенным лицом, я посоветовал бы ему выступить тайком и внезапно напасть на нас во время нашей переправы по старому мосту через эту могучую реку.
Этот мост сильно пострадал от персидских беженцев из Исса, но не обрушился. После того, как мои разведчики после тщательного обследования противоположного берега не обнаружили никаких признаков вражеской армии, я послал для ремонта моста отряд строителей с хорошей охраной. Они заметили за рекой довольно много персидской конницы, и мои люди опасались, что она может переправиться и напасть, но это была только конная разведка, которая быстро умчалась назад. Вскоре я узнал, что персы подожгли поля и житницы на обширном пространстве, а всех молодых мужчин, оказавшихся под рукой, забрали в солдаты, чтобы пополнить и без того уже чудовищно громадную армию Дария. Мы легко переправились через реку и повернули на север, в ту часть Месопотамии, где климат был попрохладней.
Однако продвижение наше замедлялось тем, что приходилось умиротворять или захватывать лежащие на нашем пути укрепленные города, чтобы нам не досаждали с флангов и тыла. С другой стороны, эта дорога позволяла нам сэкономить наши запасы зерна, так как мы шли через область, известную своей питательной пшеницей — лучшим походным фуражом, уступающим только мясу и рыбе. В это время года стояла засуха, и нам приходилось держаться ближе к холмам, переправляясь через малые реки и ручьи, которые утоляли жажду моих потных соратников.
Я опасался реки Тигр, текущей ближе к морю примерно параллельно Евфрату
[200] и бок о бок, словно они были сестрами, которые родились далеко друг от друга на севере и, одинаково
выходя из ущелий, извергались в Персидский залив. Эту реку нам предстояло перейти вброд, несмотря на ее ширину и быстрое течение. На Евфрате удача нас не покинула, но можно ли было предполагать, что она не изменит нам и на Тигре? Когда моя небольшая армия окажется посреди переправы, один хороший налет конницы врага, пока его лучники со скифскими луками будут спокойно целиться в плывущих и конных, вполне вероятно, может привести к нашему разгрому. Если мне с несколькими соратниками удастся остаться в живых, я уже не смогу собрать в Греции или еще где-нибудь новую армию и моя звезда закатится навсегда. В отличие от Дария я не мог, потеряв две армии, найти на обширных территориях человеческие ресурсы для третьей.
Но мои разведчики видели только вражескую разведку, и донесения теперь не оставляли никаких сомнений, что войско персов действительно стоит лагерем около Арбел, ближе к деревушке Гавгамелы.
Дарий не поднял руки, не отдал приказа остановить нас. Это так удивило меня, что я посоветовался с Птолемеем, чья голова варила лучше всего под моим началом, тогда как моя собственная не всегда была в моей власти.
— Он не только не воспользовался двумя прекрасными возможностями, — объяснял я другу детства, — но дал нам спокойно пройти всю ширь Месопотамии. Он мог бы послать кавалерию, чтобы напасть на наши лагеря ночью, перебить нас одного за другим из засады и устроить ад нашим флангам и тылу. Что удержало его руку?
— Меня тоже это удивляет, — отвечал Птолемей. — Судя по тому, что мы знаем о Дарии, он упрям, медленно усваивает уроки, но если что-то усвоил, то стойко держится этого, даже себе в ущерб. Он дважды потерпел поражение, неудачно выбрав поле битвы. Теперь он считает его чрезвычайно удачным: просторное место, в основном горизонтальное, его легко выровнять для езды на колесницах, в которые он так верит. Он сидит там, как статуя, на своем пьедестале. Никто не может убедить его двинуться: ни родственник, ни сатрап, ни военачальник. Кроме того, он, возможно, дожидается прибытия пополнения из отдаленных областей империи, чтобы его войско раздулось еще больше.
— Если так, то это единственное, чего ему не следует ожидать, ведь, по нашим донесениям, даже если они наполовину врут, его армия уже чересчур велика.
— Персы живут в большой стране — и мысли их велики, а иногда туманны и неповоротливы. Если одна наложница — это хорошо, то десять — лучше, а сто — еще лучше. Сам царь — очень крупный мужчина, выше пяти локтей, это точно — просто великан, и к тому же царь гигантской империи. Значит, его армия тоже должна быть гигантской. Не думаю, что у него есть какая-то стратегическая идея. Его военачальник Бесс имеет славу отличного стратега, Мазей тоже, но он их не слышит. Царь Александр, если тебя когда-нибудь окружит такая стена придворных, что сквозь нее к тебе не смогут пробиться голоса твоих военачальников, я уйду со своего поста.
Это, должен признаться, была бы очень тяжелая потеря. Так же, как и потеря старого, покрытого боевыми шрамами Пармениона, до вступления в битву осторожного, как волк, а потом храброго, как лев. Он учился только на опыте, от него нельзя было ожидать внезапных непродуманных действий. Поэтому мне вновь и вновь приходилось отклонять его предложения. У меня было несколько начальников, хорошо разбирающихся в тактике, и все без исключения умели прекрасно руководить солдатами. Под моим руководством они составили отличный штаб, проверенный во многих сражениях. А Дарий, за исключением двух упомянутых Птолемеем начальников, не располагал военным штабом, стоящим внимания.
— Первые египтяне тоже имели страсть к большим величинам, — размышлял Птолемей. — Представь себе Великую Пирамиду — что за жилище для одного бедного маленького мертвеца с богатыми украшениями, жертвенными рабами, едой и напитками и так далее, и так далее. Тебе не кажется, что они той же крови, что и персы?
— Не думаю. Персия была заселена племенами кочевников. А египтяне, похоже, туземные жители долины Нила.
Я разговаривал с ним учтиво и помнил наше совместное детство, но в моем сердце тлел красный уголек ненависти, возможно, оттого, что он вступал в сношения с моей утраченной прекрасной Таис и, несомненно, сделает это снова. Я же не мог этому помешать иначе, как убив его или ее.
Здесь, на севере, мои застрельщики захватили группу персидских разведчиков, которых мы заставили рассказать нам все, что им известно о передвижениях и планах Дария. У моих военачальников челюсти отвисли, когда они услышали, что армия царя намного больше, чем при Иссе и Гранике, и с каждым часом раздувается, как ядовитый гриб. Но это обеспокоило меня не так сильно, как то, что в целом его войска лучше обучены, чем прежде, и в основном находятся под командованием начальников с именем и славой. Похоже, слишком явно сбывалось мое пророчество в разговоре с Таис.
Никем не потревоженные, мы подошли к броду на реке Тигр, достаточно глубокому, чтобы замочить подгрудники у крупных месопотамских волов. Я принял все меры для безопасности переправы не только ради спасения множества людей, но также ради поддержания у солдат высокого духа, который упал бы, если бы они видели уносимых рекой товарищей или их выловленные из течения безжизненные мокрые тела. Всадники выстроились в ряд вдоль берега и образовали еще один ряд, ниже по течению, чтобы помочь оступившимся пехотинцам. Когда переправа закончилась без единой потери, вся моя армия разразилась мощным криком ликования.
Во время этой передышки мы наблюдали затмение луны. Меж солдат пошла ходить история, фактически почти не имеющая под собой основания, что луна, которая для персов была Астартой, по какой-то неочевидной причине особо священна для Дария и это служит знаком того, что его войска вскоре также окажутся в затмении. С другой стороны, затмение солнца наверняка пробудило бы суеверные страхи. Я, как бывший ученик Аристотеля, точно знал, что является причиной затмения: тень Земли отбрасывается Солнцем на Луну, когда Земля и ее спутник стоят с ним точно в один ряд. Это событие довольно обрадовало меня, так как греческие и превосходящие их в знаниях и опыте египетские и персидские астрономы иногда могли предсказывать затмения за две недели вперед и пунктуально отмечали время их наступления. Значит, дата предстоящего скоро крупного сражения останется вписанной в анналы истории на все времена, а ведь иначе в суматохе лет и вечно меняющихся календарей она могла бы потерять свою определенность. Это произошло за день до осеннего равноденствия, после моего двадцать пятого дня рождения, в двадцать шестой год от Александра. Я подумал, что эта байка, подбодрившая солдат, родилась в изобретательном мозгу Птолемея. Во всяком случае, она распространилась подобно лесному пожару, и я приказал нашим толкователям, чьи предсказания не всегда бывали толковыми, пройти через фокус ритуального проникновения в смысл данного явления и дать ему истолкование.
Тем временем я воздвиг алтари и принес жертвы как Солнцу, так и Луне, а также абстракции, которую мы называли Ге, включающую в себя Солнце, Луну и Землю. «Аристотеля, — подумал я, усмехаясь, — не увидели бы за приношением жертвы Аполлону, или его сыну Гелиосу, или Селене-Луне, но к Ге он относился с явным пристрастием: для него это означало всю Природу в целом.
Отсюда мы двинулись по большому торговому пути, веками служившему маршрутом для караванов и армий царей, купцов и больших партий рабов, и каждый шаг его был орошен кровью и потом. Он проходил по пустынной области с редким кустарником, где обитали несколько львов, изредка встречающиеся стада газелей и небольшие грызуны, служившие пищей для множества змей. Однако один историк в нашей среде, который умел читать на древнеавестском и персидском языках, говорил, что когда-то это место было районом охоты великих ассирийских царей, таких, как Шалманезер I, которые охотились не только на львов, но и на зубров и слонов. Его рассказ подтверждали остатки фундамента какого-то сооружения, которое могло бы быть царским охотничьим домиком, и самое большое из упомянутых животных нуждалось в изобилии густой травы, а львы, в количестве заслуживающем внимания охотников, не могли бы прожить без множества травоядных.
Кто знает, может, эта земля подверглась проклятию Зевса, который обделил ее своими дождями, и плодородная область стала пустыней.
Мне нравилось размышлять над такими далекими от реальной жизни вопросами, чтобы временами дать отдохнуть голове от мыслей о предстоящих событиях следующих нескольких дней. Мы приближались к персидскому войску, и спустя три дня после равноденствия моя разведка донесла, что видела отряды вооруженных всадников. Это тоже были застрельщики, недалеко оторвавшиеся от главных сил армии, поэтому теперь нам приходилось двигаться медленно, колоннами, которые можно было быстро и легко построить в боевые порядки. Тем временем я со своей охраной и подкреплением из всадников поскакал вперед. Букефал был в прекрасном настроении — возможно, потому, что чуял множество коней, а возможно и потому, что по моему собственному возбуждению чувствовал близость сражения.
Мы взяли пленных из персидских застрельщиков и от них узнали, что Дарий стоит лагерем у Арбел и уже выбрал поле сражения, на котором определенно собирается разбить и окончательно уничтожить мою мизерную армию. Я не мог поверить цифрам количества кавалерии и пехоты, которые называли наши пленные, но сомнений не оставалось, что Дарий собрал огромнейшую в человеческой истории армию. Мы стали лагерем в шестидесяти стадиях от персов, и наши гражданские, в основном рабы, укрепили лагерь валом, окружившим глубокий ров и частокол. Ему предстояло стать нашим лазаретом, местом содержания пленных и хранения нашего багажа и добычи. Теперь мои солдаты могли идти в бой только с оружием и щитами, не обремененные посторонней ношей.
Мы отдыхали четыре дня, и Дарию приходилось ждать, ибо он поклялся больше не оставлять выбранное им благоприятное поле ради такого, которое давало бы преимущества моей небольшой, компактной армии. У меня оставался один выбор — времени начала сражения. Решение это я намеревался принять осторожно.
Лазутчики приносили мне донесения чуть ли не ежеминутно. Полный решимости уничтожить наглых захватчиков, Дарий набрал воинов со всех обширных земель своей оставшейся части империи. Единственная очевидная слабость его войска заключалась в разношерстности его состава. Сатрапы и подчиненные цари прислали ему большое пополнение со всех сторон света. Зоркие лазутчики узнали варваров с севера; лихих всадников, наверное, из Бактрии и Согдианы; высоких светловолосых горцев, называемых родовым именем кафры, с верховий реки Кунар на Гиндукуше; мидян и парфян; воинов со светло-рыжими бородами, похожих на кельтов из далекой северной области Оксиан;
[201] лучников из Парфии, которые, отступая, делают внезапные остановки, осыпая противника смертоносным градом стрел; и тощих, высоких, загорелых воинов, фанатичных в бою, ездящих верхом на верблюдах или быстроногих остроухих лошадях. Больше всего беспокоило меня подразделение не людей, а животных. Это не были военные псы, применяемые на самых западных островах Тин, а отряд из пятнадцати слонов, частично защищенных броней, высотой в восемь-девять локтей. Наездники сидели у них на шее с заостренным металлическим стрекалом в руке, а в огороженной площадке на месте седла с балдахином воины с тюрбанами на головах держали в руках луки со стрелами или длинные копья.
Военачальникам было хорошо известно, что конники не могли противостоять слонам без того, чтобы их лошади не вышли из повиновения. Запах слонов, издаваемые ими то мощные трубные, то резкие высокие звуки, их колоссальные размеры, их бормочущий разговор между собой наводили на лошадей панический ужас.
Они были из Индии. Поскольку они не могли перевалить через Гиндукуш, им дорогой сюда, должно быть, послужили горные проходы под Кабулом. Из тех же мест прибыли и чернобородые воины в тюрбанах, кожаных плащах и мешковатых брюках под названием «патан», вооруженные кривыми мечами; а также очень крупного роста светлокожие воины из Раджпутаны и Пенджаба. Из-за Оксиана прибыли кочевники, не подчиненные царю, с очень опасным оружием — луками из рога и слоновой кости, стреляющими в позиции, противоположной нашим лукам, и на невероятно большую дальность.
В основном эта огромная армия была вооружена широкими мечами и копьями длиннее, чем те, которыми персы сражались при Иссе. Дарию тот урок пошел на пользу, как, возможно, и другие тоже; но, размышляя над его силой, стараясь не преувеличивать его слабости, я нашел, что его поведение не поддается объяснению: он не напал на нас на Евфрате, не мешал переправиться через Тигр и сейчас не тревожит наши сторожевые заставы, не устраивает демонстраций, чтобы заставить нас перестраивать боевые порядки и лишать нас нормального сна.
После тщательного осмотра всего оружия и доспехов мои начальники выдали солдатам усиленный рацион питания и разрешили им отдыхать с наступлением темноты до полуночи, затем трубач проиграл мою команду выступать. Как только рассвело, мы ступили в поле зрения противника, построившегося в каре, еще не виданные ни на одном поле сражения. Ясно, что они стали в эти порядки до рассвета, поэтому я дал им постоять так как можно дольше, зная, что Дарий не решится позволить своим солдатам разойтись, боясь, как бы я не выбрал этот момент для нападения. Поэтому мы провели весь день, тщательно исследуя место будущего сражения. Скифы славились своим умением устраивать прикрытые ямы с острыми, вбитыми в землю копьями против конных и пехоты, а также и другие ловушки, но мы ничего такого не обнаружили, зато заметили участки выровненной земли для удобства атаки на колесницах с косами.
Вечером ко мне в палатку зашел Парменион и стал убеждать меня напасть на персов ночью. Я ответил ему пышными громкими словами, которые даже мне самому показались глупыми. Почему я хотел дотянуть до утра? Да потому что ночная атака всегда чревата риском расстройства боевого порядка. Кроме того, персы после бессонной ночи и долгого жаркого дня стояния в строю стали бы еще уязвимей, тогда как мои ветераны, завернувшись в свои накидки с капюшонами, уютно бы себе похрапывали. Я удалился к себе, потосковал о Таис, но, зная, что она не может прийти и наполнить сладостью мои мечты, я смирился с мыслью о ее потере и крепко заснул. После сытного завтрака — на голодный желудок нет желания драться — моя армия спустилась по склону холма, покинутому небольшим персидским подразделением, и построилась в боевом порядке.
Перед нами простиралась обширная засушливая равнина с ближайшим городом Арбелы.
[202] Громада персидского войска мешала нам видеть то, что было вдали. На левом крыле выстроилась бактрийская конница на косматых низкорослых лошадях. Промелькнула шальная мысль, что многим из этих молодых людей известна на вид дочь их царя Оксиарта, что, возможно, ей приходилось целовать кого-нибудь из молодых военачальников, перед тем как они отправились на Александра, почти истершегося из ее памяти. Я полагаю, что это преломление в мыслях было хитростью моей обеспокоенной души, желавшей, чтобы я чуть подольше вгляделся в строй врага, такого многочисленного и опасного.
Какая нужда подробно описывать развертывание боевых порядков противника или даже наших собственных? В нашей армии находился историк, который даст полное описание, и его отчет будут копировать снова и снова с растущим количеством ошибок, и более поздние историки в свою очередь возьмутся за пересказ событий сражения, их рассказы не сойдутся, и они обвинят друг друга во лжи. Век за веком будет расти стопа письменных трудов; а если бы меня без лишнего промедления разбили в надвигающейся битве, мало перьев окунулось бы в чернила, чтобы упомянуть о незначительном столкновении между Дарием, императором Персии, и македонским выскочкой, которого судьба сперва ласкала, а затем покинула.
Линия баталии царя была такой, какую я примерно и ожидал. В нее входили лучшие войска, были и кое-какие удивительные новшества. По грубым подсчетам, согласно сообщениям моих лучших разведчиков, его кавалерия насчитывала сто тысяч, и в ней необычно большая доля приходилась на бактрийскую конницу, отчего я больше зауважал это, по моим представлениям, малозначительное подчиненное царство. Бактрийцы поистине были всадниками с рождения, что когда-то продемонстрировала мне Роксана, моментально подчинив себе славного Букефала. Мои лазутчики донесли, что правым крылом командовал Мазей, левым — Бесс, а центром — сам Дарий. Инды и парфяне занимали важное место и явно были у царя в большом почете. Он снова находился в своей царской колеснице из золота и серебра, запряженной серыми в яблоках жеребцами из его великолепной конюшни. Его окружали родственники и царская гвардия, сама по себе составлявшая внушительную армию, приблизительно вполовину моей. Слева и справа от центра, разделенные на две силы, стояли тридцать тысяч греческих наемников, его самые искусные воины, беспокоившие моих солдат больше всего. В развернутом строю стояли горцы, смуглые арабы с кривыми саблями, на горячих породистых лошадях, рыжебородые великаны — похоже, кельты из Оксиана, и мидяне — лучники, от которых явно будет мало пользы против моей фаланги или решительного натиска моей кавалерии. Фаланга царя, состоявшая из множества таксисов (отрядов по 1500–3000 человек), выглядела внушительно, и, если ее маневренность будет соответствовать донесениям, ее роль в предстоящем сражении может оказаться зловещей.
Новшества состояли в том, что в боевые порядки были включены двадцать боевых слонов и около двухсот с толком расположенных колесниц, каждая из которых имела торчащие по осям гигантские косы с обращенными вниз остриями. Но, как и при Иссе, за линией баталии все так же громоздились большие массы резервов, польза от которых могла быть только в случае прорыва в наши боевые порядки. Вдобавок ко всему у царя было множество пращников и метателей дротиков.
Я отметил, что в памяти Дария хорошо запечатлелся один урок, преподанный ему при Иссе: теперь у персов копья были длиннее, чем тогда.
У меня расстановка сил мало чем отличалась от той, что была при Иссе. Клит командовал моими телохранителями и приданной им в помощь кавалерией; Кратер — всей пехотой слева от моей фаланги; Аттал, в голову которого я когда-то запустил кубком, вел моих агриан; Главкий временно возглавлял мой мощный ударный молот — конницу гетайров, состоявшую исключительно из македонцев. Парменион командовал главной силой моих пехотинцев, находившихся под защитой другого элитарного корпуса — фессалийской конницы.
Фракийские метатели дротиков и контингенты свеженабранных отрядов конницы и пехоты несли охрану обоза и сокровищ позади наших порядков, доводя суммарную численность моей армии до сорока тысяч пехоты и семи тысяч всадников.
Приблизительно десять к одному! Но наши силы были в высшей степени опытны, искусны и дисциплинированны; это была сплоченная армия с крепким моральным духом, солдаты чувствовали себя уверенно после хорошего сна и завтрака и отлично помнили свои победы при Иссе, Гранике и в Тире. Они были армией Александра, а Александр был любимцем богов — и этот фактор оставался главным. Сердце сильно стучало, живот немного свело, но внезапно меня охватила уверенность в своей судьбе, и горнист по моему знаку подал сигнал к наступлению.
2
Моя армия маршировала, как на учебном поле, молча, мерным шагом, соблюдая идеально ровный строй. Недалеко от передовой линии врага я приказал солдатам остановиться и медленно проехал перед ними на черном Букефале в своих белых доспехах, сияющих в лучах утреннего солнца. Раздался мощный приветственный клич, затем по-бычьи проревел голос одного рядового македонца:
— Веди нас на врага!
Я переложил копье в левую руку, а правую воздел к небесам.
— Сын Зевса всех вас приведет к победе! — крикнул я в ответ, впервые открыто, принародно подтверждая чудесную истину.
Возвращаясь назад на свой пост, я заметил небольшое перемещение в передовой линии персов. Дарий поставил свою гвардию прямо напротив меня, чем желал показать своей армии полное пренебрежение ко мне, будь я бог или человек, но тем самым оставил влево от центра промежуток. Я тут же понял, что его можно увеличить, и с этой целью приказал трубачу дать сигнал моему фронту смещаться вправо наискосок, на что персы ответили соответственно движением влево, вызвав ослабление стыка левого крыла Дария с центром. Мое движение вправо продолжалось до тех пор, пока не стало казаться, что я угодил в ловушку Дария, ибо мои отряды уже достигли участка поля, выровненного персами для их коронного удара — неотразимой атаки колесниц с торчащими наружу косами. Поскольку далее лежала каменистая местность, Дарий приказал всадникам с краю левого крыла объехать мое правое и не дать мне возможность вести его дальше. В ответ я приказал Мениду бросить на них конницу, но скифские и бактрийские всадники так свирепо атаковали, что заставили их отступить. Им на помощь помчались вооруженные пиками всадники Ареты, завязалась короткая и кровавая схватка, в конце которой варвары дрогнули и вернулись на прежние позиции.
Но эта фаза сражения еще не закончилась. К всадникам Ареты приблизился хорошо вооруженный и защищенный броней четырнадцатитысячный отряд бактрийской конницы под командованием Бесса, пожалуй, самого значительного военачальника персов. Отступившие всадники повернули обратно и вместе со своим мощным подкреплением вступили с македонцами в упорное конное сражение со всем его грохотом, рвущимися вперед лошадьми, сверкающими мечами и колющими пиками. Повсюду всадники валились из седел, и мои ветераны дрогнули. Но под криками своих начальников они сплотились и снова ударили, и уж теперь всадникам Бесса пришлось, яростно отбиваясь, отступить.
Дарий выбрал этот момент для того, чтобы бросить в бой свои любимые войска, в которые он так верил. По выровненному участку поля с грохотом помчались его колесницы с косами навстречу с моим легковооруженным заслоном, состоявшим из застрельщиков и метателей дротиков. Но трудно было опытному лучнику или копьеметателю не попасть в лошадь с близкого расстояния, а если одна лошадь падала, другим приходилось останавливаться. Когда подраненная лошадь бросалась вперед, другие становились неуправляемыми, и мои храбрецы подбирались к ним так близко, что могли перерезать вожжи. Стрелы, дротики и даже камни пращников сбивали с ног возниц и воинов, находящихся на колеснице. Больше всего меня порадовало зрелище того, как кое-кто из наших проворных застрельщиков, в основном из горцев, запрыгивали в колесницы сзади и рубили застрявших и почти беспомощных ездоков. Те, что остались целыми, понеслись дальше на мою фалангу, но хладнокровные и прекрасно обученные фалангисты, занимавшие свое почетное место благодаря своему опыту и уму, «раскрыли» свои ряды так же плавно, как открывают двери, оставив коридоры для обезумевших лошадей, которые предпочитали не бросаться на торчащие копья. Оказавшихся за фалангой колесничих убивали или захватывали в плен фракийцы. Таким образом, атака колесниц, в которую так верил Дарий, стала полной неудачей, и, я полагаю, при виде этого его лицо побледнело, глаза расширились от страха и он увидел, что его ждет еще один Граник или Исс.
Тогда Дарий ввел в действие пехоту в центре, но ее ряды были так тесны, что солдатам негде было развернуться со своим оружием. Они были плохо обучены маневрировать и шли в атаку медленно и неровным строем. Я отметил это, намереваясь извлечь из этого пользу, и в то же время заметил еще более важное обстоятельство: признаки паники и беспорядка в громадном отряде тяжелой конницы Дария, на которую наседала моя лучше обученная легкая кавалерия. От ее пик персы внезапно обратились в бегство, столкнувшись с задним фронтом, который также, в бешенстве и замешательстве, стал распадаться. Избиение не прекращалось, и сраженные падали рядами лицом вперед, пронзенные пиками сзади. И вот почти наступила пора поработать и моим славным гетайрам.
В крайнем напряжении, с головой, работающей в полную силу, отчетливо видя все перипетии боя, я все еще оставался на своем первоначальном месте, верхом на Букефале застывшем, как статуя. В рядах вражеской кавалерии царил такой беспорядок, ее потери были так велики, что она не могла даже пытаться противостоять моему следующему ходу. Я отдал приказ трубачу. Он поднес трубу к губам, и из ее медной глотки звонко полился сигнал, который так хорошо знали мои славные гетайры. С какой радостью забились их сердца, и они дали волю своим коням! Отчетливо сквозь шум сражения прозвучала еще одна команда: двигаться уступами для атаки на левый фланг персидской фаланги. Я знал, что произойдет, я видел то же самое в Иссе и во многих мечтах после этого. Вражеская фаланга не могла маневрировать, солдаты в ней не могли расцепить свои щиты и повернуть копья, чтобы защитить себя; они могли только умереть. За моими гетайрами следовала тяжело вооруженная пехота, построенная клином с уступами для нанесения удара по линии врага немного вправо от щели, проделанной моими гетайрами. За ними двигались пять таксисов моей фаланги, также уступами, вклиниваясь в эту щель, и железная стена с безжалостными копьями убивала всех на своем пути, не щадя никого, и солдатам нужно было только идти маршем, чтобы бойня не останавливалась.
Затем мои гетайры повернули налево и стали косить противника, как траву. Это была самая кровавая атака в их истории, их кони скакали по толстому ковру из человеческих тел или перепрыгивали через их кучи; их разящим пикам и мечам не хватало быстроты, чтобы перебить всю орущую толпу, это физически было невозможно, и некоторым удавалось в безумном бегстве найти спасение от беспощадной стали. За гетайрами шли гипасписты, атакуя еще одно скопление врага, а за теми — грозная фаланга. Чем больше они убивают, тем сильней у них жажда убивать, и каждый солдат, пеший или конный, становился бездумным мясником, убившим слишком многих, чтобы считать, и фалангисты ускоряли свой шаг, чтобы под их смертоносными копьями скорее пришел конец врагу. Теперь я тоже оказался в гуще сражения и чувствовал знакомый пьяный восторг, когда моя пика разила грудь за грудью, и, казалось, врага нужно было только коснуться, чтобы убить, хотя, по правде, бил я с большой силой, и если намеченная жертва увертывалась от пики, я на рвущемся вперед Букефале срубал ее мечом.
Пятнадцать боевых слонов, напуганные боевым кличем фалангистов, забыли все, чему их учили: как сбивать тяжелым хоботом беспомощного врага, как топтать его огромными ногами. Наверное, пропахший кровью воздух бесил их еще больше, поэтому погонщики никак не могли справиться с ними: слоны не обращали никакого внимания на вонзаемые им в кожу стрекала и, вопреки их воле, ломились через персидские ряды, сбивая солдат с ног и наступая на упавших, раздавливая грудные клетки или черепа, оставляя за собой красное месиво трупов.
Именно во время этого панического бегства слонов сердце Дария не выдержало. Он не умер, нет — такой могучий царь, как он, не мог смотреть в лицо смерти, и, видя приближение фаланги, он приказал своему вознице развернуться по телам раненых и убитых и гнать колесницу с поля битвы. В следующее мгновение его колесничий вывалился наружу с копьем в груди, которое едва не угодило в самого царя, и тот, схватив упавшие вожжи и кнут, хлестнул коней, и они, обезумев от страха, понесли.
В этот момент Мазей, опытный военачальник, командующий правым крылом, увидел свой шанс отличиться. Если он не мог спасти всю армию от поражения, то, уж конечно, мог сделать так, чтобы за него было заплачено меньшей ценой. В промежуток, оставленный открытым моей наступающей фалангой, он бросил кавалерию индов и парфян, а его собственная конница с яростью отчаяния насела на левый фланг моих фессалийских всадников-ветеранов. Они повернулись, чтобы встретить врага в полном порядке, но у противника был большой численный перевес, и Парменион, видя, какие потери несут фессалийцы, послал ко мне гонца, прося о помощи. Я отказал ему. Это был самый критический момент сражения: необходимо было продолжать избиение противника здесь, а когда бы это кончилось, я мог вернуть себе любое захваченное пространство. Такой ответ дал я гонцу. Случилось так, что Пармениону и не понадобилась моя помощь. Симмий, командовавший самым задним уступом моей фаланги, получил тот же призыв, и поскольку преследование бегущих персов могло обойтись без него, он повернул в тыл.
Тем временем инды и парфаяне прорвались на ослабленном участке нашего фронта и, оказавшись на открытой равнине, завидели частокол моего лагеря. Жадные до наживы, они бросились к нему. Некоторые из фракийских охранников были рассеянны или убиты, но все же оставленные там раненые взялись за оружие и отчаянно сражались. Вскоре фракийцы собрались, построились в ряд и оказали налетчикам стойкое сопротивление, несмотря на то, что часть содержащихся в лагере пленных вооружилась и напала на них с тыла. Другие пленные захватили столько добычи, сколько могли унести, и надеялись улизнуть, но трое из моих командиров увидели закулисное сражение и бросились на помощь защитникам лагеря. Вскоре налет искателей наживы был отбит, немало их было захвачено или убито, остальные же повернули назад и стали пробиваться к персидскому фронту.
Молва о бегстве Дария стала быстро распространяться по рядам, и, когда достигла стоявшей в резерве огромной массы солдат, все еще далеких от нашего фронта, среди них началось беспорядочное бегство. Теперь вместо одного сражения возникло отдельных четыре, но вскоре и они превратились в избиение, от которого горстками и кучками персы стали улепетывать в диком ужасе.
Центр персов уже начинал разваливаться, поэтому я оттянул своих гетайров с того места, где они избивали противника, чтобы завершить его поражение в центре. Наконец я мог помочь старому Пармениону, еще не справившемуся с врагом, но видя, что он и сам может это сделать, повел гетайров против индов и парфян, пробивающихся к себе после неудачного нападения на лагерь. Мы ударили им в тыл, произведя в их рядах большой беспорядок. Однако эти союзники царя, хоть и были ворами, храбрости им было не занимать. Они развернулись и бросились на нас, как полосатые львы из Индии, и дрались с непередаваемой яростью. Дрались врукопашную один на один, и ничего подобного по ожесточенности я еще не видел. Много здесь пало воинов и еще больше было раненых. Но союзники персов оказались зажатыми в клещи, и в конце концов храбрость им изменила: оставшиеся в живых обратились в бегство.
Это было последним серьезным сражением в бою при Арбелах. Персидское войско, которое пока еще избежало резни, теряло всякое сходство с армией, превращаясь в беспорядочную толпу. Когда я приближался на Букефале к войскам Мазея, они уже бежали от фессалийцев. Остальные подразделения рассеялись по всем направлениям. Я одержал величайшую победу в своей жизни, а может быть, и во всей истории.
Я повернул своего славного коня и погнался за Дарием, чувствуя, что чаша моя не будет полна, пока он не будет схвачен или убит.
3
Парменион остался, чтобы с почестями похоронить всех наших погибших — а их было немало, — которых можно было найти под грудами мертвых персов. Я представил, как их несут на носилках к месту похорон, как несут в лазареты раненых, которым еще можно помочь. И скорбно длинными виделись мне эти процессии. Утешало только одно: они храбро погибли в бою за великое дело, что должно было также служить утешениям и душам их, стремительно мчащимся к Реке Скорби и мрачным чертогам Аида. Некоторые из этих душ, души воинов, убитых в схватках, где ими был проявлен особый героизм, возможно, найдут последнее пристанище на душистых полях Элизиума,
[203] в которые верил Ахилл, а подобно ему, и я.
Рассказывалось — предположительно, живыми, вступавшими в разговор с мертвецами, которым колдуны, вызвав их заклинаниями наверх, давали жертвенную кровь, чтобы пробудить их спящую память и открыть их уста, — что Ахилл не попал на эти душистые поля, потому что был убит стрелой труса, вонзившейся ему в пяту; и он сам предпочел остаться с обычными мертвецами в их безмолвном царстве теней. Если это действительно было так, то он проявил героизм, перед которым меркнет тот, за который он был прославлен при жизни.
Понятно, что искатели и могильщики павших на поле у Арбел работали с величайшей поспешностью. Трупы наших и вражеских воинов пролежали всю ночь на жаре и ожидалось, что утром с восходом солнца сюда стаями слетятся вороны и прочие мерзкие любители падали, и число их будет расти, когда дальних небес достигнет быстрая весть о таком грандиозном пиршестве. Все они будут жадно обжираться, и все же с такого количества костей не много им будет по силам содрать мяса, и груды трупов останутся нетронутыми их алчными клювами, или же они слегка расклюют их, вырвут лакомые куски из отверстий тел и этим удовольствуются. На второй или, самое позднее, на третий день начнут собираться другие любители мертвечины, двигаясь в медленно шевелящихся кучах, а еще через несколько дней сюда слетятся стаи мух со всей пустыни, и пастухи курдючных овец в ее более плодородных областях должны будут бежать вместе со своими отарами, как если бы они бежали от еще одного проклятия, насланного на Египет; о первом, случившемся во времена Моисея, мне рассказывал Абрут.
Мне со своим отрядом преследователей не удалось догнать трусливого императора Дария, однако погоня была стремительной и упорной. К наступлению тьмы мы перебрались через реку Лин, примерно в ста пятидесяти стадиях от поля сражения, передохнули до восхода луны и помчались опять вперед к Арбелам, где Дарий оставил деньги и все царское имущество, но там мы его не застали и не знали, в какую сторону он бежал. Последние обнаруженные нами следы на песке позволяли думать, что беглое войско составляло тысяч десять конных и пеших, но следы быстро затерялись на плотно запекшейся под солнцем земле. Судя по отпечаткам сапог, среди них было немало наемников-эллинов. Мы догадались, что с Дарием был и Бесс с остатками своей конницы, так как их видели удирающими с поля сражения после полного разгрома персидского войска. Следы сворачивали на восток — очевидно, Дарий спешил в Мидию — и мы свернули туда же, полагая, что, если Дарий снова ускользнет от нас, ненадолго, ибо в его прежней империи укрыться ему было негде, мы утешимся разграблением многонаселенных городов в дельте Тигра и Евфрата.
Парменион и главные силы моего войска соединились со мной в Арбелах. Там мы принесли благодарность богам и устроили игры и пиршество, чтобы отпраздновать нашу победу, без сомнения, величайшую в известной человечеству истории. В Грецию были посланы гонцы от нового царя Азии с требованием, чтобы меня объявили таковым всенародно, чтобы все тирании уступили место демократиям — это чрезвычайно способствовало бы моей популярности у народа. И что мне было до того, что творится в маленькой Греции? Она ведь была всего лишь крошечным придатком к моей империи. И тем не менее мне она была небезразлична.
После жертвоприношений и празднеств мы направились в Вавилон, самый многочисленный и богатый город во всей Азии, запечатлевший свое имя в истории. Недалеко от Вавилона мы ступили на царскую дорогу, ведущую из Сард в Сузы, и моя армия уже не казалась маленькой благодаря длинным тяжелым обозам, крупным партиям пленных, гонимых для продажи в рабство. На дорогу к окраинам Вавилона ушло более двух недель: от Арбел его отделяли 2700 стадий.
Неподалеку от города я развернул войско в боевой порядок и выслал вперед конных разведчиков. Это оказалось ненужной предосторожностью, ибо ворота ждали нас открытыми и нас приветствовал Мазей с другими правителями и процессией жрецов из храма Ваала. Люди усыпали дорогу цветами, хотя вести из Арбел у многих болью отозвались в сердцах. Я принял капитуляцию Мазея и не предал его распятию, несмотря на его верность Дарию до бегства последнего с поля сражения, а может, и благодаря ей. К тому же он обладал хорошими военными способностями и мог быть полезен новому царю.
Мы, деревенские олухи, стояли и смотрели на великолепный город разинув рты. Хотя Сузы считались столицей империи, Вавилон оставался все еще крупнейшим городом во всем мире. Его обширная территория, равная полдневному маршу что вдоль, что поперек, лежала за стенами высотой около ста локтей и шириной — все пятьдесят. На берегах Евфрата стояли дворцы и другие великолепные постройки, храмы и арсеналы. Два огромных дворца-крепости когда-то входили в число мировых чудес, и над всем возвышался храм, посвященный Митре, бывшему Ваалу.
[204] Подивились мы и «висячим садам», одному из семи чудес света, представлявшим собой ряд террас, не столь уж чудесных, как я ожидал, ибо последний ряд не превышал высоты стен. Я принес жертвы Митре и его прежней ипостаси Ваалу, чтобы доставить удовольствие жителям города, и поставил Мазея сатрапом Вавилона, поручив двум македонцам наблюдение за ним. Затем мы отправились в Сузы.
Этот город и его казна были взяты без человеческих жертв одним из моих подразделений. Вдобавок к тому, что мы взяли в Вавилоне, мои сундуки стали богаче еще на сорок тысяч талантов серебра и примерно на десять тысяч золотых дариков — монет той же ценности, что и статер.
Мой следующий поход был направлен против горцев в землях уксиев. Свирепые, как снежные барсы, они не только не желали быть подданными Дария, но еще вынуждали его уполномоченных и гонцов платить за проход по их местности. Эти грабители караванов имели наглость прислать ко мне послов, требуя от меня той же платы, что получали от персов. Я вежливо принял их и обещал, что в первое же утро убывающей луны золото будет им доставлено. Они с важным видом отъехали восвояси, не зная, что в империи Ахеменидов забрезжил новый день.
Стоило им скрыться из виду, как я приступил к действию. Приказав привести ко мне некоторых полуприрученных уксиев, с которыми вели дела персидские чиновники, я предоставил им выбирать: или они ведут меня к проходу, или их незамедлительно обезглавят. Почти все люди испытывают отвращение к такого рода расчленению, а некоторым горным племенам этот вид казни казался особенно ужасным: по их представлениям, в последующей за смертью жизни их головы смогли бы только видеть, но не двигаться, а их неземные тела могли бы двигаться, но не видеть; им трудно было бы найти друг друга, чтобы стать целым духом. По той готовности, с которой они согласились провести меня к проходу, я понял, что они верят в это серьезно. Я соврал им, что у меня есть древняя карта, по которой я могу проверить их честность, и, если я узнаю, что кто-то попытается сбить меня с пути, или завести в ловушку, или предупредить о моем приближении, я его расчленю, отдельные члены тела прибью к разным деревьям, а тело отдам на съедение кабанам.
Взяв царскую гвардию, часть тяжеловооруженной пехоты, конных лучников и пращников, я отправился по старой дороге, ведущей к проходу почти по безлюдной местности. Несколько деревень грозили оказать сопротивление, но быстрая расправа с главарями предотвратила его! Захватив проход с последним лучом лунного света, на утренней заре мы прочно обеспечили его безопасность, расставив лучников и пращников на высотах теснины.
Велико же было удивление уксиев, когда они после восхода солнца прибыли за установленной платой. Они сразу же пустились наутек, но наши длинноногие лошади мчались быстрее их косматых пони, и мы без труда одержали верх, заставив их полностью смириться; лишь единицы этих негодяев заплатили за свою наглость жизнью. Их вождей, трясущихся всю дорогу, я доставил в Вавилон, и, если бы не заступничество престарелой матери Дария, утверждавшей, что уксии всегда сопротивлялись любой абсолютной власти — похоже, она по неизвестной мне причине питала слабость к живущим на окраине империи дикарям, — я бы отправил их головы к соплеменникам, насадив их на колья. На самом же деле я отпустил их на свободу, потребовав, чтобы их народ ежегодно платил мне дань в сотню хороших верховых лошадей, пятьсот мулов и ослов и двадцать тысяч крупного рогатого скота, а также овец и коз. Оказалось, что в их реках нет золотого песка, иначе я дань в виде животных частично бы заменил золотом.
За этим приключением последовала небольшая, но трудная война, которая именно в тот момент была мне не нужна: мне предстояло решить много мирных задач административного и реорганизационного характера, к тому же, находясь так близко к Бактрии, я желал подчинить себе ее царя Оксиарта, двоюродного брата Дария. Он по меньшей мере послал в армию Дария большое войско, если в действительности не повел его лично. Если же так, то он бежал, когда фронт стал разваливаться — бежал вместе с тысячами своих всадников.
Война, которую пришлось вести мне, не перепоручая ее кому-нибудь из моих военачальников, имела целью захват Ворот Персии, горного прохода, известного также под названием Снежная Крепость. Эти Ворота вели на равнину Ирана, Старой Персии и имели очень важное стратегическое значение. Здешний сатрап воздвиг внушительную стену, перекрывшую горную теснину. Он готов был защищать эту стену с силой, равной моей собственной.
Эта тяжелая кровопролитная война дорого мне стоила. Первый приступ потерпел неудачу. Победа мне далась только потому, что я узнал от ливийского раба о существовании узкой, неровной и опасной тропы, ведущей к противоположному концу теснины, по которой можно выйти в тыл войскам непокорного сатрапа.
Предприняв еще одно, ложное, фронтальное наступление главными силами моей армии, а ночью разведя достаточно большое количество сторожевых костров, чтобы убедить сатрапа в том, что войско в полном составе отдыхает в лагере, я повел его отборные силы в трудный и опасный ночной переход для захвата задней части коридора. На всем пути были расставлены персидские сторожевые посты, которые нужно было уничтожать без шума, чтобы не зазвучал сигнал тревоги. В результате мы зажали войска сатрапа в тисках трех армий: у него в тылу, справа и слева. Враг очень скоро обратился в бегство, люди, пытаясь спастись, один за другим срывались с крутых обрывов, и возмездия от наших мечей и копий удалось избежать лишь четырем
тысячам, включая самого сатрапа.
Оставив Кратера сторожить Ворота, а также взвалив на него неприятную обязанность вытащить из прохода и убрать упавших, я с конницей гетайров и легковооруженной пехотой поспешно двинулся на город Персеполь, столицу этой сатрапии. Такая спешка необходима была для того, чтобы весть о битве за Ворота не достигла ушей гарнизона раньше, чем мы появимся там, иначе охрана уж точно бы расхитила царскую казну и скрылась. Рядом с тем местом, где Кир одержал крупную победу, положившую конец владычеству Мидии, стоял построенный им город. Его главное святилище представляло собой зал для аудиенций Дария I с длинной колоннадой, ведущей к двум пролетам каменной лестницы, каждая ступенька которой была покрыта изумительной резьбой, и на них было начертано следующее божественное изречение:
Говорит царь Дарий,
Царь этой персидской страны,
Дарованной мне великим богом Ахурамаздой,
Прекрасной страны, изобилующей людом и лошадьми;
В согласии с его волей и моей собственной,
Я, Дарий, не боюсь никакого врага.
Хранившиеся в Персеполе сокровища были гораздо богаче, чем сокровища Вавилона и Суз. Век за веком сводчатые подвалы дворца служили казной сменяющим друг друга династиям. В них хранились золото, и серебро, идущие на уплату дани, захваченные как добыча в войнах, а также золото, намытое в золотоносных песках империи. Выбор места для их хранения представлялся очень разумным. Лежащий невдалеке от устья реки Вавилон мог подвергаться осадам мощных морских сил с военно-транспортными судами — такими, которые Тир и Сидон посылали вверх по Персидскому заливу или которые мог бы еще послать могучий на море Карфаген, если не захватит его Александр. И Египет, стань он опять великим царством, мог бы завоевать Вавилон, но, полагали персидские цари, их мощные армии смогли бы сорвать долгий поход на Персеполь. Когда царю нужно было золото на новый дворец, новую войну, на чеканку монет для торговли, ему оставалось только спуститься в сводчатые подвалы Персеполя.
Мы обнаружили золото и серебро в количестве ста тысяч талантов — стоимость многих тысяч лошадей. Добыча из этой крепости и царских дворцов: отделанные золотом предметы роскоши, ковры, каждый из которых ткали целый год, бесценные гобелены — все это было навьючено на всех верблюдов и мулов, которых нам удалось только достать и которые растянулись в такой длинный караван, что глаза уставали смотреть.
Крупнейший в городе дворец был построен Дарием I, но особенно он был связан с именем Ксеркса, когда-то победителя Эллады, которого она все еще помнила с горькой ненавистью. Этот дворец стал для всей империи символом мощи и славы персов. Я приказал убрать из его комнат все самое ценное, оставить только в приличном виде палату Ксеркса для аудиенций. Затем, после прибытия в Персеполь главных сил моей армии и тех, кто следовал за ней, я, сам находясь в занятых мною палатах дворца, послал за Таис.
С тех пор как она перестала быть моей фавориткой, я посылал за ней не однажды. По правде говоря, я ни разу не звал к себе и не желал других женщин, исключая Роксану, ставшую теперь туманной мечтой. Таис я призывал часто, и это приносило мне острое наслаждение; ей, по всем признакам, тоже. Внешность ее и манеры почти совсем не изменились. Ее красота все еще оставалась схожей с красотой морской нимфы под тонким слоем воды или нимфы лесной — в темной чаще в облачный день. Она была неяркой, но поэтичной и очень трогательной, нисколько не огрубевшей от многих любовных ночей. Таис поистине все еще выглядела девственницей. Верно и то, что ее всеохватывающая эротичность проистекала из неиссякаемого источника. Она снова напомнила мне Киферу, которая была стихийной силой в природе, зовом, заставлявшим самцов высокоорганизованных видов животных, включая человека, совершать акт, служащий делу продолжения рода. У нее был мягкий и тихий голос. Она обращалась ко мне, когда мы сиживали вдвоем на кушетке, с уменьшительно-ласкательными словами и дважды, вдруг припомнилось мне, она назвала меня «бедный Александр». Теперь я был богаче самого Креза и к тому же хозяином всей Персии, за исключением нескольких непокорных племен, повелителем всей Азии, в значительной степени величайшим монархом на земле. Тем не менее время от времени она все еще, возможно, думала обо мне как о «бедном Александре».
Но меня, как ни странно, это нисколько не задевало. Я помнил ее полные слез глаза, иногда даже смутно чувствовал, что она хотела сказать этим обращением. Возможно, она считала, что не сила, а таящаяся в моей душе хрупкость побудила меня стать богатым, как Крез, хозяином почти всей Персии, повелителем всей Азии и в значительной степени величайшим монархом на земле.
— Ты победил при Арбелах, в третьем большом сражении с Дарием, как я и предсказывала.
— Победил.
— Теперь много потребуется любви, чтобы возместить миру все эти груды мертвых.
— Не той, что даешь ты, избегая зачатия ребенка. У самой Афродиты были дети — так нам говорят — Эрос и Гермафродит.
— По-моему, эти двое есть одно лицо.
— Почему бы тебе не родить от меня ребенка? Побудь со мной те три дня, когда твое чрево готово к зачатию, и ты родишь.
— Это дни, когда я не могу прийти, царь Александр. Я говорила тебе почему.
— Говорила, и это меня здорово потрясло. Сегодня один из твоих дней?
— Нет, мой царь. Однако ты и твои солдаты должны иметь детей от других женщин. Ты когда-нибудь задумывался, царь Александр, над тем, сколько сотен тысяч ты отправил в Аид? Теперь ты должен быть любимым племянником царя Аида, брата Зевса.
— Ты веришь, что я сын Зевса?
— Мой царь, верю ли я — мне трудно сказать. Я только знаю, что подобного тебе создания в человеческом обличье еще не было во всей истории, и сомневаюсь, что будет. После того, как ты уйдешь из этого мира — не знаю куда, — тебе будут поклоняться как богу, больше, чем Гераклу. Ты куда великолепней Геракла. Сними с Геракла одежки детского мифа, и останется герой культуры, осушитель болот, сжигатель ядовитых гадов, плавильщик железа и, кроме того, человек сверхнормальной, я бы сказала, сверхъестественной силы — телесной силы, тогда как ты отличаешься сверхнормальным, а возможно, и сверхъестественным блеском ума.
— Оставим это. Вот ты говоришь о множестве людей, которых я отправил в Аид. Ты ведь имела в виду, что их отправила туда моя армия.
— Нет, я говорила именно о тебе, Александр Великий. Армия — всего лишь твоя собственная тень. Если бы не ты, ее никогда бы не существовало. Не было бы побед в этих великих битвах, как и самих битв, Азия не стала бы царством одного завоевателя. Говорить, что ты сын Зевса — это слишком поверхностное объяснение. Тайна гораздо глубже. Я рада, что жила в твое время. Рада, что первую для нас обоих любовную ночь мы провели друг с другом. Но я была бы более счастлива, если бы ты совсем не родился на свет.
— Только ты можешь сказать мне такое и остаться в живых. А разве в этом есть смысл? Разве Греция не отомщена за обиды, нанесенные ей Персией? Разве она не стала столицей половины известного нам мира?
— Нет. Это слабое оправдание не достойно тебя, мой царь. Греция — всего лишь придаток твоей азиатской империи. Ты делал все это не ради Греции, а ради Александра, ради приумножения его славы — чтобы заполнить какую-то пустоту в твоей душе.
— Твои слова звучат правдоподобно, и все же я им не верю. Я верю в то, что осуществляю волю богов.
— Разве это еще нужно, Александр? Я думала, что после Арбел в этом уже не будет необходимости. Мое простое объяснение — недоказуемое, возможно, ошибочное — куда больше должно льстить тебе, нежели твое представление о себе как о сыне бога и орудии божественных существ. Ну почему бы тебе не стоять на своих собственных ногах — одному, несравнимому ни с кем из смертных? В божественности происхождения ты нуждался когда-то как в костыле, но теперь он тебе не нужен.
— Трудно объяснить, что толкает человека на те или иные дела. Ты сказала, что я обрек тысячи на смерть для достижения своей цели, но я не знаю, почему эта цель мне так желанна. Вот ты, например, принимаешь многих любовников по причине желания, которое тебе непонятно. Ты бы не могла убить никого. Я же, со своей стороны, не могу делить ложе ни с кем, кроме тебя. Если не считать той одной ночи с Барсиной, которую я так бестактно навязал ей, у меня кроме тебя не было ни одной женщины. Правда, когда мне было шестнадцать, я изведал эротическое чувство к тринадцатилетней девочке, но до любовной связи не дошло.
— Однако она еще помнится тебе.
— Верно, но я не об этом.
— Я понимаю, о чем. Ты убиваешь, чтобы достичь цели, необходимость которой тебе непонятна. Я отдаю свое тело преходящим любовникам по столь же непонятной причине. Да, трудно понять человеку, что им движет. Я полагаю, что ответ скрывается в фривольности души.
Я промолчал. Мы посидели немного, не двигаясь, каждый думая о своем.
Затем я заговорил:
— Ты заговорила о Роксане, девушке, которую я встретил в юности. Я же хочу поговорить о Птолемее. Как ты думаешь, если бы он стал наследником Филиппа, он бы осилил столько дел?
— Нет, не осилил бы, я уверена. Ни одному человеку не удалось бы совершить так много. Я знаю Птолемея лучше, чем раньше — он большой человек, но по сравнению с тобой все же пигмей.
Ее последние слова не смягчили и не заставили меня забыть того, что она сказала чуть раньше: что теперь она знает Птолемея лучше, чем прежде. Слишком уж хорошо я понимал, откуда появилось у нее это знание. Я почувствовал растущее во мне напряжение, в голове помутилось, в сердце зашевелился черный комок ярости. Я взглянул на ее прекрасную шейку, и у меня возникло — нет, не совсем желание — побуждение пройтись по ней лезвием меча от уха до уха. Но мое желание оставалось рассудочным, оно было за то, чтобы Таис продолжала жить. Эта красота — пиршество для моих глаз, а порой и не только для них. Мне бы хотелось, чтобы боги даровали ей бессмертие вместе с вечной юностью и красотой. Чудесно было бы созерцать богиню с нежным сердцем; такой непременно следовало бы украсить наш Пантеон. Народ считал, что Деметра обладает нежным сердцем, хотя она все еще принимала человеческие жертвы в землях варваров. Дионис, пользующийся большой народной любовью и боготворимый женщинами, принимал это с удовольствием и поэтому щедро сыпал благодеяния.
Но женщины не очень-то поклонялись Афродите — ни в этом лице, ни в лице Киферы. Юные девы молили ее послать им возлюбленного, но, получив его, они ревновали к ней. Только относительно небольшое число замечательных женщин способны были признавать красоту другой и склоняться пред ней — если это признание в действительности не означало, что они как-то ухитряются считать эту красоту принадлежащей себе, а не другой.
Так я размышлял, чтобы не дать образу Таис в объятиях Птолемея завладеть моим воображением.
— Почему же ты не сделал этого, царь Александр? — спросила Таис спокойным тоном.
— Не сделал чего?
— Не перерезал мне горло.
— Было бы трудно объяснить почему. Я не мог разрушить образ Афродиты, которую ты видела на Мелосе.
— Тем не менее ты можешь обречь на смерть сотни тысяч молодых мужчин.
— Если бы не мог, я бы не был повелителем Азии.
— Мой царь, ты все еще любишь Олимпиаду?
— Очень.
— Наверное, ты слышал об убийствах, совершенных ею как временной правительницей Македонии?
— Она убивала врагов государства. Или же тех, кто мог бы стать его врагами после моей смерти. Так что делала она это для меня. Я не сомневаюсь, что и к убийству Филиппа она приложила руку — с тем, чтобы я мог овладеть короной. За это я люблю ее еще больше.
— Мой царь, не благородней ли совершить убийство из ненависти, нежели ради честолюбия? Если боги справедливы, вот как следовало бы смотреть на преступления. Недавно ты говорил об отмщении за зло. Ни одно зло не может быть отмщенным; оно продолжает жить, даже если сотворивший его умирает.
— Это я мог бы допустить, а также и то, что многие преступления, совершенные во имя возмездия, являются в сущности преступлениями честолюбия — чтобы убрать препятствие со своего пути или достичь какой-то цели. Это напоминает мне о том, что явилось одной из причин, почему я сегодня послал за тобой. Другая причина — желание соединить наши тела в эротической любви. Может, пойдем теперь в мою спальню?
— Так скоро? Ведь только недавно тебе приходила в голову мысль перерезать мне горло.
— Эта мысль и сознание того, чего бы я мог лишиться, тем более возбуждают во мне аппетит. Вернее сказать, разжигают во мне желание.
— Мой царь, это какой-то кошмар. Вся история Александра кошмарна. И во мне зажглось желание, и я не могу этого объяснить. Да и не нужно мне никакого объяснения, если оно не может пролить свет на человеческую природу, на душу человека. Ты, конечно, знаешь, что в древнейших пантеонах богиня плодородия является также и божеством смерти. Сейчас такое есть в Индии. Имя богини Дурга-Кали, она одновременно хранитель и разрушитель. Мой царь, мне страшно. Я хочу, чтобы ты сжал меня в своих руках. Пойдем же, скорее.
Когда мы оказались в моей спальне, Таис никак не могла справиться со своими одеждами, пытаясь торопливо раздеться, она все больше и больше запутывалась в ней. Я тоже лихорадочно сорвал с себя одежду и сразу же рухнул на постель. Не обмениваясь обычными ласками, Таис улеглась на спину и втащила меня на себя. Необычайное возбуждение охватило меня, и я спешил как на пожар. На этот раз не потребовалось никакой чарующей подготовки: она была, как невинная невеста, истомившаяся по любви, впервые ощутившая прикосновение возлюбленного в своей сумрачной и одинокой девичьей горнице.
И все же мы побороли свое нетерпение, стоило только нашим телам прийти в тесное соприкосновение. В победе можно было не сомневаться, мы уже задолго с наслаждением предвкушали ее приближение; результат был неизбежен. Мы шепотом высказывали друг другу наши тайные пожелания.
После того как все кончилось, когда она лежала, положив головку мне на руку ближе к плечу, я спокойно задал ей вопрос:
— Таис, а тебе хотелось бы, чтобы твое имя звучало в веках? Не так, как будет звучать мое, а как вдохновение для поэзии и музыки?
— Какой настоящей куртизанке не хотелось бы этого!
— Могу подсказать тебе, как этого достигнуть. Ни одна душа не должна знать, что этот план задумал я; все должно выглядеть так, будто ты действуешь под влиянием порыва. Лишнее говорить, что это послужит моим интересам.
— Лишнее говорить, — повторила она.
Итак, я сказал ей, чего от нее желаю. Она полежала какое-то время с округлившимися глазами, затем улыбнулась мне той же грустной улыбкой, что и на строительной площадке будущей Александрии.
— Хорошо, я сделаю то, что ты желаешь. Не для того, чтобы завоевать себе славу в грядущих веках, а потому, что сегодня ты отдался мне весь целиком и я отдалась тебе вся без остатка, и ты принял мой дар. К тому же ты не перерезал мне горло за то, что я такая как есть и не могу быть другой — творенье красоты, а значит, и правды.
4
Примерно тридцати своим предводителям я послал приглашения на торжественный прием, который назвал по-персидски «дурбар», во дворце Ксеркса накануне седьмого дня текущей недели — так произвольно на четыре части разделялся один полный цикл луны. Обычно на седьмой день, если не было чего-то срочного, мы давали солдатам как следует отдохнуть, за исключением тех, кто нес сторожевую службу и занимался снабжением и питанием. «Дурбар», кажется, первоначально было словом в языке хинди и могло означать любой вид приема, устраиваемого принцем. В списке предводителей были мои старые друзья, в основном македонцы, хотя было несколько человек родом из городов, освобожденных мною из-под власти персов. Все говорили по-гречески. Каждому разрешалось привести с собой подругу — не из тех, что сопровождали нашу армию, а прекрасную мидийку, парфянку или женщину из какого-либо еще государства, лежащего за пределами собственно Персии. Допускались гости и с персидскими наложницами, проверенными в любви и верности. Хозяйкой приема предстояло быть Таис.
Спустя час после заката я присмотрелся к погоде. Как обычно в это время года, ночь стояла безветренная и звездная; легко дышалось холодным разреженным воздухом.
Я приказал устроить пир в зале для аудиенций, а поскольку не хватало кушеток и низких столиков, я распорядился, чтобы их принесли из других помещений дворца. Плащи и меховые куртки можно было оставлять в прихожих, примыкающих к главному порталу, так как от пылающих угольных жаровен в зале будет тепло. Богато разодетые гости прибыли спустя два часа после захода солнца и составили поистине прекрасное общество. Вряд ли хоть одному из мужчин было за тридцать, а их подружкам — в основном около двадцати или меньше, и все они были красивы как на подбор; все находились в веселом настроении — ведь это был первый торжественный прием, «дурбар», устроенный новым повелителем Азии, и им выпала честь присутствовать на нем. Сын Пармениона Филот находился среди присутствовавших, но самого старого бивуачного медведя не было — настороженность превращала его скорее в брюзгу, отравляющего другим удовольствие на пиру, чем в дружелюбного весельчака. Не был приглашен никто из семьи Дария, все еще находящейся у меня под стражей, хотя, возможно, они и согласились бы присутствовать на пиру, желая мне польстить. Среди них были Статира-старшая и Статира-младшая, за которыми закрепилась слава — и, возможно, небезосновательно — двух самых красивых женщин Старой Персии.
Был тут, конечно, и Клит со своей возлюбленной, мидянкой. Птолемей привел парфянскую принцессу, женщину диковинной красоты, Филот — свою наложницу-персиянку с очень бойким языком, пересказывавшим его хвастливые рассказы, что делало его заметным человеком. Таис надела свои самые роскошные драгоценности и прекрасный белый хитон, обнажавший одно из ее лоснящихся плеч. Впервые я облачился в персидскую мантию из золототканой материи, накинув ее поверх той формы, которую я носил на торжественных парадах.
Во время пира гости то и дело сновали от скамьи к скамье, обмениваясь любезностями и поцелуями, все громче становился разговор и смех, по мере того как чаши вина опустошались одна за другой. Когда флейты и лиры заиграли прелестную мелодию, Неарх попросил моего разрешения исполнить танец, которому, как он сказал, научила его пленница из Тира, клявшаяся, что ее отец научился ему на самом западном из Оловянных Островов. Танец не отличался красотой, но требовал замечательной ловкости и проворства ног и так захватывал, что кое-кто попробовал подражать, рассмешив окружающих. Спустя примерно два часа, когда выпитое гостями вино начало действовать, каждой даме выдали по железному рычагу, на которые они взирали с большим удивлением: эти штуки были такой же редкостью на пиру, как начиненные жемчугами огурцы, поданные царю в старинной народной сказке в Египте.
Когда барабанная дробь призвала к тишине, поднялась Таис и сказала, обращаясь к гостям:
— Вон там вы увидите трон, заменивший трон Ксеркса, когда в свое время Сузы стали столицей царства. Он, конечно, не может сравниться с тем, что стоял там прежде, — ведь сделан он из слоновой кости, а не из золота, но его ручки инкрустированы тридцатью крупными драгоценными камнями: алмазами, изумрудами, рубинами и жемчугами, которые имеют немалую ценность. Начиная с ближней скамьи слева от трона, дама возьмет свой рычаг и постарается извлечь выбранный ею камень, и так как слоновая кость мягка, а рычаги — закаленная сталь, то это будет делом нетрудным. Как бы то ни было, если по неловкости она повредит камень, то выбрать еще один ей не разрешается. Это не только испытание искусства рук, но также и трезвости — или, по крайней мере, того, насколько рука сохранила твердость, несмотря на щедрый дар Диониса. За первой, после ее успеха или неудачи, пойдет вторая, сидящая на следующей скамье, и так далее до тех пор, пока не дойдет очередь и до меня, на дальнем конце круга справа от трона. Пожалуйста, первая, выходите.
Все наблюдали за игрой с радостным интересом, отпуская добродушные шутки. Первая дама заработала свою награду примерно за минуту. Она подняла вверх руку, чтобы все увидели зеленый изумруд величиной с орех, затем подскочила ко мне, моментально посерьезнев, и коснулась коленом ковра.
Я заметил, что она не выбрала роскошного алмаза, который был намного ценнее всех остальных тридцати камней, и, следуя ее примеру, все остальные также сторонились его, оставляя его для Таис. Та с большой осторожностью поддела алмаз рычагом и аккуратно извлекла из оправы. Он ярко заиграл в ее бледной руке, отражая неровное сияние сотни масляных светильников и красный накал жаровен. Меня порадовало то, что она завоевала драгоценнейшую награду благодаря любезности моих гостей, которые сдерживали в себе естественную женскую страсть к восхитительным драгоценностям — хотя, возможно, в этом не последнюю роль сыграло желание сохранить благосклонность Александра.
После того как отзвучала еще одна барабанная дробь, я встал и предложил тост за мою подругу этого вечера, выразив его в довольно красивых и изящных словах, но не вложив в них ни большого ума, ни оригинальности. Когда выпили за этот тост, я обратился к остальным дамам с краткой речью:
— Надеюсь, что каждая из вас будет дорожить заработанным призом как напоминанием об этом пире. Что же касается трона, лишенного его главных сокровищ, то я отдам его какому-нибудь хромому попрошайке, который, возможно, будет сидеть на нем возле стены и просить милостыню.
После получасового пиршества, во время которого молниеносно опустошались кувшины с вином и дух виноградной лозы, слегка было ослабевший, пока гости наблюдали за игрой, снова заиграл в полную силу, и евнух-сенешаль, как мы условились заранее, повелел музыкантам отдыхать, Таис снова поднялась на ноги.
— Царь Александр, можно мне задать вопрос в присутствии твоих гостей?
— Разрешаю.
— Ты говорил о троне из слоновой кости, который теперь лишился своих драгоценностей, как о подходящем даре для нищего.
— Да, говорил.
— Какие еще заслуживающие внимания сокровища остаются в этом зале?
— Очень мало, и ценность их невелика. Казначей считал каждую драхму, когда меблировал эту палату после того, как из нее унесли бесценные украшения, большинство из которых теперь лежит в моих сундуках. С виду обстановка кажется вполне роскошной, но столы и скамьи второсортного качества, а золотой орнамент — тонкая позолота. А почему ты спрашиваешь?
— Я подумала, а не отдать ли их в чьи-то лучшие руки, чем у нищего?
— Не могу разгадать твою загадку, прекрасная Таис.
— Я усложню ее, задав еще один вопрос — с твоего высочайшего позволения.
— Продолжай.
Теперь уже весь зал затих.
— А как с другими палатами в этом великолепном дворце?
— Все, что из них стоило взять, унесено. Простенькие драпировки и занавеси остаются, а также дешевые ковры и дубовая мебель без драгоценных камней или золоченой инкрустации.
— Это бывший дворец Ксеркса, и, учитывая его огромные размеры и славу Ксеркса, а также выбитую на ступенях похвальбу Дария Первого, дворец все еще является символом господства уже не существующих персов. К тому же ни одному эллину вовек не забыть, что Ксеркс захватил Афины, мой родной город, и превратил его почти в развалины. Везде на своем пути он разрушал и священные храмы. Теперь догадываешься, как бы я хотела распорядиться этим дворцом?
— Возможно, догадываюсь. Но продолжай.
— Царь Александр, мне бы хотелось отдать его в руки пожирающего пламени.
Последовало несколько секунд молчания ошарашенных гостей, затем я сказал:
— Таис, это было бы для нас избавлением. Мы могли бы смотреть на это как на мощный жертвенный огонь в честь Зевса, Бога Пылающего Солнца. Я даю тебе свое разрешение.
Эти слова были встречены ревом восторга моих илархов, таксиархов и лохагов. Они тут же встали. Только занавес отделял залу от прихожих около портала и от него самого. В этот момент музыканты грянули бодрый марш, известный моим воинам как марш победы. Таис с пылающим лицом вскочила на ноги и схватила светильник. Завидев мою поощрительную улыбку, поднялись и остальные дамы. Они тоже взяли по светильнику и выстроились в ряд за спиной Таис, смеясь и крича в сильном возбуждении, и она повела их через еще один задернутый занавесом портал к величественному лестничному пролету. Я тоже взял светильник, и все военачальники последовали моему примеру.
Мы вошли в задние комнаты и поднесли желтые языки пламени к занавесям, покрывалам кушеток, к обивке кресел и, перевернув большой кожаный сосуд со светильным маслом, к самому полу. Повара и слуги с криком бросились врассыпную. Мы уже слышали, как на верхнем этаже все громче трещит огонь, и когда спустились в гостиную палату, к нам вниз по лестнице с истерическим смехом и визгами прибежали и женщины. Все мы, следуя друг за другом, совершили полный обход гостиной залы, поджигая занавеси и скатерти и поливая горящим маслом ковры. Оркестр все еще играл свою бодрую музыку, мужчины плясали и топали ногами, а девушки поспешили в передние комнаты за своей верхней одеждой. Только тогда музыканты вышли вперед, дуя во флейты и со всей силой ударяя по лирам и цитрам и, подскакивая от безумной радости, стали спускаться вниз по резной наружной лестнице с выбитыми на ней хвастливыми словами Дария.
Мы собрались в стороне от жаркого все разгорающегося пламени, в длинной галерее, ведущей к резной лестнице. Все еще ходили меж нас кувшины с вином, музыканты по-прежнему играли бравурную музыку, но им приходилось напрягать все силы, чтобы можно было их расслышать за ревом пламени, рвущегося прямо вверх, в безветренное ночное небо. Вместе с треском оно стало приобретать ровный низкий гул, захватив целиком всю постройку, ставшую теперь одним огромным бездымным костром, мечущим в небо огненные стрелы. Мы услышали глухой удар, когда третий, этаж обрушился на второй, и еще один, мощный, когда оба верхних этажа рухнули на первый. И вот балки и несущие стены, которые скрепляли наружные каменные стены, прогорели, и одна из них отвалилась с грохотом горной лавины, который нам довелось однажды услышать среди снежных вершин Кавказа. Объятые благоговейным страхом, музыканты перестали играть. Из кувшинов больше не наливали, и никто не касался вина, уже налитого в чаши — все стояли, молча уставившись на пожар.
В конце концов огонь, а с ним и его гул, стал ослабевать. Еще одна стена обрушилась внутрь, ослабив третью, которая также рухнула. Две или три перепившие женщины отбежали в сторонку, где их вырвало, а несколько качающихся мужчин начисто протрезвели.
«Такое зрелище протрезвит любого, — подумал я, — рушится древний символ персидской власти; и известие об этом настигнет Дария там, где он от меня прячется. Он задаст вопрос, другой, покачает головой и постарается отгородиться от всех, кто бы его ни окружал. Однако это был всего лишь еще один удар, как от погонщика партии рабов, чтобы поторопить его на теперь уже недолгой дороге к смерти. Может, с трудом уже вспоминалось ему, что он был когда-то царем, малейшее слово которого считалось непреложным законом, который не мог перейти дороги без того, чтобы ее не покропили ладаном и миррой, перед кем другие цари должны были становиться на колени и класть земной поклон.
Возможно, ему казалось, что это и все остальное — бессмысленный ночной сон».
От надменного дворца могучего Ксеркса остались только задняя стена, громадная куча золы и две витые лестницы, ведущие к главному входу. Они почти не пострадали, и при свете масляных светильников, которые мы все еще сжимали в руках, так как мысль поставить их на землю просто не приходила нам в головы, отчетливо можно было различить и легко прочесть — а многие из нас учились персидскому языку — хвастливое изречение Дария:
…В согласии с его волей и моей собственной,
Я, Дарий, не боюсь никакого врага.
Дрожат и стучат теперь кости в его гробнице — вот какая мысль пришла мне тогда в голову.
5
В этот вечер расставание с Таис было для меня невыносимо, поэтому мы вместе с ней зашли во дворец бывшего сатрапа, и здесь она впервые рассмотрела доставшийся ей в придуманной мною игре алмаз. Размер его — не менее ста пятидесяти каратов — навел меня на мысль, что этот камень носил Дарий в своей короне «Гора Снега», которую нашли в песке одной реки в Центральной Азии — у большинства древних персидских историков есть его описание. Теперь я увидел, что у него розоватый оттенок, тогда как «Гора Снега», как его раньше характеризовали, ослепительно бел, как снежный сугроб в лучах солнца. Кроме того, «Гора Снега» был почти бесценным сокровищем, и мне не верилось, чтобы его могли использовать для украшения трона не из золота, а из слоновой кости и оставить во дворце, где царь в последнее время не бывал. Однако опасность воровства была очень мала ввиду того, что имя царя вызывало благоговейный трепет, и я оценил его в двадцать талантов, равноценных примерно сорока окам золота.
— Если ты хотел, чтобы этот алмаз достался мне, не было ли слишком рискованно позволить, чтобы двадцать девять женщин опередили меня в выборе камней? — спросила Таис.
— Я не думал, что риск будет серьезным. У меня была уверенность, что если первая не возьмет его и вторая тоже, то все остальные просто не осмелятся.
— Согласна. Если риск и был, то он ограничивался только этими двумя. Первая из них Астарта, названная так в честь богини; ее отец, военачальник Смерсис, сейчас находится у тебя в плену. Вторая — сестра Аркасы, царского правителя в Аринесте — и он твой пленник, к тому же раненый. Судьба так здорово служит тебе, царь Александр! Ни одна из этих женщин не оскорбила бы тебя ни за что на свете, уж не говоря о великолепном алмазе.
— Твои глаза, Таис, пожалуй, чересчур зорки, чтобы ты смогла стать другом-утешителем.
— Великий Александр! Как я могу осуждать твою хитрость, твою безжалостность, когда я сама пользуюсь приносимыми ими благодеяниями! Девчонкой я и мечтать не могла о таком замечательном камне. Мой царь, прежде я была состоятельной, а теперь богата, как жена сатрапа. Если я останусь в живых, я буду носить этот камень в Афинах — пусть его видит твой враг Демосфен! И неважно, редко или часто ты будешь звать меня к себе, покуда ты жив, я никогда не приму от тебя другого дара. Пока ты не женишься или пока я не выйду замуж — может, только через много-много лет — я прежде всего буду обязана только тебе, и никому другому. Жаль, что из-за одного лишь случая, когда ты нарушил клятвенную верность мне — а ведь ты так создан, что не мог поступить иначе, — я отказалась от твоего покровительства и потеряла право быть твоей фавориткой.
— А тебе хотелось снова стать ею?
— Нет, мой царь, я не могу. С тех пор утекло слишком много воды. Может, когда-нибудь в будущем, не знаю.
«Наверное, все дело в Птолемее, — подумал я, — их отношения зашли слишком далеко». Но прежде я уже дважды касался этой темы, поэтому теперь выбросил ее из головы. Мое дело было — воевать и побеждать.
Всю ночь она оставалась прелестной подругой, хотя мы не достигли тех высот, с которых было видно так далеко и так легко дышалось, как при нашем последнем свидании. Что касается спаленного мной дворца, построенного Дарием, в котором хозяйничал Ксеркс, лишь одна мысль не давала мне покоя. Перед собравшимися там гостями я говорил об этом как о жертвенном огне, тогда как это был, конечно, всего лишь прием имперской политики. Я жалел, что не мог взять назад свои слова, ведь, как говорили, Зевс наказывал богов и людей, не говоривших ему правды.
Утром нечто, найденное в пепле пожара, вызвало у меня острое чувство жалости. Это были почти уничтоженные свирепым жаром тела мужчины, женщины и младенца. Они лежали совсем рядом друг с другом. Евнух-сенешаль, который знал дворец сверху донизу, исходя из того, в каком положении находились трупы, предположил, что это был привратник по имени Комаис — может, потому, что он прибыл из этого города — с женой и дочерью; они занимали небольшую палату на третьем этаже. Сенешаль добавил, что царь доверял ему больше, чем, казалось, заслуживало его скромное положение.
Они, без всякого сомнения, задохнулись от дыма и совсем не ощутили опаляющего прикосновения огня. К тому же редко можно воздвигнуть простую стену или выкопать большой котлован без того, чтобы не погибли один или двое людей. Затем евнух обнаружил кое-что еще, и эта находка заставила меня взглянуть на все дело совсем под другим углом. Под останками тела мужчины лежал небольшой медный сосуд почти цилиндрической формы с завинчивающейся крышкой. В нем находился чрезвычайно мелко истолченный песок, который, по мнению сенешаля, являлся истолченным кремнем, более твердым, чем стекло. Очевидно, он потянулся за ним, когда проснулся в комнате, полной дыма.
Для чего ему был нужен истолченный кремень, как не для подмешивания мне в еду, когда я опьянею? Другого объяснения не находилось. В таком случае этот парень был убийцей, и, без сомнения, я был его намеченной жертвой. Значит, сам того не ведая, я произнес мудрую речь — ведь пылающий дворец действительно стал огромным жертвенным костром, на котором был принесен в жертву вместе со своими любимыми тот, кто являлся убийственным орудием царя или, возможно, честолюбивого Бесса. Эту жертву Зевс не обойдет своим благодарным вниманием.
Глава 7
КРАСНЫЙ ПРИЛИВ

1
Великая битва при Арбелах произошла несколько дней спустя после дня осеннего равноденствия, вслед за моим двадцать пятым днем рождения, в двадцать шестом году от Александра. Когда снова наступила весна и бесконечные стаи водоплавающих птиц потянулись над головой, держа почти прямой путь из дельты Тигра и Евфрата к Каспийскому морю или, возможно, срезая путь к восточному концу Эвксинского моря, когда облагодетельствованная легкими дождями вновь ожила пустыня и стали веселыми даже маленькие птицы, я снова приготовился выступить в поход.
Я все еще не захватил бежавшего Дария и не получил надежных вестей о его смерти. По последним сведениям, он находился в Экбатанах, недалеко от Арбел, и пытался собрать еще одну армию, хотя это ему удавалось с трудом, поскольку его имя потеряло свою магическую силу. Один наблюдатель предполагал, что у него войско в тридцать пять тысяч солдат — жалкая цифра по сравнению с теми, что он сообщал раньше, но не намного ниже той, во что оценивалась совокупная сила моей армии. Я не думал, что он затеет сражение со мной по всем правилам; и все же при умном командовании такое войско могло бы сильно замедлить мое победное продвижение и занять прочную оборону в тех или иных горных коридорах, которые мне необходимо было пройти на моем пути вперед.
Его солдаты были в числе лучших, которые когда-либо служили под его началом, включая тысячу из пятнадцатитысячной царской гвардии, храбро сражавшейся при Арбелах; остатки эллинов-наемников, превосходных лучников — парфян и индов. Ему остались верными несколько сатрапов и военачальников, но мне приходилось серьезно считаться только с двоюродным братом Дария Бессом, который в последней битве проявил храбрость, настойчивость и изобретательность.
Нет, сам Дарий не осмелится снова ввязаться со мной в сражение. Так заявил высокий жрец в храме Зевса-Амона, причем эту весть сообщил ему сам Зевс.
Моя армия, за исключением оставленных позади гарнизонов, направилась форсированным маршем в Экбатаны. На расстоянии трех дней пути от города ко мне в лагерь прибыл дезертир с хорошей новостью: войско Дария, сократившееся теперь до восьми тысяч, узнав о моем приближении, поспешно отступило в сторону Бактрии. Придя в Экбатаны, я демобилизовал фессалийскую и эллинскую конницу, кроме македонцев, но позволил добровольцам поступить снова ко мне на службу в качестве наемников. Тем самым я формально известил Грецию о том, что больше не являюсь полководцем греческой армии — что у меня собственная армия. Это уже давно было именно так. Однако я оставался главой Греческой Лиги и царем всей Греции, а также всей Азии.
Здесь же я решил и другие административные вопросы, Огромная казна, захваченная в Вавилоне, Сузах и Персеполе, была помещена в крепость в Экбатанах, а казначеем при ней я оставил Гарпала. Пармениона, которому недалеко уже было до семидесяти, я поставил управлять большой территорией, простирающейся к востоку, — должность больше почетная, чем властная. Номинально он считался охранником казны, но настоящая охрана состояла из шести тысяч преданных македонцев из фаланги под началом Клита, который сам в данный момент выздоравливал от серьезной болезни в Сузах. По завоеванным мною землям без труда прошло ополчение из шести тысяч греческих добровольцев и пополнило мою армию, но только как наемники, а не греческие патриоты.
Путь в Раги мы выбрали более длинный, но менее трудный, хотя люди и лошади сильно пострадали от летней жары. Оттуда, все еще гонясь за Дарием, двинулись к проходу, носившему название Каспийские Ворота, — узкому ущелью в Соляных горах. Затем двое знатных персов, дезертировавших из быстро тающего лагеря Дария, принесли нам удивительную новость: предатели, возглавляемые Бессом, арестовали Дария и заковали его в цепи, и только наемники-эллины хранили клятву верности бывшему царю. Я почти не сомневался, что честолюбивый Бесс стремится стать властелином собственного царства в каком-нибудь окруженном и защищенном высокими горами районе.
Оказывается, наемникам-эллинам удалось передать Дарию приглашение перейти в их попечение. Когда же тот отказался, они поняли, что связывающие их узы разорваны и в дальнейшем помочь ему они не смогут; они свернули с большой дороги и ушли в горы, где им, вероятно, предстояло пасть жертвою диких племен.
Теперь моей целью было не захват Дария, а освобождение его из рук изменников. Для достижения ее я ринулся в погоню, не жалея сил, взяв с собой конницу гетайров, легкую кавалерию и несколько выносливых пехотинцев. Кратеру с оставшимся войском я велел идти следом за собой обычным походным шагом. У нас было с собой только оружие и на два дня продовольствия, поэтому мы быстро настигали беглецов, расположившись лагерем недалеко от того места, где стоял когда-то знаменитый храм Зороастра. Наш следующий переход длился восемнадцать часов и проходил меж высокими горами с одной стороны и солевыми болотами и пустыней — с другой. Нам приходилось все время пить воду с соленым привкусом, поэтому, оказавшись у речки с пресной водой, мы остановились немного передохнуть и освежиться. В мертвом городе на равнине — по его улицам бродили только духи — мы услышали, что Бесс надел высокую тиару, древний и странный символ персидских царей. За эту чудовищную наглость, поклялся я себе, он заплатит пыткой и смертью.
Нас разделял всего лишь день пути. В попутном селении нам рассказали о более короткой дороге, чем та, большая, по которой ушел Бесс, лежавшей на пересеченной и совершенно бесплодной местности, которую пешим солдатам было не осилить. Поэтому я спешил пятьсот всадников легкой кавалерии и посадил на их коней то же самое число тяжело вооруженных пехотинцев и в сопровождении одних верховых проделал с наступления вечера и до рассвета следующего дня четыреста стадий.
На рассвете мы увидели отряд бактрианцев, скачущих в арьергарде армии Бесса и его царского пленника. Горцы развернулись, словно намереваясь оказать сопротивление, но, хорошенько разглядев большого черного коня и его всадника, большинство из них стеганули своих низкорослых лошаденок и пустились наутек. Немногие попавшие нам в руки быстро отправились на тот свет. Конец погони был совсем близок.
Говорят, что Бесс понуждал обреченного царя пересесть из колесницы на лошадь. Несомненно, эта трогательная забота имела целью поднять престиж Бесса в первом же городе, способном обороняться его уже небольшими силами. Дарий отказался. Так мы и обнаружили то, что осталось от него — в колеснице, все еще прицепленной к четверке бесцельно бредущих лошадей. Он был весь исколот копьями, и в глаза его опустилась ночь.
Но даже в этом истерзанном теле оставалось какое-то величие и великолепие. Дарий был человеком крупных размеров, ростом в семь футов или очень близко к этому, с благородным лицом. Все мои спутники последовали за колесницей, отдавая честь покойнику, я же замер по стойке смирно на своем неподвижном черном скакуне. Затем я завернул тело в свой плащ и распорядился как можно более осторожно отвезти его в Персеполь и похоронить в царской усыпальнице, где были похоронены и другие могущественные цари, сидевшие до него на его троне и один за другим сошедшие с него в темное царство смерти, которая без разбору забирает любого человека — от самого смиренного до самого великого.
2
Вскоре после нашего прибытия в Гекатомпилос,
[205] ближайший город на равнине, к моим экспедиционным силам присоединились солдаты, которые до этого шли по большой дороге. Совершенно очевидно, мои македонцы надеялись и даже осмеливались верить в то, что со смертью Дария их войнам в Азии наступил конец. Что ж, с их точки зрения разумно было бы поставить этот вопрос. Вообще-то говоря, мне и им стала принадлежать вся Персидская империя с ее неисчислимыми накоплениями золота и удивительно прекрасными женщинами. Сыновья всех матерей имели небольшой золотой запас и могли наращивать его до тех пор, пока каждый не мог отправиться разбогатевшим домой. Несомненно, они тосковали по родным пастбищам, по своим грубым холмам и еще более грубым играм, по шумным пьяным ссорам, которые они называли пирами.
Там, вдалеке, думали они, лежит только каменистая пустыня и стоят горные хребты, громадные, таинственные, непроходимые. А к востоку от них колышется Океанское море.
Я должен был пробудить их от этого сна и сделал это, дав им другой, в котором им виделись прекрасные города, богатства и танцующие девы Индии. Но прежде чем они смогут насладиться ими как добычей и развлечением, они должны были помочь мне поймать Бесса, убившего Дария и имевшего наглость носить высокую тиару, на что право было только у Александра.
Под шлемом в моей голове таились и другие идеи, о которых я пока не
распространялся. Непокоренными еще оставались различные племена Кавказских гор и в районе Аральского моря. У них над любовью к женщинам преобладала любовь к грабежам и ночным нападениям из засады, и нельзя было допустить, чтобы они беспрепятственно и без страха беспокоили нас с флангов и с тыла. Кроме того, я не был уверен, что служившие когда-то у Дария наемниками эллины, бежавшие в горы, не объединятся с бандитскими племенами и не обучат их военной тактике в достаточной мере, чтобы они могли захватывать горные проходы, затруднять наше продвижение и причинять нам серьезные неприятности.
Мы выступили в поход, и, когда пришло время, я разделил войско на три неравные части: одну я взял под свое начало, другую поручил своему толковому военачальнику Кратеру, над третьей частью, куда вошли повозки с осадными машинами и обоз, я поставил Эригия, дав ему своих наемников-эллинов и конницу. Каждый из трех отрядов пошел по своему маршруту с учетом их трудности. Я направился к южным берегам озера Гиркания, которое персы называли Каспийским морем. Оттуда мы дошли до столицы Гиркании, где с нами снова соединился Кратер. Теперь мне покорились сатрапы Парфии и Гиркании и другие крупные персидские правители.
Кроме того, я принял эмиссаров, посланных ко мне остатками отколовшихся от войска Дария наемников с предложениями условий сдачи. Я отослал их назад, велев передать своим, что приму только безоговорочную капитуляцию. Блуждая в горах, находясь во власти диких племен, они не имели выбора. Те, кто выжил, пришли ко мне в лагерь беспорядочной толпой — их было полторы тысячи. После небольшой нерегулярной войны с воинственными непокорными мардами мы устроили большое пиршество с играми и принесли жертвы богам.
В Сузах
[206] до нас дошли первые достоверные сведения о Бессе, и они поразили меня. Оказывается, он в Бактрии объявил себя царем Персии. Он надел роскошное одеяние и царскую тиару и называет себя не Бессом, а Артаксерксом IV. Более того, он собирает армию из бактрийцев и свирепых скифов, намереваясь воспрепятствовать моему проходу. Даже смерть Никанора, младшего сына Пармениона, не могла задержать моего яростно-стремительного броска. Никанору устроили прекрасные военные похороны две тысячи моих солдат под командованием Филота, старшего сына Пармениона, все еще находящегося в тени моего подозрения. Мне в моем нынешнем предприятии эти люди были не нужны.
Вскоре после выступления из Сузии я назвал своим именем многообещающий город в плодородных землях, стоящий на караванном пути. В это время я стал надевать одежду мидийцев, что вызывало некоторое недовольство Птолемея, единственного, кто осмеливался ворчать на меня в моем присутствии. Большинство македонцев за трапезой у костров вели себя подобным же образом, о чем докладывал неизменно преданный мне Гефестион. Это одеяние можно было назвать сочетанием персидского и греческого и оно превосходно подходило для рожденного в Греции повелителя Азии.
Недовольство Птолемея меня нисколько не возмутило. Ведь он был слишком давнишним и дорогим мне другом — а я потерял так много друзей детства: кого в сражениях, кого забрала болезнь, а некоторых сгубила измена. Мы с ним не говорили о Таис, ставшей теперь фактически его любовницей и потерянной для меня навсегда. Я и не винил ее — ведь уже который месяц я не звал ее к себе, целиком погруженный в свои войны и административные проблемы и ведя целомудренный образ жизни.
Но вновь погоню за Бессом пришлось прервать, как я полагал, ненадолго, на этот раз из-за отречения сатрапа Арии, сдавшегося мне в Сузии. Он убил моих всадников-лучников, которых я там оставил, и призвал сторонников Бесса собраться в городе Артакоане на реке Арий, в сотне стадий к юго-западу. Я с сильной армией пошел к этому гнезду изменников, которые при моем приближении бежали. Там всех, у кого было найдено оружие, я предал смерти, оставшееся население продал в рабство и переименовал город, назвав его Александрия Ариана. Его новым жителям, съехавшимся из окрестных сел, предстояло знать этот город только по этому названию, а прежнему, Артакоана, вскоре суждено было исчезнуть из языка. В новом городе сходилось несколько караванных путей, и я не сомневался, что своим будущим великолепием он будет достоин своего имени.
В этой богатой области я пополнил свои интендантские запасы. Я пошел дальше на юг, чтобы проучить еще одного непокорного сатрапа, и заставил его бежать, решив, что займусь им позже. В этом походе ветер, за который я благодарил Эола, — Зевс не стал бы на такие пустяки тратить свое дыхание — принес мне легкую победу над небольшим племенем, осмелившимся стать на моем пути, за что внезапно последовало быстрое возмездие. После короткого столкновения эти глупцы, спасаясь, устремились вверх по лесистому склону горы, другая сторона которой представляла собой крутой обрыв в пропасть. Я просто поджег сухой лес, а резвый ветер, дующий в ту же сторону, сделал все остальное.
В городе Профтасия, на караванной дороге, ведущей на юг от моего нового города Александрии Арианской, зловеще забрезжил печальнейший в прожитой мною до сей поры жизни день. До дня зимнего солнцестояния оставалось две луны, деревья уже сбросили лиственный покров, и скрежетали оголенные их ветви, раскачиваемые холодными ветрами со снежных вершин Гиндукуша. Вскоре после завтрака я получил информацию из надежных рук, что небольшая группа недовольных македонцев устроила против меня заговор. За этим последовало еще худшее известие: не оставалось никаких сомнений в том, что друг моего детства и сын старого верного Пармениона Филот знал о заговоре, если и не был на деле его участником, и не сообщил мне о нем.
Я ничего не предпринимал весь день и только ближе к вечеру пригласил к себе на ужин военачальников из своего ближайшего окружения, включая Гефестиона, Кратера и Кена. Птолемея я не пригласил, чувствуя, что он будет помехой тому, что я намеревался сделать. Среди приглашенных был и сам Филот.
Около полуночи я отдал неожиданный приказ заключить Филота под стражу. О причине я ничего не сказал, а если он и догадывался, то вида не подал, не осмелился спросить, хотя и вперился в меня странно потемневшими глазами. Когда его увели, я сообщил гостям полученную мной отвратительную новость и распорядился, чтобы они немедленно арестовали служащих под их началом заговорщиков. Один из них, которого я едва знал, бывший, очевидно, их главарем, попросил разрешения сходить за плащом и головным убором перед тем, как его уведут закованным в цепи, и, воспользовавшись кратким отсутствием, перерезал себе горло собственным мечом, приняв милосердно быструю смерть. Всех остальных арестовали, днем предали суду и обвинили в тяжком преступлении.
В ответ все они заявили, что невиновны, но это можно было уже не принимать во внимание: самоубийство их близкого друга Димна было равносильно признанию вины. Никогда еще у меня не сжималось так горло, как в тот момент, когда я произнес приказ отвести Филота в другую палатку и подвергнуть пытке. Эту жестокую обязанность поручили Гефестиону и его помощникам — Кену, Кратеру и человеку, который приходился Филоту родным дядей.
Сначала Филот предложил малоубедительное объяснение тому, что не сообщил мне о заговоре: он якобы не поверил в его существование, решив, что это просто слухи, которым не стоит придавать значения. Его продолжали пытать, и он признался, что сам не хотел покушаться на мою жизнь, но предполагал, что вскоре меня убьют за то, что я носил одежду мидийцев, отвернулся от старых друзей — македонцев и соратников, завел себе близких друзей среди персов и усвоил их манеры и образ жизни. Он сказал, что только принимал участие в разговоре о том, что им нужно предпринять и кому быть за главного, когда это событие произойдет. Гефестион слышал, как он назвал имя своего отца Пармениона в качестве фигуры, более всего подходящей для роли моего преемника, но Филот тут же отказался от своих слов, говоря, что имел в виду Птолемея — что было уж совсем невероятно, поскольку Птолемея всегда возмущало хвастовство Филота и его высокомерное поведение среди равных себе. Как ни странно, ни Кратер, ни Кен, занятые орудиями пытки, не могли вспомнить, чтобы обвиняемый упоминал имя Пармениона. Наконец Филот полностью признался в своей вине.
Не отчет Гефестиона заставил меня спешно отправить письма надежным военачальникам в Экбатаны, где находился штаб Пармениона. На первый взгляд жестокость в действительности являлась проявлением доброты, ибо нельзя было допустить, чтобы старик узнал об измене своего сына и грядущем наказании. Поэтому я приказал своим людям захватить его врасплох и лишить его жизни быстрым ударом меча. Что касается самого предателя, его поразили копьями насмерть на виду у всей армии. Это зрелище привело в уныние моих македонцев, наверное, многие из них зажмурились, чтобы не видеть его, но все же оно было необходимо, чтобы подавить их недовольство, и, несомненно, поубавило опасность мятежа.
Для меня эта зима оказалась самой тяжелой в моей жизни. Она уже настолько вступила в свои права, что я не мог перебраться через Гиндукуш в Бактрию. Восстание ариев вынудило меня к еще одному походу, и в этом, в основном, был виноват Бесс, вознамерившийся беспокоить меня с тыла и флангов. Я разбил его отряды, и моим единственным вознаграждением за эту задержку, единственным утешением было основание нового города, Александрии-Арахосии, откуда мой гарнизон мог бы защищать от налетчиков проходы в восточных горах.
Зима тянулась уныло и бесконечно долго, и ранней весной мы приготовились к тому, чтобы перевалить через Гиндукуш. В своем нетерпении я слишком поторопился отдать приказ взбираться на эти кручи, труднодоступные холодные горы, возвышающиеся более чем на пять тысяч локтей над высоким плоскогорьем. Мы стремились к северо-восточному проходу в верховье реки Окс, где Бесс вряд ли мог воспрепятствовать нашему продвижению. Но глубокий снег, неумолимый холод и ледяные ветры были соперниками пострашнее. Немало моих солдат умерло от обморожений, у других солнце, отражаясь от снежных покровов, вызвало временное ослепление, некоторые погибли в лавинах или сорвались вниз. Больше всего хлопот доставил нам вещевой обоз. Нередко большие команды из солдат, рабов и пленников должны были поднимать их по крутым скатам. Телеги и повозки, в которых было немало девушек и женщин — жен, наложниц и сопровождающих армию, чье присутствие служило утешением многим начальникам и рядовым и предотвращало открытый мятеж, — также причиняли нам серьезные беспокойства, от которых немного спасали доблесть возниц и то обстоятельство, что они выносили все это без жалоб.
Один раз перед моими глазами предстало восхитительное зрелище. Посреди крутого склона, где под жгучим солнцем уже растаял снег, обнажив траву, такую же молоденькую и нежную, как весной в Греции, я увидел неподвижно застывшего на верхушке скалы большого дикого барана, которого готов был принять за властелина горных вершин. Голову его венчала корона из вьющихся рогов. Такая же корона, только из золота, оказавшись на голове великого Дария, сломала бы ему в конце концов шею. Я назвал его Искандером — именем, которым меня нарекли в горных цитаделях Центральной Азии. Зная мое пристрастие к дикой баранине, вероятно, лучшему мясу на свете, кое-кто из моих телохранителей попросил разрешения подкрасться к нему и меткой стрелой сбить этого владыку с его трона, но я отклонил их добрую заботу обо мне.
Как мы радовались, когда оказались за высоким перевалом и начали спуск к верховьям реки, порой называемой Желтой Рекой. Теперь, вместо того, чтобы толкать и поднимать повозки и, налегая на них с бычьей силой, тянуть их вверх по дороге, нам приходилось сдерживать их напор и иногда подкладывать камни под колеса, чтобы они не загремели вниз, увлекая за собой лошадей. Пешим приходилось идти на негнущихся ногах, вгоняя каблуки в землю, чтобы не скользили ноги, и от этого у армейского строя был комический вид. И только немногие из моей вспомогательной кавалерии, выросшие в горах, отваживались спускаться вскачь на своих крепконогих пони. В этом развлечении мои славные гетайры не составили им компанию. Они оставались угрюмыми с тех самых пор, как казнили Филота, их когда-то горячо любимого начальника. Я надеялся, что они воспрянут духом, когда мы, наконец, вступим в схватку с войском Бесса, на чью голову возлагалась вина за все наши беды.
У моих людей появилась причина клясть его еще страшней, чем прежде, когда мы достигли засеянных по весне полей у подножия горы и увидели, что они почернели от огня, зернохранилища уничтожены, земли опустошены. Голодные и разъяренные, мы поспешили в Драпсаку, все еще идя по следам Бесса, а затем в Аорн. Это был обнесенный стеной и удобный для обороны город, но преследуемые нами там не остались.
Было совершенно очевидно, что он направляется в Мараканды на границе Согдианы, который легко оборонять, но трудно взять. К югу местность, где горы перемежались пустынями, давала ему все преимущества, особенно если он смог бы привлечь под свои знамена, в чем я не сомневался, местных воинов — сильных, отважных наездников и бойцов. Более того, мы получили хорошо обоснованные, но еще не проверенные сообщения, что там к нему присоединились царь Бактрии Оксиарт и могущественный сатрап Спитамен со значительными силами и достаточным довольствием.
Отсюда мы резко свернули на запад, затем на север, затем снова на запад, чтобы попасть в Бактры, столицу Бактрии, лежащие на главном пути в Мараканды. Здесь я намеревался реорганизовать свою армию, разделив старые подразделения и создав новые, лучше приспособленные для схватки с Бессом средь гор и пустынь. Здесь же я надеялся узнать, как обстоят мои личные дела и, возможно, добиться какого-то успеха.
Я поселился во дворце царя Оксиарта, и никто этого не оспаривал — одно мое имя служило прекрасным ключом и средством, способным подавить любой голос протеста. Царь отсутствовал, он находился на севере — так сообщили мне его слуги, когда встали с колен. Я вызвал к себе только Клодия, самого надежного своего лазутчика, которого заранее отправил вперед под видом персидского купца с караваном ковров из Экбатан.
Стоило только мне со слугами устроиться поуютней, как появился мой человек, которого сразу же провели ко мне. Он ответил на мое приветствие на безукоризненном греческом — он был сыном грека-раба, и его жена натерпелась от персидского сатрапа, и его самоотверженность у меня на службе, а может, и его собственные силы происходили оттого, что он ненавидел все персидское, и эта ненависть подстегивала и дисциплинировала его ум.
— Говорят, царь Бактрии сейчас на севере, — сказал я ему. — Ты знаешь, где именно и что он там делает?
— Мой царь, нет сомнения — он в Маракандах, где держит совет с царем и высокопоставленными властителями относительно совместных действий по защите своих земель.
— Я слышал об одном, наделенном большой властью. Он весь кипит ненавистью ко мне. Это родственник Дария и зять Оксиарта. Его зовут…
— Сухраб, мой повелитель, — подсказал Клодий, когда я сделал вид, что не уверен.
— Да, да, его зовут именно так, Он в Бактрии?
— Нет, мой повелитель. Он и его жена Роксана уехали с Оксиартом в Мараканды. Отец Сухраба приходился Дарию дядей, а его мать — скифская царевна. Поскольку Оксиарт надеется заключить союз со скифами против тебя, его связь со Скифией и родственные отношения с ее царем будут иметь большой вес в этих делах.
— Так ты полагаешь, они скоро вернутся в Бактрию?
— Нет, мой царь. Сомневаюсь, что ты сможешь увидеть Оксиарта или Сухраба до тех пор, пока не встретишься с ними в сражении и не победишь.
— Хороший совет. Мой казначей встретит тебя у главного входа; ты можешь идти.
Мое прибытие в город и эта краткая встреча произошли ближе к вечеру. Царским охранникам, стоявшим у входа во дворец, я послал мой приказ не впускать никаких послов — пусть приходят и просят об аудиенции на следующее утро. Это распоряжение распространялось на всех потенциальных посетителей, за исключением Птолемея и Гефестиона, хотя я не предполагал, что кто-то из этих двух должен посетить меня. Так как я заранее принимал это в расчет, я не удивился, узнав, что Роксана находится в Маракандах. Согласно тому, что она говорила мне в Додоне, в это время года ее обычно не бывало на севере, зато ее любимый дядя, маг Шаламарес, обитал там в большом храме, и я подумал, что она, наверное, все еще старается навестить его там при любой возможности. До обеда мне хотелось изучить хорошо прорисованную, подробную карту Бактрии, изготовленную магами и доставленную мне парфянским лазутчиком. После этого я предполагал вызвать к себе Гефестиона, который лучше всех понимал мои цели И который стал моим доверенным лицом в большей степени, нежели Птолемей, и, возможно, моим ближайшим другом.
Тут, слегка раздосадовав меня, вошел дворцовый охранник. Он прервал мое занятие, сообщив, что меня срочно хочет видеть женщина в глубоком трауре, прибывшая ко дворцу, как и ее единственный слуга, верхом на осле.
Я ответил ему с раздражением, приказав отослать эту женщину прочь: я не сомневался, что это вдова или мать какого-нибудь знатного бактрийца, убитого или захваченного в плен при Арбелах, которая пришла что-то просить.
— Я так и сделаю, царь Александр, если таково будет твое желание, когда ты услышишь все. Она назвалась Ксанией, подругой девушки, с которой ты обращался к оракулу в дубовой роще в Додоне много лет назад. Она хочет передать тебе что-то на словах.
Начальника охраны, должно быть, очень удивило, как резко изменились мое поведение и голос.
— Она молодая или старая? — задал я бессмысленный вопрос, чтобы только перевести дух.
— Это я не могу сказать, царь Александр: на ней плотная вуаль, какую у персов положено носить при трауре. Она довольно резво спрыгнула с мула, и ее голос показался мне молодым. Узнав во мне грека, она заговорила по-гречески, но, судя по росту и персидскому платью, она, я думаю, персиянка.
— Впусти ее одну, без сопровождающего, в переднюю у входа и вели ей подождать.
Прежде чем покинуть палату, являющуюся библиотекой, состоящей из книг и свитков, написанных в основном магами, я прицепил на пояс свой меч, который перед этим удобства ради снял. Есть много способов совершить покушение на жизнь царя, и в моей империи было не счесть тех, кто жаждал моей смерти любой ценой; среди них могла бы оказаться и обезумевшая вдова важного перса или бактрийца, убитого при Арбелах. Она могла бы выведать, какие слова могут послужить паролем для проникновения в мое жилище, благодаря доверительным отношениям с Роксаной, которые пришли ей на память, когда она узнала о моем прибытии.
Я скрепил застежкой плащ, чтобы не было видно меча, и вошел в переднюю. Там ждала женщина под густой вуалью и, как мне показалось, была совершенно спокойна, чего вряд ли можно было ожидать от убийцы. Но мне не хотелось, чтобы она рассказывала мне о Роксане, пока не подойду к ней вплотную — ведь у передней комнаты вместо двери висел лишь роскошный занавес, а дворцовые слуги, в большинстве своем рабы Оксиарта, несомненно, имели длинные и любопытные уши.
— Что тебе надо?
— Во-первых, царь Александр, чтобы мне было разрешено приблизиться к тебе или чтобы ты сам подошел поближе ко мне, потому что новости, которые я принесла тебе, совершенно секретны.
— Я подойду к тебе, но сначала я должен достать свой меч. Это мера предосторожности, которую царь вынужден принимать, имея дело с незнакомцами.
— Достань его, если желаешь, и приставь к моей груди.
Когда она это говорила, ее голос насторожил меня: слышал ли я его раньше? Я не мог ответить на этот вопрос. Я вытащил меч и держал его наготове, не касаясь ее острием. Зачем? Я мог нанести ей удар с быстротой змеи, если бы она попыталась выхватить кинжал.
— Что же за важный секрет, из-за которого ты пришла сюда без моего вызова? — осведомился я.
Правой рукой очень медленно она подняла вуаль. Я взглянул на ее лицо — и кровь бросилась мне в голову, рука расслабленно опустилась, и я едва не выронил меч. Эта молодая женщина на три больших пальца была выше моей спутницы на дороге в Додону, которая позже задавала вместе со мной вопросы в дубовой роще, а еще позже, перед костром, унеслась со мной в колдовском полете, но я точно знал, кто она такая, и у меня не было ни тени сомнения.
После тридцати тысяч стадий боевого пути и одиннадцати разделявших нас долгих лет я наконец-то нашел Роксану.
3
Роксана заговорила, конечно же, весело щебеча, как она обычно делала, когда не присутствовала на церемонии, и я вдруг вспомнил этот веселый щебет во всей его жизнерадостности, но вынужден был строго ее прервать:
— Ступай за мной в библиотеку, женщина, и там я выслушаю твою просьбу.
Она подчинилась и пошла за мной скромно и степенно. Я не сомневался, что слуги Оксиарта заметили ее, но вряд ли они могли узнать ее под густой вуалью и, по всей видимости, в трауре. Вероятней, они приняли ее за одну из моих фавориток, скрытую под этим облачением, а когда мы вошли в библиотеку, они, конечно же, подумали о смежной с ней спальне, запирающейся на крепкий засов. Я радовался этому обстоятельству и жаждал воспользоваться им так, как мог бы представить себе любой мало-мальски искушенный наблюдатель, и сила этой жажды удивила меня — ведь с тех пор, как мы виделись в последний раз, промчались долгие годы, было много битв, у меня в мозгу и в душе, а также в светском положении постепенно произошли изменения огромной важности. Однако я отнюдь не был уверен, что результат нашего сегодняшнего свидания будет именно таковым. Я помнил, что имею дело не с какой-нибудь юной простушкой, а с женщиной необычной, чьи ближайшие действия и слова были для меня совершенно непредсказуемы.
Я провел ее в комнату, где пахло старой кожей книжных переплетов и папирусом, убедился, что обе двери заперты на засов, и повернулся к ней. Она уже сбросила с себя капюшон, вуаль и черное облачение, которое обволакивало все ее тело. Под ним она носила цельный шерстяной халат, как и тогда в Додоне, но только этот был тончайшей выделки из ткани, которую купцы называли «кашмир» — по имени страны под Гиндукушем, известной нам, грекам, как Парси. Юбка была длинней, чем раньше, так как теперь ей не нужно было вскакивать на косматого пони и спрыгивать с него, а меховые подштанники с чулками отсутствовали или были не видны. Она носила персидские туфельки. Никаких украшений на ней не было. Теперь прежде скрытые под капюшоном светлые волосы цвета пшеничной соломы свободно ниспадали на плечи.
Пока я рассматривал ее, она молчала. Она подросла, но в остальном физически мало изменилась; груди увеличились и стали рельефней — возможно оттого, что ей пришлось рожать, — но лицо осталось почти прежним. Ее красота сохранила свою свежесть и необычную живость: в ней было что-то пугающее и завораживающее. Мне показалось, что косящий разрез ее глаз — оттого, что их наружные края слегка были вздернуты вверх — стал более выраженным, но синяя кайма вокруг светло-серой радужной оболочки осталась неизменной, и в свете многих светильников они горели живым блеском. Под расстегнутым воротом траурного одеяния, слишком теплого для такой мягкой погоды, я разглядел изящество тонкой шеи и ключиц, имеющих совершенное очертание под обтягивающей их тонкой кожей.
У Таис и Роксаны шейки были удивительно схожи, и, возможно, именно поэтому я вспомнил о Роксане, когда впервые встретил Таис. Во всех остальных отношениях, касающихся физической гармонии, они довольно сильно отличались друг от друга. В красоте Таис было что-то таинственное, замечательное в ее неопределенности; а в красоте Роксаны не было никакой загадочности. Да, обе были молодыми и красивыми, но помимо этого между ними не замечалось никакого сходства. Душой и умом они, по-моему, были совершенно разными.
— Да, долго же ты добирался сюда, — вдруг заметила она бойким, как я и ожидал, тоном. Таис не осмелилась бы обратиться ко мне с каким-либо замечанием прежде, чем я сам первым не заговорил бы с ней, и такое отношение к царю со стороны подданного и впрямь казалось оскорблением, заслуживающим наказания.
— Я сказал тебе, Роксана, что через два или четыре года я не смог бы прийти. Признаюсь, я не ожидал, что на это путешествие уйдет одиннадцать лет.
— Ты откусил больше, чем смог прожевать, — резко заметила она.
Как ни странно, подобное выражение существовало у греческого народа, с той только разницей, что греки говорили «больше, чем можешь проглотить». Я так думал, что это местное выражение. На самом же деле что-то схожее, так чудесно характеризующее человеческие зубы и глотки, известно многим народам, за исключением, может быть, только катайан, где еда мягкая и мелко нарублена — хотя, как известно по крайней мере, их большие начальники грызут кости. Мне об этом во время паломничества рассказал маг, который ужинал со мной вместе, и с тех пор я ловко исключал страну этого народа из своего представления об Азии, так как считал, что она лежит далеко за намеченными пределами моих завоеваний.
— Как я и говорил тебе, мне пришлось прокладывать путь сюда мечом.
— И, как я ответила, в таком случае я сотворила большое зло, пригласив тебя к себе.
— Не согласен. Я твердо убежден, что боги вложили тебе в уста это приглашение.
— Впредь я была бы благодарна богам не говорить моим языком, а оставить это дело мне. Ты не разрешишь мне присесть, Александр? Мое седалище слегка побаливает от этого осла, на котором я приехала — у него нескладная поступь.
Итак, как подданная, обращающаяся к царю, она совершила еще две крайне дерзостные ошибки: попросила разрешения присесть до того, как я сам предложил ей это, и обратилась ко мне по имени без должного титула. Я понял, в чем дело: просто наше общение возобновилось в том месте, где оно прервалось одиннадцатилетним молчанием. Моя надежда на то, что наконец я препровожу ее в смежную комнату, стала несколько радужней.
— Можешь сесть, Роксана, — ответил я довольно высокомерно.
— Умоляю тебя, не надо этого повелительного тона в обращении со мной. Я только попросила тебя быть вежливым. Ты еще не завоевал Бактрию; я все еще подданная моего отца Оксиарта. Теперь он более независим, чем тогда, когда мы были в Додоне, потому что Дарий умер и ему больше некому подчиняться. К тому же большинство его земель по праву завоевателя находятся в руках чужака, не принадлежащего древней династий. Если ты настаиваешь на церемонии, подобающей императору, и тем самым не хочешь быть тем Александром, которого я знала на дороге в Додону, тогда я тоже буду не Роксаной, а царевной Бактрии, чья династия намного древнее твоей, и сразу же распрощаюсь с тобой.
Я и представить себе не мог, что кто-то из людей снова будет говорить со мной подобным образом. К тому же она закончила свою дерзкую, если не сказать наглую, речь внушительной угрозой. Я не мог и мысли допустить, чтобы она сразу же ушла. Я совсем не хотел, чтобы мы снова расстались с ней. Она мне нужна была такой, какая есть, жизнерадостной и неукротимой. Я нуждался в ней — вот как, по более трезвом размышлении, обстояло дело, если это действительно была необходимость, а не преходящая блажь.
— Я слышал, что ты вышла замуж за Сухраба. Это, несомненно, произошло, когда тебе исполнилось семнадцать лет, как требовал Оксиарт, ты ведь так говорила. А может, еще раньше, как только ты вернулась в Бактрию.
— Нет, до семнадцати лет я ждала тебя, как и обещала.
— Ты родила ему детей?
— Мой ребенок родился мертвым. — Голос ее упал, и блеск глаз помутился от дымки слез.
— А теперь он хочет быть на самом переднем плане сражения, чтобы помешать моим завоеваниям.
— Несомненно, так оно и будет. Более того, он опасный соперник.
— А тебе грозит опасность стать вдовой.
— Возможно. Не счесть тех женщин, что стали вдовами, потому что их мужья стали на защиту родных земель и пытались помешать твоим завоеваниям. Да, не к добру я звала тебя к себе, в то время я и представить себе не могла, чем это может обернуться, и, пожалуйста, не говори мне больше, что все это внушили тебе боги. Мой бог, Заратустра, который был когда-то таким же смертным, как мы с тобой, не вложил бы подобные слова в мои уста. Я должна принять их нечестивость на свою душу и, по возможности, искупить свой грех. Хуже то, что этому злу суждено еще долго жить на свете. Если ты думаешь, что битва за Бактрию будет лишь небольшой стычкой, ты ошибаешься. Бактрийцы, в чем ты, возможно, уже убедился, всегда были прекрасными воинами.
— Да, я в этом убедился.
— Они как один встанут против тебя под руководством сильного персидского военачальника Бесса. Они не будут воевать с тобой вполсилы, как сражались за персидского царя. Теперь они встанут на защиту своей собственной любимой и самой прекрасной в мире родины.
— Ты хочешь, чтобы они победили, Роксана? — Задав этот вопрос, я боялся, что она мне ответит.
— В каком-то смысле хочу, в каком-то нет.
— Ты, наверное, догадалась, что, если они победят, Бактрия не будет свободной, и Оксиарт не останется царем. Бесс станет абсолютным монархом всей Бактрии, всех земель к востоку от Оксиана и к северу от Амигрийских гор, к югу от степей и к северу от Паропании.
— Эта территория охватывает земли скифов. Не думаю, чтобы они склонились перед Бессом.
— Забыл, что твоя мать — скифская царевна.
— Как ты об этом узнал, Александр?
— Осторожно навел справки. Это от нее у тебя такие раскосые глаза?
— Нет. У скифов прямо посаженные глаза.
— А может быть, у нее под кроватью прятался паломник с раскосыми глазами, пришедший откуда-то из-за Туань-Таня?
[207]
Когда я это говорил, я снова серьезно задавался вопросом, суждено ли мне лежать в постели Роксаны, а не под ней, или она будет лежать в моей, и опять мои надежды слегка померкли, хотя резко возросло желание. Но ведь не затем она пришла, чтобы говорить со мной о защите Бактрии от захватчика или о чем-то, связанном с политикой. У нее на уме было что-то еще.
— А впрочем, — задумчиво заметила она, — если Бактрия не будет свободной, то какая разница, кто ею правит: изменивший царю перс или варвар-завоеватель из какой-то дикой глуши — как она называется? Македония?
— А может быть, все наоборот, Роксана? Это мы, греки, цивилизованный народ; варвары — это менее значительные народы, которые живут за ее пределами.
— Неужели! Уж тебе-то, Александр, следовало бы лучше в этом разбираться, коль ты прошел такой длинный путь. Когда всю Грецию — я исключаю большой остров посреди Внутреннего моря, где обитали минойцы, — заселили безграмотные пастухи, Персия уже имела древнюю документированную историю, ее аристократия могла читать, писать, вычислять большие суммы, рисовать чудесные картины, вырезать статуи, сочинять стихи, возводить великолепные храмы и дворцы, строить замечательные большие города, решать сложные технические проблемы и устраивать оросительные системы в засушливых землях. Верно, вы сравнялись с нами, а потом превзошли в скульптуре и в украшении храмов. Некоторые ваши мудрецы нашли ответы на вопросы нравственности и науки, которые в Персии мог решить только один великий человек — нам он известен как Заратустра, а вам как Зороастр. Эллинская цивилизация нова, как только что вспыхнувший огонь, по сравнению с цивилизацией Персии, Египта, Тира и Индии.
В голосе и рассуждениях Роксаны проскальзывала нотка педантичности. Можно было бы подумать, что это перед классом сорванцов ведет урок молодой и усердный педагог, а не дочь скифской женщины говорит, обращаясь к Александру Великому. Я громко рассмеялся, потому что мне стало весело и просто от удовольствия.
— Где ты всему этому научилась?
— И не только этому. Я посещала школу в небольшом храме Заратустры здесь, в Бактрах, и в большом храме в Маракандах, где мой дядя Шаламарес служит главным жрецом.
— Как и прежде, твоя речь была несколько длинной и многословной. И в связи с этим у меня возник вопрос. Сколько времени ты можешь здесь оставаться?
— Столько, сколько нам обоим хочется. Мой муж Сухраб повез меня в Мараканды, потому что я играю при дворе значительную роль и могу поддерживать оживленный разговор. Мы вместе отправились назад: он, чтобы встретиться с Бессом и, мне кажется, тайно сговориться с ним насчет желанного дела — как тебя убить. Узнав, что Бесса там нет, он остановился в Симиситлури, потому что там должны состояться большие скачки и он собирался участвовать в них на своем серо-стальном жеребце из конюшни покойного Дария. Он будет отсутствовать сегодня весь вечер и приедет завтра днем.
Я не стал комментировать эту удивительную новость и задал ей еще один вопрос:
— Что же Сухраб ожидает от Бесса в качестве вознаграждения за соучастие в моем убийстве и в поражении моей армии?
— Лучше спроси, что Бесс может ожидать от Сухраба. Ни Бесс, никто другой не знают Сухраба так хорошо, как я. Он какое-то время может довольствоваться положением сатрапа Согдианы, но ведь он же двоюродный брат Дария, как и мой отец Оксиарт, только безжалостней и честолюбивей, и, если тебя убьют, а твою армию уничтожат — не забудь, что ты будешь сражаться в углу между горами и пустыней, знакомом бактрийцам и незнакомом тебе, — он станет претендовать на корону.
Я ненадолго задумался. То, что она мне сказала, в какой-то степени развязывало мне руки; а что касается непосредственно данного момента, зачем она рассказывала мне это, если, конечно, не питала ненависти к Сухрабу? Чтобы разбудить эту, возможно, спящую ненависть, я, словно бы случайно, бросил шутливую фразу:
— Надеюсь, если его серый жеребец проиграет скачки, он не захлещет коня до смерти.
— Я тоже на это надеюсь. — Тут глаза ее заблестели, на бледных щеках выступило по красному пятну, и я понял, что допустил ошибку. — И не тебе такое говорить, Александр. Разве не ты позволил прибить гвоздями к деревьям две тысячи отважных молодых людей, которые сражались с тобою в Тире?
— Я это сделал, когда был взбешен, в горячке сражения. Мне тогда служило оправданием то, что один жестокий удар спасет жизнь тысячам других отважных людей в том смысле, что это послужит примером тем, кто пожелал бы воевать со мной: пусть видят, что им нечего ждать от меня, кроме поражения и смерти.
— Для меня этому нет оправдания. Когда мы говорили об этом с дядей Шаламаресом — он уже все знал, иначе я бы от стыда хранила это в тайне, — он не мог поверить, что юноша, который ездил со мной из Пеллы в Додону, мог опуститься до такой жестокости.
Я справился с нарастающим гневом. Необходимость в этом, похоже, была больше, чем я понимал.
— Война — безобразное и жестокое дело, хотя и в ней бывают моменты жуткой красоты.
— Она особенно безобразна и жестока, когда ведется ради самопрославления одного человека.
— Ты говоришь, как Таис, одна молодая женщина из Афин, моя хорошая знакомая, правда, у тебя получается смелее.
— Я знаю о Таис. Она замечательная красавица. Караванщики приносили нам новости о ней с той самой поры, как ты воевал на Гранике. Та битва сделала тебя очень известным, Александр. Они за ужином у костра обсуждали все, что ты делал и говорил. Потом были Исс, Тир и Арбелы. Народ едва мог поверить правде, но я поверила легко. Видишь ли, я чувствовала что-то в тебе, когда мы были в Додоне. Я не знала, что это такое, — да и сейчас еще толком не знаю — но это заставило меня отнестись с доверием к тому, что казалось рядом чудес. Чему я не могла поверить, так это той чудовищной расправе в Тире. Но все же в конце концов пришлось поверить.
— Я уже объяснил это. Теперь снова поговорим о Додоне. Помнишь, что ты мне обещала в качестве победной награды, если я приду в Бактрию?
Блеск исчез из ее глаз, в них возвратилась мягкость, и она тихо произнесла:
— Как будто я могла забыть!
— Это было истинным обещанием, Роксана?
— Да, Александр, истинным. Я докажу это сегодня ночью, если ты так желаешь — а твой голос и выражение лица меня не обманывают.
— К этой комнате примыкает уютная спальня. Нужно только войти в дверь.
— Мы должны пойти дальше этого, а именно — во дворец Сухраба, где я живу.
— Разумно ли это?
— Разумно, если ты хочешь избежать покушения, готовящегося в великой тайне, и если должны произойти другие вещи, которые были мне желательны. Доверься мне, Александр. Я одиннадцать лет размышляла о твоем приходе, так как знала, что ты придешь — если не будешь убит. Я составляла планы, совершенно надежные. Я сейчас уйду, даже без поцелуя. О, Заратустра! Как мне помнились, как оживали на моих губах те поцелуи! И я хочу начать все сначала в моей собственной спальне. Я отпущу свою прислугу, она моя наперсница, а Сухраб думает, что его. — Неясная улыбка, немного жестокая, как мне показалось, скривила ее губы. — Она приведет тебя ко мне.
— Только мы двое? И никого больше?
— Я все забываю, что ты новый царь. Если ты захочешь, то можешь приказать, и за тобой на виду у всех последует отряд всадников. Но, уверяю, в их присутствии нет необходимости, оно могло бы очень навредить, если бы один из мужчин доверил секрет своей возлюбленной, а та оказалась бы болтливой. Надень простую персидскую одежду — ее в жилье для прислуги тебе найдет какой-нибудь слуга, которому ты доверяешь, — и поезжай не на Букефале, а на другой лошади. У нас на улице к прохожим не пристают. Оксиарт держит Бактры в строгости; к тому же они хорошо освещены жаровнями.
— Тогда, Роксана, уходи. Не медли.
— Александр, моя истинная любовь, если мне придется ждать еще час, я уж точно не выдержу и умру.
4
Я не сомневался, что слуга без труда найдет подходящий мне персидский наряд, включая широкую персидскую шляпу, затеняющую лицо. Он же провел меня через заднюю дверь во двор, где, уже взнузданная и оседланная, ждала лошадь с царского ипподрома. С ним ждала седовласая женщина, которой предстояло меня сопровождать. Я не был уверен, что это не та же служанка, которую я видел на пути в Додону и которая была с ней всегда в палатке.
Я решил не брать с собой отряд телохранителей отчасти потому, что покойный Филот был их товарищем, но в основном помня слова Таис, что нужно кому-то доверять, и я решился полностью довериться маленькой девчонке, которую нашел и потерял за полмира в стороне отсюда и вот нашел снова.
Служанка Роксаны на осле и я на доброй кобыле выехали со двора на тихую улицу. Затем мы проехали несколько кварталов по довольно оживленной улице, свернули еще на одну тихую небольшую улочку. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания, что для меня явилось довольно непривычным ощущением, и мне самому с трудом верилось, что в этой чужой одежде едет Александр. Затем мы заехали в какой-то тупик, и моя спутница велела мне остановиться у решетчатой двери. Она покинула меня верхом на своем муле и уводя мою кобылу и, очевидно, вошла в дом через другую дверь, так как спустя одну-две минуты решетчатая дверь отворилась, отпертая изнутри, и в дверях стояла она, ожидая меня. Прикоснувшись пальцами к губам и не произнося ни звука, она повела меня к покрытой ковром лестнице. Теперь я заметил, что этот дворец невелик, но роскошнее царского. Очевидно, Сухраб обладал большей властью, чем я думал.
Я открыл дверь, указанную мне моей проводницей, и увидел комнату с мягкими коврами, мебелью, инкрустированной золотом и серебром, кровать с балдахином, поражающую своим богатым видом, и одну зажженную лампу, но разглядывать все это было мне недосуг — мой взор обратился к той, что ждала меня за порогом. Босая, в халате из светло-золотой пряжи под стать ее волосам, там стояла Роксана с чудесно сияющими глазами.
— Ты быстро приехал, Александр, и поэтому я не умерла, — сказала она мне. — Теперь я притворюсь, что я одна из твоих служанок, совсем ненадолго, ибо если ты Александр, то я Роксана, с которой ты обменялся обетом и хранил этот обет. Как служанка, я помогу тебе снять персидское одеяние, которое тебе не к лицу — иначе ты можешь запутаться в его пуговицах и застежках.
Однако снять с меня одежду ей удалось не скоро, ее руки, случалось, медлили, теряя уверенность и проворство. Наконец, я стоял обнаженный и был благодарен Таис за высказанную так давно похвалу моему телу — будто оно так хорошо сложено и мускулисто, что бессмертный скульптор Пракситель мог бы использовать его как модель для самой знаменитой из своих работ. Я не верил этому комплименту, но был рад симметрии, вдохновившей ее на такие слова — ибо теперь и Роксана, расстегнув пояс на талии и уложив халат на кушетку, явила мне все свои многочисленные прелести. Она чуть улыбнулась, увидев, как мои глаза загорелись от удовольствия и острого предвкушения.
— Роксана, ты прекрасна, как Афродита! — воскликнул я.
— Слава небесам, что не такая пухлая, какой ее изображают скульпторы, — отвечала она, сделав попытку развеселиться, которая не совсем удалась из-за широты раскрытых и торжествующих глаз.
Ей бы больше подошло сравнение, с богиней верховой езды. Скачки по неровной местности и длинным дорогам, прыжки через ограды и ямы ради чистого развлечения придали еще больше очарования ее туземной грации. Длинными конечностями она была обязана персидской крови, но дикая кровь скифов была причиной необычной красоты, и если Таис напоминала нимфу, то Роксана — гибкое существо могучих гор, подобное тому, которое может встретиться путешественнику в похожей на берлогу хижине, возможно, отпрыска Юноны, брошенной Парисом возлюбленной, который сам отправился в путь, чтобы украсть Елену. В нашем мифе Юнону постарался утешить зверь с извилистым телом. Наверное, мое воображение вышло из-под моего контроля, но в ее нагом теле явно была извилистость, может, потому, что при каждом ее движении в нем играли небольшие сильные мышцы. Таис для меня надолго осталась в забытьи, а если я и вспоминал о ней, то только как о потерянной и ушедшей красавице. Ее заместила Роксана, и заместила — еще не то слово.
Я медленно пошел к ней, и она вытянула руки, чтобы принять меня в свои объятия. Она поцеловала меня, сперва робко, чтобы не раскрывать силу своего желания, но наши тела слишком сблизились, и в этом случае наше первое соитие могло бы быть не таким совершенным, как мы оба желали, учитывая, как сильно тянуло нас друг к другу и как долго мы пребывали в жизни друг друга без полного единения.
Предчувствуя опасность, она вырвалась у меня из рук, в несколько прыжков оказалась в постели и легла на бок. Там мы с
блаженной медлительностью стали обмениваться поцелуями, почти не касаясь друг друга телами. И когда моя рука украдкой заскользила по ее бедру, она крепко схватила ее в обе руки.
— Не сейчас, еще рано, — шепнула она мне. — Во дворце моего отца наши рты так наговорились словами и мой так изголодался, что даже теперь он еще не насытился. Александр, я не видела тебя так давно! Я столько ночей пролежала одна или, что еще хуже, рядом с Сухрабом, возвращавшимся поздно от своей любовницы-эфиопки, стараясь не думать о тебе, когда я засыпала, не мечтать о тебе, ведь время тянулось так долго и твой приход казался таким невероятным; однако я так часто теряла власть над собой. Будь со мною нежным, Александр. Мне тоже страшно не терпится поскорее дойти до разрядки, но пусть она придет постепенно, чтобы мы не упустили на этом пути ни одного сладостного момента.
Однако далее все развивалось стремительно, и мы не могли бы этому помешать, даже если бы старались; вскоре мы оказались в крепких объятиях друг друга, сомкнувшись телами, ее прекрасные ноги переплелись с моими, и, если бы сама Афродита украдкой невидимо вошла бы в спальню, ей бы так захотелось любви, что она унеслась бы в поисках любовника — высокого, стройного юноши-пастуха, и ложем им послужила бы не иначе как просто трава. Раз я разомкнул сцепление ее рук, чтобы приподняться верхней частью тела на локте и взглянуть на нее сверху вниз — и я едва мог поверить, что это уже происходит, если бы не острое ощущение, почти боль.
— Я люблю тебя, Александр, — прошептала она. — Я люблю тебя, Александр, — повторила она чуть позже в полный голос. А затем она уже прокричала: — Я люблю тебя, Александр! — И когда дыхание ослабло и восторг утих, она вдруг расплакалась.
Мне тоже пришлось вытереть глаза — так чудесно сбылся давний, часто повторявшийся сон моей юности. Так мы плакали в тени храма Додоны, под торжественными, величественными деревьями, пока бурно метались несущие пророчество голуби.
— Я жажду выпить бокал вина, — сказал я ей, когда мы успокоились. Я устал больше, чем от упорной рукопашной схватки, и в этом сравнении нет натяжки, ибо есть какое-то эзотерическое родство между битвой, несущей смерть, и любовной схваткой, творящей жизнь.
— Тогда натяни над нами одеяло, — отвечала Роксана, — и дерни за тонкий шнур, не за толстый; он висит в голове постели. Этот колокольчик никто не услышит, кроме Ксании, которая привела тебя сюда, потому что он звенит только у нее в комнате.
Я сделал, как она указала, и служанка вошла через наружную дверь, ведущую в ванную Роксаны, к которой, несомненно, имела ключ. Она еще больше просветлела лицом, когда взглянула на нас: она прекрасно знала, что произошло, ведь она ждала этого с тем же долгим томлением, что и Роксана. Но ее манеры были так же точны и казались столь же спокойными, как если бы она пришла по нашему вызову к столу, где мы обедали.
— Слушаю тебя, моя госпожа?
— Мой возлюбленный желает вина. Можешь достать самую лучшую бутылку, не пользуясь своим тайным ключом к шкафам моего мужа?
— Если ты имеешь в виду шкафы Сухраба, то он вовсе не твой муж, если мне будет дозволена дерзость выразить это в словах. Он никогда ничем не был, кроме контрабандиста, а ты теперь лежишь рядом со своим мужем, который одиннадцать лет пропадал на войнах.
— Я согласна с тобой, Ксания, но ты не ответила на мой вопрос.
— Моя госпожа, у меня есть неначатая бутылка золотистого вина с озера Байкал, которую доставил караван, только богу известно, из какой дали; оно такое дорогое, что только цари и царевичи могут пить его, и эту бутылку я похитила из его шкафа, когда доставала ладан, чтобы надушить эту спальню.
— Принеси его, пожалуйста, и два бокала.
Мы поцеловали друг другу наполненные бокалы и пригубили вино.
— За гораздо большее, — предложил я тост.
— Только между тобой и мной и никем больше, и до тех пор, пока не состаримся, — отвечала она.
Вино было восхитительное, но я не обладал достаточно утонченным вкусом, чтобы оценить его более чем изысканный аромат. Женщина оставила бутылку у кровати, и ей было позволено уйти.
— А теперь, Александр, я хочу рассказать тебе о своих планах на завтрашний вечер.
— Но ведь к тому времени вернется Сухраб.
— Он приедет сюда только спустя два часа после захода солнца. По прибытии в Бактры он всегда сперва идет к любовнице, красивой чернокожей девушке из Нумидии, которую он зовет Шеба и за которую заплатил сто дариков. Но в указанное время он обязательно вернется во дворец. Понимаешь, Ксания встретит его заранее и шепнет ему, что ты был здесь сегодня ночью.
— Великий Зевс!
— Я говорила тебе, что он считает ее своей наперсницей и шпионкой, хотя на самом деле она моя наперсница и шпионка. Она скажет ему точно то, что я велю ей сказать, а когда он придет, ты будешь ждать его. И не думай, что я подставляю тебя ради своей цели. Мы с Ксанией сотни раз прорабатывали этот замысел, пока не добились совершенства во всех его деталях. А теперь я покажу тебе клеймо позора на своем теле — ты его не видел. Это тот же знак, который работорговцы иногда ставят на красивых рабынях: он невидим, когда они стоят голыми перед возможными покупателями, и приносит удовлетворение владельцам этих рабынь: ведь если они попытаются сбежать, это облегчит их поимку. Но я никогда не была рабыней, это Сухраб считал меня таковой — своей собственностью, именно он, когда я лежала, связанная его слугами по рукам и ногам, прижал раскаленное докрасна железо к подошве моей ступни.
Согнув ногу в колене, она показала мне все еще красное и зловещее клеймо в виде буквы X, которое как на арамейском, так и на греческом языках обозначает первую букву слова «раб».
Меня проняла дрожь, и только спустя долгое время я смог наконец заговорить:
— Ты не сказала об этом царю Оксиарту?
— Он только числился царем. К Сухрабу прислушивались Дарий и царь Согдианы. Я любила отца. Он гордился своим троном, и нет ничего печальнее, чем низложенный царь. Кроме того, я знала, что ты наконец придешь. Я не сказала ему.
Оставался еще один вопрос, задать который мне было страшно неудобно; но все же я задал его:
— Почему твой младенец родился мертвым?
— Это из-за того, что Сухраб сделал со мной, когда я выпалила, что лучше бы его отцом оказался любой работник на поле, а не он. Мне больно говорить о том, что он сделал.
— Что же еще он убил из того, что было твое?
— Собаку, котенка, маленькую птичку в клетке, пони и ягненка от большой овцы с Памира, которого нашли паломники и отдали мне на попечение.
— Я буду у решетчатой двери спустя полтора часа после захода солнца. Это время будет достаточным для того, что потребуется сделать?
— Более чем достаточным. Наша встреча назначена точно спустя два часа после захода солнца, по обычным водяным часам. Несколько предварительных минут не повредят, но не опаздывай, если я дорога тебе.
5
Роксана дала мне строгие наставления относительно завтрашнего вечера. Я должен был одеться в царское платье и подъехать ко дворцу Сухраба сзади в закрытой повозке. Плащ следовало надеть черный, а не белый, как обычно, с простыми застежками. В повозке будут градуированные часы, время по которым можно будет читать от установленной на полу свечи. Трем моим спутникам — одному с коротким копьем и двоим с мечами — следовало ехать со мной в повозке, а четвертому, хорошо одетому — на сиденье возницы. Я должен был выйти в тени недалеко от решетчатой двери, которая будет незапертой, а повозке следовало оставаться в густом сумраке до тех пор, пока я не подзову ее. С обнаженным, но скрытым под расстегнутым плащом мечом я должен был распахнуть дверь и смело войти.
— Будет ли Сухраб ждать меня со своими людьми?
— Он будет тебя ждать, и не один. Но ручаюсь, Александр, у него не будет преимуществ над тобой. Оставь все остальное мне.
— С тех пор как мне исполнилось семнадцать и я участвовал в битве при Херонее, я никогда еще так не доверялся ни одному человеку, за исключением Пармениона, Птолемея и Таис.
— Никто не держал свое слово тверже или хотя бы так же верно, как Роксана, царевна Бактрии. Наши с тобой жизни связаны воедино с тех пор, как мы целовались и плакали в дубовой роще Додоны, и эта связь была скреплена печатью, когда ты положил руку на врата моей девственности. С тех пор я всегда молилась Заратустре, чтобы ты побеждал и твои победы стоили тебе самой малой крови, которая только угодна судьбе. Теперь же уходи от меня, иначе я засну прямо на ногах, и тебе желаю крепкого сна и приятных сновидений. Там, за дверью, ждет Ксания; она выведет тебя из дома и проводит в твой дворец.
На следующий день я со своими военачальниками занялся окончательной реорганизацией командного и рядового состава для предстоящего на завтра похода в Мараканды. После короткого легкого ужина на закате солнца я вызвал к себе одного командира знатного происхождения, родом из Пеллы, который учился у Аристотеля, но оказался непригодным для того, чтобы командовать большими силами в моей армии. Однако он вполне подходил для второстепенных обязанностей и несения нарядов. Ему я поручил выбрать крытую повозку и позаботиться о том, чтобы внутри у нее были занавески, а также отобрать трех сообразительных, зорких и проворных пехотинцев из его отряда для поездки со мной в повозке, тогда как сам он должен будет ехать с возницей. Одеться им нужно в плащи, позаимствованные у гражданских, чтобы не привлекать внимания. Одевшись точно так, как наказывала мне Роксана, с водяными часами и зажженной от сторожевого костра свечой, мы отправились во дворец Сухраба.
Укрывшись в тени, падающей от стены, за пятнадцать минут до назначенного момента мы осмотрелись. Нужная мне решетчатая дверь была примерно в пятидесяти шагах и отделялась от нас пространством, тускло освещенным жаровней, установленной на шесте у входа во двор. Конечно же, здесь ко мне не мог подкрасться ни один убийца без того, чтобы не быть замеченным четырьмя телохранителями, наблюдающими с облучка и сквозь занавески, с обнаженными мечами. Вода в стеклянном сосуде показывала пятнадцать минут с тех пор, как его перевернули в последний раз, а это было спустя ровно час, как солнце скрылось за холмами. Я задул свечу, расстегнул плащ, вынул меч и, держа его скрытым под плащом, пошел к решетчатой двери.
На этом коротком пути я успел поразиться тому, что так доверился Роксане, тогда как уже много лет такого за мной не водилось. Да и тем, которых я перечислил Роксане, я, в сущности, доверял не полностью. И тем не менее теперь я доверил саму жизнь той, которую не видел одиннадцать лет, жене опасного врага. Но оттого, что я оказался способен на такое доверие, сердце мое возликовало.
Я подошел к двери и толкнул ее. Она открылась в тускло освещенную переднюю, где никого не было: Я взглянул пристально на тяжелый занавес коридора в трех шагах от двери. Он немного выпучивался, но эта вздутость не наводила на мысль о стоящем в рост человеке: высотой не более фута, но зато шириной футов шесть. Затем я различил темную вязкую жидкость, сочащуюся из-под занавеса и скопившуюся на полу прихожей в небольшую лужицу. При лучшем освещении, подумалось мне, эта лужица наверняка бы отливала красным цветом.
В этот момент в комнатной двери, открывающейся в прихожую, появилась Роксана. У нее в руке был длинный нож, какие носят на поясе варвары-пастухи, в сущности, тяжелый кинжал, клинок которого загадочным образом наполовину был запачкан.
Слегка улыбнувшись мне, она отодвинула занавес. Там лежало тело высокого мужчины в богатой одежде, светловолосого, с худым красивым лицом. Он лежал на левом боку, на руке, согнутой в локте; рядом с правой, отброшенной в сторону рукой — рукоятью к кисти — лежал меч. Я не видел раны, но видел, откуда сочилась кровь, и знал почему.
— Сухраб тебя ждал, как ему велела Ксания, чтобы пронзить тебя мечом, когда ты откроешь решетчатую дверь, — сообщила Роксана каким-то призрачным голосом, — но ты пришел позже того времени, когда тебя ожидала увидеть Ксания, а потом стало слишком поздно.
— Это я вижу. — Я сказал первое, что пришло мне на ум, лишь бы что-то сказать.
— Я пойду вымою нож. В Бактрии считается, что жене непозволительно всаживать нож в бок своему мужу, пока он ждет за занавесом, чтобы расправиться с ее любовником. Пока я буду отсутствовать, хорошенько окровавь свой меч в ране и вытащи тело из-за занавеса, чтобы оно лежало в луже крови, а затем позови своих спутников. Ты найдешь, что им сказать. Ты — Александр, повелитель Азии, и, кто знает, может быть, ты тайно навестил меня, чтобы посовещаться о государственных делах, и тут враг совершил на тебя покушение. Впрочем, говори им что хочешь. Я скоро.
Я открыл решетчатую дверь и тихо позвал телохранителей, ждущих в повозке. В тот же момент вошла Ксания и опустила на подставку масляный светильник, чтобы вход освещался ярче, и быстро удалилась. Вошли трое телохранителей с начальником, увидели труп и уставились на него. Затем посмотрели на мой окровавленный меч и перевели взгляд на меня.
— Сидел в засаде с обнаженным мечом, — пояснил я. — Но я его опередил.
— Благодарение богам! — с жаром произнес начальник охраны.
— Командир, его зовут Сухраб, он приходится зятем царю Оксиарту, который сейчас в Маракандах. Сходи к военачальнику Птолемею и попроси его прийти к главному входу в этот дворец. Пусть его проводят ко мне.
— Слушаюсь, царь Александр. Я вмиг доставлю его.
Войдя с двумя спутниками в длинный коридор, я попросил перепуганного слугу проводить меня в гостиную его бывшего хозяина. Когда прибудет военачальник Птолемей, я желал принять его как полагается.
Меня провели в великолепную палату, где Сухраб принимал знатных людей и, разумеется, эмиссаров Дария и других царей, которым больше приличествовало бы обращаться к Оксиарту. Фактически это был зал для аудиенций, и я с полчаса разглядывал его ковры, мебель и украшения, лампады и курильницы для фимиама. В основном, несомненно, это были дары его кузена Дария, что заставило меня задуматься вот над чем: какие же политические соображения позволяли Оксиарту оставаться так долго царем? Я догадывался, что тут не обошлось без влияния магов, а они пользовались огромным авторитетом во всей Центральной Персии и, конечно, в Бактрии, где в Маракандах стоял их величественно-прекрасный храм и монастырь. Его главным жрецом был брат Оксиарта Шаламарес.
Птолемей со своей фавориткой Таис жил в домике для гостей при царском дворце. Когда его провели ко мне, он оставил своего единственного слугу в комнате для ожиданий. Коснувшись коленом пола, он приветствовал меня с сардонической улыбкой.
— Что скажешь, Птолемей? — начал я с вопроса.
— Мой царь, я слышал, ты сюда пришел с тайным делом и избавился от того, кто воспротивился твоему приходу, — отвечал Птолемей.
— Да, верно. Сходи-ка с одним из моих солдат взглянуть на его останки. Сначала обрати внимание на мой окровавленный меч, а оружие напавшего на меня ты увидишь лежащим у него под рукой.
— Сейчас же иду, царь Александр.
Он отсутствовал совсем недолго, и я слышал, как он насвистывает в коридоре, приближаясь к моей двери. Войдя, он снова коснулся коленом пола.
— Я видел его, мой царь. Я заметил, что рана у него в левом боку. Ты, должно быть, захватил его клинок своим и заставил его развернуться вполоборота. Помню, ты сделал то же самое с моим клинком во время того поединка — ни один из нас его никогда не забудет.
— Да, я не забыл. И верно, ты с тех самых пор соблюдаешь условия нашего договора.
— Царь, это мое правило — соблюдать договоры. Но у меня возникает вопрос, который я задам, с твоего согласия.
— Согласен. Спрашивай.
— Когда это царю Александру полюбилось входить в двери, открывающиеся во двор, а не с главного входа?
— Я желал поговорить с царевной Роксаной и не хотел, чтобы о моем посещении стало известно, потому что вопрос, который мне хотелось обсудить — как перетянуть царя Оксиарта на нашу сторону, — пока хранился в секрете. Но я явился на встречу в парадном обмундировании, как сам видишь. Мне приходилось когда-то очень давно встречаться с царевной.
— Таис рассказывала мне об этом, царь. Ты не держал от нее это в секрете.
— Ситуация была щекотливой, поскольку муж Роксаны, Сухраб, заодно с Бессом. Мое достоинство не пострадало оттого, что я вошел в заднюю дверь.
— Бесспорный факт, что повелитель Азии вправе войти и выйти где и когда пожелает. Я не сомневаюсь, империя и наше дело выиграли от тайного посещения тобой этого дворца, о чем я и доложу другим военачальникам.
— Так и сделай, мне это будет желательно. Не выпьешь ли вина? Вот шнур от колокольчика.
— Это успокоило бы нервы нам обоим, царь Александр. Несмотря на присутствие телохранителей, твой визит был-таки сопряжен с немалым риском.
Я потянул за шнур, и появился слуга. Когда я отдал распоряжение, в гостиную вошла Роксана. Она была в роскошном одеянии и носила черную вуаль — единственный, чисто символический знак траура, — прикрепленную к головной повязке в верхней части лба и скрывающую сзади ее светлые волосы.
— Царевна Роксана, я желаю представить тебе моего военачальника и старого друга, Птолемея Лага.
Птолемей, как подобало, коснулся коленом пола. На этот знак почтительности она ответила грациозным поклоном.
— Я помню, что слышала о тебе, военачальник Птолемей, когда познакомилась с ныне великим Александром, тогда еще юношей, на пути в Додону. Действительно, вы всегда были верными друзьями.
И это говорила Роксана, царевна, принадлежащая старинной династии, женщина царственной красоты. Я велел задержавшемуся слуге принести три бокала вместо двух.
— Царевна, я выражаю свои соболезнования по поводу твоей недавней потери, — сказал Птолемей.
— Принимаю их с благодарностью. Военачальник, как вам понравились Бактры? Не правда ли, прекрасный город?
— И в прекрасной оправе, царевна.
Роксана пустилась рассказывать ему о древних храмах города, особенно о храме Ахурамазды, но ее прервал слуга, принесший вино. Когда он разлил его по бокалам, первый он предложил своей госпоже, которая передала его мне. Второй она предложила Птолемею, третий твердой рукой взяла сама. От глаз ее исходило то же сияние, какое я уже видел прежде, и мне хотелось, чтобы оно не стало тем, что уже давно прошло.
— За владыку Азии, — сказала она, поднимая бокал.
Птолемей с большим достоинством поднял свой, и они выпили. Я в ответ выпил за них. Это было бесценное золотистое вино с озера Байкал — я не сомневался, что его достала Ксания.
— У меня совещание с другими военачальниками, — нараспев произнес Птолемей, — поэтому прошу у каждого из вас разрешения уйти.
Мы кивнули, и после ритуального прикосновения коленом к полу Птолемей удалился. С Роксаной произошла перемена, странная, возможно, немного пугающая даже меня. Ее величавость куда-то исчезла, сменившись неожиданной веселостью; глаза заблестели необычайно красиво и ярко. Она живо подскочила ко мне и взяла за обе руки.
— Эта вуаль мне не к лицу, Александр. Я желаю сбросить ее как можно скорее. Что мне нужно — так это венок из цветов, но сейчас неподходящее время года.
— Ты должна уважать общественное мнение, Роксана, — укорил я ее.
— Я еще не могу этому поверить. Вдруг рассеялась мрачная завеса, которая висела над этим дворцом. Александр, я приказала унести то, что мы оставили в передней, для подготовки к похоронам. Так велит обычай — сразу же после смерти знатного бактрийца. Его дух, если он сегодня ночью поднимется, сюда не придет: он отправится к своей любовнице из Нумидии. Это верно, Александр, что завтра ты начинаешь свой поход в Мараканды?
— Да.
— Бесс, возможно, сдастся тебе, но, даже если и так, мой отец со своей армией отойдет к намеченному месту обороны. Я знаю, где оно находится. Оно почти неприступно. Ты дорого заплатишь за свою победу.
— Если ты скажешь мне, что это за место и где оно, я попытаюсь сперва захватить его.
— Я не скажу тебе. Не забывай, что я бактрийка и мой отец, Оксиарт, номинальный командующий бактрийской армией, но станет действительным, если ты перед этим догонишь Бесса. При штурме бактрийцы совсем не понесут потерь или же потери будут незначительными, но если они убедятся, что их сопротивление безнадежно, они уступят — и Оксиарт присягнет тебе на верность и будет соблюдать присягу, особенно если… если… — а почему бы мне не быть смелой, тем более что недавно я в этом немного поупражнялась? — если ты не откажешься от чести стать его зятем.
— Поистине, это была бы великая честь.
— Обещай мне, что, если я пойду к отцу по короткому пути, который мне известен, за мной не будут следить. После этого договора ты получишь мое приглашение.
— Я даю тебе торжественную клятву, Роксана.
— Тогда приглашаю тебя провести со мной ночь. Тебя могут убить в сражении с бактрийцами, но умоляю, будь осторожен и опасайся их пущенных с горы камней, быстрых стрел и смертоносных копий. А меня могут казнить родственники Сухраба. Да что там гадать! Ты устал, и дворец будет пустым. Мы с тобой сообщники по заговору — так почему бы нам не быть и сообщниками по постели?
— Роксана, это чудесное приглашение. Я вымою руки, и ты вымой свои, если уже этого не сделала, но в спальне не надо ни ладана, ни мирры — там будет аромат потоньше.
— Какая прекрасная речь из уст бивуачного медведя! Только поспеши.
Она покинула меня совсем ненадолго, но за это короткое время, пока девочка-рабыня наливала теплую воду в алебастровый чан, ко мне пришло странное предчувствие вместе с пророческой болью. Если это вообще возможно, только Роксана, одна на всем свете, смогла бы спасти меня от какого-то ужасного рока.
6
Частично из-за моей собственной нерадивости — я думал о чем угодно, кроме суровых военных дел — мои обозы с довольствием не были готовы с восходом солнца выступить в поход на север. Оставалось выполнить кое-какие небольшие, но существенно важные задачи часа на два или три, и, разбранив некоторых начальников, которым следовало бы исправить мои собственные упущения, я с небольшой охраной посетил огромный рынок в Бактрах, где покупались и продавались товары со всего известного нам мира и из-за его пределов. Я хотел купить Роксане прощальный подарок, что-нибудь необычное и прекрасное, чтобы в том случае, если я задержусь дольше, чем предполагал, ей было бы, глядя на него, приятно лелеять мысль о моем возвращении.
Среди владельцев прилавков было немало армян, а также несколько персов, исповедующих культ Зороастра в Индии. Я подошел к ларьку, торгующему только драгоценными камнями, и попросил показать мне что-нибудь необычное, сказав, что размер и великолепие — для меня дело второстепенное. Отклонив несколько дорогостоящих камней, отличающихся только своей величиной и яркостью, я заметил два идентичных камня неизвестного мне еще вида.
Торговец сказал, что это парные сапфиры, разновидность которых он тоже встречает впервые. Когда я осведомился, не из Индии ли эти камни, потому что большинство товаров поступало к нему именно оттуда, он туманно объяснил, что они из страны, лежащей за Индией,
[208] их искусно вырезали знаменитые ювелиры Голконды. Я никогда не слышал ни о какой восточной стране, лежащей за Индией, ибо, по сведениям географов, к северу от Индии громоздились горы, а восточная граница страны, как меня убеждали, омывалась Океаническим морем. Но торговец повторил рассказ о том, что в Голконду их привез караван одного торговца драгоценными камнями. И этот торговец купил их у другого скупщика драгоценных камней, прибывшего на парусном судне небывалого типа, который отчалил от морского берега, лежащего за дельтой гигантской реки. Этот берег шел прямо на юг, и сами камни были добыты в верховьях еще одной реки, за высоким горным хребтом.
Нижняя половина каждого камня являлась полусферой, верхняя половина сферы была стесана в форме мелкой опрокинутой чаши, и если бы камни находились в глубокой оправе, они напоминали бы видимую часть человеческих глаз. В каждом камне светло-серый круг соответствовал белку глаза. Внутри круга синий ободок окаймлял кольцо серого цвета, а в центре круга была заметна крошечная темно-синяя, почти черная, точка. Два концентрических круга чудно соответствовали радужной оболочке глаза, а маленькая точка внутри — зрачку. Эти два сапфира поистине напоминали мне — и не без причины — глаза Роксаны.
Эта резьба, без сомнения, говорила о причудливой игре фантазии ювелира из Голконды, но сапфиры так сильно отличались от привычных драгоценных камней, что торговец-индус, сообщивший мне, что он из царства Марвар в государстве Раджпутана в Западной Индии, явно почти отчаивался, что продал их, ибо я купил оба камня за пятьдесят золотых дариков.
С почетной охраной я отправился во дворец покойного Сухраба и, когда приблизился к главному входу, заявил, что желаю немедленно переговорить с царевной Роксаной. Слуга, заикаясь, объяснил мне, что она с Ксанией и охраной из всадников отбыла по большой дороге, ведущей на север, но не сообщила никому, куда направляется.
— На какой лошади поехала царевна? — поинтересовался я, надеясь, что еще догоню ее.
— Великий царь, она верхом на большом сером жеребце из Дариевой конюшни, который принадлежал Сухрабу.
Я не оставил камней, поскольку надеялся, что после короткой и стремительной погони схвачу Бесса, после чего Мараканды тут же сдадутся и я одержу быструю победу над Оксиартом и Спитаменом и, наконец, буду иметь удовольствие собственноручно передать Роксане этот подарок.
Мы выступили в поход, и первым препятствием на нашем пути стала река, известная нам как Яксарт — так ее называл пленный из области Маргиана. Иногда ее называли Желтой рекой, из-за песка, который несли ее воды; а жители многолюдной территории,
[209] обогащенной ирригацией, звали ее Окс. Ни мы, ни греческие географы, ни жители пустыни не знали, в какое море она впадает. Большинство слуг-греков считало, что она впадает в Каспийское море, но они также полагали, что у Персидского залива есть водная связь с тем же самым морем, ни одного признака которого мы еще не видели. Каллисфен, сопровождавший мою армию историк, сделал смелое предположение, что ее устьем является море Океании, малоизвестный водоем, лежащий за бескрайними пустынями, который, возможно, являлся тем же самым таинственным Аральским морем.
В милю шириной, река разбухла от талого снега, а у нас не было лодок. Поэтому мы прибегли к нашему старому и испытанному средству, грубоватому, но эффективному: из палаток соорудили плоты, набив их соломой. Мы переправились за пять дней вплавь на лошадях. Вполне вероятно, подумал я, что, если Роксана шла этим путем, она со своим немногочисленным сопровождением переправилась, ухватившись за хвост лошади. Для моей любительницы приключений это не составило бы особого труда, чего нельзя было сказать о ее вечно хмурой служанке Ксании. В любом случае, догнать ее мне было уже не по силам.
С народом страны Даранга, на берегу реки, мы расправились сурово, зная, как ему не нравится наше вторжение и что для обеспечения безопасности наших флангов и тыла мы должны это сделать. Наши разведчики обнаружили значительные силы противника в предгорьях между нами и Маракандами, и я приказал снабженцам пополнить наши запасы, а затем выступил на врага. Это были войска Бактрии и Согдианы. Воинов храбрей и свирепей их мы еще не встречали, к тому же у них было преимущество выбирать поле сражения, поэтому нам пришлось отступить с немалыми потерями. Покорение этой северной области оказалось для меня задачей более трудной, чем я предполагал, поэтому, как ни печально, встреча с Роксаной откладывалась. Потом, когда враг отступил к крутой горе и мы пытались выбить его с позиции, в меня угодила стрела, пробив ногу ниже колена и повредив кость. Пришлось спешиться и ехать в колеснице, а Букефалу трусить рысцой рядом со мной и ржать от обиды — ведь теперь весь его мир перевернулся вверх ногами.
Когда враг, не выдержав нашего напора, побежал, мы не стали его преследовать, потому что получили новости о Бессе. До его лагеря было все еще далеко, но эту досадную новость смягчало сообщение о том, что бактрийский и согдианские союзники покидают его. Они больше не верили в него, видя, что он постоянно избегает встречи со мной, тогда как его северные союзники вряд ли имели понятие о страхе и вряд ли возражали против схваток верхом на конях. Истинность сообщения подтвердил гонец, устно передавший мне послание от Оксиарта и Спитамена: они решили уйти от Бесса и оставить его на нашу милость. Я тут же отправил туда Птолемея с шеститысячным отрядом, вполне способным справиться с остатками войска Бесса. Как мне хотелось самому взять его в плен, но колеснице не поспеть за конницей, и я уступил здравому смыслу.
Птолемей обнаружил закованного в цепи Бесса в селении, недалеко от его лагеря. Он дождался моего прихода — именно я должен был подвергнуть Бесса заслуженному наказанию. Мера наказания ускользнула из-под моего контроля: когда я подошел к селению, один простой солдат стал умолять меня, чтобы я позволил ему нанести Бессу один легкий порез мечом, который не лишит его способности двигаться; он хотел отомстить за младшего брата, которого при Арбелах Бесс пронзил копьем у него на глазах. Я дал разрешение. Но вместо одного режущего удара, он, прежде чем я смог воспрепятствовать этому, нанес еще три: один — перед лицом, отсекший большую часть его носа, и два — с придирчивой точностью с обеих сторон головы — лишив его ушей. Я не мог упрекнуть этого солдата так, чтобы слышала вся армия, которая ненавидела Бесса жгучей ненавистью и громко возликовала, увидев, как жестоко он обезображен. Но начальнику солдата я велел сурово наказать обманщика.
Вся моя армия прошла перед искалеченным Бессом, насмехаясь над ним, а потом его подвергли бичеванию. После всего я был склонен предать его быстрой милосердной смерти, но Гефестион убедил меня отправить его в Экбатаны, чтобы там его судили по персидским законам, а чем кончился бы суд — было известно заранее. Так я и поступил, и там он принял смерть цареубийцы — самую жестокую смерть, какую только способны были придумать персидские цари.
Над нравственной стороной этой казни я не задумывался, но и не сомневался, что ужасное зрелище заставит многих потенциальных цареубийц отказаться от самого гнусного из преступлений.
Несколько дней я промедлил на богатых равнинах реки Окс, чтобы найти новых лошадей взамен потерянных при переходе через Гиндукуш и фуражировать наши запасы довольствия. Затем двинулся на Мараканды, снова верхом на Букефале — у меня были опытные врачи, и рана быстро и хорошо зажила. Этот древний город не оказал никакого сопротивления, и я чуть не поддался сильному искушению остаться здесь на несколько дней по двум причинам: во-первых, навестить дядю Роксаны, главного жреца знаменитого храма; а во-вторых — встретиться с Роксаной, которая, я имел основание полагать, дожидалась меня здесь, в надежде положить конец этой короткой войне. Если бы я знал, какие трудности ждут меня впереди, если я возьмусь за покорение этого незначительного уголка Персидской империи, я бы пошел навстречу обоим желаниям.
Но вместо этого я отправился на самую дальнюю окраину владений Дария, чтобы внушить благоговейный страх двум городам, лежащим на краю безграничных степей. Я также дал им свое имя. Это было утешительно для моей души, и, кроме того, города стояли на важных торговых путях. Но этим походом я серьезно ослабил свою линию подвоза подкреплений и продовольствия, что не преминули заметить такие грозные соперники, как Оксиарт и Спитамен. Возможно, раньше они думали, что выдача мне Бесса удовлетворила меня и я не стану вмешиваться в дела старых режимов Бактрии и Согдианы. Теперь, поняв, что это не так, они начали войну на измор, и одновременно у меня в тылу восстали многие города и селения, уничтожая мои гарнизоны.
Чтобы проучить их всех, я нанес удар по приречным городам, опустошив их, уничтожив их защитников и отдав своим солдатам их белокурых красивых молодых жен и дочерей. По правде говоря, я сожалел об этой обусловленной войной необходимости — отчасти потому, что об этом непременно узнает Роксана, и за последствия я не мог поручиться. Этот народ произошел от скифов, самого варварского народа из всех степных варваров, но я совсем не находил утешения в словах Платона, повторенных Аристотелем, его учеником, в которых заявлялось, что варваров нужно уничтожать или превращать в рабов. По всей видимости, я научился большему: зачастую варвары не только не уступали грекам, но и превосходили их во многих отношениях. Кроме того, из семи жен Оксиарта самая любимая, родившая мою прекрасную Роксану, была сама скифкой.
Я послал на подавление восстания на юге отряд, но только убедился, что недооценивал его размах и решительность и что у меня совершенно недостаточно сил для нападения. Спитамен осадил Мараканды после того, как они мне сдались, и за рекой, в новом городе, который я строил, собрал значительное войско из степных жителей, только и дожидавшихся, когда я отступлю на юг, позволив им разграбить ненавистные им города.
Я понимал, что необходимо сокрушить это войско перед тем, как заняться чем-то другим. После того как мои строители соорудили легкие катапульты для пробивания стен близлежащих городов, мы прогнали врага с берега реки камнями, железными копьями и стрелами, затем переправились на уже готовых больших плотах. Нам не приходилось долго их искать или долго ждать их бешеных налетов. Это были дикие скифы, не те, оседлые, которых мы сокрушали в их городах, окруженных глинобитными стенами, и таких искусных стрелков из лука я еще не знал. Они умели стрелять с чрезвычайной быстротой и точностью, и у нас только небольшая горстка людей имела представление о мощи их сильно изогнутых луков из рога и кости, и среди них был я, поскольку имел такой лук с юношеских лет.
Когда в их колчанах кончились стрелы, они кидались на нас с ножами, дрогнув, отступали, чтобы броситься на нас снова, строя ужасные гримасы и издавая пугающие вопли. Они прежде всего нападали на нашу вспомогательную кавалерию и фалангу, которые несли тяжелые потери; им на помощь приходили другие всадники и цепляющиеся за стремена пехотинцы, но и эти тоже не могли обратить в бегство этих белокурых демонов, наводивших ужас на караваны и города. И только насев на их левый фланг пехотой и кавалерией, я добился перелома в ходе сражения. Успех быстро разрастался, мы косили их направо и налево, пока наконец они не поняли, что мы им не по зубам. Те, кто остался в живых, дрогнули и побежали.
Я еще полностью не осознавал, как эта победа может отразиться на моем положении в Бактрии и Согдиане. Гонясь за скифами по жаре, я пил скверную воду, от которой заболел желудком, и, когда прибыло посольство от скифского царя, я лежал слабый и больной. Это был, конечно, не истинный царь, просто главный вождь сотни кланов, и какой-то раб, умевший писать по-гречески, начертал его многословные извинения за нападение тех, кого он считал степными разбойниками, и просил принять себя и свои кланы под мое начало. И что еще важнее, быстро разлетелась весть, что я нанес сильное поражение численно превосходящим меня диким скифам, которых все азиатские народы считали непобедимыми. Этот поворот событий принес мне внезапное излечение от дизентерии, против которой мои лекари оказались беспомощными.
Я прекрасно понимал, что скифы снова нападут при моей первой же кажущейся слабости; но мое положение было ненадежным, что мог бы сообразить любой даже тупоголовый военачальник: с севера подступали пустынные степи, на юге широкий размах приобрело восстание, и я был заперт в горах.
Поэтому я отвечал учтиво, что буду рад сохранению мира на границе. Тем временем Спитамена, осадившего маракандскую крепость, один раз отбросили, что не помешало ему навалиться на нее снова, и только когда я лично пошел к ней на выручку, он снял осаду и ушел в Базары,
[210] столицу Согдии.
Тут опять фортуна повернула свое колесо или любящие меня боги занялись другими делами, ибо большое подразделение моей армии — всадники и фаланга под неумелым руководством Фарнуха — подверглось на открытой равнине нападению согдийцев, которыми командовал талантливый Спитамен, и я потерпел самое кровавое поражение за все годы войны. Вина была моя: я назначил Фарнуха командующим этого подразделения по какой-то причине, мне самому неизвестной, если не считать того, что он был среди первых македонцев,
[211] которые воздавали мне все царские почести.
Если бы три сотни пехотинцев из фаланги не объединились и не пробились в леса, где стрелы, были для них не так опасны, все войско было бы уничтожено.
Города и небольшие фермы этой области снабжали Спитамена довольствием, поэтому, заставив его бежать в степи, я опустошил ее, перебив множество варваров.
Я вернулся в Мараканды с очень слабой надеждой найти там Роксану и обрести счастье, а вместо этого проникся ненавистью к себе за чудовищное злодеяние. Мы отказались от идеи покорения Бактрии и Согдианы до следующей весны. Страдая от бездействия, я сам и мои военачальники осушили слишком много чаш, что всегда было бедой македонцев. Ужасная кульминация наступила на пиру, устроенном после приношения жертвы Кастору и Полидевку. Зашла речь относительно отца этих братьев-близнецов, который для греков был Зевсом; поднялся один льстец и стал уподоблять их мне, а затем объявил меня их единокровным братом. Другие гости, разгоряченные вином, заявили, что я превзошел близнецов; это огорчило моих македонцев и разозлило Клита, который был мне близким другом с самого детства.
Он был тоже разгорячен вином и настроен воинственно. Нетвердо поднявшись на ноги, он стал осуждать меня за мое убеждение в том, что Зевс — мой родитель, начав бесчестить меня, и, не в силах уже остановиться, он заявил, что своими победами я целиком обязан армии, которую дисциплинировал и обучил мой отец Филипп. Я воздержался от немедленного ответа, стараясь подавить в себе ярость, а возбужденный разговор продолжался, перейдя на сравнение воинских качеств македонцев и моих новых союзников. Затем один перс с едкой насмешливостью отозвался о македонцах, потерпевших поражение от согдиан, явно имея в виду, что они трусы.
В сильном гневе Клит ответил на эти насмешки и заступился за храбрых ветеранов. И тут я поступил неразумно, открыв свой рот, который поклялся держать на замке.
— Очевидно, Клит ходатайствует сам за себя.
Это так его взбесило, что он свой гнев направил прямо на меня, насмешливо заметив, что он сам спас мне жизнь на Гранике, и это было чистой правдой, но утверждение, что своей славой я обязан македонцам — это было правдой только отчасти. Однако я чем-то запустил ему в голову, кажется, каким-то фруктом, он же схватился за кинжал и рванулся ко мне. Какая-то более трезвая голова позаботилась о том, чтобы Клит остался без кинжала. И все же я бросился к нему, однако увидел, что мой телохранитель уже принимает меры обуздания. Тогда Клит заорал, что он в том же положении, что и Дарий, преданный своими единомышленниками. Тут его друзья, чувствуя нарастающую опасность ситуации, поспешили вывести его из зала.
Я все еще был взбешен, и меня терзала маниакальная мысль: как это Клит осмелился поднять руку на Александра Великого; Клит же был разъярен не меньше меня. Он ускользнул от друзей, пытавшихся вывести его на свежий воздух, и бросился назад, к другому дверному проему, где и встал под занавесом. Издевательским тоном он стал декламировать отрывок поэмы одного из наших великих драматических поэтов:
Несет нам, грекам, мир не то, что надо:
Не помнит подвигов сынов своих Эллада,
Добычи нет для тех, кто землю спас,
Зато цари гребут все про запас.
Клит опустил занавес. Медленно уяснив смысл стихотворения — вино и ярость туманили мне голову — я выхватил копье у одного из моих охранников и метнул его туда, где только что стоял Клит. Опьянение и расстройство чувств не позволили мне промахнуться. Я услышал, как за занавесом что-то тяжело упало.
Первым на месте оказался Птолемей. Он поднял занавес, и мы увидели лежащего на спине Клита, из груди которого почти отвесно торчало копье.
— Боги Олимпа! — закричал я в ужасе. — Клит умер?
— Царь Александр, чего бы ты ожидал еще, когда сталь на полфута вошла ему в грудь?
Я закрыл лицо руками и, в ужасе похолодев, протрезвел, чувствуя себя несчастным и безутешным. Мне подумалось, что я понял смысл страшного предчувствия, снизошедшего на меня, когда я мылся во дворце Сухраба. Я мог вспомнить эту сцену во всех ее живых подробностях: большие горшки, лицо и фигуру девочки-рабыни, когда она наливала воду в алебастровый чан, и смутно различимые, темные и безобразные привидения, скачущие у меня перед глазами. Я любил Клита — и убил его. Кого еще из любимых людей суждено мне было уничтожить? Кто на земле мог бы спасти меня от этого проклятия?
7
На торжественных и величественных воинских похоронах, устроенных Клиту, я сидел в стороне верхом на неподвижном коне, и, когда кто-нибудь приближался ко мне, как бы желая что-то сказать, я отрицательно качал головой. После похорон я удалился в свою комнату, из которой не выходил три дня, не прикасаясь к еде и вину, никого не принимая, и не было со мной ни одной женщины, которая бы любила меня, на чьих нежных коленях могла бы успокоиться моя лихорадочно возбужденная голова.
Со временем это наваждение прошло. В те краткие минуты, когда горе отступало, я вспоминал о своей великой миссии, и эти минуты все удлинялись по мере того, как душевная боль ослабевала. Ведь недаром я все же был Александром Великим, победителем при Гранике, Иссе и Арбелах. Мне следовало бы сместить Клита с должности, а не убивать его в приступе бешенства, хотя, если рассудить, он бы не говорил такое в пьяном состоянии, если бы трезвым не таил те же самые мысли. Мои македонцы выходили из послушания, они забыли о славе и золоте, завоеванных под моим знаменем, жаловались, не желая идти дальше в неведомые глубины Востока; вполне вероятно, что им хотелось бы оставить Бактрию и Согдиану непокоренными, способными поднять восстание в Центральной Азии, если я уступлю их желаниям, откажусь от продолжения войны и отправлюсь в обратный путь, на родину. Но им
наперекор я твердо решил не отступать от прежнего решения — покорить своей власти все земли, платившие Дарию дань, — и был уверен в успехе.
Моя империя будет в точности такой же великой, какой была его, а возможно, и много больше.
Я поразмышлял над этой мечтой, понимая, что сбудется она еще не скоро, затем решил вызвать к себе ближайшего друга. Им больше не был Птолемей: в голосе его, когда он стоял над телом Клита, я слышал горький упрек. Я послал за Гефестионом.
Мы поговорили о разном, в основном о военных делах, и распили небольшой позолоченный кувшин вина. Перед тем как уйти, он сказал, положив руку мне на плечо:
— Нелегкое это дело — быть царем Азии. Даже мелкий царек должен стоять высоко над своими подданными, а иначе к нему будет такое же отношение, как к черни; а уж об Александре Великом и говорить нечего. Клит забыл свое место, а может, никогда его и не знал, и, оскорбив тебя, он заслужил смерть.
В начале весны я повел свою армию в столицу Бактрии, в стратегическом плане являющуюся базой, откуда можно было наносить удары по вражеским силам пустыни и степей; поблизости я намеревался построить ряд крепостей. Но предательству не было еще конца. Оно опять подняло свою отвратительную голову, когда после пира и игр хороший оратор, которого я недавно возвысил, отплатил мне самой высокой монетой: не называя Клита по имени, он довольно прозрачно дал понять, что Клит получил только то, что ему причиталось. Более того, оратор провозгласил, что я совершенно справедливо настаиваю на земных поклонах и чтобы ко мне относились так, будто я равен Гераклу и Дионису, если не выше их, ибо в своей жизни я совершил больше, чем каждый из них. Какой человек, рожденный от человека, мог бы сделать так много? А поскольку уже сейчас ясно, что после смерти меня станут почитать как бога, почему бы не делать это сейчас?
Мои македонцы нахмурились, а племянник Аристотеля, историк Каллисфен, поступил намного хуже. Он всегда мнил себя особенно привилегированным из-за родства с учителем и теперь в своей речи, произнесенной в ответ предыдущему оратору, позволил себе непростительную вольность. Суть его замечаний сводилась к тому, что он готов воздать мне честь как смертному человеку и герою, но поклонение мне как божеству — дело другое, и два этих понятия нельзя смешивать. Он даже намекнул, что сами боги были бы недовольны, а возможно, и наказали бы меня за подобное святотатство.
Я не ответил на его речь и даже притворился, что не слышу, что он говорит. Единственно, чем я удостоил его оскорбление, это тем, что отвернулся от него, беседуя с другим, когда он подошел ко мне и подставил щеку для дружеского поцелуя. После такого приветствия персы поклонились мне до земли и отошли, пятясь назад. Каллисфен же не только не поклонился, но еще отпустил оскорбительное замечание.
После этого собрания Гефестион тайно передал мне небольшую записную книжку в обложке из черной кожи. Первое имя, которое я занес в нее, было именем Каллисфена. Мне нужно было только дождаться, когда он замыслит убрать меня, а я знал, что это должно скоро случиться, и это действительно случилось, когда шестеро моих пажей, одного из которых я велел публично высечь плетьми за то, что он на охоте метнул копье в дикого кабана, предназначенного мне, устроили заговор с целью убить меня, раскрытый одним из моих шпионов. После этого они жили недолго, и, наконец, я вычеркнул из маленькой черной книжки имя «Каллисфен».
Теперь, в разгаре весны, мне захотелось совершить поход в Индию, взяв с собой Роксану. Я больше не видел ее, не знал, где она находится, и не сомневался, что она нарочно избегает меня, возможно, оттого, что я так сурово расправился с окрестными городами и сельскими жителями, помогавшими Спитамену.
Этот военачальник снова ступил на стезю войны. Пока моя армия там и тут подавляла восстания, он пошел на юг, в Бактрию, и уничтожил один из моих гарнизонов. Затем он стремительно двинулся к Бактрам и, хотя на саму столицу не напал, сделал налет на сдавшиеся мне небольшие города и спалил окрестные села, которые должны были поставлять мне довольствие. Мой маленький гарнизон сделал вылазку и, захватив налетчиков врасплох, обратил их в бегство, но возвратиться в крепость не смог, будучи сам уничтожен превосходящими силами врага. Против этих сил выступил Кратер и загнал их в пустыню.
И тут я вдруг оценил одно обстоятельство, настолько очевидное, что я не понимал, каким образом оно до сих пор ускользало от моего внимания. Мои македонцы, находясь среди врагов, имея за плечами опыт тяжелых боев и зная, что в будущем им суждены новые сражения, чувствовали себя совершенно счастливыми, пели и шутили вокруг бивуачных костров, весело шагали на марше, и их совсем не волновало, бог я или человек. На самом деле ими руководила жажда приключений, просто им нравилось сражаться; и мне не следовало считаться с их ворчанием от безделья и воздерживаться от похода с ними в Индию или от массовых расправ с предателями и заговорщиками, даже если это старые друзья. Что бы они делали без меня? Если бы не я, они бы проживали обычную жизнь и умирали обычной смертью. Война была делом кровавым, скольких она унесла и скольких заставила страдать, но она была лучше, чем любое другое занятие, для людей духа и с авантюрным складом ума. Все это в глубине души они знали.
Точно так же было правдой и то, что они меня любили, даже ворчуны, ведь если б не я, они бы не приняли участие в величайшем приключении всей истории и вместо этого полусонно влачили бы свои скучные дни, живя только наполовину. И Роксану я надеялся заполучить, в основном, потому, что она тоже обожала приключения, иначе не отправилась бы в такое далекое путешествие в Додону.
Множество полей сражений открылось передо мной, несколько различных направлений удара, по которым я мог бы развивать осуществление своего грандиозного замысла. Основываясь на донесении, в котором не мог усомниться, я внезапно сделал бесповоротный выбор. Наконец-то я получил новости об Оксиарте, порвавшем со Спитаменом и давно уже пропадавшем неизвестно где. Выяснилось, что все это время он занимался укреплением горной крепости, называемой Скалой Аримаза, и навез туда много съестных припасов с расчетом на длительную осаду. Несомненно, именно это место имела в виду Роксана, когда говорила, что Оксиарт отойдет туда, где мне его не взять. Наверняка, думал я, она там с ним, ведь они отец и дочь, оба бактрийцы царской крови, доблестные защитники своей родины даже против вторгшегося к ним врага, которого Роксане выпала доля полюбить.
Я подошел к Скале. И действительно, крепость казалась неприступной. Послав Оксиарту предложение сдаться и получив вызывающий ответ, в котором, мне казалось, я узнал руку Роксаны, я решил брать крепость приступом как только позволит погода.
Пролетела осень, зима перевалила за середину, и времени ждать оставалось мало. Тогда я вознамерился совершить один из самых захватывающих подвигов в своей жизни, чтобы удивленно раскрылись полураскосые очи моей полудикой возлюбленной.
Я не давал своим солдатам отсиживаться в холодных палатках и жаловаться на свою судьбу. Я постоянно заставлял их шевелиться, будь то дождь или снег, делал ночные налеты на твердыни врага, и нередко им приходилось переносить холод, сырость, голод и сильную усталость, но мой интендант знал свое дело, и кое-где их ожидали горячая еда и заслуженный отдых. Они становились такими же жизнерадостными, как на первом марше из Македонии семь лет назад.
8
Оксиарт не располагал большими силами. Это подтверждали наши пристальные наблюдения за крепостью, подсчет числа входящих и выходящих через главные ворота за дровами, водой и по другим надобностям. Мы вскоре пришли к заключению, что всего в крепости не более трехсот человек, причем свыше половины из них — женщины и дети, и все они, без сомнения, родственники царю по крови или по браку. Прочность крепости заключалась в почти отвесных склонах огромной высокой скалы, на которой она стояла.
Разглядывая местность с окружающих холмов, мы приметили другие, менее крутые скалы, накладывающиеся на главную скалу, и сквозь них проходило узкое ущелье, ведущее к форту, выложенному из тесаных камней на самой вершине утеса. Его мы смогли бы взять в результате упорного штурма, но для этого требовалось взобраться на высокий уступ, что оказалось бы не по силам и четвероногим горным баранам, уж не говоря о людях. Моим скалолазам предстояло взбираться вверх с помощью вбитых в трещины скалы железных костылей, к которым можно было бы прикрепить короткие веревки.
Я велел объявить солдатам, что мне нужно триста добровольцев, чтобы попытаться влезть на скалу. Первый, кто одолеет подъем, получит в награду двенадцать талантов золота — состояние, которого бы не нашлось у многих, считающихся богатыми жителей в Македонии. Следующий за ним получит одиннадцать талантов, третий — десять, и так далее. Последнему же из двенадцати достанется всего лишь один талант. Добровольцами вызвались более половины имеющихся в стане солдат, и начальники отобрали из них нужное мне количество.
Некоторые из этих трехсот добровольцев, как часто бывает в военных прожектах, пожалели о своей безрассудной храбрости и честолюбии. К счастью, причитания их слышались недолго, всего несколько секунд. Время от времени кто-то, не в силах удержаться руками или теряя равновесие, падал на первый уступ или в сугроб. Страх падения есть стихийный страх, присущий в той или иной степени каждому человеку, и те, кто, упав, каким-то чудом уцелели, рассказывали мне следующее: когда впервые осознаешь, что опора подвела и ты летишь вниз в пустом пространстве, тебя охватывает благоговейный ужас, стирающий ощущение собственной индивидуальности; зачастую падающий беспомощно вопит, а некоторые зовут своих матерей. Этот ужас быстро проходит, если падение затяжное; падающий почти примиряется со своей скорой смертью и испытывает странное, жуткое любопытство относительно того, куда именно и на что он упадет.
Однажды мне удалось поговорить с любителем взбираться на скалы, который сорвался с уступа над пропастью с высоты шестисот футов. При скорости падающих тел, которая по грубым подсчетам первых эллинских математиков составляла около двадцати футов в первую секунду, сорок — во вторую, восемьдесят — в третью и сто шестьдесят — в четвертую, его падение в целом длилось по меньшей мере пять секунд, а может, и больше, если учесть сопротивление разреженного на большой высоте горного воздуха падающему с такой страшной скоростью телу. Последнее, говорил он, что запомнилось ему в его умственном состоянии, было ощущение бесстрастного любопытства, врежется ли он в снежный сугроб или ударится о соседние камни, и, в любом случае, думалось ему, смерть неминуема. Так случилось, что именно этот сугроб представлял собой рыхлый снег с чуть подтаявшей под летним солнцем ледяной коркой. Он вошел в снежный ком ногами и скрылся в его глубине от взоров стоящих неподалеку спутников, и они, лихорадочно работая, откопали и вытащили его наверх, и, как только он снова задышал, разлившийся по лицу темный оттенок исчез. Он переломал кости ног и таза, но искусный лекарь вправил кости, и благодаря его молодости они срослись; он снова стал ходить, правда, уже с тростью.
Я поверил этому рассказу — отчасти потому, что рассказчик был человеком живого ума, снедаемого любопытством в отношении всех явлений, и я сам не раз стоял возле смертельно раненных воинов, видевших, Как кровь хлещет у них из ран, и прекрасно понимающих, что секунды оставшейся жизни сочтены; они ощущали холод неминуемой смерти, но почти всегда голова у них оставалась ясной, последние слова звучали разумно, и ни один из них не боялся — я знаю это по всему своему военному опыту.
Вот оборвалась веревка, вот вылез костыль — так двадцать человек из всей этой группы сорвались вниз, и ни одному из них не посчастливилось остаться в живых, падая и ударяясь о камни; треть же погибших оказалась на каменных уступах или в недоступных снеговых сугробах, поэтому мы не могли оказать их только что окрыленным душам удовольствие видеть почетное погребение их телесных останков. Вместе с другими потерями это составило один погибший из десяти на всю эту группу из трехсот добровольцев. Мои военачальники сочли это дешевой ценой за одержанную победу. Так оно, конечно, и было с военной точки зрения, ведь форт казался совершенно неприступным, но мы не могли спросить уже никого из этих тридцати, каков его личный подсчет цены победы, который, без сомнения, сильно бы отличался от командирских выкладок.
Если бы моя нога не потеряла упругости после той раны, полученной от стрелы два года назад, я бы сам повел этот отряд.
Когда остальные взобрались на вершину огромной скалы, Оксиарт убедился, что ему не миновать поражения. Его честь как бактрийского патриота была спасена, поэтому он встретил меня у главных ворот крепости, земно кланялся мне и просил о милости к ее обитателям, что я ему с радостью обещал.
Оксиарт выглядел царем что надо. Высотой шесть с половиной футов (под два метра), гибкого телосложения, он выглядел очень молодо для своих пятидесяти с небольшим, и все в нем говорило как о прирожденном всаднике, включая сильные запястья и кисти рук, изящную сбалансированность движений. Я также знал, что Спитамен, который не тратил бы чувств на человека ниже себя, испытывал к нему ревность: ведь Оксиарт умело управлял своим царством и завоевал себе любовь и преданность народа. Теперь, когда я вгляделся в его лицо и услышал его мужественный голос, я начал осуществлять свой тщательно продуманный план.
— Царь Оксиарт, не окажешь ли ты мне честь призвать сюда свою дочь Роксану?
— С радостью. — Он тут же отправил слугу.
Роксана не заставила себя ждать, хотя на такую дерзость она, по-моему, была способна; несомненно, она ждала где-то рядом и появилась немедленно. Она с достоинством приблизилась ко мне, и, поскольку ее отец уже положил мне земной поклон, ей ничего не оставалось, как сделать то же самое, что, разумеется, было ей не по нутру. После поклона она поднялась и встала передо мной в совершенно вольной позе. Я не видел ее почти два года и, кроме костюма, не заметил в ней не малейшей перемены. При серьезном выражении лица глаза ее все же горели живым огоньком.
— Царь, я еще и прежде встречался с твоей дочерью, — сказал я ее отцу.
— Она мне этого никогда не говорила, но мой брат Шаламарес сообщал мне об этом факте, царь Александр.
— Царь, я позволю тебе править и Бактрией, и Согдианой, и чтобы прежний царь Согдианы стал твоим сатрапом, но при двух условиях. Во-первых, ты признаешь меня повелителем Азии и продолжаешь платить в мою казну ту же дань в золотом песке, какую ты раньше платил в казну Дария III.
— Принимаю его с благодарностью и радостью.
— Второе мое условие личного характера. Я прошу руки твоей дочери Роксаны, чтобы она стала царицей моих владений.
Оксиарт быстро посмотрел мне в глаза, будто не веря собственным ушам. Кровь бросилась ему в голову, заставив покраснеть лицо, и он не знал, какие слова найти для ответа до тех пор, пока мысли немного не успокоились: тогда он заговорил, и очень хорошо.
— Великий царь, я не осмеливался и мечтать о такой чести! Я всего лишь мелкий царек; Бактрия и Согдиана составили бы незначительную часть твоей империи. Воистину, я покорен. Тебе и не нужно было бы спрашивать моего согласия, хотя надо отдать должное: это высшая степень учтивости.
— Нет, ему следовало спросить согласия, ведь я княжна, — горячо вмешалась Роксана.
Оксиарт побледнел из страха, что она «бросила кота в котел с супом» — эту поговорку любили сельчане у меня на родине. На эту дерзость я вовсе не обратил внимания: я этого как раз и ждал от своей храброй возлюбленной, и этот дух притягивал меня к ней еще больше, чем красота.
— Тогда будем считать дело решенным. Как только приедем в Мараканды, попросим ее дядю Шаламареса совершить брачный обряд, как предписывал Заратустра, а когда будем в Бактрах, где есть небольшой храм Артемиды, построенный членами ее культовой общины, мы принесем ей жертву и попросим ее благословить наш союз.
— Хорошо, мой царь.
— Тем временем на пути я хочу, чтобы она составила мне компанию в моей царской палатке, она сама и ее любимые слуги, потом в моем жилище в Маракандах и в Бактрии, а позже как сопровождающая меня царица в тех войнах, которые я должен буду вести в Индии.
Я не облачил это приглашение в вопросительную форму. Оксиарт прекрасно понимал, что это приказ, подчиниться которому было для него высшей степенью радости. Он поспешил ответить прежде, чем могла вмешаться Роксана. Впрочем, я не думаю, что она вмешалась бы, если только меня не ввело в заблуждение выражение ее глаз, показавшихся мне более удлиненными и раскосыми, чем обычно, и несколько мечтательными. На этот раз, я полагаю, в ней сработал надежный инстинкт, приказывавший ей держать язык за зубами.
— Мне было бы это чрезвычайно приятно, Александр Великий, хоть я и буду скучать по шалунье.
Будучи человеком тонким, он ни словом не упомянул о внезапной кончине своего зятя Сухраба, я тоже.
Пока царь Оксиарт, его семья и сторонники готовились оставить высокую крепость на скале, я уединился в палатке и задумался надо всем, что сказала или сделала Роксана с тех пор, как мы впервые обрели друг друга в Бактрах.
Все события казались произвольными, не связанными между собой, но теперь я задался вопросом, правда ли это? Разве мне только почудилось, будто все увязывается в единый рисунок поведения, более сложный, чем желание выразить себя импульсивной, ищущей приключений, страстной натуры с врожденным чувством независимости и жизнерадостным духом? Уж это-то мне было хорошо известно. Она с удивительной ясностью поняла мою собственную сущность в возрасте тринадцати лет, когда мне самому было только шестнадцать, во время наших дел в Додоне. Там она влюбилась в меня, как и я в нее, и с ее стороны это не было просто девическим слепым увлечением, ведь в Персии девушки созревали рано, крестьяне отдавали дочерей замуж в двенадцать-тринадцать лет. В Бактрии, столица которой находилась так же далеко на юге, как самый крайний греческий остров Кифера, на большей высоте с бодрящим воздухом, и продувалась ветрами с горных снегов, ранняя зрелость тела могла сопровождаться ранней зрелостью ума. Были и другие факторы, заслуживающие внимания: ее мать — скифская княжна, отец — мудрый правитель из древней династии, дядя — обладающий глубокими знаниями верховный жрец великого храма Зороастра. Она относилась к своему положению царевны Бактрии с большой серьезностью, несмотря на свой живой и веселый характер.
В мое долгое отсутствие, большую часть которого она была женой и зависела от милости человека, которого ненавидела и к которому испытывала отвращение, она уповала на меня. Она дорожила тем, что мы сказали тогда друг другу, верила в это, ее любовь ко мне не только не угасла, но разгорелась еще сильнее, и я не сомневался, что она давно бы уж разделалась с Сухрабом, если бы не решилась дожидаться моей защиты. С тех пор как я пришел в Бактры, она делала то, что больше всего могло привлечь меня к ней, позволяя своему телу выразиться со всей полнотой страсти за те две ночи, что мы провели вместе, сообщая моему телу высшую степень возбуждения, при этом обращаясь со мной как с равным, а боги знают, что уже тогда это стало для меня чем-то новым. Затем она избегала меня мучительно долгое время. Если это входило в заранее продуманный план, то он удался.
Но какова была ее дальнейшая цель? Я не сомневался, что таковая у нее имеется. Она стремилась стать большой, влиятельной силой в моей жизни, ни в коем случае не принимая пассивной роли, на которую были согласны многие царицы Востока. И в душе я не сомневался, что ее толкала на это жажда моего блага, ее собственного и блага всей бескрайней империи, уже покоренной мною и ждущей моих новых завоеваний.
Роксана мне всегда казалась не такой нежной, обладающей не таким ярким умом, как Таис, и не такой героической натурой, как Барсина. Возможно, что в этом отношении я ошибался.
Глава 8
ИНДИЯ
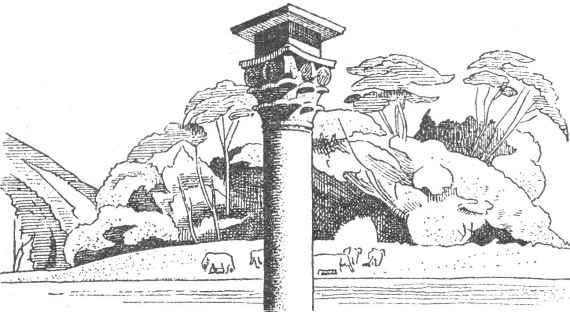
1
Вынудив к сдаче еще одну крепость, я был готов приступить к завоеванию подчиненных Дарию государств Индии. Правда, в пустынях и горах позади оставались воинственные племена, которые, если б осмелились, могли бы напасть и разграбить мои недавно завоеванные владения. Но я полагал, что могу разобраться с этими племенами и позже — ведь за своей спиной я оставлял в крепостях гарнизоны верных мне людей, на ответственных постах — как можно больше бактрийцев и согдиан, а на подчиненном мне троне — Оксиарта с сильной охраной из местных воинов.
В течение зимы после моего двадцать восьмого дня рождения, в год двадцать девятый от Александра, я, насколько помню себя, был счастливее, чем когда-либо в жизни. В дневные часы я занимался укреплением занятой мной территории со всеми вытекающими отсюда административными проблемами. Ночью я принимал Роксану, мою прекрасную жену, которая в свои двадцать пять лет находилась в возрасте расцвета молодой женщины. Это цветение очаровывало больше, чем тот бутон, который я видел в Додоне. Любовь сильно увлекла нас обоих, и мои воины шутливо замечали, что горнисты трубили вечернюю зарю на час раньше, чем это было до моей женитьбы, а утром я требовал к себе Букефала на добрый час позже.
В начале этого отрезка времени Роксана поинтересовалась, правда ли то, что один из моих лучших предводителей отрядов Диамен раньше был учеником замечательного греческого скульптора Скопаса. Я это подтвердил.
— А сам по себе он хороший скульптор? — продолжала любопытствовать она.
— Да, так считают. Его храмовая статуя Деметры в Лариссе является гордостью всего города.
— Что же он тут делает, этот глупец, мозоля себе руки рукояткой меча и рискуя лишиться глаз под дождем стрел?
— Он прибыл сюда с последним пополнением и пробыл у меня всего лишь год. Ему совершенно справедливо захотелось повидать белый свет, окунуться в мир приключений и приобрести опыт, который Греция ему дать не могла.
— Ты мог бы освободить его примерно на две недели, каждое утро часа на два перед полуднем?
— Его заместитель мог бы занять его место. Но в чем дело?
— Не скажу. А еще мне потребуется талант золота и две… нет, лучше три оки слоновой кости. Ты не должен заходить домой, пока он будет со мной. Это будет сюрприз.
— Если я случайно застану его в компрометирующем положении, я из него сделаю чучело.
Этот разговор изгладился из моей памяти до тех пор, пока я не пришел в наше жилище после игр и жертвоприношения накануне своего похода на Восток. Прекрасная и просто одетая, Роксана встретила меня у входа, провела в баню и собственноручно вымыла — обычно это входило в обязанности ее строгой домохозяйки. Но в этой роли царица моей империи не чувствовала себя ущербной. И я несколько раз делал то же самое для нее, хотя вряд ли только ради нее — ради себя тоже, и считаю, что поистине это, должно быть, один из обрядов Афродиты, готовящейся к главному обряду, которым богиня восхищалась больше всего.
Роксана провозилась больше, чем нужно, ее руки то деловито хлопотали, то вяло замедляли движение, при этом глаза становились какими-то сонными и косили больше, чем обычно, и речь звучала не совсем связно. Только большим усилием воли взяв себя в руки, она успела все сделать вовремя, и мы не опоздали к обеду.
Когда я облачился в богатую персидскую одежду, она завязала мне глаза большой косынкой и ввела в трапезную, поставив за спинкой стула, затем сняла повязку.
Я не знал, что ожидать в качестве «сюрприза» Роксаны, но то, что я увидел, потрясло меня. Молодой скульптор Диамен сделал свою работу с потрясающим мастерством. На столе стоял бюст Роксаны, выполненный в золоте и слоновой кости. Я не мог вообразить, где он достал такой большой слоновый бивень, что смог вырезать ее лицо почти в полный разрез из цельного куска. У самых крупных из виденных мною азиатских слонов не было бивней такого размера, поэтому я решил, что он взял самую объемистую часть гигантского бивня, завезенного из Африки, где слоны вырастают выше и массивней и кости у них намного мощнее, чем у их азиатских братьев. Шея также была из слоновой кости и смыкалась с головой под челюстями так искусно, что совсем не было заметно линии стыка. Золотистая масса волос, приобретшая благодаря его искусству светлый оттенок, была перехвачена сзади золотистой лентой и венчала всю головку, смыкаясь со слоновой костью на висках и в верхней части лба. Ее брови были изваяны из того же светлого золота, а губы — из бледно-красного камня, возможно, коралла, а в ушах сверкали две сияющие жемчужины.
Но главной достопримечательностью этого бюста были все же ее глаза. Я тут же узнал в них те два сапфира, что поразили меня схожестью с ее глазами. Теперь у меня совсем не оставалось сомнений, что ювелир из Голконды обработал их для того, чтобы они стали глазами идола какой-нибудь богини в индийском храме, но их, к моей великой удаче, отвергли жрецы, и так они оказались у меня в руках. Конечно, только благодаря капризу случайности их концентрические круги так напоминали эту особенность Роксаниных глаз.
И только благодаря блестящему мастерству скульптора веки из слоновой кости оказались удлиненными и слегка вздернутыми вверх к наружным уголкам глаз.
— Роксана, этому следовало бы быть одним из семи чудес света! — воскликнул я.
— Ни в коем случае. Однако это отличная работа, если учесть, что она выполнена за три месяца. За первые две недели Диамен сделал модель из мягкого дерева. Он, как ты видишь, схватил планиметрию моего лица. После этого он сделал то, что ты видишь — и сделал это в свободное от учебного плаца время, а будучи настоящим художником, он с радостью отдавался работе вместо того, чтобы бездельничать, пить и болтать о женщинах и войне со своими друзьями. Очень похоже?
— Так здорово, что я дам ему талант золота.
— Прошу тебя, так и сделай, если ты вполне доволен. Он ведь другой талант пустил на мои волосы. Я пожертвовала двумя жемчужинами, а у него были пластины из слоновой кости, накладывающиеся на дерево — для плеч. Весь бюст с пьедесталом из серебряных плиток весит больше семи ок.
— Я установлю его на почетном месте в палате для аудиенций.
— Ты этого не сделаешь, если прислушаешься к моим желаниям. Я хочу, чтобы ты поставил его на стол для карты в своем военном штабе.
— Его там никто и не увидит, кроме военного начальства, неспособного отличить искусство от капусты.
— Его будешь видеть ты, Александр, а я буду видеть тебя.
— Пользуясь камнями вместо глаз?
— Ты ведь можешь вообразить себе, что это мои глаза. Затем, когда тебе покажется, что твоя стратегия требует опустошить поля крестьян или уничтожить народ, осмелившийся не подчиниться, ты задумаешься, уж такая ли это и в самом деле военная необходимость. И если после этого ты позволишь людям жить, а нежной траве расти, мой бог Заратустра благословит меня за этот подарок, а все боги твоего пантеона, которым дорог простой народ, благословят Александра Великого.
Мне не совсем понравилось то, что на первый взгляд показалось ее вмешательством в мои военные дела. Но потом я заглянул в эти серьезные глаза, поцеловал эти мягкие губы и понял: она сделала то, что естественно для нее, что было бы естественным для всех хороших женщин, в которых я не сомневался, ведь, в муках давая жизнь, они учатся состраданию, и им невыносимо, когда ее отнимают бесцельно; учат их также мягкость и беспомощность младенцев, лежащих у их груди.
Поэтому я быстро справился со своей досадой, и мы пировали, выпили вина, а когда пришло время — одарили друг друга нежной любовью, супружеской в ее священном смысле, и после этого уснули друг у друга в объятиях, и в эту ночь у меня с самого первого погружения в глубокий сон были счастливые сновидения до тех пор, пока я не пробудился, твердо зная, что увижу ее рядом с собой. А ведь не раз меня мучили кошмары, будто я все еду и еду, все убиваю врагов, все ищу что-то и не могу найти и все ближе подъезжаю к глубокой черной пропасти в голых заснеженных горах. Этой пропасти нет на моих картах, но для сидящего на ее черном троне царя в черном головном уборе я первый любимчик из всех ныне живущих и в прошлом обитавших на земле царей, ибо я так щедро увеличил число его подданных. Они безгласны, лишены памяти, вечно ходят толпами, не зная, почему жмутся друг к другу в его бескрайних тусклых и мрачных залах.
2
Как и просила Роксана, я поставил бюст на стол для карт. Во время весенней кампании я почти всегда смотрел в эти сапфиры, воображая, что это ее глаза, перед тем, как подписать приказ о суровой расправе с непокорным народом, с их городами и селами. Иногда я откладывал перо в сторону, но чаще подписывал приказ, потому что южнее Гиндукуша нам попался народ глупый и упрямый, неспособный понять неотвратимость моего наступления, что только мирная капитуляция может спасти их от сурового наказания. Вместо этого они снова и снова нападали с отчаянной яростью, тем самым по собственной воле обрекая себя на уничтожение.
Теперь моя армия сильно увеличилась. Отчасти последнее пополнение составили греки из наших городов Малой Азии; они благополучно прибыли, прошагав по завоеванным и усмиренным мною обширным землям; но гораздо больше с этим пополнением в армию влилось персов, и немало их прибыло из Парджи, Арии, Бактрии и Согдианы. С учетом женщин в нашем обозе, рабов, несших багаж, и всех других гражданских лиц, за моим знаменем шло войско в сто пятьдесят тысяч человек. Все виды немощи, болезни, несчастные случаи, смерть в бою катастрофически сократили число македонцев — первоначальную прочную сердцевину моей армии. Армия, которую я вел за собой, не была греческой: уже ряд лет она не являлась таковой ни на деле, ни по названию; никто бы уже больше не смог принять ее по ошибке за греческую армию — это была армия Александра. Теперь я мог разделить ее на крупные части, направить их по разным маршрутам и таким образом подчинить себе гораздо большую территорию.
В горных районах севернее Инда вражеские воины внешне выглядели более похожими на греков, чем мы, кто шел на них войной. Этот народ состоял из высоких белокурых людей, и мои историки считали, что они ничем не отличались от своих арийских предков, мигрировавших сюда из неизвестных регионов Центральной Азии, и что их племена повернули на запад: они-то и стали предками нынешних греков. В верховьях реки Каспис
[212] мы обнаружили народ, называвший себя кафирами; в словах их языка были те же корни, что и во многих греческих. Мои македонцы сделали предположение, что здесь со своей армией побывал Геракл и его воины обильно посеяли семена, но я думал иначе: язык этих дикарей и наш, греческий, были когда-то одним языком на земле, которая тогда была нашей родиной, так что мы были с ними дальними родственниками. Настало время, когда мне нужно было отправить на покой свыше двух тысяч моих ветеранов. Обремененные женами или наложницами, они, вероятно, уже не могли вернуться в Грецию, но и я больше не мог вести их с собой: они мешали мне двигаться дальше. Поэтому я поселил их в Кафиристане, плодородные речные долины которого вполне могли бы обеспечить пропитанием это добавочное население. У некоторых при нашем расставании в глазах стояли горькие слезы обиды, но, уж поистине, им больше повезло, чем многим другим солдатам, которых и прежде я увольнял из армии, ведь они могли быстро научиться местному языку, так схожему с нашим, вести энергичную жизнь, охотясь на диких овец, рыбача на бурных реках и намывая золото в речном песке.
Родственники этих людей, живущие в окруженном стенами городе, оказали упорное сопротивление, но в конце концов дрогнули и бежали в горы. В этой недолгой схватке я был легко ранен в плечо дротиком, вонзившимся через панцирь, и это так разъярило моих солдат, что они, преследуя бежавших, перебили всех, кого им удалось схватить, а затем уничтожили город. Такого приказа я не отдавал, но и не вмешивался, зная настроение моих солдат-греков, особенно македонцев. Когда они роптали, недовольные тем, что я все дальше углубляюсь в неведомые края, то тут же и спрашивали себя: а что они будут делать, если меня убьют? Птолемей и еще кое-кто имели славу отличных военачальников, но македонцы не хотели довериться им в долгом пути на родину.
Отчасти чтобы завоевать большее уважение солдат, частично потому, что он чрезвычайно гордился своим искусством владения мечом, и еще по той причине, что он, как и я, боготворил Ахилла, Птолемей в местечке под названием «Крепость Героев» вступил в потрясающий поединок с царем тамошних горных индов и, наконец, одним мощным режущим ударом отсек тому голову.
Нас окружали громадные горы; говорят, что некоторые возвышались более чем на двадцать пять стадий — во всяком случае, слишком высоко, чтобы измерять их в локтях. В долине пасся крупный рогатый скот, поразивший меня своим внушительным ростом и красотой. Я позаботился о том, чтобы отправить на родину, в Грецию, большое стадо, поручив его уволенным из армии ветеранам, тем, которые предпочли рискованные перипетии тяжелого пути возможности поселиться в Индии. Если они дожили до возвращения домой, то, верно, здорово отъелись по дороге, ведь не стали бы они колебаться, приносить ли им в жертву богам здоровенных быков или нет и стоит ли самим насладиться хорошим куском мяса.
Сделав вид, что отступаю от мощных стен города Массаги, я выманил его защитников на открытое пространство, затем внезапно развернул войско и ударил по ним. Они с большими потерями бежали, чтобы снова укрыться за стенами, а на следующий день от раны, полученной в схватке, умер их вождь. Тогда они выслали глашатаев, прося мира, но Гефестион не хотел, чтобы я их принял. Он советовал подвергнуть город суровому наказанию и предать мечу семь тысяч индов-наемников, больше всего отличившихся в сражении.
Гефестионом, как мне казалось, двигала больше ярость, чем разумная мысль стратега, ярость оттого, что во время упорного сражения я был легко ранен в лодыжку; во всяком случае, его преданность мне не могла сравниться с преданностью любого другого военачальника, если оставить в стороне резкого на язык Птолемея. Понятно, что и небольшая рана могла бы стать опасной, а в зависимости от обстоятельств и смертельной. Но из тактических соображений я все же отверг совет моего дорогого друга, Я никогда еще не вступал в схватку с более упорным, смелым противником, чем эти рослые, мускулистые светловолосые горцы. В случае отказа принять их капитуляцию я бы должен был осадить город и потерять много времени и солдат, прежде чем мы смогли бы ворваться в пробитые стены и перебить защитников.
Поэтому я принял их капитуляцию на том условии, что инды-наемники вольются в мою армию. Они с радостью согласились. Наемники вышли из города и направились на вершину холма, чтобы расположиться там на ночь лагерем, а на следующий день явиться в мое распоряжение. Я полагаю, что они боялись расправы за свое дезертирство со стороны горожан, а может, желали умилостивить жертвой своего бога, клятву которому они нарушили.
Я сожалел, что сегодня вечером не смогу рассказать Роксане о своем решении, ведь она была бы уверена, что я сделал это ради нее. В этот непродолжительный, но трудный поход в суровые горы мы не смогли взять никого из наших милых спутниц, оставив их под защитой крепких стен Нисы на попечении гарнизона и городского главы, жаждущего снискать мое расположение. Когда я увижу ее снова, подумал я, уж наверное, и не вспомню об этом эпизоде или до нашей встречи успею натворить что-нибудь пострашней того, что сегодня предложил Гефестион, и тем самым сведу на нет проявленную в этом случае мягкость.
Но правда оказалась жестокой: Гефестион давал мне правильный совет. Один пленный, которого он нанял в качестве шпиона, принес ему донесение, с которым он тотчас же пришел ко мне. Оказывается, расположившиеся лагерем на холме наемники вовсе не избегали гнева горожан и не помышляли об оказании услуги своему богу: они лишь ждали темноты, чтобы под ее покровом потихоньку убраться и предложить себя Пору — царю, приславшему мне вызывающее послание. Я немедленно приказал окружить холм и напасть на предателей. Так уж получилось, что был дан сигнал к резне, и все наемники были перебиты, а город уничтожен до основания.
Когда я снова взглянул в лицо бюста на моем столе, мне показалось, что я вижу в раскосых глазах немой упрек. И все же я не испытывал никакого сожаления: жестокий удар диктовался военной необходимостью. В этом состоянии, когда побаливала рана и еще не утихла ярость, вызванная намерением индов-наемников обмануть меня, я решил, что стану относиться к Роксане не как к гречанке, а как к восточной женщине: ласкать ее, любить и распоряжаться ею, ожидая в ответ преданности, благодарности за свои объятия и безмолвной покорности.
Но принять решение — одно дело, а привести его в исполнение — совсем другое. Спустившись в менее суровую страну, полностью подчиненную мне, я намеревался послать за обозом из крытых и открытых повозок, оставленным в Нисе, так как тосковал по Роксане, а моим солдатам не удавалось поймать быстроногих горных дев, удиравших с быстротой лани, стоило им завидеть кого-нибудь из солдат, поэтому и они пребывали в состоянии мучительного беспокойства. Но я отложил вызов обоза до тех пор, пока пепел Массаги не останется далеко позади нас, пока не утихнут разговоры о резне, — Роксане вряд ли захочется слышать об этом. И вот когда она наконец приехала, то была такой свежей и прелестной, такой оживленной и вместе с тем такой великолепной бактрийской княжной, а теперь уж царицей Александра, что я как-то и забыл о своем решении и относился к ней так же, как и прежде — на условиях равенства, выходящих за пределы тех, о которых я договорился с моим сводным братом Птолемеем. И никаких жестов почитания с ее стороны, даже вставания передо мной на одно колено в присутствии моих командиров или подчиненных царей.
3
Один царь небольшого племени, которого звали Офис, сдаваясь мне, вел себя так мужественно и при сдаче проявил такую свободу и щедрость характера, что завоевал полное мое восхищение. В ответ на посланный с гонцом приказ он прислал в огромном количестве довольствие и мне, и Кратеру, а когда мы прибыли к нему, он закатил на три дня пир для меня и моих военачальников, во время которого предложил мне выбрать любую из его наложниц и она будет ждать меня в моей роскошной спальне. Для восточного царька такое уважение, даже к своему сеньору, было далеко не пустяком, ибо хорошо известно, что такие царьки не хотели делиться благосклонностью своих женщин. Я под благовидным предлогом отказался, хотя действительная причина моего отказа от девушки, превосходной красавицы, крылась в заботе о ее будущем: я знал, что, если соглашусь принять его дар, он больше никогда не допустит ее к своему царскому ложу, она будет считаться рабыней, которую станут грубо третировать его жены и другие наложницы. Возможно, и мысль о Роксане имела какое-то отношение к этому отказу.
Затем, чтобы показать Офису и другим царям, что я могу быть щедрым с теми, кто меня жалует, и суровым с упрямцами, после пира я утвердил его на троне и дал ему в дар талант золота.
Этот мой поступок на следующий вечер привел к досадному происшествию, когда я ужинал со своими старшими военачальниками. Осушив слишком много чаш, Мелеагр, отличный предводитель фаланги, язвительно поздравил меня с тем, что я нашел в Индии подданного, столь заслужившего мою благодарность, что я наградил его по-царски. Я так и вскипел, но одумался, вспомнил Клита и Каллисфена — Филот, который и на словах, и на деле был предателем, не заслуживал ни капли моего сожаления — и только ответил, что язык человека — самый опасный орган его тела.
— Даже опасней, царь, чем его фаллос? — с улыбкой осведомился Птолемей.
Раздался смех. Решив, что Мелеагр получил должное предупреждение, я забыл об этом инциденте и не стал вписывать в свою черную книжку еще одно имя.
Когда я поведал об этом Роксане, она сложила ладони и склонила голову в знак молчаливой благодарности некоему существу в небесах, и я не сомневался, что это ее бог Заратустра.
Примерно в это же время я встретил людей, отрицавших мою власть над ними, с которыми я ничего не мог поделать. Использовать против них силу было бы так же бесполезно, как рубить мечом пустой воздух. Это сборище принадлежало к одному из бесконечных культов Индии и называло себя саннаяси. Это были странники, не имевшие никакой собственности, кроме своих лохмотьев и пустых мисок: последние наполнялись едой набожными крестьянами. Когда я приказал одному из них положить мне земной поклон, он ответил, что не выражает почтения ни одному земному царю, что будет говорить со мной, только если я разденусь донага и лягу рядом с ним под солнцем, а если я желаю убить его, обязательно так и сделать, ибо тогда его душа освободится от ненавистной ему плоти. Он согласился признать меня сыном Высочайшего, но добавил, что таковым является самый скромный пахарь в поле.
К моему большому удивлению, один из их старейшин по имени Калан, говоривший на персидском так же хорошо, как на хинди, попросил разрешения присоединиться к моему обозу. Цель у него одна, объяснил он, совершить паломничество. Когда же я ответил, что не знаю еще своего маршрута, не говоря уж о том, где закончу свой поход, он все же предпочел идти со мной. Этим обстоятельством я был очень обрадован: судя по его лицу и речи, я решил, что это человек высокого ума и от него я мог бы узнать о верованиях и философии касты брахманов. В походе он не причинял нам никаких хлопот, сам готовил себе еду на собственном костре, редко заговаривал с людьми и, казалось, постоянно был погружен в состояние медитации. Для моих солдат он стал довольно приятным зрелищем — в своем тюрбане и скудном одеянии, и никто никогда не слышал, чтобы он жаловался на неудобства. Однако в каждом селении, где мы останавливались на отдых, он был центром лестного внимания местных жителей: они становились перед ним на колени и просили дать благословение их посевам, несмотря на его рваную и, несомненно, вшивую одежду и растрепанную бороду. Его внешность поистине вызывала большее почтение, чем моя, и по всем признакам было похоже, что его считают более важной персоной. Тот искренний трепет, с которым кланялись
ему цари, приводил меня в немалое замешательство.
Так случилось, что мне пришлось провести крупное сражение, чтобы подчинить упрямого Пора. Его силы расположились на противоположном берегу реки Гидасп, в данный момент разлившейся из-за паводка. У него была внушительная армия, состоящая из четырех тысяч отличных всадников на прекрасных лошадях, тридцати тысяч хорошо обученных пехотинцев, трехсот колесниц, не внушавших мне никакого страха, и двухсот боевых слонов, встречи с которыми я опасался, потому что лошадей нашей кавалерии нельзя было заставить приблизиться к ним даже плетками. Даже для самых непрозорливых моих военачальников было ясно, что фронтальная атака будет пагубной. Приходилось рассчитывать только на военную хитрость.
Изучив за несколько дней близлежащие броды, я пустил слушок специально для шпионов Пора, обретающихся в нашей среде под видом простых крестьян, торгующих птицей и фруктами, что я решил стоять здесь лагерем до тех пор, пока не пройдут дожди и не спадет паводок. Чтобы это выглядело убедительней, я приказал подвезти и разгрузить большие запасы провианта, собранного моими фуражирами в сельской местности. С Инда мы привезли по суше лодки, в которых мои люди устроили отличное представление, делая замеры глубин и изучая течения реки около брода. Когда я направлял части своих сил по берегу в обе стороны, Пор посылал подразделения для их отражения в том случае, если они предпримут попытку переправиться.
А тем временем я тайно обследовал реку и ее берега на целых сто пятьдесят стадий вверх и вниз по течению.
Наконец, поисковики сделали утешительное открытие. На расстоянии четырех часов пути они нашли заросший лесом мыс, направленный в сторону лежащего неподалеку от противоположного берега острова. На всем пути до мыса я расставил часовых на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли перекликаться. Несколько ночей мы жгли яркие костры и делали то, что на вид казалось дополнительной подготовкой к фронтальному наступлению и что не только удерживало армию Пора на месте в состоянии повышенной боевой готовности, но и маскировало передвижение нескольких тысяч моих солдат, переносивших разборные лодки к густо заросшему деревьями мысу. А тем временем появился еще один фактор, которого нельзя было не учитывать: мы не могли затягивать с наступлением, потому что царь Кашмира Абисар нарушил наш договор о перемирии и вел мощную армию на соединение с Пором.
Кратер командовал силами, которым предстояло противостоять Пору, но ему не разрешалось переправляться через реку, если Пор оставит слонов для охраны брода. Если узнав, что я переправился и иду на него, Пор разделит свою армию и двинет своих гигантских животных против меня, Кратер должен был начать переправу, получив сигнал, передаваемый голосом по цепочке расставленных часовых. Чтобы еще больше ввести Пора в заблуждение, я велел Атталу облачиться в мои серебристые доспехи и шлем, чтобы он думал, будто я командую противостоящими ему силами. Под свое непосредственное начало я взял гетайров, три других отряда тяжелой конницы, легкой кавалерии из Бактрии, Согдианы и Скифии, тысячу конных лучников, тяжеловооруженную пехоту и два таксиса фаланги — в целом двадцатитысячное войско.
Разгулялась непогода, дул сильный ветер и хлестал дождь, и темнее ночи я еще не видел. Насколько мы промокли под дождем, было неважно, ибо нам еще предстояло промокнуть до костей при переправе на протекающих, захлестываемых волной лодках или верхом на лошадях, кроме того, за островом, оказывается, протекал узкий канал, который для лодок не годился.
Покров ночи то и дело раскалывался огненными трещинами: это Зевс метал свои молнии в окрестные скалы и многие из них расщеплялись; и после страшного удара грома долго еще слышались его затихающие раскаты. Я не сомневался, что раскаты посланы мне небом, чтобы заглушить шум от лошадей, лодок и людей, а яркие вспышки молний — чтобы я видел место переправы и мне было бы легче командовать. Однако в громе слышалось гневное роптание, не утихающее между отголосками эхо, и яростен был вид молнии с ее зигзагообразной стрелой, направленной на восток. Поэтому я рассудил, что эта ярость предназначена Пору за попытку помешать осуществлению судьбы последнего сына Зевса, которому было предначертано в завоеваниях превзойти Геракла и Диониса.
Возможно, «рассудил» — не то слово. Я не рассуждал, созерцая божественность. Рассуждение же могло бы повести меня по ложному пути, и я не хотел никакого вмешательства Аристотеля с его логикой. Вместо этого я слышал голоса, они звучали у меня в душе почти явственно. Его племяннику Каллисфену был показан путь, но он отказался от него и потому встретил свою смерть.
Мы живо доставили лодки и бессчетное множество плотов всех видов к берегу реки. Когда, загрузившись, мы начали сталкивать их в проток, буря внезапно улеглась, гром затих, больше не вспыхивали молнии, даже облака попридержали заливающий глаза дождь, и сердце мое радостно забилось: это было явное предзнаменование того, что победа моя предрешена и ничто ей теперь не помешает; и все же я должен был драться со всем усердием, не щадя ни своих, ни чужих, чтобы доказать, чего я стою, и выразить свою благодарность богу.
Когда все мое войско собралось на острове, в первых лучах рассвета нас заметили часовые, которых и Пор расставил вдоль берега реки. Они живо повскакали на лошадей и понеслись в стан своего царя. Остров оказался больше, чем мы думали, а когда мы подошли к его противоположному краю, я понял, насколько суровое испытание выдалось нам сегодня ночью, ибо вместо узкого и мелкого водного протока пред нами предстал широкий и опасный канал, вздувшийся от сильного, не прекращавшегося всю ночь дождя. Люди заметались в поисках самого мелководного участка, и даже когда он нашелся, им, пешим, пришлось идти по шею в воде. Головы лошадей едва были видны над потоком, а круглые булыжники очень мешали им ступать по дну.
Когда мы переправились на противоположный берег, я приказал главным силам кавалерии следовать за Букефалом, а остальным стараться двигаться как можно быстрее. Мы уже давно начали наступление, а Пор, видя за рекой наш стан с множеством костров, и не догадывался о правде.
Я думаю, что, когда видевшие нас часовые примчались к Пору на взмыленных лошадях и, задыхаясь, рассказали о большом войске, переправляющемся через реку, он не поверил, что это может быть Александр. Он видел, что за рекой готовится переправа через брод, поэтому то, что видели часовые, должно быть, спешащие к нему на помощь воины Абисара из Кашмира; только как они оказались не на той стороне реки? Это недоразумение быстро разрешилось, когда он послал навстречу нам разведчиков и застрельщиков, которые понаблюдали за нами издали и пустились назад с убийственной новостью, что всадник на черном жеребце в авангарде и есть сам Александр, а за ним следуют десять тысяч конных.
Пор, смелый человек, способный драться до последней капли надежды, быстро разделил свою армию, одна часть которой должна была отражать нападение из нашего стана, другая — сформировать сильнейшую линию для отражения моей атаки. Однако при ближайшем рассмотрении я убедился, что линия обороны передо мной имела много слабых сторон, поэтому я велел кавалеристам отдохнуть перед сражением, а сам стал выбирать, куда направить острие атаки. Слоны с множеством стрелков на их спинах, расставленные в ста футах друг от друга, трубили и свивали в кольца свои хоботы; отряды конницы Пора на флангах находились слишком далеко друг от друга, чтобы в нужный момент соединиться для мощной атаки; короче, его линия была слишком растянутой. Вот уже подтянулись мои конные лучники, на которых я возлагал главную свою надежду; их задачей было меткими стрелами разъярить слонов и сделать неуправляемыми для их погонщиков.
Другая цепь слонов стояла лицом к реке, вынуждая Кратера откладывать переправу со стороны лагеря, и в этом он как военачальник был прав, так как нельзя лошадей, уже утомленных борьбой с течением, бросать на схватку с этими чудовищами. Мне Кратер был нужен для нанесения удара по речному фронту Пора после того, как я сам уже прорву противостоящий мне фронт.
Мой горнист протрубил сигнал к наступлению. Тяжелая кавалерия пошла в эшелонированную атаку, а легкая кавалерия на флангах, подняв ужасающий крик, нанесла индам смертельный удар. В первой же атаке был убит сын Пора и погибли четыреста его воинов, остальной же фронт был безнадежно прорван. Часть стоявших перед нами слонов стойко держали свою позицию, издавая яростные трубные звуки, но мои солдаты в основном избегали их непродолжительных выпадов и многие из чудищ бежали, визжа от боли, с торчащими у них по бокам и на ногах дротиками и стрелами, их седла опрокидывались и валились наземь, откуда мертвых и живых воинов вытаскивали их охваченные паникой соратники. Колесницы Пора не сыграли серьезной роли в сражении: стрелы и дротики поразили многих возниц, некоторые тяжелые машины завязли в липкой грязи, и их невозможно было вытащить оттуда.
Я дал сигнал фаланге. Сомкнув щиты, солдаты создали стену из ощетинившихся наконечников копий, двинувшуюся на упорно сражающегося врага и боевых слонов, одни из которых были убиты, а другие обращены в бегство. К этому времени Кратер переправился через реку, и мы взяли остатки армии Пора в мощные тиски. Пор храбро сражался, пока у него оставались еще боеспособные силы; затем он был ранен в плечо, и погонщик его слона повернул животное, вынудив храброго царя с горечью отступить.
Меня восхитило его доблестное сопротивление. Именно поэтому я послал вдогонку за ним всадников с предложением почетной сдачи. Глашатаям не удалось убедить его в моих добрых намерениях, но тогда я послал Калана, этого нищего святого, при первых же словах которого Пор остановился и повернул коня навстречу мне. Я подъехал к нему и, клянусь, что никогда не видел царя с такой прекрасной внешностью; даже Дарий, пожалуй, уступал ему в этом, хотя оба были примерно одного роста — футов семь, крепкого телосложения и с благородными чертами лица. Дарий принадлежал к персидской династии, Пор был чистокровным арием, со спокойными глазами цвета голубой стали и ярко-золотистыми волосами.
— Я сдаюсь тебе безоговорочно, царь Александр, — заявил он мне твердым голосом на безупречном персидском языке, несмотря на то что ослабевал от раны.
— Я принимаю твою сдачу, царь Пор. Не хочешь ли попросить какой-нибудь милости?
— Только одной: чтобы со мной обращались как с царем.
— Может, все-таки ты таишь какое-то желание, которое я с радостью исполню.
Он немного подумал и ответил:
— То, что я сказал, это все.
Собственно я уже решил оставить Пору его царство, конечно под моей верховной властью, а остатки его армии поставить под македонское знамя. Поэтому я распорядился прекратить преследование бегущих индов.
Но еще до встречи с Пором высоким богам было угодно взвалить мне на сердце тяжелую ношу печали. Букефал получил незначительную, как мне показалось, рану за плечом от вражеского копья, но, очевидно, она была глубже, чем я полагал, и вызвала внутреннее кровотечение. Внезапно он издал последнее, триумфальное ржание и пал подо мной наземь.
Я сразу же встал на ноги, подскочил к его массивной бычьеподобной голове, положил ее к себе на колени и погладил мягкие ноздри. Похоже, он знал, что я здесь, ибо широко открыл свой великолепный глаз и долго смотрел мне в лицо. Но вот появилась пленка, и глаз стал постепенно меркнуть по мере того, как Букефал медленно погружался в объятия смерти.
Я не мог удержаться от слез, хотя мои военачальники, собравшись вокруг меня, говорили о том, как он долго жил, какая великолепная это была жизнь и сколько долгих дорог мы отмахали с ним вместе. Но когда Гефестион предложил в отместку за мою потерю предать жестокой смерти тысячу соратников Пора, взятых мной в плен, принеся их в жертву богу лошадей и моря Посейдону, я отрицательно покачал головой, и по лицам Птолемея и остальных военачальников я увидел, что они со мной согласны.
Я устроил славному скакуну почетную церемонию похорон, с трубами и парадом, а затем переправился через реку в свой стан. Выложив всю правду Роксане и увидев ее округлившиеся глаза, я попросил ее оставить меня наедине с самим собой, и в одном из закутков палатки я обратился мысленным взором вспять, на сужающуюся и теряющуюся в дальней дымке дорогу, и вот, наконец, увидел длинный луг недалеко от дворца Филиппа в Пелле — меня с ним теперь разделяли полмира. На этом лугу впервые предстал перед моими глазами прекрасный черный жеребец с сияющей белой звездой на лбу, там я объездил его и он стал моим.
Я вспомнил Херонею, Граник, Исс, Арбелы. В одной славной победе за другой Букефалу отводилась благородная роль, и теперь мне как-то не верилось, что я уже больше никогда не пущу его вскачь, ведя за собой в атаку моих славных гетайров. Приближалось мое тридцатилетие; Букефал умер примерно в возрасте двадцати четырех лет — довольно значительном для лошади, но тридцать лет для человека, как бы активно он ни жил, являются коротким отрезком жизни. И все же в целом я осуществил то, что задумал: завоевал Персидскую империю, если не считать нескольких окраинных ее земель, которые мне предстояло еще подчинить. А что я буду делать дальше?
То, что было вначале моей армией, сильно поистрепалось, к тому же оставшиеся у меня македонцы с большой неохотой делали каждый шаг, уводящий их глубже в Индию. Они ненавидели хлещущие дожди, от которых промокали палатки и одежда, но не меньшее отвращение у них вызывали страшные пустыни. Сырость вызывала лихорадку, иногда со смертельным исходом; они боялись полосатых львов, крадущихся на участках густо разросшейся зелени; им приходилось защищать свои постели от змей, которые распускали нечто вроде капюшона прежде, чем сделать выпад. От их укусов наступала быстрая смерть; и даже маленькие, едва различимые на земле змейки были страшно ядовиты. Я бы натерпелся с этими солдатами, и они бы могли взбунтоваться прежде, чем их можно было бы заставить пойти в Синд, где кое-кто платил дань Дарию, но ни в коем случае не все.
Я оторвался от своих бесполезных раздумий, пошел и поцеловал Роксану, удостоившись в ответ нескольких восхитительных поцелуев. А когда я смыл с себя грязь, пыль и кровавые пятна сражения, она спросила, сколько человек потерял я и сколько Пор.
— Только мои потери имеют значение. Их, я полагаю, около тысячи, включая смертельно раненных.
— Мне трудно представить себе тысячу трупов, лежащих в ряд, — сказала она с легким содроганием.
— И не пытайся. Пор не потерял бы ни одного, если бы вовремя образумился. А так он потерял в десять раз больше, чем я, и это было бы еще не все, если бы я не остановил резню. Он смелый человек и, думаю, окажется верным царем в моем подчинении.
— И ты горюешь о Букефале больше, чем обо всех остальных, вместе взятых.
— Мне казалось, Роксана, что ты любишь лошадей.
— Не так сильно, как людей.
— Ладно, что об этом говорить. Мне больше никогда не найти такого превосходного скакуна, он был мне слугой и другом с отроческих лет. Не могу, Роксана, Объяснить тебе этого. Звезда у него на лбу являлась символом моей звезды, той, за которой я иду по воле, а скорее, по велению богов.
— Бедный Александр!
— Не надо так говорить! Я уже дважды слышал это от Таис и простил ее, но от тебя я этого не потерплю. Умоляю тебя, никогда не говори так снова.
— Я люблю тебя, Александр. — Ее голос был одновременно и грустным, и нежным.
— И я люблю тебя, моя чудная Роксана.
Однако, сославшись на головную боль и начинающуюся простуду, она этой ночью спала в другой комнате моего большого шатра, несмотря на то что я мучительно нуждался в ее тепле, в ее мягких, шелковистых руках, в наших святых поцелуях в темноте.
Только на следующий день я рассказал ей о своем намерении построить новый город на реке, неподалеку от места сражения, где теперь стояла всего лишь деревня, и назвать его Букефалы. Я был несколько удивлен, когда глаза ее вспыхнули, как звезды, и она взяла мои руки в свои.
— Прекрасная дань верному слуге! Насколько она благородней жертвенной резни тысячи людей, которую предлагал Гефестион.
— Разве я говорил тебе это? Что-то не помню.
— Нет, мне рассказала Ксания. Она узнала от одного обозника, который приносил оленину и другую еду для нашей кладовой. Я так горжусь тобой: ты отказался от ужасного поступка, и я верю, что все боги, кроме Ареса, бога войны, кому величайшая радость видеть мертвых и калек, тоже гордились тобой.
— Даже мой отец Зевс?
— Да, даже Зевс.
И странно: во мне проснулось смутное подозрение, что Роксана, возможно, права. По крайней мере, те, кого я пощадил, принесли жертвы Зевсу и помолились Брахме, то есть Зевсу под другим именем. И это, не знаю почему, заставило меня вспомнить поговорку, которую мы слышали из уст Калана:
«Когда Брахма перестанет видеть сон, земля и небо исчезнут» (или «Когда прекратится сон Брахмы, не будет ни земли, ни неба»).
4
После пышных военных похорон павших в Нисе воинов мы устроили спортивные игры и совершили жертвоприношение, и, понимая, что армия измотана, я даровал солдатам тридцать дней отдыха, хотя самому мне это было не по душе. В этот промежуток времени Кратер с большим войском отправился к реке Инд, чтобы построить суда для речного и морского плавания из отличной древесины гималайского кедра — так назывались эти деревья в местных краях.
Когда долгий отпуск солдат подошел к концу, я повел армию к реке Гидраот, второму большому притоку Инда, протекавшему ниже моего нового города Букефалы. К счастью, большинство царей и их наместников в городах, лежавших на моем пути, открывали мне ворота, а нередко и посылали дары, среди которых было много слонов, доблестно отличавшихся в работе или в бою. Только раз мы наткнулись на упорное сопротивление, его оказали Кафеи. Они совершили глупость, устроив заграждение из телег, из-за которых осыпали нас стрелами и дротиками. Увидев, что это не поможет им остановить меня, они бежали в свой город. Здесь завязалось жестокое сражение и я потерял убитыми и тяжелоранеными тринадцать сотен лучших своих воинов. Эти воинственные обитатели верхней долины Инда явно еще не постигли простого урока: нужно просто сдаться и тем самым спасти свою жизнь и большую часть своего имущества.
Однако несмотря на устроенную здесь резню — не знаю, сколько тысяч там было перебито и сколько еще взято в плен, — жители двух ближайших городов не подчинились моему приказу сдаться, предпочтя бегство. За большинством из них мы не могли угнаться, так как они знали дороги, тропы и обходные пути, еще не изученные моими разведчиками; и все же мы поймали около пятисот их более медлительных собратьев — в основном это были люди пожилого возраста, которым следовало бы посоветовать своим сыновьям уступить моей воле, — и мои воины их всех перебили.
Отсюда мы направились к Гифасису, еще одному большому притоку, и мне не терпелось переправиться через него: по рассказу царя лежащей на моем пути области, там находились плодородные земли и богатые города. Кроме того, переправившись через эту реку, я бы зашел за пределы последних слабых сторожевых застав империи Дария. Та же земля, по которой мы теперь шли, не радовала нас ни плодородием, ни богатствами — ее обильная растительность не могла насытить желудки людей, а лишь служила пищей для их недовольства.
В сочных, пропитанных испарениями от дождей джунглях обитали чрезвычайно агрессивные носороги и очень крупные свирепые парнокопытные — черные, белоногие, с широко расставленными рогами. Еще хуже были пиявки, огромные пауки, сплетавшие свою паутину поперек тележной дороги, и крупные ядовитые змеи. Чтобы уберечься во время сна от проникновения этих смертоносных гадов в свои постели, солдаты подвешивали гамаки. Их настроение с продолжением утомительного похода все больше портилось. Дрова, срубаемые ими для костров, слишком отсырели и не хотели разгораться, из-за ржавчины не удавалось содержать в порядке оружие, еда покрывалась плесенью, изношенные плащи недостаточно защищали их от мощных ливней, которые, как по заказу, начинались спустя два часа после полудня. Многие покидали ряды от слабости и болезни, некоторых даже уносили назад, в лазареты, на носилках; нередко люди падали и умирали.
Я разрешил солдатам изымать продовольствие в деревнях этой покорившейся мне земли, но их это не удовлетворило. С приближением к широкому и бурному Гифасису я чувствовал, что в моих делах назревает кризис.
Мы стали лагерем на берегу. У всех на лицах было одно выражение: не гнева, не отчаяния, а холодной решимости. Вскоре, передаваясь в докладах от младших к старшим начальникам, до меня дошло настроение масс: солдаты не желали переправляться через реку, не желали делать ни шагу вперед.
— Скольких потребуется предать мечу, чтобы подавить бунт? — спросил я.
— Каждого македонца из рядовых и большинство их младших начальников, — сурово прозвучало в ответ. — Точно могу сказать: каждого грека — наемника или патриота — и огромное число персов.
— Скольких из них, чтобы подавить мятеж, нужно распять на деревьях, где коршуны выклюют им глаза прежде, чем они умрут? — спросил я еще суровей.
— Царь Александр, так много, что ты не смог бы найти достаточное число послушных тебе людей, чтобы осуществить это гнусное дело.
Я повернулся спиной к маленькой делегации военачальников, и они тихо удалились. В качестве следующего шага я послал сказать женам и любовницам, сопровождающим своих мужей или любовников, что, если армия продолжит поход, я увеличу их рацион, а также ежедневно они станут получать денежную поддержку в соответствии с тем жалованьем, которое получают их мужчины. Это не подействовало. Тогда на следующий день я созвал сход всех экспедиционных сил и напомнил им о многих победах и пообещал им еще невиданных славы и богатств. Они слушали меня, как деревянные истуканы, и, когда я с воодушевлением заканчивал речь, не раздалось ни одного ликующего крика, никто не зааплодировал.
Теперь, уж действительно испугавшись да и разъярившись тоже, я прибегнул к отчаянному средству: призвал всех военачальников к откровенному разговору, обещая, что никакого наказания не последует, но при этом втайне надеясь, что никто не осмелится выступить против меня. Но моя надежда оказалась напрасной. Выступив вперед, заговорил Кен, один из самых высокопоставленных военачальников, бесстрашный и надежный македонец, покрытый многочисленными шрамами, мой близкий друг.
Поистине, я и представить себе не мог, чтобы военачальник высшего ранга мог произнести такую речь. Он начал с того, что его положение и седины не позволяют ему скрывать свое отношение к данному вопросу и что перенесенные им опасности и ратные труды дают ему право говорить, ничего не боясь. Он признавал, что на долю главного полководца больше всего выпадает риска и труда, но каждый военачальник, как бы велик он ни был, должен знать границы своих завоеваний. Он говорил о том, как много было тех, кто отправился со мной в поход и умер от болезней, или погиб в сражениях, или остался жить поселенцем среди чужаков; и все ослабли от ран и тяжких трудов, и все жаждут увидеть еще раз своих родных и близких и любимую землю. Если бы я сейчас прекратил свой поход, они бы с радостью отправились в обратный путь на родину, сражаясь, если возникнет необходимость, с чувством благодарности ко мне за приобретенные ими богатства. Но он осмеливался предупреждать меня, что, если я попытаюсь заставить их идти дальше, я не увижу в них прежних сподвижников, преисполненных духом, полным отваги и высокой надежды, и не победа меня будет ждать, а поражение.
Он все говорил и говорил, ясно, спокойно и красноречиво, а мне так и хотелось, чтобы какой-нибудь простой солдат выскочил и полоснул его по горлу. Но никто этого не сделал. И когда он закончил говорить и отдал мне честь, все — начальники и рядовые — наградили его аплодисментами. К несчастью для меня, Гефестион отсутствовал, выполняя экспедиционное поручение.
Разгневанный, я удалился в свою палатку. Мне ничего не оставалось, как назначить на следующий день еще один сход. Но на этот раз моей речи не хватало прежней убежденности и легкости по причине жестокой головной боли. Откровенно говоря, я в бешенстве заявил, что, если те, кого я вел к славе и богатству, бросят меня, я пойду дальше один!
Никто не крикнул: «Я пойду с тобой, царь!», чтобы вслед за этим разнеслось во все концы сборища «и я», «и я». На деле никто не издал ни звука, не переступил неловко с ноги на ногу. Тогда я снова удалился в свою палатку и не выходил оттуда три дня, не допуская к себе никого; армия все еще дулась на меня или, вернее, стояла на своем. На следующий день я потребовал к себе нашего прорицателя Аристандра для истолкования предзнаменований в отношении того, что ожидает меня на дальнейшем продвижении на Восток — если эти предзнаменования окажутся неблагоприятными, я охотно поверну назад, решил я.
Конечно же, я полагал, что боги поддержат меня сейчас, помня все мои жертвоприношения и пиры в их честь, или если судьба неумолимо заявит о неудаче либо полном поражении в случае продолжения пути, мой отец Зевс вмешается, хотя бы один раз за свое долгое правление, хотя существовало широко распространенное убеждение, будто сам Царь Небес не может изменить пряжу Трех Вещих Сестер — парок. Прорицатель понаблюдал за полетом птиц, прислушался к отдаленным раскатам грома в горах, бросил на землю кости орла, ворона, совы и павлина и пригляделся к тому, как они легли.
— Великий царь, знаки неблагоприятны, — вскричал Аристандр.
Боль пронзила мне голову от виска к виску, заставив ее закружиться, и глаза чуть не вылезли из орбит.
— Прочти их еще раз, — велел я.
Прорицатель проделал это с величайшим усердием, и в долгом ожидании его приговора безмолвно стояла моя армия, напоминая беззвучные толпы в мрачных чертогах Аида.
— Царь Александр, — наконец проговорил он, — знаки еще хуже, чем раньше.
Я попытался что-то сказать и не мог — отчасти от тяжести в голове и на сердце, а отчасти оттого, что нечего мне было сказать. Я вошел в палатку, где меня встретила Роксана, бледная и вся в слезах. Она протянула ко мне руки, но я медленно покачал головой. Я не отвергал ее; я хорошо знал, как радовалась она вестям, приносимым высокими богами, но не хотел, чтобы ее сострадание еще больше ослабило мой дух, и решил побыть немного в одиночестве. Как раз сейчас надо мной нависла ужасная опасность сойти с ума. Хрупким было мое равновесие над бездной Стигийской тьмы.
Я велел принести мне чашку восстанавливающего силы напитка под названием каффа — арабы в моих войсках знали, как его варить — и мои боль и стыд немного отступили, Этим же вечером я созвал совет старших военачальников. Я сказал им, что как сын бога я не могу ослушаться предупреждения богов, поэтому, как только все будет готово, мы отправимся в обратный путь.
Все они встали на одно колено, когда я покидал палатку для совещаний, и склонили головы, ибо, как мне кажется, чувствовали горечь моего поражения. На следующий день я разделил свою армию на двенадцать частей; каждая получила свою долю пленных и рабов и приступила к строительству алтаря высотой с парус пентеры, на каждом из которых были начертаны следующие слова:
Отцу моему Амону
Брату моему Гераклу
Афине премудрой
Зевсу Олимпийскому
Кабирии Самофракийской
Гелиосу индийскому
Брату моему Аполлону.
Я оставил небольшое пространство между шестым и седьмым алтарями и в нем воздвиг бронзовую колонну на вечные времена и на золотой пластине выбил следующую надпись на греческом, персидском и санскрите:
Здесь Александр сделал привал.
Это ведь так и было, и я выбрал этот глагол ввиду его истинности вместо ложного глагола «остановился». Теперь, когда я стал размышлять над этим, я понял, что привал в этом месте явился хорошим военным решением, отражая при этом мою готовность прислушаться к предупреждению свыше. Меня еще ждали великие победы. До своего тридцатилетия я еще расширю пределы своей империи во все стороны, за исключением восточной.
Однако в голове не прекращалась стреляющая колючая боль, и удары пульса отдавались в мозгу.
5
Дела следующих нескольких недель не заслуживают подробного описания, ибо не Александром совершались они, а сумасшедшим.
На протяжении этого отрезка времени я целиком или отчасти находился в состоянии умственного расстройства. Несомненно, на моем психическом здоровье сказалось мое поражение на западном берегу реки Гифасис и я стал более подвержен токсину ядовитого паука, забравшегося мне под одежду, когда я продирался сквозь густые заросли в первый день нашего пути на запад, и укусившего меня в бедро. В тот момент я только почувствовал резкую боль, словно от жала осы, и, тут же спешившись, я раздавил эту тварь через одежду, так что индийцы по телу не могли узнать, что это за существо. Хорошо известно, что укус тарантула вызывает временное безумие. Это большой коричневый паук, а тот, что укусил меня, был с кончик моего большого пальца, и все же он вполне мог бы принадлежать к тому же семейству.
Абрут запишет то, что я помню об этом периоде — я имею в виду действительные события, а не вымыслы безумной фантазии. Так, например, в нашей крепости, построенной Гефестионом на реке Акесин, первом большом притоке ниже Букефал, я принял вождя крупной страны, прибывшего с царскими дарами, и заместителя и брата царя Абисара — последний был слишком болен, чтобы явиться лично. Они просили принять их под мое покровительство. Абрут сообщает мне, что мои слова и поведение на этих приемах казались вполне разумными, как и названная мной хорошо просчитанная сумма ежегодной дани, которую они должны были впредь мне выплачивать. Однако бывший монарх мне все время представлялся львом, стоящим на задних лапах; он приглаживал рукой свою гриву и, улыбаясь, скалил огромные клыки. Заместитель же Абисара представлялся мне Каллисфеном, историком, отказавшимся верить в мое божественное происхождение, чье имя я внес в свою черную книжицу, а затем вычеркнул, и казалось, что каким-то образом он родился заново уже в виде индийца и брата царя.
Глядя на меня со стороны, я был по-прежнему царем Александром, когда из горной страны ко мне с великолепной процессией прибыл царь Софит, привезя средь прочих даров слонов и большую свору охотничьих собак, самых рослых и свирепых из всех, что я видел: их использовали в охоте на леопарда и на полосатого зверя из разряда кошачьих, которого местные называли баг; кроме того, как мне сказали, они могли перекусывать поджилки здоровенным диким буйволам и гигантским черным парнокопытным из джунглей. Но мне в голову пришла мысль, что это не собаки, а компания уже негодных к воинской службе македонцев, оставленных мною где-то на пути, и появились они здесь не иначе как с целью отомстить мне.
Но мое безумие принимало более неистовую форму, когда я натыкался хотя бы на самое слабое сопротивление в прибрежных городах. Раньше я со всей жестокостью расправлялся с непокорными народами, видя в этом военную необходимость; теперь же для этих индийских племен я стал мясником. Зачастую я отдавал приказ перебить все население, совершенно потом не сознавая, что я такое натворил, однако выражением своего лица я при этом настолько походил на прежнего, разумного Александра, что мои военачальники беспрекословно подчинялись, хотя наверняка в глубине души испытывали угрызения совести. Со всем искусством военной тактики я разворачивал свои силы для перехвата бегущих из городов жителей и полного их уничтожения, хотя нескольким небольшим группам удалось скрыться в густых лесах.
Как-то раз на какое-то мгновение я, должно быть, ощутил возвращение ко мне здравого рассудка. У речного брода скопилась большая толпа индов, за которыми я гнался, сам не знаю почему. Помню, я услышал, как кричу, отдавая приказ:
— Погоняйте коней и догоните их, а не то они уйдут!
Я увидел, как заалели воды реки, когда ее быстрый поток понес, крутя и переворачивая, зарубленных мечами, пронзенных копьями людей, а зачастую и обезглавленные тела, причем отрубленные головы тонули не сразу — этому мешал воздух в плотно намотанных на них тюрбанах. «Боги всемогущие, что я натворил!» — пробормотал мой язык; но тут же безумие снова заволокло мой разум, и мне уже стало казаться, что плывущие головы — это кокосовые орехи, сладкого молока которых так жаждало мое нёбо, а окрашенные кровью воды — это фессалийское вино из какого-то гигантского разбитого чана.
Бесполезно шли мои войска, бесцельно истребляли они людей по моему приказу. Я снова оставил Роксану в одной из крепостей, и иногда мне кажется, что, если бы она была со мной и я видел бы упрек в ее глазах, печаль на ее бледном лице, особенно если бы хоть одну ночь провел в ее нежных объятьях, я бы излечился от своего гибельного безумия. На самом же деле я приказал Абруту достать из моего личного багажа ее прекрасный бюст и разбить его топором на куски, черепки же бросить в реку, чтобы не видеть больше удивительных сапфиров в странной оправе, изображавших ее чудесные глаза. Он вынес статуэтку из моей палатки, и я услышал, как в темноте он со смаком рубит топором, а вскоре вернулся с пустыми руками.
Именно в этот период времени произошло событие, которое я не могу приписать целиком искажению моего сознания. Весь день у меня отсутствовало ощущение, что моя голова как в тисках, или, лучше сказать, как в «персидских клещах» — так называли орудие пыток, которым подвергли одного моего лазутчика, отчего он и умер. При этом на голову надевали обруч с железными наушниками и затягивали винтом до того, что глаза буквально вылезали из орбит. И все же, несмотря на это кажущееся здравомыслие, я в тот день приказал сжечь на костре храброго мятежного сатрапа и две сотни его сторонников.
Тогда же я и обнаружил пропажу бюста Роксаны, который держал на рабочем столе в своем штабе. Я спросил одного адъютанта, куда он мог запропаститься, и тот ответил, что не видел его уже несколько дней. Я бы допрашивал его и дальше, если бы не смутное воспоминание о темноте, если бы в сердце не заполз какой-то неясный страх, но, как только появилась возможность, я задал этот же вопрос Абруту и получил ответ, от которого заныло сердце:
— Мой царь, несколько дней назад ты ночью приказал мне вынести его из палатки и уничтожить, что я и сделал.
Что я мог на это сказать? Голова отказывалась соображать. Наконец я открыл рот и с трудом выдавил из себя:
— Это из-за укуса того ядовитого паука у меня помутилось в голове. Я велю сделать еще одно изображение, вот только нет больше драгоценных камней, чтобы изобразить ее прекрасные глаза. Придется их нарисовать закрытыми или сделать из дымчатого камня. Женщине не нужны глаза, чтобы видеть своего мужа. Она и так всегда чувствует когда он рядом.
Бледный, сильно опечаленный Абрут удалился, а я сидел, представив себе, как в ту проклятую ночь, когда уничтожили ее изображение, она наполовину проснулась в комнате, воздух которой был пронизан холодом зла, ей померещились в полусне жестокие удары, дробящие ей череп, оставляющие глубокие порезы на ее лице, отчего погибла ее красота и она наполовину умерла; и затем она ощутила, как ледяной поток реки подхватил ее погребальные останки.
Сон отказывался смежить мои веки, поэтому я встал, и мне показалось, что я узнаю себя, Александра, знаю, что я делаю и чего хочу. Я оделся, прицепил к поясу меч и вышел в ночь, залитую тусклым светом луны. У двери ко мне обратился встревоженный часовой:
— Мой царь! Сейчас полночь, страшное время, когда вся власть у злых духов. Луна бледная и больная и с каждым часом тает и слабеет, а воздух порождает болезнь в тех, кто выходит наружу. А еще, мой царь, свет ее неверен, и хотя тебе кажется, что ты можешь видеть далеко, даже вон та чаща, не более чем в сотне шагов, расплывается в темное пятно. Нельзя ли мне позвать надежного гонца, чтобы ты мог ему перепоручить свое дело?
— Я не мог заснуть, Актеон, и меня потянуло на свежий воздух. Теперь хочется поразмышлять о следующем походе. Я немного посижу на камне, а уж дальше чащи не пойду. Она ведь в границах лагеря, а он надежно охраняется.
Когда я шел к чаще, я понял, что она была у меня в мыслях еще до того, как я встал с постели, и что я должен идти туда обязательно, хотя я пока не знал почему. Подходя к ней я увидел, что это, в сущности, только круглый участок, густо заросший небольшим количеством молодняка под редко растущими деревьями. Я быстро нашел то, что, сам не зная того, хотел найти: ямку величиной не более двух квадратных футов, вырытую, наверное, медведем, охотящимся за каким-то землеройным грызуном. Теперь я вспомнил, что заметил эту дыру накануне днем, когда приходил сюда, чтобы вспугнуть и снова увидеть роскошного павлина, посвященного Гере, сестре и жене Зевса и Царице Небес. И теперь в тусклом лунном освещении размер этой ямки навел меня на мысль о могиле, вырытой несчастным отцом для гробика, в котором лежит крошечное тельце его перворожденного ребенка.
У греков с незапамятных времен сохранилось верование, что, если в вырытую в земле ямку пролить жертвенную кровь, она может просочиться к возлюбленным мертвецам в Аиде, которые, с жадностью осушив ее, на короткое время могут вспомнить свою жизнь на земле, прервать долгое молчание и поговорить друг с другом, пока выпитая ими кровь не остудится в их холодных и бледных телах, после чего они снова немеют и лишаются памяти. И если в определенные ночи убывающей луны, когда крепнет слабая связь между живыми и мертвыми, дающий кровь называет имя любимого человека, он может пройти во врата, охраняемые Цербером — полупсом, полудраконом с тремя головами. И при этом не нужно звать громко, ибо пьющие кровь слышат тихий шепот с места жертвоприношения.
И вот я вытащил из ножен свой меч и слегка провел им по тыльной стороне левой руки, сделав легкий надрез на коже и задев мелкий кровяной сосуд. В ямку пролилась тонкая струйка крови.
Немного выждав, я назвал имя: «Клит».
Почти моментально он предстал предо мной: собственно, это была тень моего друга из раннего детства, младшего брата моей няньки Ланис. В оболочке его астрального тела на груди темнело пятно.
— Александр, царь всех царей! — проговорил он голосом низким, но безошибочно принадлежавшим ему. — Зачем ты вызвал меня наверх?
— Я желал бы попросить у тебя прощения за то, что в гневе метнул в тебя копье, которое оборвало твою жизнь на земле и перенесло тебя в Аид, где ты теперь живешь.
— С тех пор у меня не было никакой другой жизни, великий царь! Только та, что во чреве матери, та, где мы в детстве играли с тобой, и та жизнь солдата, сражающегося под твоим знаменем. То, что было потом, это не жизнь, а только ее отдаленное эхо. Но я прощаю тебя ради той любви, которую испытывал к тебе, когда был одним из живых.
— Я тоже любил тебя, Клит.
— Нет, мой царь. Я думал временами, что ты любишь меня, я жаждал добиться твоей любви, ибо даже тогда не было равного тебе мальчишки, а потом мужчины: боги одарили тебя дарами, каких никогда еще не давали сыну, рожденному от женщины, но также и страданием. Ты не был способен ответить ни на одну любовь, и теперь не способен, если не считать любви к Роксане, не желающей кланяться тебе и тем самым не потакающей твоей чудовищной самовлюбленности. Вспомни-ка свое страдание и надежду спастись от какого-то ужасного рока. И этим роком может быть то, что ты уже понемногу отвечаешь на любовь Гефестиона, который обильно вскармливает чудовищную самовлюбленность, о которой я говорю, и тем самым толкает тебя на дела, подсказанные тебе твоей больной душой. И все же я никогда не думал, что умру от твоей руки. Я благодарен за то забытье, что обволакивает меня в темных залах внизу, ибо иначе я бы бесконечно оплакивал мир людей. И умоляю тебя, царь, больше не вызывай меня наверх, чтобы хоть на краткий миг разбередить глубокую рану в моем сердце. Прощай!
Его тень быстро растворилась, и там, где он стоял, осталось пустое место. Моя кровь на порезе уже запеклась, поэтому легким прикосновением меча я вновь открыл ранку. Снова выбилась струйка крови и, стекая по пальцам, закапала в ямку. Немного выждав, я снова назвал имя:
— Филот, сын Пармениона.
Тотчас же возникло очертание прозрачной фигуры, оно сгустилось, утратив прозрачность, и я отчетливо разглядел его мундир военачальника со срезанными знаками отличия и множеством черных пятен в тех местах, где безжалостные копья терзали его тело. Сначала я едва узнал это лицо — так его изменила пытка, которой подвергли Филота, чтобы он сознался в измене, и плетью висела одна искалеченная рука.
— Александр, зачем ты вызвал меня наверх? — спросил он. — Когда вниз проливается жертвенная кровь и тени расталкивают друг друга, чтобы немного попить, я остаюсь в стороне от этой толпы, потому что не желаю, чтобы ко мне вернулась хоть толика памяти о моей жизни на земле. Но это была твоя собственная кровь, кровь моего убийцы, и я, следуя какому-то побуждению или закону, которому обязаны подчиняться мертвые, вынужден был испить ее.
— Я надеялся, что теперь, когда тебе нечего терять, ты признаешься, что действительно виновен в измене своему царю и другу детства, и этим избавишь мою душу от печальной тяжести и вернешь моим снам сладкую безмятежность.
— Нет, мне нечего терять, кроме этой короткой и обреченной на скорое забвение радости оттого, что ты обременен печальным грузом вины и что во сне тебе являются привидения. Только потому я и буду говорить. Я не изменял тебе, Александр. Ни в помыслах, ни в делах я никогда не стремился причинить тебе зла, ведь ты был моим великим вождем и когда-то близким другом. Да, я выступал против растущего разрыва между тобой и верными тебе македонцами, против твоего безумного настаивания на своей божественности, и за этот вызов твоему тщеславию тебе захотелось признать меня виновным и заслуживающим смерти; и когда моя смертная плоть не могла больше выдержать пыток, я сказал, что виновен, и это была единственная ложь, которую ты когда-либо слышал от меня. К тому моменту я уже хотел умереть, и не только из-за телесных мук, но, что еще хуже, из-за душевных, ведь я следовал за тобой с такой верой, я всего себя посвятил твоему делу, я жил ради тебя. Ты совершил ради меня
милосердное дело: предал моего отца Пармениона внезапной смерти, но милосердие заключалось не в том, во что ты хотел верить — что будто бы он никогда не узнает об измене своего сына, — а в том, что он никогда не узнает о твоей измене мне, о твоем гнусном обвинении и жестокой казни, на которую ты меня обрек. Умоляю тебя, никогда не зови его наверх. Он пьет кровь вместе с другими во времена больших жертв на земле, и я вижу, как шевелятся его губы, хотя и не слышу голоса, и теперь я догадываюсь, что он говорит о своей смерти от рук твоих людей, такой странной и неожиданной, и, несомненно, он верит, что ты предал их смерти, немедленно отомстив за его убийство, и, думаю, он ищет своих убийц в бесчисленных толпах теней, чтобы спросить их, почему они его убили. Несомненно и то, что он хвастается твоими победами, ведь ты когда-то был его юным новобранцем и он безумно гордился тобой.
— Больше ни слова, Филот, прошу тебя!
— Я ничего больше не скажу. Вместо этого я оставлю тебя с моей ненавистью, во власти той судьбы, которую ты заслуживаешь и которой не будешь стремиться избежать, принеся некую жертву в оставшееся тебе короткое время, и тем самым спастись.
— О какой жертве ты говоришь? Умоляю, скажи мне. Я построю богам большие храмы с алтарями из золота. Я принесу в жертву много зверей — или рабов, если так пожелают боги.
— Нет, Александр, этого я тебе не скажу. Такова моя месть.
Через несколько секунд я увидел просвечивающие сквозь него луну и звезды, потом его очертания растаяли и я остался один.
Я вернулся в свою тихую спальню, разделся и лег, ощущая стреляющую от виска к виску боль, но даже она не могла помешать мне заснуть, и я погрузился в царство быстро сменяющих друг друга кошмаров; в промежутке между ними я мечтал о таком глубоком сне, чтобы в нем не было никаких сновидений.
6
Когда я проснулся утром, я решил, что возвращение на землю Клита и Филота мне только приснилось. Правда, я вставал с постели, судя по тому, что моя одежда лежала там, где я сбросил ее, и не в том порядке, в каком слуги обычно складывали ее, пока я мылся перед сном. Было очевидно, что я ходил во сне, что со мной иногда случалось в детстве, и каким-то образом я слегка порезался тыльной стороной руки о свой собственный меч: на его лезвии были видны засохшие пятна крови.
Все это я обдумывал, ощущая пульсацию в мозгу и боль в висках, и снова мое сознание заволокло туманом безумия, с течением дня все более сгущавшимся, и я не понимал, где нахожусь и как сюда попал. Однако я знал, что я Александр, победитель на Гранике, в Иссе, Тире и при Арбелах, повелитель Азии и урожденный сын Зевса.
Приступ безумия, вызванный укусом паука и отягченный срывом моих планов на реке Гифасис, внезапно прекратился во время сражения. Хотя я этого не знал, местом сражения оказался столичный город маллов при слиянии рек Акесин и Гидраот.
[213] Я только что совершил великий подвиг — так о нем будут помнить мои соратники — или поразительный акт безумия. Очевидно, мы пытались одолеть крепость штурмом; я очнулся как бы от долгого мучительного сновидения, в котором участвовал в жестоком бою, и вот оказалось, что я стою один на полу цитадели в своих ярко-серебристых доспехах, на голове шлем с белым пером, в руке — мой длинный меч. Смутная память подсказывала мне, что только что я стоял на стене, залитый солнечным светом, бился там — на мече была кровь. Теперь же я стоял у стены лицом к орущим врагам, взявшим меня в полукруг, но не осмеливавшимся переступить ту грань, за которой я мог достать их острием своего меча. Они метали в меня камни и дротики, которые я отражал щитом.
Раз я не упал, значит, ясно, что спрыгнул с парапета стены прямо в гущу врагов, несомненно, меня вынудили на это, ведь я был хорошей мишенью для дротиков и стрел. Я шел впереди штурмового отряда, который по какой-то причине отстал от меня, и воины не прыгнули со мной внутрь крепости. Прямо под парапетом слышался рев голосов, немного дальше — вой и тяжелые удары: очевидно, мои солдаты пытались пробиться через наружную стену. Передо мной лежал инд со знаками отличия командира, пронзенный моим мечом.
В этот момент трое моих телохранителей взобрались на стену и сразу же спрыгнули ко мне вниз, а немного погодя и четвертый. Но нам было долго не продержаться без подкрепления: инды метали в нас все, что только можно было метнуть. Мой старый товарищ Абрей пал, пораженный стрелой в лицо. Мне в шлем угодил камень, от ошеломляющего удара я на какое-то мгновение ослабил свою защиту, и тут же мне в грудь, пробив панцирь, вонзилась стрела.
Несмотря на это, я еще несколько минут отбивался, призвав на помощь всю свою ярость, но затем от потери крови у меня закружилась голова, и я упал.
Однако я не потерял сознания и все происходящее вокруг воспринимал как во сне. Теперь уже многие мои соратники, взобравшись на стену, тут же прыгали вниз, чтобы отбить противника и попытаться спасти меня, полуживого. Это была поистине жесточайшая схватка, тут и там падали раненые и убитые, но вот через разбитые ворота в крепость хлынули мои тяжеловооруженные пехотинцы и с воем бросились к нам на помощь.
Затем началась резня, которую я бы остановил, если бы дыхание позволило мне говорить. Думая, что я умер или умираю, обезумевшие от ярости солдаты перебили всех индов — мужчин, женщин и детей, — которые нашли убежище за стенами крепости. Я стал быстро погружаться в забытье и уже не чувствовал, как с окончанием битвы и резни меня положили на носилки и понесли в поспешно найденное помещение, где о моей ране могли бы позаботиться врачи.
Когда врач Критодем изучал мою рану, ко мне не раз на какое-то мгновенье возвращалось смутное сознание. Он без труда высвободил стержень стрелы, но ее железный наконечник застрял в моей грудине. Ему нужно было проникнуть в глубь раны, чтобы вытащить его наружу, и он спросил моего разрешения, можно ли слугам крепко держать меня, чтобы я вдруг не дернулся у него под ножом. Я ответил что-то, желая похвастаться своей выносливостью, и тут же провалился в какую-то глубокую яму. Когда я снова пришел в себя, это было похоже на чуть наметившийся просвет в тяжелой туче, и я не мог понять, что делается вокруг меня, что со мной произошло и где я нахожусь. Поистине, я оказался у самого края Реки Печали.
[214]
Казалось, я слышу журчание ее потока. Несколько дней я пребывал там в неопределенности, а потом Атропос, протянувшая ножницы к нити моей жизни, медленно отвела их назад, ибо жребий, брошенный её сестрой Лахезис, выпал так, что я должен жить, а не умереть. Я почувствовал прикосновение нежных рук — чьих именно, я не знал, — а также, по слабым звукам, присутствие недалеко за стенами моей комнаты множества людей, и кое-как догадался, что это мои солдаты: они ждут последних новостей, то сраженные горем слухами о моей скорой кончине, то воспрянувшие духом от известий, что я еще жив, что состояние мое не ухудшилось, а может, даже немного улучшилось. В нем действительно наступил перелом, и я осознал это раньше моих врачей.
Примерно на седьмой день после моего ранения я полностью очнулся и огляделся вокруг. Я был слаб, как малое дитя, но голова работала, хоть медленно, но ясно и трезво. Я сразу же узнал Ксанию, и сердце наполнилось радостью: значит, и Роксана где-то неподалеку. Потом я увидел нечто невероятное, но это был не бред, и я все же поверил в реальность увиденного. Рядом со мной на столе стоял бюст Роксаны — не копия, а любимый мной оригинал с лицом из слоновой кости, светлыми волосами из массивного золота и глазами из сапфиров с концентрическими кругами.
Я все еще с изумлением смотрел на него, когда Ксания выскочила из комнаты и тут же вернулась вслед за Роксаной и Абрутом. Я еще думал о чудесном возвращении бюста, поэтому первые мои слова были именно об этом.
— Мне приснилось, что эту прекрасную вещь уничтожили.
— Царь Александр, — отвечал Абрут с присущими ему точностью в выборе слов и спокойствием тона, — я опасался, что ей грозит уничтожение, когда однажды ночью ты пришел в бешенство от ядовитого укуса паука. Поэтому я спрятал ее в надежном месте до твоего выздоровления.
— Благодарение богам! — Я перевел взгляд на Роксану. Лицо ее было бледным и утомленным, зато глаза горели восхитительным светом. Ее красота ворвалась ко мне в душу, заговорила с ней и благословила меня.
И вскоре после этого нужно было убедить моих сподвижников, что я еще жив, ибо в войске ходили слухи, что я уже умер. Солдаты подозревали, что военачальники скрывают правду ради какой-то бесчестной цели или боясь, что закаленная боями армия превратится в беспорядочную толпу и станет неуправляемой в этой враждебной земле, вдали от знакомых мест. Военачальники пообещали им, что завтра они убедятся в этом собственными глазами, когда меня вынесут из дома на носилках.
Наутро солдатам приказали построиться в шеренги и меня пронесли вдоль их рядов. Увидев, что я поворачиваю голову и даже приподнимаю руку, они разразились такими неистовыми криками ликования, что, наверное, сам Зевс услышал их и, посмотрев на землю, снова подумал о своем посещении Олимпиады, о полученном наслаждении и его плоде. И возможно, подумал, усмехнувшись про себя, что ревнивая Гера, его сестра и жена, так и не узнала об этом или, по крайней мере, не имела доказательств, чтобы обвинить его в этой измене, хотя по моим невиданным по масштабам завоеваниям она, должно быть, догадывалась, что породил меня вовсе не смертный человек.
В нашем главном лагере до большинства также дошли слухи о моей смерти, ведь плохие новости распространяются быстрее хороших. Их нужно было успокоить, ибо они отлично понимали, с каким сопротивлением встретятся по пути на запад, как будут избивать их в горных теснинах мятежные или не полностью покоренные племена и каково им придется без моего руководства во льдах и снегах Гиндукуша, или как будут они падать и умирать в горячих песках пустынь. С помощью Роксаны, поддерживающей кисть моей руки, я написал им короткое письмо, быстро доставленное в лагерь, однако они считали его подделкой и хотели увидеть собственными глазами, что я еще жив. Поэтому, как только врачи дали свое согласие, меня перенесли на судно, и оно отправилось в сторону лагеря. Войско с берега увидело, как я поднимаю руку, приветствуя его, и встретило меня таким ревом радости, какого Индия еще не слышала с рождения Кришны, который, несомненно, был Дионисом, богом, обреченным жить рядом с людьми, а не в таком отдаленном жилище, какое было у Шивы, не говоря уж о Брахме, который был Зевсом. И Кришна сам воспламенил чрево несчетному числу молочниц, чтобы скот тоже плодился в невиданных размерах и вся земля была благословенной.
При высадке на берег я отверг носилки и сел на лошадь, чтобы проехать верхом небольшое расстояние до моей палатки, доставив общую радость всем, кто это видел: Роксане, военачальникам и врачам, Абруту и рядовым солдатам.
И теперь, когда плохие новости о моей смерти оказались ложными, или, скорее всего, сладкая ложь обернулась горькой правдой, все непобежденные враги в округе стали присылать ко мне послов. Они отказывались от свободы, которой пользовались с рождения Кришны, и готовы были объявить меня своим царем и подчиниться любым назначенным мной наместникам, ибо им стало ясно, что я божественного происхождения и власть моя продиктована волей и моих богов, и их собственных.
Я потребовал тысячу заложников, которых, если мне будет желательно, я мог бы включить в состав своей армии. Мне их прислали, а с ними более ста боевых колесниц. Подумав, я решил, что одни инды никогда не будут воевать против других, что присланные заложники не станут умиротворять вождей, если те захотят восстать, и что нынешний мир можно будет сохранить только моими собственными силами — если я оставлю в их городах свои гарнизоны. И службу в этих гарнизонах должны нести не греки, тоскующие по родине, а персы, которые, будучи и сами восточным народом, легко усвоят язык и образ жизни индов.
Тем временем другие мои дела быстро продвигались вперед. Большой отряд, отправленный на строительство судов, которому в помощь я дал прекрасных мастеров корабельного дела из индов, строил за день, по меньшей мере, одно прочное судно с мачтой и парусом с одним или несколькими рядами весел. Их прислали мне партиями вместе с большим количеством барж с высокими ограждениями для перевозки лошадей. В знак благодарности богам за свое избавление от болезни я основал город у того места, где река Гифасис впадает в Акесин, и дал ему имя, которое народ никогда не забудет, — Александрия.
Я думал назвать город именем Роксаны, но, к моему удивлению, она отказалась от этой чести. Она объяснила, что не оставила на этой земле ничего памятного, однако это могло бы увековечить память о ней, и что во время похода по этим местам она не была счастлива, если не считать самого счастливого для нее дня, когда я оправился от свалившей меня раны. Однако ей будет приятно, если ее имя будет носить какая-нибудь милая деревушка в Бактрии. Я начал подозревать, что она тоскует по родине, поскольку во время индийской кампании мы так редко были вместе, а потом, раненый, я долго провалялся в постели. Поскольку я не мог в ближайшем будущем привезти ее в Бактрию, я задумал привезти Бактрию в лице ее царя-отца к ней. Множество жалоб и даже угроз мятежа со стороны оставленного мною там гарнизона было достаточным основанием для вызова ко мне этого отважного воина.
Мои гонцы добрались до него, пользуясь почтовыми станциями и ханами, которые я поставил между городами Ортоспания и Александрия через Гиндукуш, и в должный срок он прибыл в мой стан. После радостной встречи с дочерью, я выслушал подробности заговора, который вынашивался в его царстве начальником греческого гарнизона; он был убит другим греком по имени Битон, замышлявшим вместе с нанятым им убийцей кровавую расправу над начальниками, пытающимися предотвратить мятеж, но оба справедливо получили по заслугам, и все успокоилось под рукой Оксиарта.
Настаивая на том, чтобы эта рука была твердой в обращении с непокорными горными племенами, я поставил его сатрапом еще одной территории. Мы обменялись дарами, лучшим из которых с моей стороны было мое полное доверие, а с его — твердость характера, гарантирующего это доверие. Теперь меня не удивляло то, что у него и скифской княжны хоть и варварского, но гордого, воинственного и храброго народа родилась такая замечательная дочь, как Роксана.
В нашем лагере у слияния рек я соединился с Гефестионом, командовавшим большой группой войск, и Кратером, поставленным командовать флотом. Гефестион сделал только одно замечание по поводу бунта македонцев на верхней реке — это когда я спросил его, что бы он сделал, будь он там.
— Царь Александр, я бы посоветовал тебе разоружить македонцев — у тебя для этого достаточно персидских солдат, — а затем каждого второго пригвоздить к дереву, чтобы это послужило предостережением всем остальным. Тогда твоя армия шла бы полным шагом к реке Хакра, которая бы стала разумным пределом твоей империи; а там ты уже по своей воле мог бы приказать войскам повернуть назад.
Случайно находясь поблизости, Роксана услышала то, что сказал Гефестион, и после его заявления она поспешно выбежала из комнаты.
Если мои македонцы, одержав надо мной победу, были чересчур довольны собой, то один случай, происшедший в этом лагере, несколько поубавил их непомерную гордость. У меня в войсках был афинский боксер по имени Диоксипп. Македонцы часто поддразнивали его, говоря, что он хорош, когда упражняется, натирается маслом и массирует свои мышцы, а вот в настоящей схватке его редко кто видел. Я устроил пир, на котором один македонец по имени Горрат хватил через край, стараясь очернить афинянина, и, в конце концов, вызвал его назавтра на поединок. Корпусу старых ветеранов эта перспектива показалась заманчивой, и я не стал мешать.
Выбрали поле, собралась большая толпа, македонцы заключили много пари с греками и персами. Македонский боец вышел в полном вооружении — с мечом, щитом, дротиком и длинным копьем. Когда же появился афинянин, все так и вылупились от изумления: на его теле, кроме пленки масла, ничего не было, а в руках он держал единственное свое оружие — дубину. По всем признакам нам предстояло стать свидетелями зрелища, равноценного убийству.
Афинянин пошел на македонца, легко ступая на подушечки пальцев ног, и тот метнул в него дротик. Рука его была верна, но, когда снаряд пролетел разделяющее их пространство, мишени перед ним не оказалось: атлет слегка отклонился в сторону, и дротик даже не задел его. Только македонец перехватил копье, готовясь к новой атаке, как афинянин прыгнул к нему быстрей пантеры и ударом дубины сломал древко. Пока пославший вызов доставал меч, гимнаст захватил ногой нижнюю часть ноги противника, одновременно сильно толкнув его. Тот рухнул на спину, и атлет моментально выхватил у него из руки меч, отшвырнул его в сторону и встал над ним, замахнувшись дубиной для последнего смертельного удара.
В наступившей тишине я как раз вовремя успел крикнуть: «Постой!»
Этот случай имел печальное завершение. Македонцы отомстили: стянув красивую золотую чашу и спрятав ее в багаже афинянина, они обвинили его в воровстве. Будучи под арестом, он написал мне письмо, в котором клялся в своей невиновности, а затем лишил себя жизни.
Если это трагическое происшествие имело какой-то смысл, я не понимал, в чем именно он заключается. Я видел, что ловкость может в бою соперничать с яростью или, по крайней мере, этому следует обучать солдата, но почти ничто не могло сравниться с хитрой и злой уловкой. Все, что я мог сделать во искупление, это послать весь македонский корпус по какому-то бессмысленному заданию на двести стадиев в глубь пустыни к юго-востоку от нашего лагеря, где водилось много гадюк и стояла несносная жара, — всего четыреста стадий пути. Когда они вернулись, шатаясь от усталости и тяжело дыша, я решил, что не скоро им захочется снова прибегать к низменным фокусам, чтобы гнусно отомстить честному и достойному победителю.
Весной мы снялись с лагеря и отправились вниз по реке Инд. Более половины всей армии вел Кратер по западному берегу, остальные силы вел Гефестион по восточному, я же командовал флотом. Минул мой тридцатый день рождения, то есть шел тридцать первый год от Александра. Я правил уже десять лет. Двенадцать лет прошло с тех пор, как я впервые возглавил кавалерию гетайров в Херонее.
Чтобы отметить эту дату, я недалеко от устья большого притока Вахинды
[215] основал город Александрия-Опиана. Река была столь же многоводна, как и сам Инд, и место для города было очень подходящим.
На ее берегах жили малорослые темнокожие крестьяне, и вождь их не торопился прийти ко мне на поклон, но как только я в гневе пошел на него, он тут же прислал мне слонов, нагруженных дарами, и приветствовал меня как Зевса-Шиву. Я смилостивился, но в его главном городе оставил сильный гарнизон. Мы напали на следующий стоявший у нас на пути большой город, разграбили его и оставили в нем сатрапом местного вождя, после чего все большие и малые города в округе широко открыли нам свои ворота. Так мы избежали ненужных жертв.
В Паталах, богатом царстве в дельте Инда, княживший там предводитель сдался мне с большим почетом, сохранив свои земли и народ, и обеднел только на то, что пополнило продовольственные запасы моей армии. А вот глава какого-то маленького городка, напротив, сначала закрыл свои ворота, а затем вывел свою армию мне в тыл, когда я притворился, что отступаю. За это он поплатился уничтожением пятой части своего войска и полонением третьей, причем это можно назвать еще малой ценой за такое легкомысленное высокомерие. Позже предводитель Патал почему-то решил, что я не намерен выполнить условия его сдачи, ибо когда мы подошли к его городу, то обнаружили, что он сбежал в джунгли вместе со всеми жителями. Вместо того чтобы пуститься за ними в погоню и перебить их всех, как горячо посоветовал бы верный Гефестион, я отправил глашатаев, чтобы убедить их вернуться в город, и большинство из них так и сделало.
Этот милосердный поступок привел Роксану в восторг, но зато ее расстроила моя жестокость по отношению к нескольким обществам брахманов, которые, похоже, полагали, что принадлежность к высокой касте дает им право обсуждать поступки сына Зевса. По существу, они спокойно оскорбили меня в лицо и предсказали, что моя великая империя скоро падет, оставив мне едва ли достаточный клочок земли для могилы. Потребовалось многих повесить и немалое их число пригвоздить живьем к деревьям, прежде чем они поняли, что маленький кружочек краски у них на лбу не дает им особого права открыто высказывать свое пренебрежение.
У меня снова проснулась страсть к исследованиям, поэтому с небольшим, но сильным отрядом я на лучших судах отправился вниз по юго-западному рукаву дельты, приказав девятитысячному войску следовать за мной по берегу. Но вскоре мы получили известие, что они не могут продолжать свой путь в страну, настолько забытую богами. Это донесение и мои собственные наблюдения породили во мне сомнение в том, что царь Аида имеет свои владения под землей, а не в дельте Инда. Здесь то и дело встречались глубокие и вонючие болота и лагуны, а дебри джунглей были почти непроходимы, если не считать троп, проложенных дикими слонами, буйволами, полосатыми львами, пантерами, оленями и кабанами. Везде попадались змеи, включая змей с капюшоном, которые были в два-три раза длиннее тех, что мы встречали на севере. Агрессивные, с недобрым взглядом, и укус их вызывал столь же быструю смерть, как и пронзившее легкие копье. Там обитала пятнистая змея обычного размера, часто нападавшая из засады; ее длинные клыки несли жертве верную смерть. И были там еще удавы длиной в десять шагов и в поперечном объеме равном объему крупного человека в бедрах. Эти, однако, на нас не нападали, а просто лежали, свернувшись в темные, если в лесной тени, или в мерцающие, если на солнце, кольца. Пиявки и прочие отвратительные ползучие твари, а также огромные рои летучих насекомых превращали жизнь в кошмар.
Наше плавание к морю оказалось чрезвычайно трудным и опасным. Река сильно вздулась от муссонов, дующий против ее течения ветер взбивал сильные волны, и жертвы, приносимые нами Посейдону, нисколько не успокоили ее. Если человек падал за борт, помочь ему было невозможно: на него тут же нападали гигантские крокодилы. Только захватив лодку полную местных жителей, которых мы заставили стать нашими лоцманами, мы нашли путь к защищенному от ветра бассейну. Отсюда мы вошли в устье реки, где ощутили полную силу ветра и волн, мотающих нас в разные стороны. Я почти уверовал в то, что мой отец сердится на своего сына.
Мы приблизились к берегу, и некоторые высадились. Здесь мы впервые узнали, что такое мощные приливы, неизвестные на нашем Внутреннем море. Я имел представление о приливах и отливах из учения Аристотеля, но даже не догадывался об их истинной силе. Сначала, когда вода отступила, наши суда сели на дно, а потом, когда она снова прихлынула мощным потоком, нас чуть не затопило, а некоторые суда столкнулись друг с другом, причем одно затонуло, а несколько получили серьезные повреждения. Между тем люди на берегу вынуждены были бежать в леса от аллигаторов, выползающих из моря, и единственное удовольствие, которое получила моя душа от нашего познавательного плавания, было доставлено мне нашими маленькими темнокожими пленниками, которых мы использовали в качестве лоцманов: они трещали между собой, как обезьяны, и улыбались во весь рот. Их боги, думали они, могущественнее наших, и я почти поверил в это, потому что от наших молитв и жертвоприношений не было никакого толку.
Починив суда, мы тут же направились к острову, лежащему от нас на расстоянии полного дня пути на веслах. О нем рассказал нам захваченный лоцман, в основном посредством языка знаков и немного хинди, понятного одному индийскому гребцу. Мы шли в открытом море, во владениях брата моего отца, и он знал, что я не боюсь. Высадившись на острове, мы купили у местных жителей волов, принесли жертвы Посейдону и Зевсу за наше благополучное плавание в такую даль и, вылив из золотых кубков вино в воду, бросили кубки в морские глубины.
Отсюда лоцманы вывели нас на глубокую воду, за что в положенный срок мы их отпустили. С помощью приливов и непрестанных ветров, дующих к берегу со стороны моря, мы быстро добрались до Патал. Закончив здесь строительство крепости, мы построили небольшую морскую базу, но я не знал, какую пользу мы извлечем из этого в будущем. И теперь, когда дальнейшее пребывание в Индии не могло уже больше принести нам ни новых земель, ни богатств, я стал обдумывать наш поход на запад.
Под моей властью оказалось множество завоеванных земель, нам платили богатую дань и еще больше было захвачено в качестве военной добычи. Однако мне не хотелось вести подсчет цены, уплаченной за все это, в изнуренных солдатах, оставленных в чужих селеньях, в тех, кто погиб в сражениях или от несчастных случаев, и в огромных цифрах жертв, унесенных болезнями. Долго ли устоит моя индийская империя? Народ нас ненавидел, трудно будет снабжать наши гарнизоны и защищать наши крепости, и я носом чуял неприязнь и мятежи в недалеком будущем. Я чуть не потерял веру в свое великое назначение.
Но вскоре я увидел возможность доказать это еще раз. Кратер с главными силами моей сухопутной армии давно уже отправился в поход через Дрангиану. Имелся и более короткий путь, через пустыни Гедросии, и мне было открыто заявлено, что ни одна армия не может там пройти, не будучи сокрушенной жаждой и другими тяжелыми испытаниями. Разве свидетельством тому не были беды, постигшие при переходе через эти пустыни сказочную царицу Семирамиду из Ассирии и великого Кира, основателя персидской империи?
И все же я решился: я покорю любую пустыню, которая вздумает преградить мне путь; я возьму с собой отборное войско с легким вещевым обозом и тяжелыми повозками с сокровищами и поспорю с глубокими песками — я сотворю новую историю. Ибо я был зачат богом, и это могущественное семя исключало малейшую способность уступать или сдаваться до того, как пробьет мой час умереть и занять свое место рядом с Дионисом и Гераклом, рожденным от смертных матерей. Я уже сожалел, что уступил моим македонцам на западном берегу Гифасиса, но я бы этого не сделал, если бы не видел, каким образом я смогу расширить свою империю за счет походов на север, юг, а возможно, когда придет время, и на запад, за пределами Греции.
Я вспомнил еще одну пустыню, дождь и явление мне двух богоподобных фигур, восседавших на тронах немного ниже других тронов, занятых смутно различимыми фигурами более древних богов, но я знал, насколько прекрасно их общество. И эти двое богов помоложе смотрели в сторону на того, кто к ним приближался, и отмечали его деяния.
Я сильно встряхнул головой, и боль, стреляющая в висках, прошла.
Глава 9
ТЕНИ И ПРИЗРАКИ

1
Только богам известно, сколько караванов, кочевых племен или банд грабителей пытались пройти по пустыне Гедросии только для того, чтобы погибнуть от жажды, жгучего зноя, песчаных бурь, самоубийств от невыносимых страданий, убийств со стороны спутников за несколько капель воды или от потери ориентации в этих безлюдных пространствах. Две царские особы, бросив вызов раскаленным пескам, пускались в поход в сопровождении множества солдат, слуг, рабов, а в конце пути у них оставалась лишь горстка полумертвых, падающих с ног людей. Одна из этих особ была царица Семирамида, единственная женщина, ставшая великим завоевателем, согласно как историческим сведениям, так и мифическим преданиям, и Аристотель рассказывал нам, ученикам, что история ее жизни является смесью того и другого.
Она попыталась пройти по этой жуткой земле на восток, чтобы завоевать Индию, и ее до того непобедимая армия потерпела сокрушительное поражение. Согласно легенде, она являлась дочерью Диасуры, богини рыбаков — так ее знали в Греции, особенно в приморских городах, а культ ее принесли туда сирийские купцы. После своего долгого царствования сама царица была возведена в божественный сан, ее отождествили с Астартой и изобразили с голубем в руке.
Второй монархической особой, усомнившейся в силе песков, был не кто иной, как Великий Кир, родившийся за два века до меня. Согласно легенде, он был сыном второстепенного бога, вскормленным молоком собаки и выращенным пастухом. Абрут готов был молиться на него, потому что он освободил евреев из вавилонского рабства и позволил им вернуться в Палестину для восстановления иерусалимского храма. Уступая только мне, он был величайшим из всех известных в мире завоевателей.
Однако попытка победить эту пустыню до меня окончилась его поражением, и, когда он достиг ее западной окраины, от его огромного войска остались в живых только семь человек.
Мне предстояло еще раз превзойти Кира, одолев этот необитаемый океан песка. Я предполагал идти вдоль берега моря, где наверняка можно было найти подземные источники пресной воды. Выслав вперед людей, чтобы они накопали колодцев, я надеялся обеспечить Неарха, командовавшего флотом, достаточным количеством воды, когда самому мне придется углубиться внутрь страны.
Под ослепительным солнцем конца лета я за девять дней преодолел путь из Патал в Крокалы.
[216] Еще через пять дней я подошел к реке Арабий, обитатели ее долины немедленно и добровольно сдались мне. Переправившись по мелководному броду, мы обнаружили пустые дома и заброшенные фермы, ибо жители бежали в пустыню. Я преследовал их всю ночь, не желая оставлять у себя в тылу непокоренный народ, который мог напасть на мои повозки с казной; оказавших сопротивление перебили, некоторых взяли в плен, но большинство ушло в теснину, где вместе с другим племенем из этих пустынь они намеревались остановить меня. Однако, завидев мою марширующую армию, их вожди вышли мне навстречу, сдавая окружающую их дома территорию. Я пощадил их и велел вернуть беглецов в деревни, обещая, что если они не потревожат меня, то и я их не потревожу. Здесь я оставил Леонната с небольшим отрядом для сбора припасов, необходимых моему флоту под командованием Неарха. В этих же местах со мной соединился мой горячо любимый Гефестион, строивший до этого цитадель в пыльной столице этого племени.
Я отправился по короткому пути назад к берегу моря, пройдя небольшой участок пустыни и цепь бесплодных холмов. Перед тем в последний раз взглянул я на пальмы в оазисе, не зная, когда увижу их снова, на их прекрасные листья, отбрасывающие тень, на ветви с восхитительными на вкус питательными финиками. В пустыне единственным полезным деревом был тамариск, дающий мирру. Росло там еще дерево с очень длинными острыми колючками, которое солдаты прозвали «фалангой».
Мы вышли к берегу и там, где он превратился в соляные болота, увидели мангровые деревья с сочной листвой, несмотря на ядовитую соль, всасываемую их жадными корнями. Но вскоре после этого мы вынуждены были расстаться с берегом: на пути вырос горный кряж с такими крутыми склонами, что казалось, он нависает над водой; убедившись в его полной непроходимости, мы повернули на север — это был единственный выход из положения. Трудный путь по каменистой земле привел нас к сухому руслу реки, каменное ложе которого так слепило глаза, что больно было смотреть. Здесь я справился у нашего прорицателя, стоит ли идти на запад вдоль этой унылой могилы того, что недавно было живой рекой с очаровательно журчащими струями воды, или же искать другой маршрут, по которому мы могли бы выйти к берегу моря. Знаки оказались благоприятными, и хотя я мало им доверял с тех пор, как они солгали мне на берегу Гифасиса, тем самым приведя Александра к поражению и отчаянию, я пошел этим путем.
Это решение оказалось печальной ошибкой. Идя по камню или глубокому песку долины, мы не могли найти ни одного источника, а если изредка и попадались водные скважины, они были испорчены животными и покрыты вонючей пеной, да и воды в них было далеко не достаточно, чтобы хватило на всех. Наши бурдюки почти опустели. Невыносимым зноем дышала каждая дюна и мертвая трава. Чем дальше мы удалялись на запад, тем реже попадались такие скважины и меньше в них было воды, и вскоре мы уже не могли отыскать ни одной.
У солдат появились признаки сильного обезвоживания. Мы не могли вернуться назад и поискать лучшего маршрута, нам ничего не оставалось, как только двигаться вперед. Животные быстро теряли силу, они страдали, но не могли об этом сказать; люди тоже не говорили о своих муках — им этого не позволяла солдатская гордость; и ни тем, ни другим нельзя было ничем помочь. Нет, можно было все-таки сделать нечто такое, что склонило бы чашу весов от смерти к жизни для многих тысяч людей.
Это было бы равноценно принесению чудовищной жертвы пустыне. Это в огромной мере затмило бы достигнутый мной до сих пор успех. Прежде чем решиться на такое отчаянное средство, я взобрался на холм, существование которого можно было объяснить только тем, что какая-то кочка стала задерживать надуваемый ветром песок, холмик рос, и бураны не могли разрушить его благодаря тамариску, глубоко пустившему корни у него по бокам. С его вершины мне открылся вид, в котором, несмотря на яркий солнечный свет, было больше скорби, чем в тусклых залах Аида.
Насколько хватало взгляда и куда бы ни устремлялся взор, ничто не говорило хоть о малейшем изменении в характере местности: о пальмах оазиса, о зеленом окаймлении живой речки, о маленьком пятнышке зелени, указывающем на подземный источник. Все дюны этого бесконечного множества дюн выглядели совершенно одинаково. Не было ни холмов, ни деревьев или кустов, сочных от влаги, ничего, отличающегося от песка, кроме длинных гряд выветрившегося камня и гравия, нигде не было видно ни одной длинной тонкой линии иного оттенка, что могло бы оказаться караванной дорогой, ни одного живого существа, кроме крадущегося шакала, хищных птиц, зорко следящих с высоты, да случайно занесенного сюда ворона. Все до горизонта плавало в волнах зноя, а солнце висело испепеляющим огненным шаром.
Со мной на холм взобрались только двое: Птолемей и Абрут. Наконец я заговорил:
— Мы должны отказаться от лишней ноши на спинах людей, вьючных животных, от багажных повозок и колесничных телег для женщин.
— И от солдатских доспехов? — спросил Птолемей после продолжительного молчания.
— Да.
— До прихода в Карманию мы можем наткнуться на неприятеля.
— Схватимся с ним и без доспехов.
— Каким оружием?
— У каждого будет одно, по его выбору. Оставьте палатки, все инструменты, без которых можно обойтись, все, что имеет вес и не способствует нашей надежде прожить еще две недели.
— Ты представляешь себе, что войдет в это число?
— Представляю.
— Великий царь!
— Нет, отчаянный.
Мне показалось, что Роксана догадалась о моих мыслях прежде, чем я намекнул о них в разговоре, или же мы пришли к одинаковым выводам каждый своим путем. Я увидел, как она хлопочет у одной из багажных повозок, затем открывает сундук. И не успел я сбежать вниз с холма и преодолеть разделяющее нас пространство, как она извлекла из сундука дорогой мне бюст, взяла в руки железный инструмент и принялась выковыривать сапфировые глаза из мягкого материала слоновой кости. Спрятав их в карман, она зашвырнула бюст с головой, покрытой сплошным золотом, в пески.
— Роксана, ведь после тебя это самое дорогое, что у меня было. Я бы мог заставить раба нести…
— Он бы просто умер. И другие вслед за ним тоже. Александр, если ты умрешь, бюст тебе не понадобится. Если же будешь жить, то любой хороший скульптор сможет сделать тебе еще один.
И вот я отдал слугам лучше всего охраняемых повозок приказ, от которого глаза у них полезли на лоб, оставить в море песка все наши казначейские сундуки с монетами и золотыми художественными изделиями: кубками, чашами, ларчиками для благовоний и духов, древними идолами, имен которых мы не знали, — в целом весом в пятьсот тысяч талантов и ценностью более двухсот пятидесяти миллионов статеров. За ними последовали сундуки с серебром, и шестеро мускулистых солдат, взгромоздив их друг на друга, устроили небольшую платформу. Поднявшись на нее, я обратился к солдатам, которые уже не соблюдали строя.
— У каждого воина моей армии есть кошель золота весом от одной оки и выше. Я советую — не приказываю — оставить его в песках, когда мы продолжим свой поход. — Затем, перефразируя то, что сказала мне Роксана, я добавил: — Если вы умрете, это золото вам не понадобится. Если же будете жить, каждый из вас получит свою долю казны из подвалов Персеполя, Вавилона, Суз и Экбатан, а там вы сможете наскрести куда больше.
Подавляющее большинство солдат, услышав мой голос, сразу же бросили в растущие кучи свои кожаные кошели с золотом. Стоящие в отдалении увидели, что происходит, и многие только сделали вид, что бросают, но тут же до них доходило, в какое исключительно отчаянное положение мы попали. Персы и бактрийцы легче других отказывались от своего добра, македонцы же — неохотней всех. Вполне естественно, подумал я, ведь они воевали дольше остальных корпусов ветеранов. Кроме того, существовала поговорка, над которой я посмеивался, несмотря на то, что в ней была доля правды. «Возьмите сирийца, армянина, еврея: никто из них не любит так золота, как грек». Наверняка та же самая по смыслу пословица, только относящаяся к другим национальностям, существовала во многих языках.
Продолжая путь, люди то и дело оглядывались назад. От главной кучи сокровищ протянулась как бы ведущая к приманке тропа, по мере того как солдаты один за другим выбрасывали свои кошели; однако находились и те, кто надеялся сохранить сбережения и насладиться ими в зелени какого-нибудь далекого края. Но нещадно палящее солнце и растущая жажда умели хорошо убеждать.
Чтобы не думать о том, что ждет впереди, я праздно задавался вопросом, будут ли когда-нибудь найдены эти громадные кучи сокровищ. Мои инды рассказывали мне, что этой пустыней, насколько помнится, не проходил никто со времени похода Кира на Восток, когда до Инда добрались только он и семеро его спутников — все, что осталось от его несметного войска. Может, во время коротких дождей поджарые обитатели пустыни на одногорбых верблюдах станут объезжать ее по краю и часть из них, как и мы, собьется с пути и наткнется на наши сокровища. Может, они отбросят бурдюки с водой и нагрузят верблюдов этим добром так, что эти ценные животные не смогут подняться с колен, и они тогда станут разгружать их понемногу, пока не убедятся, что те смогут идти, и, может быть они благополучно доберутся до своих деревень, а возможно, и погибнут — умрут богатыми в этих безжалостных песках.
К концу еще одного перехода — не более десяти миль по изнуряющей жаре, по глубокому песку или рыхлому гравию — одно кажущееся безрассудным мероприятие оказалось совершенно необходимым, чтобы вывести значительную часть моего войска и его сопровождение к морю. Не имея достаточного количества продовольствия, солдаты могут идти до тех пор, пока под туго натянутой кожей не проступят скелеты, но без воды они долго не протянут. Ужасы этого похода через пустыню только начались. Позади остался только наименьший из предполагаемых мной, впереди нас ждал настоящий ужас, которого я всегда боялся, и опасность встречи с которым возросла безмерно.
На следующий день отдельные солдаты стали выбиваться из колонн, но все еще тащились позади, дорожа своей жизнью, пока без сил не падали на песок. Идущие в арьергарде пытались заставить их идти дальше, но безуспешно, и вскоре они отказались от этих попыток. В рядах стали появляться безобразные бреши, как если бы нас атаковал невидимый враг.
Наши вьючные животные также страдали и также умирали, и теперь к их мучительной жажде присоединилось неистовство голодных людей, которые убивали животных, чтобы пить их солоноватую кровь, пока внимание их начальников отвлекалось на что-то постороннее. Многие сходили с ума и, бормоча, брели в пустыню, и никто не шел за ними, даже не окликал их. Из-за нехватки перевозочных средств больных и раненых оставляли умирать. Мы были в положении персов на Гранике, только косили нас не копья и мечи, а зной, жажда и измождение; притом персы умирали быстро, многие испытав лишь раз острую боль от вонзившегося в тело оружия, тогда как мои солдаты умирали в долгих мучениях. Мне невыносима была мысль о подсчете числа погибших; Гефестион полагал, что оно составляет половину моего войска. И все коршуны, грифы и вороны в этих необозримых небесах уже узнали весть об ожидающем их пиршестве, уже слетались и обжирались до пресыщения, до тех пор, пока не могли подняться с земли, но когда снова ощущали сильный голод, летели вслед за нами мрачной, навевающей ужас стаей. Вскоре они поняли, что упавшие не в силах отбиваться, и выклевывали глаза еще живым. Обернувшись, невозможно было не увидеть бесконечную цепь усевшихся небольшими кучками пирующих стервятников; некоторые отделялись от стай, намечали цель и плавно спускались на только что упавшего солдата; другие поднимались с едва отведанного угощения, чтобы присоединиться к орущей компании в безжалостном пекле небес.
Обитающие в пустыне шакалы тоже сбивались в невероятно большие стаи и в нападении на еще не умерших проявляли больше дерзости, чем коршуны. Когда опускалась тьма и все были сыты, они переговаривались на языке вампиров, издавая дикие зловещие крики и визги, сопровождаемые отвратительным хохотом.
Единственная вода, которую мы обнаружили в большом количестве, оказалась нам врагом, а не другом. Мы расположились лагерем у ручья с несколькими застоявшимися лужами, и в это время некий бог пустыни, ненавидевший меня или свою подчиненность Зевсу, совершил по отношению к нам низкий поступок. Посредством кратковременного и сильного ливня в его верховьях он вызвал мощный приток воды, ручей быстро переполнился и настолько вышел из берегов, что утонуло много ослабших мужчин и еще больше женщин и детей; но все же лучше было умереть вот так внезапно, чем в медленных муках, брошенному в песках, от клювов и клыков хищников. Немало людей погибло и оттого, что пили без меры и их иссушенные почки не могли выдержать такой тяжелой нагрузки. Они умирали в конвульсиях.
Из наших женщин и детей оставались в живых менее чем каждая пятая: это были жены,
любовницы или отпрыски нескольких вышестоящих начальников, которым удавалось раздобыть воды сверх положенного рациона, или надсмотрщиков за багажом, которые имели доступ к тому небольшому запасу, который у нас имелся. Что до меня, я выпивал свой рацион и ни капли больше. Так же поступала и Роксана, хоть я и настаивал на другом.
Большей частью женщины и дети умирали, когда последнее впряженное в телегу животное падало от изнеможения и уже не могло подняться. Обычно тех, кто на ней ехал, нельзя было заставить сойти с телеги, и они оставались, глядя вслед уходящим, постепенно превращающимся в смутные пятна, зной и жажда высасывали из них последние жизненные соки, сознание меркло и погружалось в полную темноту. Роксана ехала на своем двугорбом верблюде, которого я пригнал из Бактрии вместе с другими ездовыми и вьючными животными; бактрийский верблюд не столь хорошо выносит сильную жару и долгую жажду, как одногорбый арабский дромадер, тем не менее этот держался лучше, чем лошади. Раз вечером я увидел, что она отдает свой водный рацион плачущему ребенку.
— Зря ты это делаешь, — попробовал я образумить ее. — Ребенок обречен, это видно по тому, как темнеет его лицо. Ты только зря переводишь воду.
— Александр, я видела, как ты вылил в песок целый шлем мутной воды, которую принес тебе солдат. Ты, наверное, сделал возлияние своим богам.
— Таис бы так не сказала. Она бы это назвала жестом тщеславия и, возможно, была бы права.
— Тебе, наверное, стоило на ней жениться. Может, она смогла бы принести тебе больше пользы, чем я.
— Вряд ли. Она меня не любила.
— Уж в этом я сомневаюсь. Но вот что я хотела сказать. Твои боги совсем не нуждаются в воде. Они пьют нектар. Во всяком случае, они живут над туманом на горных вершинах, где журчат чистые горные ручьи, как в Бактрии. Так что, уж конечно, от жажды они никак не могут умереть. Да они и вообще не могут умереть, бедняжки.
— Роксана, любимая моя, царица моя, неужели тебе хочется умереть?
— Да, если я вижу, как все другие умирают — в таком бессчетном количестве. Я бы хотела умереть, если б не ты. Я не знаю, что бы случилось с тобой и миллионами подвластных тебе людей, если бы я покинула тебя.
Возможно, я учел ее слова на следующий день, когда вынужден был принять поистине отчаянное решение. У нас оставалось сил, чтоб двигаться дальше, дня на два — не больше. Мы ступили на нечто смутно напоминавшее древнюю караванную дорогу. Ею не пользовались, наверное, сто лет. Из случайных человеческих останков, служащих вехами всех караванных путей в самых глухих пустынях, остались только черепа с отделенной или иногда отсутствующей нижней челюстью: верхняя часть черепа, возможно, является самой долговечной из человеческих костей, поскольку внутри него самого есть нервные волокна, придающие ему особую прочность, если учесть тонкость кости. Кое-кто из моих военачальников считал, что нам следует взять больше на юг, куда отклонялась караванная дорога, другие предпочитали держаться прежнего курса. Я принял критическое решение.
Я приказал отобрать шестерых лучше всего сохранившихся лошадей и дать им как следует напиться из оставшегося запаса воды. На их крупы мы прикрепили пустые бурдюки, в достаточном количестве, чтобы привезенной в них воды хватило бы всем на глоток в случае крайней нужды. Затем я выбрал себе в попутчики пятерых самых крепких военачальников: двоих самого высшего ранга и остальных рангом пониже. На закате солнца, а иначе — с восходом луны, мы пустили наших коней вскачь и продолжили путь по берегу пересохшего русла реки. Если бы обнаружили воду в изобилии, часть нас вернулась бы назад с некоторым ее количеством и с огромным запасом надежды, чтобы вдохновить остальных на последний рывок.
А пока они должны были идти по нашим следам; но если к закату второго дня никто бы из нас не вернулся назад, им стало бы ясно, что наше предприятие не удалось, и тогда каждый был бы волен решать сам, куда ему идти в поисках воды. Но я прекрасно отдавал себе отчет, что они вместо воды смогут найти в действительности.
Мы шли то галопом, то рысью, то шагом, то снова пускались в галоп. Спустя три часа после полуночи мне показалось, что лошади учуяли воду — уж больно резво они устремились вперед. Спустя еще два часа один из младших командиров младшего ранга, обладавший исключительно острым слухом, поклялся, что слышит шум прибоя на каменистом берегу, а через полчаса, на рассвете, мы все услышали попеременно то нарастающий, то затихающий ропот волн, и мы дали волю своим лошадям. Вот уже стали видны низкие, вспыхнувшие огнем облака. Снова пришел мне на память древний миф о Тифоне и Эос, а когда мы взобрались на вершину невысокого холма, то увидели впереди бледную волнистую линию. Ошибки быть не могло: это белела пена на берегу океана.
Благодаря тому, что морская дымка заволакивала солнце, глубокие трещины в речном русле ближе к стоку сохранили достаточное количество воды, чтобы мы могли наполнить все наши бурдюки. Мы умеренно напились сами и также умеренно напоили своих лошадей. Четверо из нашего отряда взяли столько воды, сколько они отваживались довезти, и отправились в долгий путь назад, к нашему в беспорядке бредущему войску. Мы с Птолемеем, забыв о том, что один из нас император, а другой — военачальник, выбрали место и с мальчишеским азартом, взяв лопаты, стали вкапываться в гравий, затем еще глубже — в песок, и через час непрестанной работы наткнулись на воду без всякого привкуса соли.
Александр перешел смертоносную пустыню Гедросии,
[217] но какой непомерной ценой!
2
Дав отдохнуть своему уцелевшему лишь наполовину войску, я отправился с ним в Карманию, где воссоединился с Кратером и его отрядом, который он провел длинным путем, пролегавшим к северу от значительно более короткого, но губительного пути, которым прошел я. Все еще не поступили сведения о Неархе с флотом, и, я опасался, что его постигла беда.
Что за нужда говорить о том, что я предвидел уже не один месяц и что уже зафиксировано в прогнозах Абрута? Моя империя в Индии начала распадаться, что сопровождалось убийствами и должностными преступлениями. И хотя мои македонские гарнизоны старались ее подпереть, у меня мало оставалось надежды, что она сохранится надолго. Я посылал курьеров на быстрых дромадерах, перемещая или смещая сатрапов и военных правителей, расширяя или сужая владения сатрапий и назначая на командные посты самых способных и надежных людей. Это все, что я мог сделать. Кратер арестовал двух персидских градоначальников, виновных в предательстве, и я приказал незамедлительно казнить их, проткнув копьями.
Но кое в чем мне повезло. Из Гиркании и Парфии прибыло сильное подкрепление, а Кратер из Индии привел и другие силы. Снова под моим началом было сильное войско, но тем из нас, кто пережил поход через пустыню, до конца наших дней предстояло мучиться в снах кошмарами. В области, куда мы теперь вступили, цари и сатрапы снабдили нас в изобилии продовольственными припасами, включая вина, которых было чересчур много. Я позволял себе обильные возлияния и не особенно мешал заниматься тем же самым военачальникам и рядовым солдатам. Подтверждались сведения, что с Неархом и моим флотом все обстояло благополучно и следует ожидать их скорого прибытия; это послужило предлогом для пьяной пирушки, подобной тем, которым когда-то предавался мой отец Филипп. Я не отрицаю, что скакал и орал вместе с остальными.
Я велел Гефестиону с большей частью войска идти из Кармании побережьем в Персию, а сам с легкой частью своей пехоты, всадниками и частью лучников, не обремененный тяжелым вещевым обозом, женщинами и детьми, пошел в Пасаргады, древнюю столицу Персии, находящуюся на расстоянии однодневного пути от Персеполя, построенного Дарием I. Может быть, единственной действительной причиной этого предприятия явилось желание снова посетить могилу Кира. С тех пор как я посетил ее в первый раз, ее разрыли и разграбили, но я привел все в полный порядок и в одиночестве на восходе солнца совершил жертвоприношение перед ее дверью. И вновь я прочел трогательную надпись на ней:
О Человек, кто бы ты ни был и откуда бы ни пришел,
Ибо я знаю, что ты придешь,
Я есть Кир, основатель Персидской империи.
Поэтому не завидуй тому, что я занимаю этот клочок земли,
В котором скрытым от глаз покоится мое тело.
Когда я ушел с этого места, то снова почувствовал сильную боль в голове: она стрелой пронзала лоб от виска к виску.
Во время моего пребывания там явился сатрап Мидии с пойманными им изменниками, которыми были не кто иной как бывший сатрап, осмелившийся носить высокую тиару и объявить себя царем Мидии и персов, а с ним множество его сторонников. Не ждал он, что я все-таки вернусь из Индии и накажу его за незаконный захват власти! Я рявкнул, отдавая приказ, и всей компании тут же пришел конец, а исполнителям приказа пришлось потоптаться в лужах крови.
Я также велел пригвоздить к дереву узурпатора сатрапии Персеполя, который захватил этот пост после недавней смерти законного сатрапа. Затем я пошел в Сузы, жаждя отомстить другим сатрапам и правителям, изменившим мне в мое отсутствие. По дороге ко мне примкнул Гефестион, который в своем постоянстве уже построил для меня мост через реку Паситигрис. Верный Неарх тоже прибыл на эту встречу трех старых друзей, слегка приглушившую мою головную боль.
3
Пока я находился в Сузах, меня известили о двух событиях, которым уместно быть в моей летописи; о третьем же и моем участии в нем мне бы очень не хотелось говорить.
Первое из них касалось Гарпала, моего казначея в Экбатанах. Я всегда был склонен проявлять мягкость по отношению к нему: он все же учился со мной у Аристотеля и к тому же был косолапым. Эта снисходительность явилась серьезной ошибкой. Я не нуждался ни в каких шпионах, чтобы узнать о его поведении: об этом много судачили в Сузах и, без сомнения, по всей Персии, которую трудно было удивить по причине издревле въевшегося в нее фатализма — наследия разделяемого ею когда-то культа Ахурамазды.
Полагая, что я уже больше никогда не вернусь из Индии, он стал разматывать царскую казну: окружил себя пышностью монарха, строил дворцы, держал большой гарем, учредил сады наслаждений и, широко практикуя взяточничество, ухитрился избежать возмездия. Только узнав о том, что я иду из Индии на запад, он задумался о своей судьбе, а затем с множеством слуг, наложниц и рабынь и с пятьюдесятью тысячами талантов краденого золота он подался в Грецию. Прошел слух, что во время своего недолгого пребывания в Киликии он заставил сановников этой области преклонить колена перед любимой блудницей.
Но что еще хуже, он опустился до предательства. Наняв тридцать судов и несколько тысяч наемников, он отправился в Афины и там попытался поднять против меня восстание. Если он и пытался подкупить Демосфена, то, наверное, предложил недостаточно, чтобы утолить жадность старика, и последний велел задержать его, а то, что осталось от ворованного золота, поместил на сохранение в Акрополь.
Согласно последним новостям, он сбежал на остров Крит.
Нечто лучшее или, по крайней мере, поднимающее настроение сулил запечатанный свиток, переданный мне в совершенной секретности доверенным слугой. Я прочел в нем следующее:
«Александру,
Повелителю Азии,
низкий поклон и привет.
Тебе, я надеюсь, приятно будет узнать, что ребенок, зачатый во время твоего последнего пребывания в Дамаске, благополучно родился в добром здравии и с хорошим весом и не имеет отметин.
Когда я заметно располнела, то поехала к близким друзьям в Гамат и жила там в уединении. По возвращении в Дамаск я рассказала, что моя родственница родила ребенка, но сама умерла от родовой горячки и я взяла ребенка себе. Этой истории легко поверили.
Я и мои дети любим его, он быстро растет, но его больше тянет к наукам, а не к военным делам, и особенно он отличается в математике. Так что солдатом он не станет, но тем не менее прекрасно послужит своей стране. По характеру он нежный, доверчивый и скромный.
Думая, как назвать его, чтобы это было почетно для отца, я остановилась на имени Аристотель, которого ты почитал. Я и думать не могла, чтобы ты назвал его своим именем — с тем, чтобы он не привлекал внимание, когда после ухода из жизни его отца ему будет грозить опасность, чтобы избежал гибели от меча ли, кинжала, копья или отравленной чаши, поднесенной ему теми, кто будет бороться за твой высокий трон.
Умоляю тебя, не ищи с ним встречи, никому не поверяй своих тайных желаний на его счет и еще прошу твоей милости: не отвечай на это письмо, а сразу же предай его огню.
Твоя верноподданная
Барсина.
Невзирая на ее наставления, я все-таки хотел показать письмо Роксане, но потом передумал, решив, что хоть вреда это, уж точно, не принесет никакого, но зато и пользы не будет ни на грош. Поэтому я бросил письмо в жаровню и смотрел, как красные угли сперва опалили его, затем смяли и, в конце концов, поглотили языками огня; и остался от него лишь невесомый серый пепел, да и тот скоро исчез.
Но содержание письма нелегко было забыть. Роксана пока еще не забеременела, а других детей у меня не было. Если бы она родила мне сына, то и ему пришлось бы бояться меча, копья, кинжала и отравленной чаши. Поэтому вполне может так случиться, что на земле не будет ни одного прямого потомка Александра, или жизнь его будет столь коротка, что он не успеет продолжить мой род. А вот потомки ученого парня, названного Аристотелем в честь моего великого школьного учителя, могли бы дожить до далекого будущего, пережить его бури и потрясения, заслужить славу небес, быть незаметными или добиться ограниченного успеха и поклоняться богам, чьи имена пока неизвестны. Однако, возможно, время от времени, со сменой поколений на любой из расходящихся ветвей посеянного мной дерева будет рождаться дитя непомерно гордое и высокоодаренное, которое, повзрослев и окрепнув, будет держать голову чуть склоненной к левому плечу, и его родители станут дивиться, от кого он мог унаследовать свое величие среди людей. И мне хотелось, чтобы у величия не было ни своей ахиллесовой пяты, ни перекоса в какую-либо сторону, ни налета безумия.
Третье событие произошло во время суда над двумя изменниками: своим поведением здесь я оставил еще одно темное пятно в истории своей деятельности. Это были сатрап и его сын, которые, как и Гарпал, считали, что я никогда не вернусь из Индии, в силу чего старший взял на себя царскую власть и сместил одного из моих правителей, передав этот пост своему сыну. Когда я опрометчиво принял на себя роль обвинителя при допросе сына, которого звали Оксадор, он своей наглостью пробудил во мне бешенство. Мне бы вообще не следовало вмешиваться из-за мучительной головной боли, стреляющей от виска к виску.
— Почему вы с отцом нарушили данную мне присягу на верность? — задал я вопрос.
— Царь Александр, мы с отцом получили известие о твоей смерти от раны в груди, причиненной стрелой, и поверили ему, — отвечал молодой человек. — А в этом случае наше соглашение утрачивало силу. Кроме того, мы думали, что, как только это известие распространится в народе, повсюду начнутся беспорядки и борьба за власть. Нам хотелось опередить своих соперников.
— Это сообщение пришло к вам из первых рук — от кого-то из близкого мне окружения или от дезертировавшего из моей армии?
— Нет, из вторых рук: от караванщика, который получил его от дезертира из твоей армии.
— Не слишком ли вы поспешили принять его за правду?
— Мы так не думали, царь.
— Действительность доказала, что поспешили. И разве не исключено, что этот слух шел навстречу вашим тайным желаниям, отчего вы и стали действовать со столь непристойной поспешностью?
— Царь, какой человек не думает о себе и собственной выгоде прежде, чем о выгоде своего правителя? Ты надолго исчез из нашего поля зрения. Повсюду тлели очаги мятежа. То, что мы сделали, было только по-человечески, и твои самые высокие военачальники и ближайшие друзья докажут это, когда ты спустишься вниз в объятия смерти.
— Я еще туда не спустился и все еще владею копьем. Это будет полным опровержением той приятной лжи, которой ты предпочел поверить.
Ярость мешала мне говорить, она требовала более полного выражения, чем просто слова. Выхватив у телохранителя копье, я метнул его в Оксадора с такой силой, что оно пробило ему живот и на целый наконечник вышло из спины рядом с позвоночником.
Если не считать битв, этот случай был одним из немногих в моей жизни, когда я собственноручно наносил смертельный удар. Одно дело — приказать казнить, даже большое число людей, и совсем другое — расправиться самому. Не знаю, почему на меня это так подействовало, может, потому, что меня поразила вся жестокая яркость этого зрелища. Парень рухнул на спину, и лицо его, казалось, выражало скорее удивление, чем ужас или боль. И это вполне могло бы так и быть, ибо всего лишь мгновение назад он считал, что наказание еще где-то далеко впереди, и, возможно, он выйдет сухим из воды, как вдруг обнаружилось, что он у самых дверей смерти и уже входит в них. Я заметил, что торчащий из спины наконечник не позволяет ему лежать плашмя на полу, заставляя тело крениться набок; и в этом нелепом положении он издал несколько тяжелых вздохов, а затем прошел в те ужасные двери, которые закрылись за ним навсегда; и жизнь, которую он так остро чувствовал, больше ему не принадлежала.
Однако вина его отца была гораздо тяжелее, ибо ему я доверял и назначил его на самый высокий пост в обширном плодородном районе моей империи. Моя ярость оставалась неутоленной, даже более того, она возросла, и меня вовсе не устраивала его быстрая смерть с мгновенно проходящей болью. Подумав, я наконец нашел наказание, которое он вполне заслужил своей изменой. Мой начальник военной стражи недавно получил табун из двухсот с лишним полудиких лошадей из северной Мидии. Я велел связать сатрапа по рукам и ногам и поместить его в загон, слишком тесный для такого табуна, и табунщики загнали в него лошадей. В этом тесном пространстве лошади стали метаться, лягаясь и кусая друг друга, топча человеческое тело до тех пор, пока не размозжили копытами его голову. Когда вынесли из загона его труп, в нем было трудно узнать сатрапа, столь самоуверенного, что он осмелился нарушить клятву, данную Александру.
После этого я пил крепкое вино до тех пор, пока немного не успокоился и не притупилась резкость пульсирующей во лбу боли. А вечером я доверил Роксане придуманный мной великолепный план, который намерен был скрывать до более тщательной отработки его деталей и решения всех связанных с ним проблем. По ее опечаленному лицу я догадался, что она уже слышала о моих утренних выходках, но вместо того чтобы рассердиться на нее за то, что она не понимает их справедливость, не понимает, что такое наказание вполне соответствует гнусности преступления, я решил развеселить ее: пусть услышит об одной из самых поразительных идей, когда-либо приходивших в голову любому завоевателю. Более того, эта идея могла бы вызвать огромную радость людей во всей моей империи, и никто бы не пролил ни капли крови.
— Роксана, послушай, я хочу сочетать браком Восток и Запад, — сообщил я ей.
Сперва она, кажется, не поняла того, что я сказал, погруженная в свои печальные мысли, затем попробовала вникнуть и заговорила, правда, в ее голосе не было свойственной ей обычной веселости:
— Я не совсем понимаю, Александр, что ты имеешь в виду.
— Еще невиданный в мире праздник. Он состоится в Дионисии. На нем мы сыграем массовую свадьбу десяти тысяч моих солдат, независимо от их ранга, с десятью тысячами персиянок. Тебе не нужно объяснять, какая от этого будет польза. Нет причин, по которым моя империя должна быть разделена какой-то произвольной границей на Восток и Запад. У персов те же расовые корни, что и у нас, греков. Вообще говоря, их женщины — самые красивые в известном нам мире. Дети от этих браков не будут знать той границы, о которой я говорю, она просто перестанет существовать. Это так широко отразится на всех народах империи, что в ней исчезнет обостренное чувство национальной принадлежности. Со временем завоеванные мной земли станут единой нацией вместо того, чтобы быть группой государств, не объединенных ничем существенным, кроме подчиненности моему трону. Эти государства уже поклоняются одним и тем же богам, хоть те и именуются по-разному. Со временем они все заговорят на одном языке — разумеется, греческом, самом богатом из всех этих языков. Объединение облегчит торговлю, положит конец межнациональным ненужным войнам. Боги всевышние, это будет единственный величайший подвиг во всем моем деле.
— Я останусь в Бактрии. Однако мне ужасно нравится смотреть, как сияют твои глаза, вот как сейчас, а не сверкают каким-то жутким блеском, когда ты хочешь выступить в карательный поход против взбунтовавшегося племени.
— Я уже послал курьеров в Грецию, чтобы собрать атлетов для игр, а также гимнастов, музыкантов, хоры, актеров для постановки великих драм и комедий, клоунов и шутов, чтоб смешили людей, поэтов, художников и скульпторов, чтоб запечатлели увиденное на вечные времена. Я построю огромнейший в истории павильон. Праздничные церемонии продлятся пять дней, они будут незабываемы. Правда, помимо технических трудностей, связанных с тем, как разместить и угостить двадцать — а то и больше — тысяч человек, помимо заботы о веселых развлечениях для солдат, которые не смогут лично принять участие на свадьбе, и о празднествах для горожан и окрестного люда, который толпами съедется в город, остается без ответа только один трудный вопрос.
— Может, скажешь мне, что это за вопрос? — полюбопытствовала Роксана, поняв мой намек.
— Все это предприятие может показаться половинчатым, не от всего сердца, если и я не возьму себе жену-персиянку. Ты бы осталась старшей и моей самой любимой женой. Любой ребенок от тебя имел бы преимущество над детьми от второй жены, как это принято на всем Востоке. Независимо от того, которая из двух жен родит мне сына первой, твой ребенок унаследует трон. Я не забыл, что ты — царевна Бактрии. Если какой-то из двух браков считался бы морганатическим, то таковым являлся бы мой второй, а не первый брак. Ты моя законная царица. Однако мне не хотелось бы этого делать без твоего согласия.
— Что тебе до моего одобрения или согласия? Ты, Александр, властелин половины мира. Но раз уж ты просишь его — пожалуйста. Конечно, ты должен взять себе вторую жену, если так поступают твои военачальники и близкие друзья на грандиозном празднике. И думаю, ты уже выбрал себе что-нибудь особо подходящее.
— Я думал выбрать Статиру, старшую дочь Дария. До сих пор я видел ее только мельком, но запомнил: это красивая девушка. К тому же, если она станет моей второй женой, это поможет рассеять все то недовольство и возмущение, которое испытывают некоторые персы из-за того, что ими правит завоеватель из Греции, а не потомок Кира.
— Я видела ее, она прекрасна, как мечта. Отличный выбор, Александр!
— У Статиры есть младшая сестра, Дрипетида. Я хочу отдать ее в награду Гефестиону. Тогда мы с ним станем шуринами.
— А как насчет Птолемея?
— Есть одна красавица по имени Артакама. Думаю, ему понравится. Она младшая сестра Барсины, вдовы Мемнона.
— Надеюсь, он не откажется от Таис.
— Этого опасаться нечего.
— Но зато Таис может уйти от Птолемея.
— Вряд ли. Птолемей — один из лучших военачальников Александра и его близкий друг.
— И все же она могла бы это сделать. Никому бы не следовало держать пари там, где ставка — свобода ее духа. Разве она не отделалась от самого Александра, когда он провел ночь с Барсиной?
Я был ошарашен и совершенно не знал, что сказать. Роксана никак не могла бы увидеть письмо Барсины, поскольку я сжег его. Поверить в то, что проболтался Абрут, я просто отказывался. Если бы было доказательство, что он это сделал, я бы… я бы… Но мне ничего не приходило в голову, что бы я мог сделать: просто рухнула бы еще одна стена моей цитадели.
— Не надо выглядеть таким озадаченным и расстроенным, Александр, — мягко успокаивала меня Роксана. — Если позвонишь в Афинах, чтобы тебе принесли ночной горшок, то звон слышен и в Маракандах. Но эта история малоизвестна. Весь мир знает, что Таис оставила тебя, что ты сильно горевал, но лишь немногие пронюхали о Барсине, о том, что у нее появился ребенок спустя девять месяцев, как ты ушел из Дамаска. Зная, что она была женой Мемнона, и зная тебя так, как никакой другой смертный не знает, я догадалась о правде. Вот и все. Ничего сверхъестественного. Если ее сестра выйдет замуж за Птолемея, твой ребенок и его дети будут двоюродными братьями и сестрами. Дети Гефестиона тоже. Этим браком ты подготавливаешь почву для появления в будущем большого клана родственников, которые станут бороться за твой трон, когда ты умрешь.
— Как по-твоему, долго ли еще до этого?
— Не очень. Ты слишком много пьешь вина и подвергаешь себя непосильным тяготам, непосильным даже для Геракла. Александр, где ты предполагаешь поселить ее? С нами вместе?
— Нет, у нее будет отдельный дворец.
— Тогда после женитьбы ты должен оставаться с ней весь лунный месяц, не покидая ради чьей-то любви или ради сражения. Это право новобрачной.
Больше Роксана ничего не сказала, промолчал и я. Этой ночью она одарила меня нежностью, незабываемой по глубине чувства и сладости ощущения.
Когда я обдумывал детали грандиозного празднества, произошло событие, явившееся столь резким контрастом к ожидаемому мероприятию, что оно поразило меня с невероятной силой. Калан из бродячей компании индийских нищих, последовавший за моей армией, сильно состарился. Кроме того, он сильно страдал от какой-то болезни, которую не позволял лечить врачам, и возжаждал смерти. Его жизнь теперь бесполезна, говорил он; он желал сбросить бремя плоти, с тем чтобы душа могла вернуться к месту своего рождения, хотя не в состоянии был объяснить, где оно находится и какова его природа. Поскольку он не хотел, чтобы кто-то еще нес бремя греха его ухода из жизни, он сообщил мне, что намерен распроститься с ней в соответствии со своим культом — похоже, тем же способом, каким любящие жены в Индии имели обычай совершать самоубийства, то есть на погребальных кострах своих мужей, и эта церемония называлась «сати». Однако Калан настаивал на том, что между этими двумя обрядами нет никакой связи.
Я пытался отговорить его, но напрасно. Он прямо заявил мне, что, если я не позволю ему это сделать, он все равно покончит с собой, но таким способом, какой будет менее угоден его душе. В конце концов, не желая, чтобы он не подчинился мне, я дал свое согласие.
Птолемей получил задание соорудить погребальный костер в соответствии с желаниями старого мистика. В назначенный день я приказал своей армии устроить в его честь шествие и украсил ярусы бревен дорогими тканями. Сам я отказался присутствовать на церемонии, не желая видеть, как корчится в бушующем пламени этот совершенно невинный старик, но Птолемей сообщил мне о ней во всех подробностях. Калана принесли на носилках, он снял все разостланные мной на его смертном ложе шелка, обрезал себе волосы, сжег немного на только что разгоревшемся огне, затем взобрался наверх и завернулся в хламиду, прикрыв ею глаза.
И вот что было поразительно: когда бревна костра охватили высокие языки пламени и горнисты заиграли нашу похоронную музыку, а затем в унисон затрубили слоны, он не пошевелился, а когда пламя уже объяло его, никто не увидел, чтобы он сделал хоть одно движение или как-то иначе выразил боль. Это был подвиг самообладания, равного которому в моем войске еще никто не видел, и солдат это зрелище странно отрезвило: уже покинув строй, они собирались в группы и тихо переговаривались. Это событие заставило меня задуматься: действительно ли я покорил Индию? А может, просто навязал ей силой свое военное владычество? И не вернется ли скоро она к той жизни, которой жила издревле, с ее древними правилами и традициями? О нашествии же Александра расскажет ее дивная поэзия вместе со сказаниями о других завоевателях, которые приходили и уходили; а тем, кто видел его своими собственными глазами, это покажется ночным сновидением.
Через несколько дней я с эскортом нанес официальный визит во дворец, где со своей престарелой бабушкой жили Статира и ее сестра. Тогда я впервые внимательно присмотрелся к юной женщине, наследнице сказочной красоты ее матери, выбранной Дарием из всех персидских красавиц — сама же она умерла в родах после смерти мужа. Я вполне мог убедиться, что наследие ее красоты действительно перешло к дочери. Полных четырех локтей ростом, Статира имела гибкое и изумительно стройное тело. Верилось с трудом, что из человеческой глины боги могли слепить женщину столь безукоризненно прекрасную. У меня напрашивалось сравнение только с Афродитой Праксителя в Книде, прославленной на всю Грецию: при виде этой скульптуры женщины, говорят, падали в обморок, а мужчины погружались в несбыточные мечты.
Вспоминая то, чему учил нас Аристотель, я задумался о причине этого явления. Хотя сам Дарий не был прямым потомком Дария Великого, он принадлежал ветви этого рода; многие века его предки выбирали себе в жены лучших персиянок, по сути, самых красивых на земле. Он выбрал себе родственницу по той же линии, далеко славящейся своей несравненной красотой. У него в семени и у нее в яичниках накопился потенциал одинакового божественного дара, который воплотился в Статире, старшей его дочери. Но не только ее красота привела меня в состояние робости, а также ее непоколебимая безмятежность — даже когда она простерлась ниц предо мной. Лишь вспомнив, что я заслуживаю этот обряд приветствия как победитель Дария и волею отца моего Зевса, я смог собраться с духом и произнести тщательно отрепетированную речь.
— Я пришел сюда как твой поклонник, Статира, и тем самым предлагаю тебе быть моей женой.
— Это действительно великая честь, царь Александр. Но у меня такое впечатление, что у тебя уже есть жена — бактрийская княжна из древнего рода.
— Это так, но обычай и религия позволяют всем персам иметь больше одной жены, и такая полигамия особенно распространяется на царей при их обязательстве добиться от их чресел ребенка-мальчика, с тем, чтобы короны попадали в надежные руки, а не захватывались узурпаторами. У тебя будет собственный дворец с полной свитой, тебе будут оказываться все знаки покорности и любви, какие положены царице: в этом отношении те же самые, что и моей первой царице, Роксане. Благодаря браку со мной, ты, возможно, примешь от богов великую обязанность продолжить род твоего отца Дария и мой собственный древний род царского дома Македона. Очень прошу тебя, дай мне ответ сейчас.
Она долго смотрела мне в глаза, как когда-то Барсина, потомок тоже какого-то древнего и знатного рода, а затем спокойно проговорила:
— Царь, я приму эту честь.
Я надеялся услышать слова «с гордостью и радостью», но напрасно. Все же, как бы там ни было, она согласилась, наверное, чувство своей принадлежности высокому роду помешало ей сказать больше того, что она сказала.
— С твоего согласия, церемония и свадебный пир состоятся во время весеннего праздника в честь Диониса.
— Это меня устраивает, мой повелитель.
Тем временем ее бабушка смотрела на меня так, словно видела во мне выскочку, каковым я и был в некотором смысле. Поэтому я не затягивал своего первого визита, сделал только пару замечаний да задал несколько вопросов — например, какие драгоценные камни она предпочитает, — на которые она ответила с полнейшей учтивостью. Только когда я уже уходил, она сказала несколько изменившимся тоном — более мягким и теплым:
— Царь Александр, мне хочется выразить свою благодарность за то, с каким благородством ты отнесся к моей сестре, матери и бабушке как к пленницам после поражения и смерти моего отца. К этому я хочу еще добавить свою благодарность за твою попытку вызволить его из рук изменника Бесса и за справедливое наказание, которое ты отмерил ему за предательство и цареубийство.
— Ты и дорогие тебе люди всего лишь получили то, что заслужили — так же, как и Бесс. А теперь я прощаюсь с вами.
И снова она с непередаваемым изяществом склонилась в земном поклоне и, не поворачиваясь ко мне спиной, удалилась. Я же с эскортом и свитой отправился восвояси.
4
Шатер, раскинутый мной для того, чтобы отпраздновать в нем свадьбу Европы и Азии, был, вероятно, самым великолепным в истории сооружением. Он опирался на столбы высотой в тридцать футов, каждый из которых был покрыт листовым золотом и серебром и усеян драгоценными камнями. Огромная площадь его пола была застелена изысканнейшими персидскими коврами; не было видно ни дюйма палаточного материала, потому что под крышей укреплялись многоцветные ткани и стены драпировались гобеленами, вышитыми золотыми и серебряными нитями, на которых были изображены небесные сцены встречи персидских и эллинских богов или исторические события из моей собственной жизни. Для изготовления этих тканей и гобеленов потребовался шестидесятидневный труд не менее чем двадцати тысяч искусных швей.
Вдоль одной стороны шатра составили в ряд сотню кушеток, на каждой из которых могли свободно разместиться жених и невеста и, откинувшись вбок, угощаться с отведенного лично для них столика. Все эти кушетки обильно отделали серебряными украшениями и задрапировали роскошными тканями. Кушетка царя и его новой царицы, Статиры, была отделана не только серебром, но и массивным золотом. На противоположной стороне стояли кушетки и столы для первых лиц моей империи и их любовниц, приглашенных гостьями на свадьбу.
Я выбрал девяносто девять старых друзей и военачальников и каждому определил невесту из знатной или влиятельной семьи — главным образом из Вавилона, Суз, Экбатан и Персеполя, но также из Парфии и даже из Ассирии. Но так случилось, что восемь пар не смогли появиться на свадебном пиру: или невеста не успела вовремя приехать, или жених занемог именно в этот день. В трех или четырех случаях женихи, наверное, просто прикидывались больными по велению любимой жены, наложницы или рабыни, поэтому, когда все собрались, насчиталось девяносто две брачные пары.
Все женихи расселись по своим местам и под музыку флейт и лир в шатер ввели невест. Протрубили трубы, и строй прекрасных юных женщин и дев распался: каждая направилась к предназначенному ей месту. Женихи вставали, приветствуя их, и пары целовались под долгое ликование труб и грохот барабанов, чем, собственно, и заканчивалась церемония бракосочетания. Затем все, как это принято у персов на пиру, приняли полулежачую позу, музыканты заиграли нежные песни, подали вино, все громче звучали разговоры и смех, и великое веселье началось.
На протяжении последних часов после полудня и ранних часов вечера гимнасты и акробаты демонстрировали замечательную силу и гибкость своих тел, всюду расхаживали клоуны, смеша публику, пели знаменитые певцы, мужчины и женщины, хор евнухов, воспевали богов, героев, любовь и мир, и в основном это были баллады, давно уже пользовавшиеся любовью персов и греков, но прозвучало и несколько недавно сочиненных песен, посвященных Статире и мне. Замечательным событием празднества, доставившим огромное удовольствие собравшимся, явилась постановка труппой актеров с хором, прибывших из далеких Сард, пьесы Еврипида «Андромеда».
В ней были стихи, в издевку надо мной процитированные Клитом, когда он стоял за занавесом, где и встретил мгновенную смерть. Я узнал их по первым строкам, и кровь бросилась мне в лицо. Я тут же хотел остановить представление, не дожидаясь, когда будут произнесены и остальные строки, связанные с жутким воспоминанием, но, к счастью, я преодолел это побуждение, хотя как и почему — не знаю; возможно, я боялся, что эта сидящая рядом со мной юная особа, чья несравненная красота дышала такой безмятежностью, принадлежавшая царскому дому Кира, Дария, Ксеркса и Артаксеркса, отнесет меня к варварам. Она слушала и смотрела с таким вниманием, что, кажется, забыла о моем существовании.
Я не запомнил, в каком действии трагедии прозвучали эти ненавистные мне строки, но прежде, чем я узнал их, за ними уже последовали другие. Мне пришла в голову мысль, что Клит цитировал их не с оригинала мастера, а с искаженной копии или с нарочитого заимствования у Еврипида. Никто в зале не заметил этих строк и не вспомнил, что, в общем-то, это были последние слова Клита.
В перерыве я спросил царицу, нравится ли ей пьеса. Она ответила, что это не лучшее произведение Еврипида, хотя и доставляет удовольствие. Ее намного больше привлекала другая пьеса — о дочери царя, полюбившей простого солдата и навлекшей на себя смертельный гнев своего отца, а к самым лучшим она отнесла «Электру», «Орестею» и «Медею».
Статира едва прикоснулась к своему вину. Не могу сказать, чтобы она проявила хоть чуточку экзальтации по поводу того, что является избранницей Александра. Зато она была исключительно учтивой и обходительной: не скупилась на похвалы развлечениям, без всяких побуждений с моей стороны рассказала о некоторых подвигах древних персидских героев, таких, как Рустам и Джамшид. С приближением к концу праздничных развлечений я вдруг почувствовал, что мне все больше становится неловко. Не мог я представить себя в роли ее жениха, претендующего на право супруга. Я нисколько не сомневался в ее покорности, но меня одолевали сомнения насчет того, действительно ли роль невесты приносит ей огромное удовольствие. И в этих обстоятельствах я не был уверен, что смогу сыграть свою роль.
Я не мог удержаться от усмешки, когда подумал о старом Кратере: он находился в том же положении, что и я, только по другой причине. В жены ему досталась племянница Дария Амастрина — молодая резвушка, в достаточной мере наделенная красотой, свойственной всем женщинам по линии царского рода, энергичная и пылкая. Наверняка его тоже беспокоила мысль об исходе надвигающейся ночи.
Наконец подошел момент, когда нужно было решать этот вопрос. Поэтому я обратился к Статире рассудительным тоном, стараясь говорить медленно и не выдать своей неловкости:
— Тот дворец, который я освободил для тебя, Статира, еще не готов принять свою хозяйку. Моя первая царица, Роксана, поехала навестить родственников в Габианах и Пасаргадах и вернется не раньше чем через две недели. Я подумал, не провести ли нам эту ночь в моем царском дворце.
— Это была бы великая честь, царь, но, с твоего позволения, я бы предпочла, чтобы мы провели ее во дворце у моей бабушки, в опочивальне для царских гостей.
— Пожалуйста, я удовлетворю любое твое желание.
Мы поехали в моей повозке, сопровождаемые верховой охраной. Слуги дворца пали ниц, когда мы входили в парадную дверь. В палате для аудиенций Статира замешкалась.
— Мой царь, в это время года на улицах много пыли. Я прошу позволения ненадолго удалиться в свои покои. Перос, наш дворецкий, проведет тебя в царскую опочивальню.
Я подумал, что Статире как жене следовало бы действовать иначе: предложить мне провести с ней ночь в своей спальне, где ее хозяйские заботы согрели бы меня и сняли с души то необъяснимое напряжение, под влиянием которого я все еще находился. Как бы там ни было, я решил не противиться, и вот, идя вслед за старым мажордомом, очутился в великолепных, роскошно убранных апартаментах. Сразу же появились степенные служанки, раздели и выкупали меня, умастив после купания ароматическими маслами. Одна из них принесла мне роскошный атласный халат и персидские шлепанцы. Чувствуя себя необычайно посвежевшим, я выбрал кресло, выходящее на балкон, и сел, чувствуя приятный ветерок, дующий с гор.
— Одна из вас может позвать царицу, — бросил я вдогонку уходящим служанкам.
Ждать пришлось недолго. Дверь медленно открылась, и в мягкий свет лампады вступила… но нет, не Статира, а какая-то юная особа, которая с первого взгляда показалась мне похожей на Амастрину, молодую жену стареющего Кратера, но я тотчас заметил, что на ней костюм и головной убор царской княжны. Но это была и не Дрипетида, сестра Статиры, отданная в жены Гефестиону. Я совершенно не знал, кто она такая. Очевидным было только одно: никто еще с таким усердием не клал мне земной поклон.
— Ты можешь подняться, — сказал я ей, — и передать мне свое сообщение.
Она вскочила на ноги проворно, как кошка.
— Во-первых, мой царь, прошу тебя отнестись ко мне снисходительно за то, что вошла к тебе без разрешения, но я пришла от моей кузины, царицы Статиры.
— Добро пожаловать; и может, скажешь, кто ты такая?
— Мой царь, я Парисатида, дочь Артаксеркса III.
— Я не знал, что у великого завоевателя есть юная дочь.
— Я родилась у него, когда он был уже далеко не молод, от его парфянской царицы Апамы, в пятнадцатый год от Александра.
— Откуда тебе, княжна, известно об этом летоисчислении? Я-то всегда считал, что это тайна между мной и моим писарем Абрутом.
— Мой царь, ты упоминал об этом не раз во время обильных возлияний, и эта… последняя сенсация пронеслась по всему свету. Ну, а я приняла ее как календарь для отсчета времени.
— Позволь узнать, почему?
— В двух словах не объяснишь. Не позволишь ли своей служанке присесть? Я вернулась в Сузы только сегодня утром и еще немного не отошла от усталости. Когда ты был в Вавилоне, я находилась в Сузах и никак не могла тебя видеть. А во время твоего последнего пребывания в Сузах я была в Вавилоне. Царь Александр, сегодня я вижу тебя в первый раз.
— А я тебя. Да, ты можешь присесть. Но прежде, чем объяснять, почему ты оказала мне честь, приняв мой личный календарь, не скажешь ли ты мне, что тебе велела передать Статира?
— Да, конечно. Она просила извинить ее.
— Извинить?
— Да, мой царь. Сегодня ночью она к тебе сюда не придет, если ты не распорядишься иначе.
Потребовалось некоторое время, чтобы усвоить и обдумать это удивительное заявление. Не отрицаю, что в первый момент, как услышал его, еще до того, как задумался о сказанном, я испытал облегчение. По правде говоря, у меня не было ни малейшего желания проводить ночь с этой полубогиней красоты и богиней спокойствия. Чувство облегчения было так велико, что я не сразу увидел ее отказ в том свете, что его можно принять за дерзкий вызов мне как царю Азии. Она, возможно, больна — это все, что
пришло мне в голову; могли быть и другие причины для отказа, которые со временем мне предстояло рассмотреть.
А пока я был чрезвычайно обрадован, что эту весть принесла мне бойкая девушка лет семнадцати, а не торжественный слуга или неприветливая старая орлица, ее бабушка. Я поймал себя на том, что больше обращаю внимание на посланницу, чем на послание. Ростом она сильно уступала Статире, красотой тоже, и, слава богам, в ней не было заметно ни капли холодной величавости. Собственно говоря, это качество отсутствовало напрочь. Она, как котенок, уютно свернулась в кресле, не очень заботясь о положении ног. Своей жизнерадостностью она напоминала Роксану в тринадцать лет, но уступала ей в красоте и силе характера. Ее собственной красоте недоставало глубины, ее можно было бы назвать чрезвычайно хорошенькой и беззаботной девчушкой и на этом поставить точку.
Я же не поставил на этом точку. Она не была уже ребенком. Под плотно сидящим на ней костюмом в парфянском стиле, с двумя застежками: одна под левой рукой, другая у основания правого плеча — проступала прекрасно развитая грудь. Рельефность бюста дополнялась рельефностью ягодиц, и по этим признакам, как и по другим, более тонким, я решил, что под этой живостью и кошачьей грацией, возможно, скрывается чувственность, которой, как мне часто доводилось слышать, отличаются молодки в Парфии, ибо в них скифские кочевники смешались с персами. Поскольку царские дочки всегда находятся под зорким присмотром, она, вероятно, была еще девственницей, но такое положение вещей ее больше не устраивало.
— Объяснила ли царица Статира причину, по которой желала бы отступить от брачного обязательства, заключенного со мной сегодня вечером? — спросил я.
— Обязательство! Что за слово для брачного приключения! Но я должна ответить на вопрос его величества. Нет, царь Александр, она не объяснила причины, но, мне кажется, я догадываюсь, в чем дело. — Парисатида не заботилась о том, чтобы напускать на себя торжественность. Я не мог отделаться от впечатления, что самой ей поведение Статиры ужасно по душе и что на этот счет у нее есть свои планы.
— Послушай, Парисатида, ты говоришь, что догадываешься о причине странного поведения Статиры, странного, по крайней мере, для меня. Может, скажешь мне, в чем тут дело?
— Я бы предпочла не говорить тебе, царь, что я думаю на этот счет, хотя как дочь Артаксеркса III я стою выше дочери Дария III, который был младшим сыном царского дома Персии. Но я очень люблю ее и предпочла бы, чтобы ты угадал.
— Она не считает себя моей женой?
— Здесь ты промахнулся. Ей весьма льстит быть царицей Александра Великого, но, по-моему, ей нужна только честь, а не то, что требуется жене на самом деле. Попробуй еще раз, может, вдруг да угадаешь.
— Тогда, должно быть, у нее есть любовник.
— Мог бы ты винить ее, царь, если это правда? Ей уж двадцать четыре года. Когда у нее появился любовник, она ведь и думать не думала, что ты предложишь ей, дочери твоего злейшего врага Дария, стать твоей царицей. Конечно же, ты не можешь винить ни ее саму, ни ее любовника.
— Да, полагаю, что не могу. Но ведь она могла бы отказаться от моего брачного предложения.
— Никто не посмеет отказать тебе в чем-то, царь Александр. И потом, разве этот брак с твоей стороны не продиктован интересами государственной политики?
— Да, ты права.
— Кроме того, сегодня у нее сложилось впечатление, что ты вовсе не жаждал… обладать ее телом, и поэтому она решила, что вы оба будете счастливей, если этот брак будет таковым только по названию, как и многие царские браки, особенно между братом и сестрой — например, в Египте.
— Она мне никак не дала понять, что у нее есть такое намерение.
— Это было невозможно — без царского разрешения. И все же она сделала намек, которого ты не заметил. Она сказала тебе, что у Еврипида ей больше всего нравится трагедия, в которой царская дочь полюбила солдата.
— Статира любит бедного солдата?
— Я этого не сказала, царь, но ты можешь догадаться. Охрана Дария состояла из высоких молодых персов, красивых и храбрых, хоть многие из них были бедны, без имени. Ей было четырнадцать, когда они впервые встретились в домике для садовых инструментов — том, что в царском саду дворца, где ты сейчас живешь.
— Постой, Парисатида, я не могу представить себе царицу Статиру, которая встречается даже с богом Митрой в домике для садовых инструментов.
— Великий царь, теперь-то ты должен понимать, что внешность часто бывает обманчивой. А от правды никуда не уйдешь: у нее страсть только к одному человеку, и в этом смысле другие для нее не существуют. Если бы Дарий узнал, он бы нанял моряка, чтобы убить ее — как в трагедии Еврипида. Я же всегда побаивалась, что это она убьёт Дария, если он начнет подозревать ее в любовной связи. С твоей стороны, царь, было бы весьма милосердно, если бы ты взял этого молодого человека себе в телохранители. Они встречались бы крайне осторожно, никто бы никогда не узнал, и она присутствовала бы на всех твоих торжествах, блистала бы своей ослепительной красотой и царственной осанкой и помогала бы тебе осуществлять все политические планы, ради которых ты и выбрал ее в жены.
— Вот так предложение! Таких Александру еще никто не делал.
— Мне оно кажется очень разумным, мой царь. И ты еще не выслушал его до конца.
— Что же там еще, скажи на милость? — Я не знал, рассмеяться ли мне с искренним весельем или рассердиться.
— Моя кузина предлагает, чтобы ты взял меня на ее место и, по существу, сделал бы своей третьей женой, отчего бы ты стал еще теснее привязан к древней царской династии Персии. Что же касается закулисных дел, я бы играла роль Статиры и свою собственную. Я на самом деле девственница, как ты мог бы убедиться; и все же я бы взяла на себя смелость предсказать, что с царицей Роксаной и царицей Парисатидой тебе бы больше не понадобились другие служанки.
5
Парисатида замолчала и сидела неподвижно, поэтому я смог разглядеть ее получше. Более того, я мог воспринять ее как человека, который, возможно, вскоре войдет в мою личную жизнь, а не просто как живую привлекательную девушку, волей случая оказавшуюся на моем пути, чье имя я вскоре забуду. Она пользовалась приемом, известным Таис — возможно, Таис научилась ему в афинской школе для куртизанок, — состоявшим в том, что девушка выбирала расслабленную грациозную позу, полностью открывала лицо, но не фокусировала взгляд на глазах оценивающего ее человека, а смотрела чуть в сторону, и сидела, как бы погруженная в спокойное созерцание, тем самым позволяя ему внимательно рассмотреть себя, можно бы даже сказать, проникнуть в душу, при этом затянувшееся молчание не вызывало у посетителя неловкости или суетливости. Я теперь вспомнил, что и Барсина позволяла без труда рассмотреть себя, используя тот же прием. Являясь вдовой Мемнона, она сознавала, что я для нее — потенциальный враг. Парисатида же не видела во мне врага; она как бы без слов говорила: «Разглядывай меня, царь Александр, чтобы понять, хотелось ли бы тебе делить со мной ложе».
Она знала, что меня нелегко будет ублажить. У меня был большой, буквально бесконечный выбор среди юных и привлекательных дев. Даже жрицы Артемиды, давшие обет девственности, нашли бы, как им обойти священную клятву, за исключением немногих, настолько одержимых фанатическим поклонением, что они скорее предпочли бы умереть. Если бы я домогался прелестной дочери подчиненного мне царя, ему бы ничего не оставалось, как делать вид, что он этого не замечает, но из политических соображений я всегда старался не потакать себе в этом. Существует легенда, что Секста из царского рода Тарквиниев за полтора века до моего рождения лишили трона и изгнали из Рима за то, что он изнасиловал неуступчивую жену римского патриция.
Мне сразу же стало очевидно, что Парисатида — далеко не обыкновенная молодая княжна. Сидя в расслабленной позе, она все же оставалась дочерью дома Ахеменидов. Похоже, я полностью заблуждался в оценке другой дочери этого дома, Статиры, и что-то мне подсказывало, что и в оценке Парисатиды я тоже могу легко ошибиться. Только в одном я был уверен: она бесстрашно добивалась того, что хотела, и, если бы боги сотворили ее мужчиной, а не женщиной, и она ограничивала бы свою наклонность к слишком большому риску, ей бы, вероятно, удалось сесть на трон Персии и стать великим завоевателем — разумеется, еще до того, как я решил этот вопрос. Под этим платьем скрывалось крайне чувственное женское существо. В отличие от Таис, ее чувственность не претворялась в форму, напоминающую дар богини. Парисатида принадлежала к той породе женщин, которые брали, а не давали, но брали с таким лютым жаром, что для их любовников это было тоже бурным переживанием. Она похотлива, размышлял я, гораздо в большей степени, чем Таис. Союз с ней не приведет к возвышенным чувствам, скорее, ближе к непристойности, хотя не хотелось мне употреблять это слово.
Так подсказывало мое воображение, которое всегда обладало мощной силой и, как правило, не обманывало. Однако опытного развратника удовлетворило бы и то, что он мог прочесть по ее лицу: высокие скулы, глаза навыкате, губы красиво очерченные, но все же слишком полные по греческим канонам классической красоты. Настоящее чудо, размышлял я, это то, что она сохранила хотя бы номинальную девственность до семнадцати лет. Она объявила себя девственницей, и если это неправда, то было бы рискованно заявлять такое царю, с которым она со всей серьезностью вознамерилась заниматься любовью.
— Ты говорила о своей девственности, так что и мне хочется поговорить об этом, — продолжил я разговор. — Трудно понять, как это девушка с такой чувственной привлекательностью могла оставаться невинной целых четыре года после первого цветения.
— Не четыре, а семь. Величественный царь, мне было десять, когда оно началось.
Меня это не удивило: в теплых странах подобные вещи не являются чем-то необычным. Я слышал о многих подобных случаях в южной Греции. Удивила меня форма ее обращения ко мне. Она была первой из старинной персидской династии, кто приложил такой титул к моему имени. Однако мне было известно, что с этим титулом обычно обращались к великим царям рода Ахеменидов. Я этого не требовал, не хотел, чтобы представители высокого дома, находящиеся теперь в моей власти, думали, что для меня это хоть сколько-нибудь важно. Даже Барсина, ища у меня милосердия, не пользовалась им.
— И все же ты не дала никакого объяснения тому чуду, о котором я говорил.
— Это вовсе никакое не чудо, царь Александр. Да, за мной зорко присматривали, но это еще не весь ответ.
— Не потрудишься ли ты дать мне полный ответ?
— Конечно, если ты велишь. Я не уверена, что этот ответ удовлетворит покорителя Азии. Он даже может назвать меня самонадеянной.
— Я выслушаю тебя, говори. Ты разожгла мое любопытство.
— Ну что ж, если я должна… Я ждала тебя, царь Александр.
— Сколько же времени?
— Думаю, эта идея впервые пришла ко мне в голову как детская мечта, когда мне было лет восемь. Девочки, только что осознавшие свою женственность, мечтают чаще, чем ты думаешь. Конечно, это была романтическая мечта. Недавно ты победил великое персидское войско на Гранике. Один начальник, которому удалось спастись, приехал к нам во дворец и рассказал моему больному дяде об этой битве, и я тоже слушала. Он рассказал о мощной атаке твоих гетайров, которые расстроили наш фронт. Он говорил об их командире с золотисто-рыжеватыми волосами, совсем еще молодом — двадцать с небольшим — на стремительном черном жеребце. Дарий III только недавно взошел на трон. Мой отец, Артаксеркс III, уже умер примерно четыре года назад, и я помнила его лишь смутно, но со временем стала поклоняться его памяти. После этого я прислушивалась ко всем сообщениям о твоем продвижении на восток. Для меня ты был еще один Артаксеркс III, и даже более великий.
— Я сам заметил некоторое сходство между нами, но вот только не понимаю, как это могла разглядеть совсем еще малышка.
— Я быстро превращалась из малышки в подростка. Ты хорошо знаешь, величественный царь, что такое дворцовые сплетни. Я быстро поняла, что на персидском троне после Артаксеркса III не было еще поистине более великого царя. Дарий начал хорошо: он заставил евнуха Багоя, убившего моих отца и брата и принявшего на себя царскую власть, выпить яд, но он скоро проявил нерешительность своей натуры и нежелание настаивать на своем, или, говоря иначе, предать смерти всех, кто был против него. Ты ведь знаешь, как он прислушивался к льстецам и сатрапам из его родственников. Он не хотел прислушаться к мыслящему трезво Мемнону, а после него к Харидему. На Гранике ты разбил его войско, при Иссе ты победил это войско, которым командовал Дарий, и в обоих случаях он упустил свой шанс встретиться с тобой на удобной для него местности. К нам пришло сообщение, что при Арбелах он сам выберет место для сражения, не отступит оттуда ни на шаг и разгромит тебя; но я знала, что ты все равно победишь.
— Ты была права, — отвечал я ровным голосом. — Я и в самом деле победил.
Я заметил, что по ее телу пробежала как бы дрожь от сильного возбуждения. Это мне напомнило юное деревце: тронутое нарастающим дыханием ветра, оно все громче шумит листвой, пока, наконец, не затрепещет в полную силу. Но ветер, трясший Парисатиду, зародился в ее бедрах и, набрав штормовую силу страсти, так и не улегся. Она только старалась лучше его скрывать.
— Дело в том, величественный царь, что я желала твоей победы, — наконец заговорила она опять, взволнованно переводя дыхание в конце каждого предложения. — Мне хотелось, чтобы Персией правил настоящий царь… Не думай, что это была измена. Царь даже более… более великий, чем мой отец… Я хотела лежать ниц пред ним… И я никак не могла расстаться со своей детской мечтой…
— Кажется, тебе не хватает дыхания, Парисатида. И мне тоже, немного. Я скажу тебе, в чем, по-моему, заключалась твоя мечта. Поправь меня, если я ошибаюсь.
— Я не верю, что ты можешь ошибаться.
— Тебе хотелось стать моей царицей — я, Александр, и ты, дочь Артаксеркса III, — и слиянием моей династии с твоей основать новую, величайшую из всех известных нам в мире династий. Не слишком ли я самонадеян?
— Нелепо: Александр Великий — и самонадеян! Но прекрасная Роксана меня опередила. После ты выбрал Статиру, но она предпочла своего солдата, потому что, несмотря на весь ее ум и красоту, у нее та же слабинка, что и у Дария. Я знала, что ты не слаб. Я знала это еще задолго до Арбел — когда ты перебил жителей Тира, которые осмелились не подчиниться твоему приказу сдать город. Величественный царь, дела великих правителей нельзя судить в том же свете, что и дела простых смертных, и в этом отношении великие цари богам подобны. Разве бог проявляет милость, когда ущемляются его права или когда бросают вызов его власти? Кстати, о богах: я никогда нисколько не сомневалась, что ты родился от Зевса-Амона. И пойми, величественный царь, большинство персов находилось в неведении насчет того, что боги иногда посещают смертных женщин, даже Кир этого не знал. Первыми это открытие сделали греки, а не мы. Однако если одной из своих цариц ты сделаешь меня, Роксана все же будет первой. Она старается привить тебе милосердие к врагам. Так поступала и Таис, которая когда-то была твоей любовницей, а это знает весь мир. Если бы Статира заслуживала бессмертного почета, она бы делала то же самое. Но если, царь, ты предпочтешь меня, я должна буду предупредить тебя, что не смогу стать такой, как те, другие. Я всегда помню, как мой отец перебил всех своих родственников, которые могли бы претендовать на его трон. Я не смогу забыть, что он сотворил с Сидоном, после чего этот город перестал быть соперником Тира. А потом с Египтом. Тебе удивительно и теперь, мой царь, то, что я до сих пор оберегала свое девичество?
— Сегодня ночью твое долгое одиночество закончится.
— Вот слова, достойные истинного царя! Но как насчет Роксаны? Я, Парисатида, дочь Артаксеркса III, не могу уступить, если ты не сделаешь меня одной из своих цариц.
— Это дело простое, Парисатида, и к тому же чрезвычайно приятное. Я еще не встречал никого более подходящего, чтобы быть моей царицей.
— Даже Роксану?
— Роксана не имеет никакого отношения к тому, что есть между тобой и мной.
— Статира стала твоей царицей — только на словах — по праву твоего поцелуя. Можно мне стать твоей царицей — не только на словах — по тому же праву?
— Разумеется. Тот поцелуй был для свидетелей, этот же будет искренним. Сейчас?
— Немедленно.
Она поднялась с кресла, я последовал ее примеру. Поцелуй начался с легкого прикосновения губ, после чего они с силой прижались друг к другу. Потом мы поочередно позволили друг другу исследовать языком свой рот, и Парисатида стала покрываться румянцем: с лица огонь, подобно занимающейся заре, переметнулся на шейку и обнаженное плечо. Ее рука прокралась ко мне за шею, скользнула вниз, помедлила, затем поползла за воротник. Недолго мог я выносить столь утонченные ласки. Она высвободилась из моих объятий, быстро заперла дверь в коридор на засов и, забыв обо всем на свете, потянула меня за руку через арочный проход в спальню. Я занялся своей одеждой, а когда снова взглянул на нее, она уже лежала обнаженная, раскинувшись в той же позе, что и Олимпиада, когда к ней в спальню с небес спустился Зевс. И вновь повторилось то же, что и в ночь моего зачатия, за тем лишь исключением, что я все еще был в чувствующей плотской оболочке смертного человека. Впрочем, Парисатида не нашла в этом ничего дурного.
Наконец, она затихла, закрыв глаза и глубоко дыша, я же смог снова собраться с мыслями и спуститься с небес на землю — в отличие от Зевса, который, наоборот, поднялся к себе в заоблачные выси. Я не сомневался, что Парисатида зачала ему внука.
6
Зато я питал кое-какие смутные сомнения в отношении другой стороны того же вопроса: была ли до меня Парисатида стопроцентной девственницей или, в каком-то смысле, полудевственницей — так называли в Тире и Карфагене девушек, которые потворствовали разнообразным плотским желаниям, иногда принимая от своих партнеров вознаграждение, а на брачном ложе умели-таки убеждать своих женихов в том, что они совершенно невинны. После пережитых с ней чудных мгновений я не заметил обычного признака дефлорации; правда, вход в ее тело был очень узким, в нем ощущалось сопротивление, хотя это можно было бы объяснить сжатием эластичных мышц.
Решив, что, скорей всего, ее приласкал какой-то чересчур неуклюжий юнец, я выбросил эти мысли из головы: она бы, это уж точно, могла пробудить бурю страсти и в самом Еврипиде, этом суровом и желчном старике.
В брачную ночь Александра и Парисатиды народилась новая луна. Четырнадцать дней будет расти ее маленький рог, пока не станет абсолютно круглым. Поэтому я велел передать Кратеру, что в течение этих четырнадцати дней не буду присутствовать на пирушках и развлечениях, которые последуют за вчерашним свадебным пиром, и ему надлежит сменить меня на посту главного распорядителя. Эти дни я хотел пожить ради плотских удовольствий, а если и думать о чем-то еще, то совсем недолго и как можно реже. В результате более недели ни я, ни Парисатида не выходили из роскошных покоев с отделанными ваннами и всем, чего только могли бы пожелать персидские цари с их любовью к роскоши.
Только раз я отправил послание Неарху, требуя ускорить строительство множества новых галер и судов с двумя, тремя и четырьмя рядами весел и мощными таранами, которое велось на нашей базе в устье реки Тигр. Время от времени Парисатида звонком вызывала слуг, чтобы они принесли к нам в комнаты все необходимое для пирушки, или когда у нас разыгрывалась фантазия и нам вдруг хотелось отведать какое-то изысканное яство или редкое вино такого-то года урожая. Именно в это время я приобрел вкус к очень кислому вину, приготовляемому в Армении из мелкого синего винограда.
Впервые у меня была супруга, с которой я мог говорить свободно — которая, в сущности, вынуждала меня к этому, ибо хотела знать не только о больших событиях, но и о незначительных происшествиях в моей жизни, особенно о тех, где я был главным действующим лицом. Когда я рисовал картины осад и сражений, ее глаза так и загорались; когда я рассказывал о резне, она не затыкала уши; когда я описывал жестокое подавление восстания, она хотела слышать подробности, как осуществлялось наказание, и по какой-то непонятной причине это возбуждало ее, и она прижималась ко мне, покрывала меня поцелуями, сладострастно разжигала мою страсть до тех пор, пока я не удовлетворял ее и свое собственное желание.
Редко говорил я о Роксане и, по правде, старался не допускать ее в свои мысли, но ближе к двенадцатому дню нашего брака Парисатида сама подняла эту тему, задав вопрос по существу:
— А Роксана любит слушать о твоих походах?
— Боюсь, что нет.
— Значит, она не одобряет тех строгих мер, которые ты должен принимать, чтобы добиться своей цели?
— К этому у вас совершенно разный подход.
— Величественный царь, разве не мне надлежит быть первой по отношению к Роксане? Она — княжна маленькой страны, а я — царского дома Персии.
— Роксана — моя первая жена. А первенство и старшинство обычно идут рука об руку. Но ты не переживай: причин для жалоб у тебя не будет.
— По крайней мере, со мной ты будешь чаще, чем с ней. Она становится старухой. В тридцать мужчина только приближается к своему расцвету, а женщина в двадцать семь начинает уже увядать. Я на десять лет моложе ее.
— Если родишь мне первенца — у меня есть родной сын, но он не может унаследовать моей империи, — твое положение будет намного выше. Разумеется, он будет законным наследником.
— К тому же в его жилах будет течь кровь великого рода Ахеменидов, — заметила она с нескрываемой гордостью. — Роксана еще не беременна?
— Нет.
— После стольких лет брака? Да она, наверное, бесплодна, и тебе никогда не дождаться от нее ребенка. В этих обстоятельствах такой великий император, как ты, просто обязан устранить ее. Она может окружить себя пышностью, иметь свиту и собственный дворец, но делить с тобой ложе она больше не вправе, и тогда ты сможешь экономить свою мужскую силу, чтобы иметь от меня много сыновей.
— Пойми, Парисатида, Роксана любит меня всей глубиной души, несмотря на то что и не одобряет кое-какие из моих поступков, в военном смысле необходимых.
— Я сомневаюсь в глубине ее любви по этой же самой причине. Настоящая жена старается поддержать мужа в его делах, а не расхолаживает его. Да, несомненно, ты должен ее устранить: ведь пока она разделяет с тобой ложе, она влияет на тебя больше, чем ты думаешь, и связывает тебе руки.
— Во всех других отношениях Роксана всегда была хорошей и верной женой. Она не отходила от моей постели, когда я был в ужасном состоянии. Если бы не ее забота, я бы умер.
— Ты же не умер. Подобные события из прошлого не должны отражаться на твоем будущем.
— Я бы не хотел причинить ей боль. Ты должна это понимать. Если я отдалю ее от себя, она будет в глубоком отчаянии.
Парисатида на время замолчала, но я чувствовал, что мысли ее не знают покоя. Лицом ее незаметно завладело выражение, которое я еще не наблюдал во всей его полноте; я видел только намеки на него, когда рассказывал ей о некоторых жестоких расправах с предателями и раскольниками.
— Величественный царь, когда ты счел необходимым устранить Пармениона, он не горевал, — сказала она очень тихо.
— Не вижу тут связи.
— Я могу понять, почему тебе невыносимо думать, что Роксана страдает. Парменион не страдал, потому что ты действовал очень быстро и правильно.
— Может, он страдает в Аиде, когда вниз проливается кровь. — Я слишком хорошо помнил дух Филота, восставший предо мной в тусклом свете луны, и то, что он мне поведал.
— Те, кто в Аиде — всего лишь тени. К тому же, мой царь, с Роксаной ты можешь обойтись помягче, чем с Парменионом. Меч тут совсем не обязателен. У меня есть нянька, египтянка; она вдова одного мудрого аптекаря. Я знаю один безвкусный яд: если его выпить с вином, то наступает быстрый и безболезненный конец. Тебе нет необходимости делать это собственноручно. Я, твоя настоящая жена, избавлю тебя от этой обязанности.
Какое-то время я был в растерянности и не мог найти вразумительного ответа. Конечно же, мне хотелось сказать, что я не хочу терять Роксану, что непременно желаю сохранить ее при себе как первую царицу и друга; я чувствовал, хотя и не хотел распространяться об этом, что очень нуждаюсь в ней. Разумеется, я не хотел, чтобы какая-то молодая княжна, сладострастная, ревнивая и безумно влюбленная в меня, тайно посягала на ее жизнь. Однако мне что-то инстинктивно подсказывало не грубить и не упрекать ее. В постели Роксана была столь же хороша, как и Парисатида, если не лучше; она не была такой же похотливой и неистовой, но зато более нежной и менее жестокой — в ее объятиях было больше материнского, нежели чувственно-плотского. По правде говоря, мне хотелось сохранить их при себе обеих: Роксану навсегда, а Парисатиду надолго.
То, что Роксана не родила мне наследника за все годы нашего брака, было действительно странно, даже унизительно. С другой стороны, я не сомневался, что Парисатида зачала от меня с первого же раза. Меня нисколько не ошарашило ее заявление, будто она может хладнокровно убить Роксану, чтобы убрать ее со своего пути, ведь она была дочерью Артаксеркса III, убившего близких родственников сразу же с восхождением на трон; да и мне, знают боги, пришлось обагрить свои руки невинной кровью, когда в начале моя судьба лежала на шатких весах, а позже не все мои расправы, если как следует подумать, оказывались военной необходимостью и не все расстроенные состояния моего ума были расплатой за гениальность. Некоторые случаи резни вызывались божественной яростью, но многие диктовались соображениями удобства, так что большой кочерге от печей, осветивших мировые небеса, негоже было ругать маленькую печную трубу,
[218] называя ее черной.
Поэтому я заговорил, воздерживаясь от эмоций:
— Видишь ли, Парисатида, я понимаю твои побуждения, они похвальны. Ты хотела бы углубить связь между нами, вдохновить меня на великие деяния и тем самым расширить мою империю. Но я поклялся Роксане, когда мне было шестнадцать, а ей — тринадцать.
— Александр, мой царь, я не знала, что в этом возрасте ты уже побывал в Бактрии. Я и вправду ничего не слыхала об этом.
— Не был я ни в Бактрии, ни даже к востоку от Геллеспонта. Зато Роксана побывала в Греции.
— Не знала я, что она была такой заядлой путешественницей, и в таком раннем возрасте.
— Так ей было уготовано судьбой. Наш брак оказался очень удачным. Если бы ее не стало со мной, я бы чувствовал огромную печаль и утрату. Я бы хотел, чтобы это не вызывало никаких сомнений.
Разговор этот начался сразу же после окончания любовного акта. День был теплый, и мы лежали на постели нагишом. Протянув руку, она натянула покрывало на нижнюю половину тела и лежала, уставившись в потолок, ничего не говоря, без всякого выражения на лице.
— Не хочешь ли вина? — предложил я.
— Не сейчас, мой царь. Спасибо.
— Тогда я налью себе.
— Можно мне? Для меня это большая честь, царь Александр.
— Спасибо, но я сам дотянусь до кувшина.
Я был уверен, что она кипит от злости за свое поражение, но она так хорошо владела собой, что ничем не выдала себя: ни глазами, ни губами, ни изменившимся тоном. Ее дыхание было ровным и глубоким.
Я встал, надел персидский халат и тапочки и присел на край постели.
— Скажи-ка мне, Парисатида, вот что: когда появятся доказательства того, что ты зачала? А я в это очень верю.
— Видишь ли, мой царь, последнее цветение у меня было в новолуние. Совокупление произошло в ночь народившейся новой луны. Теперь она почти полная, а когда снова станет узенькой лодкой, то для меня опять настанет пора цвести. Если этого не случится, может, ты пересмотришь свое решение насчет Роксаны?
— Ты должна знать, Парисатида, что почти всегда мои решения необратимы; их может изменить только очень серьезное происшествие, в корне меняющее предыдущую ситуацию.
— Разве, оплодотворив меня, ты не будешь смотреть на это, как на очень серьезное происшествие?
— Конечно, буду — как на серьезное и чрезвычайно для меня счастливое; а если ребенок благополучно родится и окажется мальчиком, твое положение весьма упрочится. Ты стала бы матерью законного наследника. В глазах людей ты была бы первой царицей. Однако мое решение первой царицей считать Роксану остается неизменным.
И тут она расплакалась. Мне ничего не оставалось делать, как наклониться и поцеловать ее в губы, ощутив привкус слез.
— Мне невесело, Парисатида, когда я вижу тебя такой расстроенной. Если я уйду, ты быстрее придешь в себя и трезво поразмыслишь над всем, что ты обрела по сравнению с той малостью, что ты потеряла. Я пойду в штаб. Туда должны уже поступить вести от Неарха о том, как идут дела со строительством новых кораблей. Думаю, они заплывут далеко, прежде чем их весла улягутся на долгий отдых или паруса перестанут надуваться океанскими ветрами. Я вернусь на закате и отужинаю с тобой.
Я вышел из покоев и, забрав телохранителей, дежуривших в коридорах, покинул дворец. В штабе я прочел пухлую кипу донесений, поступивших со всех концов моего царства за те две недели, когда я не интересовался делами. Просто не верилось глазам, сколько всего произошло за это короткое время или чуть раньше в более отдаленных районах.
Когда мне грядущей осенью исполнится тридцать три года о. А., мой флот, с гордостью думал я, будет намного мощнее, чем у греков в битве при Саламине. Моему требованию ко всем греческим государствам, за исключением Македонии, не состоящей в Союзе, чтобы мне воздавались божественные почести, включая жертвоприношения, наравне с Гераклом и Дионисом, как правило, все подчинялись, хотя у престарелого Демосфена это вызывало приступы сарказма, а у оратора Кисурга — жалобы. Косолапый Гарпал получил свое наказание, отправившись, хромая, прямой дорогой в Аид, и для этого не понадобилось длинной руки Александра: его убили на Крите, хотя мои шпионы пока не знали, кто это сделал и почему. Афины не очень-то спешили выполнить мое распоряжение о возвращении всех изгнанников в родной город, ибо им пришлось бы тогда потерять остров Самос, заселенный греческими изгнанниками, и появились признаки зреющего мятежа, которые, впрочем, всегда можно было обнаружить, если покопать как следует. Как раз сейчас ближе к моей столице, но на расстоянии утомительного пути от меня среди коссеев бродило недовольство. Сперва мне пришлось поскрести в затылке, соображая, что это за народ, затем я вспомнил, что живет он по соседству с уксиями, обитающими в землях южнее региона Аральского моря, и состоит из кочевых племен более воинственных и диких, чем скифы. Я также вспомнил, что их вождь сдался мне, когда я был в Согдиане, и заплатил дань в виде золотого песка, шерсти, бактрийских верблюдов, на удивление прекрасно выкованных мечей и нескольких сотен ок конской кожи, ярко лоснящейся благодаря особому способу дубления.
Повозка с этой кожей преодолела с нами весь долгий путь в Индию и назад. Несомненно, какой-нибудь приставленный к обозу начальник охраны глаз с нее не спускал и полагал, что без этой его заботы поход окончился бы неудачей. По возвращении в Сузы нашелся здравомыслящий человек, который отправил кожу в Экбатаны, где жили лучшие седельщики и сапожники во всей Персидской империи. Как ею потом распорядились, я уже не знал.
Старому Антипатру, которого я оставил в Пелле, моя мать Олимпиада доставляла обычные неприятности. Он писал, что она вечно вмешивается в государственные дела; она писала, что он лишает ее полагающихся ей привилегий и почестей царицы-матери. Я не сомневался, что и он, и она писали то, что им казалось правдой. У моей матери желание вмешиваться во все было врожденным качеством, даже сильный характер Филиппа не мог помешать ей мутить воду во дворце до тех пор, пока он не развелся с ней, чтобы жениться на племяннице Аттала, Клеопатре, и не услал ее в Эпир. Теперь же, когда Олимпиада вернулась в Пеллу, я был уверен, что бедняге Антипатру хватало с ней хлопот по горло. Кроме того, по природе он был бережливый, как и большинство старых македонцев, и отказывал ей в золоте, которое ей было нужно на содержание многочисленной свиты. Неужели она все еще держит змей и крыс, подумал я. Если это так, а скорее всего так оно и есть, то старику выпало тяжкое испытание.
С большим удовольствием я прочел прошение Селевка о проведении большого парада и смотра новых военных формирований, которые мы называли «эпигонами» (буквально, «последователями»), состоявших из тридцати тысяч лучших персидских юношей, обученных военным приемам моей старой македонской гвардии, когда-то главной опоры моей армии. Конечно, подумал я, парад возмутит этих раздраженных ветеранов. Больше всего недовольства вызывало у них — помимо того, что я долго тянул с возвращением в Грецию — то обстоятельство, что я по собственной воле перестаю быть монархом Македонии и становлюсь монархом мира. Верно, что я перенял восточное одеяние, большей частью парфянское, но на свадьбе Европы и Азии я носил полный персидский костюм. Зачисление персов и прочих варваров по лохам в конницу гетайров и другие элитные корпуса вызвало их сильное недовольство, и они чуть было не взялись за оружие, когда узнали о формировании отличных новых корпусов, получивших название Последователей или «эпигонов».
Взяв верх надо мной на берегу Гифасиса, они теперь поняли, что это пустая победа, потому что до Греции так же далеко, как от Суз до Индии. Брак Европы и Азии благотворно повлиял на прочих моих греков и новые пополнения со всех уголков покоренных земель; и только македонцы смотрели сердито, считая, что это празднество — лишь еще одна приманка, чтобы отбить у них охоту возвратиться на родину. Я решил: пусть они варятся в собственном соку. Вот уже десять лет все они ведут жизнь, полную славных приключений и побед. Теперь я прочно сижу на троне и не склонен все так же уступать их желаниям и терпеть их недовольство, как на Гифасисе.
Прежде чем вернуться во дворец, занимаемый Статирой, Парисатидой и их бабушкой, я ненадолго зашел в царский дворец. Там я обнаружил письмо от Роксаны, в котором она сообщала, что по просьбе друзей и родственников она решила остаться в Пасаргадах еще на две недели — в целом, на месяц. В одном отношении это вызвало у меня чувство облегчения, так как я еще не вполне насладился медовым месяцем с Парисатидой, но в другом — я почувствовал себя покинутым. Перед уходом из дворца я отдал наставление сенешалю, чтобы по возвращении Роксаны за ее едой и питьем было установлено более строгое наблюдение и чтобы к ним допускались только те слуги, которые давно заслуживают доверия. Она не должна принимать женщин в чадре, а главное, никогда не должна встречаться наедине с Парисатидой.
Несколько обеспокоенный в отношении того, в каком настроении я застану мою новую жену, я направился во дворец ее бабушки. Слуга сказал мне, что новая царица ожидает меня в тех же самых роскошных покоях, где мы провели с ней двенадцать ночей. Там я и застал ее в прекрасном одеянии и украшениях, с лицом, излучающим приветливость, а в нашей обеденной комнате был уже накрыт стол с эпикурейским ужином, куда входили грудка золотистого фазана, форель с горных рек, устрицы с Персидского залива, восхитительное разнообразие улиток, которых я никогда еще не пробовал, осетровая икра, пирожные из взбитого теста, настолько воздушные, что они просто таяли во рту, охлажденная дыня; яйца, приправленные кэрри,
[219] и восточные сладости. Все это сопровождалось несколькими сортами вин, в основном бледно-золотистого оттенка, но я распорядился принести полюбившегося мне темно-красного кислого вина.
После ужина мы разделись и немного полежали под освежающим ветерком, дующим сквозь раздернутые занавеси балкона. Но близость наших тел действовала на нас далеко не охлаждающим образом, как и маленькие ласки, которыми мы поневоле дарили друг друга, или легкие взбивающие движения ее конечностей, которые она не могла остановить.
Она нежно укусила меня за мочку уха и прошептала:
— Ты устал после работы в штабе?
— Нисколько.
— Или после того, что случилось, когда мы проснулись сегодня утром?
— Нет. Твой плач утомил меня гораздо больше.
— Величественный царь, я была непростительно самонадеянной. Однако, возможно, ты простишь меня: мне невыносима была мысль о том, что какая-то другая женщина заключает тебя в свои любовные объятия. Нехорошо было так думать. Конечно, ты должен делить ложе с двумя царицами, да и с наложницами тоже, если они необходимы тебе, чтобы у тебя рождались сыновья, стоящие твоего божественного семени. Больше я никогда при тебе не заплачу. Если у меня и появятся слезы, никто их не увидит. Царь Александр, я уже вся в огне. Если ты его не потушишь, я умру. Этот голод посильней, чем у львицы, когда она охотится за намеченной ею жертвой. Во имя Митры, бога-быка, прими меня в свои объятия. Видишь, я уже готова.
— Я тоже весь горю, прекрасная Парисатида. Мы только мучаем друг друга этими ласками.
— Тогда не церемонься со мной. Докажи себе, что ты мой любовник и мой царь.
Когда, наконец, она легла рядом, ее губы изогнулись в милой и трогательной детской улыбке, и она почти мгновенно заснула.
Я натянул на себя покрывало — от ветерка становилось холодновато — и вскоре тоже уснул. И должно быть, почти две недели излишеств утомили меня больше, чем я предполагал, ибо мне снились беспокойные сны и порой я ощущал тупую боль в висках. Утром я чувствовал себя бодрым, и в этот день мы решили показаться на людях. Она ехала рядом со мной как моя царица на своей красивой рыже-золотистой арабской кобыле, за нами следовала наша свита, и встречные приветствовали нас радостными криками. Мы заехали на базар, и там я купил ей большой рубин стоимостью в два таланта, горевший темным огнем: он мне показался подходящим подарком.
Следующие восемь дней мы вели себя поумеренней, и не потому, что в ней хоть сколько-нибудь поубавилось желания — это во мне нарастало утомление. В сумерках восьмого дня, то есть двадцатого с тех пор, как Парисатида впервые разделила со мной брачное ложе, я уловил прощальный блеск заходящей луны в последней стадии убывания — тоненького серпа, и подумал, что больше ее не увижу до нарождения новой луны.
Утром я проснулся спустя два часа после восхода солнца. Я лежал один, моя новобрачная ушла принимать ванну. Когда же она, наконец, появилась оттуда, походка ее была вялой, красивое тело скрывалось под халатом, и она энергично терла мокрые от слез глаза.
— Что случилось, Парисатида? — спросил я, глядя на это бледное и опечаленное лицо.
— У меня язык не поворачивается, чтобы сказать тебе, мой царь.
— Не нужно слов. Я могу догадаться. Ты не зачала.
Она повесила голову, постояла так немного, затем проговорила:
— Это правда, мой царь.
— Не переживай. Из-за легчайшего недомогания матка может отвергнуть семя, не принять его даже в те дни месяца, когда она больше всего предрасположена к этому. Не велика беда: еще много других лун прибудет и убудет.
Я говорил с непривычной легкостью, и по существу запутался в смешанных чувствах. Потакая ее сладострастию, я довел себя до измождения, однако у нее ничего не вышло. По какой-то неизвестной мне причине я был даже рад этому и в то же время испытывал легкое отвращение, смешанное с яростью. Возможно, во время наших оргий — а слова поприличней я не находил — она пила слишком много вина, хотя на каждую выпитую ею чашу я осушал две. В любом случае, она упала в моих глазах и потеряла некоторую долю моего расположения.
За завтраком я говорил о веселых вещах и пересказал Парисатиде грубоватую шутку, которая облетела наш лагерь, быстро, как дикий голубь. Эта, несомненно, чья-то выдумка относилась к брачной ночи стареющего Кратера с его новой женой. Затем я надел на себя полную военную форму, серебряные доспехи и оперенный шлем, с принужденной веселостью попрощался с Парисатидой и, оседлав великолепного арабского жеребца, в сопровождении охраны и свиты направился в лагерь, находящийся в получасе езды.
Но новостью, преподнесенной мне Парисатидой, удары судьбы сегодня не ограничивались.
Мы скакали проворной рысью по довольно пустынной улице и нагнали царский кортеж всадников — это было видно по их лошадям и одежде. Подъехав ближе, я увидел, что впереди ехала высокая молодая женщина, в которой, сильно вздрогнув от неожиданности, узнал я Статиру, мою последнюю, вышедшую за меня против своей воли, новобрачную. Я знаком приветствовал ее, она отвесила поклон, затем обратилась к начальнику моих телохранителей, который ехал сразу же за мной. Мне не составляло труда услышать то, что она сказала:
— Командир, не испросишь ли для меня разрешения царя Александра проехать с ним немного рядом и рассказать то, что ему очень нужно знать?
Я повернул голову и сказал:
— Я слышал твою просьбу, Статира, и готов ее удовлетворить без лишних церемоний.
— Могу я также попросить тебя, великий царь, чтобы твоя охрана немного отстала, ибо то, что я хочу тебе сообщить, предназначается только для твоих ушей.
— Это тоже разрешается, и все мы переходим на шаг.
Она пристроилась рядом со мной, и я заметил, что ее удивительно красивое лицо немного побледнело и выражает глубокую серьезность. Стража попридержала ненадолго своих коней, затем снова тронулась вслед за мной, но уже шагах в двадцати.
— Мой царь, ты должен знать, что не по своей воле я не пришла в брачную спальню в день нашей свадьбы, — понизив голос, сообщила она.
— Я вижу, что ты говоришь совершенно серьезно. И все же не могу представить, чья воля могла бы подавить твою, которая была также моей царской волей.
— Есть один человек, чья воля подавляет мою. Нарушить данное тебе обещание меня вынудили угрозы, которые я не осмелилась не принять во внимание. Я говорю о своей кузине Парисатиде, дочери Артаксеркса III.
— Что это за угрозы?
— Кинжал или отравленная чаша — для меня и очень любимого мной человека.
— Молодого солдата?
— Мой царь, в моей жизни нет никакого молодого солдата. Если тебе это рассказала она, то знай, что все это ее выдумки. У меня никогда не было никакого любовника. Дорогой мне человек, о котором я говорю и которого хотела уберечь от беды, это моя старенькая
бабушка.
— Чтобы развеять сомнения насчет того, что ты мне сейчас сказала, я должен задать тебе всего лишь один вопрос. Она знала, что ты назвала мне любимую тобой трагедию Еврипида. Любимую потому, что, по ее словам, там говорится о твоей собственной истории — истории отчаянной любви к молодому солдату. Каким образом могла бы она узнать о том, что ты мне сказала, если только не предположить, что ты разговаривала с ней, пока я мылся в ванной, готовясь к твоему приходу?
— Величественный царь, Парисатида умна и хитра, как… демон. Она постоянно следит за мной, когда я нахожусь в ее компании, и подмечает и запоминает все, что я делаю или говорю. Она знает, что я люблю «Крессу» и всегда говорю о ней, если речь заходит о Еврипиде. Она, как и весь город, знала, что в первый день празднества покажут «Андромеду» Еврипида. Она, как всегда, оказалась прозорливой и догадалась.
— Я верю тебе, Статира. Парисатида крепко обидела тебя, и я был к тебе несправедлив, поверив в наговор.
— Царь Александр, у меня стало гораздо легче на сердце. Но умоляю, не говори Парисатиде о том, что я открыла тебе правду: я опасаюсь ее мести. Она имеет влиятельное положение как последняя дочь по линии рода Ксеркса. Она уже раз совершила убийство — ради своего преуспеяния и ненасытной похоти.
— А что, если я возьму и предам ее мечу?
— Нет, прошу тебя, царь Александр. Мне снова сердце не позволяет. Ведь бабушка обожает ее и не захочет признать в ней ничего дурного.
— Тогда я воздержусь. У меня еще только один вопрос. Ты все еще не против, или, скажем так, есть ли у тебя еще желание, чтобы наш брачный союз завершился на ложе?
— Нет, Александр, больше у меня нет такого желания. Хочешь — приставь ко мне своих шпионов, и ты убедишься, что нет никакого молодого солдата, что я так же девственна, как новорожденная. Когда меня искушали, я помнила, что являюсь старшей дочерью великого Дария, и это помогало мне не поддаваться искушению. Теперь же, когда в твоих объятиях побывала Парисатида, мне уже никогда не быть счастливой в качестве твоей жены, и тебя мне тоже не сделать счастливым. Поэтому вот моя последняя к тебе просьба: выбери подходящее время и отстрани меня по какой-нибудь причине, не задевающей моей чести. И я поищу счастья в пределах своих возможностей: быть может, это будет брак с человеком из нашего рода, добрым и верным, который никогда не стремился жениться на мне из-за моего слишком высокого положения.
— Хорошо, твою просьбу я исполню. Не повезло мне в отношении бракосочетания Европы и Азии, но, верно, это воля богов.
— Осмелюсь попросить тебя еще вот о чем, царь: ни словом, ни делом не позволяй Парисатиде догадаться, что я тебе открыла правду. С земным поклоном и сердечной благодарностью я подожду, с твоего разрешения, на обочине дороги, пока ты со своей охраной не проедешь мимо.
— Да, разрешаю, царица, можешь ехать своей дорогой.
7
В одном отношении большой смотр «эпигонов» под началом Селевка имел поразительный успех. Тридцать тысяч рослых молодых персов промаршировали или проехали верхом на лошадях безукоризненно ровным строем и в такт; они проделали трудные маневры; проходя мимо меня, они повернули головы точно под одним и тем же углом; их оружие было надраено до блеска; они безукоризненно четко отдавали мне честь. Не оставалось ни малейшего сомнения, что они могут стать оплотом моей армии. Мои же ветераны-македонцы собрались на противоположной стороне учебного поля и громко выкрикивали грубые и презрительные насмешки.
Их возмущало образование этого корпуса — пятой гиппархии. Когда я зачислил в конницу гетайров персов, выдававшихся знатностью, храбростью, красотой и верностью мне, ветеранов это не только огорчило, но и оскорбило. Мне, что совершенно очевидно, требовалось принять меры против мятежа — примирительные и вместе с тем суровые — и предстояло заниматься ими несколько дней и ночей. Я решил, что лучше всего провести это время в моем штабе в близком контакте с моими военачальниками и специалистами, а не во дворце у Парисатиды в расслабляющих пирушках, и не в царском дворце, где отсутствие одной молодой женщины заставляло все эти роскошные залы и палаты источать холод одиночества, несмотря на несколько сотен слуг, поваров, музыкантов, чистильщиц ковров и тому подобных его обитателей.
Поэтому я тут же продиктовал короткое письмо, объясняя Парисатиде, что на меня вдруг свалилось много работы и я не смогу вернуться к ней в течение неопределенного периода времени, который, надеюсь, будет коротким; и с письмом я послал ей ожерелье из зеленого нефрита, привезенное мне через Согдиану от монарха Иссебонии, неизвестного путешественникам обширного царства на северо-востоке.
Что-то меня толкнуло послать за моим лучшим шпионом, Клодием, который сейчас находился в лагере после разведывательной работы в Северной Мидии. Частично своим успехом он был обязан своей непримечательной внешности. В сущности, я никогда не мог припомнить его лица — так оно было похоже на мириады лиц. Он обладал острым умом и безошибочной памятью, редко доверял языку, а больше глазам и ушам; смертельно ненавидя Персию, он знал больше о ее дворцовых тайнах, чем хозяйки царского дворца в Вавилоне. Я встретился с ним в атмосфере полной секретности, в присутствии лишь Абрута, которого Таис называла моей тенью.
— Клодий, мне нужны сведения, важные для моей личной жизни, но которые будут касаться и моего управления империей, — начал я, как только он совершил обряд приветствия. — Тебе известно что-нибудь о Парисатиде, дочери Артаксеркса III, которую я взял в качестве третьей жены и царицы?
— Я слышал кое-что от караванщиков, сплетни в банях, но ничего такого, что могло бы быть приятным для твоих царских ушей.
— К Ахриману то, что приятно для моих царских ушей! Мне нужна только правда. Я знаю о ее предках, что она родилась у отца под старость, что ей около семнадцати и что нянька ее — египтянка, вдова хорошего аптекаря. У меня есть основания считать ее, мягко говоря, неразборчивой в средствах. Был ли у нее когда-нибудь любовник, о котором тебе что-нибудь известно?
— Не совсем любовник, мой царь.
— Был ли кто-нибудь, кто вызвал сплетни и публичный скандал?
— Маленькие сплетни, царь Александр, и то, что по греческим меркам можно было бы назвать скандалом. Но это известно только немногим.
— Я желаю услышать об этом незамедлительно.
— Говорила ли тебе царица Парисатида, что у этой самой египтянки есть сын по имени Неко?
— Нет, не говорила.
— После смерти Артаксеркса княжна Парисатида устроила свою резиденцию в Пасаргадах, в одном из дворцов, принадлежавших династии Ахеменидов. Вырастая из младенческого возраста, она играла и постоянно общалась с Неко, который был на три года младше. Я думаю, их более интимные отношения начались как детские эксперименты и исследования — что обычно бывает между зрелой сестрой и ее младшим братом. По слухам, у них это зашло гораздо дальше. Он стал ее любовником и все еще был им — по крайней мере, до тех пор, пока ты не взял ее в жены. Говорят, не было таких штучек в самых низких притонах, каким бы она не учила его. Вот и все, что я слышал, мой царь. Ручаться за достоверность не могу.
— Этот Неко приехал с нею в Сузы?
— Да, но он заболел с прошлого новолуния, возможно, от ревности.
— Его выздоровление будет быстрым, я в этом не сомневаюсь. Благодарю тебя за откровенный разговор. Можешь идти.
Не откладывая разговора с Парисатидой в долгий ящик, я решил сразу же наведаться во дворец ее бабушки с отрядом своих телохранителей. Часть из них вошла со мной в парадные двери дворца, и когда я попросил, чтобы меня провели в покои для гостей, то расставил их в коридоре. Затем я вошел в роскошные палаты и послал за Парисатидой.
Она несколько замешкалась с приходом. Я представил себе, как нянька сообщает ей о моем вызове, как она поспешно одевается. Когда ее допустили ко мне, лицо ее пылало, и она тут же с совершенным изяществом распростерлась ниц. Поднявшись, она заговорила с полнейшим очарованием:
— Великолепный царь! Я получила твое письмо и не ожидала, что ты…
Тут она замолчала, пристально вглядываясь мне в лицо, на котором явно было уже не то выражение, что в начале дня, когда я уходил. С ее лица схлынул румянец, глаза расширились.
— Похоже, Парисатида, ты чем-то обеспокоена, — заметил я.
— Нет, мой царь. Если у меня такой вид, так это только от удивления — лучше сказать, от неожиданной радости, что ты вдруг вернулся.
— Я по делу, Парисатида. Пришел тебе сказать, что ты больше мне не жена и не царица. Это не навлечет на тебя общественного позора, так как поцелуй без свидетелей — единственный знак нашего брачного союза. Нас вместе видели только раз на улице, что вполне могло бы сойти всего лишь за развлекательную прогулку: новый император проявляет должную учтивость по отношению к дочери великого царя.
Она помолчала, чтобы совладать со своей яростью и убрать все ее признаки, которые могли бы ее выдать. «В этом она имеет опыт», — подумал я. Наконец, она довольно спокойно полюбопытствовала:
— Должна ли я получить свой собственный дворец и свиту?
— Не от меня.
— Даже Александр, царь царей, не может так обращаться с последней дочерью царя из рода Ахеменидов. Все подчиненные цари этого древнего рода по всей твоей империи поднимут… поднимут…
— Против меня восстание? Не думаю, поскольку я правлю мечом.
— И все же это их возмутит, ведь в тайне тебе этого не удержать. Им будет нанесено непоправимое оскорбление. Они уже не будут оставаться такими верноподданными царю Александру. Их семьи были старинными и великими, когда царский дом Македона…
— Прошу тебя следить за своим языком, впрочем, не стану разбираться, к чему вела твоя речь. Я даже могу оказать тебе любезность — небольшую услугу, которая может тебя порадовать. У твоей няни-египтянки есть сын по имени Неко, он живет с вами. Если попросишь, я назначу его пажом в царском дворце.
Мне показалось, что она как бы уменьшилась в размере — наверное, оттого, что сделала полный выдох. Лицо ее утратило красоту, исказилось и побледнело от страха.
— Ну как, Парисатида, тебя бы это порадовало? — спросил я.
— Величественный царь, не мучай меня. Прошу тебя, смилуйся над своей самой ничтожной служанкой.
— Я мучаю тебя, всего лишь упомянув имя зеленого юнца, который на три года моложе тебя, и предложив допустить его ко мне во дворец? Впрочем, я теперь понимаю, что ты не рада этому предложению, и поэтому я беру его назад. Скоро я уеду в Экбатаны, а ты можешь объяснить своим родственникам и друзьям, что не смогла сойтись характером с македонским завоевателем из династии, мало чем примечательной до нашего века, и что мы расстались по взаимному согласию.
— Это великая милость от того, кто не славится своим милосердием, — проговорила она приглушенно-сдавленным голосом.
— Больше нет великого дома Ахеменидов, это только воспоминание. Времена меняются. Чтобы я больше не слышал о твоем верховенстве над Статирой, старшей дочерью моего великого врага. А вообще я советую тебе вернуться к своей кормилице-египтянке и ее сыночку и не принимать никакого дальнейшего участия в делах империи. Это тебе хорошо понятно? — Я мягко опустил руку на рукоять меча.
— Да, о величественный царь. — И она простерлась ниц на полу предо мной.
— Теперь разрешаю тебе уйти и ухожу сам.
8
Когда я вернулся в лагерь, я был совсем не в настроении шутить шутки со своими македонцами. Мой первый шаг был крайне либеральным: я уплатил все долги, которые наделали мои македонские солдаты любого звания, просто каждый должен был подойти к столам с деньгами, заявить ведающим раздачей, сколько он должен, и тут же получить деньги; не устраивалось никаких проверок того, правду он сказал или нет, ибо я принимал его честность как само собой разумеющееся, поскольку он служил у меня все эти годы и хранил верность. Но македонцы были так сердиты из-за того, что я не позволил им грабить Персию, а затем возвращаться на родину, грабя на всем пути, что не выказали никакой благодарности за щедрый денежный подарок и продолжали ворчать. А ведь я заплатил по долговым обязательствам без каких-то там нескольких сотен ни много ни мало десять тысяч талантов.
Затем я поручил Кратеру составить список десяти тысяч ветеранов, не годных к военной службе по старости или в связи с увечьями. С ними я собирался щедро расплатиться, после чего их ожидал долгий путь на родину. Я знал, что рядовых македонцев это приведет в ярость, они обвинят меня в том, что я выжал из них все силы и бросил, но ведь увольнение будет почетным: они будут освобождены от налогов и получат ряд других привилегий, кроме того, это было военной необходимостью. Эти солдаты уже не могли сравниться с более молодыми, часть которых прибыла из Греции несколько лет спустя после того, как я переправился через Геллеспонт, или с отрядами молодых персов, бактрийцев, согдийцев, скифов и мидийцев, которые я включил в свою армию. Я еще не знал, какие мне предстоят походы, не решил, в каком порядке буду их совершать. Я зашел на восток так далеко, как позволяли мне мои обширные коммуникационные линии. Непосредственно к северу от моей империи простирались только степи и пустыни, где изредка встречались оазисы, плодородные долины и пастбища кочевников, не стоящие тех денег и сил, которые могли бы пойти на их завоевание. Зато весь юг, за исключением Египта, оставался в неприкосновенности, а к западу от Греции лежали не только незнакомые обширные царства готов и тевтонов, но и богатые города Италии, которые быстро вбирала в себя только что народившаяся энергичная Римская держава.
— Под чьей командой пойдут домой те десять тысяч ветеранов, которых ты намерен уволить из армии? — осведомился Кратер, и голос его был спокоен. — Впрочем, чего спрашивать — и так все ясно.
— Думаю, что ясно, мой старый и верный друг, — отвечал я ему.
— Что ж, я подчинялся твоим приказам десять лет, а то и больше — и тем приказам, которые я считал разумными, и тем, что мне казались неразумными. Привычка подчиняться въелась в меня так глубоко, что я даже не могу возражать против моей насильственной отставки. К тому же в этом есть смысл. Я один из твоих старших военачальников, я уже не молод, мне не хватает былой агрессивности, хотя сомневаюсь, что я стал слаб в своих суждениях; теперь настала пора заменить меня кем-нибудь помоложе, порасторопней; может, я уж больше не люблю грохот сражения и меня не привлекает даже слава победы, за которую приходится платить такой горькой ценой. Я сам прошу тебя об отставке, и пусть она вступит в силу в тот день, когда отпущенные на отдых солдаты вступят на македонскую землю.
— Я принимаю, Кратер, твою отставку, печалясь и вместе с тем радуясь тому, что ты так долго прожил, так много видел, так хорошо воевал и в свои преклонные годы заслужил мира и покоя, что ты будешь пользоваться в Греции известностью и почетом и честно заработанным состоянием.
Пока Кратер составлял списки, а другие военачальники реорганизовывали армию в соответствии с моими планами, я мечтал совершить еще одно путешествие с целью изучения неизвестных земель и заодно испытать пригодность моих новых судов к плаванию. Я переделал одну большую тетреру, с тем, чтобы у нас с Роксаной на ней было просторное, даже роскошное жилье и удобные койки для небольшого штата слуг. Каждый день я опасался, что получу от Роксаны еще одно письмо, в котором будет говориться, что она снова откладывает возвращение домой, но в почтовых сумках такового не оказалось, и прибыла она без всякого дальнейшего уведомления как раз в тот день, когда я ее и ожидал.
Тот день я провел во дворце за изучением карт и морских путей, изредка делая краткие перерывы и выходя на балкон, откуда хорошо был виден наружный портал. Ближе к заходу солнца я услышал крики каравана и, забыв о приличии, поспешил к главному входу во дворец. Я успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Роксана на своей белой лошади въезжает в ворота, а низкое солнце, должно быть, полюбило их обеих, ибо ее лошадь вся так и сияла мерцающей белизной, а волосы Роксаны, заплетенные, как и во время нашей первой встречи по дороге в Додону, в косы, мягко излучали светло-золотистый цвет.
Я собственноручно помог ей спешиться, при этом она вскинула брови и ее нежный рот изогнулся в улыбке. Очень скоро мы остались одни, выставив за дверь болтливую Ксанию. Роксана, как я и ожидал, начала с вопроса:
— Почему же ты не со своей новой женой? Я ведь говорила, что ты должен уделять ей постоянное внимание на протяжении полного лунного цикла. Хотя я подумала, что ты не решишься постоянно быть при ней, ты дашь ей день передышки.
— Некоторое время я считал, что у меня две новые жены: Статира и Парисатида, — но оказалось, что у меня нет ни одной, кроме моей прежней жены.
По внезапно изменившемуся выражению глаз я понял, что она испугалась, хотя больше ничто не говорило об этом — она умела скрывать свои чувства.
— Я не буду спрашивать, что случилось. Я только выскажу предположение, что бракосочетание Европы и Азии не прошло столь успешно, как ты ожидал.
— Для меня оно кончилось полной неудачей. А в целом, признаюсь, успех был не так уж велик.
— Я бы не нашла ничего плохого в том, что прекрасная Статира — твоя жена, а Парисатида… после смерти Дария она имеет сан княжны Персии. Но если ты сделал ее своей третьей женой, мне бы следовало либо убить ее, либо никогда не возвращаться к тебе. Я никогда ее не видела, но… мне она не нравится.
— Это, несомненно, предубеждение.
— Ты так говоришь, Александр, а выглядишь как будто пристыженным. Я очень редко видела тебя таким. Не сомневаюсь, что это тебе на пользу.
— Ты мне на пользу, Роксана.
— Ты нуждаешься в ком-то, кто был бы тебе полезен, кто любил бы тебя. На это способна не каждая женщина.
— Таис говорила мне, что ни одна женщина на это не способна.
— Она ошибалась. Разумеется, я влюбилась в тебя, когда мы оба были очень молоды, и я не смогла вылечиться от своего чувства.
Это была Роксана, которая, единственная среди людей, открыла мне свое сердце. Хотя, возможно, не совсем единственная, поскольку был еще Птолемей, которому повелитель Азии все еще приходился другом детства. Любовь ко мне Гефестиона была окаймлена сильным желанием, которого он стыдился, и это заставляло его скрываться от меня в других отношениях; его больше всего восхищала во мне та сторона моей натуры, которую Роксана считала самой предосудительной; однако он был верен мне до гроба. Роксана быстро стареет, сказала мне Парисатида, и за эти слова мне следовало бы придушить ее, но я не мог, так как попался на ее лесть, грубее которой мне еще не приходилось слышать, однако я слушал с жадностью, и еще потому, что я размяк от безрассудной плотской страсти к ней. Я надеялся, что Роксана никогда не узнает о постельных баталиях между Парисатидой и мной. Я не думал, что она узнает, ибо отныне куда бы ни пошла эта распутница, она будет следить за своим языком.
Роксана не только не старела, она вступила в долгий период полного расцвета красоты. С момента нашего воссоединения в Бактрах она совсем не изменилась, да в сущности, и с тринадцатилетнего возраста в ней не произошло почти никаких перемен. Может, благодаря какому-то внутреннему росту она стала прекрасней, чем прежде. Глядя на ее лицо, я вспомнил изящную лепку ее тела, его белоснежную кожу, груди, унаследованные ею от скифских кочевниц, упругую талию и длинные и тонкие, но сильные ноги и руки.
— Ты не слишком устала от езды, чтобы возлечь со мной? — спросил я своим обычным властным тоном, но почти со смирением. — Она ведь была такой долгой.
— А ты не слишком устал, резвясь с Парисатидой, да простят тебя боги?
— Я оправился от этого безумия и телом, и душой.
— Что ж, я твоя жена. То, что ты предлагаешь, разрешается Заратустрой и не запрещается ни одним богом, у которого есть хоть крупица здравого смысла, хотя твоя богиня Артемида относится к этому с пренебрежением — с вершины своей собственной девственности, в которой я очень сомневаюсь.
— Роксана, это кощунство!
— Ничего, потерпит. Так ты хочешь или нет? Если да, то дай мне время помыться, ведь я вся пропылилась в дороге. Я быстро, обещаю.
— Я тоже приму ванну и тоже быстро.
Ожидание распалило меня так, что мне трудно было поверить, а осуществление желания, как всегда, явилось для меня блаженным сюрпризом. Затем я поведал ей о предполагаемом путешествии. «Ты хорошо ездишь на четвероногой лошади, — похвалил я, — но скоро увидим, как ты поскачешь на деревянной лошадке с сотней деревянных ног и с хлопающим парусом. Не сомневаюсь, что тебя вывернет наизнанку».
— Рвота? Ерунда! Когда мне было семь лет, я верхом на козле поднималась на Скалистые горы.
Через несколько дней, изумительно счастливых, мы пустились в плавание вниз по Тигру в Персидский залив. Затем вдоль берега мы направились к устью Евфрата. Мы проплыли мимо деревень рыбаков, поклонявшихся богине Ашторет, которую иногда путали с Астартой, посредством чего им удавалось получать хорошие уловы; а также мимо поселков искателей жемчуга, которым лучше всего, по-моему, было обращаться за помощью к Посейдону, богу океана, и к морским нимфам, одной из которых была мать Ахилла, и к Протею, пастуху тюленей. Мной овладело странное сожаление, что я не ловец жемчуга, который погружается в морские глубины на шестьдесят футов или больше — так нам говорили, — задерживает дыхание на пять минут и чувствует себя как дома в этом странном подводном мире, в морских пещерах, где живут зеленоглазые русалки. Кто-то другой мог бы быть завоевателем Азии, проливающим реки крови, а я бы мирно плавал себе в соленом океане, гордясь силой своих рук и ног. Когда у меня возникало бы сильное желание испытать опасность, я бы вступал в поединки с большими осьминогами со множеством щупалец, которые убивали и пожирали моих товарищей — водолазов, или с крупными кривозубыми акулами.
На этом берегу Эол, бог легких ветров, не в силах или не желая поднять большой, губительный для судов ураган и оставив это дело моему отцу Зевсу, зародил на берегу ветер, который задул в сторону моря и устроил нам такую боковую и носовую качку на волнистых отмелях, что многих из экипажа скрутила морская болезнь. Роксана же сохраняла полнейшее равновесие, словно она ехала в горах верхом на козле.
Мы исследовали обширное устье Евфрата, в котором рыбаки и ловцы жемчуга знали каждое углубление и могли найти его самой темной ночью, и самым великолепным зрелищем были тучи водоплавающих птиц, насчитывающих миллионы, которые, если их вспугнуть, поднимали такой гвалт в небесах, что нам приходилось орать друг другу в ухо, чтобы перекричать их пронзительные жалобно-возмущенные вопли.
Затем мы вернулись к Тигру и поднялись вверх по вяло текущей реке к новому лагерю моей армии, где начальником был Гефестион и где стояла на якоре главная сила моего флота.
— Александр, какая тебе нужда в этих сотнях военных судов? — удивилась Роксана.
— На всякий непредвиденный случай, — ответил я и быстро сменил тему.
Высадившись на берег, мы поселились в просторном павильоне, поставленном специально для нас, и я, повидавшись наедине со старым верным другом Гефестионом, узнал, что уже возник непредвиденный случай, правда, несколько иного рода, чем я ожидал. Македонцы, услышав, что Кратер поведет домой десять тысяч уволенных из армии, увидев собственными глазами, что армия реорганизуется и что из азиатов формируются подразделения, которые до сих пор состояли только из греков, не на шутку обозлились. Назревал большой мятеж.
Глава 10
ПОЛЕТ ФУРИЙ

1
Не много потребовалось времени, чтобы созреть мятежу. На следующий день после моего прибытия рядовые солдаты-македонцы все до одного освободились от учений, сославшись на недомогание, но вместо того чтобы играть эту роль и дальше и оставаться в палатках, они сбились в большие и малые группы, говоря о своих обидах и возбуждая все больше злобы друг в друге, подобно тому, как отдельные очаги жертвенного костра постепенно соединяются в одно огромное пламя. Когда я проезжал мимо них верхом со своими телохранителями, многие из них выкрикивали слова, в которых звучало недовольство и, хуже того, открытое неповиновение. Сквозь крики мне слышались глухие угрозы, словно ворчание в раскатах грома в ту ночь, когда мы готовились к переправе через вздувшуюся от паводка реку, чтобы ударить на Пора.
«Зевс-Амон!» — проорал кто-то с издевкой. — «Ты выжал из нас все соки и выбросил, как объедки», — взвился еще один голос и ему вторил другой: «А был великий царь!» Вот прорвался хриплый от ярости крик: «Давай, повоюй со своими трусливыми персами и увидишь, много ли ты завоюешь». Но больней всего меня задело обвинение: «Ты предал своих!»
Я понимал обоснованность некоторых жалоб и готов к ним был прислушаться с уважением, но я не мог потерпеть клевету или оскорбления в адрес моего происхождения и сана и у меня почти не оставалось надежды решить этот кризис без кровопролития. Да, совершенно верно, эти люди были вынуждены оставить в песках свои сбережения и добычу, награбленную за многие годы тяжелой войны. Если бы не мой безрассудно смелый и губительный поход через пустыню Гедросии, если бы вместо этого я повел их по более длинному, но легкому пути через Дрангиану, они бы могли вернуться домой богатыми. И верно было то, что я предпринял этот поход не ради какой-то военной цели, а чтобы только доказать свое превосходство над Киром; Таис в своей прямоте назвала его безумным выражением колоссального тщеславия. Будущее тех, кто возвращался в Грецию, оказалось под угрозой. После перехода через пустыню им пришлось обойтись совсем скудной добычей и, как и большинство солдат, они мало что отложили из жалований и премий. Обещанная мною доля казны из подвалов Суз, Вавилона и Персеполя пошла в основном на покрытие долгов; расходы по пути домой должны были съесть значительную часть оставшихся у них средств; то, что удалось бы сохранить, и несколько золотых дариков на каждого человека по прибытии в Македонию составило бы все их богатство, которого вряд ли хватило бы на покупку маленькой фермы, не говоря уж о большой, для разведения лошадей. Я и думать не мог о том, чтобы прибавить им еще и вместе с тем браться за осуществление своих планов дальнейших завоеваний.
Но недовольными в этой толпе были не только уволенные ветераны; македонцы, которых я намеревался оставить в армии, были не меньше возмущены, поскольку устали от войны и хотели, чтобы я возвращался с ними на родину, позволив им грабить встречные города и оставить за собой на пути победителей широкую полосу опустошений — в тысячи стадиев длиной. Один из этих смутьянов крикнул: «Если уж отправляешь домой одних, тогда и всех отправляй!» — и этот крик толкнул меня решиться на осуществление своих намерений.
Собственно говоря, я не испытывал в македонцах никакой реальной нужды. Моя родная Македония стала теперь всего лишь далеким полуварварским уголком моей огромной империи. Титул царя Македонии служил лишь небольшой припиской к великому титулу императора Азии. Я располагал мощной армией, состоявшей из мидян и персов, парфян и бактрийцев, и были они вовсе не трусливыми, как выкрикнул один из бунтовщиков, а наоборот, храбрыми и неистовыми воинами; стоило их немного еще подучить, и это была бы поистине грозная армия. У меня был лучший флот в мире, а возможно, и величайший в истории. Испытания сражениями отсеяли тех моих военачальников и флотоводцев, кто был послабей, и хотя я знал, что мне будет не хватать трезвой головы и грубого, порой дерзкого языка Кратера, его все же было не сравнить с такими яркими фигурами, как Гефестион, Птолемей и Неарх, а несколько других были вполне им под стать. Поэтому, когда я приказал всем македонцам собраться перед трибуной, у меня было то же чувство удовлетворенности своим положением, что и тогда, когда предо мной стояли войска Дария на Гранике и при Иссе.
Я не приказывал им строиться, боясь, что они не подчинятся, позволяя им оставаться гудящей, ворчащей, изрыгающей проклятия толпой. Может, это было и ошибкой; мое предчувствие кровопролития явно грозило оказаться правдой. Снова послышались наглые выкрики, теперь они звучали чаще и оскорбительней, и негоже было терпеть их Александру, сыну высочайшего из богов, императору Азии. Взбешенный, я соскочил с трибуны и, сопровождаемый телохранителями, приказал схватить тринадцать человек из числа подстрекателей и тех, кто выкрикивал непростительные оскорбления. Я уж готов был отдать приказ обезглавить их тут же на месте, но меня вдруг осенила мысль о более подходящем наказании.
— Отобрать оружие у этих изменников, отвести их на реку, связать по рукам и ногам и бросить на дно.
Это изменение формы наказания служило сразу двум целям. Во-первых смерть утопленника страшила македонцев гораздо больше, чем смерть от меча, с которой они то и дело встречались в сражениях. Во-вторых, до сих пор я избегал кровопролития и был намерен, по возможности, поступать так и впредь. Те, кто услышал мой приказ, выглядели ошарашенными. Но, говоря по правде, я был потрясен не меньше схваченных, поскольку разглядел их каждого в лицо, когда их вели на смерть по дороге в мрачное подземелье Аида. Я хорошо знал почти всех, и не только как храбрых воинов, но и как просто людей со своими чудачествами, манерами и особенностями, ставшими предметом насмешек. Один из них учился со мной у Аристотеля, хотя и неважно; из четырех других, людей знатного происхождения, двое сражались в рядах моих великолепных гетайров, ходили со мной на прорыв развернутого строя врага на Гранике, при Иссе и Арбелах, а в последний раз — среди отрядов Пора в битве на берегу реки. Один дрался рядом со мной в крепости в Маллах и пытался отбить мечом жужжащую стрелу, которая затем вонзилась мне в грудь. Все они переправлялись со мной через Геллеспонт.
Вот сейчас они придут в себя, мелькнуло в голове, а у них мечи и число их так велико, что они могут смести моих телохранителей, захватить и убить меня. Я махнул рукой трубачам, стоящим за военачальниками на трибуне, и прозвучал сигнал остановиться. Больше в силу привычки, чем из намерения подчиниться, мятежники стали по стойке «смирно».
Я тут же снова вскочил на трибуну, и когда начал свою речь, меня никто не прерывал.
Сперва я говорил о Филиппе, называя его своим отцом, что несколько умиротворило людей, ибо почти никто из македонцев, за исключением Гефестиона, никогда не признавал меня за родного сына Зевса-Амона. Даже Птолемей никогда не говорил это в открытую. Но, называя Филиппа отцом, я ни в коем случае не отрекался от своего права считаться сыном бога, ибо царь Македонии действительно был моим приемным отцом. Я напомнил им о том, что он привел их к победам в Греции и в землях, примыкающих к ее границам, что сделал из них людей, имеющих право гордиться собой, тогда как до этого они были нищими пастухами, зависящими от милости варваров-горцев.
Затем я напомнил им, как повел их через Геллеспонт в империю старого врага Греции — огромной Персии. Пока мы шагали в победном марше на Восток, самые способные из них стали крупными военачальниками, предводителями фаланг и правителями богатых сатрапий. Во время долгих походов я делил с ними трудности лагерной жизни и ел ту же самую пищу, что и они; я всегда был с ними на переднем крае сражения; у меня на теле много следов от глубоких ран; я взял себе в жены восточную женщину только после того, как в трех великих битвах победил армии Дария и завоевал Тир; только тогда надел я на себя персидский наряд царя Азии.
Я напомнил им, с какими торжественными церемониями я хоронил павших в бою из их числа, о том, как награждал их почестями и повышал в звании, а потом заплатил их долги, не задавая никаких вопросов. Я говорил о множестве захваченных после побед молодых женщин и девушек, которых я мог бы продать в рабство, но вместо этого отдал им для наслаждений. За исключением нескольких крайних случаев, они никогда не нуждались в хорошей пище и питье. С ними обращались как с людьми, а не как с вьючным скотом.
— Теперь же вы — не только ослабленные, но и здоровые — хотите меня оставить, — сказал я им с горьким упреком. — Поступайте как хотите. Идите в Македонию и расскажите, как вы ушли — после того, как я преодолел с вами Кавказ, Окс, Танаис и могучий Инд, через который до меня не мог переправиться ни один завоеватель, кроме бога Диониса, провел вас в неизвестные земли Аральского моря, за большие притоки Инда и даже на берег Гифасиса; под моим знаменем вы одолели бы и это препятствие, если бы не пали духом и не затосковали по дому. Расскажите им и то, как под моим руководством вы остались в живых в гибельных песках гедросов. Расскажите о вашем походе в дельту Инда, куда до вас проникло всего лишь несколько обитателей джунглей. И наконец, расскажите им, как, ступив на безопасную дорогу в Грецию, завоеванную и умиротворенную Александром и его армией, вы оставили его, его знамя, свои ряды и посты и превратились в толпу дезертиров. Заслужите ли вы этим рассказом почести перед богами, станете ли выше в глазах своих соотечественников? Тьфу! Ступайте!
Я повернулся, без всякого салюта сошел с трибуны и вернулся к себе в шатер, где меня ждала Роксана. Я попытался улыбнуться ей, но не смог, а когда направился в спальню, она не коснулась моей руки, чтобы остановить. Зашла Ксания и спросила, что бы я хотел на ужин, но я отрицательно покачал головой.
— Так не годится, царь Александр, ты должен поесть. Откуда у тебя возьмутся силы, если ты не будешь есть?
— Не могу, добрая Ксания. Так и скажи своей хозяйке. Единственно, что мне нужно, это уединение. Попроси ее позволить мне побыть в одиночестве.
Я бы мог попросить ее еще об одном желании: чтобы поскорей прошла ужасная боль в висках.
Весь следующий день я едва притронулся к моему любимому блюду после того, как Ксания поставила его на стол и быстро удалилась. На другой день, как и в предыдущий, я никого не принимал, хотя слегка поел; острая боль прошла, и, когда стемнело, я пригласил Роксану к себе в постель, и, хотя мы говорили мало, я нашел сладкое утешение в ее любящих руках и милом тепле ее тела. Утром третьего дня я вызвал к себе самых способных персидских военачальников, одного бактрийского, с превосходными воинскими достоинствами, двух умелых командиров от парфян и замечательного вождя согдийцев. Им и еще горстке македонских старших военачальников предстояло приступить к созданию армии, сплошь состоящей из азиатов, включая конницу гетайров и другие элитарные корпуса. Начальнику моих телохранителей я послал письмо с почетным увольнением и денежный подарок; я писал, что, к моему глубокому сожалению, не могу доверять большей части своей охраны, хотя и тех немногих, кому доверяю, должен уволить из-за дезертирства их собратьев-македонцев. И наконец, я отправил письмо Каллину, до сих пор надежному илиарху конницы гетайров, который не был зачинщиком мятежа, но и не выступил против него; я ставил его в известность, что он с остальными командирами меньшего ранга и всеми рядовыми македонцами должен покинуть лагерь, а иначе им придется взяться за оружие и выступить против меня.
Как я и предполагал, для мятежников это явилось сокрушительным ударом. Они вдруг задумались, их кровь превратилась в воду, и дерзкая непокорность покинула их; они примчались к моему шатру, одни встали на колени, другие бросились ничком на землю, взывая ко мне, чтобы я позволил им увидеть свое лицо, умоляя меня о прощении и о том, чтобы я вновь принял их под свое знамя — ради любви богов и ради их доброй службы под моим началом до того, как они взбунтовались.
Я дал им немного повопить и попричитать, потом вышел из шатра и дружески поцеловал Каллина. Тут же все остальные бросились ко мне, пытаясь поцеловать или просто коснуться моих одежд и рук; видя, что я их не упрекаю, они зааплодировали, затем засмеялись, точно мальчишки, и пустились вокруг меня в дикий пляс, прыгая и крича в безумной радости, а когда многие из них заплакали от счастья, заплакал и я сам. Видя это, они поняли, что прощены, и когда, наконец, я отпустил их, они вернулись к своим палаткам, распевая гимн в честь Аполлона, обычно звучащий только в дни вознесения благодарственных молебнов Далекому Стрелку.
[220] Он являлся идеалом и особым хранителем греческой мужественности и справедливым богом, всегда говорящим только правду и славящимся тем, что прощал мужчинам их прегрешения и не был мстительным, как великий Зевс, его сестра и жена Гера и мудрая, но неумолимая Афина Паллада.
И наверное, когда они пришли в лагерь, более образованные принесли жертву Артемиде, сестре-близнецу Аполлона, а близнецы эти родились у Леды после того, как ее соблазнил Зевс, принявший образ лебедя. Аполлон же страстно любил свою девственницу сестру, всегда принимал ее сторону и больше был склонен мстить за всякое неуважение к ней, чем к себе. Они хорошо помнили, как он вместе с нею пускал свои смертоносные стрелы, поражая насмерть многочисленных сынов и дочерей Ниобы, хваставшейся своим превосходством над Ледой, родившей только одного сына и одну дочь.
Так что даже великодушный Аполлон мстил самонадеянным смертным, и, по сути, в этом все боги видели и развлечения для себя, и свой долг.
Но иногда высшие боги бьют по своим, а в чем тут причины, смертным умам понять невозможно. Обычно их жертвы прожили какое-то время на земле и родились у смертных женщин. Ярким примером этому был Геракл, сын Зевса и Алкмены. Геракл убил кентавра Несса стрелой, смоченной кровью Гидры — многоголового чудища, более ядовитого, чем индийская змея с капюшоном вокруг головы. Когда Несс умирал, он дал немного своей крови жене Геракла, сказав ей, что у нее есть свойства любовного амулета. Жена Геракла, испугавшись, что теряет благосклонность героя, пропитала этой кровью его одежду и дала ему надеть ее на свое могучее тело. И тут же от яда у него начались такие страшные муки, что он разложил большой погребальный костер и умер в его пламени.
И ведь ни один бог не предупредил его жену и его самого о том, что в рубахе — яд. Мне часто приходило в голову, что Зевс, знай он правду, так бы и поступил, и оставалось только предполагать, что его великие мысли были заняты чем-то еще, или же он потерял голову от любви к какой-нибудь прекрасной нимфе или смертной. Помимо Зевса его могли бы спасти, предсказав правду, какой-нибудь провидец или сивилла. Еще один герой, жестоко сраженный судьбой, ради спасения которого Зевс и пальцем не пошевельнул, это великий Ахилл. Из одного рассказа следует, что его мать Фетида окунула новорожденного в Стикс, которую мы зовем Рекой Печали, чтобы тело его, целиком смоченное водой, стало неуязвимым для оружия; но она держала его за пятку, и пятка осталась сухой. Во время Троянской войны он сперва потерял своего любимого друга Патрокла, и эта потеря чуть не разбила его сердце. После победы греков ему в пятку попала стрела малодушного любителя красть чужих жен Париса, и от этой раны он умер.
Ни одна богиня не явилась Фетиде и не предупредила ее, что Ахилла следует целиком окунуть в воду, чтобы полностью защитить его тело от ран. Хоть ранняя смерть Патрокла была предсказана никогда не ошибающимся оракулом в Дельфах, ни один бог не вмешался, чтобы спасти его и позволить ему остаться при своем великом друге в последний год его жизни. Порой я задумывался над этими событиями и ловил себя на мысли, что и мне неумолимой судьбой будет нанесен жестокий удар, несмотря на мое божественное происхождение.
В середине тридцать второго года о. А., в возрасте тридцати одного года, я вместе с Роксаной, телохранителями, царским двором и крупным отрядом отправился в Экбатаны, летнюю столицу персидских царей, думая, что, если сменю влажный климат Суз, мои частые и сильные головные боли ослабнут или пройдут совсем. Это путешествие не заняло много времени, хотя пришлось идти отрогами горы Загрос; там Роксана, казалось, снова стала сама собой, возможно, потому, что кедровые чащи, журчащие ручьи и часто встречающиеся фазаны с роскошным оперением напомнили ей Бактрию.
Я же был удручен: мне постоянно снились дурные сны, и я чувствовал, что мои ночные страхи могут предвещать недоброе. Я думал, что это, скорей всего, случится в пути, ибо дорога в горах была извилистой, случалось, там падали большие деревья, наш путь не раз преграждали оползни, вызванные сильными дождями, а по окрестным лесам бродили свирепые львы. Так что когда мы в целости и сохранности прибыли в Экбатаны и мы с Роксаной и нашим двором устроились в летнем дворце, я решил подождать полнолуния и устроить празднество с играми и жертвоприношениями. А тем временем я заказал для Роксаны прекрасный паланкин, чтобы она могла ездить по горным дорогам с большим удобством.
Вот тогда-то я и вспомнил о партии сильно лоснящейся кожи, которой коссеи заплатили мне дань: ее ведь отправили в Экбатаны, чтобы по возможности использовать в изготовлении седел и сапог. Я тут же послал за тем, кто отвечал за кожаные изделия. Он сообщил, что высококачественная конская кожа так и осталась неиспользованной, поскольку оказалась недостаточно гибкой, что ее хранят в небольшом каменном сооружении на территории лагеря. Я немедленно пошел вместе с ним, чтобы взглянуть на нее, ведь она находилась совсем рядом, в каких-нибудь ста шагах от штаба. Осмотрев материал, я решил, что он хорошо подойдет для крыши и частично для стенок паланкина между золотыми и серебряными распорками.
Строительство паланкина привлекло к себе мое любопытство. Я с трудом представлял себе, какой пользе он может послужить. Он напоминал собой небольшую тюрьму и с последней мог сравниться даже прочностью: на двери снаружи — железная решетка, точь-в-точь как в тюрьме, пол выложен каменными блоками, крыша как у подземной темницы, а в качестве окон — отдушины менее фута шириной. Ответственный за работу не мог удовлетворить мое любопытство.
Луна все прибывала, и после полудня, перед тем как ей взойти абсолютно круглым диском, я устроил праздник благодарения. Я не сомневался, что высоким богам понравились принесенные им жертвы, что игры удались: диски бросались далеко, отлично выполнялись прыжки, наездники показали высшее искусство верховой езды, и в первых сумерках бег с факелами явился достойным завершением игр. Но еще лучше удался пир на открытом воздухе, гостями которого были мои старшие
военачальники, правитель Экбатан и мои старые друзья чином пониже. Подсчет показал, что собрались почти все мои товарищи и союзники по старым временам в Пелле, которые еще были в живых.
Гефестион сидел справа от меня, Птолемей — слева. Мы говорили о старых временах, настроение у меня поднялось, и я не чувствовал никакой боли в висках. Но после нескольких чаш вина Гефестион пожаловался на боль в груди. Он, наверное, простудился, подумал я, это может вызвать воспаление и раздражение в легких. Еще одна чаша вина не принесла ему облегчения, и он, в конце концов, заявил, что в постели ему станет получше, и попросил моего разрешения уйти.
Я разрешил, и он ушел после прощального тоста за меня. После этого мы разговаривали с Птолемеем. Это был один из редких случаев наших интимных бесед, и он горячо заговорил о Таис. Ему нельзя жениться на ней теперь, — сетовал он, — когда у него есть жена знатного происхождения, сестра Барсины Артакама, но ему хотелось бы дать ей статус наложницы. Он вспоминал храбрость Таис во время жестокого испытания в песках гедросов.
Прошло время, и я уж было решил послать человека, чтобы узнать, не стало ли Гефестиону лучше или сон для него высшее благо, как вдруг к моему столу торопливо подошел врач Главкий, умоляя меня немедленно пойти к постели моего старого друга.
— Ему хуже? — спросил я с замиранием сердца.
— Хуже, чем в первый раз, когда он послал за мной. Тогда мне не понравилось его состояние, хотя пульс был нормальный и жара не было. Царь, он выглядит очень неважно: бледное лицо, ввалившиеся глаза. Я смешал ему лекарство из части возбуждающего средства, части слабительного и части смягчающего для воспаленных легких. Возбуждающее средство на него не подействовало, и, похоже, он погружается в забытье. Я послал за твоим врачом, Филиппом Акарнанским, но он ушел на охоту и еще не вернулся.
Я вскочил, и мы оба пустились бегом: тут было недалеко, а требовать лошадей значило терять время. Я страшно жалел, что не пригласил Филиппа на пир, тогда бы он был под рукой, а Главкий был путаником, недостойным звания врача. Когда мы приближались к жилью Гефестиона, его слуга услышал наши шаги через открытую дверь и выбежал нам навстречу.
— Царь, боюсь, что ты опоздал, — пробормотал он, и в голосе его звучал страх.
— Что? Ты соображаешь, что говоришь?
— Можешь убедиться сам, о величественный царь. У него открыты глаза, но мне их вид не нравится. И еще… не заметно, чтобы он дышал…
Мы добежали до двери и ворвались в комнату. Мне достаточно было одного взгляда: слишком хорошо я знал, как выглядит мертвец. И тут я понял, к чему меня вело предчувствие непоправимой беды.
Я склонился над Гефестионом и приложил ухо к его губам, но не различил никакого дыхания. Прикоснувшись к его запястью, я не ощутил пульса. Я прижался головой к его груди, но не расслышал ни малейшего биения сердца. Утратившие блеск глаза уже сказали всю горькую правду.
Я схватился руками за голову: ужасная боль завладела висками и заскакала по лбу — стремительно, как искры, высекаемые крутящимся кремневым кругом из железного колеса. Из груди моей вырвался вопль отчаяния. Я увидел вбегающего Птолемея и одной лишь фразой попытался выразить всю неизмеримую печаль своей души: «Ахилл потерял своего Патрокла!» И упал, обессиленный, на безжизненное тело своего лучшего и самого верного друга.
Глава 11
ЦАРИЦА РОКСАНА

1
Следующая глава этого повествования написана Элиабой, известным под именем Абрут, на греческом языке и моими собственными словами, не под диктовку моего господина, монарха Азии.
Сломленный горем, а позднее и немощью, Александр не мог и не хотел продолжать вести эти записи, но позволил мне ежедневно присутствовать при нем, кроме часов, когда он нуждался в уединении. И моя госпожа, царица Роксана, попросила меня вести и дальше запись его слов и действий — в общем, всего, что имело отношение к его жизни и деятельности — чтобы история располагала по возможности наиболее полным материалом о нем.
Она смогла дать мне краткое изложение событий, происшедших в часы моего отсутствия, которые я введу в сей рассказ в соответствующей последовательности. Впрочем, ей и не нужно было просить меня заниматься этим делом, которое входило в мои прямые обязанности. Но особая ее просьба заключалась в том, чтобы я вел эту летопись в стиле предшествующих глав, и, более того, предоставила мне право давать собственное обоснование мотивов некоторых его действий, мыслей и чувств, которые я способен был предугадывать, проведя много лет в обществе царя в качестве его личного историка и зная его настолько хорошо, что меня обычно называют его тенью.
Царь почти без чувств упал на смертное ложе друга и, коленопреклоненный, лежал у него на груди поперек постели. Зная, что Гефестиону уже ничем не поможешь, врач Главкий перенес свою заботу на царя, делая попытки привести его в чувство. Царь не отзывался на свое имя, и тогда врач решил уложить его в удобное положение, чтобы голова находилась вровень с телом и приток к мозгу крови не был затруднен. Но когда Главкий попытался приподнять Александра, тот наполовину вышел из транса и, выражая свое неудовольствие, властно потряс головой. Без слов было ясно, что он в своем полусознательном состоянии желает остаться со своим мертвым другом, и чем ближе, тем лучше.
Главкий сделал еще несколько попыток, но с тем же результатом. Самое большее, что он смог сделать, это подложить подушки царю под колени, чтобы кости не так жестко упирались в пол. Царь часто стонал в том состоянии, которое можно было назвать трансоподобным сном, порой произносил неразборчивые слова, хотя один раз мы отчетливо услышали: «Гефестион, Гефестион!» Главкий не осмеливался вводить ему в рот возбуждающее средство, боясь, как бы он не задохнулся.
Наконец, он заплакал, почти неслышно, но видно было, как грудь его сотрясается от рыданий. Для всех присутствующих было мучительно видеть, как такой великий человек плачет во сне, но все, что мог сделать врач, это вытереть слезы, осторожно касаясь его лица. С течением ночи он все чаще пытался что-то сказать, и мы уловили слово «Пелла», немного погодя имя «Аристотель», а еще позже ясно прозвучавшее предложение: «О, это была славная атака!» Потом, пробормотав что-то неразборчивое, он отчетливо задал вопрос: «Почему ты умер, Гефестион?» Приступы слез участились. Время от времени он, очевидно, ощущал себя во сне Ахиллом, судя по тому, что обращался к умершему, называя его Патроклом.
После полуночи в жилище Гефестиона вбежал вернувшийся с охоты в близлежащих холмах личный врач Александра Филипп из Акарнаны. Только мельком взглянув на мертвого, он сразу же положил руку на лоб Александра и сосчитал его пульс, глядя на маленькую минутную склянку, которую носил в своей поясной сумке. Александр все еще не позволял положить себя в более удобное положение, несмотря на то что труп уже начал остывать, а хорошо известно, что холод мертвого человеческого тела — это не то что обычная прохлада и быстрее абсорбируется в жизненно важных органах тех, кто имеет дело с трупами: мумификаторов, бальзамирующих тела, саванщиков, — и может оказывать губительное действие, иногда со смертельным исходом. В Египте, например, профессиональная смертность среди тех, чье искусство состоит в сохранении тел и некоторого подобия внешности умерших царей и знаменитых персон, является намного выше, чем в среде людей, занимающихся любым другим искусством или ремеслом; кстати, это одна из причин, почему мумификация трупа стала такой дорогостоящей роскошью.
Филипп попросил одного из слуг Гефестиона расстелить на полу соломенный тюфяк и затем с помощью Птолемея, Главкия и других, находящихся в помещении, снял царя с тела его друга, причем царь не хотел оторваться от умершего, тряс головой и что-то бессвязно бормотал, но у него не было силы, чтобы противостоять решительности лекаря. Почувствовав, что его разлучили с телом друга, он окончательно потерял самообладание, плача, рыдая и стеная в своем разрывающем сердце безутешном горе. И все же его, наконец, уложили на тюфяк, и он сразу же погрузился в глубокий сон.
Ближе к рассвету он немного очнулся и, очевидно, узнал врача, так как посмотрел на него и спросил, как мог бы это сделать ребенок:
— А где Гефестион?
— Он лежит мертвым, царь Александр, на постели, которую ты видишь справа от себя.
— Мне снился сон, что он умер. Я надеялся, что это только сон.
И снова царь заснул, но уже не так глубоко; Филипп еще раз проверил его пульс и дыхание и успокоился. И все же временами он плакал во сне, и Главкию приходилось вытирать ему лицо; иногда он что-то невнятно произносил и раз даже сложил ладони и забормотал нечто такое, что мы приняли за молитву, в которой Александр просил Зевса позаботиться о том, чтобы тень Гефестиона не спускалась в Аид, за Реку Печали, а поднялась наверх в душистые поля Элизиума, обиталище героев. Уже давно взошло солнце, а он все еще не ел и не пил. Однако сознание быстро возвращалось к нему; он вдруг попросил подать бритву, и это напугало Главкия, заподозрившего, что царь вознамерился перерезать себе горло. Не знаю точно почему, но я в этом усомнился, а Филипп и вовсе ничуть не встревожился, и по его распоряжению слуга принес бритву Гефестиона. Тогда царь потребовал зеркало. И вот, глядя в зеркало, которое перед ним держал слуга, Александр стал срезать курчавые пряди волос, свисавшие ему на лоб, и золотисто-рыжие кудри, вьющиеся по его шее.
— Царь Александр, сегодня теплый день, — твердо сказал Филипп, собрав отстриженные локоны, чтобы сделать подарок своим друзьям. — Не сомневаюсь, что слуги Гефестиона кое-что припрятали для продажи на рынке, чтобы за один его волосок получить серебряную драхму, а за прядь — золотой дарик, или чтобы носить в талисмане на счастье. Тело Гефестиона нужно отнести в лазарет и подготовить для погребения.
— Не сейчас, — возразил Александр.
— Немедленно, мой царь, иначе оно начнет разлагаться.
— Дай мне четверть часа.
— Четверть часа, но ни минутой больше.
— Тогда мне нужно кое о чем распорядиться. — Александр приподнялся на тюфяке. — Вызвать начальника моей стражи и четверых охранников.
Когда они вошли, лицо Александра горело — но не от жара, а от черной ярости, всем нам уже знакомой.
— Взять этого человека, — скомандовал он, указывая на Главкия. — Он получил свою должность обманным путем, выдавая себя за врача, тогда как на самом деле он просто вахляк и обманщик. Крепко свяжите его, а потом пригвоздите к дереву — пусть на нем попируют вороны.
— Царь Александр, по твоему собственному закону он имеет право на суд.
— Он его получит. Собственная совесть будет ему судьей, и пусть он задумается над тем, что его ждет. Заточите его в темницу на десять дней. Для этого вполне подойдет каменное строение недалеко от моего штаба, там есть хранилище для кожи. Дайте ему одеяло, чтобы не умер от холода — там каменный пол, снимите с него веревки и оставьте ему помойное ведро; потом крепко заприте дверь снаружи на железный засов и подавайте ему еду и воду через отдушины в стене. На десятый день в полдень, когда хищные птицы несут свою стражу высоко в небесах, я лично сам посмотрю, как его будут казнить.
Главкий, пожилой седовласый человек, стоял бледный, дрожащий, с вытаращенными глазами, до тех пор, пока его не увела стража.
Мне его было жалко, но и царя тоже, ибо по его дико сверкающим глазам я догадался, что к нему снова вернулось его прежнее безумие. Впрочем, далее его речь звучала довольно разумно.
— Филипп, мудрый лекарь, если бы только ты, а не этот самозванец, лечил Гефестиона, ты бы спас ему жизнь. Он дал ему лекарство! Да небось этот идиот подсунул ему склянку с ядом!
— Нет ни только полной определенности, царь, но даже и вероятности того, что я мог бы его спасти. Он жаловался на боль в груди; кроме того, Главкий сказал мне, что у него не было жара, а это вполне может указывать на недостаточность работы сердца.
— У такого молодого?
— Он недавно вернулся после многих лет войны, и среди них были годы, проведенные в неблагоприятном климате. Это вполне могло отразиться на его сердце. А онемелость в членах перед самой смертью могла бы означать либо сбои в работе нервной системы, либо неполадки в кровообращении. Я очень прошу тебя, царь Александр, отменить жестокую казнь, которую ты назначил Главкию, потому что он сделал все, что мог.
— Он обманул моего главного хирурга, когда выдал себя за знающего врача. Впрочем, я никогда не пересматриваю своих решений.
Филипп отдал честь, круто повернулся и приказал слуге быстрее бежать в лазарет и передать дежурному, что нужно прислать носилки и носильщиков.
Когда носильщики прибыли и приготовились унести тело Гефестиона, царь велел им подождать. Он встал рядом с носилками и долго не сводил глаз с безжизненного лица своего товарища, говоря:
— Гефестион, если твоя душа где-то рядом и может слышать меня, слушай внимательно. Уж больше никогда не дашь ты мне доброго совета и одобрения тому, что я сделал, а ведь ты их давал; там, где другие не могли или не доросли до понимания и одобрения моих дел, ты видел их абсолютную необходимость. Ты был первый из македонцев, кто приветствовал меня как сына Зевса-Амона. Я же первый из всех твоих старых друзей из Пеллы и товарищей по оружию, кто приветствует тебя как героя того же ранга, что и Патрокл с Гектором, уступающего только Ахиллу, и ты будешь погребен как герой, и в честь твоего героизма будут возведены памятники, и гробница твоя будет такой великолепной, каких еще не было у смертных людей, намного величественней, чем эта огромная груда камней — великая пирамида Рамзеса, и твоя гробница в славе своей переживет века. Такова моя клятва, которую я принимаю перед отцом своим Зевсом и перед всеми высшими богами. И пусть взлетят их фурии и опустятся на меня, если я не исполню своей клятвы.
Затем он странно, как ребенок, с полными слез глазами повернулся к Филиппу и жалобно проговорил:
— Филипп, ты не можешь составить лекарство для моей больной головы?
2
Церемония похорон Гефестиона проходила по всем воинским правилам. От большинства воинских похорон она отличалась явно только тем, что в ней приняли участие все вооруженные силы, стоявшие тогда в Экбатанах. В водонепроницаемом гробу, сделанном из прочного кипариса, его останки опустили в глубокую могилу, где им предстояло оставаться до тех пор, пока в Вавилоне для них не построят величественный мавзолей.
Погребение длилось четыре часа. Каждое подразделение в порядке старшинства, определяемого отчасти тем, как оно отличилось в сражениях, а отчасти традицией, промаршировало мимо могилы пешим или конным строем — конные, салютуя мечами, пешие — поворотом головы. На протяжении всей церемонии Александр неподвижно сидел на своем будто окаменевшем жеребце, лучшем из того, что он мог купить после смерти Букефала. Он не допустил ни одной ошибки, отдавал точные и четкие команды, которые передавались войскам трубачами.
Но, приглядевшись внимательно, можно было обнаружить одну странность. Хвосты и гривы лошадей были коротко подстрижены, то, что осталось от хвостов, было увязано в плотный пучок, а гривы превратились в щетинящиеся холки. Я-то знал, что он разослал приказ, обязывавший обработать всех лошадей в империи точно таким же образом, ибо, по велению его расстроенного ума, и лошади должны были носить траур по Гефестиону.
Он также распорядился, чтобы хилиархия Гефестиона вечно звалась его именем, а не именем какого-нибудь следующего хилиарха. Строительство мавзолея по проекту царя было поручено Сасикрату, тому самому архитектору, который однажды предложил вырезать из целой горы Афон статую Александра, левая рука которого держала бы крупный город, а из правой выливалась река, далее стекающая вниз по одному из ее глубоких ущелий. К счастью, это предложение было сделано до того, как медленно прогрессирующее безумие затемнило царский рассудок, и он от него отказался.
Но грандиозность планов строительства мавзолея не знала границ. На него предстояло израсходовать десять тысяч талантов — общая стоимость строительства множества людных городов — и место ему было определено сразу же за стенами Вавилона. Над нижним этажом в тридцать комнат предполагалось построить еще пять этажей высотой в сорок футов каждый с постепенно сужающейся площадью каждого этажа и стенами с невиданными доселе украшениями. Первый этаж предполагалось украсить выступающими из его стен позолоченными носами кораблей — их в плане насчитывалось больше сотни — со стоящими на них фигурами вооруженных людей; второй этаж являл собой битву кентавров; третий изображал на своих стенах людей с факелами и позолоченных змей; четвертый — стены из индийских джунглей с множеством диких зверей; и пятый — буйволов и львов, с которыми были связаны религиозные верования Александра: быки символизировали персидского бога Митру, а львы — Зевса и самого Александра.
Над этими пятью этажами предполагалось вознести украшенный колоннами храм — на высоте двухсот футов над землей.
В Египте в честь Гефестиона намечалось соорудить два огромных мемориала: один в стенах Александрии, другой — снаружи. А средства на их строительство сатрап, согласно царскому наставлению, обязан был найти любыми доступными ему способами. На деле это, несомненно, означало, что он получил косвенный приказ разграбить все царство. Одновременно он отправил гонца в храм Амона с письмом, в котором спрашивал, разрешается ли ему поклоняться Гефестиону как богу, или только как герою. Не было никаких быстрокрылых голубей, поэтому Александру пришлось, набравшись терпения, ждать.
В том же неистовом духе он приказал выстроить пирамиду, равную по достоинству пирамиде великого египетского фараона, над могилой Филиппа Македонского, отца Александра для тех, кто не верил в его божественное происхождение, и приемного отца — для верующих. Помимо этого он предложил возвести шесть храмов: в Диуме в Македонии, в Додоне, Афине Палладе на месте бывшей Трои, той же богине в ее любимом городе Кирене. Предполагалось возвести храм Аполлону в Дельфах, на том месте, где действовал его знаменитый оракул, и еще один на острове Делос, где, согласно легенде, он родился.
Однако на следующий день после похорон Гефестиона он задумал и другие планы, какие только могли прийти в голову умному и находившемуся в своем рассудке властелину Персии. В тот день, после полудня, он впервые с момента неожиданной смерти Гефестиона возвратился во дворец, где его, несомненно, в невыразимой тревоге ждала царица Роксана. Он казался совершенно спокойным, хорошо владел своим голосом, не жаловался на головную боль, и человек, не знавший его как следует, мог бы предположить, что произошло чудо и он излечился от своего умопомрачения. Но Птолемей и все его близкие и преданные друзья боялись, что это совсем не так. Их мнение разделял и я.
Он приветствовал Роксану поцелуем, и они, обнявшись, вошли в палату для аудиенций, отпустив сопровождающих их слуг, кроме меня, которого называли «тенью» царя Александра. Ни один из супругов не обращал на меня внимания: Роксана, я думаю, считала мое присутствие нелишним, желая, чтобы в летописи о великом завоевателе было бы поменьше белых пятен, а он, по-моему, замечал меня не больше, чем собственную тень на поле, освещенном солнцем.
Она рассказала ему о стае диких уток, севших на садовый пруд, о поздно распустившихся цветах, которые он непременно должен посмотреть, и о том, как Ксания потеряла передний зуб, отчего в ее улыбке появилось что-то от домового. Он упомянул о еще не разработанном плане исследования берегов Каспийского моря с целью установить раз и навсегда, связано ли оно с Океанским морем. Был такой момент, когда он долго молчал с выражением глубокой озабоченности на лице, затем неожиданно вымолвил:
— Ужасно подумать, что он лежит в холодной земле.
— Да ведь не счесть людей, которые до него легли в холодную землю, — возразила царица.
— Среди них не было друга Александра.
— Может, не было лучшего его друга. Но среди них были солдаты, служившие под твоим знаменем. Они помогли тебе завоевать величайшую империю на земле.
— С этим я согласен. Много их поумирало, моих старых и верных соратников.
— Придет день, и я лягу в холодную землю. Но только в ней я и хочу лежать.
— Покуда я жив, я этого не допущу. Когда придет такой день, я построю тебе величественный мавзолей.
— Не думай об этом, Александр. Мне он будет не нужен. Что в нем сохранится, кроме жалкого праха, бывшего когда-то человеком? Земля — вполне подходящее место для этой пустой ракушки. Я люблю землю, которую пашут крестьяне, волов, которые тянут плуги, крестьянок, которые бросают семя и помогают собирать урожай. Если мы не мертворожденные, каким оказался мой ребенок, мы в свою очередь ходим по этой земле, а затем приходит черед других людей.
— Надо полагать, ты бы не одобрила строительство великолепного, вечного мавзолея, который я намерен воздвигнуть в Вавилоне в память Гефестиона?
— Я об этом не слыхала.
— Очень скоро услышишь. О нем узнает весь мир и толпами сбежится, чтобы посмотреть на это чудо из чудес.
— Чудо из чудес, сотворенное человеческими руками. И все же оно не будет чудесней матери, дающей грудь своему ребенку. Люди склонны не замечать великие чудеса мира, потому что они совсем рядом и такие вроде бы обыкновенные. Но послушай, Александр, ведь как бы ни возвышались богини этого мавзолея, сколь ни были бы замечательны украшенные колоннами его залы и галереи, прекрасными и дорогостоящими его украшения, он не простоит вечно. Даже горы не вечны. Они разрушаются от времени и, наверное, образуются новые.
— Может, и не вечно. Не надо понимать это буквально. Вспоминаю, как один старый индус — забыл его имя — который сам себе разложил погребальный костер и сгорел на нем, говорил: «Когда Брахма перестает видеть сон, земля и небо исчезают». Я хотел сказать, что мавзолей Гефестиона простоит столько времени, сколько люди будут ходить по земле.
— Тогда уж поистине он должен быть построен из несокрушимого камня, а мне такой неизвестен.
— Если ты думаешь, что этот мемориал обратится в пыль, я воздвигну ему памятник другого рода. Он простоит всего лишь несколько часов и от него останется только пепел, но в людской памяти он будет жить вечно.
В ее лицо прокралось странное беспокойство, возможно, лучше сказать — выражение ужаса, мне-то известное как нельзя лучше, но которого не видел погруженный в свои грезы Александр. Тем не менее голос ее звучал спокойно.
— Что же за памятник ты задумал, Александр?
— Жертвенный костер, каких еще не видывал мир. Его разложат посреди нашего учебного поля: двадцать футов в высоту, сто в ширину и несколько сот футов в длину. На этот огненный алтарь мы положим тысячу рабов, связанных по рукам и ногам. Его пламя взметнется почти до небес, и рев его будет таким громким, что заглушит их вопли. Я принесу эти жертвы не только Зевсу, но и всем богам. — Голос Александра осип, задергалась губа, сверкнули глаза под золотистыми бровями.
Лицо Роксаны побледнело, но немного погодя она заговорила ясно и вполне убежденно.
— Если ты это сделаешь, Александр, совершишь это ужасное зверство, то, клянусь Заратустрой, я уйду от тебя навсегда.
— Мне ли, Александру, переживать, что ты уйдешь от меня?!
— Но ты не должен забывать, что я — Роксана, с которой ты пятнадцать лет назад обменялся клятвой в Додоне.
— Я возьму к себе Статиру. И верну Парисатиду, которая понимает, что я должен богам, что я должен своему другу и что должен я Александру Великому. Она не будет придираться к незначительной потере человеческой жизни, так быстро восстанавливаемой вечно жаждущими чреслами мужчин и вечно голодными чревами женщин. Я люблю тебя, Роксана, но если ты желаешь уйти от меня, уходи.
— Ты кое-что забываешь, Александр.
— И что же я забыл?
— Ты любишь меня так же сильно, как можешь любить всякую женщину, но при этом забываешь, что и я люблю тебя. Какая еще женщина дарила тебя в жизни своей любовью, если не считать Олимпиады, которая тебя родила, и кормилицы Ланис, чью грудь ты сосал? И найдется ли такая в будущем?
С исказившимся лицом Александр смотрел на нее. Мне стало страшно: казалось, он сейчас вытащит меч и убьет Роксану, и кровь ее зальет пол, и будет она лежать мертвая, и тогда я попытаюсь убить Александра единственным своим оружием — кончиком пера. Но вот оскаленные зубы медленно скрылись за дрожащими губами, зеленоватый блеск голубых глаз потихоньку растаял, и лицо обрело спокойствие. Затем, немного подождав, он ответил одним только словом:
— Нет.
— Больше не будем об этом. Лучше позволь мне сказать, как ты можешь почтить память Гефестиона в тысячу раз сильней, чем массовым уничтожением людей, и неважно, в каком количестве. Гефестион был тебе в Македонии другом детства. Устрой в его память македонский пир, пригласи всех, кто переправился с тобой через Геллеспонт, когда ты только начал поход на восток. Сколько бы их набралось? Тысяч пять?
— Не больше трех.
— Устрой пир прямо под небом — ты ведь рассказывал мне, как пируют в Македонии. Ночи еще довольно теплые; через две ночи на западе народится новая луна, тоненький серебряный месяц, но, если ты разложишь достаточно сторожевых костров, лунный свет тебе не понадобится. Поле перед штабом для этого подойдет?
— Что ж, оно, пожалуй, достаточно велико для трех тысяч моих ветеранов, если каждый будет с любимой, будь то жена, наложница или рабыня. Но каким образом я почту этим память Гефестиона?
— Сейчас я расскажу тебе как. Этот пир покажет также твоим солдатам, которым ты обязан больше всего, что ты их чтишь и уважаешь. Не так давно они взбунтовались. Твоя гордость была задета, и ты приказал им убираться из лагеря, а иначе им придется поднять оружие против тебя. Но ведь именно их гордость не выдержала напряжения и сломалась. С каким смирением они выпрашивали твоего прощения. Да, ты дал им то, что они просили, но разве ты не можешь дать им что-нибудь еще, например, хорошую пирушку только для них одних, на которую не пускают опоздавших? Ты раскинь столы под открытым небом, еду они будут есть руками, и пусть у каждого будет своя чаша из дерева или серебра, которую в походе он носит в заплечном мешке. Когда пир будет в разгаре, ты можешь совершить один обряд, о котором мне в детстве рассказывал мой дядя, великий маг Шаламарес.
— Отлично задумано, Роксана. Только я не понимаю…
— Ты поднимешься, и твои трубачи проиграют команду, чтобы все умолкли, и каждый наполнит свою чашу вином. Ты предложишь тост за душу Гефестиона в Элизиуме, жилище героев.
— Я не знал, что последователи Зороастра верят в Элизиум.
— Верят, но не все; только высшие жрецы и другие посвященные знают о нем, ибо это знание дается только тогда, когда верующий обретает мудрость. Цель состоит в том, что они обретают мудрость без всякой надежды за это на какую-либо награду, кроме самой мудрости. Таким путем они ищут правду, а не просто нечто правдоподобное, во что бы им захотелось верить. Но не только именно мудрый обретает Элизиум; туда попадают и другие за свои геройские дела на земле, во что так давно уже верят греки, и эта вера истинна. Потом, когда все осушат свои чаши и ты вместе с ними, ты прокричишь вопрос. Но я не должна говорить тебе, что это за вопрос, если ты не веришь в посланные знамения.
У Роксаны, когда она ждала ответа Александра, глаза казались еще более раскосыми, чем обычно, и к тому же они лучились.
— Я вовсе не олух, Роксана, хотя и родился в Македонии, — наконец заговорил Александр. — Какой образованный человек не знает мудрости магов? Я поверю в знамение.
— Тогда, Александр, ты прокричишь: «Гефестион! Твоя душа, она там, в душистых полях Элизиума?» Если ее там нет — а бывает, что и для героев это трудный путь, с того берега Реки Печали до благословенного острова, хотя даже Шаламарес не уверен, что это остров: однажды ему привиделась зеленая долина среди красивых гор, над которой витал аромат асфоделей, где в мягкой траве извивалось много ручьев, где были пруды для купания, где дни и ночи были нежаркими и успокаивали своим ароматом, где иногда танцевали Грации, когда бы ни призывали их к себе, — так вот, если душа Гефестиона действительно там, то будет дано знамение.
— А что за знамение?
— Иногда это большой метеор, иногда звук, напоминающий отдаленный бой барабана. Но чаще всего это пронзительный свист совы из ближнего леса, поскольку сова — это птица, посвященная Афине Палладе, птица Мудрости.
Лицо Александра просветлело, он заговорил звенящим голосом, так хорошо мне когда-то знакомым, но который я так редко слышал в последнее время.
— Я устрою этот пир, Роксана. Я произнесу тост и задам этот вопрос. Ты будешь моей подругой, Птолемей может привести Таис, ведь Артакама только появилась, а Таис уже давно с нами. Неарх может привести свою новую жену-персиянку, которой он так гордится. Может, отдашь распоряжения моему главному интенданту насчет того, где и сколько поставить столов и какой их уставить едой?
— С превеликим удовольствием, Александр. Я также позабочусь о вине. А пока, умоляю тебя, старайся сохранять мир в душе. Я знаю, у тебя горе, и все же я уверена, что знамение будет благоприятным, и ты убедишься, что боги признали его героизм и его душа вознеслась на эти душистые поля. Я чувствую это всем своим сердцем.
3
Пиршество должно было состояться в ночь нарождения новой луны, считающейся временем добрых предзнаменований в Греции, Персии и Египте. Как ни странно, но в древней летописи иудеев мало упоминаний о новой луне или о луне в любой стадии; можно было бы подумать, что в те времена это небесное светило не освещало земли Палестины. В других упомянутых мной странах нарождение новой луны знаменовало начало времени сева как осенью, так и весной, ибо считалось, что с ростом луны растут и семена. Зато с новой луной нельзя было начинать никаких земляных работ, иначе стенки выкопанной в земле ямы обрушатся; а вот для посадки виноградной лозы и посева дынь, а также всех культур, дающих сферические плоды, это время считалось благоприятным. Дети, рожденные в новолуние, имели склонность к избыточной полноте как в детстве, так и в зрелом возрасте.
Путешествие, предпринятое в новолуние, имело шансы на успех, но неблагожелательно было отправляться в путь, когда луна начинала идти на убыль.
Хотя в области Экбатан стоял сухой сезон, царица Роксана наблюдала за погодой с плохо скрытым беспокойством и в то утро, что предшествовало пиру, сердито провожала глазами каждое проплывающее облако. Погруженный в мрачные размышления, царь Александр обращал на облака внимания не больше, чем на нее, и только тогда вернулся к действительности, когда на северных небесах выросла тяжелая темная туча и Роксана нечаянно воскликнула: «Ой, неужели будет дождь!»
— А что, если и будет? — отвечал царь. — Попируем не хуже и в полнолуние.
— Верно, Александр, — быстро согласилась Роксана.
Так случилось, что ей на радость чуть позднее поднялся юго-западный ветер, сухой, дующий из пустынь южной Мидии и, насколько мне известно, из обширных безводных песков района Табикан. Облачная гряда на севере исчезла бог знает куда.
— Должно быть, боги тебя любят, Роксана, — улыбнулся ей Александр. — Как ты думаешь, любят потому, что ты жена Александра, или только ради тебя самой?
Итак, расставили столы, правда, не на учебном поле, а на месте, выбранном Роксаной — на бывшем пастбище. Она объяснила, что там гости смогут сидеть на траве, а не на пыльной земле. Его местоположение было удобно для всех: напротив штаба Александра, примерно в центре лагерной территории. На протяжении всего утра наряды солдат таскали эти столы из городских домов, помечая их мелом снизу, чтобы потом вернуть владельцам; и еще около сотни сбили из досок наши плотники. В целом их было триста, один на десять человек с их подругами. Забили целое стадо скота, и мясо его запекалось в ямах; множество ощипанной птицы висело над длинными мангалами с угольями для медленного поджаривания. Буханок хлеба было не счесть, а вдобавок к этим основным продуктам питания к столам подавались блюда с копченой рыбой и огромное количество фруктов: сушеные финики и инжир, яблоки, которых в это время года было в изобилии. Подавались и орехи, которые греки называли фисташками, а также целые возы миндаля.
Все это изобилие должно было появиться на столах только после произнесения тоста за душу Гефестиона. Но у солдат не было бы причины жаловаться, так как початые уже бочонки вина, без втулок, стояли наготове — только подставляй чаши.
Сбор гостей намечался на один час после захода солнца. Вот уж опустился вечер, но более двухсот костров изгнали его тени с пиршественной площадки. Этого количества было более чем достаточно для освещения пяти акров поля, а чтобы постоянно поддерживать их яркое горение, к ним приставили множество рабов. Солдаты явились в лучшем одеянии, вымыв ноги и лица и приведя в порядок волосы, а их подруги, заслышав, что на торжестве будет царица, надели свои праздничные наряды; все это прекрасное созвездие красоток в основном состояло из персиянок, парфянок и мидянок.
Воины с подругами приходили в приподнятом настроении, гордые собой, ведь их присутствие здесь говорило о том, что они не новички, что они еще в старой гвардии Александра переправлялись с ним через Геллеспонт и что именно они, ветераны, покрытые шрамами, знают толк в истинной дружбе, когда долгие годы делишь с товарищами радость и горе походной жизни. Мужчины поспорили, что младший военачальник, грек Пелий, не сможет найти подругу, которая сопровождала бы его на пир. Тому действительно не везло в делах с противоположным полом, и никто не знал почему. Возможно, тут играла роль его крайняя невзрачность: он был чрезмерно высок и костляв, с вытянутым унылым лицом и длиннющим носом; он всегда отказывался взять себе ту или иную пленницу, если видел, что не нравится ей, и, по его словам, предпочитал оставаться холостяком, нежели силой навязываться нежелающей его женщине. В результате так оно в общем и было — вплоть до этого вечера, когда он вдруг гордо появился в паре с одной из самых красивых девушек во всей этой компании.
Если час спустя после заката солнца новая луна и стояла над горизонтом в виде крошечного серебряного рога, то все равно ее никто не видел, так как она была скрыта от глаз ярким светом костров. Зато взоры гостей привлек расположившийся на специально выстроенной площадке мощнейший из виденных или когда-либо игравший на воинских пирушках оркестр. В него входили, как обычно, лютни и флейты — их было около двадцати — и примерно то же количество духовых инструментов, но не таких, как рожок. Некоторые являлись разновидностью рожка, но только с более богатым звучанием, а некоторые напоминали флейту, с той только разницей, что при игре дуть приходилось в мундштук, а не в дыру. Был там еще никем из нас до той поры не виданный ударный инструмент, представлявший собой ряд небольших металлических пластин, по которым ударяют маленькими молоточками; говорили, что это изобретение за пределами Экбатан никому не известно. И наконец, ко всем прочим музыкантам оркестра следует еще добавить десять барабанщиков с барабанами разного размера и резонанса.
Когда царь с царицей вышли из своего жилища, примыкающего к штабу, оркестр грянул «Привет, Македония» — мелодию, которую можно было бы назвать национальным гимном этой страны, настолько она была воодушевленной и ликующей. Ветераны тут же подхватили ее.
Вот приблизительный перевод первого куплета и припева:
Привет, Македония, северный край,
Сынов твоих к славе ведет Архелай.
[221]Завидев лицо его, меч и коня,
Бегут от нас варвары, как от огня.
Грозой он и градом идет на врага,
Здесь наши равнины, здесь наши луга.
Замолкнул противник, поверженный в прах,
Лишь плач не смолкает на вдовьих губах.
Привет, Македония, матерь-земля,
Мы славим победу, добычу деля
И дев белокурых для сладкой любви.
О, Зевс, наше воинство благослови.
Привет македонским парящим орлам!
Царю ее слава! И слава богам!
В конце песни все солдаты подняли мечи, отдавая воинскую честь Александру Великому.
Затем все собравшиеся приступили к кутежу. Воины пили за своих спутниц, потом друг за друга. Не было еще ни танцев на площадке, ни непристойного поведения — из уважения к присутствующей царице. Эти македонцы, вскормленные вином вместе с молоком матери, славились как самые крепкие винохлебы во всей Греции и знаменитые пьяницы и, как известно, могли выпить залпом два хуса неразбавленного вина; ходит даже легенда, что один чемпион заглотал сразу треххусовую чашу, правда, на следующий день скончался. С самого начала поднялся сильный шум, который теперь переходил в грохот.
Единственные четыре стула, которые были на поле, стояли прямо напротив царского штаба. Здесь же стоял покрытый скатертью стол с персидской лампой из серебра, и за ним сидели царь, царица Роксана, Птолемей и его прекрасная наложница Таис. На расстоянии десяти шагов позади стола и по его бокам было расставлено шестеро телохранителей, а за спиной Роксаны стояла Ксания. Я находился непосредственно за Александром, но ближайший от нас костер с пирующими рядом бражниками находился примерно в сорока шагах. Разумеется, по всей территории лагеря ходили часовые, а у двери небольшого каменного строения, где сидел взаперти врач Главкий, торчал еще один — видимо, больше для проформы, чем в силу необходимости, поскольку надежней тюрьмы я еще не видел. Часовой с тоской смотрел на пирующих и жалел, что не может к ним присоединиться. Одна персиянка принесла ему графин вина, и, поскольку это происходило за спиной у Александра, он осушил графин в один прием, вернул сосуд девушке и бодро зашагал взад и вперед.
Птолемей принялся описывать то, что солдаты называли их «храмом», — большую палатку, расположенную параллельно штабу, в сотне шагов от него. В ней находились изображения двенадцати Олимпийских богов. Птолемей сообщил, что к ним недавно прибавилось еще одно — фигура быка, вырезанная из дерева и сплошь покрытая золотыми пластинами. Это было изображение Митры, в котором царь видел одно из проявлений Зевса.
— А не дело ли это рук Диамена, который вырезал из слоновой кости мой бюст? — поинтересовалась Роксана. — Ты тогда им восхищался.
— Да, Диамена.
— Царь Александр, мне бы хотелось увидеть этого золотого быка, и, если рука Диамена все так же тверда и искусна, как прежде, мне бы хотелось заказать ему копию того бюста — в качестве подарка ко дню рождения.
— Проводи ее туда, Птолемей, — приказал Александр. — Роксана, у тебя есть фимиам, чтобы бросить на жертвенный огонь?
— У Ксании золотая коробочка для фимиама, твой подарок. Она держит ее у себя в сумочке, вместе с моей косметикой и духами. Нужная вещь для придорожных святилищ. Она проводит меня вместе с Птолемеем. Нам не придется проходить мимо гуляющих.
Они втроем зашагали в сторону «храма». Царь сидел, обхватив подбородок ладонью, и задумчиво смотрел на Таис. Она чуть улыбнулась ему и снова сосредоточила внимание на оркестре, заигравшем буйный скифский танец.
— Прошло уже двенадцать лет, Таис, с тех пор, как мы встретились с тобой в Афинах, — заметил царь.
— А ведь и не подумаешь. Ты был тогда царевичем, а я училась в школе госпожи Леты.
— Ты почти нисколько не изменилась. Казалось бы, такое хрупкое тельце, а в Гедросии в нем проявилось столько силы.
— Умоляю тебя, царь Александр, не надо вспоминать этот ужас. Когда мы с тобой познакомились — как раз после твоего знаменитого удара по фиванцам при Херонее, — ты был простым предводителем конницы гетайров, а не властелином Азии. В тот вечер я предсказала, что тебя ждут большие дела. Какая недооценка!
— Ты предсказала кое-что еще, но в этом ты ошиблась.
— Помню. Я говорила, что ни одна женщина не сможет тебя полюбить — ведь даже тогда ты был слишком властный. Но я была не права.
— Уже тогда меня любила одна девушка. Видишь ли, мы с Роксаной встретились еще раньше, в Додоне.
— И это я знаю. До нашего отъезда из Суз княжна Парисатида рассказала об этом не одному человеку. Говорила, что ты ей не запрещал.
— Это правда.
— Она говорила, что именно по этой причине вы так скоро расстались — ты слишком сильно любил Роксану, любил все свои зрелые годы и уже не мог бы найти супружеского счастья ни с одной другой женщиной.
— С тобою, Таис, я был счастлив. Хоть это счастье и не было в полном смысле супружеским, зато оно было очень реальным.
— С тобою, царь, я тоже была счастлива — в полной мере. Однако мы правильно сделали, что расстались, уж позволь мне это сказать.
— Разве я когда-нибудь запрещал говорить то, что просилось тебе на язык? Так будет и впредь.
— Это огромная уступка, о величественный царь!
— Каковы твои дальнейшие планы, если не секрет?
— Останусь с Птолемеем, пока я ему нужна. Я говорила тебе — он большой человек, хотя и не гений. Я была его любовницей, теперь я его наложница. Если ты когда-нибудь назначишь его подчиненным тебе царем, хотя бы над пастбищем для овец, тогда, я думаю, он сделает меня своей морганатической женой. Я уже пережила свою раннюю мечту со многими поделиться своей красотой — возможно, это был только предлог дать волю своей природной эротичности. Надеюсь, я смогу родить Птолемею ребенка. Никогда не думала, что захочу родить какому-нибудь мужчине, но я ошибалась.
— Таис! Я хочу задать тебе вопрос, на который ты можешь ответить, не страшась. Ты по-прежнему не веришь, что я родной сын Зевса?
— Царь, ты ставишь меня в неловкое положение.
— Это и есть ответ на мой вопрос. Разве это не замечательно, что две самые близкие в моей зрелой жизни женщины не верят в это? Или хотя бы то, что они открыто заявляют о своем неверии, чего никто больше не осмеливается делать.
— Вторая из них, может быть, и чудо. Первая же нет. Мы были теми двумя женщинами, которые любили тебя сильнее всех, не считая царицы Олимпиады. Ты должен понимать, что ни одна женщина не способна любить живого бога. Она может поклоняться ему, но ей желательно, чтобы ее бог был невидимым, без свойственной
людям хрупкости, чтобы он пребывал где-то вдалеке, а не в ее постели. Женской натуре желательно видеть на супружеском ложе мужчину, к которому она может испытывать сострадание. Женская любовь — это всегда сострадание, по крайней мере, наполовину.
— Это задача для философов.
В этот момент в далеко простирающемся свете костров появились фигуры приближающихся к ним царицы Роксаны, Птолемея и за ними — Ксании. Когда они оказались в свете лампы, Птолемей опустился на одно колено. Александр встал и спросил:
— Ну и как тебе эта новая статуя?
— Этот бык просто чудо! — отвечала Роксана. — Он кажется квадратным — короче, самый убедительный образ из всех, которые мне доводилось видеть в современной скульптуре.
— Роксана, а не пора ли трубить горнистам, чтобы все замолчали, и провозгласить тост за душу моего друга?
— Да, пора. Твои гости уже проголодались, они ждут ужина.
Александр просигналил четверым горнистам, стоящим сразу за телохранителями. Они выступили на двенадцать шагов вперед, вскинули медные трубы и проиграли команду «вольно». Чистые высокие ноты прошли сквозь шум, поднятый пирующими, как брошенные дротики проходят сквозь пыль, поднятую сражающимися. Все поле объяло какое-то неестественное напряженное молчание. Сидящие на земле тут же встали и повернулись лицом к царю, рядом с которым стояла царица Роксана, а позади — главный военачальник Птолемей и Таис.
Александр был одарен голосом с удивительным тембром, над которым он имел полную власть. В его спокойных интонациях всегда чувствовалась сила. Когда ему было желательно, он, без малейшего напряжения, мог заставить голос звучать на невероятно далекое расстояние. Я не сомневался, что на поле площадью в пять акров его отчетливо слышали все.
— Воины и гости! — заговорил он. — Этот праздник — в честь всех тех, еще живых ветеранов, которые переправились через Геллеспонт со своим царем десять лет назад, а также на радость жен и подруг, которых вы привели с собой. Наше братство никогда не угаснет. Дела его останутся жить в истории. И особую честь мы воздаем этим праздником вашему великому военачальнику и моему прекрасному другу Гефестиону, который недавно ушел от нас. Возможно, его душа сошла в молчаливые, сумрачные и унылые чертоги Аида. Но вы-то помните, как он водил вас в сражения. Вы не забудете, что он всегда был одним из первых в бою. Для меня он герой, и я верю, что и высокие боги относятся к нему так же; а потому, может быть, его душа скрылась в Элизиуме, вечном месте упокоения героев, и возлежит он там вместе с другими героями, ушедшими туда до него, такими как Агамемнон, Одиссей, Патрокл, укротитель лошадей Гектор, Филипп Македонский и множество других героев нашей любимой Греции, хоть я и не назову величайшего из всех, Ахилла, ибо ходит молва, что он остался в Аиде с простыми умершими, оттого, что горько сокрушался над тем, каким образом его настигла смерть. В Элизиуме есть также герои из других стран, на которые простирается власть наших богов — на земле они были врагами Греции: это Кир, Ксеркс, Рустам, Бахрад и великое множество других, ушедших туда в прошлые века. Теперь, когда я подниму свою чашу, поднимите и вы свои, и выпьем мы за душу Гефестиона, но, когда вы опустите свои опорожненные чаши, не надо никаких криков, ибо сразу же, как мы выпьем, я обращусь к Гефестиону с краткой просьбой, задам единственный вопрос, на который, мне сказали, может ответить какой-нибудь всеведущий бог.
Царь Александр поднес золотую чашу к губам, и все, кто его слышал, сделали то же самое. Когда царь опустил свою чашу, то же самое сделали и все остальные.
— Гефестион! Гефестион! — в полный голос воззвал Александр. — Молим тебя, ответь: нашла ли душа твоя покой и вечное блаженство в душистых полях Элизиума?
Нам пришлось ждать всего лишь столько времени, сколько понадобилось на один долгий вдох и выдох. Затем из небольшого леска, росшего неподалеку, раздался протяжный жутковато-таинственный свист, очень похожий на крик совы, посвященной Афине Палладе как Птица Мудрости.
— А вот и ответ! — продолжал Александр своим далеко разносившимся голосом. — Теперь мы можем быть уверены, что душа Гефестиона обрела вечное счастье в Элизиуме. Теперь будут накрыты столы и все мы почествуем ушедших в мир иной и то великое братство, что остается с нами. Будьте веселы, и спасибо богам.
На царском столе появились блюда, и Александр, к великому удовольствию Роксаны, ел с большим аппетитом. До этого он свыше двух дней не ел ничего существенного и, судя по его лицу, в этот период он совсем не страдал от головной боли, хотя на сердце и было тяжело от горя.
Когда все поели и еда прекратила доступ крепким парам алкоголя к мозгам, солдаты со своими спутницами расселись в круг тут и там на траве, переговариваясь и смеясь, но без прежней шумливости. А после царь сказал так:
— До моего ухода никому не покидать празднество. Через несколько минут, Роксана, мы с тобой пожелаем нашим дорогим друзьям, Таис и Птолемею, доброй ночи и пойдем к себе во дворец. Но перед тем я должен выполнить одну небольшую обязанность.
— Может, поручишь это мне, мой царь? — спросил Птолемей.
— Нет, старый друг, я предпочитаю позаботиться об этом сам. — И он сделал знак рукой, подзывая начальника своих телохранителей.
— Слушаю, мой царь!
— Вон там, в небольшом строении, сидит запертый под стражей врач Главкий. Возьми головню, чтоб было посветлей, и сходи туда. Вели часовому на посту стать рядом с обнаженным мечом, пока ты будешь отпирать дверь. Затем убедись лично, что Главкий еще там, а не сбежал.
— Слушаюсь, мой царь, — прозвучало в безмолвии, настолько глубоком, словно кругом лежала пустыня, где не ступала нога ни зверя, ни человека и стоял последний час ночи, когда воздух не шелохнется и звезды горят в несказанной тиши.
Охранник отсутствовал не больше двух минут, отмеренных по минутной склянке. Пока он ходил, Александр сидел в тихой задумчивости. Раза два Роксана открывала рот, как бы желая что-то сказать, но так и не произнесла ни слова. На ее щеках ярко вспыхнули два пятна, и лицо от этого казалось еще более бледным. Таис сидела в изящной расслабленной позе. Птолемей как-то неестественно долго разглядывал оркестрантов, которые после еды снова взялись за свои инструменты. У меня самого отчего-то в тревоге забилось сердце.
Охранник подбежал к царскому столу и был рад необходимости отдать салют, ибо это давало ему возможность перевести дыхание. Затем он выпалил:
— Царь, заключенный Главкий сбежал.
— Говори потише. Ты выяснил, каким образом?
— Нет, царь Александр, не выяснил. Отдушины для воздуха слишком узки, чтобы в них можно было пролезть. Дверные засовы были нетронуты с тех пор, как туда посадили арестованного. Пол и потолок в полном порядке. Похоже, его тайно похитили.
— В каком-то смысле так оно и было. Ему оставили одеяло. Было ли оно расстелено на полу?
— Да, царь, около стены.
— Если ты заглянешь под одеяло, то увидишь отверстие на том месте, откуда вынут один из каменных блоков, а под отверстием — тоннель. Можешь идти.
Начальник царской охраны отсалютовал, и через несколько секунд мы услышали, как он отдал своим подчиненным приказ стоять смирно. Тем временем Александр пробовал пальцами серебряные щипцы, с помощью которых извлекал содержимое орехов кешью, поданных с десертом, и в моем воображении эти щипцы стали орудием ужасных пыток. Но даже я не мог ничего прочесть в его лице. В лице Роксаны ясно читалось одно — вызов. Он был начертан в ее раскосых глазах: они блестели точно так же, как глаза виденного мной однажды леопарда, на которого наседали собаки.
Александр едва заметно вздохнул, посмотрел на нее и заговорил:
— Вы с Таис взяли на себя столько хлопот, чтобы спасти одного незнакомого вам человека.
— Он был невиновен, — защищалась Роксана.
— Был приказ Александра: пригвоздить его к дереву, чтобы он умер в мучениях.
— А я — жена Александра, царица, и его честь — моя честь.
— Птолемей, ты тоже был одним из заговорщиков?
— Он не был… — вмешалась Таис.
— Пусть мой военачальник и старый друг говорит сам за себя.
— Я уж как следует постарался, чтобы не быть заговорщиком, царь, — мрачно усмехнувшись, отвечал Птолемей. — Не отрицаю: я знал, что царица и Таис замышляют какую-то военную хитрость, но я не пытался отгадать, в чем она состоит.
— Мне эта загадка показалась несложной, — сказал царь. — Роксана, ты выдала себя, когда упомянула, что, по словам великого мага Шаламареса, посвященные в культ Зороастра верят в Элизиум. Ты справедливо утверждала, что это знание не для всех. Ты говорила, что постигающим начала этих знаний не рассказывают о существовании Элизиума, так как лучше всего постигать мудрость ради самой мудрости, а не ради какого-то вознаграждения здесь или в ином мире. Я считал обязательным для себя знакомиться с основными учениями всех великих религий, с которыми мне пришлось столкнуться в завоеванных мною землях, и после некоторых размышлений я увидел обман. Ты предложила устроить для всех ветеранов, кто был со мной во время переправы через Геллеспонт, шумную пирушку — хитрость не слишком тонкая. О твоем намерении явно говорил выбор этого места, рядом с местом заточения доктора, к тому же травянистое, а не такое голое, как поле учебного плаца; а также приглашение такого большого оркестра, и это множество костров, ослепительный свет которых не позволял видеть, как в темноте движутся какие-то тени. Ты думала, что громкий крик совы воззовет к моей суеверной натуре, а это хорошо всем известно, а уж найти бактрийца, который мог бы в совершенстве подделать свист этой птицы, было парой пустяков для того, кто общался с командирами моих бактрийских отрядов и их женами. Не стану доискиваться, кто эти дамы и господа. Вполне очевидно, что тебе нужен был момент, когда все пирующие кричали бы одновременно, это был критический момент освобождения: удаление одного из каменных блоков, сцементированных вместе, никак не могло бы обойтись без шума. И к тому же ты не сумела скрыть наступившего вслед за этим облегчения. Я полагаю, основная часть тоннеля, который начали рыть вон в том леске, была уже почти закончена, а рыть его начали на другую же ночь после того, как я вынес приговор врачу. Возникает вопрос: куда подевалась вся эта гора выкопанной земли? Подозреваю, что возле трассы тоннеля находился брошенный колодец, и это наводит меня на мысль, что тут замешаны опытные специалисты по подкопам — очевидно, из моей собственной армии. Их имена мне тоже ни к чему. Однако я позабочусь о том, чтобы наружная охрана лагеря была бы впредь более внимательной. А один из начальников получит выговор.
Александр помолчал, расколол щипцами орех и съел его сердцевину. Роксана и Таис сидели не шелохнувшись. Птолемей снова взглянул на оркестр, который теперь играл нежные любовные мелодии Персии.
— И наконец, нужно разобраться с обеими зачинщицами заговора: моей царицей Роксаной и моей бывшей фавориткой Таис, — продолжал Александр. — Однажды, когда Таис оказала мне большую услугу, я дал ей слово, что она может совершить один проступок против меня, и он останется безнаказанным. Был ли уже такой проступок, за которым последовало прощение, я не могу припомнить, но, так или иначе, я буду считать сегодняшнее дело происшествием, исчерпывающим наш договор. Роксана, в том здравом уме, в каком я сейчас нахожусь, у меня рука не поднимается наказать тебя за поступок, оспаривающий мою власть, но совершенный мне же на пользу, к тому же продиктованный одним из самых обожаемых мною в тебе качеств — женским состраданием. Но все же позвольте мне предупредить вас обеих: когда я в здравом рассудке — а вскоре после похорон Гефестиона я в нем пребываю постоянно — не пробуйте больше шутить со мной. Это предупреждение будет в равной мере значимо и для тех случаев, когда я не в себе, поскольку даже тогда сохраняются некоторые силы моего ума, не ослабленные расстройством, и рана, нанесенная моему колоссальному, как однажды сказала Таис, тщеславию, может привести к ужасным последствиям.
Александр сделал паузу, лицо его оставалось спокойным, пока его слушатели раздумывали над только что прозвучавшей страшной угрозой.
— Хочу сказать еще об одном, — наконец продолжал он. — Еще до того, Роксана, как ты предложила устроить празднество для ветеранов, которые переправились под моим знаменем через Геллеспонт, я уже решил простить врача Главкия. Ваш с Таис заговор привел лишь к тому, что он изнывал в мучительном беспокойстве лишних два дня. А сейчас я велю протрубить наш с царицей уход. Мы благодарим вас с Таис за приятную компанию. Я разрешаю вам уйти, а если хотите еще немного послушать эту чудесную музыку, которой мы обязаны царице, можете оставаться сколько желаете.
Зазвучали трубы, и зов их разнесся по полю, и эхо неоднократно повторило его. Все воины тут же стали по стойке «смирно», повернувшись к царю лицом. Вместе с Александром из-за стола поднялись царица и двое их гостей. Последние коснулись коленом земли, и к некоторому, но не слишком большому моему удивлению, то же сделала и царица.
Царская чета удалилась. В присутствии стоящей навытяжку охраны оба оседлали ждущих неподалеку лошадей и вернулись во дворец.
4
Окончилась поздняя осень — пала под ударами крепких морозов наступающей зимы. Царю перевалило за тридцать два — это был тридцать третий год о. А. В этот период времени те, кто любил его больше всех, чрезмерно обнадеженные устроенным для македонцев праздником, снова стали терять свои надежды. С приближением ранней зимы усилилась и его мегаломания. В общественных делах это не проявлялось так сильно, как в его поведении перед своим двором. Особенно это выразилось в его костюме, имитирующем, например, одеяние, в котором Зевс-Амон изображен в своем храме в Египетской пустыне, включая широко расходящиеся рога, служащие эмблемой быка. Наряжался он и как Гермес — с жезлом в руке и в крылатых сандалиях на ногах; в других случаях он имел при себе лук и охотничье копье — по образу и подобию Артемиды; а его любимым костюмом стала львиная шкура, наброшенная поверх персидского платья, и в руках в подражание Гераклу — дубина.
Снова ожила в нем печаль по Гефестиону, и его больная душа жаждала выразить себя в убийственной ярости. Предлогом тому послужило еще одно донесение из района, лежащего ниже таинственного Аральского моря: малоизвестное дикое племя коссеев, занимавшееся грабежами на караванных путях, чей вождь сдался когда-то Александру, снова восстало. Персидские власти на севере пытались укротить их, но впустую: при всяком приближении карательных войск они уходили высоко в горы и скрывались там в потаенных местах. Но теперь, покрытые глубоким снегом, эти места были недоступными для человека, и этот путь к спасению оказался для них закрыт. Во время одной кратковременной вспышки ярости царь приказал экспедиционному корпусу кавалерии идти на коссеев и сам повел их вперед.
Я надеялся, что поход в те края через земли уксиев, вид холодных зимних ландшафтов, больших отрядов диких бактрийских верблюдов и трудности пути, напоминающие кое-какие прежние его походы, остудят и успокоят его. Но этого не случилось. Поход длился сорок дней. Когда они наткнулись на зимнюю стоянку коссеев, Александр приказал вырезать их всех поголовно, чтобы эта земля на веки веков осталась опустошенной. Не пощадили никого: ни воина, ни бородатого старца, ни сморщенной старухи, ни женщины, ни ребенка, — и его видавших виды всадников мутило от этой бессмысленной резни, страшнее которой не было даже в Индии. Чистая белизна снегов Коссеанской пустыни превратилась в еще не виданное богами зрелище — в целые поля, залитые алой кровью, и, наверное, по душе оно было богу войны Аресу, ибо радовало его кровопролитие, хотя сдается мне, что другие боги, даже суровая Афина, должны были отвести свои взоры.
«Это моя жертва душе Гефестиона, — так, говорят, он сказал. — Вместо одной тысячи рабов, сожженных на погребальном костре, десять тысяч варварских трупов, замерзших в снегу». Я не слышал этих его слов, и то, что передают, возможно, ошибочно, но никакого сомнения не могло быть в том, что им владела безумная ярость и жажда убийства.
Вскоре после его возвращения наступил новый год, и я осмелился надеяться вопреки всему, что этот год образумит его. Эта надежда загорелась немного ярче, когда он решил перенести свою резиденцию из Суз в великий Вавилон, где множество храмов, памятников и разного рода античные произведения искусства могли возбудить его интерес; ведь что ни говори, а в новом окружении его состояние обычно улучшалось. То, что он распорядился о дальнейшем исследовании берегов Персидского залива и Каспийского моря, действительно было правдой и хорошим знаком. Но он также приказал добавить к своему уж и без того огромному флоту большое количество судов, похоже, намереваясь своей морской мощью превзойти все морские силы, которые только могли бы объединиться против него. Его начальники хорошо понимали, какие морские державы хотел он разрушить.
Более того, оказалось, что исследование Персидского залива диктовалось не научным любопытством, а желанием увидеть Аравию, которая — а в этом никто не сомневался — была его следующей целью.
Возвращаясь в Вавилон, он встретил множество посольств, которые клали ему земной поклон. На берегах Тигра он встретился с халдейскими предсказателями, хотя как страны Халдеи уже не существовало, но эти люди все еще называвшиеся ее именем, являлись в действительности астрономами, астрологами, прорицателями и колдунами. Они стали уговаривать царя не входить в Вавилон — это будет для него не к добру. На это пророчество он ответил шуткой; однако они так горячо убеждали его, глаза их были так встревожены видениями, что он обещал им войти в город не через восточные ворота, над которыми им виделся злой рок, а через западные. Но когда он с войском приблизился к этим воротам, оказалось, что дорога к ним непроходима из-за сильной заболоченности: прорвался или вышел из берегов большой канал. Так что в конце концов ему все-таки пришлось войти в восточные ворота.
— Болота, с вами я еще разберусь, — услышал я его слова, когда он, расстроенный и злой, повернул назад.
Этот въезд в город случился за несколько недель до весеннего равноденствия.
В Вавилоне он устроил свой штаб в просторном роскошном павильоне, где также была и спальня на тот случай, если ему придется работать допоздна и не захочется возвращаться в царский дворец. Этот великолепный дворец стоял на берегу Евфрата, его время от времени занимали цари и их близкие родственники. Поведение Александра в Вавилоне не отличалось неистовством, но было крайне экстравагантным. Он продолжал вести строительство обширного мавзолея, в котором телу Гефестиона предстояло найти окончательное успокоение. Иногда он спал на золотой кушетке, по виду весьма далекой от соломенного тюфяка первых его походов, и рядом с ней всю ночь напролет ему играли флейтисты, чтобы усластить его страшные сны. Тем не менее Роксана оставалась его царицей, а если он не слишком напивался, чтобы разделить ее незапятнанное ложе, то и женой.
В ночь весеннего равноденствия, тайну которого астрономы еще до конца не разрешили и к которой Александр питал великий интерес, он был нежным и любящим с Роксаной и казался более самим собой — тем Александром, которого она знала еще до заболевания, — чем в течение многих последних недель. И это придало ей смелости сообщить ему нечто очень важное для него самого и для мира, заставившее сильно забиться сердце раба его Абрута, ибо я решил, что это известие отрезвит его и он, возможно, найдет дорогу назад к полному здравомыслию.
Она внезапно сообщила ему эту новость, когда он нежно поцеловал ее и они поговорили о своем воссоединении в Бактрии, а это в свою очередь привело его к воспоминаниям о их первой встрече по дороге в Додону.
— Александр, — сказала она ему спокойно, — у меня будет ребенок.
5
Похоже, царя эта новость сильно взволновала. Он уж, думаю, и не надеялся, что Роксана сможет зачать, тем более было ему удивительно, что все последние месяцы он делил с ней ложе считанное число раз. Он выглядел очень гордым, и это дало мне пищу для размышлений, ибо мало было у человека возможностей более обычных, чем способность мужчины зачинать с женщиной детей. Жены большинства простых грубых крестьян, работающих в поле, рожали детей с той же регулярностью, что и коровы телят. Почему же это не получалось у Александра, ведь его тело не было искалечено в битвах; если не считать множества шрамов, такой физической силой и выносливостью мог похвастать далеко не каждый смертный. Это был зрелый мужчина, который когда-то мог бы послужить моделью для Гермеса Праксителя и еще бы послужил, если бы не те самые шрамы, сильнее врезавшиеся в лицо морщины, вызванные сильными переживаниями, глубокими размышлениями и, возможно, в какой-то незначительной степени попойками и развратом.
— И когда же теперь мне ожидать сына и наследника? — поинтересовался он с мальчишески-жадным любопытством.
— Дитя может оказаться девочкой и княжной — шансы почти равны, — отвечала Роксана. — Однако он расположен низко в моем чреве, слегка левее, и заставляет меня раздаваться вширь сзади, а это предвещает, что ребенок может оказаться мальчиком. Он, по моим подсчетам, должен родиться где-то совсем близко к дню осеннего равноденствия.
— Еще столько ждать — шесть месяцев! Если родится девочка, я буду любить ее так же сильно, как любил бы сына, или даже еще сильней. Я с нетерпением стану ждать ее первых шагов. Мне бы хотелось, чтобы у нее были волосы цвета пшеничной соломы, а глаза чуть-чуть раскосыми и чтобы вокруг серой радужки был синий ободок. Обещаешь?
— Я ничего не обещаю. — Она произнесла это легко, но в ее лице появилось сосредоточенное выражение, и я подумал, что ей припомнились первые роды, с мертворожденным ребенком.
— Выходит, что ты зачала три месяца назад. Ты уже чувствуешь толчки?
— Кажется, да, но не уверена.
На какое-то время семейная жизнь Александра изменилась немного к лучшему. Он уже не столь часто рядился в фантастические костюмы и меньше страдал от головной боли. В его делах появились и разумные предприятия: например, он решил заделать брешь в канале недалеко от западных городских ворот и велел строителям сделать доклады о возможности осушения болот. Нередко он и сам посещал заболоченные места, возвращаясь физически изнуренным и промокшим до колен.
На пользу или во вред всему человечеству он непрестанно продолжал готовиться к покорению арабских земель, за чем должны были последовать дела еще более великие. Для солдат изготовлялось новое оружие, в Дамаске выковывались доспехи, которые были легче и прочней, на юг и на запад отправлялись лазутчики, а войска учились быстро высаживаться на вражеском берегу. Появились разборные лестницы нового типа; отряд персидских и бактрийских всадников-копьеносцев, называвшийся «эпигонами», стал теперь элитным корпусом наравне с конницей гетайров. Фалангистов обучали новым способам быстрого маневрирования, а также защите против вражеской фаланги. Я заметил, что новая воинская форма одежды стала более облегченной, и это указывало на то, что походы предполагалось проводить в полутропических областях, а не на пустынном севере. Помимо всего прочего, он заставлял конников учить своих лошадей подступать к слонам, не испытывая перед ними страха, причем слоны в его армии уже составляли значительную силу.
Он пришел в ярость и потемнел лицом, когда получил ответ от жрецов храма Зевса-Амона, в котором говорилось, что нельзя чтить Гефестиона как бога, но только как героя, правда, от этой вспышки он скоро оправился. Он также не на шутку рассердился на Кассандра, сына престарелого Антипатра, регента Македонии, из-за некоторых обвинений, выдвинутых против них обоих — отца и сына. И в этом случае вспышка его прошла, но Кассандр так и не оправился от своего испуга. Очевидно, он полагал — но это мое личное мнение — что чудом избежал смерти от царского меча, если не чего-нибудь еще пострашней. А дело было так: Александр сбил его с ног, и он сильно ударился головой об пол. После этого случая Кассандр не мог приблизиться к царю, не испытывая внутреннего трепета.
Поистине, к нему стало очень трудно пробиться из-за его многочисленного двора, включая персидскую царскую охрану, облаченную в кричащую форму, а также и его собственную, к тому же его неизменно окружала кучка друзей, курьеров и льстецов.
Когда он проводил ночи в своем огромном павильоне, он неистово работал весь день и часто пиршествовал большую часть ночи либо со своими застольными друзьями, либо с танцовщицами, правда, я никогда не слыхал, чтобы хоть одна из них делила с ним ложе. Если бы не частые ночи, проводимые им с Роксаной, он мог бы просто свалиться с ног. С нею он обходился ласковей прежнего, проявлял острый интерес новобрачного к тому, как растет и развивается в утробе его дитя. А оно уже стало заявлять о себе, хотя и нельзя было понять, насколько хорошо ему в этом теплом жилище, где оно набирается силы, питаясь соками матери, и ему еще не приходится самому искать себе пропитание. Но если бы оно могло ощутить опасности и горе, существующие в бескрайних пространствах наружного мира, чего понять оно было еще не в силах, не умея отличить света от тьмы, оно бы вовсе не спешило поскорее прийти в сей мир. Вслед за равноденствием пошли месяцы, когда ребенок энергично проявлял свою жизнеспособность. Часто Роксана предлагала царю положить руку на свой вздувшийся живот и почувствовать, как он сучит ножками. В таких случаях Александр хохотал, как мальчишка.
В конце весны, примерно за месяц до летнего равноденствия, Александр несколько дней подолгу, с восхода до темноты, пропадал на болотах у западных ворот, наблюдая за тем, как идет окончание работ по выкапыванию дренажных канав перед тем, как болото, разбуженное летним зноем, начнет издавать зловоние — причину частых простудных заболеваний и лихорадки во всем городе. По завершении этого проекта он побывал на званой пирушке, устроенной его новым другом по имени Медий. Выпив на ней большое количество неразбавленного вина, он большую часть следующего дня проспал, поднявшись только часов в девять вечера. На все вопросы он отрицательно качал головой и, облачившись во все доспехи, надев на голову украшенный перьями шлем, вышел из своей палаты.
Моя раскладушка стояла у стены его комнаты, чтобы я был под рукой в случае надобности, но он, не взглянув на меня, зашагал по коридору. Когда он проходил под светильником, я хорошо разглядел его: лицо красное, видимо, от жара, в глазах неестественно сильный блеск. Тут же вслед за ним вышла царица Роксана в наброшенном на ночное платье персидском халате и с босыми ногами.
— Быстро поднимайся и ступай рядом с ним, — сказала она мне тихим, безумно встревоженным голосом. — Если он откажется от твоего присутствия, оставайся позади него. Он весь в жару от болотной лихорадки, а кроме того, совсем не в себе. Не знаю, что он натворит. В двухстах шагах за тобой я поставлю четверых его охранников с носилками. Не принуждай его ни к чему — может, только в крайнем случае — в общем, старайся развеселить его; но если он упадет, позови людей с носилками — они отнесут его домой.
Царь немного пошатывался на ходу, и я догнал его как раз вовремя, чтобы услышать его разговор с часовым у входа во дворец.
— Я нездоров. Хочу немного прогуляться. Вечер такой теплый и такая великолепная луна.
— Мой долг перед тобой, величественный царь, не велит мне молчать, — отозвался один из часовых. — Если ты нездоров, не лучше ли тебе лечь в постель?
— Нет, мне нужно совершить паломничество. Мне предписано так поступить — по велению моей властной души.
Он пошел дальше. Я снова догнал его и последовал сзади и чуть в стороне.
— Это ты, Абрут? — спросил он вялым голосом.
— Да, мой царь.
— Можешь идти со мной. Ты пробыл у меня уже так долго, что действительно стал частью меня самого. Ты мне пригодишься, потому что я иду в Пеллу, город, где я родился, и пойду по той же дороге, по которой тебя вели в цепях в Византии. Ты вспомнишь, как я купил тебя у надсмотрщика за семь золотых монет, которые он спрятал в свой кошелек.
— Я все хорошо помню, мой царь.
— Как чудесна эта мягкая ночь для нашего путешествия! Воздух почти не колышется. И луна на ущербе будет освещать наш путь. Она начала убывать после того, как стала совершенно круглой, но помутнела еще совсем немного: ее мягкий и нежный свет не будет резать мне глаза. Есть, Абрут, красота и в убывающей луне, и в прибывающей. Есть красота в старом возрасте, когда мужчина и женщина идут по дороге к смерти и волосы их побелели, и глаза потускнели, а на лицах и руках появились морщины. Но убывающая луна, хоть и обреченная, все же плывет по небесному своду. Она остается царицей ночи.
Мы приблизились к наружным воротам территории дворца, но стоявшие на часах персидские рекруты только стояли смирно и салютовали, не осмеливаясь заговаривать с Александром.
— Посмотри на звезды, — сказал мне Александр, когда мы вышли на почти пустынную улицу, — только немногие сегодня ночью жгут свои лампады, это великие властелины небес. Звезды поменьше тоже, наверное, зажигают свои светильники, но мы не видим, как они горят — так велико сияние быстро умирающей луны. В какой стороне запад? Голова еще не прояснилась от сна, не могу сориентироваться.
— В этой стороне, мой царь, — указал я.
— Тогда мы пойдем по этой тихой улочке. В нескольких домах еще горит свет, и добрая жена смотрит, все ли дети в постели, а добрый муж заботится обо всех мелочах, которые необходимо сделать на ночь: чтобы двери были надежно заперты и выпущен кот, — а там он вознесет ночную молитву Астарте, каким бы именем он ее ни называл, и сам будет искать милости сна. Радуюсь я, Абрут, тому, что волею судьбы и богов не пришлось мне разрушить Вавилон. Три тысячи лет до моего рождения здесь находился поселок. Наверное, тут жили рыбаки и, может, некоторые из них держали стада, а другие переправляли через реку караваны. Мы пойдем к западным воротам города — там больше нет затопленной земли, вместо нее через болото проходит насыпь, которая потом сворачивает на север и соединяется с царской дорогой.
Он молчал все время, пока мы не вышли за ворота и не прошли через заболоченный участок, а затем указал вперед.
— Разве там не огни Опа?
— Может быть и так, мой царь. — На деле это были разбросанные огни пригорода Вавилона.
— Нет, мы забрели дальше, чем предполагали. Это огни Тарса, который сдался мне в великом походе на Восток. Но теперь, после стольких недель пути, я устал и не хочу встречать делегации, так что давай свернем на эту проезжую дорогу и немного отдохнем в душистых полях.
Мы вышли на луг, изрезанный вдоль и поперек ирригационными канавами, где росла зеленая трава и на ночь расположилось большое стадо крупного рогатого скота, голов сто, которое мирно спало, не боясь львов, так как находилось совсем рядом с городом.
— Сколько, по-твоему, нам придется ждать встречающих из Пеллы?
— Может, и недолго.
— Абрут, вон там это не бог Митра, который возлежит со своими женами? — Александр указал на быка коровьего стада.
— Может и он, мой царь, но только мне кажется, что его рога не так длинны и шея тонковата. Я не вижу, какая у него мошонка, но судя по размерам тела, это обычный бык.
— Надеюсь, что это не Митра. Он потребовал бы кровавой жертвы. Во всем мире боги хотят, чтобы на жертвенный алтарь проливалась кровь. Часто это делается тайно, потому что наши учителя и философы называют это варварством, а женщинам такое очень не по душе, потому что они женщины. Кровь! Кровь! Она создана, чтобы согревать тело после того, как сама разогреется в печени, а в печени есть нечто вроде огня, но без пламени. Кровь не предназначается для пролития. Она существует для поддержания жизни, а не для потери ее. Даже теперь членам моим холодно. Может, уже холодает?
— Не думаю, царь Александр, или, по крайней мере, я этого не чувствую.
— Луна у себя на небе выглядит ледяной. У звезд холодный блеск. Абрут, как тебе известно, я вызывал из Аида душу Филота, которого обвинили в измене мне. Он стоял предо мной с искалеченной рукой и клялся, что не виноват в измене; он обвинял меня, что это я изменил ему, его любви и вере и его отцу Пармениону. И перед тем как снова сойти в Аид, он сказал мне, что есть одно кровавое жертвоприношение, которое я мог бы совершить и в некоторой степени искупить пролитую кровь и ту, что еще пролью, и что это жертвоприношение спасет меня от какой-то ужасной судьбы. Я сказал ему, что построю великие храмы богам и принесу в жертву целые стада скота или толпы рабов, если этого желают боги, но Филот отвечал, что никакие такие жертвоприношения никогда не смогут меня спасти. И когда я просил его сказать мне, какое жертвоприношение он имеет в виду, он отвечал — и глаза его горели потусторонним светом в тусклом сиянии луны, — что не скажет мне этого, что в этом заключается месть.
— Я хорошо помню, царь Александр.
— Теперь сдается мне, что он имел в виду принесение в жертву чего-то или кого-то очень мной любимого, а не быков и рабов, до которых мне не было никакого дела. Может, он имел в виду Роксану, мою истинную любовь, которую я обожал с отрочества?
— Нет, вряд ли он мог иметь в виду ее.
— Через считанные недели она родит. Может, он подразумевал ребенка?
— Думаю, что нет, царь Александр. Какая бы польза была богам от орущего младенца?
— Возможно, Абрут, он имел в виду тебя. Чик-чирик моим мечом по твоему горлу. Тебя именуют моей тенью. Ты все эти годы день и ночь бывал со мной, ты ходил со мной в Додону. Ты ездил за мной при Херонее, ты мой настоящий историк, даже сейчас твоя рука снует по страницам записной книжки. Награда тебе — это награда правой моей руке. Да, Абрут, он, наверное, имел в виду тебя. Как ты думаешь, эта ночь подходит для жертвоприношения? Что-то позвало меня с постели и заставило пуститься в паломничество. Есть ли здесь поблизости прекрасное святилище? Вон там, недалеко, что это за строение? Разве это не великолепный храм? На вид невелик, но, может, это игра лунного света?
— Это, мой царь, овчарня.
— Ты знаешь о каком-нибудь храме поблизости? Если не знаешь, мы могли бы устроить небольшое святилище здесь в присутствии одного из сыновей Митры.
Я погнал свои мысли со стремительной скоростью, я не позволял своей голове отупеть от страха, а голосу задрожать.
— Если Филот имел в виду меня, твоего писаря, чтобы ты принес мою кровь в жертву, он, конечно же, не подразумевал такого скорого жертвоприношения. Ты отправляешься завоевывать арабские земли, уже стоят наготове суда с экипажами и провиантом и нужно записывать твои слова и дела. Так что рука моя должна успокоиться только после этого.
— Но после этого будут еще завоевания. Абрут, тебе и не снилось то, что я намерен был совершить, ибо мир шире, чем мне когда-то казалось, и весь он, способный платить дань, должен быть в моих руках. Ни один независимый царь не должен иметь власти. Не должна существовать ни одна империя, кроме моей. Тот рок, которым пугал меня Филот, еще далеко. Мне всего лишь тридцать два года. У меня самая сильная армия, которой я когда-либо предводительствовал. Моя мать Олимпиада говорила мне… а это не она ли идет сюда по траве?
— Да, может, и она.
— У нее все такая же гибкая походка. Но что ей от меня надо, Абрут? Я иду в Пеллу, где решу все споры между нею и Антипатром. Может, она идет, чтобы опять рассказать мне о великом Зевсе, как он побывал у нее в спальне, после чего появился я. Не желаю, Абрут, слышать об этом снова! Чтобы быть достойным этого божественного наследия, я сделал все, что возможно, и только иногда бывал нерадив. Нечего ей говорить мне, что еще следует сделать — я и сам прекрасно знаю! Олимпиада! Олимпиада! Зачем ты сюда явилась?
Наступило долгое молчание, во время которого Александр вытягивал шею, напряженно прислушиваясь.
— Не расслышал, что она сказала, — шепнул мне царь. — Она стоит далеко от меня, но зачем? Думаешь, я рассердил ее тем, что давно не был в Пелле, или тем, что недостаточно твердо принимал ее сторону против Антипатра? А она со своей здоровенной змеей, которая обвилась вокруг ее талии и уткнулась ей мордой в горло — ты не видишь?
— Да, с нею.
— Я распорядился, чтобы гробницу Гефестиона украшали золотые змеи, потому что змеям покровительствует бог Гермес, но я проклял их в дельте Инда — они укусили нескольких моих солдат, отчего те умерли, и, может, теперь она явилась, чтобы упрекнуть меня за мою ошибку. Да, должно быть, потому она и пришла; а иначе зачем это ей вдруг взять и исчезнуть… А вот вслед за ней другой. Как мне знакомы эти доспехи, этот шлем, эта твердая поступь! Абрут, это Филипп вышел наверх из Аида. Я его не звал, но кто-то это сделал, или же ему удалось как-то осилить стражника у ворот подземного царства, ужасного Цербера. Он пришел отомстить, Абрут. Он знает… он знает, что я мог бы спасти его от ножа Павсания, но не спас. Вели ему немного помедлить, Абрут. Это приказ Александра, императора Азии!
— Не подходи, Филипп. Величественный царь, Александр, хотел бы поговорить с тобой.
Александр вытащил свой меч.
— Филипп, я не боюсь тебя! — крикнул он. — Я не состоял в заговоре, у меня не было планов убивать тебя — планов, которые вынашивала Олимпиада. Да, я подозревал это и знал, что у нее был сговор с Павсанием. Так почему же я не предупредил тебя? Я скажу. Нить твоей жизни была уже сплетена и готова для ножниц Атропос. Чик — и душа твоя перенесется в мир иной. Ты был слишком стар, чтобы вести войско через Геллеспонт. Да, верно, ты хорошо его обучил, и за это я тебе многим обязан, ибо без вымуштрованных и бесстрашных воинов я бы не победил даже при Гранике, в первом из великих моих сражений. Однако скажу тебе, что уже настала тогда пора принять мне на себя царскую корону. Самое большее, ты бы только отвоевал греческие города на побережье Малой Азии, а завоевать всю Персидскую империю и углубиться в долину Инда ты бы не смог. Я сделал то, что было уготовано мне судьбой. А теперь вытаскивай свой меч, если хочешь; я без страха дождусь твоего нападения — и ты умрешь, уже не один раз, а дважды. Ха! Какой это царь умирал дважды! Я вижу, что ты медлишь, но не слышу, что ты там говоришь.
— Он сказал, великий царь, что не может скрестить оружие с собственным сыном.
— Каков глупец! Не видит дальше собственного носа! Он, кажется, уходит? Уж теперь я не построю над его могилой большой пирамиды; лучше построю гробницу Павсанию, который в нужный момент избавил от него мир. Ну, вот он и ушел в свою ничтожную могилу. Но мне не нравится вид той женщины, что приближается сюда. Она горько плачет и закрывает лицо одеждой. А! Теперь я узнаю ее. Ланис, моя кормилица, сестра Клита. Она пришла упрекать меня за то, что я мучил его и казнил. Абрут, я не могу с ней встретиться. Я убил Клита в припадке ярости, хотя он был другом моего детства и я любил его. Что ей осталось кроме как выть?
— Мне кажется, она пытается говорить.
— Что она говорит? Начинается ветер, он относит ее слова. Сильный ветер, холодный.
Не было ни дуновения ветерка. Стояла мягкая ночь. По необозримому своду небес в полной безмятежности проплывала луна. Она восходила к своей вершине, за которой ей предстояло начать свой спуск.
— Я слышу ее, царь Александр, но ветер и впрямь сильный и холодный; она плачет от разбитого сердца, — отвечал я.
— Что она говорит? Скажи, не щади меня.
— Больше не убивай, Александр! Больше не убивай!
— Тьфу! Хорошая женщина, но дура. Как мне покорить, не убивая, хотя бы арабов? Этих темных тощих людей пустыни не устрашат мои угрозы: всю свою жизнь они бросают вызов смертоносным пескам и теперь не поддадутся мне. Что мне еще остается, как не убить их? И разве они не заслуживают этого по справедливости? Ступай от меня, Ланис. Не внемлю я твоей слезной мольбе. Не забывай, что ты была только нянькой, а я сделал твоего брата великим до того, как он сошел в преисподнюю, и даже теперь твой сын занимает высокий пост в моей армии. Я любил тебя, Ланис, признаюсь в этом. Может, и сейчас еще люблю. Но все же уходи. И вытри глаза. Я убью не больше, чем необходимо.
— Она исчезает, царь Александр.
— Вижу. Вот только ветер что-то не прекращается. Холодный и безжалостный, он все дует и пронимает меня до костей. Где мы, Абрут? Это, должно быть, какой-то горный луг в долине Гиндукуша. Да, высоко мы взобрались по его могучему хребту. Но перед нами еще маячат бескрайние пески, и нам нужно идти дальше. Что с моими солдатами? Они что — умирают в этом белом снегу, покрывающем землю? Падают, лежат, не желая двигаться, и их покидает душа? А что с обозом? Повозки поднимают на кручи, как я приказал? Давай-ка взберемся немного выше, Абрут. Там остановимся, повернемся и окинем взором обширные земли за предгорьями — мои завоевания. Пойдем со мной, мы опередим войско.
Он с трудом зашагал вперед. Ему стало не хватать дыхания. Я хоть и последовал за ним, но подумал, что скоро настанет час, когда придется звать на помощь.
— Это было трудное восхождение, — сказал он мне, когда остановился, сделав около пятидесяти шагов по ровному пастбищу. — Теперь оглянемся и обозрим мое царство. — Царь повернулся и посмотрел назад. — На какой головокружительной высоте мы стоим! — прокричал он. — Посмотри, Абрут, далеко, насколько хватает глаз, все тянутся селенья, плодородные поля, несчетные дома, окруженные стенами города. Но я замечаю нечто странное. В начале каждой маленькой лощины бьет источник, но выходит из него не вода, а какая-то другая жидкость, которую земля не приемлет. Возникает ручеек, и там, где две лощины сходятся, ручеек становится чуть шире; и вот эти ручьи уже сливаются с дерзкими потоками, которые бурно выбегают из ущелий и каждый принимает в себя эти разрастающиеся ручьи; потоки разбухают, становясь небольшими реками, они сбегают вниз по горным долинам. Но, Абрут, эта жидкость не похожа на воду: она не блестит под луной. И теперь эти речки впадают в большую реку, а та движется медленно, с неумолимой целеустремленностью к еще большей реке. Смотри, она не может вместить такого широкого потока, она выходит из берегов, разливается, и это озеро все растет. Смотри, Абрут, смотри. Разлив затопляет весь берег, всю землю. Это не пресная вода, которая сверкает под луной, в ней нет величавости. Ради всех богов, скажи мне, что это такое? Почему у нее красный цвет? Говори, не
таи от меня правду, каким бы невыразимым ужасом она ни была.
— Царь, не могу я сказать наверняка.
— Тогда я скажу тебе. Я, Александр, повелитель всей Азии, величественный царь, сын великого Зевса. Абрут, это кровь! Да, море крови, человеческой крови, крови моих товарищей по оружию, женщин и детей. О, почему они не подчинились моему властному приказу и не сохранили себе жизнь? Им нужно было только пасть предо мной ниц, и я бы пощадил их. Безбрежный океан крови, крови, крови — она льется, течет, капает, затопляет всю мою империю. В этом разливе кровь тех, кто погиб при Фивах. «Гоните лошадей! Не дайте им уйти!» Зачем я только издал этот клич?! А те индийские крестьяне не смогли уйти от меня, и вода на переправе окрасилась в ярко-алый цвет, и теперь она вздымается волнами в этом красном чудовищном море. Даже те две тысячи храбрецов, которых пригвоздили к деревьям в Тире, не отказали мне в своей крови: она сочилась из-под гвоздей и тонкой струйкой стекала по телам, чтобы влиться в общий разлив. Населения целых городов, преданные мечу. Несчетные множества людей, согнанных в одну толпу и перебитых. А те старики, которых мы догнали на дороге, когда они бежали из непокоренного города! Их сыновьям и дочерям удалось скрыться, но им самим не удалось — слишком стары и немощны они были, а некоторые к тому же держали за руку начинающих ходить малышей. По какому велению Зевса перерезал я их всех, или моя божественная душа побуждала меня сделать это? А те варвары на севере, коссеи — они падали замертво один за другим, сбившись в орущие толпы, и многие, стоя на коленях, валились под ударами окровавленных мечей. Заалел девственно-чистый снег, и я подумал, что мороз удержит эту кровь у себя в плену, но, должно быть, снега растаяли, и она тоже влилась в безбрежное алое море.
Стадо коров, разбуженное звучным голосом царя, поднялось сперва на колени, затем на ноги и стояло, уставившись на него в немом удивлении.
— Боги, зачем вы мне это показали? — прокричал Александр, и в голосе его было столько тоски. — Я сделал только то, что велено было судьбой, чтобы вступить в право, данное мне рождением. Почему вы так ко мне безжалостны? Я — сын величайшего бога! Почему вы мучите меня? — Тут снова голос его окреп, в нем появился звон стального клинка, бьющего по железу щита. — Но тогда я тоже бросаю вам вызов! Я буду ходить по колено в крови, плавать в ней, но добьюсь своих целей; мне станут поклоняться во всем мире, которым я правлю, и, если понадобится, я столкну вас с ваших собственных тронов! Да, да, как Зевс вышиб Титанов, чтобы занять свое место, так и я поведу с вами войну и вы отведаете моего копья, острого, как жало змеи, вы отведаете моего непобедимого меча. Я плачу, но это не от слабости. Это от жестокой боли, которой терзает мой лоб какой-то ваш прихвостень. Боги, великие и малые, Зевс-Амон, отец мой, все остальные, слушайте мой вызов. Я вызываю вас на бой! Ну, как ваши троны: не дрожат, не качаются от звука моего голоса? Ты, Зевс, породил меня, как тебя породил Кронос, но как ты восстал на отца своего, так и я восстаю на тебя! И не надейтесь на то, что я нынче слаб. Это скоро пройдет. Дай-ка руку, Абрут, чтоб мне не упасть. И все же я еще стою. Мечите в меня стрелы своих молний. Мне они не страшны, как не страшны были когда-то Аяксу. Я еще отражу их своим щитом.
Александр упал мне на руки, и казалось, что душа его отходит, однако, положив его на траву, я заметил, что грудь царя еще вздымается. Спазмы постепенно перешли в спокойное дыхание. Он забылся глубоким сном.
Тогда я крикнул людей с носилками — они стояли у кустарниковой изгороди, окружающей луг, — и те подошли. Мы уложили царя и понесли его во дворец. До наружных городских ворот было совсем недалеко. Охранник, видя носилки, спросил дрожащим от волнения голосом:
— Царь… он что… умер?
— Нет, просто спит. Перепил на дружеской пирушке.
Было уже за полночь. На улицах нам встретилось только несколько полуночников: хромой нищий, проститутка, спешащая к себе в каморку, уцепившись за руку пьяного, и сторож. Часовые у наружных ворот дворца снова промолчали, а Роксана встретила нас у входа во дворец вопросом:
— Абрут, царь жив?
— Да, царица, — ответил я.
— Тогда уложи его в постель и укрой покрывалом. Позови двух музыкантов — с флейтой и лютней, — и пусть они тихо играют в спальне, может, это и прогонит его дурные сны.
— Я сделаю это, царица, и то, что ты говоришь, может быть, правда.
Но сам я мало верил в это лекарство.
6
Лихорадка у Александра началась на семнадцатый день македонского месяца даисий, хотя он еще не вызывал врача. На следующий вечер, восемнадцатого числа, его беспокоила головная боль, но зато он оправился от бешенства, овладевшего им предыдущей ночью, и казался в своем уме. На следующее утро он не испытывал боли, поэтому вымылся, оделся и, как обычно, принял участие в утренних жертвоприношениях. Говорят, что в этот день он играл в кости с Медием, но я могу поручиться, что он несколько часов работал, читая отчеты и донесения и заботясь об устройстве в своей армии новоприбывших отрядов из Карии, Лидии и горных районов, общей численностью около сорока тысяч воинов. Несомненно, их предстояло использовать в покорении арабских земель, которые, как он уже знал, были намного обширней, чем это представлялось ему ранее, и соперничали с Индией — по протяженности, но не по богатствам.
Царь спросил дорогу от устья Нила до северо-западной окраины Африки, которая, с самым южным полуостровом Иберии, оканчивающимся большой скалой, была известна как Столбы Геракла. Кроме того, он продолжал наращивать мощь своего флота, и так уже чрезвычайно великую, и строить для него бухты и гавани на побережье Северной Африки. В тот день он хорошо пообедал, но ночью снова началась лихорадка и продолжала усиливаться на следующий день. Ему ничего не оставалось делать, как отложить отплытие флота в Аравию, а на следующее утро его уже пришлось нести в храм, где он принес полагающиеся жертвы.
В этот день ему вдруг пришло в голову, что это, возможно, его последняя болезнь. Тогда у него родилась фантастическая идея, которую он поведал Роксане: он предлагал, чтобы его тайно вынесли из дворца и бросили в Евфрат на съедение крокодилам, и люди бы тогда поверили, что он вдруг перенесся на небеса, где пребудет вечно как Бог.
Роксана выслушала его фантастическое предложение и с хорошо знакомой ему твердостью, дошедшей до его расстроенного ума, отказалась.
— Если ты умрешь — а я вовсе не уверена, что твоя болезнь смертельна, — твое тело положат в гробницу, как и тела других великих царей, что царствовали до тебя.
Он разбушевался, наговорил Роксане массу оскорбительных и несправедливых слов, слишком необдуманных, чтобы упоминать о них в моем рассказе.
Эта вспышка вызвала новый подъем температуры, и по армии пошел слух, что их царь при смерти. Так думал и я, ибо он уже не мог говорить, лицо покрылось мертвенной бледностью, только лихорадочно горели глаза. На одиннадцатый день его болезни солдаты потребовали, чтобы им дали возможность увидеть своего царя в последний раз еще живого. Им позволили, и они весь день шли и шли, прощаясь, по его комнате.
Новые отряды, которые еще не сражались под его знаменами, не принимали участия в этой процессии, а первыми прошли ветераны, возглавляемые македонцами. Он не мог говорить с ними, но слегка шевелил руками и лежал так, что мог заглядывать им в глаза. Многих он узнавал, в этом не было никакого сомнения. По их грубым, покрытым шрамами лицам катились слезы, и некоторых сотрясали ужасные рыдания, какие бывают у мужчин, потрясенных глубочайшим горем — они мучительней для слуха, чем женский плач.
Все, проходя, поднимали руку, приветствуя его салютом. Их сердца очистились от всех прошлых обид. За македонцами пошли сравнительно молодые воины, которые, однако, делили с ним тяжесть индийских походов, а кое-кто побывал и в кошмарных джунглях дельты Инда и шел за ним по смертоносным пескам Гедросии, которые им было не забыть до последнего часа. Не забыть им было и то, как бились они под его победным знаменем, как величественно восседал он на своем коне в серебряных доспехах, в шлеме с развевающимися перьями, как дивно сияло его лицо и из-под шлема выбивались золотистые кудри. И все они понимали, что уж больше никогда не увидят подобие Александра и никогда с такой силой не ощутят своего существования, жизни в ее крепчайшей эссенции, текущей по их венам.
Вечером царь был спокоен и в здравом уме, хотя лихорадка не прекращалась, и к нему пожать на прощание руку пришли друзья его детства. Появились Птолемей с Таис, Неарх, Пердикка, Кен, новый его любимчик Медий, Кассандр и замечательный предводитель Никанор. Пришли отдать последний салют Певкест и Леоннат, которые стояли рядом с ним спиной к стене в крепости в Маллах, где стрелой в лоб был убит его старый друг Абрей, а сам он получил тяжелую рану. Хотя Александр не мог говорить, прощающиеся догадались — я думаю, по меняющемуся выражению его глаз, — что он еще слышит и понимает, и врач его Филипп разрешил им говорить сколько хотят, особенно о старых днях, проведенных в Пелле, когда все они были молоды. Они вспоминали об Аристотеле и его школе в Роще Нимф, вспоминали, как вместе ловили рыбу в озере с глубокой водой, как однажды какое-то чудище клюнуло на его наживку и потащило в воду и как Александр уцепился за свою удочку и держался, пока не лопнула леска. Может, кто-то из этих посетителей только и ждал того момента, когда царь распростится со своей душой, чтобы захватить власть, но такого намерения не читалось в их лицах, голосах, манере поведения с царем.
Когда наступили сумерки, они стали уходить, и врач Филипп попросил их не возвращаться, поскольку Роксана желала провести наедине со своим мужем последние его часы и Александр кивнул в знак согласия. Ночью его лихорадило, но слабости не прибавилось, и утром Филипп ушел, сказав, что больше уже ничего сделать не может. Я же по приказу Роксаны, с которой, мне кажется, согласился и сам Александр, остался на небольшом расстоянии от его постели в большой и роскошно убранной спальне.
— Записывай все, что говорится и делается, — велела мне Роксана.
Затем, усевшись на край постели, она заговорила мужу на ухо тихо, но отчетливо:
— Александр, мне знакома эта болезнь. Она сродни той, что персы называют болотной лихорадкой, другие — малярией, а вызывается она дурным воздухом с болот. Но тебя поразила та ее форма, которой прежде я не встречала за пределами Бактрии, а в Бактрии она была распространенной в болотистом районе в низовьях реки Бактр. Те же симптомы, включая крайнее изнеможение, то же время развития болезни, но иногда страдающие ею выздоравливают, даже когда маги уже потеряют надежду. Теперь мне известно одно возбуждающее средство, и оно у меня есть. Это никакое не лекарство, по сути это не более чем средство, чтобы убедиться, выживет больной или умрет. Лепешка этого возбуждающего, как мне говорили, в основном состоит из мускуса, получаемого из железы, находящейся в половых органах самца кабарги, или «мускусного оленя», когда у него наступает любовная пора. Мускус смешивают с очищенной эссенцией кофейных зерен — ее употребляют в Аравии и получают так: берут зерна и уваривают в воде до тех пор, пока не остается густой черный сироп. Для здоровых людей это средство совершенно безвредно — только ненадолго вызывает ускорение пульса и радостное настроение. Если его дать страдающему, когда болезнь перешла за критическую черту, оно может совсем не подействовать. В этом случае больной умрет через несколько часов. Но если оно все-таки подействует и больной уже в состоянии говорить, узнавать окружающих его людей и осознавать себя, значит, возможно, худшее уже позади, и у него есть хороший, по существу, вероятный шанс на полное выздоровление. У меня с собой есть такая лепешка. Я разломлю ее в своей руке пополам, и ты, чуть пошевелив рукой, сможешь выбрать любую из двух половинок, а другую я приму сама у тебя на глазах.
Александр сделал слабое движение головой, безошибочно означающее согласие.
Роксана достала лепешку, разломила ее пополам, встряхнула половинки в руке, как игрок кости, и раскрыла ладонь рядом с правой рукой царя. Я по ее указанию приподнял его руку, и царь коснулся указательным пальцем той из двух половинок, что лежала дальше.
— Положи ту, что он выбрал, ему в рот, — подсказала Роксана, сама же взяла другую и положила себе. Из склянки, принесенной недавно Филиппом, что стояла на тумбочке у постели, я влил Александру в рот немного воды, и он с большим усилием разжевал и проглотил свою долю. Роксана глотнула из той же склянки и проглотила свою.
Мы молча просидели не менее десяти минут. Вдруг Александр сделал резкое движение рукой. Могущественное лекарство начало уже действовать на Роксану: ее бледное лицо порозовело, глаза ожили, дыхание участилось. Александр реагировал медленнее, но не менее заметно. С его лица постепенно сошла мертвенная бледность, и на скулах появился легкий румянец. Но больше всего изменились его глаза. До того, как он принял возбуждающее, они выглядели тусклыми и ввалившимися, как у смертельно раненного солдата, когда его душа уже воспарила над телом, прежде чем очень скоро расстаться с ним навсегда; но у Александра эта тусклость в глазах исчезала, и в них возвращался свет самосознания и узнавания окружающих его вещей и людей. И пока мы, затаив дыхание, наблюдали за ним, его горло напряглось, и он заговорил:
— Роксана!
— Александр!
— Абрут!
— Мой царь.
— Я могу говорить. Смутные формы вокруг становятся отчетливей! Чувствую пульс в ушах: он не частый, но сильный! Я спасен!
— Еще нет, Александр, любимый мой. Но уже есть надежда. А если бы лекарство так не подействовало, то не было бы никакой.
— Не вызвать ли тебе врача?
— Какая от этого польза. Он сделал все, что мог. Теперь все зависит от тебя.
Эти последние слова она произнесла с безотчетным, но безошибочно различимым ударением. И, не знаю почему, но форма выражения меня немного озадачила.
7
Она взяла его руку и прижала к своей груди. Ее глаза казались более раскосыми, чем обычно, и блестели — несомненно, в результате действия на нее снадобья, но лицо ее источало нежность, словно не руку царя держала она на груди, а головку грудного ребенка при кормлении.
— А ты не думаешь, что это лекарство может повредить еще не рожденному малышу? — тихо, но совершенно отчетливо с беспокойством спросил Александр.
— Ни в коей мере. Может, он и будет больше обычного сучить ножками и биться головкой о стенки своей спаленки, а возможно, и смещаться в разные стороны, но это не причинит ему никакого вреда.
— За это я благодарен богам!
— Но ты, Александр, в случае выздоровления должен избегать болот, особенно в жаркую летнюю погоду и после захода солнца. Второй приступ именно этой болезни — верная смерть.
— Если я буду жить, то всю работу на болотах оставлю моим строителям. И, к счастью, в Аравии, куда я отправлюсь в следующий поход, нет никаких болотистых мест. Собственно, там и воды-то для моей армии будет трудно найти в достаточном количестве. А теперь мне вода не нужна. Вот если бы немного вина. Но не будет ли оно противодействием твоему возбуждающему средству?
— Нет, никакого заметного противодействия не будет, если ты выпьешь только одну чашу. Но подожди немного. Поговори со мной о своих походах — ведь там лежит твое сердце, если оно не рядом с моим. Когда ты завоюешь Аравию и присоединишь ее к своей и без того уже громадной империи, будешь ли ты тогда вполне доволен?
— Не спрашивай этого, Роксана. Я никогда не смогу быть вполне довольным, пока к западу от Гифасиса, в Европе и Африке останется хоть один царь, который не платит дани Александру.
— Великий город Карфаген находится в ближайшем соседстве с Египтом. Разве ты не хотел бы заключить договор о мире с Карфагеном, в силу которого этот великолепный город мог бы сохранить свою свободу, унаследованную им с древних времен? Ты можешь направить к ним посольство. Я почти не сомневаюсь, что они примут твое предложение установить с ними дружеские отношения.
— Ну уж нет, я направлю туда военные корабли, весь свой огромный флот, ведь Карфаген кичится тем, что он великая морская держава. К тому же, когда я вел осаду Тира, он послал на помощь их флоту один из своих кораблей — в знак любви и братства с Тиром. Да он бы послал туда и целую армаду, вот только помешала война с Сицилией. Карфаген должен быть уничтожен. Я не могу позволить себе иметь такое сильное государство на берегу Внутреннего моря. Посмотри, Роксана, твое снадобье сделало меня новым человеком. Наверное, я мог бы встать и походить.
— И думать об этом не смей. Примерно через час его действие прекратится, и тебе придется лежать еще недели, если ничего худшего не случится. Ну, а после Карфагена ты успокоишься? Будешь ли в полном довольстве править своей великой империей и налаживать мирную жизнь людей?
— Нет, Роксана, после этого еще рановато, после этого меня ждет еще одно великое завоевание, которое потребует напряжения всех моих сил, и это мне будет в радость. Потом еще два-три небольших похода — и можно будет отдохнуть.
— Уж не Рим ли ты имеешь в виду, Александр?
— Вот именно, подрастающую Римскую державу. А иначе он останется угрозой всему, что я завоевал — этот торчащий посреди Внутреннего моря сапог. Примерно за тридцать лет до моего рождения Рим разграбили кельтские варвары, но цитадель его устояла. И с тех пор он присоединил к себе Этрурию, покорил самнитов. Рим должен попасть мне в руки. Я должен быть хозяином Италии.
— Ты слишком много говоришь. Это не утомляет тебя?
— Буду говорить тихо, но говорить я должен. Мне ужасно хочется говорить — ведь я решил, что мне уж больше никогда не осуществить того, что я задумал.
— Ты, конечно же, не пошел бы на Галлию, на северо-запад от твоей чудесной колонии Массалии?
— Римляне первым же делом захотят отнять у меня Массалию. Галлы — варвары очень гордые и упрямые, и прежде, чем склонить свои головы, они могут оказать мне упорное сопротивление.
— А потом Иберия? — очень спокойно спросила Роксана.
— Иберия вдается в Океанское море. Тот, кто правит Иберией, в конце концов, должен получить власть не только над нашим Внутренним морем, но и над всеми землями, нам еще неизвестными, которые выходят к Океанскому морю. Покорить их все мне не удастся и за долгую жизнь, так что часть из них придется оставить нашему сыну, у которого будут замечательные дела и великая судьба. У меня пересохло в горле. Можно мне выпить чашу вина?
8
Роксана будто и не слышала просьбы Александра. Она поднялась и, отойдя шагов на десять к кушетке, села в глубокой задумчивости. Затем, чуть вздрогнув, вернулась к действительности.
— От чаши вина хуже не будет, — заметила она. — Хотя она и может слегка нейтрализовать действие возбуждающего — совсем незаметно. Какого вина ты хочешь?
— Кислого армянского, которое я так полюбил.
— Обслужи-ка царя, Абрут. В шкафу с инкрустацией из золота, серебра и слоновой кости есть несколько бутылей. Но тщательно проверь печать на бутыли. К вину не могли прикоснуться, не сломав печати Александра. В том же шкафу кубки и личная золотая чаша царя. Но ее лучше наполнить только наполовину — это большая чаша.
Я подчинился. Царская печать, изображавшая львиную голову, была оттиснута на воске, а к воску был прикреплен кружочек папируса с подписью дворецкого. Я налил полчаши.
— Не выпьешь со мной вместе, Роксана? — предложил царь.
— Пить твое вино — все равно что уксус. Но у меня есть полкубка своего собственного — сладкого мидийского вина, которое я пила с фруктами до того, как ты проснулся. Бутыль у меня в комнате за письменным столом. Ксания к нему тоже неравнодушна, а у меня его совсем мало. Эй, Абрут, у царя все еще жар. Смажь ему рот внутри и снаружи тем маслом, что оставил врач, у него, наверное, губы и язык пересохли. Я живо вернусь.
Я нашел масло там, где оставил его врач, на тумбочке, и с помощью кусочка шелковой ткани сделал то, о чем просила меня царица. У него действительно был жар, но не такой сильный, как прежде. Слабым кивком головы царь дал мне знать, что душистое масло устранило сухость во рту и он доволен. Царица вошла с кубком в руке, на две трети наполненным светло-золотистым напитком. Когда она вернулась на свое место на кушетке, я решил, что и она смазала губы бальзамом — так ярко они алели, и тут в голове у меня мелькнуло страшное подозрение, а не заразилась ли она тоже лихорадкой, но потом я подумал, что, скорее всего, она нанесла на губы немного косметики, ведь до этого они были очень бледные. Она поставила бокал на хрустальную стойку, где до него можно было легко дотянуться.
— Давай выпьем вместе, — предложил Александр.
— Нет, сначала предложи мне небольшой тост, а потом я поцелую чашу, из которой ты пьешь.
— За Роксану, княжну Бактрии, — тихо, с любовью произнес Александр. — За ребенка от чресел моих, которого носит она в своем чреве. Долгого царствования моей царице, а после меня — долгого царствования моему сыну. Да будет на это благословение богов.
— Прекрасный тост. Абрут, ну-ка принеси мне золотую чашу царя. Я поцелую ее в знак своей благодарности.
«Поцеловать чашу» — это выражение означало отпить глоток. Она пристально посмотрела на темно-красное вино и немного поморщилась, представив себе его кислый вкус. С этой гримасой она быстро протянула руку за своим собственным кубком и сделала долгий глоток его желтого содержимого, очевидно, для того, чтобы ощущением сладости во рту защитить себя от кислого вкуса царского вина. Поставив кубок на прежнее место, она быстро подняла золотую чашу царя и, как мне показалось, едва попробовала вино, хотя и сделала вид, что отпивает изрядно. Скривив лицо, она вернула мне чашу, и я отнес ее к царю. С моей помощью он поднес ее к губам и осушил до дна. Роксана отвела свой взгляд в сторону.
— Хорошее вино, Роксана, — похвалил он. — Намного ароматней твоих сладких. Это вино эпикурейца, правда, раньше я как-то не замечал его горьковатого привкуса. Это то, что сластолюбцы в Коринфе называют здоровым вином — вином, в котором все идеально уравновешено. А отчего ты выглядишь такой одинокой, такой несчастной?
— Я надеялась, Александр, что, если ты оправишься от тяжелой болезни, ты будешь вполне доволен размерами своей обширной империи, будешь править ею во благо народа, принимая лесть и иногда поклонение и не пытаясь покорять новые страны.
— Как это не покорять! Мой флот должен был отплыть уже сегодня. Я отложил его отплытие до сегодняшнего дня, чтобы оправиться от болезни, а теперь оно снова откладывается. Но кое-что я обещаю. Если где-то я смогу по возможности пощадить город или народ и при этом иметь твердую уверенность, что у меня за спиной он не восстанет, я так и сделаю. Знают боги, что больше мне не хочется видеть этой страшной картины — не знаю, сон это был или видение, — которая открылась мне в ту ночь, когда у меня началась лихорадка. Но предупреждаю тебя, Роксана: мало надежды, что я смогу пощадить Карфаген. Он соперник моего молодого растущего города — первой Александрии, уже теперь стоящей только на втором месте после Карфагена на всем африканском континенте. Народ Карфагена — семиты, двоюродные братья и сестры тирийцев. Только семитским народам Палестины хватило ума сдаться мне, и посмотри, как благожелательно я правлю там до сих пор! А тирийцы? Уж так они были мудры в астрономии и астрологии, так искусны и умелы в морском деле и торговле, а в своих отношениях с Александром показали себя такими безмозглыми, такими непроходимыми дураками! Боюсь, что и правители Карфагена будут не лучше.
— Александр, я не верю, что ты разрушишь этот древний город.
— Не исключено, что он покорится мне. Победы сицилийцев несколько поубавили его спеси. А кстати, именно Сицилия после Рима будет моим следующим шагом. Подойди-ка, царица моя Роксана, и присядь на край моей постели. Не думаю, что болезнь моя заразна.
— Да, конечно, иду. Никогда еще не слышала, чтобы кто-то заразился ею от другого человека.
Но когда, с бокалом в руке, она сделала в его сторону несколько шагов, ей под ноги попался стульчик для ног. Она споткнулась и выронила из руки свой маленький хрустальный бокал, который вдребезги разбился на кафельном полу.
— Пусть лежит, — сказала она мне. — Позже я вызову подметальщицу. Подай-ка мне другой бокал и наполни его фессалийским вином — там еще осталось в шкафу. Это не самое мое любимое, но все-таки очень хорошее вино.
Я выполнил ее распоряжение. Присев рядом с Александром, она поинтересовалась, действует ли еще на него возбуждающее средство, которое она ему дала.
— Да, действует. Но мне кажется, что оно оттягивает кровь от конечностей, и кровь собирается в голове и сердце. Я чувствую онемение в ступнях и в кончиках пальцев. И во рту.
— А я ничего не чувствую, кроме возбуждения. Так бывает, когда слишком быстро выпьешь первый графин вина.
— Отчего ты думаешь, Роксана, что карфагеняне покорятся и тем самым заслужат пощаду? — По голосу Александра, хоть и тихому, чувствовалось, что ему очень хочется это знать.
— Может, их боги смилостивятся над ними.
— Их боги те же, что и у тирийцев, а Тиру не было явлено никакой милости. Должно быть, эти чужие боги, которых я часто принимал за наших, только скрытых под другими именами, бессильны против Александра. Теперь я убежден, Роксана, что твое средство перестает действовать. У тебя найдется еще одна лепешка? Могли бы мы принять ее без вреда для себя?
— Да, у меня есть еще одна. Половинка ни тебе, ни мне не повредит. Абрут, она у меня в узелке, завернута в золотую фольгу. Принеси, разломи пополам, и пусть снова выберет царь. Я поддержу его руку.
Когда вскоре он сделал свой выбор, я подлил вина в его золотую чашу, чтобы он смог запить им свое снадобье. Роксана приняла свою долю с фессалийским вином.
Лицо Александра снова немного порозовело, благодаря действию возбуждающего снадобья, но уже не так заметно, как раньше. Он помолчал немного, затем с тревогой обратился к Роксане:
— Я чувствую его тепло, но онемение в руках и ногах не проходит, скорее, даже усиливается.
— Средство не действует сразу. Нужно чуть подождать.
— Оно не помогает. У меня по конечностям поднимается омертвение, они «засыпают», как мы говорим в детстве. Ты внимательно осмотрел печать на бутыли с армянским вином, Абрут?
— Да, очень внимательно, царь. Она была в целости.
— У тебя есть еще полбутылки, — вмешалась Роксана, — а моего фессалийского уже не осталось. Налей-ка мне красного, Абрут, и я выпью, хоть оно кислое и мне не по вкусу — пусть царь знает, что оно не отравлено.
Александр хотел было что-то возразить, но какое-то новое ощущение внутри заставило его сдержаться. Роксана осушила свой бокал и снова состроила гримасу отвращения.
— В чем же тогда причина этого нарастающего онемения? — спросил он.
— Может, это из-за твоей болезни?
— В таком случае твое снадобье только обманывает мои надежды. Впрочем, яда в нем быть не могло, иначе ты бы тоже почувствовала… Я вот ощущаю что-то такое… очень странное… жуткое… совсем не болезненное… но для моего выздоровления это не предвещает ничего хорошего. Роксана! А не значит ли это, что я скоро умру?
— Александр, любимый, может, оно и так.
— Но как же мне ввели яд? Вино было запечатано, вода была чистой, никто в комнату с рассвета, кроме Абрута, не входил.
— Предположим, Александр, что в маленьком кубке, который я оставила на столе, находился яд. Предположим дальше, что я, прежде чем поцеловать твою чашу, набрала его себе в рот, а уж оттуда он попал в твое вино.
— Роксана, и ты это сделала? Говори как есть, лучше тебе не врать. — Напрягая все силы, Александр поднял руку к шнуру колокольчика и схватился за его конец.
— Я никогда не лгала тебе, Александр. Может, только по пустякам да еще в деле с Главкием — но это было не на словах. Дерни за веревку, если хочешь, дерни. Обличи меня как убийцу. Меня тут же обезглавят или пригвоздят к дереву, чтобы я медленно умирала, и вороны выклюют глаза, которые ты так любил и, может, все еще любишь. Разве мало и до меня умерло вот так же — на дереве? На дереве, растущем для того, чтобы радовать наш глаз своей соразмерностью, с листьями, трепещущими на легком ветру, и ветками, стонущими в непогоду; на дереве, созданном богами для того, чтобы давать тень или плоды или ронять семена, из которых произрастут другие деревья, которые тоже раскинут ветви, когда их родители умрут от старости и повалятся наземь. На дереве, родственном додонскому дубу, листьями которого говорит Зевс. На дереве, куда садятся и откуда взлетают голуби, где они вьют свои гнезда. Вряд ли украсит его ветви такой фрукт, как мужское или женское тело. Однако из-за тебя сколько уже висело таких плодов и сколько повисло бы еще, если бы ты оправился от болезни, а это было вполне возможно, хотя ты так ослаб, что даже Филипп отчаялся в твоем выздоровлении.
— Но ты не отчаялась, Роксана? — немного помолчав, спросил Александр, и рука его, отпустив шнурок звонка, упала на постель.
— Отчаяние — это не то слово. Я молилась, чтобы тебя унесла болезнь прежде, чем еще шире разольется океан крови. Я знаю, ты видел этот океан, и думаешь, что видел его в своем помешательстве. Нет, не Абрут рассказал мне. Это ты сам проболтался во сне. И это не только порождение расстроенного ума — это был последний крик твоей совести. Но твое страдание аннулировало твою совесть. Я не скажу, что оно уничтожило твою душу — душа, возможно, еще поживет и искупит свои грехи где-нибудь в иной жизни.
— Теперь я знаю, о какой жертве говорил Филот, когда я вызвал его наверх, жертве, которая могла бы спасти меня от страшного рока. Самоубийство — вот что он имел в виду. И если бы я это сделал, я избежал бы и тяжкого помешательства, из-за которого погибли многие тысячи людей, и чаши с ядом, поднесенной мне той, которую я любил сильнее всего.
— И той, которая всю жизнь сильнее всего любила тебя.
Немного поразмыслив, он снова заговорил, голосом слабым, но совершенно отчетливым:
— В данный момент я чувствую удивительную ясность ума. Что это был за яд?
— Один из индийских, называется бих. Говорят, что его делают из красновато-коричневого корня, который находят на Гиндукуше.
Зрачки его глаз сжались так, что стали яркими точками. Он немного полежал в покое, затем слегка вздрогнул. Заговорил он с легким затруднением, но голосом негромким, так хорошо знакомым нам с Роксаной, напоминающим о его юности и первой мужской зрелости. Он говорил в полной ясности ума.
— Сдается мне, Роксана, что это твоя рука сразила Гефестиона.
— Да, моя.
— Как же, не стыдясь богов, ты могла сделать такое? Ведь он же был самым близким мне другом.
— Наоборот, твоим худшим врагом. Не тебя он любил, Александр, а твою жестокость. Она была его вожделенной страстью, а ты стал его орудием, с помощью которого он претворял эту страсть в действительность.
— Скольких еще ты убила?
— Только Сухраба, потому что и он был оголтелым убийцей и убил моего еще не рожденного ребенка. Ну, вот и вся история.
— Что же остается делать? Вызвать стражу или даровать тебе мое прощение?
— Поступай так, как велит душа, Александр.
— Будет ли твой поступок известен кому-нибудь еще, кроме Абрута?
— Думаю, что нет. Но все равно я долго не проживу, как и твой ребенок, если он родится. Мы — наследники слишком больших богатств, слишком огромной державы и слишком глубокой ненависти к тебе. Впрочем, это не имеет значения. Я хорошо послужила в дни мои на земле, и мой ребенок — это моя жертва, но не богам, которые не знают человека и не беспокоятся о нем, заботясь только о своей славе, о том, чтобы их почитали и приносили им жертвы, не богам, сотворенным по отвратительному образу того порочного, что есть в человеке. Нет, не им, а некоему Богу, имя которого я еще не знаю; не богу Абрута в его нынешнем виде бога-мстителя, а, возможно, такому, который пойдет рядом с людьми, будет знать их сердца, но сейчас еще не родился.
— Роксана, я ускользаю в небытие. Мне уже трудно дышать. Умоляю, говори свободно, чтобы я мог принять свое последнее решение как император Азии.
— Я, Роксана, царевна Бактрии, жена и возлюбленная Александра, совершив одно злодеяние, которое беру на свою душу, спасла жизни тысяч и тысяч людей и своею рукой остановила реку крови, которая иначе текла бы, вздувалась и затопила бы еще не тронутые кровавым потопом участки мира. Придут и другие завоеватели. Человек будет продолжать убивать ради целей, которые он сочтет праведными, или ради собственного тщеславия, или в неистовстве безумия, или во имя ложных своих богов, или — что хуже всего, трагичней всего — в наивной простоте. Но в свой собственный срок, что отводится всякому смертному, я сослужила великую службу. Я не прошу твоей милости, Александр, ведь я замышляла содеянное и отдавала себе полный отчет в том, что делаю, а делала я это ради любви к человечеству, и больше всего — ради любви к тебе. Решай.
— Я, Александр, повелитель Азии — и уж больше не скажу, что урожденный сын Зевса, ибо сомнения в этом застилают мне ум, — я, завоеватель и царь, дарую тебе свое полное прощение. А поскольку ты принесла жертву, которую я принести не мог, то с прощением я приношу тебе свою благодарность и любовь, которая удивительным и непостижимым образом — и все же в глубине души я в это верю — переживет века!
Роксана закрыла лицо руками, поплакала, вытерла слезы и попросила меня, Абрута, чтобы я наполнил свой кубок вином из виноградников Фессалии, встал с нею рядом и коснулся краем кубка ее бокала.
— За Александра Великого, — спокойно предложила она тост. Мы выпили.
А потом мы сидели с обеих сторон у постели умирающего царя, и она держала в руке его правую руку, а я — левую.
Он заговорил еще раз, но слова были неразборчивы. В какой-то момент, когда слабеющим взором созерцал он лицо Роксаны, губы его слегка искривились, и я не знаю, была ли то улыбка или слабая мышечная судорога. И вот зрачки его стали быстро расширяться, мощно поднялась и опустилась грудь, рука слабо затрепетала в моей ладони, голова повернулась немного в сторону, и взгляд неподвижно остановился на чем-то, что лежало далеко за пределами нашего видения. Свет медленно померк в его глазах — и встретил он смерть.
Греческий календарь
В Греции год начинался с летнего солнцестояния, т. е. 21 июня.
Гекатомбеон: июнь — июль
Метагетнион: июль — август
Боедромион: август — сентябрь
Пианепсион: сентябрь — октябрь
Мемактерион: октябрь — ноябрь
Посидеон: ноябрь — декабрь
Гамелион: декабрь — январь
Антестерион: январь — февраль
Элафеболион: февраль — март
Мунихион: март — апрель
Таргелион: апрель — май
Скирофорион: май — июнь
С IV века до н. э. греки начали вести счет по олимпиадам, т. е. промежуткам от одних Олимпийских игр до других. Так как промежуток этот равнялся четырем годам, то дата обозначалась так: 1-й, или 2-й, или 3-й, или 4-й год такой-то олимпиады. Вот как переводят эти годы на годы нашей эры: битва при Саламине была в 1-й год 75-й олимпиады: (75–1)x4 = 296. Эту цифру вычитают из 776 (начало олимпиад): 776–296 = 480 г. до н. э.
У македонцев год начинался осенью.
Греческие и персидские меры длины
Стадий — 180 м
Оргия — 1,8 м
Плефр — 30 м
Подес или
фут (ступня) — 0,3 м
Сажень — 6 футов — 180 см
Парасанг — 5 км
Греческие меры жидкости
Метрет — 89,5 л
Хус — 3,28 л
Греческие меры массы
Талант — 26 кг
Мина — 600 г
Фунт — 327 г
Драхма — 6 г
Греческие денежные единицы
1 талант — 60 мин — 6000 драхм — 36 000 оболов
1 обол — 6 халков (т. е. «медяков»).
1 халк — 2 лепты (лепта — самая мелкая монета).
1 дарик — золотая монета более 8 граммов веса, равнялась 20 греческим серебряным драхмам, появилась в Персии при Дарии I.
1 статер — золотая или серебряная монета, равнялась двойной драхме.
Военная организация
Агема — отборное войско у македонян, конная гвардия.
Гоплиты — тяжеловооруженные воины-пехотинцы.
Иларх — командир илы — конного отряда из 300 всадников, позднее именовался гиппархом, отсюда — гиппархия.
Наварх — командующий флотом.
Лохаг — предводитель лоха, отряда из 100 человек.
Таксиарх — командир отряда (таксиса) численностью 1500–3000 человек.
Бегуны, продромы, иначе
застрельщики — пешие или конные разведчики.
Фрурарх — начальник стражи.
Стража — промежуток времени в 3–4 часа.
Тетрархия — отряд, состоявший из четырех гиппархий.
Хилиарх — предводитель отряда в тысячу воинов — хилиархии.
«Серебряные щиты», или
аргираспиды — тяжеловооруженные отборные части македонского войска.
Гипасписты — связующие пехотные части между флангами тяжеловооруженных гоплитов и конницы.
Хронология жизни и царствования Александра Македонского
356 г. до н. э.
Рождение Александра.
338 г. до н. э.
Битва при Херонее. Александр командует конницей «друзей».
338 т. до н. э.
Коринфский конгресс. Образование Панэллинского союза во главе с Филиппом II Македонским.
336 г. до н. э.
Смерть Филиппа II. Воцарение Александра.
336 г. до н. э.
Александр, глава Панэллинского союза.
335 г. до н. э.
Война с пограничными Македонии племенами. Разрушение Фив.
334 г. до н. э.
Весна. Начало похода в Персию.
334 г. до н. э.
Май. Битва на реке Граник.
333 г. до н. э.
Осень. Битва при Иссе. Разгром Дария III.
333–332 гг. до н. э.
Осада и разрушение Тира.
332–331 гг. до н. э.
Александр в Египте.
331 г. до н. э.
Осень. Битва при Арбелах. Окончательный разгром персов. Бегство и смерть Дария III.
330 г. до н. э.
Сожжение Персеполя.
329–327 гг. до н. э.
Поход и война в Бактрии и Согдиане.
327 г. до н. э.
Весна. Поход на юг в Индию. Последнее большое сражение Александра при Гидаспе с армией царя Пора. Отказ греко-македонской армии двигаться дальше в Индию.
324 г. до н. э.
Возвращение в Вавилон, новую столицу державы Александра Македонского.
323 г. до н. э.
10 июня. Смерть Александра. По энциклопедии «Британика» это случилось 13 июня.
Фриц Маутнер
Ипатия
Пролог
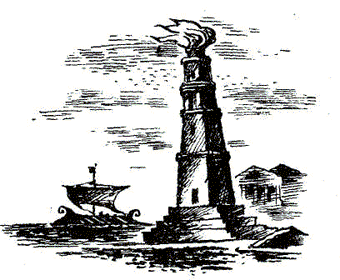
Парад продолжался уже целых три часа. Император Юлиан
[222] на своем тяжелом рыжем коне, окруженный офицерами, чиновниками, духовенством и литераторами, находился недалеко от дворца наместника в конце широкой портовой улицы. В течение трех часов проходили мимо него полки, отправлявшиеся в Азию в победный поход против персов. Здесь, у главных складов Александрии, принимал император парад; напротив, у мола новой гавани, стояли на якоре корабли, которые в этот же вечер должны были доставить в Антиохию его самого и его свиту. Оттуда, предшествуя египетской армии, император намеревался выступить со своим сирийским войском.
Зрители порядком устали. Было около десяти часов утра. Стоял март, но солнце так нещадно палило над городом, что александрийская чернь начинала думать: африканские корпуса могли бы быть и поменьше.
Два маленьких темно-коричневых феллаха
[223], обнявшись цепкими руками, чтобы не потерять равновесия, сидели на крепкой свае.
– Эй! – воскликнул один. – Посмотри, над крышей летит философ.
Птица марабу, которую за ее характерную лысую голову александрийцы прозвали философом, плавно поднялась над крышей Академии, описала два широких, спокойных круга над старым зданием, еще раз мощно взмахнула громадными крыльями и опустилась, наконец, недалеко от императора на источенную непогодой колонну. В воздухе птица выглядела просто великолепно. Теперь, когда она стояла на одной ноге, а другой, невероятно изогнувшись, скребла свою морщинистую шею с длинным мешком, болтавшимся под клювом наподобие серо-коричневой бороды – это было далеко не привлекательно. Ко всему этому лысая голова ужасающих размеров, череп и не то меланхолично, не то сурово взирающие на мир глаза – все это выглядело как-то нелепо шутовски, и оба мальчишки кричали и хохотали, в то время, как проходивший перед императором пехотный полк выкрикивал обычное утреннее приветствие; с кораблей неслись стоголосые клики, а воинственно настроенные горожане обменивались замечаниями о параде.
Мальчишки забавлялись теперь тем, что сравнивали двуногого философа на колонне с философствующим императором. Однако, император Юлиан не выглядел ни меланхолично, ни торжественно. Сходство было чисто внешнее. Невыразительный маленький человек около тридцати лет от роду сидел на своем рыжем коне, как новобранец. Только умная лысая голова с длинной, темно-коричневой бородой философов отдаленно напоминала птицу на колонне. Но одно особенно рассмешило мальчишек: как марабу продолжительно и серьезно скреб и чистил лапой голову, совершенно так же скреб и чистил император свою спутанную бороду, приветствуя в то же время проходивший мимо него полк воинственной речью:
– Вперед, молодцы! Ударим по персам, чтобы от их голов осталась одна солома. Это будет веселая война! Если уж мы вдребезги разнесли здоровенных швабов под Страсбургом, то персы побегут перед нами, как стадо баранов!
Император оглянулся и подозвал кивком головы первосвященника Иерусалима.
– Ваша просьба полностью удовлетворена. Вы получите деньги чтобы вновь отстроить ваш древний храм. По возвращении с войны я навещу вас как-нибудь в Иерусалиме. Тогда вы покажете мне тайные книги о том галилеянине, которого вы распяли. Я собираю материалы для большой сатиры на распятого. Мы расположены милостиво по отношению к вам.
Снова раздалась команда, и «с добрым утром, император!» прогремело над звоном железа. За последним отрядом пехоты пошла кавалерия. Глаза императора, злобно сверкнувшие минутой раньше, снова стали спокойными.
– С добрым утром, латники!
[224] – как будто преобразившись, воскликнул он могучим голосом
полководца. – Вы выглядите молодцами! Вперед! Не заставляйте меня краснеть. Говорят, персидские девочки сходят с ума от африканских кирасиров?
[225]
Грубый смех первых рядов послужил ответом, и весь полк расхохотался за ними вслед. Лошади ржали и проходили танцующим шагом. Император послал первым засмеявшимся воздушный поцелуй, а затем обернулся к египетскому наместнику. Его приказания звучали коротко и решительно. Речь шла о посылке более молодых бойцов, о провианте, а главное: о громадном транспорте хлеба, который нужно было из Египта доставить через Красное море к устью Евфрата. Наместник не смог возразить ни единым словом.
Юлиан отъехал немного назад и приблизился к группе христианских священников настолько, точно хотел растоптать их копытами своего коня.
– Ну, попы! – крикнул он и снова заскреб в бороде, придвигая лошадь все ближе к ногам священников. – Молились ли вы сегодня в ваших, так называемых, домах божьих о победе персов? Полагаю, что да! Но что касается меня – вы можете делать это безнаказанно. Я не преследую таких бессильных демонстраций. Я не нуждаюсь в помощи вашего распятого. Но покорнейше прошу покончить с вашими дрязгами к тому времени, когда я снова буду здесь после победы. Я хотел бы все-таки знать, в конце концов, во что вы верите, галилеяне? Пятьдесят лет, с тех самых пор, мой кровавый дядя дал власть в ваши руки, вы препираетесь о природе своего Божества. Ну, господин архиепископ, выяснили ли вы это наконец?
Архиепископ стоял так близко к морде лошади, что пена запачкала его белую бороду. Император хотел оттеснить его еще, но архиепископ стоял твердо, и лошадь не двигалась.
– Государь, – ответил Афанасий, – мы, христиане, не дадим отвратить себя от нашей веры ни острым словом, ни острым мечом. Привилегии, дарованные нам твоим предшественником…
– Я уничтожаю привилегии!.. Привет, копьеносцы!
– С добрым утром, император!
Мимо проезжал полк легковооруженных всадников, незадолго до этого перекинутый в Африку с Дуная, чтобы поддерживать египетскую кавалерию в борьбе с бедуинами
[226]. Это были дикие, ловкие парни с длинными косами и спутанными черными бородами. На знаменах этого полка над римским орлом красовался крест с инициалами Иисуса Христа. Император сжал кулак, но, дружелюбно улыбнувшись, крикнул всадникам на их родном языке:
– Вспомните о своей старой славе! Послушайте стариков, как под старыми знаменами сражались они в долинах Дуная. А как со мной кинулись вы на сарматов? Гром и молния! Это была скачка! Помните? Полмили в карьер по полям маиса, а потом вверх по виноградникам. Мы так разделали врагов, что они застряли своими острыми шлема ми в винограднике и махали ногами в воздухе, как будто хотели позвать на помощь моего кузена. Он, однако, умер со страха от этого нового способа сигнализации! Ваш полк принес мне первую победу! За это вы получите в Персии новые знамена. С большими буквами на них. Но они будут означать «Юлиан». В день освящения вам дадут пятьдесят бочек персидского вина и женскую прислугу!
Император поощрительно улыбнулся. Но никто не отреагировал. В суровом молчании, как будто это был полк монахов, двигались христианские солдаты. Даже лошади, казалось, сдерживали шаг, и враждебно взглянул на императора длиннобородый знаменосец. Юлиан побледнел, но кровь снова залила его лицо, когда через сотню шагов знаменосец склонил знамя, как бы для приветствия. Там, на первой ступени христианского собора, стоял архиепископ, отступивший после резких слов императора. И увидел, как поднял престарелый Афанасий руку и благословил христианское знамя полка.
Император вонзил шпоры в бока своего коня, который взвился на дыбы и пронесся сквозь ряды всадников. Собственноручно вырвал Юлиан знамя из рук воина, бросил его на землю и сорвал с плеча знаменосца знаки отличия.
– Ты разжалован! – закричал император, теряя власть над собой. – Рядовым ты проделаешь весь поход и будешь свидетелем, как воздвигнем мы алтари Зевсу в столице персов. А если тебя, собака, не убьют на войне, то, клянусь Зевсом, Солнцем, неведомым Богом, по возвращении ты умрешь на глазах архиепископа смертью твоего галилеянина! Любопытно будет все-таки узнать: кто из нас двоих сильнее на этой земле? Он – сын галилейского плотника, или я – римский император, повелитель мира? Марш!
Без знамен двинулся полк дальше. Образцовая дисциплина одержала верх, и Юлиан презрительно засмеялся, когда увидел, как эти христианские солдаты, даже не моргнув, перенесли тяжкое оскорбление.
Потом он повернул коня и постарался загладить свой поступок шутливыми словами и воинственными восклицаниями. Всадники оставались неподвижны. Но отряды, следовавшие за ними, вновь радостно приветствовали императора, а когда уже около одиннадцати часов наступила очередь артиллерии, и, под изумленное волнение зрителей на площади загрохотали влекомые бесчисленными быками чудовищные осадные сооружения, – финал парада принял поистине величественные размеры.
Население стало спасаться от палящего солнечного зноя в дома. Император, однако, казался неутомимым. Отклонив приглашение пообедать во дворце, он приказал купить для него у ближайшей торговки хлеба и несколько фиников и позавтракал этим прямо сидя на лошади, в то время как мимо него бесконечными рядами тянулись телеги, нагруженные вещами офицеров.
– Сегодня вечером нам предстоит отплыть, но я не хотел бы делать этого, не осмотрев городских достопримечательностей. Прошу вас, господа, присоединиться. Первым и самым важным для меня делом будет познакомиться поближе с издревле знаменитой Академией и библиотекой, вероятно, там настоящий рассадник всяких христианских мерзостей? Мы основательно расчистим его. Кто будет нашим проводником? – обратился Юлиан к стоявшей рядом знати.
Вперед выступил президент Академии и слабым голосом попросил оказать ему милость в счастливейший день его жизни…
– Знаю, знаю! Вы один из придворных льстецов. При моем всехристианнейшем кузене-убийце вы стали профессором за свадебное стихотворение, а затем, должно быть, в награду за достижение семидесятилетнего возраста – президентом Академии. Ну ладно, идем!
Император ловко соскочил с лошади, и свита пришла в движение. Около него, отставая на один шаг, с головой, замершей в одном непрерывном поклоне, шел президент Академии. Далее следовала военная свита императора и внушительное число ученых и жрецов. Несколько купцов протиснулись сюда же и сумели заставить императора заговорить с ними на пути к библиотеке.
Юлиан параллельно спрашивал президента о количестве книг. Когда старик замешкался с ответом, стоявший в трех шагах бумажный фабрикант Иосиф крикнул: «Почему бы императору не спросить меня? Я великолепно знаю, что в астрономическом отделе 35.760 свитков».
Старые советники и офицеры, служившие еще при Константине, испугались этого нового нарушения придворного этикета, но император ласково подозвал к себе смельчака и с дальнейшими вопросами обращался к нему. Иосиф знал все. Зал Гомера насчитывал 13.578 исключительно свитков, греческая философия – 75.355…
Внезапно император остановился в раздумьи и сказал: «Послушайте, милый Иосиф, я сделаю вас придворным поставщиком, при условии, если удостоверюсь, что ваши данные правильны. Я сравню последнюю цифру с каталогом».
– Боже милостивый! – воскликнул Иосиф, дрожа, но по-прежнему смело. – Ваше величество разрешит мне всеподданнейше доложить, что этого никогда еще не делал ни один император. Я сознаюсь, что придумывал десятки и единицы – ведь ваше величество желали знать все с точностью до одной книги. Цари всегда хотят этого! Но тысячи везде правильны. И я позволю себе сказать вашему величеству: разве для государя недостаточно, если верны тысячи?
Император искренне рассмеялся и обещал запомнить этот урок.
Миновав какой-то безымянный переулок, они достигли улицы гончаров и приблизились к главному входу Академии. Мощная колоннада, на ступенях которой расположились сотни служащих, вела к нему. По обе стороны колоннады стояли статуи греческих философов и поэтов.
Свита прошла в здание и, переходя из залы в залу, то тот, то другой профессор поочередно давали необходимые пояснения.
Как специалист-библиотекарь, только для этого приехавший в Александрию, ходил Юлиан повсюду; то доставал редкий экземпляр, то карабкался по удобной лесенке под самый потолок, чтобы убедиться в справедливости какой-нибудь справки, или усаживался с роскошным свитком Гомера за один из маленьких столиков, чтобы прочитать несколько строчек.
Если греческие поэты задержали императора на целый час, то с философами он просто не мог расстаться. С Платоновским диалогом о государстве в руке, он завязал оживленную беседу о воспитании и продолжал ее, уже вступив в математический отдел.
Здесь он откровенно сознался в своем невежестве и разрешил профессорам различных отделов кратко изложить современное состояние своих дисциплин. Свита совершенно измучилась, и престарелый президент уже дважды осмеливался приглашать императора к небольшой закуске, приготовленной в великолепной приемной. Император не желал ничего слышать. «Кто хочет ему служить, тот должен уметь жить так же скромно, как и он сам», – считал Юлиан.
С Теоном, знаменитым профессором механики, император начал разговор относительно конструкции новой осадной машины. Юлиан выказал необычайные познания в баллистике и натолкнул ученого на мысль, как удвоить метательную способность старой машины. Казалось что профессору Теону, исполнившему для императорской артиллерии уже много научных и практических работ, сегодня было как-то не по себе. Император заметил это
– Что случилось, милый Теон? Я знаю вас, как одного из вернейших сторонников нашей старой религии. Я рассчитывал на вас. Вы знаете, что значит для меня этот поход. Я должен победоносно закончить эту персидскую войну, чтобы затем в долгом мирном царствовании искоренить внутреннего врага, – это новое галилейское безбожие, поднимающее свою голову против нашей старой религии, против богов и престола. Вы знаете, что я хочу уничтожить эту сволочь, проповедующее всеобщее равенство, братство и не знаю, что еще, и считающую своего галилеянина новым философом. Разве вы не собираетесь помочь мне в этом?
Теон, видный мужчина немного старше сорока лет, склонился, как бы желая поцеловать руку императора, и тихо сказал, со слезами на глазах:
– Простите, ваше величество, я никогда не перейду к христианам. У богов нет слуги вернее меня. Но сегодня ночью – сорок дней тому назад моя молодая жена подарила мне ребенка – сегодня ночью она умерла, оставив меня одного с младенцем… Сегодня ночью!.. Мы с ребенком теперь одиноки.
Император сердечно пожал руку профессору.
– Простите меня! Оставайтесь рядом со мной!
И в нервной поспешности, не оглядываясь и не отдыхая, император заторопился в следующую залу.
Было около семи часов вечера, когда Юлиан вступил в новое здание, первый отдел которого заключал в себе бесчисленное количество экземпляров иудейской Библии на еврейском языке, семьдесят ее трактовок, а также бесконечное число комментариев и вспомогательных сочинений. Уже несколько часов подряд ожидали здесь раввины и христианские священники возможности предоставить свои познания в распоряжение императора. С иронией расспрашивал император иудеев о происхождении их священных книг и прочел главу из Семикнижия. В виде доброго предзнаменования главный раввин предложил ему место из истории завоевания Ханаана.
– Ваши Моисей и Иисус были слишком хорошими солдатами, чтобы сделаться сносными философами. Они дали слишком много законов. Но я всегда чувствовал уважение к древности этих книг. Я вспомню о вас в Азии, если найду что-нибудь по-еврейски. Я прикажу все переписать… на свиной коже.
Дважды пытался архиепископ в заранее приготовленной речи изложить значение еврейской Библии для новой христианской религии, и лишь на третий раз ему удалось заговорить.
– Иисус Христос отменил обрядовые законы, справедливо кажущиеся его величеству лишенными смысла, и если его величество соизволит прийти в следующий зал, то он найдет там прекраснейшее собрание замечательных трудов христианских философов.
– Прошу вас, господа, не беспокойтесь! – воскликнул император насмешливо. – Отправляйтесь к вашим христианским философам и поститесь там, если желаете, как ваши новые благодетели человечества – монахи! При мысли, что христианские философы могут стать моей духовной пищей, я внезапно почувствовал такой голод, что принимаю приглашение господина президента для себя и для всех честных граждан. Решите сами, господин архиепископ, что вам предпочесть – стакан вина или главу из Оригена. Этот святой учитель должен был быть особенно аскетичным! – Император взял Теона под руку, и, посмеиваясь над Оригеном, последовал за президентом в большой парадный зал, где стояло три грандиозных обеденных стола и куда императорская свита ринулась, забыв о всяком порядке. Император с преднамеренной скромностью взял лишь немного хлеба и стакан вина, тогда как офицеры и профессора принялись за щедрые угощения смелее, чем это позволяли придворные обычаи. Даже пришедшие сюда против своей воли христианские священники забыли за едой свои обиды и заботы. Только евреи не прикасались к еде.
Юлиан снова заговорил с Теоном об улучшении конструкции осадных машин. Похоронив и оплакав свою жену, он должен будет наладить связь с начальниками артиллерии и попробовать осуществить задуманное сооружение. Выпив стакан арабского вина, Теон охотнее, чем раньше, собрался поправить некоторые вычисления императора, как вдруг внимание последнего привлек громкий шум на улице. Император мгновенно откинул портьеры и вышел на балкон, чтобы самому посмотреть, что случилось.
– Все-то он должен увидеть лично, – прошептал Иосиф соседу.
Внизу на улице гончаров собралась тысячная толпа образовавшая, казалось, две партии, ожесточенно спорившие друг с другом. Никто не заметил появления императора. Он послал вниз узнать, что случилось, но раньше, чем возвратились посланные, профессор Теон вышел на балкон и бросился к ногам императора.
– Спасите моего ребенка, государь! Они хотят крестить его!
Император возвратился в зал. Жилы на его лбу вздулись. Офицеры столпились вокруг него. Такие его видели, когда в битве под Страсбургом измена императора Констация чуть было не привела его к гибели, и только личная храбрость Юлиана препятствовала победе швабов.
Император потребовал объяснений; насколько можно было понять, союз христианских подмастерьев решил воспользоваться суматохой в Академии, чтобы против воли отца, окрестить дочь профессора Теона. Кормилицу-христианку подкупили, и план мог бы удастся, если бы этого не заметил какой-то еврей из числа слуг библиотеки, закричавший о помощи. Собравшаяся теперь на улице толпа состояла, с одной стороны, из молодежи союза подмастерьев, находившейся в безусловном подчинении архиепископу, а с другой – из греков и евреев. Кормилицу с ребенком оттеснили к зданию Академии, а затем провели в парадный зал к императору.
– Государь! – воскликнул Теон. – Еще прежде, чем ребенок родился, они надоедали моей жене просьбами посвятить его новой вере. Потом они не давали покоя больной и непрерывными угрозами, без сомнения, убили ее. Теперь им вздумалось окрестить бедняжку и назвать Марией, чтобы на старости лет у меня в доме вместо любимого ребенка был враг – христианка!
Император подозвал кормилицу и взял у нее ребенка из рук. Дитя тихо спало на своей подушечке и только слегка, шевельнуло хорошенькой головкой, когда император, склонившись, коснулся белого лобика своей жесткой бородой. Мертвая тишина воцарилась в зале.
– Нас обоих им не взять, бедное создание, – прошептал император, – ни меня, ни тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Юлиан.
– Эй, господа! – крикнул он вдруг так громко, что ребенок проснулся и раскрыл удивленно черные глазки. – Эй, господа, у меня сейчас есть дела поважнее расправы над изменниками! Но я говорю вам, что персидская война будете только началом той, которую я замыслю против внутреннего врага моего государства. Этого ребенка я беру под свое покровительство. Все громы преисподней и все молнии небес поразят дерзкую руку, которая осмелится сделать знак креста над ним. Марией хотели они окрестить тебя, бедное творенье, и убить в тебе душу живую, как стремятся они уничтожить душу мира. Радость жизни хотят они уничтожить, как на долгие годы лишили они Грецию всякого счастья. Проклятье, господин архиепископ! Бойтесь моего возвращения. Пускай же этот ребенок не носит никакого кроткого христианского имени. Я посвящаю ее первому Богу на небе Зевсу Ипату, высочайшему Зевсу, и называю ее Ипатией.
Обеими руками поднял император ребенка так, как греческие жрецы в священных мистериях совершали жертвоприношение невидимому Богу. Мир и покой отобразились на его лице.
– Вы, святые древние боги! Если вы еще живы, если вы меня любите и не хотите допустить галилеянина в ваши небесные жилища, сохраните мне этого ребенка! Никогда не будет у меня жены и детей. Служащий вам должен отказаться от личного счастья. Я беру этого ребенка, как своего. И если вы, святые боги, хотите сберечь красоту, правду и радость Греции вопреки галилеянину и его попам, сохраните мне этого младенца и ведите меня к победам во имя моей страны!

Тихий плач малютки нарушил тяжелое молчание, последовавшее за словами императора. Юлиан передал ребенка отцу и решительно подошел к архиепископу.
– До свиданья, господин архиепископ, – сказал он, сжав угрожающе кулак, – до свиданья, до победы. Сначала персы, потом галилеянин! Мне еще только тридцать лет, и если в моем распоряжении будет хотя бы десять – мир навсегда запомнит это! Пора, господа, мы отплываем.
И, не теряя времени и слов, Юлиан быстро сошел с лестницы. Офицеры последовали за ним. Внизу стоял на страже отряд морских солдат. Под их охраной император со свитой достиг гавани, где бесчисленные толпы народа встретили его приветственными криками. Греки, иудеи и все оставшиеся преданными старой вере египтяне знали о его походе против духовенства и устроили ему восторженную встречу. Одушевление и счастье светились в глазах императора. Остановившись перед маленьким мостиком, ведущим на адмиральский корабль, он выпрямился во весь свой рост и звонким повелительным голосом крикнул так, как будто весь город мог его услышать:
– Вы видите, как красное, раскаленное солнце опускается в море? Вы думаете – оно мертво и старые боги умерли? Но завтра утром, когда наши верные корабли понесут нас навстречу войне и победе, как с начала времени поднимется оно в блеске первого дня и будет светить нам как и каждому созданию! Знайте же, наш высочайший Бог наш Зевс, или Бог иудеев или ваш Бог-Серапис – это Солнце которое сейчас уходит на отдых, но завтра воскреснет и никогда не умрет. Бог мой, Бог мой, благослови меня на прощанье, благослови мое дело и дай победить ночь галилеян! – Еще одним широким жестом, подобно жрецу, благословил Юлиан покидаемый им город и кровавое заходящее солнце, вскочил на свой корабль; якоря были подняты под тысячеголосые крики и, медленно отчалив от берега и величественно пролагая себе путь среди других кораблей, с распущенными парусами, казавшимися красными в лучах заката, корабль отплыл из гавани.
Птица-философ покинула крышу Академии и плавными кругами последовала за своим императором. Долго парила она над мачтами, а затем, резко ударив крыльями, вернулась назад и встала, поджав под себя ногу, на одной из балок Академии, где давно уже снова спала крестница императора. Марабу царапал себе голову левой лапой, стучал клювом и озабоченно закрывал глаза.
– Солнце! Солнце! О мой победоносный император! Оно не ласково, оно сурово, как боги! Конечно, оно дает нам жизнь, но оно нас не любит. Оно любит пустыни, а не жизнь. Оно – Молох – убийца – опустошитель. Оно создает камни, камни вместо хлеба!.. Бедный император, бедный ребенок!
Долго еще бодрствовала птица-философ на каменной балке над кроваткой Ипатии, хотя Александрия уже давно погрузилась в сон, и, кроме древнего марабу, бодрствовал только архиепископ со своим секретарем, писавший письма в Рим, Константинополь и Персию ко всем врагам императора Юлиана.
Глава I
Юность Ипатии
Под присмотром верной кормилицы, честной смуглой феллашки, достигла Ипатия первой годовщины со дня своего рождения, и в этот день собралось в доме Теона много его коллег и чиновников из города с красивыми и дорогими подарками. За прелестной крестницей императора, серьезно и безмятежно лежавшей в своей колыбели, ухаживали как за принцессой. Все греческие колдуны, египетские жрецы и европейские кабалисты предсказывали малютке самую блестящую будущность. Среди поздравлявших не было ни одного, кто не верил бы в чары своей религии или в могущество императора Юлиана. Таким образом, маленькая Ипатия получила сотню непонятных подарков, среди которых было много таинственных средств от болезней, а также амулетов, в которых такой счастливый ребенок не должен был никогда нуждаться. Цветы священного лотоса, которые крылатый философ после долгого полета собрал для нее в сокровеннейших садах Аммонова храма, чтобы с восходом солнца разбросать перед колыбелью, были растоптаны беззаботными посетителями.
Во время своего продолжительного путешествия за священными цветами узнал печальный марабу плохие новости от других далеко летающих птиц – орлов и коршунов. Однако он молчал, так как ему бы все равно никто не поверил. Дни и ночи напролет сидел он озабоченный, не обращая внимания на самых лакомых рыб. Через шесть недель ужасная новость достигла Александрии, новость столь невероятная и страшная, что городские партии не решались что-либо говорить или предпринимать. Император Юлиан умер!
Спустя месяц сомнений уже не оставалось. В раскаленных пустынях по ту сторону Тигра римское войско таяло в борьбе с враждебной природой. Юлиан был, может быть, хорошим солдатом, но не великим полководцем. Должно быть, персы получали информацию из самой императорской свиты. Ничто не удавалось, нигде враг не останавливался для битвы, персидская армия и весь персидский народ со своим скотом и запасами продовольствия уходили дальше вглубь страны, оставляя императорское войско наедине с пустыней: если римляне занимали город, то последний через несколько часов со всех сторон охватывало пламя.
Вскоре наступил ужасный день, когда цезарь, вступивший со своим арьергардом в узкое ущелье, был внезапно атакован многочисленными отрядами неприятеля. Юлиан как бешеный бросился навстречу врагу и откуда-то сбоку получил смертельный удар. В предсмертный час при нем оставался ученый Либаний, и его записки сохранили мир последние слова римского императора. Юлиан хотел рукой остановить хлынувшую кровь, но скоро он отбросил ее к небу, как бы принося самого себя в жертву гневу нового Бога. Затем он откинулся назад, смертельная бледность покрыла его лицо, и прошептал: «Теперь ты победил, галилеянин!».
К своему письму Либаний прибавил проклятия в адрес убийц своего повелителя.
На трон вступил новый император, а скоро его сменил другой. В Александрии их знали только по именам и все еще хотели угадать имена убийц императора Юлиана. Говорили, что персидский царь обещал огромное богатство тому из своих солдат, кто поразил римского императора. Но ни один перс не заявил о своем праве на награду. Рассказывали, что там, откуда получил император роковой удар, не было персов. Два дня не осмеливался александрийский архиепископ покидать свой дом, так как чернь угрожала побить его камнями и открыто объявляла убийцей императора. Но вот из Константинополя пришел корабль с золотом для александрийских церквей и новыми манифестами, называвшими императора Юлиана отлученным и богоотступником. Тогда архиепископ открыто выступил перед всем народом в своем соборе и отслужил обедню; александрийская чернь собиралась на улицах и насмехалась над бедными солдатами, возвратившимися из несчастливого похода больными, ранеными и искалеченными.
Один из возвратившихся солдат, разжалованный знаменосец какого-то Дунайского кавалерийского полка, долго исповедовался в частной приемной архиепископа Афанасия. Никто не знал ни его, ни величественную белокурую женщину, бывшую рядом с ним, однако его называли убийцей императора и не желали терпеть в городе. Но солдат, горделиво откинув черные косы и упрямо гладя заплетенную бороду, молился во всех церквях и подыскивал жилье для жены, добытой где-то в Германии. Наконец, он нашел его в доме, покинутом людьми, но населенном привидениями, в доме похожем на замок, стоявшем за городской стеной между египетскими парками и кладбищем, между храмом Сераписа и городом мертвых.
Маленькой Ипатии казалось одинаково забавным и то, что выстукивал марабу под ее окном, и то, что снова и снова печально повторял отец у ее колыбели. «Ты победил, галилеянин!». Она улыбалась, когда отец стоял рядом с ней, и смеялась, когда птица-философ безбоязненно влезала в ее окно.
Пусто стало в Академии со дня смерти императора. Не сколько месяцев трепетали профессора перед надменностью архиепископа Афанасия, но из Константинополя пришел приказ ничего не менять в существующем порядке, предоставив учителей-язычников медленному вымиранию.
Уныло и пусто стало в залах и дворах знаменитой школы. Снаружи заново воздвигнутый и раззолоченный крест собора возвышался над крышей обсерватории.
Как раз под обсерваторией находилось маленькое служебное помещение профессора Теона. Его соседом был математик. Теон жил и работал в своей рабочей комнате; спальню он отдал ребенку и его кормилице.
Еще одно юное существо проживало в нескольких шагах от маленькой Ипатии. Исидор, неуклюжий, смуглый, черноволосый и длиннорукий семилетний уродец, получил разрешение спать и учиться, жить и умирать в передней математика. Никто не знал точно, чей был этот робкий и в то же время беззаботный мальчик. Слуги Академии рассказывали о нем невероятные истории. Его отцом являлся якобы обреченный на безбрачие египетский жрец, матерью – монахиня, родственница архиепископского секретаря, Египетская и сирийская кровь – неплохая смесь! Ребенка выбросили из архиепископского дворца и, когда он умирал с голоду, какая-то добросердечная служанка отнесла его в Академию. Служители анатомического отдела утверждали, что Исидор уже мертв, однако мальчика удалось вернуть к жизни. В малом городке, которым являлась Академия, между далекими от жизни профессорами и богато оплачиваемой толпой слуг нашлось достаточно места для сироты. Как сорная трава прорастает между камнями в углах двориков, так рос мальчик, которого и били, и кормили как полудикую собаку. И если никто не знал, кто опекал Исидора, одевал и кормил, то и сам мальчик мало интересовался этим. В полдень он съедал что попало, присев на ближайший порог; носил обрывки платья, пока они не превращались в лохмотья, а его познанья – да, с его познаниями дело обстояло не просто!
Когда Исидору было около пяти лет, по всей Академии распространился слух о появлении чуда природы. Два профессора, Теон и математик, увидели, как Исидор воспользовался посыпанной песком дорожкой к колодцу третьего двора, чтобы довольно правильно вычертить схему трудно вычисляемого лунного затмения. В результате общего удивления и расспросов выяснилось, что мальчуган то через открытое окно, то спрятавшись в самой аудитории, слушал все лекции по математике и астрономии и среди студентов давно уже слыл забавным колодезем всяких премудростей. Дальнейшие расспросы показали, что Исидор знал наизусть все формулы и длинные ряды чисел и чувствовал их внутреннюю зависимость, однако, ничего в них не понимая.
По желанию старого математика, Исидора устроили в детскую школу. Там, за четыре месяца он буквально проглотил то, с чем другие ученики справлялись за несколько лет. С того времени он получил разрешение спать в передней математика, и даже в Константинополь до императора дошла весть о чудесном ребенке. Вскоре одна из принцесс дала в отношении последнего несколько указаний: он должен был получить в подарок хорошие христианские книги и стать защитником новой религии. Далее того, конечно, указания не распространялись.
Таков был сосед прекрасного языческого ребенка, но он не интересовался Ипатией ни с хорошей, ни с плохой стороны.
Несмотря на близость отца, девочка росла в довольно безграмотном обществе. Ее кормилица вела небольшое хозяйство и была для ребенка единственной воспитательницей. Добрый марабу прилетал проводить все свое свободное время около Ипатии, но в его природе было больше склонности к созерцанию, чем к поучениям, да к тому же девочка не понимала щелканья его клюва, так как не получила должного «образования». Отец любил свою дочь больше всего на свете, но почти не видел ее, если не считать тех нескольких утренних минут, когда он выдавал феллашке изрядную сумму на хозяйство и удивлялся, что кормилица всегда жалуется на недобросовестность рыночных торговок.
Такой способ вести хозяйство не вредил маленькой Ипатии. Феллашка всегда была в состоянии закармливать красавицу всяческими лакомствами, одевать ее в платьица из наилучших тканей, а также время от времени предохранять от болезней амулетами жрецов или старух.
Ипатия росла, а ее ученого отца ни разу не коснулась забота о ней. Девочке шел седьмой год, когда в ее жизни произошла первая перемена. В одну теплую и светлую майскую ночь профессор Теон проверял в обсерватории точность новоизобретенного измерительного прибора. Ему вновь удалось отыскать еще одну ошибку Птоломея в расчете движения какой-то планеты. Перед восходом солнца вернулся он в свое жилище и был поражен, найдя там в облаках курительного дыма старых ведьм и жрецов.
Оказалось, что около полуночи Ипатия опасно заболела, и старая феллашка не могла придумать ничего лучшего для ее спасения.
Теон подошел к кроватке дочери, лежавшей в лихорадке с горящими щечками и черными глазами, устремленными кверху. Отца она не узнала. Несколько мгновений стоял Теон, беспомощный от изумления и горя, затем он бросился к одному из своих коллег с медицинского факультета не столько за помощью, сколько для того, чтобы пожаловаться на судьбу. Математики считали медицину знанием не проверенным и не надежным. Однако врач, хорошо знавший прекрасного ребенка академических двориков, сейчас же последовал за Теоном в его комнаты. В результате чего колдунов немедленно прогнали, а кормилица со слезами на глазах обещала следовать всем указаниям врача.
После пяти тяжелых дней и ночей ребенок был спасен. Но Теон, беспомощно и чуждо просидевший все время около постельки больной, узнал, к своему огорчению, в каком плачевном состоянии находилась духовная жизнь девочки. Конечно, она не умела ни читать, ни писать. И даже по-гречески не говорила правильно, она – дочь греческого ученого и крестница императора. С кормилицей и со сверстницами она болтала на египетском разговорном языке, а для утренних приветствий отца хватало нескольких дюжин греческих слов. Вместо стихов Гомера она знала наизусть десяток египетских поговорок. И ученый профессор должен был говорить на отвратительном народном наречии, чтобы быть понятым своим больным ребенком.
Пока Ипатия медленно выздоравливала, Теон советовался с врачом, со своим соседом математиком и с другими коллегами, как изменить свою жизнь, чтобы заняться разумным воспитанием дочери. Нужно было найти надежную и образованную женщину, а также подыскать для ребенка подходящего учителя. Однако, когда врач по прошествии нескольких недель объявил, что Ипатия совершенно здорова, и избавил ее от своего надзора, Теон облегченно вздохнул и взял в руки новый прибор, чтобы довести до конца вычисления, начатые в теплую майскую ночь.
Еще незадолго до болезни Ипатии неутомимо прилежный Исидор совершенно не интересовался своей соседкой. Его занятиям не нужно было сотоварищей, а девочек он слишком презирал, чтобы замечать их. Невежественным ребенок был к тому же на шесть лет моложе чудесного мальчика Академии. Но однажды в маленьком долговязом ученом произошла серьезная перемена…
С тех пор как он обратил на себя внимание, из жадного к знаниям юнца вырос ненасытный книжник. Профессора беседовали с ним, старшие студенты позволяли ему помогать им в их работах; от всего этого так же, как из беспорядочного посещения лекций, росла его гордость. Только в залах библиотеки, среди неистощимых книжных сокровищ надеялся он научиться чему-нибудь новому.
Его непосредственным руководителем должен был быть один старый чернец, готовивший в монахи около тридцати юношей. Но то, что нужно было учить, Исидор знал лучше своего учителя, так что и мальчик, и монах были рады не встречаться друг с другом. Без учителя и друга отправился дивный отрок по своему собственному пути. Он поставил своей задачей прочитать все двести тысяч томов библиотеки. Внезапно к жажде знания присоединилось тщеславие. С наиболее редкими книгами, с невероятными фолиантами рассаживался он в большом зале, точно выгоняя оттуда и студентов, и профессоров. Юношу показывали приезжим иностранцам, осматривавшим библиотеку. Строго одетый, как старый студент, порывистый, как цирковой наездник, достиг Исидор тринадцати лет в тот самый теплый месяц май, когда заболела Ипатия.
В это время молодой ученый начал о многом задумываться. Он почувствовал, что бесчисленные изученные им вещи противоречат друг другу. Выходило, что не все авторитеты должны быть одинаково достоверны! Все учителя Академии давали ему уроки, но ни один, однако, не говорил о тех загадках, которые теперь начали вставать перед ним. Юноша мечтал о хорошем учителе, тосковал о друге. Ему хотелось отдаться в руки столетнего жреца и безмолвно следовать за ним.
Именно в таком-то душевном состоянии находился Исидор, когда однажды, в начале мая, перед заходом солнца сидел он, читая, в зале второго двора. Недалеко от него играли маленькие девочки сначала в цветы, потом в прятки. Ему никогда никто не мешал. Внезапно одна девочка, как вихрь, кинулась к нему и притаилась, плутовски улыбаясь, за его громадным фолиантом.
– Не кричать, – сказала она.
В первый момент Исидор хотел оттолкнуть ребенка, затем, с сознанием собственного достоинства, решил отыскать более тихое местечко со своим фолиантом; наконец, он снизошел, как это пристало его возрасту, посмотреть на детскую игру. Но и этого он не смог. Почему показалась ему откровением маленькая, разгоряченная беготней и тяжело дышащая Ипатия, так доверчиво и в то же время боязливо смотревшая на него? Разве на свете бывают такие глаза? Обыкновенные глаза – это маленькие красные отверстия, через которые человеческий дух может видеть буквы. А эти глаза…
Исидор не мог постигнуть, почему из его собственных заблестевших и покрасневших глаз потекли слезы. Чтобы совладать с собой, он положил дрожащую руку на локоны девочки и сказал приветливо:
– Ты маленькая Ипатия?
– Да, принцесса. Они говорят это, чтобы подразнить меня, но я на самом деле крестница императора, а когда я вырасту, мне дадут белое платье с золотом.
Детей скоро позвали домой. Стало темно, а Исидор еще долго сидел в зале. Громадная книга лежала на земле, а он мечтал. Еще ни разу, с тех пор как он себя помнил, он так не мечтал. Никогда ранее не думал он часами ни о чем, кроме учителей и писателей, задач и их решений. Сегодня с ним случилось нечто новое, что казалось фантазией и заставляло его думать о человеке, да, кроме того, о ребенке с удивительными черными глазами, о крестнице императора, об очаровательной принцессе. Может быть, Юлиан не умер, может быть, он тот человек, который, возвратясь, сможет разрешить все сомнения и соединить философию и веру. Может быть император Юлиан возьмет когда-нибудь ученого Исидора за руку и введет его в сияющий храм, где пламенными буквами на золотых досках записаны тайны вселенной, может быть, император даст Ипатию в жены ученому Исидору и сделает его цезарем и императором.
Исидор провел ночь в страшном волнении и выглядел безобразнее обыкновенного, когда с восходом солнца вновь вошел в зал, ожидая Ипатию. Сегодня у него в руках была любовная греческая трагедия Эврипида; он стал читать ее и испугался, так как он не замечал ни грамматических форм, ни особенностей слога, а упивался сладким языком и прекрасным содержанием стихов.
У Исидора не было никого, с кем он мог бы поговорить о своих новых муках; с принцессой был по-прежнему холоден, и только пугал ее своими злыми глазами, когда она проходила рядом. Теперь он мог подолгу следить за ее играми, а по ночам бродил под ее окнами, завидуя нахальному марабу, устроившему гнездо под ее комнаткой; целую ночь стояла птица, поджав одну ногу, словно на часах, а когда восходило солнце, и Исидор уходил к себе, марабу насмешливо щелкал клювом.
Ни учителя, ни ученики не подозревали, что происходило в душе Исидора, когда вскоре после этого Ипатия заболела. Он не смыкал глаз, в одном из погребов Академии совершал он мрачные заклинания, чтобы сохранить жизнь ребенка, тайком платил в церквях за молитвы египетским богам о здравии больной принцессы, и дал обет не принимать пищи, пока Ипатия не будет спасена.
Когда, наконец, крестница Юлиана, с прозрачной бледностью на щечках, с еще шире раскрывшимися прекрасными глазами вновь появилась во дворе, высокая, стройная, как настоящая принцесса, и, не то от усталости, не то вследствие каких-то перемен, не захотела больше играть со своими сверстниками, Исидор решил предложить себя в учителя ребенку. Неловко улыбаясь, явился он к Теону и рассудительно объяснил ему, что он слишком велик, чтобы быть учеником, но слишком молод для профессора, и ему полезно бы было попрактиковаться для начала. Исидор побледнел еще более обыкновенного, когда его предложение было принято без всякого возражения, и Ипатия явилась на зов отца.
– Гипатидион! – сказал профессор с ласковой рассеянностью. – Ты уже в таком возрасте, когда девочки должны поступать в школу. Хотела бы ты научиться читать и писать?
– Нет!

– Почему нет, Гипатидион?
– Девочки, умеющие читать и писать, так же глупы, как я, и к тому же спесивы!
– Гипатидион, что за возражения!
– Ну да, они такие. И вообще я не хочу ходить в школу, там так безобразно.
– Ипатия, – сказал Исидор, и его голос задрожал, – хотела бы ты учиться у меня, в твоей комнате или в саду?
– У тебя? Учиться? Конечно, хочу. Ты не похож на учителя.
С этого дня Исидор стал учителем маленькой Ипатии. Никто не интересовался ею, даже собственный отец. Один Исидор знал, что в Академии росло новое чудо. Но Ипатия была не похожа на него. Ему было тринадцать лет, но он ни разу еще не произнес «почему». Он измерял в мыслях подземные и небесные пространства, знал всех поэтов и богов, изучил книги критиков и атеистов; одного за другим отбросил и поэтов, и богов, и критиков, и атеистов. И ни разу не сказал «почему»? А эта маленькая чудесная девочка, с ужасно черными глазами, спросила: «Почему?» в первую же минуту первого урока, когда Исидор, нарисовав на доске букву, сказал: «Она означает «А».
Скоро все привыкли ежедневно в хорошую погоду видеть Исидора со своей маленькой ученицей в лавровом саду первого дворика. Только для учителя и его маленькой ученицы их жизнь не казалась однообразной. Исидор не знал, как учат детей. Он не учился этому и не видел, как это делают профессора. Да если бы он и знал это, крестница императора все равно повернула бы по-своему. Она хотела знать все и ничего отдельно от остального. Только через два года научилась она бегло читать и писать, но к этому времени уже целый мир был в ее маленькой головке. Она не соглашалась написать ни одной буквы, не узнав смысла ее знака и наиболее красивой ее формы и истории. Исидор должен был мучиться, как молодой профессор, чтобы научить девочку азбуке так, как она сама этого хотела. Ипатия хотела знать то, над чем никто не задумывался, а Исидор согласился бы скорее откусить себе язык, чем хоть раз ответить ей: «Этого я не знаю», В книгах египетских жрецов узнавал он все, чего ему еще не хватало, чтобы удовлетворить интерес ребенка. Вооруженный новыми знаниями, вступал он в садик или в комнатку и, как сверстник, выкладывал все, что приносил с собой. Ему приходилось рисовать иероглифы, из которых возникли греческие буквы, и латинскую форму, принятую римлянами. Это была дивная игра: один за другим рисовать, читать и писать три знака, а затем идти в город мертвых, собирать там цветы и разбирать надписи на гробницах, болтая о божественных бессмыслицах, в которые верили египтяне, или бежать к двум великим обелискам, стоящим за помещением портовой полиции, и говорить о древних египетских царях, воздвигших эти каменные изваяния в знак своего господства над миром и все-таки побежденных затем нами – греками. Прекрасно было целый месяц бродить по дельте Нила и удивляться мудрости, с которой составитель египетского алфавита позаботился о том, чтобы со знаком буквы дельты можно было связывать нечто более глубокое. Прекрасно было узнавать чудеса Нила, сказки о его разливах и обмелениях, о богах, посылавших его для оплодотворения страны, о Ниле и его шестнадцати детях, безграмотных, но все же таких хитрых и хранивших такие прекрасные тайны, что Исидор часами мог говорить, а Ипатия часами могла слушать, – оба одинаково неутомимо. Это была школа! В одному углу кушетки сидел Исидор, направив свои болезненные глаза на ребенка, и говорил, говорил все, что узнавал для нее одной, а в другом углу устраивалась маленькая принцесса, и, казалось, старалась впитать в себя все своими огромными глазами, так же, как она впитывала ими солнечный свет. Когда ей хотелось вставить одно из своих вечных «почему?», она вскакивала перед учителем и, потянув платьице на коленях и расставив ручонки, кричала: «Как так?», или «Почему?» или даже «Я этому не верю!». Тогда вскакивал учитель и грозил ее наказать, а она бегала вокруг стола и, хлопая в ладоши, кричала: «Я этому не верю, я этому не верю!». Тогда он брал грифельную дощечку и чертил или писал ей сказанное, и девочка, положив дощечку на ковер и подперев головку руками так, что справа и слева между пальчиками
струились черные кудри, долго, долго рассматривала и читала в безмолвном внимании. Наконец, успокоившись, она встала и говорила только: «Дальше!». Тогда Исидор был счастлив и рассказывал ей в награду прекрасную сказку из Одиссеи, чтобы, наконец, не говорила она своего вечного: «Почему?».
Ни разу, несмотря на все угрозы, не ударил Исидор своей ученицы. Ни разу не осмелился он притронуться к ней. Но дощечки, которые она разбивала, ненужные обломки грифелей собирал он заботливо в своей комнатке и хранил их там, как свое единственное сокровище. Он утаил шелковый бант, потерянный ею как-то из косы, а когда она, устремив глаза на доску, лежала по своей привычке на ковре, то водя маленьким указательным пальцем по линиям, то откидывая затемнявшие доску локоны – он стоял рядом, шепча беззвучные слова и протягивая над ней руку, как будто хотел омыть ее в атмосфере маленькой принцессы. Исидору исполнилось пятнадцать лет, когда на дворе Академии произошла его первая драка. Какой-то христианский мальчишка начал дразнить Ипатию императором Юлианом и вызвал насмешками слезы на ее глазах. Исидор кинулся на него, как дикий зверь, и хотя он был побит и скоро лежал с разбитым носом, никто не решался больше обижать крестницу императора.
Ипатия не смеялась, когда на следующий день он пришел на занятия с распухшим лицом. Они начинали изучать арифметику, и никогда еще Ипатия не хотела так жадно учиться. Простой счет можно было не учить. Этому ребенок выучился мимоходом раньше. Теперь надо было научиться понимать вычисления отца. Сначала она хотела самого трудного. Потому что объяснить ей, почему 2x2 = 4, Исидор все-таки не мог. Но как вычислить высоту облаков и отдаленность звезд, время лунных затмений и звездные знаки, которыми руководствовались корабли в далеком океане, – все это было так прекрасно и так легко; и Ипатия смеялась, узнав, что всем этим занимаются профессора.
Она не ложилась больше на ковер, а он не сидел больше на диване. Чинно садились они по обе стороны маленького столика, и Исидор никогда не грозил ей более.
Два года занималась она с ним математикой и однажды спросила, почему Римскую империю называют миром, тогда как ведь земля в сто раз больше, и живут ли люди на другой стороне земли, и почему думают, что богам лучше всего на земле, а не где-нибудь еще. Тогда Исидор внезапно выбежал из комнаты, чтобы она не заметила его слез. Он знал все, что знали все остальные, но этот спрашивающий ребенок требовал еще большего.
Вернувшись, он сказал, что, несмотря на свою молодость, она научилась всему, что он может ей предложить. Остается только философия, учение о мире, как о целом, и о богах, а этому надо учиться не у него, сомневающегося во многом, а у старых профессоров. При этом Исидор вторично положил свою дрожащую руку на ее головку и сказал:
– Я должен оставить тебя и передать другим учителям.
Смущенный, стоял он перед ней – длинный, неуклюжий юноша, высокий, как мужчина, и неловкий, как мальчик. Ипатия которой почти исполнилось двенадцать лет, сначала замерла перед ним, стройная и бледная, как принцесса, а затем топнула ножкой и сказала вместо ответа:
– Я не хочу другого учителя, ты должен оставаться со мной!
Тогда Исидор упал на колени, так что девочка даже испугалась. Его трясло, как в лихорадке. Он схватил ее правую ножку и поцеловал.
– Что ты делаешь, Исидор? Ты болен?
– Нет, Ипатия, я… это обычай, совершаемый, когда девушка приступает к высшему знанию.
– Глупый обычай!
– Ипатия, обещай мне…
– Что?
– Что ты никогда никого не…
– Я никогда не захочу никакого учителя, кроме тебя. Учи меня философии. Почему учат ее так поздно? Мне скоро двенадцать лет, а я еще не знаю, почему я создана. Ты должен сейчас же объяснить мне это! Почему?
У Ипатии не было честолюбивого намерения прочитать все 200.000 томов библиотеки, но у нее был Исидор, который должен был выбирать из всего, когда-либо написанного, и составлять букет из цветов и плодов. Уроки философии начались с греческих поэтов, потому что мнения, которые высказывали избранные люди о богах, Ипатия должна была узнавать в той же последовательности, в какой они следовали во времени. Сначала шли мифы о богах. Юноша и полуребенок читали Гомера, смеялись над его благочестием и умело находили глупое и невозможное в прекрасных баснях. Когда однажды Ипатия спросила боязливо, почему великий поэт утверждает такую ложь, и почему облекает он ее в такие прекрасные слова, Исидор рассердился и напомнил своей ученице, что они должны изучить философию, а не увлекаться поэтами.
– А почему не увлекаться?
Зиму и весну наполнил мир Гомера; летом они читали греческие драмы Эсхила и Софокла. Когда они приступили к Эврипиду и начали ту трагедию любви, при чтении которой пробудились некогда чувства юноши, он продекламировал маленькой ученице исполненные страсти строчки. Ипатия спросила изумленно:
– Почему ты раскрываешь мне красоту именно здесь и не хотел замечать ее у Гомера?
Молодой учитель ничего не ответил.
Наступившая зима застала обоих над малодоступными философами Древней Греции. С трудом понимались слова и смысл, но с пламенным желанием объяснял учитель, и с неутомимой жаждой слушала ученица. И как раньше, в «Царе Эдипе», затаив дыхание, акт за актом ждали они разрешения ужасной загадки, так ожидали они теперь полного разоблачения всех тайн жизни. Казалось, что девочка страдает физически от напряженного внимания. Все сильнее бледнели ее щечки, все ярче блестели глаза и чаще, с приближением весны, ложилась белая рука на лоб, за которым теснилось столько безответных вопросов, а густые детские локоны все упорнее сражались со щеткой и лентами.
Покинув мрачные пути древних, юные учитель и ученица погрузились в светлый мир Платона. В день рождения Ипатии, забытый всеми, не исключая и ее собственного отца, Исидор рассказал ей прекрасную мечту философа о старом проклятье и благословении богов, которые в бесконечно далекие времена раскололи каждое живое существо на две половинки и послали их в мир, как мужчин и женщин, чтобы, на вечную забаву богов, продолжали они игру в разделяемые и снова друг друга обретающие половинки, чтобы с проклятьями и хвалами искали они и находили, изнемогали и обливались кровью, пока каждая половинка не соединится с другой.
Исидор принес сказку и хотел подарить ее своей ученице в виде хорошенького томика из тончайшей белой кожи с золотыми обрезами и тесненными золотом инициалами Ипатии и некоторыми другими маленькими знаками, которые он объяснит ей позднее. Но она не смогла сполна восхититься ни сказкой, ни книгой. Ибо в тот момент, когда с лихорадочно горящими глазами она слушала историю о половинках, Ипатия схватилась вдруг обеими руками за голову и упала со стула.
Это событие произвело переполох! Прибежала испуганная феллашка, которая всегда говорила – проклятое ученье не доведет до добра; она с таким криком искала ароматических веществ, что Ипатия пришла в себя от этого шума. Даже Теона извлекли из его рабочей комнатки, а Исидор со своим прекрасным списком Платона должен был удалиться.
Но благодаренье неведомым богам! – опасности не было. Через несколько дней Исидор получил от Ипатии письмо, ее первое письмо. Она извинялась за глупый перерыв в занятиях и просила его прийти продолжать начатое. Ее первое письмо вовсе не походило на письмо ребенка. Уверенные строки молодой женщины, подобные изречениям знаменитых женщин-философов Афин, или письмам гордых александрийских красавиц, которые просили у библиотекарей новые романы, Ее первое письмо! Где только достала она такую бумагу, подобной которой не было среди 200.000 томов библиотеки, такую белую и ароматную. Такую бесконечно мягкую, если провести ею по губам!
Исидор снова пришел в жилище Теона и боязливо взглянул на ученицу, с опущенными глазами стоявшую перед ним в новом длинном тяжелом платье. Что случилось с ребенком, теперь уже казавшимся девушкой? Изменилась ее осанка, голос, взгляд – абсолютно. Пропал вспыхивающий в глазах огонь и болезненная бледность губ и что-то вроде улыбки взрослой женщины порхало около глаз и рта. Она подняла глаза и сказала нежно и дружелюбно, но совсем не так, как обычно:
– Прости за перерыв!
Исидор не хотел, вовсе не хотел забываться. Но словно какая-то неведомая сила бросила его к ногам Ипатии, как безжалостное тело. Протянув длинные руки, он хотел поцеловать щиколотку ее правой ноги. Она отступила и спокойно сказала:
– Такого обычая нет. Теперь я это знаю. Я знаю все. Не нужно больше, милый Исидор. Я так благодарна тебе. Но такого обычая нет.
Как смертельно раненный, учитель поднялся с колен, бросился на стул и стал дальше рассказывать все, что узнал.
Но на середине Аристотеля занятия снова прервались. Теон заболел, а Ипатия изнывала от палящего летнего зноя. Профессора медицины посоветовали обоим летний отдых и морские купания на берегу Пентаполиса. И в тот же день крестница императора отправилась с отцом в свое первое путешествие.
Исидор остался один и, как разорившийся купец, бродил по городским улицам Александрии. Вечером, после отъезда Ипатии, он вышел из города и направился на запад, к ливийскому берегу. Исидор шел несколько часов подряд, и перед восходом солнца оказался на краю пустыни. Впереди виднелись христианские монастыри, слышалось завывание шакалов, а в момент самого восхода услышал он не то отдаленный гром, не то рычание голодного льва. Спотыкаясь от голода и дрожа от холодного утреннего ветра, повернул он обратно и стал ожидать вестей. Ипатия обещала писать.
Она сдержала слово, и два долгих месяца провел Исидор в томительном ожидании. Приходимые письма были всего лишь письмами преданной ученицы, где она писала о своих книгах, сомнениях, но в конце всегда было несколько слов о здоровье или о морской прогулке, о погоде или о ветке дерева, заглядывающей в окно. И в самом конце неизменное – «Твоя Ипатия».
Еще раз дошел Исидор до начала пустыни вечером, накануне возвращения Ипатии. В уединенном трактирчике он пересидел ночь и до восхода солнца поспешил на улицу где должна была проезжать его ученица. И он не пропустил этого момента! В открытой дорожной коляске, которую тащили два маленьких вола, сидела она рядом с отцом – высокая, прекрасная, настоящая женщина. Исидор прижался головой к деревянному столбу и зарыдал, бормоча отрывки стихов и ломая себе пальцы. Когда повозка проехала, Исидор позвал маленького черного погонщика, уселся на осла, болтая длинными ногами, схватил его за уши и погнал так неловко, что хозяин с хозяйкой разразились хохотом, чернокожий погонщик, бежавший сзади в облаках уличной пыли, кувыркался и кривлялся, не в силах унять свою веселость. Потом эта смешная процессия понеслась галопом по боковым улицам обратно в город. Мальчишка бежал рядом с ослом и, когда они въехали на главную улицу, он сделал еще два прыжка, продолжая смеяться. Исидор буквально свалился с осла и поспешил в Академию, чтобы встретить свою ученицу.
С севера из-за моря, с Греции, а, быть может, и дальше из необыкновенных ледяных дунайских равнин летела над городом вереница аистов. В то же время с запада медленно и тяжело, несомая ударами серо-белых крыльев, приближалась птица-философ, в широкой улыбке раскрыв клюв, заметив молодого ученого. Внизу остановилась повозка, из нее вышел Теон со своей дочерью. Было счастьем, что утром Исидор уже сумел погасить в себе восторг первого впечатления и мог приветствовать возвратившихся относительно спокойно. Ипатия встретила его приветливо и серьезно, как благовоспитанная молодая дама, и прошла в академические помещения, которые она покидала в первый и – по ее словам – в последний раз. Профессор Теон нерешительно пожал руку Исидору. Пока феллашка забирала багаж и расплачивалась с возницей, Теон следил за всем этим так внимательно, как будто хотел научиться чему-нибудь новому. Затем профессор повел учителя своей дочери в большой зал и некоторое время молча ходил взад и вперед. Должно быть, он разговаривал сам с собой, так как внезапно произнес:
– Итак, я был совершенно поражен: я познакомился чрезвычайно своеобразной девушкой и едва мог поверить, что моя дочь обладает столькими знаниями, гораздо большими, чем обычные женщины, почти как Аспазия; при этом я обнаруживал эти знания всегда случайно, когда она помогала мне в моей летней работе. Очевидно, она знает гораздо больше, чем показала своему отцу. Я был приятнейшим образом поражен, молодой друг. И все исполнится согласно нашему договору.
– Какому, господин профессор?
– Ах да! Я полагаю, что Ипатия еще около года – может быть – до следующей весны – останется вашей ученицей а затем – я даже не представляю, что нужно будет делать дальше с Гипатидион. Но вы, молодой друг, вы достигнете возраста, когда мы сможем включить вас в состав профессоров нашей Академии. Со связями, которые еще с детских лет вы имеете в Константинополе, ваше назначение несомненно и вы сможете тогда – я полагаю… – мне нужно, однако, достать первое издание Птоломея! Целый месяц я ломаю голову, чтобы понять смысл одного глупого места!
Уже на следующее утро Исидор мог продолжать с девушкой занятия философией…
Однажды Ипатия написала, что разрешение мировых загадок слишком долго заставляет себя ждать и, что она начинает не доверять философам. Только что, как совсем глупый ребенок, проиграла она целый час с большой красно-розовой раковиной и совершенно забыла о своих книгах. Исидор попытался доказать, что знание, то есть обогащение духовных сил еще не является всем, что есть нечто высшее, а именно – единение отдельного человека с окружающим миром посредством чувства. Но Ипатия не поняла его и решительно потребовала продолжения занятий по учебному плану. Таким образом, бедному учителю пришлось как и раньше ограничиться сухой философией. А вот общение с домом Теона вскоре приняло иную форму. Теперь в конце урока в комнату часто входила феллашка, просиживала несколько минут в углу с каким-нибудь рукодельем и приглашала учителя к обеду. Исидор был бы еще счастливее от этой домашней близости, если хотя бы раз удалось ему завязать с Ипатией дружеский разговор. Однако она сидела безучастно и, казалось, молча обдумывала только что узнанное, в то время как профессор обсуждал будущие перспективы нового учителя, который очень скоро должен был стать профессором и получить при Академии помещение для занятий. Прислуживавшая феллашка удивлено хлопала глазами, а Исидор краснел и смотрел на Ипатию. Поздно вечером Исидор уходил к себе, опьяненный мечтой и надеждой, а на следующее утро приходил вновь и читал, и объяснял всю философию от Аристотеля до великого Платона. Но разговор не доставлял теперь удовольствия ни учителю, ни ученице. Зависело ли это от бесплодности самого предмета или от беспокойства учителя? Во всяком случае Ипатия чувствовала себя неловко. Она редко спрашивал теперь «почему?», в ее головке философские системы перетирали друг друга, как мельничные жернова, но ей казалось, что мельница стучит, не переставая, а жернова перемалывают воздух, и склады пустуют. Или это птица-философ на крыше не давала ей покоя своим смехом? В течении последних лет она так сдружилась с ней, что уже не знала, она это или птица насмехалась над системами философов. Однажды, во время зимнего солнцестояния, когда христианские дети праздновали на улицах день рождения своего спасителя, а египетские жрецы – словно назло, пели торжественные гимны Изиде, – в Академии был праздник, даже Теон дал себе день отдыха. У Исидора с профессором состоялся долгий разговор. После него отец поцеловал Ипатию в лоб и сказал, что Исидор попросил ее руки, и через год будет свадьба.
Ипатия промолчала, так что с отцом у нее никакого раз говора не вышло. Со своим же женихом она обменялась несколькими словами об их будущем: он не должен ни одним словом обмолвиться с ней о своих чувствах, так как это очень не идет ему, а она с уважением и благодарностью будет его женой; он должен оставаться таким, каков он есть, тогда она будет делать все, что он потребует, и не говорить с ней о жизни, об отвратительной жизни, которую она не желает знать.
Обучение продолжалось. Злая птица была виноват в том, что девушка часто, пока Исидор полубессознательно читал и растолковывал, постоянно думала о собаке на сене. Где же разрешение мировых тайн?
Снова была весна, и Исидор сидел напротив своей невесты и старался объяснить отличительные особенности богов. На столе в глиняной вазе стоял великолепный букет мирт, который Ипатия сама нарвала. На улице аист кружился в быстром весеннем танце, и Исидор замолчал, устав говорить. Воцарилось продолжительное молчание.
Внезапно Ипатия спросила:
– Ты все добросовестно рассказал мне кроме одного. Как думал он о Боге и мире?
– О ком ты говоришь?
– О нем.
– Профессоре?
– Императоре. Прости, пожалуйста, я говорю об императоре Юлиане, о моем крестном отце!
– Мне кажется, мы могли бы покончить с науками, – сказал Исидор, губы которого затряслись, – и начать просто жить.
– Расскажи мне об императоре!
Исидору пришлось поведать ей об императоре Юлиане. Он начал с биографии, рассказав, как Константин Великий, желавший обеспечить христианству победу над миром, перебил одного за другим всех своих родственников, а маленького, превращенного почти в монаха Юлиана сослал в захолустье. Юлиан остался верен старым богам. Затем при поддержке последних уничтожил он врагов государства и, наконец, вопреки всему достиг престола. Исидор рассказал о его добродетели, мужестве и доброте, о великих делах короткого царствования Юлиана и о загадочной смерти в азиатских степях.
– Правда ли, что он благословил меня именем наших старых богов?
– Я сам присутствовал при этом.
– А что думал он о Боге и мире?
До этого часа Исидор уважал в дочери Теона принцессу, крестницу Юлиана. Теперь внезапно его пронизал гнев против императора, что-то вроде ревности или ненависти, и почти насмешливо он старался доказать своей ученице, что император Юлиан так же плохо разрешал мировые загадки, как и все философы его времени.
– Он не верил так же, как верим все мы, что Бог есть вечное, чистое, незапятнанное, то, из чего мы произошли в начале всего и к конечному слиянию с чем должны стремиться. Он приказывает нам овладевать нашими страстями? Убивать наши пороки, пускай даже во вред своему телу. Он заповедал нам насколько возможно совершенствовать дарованное им мышление и посредством умерщвления плоти и размышлений подниматься над земным до тех пор, пока, наконец, в высшем экстазе не увидим мы его самого, единого, живого Бога неба и земли. В экстазе мы сливаемся воедино с ним – с бесконечным. Мы знаем Бога настолько, насколько знаем собственный сон, когда спим. А когда мы просыпаемся, или когда прекращается наш экстаз, в нас остаются только туманные отрывочные образы священной красоты, полное слияние с которой должно стать нашим величайшим блаженством. Ибо нет большего наслаждениям чем слияние с единым. Последние мистерии учат нас, что Бог есть только другое имя любви. И Бог разделился, расстроился, чтобы любить нечто равное себе. Он хотел любить, но видел только себя и создал тогда сына и возлюбил его!
Триединое правит миром и создало землю со всеми людьми, животными и растениями и наполнило мировое пространство бесчисленными воинствами невидимых духов – ангелов и демонов, награждающих нас и карающих, укрепляющих и соблазняющих, и творящих из нас слепые орудия его воли, так как ему принадлежит высшая мысли и высшая сила. Но мы становимся подобны Богу, когда с помощью добрых духов укрощаем наши пороки, умерщвляем в себе земное и при жизни восходим к сияющему великолепию единого Бога, Зевса, солнца, к нашему отцу на земле и на небе.
Еще долго говорил так Исидор, все стараясь схватить руку Ипатии, а его глаза горели страстью. Девушка слушала спокойно, и на глазах ее выступили слезы.
– Так вот во что верил император? И в это верим мы. Но разве это последнее слово? Ведь то же самое говорят гонимые им христиане! Почему же он преследовал их? Почему?
Приближалось лето, начались свадебные приготовления, но преподавание шло своим чередом; Исидору пришлось изучать христианских апологетов
[227], чтобы дать Ипатии последний ответ на ее вечное «почему»? Много лет Исидор оставлял в стороне эти книги. Теперь ему было почти приятно, что несколько месяцев, отделявших его от счастья, он мог заполнить новым изучением. С любопытством переступил он порог библиотеки нового здания, где, кроме экземпляров Нового и Ветхого завета, были собраны все памфлеты и послания александрийских, антиохийских и римских епископов. Это чтение потребовало гораздо больших усилий, чем он думал. Ранее Исидор уже просматривал тайно ходившие по рукам злобные выпады Юлиана, отрывки которых охранялись, несмотря на неистовое преследование духовенства Теперь он знакомился с ответами христиан и удивлялся их нравственной силе, жертвенному мужеству и глубине их веры. Его беседы с невестой не были больше философскими разговорами – это были исповеди сомневающейся души. В самом центре мира эгоизма и материальной борьбы, около ста лет тому назад выступили эти люди, противопоставившие правящим классам крик исстрадавшихся рабов: «Разве мы не такие же люди, как вы, разве мы не братья, разве все мы не дети одного живого Бога?» Первый вождь этих рабов и ремесленников, бедный плотник из Галилеи, был распят римскими властями. Но что-то было там – в новом учении, что-то истинное, и если демагоги, обманщики и лентяи сумели повернуть грандиозное учение в сторону своего личного блага, то все-таки царство будущего будет царством бедняков, нищих материально и духовно.
– Ты говоришь, как христианин! – воскликнула однажды возмущенная Ипатия.
– Гипатидион, – ответил, беспокойно посмотрев на нее, Исидор, – позволь сказать тебе, что нечто ужасное приходит в мир. Старые боги, которых мы понимаем философски и которым все-таки молимся, пожалуй, не существуют больше. Нищие материально и духовно станут нашими господами сегодня или завтра. Они сами не знают этого, так как епископы обманывают их, желая сохранить старую неправду. Ипатия, хочешь узнать тайну? Мир сбился с пути, и новое учение пришло, чтобы указать ему дорогу. Правда, епископы – лжецы, но император Юлиан был почти христианином!
– Ты лжешь! – воскликнула Ипатия. – Мой император был верен богам, как останусь им верна и я, пускай даже ценой собственной жизни, не желаю иметь ничего общего с тем, кто отвергает нашу старую веру!
С большим трудом удалось Исидору успокоить свою невесту, уверяя, что все это он говорил, конечно, только образно, на самом деле он отрицает и презирает христианские суеверия.
В сентябре справили свадьбу по греческому обряду.
Утопая в роскоши, брачная пара получила благословение в Древнем Серапеуме. Ипатия, до этого дня совершенно не думавшая об интимной стороне своей будущей супружеской жизни, смотревшая на своего жениха только, как на учителя, и не обращавшая никакого внимания на болтовню старой феллашки, вдруг, когда стал обсуждаться брачный церемониал, сделалась крайне неуступчивой. Не должен был быть позабыт ни один самый ничтожный обычай эллинов. И александрийское общество хлынуло в храм Сераписа
[228], чтобы хоть раз увидеть древнее бракосочетание, еще более замечательное вследствие молодости жениха и невесты. После венчания представители Академии собрались в парадном зале для торжественного ужина, в течение которого греческие жрецы самым строгим образом соблюдали старые обычаи. Не столько ели, сколько молились. Сами жрецы казались не совсем довольными, что приходится возрождать такие устаревшие молебны. Только главный жрец, девяностолетний старик, сиял от счастья, а пятнадцатилетняя невеста произнесла благочестивые слова с таким благоговением, как будто это было ее первое причастие.
Наступил вечер, и гости разошлись. Оставалась только группа молодых людей, намеревавшихся проводить молодых до их помещения. Исидор не хотел совершения этого обычая, так как он не только в христианской среде давно уже перестал существовать, но и высшие круги греческого общества старались богатыми подарками откупиться от задорной толпы. Песни, распевавшиеся в этих случаях, были грубы и непристойны до невозможности. Но Ипатия, спокойная в своем благочестивом счастье, просила не удалять собравшихся. Император так любил старые обычаи.
Так и случилось. Теон с глубоким чувством поцеловал свою дочь в лоб и, возвратившись в свое жилище, услышал, как дикая толпа с неистовыми криками и танцами провожала разукрашенную молодую чету.
Теон смутно ощущал, что это событие – последняя веха его жизненного пути. Печально уселся он за письменный стол и стал смотреть перед собой. Один в целом мире, имеющем другие цели и другие мысли, человек почти ни к чему непригодный, – таким стал он, который высчитывал когда-то пути звезд и создавал новые машины для метания камней или вычерпывания воды. Блеск и счастье жизни пропали, исчезли, умерли тогда, когда родилась Гипатидион, а его молодая жена умерла… Вскоре умер и великий император Юлиан. Теон поднялся и подошел к своему книжному шкафу, где в одном отделении хранились особенно любимые им произведения.
– Гомер… – бормотал он. – Прощанье Гектора с Андромахой… слишком печально! Как только я мог… Гипатидион!
Он просунул руку между свитками и вместо старого Гомера вытащил пару крошечных детских туфелек, первых туфелек Ипатии. Ни разу со дня смерти матери не смог он показать ребенку свою любовь. Это противоречило его природе. Но он все-таки любил дочь. Он гладил маленькие туфли и разговаривал с ними.
Перед окном стоял марабу, злобно крича и стуча своим клювом.
Вдруг внизу послышалось чье-то сдавленное дыхание, напоминавшее дыхание тяжело больного. Сперва это услышала птица, затем Теон. На лестничной площадке лежало что-то живое, которое затем сорвалось с места, кинулось кверху и распахнуло дверь; Ипатия вбежала в комнату, закрыла за собой дверь на засов, кинулась к ногам отца и закричала так, как будто она избежала смертельной опасности.
– Отец! – кричала она, дрожа и прижимаясь к его коленям. – Отец, ты тоже мужчина, но не может быть, чтобы ты хотел этого! Это ужасно! Ни одно животное так не безобразно! Не спрашивай меня и не говори: нет, или меня вытащат мертвой из гавани. Если бы я смогла забыть это! Милый, милый отец, мы не особенно любили друг друга до этого дня. Оставь меня у себя! И чтобы мне никогда не видеть того, другого, никогда! Я буду служить тебе, как ты захочешь. Я не бесполезна, ты только не знаешь меня. Что хочешь, только не это! Я останусь с тобой или, клянусь Герой и Гераклом, умру!
Теон совершенно растерялся. Только одно он понял – в брачную ночь Ипатия прибежала к отцу. Он пробормотал что-то о зависимости женщин, о правах и обязанностях, о скандале. Счастливый тем, что может держать в руках голову своей девочки, он считал все же своим отцовским долгом говорить о примирении. Она ведь отдана в жены этому человеку. И когда Ипатия зарыдала так громко, что марабу ответил снаружи жалобным криком и, как будто желая прийти к ней на помощь, изо всех сил застучал клювом по деревянным доскам, Теон поднял дочь с пола и, надеясь убедить ее, сказал:
– Ты еще слишком молода. Никогда в Греции не было обычая говорить с девушками о том, что их ожидает. Подумай, Гипатидион. Ты гордишься тем, что являешься крестницей нашего великого императора, ты хочешь в это варварское время жить и умереть эллинкой, а между тем говоришь и поступаешь как христианка. Да, да, как христианка! Ибо они говорят о любви, когда разговор касается брака. Эти люди говорят о бессмертной душе женщины, о равенстве, свободе и тому подобном. Ахиллес так не женился, и Агамемнон тоже, и наш император Юлиан.
Ипатия поправляла на груди платье и почти не слушала отца. Но когда Теон назвал ее поступок христианским, девушка внезапно выпрямилась с таким видом, что он даже испугался. Твердо стояла она перед ним, напрягшись всем телом, ее темные глаза страстно сверкали, черные кудри, как во времена ее детства, струились по бледным щекам, и, гордо закинув голову, она ответила:
– Отец, не пытайся сковать мою душу! Я не христианка! Если бы пришел Ахиллес, или если бы, как в седую старину, явился в облаках Зевс, ты бы увидал меня готовой, покорной эллинкой. О, если бы мне предстояло взойти на Олимп с отцом богов и людей, я предала бы отречению свою свободную душу. Но это!.. Если это мое чувство – христианское, то значит и истина – у христиан, но ведь этого ты не хотел сказать отец? Не хотел? Но он, он принадлежит к ним, он не грек! Такая гадость!
И Ипатия повернулась, собираясь запереться у себя. Вдруг она заметила детские туфельки на письменном столе. В комнате профессора стало тихо. Снаружи сердито стучал, хлопал и щелкал марабу. Теон все ниже опускал свою седую голову, а Ипатия, обхватив его за плечи, засмеялась сквозь заструившиеся слезы.
– Молчи, папочка, не говори больше ни слова. Ты же любишь меня, ты меня не гонишь!
Профессор Теон посадил девушку на колени, накинул на нее теплый платок, и шепотом говорили они об умершей матери и о суровой совместной жизни, которую теперь им предстояло вести.
Внизу, во дворе, была кромешная темнота. Какой-то человек стоял напротив окон Ипатии, протянув к ним длинные руки со сжатыми кулаками. Как вор, как голодный зверь, бродил он вокруг, отыскивая вход. Временами из его горла вырывался глухой стон, как у безумного. Наконец он ступил на маленькую лесенку, ведущую в кабинет Теона. Беззвучно поднимался он по ступенькам, на самый верх. И вдруг что-то зашумело, ударило его крыльями, и спустившийся с неба демон поразил его лицо и грудь… Человек упал с лестницы на землю. Вскочив на ноги, преследуемый демоном, бросился он на улицу, и дальше из города – в пустыню.
А птица-философ вернулась с довольным видом обратно и встала на одной ноге перед комнатой Ипатии.
Таково последнее известное нам событие из юности Ипатии. До этого момента ее имя часто упоминается в актах Академии, в заметках христианских писателей и в переписке профессоров. Внезапно оно словно исчезло из жизни на целых десять лет. Можно предполагать, что необычный поступок Ипатии, ее бегство из брачных покоев вызвало в Александрии скандал, в результате которого молчаливое презрение вычеркнуло молодую женщину из высшего круга знати.
Главным образом, это было делом академических дам, по крайней мере, так позволяет заключить недавно изданная переписка одного знаменитого профессора литературы. Если это утверждение справедливо, то, судя по содержанию некоторых сохранившихся писем, можно сделать вывод, что молодая ученая жила все это время как монахиня, занятая исключительно математическими и астрономическими расчетами, помогая одному из старейших профессоров – очевидно, своему отцу. С этим утверждением исключительно совпадает еще то обстоятельство, что профессор Теон, ставший к тому времени сухим специалистом, начал вдруг выпускать сочинения, отличающиеся юношеской смелостью и художественностью языка. Маленькая работа относительно конических сечений, появившаяся на девятнадцатом году жизни Ипатии, трактовала ничтожную тему прямо философски, а спустя четыре года Теонова критика Птоломея вызвала повсюду, где читались греческие книги, восхищение своим блестящим языком и остроумием новой гипотезы. Эта критика, хотя и с некоторой осторожностью, поднимала вопрос о том, действительно ли земля является центром вселенной и не принадлежит ли эта часть скорее солнцу. Святой Иероним в своем возражении писал, что, очевидно, черт помогал профессору писать эту книгу; и действительно, несколько благочестивых монахов видели дьявола, прилетевшего к жилищу профессора в виде странной птицы. Современная наука склоняется, однако, к предположению, что не кто иной, как Ипатия была автором или, по крайней мере, главным составителем поздних произведений Теона, дьяволом, которого христиане считали основателем новой ереси. Однако наверняка узнать истину нельзя. Профессор Теон никому ничего не говорил о возникновении своих работ, а Ипатия благоговейно почитала память своего отца. Таким образом, читатель может по своему усмотрению заполнить десять лет жизни странной женщины.
Глава II
ХРАМ СЕРАПИСА
После смерти императора Юлиана прошло около двадцати лет; в провинциях и в столицах христианство утвердилось настолько прочно, что отдельные секты, уже безнаказанно могли преследовать друг друга.
Однажды вечером в старом университетском городе Афинах за прощальным ужином сидело четверо молодых людей. Перед кабачком александрийского землячества под зеленым сводом деревьев болтали они за кубком красного вина о прошедших экзаменационных перипетиях, о комических чертах своих учителей и о серьезности будущего. Они так заговорились, что не обратили внимания на заждавшуюся прислужницу. Самый красивый из четырех студентов, черноволосый полуараб Синезий из Кирены, ущипнул хорошенькую щечку девушки, когда она подавала новый кувшин вина. Но даже это он сделал машинально, больше по привычке; красивейший студент в Афинах был равнодушен к прекрасному полу. Он был заметно спокойнее своих товарищей. Его большие глаза сияли скорее добродушием, чем умом, а изысканная речь мало подходила к бойкому тону остальных.
Четверо юношей собрались сегодня за столом, так как только что получили последнюю ученую степень. Двое были уже много лет дружны с Синезием из Кирены. Маленький, толстый, темноволосый и розовощекий, немного кривобокий Троил из Антиохии и стройный и подвижный Александр Иосифсон из Александрии сдружились с сыном ливийского патриция вследствие равенства положения и одинаковых наклонностей. В Афинах они вели беззаботную, праздную жизнь и кроме юриспруденции занимались немного философией и филологией. У них у всех над губами пробивались темные усики.
Четвертый из этого союза – двадцатилетний германец, несмотря на его светлый пушок, делавший его рядом с остальными безбородым, не совсем соответствовал своим товарищам. Но зато они его особенно любили. О нем самом знали они немного. Звался он варварским именем Вольф и принадлежал скорее всего к низшему сословию, хотя располагал достаточными денежными средствами. Тем непонятнее казалась другим его меланхолия, так мило соответствовавшая искрящемуся свету его глаз и могучему телосложению. На этот маленький кружок, сам того не желая, Вольф имел громадное влияние. Хотя другие и получили хорошее разностороннее образование, Вольф, несмотря на свой дикий характер, пользовался славой ученого. Он бегло говорил не только по-гречески и латински, но и по-египетски, а также не забывал своего родного языка. Юноша умел петь коротенькие немецкие песенки, – воинственные призывы, распевавшиеся на северной стороне Альп, на берегу молодого Рейна.
Александр Иосифсон был иудей; род Синезия оставался в своей глубине верен старым греческим богам; Троил и Вольф были христиане. Троил, однако, принадлежал к раз богатевшей чиновнической фамилии, принявшей новое христианство Цезаря только внешне; сам он называл себя свободомыслящим, атеистом. Вольф глубоко верил в Иисуса Христа, но был врагом официальной церкви, принадлежа, очевидно, к одной из тех полуничтожных сект, которых с течением времени так много возникло среди рабов и рабочих. Религиозные беседы велись только между Александром и Вольфом; Синезий разыгрывал из себя скептика, а Троил искренне смеялся над всем.
Была уже глубокая ночь, а молодым людям не хотелось расставаться. С огорчением говорили они, что должны теперь проститься с вольной студенческой жизнью и погрузиться в обыденность. Особенно Александр Иосифсон не хотел становиться бумагомарателем, чтобы в конце концов увеличить число ученых мумий – для этого отец, мать, дяди и тети слишком хорошо снабдили его средствами.
– Не важничай, пожалуйста! – воскликнул Троил, однако все согласились, что после трех лет жизни в Афинах два последние семестра хорошо было бы прожить такой же свободной жизнью. Но где? Константинополь и Рим каждый из них достаточно изучил во время каникулярных поездок. Раньше их привлекала Александрия, но там были милые родители и прочие родственники. В маленьких университетских городках, начинавших славиться отдельными факультетами, на отдаленнейших границах империи, разгуляться было негде. Карфаген был слишком благочестив. Париж – слишком грязен.
Синезий пригладил свои черные кудри и тихо сказал:
– Можно было бы остаться еще на полгода в Афинах, божественном городе муз, где все напоминает юношеству великих учителей: Платона и Аристотеля, бессмертных поэтов, а блестящие статуи – эпоху Перикла…
– Не разглагольствуй, – прервал его Троил, – дам поблизости нет, а на служанку этим способом не произведешь никакого впечатления. Ей ты нравишься больше, когда молчишь. Мне тоже. Знайте, что я жажду бросить как можно скорее это старое совиное гнездо. Жалко прекрасного времени! Уважаемые разбойники и домовладельцы, называющие себя афинянами, питаются окаменелой славой своего города и умерли бы с голоду у подножья Акрополя, если бы мы не имели глупости снимать их меблированные комнаты. Скажите, нашли ли мы здесь хоть одного учителя, который не был бы педантом? Их прошлое так грандиозно, что из чистого уважения к нему господа профессора не осмеливаются иметь ни одной новой мысли. Нас учили только тому, чему учили триста лет назад. Боюсь, что первый попавшийся грузчик александрийской гавани знает мир лучше нас. Ученые, попы – все заодно!
Товарищи с ним согласились.
– Александрия была бы не так плоха, – сказал Александр Иосифсон. – Прогулка к пирамидам и к другим святым местам фараонов – это все же не пустяк.
– А охота! – воскликнул Синезий, тоном более естественным чем обыкновенно. – Только у нас существует охота! Страусы, львы! – и его глаза загорелись.
– Каменные бараны, глухари, – не двигаясь прошептал Вольф.
– Не забывайте и человеческой травли! – засмеялся Троил. – Где, кроме Александрии, есть еще такие кровожадные предводители церкви? Где еще могло бы случиться, что форменным образом осаждают древний священный языческий храм и защитников его одного за другим заставляют прыгать на копья?
– Ты говоришь о ненависти попов к храму Сераписа? Разве они еще не овладели им?
– О! Они его завоюют. Попы завоюют весь мир, если предоставить в их распоряжение римских солдат. Именно поэтому хотел бы я провести один семестр в Александрии и позлить их. Мы подсунем в кровать архиепископу дюжину египетских священных жуков!
– Нет, скорпионов!
– Ну, нет, бедные скорпионы укусят его и умрут от заражения крови. Попробуем лучше заставить архиепископа жить по-христиански. Этого он не выдержит.
– Это была бы веселенькая жизнь!
– Ах, если бы только у моего старика не было там бумажной фабрики!
– Э, что там! – возразил Троил. – Какой-нибудь отец или дедушка всегда имеют бумажную фабрику. В конце концов лучшая школа у вас. Пока наши попы не получили там кафедр – в ней можно учиться. Но скучны александрийские учителя, действительно, адски скучны!
– Против этого однообразия, – сказал Синезий, – александрийцы недавно нашли приятное лекарство. Вот уже целый семестр их профессором является женщина.
Все рассмеялись.
– Синезий хочет к Ипатии! Он желает повидать крестницу императора Юлиана! Этого только не хватало, этого синего чулка! Это скандал, что кто-то покровительствует невежественной бабенке.
Вместо ответа Синезий вытащил из кармана письмо.
– От моего дяди. Вы знаете, он очень дружен с его высочеством наместником, он не дурак и не молод. Он советует мне ехать в Александрию… и вот: «Кроме этих выдающихся ученых в нашей Академии вот уже несколько месяцев выступает божественная Ипатия. Благодаря своим увлекательным лекциям и поразительной учености, она имеет такое количество слушателей, как никто из мужчин. На следующий семестр приезжают ради нее студенты из далеких окраин, из Испании, Англии, а один даже оттуда, где у устья Вислы собирают янтарь. Наши соотечественники не должны были бы пропускать случая записаться к ней. Может быть, как раз в Афинах ты сможешь основательно узнать историю ее призвания. Здесь усиленно сплетничают. Точно известно только то, что по желанию своего отца она с большим успехом продолжала во время его болезни читать лекции по прикладной астрономии. Теперь вновь преподает он, но очень слаб. По настоянию отца Ипатия выставила свою кандидатуру на освободившуюся кафедру математики. Из галантности Академия поставила девушку на первое место. Никто не ожидал ее утверждения. Но тут в дело вмешался его высочество наместник. Ипатию назначили, и теперь она несменяемый профессор нашей Академии. Раздражение было громадное. Достойный архиепископский хвастун, съедавший ежедневно за завтраком двух иудеев и двух греков, страдает теперь несварением желудка…» – Ну, здесь несколько колких замечаний об этих фанатиках… – «может быть в Афинах тебе удастся узнать, что именно сообщил его высочеству двор. Благородный старик влюблен в девушку, как мальчик. Некоторые говорят, что она – разведенная жена сумасшедшего монаха, обезумевшего по ее милости. Она красива без сомнения, хотя и не так, как это нравится вам – молодежи. Нет, таких богинь ты сможешь увидать только в Акрополе. А чтобы у тебя не было глупых мыслей, спешу прибавить, что она ведет примерный образ жизни, и даже чернь связывает ее имя только со старым предводителем. Да и это придумали проклятые попы, которые с удовольствием покончили бы с ней совсем. Она прекрасна, как греческая богиня, и чиста, как христианская монахиня…» – Так пишет дядя. Конечно, я ничего не уточнял.
Воцарилось молчание. Юноши смотрели перед собой, медленно отпивая вино из кубков.
Внезапно Троил вскочил и крикнул надменно:
– Мне кажется, что вы все влюблены в неизвестную красавицу. Я же не влюблен, так как любовь – бессмыслица! Но так как вы сгораете от желания увидать это чудо света, то мы едем в Александрию.
Да здравствует прекрасная Ипатия – крестница бедного императора!
Что-то похожее на болезненную скорбь прозвучало в последних словах молодого атеиста. Но никто не обратил на это внимания, и грек, иудей и назарей чокнулись с полным бокалом Троила и решили с одним из ближайших кораблей отправиться в столицу Египта.
Уже через неделю представился
благоприятный случай для отъезда. Удобный парусный корабль отправлялся в Александрию с тяжелым грузом металла, и ветер был попутным. Теперь, в середине июля, можно было не опасаться бурь. Таким образом, четыре друга привели в порядок свои дела и со спокойной совестью отправились в Александрию.
Правда в течение двух первых дней Александр и Синезий страдали морской болезнью, но затем началось прекрасное, тихое путешествие. Судно проплывало мимо бесчисленных островов и всегда было что-нибудь новое для просмотра и обсуждения.
Только на восьмой день, когда благодаря прекрасному северному ветру остались позади берега Крита, поездка стала однообразной, и молодые люди начали искать развлечений. Кроме них, на борту находились только два купца и молодой александрийский священник, с самого дня отъезда старавшийся быть рядом с ними. Очевидно, он нашел время удобным для знакомства и теплым вечером, когда друзья молча и вяло полулежали на палубе, попытался завязать с ними оживленную беседу. Так как ни один из четырех не стал скрывать своих убеждений, то священник – писец архиепископского дворца – скоро убедился, что имеет дело-с четырьмя противниками официальной церкви. Он попробовал больше по привычке спасти заблудшие души благочестивыми увещеваниями и рассказами о чудесах, которых он якобы был свидетелем. Четыре друга забавлялись его стараниями, пока оратор не заметил своей глупости и обиженно отступил. Однако он сумел возбудить любопытство своих слушателей, так как между проклятиями, совсем не напоминавшими нагорную проповедь, он то и дело произносил имя Ипатии и казался прекрасно осведомленным о внутренней жизни Академии и борьбе с Серапеумом.
Корабль был еще в ста морских милях от Александрийского маяка, когда однажды, около полуночи, Вольф, напрасно пытавшийся заснуть в своей душной каюте, вышел на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Он встретился там со священником, нетерпеливо шагавшим взад и вперед, который никак не мог дождаться конца поездки. Сначала они обменялись короткими приветствиями и несколькими незначительными замечаниями, но скоро облокотились рядом о борт и заговорили о важных вещах, о политике и дороговизне, и, наконец, опять об Александрийской церкви. Вольф попросил уважаемого собеседника рассказать о Серапеуме, поскольку его дом находился по соседству с последним и судьба всей этой местности ему не была без различна.
Во время своей первой попытки сближения с молодыми людьми, священник дал понять, что он едет с секретным поручением и в Афинах получил последние известия с родины. Он должен был знать больше остальных. Теперь он ни словом не обмолвился о своем служебном положении, но был готов дать любую справку. И Вольф не смог понять, от тщеславия или злобы сделался вдруг так словоохотлив молодой проповедник.
Что бы там ни говорили о массе язычников египтян, греков и иудеев – Александрия все-таки христианский город Римской империи. В ее окрестностях монахов больше, чем где бы то ни было на всем свете. Несмотря на это, императорское правительство равнодушно к защите христианской веры. Его высочеству наместнику время от времени, кратко или нет приходится напоминать о том, что он христианин. Его высочество любит греческое язычество чисто эстетической, но тем не менее опасной любовью. Даже к богатым александрийским евреям он относится с симпатией. Эта равнодушная позиция правительства страны виновата в том, что Константинополь относится так консервативно к Академии, оставляет старых языческих профессоров на их кафедрах и даже назначает профессором дочь Теона или дьявола, крестницу наказанного Богом Юлиана.
– Видите ли, мой друг, другие язычники довольствуются, по крайней мере, своей математикой или ботаникой. Это нехорошо, но все же может быть терпимо. Эта же созданная адом женщина не соглашается замкнуться в своей специальности. В аудитории и в обществе осмеливается она не только преподавать греческую натуру и философию, но даже оспаривать святые заветы нашей веры. Подумайте только! Каждая христианка в общине должна молчать, ибо Бог предназначил ей пребывать в молчании. А этой женщине дают возможность говорить, несмотря на то, что острым умом снабдил ее сам дьявол, так как Бог создал женщину глупой. Подумайте только! Ну, ничего, мы еще справимся с ней. До сих пор, однако, из Константинополя приходит только эхо наместниковского дворца; в интересах города и из уважения к науке следует сохранять традиции Академии. А нам отдали только старый, переживший самого себя Серапеум, где сохранялась иероглифическая мудрость египтян. Она не была нам опасна, ее можно было бы уничтожить давным-давно. Пожалуй, только для практики было полезно разрушить одно такое языческое гнездо.
– Так оно уничтожено? Уничтожено, как и старые гробницы? А ведь Серапеум считается красивейшим зданием на всем побережье Средиземного моря!
– Считается.
– Сам я не могу судить, – сказал Вольф печально. – Я с детства привык к нему так же, как к синему небу.
– Здание, быть может, стоит еще и теперь, – сказал священник злобно. – Во всяком случае, далеко не просто уничтожить это гнездо. Крайне маленькие часовни были, конечно, быстро разрушены и уничтожены. Но сам Серапеум настолько же храм, как и крепость. И потом, вы же знаете, испокон веков среди египтян и греков он считается величайшей святыней. Даже среди христианского простонародья распространено суеверие, что благословение стране, то есть разлив Нила, связано с существованием большой статуи Сераписа. Никто не хотел наступать: ни солдаты, ни простой благочестивый люд – обычно столь полезный нам своими тяжелыми кулаками. В здании засело около тысячи вооруженных – священники, слуги и чиновники.
Дело затянулось на недели и мой добрый архиепископ даже заболел от усердия к божьему делу. Новое основание для радости язычникам, иудеям и высшему чиновничеству. К счастью, у доброго архиепископа болело только тело, а не христианский рассудок. Наши рабочие союзы соглашались начать наступление, если впереди пойдут монахи. Монахам был дан знак. У святых мужей монастырей и затворов пустыни часто не доставало мирского порядка. Даже среди моих братьев есть такие, которые считают пост и самобичевания анахоретов и столпников простым тщеславием. Но если это мнение и справедливо, все же безумие этих людей не от демонов ада, а от нашего живого Бога. Ибо они отдают свою силу и свою жизнь в распоряжение нашей церкви, а сила их огромна. Множество назидательных историй поучают нас, как в рукопашной борьбе одолевали некоторые львов, а наиболее мужественные справлялись и с самим дьяволом. Подумайте только! Ну, эти святые мужи победили и не оставили в живых ни одного из защитников Серапеума. Мужественные воины церкви!
Известия об этом пришли незадолго до нашего отъезда. Около четырех тысяч человек, вооруженных самым незатейливым оружием, шаг за шагом продвигались вперед и даже ребенку не было пощады.
Святые мужи имеют богатый опыт в использовании простого оружия. В пустыне им часто приходится сражаться с дикими зверями или разрешать свои религиозные споры в борьбе. Они делают это палицами, дубинами, камнями. По отношению к защитникам Серапеума жестокость была необходима. Многие из моих братьев собственными глазами видели, как однажды вечером с крыши языческого храма улетел Вельзевул. Он принял вид старого марабу и, широко раздвинув крылья, полетел по направлению к Академии. Там выбрал он себе место над жилищем Ипатии. Говорят, он живет там со времени императора Юлиана. Как бы то ни было, это были защитники дьявола, и чем скорее они попали бы в ад, тем лучше для спасения их душ.
– Вы в этом уверены?
– Разумеется! Итак, здание оказалось в наших руках, но колонны и стены были слишком прочны для рук и палок монахов. Это должно было быть поучительным зрелищем, когда святые мужи в своем благочестивом усердии в кровь разбивали кулаки о мраморные плиты. Однако даже знак креста не разрушил скалоподобные стены, с долотами и кирками работа подвигалась чрезвычайно медленно. Наш добрый архиепископ приказал обложить постройки большим количеством дров и поджечь их, несмотря на то, что мог загореться и город. Его высочество наместник не разрешил этого, пока язычники и евреи могут еще немного полюбоваться на свой Серапеум.
– Так он еще цел?
– Боюсь, что в данную минуту его уже нет. Мне кажется, что в Константинополе заговорили решительно, и его высочество получил строгий императорский приказ сравнять с землей языческие постройки страны. Такому приказанию даже его высочество должен подчиниться. Для исполнения столь категорического приказа по разрушению храма будут использованы машины, построенные профессором Теоном, земным отцом Ипатии, для персидских войн своего покровителя Юлиана. Тяжелые осадные орудия только на Серапеуме можно испытывать как следует. Теон и Ипатия, конечно, будут довольны.
Вольф угрюмо смотрел в темноту ночи; ярче, чем на Афинском Акрополе, сверкал сейчас Орион. Не простившись и не поблагодарив за рассказ, оставил он священника. Но он не смог вернуться в каюту. Снова и снова устремлял он свой взгляд на юг, где лежала Александрия и куда после долгого учения должен был он вернуться в самый разгар борьбы земли с духом.
Он умолчал о своей ночной беседе со священником и потому лучше товарищей понял то, что они увидели, когда на следующее утро зашли в новую гавань Александрии. Там, где обычно прибывающий корабль окружали сотни темнокожих лодочников, с диким гамом предлагавших свои товары и лодки, где обычно еще до того, как падал якорь, начиналась торговля – плоды и рыба летели на борт, а монеты сыпались вниз – теперь к прибывшим явился лишь один старый ленивый боцман. Он сразу перевез всех на берег. Багаж они должны были оставить на судне. Так же безлюдны были набережные вдоль всей портовой улицы. Громадный город казался вымершим. Старый боцман знал причину этой тишины. Сегодня должны были разрушить Серапеум.
По состоянию здоровья он не мог пойти туда, хотя было бы интересно посмотреть, услышать треск. «Да, но стране это принесет несчастье», отмечал старый боцман, Нил, наверное, не поднимется в этом году, но ведь императору в Константинополе нет дела до голода в Александрии.
Боцман поплыл в своей лодочке обратно, чтобы перевезти ящики и сундуки, а друзья вместе со священником остались одни на пристани. Налево, где портовая улица превращалась в площадь, виднелись рядом обе враждебные резиденции, недалеко от воды – собор, а ближе к городу – Академия. Но ни один молящийся не входил в церковь, ни один ученик – в школу. Только на отдаленной береговой улице, идущей мимо собора к дворцу наместника, чувствовалась жизнь. Вдали перед дворцом стояли солдаты, выстроившись как на параде или перед революцией.
Внезапно новоприбывшие уловили над легким шумом волн отдаленный звук, похожий на начало урагана, и, не говоря ни слова, они зашагали по хорошо знакомым улицам кратчайшим путем к Серапеуму. Они вышли из нового греческого квартала и, миновав несколько улочек египетского квартала, пораженные бедностью и грязью этих несчастных глинобитных хижин, резко повернули и очутились на колос сальной площади Серапеума, от которого их отделяла многотысячная человеческая стена. В центре площади все еще возвышался почти неповрежденный храм, хранивший статую могучего Божества и тысячелетние сокровища иероглифической мудрости. Сквозь колоссальные колонны можно было рассмотреть мощную внутреннюю постройку, служившую монастырем, библиотекой и школой египетским жрецам. Было видно, что там уже побывали грабители. Двери были сорваны с петель, и под колоннами лежали груды книг и трупов. Святая святых, колоссальный храм святого Бога Сераписа, стоящий отдельно, был пока не тронут. Большая часть его колонн на высоту человеческого роста была варварски изуродована железными остриями или осквернена кровью и грязью. Бессильная ярость против неразрушаемых великанов! За вторым рядом колонн, где возвышались стены святого храма, христиане предприняли более основательные попытки: пытались сделать подкоп под стены, что бы повалить их. Но фундамент опускался слишком глубоко в землю. Справа и слева, вперемежку с мраморными глыбами, лежали высокие кучи мусора. Стены остались в целости, но острый глаз Вольфа заметил тонкую трещину, прорезавшую узкую стену святилища.
Когда друзья достигли площади, священник покинул их, чтобы присоединиться к своим собратьям и узнать последние новости. Молодые студенты поняли теперь, что означала эта воцарившаяся тишина: два часа тому назад солдаты наместника, несмотря на его отсутствие, начали правильную осаду пустого Серапеума. Архиепископ, лежавший подобно умирающему на своих носилках посредине покрытых парчой священников и полуголых анахоретов, старый, больной архиепископ Теофил, произнес перед началом работ молитву, Но молитва не помогла, гнев Сераписа должен был сей час разразиться! Полуторааршинный гранитный таран
[229] колоссальной стенобитной машины после трех ужасных ударов даже не покачнул колонны. Были отправлены гонцы к наместнику и к профессору Теону, строителю полуторалоктевой стенобитни.
Толпа ждала. Монахи пели, а сто тысяч александрийцев, мужчин, женщин и детей, беспокойно слушали.
Кое-где раздавались проклятия в адрес кровавого архиепископа, сочувственные восклицания медленно перерастали в бешеный крик и затем снова все замирало. Друзья подыскали себе удобное место и стали разговаривать.
– Я здесь у себя дома, – сказал Вольф и показал рукой на башнеподобную стену черного здания на углу переулка, ведущего от Серапеума к кладбищу египетского квартала.
– Там? – удивился Александр. – В заколдованном доме? Там ведь живет старый вояка!
– Мой отец.
У друзей его не было времени удивляться, так как все их внимание было приковано к дороге, по которой двигалась медленно странная процессия. Впереди шло несколько священников и артиллерийских офицеров, за ними, в сопровождении других офицеров, старый, сгорбленный седой профессор Теон, а рядом с ним, заботливо его поддерживая и гордо выпрямившись, шла стройная молодая женщина. Молодые люди заметили только белое шерстяное платье, темную накидку, бледные щеки и пару огромных глаз, скорее всего это была Ипатия, с именем которой приехали они из Афин. За профессором и его дочерью теснилось более ста юношей, в которых, судя по их однотонным широким черным шапочкам, можно было признать студентов.
Над площадью поднялся гул: строитель пришел, а наместник отказался явиться. Тысячи приветствий и гневных возгласов слились воедино, и толпа раздвинулась перед пришедшими. Совсем близко от приехавших из Афин друзей прошла Ипатия. Ее удивительные черные глаза, не отрываясь, смотрели на отца, которому она что-то тихо говорила. Она не замечала никого, но молодым людям удалось хорошо её рассмотреть, Вольф при этом так сильно сжал плечо Троила, что тот застонал, а Александр сказал не проронившему ни слова Синезию:
– Ни звука, молчи!
Друзья незаметно присоединились к студентам, отделявшим Ипатию от толпы, стали медленно продвигаться вперед, без единого слова, с одинаковым чувством в душе – хорошо, что они здесь!
Шагов через пятьдесят однако им пришлось остановиться. Плотная цепь солдат пропустила только офицеров, священников и профессора. Остальные должны были остаться. Подняв руки, Ипатия еще раз подошла к профессору со словами:
– Не делай этого, не делай этого!
– Я должен! – ответил Теон. – Таков приказ из Константинополя. И потом они говорят, что полуторалоктевые машины никуда не годятся. О! Мои машины! Они были рассчитаны против стен Ниневии, которые на три четверти локтя толще этих. Так вот я посмотрю…
– Не делай этого!
Теон повернулся, чтобы идти.
Тогда Ипатия сбросила свою накидку, простерла руки к офицерам и крикнула так громко, чтобы могли услышать многие:
– Заклинаю вас, не делайте этого! Дайте мне возможность поговорить с императором, дайте мне сказать ему, что руки христианских священников тянутся уже к его короне, в то время, как себя и свою армию он отдает в распоряжение церкви! Не делайте этого! Величие эллинства сияет с высоты этих колонн, сияет над бедными лагунами в далеком море и говорит чужим мореплавателям о великой человеческой культуре, хранящейся в древней сокровищнице на нашем африканском берегу! Вы должны были бы охранять ее, охранять во имя императора! Вспомните об императоре Юлиане!..
Как зачарованные, слушали окружающие вдохновенную женщину. А издалека доносились нетерпеливые крики.
– Теон! Теон!
Внезапно профессор отделился от своей дочери и направился на возвышенность к одной из средних колонн, где был установлен гигантский таран.
– Отец, не делай этого! – крикнула Ипатия вослед Теону и хотела прорваться через цепь часовых, но один из молодых офицеров почтительно отвел ее в сторону и прошептал:
– Поверьте мне, профессор, мы с большим удовольствием разогнали бы этих попов. Но таков приказ.
– Приказ? Чей?
Офицер пожал плечами. Ипатия скрестила руки на груди и умолкла, не спуская глаз с отца.
Он стоял наверху перед сотней тысяч любопытных глаз и спокойно, как в аудитории, объяснял нескольким офицерам какой-то секрет орудия. Вольф заметил две допущенные при установке орудия ошибки. Гранитный таран был неточно направлен: он должен был бить в самую середину колонны. К тому же, таран поставили так, как следовало для большого расстояния, здесь, на меньшем пространстве надо было укоротить некоторые канаты и поднять два рычага. Вольф видел, как эти неточности по приказу офицера и указаниям профессора были устранены. Никто не слышал, что говорилось наверху. Все видели только, как профессор Теон сам подошел к орудийной прислуге, приказал еще немного укоротить канат и показал затем, какой рычаг следовало опустить, чтобы привести орудие в действие. Трижды должен был человек у рычага повторить нужное движение. Потом Теон со всей доступной его дряхлым ногам быстротой подошел к колонне и показал пальцем место, куда гранитный блок должен был ударить своим тупым концом. Улыбаясь от уверенности в своих знаниях, стоял старый профессор и что-то говорил. И вдруг это случилось! Сам ли Теон по своей рассеянности отдал приказ или смущенный солдат самовольно нажал рычаг, или, наконец, (как в следующее воскресенье рассказывали во всех церквях) в дело вмешался слетевший с неба розовый ангел, этого так никто и не узнал. Но вдруг солдат вскрикнул, машина заскрипела и почти в ту же секунду гранитный блок ударил в колонну. Профессор Теон еще продолжал улыбаться, а разрушение с громовым треском уже началось. Первой упала намеченная колонна и могучие каменные стропила, которые она поддерживала на высоте шестидесяти футов; затем повалилась соседняя, увлекая за собой половину крыши и еще кусок третьей. Толпа, затаив дыхание от напряжения, продолжала ждать и тогда снова из глубины густого облака пыли раздался новый громовый удар. Храм рухнул.
Мгновение было тихо, потом люди закричали громче падавших стен.
Конечно, не все зрители были так сильно испуганы. Некоторые из наиболее диких анахоретов
[230], протиснувшиеся к орудию, стали прыгать, как безумные. Среди них был их вождь Исидор, отвратительный со своими длинными, как у привидения, руками, окутанный облаком пыли. Потом они затянули победный псалом, который был заглушён криками ужаса тех, кто узнал, что профессор был убит, а много солдат ранено. Сквозь пение и вопли поднимался над площадью многоголосый крик:
– Серапис покарает теперь свою страну голодом.
И тут же со всех сторон послышались призывные воз гласы:
– Хлеба! Император должен дать нам хлеба! Долой попов! Долой наместника! Долой императора! Да здравствует Ипатия! Слушайтесь Ипатию! Где Ипатия?
Последняя же упала без чувств, когда она перестала видеть своего отца. Вольф подхватил ее на руки и начал командовать студентами, словно был их начальником.
– За мной, в заколдованный дом. Клином сквозь толпу. Топчите всякого, кто не посторонится. А кто будет сопротивляться, пускайте в ход нож. Мы понесем ее. Вы вдвоем и я. Вперед, товарищи!
И клинообразная кучка студентов с бесчувственной женщиной в середине, как корабль в людском море, спокойно, твердо и безостановочно достигла заколдованного дома.
Там на пороге стоял старый солдат. С добродушной насмешкой смотрел он на шествие студентов, на дочь Теона и несших ее юношей. Внезапно он узнал Вольфа.
– Ули! – воскликнул он и, не желая выказывать своих чувств перед посторонними, сжал кулаки. На нем все еще было что-то вроде военной формы. Рукава были засучены, а когда он сжал кулаки, мускулы напряглись, как у кузнеца.
– В добрый час…
– Будь он проклят этот час! – крикнул Вольф.
– Несите бедняжку вовнутрь. Синезий, ты знаешь толк в медицине, дай служанке необходимые указания. Ты, Александр, приведешь доктора. Я останусь здесь и не впущу никого!
И Вольф молча встал рядом с отцом.
Отсюда тоже можно было ясно видеть Серапеум.
Как ни был слаб ветер, облако пыли стало постепенно рассеиваться. Около гигантского тарана началось движение. Студенты внимательно изучали его, а солдаты медленно двигали на низких колесах к четвертой колонне. Раненых унесли. Гора обломков, образованная упавшими колоннами, была ужасна, но за ней открылось нечто необыкновенное. Справа и слева стены святилища разрушились, а позади упавших колонн, среди множества осколков, блестела сквозь осевшую пыль серебряная статуя Божества. Восторженный возглас взвился над толпой. Серапис сотворил чудо, чтобы спасти страну и свое изображение! Одни голоса перекрывали другие, произносимые молитвы, перемещались. Монахи произносили заклятья против статуи, а чернь молилась ей. Городская святыня исцеляла больных и изувеченных, а главное – она посылала хлеб!
Вокруг носилок архиепископа забегали священники и офицеры.
– Никто не доверяется идолам, – сказал старый солдат своему сыну, – все они трусы.
Спустя несколько минут к заколдованному дому торопливо подошел один из секретарей. Уже издали махнул он рукой старому солдату.
– Архиепископ шлет вам свое благословение!
– Гм!
– Никто, кроме вас, – говорит он, – не достоин заслужить вечную славу, срубив топором голову идола. Необходима величайшая поспешность. Это нужно сделать немедленно. Вы готовы?
Старый солдат обратился к сыну:
– Ты ученый, я – нет. Это идол?
– Конечно, это идол, – сказал Вольф.
– Во славу ли нашего святого дела, истинной веры и будущего христианства будет падение идола?
В это время над обширной площадью раздалась древняя молитва, которую в течение тысячелетий распевали египтяне, когда Нил медлил с разливом и Серапис должен был помочь.
С презрением обратился Вольф к посланнику архиепископа и сказал:
– А что вы сделаете, если Нил иссякнет?
– Мы пошлем паломничество к стопам святого Антония во имя истинного Бога.
Проклиная всех идолов, Вольф вошел в дом, где, как ему показалось, раздавались тихие рыдания.
Не сказав ни слова, вошел в дом и старый солдат и скоро вернулся с топором в руке. Медленно шел он к храму среди боязливо расступившегося народа. Его седые волосы и широкие плечи возвышались над толпой. Не поклонившись, прошел он мимо кивнувшего ему архиепископа, поднялся на возвышенность и достиг разрушенного святилища. Как по ровным ступеням поднялся он по обломкам до самой статуи. Потом прикинул расстояние и вскинул над головой топор. Монахи фанатично приветствовали его. Толпа рванулась вперед, намереваясь помешать разрушению. Солдаты с трудом сохраняли свои ряды, в двух местах возникла свалка…
Трижды поднимал топор старый воин, трижды, подобно жрецу, взмахивал он им над серебряной бычачьей головой божества и, наконец, с грохотом опустил лезвие, в ответ раздался ужасный крик народа. Серебряная оболочка статуи лопнула, обнажив внутри черное дерево. Снова опустил он топор, а потом еще раз ударил. Вдруг со всех сторон раз далось: «Дьявол! Дьявол!» Это черная крыса выбежала из середины статуи. Толпа кинулась к третьему ряду цепи солдат, и началась кровавая схватка, настоящая александрийская уличная война.
Некоторое время стоял еще старый солдат на своем мраморном пьедестале, нанося удар за ударом по идолу. Потом он вернулся в свое жилище, держа в руках топор. Толпа, намеревавшаяся покончить с архиепископом и всеми попами, боязливо расступалась перед ним, как перед палачом.
Вечером того же дня во всех церквях народу вещали о том, что Нил поднялся до уровня шестидесяти локтей. Христианский Бог оказался хорошим Богом, дававшим хлеб, подобно Серапису. Александрийский люд ликовал перед дворцом больного архиепископа.
Глава III
НАЗАРЕИ[231]
Объявление, вывешенное во втором дворике Академии, извещало студентов, что Ипатия на два месяца прекращает чтение лекций. На это время прибывшие из Афин друзья расстались, и каждый мог, следуя своим желаниям и обстоятельствам, заняться личными делами, чтобы подготовиться к новому учебному году.
Александром полностью завладела его семья. Бесчисленные приглашения посыпались градом ото всех представителей семейства Иосифа. Сам Иосиф в манере и разговоре стал намного застенчивее, чем был во времена императора Юлиана, но зато был в состоянии предоставить в распоряжение своего сына почти неограниченные средства. Благодарно, хотя и довольно равнодушно улыбаясь, узнал Александр, какую карьеру придумал для него старый фабрикант. Во-первых, как можно скорее – профессура, во-вторых – богатейшая женитьба, затем – должность управителя или министра; старый Иосиф был, в сущности, не так уж и робок.
У Троила в Александрии были только дальние родственники. Он занялся подыскиванием удобного жилища, оборудовал его с азиатским комфортом и нанял черного слугу, желтого повара и несколько белых служанок.
Синезий задержался в городе на непродолжительный срок, правда, дядя успел представить его гостеприимному наместнику.
Затем, в сопровождении одного из родственников, он отправился по морю в Пентаполис. Охота там только лишь начиналась, и кроме того он не желал видеть, как быстро и уверенно сравнивали с землей Серапеум, оставив, словно в насмешку над желанием наместника, одну-единственную из гигантских колонн. К тому же куда приятнее было не слышать легенд, через несколько дней появившихся в народе. Сто тысяч человек видели, как начал свою работу гигантский таран, и как его изобретатель погиб под обломками первой колонны. Несмотря на это, с упоением рассказывали, что христианский Бог для разрушения капища
[232] послал с неба огонь, из ада – землетрясение, а идол только тогда треснул, обнаружив скрывавшегося в нем дьявола, когда храбрый солдат нацарапал на лезвии своего топора крест.
Вольф поселился в заколдованном доме. В его распоряжение была предоставлена большая пустая комната с походной кроватью и небольшим столом. Однако он чувствовал себя вполне уютно в этом угрюмом здании, которое о многом говорило ему. Оно было построено несколько сот лет тому назад для одного знаменитого астронома Серапеума. Народ вспоминал, что сама царица Клеопатра много ночей провела с астрологом наверху, на башне, сводя луну на землю и предаваясь еще более позорным волшебствам. После ужасного конца царицы, дьявол унес и заклинателя. С тех пор в доме, в башне и в подземельях было неспокойно.
Но Вольф чувствовал себя здесь хорошо и уютно. Каждый уголок этого таинственного дома пробуждал в нем воспоминания детства. У юноши не было ни малейшего страха перед привидениями, так как он больше не верил в них. Вольф уже не надеялся повстречаться в темном коридоре с обитателями потустороннего мира и собственноручно покончить с ним.
Но с годами не исчез его ужас перед отцом: ребенком он боялся его, боялся диких вспышек отцовского гнева так же сильно, как и загадочной кротости, с которой после подобных сцен старался старик приласкать своего ребенка. Конечно, уже давно не поднимал он руки на своего большого сына, но своеобразная кротость осталась. Отец и старая служанка обращались с ним почти одинаково почтительно. Для старой готки
[233] он был молодой господин, для отца – господин – сын.
Комната отца была для Вольфа единственным неприятным местом в целом доме, хотя в ней не было ни чего кроме распятия с вечной лампадой из красного стекла да висевшего на голых серых стенах старого оружия.
Целыми днями бродил Вольф по городу, задумчивый и одинокий. Дома тоже разговаривали мало. За едой отец сидел напротив него, и как будто стесняясь, предлагал ему лучшие куски, но не делился тем, что находилось в его душе. Только когда становилось темно, таинственный дом оживлялся. По два, по три человека стекались со всего города, главным образом рабочие и ремесленники, но иногда и недовольные офицеры или священники. Вольф узнал, что это были назареи, а с ними и вожди этого движения. Эти люди верили в Иисуса, но ненавидели новое язычество, в течение двухсот лет разраставшееся из имени Христа. Вольф знал также, что его посещают не из простого любопытства. Гости хотели убедиться, не обманул ли студент надежд своей партии, не перешел ли он в Афинах на сторону греческих атеистов или православных христопродавцев.
Казалось, что Вольф произвел хорошее впечатление. Не прошло и месяца со дня его возвращения в родительский дом, как однажды вечером около двадцати набожных гостей заполнили комнату, среди них был старый Библий. В этот день Вольф был посвящен в величайшую тайну партии. Три александрийских архиепископа один за другим назначали награду за голову Библия, так как, подобно своему учителю Арию, он отвергал божественность Христа. Теперь Вольф догадался, что восьмидесятилетний старик, под охраной старого солдата и с ведома нескольких назареев, жил в их таинственном доме. Еще юношей, во время последних гонений на христиан языческого кесаря, Библий не отрекся от Христа, несмотря на повторную пытку. Затем христианские кесари прекратили преследование, но новый александрийский архиепископ приказал отрубить мученику Библию правую руку, так как он не хотел признать положений великого собора. Этот человек был теперь главой движения назареев. Враги не должны были знать, что Библий в городе, что он вообще еще жив.
На тот день в подземных залах таинственного дома было назначено общее собрание назареев. Несколько ближайших сторонников Библия собрались здесь, чтобы предварительно установить программу собрания и предложить новую кандидатуру для предстоящей борьбы. Надо было подготовиться к выборам нового архиепископа, становившимся, после смерти Феофила, важнейшим событием дня. Назареи решили голосовать и агитировать за либерального Тимофея; Вольф должен был с этой целью выступить в своем кругу, то есть среди образованных и равнодушных христиан, и после непродолжительного обдумывания он дал свое согласие.
Под руководством Библия разговор сосредоточился на вопросах внутренней партийной тактики. Среди назареев, отвергавших соборные постановления, сводивших религию к немногим евангельским заповедям и намеревавшихся взять на себя заботу о неимущих, под предводительством одного каменотеса образовалась группа, прозванная греческими назареями «эксуконцианами», а римскими чиновниками – «нигилистами». Библий потерял бы значительную часть своих приверженцев, если бы исключил каменотеса из партии за его анархистскую проповедь. Таким образом, для главарей дело сводилось к тому, чтобы направить эту дикую толпу на путь добра помимо ее собственной воли.
Вольф не скрывал своего неудовольствия по отношению к такой тактике. Ложь и обман царят над миром. Иначе и невозможно между враждебными силами. Но между братьями должна была бы царить откровенность, ведь назареев он всегда считал братьями. Библий постарался рассеять смущение юного товарища. Во всех больших делах необходим порядок. Как государство, так и церковь должны иметь главу. Как бы ни был свободен каждый отдельный назарей, община не может считаться с причудами каждого каменотеса.
Было очевидно, что престарелый Библий, двукратный мученик за христианство и ересь, больше не терпит возражений. Его последователи благоговейно промолчали, когда он, не дав никому больше слова, перешел от беседы к поучениям. Он был прекрасен, стоя под оружием старого солдата, смертельно бледный, несмотря на розовый свет вечной лампады, с направленным на Вольфа воинственным взором. Белая священническая одежда облекала его от шеи до самых ступней, белыми были длинная широкая борода и левая рука, и только кроваво-красным пятном мелькнул однажды остаток поднятой им правой руки.
Вольфу не представилось больше случая высказать свои мысли. Для всех присутствующих казалось ясным, что партия должна делать и думать то, что хотел и думал Библий. И только старый солдат жадно смотрел в глаза Вольфа, как будто знаниям сына он доверял больше, чем откровениям мученика.
В своем признании необходимости порядка Библий дошел постепенно до прославления римской государственности.
Всякий друг порядка должен быть благодарен императорам за то, что неустанной работой стараются они поддерживать слаженность в колоссальной сети римского государства, сети, все нити которой объединяются в их золотом дворце, и за то, что они стараются дать возможность своим преемникам продолжать их дело. Такая сеть – великое дело, и плести ее посредством всего, что полезно для государства – задача, достойная императоров. Чума и голод, война и мир, люди и боги – всего лишь нити государственной сети в руках цезарей. Так Константин Первый показал себя мудрым государем, когда дружелюбно отнесся к долго преследовавшимся христианам и приказал им быть его опорой на востоке государства. При этом императоры постоянно желают облегчить бремя всех угнетенных и обремененных и сделать их счастливыми гражданами. И если бы не появились епископы, истинное христианство постепенно овладело бы государством. О, цари никогда не бывают глупы, ибо их ум – ум всего государств
Кто знает, до чего дошел бы еще в своих рассуждениях Библий, если бы смутный подземный гул не обнаружил нетерпения собравшейся массы.
Мученик тотчас же прекратил свою проповедь и хорошо знакомыми лестницами и ходами повел своих друзей в подземелья таинственного дома. Вольф, конечно, присоединился к ним. Рядом шагал старый солдат и, казалось, боязливо ожидал решительного слова.
В конце длинного коридора, в котором ребенком Вольф подозревал существование особенно ужасных и могучих страшилищ, открылась железная дверь. Ее охраняло несколько вооруженных людей, почтительно проводивших Библия и его спутников в высокую пещеру, в которой при свете нескольких факелов собралось до тысячи человек. Библий сейчас же взошел на нечто вроде кафедры и оттуда объявил собрание открытым. Прежде всего он просил простить одного из уважаемых сотоварищей – старого солдата, который с его разрешения отдал себя в распоряжение кровавого архиепископа и разбил идола. В конце концов разрушение языческих храмов полезно истинному христианству.
Одобрительный шепот прошел по рядам. Только из левого угла от входа послышались смешки. Там стояли эксуконциане, или нигилисты, и насмехались над премудростью Библия.
Библий воскликнул раздраженно:
– Священники считают нашего старого друга человеком с погибшей душой, целиком находящегося в их власти. Этому убеждению обязана наша партия возможностью вот уже двадцать лет собираться здесь для безопасных совещаний. Должны ли мы отказаться от этого преимущества?
– Нет! – крикнул каменотес из своего угла. – Если партия стремится только к безопасным совещаниям! Но мы хотим наверх, на улицу, с оружием… Революция!
– Революция! – сотней голосов прозвучало из угла пещеры.
– А хотите вы закончить так, как вот этот?
Как ни теснились люди, они расступились, и внезапно все увидели труп, лежащий рядом с кафедрой, труп одного из братьев, выступившего в церкви перед молящимися против проповеди какого-то священника и объявившего себя назареем. Его хотели принудить назвать имена товарищей, но он молча умер под пытками.
Вид мертвого на мгновение заставил замолчать оппозицию. Затем каменотес протиснулся через толпу, поставил одну ногу на труп и закричал:
– Этот мертвый, разодранный муками палачей, взывает: горе фарисеям!
[234] Сын плотника пришел в мир, что бы разбить ярмо и уничтожить проклятие Адама, дабы желающие быть сынами божьими не трудились в поте лица! В римском государстве, ставшем заговором нескольких тысяч против стольких миллионов, произнес он слова свободы, и из жилищ, подобных могилам, выступили изможденные братья, как в давно минувшие дни. Тогда ужаснулись проклятые, могучие и господствующие и заключили между собой новый союз и деньгами, и почестями купили хранивших слово освободителя. И тогда сами они назвали себя отцами и епископами и вступили в союз с римским императором, и словами освободителя, как бичами, загнали снова в подземелье истощенных братьев и покрыли землю покровом еще более плотным, чем он был раньше. Нас обманули! Долой предателей! К оружию! Революция!
Несколько минут шумели сторонники каменотеса. Затем стало тихо, и Библий спокойно, как будто никакого перерыва не было, произнес:
– Давайте же похороним погибшего.
Торжественная процессия с тихими погребальными песнопениями понесла труп узкими, темными коридорами и извилистыми ходами по направлению к пустыне в старый египетский город мертвых. Дважды переходили они узкие коридоры и громадные пещеры – христианские кладбища времен гонений. Затем вместо высеченных под землей ходов начались естественные расселины
[235], которые привели в просторную пещеру, вместившую всех собравшихся. Высеченные на стенах надписи указывали, что это было кладбище назареев. Старый солдат шепнул сыну, что отсюда, в том месте, где небольшие ступеньки ведут в одну из могил, через узкую, но вполне проходимую расщелину можно подняться в забытую и скрытую египетскую гробницу, а оттуда выйти в пустыню.
После того как труп уложили в одну из пещер и отверстие было замуровано, Библий произнес речь, призывая товарищей к благоговению и единодушию.
Прошло добрых полчаса, когда, наконец, приступили к главной цели собрания. В первый зал уже не возвратились. Из осторожности с наступлением рассвета товарищи должны были вернуться в Александрию со стороны египетского кладбища.
Библий поставил на обсуждение вопрос о предстоящих скоро выборах и предложил, так же как перед этим в кругу своих приверженцев, голосовать за Тимофея. Завязались дебаты, сначала мирные, так как большинство ораторов, высказав свои личные соображения, присоединились к совету мученика. Только после того, как один из недовольных священников, желая получше раскрыть назареям личность Тимофея, имел неосторожность прочитать его символ веры, противники получили хорошее оружие.
Каменотес противопоставил этому символу тезисы своей группы. Из всего Ветхого и Нового завета он признавал подлинной одну Нагорную проповедь, комментируя которую под восторженные крики своих приверженцев, он требовал низвержения существующего строя и признания этого учения истинным назарейством. Так же резко возражал Библий. Он прочитал старый назарейский символ веры, образовавшийся из учения Ария и пятьдесят лет тому назад ставший основным учением партии. Другие ораторы также попросили слова. Ремесленники и духовенство умно и ловко говорили в пользу учения Библия; дико и грубо, но с фанатической верой высказались трое рабочих в пользу замечаний каменотеса. Спор обострился. В вопросе о высокой человечности Иисуса Христа было полное единодушие; а об истинной божественной воле три часа продолжался словесный поединок.
Наконец, вновь выступил Библий и, рассчитывая нанести серьезный удар противнику, предложил выслушать мнение беспартийного новичка Вольфа. Этот юноша, единственный ученый в собрании, учившийся в Афинах, должен был знать истину.
Все смолкло, взоры присутствующих устремились на юношу, скрестившего руки на груди и слегка прислонившегося к каменной стене. Старый солдат, прикрепивший неподалеку один из факелов, старался прочесть мнение сына по выражению его лица. Вольф же обрадовался возможности высказаться, он поднял правую руку и начал говорить обычным, спокойным тоном:
– Я поддерживаю кандидатуру Тимофея, и прошу всех, также и экскунцианцев, голосовать и агитировать за него против христопродавцев, потому что Тимофей – хороший человек, а у нас еще никогда не было на месте александрийского архиепископа такового. Если должен быть верховный епископ, то я за Тимофея, но если скажут, что нам вообще не нужен главный епископ, то я соглашусь и с этим. Братья, коль вы начали меня слушать, то выслушайте до конца. Мне кажется, вы полностью не осознаете, что это нечто совершенно новое – обязанность больших человеческих масс верить в одно и то же. Да, я прочитал много книг и заверяю вас, что это нововведение впервые установили христианские епископы. Действительно, богами римлян и греков были ложные идолы. Но последние были хорошими, ибо никого не принуждали приносить им жертв. И сам Иисус Христос отменил закон насилия в своем народе. Вы же, милые братья, были мне дороги, так как вы единственные среди христиан, – так думал я до сего дня, – не насильники и не глупые пастыри. Только в одном добились мы согласия, что наш Мессия Иисус Христос спас нас своим примером и своей любовью от наших грехов и человеческих слабостей. Спас каждого в отдельности, так как у каждого из нас есть свои слабости. Общим у нас может быть только чувство, а не слова, только любовь, а не формула. Но если вы спорите о вещах, которых не знаете, то вы такие же попы, как и все другие. Попы, если сейчас вы спорите о символе веры первых назареев, попы, если из всего прекрасного мира евангелий выбираете несколько строк и к ним одним хотите привязать нас. Под покровом ночи собрались мы здесь, чтобы со временем завоевать свободу нашим душам, и мои руки не оставят вас в кровавый день. Но вы недостойны бороться за свободу своих душ, если подобно монахам, приковываете себя к словам и символам. Только одно должно нас связывать – наше чувство, наша любовь к Спасителю и друг к другу! Кто в остальном не
свободен, тот не назарей!
В подземном зале стало тихо. Внезапно сотни собравшихся испустили крик, подобный радостному боевому кличу. Затем снова все стихло.
Библий простер правую руку, так что кровавый обрубок показался из белого рукава. Он крикнул:
– Так ты отступник? Мы издалека взирали на тебя, мы радовались твоему усердию и надеялись когда-нибудь видеть тебя, одного из наших, на месте епископа!
Вольф пожал плечами. Перед ним стоял отец, который поднял руку и прошептал:
– Но ведь я поклялся…
Библий властно возвысил голос:
– Вольф, сын старого солдата, обманул нас! Его отец поклялся нам, что его сын станет монахом, и там, в пустыне, подготовит почву для истинного христианства и придет на наш зов, когда мы станем достаточно сильны, чтобы одного из наших людей назвать главой христианства!
После этих слов Библия Вольф вскочил на какой-то обломок и, держась левой рукой за выступ чьей-то могилы и вытянув вперед правую руку, крикнул:
– Христианство не должно иметь никакого главы, а в полной свободе пребывать в каждом из нас! Вычеркнуть меня из человечества, принуждать стать монахом – никто не имеет на это права! Этого мог бы пожелать только я сам, имей я в себе частицу духа Иоанна Крестителя! Братья, не заставляйте меня! Поистине, я верный христианин и скорее умру, чем отрекусь от Господа или принесу жертву римским идолам. Но вашим идолам я также не поклонюсь! Жалейте меня, если хотите, так как я не таков, каким хотел бы быть. Я люблю Спасителя, но я не настолько христианин, чтобы следовать всем его заповедям! Я не могу любить своих врагов, не могу подставит своей щеки под удар, не могу отказаться от красоты мира. Может быть, когда христианству исполнится две тысячи лет и оно станет не словами, а чувством, тогда легче будет следовать учению Христа. Я хочу умереть за Иисуса, но до этого наслаждаться прекрасным миром его отца!
Партия каменотеса назвала Вольфа аристократом и эпикурейцем, последователем Библия, анархистом и атеистом. Завязался долгий спор по вопросу, прекрасен мир или нет. Глубоко под землей в сырой пещере спорили они об этом, пока факелы не погасили и через трещины не начал проникать желтоватый свет. Тогда Библий мрачно распустил собрание. Не прекращая споров, один за другим поднимались собравшиеся по узкому проходу к выходу на египетское кладбище.
С новым факелом проводил старый солдат своего сына обратно в таинственный дом. Библий не произнес ни слова. Только когда на пороге дома они расставались, он сказал своему хозяину:
– Я простил тебе некогда один грех, так как твой лживый голос обещал мне, что твой маленький сын спасет нас. Посмотрим теперь, сможет ли он, враг попов, простить убийцу.
С оскорбленным видом Библий гордо возвратился в свою башню. Старый солдат смиренно последовал за сыном в комнату, где вечная лампада бросала розовый отсвет на старое оружие. Там, чтобы подкрепить сына, старик налил ему кружку вина и тихо спросил:
– Вольф, я не умею ни читать, ни писать. Но ты знаешь все, ты учился всему. Как было дело с императором Юлианом?
Сделав большой глоток, Вольф ответил:
– С крестным отцом прекрасной Ипатии? Пожалуй, он был назарей. Он лучше многих понимал учение Ария. Конечно, как римский император он боялся настоящих христиан, так как для них мир и господство не так важны, как царство на небе, к тому же Юлиан ненавидел предводителей церкви, которые начали из новой веры ковать очередное ярмо для рабов государства. Таким образом, он щадил истинных христиан и преследовал епископов, скрывавших слово освободителя и основавших новое государство лишь для собственного блага. Тогда епископы обманули истинных христиан и натравили их на бедного императора.
Старый солдат склонился над своим сыном и воскликнул:
– Вольф, тут ничего не поможет. Ты все прочитал в своих книгах. Ты, конечно, понял, о чем говорил Библий; в своих книгах ты нашел, почему вот этот лук покрыт кровью. Скажи мне, ты ведь знаешь, что я застрелил императора?
Старик крича упал на колени:
– Да, да, да, да! Я сделал это, потому что он разжаловал меня перед полком, потому что все христиане хотели этого, потому что этого требовал Афанасий. Этим луком, на рассвете… Он жил после этого два часа. Я же – двадцать лет!
– Мать знала это?
– Ты этого не знаешь? Впрочем, этого ведь нет в книгах. Я нашел ее по ту сторону Альп, она была дочерью князя, и я взял ее по праву войны. Она жила в моей палатке и в моем доме, но, клянусь Спасителем, я был ее рабом. Все было напрасно. Она не хотела меня. Однажды ночью, уже после персидского похода, я был вне себя, и она схватила вот этот кинжал, тогда я рассвирепел и рассказал ей, чью кровь пролил когда-то. Не знаю почему, но с тех пор она стала моей женой, была очень ласковой. А вскоре перешла в христианство. Может быть, она полюбила меня за тот поступок. Мы, бедные глупцы, никогда ничего не знаем. Но она была дочерью князя и могла читать христианские книги… Через некоторое время родила мне тебя, ты вырос и становился красивым и сильным. Вскоре я посвятил тебя нашей церкви, но когда я узнал, что епископ – еретик и истинная вера только у Библия, жена попросила моего разрешения сходить с тобой на свою родину. Она хотела, судя по ее словам, посмотреть: живы ли ее родственники, и как им живется. Думаю, она искала тебе княжество на своей родине. Пять лет я прожил один. Пять лет искала она для тебя немецкое княжество. Домой она вернулась, усталая и бледная, и спустя несколько лет умерла. Знаешь, она называла тебя Ули.
Вольф, ради матери, не покидай меня. Я не знаю, зачем я совершил убийство!
Старый солдат откинул с лица седые пряди, чтобы лучше видеть глаза Вольфа, а потом вдруг рассмеялся и прижал сына к своей груди.
Глава IV
НОВЫЙ АРХИЕПИСКОП
Выборы нового архиепископа были назначены на начало сентября. Когда во время одного из своих припадков гнева Феофил умер, казалось естественным, что его преемником станет один из членов какой-нибудь народной партии. Пока старый архиепископ боролся со смертью, в обществе вспоминали его жестокие слова и еще более жестокие поступки. Будучи юношей, во время одной большой предвыборной кампании, он схватился за нож. Достигнув своего высокого положения, Феофил неслыханным доселе образом оскорблял и притеснял враждебные партии, а преследуя свои честолюбивые планы, не щадил ни жизней отдельных лиц, ни благополучия всего города. Этот архиепископ первый в своей беспощадной ненависти ввел такую ожесточенную предвыборную борьбу, первый научил избирателей побеждать противников, как на войне, голодом и оружием. Конечно, честолюбию жителей египетской столицы льстило сознание того, что избранный ими (все равно какими путями) человек становится одним из важнейших лиц в государстве. На церковных соборах александрийский архиепископ имел решающий голос. Почитатели называли его патриархом, и даже его соперники из Рима и Константинополя чувствовали, что должны прислушиваться к его мнению. Большинство считало, что Александрия стала столицей христианского мира, и александрийские епископы могут, как наместники Бога на земле, предписывать всем христианам, как им следует веровать, думать и поступать. Последнее не только давало пищу гордости и высокомерию жителей нильской столицы, но и обещало им в будущем значительные доходы. О пользе всего этого, с точки зрения спасения души, разговоры не поднимались.
Во время приготовлений к выборам большое значение придавали словам наместника, который на одном обеде среди старейших коммерсантов города отметил, что Александрия поддержит свою высокую репутацию, но именно поэтому новый архиепископ должен быть человеком уступок и мира, так как времена кровавых предвыборных схваток миновали, правительство не станет поддерживать фанатика.
Тем самым он намекал на архиерея Тимофея, человека времен Ария, сына раба, пробившегося в верхи, который, хотя и перешел в эпоху кровавого Феофила на сторону господствовавшей партии, но не сделался откровенным перебежчиком, а, напротив, старался тайком поддерживать старых сотоварищей. Трудно было сказать: делал ли он это из боязни их мести или по доброте; достаточно было того, что Тимофей имел большой успех среди бедных выборщиков предместий, а если бы его поддержало и правительство, то большинство было обеспечено.
Правоверная партия казалась настолько испуганной, что ее кандидат вначале совсем не осмеливался выступать. Только за неделю до выборов на всех уличных перекрестках появились объявления, в которых племянник кровавого Феофила, по имени Кирилл, выставлял свою кандидатуру на высокую должность, обещал своей родной Александрии и ее населению, от патриция до последнего бедняка, золотые горы, а в конце повторял, как свои собственные, слова наместника. Он утверждал, что хочет только мира между различными партиями и, как плодов такого мира, – мощи и значимости для Александрии.
Выборы проходили с невиданным волнением. Обе партии выдвигали в своих программах слова императорского наместника, и не было речи о каких-либо существенных разногласиях. Ораторы в различных округах могли бы с одинаковым правом произносить свои речи как за Тимофея, так и за Кирилла. Казалось, дело сводилось к тому, кого из двух наместник сочтет более согласным проводить его программу. Последнее не проявлялось, и сторонники правительства несколько дней находились в неведении. Внезапно стало известно, что Тимофей написал послание к округам, в котором перечислял различные спорные пункты между государством и церковью и вежливо, но твердо требовал их разрешения. Кирилл же, наоборот, был принят наместником и окончательно убедил его в своих благоприятных для правительства взглядах.
Тогда страшное беспокойство охватило низшие слои выборщиков. Казалось, что лозунг, под которым можно было бороться за партию бедных и обездоленных, был найден. Племянник Феофила ранее практически не принимал участия в политической борьбе, а его неожиданное преклонение перед византийским всемогуществом обманывало все возлагавшиеся на него надежды. До сих пор его знали как превосходного громогласного проповедника, искусство которого с удовольствием принималось на крестинах, свадьбах и похоронах в знатнейших семействах города. Особенно женщины были в восторге от его зычного раскатистого голоса. Это был статный мужчина, широкое, гладко выбритое лицо которого обнаруживало бы признаки тупой жестокости, если бы это выражение не смягчалось неизменной улыбкой проповедника. Кирилл использовал последние дни, чтобы самому (правда, в сопровождении дюжины сторонников, но все же не без некоторой опасности для своей жизни) агитировать за свое избрание в грязнейших трущобах предместий.
Ораторская ловкость и сила легких часто завоевывали ему внимание. Так же как он присвоил себе программу правительства, так подкреплял он ход своих рассуждений прекраснейшими мыслями евангелий и мятежных писаний вождей различнейших сект, так что, слушая его, можно было подумать, что, подобно новому Мессии, из пустыни явился аскет-монах, чтобы защищать и всесильное государство на земле, и всемогущего Бога на небе от неистовства александрийцев, но, несмотря на все это, верный инстинкт предупреждал избирателей предместий. Никто не верил богатому племяннику Феофила, которому принадлежало несколько доходных домов в самых богатых частях города, и кухни которого славились даже среди богачей; и хотя хорошие намерения правительства признавались всеми, никто не верил человеку, накануне выборов слепо бросившемуся в объятия власти. Иногда Кирилла, к его большому удивлению, осмеивали и провожали ясными и доходчивыми отповедями. В это же время Тимофей, можно сказать, против собственной воли стал единственным кандидатом от бедняков. Ходили слухи, что даже старый, считавшийся мертвым мученик Библий возвратился из Азии или из нового света Атлантики, чтобы в катакомбах проводить агитацию против племянника Феофила и в поддержку Тимофея. Но зато в день выборов каждому христианскому носильщику в александрийских гаванях было известно, что, если выберут Кирилла, хлеб подешевеет. Это обещал сам император.
Таких выборов не бывало раньше даже в Александрии. До полудня народ думал, что у ненавистного Кирилла нет никакой надежды, хотя право выборов у низших слоев населения было весьма ограничено. Но скоро после полудня, от маяка до хижины последнего могильщика, подобно молнии, разнеслось известие, что народ обманут. В последнюю минуту новое толкование закона дало выборное право некоторым, еще не имевшим его, группам чиновников. Иностранцев натурализовали
[236], язычников крестили целыми толпами, только что прибывших присвоением титулов и должностей превращали в полноправных граждан, и, наконец, Кирилл провел совершенно новую систему беспощадного контроля. Колоннами шли на выборы христианские мастеровые союзы, цехи, чиновники и инвалиды. Напрасно старались рабочие и рабы в последние часы собрать свои ряды, напрасно вечером пытались они силой оружия воспрепятствовать неправильным выборам, добиться входа в присутственные места и одним своим присутствием доказать, что истинное большинство не на стороне Кирилла. Тщетно! Войска были заблаговременно приведены в боевую готовность, и прежде чем сигнал к восстанию, исходивший, казалось, из окрестностей разрушенного Серапеума, достиг отдаленных кварталов – все угрожаемые пункты были заняты солдатами. Несмотря на это, восстание разразилось. Именно в западной части произошли самые сильные столкновения. И в то время как громко кричавшие женщины и дети спешили унести из давки трупы своих кормильцев, в то время как сотни раненых валялись на улицах (одни из них проклинали себя и свою пылкость, другие – попов), в главном городском соборе было объявлено, что святейший Кирилл волей народа избран в архиепископы александрийские.
В это же время, когда город был приведен в крайнее возмущение выборной борьбой, совсем незаметно произошло одно событие, показавшееся заинтересованным кругам гораздо более важным, чем спор об архиепископском престоле: прекрасная Ипатия окончила безмолвный траур по своему отцу и, кроме лекций о Птоломеевской системе мира, объявила публичный курс: «Религиозное движение и критика христианства».
Астрономический курс посещался хорошо. Кроме студентов-специалистов приходило бесчисленное множестве студентов других факультетов и даже некоторые профессора, и все удивлялись остроте логики, с которой молодая ученая нападала на величайшего из александрийцев. Но публичный курс, назначенный на воскресенья с девяти до одиннадцати утра, собрал столько слушателей, что в первый же день чтение из обычной аудитории Ипатии пришлось перенести в большой актовый зал на портовой улице.
Четверо молодых афинских ученых в назначенное время снова нашли друг друга. Троил и Александр нисколько не интересовались выборами, хотя отец и советовал последнему предоставить себя в распоряжение правительства. Синезий, как сын патриция, равнодушно голосовал за Кирилла. Вольф, очевидно, принимал более горячее участие в выборах. По крайней мере, на следующий день он появился в университете с пластырем на левой щеке и с перевязанной правой рукой. Но он со смехом отвечал на расспросы, обещая через несколько дней снова быть в состоянии спустить с лестницы всякого, кто захочет помешать лекциям Ипатии. Свою первую публичную лекцию, для проведения которой вследствие наплыва слушателей Ипатия была вынуждена переменить место, она читала в воскресенье за три дня до выборов.
Несмотря на то, что четыре друга пришли до начала «академической четверти часа», они смогли получить себе место только в дверях. Отсюда им было прекрасно видно, что рядом с девушкой стояли молодые люди, присланные сюда с явно враждебными намерениями. Они отпускали достаточно громкие шутки в адрес прекрасного профессора, пытались связывать с ее именем некоторые непристойные истории и в течение всей лекции не прекращали обычного студенческого зубоскальства. Когда из внимания к сотням оставленных за дверью студентов чтение было перенесено в большой актовый зал, и столпившиеся слушатели по коридорам и дворам Академии ринулись в новое помещение, четыре друга изъявили желание стать личной охраной благородной и прекрасной женщины. Под предводительством Александра, которому один из слуг за хорошую плату открыл обычно неотпиравшуюся дверь, они первыми вошли в новый зал и с радостным торжеством заняли среднюю скамью первого ряда, как раз перед кафедрой. Им не пришлось раскаяться. Когда Ипатия после небольшого поклона заняла свое место, Синезий от изумления забыл сесть, Вольф пробормотал непонятное немецкое слово, а Александр и Троил удивленно переглянулись. Еще до начала лекции Троил написал на клочке папируса: «Наконец нашлось нечто, в чем я не сомневаюсь: Ипатия прекрасна». Александр кинул записку обратно, приписав внизу: «Песнь Соломона, глава четвертая, стих двенадцатый».
Простое черное креповое платье мягкими волнами ниспадало с плеч до самых пят. Оно не было модным и не было устаревшим, не было старательно выбрано и не было небрежным, казалось, что прекрасная преподавательница должна быть одета именно так, а не иначе. Великолепную массу своих черных волос, среди которой над левым виском блестела тонкая седая прядь, она едва собрала в упругий узел; но тот, кто видел его в профиль, спрашивал себя, как заструились бы эти потоки вниз по щекам и плечам вплоть до пояса, если бы властная рука не удержала их сзади. Но и без ореола черных локонов спокойный овал лица светился каким-то неземным сиянием. Ее бледные щеки постепенно розовели, и что-то вроде легкой тени улыбки появилось на лице, когда громадный зал стал наполняться слушателями. Ипатия улыбнулась смущенно и радостно, как ребенок в день рождения. У нее был прямой нос и благородный, тонко очерченный и расписанный на висках голубыми жилками лоб, но неподражаемое выражение всему ее лицу придавали большие черные глаза, сначала так беспомощно и радостно-застенчиво поднявшиеся на толпу студентов, а во время лекции смотревшие безжизненно, как глаза статуи, и в то же время сверкавшие внутренним пламенем, проникающим сквозь стены. Глубокий мягкий голос говорившей отвлекал от всяких посторонних мыслей, которые могли бы зародиться у некоторых студентов при первом взгляде на прекрасную преподавательницу.
В большом зале несколько студентов с задних рядов попытались мешать, но при помощи четырех друзей они были энергично призваны к порядку, и Ипатия могла спокойно читать свою двухчасовую лекцию. На первый раз это было почти сухое введение.
Она поставила своей задачей, как сказала сама, применить способности, выработанные при изучении математических дисциплин, к разрешению высших задач, а именно: к рассмотрению нового миросозерцания. Христианство, как кажется, рассчитывает покорить культурное человечество. Настало время для философов рассмотреть основания этой религии; имеют ли священные книги христиан действительно высшее происхождение, нежели обыкновенные книги, а если согласиться и с этим и со всеми чудесными историями, то согласуется ли жизнь христиан с учением их священного писания. Она намеревалась рассмотреть это. В этой своей работе Ипатия имела великого предшественника в лице несчастного императора Юлиана, который с громадным знанием и несравненным остроумием разоблачал чудесные истории и догматические теории епископов. Однако после неожиданной смерти великого императора его труды подверглись уничтожению. Тогдашний александрийский епископ приказал сжечь все работы Юлиана, как будто огонь может уничтожить истину.
Свою лекцию Ипатия закончила вдохновенными словами, полными надежды на возрождение Юлиановых истин.
«Бедный учитель нашей Академии не в состоянии даже воссоздать планы, посредством которых император Юлиан хотел передать потомству наследство греческого гения. Государство уже начинает рушиться и нет никого, кто бы защитил его границы. С севера и с востока расхищают варвары государственное наследство. Но его дух, дух великого императора, не должен погибнуть. И даже бедный преподаватель нашей Академии имеет право поставить целью своей жизни поиск Юлиановой критики так называемого Нового завета, обнародование ее и продолжение, по мере сил и возможности. Эту работу возложила на себя я и не ожидаю награды иной, чем была награда императора Юлиана».
Само собой разумеется, что некоторые студенты, а среди них и знакомая нам четверка, проводили молодую женщину, которой могла угрожать какая-либо опасность, на протяжении тех нескольких сот шагов, отделявших ее от дома. Почтительно, на приличном расстоянии, но достаточно близко, чтобы помешать оскорблению, продвигались они вслед за Ипатией.
Так же прошла и вторая лекция в воскресенье после выборов.
Именно в этот день новый архиепископ произнес свою первую проповедь в соборе. И он был немало оскорблен недостаточной численностью прихожан. Правда, чиновничество было представлено почти полностью, знатнейшие семейства занимали свои обычные места, а сзади теснились лишь старухи и члены рабочих союзов. Гремя своим прекрасным голосом под церковными сводами, Кирилл не мог не подумать, что, кроме этих старух, никто не пришел на его проповедь по собственной воле. Недовольный, окончил он свои наставления, недовольный, он принял в алтаре поздравления клира. «Это должно было быть иначе», было единственной мыслью, которую в разных формах высказывал он чиновникам и духовенству. Когда со своей пышной свитой хотел он отправиться из портала собора через портовую площадь к своему дворцу, дорогу ему пересек поток молодых людей высшего общества, которые, оживленно разговаривая, выходили из здания Академии. На вопросительный взгляд архиепископа его секретарь Гиеракс ответил, что это – слушатели язычницы Ипатии, оскверняющей воскресенья своей критикой христианства и имеющей успех, неслыханный на протяжении всей истории человеческой мысли. В этот момент, когда два заговорившихся студента даже толкнули Кирилла, на пороге аудитории появилась сама Ипатия, прямая, строгая и гордая, как на кафедре, покрывшая прекрасную голову длинной черной шелковой накидкой. Неподалеку от нее шло около тридцати студентов, внимательно, но молчаливо, как личная охрана. Из нескольких сотен ртов вылетело короткое «ура», и, с легким поклоном, Ипатия, сопровождаемая своей стражей, завернула за угол академической постройки.
Архиепископ Кирилл остановился, как бы желая смиренно пропустить поток молодежи. Но его гладкое лицо покрылось желтоватой краской, и секретарь прошептал своему соседу:
– Да! Еще ее критику он, может быть, ей и простил бы, но такого успеха – никогда!
Глава V
НАМЕСТНИК ЦЕЗАРЯ И БОГА
После выборов архиепископа прекрасная Александрия стала ареной всевозможных битв, разыгравшихся то на городских улицах, то в письмах и донесениях, направлявшихся из областной столицы в Константинополь и в обоих случаях одинаково горячо интересовавших все население, два первых лица города, наместник и архиепископ, спорили о том, кому править Александрией.
Более образованная часть населения (как язычники, так и христиане) стояла на стороне уполномоченного императора. Деды теперешних граждан были свидетелями незначительного положения и скромного образа жизни первых александрийских епископов. Это были простые защитники христианской бедноты, честные, бесстрашные и прямодушные люди, ведущие дела своих притесняемых единоверцев, произносившие проповеди в пользу благотворительности или общинной кассы, отдававшие отчет в своих расходах, не имевшие, наконец, как беднейшие среди бедных, ничего своего, кроме нагого тела, которое они ежедневно готовы были отдать своим преследователям во имя будущего небесного царства. Городской знати вовсе не нравилось, что эти голодающие представители народа постепенно превращались в гордых и богатых попов, которые, не думая об облегчении нужд бедных и бесприютных, занялись оспариванием положения императорского наместника. Как было сказано выше, александрийское общество в душе было на стороне наместника Ореста, но – так или иначе – оно было христианским, и в конце концов в каждом конфликте приходилось обращаться к представителю церкви.
По сравнению с сорокалетним Кириллом, преимущества оказались не на стороне шестидесятилетнего наместника Ореста. Новый архиепископ, местный уроженец, был деятелен и фанатичен. Орест не был египтянином. Он происходил из знатнейшего и богатейшего коринфского семейства, быстро сделал карьеру в нескольких прибрежных городах Малой Азии, а затем в военном министерстве Константинополя и, наконец, в сравнительно молодом возрасте, стал провинциальным управителем, а затем и пожизненным наместником всего Египта. Он любил страну, в свободные часы предавался археологическим изысканиям и не усердствовал чрезмерно в работе. Текущие дела решали его чиновники, а он аккуратно подписывал все, что подавалось на подпись. В течение двадцати лет правления он ни разу не был особенно озабочен судьбами своей провинции. Он сумел лучше большинства своих предшественников блюсти правосудие, а в кротости и человечности превзойти всех. Главное было то, что в Константинополе им были довольны и ни разу не предлагали просить отставки вследствие «расстроенного состояния здоровья». Он знал двор и столицу. Там считалось лучшей та провинция, о которой меньше всего говорили, и его гордостью было сделать Египет лучшей провинцией римского государства. К тому же Орест отлично понимал, что кесарево надо отдавать кесарю. Непрерывное существование римского государства было для него само собой разумеющимся основанием, на котором покоилась его жизнь и наличие неисчислимых миллионов. Император мог быть безумным убийцей или человеколюбивым философом, – для Ореста это ничего не меняло в существе государства. Упадет ли в одном случае несколько сот голов, или столько же сот людей в другом случае будут награждены за свои добродетели, ему было совершенно безразлично. Это ничего не меняло в идее государства, а главное – в том могучем государственном механизме, в котором он – наместник Египта – являлся далеко не последней частью. Все могло идти вкривь и вкось, за четыреста лет царствования не было дня, чтобы в каком-нибудь уголке неизмеримого государства не было войны или революции, могущество и величие Рима продолжало невредимо и неизменно править над всей цивилизованной частью мира. Священное римское государство давало возможность всем своим гражданам, – а прежде всего избранному греческому народу, – исполнять назначение человека: умеренно наслаждаться жизнью, не забывая себя, служить государству и заниматься искусством и наукой.
Конечно, семейство Ореста уже в течение двух поколений было христианским. Только в продолжение краткого Царствования Юлиана приносило оно жертвы старым богам. Орест был христианином так же, как по праздничным дням он надевал свой мундир. Он причислял христианство просто к числу своих обязанностей, безразличных обязанностей правительства. Он охотно не пошел бы в воскресенье в церковь, если бы там, в его удобной ложе не дремалось еще спокойней, чем в рабочем кабинете. В его служебном помещении ему все-таки могли помешать, а в церкви во время проповеди это было запрещено законом.
Предыдущий архиепископ с его кровавыми преследованиями инакомыслящих был противен гуманному чиновнику. Но в конце концов это были внутренние дела церкви, в которые государственный человек никогда не желал вмешиваться. Если у этих христианских партий такие несговорчивые боги, то пускай себе они борются друг с другом.
И христианский губернатор клялся Зевсом, что в этих попах сидит черт, распаляющий их друг против друга. Раньше было совсем по-другому: когда римские императрицы зарабатывали насморк, они приказывали попам своих религий, одному за другим, читать их молитвы и, наконец, – до следующей лихорадки – принимались верить в того Бога, после молитвы к которому могли целоваться со своими любовниками. Это доброе старое время!
По этой причине Орест был весьма неприятно задет, когда новый архиепископ, так чистосердечно перед выборами обещавший прочный союз, вдруг внезапно, как только из столицы пришло его утверждение, оказался честолюбивее и заносчивее своего грубого предшественника.
Прежде всего новый архиепископ на основании каких-то, никому, однако, недоступных документов, отобрал для себя ложу наместника в соборе, а ему предоставил место напротив, которое было и уже, и темнее. В первый раз в жизни Орест изменил своему правилу – не спорить из-за высшего места. Он написал официальную жалобу своему начальству и в любезных светских письмах доверился наиболее влиятельным дамам двора. Но ничего не помогло, ему пришлось уступить свою ложу. Лично он легко примирился бы с этой переменой, так как на новом месте можно было дремать с гораздо большим удобством, чем в прежней высокой и светлой ложе. Но теперь в нем был затронут чиновник, первый представитель цезаря, и он не мог понять, как легко поступились в столице иерархическим честолюбием. Он по-прежнему видел в цезаре высшего епископа всего государства и не мог понять, почему попы одного Бога должны быть важнее, чем жрецы трехсот остальных. Однако в Константинополе были, очевидно, другого мнения, легко идя на уступки в формальных спорах с представителями новой веры, и Орест был слишком хорошим чиновником, чтобы в конце концов не подчиниться, хотя бы и супротив своих убеждений.
Легче было ему уступить в другом вопросе, поднятом благочестивым Кириллом также немедленно после своего назначения, – в иудейском вопросе. Иудеи помогли основать Александрию. Они пользовались как протекцией Александра Великого, так и защитой египетских царей, образовывая как по численности, так еще больше по богатству и гражданскому рвению весьма значительную часть населения. С тех пор как появилась новая вера бедняков и несчастных, сразу завладевшая чернью и постепенно подчинившая себе консервативных и знатных представителей старой местной религии, – свободомыслящие, образованные и, во всех отношениях, старательные иудеи Александрии образовали собственно торговую группу. Город имел в них лучших плательщиков податей, государство – самых преданных подданных. Иудеев нельзя было считать, как раньше, чуждой расой. В то время, как египтяне до сих пор не были похожи на своих греческих правителей ни одеждой, ни языком, ни цветом кожи, – иудеи чаще всего отличались от греков только большей остротой ума. Легкие следы Востока сохранялись, быть может, в их одежде, овале лица и произношении, но эти маленькие детали нисколько не мешали хорошим отношениям. Рассказывали даже, что это пикантное смешение часто будило интерес дочерей французских графов и немецких герцогов, и обратно – пламенноокие дочери иудейских коммерсантов нередко уступали ухаживаниям офицеров провинциальной армии. Это замечательное положение дел нарушалось только тогда, когда доброму александрийскому народу, по случаю горя или радости, приходила в голову мысль разгромить какую-нибудь иудейскую лавочку. В простом народе национальная ненависть к иудеям тлела с незапамятных времен. На этой народной ненависти и стал играть Кирилл в первой же своей проповеди, когда он увещал верных не осквернять воскресного покоя. Известно, что как раз по воскресеньям еретические лекции отвлекают молодых людей от церкви. Если богатые иудейские олухи охотно следуют нелепой моде – это нисколько не удивляет архиепископа. Но когда сотни юношей из наиболее уважаемых христианских семейств начинают таким образом служить Антихристу – то этим на бесконечные времена отодвигается наступление царства божия и обманываются надежды многих миллионов днем и ночью молящихся, чтобы отверзлись могилы, и живые приобщились к красоте небесного Царства. Эти слова незаметно способствовали травле иудеев, начавшейся после этого, более или менее открыто, во всех церквях Александрии. Последствия не замедлили сказаться, и скоро у начальника полиции, а потом у Ореста, оказалось вдоволь работы, направленной на сохранение порядка в городе. Хотя попы постоянно утверждали, что их интересует только спасение душ верующих, последние постоянно понимали их по-своему, и не проходило воскресенья, чтобы полиции или войскам не приходилось прекращать или предотвращать погром в иудейском квартале.
Орест был вполне доволен иудеями и собственно даже любил их, охотно посмеиваясь в то же время над их маленькими слабостями и с удовольствием слушая за столом их старые анекдоты. Поэтому он открыто вступился за угнетаемых и имел удовольствие получить из Константинополя предписание не допускать особенно жестоких притеснений. Выступить прямо против призывов ненависти ему не позволили: это чисто церковное дело, в которое правительству не следует вмешиваться; приходится также считаться с особенностями каждой провинции. Да, наконец, иудеи привыкли к этим маленьким экзекуциям и без них не были бы такими отличными гражданами… Наместник удовольствовался этим, позволял священникам выкрикивать зажигательные речи и преследовать бедняков, неправильно понимавших своих проповедников. Он известил только своего министра, что при таком порядке назревает конфликт, который, при удобном случае, может перерасти в кровавую схватку.
Гораздо ближе затронул наместника третий вопрос, одновременно поднятый архиепископом. Древняя Академия должна быть полностью передана церкви; следовало уничтожить последних язычников, преподававших в ней свою древнюю мудрость, и разогнать молодежь, желавшую учиться для того, чтобы использовать потом свои знания на пользу радикальным сектам и политическому либерализму. Имен не называлось, но всей Александрии было ясно, что эта борьба велась исключительно с прекрасной Ипатией и ее «Критикой христианства». Кроме нее, в Академии преподавало трое-четверо не христиан, старых специалистов, никак не применявших своих религиозных воззрений. Ипатия одна сознательно боролась с наступлением церковного засилья и, как сама она, всей своей гордой осанкой и изумительными глазами, казалось, протестовала против новой церкви, враждебной красоте, так при каждом случае старалась она учить греков любви к миру, поэтам, природе, любви к подвигам человеческого разума. Поэтому в ее аудиторию продолжали стекаться все еще оставшиеся в городе безбожные радостные греческие сердца. Со дня первого выступления Ипатии чернь была настроена против нее отчасти стараниями духовенства, но главное – усилиями отшельников, ожидавших царства божия, предававшихся бичеваниям и посту, а потому после черта ничего не ненавидевших так сильно, как греческих богов, поэтов и философов, которые все происходили от дьявола. Однако бешенство монахов не могло проникнуть в Академию. Только среди далеких обитателей, столпников и других святых, а также в окрестностях Александрии, в грязных предместьях христианской черни, зарождалась постепенно легенда о том, что в замке сатаны – в Александрийской Академии – обитает самый главный дьявол в образе дивно прекрасной женщины, вампира в женском облике, который по ночам пьет кровь благороднейших юношей страны и отвращает их от истинного Бога, вампира, которого в сумерках можно видеть в старых постройках времен фараонов, в виде молодой женщины, совершающей мерзкий блуд с крылатыми чудовищами. В нильских монастырях говорили, что первые рассказы об этой дьявольской женщине вышли из кельи благочестивого мужа Исидора, искушаемого по ночам дьяволом как в прекрасных, так и в отвратительных формах, покрывавшего поэтому тело свое тысячью ран и неспособного солгать перед символом креста.
От таких нападок архиепископ и его духовенство держались в стороне. Имя Ипатии называлось редко. Но постепенно знатнейшие семейства города узнали, что миру между церковью и государством, а также наместником и архиепископом, не препятствует никто, кроме одной женщины, правда, прекрасной преподавательницы, но все-таки едва ли стоящей того, чтобы из-за нее страдали материальные интересы города. Когда надо было подправить гавань, а архиепископ не желал уступить ничтожного клочка на территории собора – в этом была виновата Ипатия. Если не могло состояться соглашение между двумя родственными христианскими сектами, то этому мешала Ипатия. И, наконец, то там, то здесь начинали думать, что приказ запирать все трактиры в десять часов вечера, приказ, который был выхлопотан архиепископом прямо из Константинополя, происходил из-за недовольства языческими лекциями Ипатии. В городе не переставали считать прекрасную Ипатию одной из александрийских достопримечательностей, но никто не имел бы ничего против, если бы прекрасный профессор принял приглашение проехаться в Константинополь.
В донесениях и в частных письмах Орест с невероятной энергией принялся защищать ученую женщину, полностью перешел на ее сторону. В результате всего, оттого ли, что при дворе хотели хоть в этом единственном случае уступить заслуженному сановнику, или благоговейно сохранить полутысячелетнее великое прошлое Академии в лице ее последнего философа, оттого ли, наконец, что настояла на своем греческая придворная партия, или правительница захотела дать женщине восторжествовать над всемогущим архиепископом – так или иначе, Орест получил благосклонный приказ непреклонно охранять древний дух Академии против поползновений церкви, а особенно защищать от всяких случайностей ученую Ипатию, крестницу императора из рода Константина Великого.
Никакой другой приказ не мог бы быть приятнее для наместника. Из всех посетителей его роскошных собраний больше всего он любил прекрасную женщину-философа. Он ввел ее в свой дом задолго до ее открытого выступления, чтобы иметь возможность вести с ней, как и с другими учеными города, живые разговоры о своих археологических увлечениях. Он достаточно любил ее, чтобы встречать с почти демонстративным почтением, и, кроме того, честолюбию старика льстило, что людская молва допытывалась, не выражала ли прекрасная Ипатия особенной благодарности наместнику за оказываемое покровительство.
Со дня смерти отца Ипатия не посещала больших собраний наместника, но постепенно привыкла снова заходить на его непринужденные «ученые» вечера. Здесь все собравшиеся искренно и без зависти считали ее не только самой прекрасной и самой ученой, но и самой знатной. Здесь же, весной, познакомилась она с четырьмя офицерами своей лейб-гвардии. С тонкой улыбкой поклонилась она, когда в одну из пятниц, вечером, ей представили докторов Троила и Синезия. Она благодарно усмехнулась, когда несколько недель спустя появился Александр Иосифсон, в первый же час нового знакомства рассказавший ей, что четыре друга сумели проникнуть в этот дом с помощью Синезия, чтобы она не оставалась без своей лейб-гвардии и там, где опасность не была такой явной, как на улиде. И этим же вечером Ипатия слегка смутилась, когда перед ней предстал глава первой средней скамейки белокурый Вольф, который, молча поклонившись, спросил ее, прощает ли она, что он и его друзья сделали себя ее рыцарями и раздобыли место около ее кафедры.
– Вы ведь германец, – сказала Ипатия, – не правда ли? Вы присутствовали когда?.. Вы должны рассказать мне об обычаях вашей родины.
– Когда я смогу это сделать?
– В любое время, когда вы захотите, чтобы я вас слушала.
И тогда Вольф сразу начал рассказывать про обычаи страны, лежащей по ту сторону Альп, про родину своей матери.
Глава VI
ЖЕНИХИ
Не заботясь о недоброжелателях, Ипатия продолжала свои занятия и лекции. Отыскивая истину, невозможно думать о себе. Ни Александрийский архиепископ, ни сам константинопольский император не могли иметь никакого влияния на результаты вычисления длины орбиты Марса.
Астрономические лекции протекали вполне спокойно. Несмотря на то, что выводы Ипатии, а еще более открыто высказываемые ею предположения, шли вразрез со всем мировоззрением той эпохи, опасность не сознавалась студентами достаточно отчетливо. А шпионы не были в состоянии следить за ходом ее мыслей.
Но открытый богословский курс с каждой неделей становился все неспокойнее и опаснее. Почти всякий раз, когда она, в сопровождении своей лейб-гвардии, входила в огромный зал, до начала лекции разыгрывалось небольшое сражение между приветственным топотом и злобным свистом. Почти каждый раз кончалось тем, что тот или иной из противников Ипатии, в качестве устрашающего примера, выставлялся за дверь. Большинство студентов состояло, конечно, из почитателей Ипатии, и они старались быстрым совершением правосудия скрывать от нее подобные выходки. Но они не могли воспрепятствовать адскому шуму, который противники устраивали часто в конце лекции не столько для того, чтобы досадить лектору, сколько, чтобы выказать свое несогласие. Обычно шум прекращался, когда Вольф со своим богатырским видом обходил зал и, полусмеясь, полухмурясь, направлялся в сторону особенно усердствовавших крикунов. Подчас дело заканчивалось потасовкой.
В стране настала жаркая весна, и все умы были заняты вопросами о новой жатве. Большинство профессоров прекратили лекции. Одна Ипатия с удвоенным старанием продолжала выполнение своего плана.
Почти что чудом удалось ей получить помощь для выполнения намеченной цели – собрать и дополнить критические сочинения императора Юлиана. Никто не должен был знать, что именно дядя Александра, книжный торговец Самуил, доставил ей несколько наиболее редких сочинений, императора. Книги, последний список которых считался уничтоженным, лежали в каморке лавки Самуила и были тайком переправлены оттуда в академическую библиотеку. Ипатия должна была прервать собственную критику христианства и предоставить слово своему императору. Неделю за неделей читала она перед своими слушателями остроумные нападки и злые насмешки императора Юлиана. То, что по мнению духовенства было окончательно позабыто и похоронено, пробуждалось, становилось предметом разговоров и, подкрепленное двойным авторитетом императора и прекрасного философа, шло из Египта в Антиохию, Рим и Константинополь. Никто не мог упрекнуть преподавательницу в любви к кощунствам. Спокойно опираясь на свободу науки, она исследовала подлинность евангелий так же, как обычно исследовалась подлинность Гомеровских стихов; она критиковала новое учение
епископа Августина о свободе воли и благодати так же, как критиковала Платона. И уничтожающие шутки императора Юлиана над новыми небесами, над соборами и возглавлявшими их евнухами она цитировала так же спокойно, как какой-нибудь из ее коллег цитировал насмешки Лукиана над греческим Олимпом. Что можно одному, должно быть, позволено и другому. Для науки не существует неприкосновенной истины. Обычай убивать и пытать инакомыслящих нельзя назвать особенно удачным возражением.
Церковники чувствовали себя бессильными против бесстрашной женщины, которая, казалось, и не подозревала, что без поддержки наместника и без покровительства двора ее дело было бы проиграно. В аудитории ее враги были достаточно напуганы, а на улице Ипатию постоянно окружала добровольная стража. Но изредка оскорбления долетали и до нее. «Атеистка, богоубийца», – кричали ей священники, а со стороны какой-нибудь торговки раздавалось: «Студенческая девка»! Но эти оскорбления, казалось, не затрагивали Ипатию. Да, вероятно, она их и действительно не слышала. А если и слышала, то они соскальзывали с нее, как вода с лебединых крыльев.
Что не удавалось черни, удалось архиепископу, а именно: побудить ее к борьбе. Кирилл направил к наместнику несколько писем с просьбой возбудить против Ипатии преследование по обвинению в кощунствах. Орест, посмеиваясь, сообщил об этом Ипатии, которая с непрерывно возраставшим негодованием видела, как искажались ее слова, как императору Юлиану и ей самой приписывались непристойности и гнусности. В середине июня, в одно воскресное утро, гнусное обвинение повторилось. Она только что приготовилась изложить Юлианову критику христианского безбрачья, так как в это время оно снова стало требоваться наиболее строгими учителями церкви и вперемежку с бесконечными оскорблениями женщин проповедоваться во всех церквях. Такие же оскорбления в адрес женщин нашла она и в новой проповеди архиепископа.
Ипатия отбросила книги и донос и взволнованно зашагала взад и вперед по своей комнате.
Это осмеливался говорить о ней наместник Бога! О ней, которая с той минуты, когда она начала думать, подавляла в себе всякое человеческое чувство и выросла в стенах этой Академии, которая не знала ничего вне своей библиотеки, обсерватории и аудиторий, которая укорачивала свой сон, чтобы изобретать новые инструменты, такие инструменты, которых этот архиепископ и понять не был в состоянии. Если мореплаватель мог теперь с большей безопасностью выплывать из Геркулесовых столбов вплоть до фризских берегов, то этим он был обязан бессонным ночам Ипатии. И этот человек осмеливался позорить ночной свет ее комнаты!
Неожиданно Ипатия засмеялась: ее гвардия появилась перед выходом, настало время лекции. Быстрее обыкновенного, с высоко поднятой головой, шла она через портовую площадь к своей аудитории. Когда она начала говорить, ее руки дрожали от волнения. На этот раз она не взяла с собой никаких конспектов.
В своей лекции она указала на основное противоречие, в котором были повинны учителя церкви, ибо они подняли простую женщину на высшее место в небесах в образе божьей матери и в то же время вышвырнули ее из церкви, из общины верующих, даже из брака. Святой Иероним поучал в Палестине, что всякий человек, прикасающийся к женщине, становится слугой дьявола. Ну, святому Иерониму и карты в руки, так как именно вследствие такого служения дьяволу пришлось ему оставить Рим. Но дело не в личностях. Через все христианское церковное учение проходит болезненное отвращение к природе и к красоте, а так как в женщине соединены и природа и красота, то христианство ненавидит женщину и ненавидит ее еще больше когда к своей красоте и природе она стремится присоединить еще и свободу духа.
Ипатия не могла говорить иначе. Все студенты почувствовали, что она думала не о себе, что она вовсе не хотела подчеркнуть своей красоты, когда при этих словах все крепче и крепче нажимали на стол ее белые пальцы. Затем она вскочила и продолжала говорить с такими горящими глазами, что, казалось, от ее лица исходит сияние.
– Нелегка была судьба женщин – современниц Платона и Перикла. Мыслящие женщины великой эпохи тяжелой ценой должны были завоевывать себе возможность быть равноправными товарищами великих мужей. Всякая грязь и пошлость лилась на них, и не все они остались чисты. Но лучшие люди того времени были далеки от того, чтобы презирать женщину. Они были слишком благородны, чтобы стыдиться красоты и радости там, где были и радость и красота; они были слишком честны, чтобы не быть благодарными, если могли обменяться с благородной сверстницей мыслями, которые посылали им обоим боги. Да, они были слишком честны, чтобы женщину, посвятившую свою жизнь познанию, учению, поискам истины, одним презрительным словом приравнять к животным. И если весь мир склонится перед софизмами
[237] церковного учения, то по воле богов останется одна женщина, которая будет бороться с лишением ее человеческого достоинства во имя уподобления мужчин неведомым ангелам. Быть может, когда-нибудь, некий новый народ научит нас, что любовь к женщине есть в то же время и величайшее уважение! – Ипатия много отдала бы, чтобы удержаться и не посмотреть в эту минуту на белокурого юношу, сидевшего на правой скамейке. – Да, господа, простите мне мое волнение, но эта борьба за истину в конце концов затрагивает и меня лично… Вы не знаете всего, что мне приходится слышать и читать… и так, пока не появится народ лучше греков, до тех пор буду я утверждать, что подруги великих греков – Феона, Фаргелия, Тимандра и пресловутая Аспазия представляют собой более благородные женские образы, чем ученицы Иеронима, отрекавшиеся от всего человеческого, от красоты, счастья, знания, как будто они сознательно хотели сделать себя болезнью человеческого рода. Лучше какая-нибудь Аспазия, чем монахиня!
Ипатия не могла продолжать. С последних рядов начали шуметь. Сначала раздался резкий свист, а затем со стороны сотни раздраженных слушателей – вой, свист и шипенье. Остальные студенты слушали несколько секунд, как будто этот перерыв был успехом прекрасного оратора. Затем несколько сот человек вскочили как один и в один голос с воодушевлением и угрозой закричали: «Да здравствует Ипатия!». Они махали своими тетрадями и шапками и сами, не зная почему, пожимали друг другу руки. И лишь потом вспомнили о противниках, но не так, как обычно, чтобы восстановить порядок и обеспечить продолжение лекции. Нет, на этот раз вышло иначе. Нельзя постоянно только кричать «ура» и размахивать шапками. Надо ведь как-нибудь выразить свой восторг, радость и восхищение Ипатией! И после неописуемой овации сторонники последней без гнева и злобы, а исключительно из огромной радости поколотили врагов и выкинули их на улицу.
Продолжать лекцию было невозможно, и, чувствуя себя несколько неловко, Ипатия возвратилась к себе.
Негативные последствия не замедлили сказаться. Архиепископ получил возможность с большим, чем до сих пор, правом, утверждать, что Ипатия оскорбляла уважаемых епископов, в церквях рассказывалось, что под охраной правительства с одной из кафедр Академии проповедываются ужасные непристойности и даже свободная любовь.
Но это происшествие имело и другой результат, ведь со студентами говорила женщина. Правда, уважение к ней со стороны юношей не уменьшилось, так как противники и шпионы получили достаточно во время последней лекции, и следующая прошла при образцовом порядке и внимании. Но Ипатия не могла больше уберечься от предложений своих поклонников. От нескольких незнакомых студентов и от многих членов своей добровольной гвардии получила она безумные письма, а четыре друга средней скамьи первого ряда, воспользовавшись личным знакомством, устно принесли к ее ногам свои руки и сердца. Более того, четыре друга совместно добивались ее руки, ибо, как вскоре узнала Ипатия, они торжественно поклялись друг другу не расторгать дружбы, кого бы ни предпочла прекрасная девушка!
Но этим дело не ограничилось. Слух о том, что Ипатия, как некогда Аспазия, хочет из личных симпатий стать подругой какого-нибудь мужчины, распространился за пределы Александрии. И, как сам Орест, в качестве александрийского Перикла, предложил ей шутя свое сердце, так стали добиваться ее любви знатные офицеры и видные чиновники из Пентаполиса, Антиохии, Кипра и Крита, – словом, отовсюду, куда дошел слух о возобновлении ею греческих обычаев…
С некоторым смущением узнавала Ипатия обо всем этом. Или в мире больше не стало чистого эллинства, или она не была настоящей гречанкой.
Ей и в голову не приходила мысль сделаться подругой какого-нибудь Перикла. Не могла она также представить себя в качестве жены одного из своих женихов. В крайнем случае она могла бы быть вечной невестой, невестой могучего, мудрого и доброго человека, который защищал бы ее и, изредка, в минуты усталости и печали, говорил несколько ласковых слов…
Год траура Ипатии заканчивался. Последний раз прочитала она в своем черном платье лекцию по астрономии.
Однажды в большом пустом помещении рядом со своим домом она купалась в огромном мраморном водоеме, не замечая своей красоты и рассеянно глядя на старую темнокожую кормилицу-феллашку. Последняя унесла нижнее белье и черное платье Ипатии, а взамен положила на кушетку чистый комплект белья и длинное белое платье.
Ипатия не хотела нарушать обычая и носить темные, одежды дольше, чем это было обычно принято. Белое вместо черного – и то и другое одинаково бесцветно. Бесцветно, тускло, безжизненно, как и ее существование…
Она не хотела сегодня думать о себе. Ни о себе, ни о людях. Так решила она для себя с той минуты, как посвятила свою жизнь отцу и науке. Не думать ни о чем человеческом! Последнее должно было приблизить ее к Богу. К какому Богу? Нет! Не думать!
Она казалась рассеянной. Что знали о ней другие? Знали ли они, как влекло ее к человеку, как хотела она протянуть руки к собратьям по земле? Но Ипатия привыкла думать только о безжизненных вещах, о науке, и за работой и во время отдыха. Это часто помогало ей. И теперь, когда она, положив на прозрачную поверхность воды свои нежные руки, пропускала сквозь пальцы тоненькую, похожую на фонтан, струйку, ей вспомнился общественный парк со своими фонтанами и лавровыми аллеями и тысячами простых людей, беззаботно веселящихся там. Создания земли довольны уже тем, что начался разлив Нила! Не думать! И она обратила свое внимание на маленький фонтан и пыталась вычислить в уме, сколько времени смогла бы она при помощи своих маленьких горстей поднимать такой столбик воды. Она высчитывала, как ученая, и играла, как ребенок.
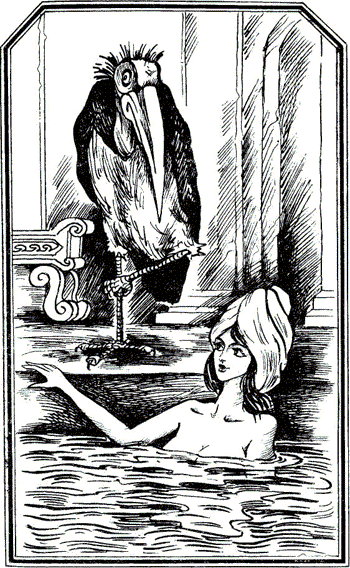
Теплая ласкающая вода покрыла ее до самой шеи, смочив нежные ладони, тогда как вся масса волос защищалась от воды смешной клеенчатой шапкой. Ипатия вздохнула. Так приятно быть одной! Феллашка приводила в порядок соседнюю комнату, и только один марабу важно прохаживался вокруг мраморного бассейна, дважды покачал головой и сунул наконец свой клюв, с явным желанием помешать игре Ипатии в ее маленький фонтан. Потом снова щелкнул клювом, чтобы стряхнуть с него теплые капли, и огляделся с таким удивлением, что Ипатия громко и искренно расхохоталась. Очевидно, это обидело птицу, так как она с укоряющим видом встала на одну ногу, рядом с белым платьем, и задумчиво заскребла свой философский череп.
На кушетке лежал томик глубокомысленных разговоров Платона. Ипатия отложила его, раздеваясь. Птица постучала клювом по переплету.
Я и Платон. Все остальное – вздор. Чистота и строгость дают вечное бытие. Как простодушно забавлялась она детским фонтаном!
Ипатия улыбнулась и мысленно окинула взором библиотеку, которую она сначала изучила, а потом и обогатила своими трудами. Вода остывала, она вздрогнула. Сколько книг, сколько дерева и папируса! Когда придут ее враги – монахи из пустыни – и объявят миру, что надо покончить со всем мирским знанием, или когда из Аравии вернутся бедуины, которые, подобно прекрасному Синезию с такой страстью глядят на нее, если монахи или бедуины овладеют Академией и библиотекой и начнут размышлять, что предпринять с этой бесчисленной книжной массой, – что тогда?! Отапливать бани? Готовить теплую воду для немоющихся монахов и для всего отвратительного монашеского мира?! Теплую воду для нескольких часов тихого банного удовольствия. Пожалуй, это лучшее, что делали доныне для человечества эти сотни тысяч томов. Отапливать бани! И она снова погрузилась в вычисления, прикидывая сколько горячей воды могла бы дать знаменитая Александрийская библиотека. С полгода мог бы гореть огонь, нагревая ежедневно четыре тысячи печек, и, быть может, действительно, придет скоро такой предводитель бедуинов и, освободив мир от знания, даст ему взамен теплую воду для ванны! Зато монахи, конечно, сочтут грехом дать бедным человеческим телам эту последнюю маленькую радость посредством сочинений философов. Монахи… – фу, какая гадость!
Ипатии пришлось открыть кран с горячей водой, чтобы вернуть себе хорошее настроение.
Она хотела постичь первооснову всего человеческого и в возможность этого честно верила в своих исканиях. Ничто из того, о чем думали другие раньше или теперь, не осталось ей чуждо. Во всех высших школах римского государства не было человека, равного ей по остроте ума.
В течение трех лет, сначала вместе с отцом, потом одна, старалась она проследить истинный путь движения Марса.
Если бы даже Ипатии удалось это, и она смогла бы доказать, что не все обстоит так просто на небе, как учит птоломеевская система, что будет тогда? Она станет еще известнее, и из Рима, Афин посыплются хвалебные письма и лавровые венки, но она будет сознавать, что сделала не больше какого-нибудь библиотечного переписчика, исправившего ошибку в гомеровском тексте. И если даже истинно то, что она смутно предчувствует, то, что созерцал старый Платон своим ночным небесным зрением, и то, что смутно ощущает и она сама, когда в полночь, отложив доски и грифель, перестает вычислять и размышлять, а просто смотрит на бескрайнее небо; если именно то, что и Солнце, и Луна, и планеты вовсе не вращаются вокруг Земли, что там наверху совершается совсем иной танец, в котором бедная Земля скромно принимает участие, как и другие яркие звезды, и когда-нибудь на Земле появятся новые астрономы, которые с улыбкой расскажут людям, что лгал Птоломей и лгали Теон с Ипатией, что их вычисления были детской забавой, пустым времяпровождением, и что мировой порядок зависит от Земли не больше, чем от всякой другой сверкающей звезды; если верно, что Земля – только точка в целой все ленной, – чего стоят все людские мысли на этой бедной земле? И есть ли тогда на земле что-либо истиннее неумирающего стремления к счастью?
– Счастье!
Ипатия громко произнесла это слово, и птица-философ важно подошла к ней и положила клюв на ее плечо. Косые глаза марабу смотрели утешающе.
Испуганно взглянула Ипатия на лысую птицу. Потом, зачерпнув левой рукой воду, она внезапно обрызгала крылатого философа сверху до низу, а затем смеясь, еще несколько раз повторила этот душ, пока птица не убежала оскорбленно в соседнюю комнату, где забегала взад и вперед, резко щелкая клювом.
Вскоре после этого Ипатия, сверкая красотой, по трем мраморным ступеням поднялась из уютной ванны, позвала феллашку и закуталась в мягкое белое покрывало. Вошедшая кормилица как всегда начала восхвалять красоту своей госпожи, восторгаясь ее нежной кожей! И как обычно, Ипатия приказала ей замолчать. Она отослала старуху и растянулась на диване, закутавшись в сухой шерстяной платок.
Счастье! Все люди стремятся к нему, почему бы и ей не делать того же? Разве от того, что она могла ощущать счастье намного полнее, чем толпа, она должна одинокой прожить свою жизнь?
Действительно ли уже слишком поздно все исправить? Разве ее жизнь клонится к закату? Разве она не молода и не прекрасна? Она плотнее закуталась в платок, как будто сама стыдилась своего молодого тела. Она взглянула на бассейн, в котором успокоившаяся поверхность воды постепенно опускалась все ниже. Вот так и жизненная сила покидает организм человека ежедневно и ежечасно.
Глупцы, жалующиеся на скуку, не понимают, что несколько тысяч таких скучных часов составляют жизнь. Песочные часы показывали время. Прошел час. Песчинка за песчинкой протискивалась к узенькому выходу, повинуясь старому, глупому закону природы.
Разве человек не побуждался своей глупой волей как можно скорее провести жизнь? И один из способов сделать жизнь незаметнее и ускорить ее конец назывался счастьем.
А все-таки атомы воды держатся вместе, и песчинки тяготеют друг к другу. Совсем как среди живой природы. Не лучше ли терпеть от людей злобу, ненависть, чем одиноко влачить свое существование?
Крылатый философ в соседней комнате все ожесточеннее шагал взад и вперед. Он делал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, так как был оскорблен в своем философском достоинстве, но если у него попросить прощения, если его хотя бы дружески позвать, – он перестанет обижаться.
– Сюда! – крикнула Ипатия, и когда птица, потеряв от радости всякое достоинство, подбежала к ней, она хлопнула ее по клюву и сказала: – Что! Тебе тоже не хочется быть одинокой! А, может быть, несмотря на всю твою любовь, я кажусь тебе такой же безобразной, как ты мне, уродец? Только не быть одинокой!
Обрадованный марабу сбежал, покрикивая и хлопая крыльями, в бассейн, чтобы принять ножную ванну в последних каплях воды. При этом удивленными глазами искал он какой-нибудь рыбешки или лягушки, поглядывая на Ипатию с упреком за то, что она умывается в такой неинтересной жидкости. Потом он поджал правую ногу под крыло, склонил голову на бок и задумался о том, что высшая задача аскетических аистов – принимать ванны в совершенно прозрачной воде, в то время, как заурядные аисты, вдали от Ипатии, наслаждаются водой, полной илом и лягушками.
Ипатия склонила голову на руку и внимательно смотрела на преданного марабу.
Каждый из студентов был прекраснее этой птицы, а тем более четыре ее рыцаря, и так же преданы. Смеясь, выслушивала она клятвы одних, оставалась глухой к другим, – хорошо ли это? Разумно ли это? Оправдается ли грязная клевета Кирилла, станет ли она студенческой девкой, если, как всякая порядочная девушка, примет покровительство какого-нибудь благородного мужчины?
Она завернулась, улыбаясь, еще плотнее в купальное покрывало и вызвала в душе безумные клятвы грека Троила. Да был ли он, по крайней мере, истинным греком? Или его стремящийся к красоте дух был только тепличным растением, и эллинство нашло в нем свое вырождение?
Ипатия закрыла глаза и засмеялась, точно вспомнила забавную шутку; однажды, когда на музыкальном вечере у наместника им пришлось слушать непомерно длинный концерт, Троил сказал ей:
– Я богат, молод и умен, прекрасная Ипатия. А вы – бедный профессор, зависящий от платы своих студентов, и, однако, я знаю, что не в силах предложить вам большого счастья. Но я не думаю при этом, что превосходство вашей красоты является для вас основанием влюбиться в меня. Вам придется, следовательно, стать моей женой без так называемой любви. Но скажите, прекрасная Ипатия, не является ли как раз это достойным вас? Вы слишком мудры, чтобы не видеть, что так называемая любовь – самая бесстыдная из всех иллюзий, которыми природа водит за нос и людей, и животных. Соедините же вашу жизнь с моею! Мы будем наслаждаться бытием, как духи, наслаждаться всем, что достойно наслаждения. Мои миллионы будут к вашим услугам, если вы захотите насладиться персиком нового сорта или картиной новой школы. А все, что жизнь предлагает кроме наслаждения, – серьезность и страдание, – все это мы будем презирать, как мудрые скептики. Будем презирать мир, себя и тех, кто, не понимая, станет презирать нас самих. Будем наслаждаться, пока позволяют нам наши нервы, а в промежутках между наслаждениями будем покачиваться в гамаках, для препровождения времени, разрушая иллюзии, все иллюзии, что, в свою очередь, будет новым наслаждением. Я научу вас разрывать иллюзии, как паутины, и если вам, прекрасная Ипатия, такое пребывание в гамаках кажется идеалом философского брака, прошу вас, выходите за меня замуж. Само собой разумеется, что к этому нелепому предложению побуждает меня иллюзия, будто я безумно влюблен в вас.
– Скажи-ка, что должна была я ответить этому человеку?
Марабу одним прыжком подскочил к двери.
Александр Иосифсон, уже много дней в нерешительности бродивший около девушки, издали наблюдая за разговором наместника в музыкальной комнате, затем сумел искусно отделаться от друзей и на обратном пути сперва осторожно, а потом все более и более страстно открыл свои чувства и сказал приблизительно следующее:.
– Я не имею права требовать согласия, так как я хорошо знаю, что вы не испытываете ко мне такого чувства, какое питаю к вам я. Только об одном умоляю я вас: не отдавайте себя никому, стоящему ниже меня, оставайтесь такой, как вы есть еще три года. Обещайте мне быть через три года такой же свободной, как теперь. Тогда я снова приду к вам, но совсем другим человеком, осмеливающимся добиваться вашего расположения. Не правда ли, мы оба смеемся над маленькими тщеславиями мира? Но я не собираюсь заниматься пустяками. Через три года решите вы, обещал ли я вам слишком много, если я смогу принести в приданое частицу мирового владычества. У меня есть протекция и в Риме, и в Константинополе; я узнаю людей и дела государства, охотно переменю религию, стану язычником ради вас, или даже крещусь. Через три года, так или иначея я буду, ради вас, министром в Риме или в Константинополе. Тогда вы станете моей женой, и от Евфрата до Северного моря будет выполняться не воля цезаря и не моя воля, а то, что захочет Ипатия. Не считайте меня фантазером! Чтобы завоевать вас, можно с прилежанием, умом и выдержкой достичь гораздо большего, чем пост министра над всем современным сбродом! Ипатия, в наше время женщина, подобная вам, не должна оставаться в научных забавах. Займитесь политикой. Бороться легко, когда только две партии стоят друг против друга. Теперь у нас только государство и церковь. И так как победа церкви на столетия уничтожит всякую культуру, я встану на сторону государства, как праздный зритель, – или буду один, как повелитель, – если вы захотите быть со мной. Соединимся! Это была бы интереснейшая игра, на которую мы могли бы отважиться! Владычество или смерть! Если же вы не хотите ждать меня три года, то и я не хочу быть министром, тогда я не изменю своей вере и не буду креститься, а когда мои родственники станут предлагать мне в жены дочерей всех богачей от Вавилона до Карфагена, я останусь в Александрии только для того, чтобы иметь возможность ежедневно видеть вас, Ипатия, чудо мира!
– Ну, что думаешь ты об этом? Не стать ли нам женой министра и, вместо размышления, заниматься политикой? Пожалуй, стало бы немного жарче?
Марабу не понял Ипатии. Когда она обыкновенно говорила «жарко», он приносил ей индийский веер, хрупкое сооружение из бамбуковых палочек, на которых развевались светлые шелковые ленты, так и теперь марабу с потешным, важным видом принес ей веер и положил его аккуратно на колени. Она хлопнула его ласково по клюву и затем снова задумалась.
Что через несколько дней после признания Александра сказал ей белокурый Вольф, и как он сказал это, – этого крылатый философ не должен был слышать. Ночью приблизился Вольф к ее окну по обычаю своих готских предков по ту сторону гор, но и там это было заведено только у парней, влюбленных в крестьянских девушек, А к ней, к знаменитой мыслительнице мира, Вольф пришел как к обычной хорошенькой девчонке. Он осмелится говорить с ней так, как, должно быть, говорит солдат с женщиной, захваченной в неприятельской стране. И Ипатия запомнила слова Вольфа не приблизительно, как речи Троила и Алек сандра, а слог за слогом, звук за звуком.
– Пойдем со мной! Будь моей женой! Оставь Александрию, свои почести и своих учеников! Пойдем со мной куда хочешь и будь счастлива, как моя жена. Сквозь льды и раскаленные степи я понесу тебя и стану охранять. Но ты не должна желать ничего, кроме того, чтобы быть моей женой!
Ипатия не отвечала. Но она не оттолкнула Вольфа и не позвала на помощь. Наоборот, она успокоила марабу, когда он зашевелился. Она слушала и притворялась спящей, – быть может, как одна из девушек, с бьющимся сердцем притворявшихся спящими там, на диких берегах молодого Рейна, на родине предков Вольфа. И он заговорил снова:
– Пойдем со мной и будь моей женой! Встань и пойдем! Я буду тебе служить так, как должен служить мужчина женщине, не на жизнь, а на смерть. Но и ты должна быть моей рабыней, как всякая женщина должна быть рабыней мужчины!
Рабыней мужчины! Ипатия позвала кормилицу. Сначала тихо, прерывающимся голосом, потом громче и, наконец, изо всех сил, так, что старая феллашка сразу проснулась. Испуганный крик кормилицы и шум марабу прогнали чужого человека от окна.
Ипатия осталась лежать на своей постели. Рассерженная и оскорбленная и все же как-то странно довольная или даже польщенная, или совсем счастливая. Так же, как и теперь, когда, лежа на диване, она вспоминала, и сердясь, и улыбаясь. Внезапно, сама не зная почему, сбросила она теплый белый платок и во всем сиянии своей красоты вскочила и позвала кормилицу, чтобы одеться с ее помощью. И вновь начала старуха болтать свои глупости, опять встал перед ней марабу, с любопытством рассматривая крючки и застежки на платье. В новом белоснежном платье Ипатия выпрямилась, широко раскинула руки, затем схватила испуганную, птицу за шею, хлопнула ее по бокам и воскликнула:
– Пойдем домой! Синезий будет ждать!
Она нарочно думала только о Синезии, направляясь к себе.
Она должна была думать о нем, так как он хотел к ней прийти, единственный, кому она за его скромность разрешила посещать ее, и Ипатия стала думать только о нем, так как Синезий освобождал ее от мыслей о Вольфе. Громадный Вольф со светло-рыжей львиной гривой, слишком длинным носом, спокойными глазами, большим, редко открывавшимся ртом и светлым пухом на подбородке и щеках, был совсем не красив. Мужествен, безусловно, быть может, как по вкусу своих соплеменниц, когда он проезжал по улицам во главе рыцарского отряда. Но Синезий, который казался красивее уже одним своим меньшим ростом, Синезий, знатный род которого в течение столетий был первым в Пентаполисе, и который, союзами многих поколений, из араба превратился в грека, был несравненно более прекрасен, знатен и пристоен. Чего только не рассказывали студенты о неумеренности Вольфа! Она могла бы застать его в таком положении, чтобы одним взглядом самой убедиться в том, что эти спокойные синие глаза и во хмелю не блестят так, как тогда ночью у окна. Как выгодно отличалась от такой беспорядочности умеренность Синезия! Вольф был уже не мальчик! Если бы между ними был возможен союз, она охотно стала бы его предостерегать и примерами из произведений знаменитейших греческих поэтов и философов возвратила бы его к разумному образу жизни. Правда, далеко не все греческие поэты принадлежали к числу поклонников умеренности и, кто знает, быть может, подвиги Вольфа были уж не так плохи, как их рисовал Синезий.
Так старалась Ипатия думать только о Синезии, когда она входила в свою рабочую комнату, намереваясь взяться за книги. Но сегодня это ей не удавалось.
Счастье!
Троил предлагал найти его в свободном союзе с умным человеком. Никто не превзошел ее умом. О, она часто чувствовала, что выдающиеся люди обращаются к ней тоном, в котором звучит: «Ты можешь быть ученейшей женщиной, умней всех мужчин нашего времени. Но мужского гения, мужской силы у тебя все-таки нет!» – И в этом Троиле выступило старое высокомерие. Он жеманен – этот господин Троил, так жеманен, как не могла быть знатная женщина; он утомлен и насмешлив – в этом все его превосходство. Ипатия была бы дурой, какой в глазах этих господ и кажется всякая женщина, если бы преклонилась перед таким незначительным превосходством.
Конечно, ее спутник на жизненном пути должен стоять на высоте современного знания, должен, как Синезий, посетить все университеты и много поработать в литературе и философии. Нельзя же годами жить с человеком, который не понимает, о чем с ним говорят! Преклониться перед воображаемым величием – будет ли это счастьем?
Александр показал ей себя в будущем, когда обещал доставить своей жене весь почет государственного человека. С таким же успехом может она сидеть на коне за спиной Вольфа, когда он поедет в поход, чтобы где-нибудь, в Персии или Фуле, завоевать себе царство. Но это – бессмыслица, сказка, детские мечты. Уж лучше тогда последовать за Синезием в земли его отцов, где между пустыней и морем, далеко от всяких государственных мужей он, как настоящий маленький король, повинуется собственным законам. Если господство было желанной целью, то размеры страны были не так уж важны. Синезий был духовно высокоразвитый человек и маленький предводитель, он предлагал ей не только богатства Троила и воображаемое могущество Александра, он шел к ней со страстной тоской этого неуклюжего Вольфа. И к тому же он был скромен, и готов принять любые условия.
Вы увидите, господин Вольф, господин безземельный король, что если вообще нужно бежать к кому-нибудь, то во всяком случае не к вам!
Ипатия решительно шагала взад и вперед. Она старалась овладеть собой. Дважды или трижды она подходила к большому столу, стоявшему напротив письменного, где сооружение из всевозможных колес, изогнутой проволоки и маленьких металлических шаров изображало Землю в центре планетной системы. Еще ребенком видела она, как ее отец в свои редкие свободные часы возился над этим механизмом, потом помогала она отцу многочисленными вычислениями, а теперь получила в наследство закончить тяжелое строение. Но сегодня она с удовольствием разбила бы все сделанное, – такой неверной, такой глупой казалась ей эта картина бесконечного звездного мира. Все было справедливо только приблизительно, ни одно вычисление не выходило без остатка; если такие неточности существуют и в небе, то завтра или послезавтра и земля вместе с римским государством, Александрийской Академией, прекрасной Ипатией и дерзким Вольфом превратится в осколки. Именно это и наполняло ее сегодня таким презрением к своим знаниям. Еще никогда не чувствовала она с такой силой, что природа идет своей собственной дорогой, что ни один математик не вычислил еще великой загадки небесного вращения, что на первом месте стоит не знание, а действие, что даже бедное человеческое сердце никогда не хочет того, что должно хотеть и вечно стремится, борется и живет по велениям своей природы, а не по мудрым законам. В дверь постучался марабу, и Ипатия впустила его в комнату. Священная птица знала, что здесь мешать не полагается, и она с задумчивой важностью встала около стола на котором стояло изображение системы мира. По-видимому, марабу хотел предупредить девушку о посетителе.
Через несколько минут вошла феллашка с вопросом, может ли госпожа поговорить с Синезием?
С раздраженной улыбкой кивнула Ипатия и с глубоким вздохом уселась в свое постоянное кресло.
Очаровательный Синезий вошел в безупречном костюме для визитов и протянул прекрасной учительнице букет роскошных красных роз, сорт которых выращивался исключительно в Индии. Почтительно попросил он разрешения «предоставить в распоряжение своего ученого друга еще одно собрание астрономических сочинений, переведенных по его просьбе с индийского на греческий язык и прибывших с тем же кораблем, который привез и розы в виде ничтожного дара из Азии той, которая на границе Востока и Запада властвует над духом римского народа».
Обычно Ипатию очень мало трогало, когда Синезий обращался к ней с такой преувеличенной лестью, но его прекрасный глубокий голос, его уверенное владение тончайшими оттенками любимого родного языка и, наконец, преданность человека, считавшегося самым прилежным и многообещающим студентом Академии, подействовали на нее, и, против воли, она приветливо приняла то, что в глубине души ей так не нравилось. К тому же давно обещанные и только теперь пришедшие книжные сокровища обещали ей действительно необыкновенное наслаждение. Итак, она сердечно пожала юноше руку, пригласила его сесть и с явным вниманием поставила его розы в прекрасную вазу. Марабу уткнул свой клюв глубоко в громадный букет и немного насмешливо покосился на прекрасного Синезия.
Индийские букеты, индийские книги!.. Осенью все превратится в сено.
Изящно, не надоедая, но и не принижая своих заслуг, рассказал Синезий, как благодаря связям своего семейства смог он оказать этот ничтожный знак внимания. Так как это предприятие увенчалось успехом, он позволит себе уже сегодня заранее сообщить своему ученейшему собеседнику, что скоро, с помощью богов, новый корабль пересечет Индийский океан с еще более ценным грузом, чтобы познакомить великого учителя с малоизвестными трудами. Ему удалось найти путешественника в сказочный Китай, обладающего достаточными математическими знаниями, чтобы перевести замечательные изыскания для той, образ которой осветит тьму самого полного затмения в мире.
– Вы славный мальчик, мой милый Синезий, – сказала Ипатия и положила нежную теплую руку на сложенные руки юноши.
Тогда слезы радости выступили на его глазах, и он сделал быстрое движение, смысл которого поначалу был не понятен прекрасной женщине. Как преступник, подставляющий свою голову под смертельный удар палача, или как нубийский раб, лишь в такой позе осмеливающийся подать своей царице ее кубок, упал Синезий на колени, несколько секунд стоял так, а потом с рыданием спрятал лицо в ее коленях. Приплясывая от удовольствия, смотрел марабу на невиданную картину, ибо тогда еще не было принято, чтобы юноши выражали свои чувства стоя на коленях.
– Что с вами, Синезий? – сказала ласково Ипатия, проводя рукой по его черным кудрям. – Не будьте безрассудны. Выскажитесь, ведь вы обладаете даром речи. А ведь никакое чувство не может быть настолько велико, чтобы слова не могли его…
Ипатия смолкла, внезапно вспомнив свою последнюю мысль, возникшую перед самым приходом этого жениха. Звездный мир был больше всякого искусства света. Розы и чувства не могли быть сильнее языка.
А счастливый Синезий уже поднял голову и показал ей свое влажное от слез лицо.
– Выслушай меня, Ипатия. Я не могу жить без тебя. Где бы я ни был, меня преследуют твои глаза. Я не в силах убить лань на охоте, ибо черные газельи глаза напоминают мне тебя, и я не могу прочитать больше ни одной книги, так как я знаю, что твои глаза смотрели на эти же строчки. Ты похитила у меня и сон, и бодрствование, ты сделала меня счастливым от сознания блаженства жить в одно время с тобой, и ты сделала меня несчастным, так как я не могу жить с тобой, как верующий в тебя – последнюю богиню нашего умирающего народа! Ты не хочешь познать власть любви, госпожа, ты, знающая все иное. Испытай меня! Прикажи, и я начну носить камни для твоего дома, как последний раб. Прикажи умереть за тебя, и я без сожаления уйду в землю, и последний мой вздох будет благодарностью за твою милость!
Марабу медленно отошел в дальний угол комнаты и щелкнул клювом, как будто желая скрыть смех.
– Встаньте, – сказала Ипатия, – или я уйду из комнаты. Садитесь и давайте говорить разумно. Милый Синезий, что это с вами? Вы не грек! Прочтите, что писали циники любви, и вы будете стыдиться своих слез.
– Так вы не знаете любви, Ипатия?
Одним взмахом крыльев подлетел марабу к своей госпоже. Она побарабанила пальцами по его лысой голове и сказала твердо:
– Нет, я знаю настоящую историю.
– Ипатия, – умоляюще произнес Синезий, – если не по-гречески то, что меня пожирает любовь, пока я не умру от нее, как рассказывают о далеких арабах, то называйте меня иудеем или христианином, – но выслушайте. Оживите рядом со мной в своей красоте и смотрите на меня только, как на своего друга. Последуй за мной. Ни один епископ и ни один чиновник не осмелился еще ступить на землю моих бедуинов. Как маленький князь владею я территорией от берегов, где разбиваются вечные волны, до пределов пустыни. Только там, где начинается царство ливийских львов, кончается моя власть. Сто селений трудолюбивого народа принадлежат и повинуются мне. В Киренах стоит мой маленький замок, и бесчисленные слуги ожидают своего господина. Дом не достоин вас! Но как будто, по внушению неведомого доброжелательного Бога, предчувствовали мы будущее и собрали там сокровища научных знаний и искусства, какие вы не ожидаете встретить в диком африканском регионе. Последуйте за мной туда! Здесь вы окружены тайными и явными врагами. Ваш удел – борьба, и время спокойной работы никогда не настанет для вас. У меня в Киренах вы будете мыслить без помех и писать бессмертные книги. Последуйте за мной, и барка, не менее великолепная, чем барка Клеопатры, когда она приезжала сюда встречать повелителя Рима, повезет вас в Кирены, и в течение столетий будут рассказывать, что нашел Синезий из Кирены, чтобы возбудить зависть современников, зависть в том, что ему удалось овладеть первой женщиной мира.
Как во сне сидела Ипатия; напрасно хлопал клюв марабу по ее коленям. Как во сне сказала она:
– Я хотела бы оставить все так, как есть, и если бы я решилась последовать за вами, то и тогда я должна была остаться тем, что я есть. Никогда, никогда не должны вы требовать от меня, чтобы…
Синезий вскочил.
– Госпожа! Богиня! Требуй, что хочешь, назови себя моей супругой, и никакое условие не будет слишком тягостным, если им я могу купить твою близость…
Ипатия оглянулась. Тихо шевельнулось в ее сердце странное чувство, и так же тихо появилась на губах легкая улыбка. Насколько не похож на Вольфа был этот Синезий! Как искренне признавал он права самостоятельной женщины, как трогательно хотел удовольствоваться духовной близостью, Как благодарна должна она быть ему. Если она примет его предложение, тогда у нее будет еще друг, кроме марабу, – человек, и прекрасный, благородный, знатный человек, товарищ. Она закрыла лицо руками, не понимая, почему при этих благодарных мыслях ее глаза остались сухими.
Неожиданно на лестнице раздался шум, послышался недовольный голос феллашки, потом ее брань, крики, и внезапно в комнату ворвался Вольф.
– Ты прямо с попойки? – сказал Синезий холодно.
Лицо Вольфа покраснело, глаза потемнели, он с трудом владел собою. За поясом торчали два длинных кинжала, а на боку висела тяжелая сабля.
– Безразлично, пришел ли я из кабака, или из могилы. Я приношу весть о борьбе. Ты разве не слышишь запаха крови, Синезий, ты ведь охотник? Архиепископ опять готовит удар против нас, истинных христиан, да и против вас, Ипатия. Двое из наших замучены насмерть. Они ничего не выдали. Правда, это вас не касается, для вас все христиане одинаковы. А для Кирилла тоже все еретики одинаковы – и греки, и христиане. И один убийца из числа попов получил приказ передать в распоряжение епископа еретичку Ипатию. Для проведения суда. Он отказался, так как он – мой друг. Второй пытался проникнуть сюда ночью. Ну, он не сможет больше рассказывать, кто-то сделал его немым. Третий найдется не скоро, так как ваша стража, Ипатия, на военном положении. Взгляните.
Ипатия подошла к окну, бледная и смущенная. Но она улыбнулась вновь, когда ее тридцать рыцарей послали ей приветствие. Овладев собой, она возвратилась в комнату и сказала Вольфу:
– Я должна, безусловно, поблагодарить вас. Но ваши заботы излишни. Я не чувствую за собой вины и могу, кроме того, положиться на защиту наместника. Орест не предаст меня.
– Наместник бессилен против этого попа. Он будет не в силах воскресить вас. Такие чудеса делает только церковь. А живой он не вырвет вас у епископа, если вы попадетесь на суд его дьявольской своры. Так обстоит дело и с нами, Ипатия. Отдайтесь нашей защите, защите истинных христиан. Я не обещаю вам, что мы победим. Но вы одиноки, а нас много. А пока жив хоть один из нас, ни один волос не упадет с вашей головы. Мы решили сражаться за нашего Спасителя, и если понадобится, то и умереть за него. Кто доверится нам, тот находится под надежной охраной.
Ипатия едва выслушала сообщения Вольфа и резко ответила только на одно:
– Я не знала, Вольф, что вы – благочестивый христианин. Я слышала, что христиане презирают дела этого мира, забывают свою родину, стыдятся наслаждения вином и стоят выше женской любви. Господин Вольф! Для христианина вы слишком крепко придерживаетесь обычаев вашей варварской и совсем языческой родины. Мне говорили, что вы слишком часто приносите жертвы Бахусу. А если верить слухам, то и женщинами вы увлекаетесь сильнее, чем это полагается правоверному христианину, так как ради женщины вы забываете все, даже уважение. Неужели вы действительно хотите, вы, христианин, проповедующий уничтожение всякого рабства, закабалить половину всего человечества – женщин?
Во время этих слов Вольф подошел к письменному столу Ипатии. Он с такой силой ударил кулаком по бумагам, что одно перо слетело на пол, и крикнул:
– Клянусь Богом, я – христианин, германский христианин. То, что вы говорите о вине, женщинах и родине – просто глупость. Радостно живет в моей душе вера в Спасителя. Он послал меня в мир не для того, чтобы по примеру монахов стонать и бездельничать. Я здесь на земле, чтобы завоевывать свою жизнь. Я люблю горы моей родины и хочу, чтобы Спаситель мог царствовать там лучше, чем в вашей сожженной солнцем египетской дыре. Я могу радостно думать о своем Спасителе вместе со своей родиной, и мое сердце смеется при этом. А если я сделаю что-нибудь порядочное в борьбе с этим глупым миром и утоплю гнев в кружке доброго греческого вина, то я благодарю Творца за его дары и смеюсь, и знаю, что здесь нет ничего плохого. А если Господь и Спаситель поможет мне овладеть женщиной, которая мне милее всего на земле, я буду пить ее поцелуи, как греческое вино, веря, что это было дано мне на земле, как венок победителю. И я надеюсь, что после моей смерти мой Господь и Спаситель сжалится надо мной, будет добр и, не смотря на все мои глупости, возьмет меня в свое небесное царство. Аминь. Это значит: так ли это или не так на самом деле, я буду за это жить и умирать. Ипатия, если вы хотите называть меня благочестивым христианином и ставить на одну доску со злобными епископами и безумными монахами, то мне жаль вас. Но защищать я вас все-таки буду…
– Крестница
императора Юлиана не должна пользоваться защитой христианина. Вы знаете, что мой великий крестный думал о сыне плотника?
– Не приплетайте сюда императора. Ваши друзья – христиане – убили его. Да, если бы мой отец убил его, я все-таки любил бы и защищал его крестницу.
Ипатия дышала с трудом. Она посмотрела на дверь. Однако Вольф шагнул вперед, как будто хотел силой овладеть ею.
Синезий, остававшийся немым слушателем всей страстной беседы, сказал теперь прерывающимся голосом:
– Вольф, разве ты забыл нашу клятву?
– Я ухожу, – сказал Вольф после краткой паузы. – Но я советую вам, госпожа, завести себе вместо этой священной птицы, которой я одним пальцем проломлю череп, если она еще раз с таким видом посмотрит на меня из своего угла, да, так вот заведите себе вместо этого тонконогого египтянина хорошую готскую сторожевую собаку. Может быть, это понадобится. Прощайте, если вы ничего, кроме мудрости, не унаследовали от императора Юлиана, то да сохранит вас Господь.
Едва Вольф закрыл за собой дверь, Ипатия большими шагами подошла к Синезию.
– Я принимаю ваше предложение. Я выйду за вас замуж. Не сегодня, я не знаю еще сама… когда-нибудь. Но сначала я должна выполнить завещание императора – выиграть борьбу с этими христианами. А когда император будет отомщен, я стану искать покоя у вас и ваших книг, между морем и пустыней, а не среди убийц императора Юлиана.
– Ипатия, жена моя!
– Я не женщина! Я не хочу быть женой!
Глава VII
СРЕДИ СВЯТЫХ
Настроение обитателей архиепископского дворца в Александрии становилось все несноснее. Было тихое октябрьское воскресенье, но Кирилл встал с постели с легкой головной болью. Проклятое греческое вино, проклятый греческий наместник, проклятая Ипатия.
Бесчисленная челядь изящного дворца боязливо жалась к стенам и не могла дождаться минуты, когда владыка покинет свои палаты, чтобы совершить богослужение в соборе. Но возвратился он еще сумрачнее. Его личный секретарь Гиеракс уже в алтаре, а затем на обратном пути вкратце изложил новости, уязвившие в нем пастыря душ, и человека. Покушение на Ипатию не удалось. А в довершение всего было получено письмо из Константинополя, требовавшее от него безусловного подчинения голосу церковного большинства.
Кирилл едва успел скинуть облачение и теперь, сжав кулаки, шагал взад и вперед по комнате. Это было обширное расписанное светлыми красками и хорошо освещавшееся помещение. По стенам размещалась хорошая библиотека. Если бы с простенка не смотрело массивное серебряное распятие, невозможно было бы предположить, что находишься в рабочей комнате христианского пастыря.
Прежде всего Кирилл облегчил свой гнев бранью в адрес ученого константинопольского собрата. Владыка полагает, конечно, что епископы Азии и Африки могут третироваться, как простые попы. И все это только потому, что этот константинополец обладает ухом императора или, вернее, ухом его горничной! Ого! К счастью, именно в Африке и Азии церковь властвует над сердцами и кошельками, и к тому же все церковное знание принадлежит Азии и Александрии. Константинопольский владыка должен будет сократить свои властолюбивые поползновения, иначе Африка согласится скорее повиноваться епископу Древнего Рима, безвредному старому дураку, чем новоримскому интригану, предводителю церкви милостью женщин.
Так ворчал Кирилл больше для собственного успокоения, чем для того, чтобы посвятить Гиеракса в свои мысли. Наконец, он кинулся в кресло и подозвал своего чиновника.
– Этого не изменить за один день. Это самое большое зло, с которым мне не справиться за целую жизнь. Но маленькие неприятности, назревающие здесь, я уничтожу, клянусь жизнью. Итак, еще раз, каковы были слова этой Ипатии?
– Ваша милость простит, что я не отвечаю за точность каждого слова. Когда студенты заметили, что я записываю, они быстро удалили меня из зала.
– Осел! Почему вы не послали шпиона, которого там не знают?
– Ваша милость! Потому что другие действительно ослы.
Кирилл примирительно махнул рукой.
– Итак, смысл ее слов? Отдельные выражения можно восстановить с помощью пытки, как только начнется процесс. А ее критика христианства сломит ее прекрасную шею.
– Ипатия говорила приблизительно так: Иисус Христос был, конечно, благороднейшим из людей, но христианская церковь учит совсем не тому, чему учил ее основатель. Епископы сделались главарями новых партий, людьми без религии, а фанатичные монахи – невежественными и безумными глупцами – нечто вроде кудесников и заклинателей старых религий.
– Гм! С таким материалом ничего не начнешь. Но она отрицала божественность Христа. Она называла Иисуса человеком. Не правда ли, это так? Гм! Конечно, этим она нарушила закон, но боюсь, наместник захочет защитить ее, и даже в Константинополе посмотрят на это косо. Гм! Я считаюсь там услужливым дипломатом. На всякий случай изложите ваши показания письменно и собирайте дальнейшие выражения Ипатии. Купите какого-нибудь бедного студента. Теперь дальше. Вчерашняя потасовка, как вы говорите, не удалась: христиане бежали?
– Как я вам и говорил, ваша милость.
– При так называемом объективном расследовании выяснится, что наши христиане начали первые, – отрицать этого нельзя.
– Невозможно, ваша милость. Театр вчера, как всегда по субботам, был переполнен иудеями. Бедные христиане свободны только по воскресеньям. Таким образом, иудеев было большинство. И когда в конце представления снаружи раздался крик: «долой жидов!» и началась потасовка, наши христиане были, в конце концов, вышвырнуты наружу. Полиция как будто ничего не видела и не слышала.
– Как обычно, отметьте в вашем донесении, что иудеи занимали все хорошие места и своим нахальным поведением должны были оскорблять каждого скромного человека, а, следовательно, начали все иудеи.
– Но наместник…
– Я знаю. Это не предназначается для его судов. Мы собираем материалы. Еще одно. Успех этой старой ведьмы Ипатии велик по-прежнему?
Гиеракс с благоговением посмотрел на распятие и сказал официальным тоном:
– Громадного зала никогда не бывает достаточно. Сегодня больше пятидесяти человек стояло снаружи. Во время богослужения! И это были юноши наших лучших семейств!
Кирилл ударил кулаком по столу.
– И быть бессильным против этого! Постоянно обращаться к этим царским холопам, всегда поддерживающих моих врагов. Неужели у меня в Александрии совсем нет друзей, с помощью которых я мог бы быстро покончить и с этой греческой ведьмой, и с иудеями?
– Могу я, ваша милость, сделать одно замечание? Такие дела безнаказанно может делать только чернь. В настоящее время наша христианская чернь ничего не имеет против Ипатии. Народу обещаны высшие блага на земле и небесное царство в потустороннем мире. Этого и ждет наш добрый народ. Он ждет терпеливо. Двинется он только тогда, когда поверит, что Ипатия или евреи стоят между ним и небесным царством.
Кирилл встал и, скрестив руки, начал расхаживать взад и вперед.
– Гиеракс, – сказал он через минуту, – за эту мысль вы станете епископом. Но сначала вы должны помочь осуществить вашу мысль. Вы думаете, у нас нет фанатичной, христианской черни? У нас есть монахи. Вы должны пустить их в ход.
Гиеракс поцеловал рукав архиепископа.
– Что я должен сделать?
Архиепископ подошел к окну и долго стоял, скрестив руки. Наконец, он сказал:
– Вы думаете, вам удастся подговорить этих людей? Это – простой, необразованный люд.
– Всемогущий Бог научит языку своего нижайшего раба, защитит его толпами ангелов от опасностей пустыни и внушит, что нужно для уничтожения суетного великолепия этого мира, и для завоевания небесного царства!
Кирилл, улыбаясь, кивнул.
– Я могу дать только общие указания, так как я вам полностью доверяю, а наградой вам будет место епископа. Этого довольно. Я знаю, что вы сделаете это во имя добра, но и место епископа неплохая вещь. Итак, слушайте. Запишите то, что я вам скажу. Зашифруйте, пожалуйста.
Кирилл большими шагами ходил по комнате из угла в угол. Гиеракс скромно сел за маленький столик, вытащил свои дощечки и приготовился внимательно слушать.
– Вы отправитесь, как только сделаете самые нужные приготовления. Конечно, вы пойдете к Питрийским горам.
Медленно поднимаясь из долины в горы, вы найдете три типа монахов. Внизу, в тесных хижинах и в палатках, живут благочестивые садовники – люди, ушедшие из мира во имя Христа, чтобы вести спокойную жизнь добровольного отречения и мирно встретить смерть и вступление в царство божие. С этими людьми делать нечего. Это, может быть, отличные христиане в смысле Иисуса Христа и апостолов, но для церкви они бесполезны. Самые обыкновенные людишки. Выше, на первых уступах гор, стоят монастыри. Они населены собственно монахами и их настоятелями. Монахам вы можете внушить, что архиепископ римский добивается власти над греческой церковью, и хочет закрыть некоторые монастыри. Архиепископ Римский…
– Антихрист!
– Превосходно! Я вижу, вы меня понимаете. Главное, однако, предложить что-нибудь настоятелям. Они хотят иметь несколько новых святых. Собственно говоря, я не люблю этого. Мертвые святые заслоняют живых епископов. И хотя, смею надеяться, после смерти я буду также объявлен святым, знайте, Гиеракс, я не верю, что черви повернут тогда обратно. О, черви – неисправимые язычники! Одним словом, я дарю монастырям святого Кириакса и святого Пафнутия. Оба, правда, провели молодость довольно бурно, но затем стали действительно святыми людьми и, кроме того, прожили необычайно долго. Этого можно и не записывать. Кроме того, я обязуюсь разрешить сжечь книги Оригена. Того, что требовал этот человек, монахи не желают признавать, несмотря на свой двойной обет. Затем надо уверить этих игуменов, что я буду поддерживать их с беспощадной строгостью во всех случаях, когда им придется силой водворять порядок в своих монастырях. Но этого не надо говорить простым монахам.
– Ярмо трех обетов, пожалуй, тяжело.
– Вы ошибаетесь, милый Гиеракс. Обет бедности дает мне ежегодный доход в пятьдесят тысяч золотом. Обет целомудрия обеспечивает мне холостой образ жизни и позволяет некоторым уважаемым дамам делать мне маленькие признания сердечного свойства. А обет послушания привел к тому, что меня будет слушаться императорский наместник Египта, а народ целует подол моего платья, когда я прохожу по улицам. Этого тоже не следует записывать.
– А что, ваша милость, должны обещать монахи?
– Ничего. Они должны прийти в большом количестве в Александрию, сделать здесь свои маленькие покупки. Если они увидят нехристианский элемент и захотят расправиться с ним своими жесткими кулаками, их едва ли будут преследовать даже до пустыни. Этого, однако, я не обещаю.
– А третья группа пустынников?
– Это отшельники, ютящиеся наверху, на бесплодных горах, или в маленьких боковых долинах, в пещерах и гробницах. Если эти дикари не встанут во главе, монахи не принесут существенной помощи. Мы должны овладеть анахоретами и пустынниками. А они наши, если нашим станет благочестивый Исидор.
– Исидор?
– Возможно, милый Гиеракс, что этот святой человек встретит вас камнями или кнутом. А, может быть, они пошлют кого-нибудь вперед, чтобы предупредить его. У него такой обычай. Но он ученейший среди отшельников, а за свои странности пользуется двойным почетом. О чем говорить с ним и ему подобным – я должен предоставить всецело вашему усмотрению. Расскажите о проделках иудеев, убивших в прошлую пасху христианского ребенка. Расскажите об императорских чиновниках, называющих себя, христианами, но в своих домах имеющих прекрасные статуи нагих языческих богинь. Как можно живее опишите их наготу и бесстыдство. Отшельники слушают это очень охотно в своем гневе. Опишите обеды этих язычников. Устрицы, фазаны с трюфелями, зайцы, козы. Перечислите самые лакомые мясные блюда. Овощи не произведут впечатления. Опишите кровати и ковры. Не забудьте беззаботную жизнь сыновей этих богоотступников, их забавы с танцовщицами Александрии. Вы хорошо сделаете, устроив такую пирушку перед отъездом, чтобы описания выходили как можно нагляднее.
– В этом нет надобности, ваша милость.
– Главное расскажите, как эта греческая дьяволица по воскресеньям отвлекает от церквей сладострастных юношей и как поносит она Господа нашего Иисуса Христа, называя его человеком. Используйте связь между Ипатией и наместником. Вспомните о страже знаменитой мыслительницы. Конечно, любовники – язычники. Быть может, отшельники скажут вам, что и христианские епископы не ведут безупречной жизни. Оспаривайте это, как можете, и будьте тому сами хорошим примером.
Архиепископ дал своему послу еще несколько указаний о настоятелях отдельных монастырей и дружески распростился с ним.
Гиеракс выехал через четыре дня. Сидя высоко на спине верблюда, в сопровождении только двух египтян, ехавших с его багажом на ослах, покинул он город на восходе солнца. Три дня и две ночи продолжался его путь по пескам пустыни. Оба египтянина, не знавших ни слова по-гречески, оживленно болтали друг с другом, когда солнце жгло не слишком сильно, о всякой всячине и не могли надивиться на могучего христианина, с таким безучастием относившегося к восходу и заходу солнца, к шуму ветра и сиянию звезд, как будто он был слеп и глух.
Когда ночью они остановились посреди пустыни и расположились для ужина на раскинутых коврах, египтяне поблагодарили своих богов за пищу и питье, а христианин проглотил все совсем равнодушно. Когда они произнесли благочестивые заклинания, чтобы защититься от диких зверей, христианин приказал положить вокруг стоянки сухой хворост и зажечь его для устрашения гиен, как будто огонь был действительнее помощи богов. Было ясно, что этот христианин ни во что не верит.
К вечеру третьего дня маленький караван подошел к лощине, прорезавшей направо невысокую цепь гор. Насколько хватало зрения, повсюду расстилалась необозримая, серо-желтая пустыня. Однако, когда они вступили в лощину, Гиеракс подумал, что видит перед собой мираж. На расстоянии часа пути были рассыпаны маленькие хижины и над каждой из них возвышались четко вырисовывавшиеся на фоне темно-синего неба бесчисленные пальмы, простиравшие свои величественные верхушки над маленькими крышами и узкими стенами.
Каждое строение состояло из низенькой глинобитной хижины, похожей на большой улей й окруженной маленькими огородами. Повсюду Гиеракс видел за работой жителей деревушки. Большая часть по двое, или по четыре человека вращали громадные колеса, с помощью которых они доставали воду из колодцев и водоемов для себя и для садов. В другом месте старик срезал спелые овощи, а еще в другом мальчик молотил сжатую пшеницу. Там и здесь кто-нибудь из более молодых лез на вершину пальмы, рвал тяжелые плоды и с удивлением смотрел на проезжающих.
На первый взгляд этот маленький поселок отличался от других египетских деревень лишь особенной чистотой и почти воскресной тишиной, – не было слышно ни криков мучимых животных, ни гама ребятишек, ни ругани женщин. Только тихий скрип колодезных колес провожал путников от жилища к жилищу и спокойное: «Благословенно имя Иисуса Христа», – звучало дружески от всех встречных… То здесь, то там раздавались псалмы.
Около получаса нес верблюд своего седока медленными широкими шагами вдоль деревни. Гиеракс не знал – заночевать ли ему здесь или продолжать путь вплоть до первого монастыря. Никто еще не заговорил с ним, никто не предложил ему приюта. Только когда Гиеракс проезжал мимо последних хижин, измеряя взглядом расстояние до монастырей, известковые стены которых в лучах заходящего солнца казались красными кристаллами на сером фоне скал, из последней хижины вышел, улыбаясь, старик, остановил коротким восклицанием трех животных и сказал Гиераксу:
– Благословенно имя Иисуса Христа, господин. Не продолжайте пути сегодня. Чистый воздух пустыни обманывает ваше зрение. До монастырей добрых три часа езды, а ночь наступает. Луны нет. Если вы не спешите помочь больному, соблаговолите разделить со мной мою хижину.
Гиеракс принял приглашение и лично наблюдал, как оба погонщика расседлали и накормили животных и устроили перед дверью свои постели. В это время старый садовник приготовил свою хижину к приему гостя и позвал его и погонщиков к ужину. Гиеракс выразил свое удивление, что такой хороший христианин, каким кажется его хозяин, собирается есть вместе с египетскими рабами. Но этого садовник не понял: все люди – дети одного Бога. Однако, погонщики сами не привыкли к такой чести, Они взяли свою долю каши и бобов,, налили себе горшок молока и расположились около своих ослов,
В спокойных разговорах об уходе за овошами и истинной вере прошел вечер. Потом Гиеракс расположился на мягкой постели, устроенной для него его хозяином, За ночь превосходно выспался, а утром, позавтракав хлебом и молоком, отправился дальше, Благодарности садовник не принял, а над предложением денег только посмеялся. Деньги в пустыне! Детская игрушка!
Гиеракс поехал со своими двумя спутниками дальше, обещая себе направить власть архиепископа на этих простых людей, ничего не знавших о благословении церкви и смеявшихся над мощью архиепископа. Теперь он медленно поднимался в горы. Над негостеприимными желто-коричневыми скалами вилась зигзагами пешеходная тропинка. Был почти полдень, когда Гиеракс подъехал к воротам первого монастыря. Они были крепко заперты и охранялись, как ворота крепости. Посланец архиепископа должен был долго ждать. Наконец, какой-то грубый парень провел его н вместе с погонщиками и животными в большой зал, где собралось около двадцати паломников из нильской долины, намеревавшихся за вечерней литургией получить благословение настоятеля на могиле святого Пахомия. Ни верующие, ни монахи не ожидали разрешения церкви, чтобы выпрашивать у святого чудесных исцелений болезней, уродств, бесплодия и безумия.
Когда через полчаса два гиганта-монаха внесли большой горшок с чечевицей, Гиеракс объявил им, что он послан архиепископом и желает немедленно видеть настоятеля. Испуганные монахи начали отговариваться и, чтобы выиграть время, предложили ему пройти в монастырский сад, где его примет настоятель. Но Гиеракс не отпустил их от себя и вместе с ними вошел в громадную трапезную.
Там, за невероятным столом, сидело, скорчившись или развалясь, до двухсот монахов, евших, болтавших, певших и бранившихся. На главном месте сидел настоятель с большим кувшином вина. Стол был уставлен всевозможными вкусными кушаньями, и монахи, и старые, и молодые, не забывали их.
Два проводника Гиеракса прошли вдоль всего стола, направляясь к настоятелю, и в большом зале воцарилась мертвая тишина. Священник хотел подняться, но зашатался и тяжело опустился обратно в кресло; несколько сидевших забормотали псалом. Гиеракс, улыбаясь, сделал несколько шагов и сказал:
– Будь благословенно имя Иисуса Христа, господа. Я пришел не мешать и, если меня пригласят, я докажу, что ты благословил мой аппетит не меньше вашего. А кружка монастырского вина придется весьма по вкусу моей просохшей глотке.
Началось ликование. Настоятель поднялся с достоинством и не успокоился, пока Гиеракс, торжественно вручивший ему свои грамоты, не занял почетного места. Все монахи вскочили и с поклонами и льстивыми речами бросились к архиепископскому послу. Около двадцати старейших были представлены ему лично. Затем он запретил всякие церемонии, и обед продолжался еще веселей и шумливее, чем начался. Конечно, настоятель пытался время от временя оправдать разгул: сегодня воскресенье, и не следует же пренебрегать божьими дарами, приносимыми паломниками с таким трудом. Но Гиеракс только отмахивался, ел, пил, болтал, лишь изредка вставляя какое-нибудь замечание, что этому дивному порядку вещей угрожает опасность. После обеда отправились в сады, где Гиеракс вскоре остался один с наиболее молодыми монахами; эти сейчас же начали жаловаться на настоятеля и стариков. Его милость не должна обманываться внешностью. Конечно, жить можно, но далеко не всегда идет так, как по воскресеньям. Ведь существуют и другие человеческие потребности. Настоятель и старые монахи, конечно, чистые бездельники, молодым же приходится в течение недели работать – и крестьянами и ремесленниками. Ухаживания за садом, особенно доставка воды, являются тяжелой работой в этой пустыне. А заботы о паломниках, приготовление пищи, выращивание овощей – все это далеко не просто. Надо прибавить, что молодежь должна все свободное время заниматься на монастырской фабрике, изготовляя священные рогожки. Деньги за это идут обычно в карман настоятеля. И если он и не так строг, как некоторые другие священники этой местности, то все-таки он охотно разыгрывает тирана и подвергает бичеванию за маленькую ложь или незначительное непослушание. Гиеракс ответил, что он явился для того, чтобы расследовать все эти дела, и братья могут положиться на справедливость архиепископа.
– Однако, – продолжал он, опускаясь на подушки, монахи окружили его еще теснее, – однако, я не могу уверить братьев, что жизнь в монастырях вообще протянется еще долго. Эге, господа, дело-то еще не так скверно, если вы пугаетесь одного предположения! Да, да! Вы же знаете, что архиепископ Рима намерен считать своими рабами всех других архиепископов – даже константинопольского, александрийского и антиохийского. Если это ему удастся, у вас будет больше оснований для жалоб, ведь через монастырский порог тогда не пройдет ни капли вина, ни кусочка мяса. Всем придется вести жизнь святых отшельников. Да, да, господа, это все оттого, что вы не поддерживали архиепископа в его борьбе с Римом. Архиепископ почти решился предоставить власть епископу Рима!
– Этого не должно быть! Никогда! Все, что угодно, только не жизнь отшельников! Лучше смерть!
Все кричали хором. Они забыли положение гостя, а потому бранились и спорили, некоторые кричали, что надо немедленно идти, в Александрию и просить или принудить доброго архиепископа к борьбе.
Гиеракс снова взял слово и дал себе волю. Что знают эти невежественные монахи о мире? Им можно говорить что угодно! Итак, он сказал, что римские епископы только внешне православные, а на самом деле придерживаются ереси назарейских еретиков, которые везде захватывают власть при помощи проклятой назарейской секты. А в Александрии есть много тайных назареев, которые, конечно, исказили мнение своего основателя о существе божием, называют себя первыми христианами и хотят ввести раннее христианство. Какая бессмыслица! Между мирянами и духовенством, между богомольцами и монахами не должно быть разницы! Бедность и всеобщую любовь должно создать это христианство. Епископы, настоятели и простые рабы – все должны стать одинаково нищими. Никто не должен иметь собственности. Эти простые почитатели священных рогожек должны сами пить свое вино, а вам предоставить воду. Эти «первые христиане», постоянно ссылающиеся на Евангелие, завладеют всем миром, если вы и честные иноки не поддержите их в борьбе с лжесвидетелями. Поверьте мне, эти назарейские еретики, и епископ Рима, и государственные чиновники – все одного поля ягоды.
Опять все монахи заговорили наперебой.
– Да поразит их гром небесный! Почему архиепископ не пресечет это безобразие!
– Он не может, у него связаны руки, так как на его шее сидит наместник, а добрые христиане Александрии – безропотные и запуганные люди. Надо, чтобы из пустыни пришло в город несколько сот сильных монахов и отшельников – они быстро бы расправились с назареями. Непродолжительный визит в город был бы хорошим делом. Но я не должен говорить так, братья. Мне незачем вам приказывать. Я знаю только одно, что этим вы доставили бы владыке истинное удовольствие. И поистине не было бы преступлением оттаскать при этом проклятых языческих философов за их высокомерные уши, а у ненавистных христопродавцев-жидов отобрать немного золота и серебра. О, вы не сможете представить себе, братья, как выглядит обеденный стол богатого александрийского иудея! Они едят на золотых блюдах, а вино наливают из серебряных кувшинов в хрустальные кубки! От одного воспоминания об этом можно прикусить язык!
Эта беседа еще продолжалась, когда настоятель со своей свитой возвратился совершенно измученный раздачей благословений.
Гиеракс оставался в этом районе около недели. На ночь он останавливался каждый раз в новом монастыре, а днем ездил по окрестностям. Когда в последний день созвал он собрание всех настоятелей, цель его путешествия наполовину была уже достигнута. Все признавали благотворное влияние архиепископского посланца на монашескую дисциплину, а когда Гиеракс объявил о согласии архиепископа признать новых святых, среди представителей монастырей не осталось ни одного, который не был бы готов всем своим имуществом и людьми поддержать каждый шаг архиепископа.
Гиеракс пришел в такое хорошее расположение духа, что обещал им трех новых святых, прибавив к разрешенным архиепископом Кириаксу и Пафнутию еще святого Пахомия, чудеса которого он видел собственными глазами в день своего приезда.
Еще одну ночь провел Гиеракс в одном из монастырей, а затем отправился в горы к святейшим среди святых, к анахоретам. Посол архиепископа присоединился к каравану, высылавшему каждые три месяца для раздачи отшельникам очередного хлебного запаса. Двадцать сильных верблюдов, управляемых арабами, составляли караван, предводительство которым было возложено на веселого монаха, бывшего ранее булочником в Александрии и сбежавшего в монастырь от гнева на своих хозяев. Звали его Павлиний, и своим знанием людей и страны он мог быть очень полезен послу архиепископа. Кроме того, Павлинию приходилось частенько исполнять обязанности врача. Правда, он ровным счетом ничего не понимал в этом деле, но больные отшельники требовали его помощи.
Вначале Гиеракс оберегал свое достоинство и не хотел расспрашивать о чем-либо этого юношу. Таким образом в течение первого дня они ехали рядом, разговаривая о лучших способах седлать верблюдов, об охоте на куропаток и монастырской жизни. Павлиний был вполне доволен своей судьбой. Его духовная деятельность была строго ограничена: он должен был заботиться о закупке семян, наблюдать за мельницей и пекарней и четыре раза в год развозить хлеб отшельникам.
– Мой настоятель – не строгий человек, хотя временами, когда дует северо-восточный ветер, на него находит какая-то дурь, – это мы все знаем.
– Все ли настоятели так мягкосердечны?
– Нет, многие довольно жестоки. Одного перевели к нам из Сирии, так его монахи представляют настоящую штрафную команду. Некоторые из них должны ежедневно часами поливать старую скалу и смотреть, не вырастет ли на ней каким-нибудь чудом пальма. Другим приходится на собственной спине переносить по нескольку пудов песка с одного места на другое. Последние, якобы, должны убеждать их в бесплодности всякой земной работы. Безумие! Но по сравнению с отшельниками, к которым мы едем, даже эти несчастные живут, как господа на Крите!
– Разве жизнь этих отшельников действительно так тяжела?
– Истинная правда, господин! Я уверен, что большинство из них сумасшедшие или, по крайней мере, слегка тронутые, я полагаю, что сохранивших рассудок обуревают тщеславие или гордость, или что-нибудь в этом роде, но живут они все, как собаки. Видите ли, господин, Александрийская церковь постановила, чтобы мы пекли хлеб для раздачи отшельникам. Хорошенькое постановление! Мы обслуживаем несколько сотен. Попробуйте, каков этот хлеб сейчас, когда он совсем свежий. Но каким он будет через три месяца… И вот фунт такого хлеба с горстью воды и изредка сухой степной корешок, и это изо дня в день, из года в год! Отвратительно!
И Павлиний рассказал затем, как некоторые отшельники договаривались получать лишь половинную порцию, чтобы еще сильнее умертвить свою плоть, а другие бросали хлеб в грязь, чтобы выразить свое презрение к еде. Какие только безумства не вытворяют эти святые. Многие заболевают и умирают, но большинство достигает глубокой старости, одному на тысячу удается при жизни прославиться в качестве чудотворца или быть призванным обратно в мир, чтобы сделаться епископом.
Гиеракс спросил, много ли ученых среди отшельников.
– Этого я не знаю. Я сам неграмотен. А вот ругаются они, как носильщики в гавани. Но ведь это сумеют и ученые господа из Академии. Книг в горах мало. Псалмы и Библия. Скажите, господин, это, вероятно, замечательная книга – Библия? Каждый, кто ее читает, говорит о прочитанном по-разному, также, как по вечерам в пустыне один погонщик кричит: «Воды, там озеро!», другой: «Там город!», а третий: «Там верблюд!».
Во время обеденного привала Гиеракс мог по достоинству оценить «вкусный» хлеб, приготовленный для отшельников, на что он сочувственно покачал головой. Павлиний засмеялся и вновь принялся рассказывать о богоугодных делах монахов и безумиях отшельников.
Около четырех часов дня путники достигли местности, где жили анахореты. Гиеракс по совету Павлиния решил сначала молча объехать с караваном все жилища и, только изучив получше обитателей, попытаться заговорить с наиболее доступными.
Первые отшельники, встреченные им, обманули его ожидания, так как они жили почти одной общиной и не совершали ничего из рассказанного Павлинием. В утесах по правую сторону дороги были высечены гробницы, уходившие довольно глубоко под землю. В этих горных монастырях жило около пятидесяти отшельников, почти все довольно молодые, совершавшие здесь свои первые подвиги. Они носили рубахи из верблюжьего волоса, как своего рода отшельнический мундир. Большинство появлялось при приближении каравана у выходов и каждый молчаливо и сосредоточенно брал свою сотню хлебов. Получив пищу, большая часть скрывалась в темноте своих нор. Только однажды какой-то молодой отшельник с плачущей жадностью схватил хлеб и закричал, грызя его и бешеными глазами глядя на раздававшего.
– Пять дней! Пять дней! Ты опаздываешь, собака, в аду тебе будут протыкать глотку раскаленным прутом, собака! Пять дней!
Последний из отшельников торжествующе швырнул в караван несколько окаменевших хлебов, оставшихся от его последней порции; насмешливо визжа, он что-то выкрикивал, Гиеракс не мог, однако, понять ничего кроме беспрерывного: «поститься!».
Павлиний равнодушно продвигал караван. Через тысячу шагов стоял, прислонясь с распростертыми руками к кресту, отшельник, седые волосы которого составляли почти всю его одежду, и кричал, брызжа слюной:
– Убейте меня! Еретики, убейте! Все враги сговорились против меня не дать мне причаститься к мученичеству. Тридцать лет стою я под крестом и жду того, кто пронзит мои руки и ноги гвоздями, а грудь копьем! Сделайте доброе дело! Подлецы, подкидыши сынов фараоновых! Нечистые! Трусы! Плюю на вас!
Однако, когда Павлиний протянул ему мешок с хлебом, святой выпрямил свое тело, поспешно принес пустой мешок и исчез с новым запасом в яме, вход в которую был завален громадными камнями.
Еще через несколько сот шагов находилась хорошенькая хижина из необожженных кирпичей, обитатель которой, древний старик, еще издали махал пустым мешком.
– Ну, Макарий! – крикнул ему Павлиний. – Сколько дьяволов победил ты в последнюю четверть года?
– Говорил ли вам что-нибудь этот мошенник с крестом? – прошептал хрипло названный Макарием старик. – Жалкий шут и обманщик! Целыми днями он лежит на животе и спит, как крыса, а как только заслышит шаги ослов или верблюдов, становится к кресту и просит смерти. Так достаются ему часто лакомые кусочки от проезжающих. Даже вино, вино! Доставьте ему удовольствие! Попробуйте убить его и увидите, как побежит этот ложный святой!
Павлиний сам занес тяжелый мешок в хижину старика и сказал:
– – Подумай лучше, как покончить с собственными демонами.
– Этого мне никогда не удастся! – воскликнул старик печально. – Пять тысяч убил я вчера и вот, глядите, триста пятьдесят сидят снова на пороге. Знаете, я думаю замуровать свою хижину, оставив только дыру, чтобы вылезать и влезать. Может быть, черти не перенесут этого. О, мой небесный отец! Нет, – и старик опустился на колени, – нет, вот они тычут свои рыла в мою голову за то, что я гордился своей судьбой, Господь мой, Бог мой, помоги мне стать их господином во славу твою и для спасения моей души!
В то время, как караван тронулся дальше, старик с бешенством принялся ударять себя кулаком по лысой голове, радостно смеясь и считая убиваемых чертей; еще долго слышал Гиеракс его крики: «Сто двадцать шесть, сто двадцать семь, – вот толстяк! сто двадцать восемь!».
– Эти люди не опасны? – спросил Гиеракс боязливо.
– Нет, происшествия случаются редко! – отвечал Пав линий. – Если бы эти одержимые дикари догадались объединиться, они, пожалуй, перебили и съели всех нас с верблюдами, ослами и всем запасом хлеба. Но они этого не делают. Ну, а с одиночками мы быстро справимся, как бы бешены они ни были.
В течение следующих нескольких часов Гиеракс уже привычно наблюдал странности, повторявшиеся на каждом шагу.
Но одно новое хранилище поразило его. Совершенно нагой человек, около сорока лет, стоял возле столба, воткнув голову в предмет, напоминавший деревянный ящик. Павлиний подошел к нему, снял старый мешок, свешивавшийся с верхушки столба до самого лица отшельника, и таким же образом укрепил новый запас хлеба.
– Этот ведет дело серьезно, – сказал он, возвратившись. – Он устроился таким образом, чтобы никогда не ложиться спать. Пять лет он так стоит, каждый вечер после заката солнца достает зубами один кусок хлеба из мешка и выпивает горшок жидкой грязи, который приносит ему его сосед, – тот, с выколотыми глазами.
Вскоре местность стала оживленнее, и караван расположился на ночной отдых, пока Павлиний и Гиеракс с двумя нагруженными верблюдами отыскивали жилища отшельников. На этом месте жило много поющих монахов, между ними один, превратившийся в скелет молодой постник, давший обет не открывать рта ни для чего кроме пения 130-го псалма сто тридцать раз в день, за что, якобы, Бог обещал ему стотридцатилетнюю жизнь. Умирающим голосом шептал он слова псалма, кивая, однако, с довольным видом уезжавшим. Другой, красивый молодой человек около тридцати лет, могучего телосложения и изысканной осанки, с громовым басом, пересыпал оперные арии текстами священного Писания. Когда Гиеракс и Павлиний подошли ближе, он крикнул:
– И никто не слушает меня, кроме этого немузыкального сброда, тогда как я мог каждый вечер собирать самый большой театр в Александрии! О, я отлично знаю мирские песни! Дьявол учит меня им каждую ночь! Но я скорее откушу себе язык, чем сдамся и запою: «Я стою перед дверью твоею…» Горе мне! Погиб! Опять целый год напрасного покаяния!
Юноша кинулся на землю, схватил обеими руками ремень из бегемотовой кожи и с такой невероятной силой ударил себя по плечам, что кровь выступила при первом ударе.
– Берегитесь вшей! – раздавалось с другой стороны. – Это демоны! Пять тысяч убил я только что. Они бегают под ногами! Внимание! Особенно старые вши злы. Ради Бога, гоните их прочь, вот они!
И истребитель вшей схватил гладко отполированный камень и начал обрабатывать им свое правое колено, как кузнец наковальню.
Через глубокую расселину вел теперь Павлиний своего верблюда на вершину холма, покрытого редкой растительностью. Здесь пребывало около пятнадцати анахоретов, голых и без признака жилья, лежавших или ползавших на четвереньках. При виде верблюда с хлебом они разразились звериным воплем, прячась при этом в кусты. Когда же Павлиний снял с верблюда последний мешок с хлебом и бросил его на возвышавшийся камень, они разом вскочили на четвереньки и стали вытаскивать зубами хлеб из мешка.
– Неужели вам не стыдно? – закричал Павлиний и изо всех сил ткнул ближайшего из них ногой в бок. – Настоятель донес о вас архиепископу, и архиепископ ответил, что если вы не откажетесь от этой скотской жизни, вам не будет больше хлеба. Бог создал вас так же, как других людей. То, что вы делаете, не святая жизнь, как у остальных отшельников, а звериное идолопоклонство.
Голые люди, казалось, не слушали. Только один, не вставая, поднял вверх дико заросшую седую голову и, глядя волчьим взглядом на Павлиния, сказал зычным голосом:
– Тот, кто одевает лилии в долине… кто унизится… скорее верблюд пройдет в игольное ушко… Ты сам такой верблюд! Он верблюд! Гад! Гад!
И под оглушительный рев этих святых Павлиний и Гиеракс с пустыми верблюдами покинули холм питающихся травой анахоретов.
Через четверть часа они нашли место, выбранное для ночного привала. Это была небольшая глубокая лощинка, по стенам которой, как и при въезде в святую область, виднелись открытые гробницы. Погонщики с верблюдами расположились на земле в боевой готовности и с оружием в руках. Гиеракс и Павлиний ушли в одну из гробниц, обитатель которой незадолго до этого умер, как узнал Павлиний дорогой. Они нашли в пещере только полуразбитый горшок для воды, кучу сухих пальмовых листьев и в углу черный крест. Внизу лежало несколько изгрызанных клочков книги. Нельзя было догадаться, кто грыз эти страницы Библии – какое-нибудь животное или отшельник в своих предсмертных муках.
Павлиний был доволен, что Гиеракс принес с собой все возможные холодные кушанья и кувшин вина. Здесь ничего нельзя было сварить, чтобы святые не напали, как гиены. Но и с холодным кушаньем Павлиний осторожно ушел в третью пещеру, чтобы не выдать себя лакомым запахом. Гиеракс не мог есть, как следует. Анахореты отбили у него, по крайней мере на сегодня, всякий аппетит. Он выпил не сколько кружек вина, надеясь хорошо уснуть и забыть ужасы последних часов.
– Вы слишком чувствительный человек, – сказал Павлиний улыбаясь. – Стоит ли волноваться обо всем этом? Мой отец был сторожем зверинца в цирке, где зверей кормили живыми христианами, и все-таки сохранил отличный желудок до столетнего возраста. Я помню его. Он умел рассказывать забавные истории!
Вскоре после этого Павлиний кинулся на пальмовые листья и через несколько минут уже спал. Посланцу архиепископа он еще раньше приготовил из ковров и подушек удобную постель, но Гиеракс не мог заснуть. Он прислушивался к проснувшимся голосам пустыни, ежился, слыша далекий вой шакала, так как он не знал, был ли это дикий зверь или отшельник. Сквозь молчание и шум ночи в его ушах постоянно раздавались глухие удары, которыми старик разбивал демонов на своей голове. Он успокаивался, когда один из верблюдов кричал во сне.
Гиераксу не спалось. Было около полуночи. Пояс Ориона, стоявший при закате как раз напротив входа в пещеру, поднялся довольно высоко. Вдруг перед ним появилось освещенное луной страшное лицо. Высокий юноша, лет двадцати пяти, осторожно, как вор, поднял голову над порогом. Дикая черная борода и спутанные черные волосы не позволяли видеть лица, на котором сверкали впавшие большие глаза. Тихо и медленно карабкался незнакомец. На его шее висела длинная цепь из шипов, она болталась по телу, раня его при каждом движении. Его бедра были обмотаны козлиной шкурой, остальное тело было нагое. Когда незнакомец собирался войти в пещеру, Гиеракс сделал резкое движение. Тогда бородатый мужчина встал у входа на колени, сложил на груди руки и произнес умоляюще:
– Не бей меня! Помоги мне! Пойдем со мной в пещеру, святой человек, и научи меня, как справиться с дьяволом, который приходит ко мне с закатом солнца. Старик, живший здесь раньше, часто целыми ночами молился рядом со мной, и тогда демон не приходил. Пойдем, помолись со мной и не бей меня. Старик, с которым я молился раньше, часто очень сильно бил меня. По голове, это так больно! Бей меня по спине, если это нужно!
Гиеракс колебался, – не лучше ли разбудить Павлиния. Но его удивительный гость просил его так настойчиво и проникновенно, что Гиеракс, движимый любопытством, встал и позволил черноволосому человеку отвести его в соседнюю пещеру. Она выглядела так же неуютно, как и только что оставленная. Даже сухих листьев не было. Очевидно, отшельник лежал прямо на голых камнях.
– Ты, может быть, уже слышал о великом грешнике Гельбидии, святой брат, – сказал незнакомец боязливо. – Это я! Вот! – И он вытащил из угла длинную палку и покорно протянул ее своему гостю: – Бей меня!
И Гельбидий преклонил колени на том месте, где, по его рассказам, колени его предшественника уже выдолбили углубление. Он склонил голову и повторил:
– Бей меня!
Когда Гиеракс заколебался, Гельбидий крикнул с внезапной силой:
– Бей меня или я тебя задушу!
Тогда Гиеракс начал бить. Сначала тихо, потом, заметив радостный блеск в глазах отшельника, все сильнее и сильнее. Радостно прояснилось лицо кающегося; среди побоев он начал смеяться, и, наконец, воскликнул с двадцатым ударом.
– Благодарю тебя. Он ушел! Тебя он испугался. Видишь, святой брат, там, напротив кресла, лежал он в виде обнаженной белой прекрасной женщины. Так любит он приходить больше всего и искушает меня, несмотря на эти шипы, так, что я предпочел бы умереть, чем видеть его. Ее зовут Евстахия, она – монахиня, римлянка. Из ее рыжих волос вылезают два рога. Рога козы, прекрасные и мягкие. Поэтому узнаю я, что она черт. Ее ноги заканчиваются львиными лапами. Ими она разорвет меня, если я дотронусь до нее. Поэтому я прижимаюсь постоянно к этой стене. Но Евстахия смеется над этим, показывая свои белые мышиные зубы, и подбирается по воздуху все ближе и ближе ко мне, и откидывает голову, и подставляет грудь, грудь, грудь… Евстахия! Оставайся со мной!
Гельбидий кинулся на каменный пол, покрывая камни безумными поцелуями.
– Евстахия, приди ко мне! Обними меня! Так! Правой рукой за голову, не за шею! Шипы! Не уколись! А левой рукой… Шипы! Святой брат, бей меня! Спаси меня от дьявола! Спаси меня! Он хватает меня своими львиными лапами, он скалит свою пасть! Спаси меня! Бей меня!
Охваченный отвращением, Гиеракс изо всех сил принялся бить несчастного. Тогда Гельбидий посмотрел на него с благодарностью и сказал:
– Спасибо. Так, так и еще раз. Так, теперь он опять ушел.
Гельбидий уселся поудобнее, потер спину и продолжал рассказывать об искушениях дьявола.
Перед входом в пещеру он появлялся часто в виде льва, но никогда не входил в таком виде вовнутрь. Льва Гельбидий задушил. Часто приходил он в виде трехсот шакалов и семисот гиен и пастью тысячи зверей распевал мерзкие песни. Против этого помогало
нарисовать крест на одном из хлебов и кинуть его в раскрытую пасть какой-нибудь гиены. Тогда искушение исчезало, но Гельбидию приходилось один день поститься. В другое время дьявол является в виде тысячи танцовщиц, которых Гельбидий пятнадцатилетним мальчиком видел в театре. Тогда дьявол впервые сделался ощутимым. Когда дьявол явился в образе тысячи танцовщиц, пещера так наполнилась ими, что Гельбидий едва мог спрятаться. Поэтому он и сделал цепь из шипов. Развратные девчонки боялись ее. Но с боков они прижимались к нему, и он должен был оставить свою пещеру и бежать, сломя голову; дьявол в образе тысячи танцовщиц бежал за ним и гнал его, пока он, израненный до крови терниями своей цепи и остриями камней, не упал на землю. Но он все-таки надеялся стать со временем господином дьявола. Когда черт выходит в образе Евстахии, его, как кажется, можно покорить. А если Гельбидию удастся подчинить Евстахию, а тем самым и дьявола в ней, Иисусу Христу он совершит чудо, более великое, чем совершили все святые пустыни и апостолы, и сам Господь Бог! Так как ведь сам Бог не смог покорить дьявола.
Гиеракс пробовал уйти из пещеры, но Гельбидий не отпускал его. Еще раз появлялся этой ночью демон в образе Евстахии, и Гиераксу пришлось бить. Он появлялся также под видом шакалов и гиен и был изгнан хлебом, который Гельбидий бросил по направлению какой-то тени. В образе тысячи танцовщиц он сегодня не приходил, и Гельбидий с довольным видом потирал спину и радовался, что ему не пришлось бегать. Да, да, святой брат был выдающимся человеком, и танцовщицам не нашлось места в пещере.
Когда Евстахия явилась в третий раз, Гельбидий уцепился за своего гостя и пустился в проповедь, пересыпанную льстивыми заверениями. Но в эту ночь обращение не удалось.
Гиеракс устал до смерти, когда настало утро. При первом свете дня Гельбидий рассмотрел своего гостя, его светлое платье и испустил ужасный крик:
– Это не святой! Это дьявол в образе предводителя Церкви, которого я принял ночью в своей пещере, за которым я ухаживал и которого кормил сладкой пищей. Господь, Укрепи меня в борьбе с этим демоном!
Прежде чем Гиеракс успел отступить, Гельбидий схватил его в охапку и выкинул из пещеры. Посол был рад удачному безопасному падению на один из хлебных тюков, лежавших между верблюдами.
Этот шум разбудил всех участников хлебного каравана. Павлиний сердечно рассмеялся, узнав о ночных приключениях своего высокопоставленного спутника. Последнему надо было бы позвать его, ведь Павлиний умел обращаться с анахоретами. Удары палок да выслушивания просьб – самый действенный способ.
Скоро все собрались и продолжили свой путь в том же самом порядке; погонщики, часто останавливаясь, медленно ехали по дороге вперед, Павлиний и Гиеракс посещали лежавшие справа и слева хижины и пещеры. Гиеракс был бесконечно измучен как ужасной ночью, так и впечатлениями прошедшего дня, и только основательный завтрак, который они с Павлинием отважились устроить в отдаленном месте, сделал его способным воспринимать новые впечатления. Со времени последней беседы с архиепископом он познакомился с отшельниками и чувствовал себя главным пастырем благочестивых мужей этих гор, но как приняться за это дело?
Первые отшельники, которых он узнал, показались ему совсем особенными. Чем дальше он проезжал, тем сильнее убеждался, что и здесь один был похож на другого, и часто на расстоянии дня пути царило одно пристрастие, казавшееся сверхземным вдохновением или обыкновенным безумием.
Первые посещенные сегодня анахореты, жившие друг от друга на расстоянии двухсот шагов в маленьких открытых глиняных хижинах, вели одинаковый образ жизни. Каждый отшельник сидел перед хижиной, по индийскому обычаю на согнутых ногах, как бы погрузившись в сон, и безучастно смотрел на кончик своего носа. Павлиний не получал ответа, когда, внося хлеб вовнутрь хижины, задавал тот или иной вопрос. Когда он тронул одного из отшельников, чтобы в честь александрийского посла добиться какого-нибудь ответа, святой свалился, как безжизненный чурбан; Павлинию пришлось снова вернуть его в исходное положение, чтобы отшельнику не пришлось в течение целого дня валяться на спине.
– Это хорошие люди, – сказал Павлиний, отправляясь дальше. – С восходом солнца начинают они созерцать кончик своего носа и таким образом исключают всякую мысль о мире. Они считают труд величайшим грехом, так как, по их мнению, любимцы Бога, растения, не работают. Даже думать о существе божьем кажется им грехом, так как ведь растения не размышляют. С закатом они приходят в себя и ложатся спать. Некоторые из них съедают свой хлеб после заката, другие – раз в два дня, или даже в три. Они не делают ничего злого.
Недалеко от этого места с выступающей вперед скалы открывался широкий вид на пустыню; острое зрение могло даже различить море и берег. На скале находилась загадочная маленькая постройка, из которой уже издали доносился легкий шум. Это был грубо сколоченный ящик, не более пяти футов в высоту и не шире здорового человека. Внутри стоял покрытый какими-то лохмотьями молодой отшельник, которому приходилось корчиться, чтобы умещаться в этом стоячем гробу. Слезы струились по его щекам, когда Павлиний подошел ближе.
– Зачем ты принес мне хлеб, ты, слуга сатаны? – пролепетал он. – Почему ты не даешь мне умереть с голоду, чтобы взойти на небо?
Но одновременно он протянул из своего отверстия тощую руку и жадно вытащил кусок хлеба из сумки.
Затем они проехали мимо нескольких добродушных отшельников, устроивших на маленьком орошаемом поле небольшой огород и не гнушавшихся овощами, как прибавкой к хлебу.
Скоро путники приблизились к известковой скале, за которой услышали какой-то шорох и тихое бормотание молитв. Завернув за угол, они подумали, что присутствуют при злодеянии. Посреди шести седых анахоретов, стоявших на коленях и бормотавших заунывные молитвы, лежал юноша, вдоль и поперек покрытый тяжелыми цепями. Глаза его были закрыты, и из правого глаза и лба капала кровь. Павлиний резко оттолкнул ближайшего старика и наклонился над раненым.
– Вы убили его! – воскликнул он после беглого осмотра.
– О нет, – отвечал с довольным смехом старейший из молившихся, – но дьявол мирской страсти ожил в нем. Он собирался вернуться в мир и даже взять в подруги дочь одного земледельца. Тогда мы заковали его. Когда прошлой ночью он хотел уйти вместе с цепями к своей гибели, мы возвратили его силой. Мы не хотели его смерти. И сейчас мы молимся за него. Оставьте наши мешки здесь, мы сами разнесем их по домам, когда он очистится.
Пожав плечами, Павлиний исполнил их просьбу и пошел дальше.
При выходе из долины они нашли полуобнаженного анахорета, с болезненными стонами сидевшего на муравейнике отдавая себя на укусы злостных насекомых.
– Ты с ума сошел, Иоанн! – закричал Павлиний. – Придется натереть тебя дорогой мазью, а потом вести в монастырский госпиталь!
– Оставь меня, господин, это мой долг. Некоторые из этих невинных созданий вползли в мою хижину, и когда один из них совсем тихо ущипнул себя за колено, мной овладел дьявол гнева, и я убил его. Теперь я искупаю свою вину за убийство и, клянусь Богом, искупаю тяжело. О, Господи, какая боль!
Угрозами Павлиний заставил несчастного Иоанна покинуть свое ужасное сиденье, пригрозив, что в случае непослушания не оставит ему мешок с хлебом. Отшельник хмуро повиновался, но, отъехав, они увидели, как он большими прыжками вновь бросился к муравейнику, намереваясь продолжить свое искупление. Не сговариваясь, оба путника расхохотались.
Терпеливо карабкались они по острым камням и достигли места, окруженного пятью десятками хижин. Здесь стояла мертвая тишина.
– – Будьте осторожны, господин. Это жилище одержимых, – сказал Павлиний.
– Сабиниан! – закричал он громко. – Сабиниан и Флагиан, выходите наружу. – Это самые понятливые и самые сильные среди них, без них я никогда не справился бы с одержимыми.
Павлиний быстро заставил своего верблюда стать на колени и искусно вскочил в седло за шеей животного. Оба анахорета вышли из своих хижин, но одновременно со всех сторон раздалось недовольное ворчание. Постепенно все обитатели выползли на свободное пространство. Ужасные фигуры с расцарапанными лицами, голые тела, ноги, покрытые ранами и гноем. Изо всех ртов раздавались стоны и проклятия. Одержимые бросились к верблюдам, хотя Сабиниан и Флагиан прилагали все усилия, чтобы оттеснить нападавших. Павлиний быстро начал раздачу хлеба, отвязывая тяжелые мешки и сбрасывая их со спины верблюда. Отвратительные проклятия в адрес монастырских язычников и глухой, постепенно усиливающийся рев были ему ответом. Внезапно один из мешков задел слишком близко подошедшего анахорета. Пустынник в судорогах свалился на землю. Последнее послужило знаком для начала нового вида богослужения. Пять, десять, двадцать других кинулись на землю, били себя кулаками, рвали ногтями и выли от бешенства, другие принялись кричать на верблюдов, беспокойно смотревших по сторонам и не желавших слушаться своих седоков. Беснующиеся анахореты лязгали зубами, и животные начали защищаться. Флагиан бросился с мешками на Гиеракса, и Сабиниан, который один только сохранял рассудок, закричал:
– К одному они привыкли, два – слишком много, слишком много, слишком много! Уезжайте! Уезжайте!
Флагиан уже плясал с другими, а внезапно и Сабиниан завопил, сделал огромный прыжок, как будто хотел сорвать Гиеракса с его верблюда; они били животных и друг друга, пока измученные не попадали на землю и не воцарилась мертвая тишина. Одержимые, очевидно, устали и не намеревались возобновлять нападения. Только испуганные животные не могли успокоиться. Быстро покинули чужеземцы эту область священных гор.
– Скоро смогу я поговорить с Исидором? – спросил Гиеракс хрипло.
– Мы недалеко от него, – ответил Павлиний, задыхаясь от гнева и волнения. – Сейчас он самый святой среди этих людей и занимает высшее место в горах. Мы скоро подъедем к его вершине.
Они продолжали путь по безжизненной и безлюдной долине к возвышенности, за которой поднималась скалистая гора.
На вершине горы, как уже отсюда мог разглядеть Гиеракс, возвышалась странная постройка, на которой какое-то живое существо равномерно двигало верхней частью туловища. Павлиний протянул руку и сказал:
– Это Исидор. Он работает. Через полчаса мы будем там.
Дорога извивалась вокруг горы, и по обе ее стороны жили самые старые и святые отшельники. Эти люди не истязали себя так строго, как более молодые. Между ними были девяностолетние и столетние. Они обитали в развалинах древних египетских храмов, а наиболее слабым прислуживало несколько молодых. На этой горе, как объяснил Пав линий, могли жить только такие отшельники, которые совершили чудо. Сюда же направлялись и богомольцы как со стороны оазисов пустыни, так и из долины и даже от Красного моря.
Перед каждой обитаемой развалиной благочестивые пилигримы стояли на коленях и молились святым. Гиеракс недоверчиво смотрел на этих чудотворцев, занимавшихся своим ремеслом без разрешения архиепископа. Он снисходительно говорил с пилигримами, среди которых, к его удивлению, находились как язычники, так и христиане; слушал их рассказы о том, как им пришлось сделать дар монастырю за разрешение посетить святую гору, а здешним святым они несли добровольно для поддержания их жизни или уточку, или курочку, или корзиночку печеных яиц, или козочку, или овечку. За это они ждали исцеления своих болезней. Воскрешения мертвых не удавались уже давно, но старики рассказывали друг другу, что раньше случалось и это.
Перед первыми хижинами этих гор стояли святые мужи, сами принимали дары, благословляли народ и приветствовали архиепископского посланника. Это были почтенные на вид старики, одетые в белое, с длинными, седыми, прекрасными бородами. Один запел тонким голосом псалом, когда Гиеракс захотел узнать от него его имя и жизнь. Перед одной постройкой был большой шум. Ее обитатели, по словам Павлиния, святой муж Даниил, отказывался показаться и даже бросал камни из окна, когда просьбы пилигримов стали слишком настойчивы. Павлиний объяснил, что благочестивый Даниил уже пятнадцать лет не выходит на свет из этих развалин, и что о нем не было бы ничего известно, если бы он не открывал своего присутствия пением псалмов или шумной битвой с дьяволом. Свои маленькие чудеса, особенно по части исцеления домашних животных, совершал он через запертую дверь.
– Для козлов его благословение превосходно! – воскликнул один из пилигримов, слушавших вместе с другими.
Они поехали дальше и на половине горы подошли к старой каменной часовне, на большое расстояние распространявшей отвратительный запах. Павлиний постарался объехать это здание. Там жил святой Зенон, деливший свое жилище с двенадцатью гиенами и прекрасно защищавшийся от нападений диких зверей.
– Знаете ли, господин, гиена, собственно говоря, трусливое животное, которая не подойдет даже к шакалу, не говоря уже о верблюде или человеке. Но все-таки это милость божия, что такие дикие создания повинуются приказаниям благочестивого человека! – сказал Павлиний.
Теперь они ехали прямо на гору. Здесь уже не надо было раздавать хлеб. Пилигримы из года в год выполняли свой обязанности, и чудотворцы могли бы делиться своими продуктами, если бы не предпочитали кормить ими гиен и шакалов.
По дороге Гиеракс спросил, чем обусловливается власть Исидора, творит ли он более заметные чудеса, или что другое?
– О, нет, господин, – сказал Павлиний. – Он питается одним-единственным чудом, которое удалось ему сделать после долгого, долгого самобичевания в Александрии. Вы, вероятно, слышали об этом. Там жил злой, но очень могучий языческий волшебник Теон. Когда настало время, и император и епископ повелели уничтожить языческий храм, Теон вместе со злыми духами заперся в Александрийском Серапеуме и произнес великое заклинание, так что никакой христианский топор не мог повредить здание, даже топор со знаком креста. Напрасно нападали на заколдованные строения императорские солдаты, напрасно старались даже святые пустынники. Тогда благочестивый Исидор просто протянул руку и произнес молитву, и стены разрушились, похоронив под своими развалинами волшебника Теона; затем упала золотая статуя Бога, золото превратилось в золу, а изнутри статуи выбежала душа волшебника Теона в виде большой черной крысы. Из всего его рода в Александрии живет лишь одна дочь Теона – вампир. И Исидор поклялся не покидать скалы своих мучений, пока ему не будет разрешено Небом убить дьявола, обитающего в этой женщине.
– Исидор скоро покинет свою гору, – сказал Гиеракс тихо и насмешливо. Павлиний испугался и с удивлением посмотрел на своего спутника.
Они достигли вершины горы; она представляла собой ровную поверхность около тысячи шагов в диаметре. Исидор не допускал паломников на свою вершину. Он не хотел совершать чудес, так как постом и молитвой готовился к подвигу, который ему предстояло осуществить. Поэтому, когда оба всадника появились на вершине, он прервал свои странные движения и, громко крича, стал приказывать им удалиться. Павлиний ответил, что они несут хлеб, и его спутник является послом архиепископа. Исидор продолжал кричать и жестикулировать все агрессивнее, но не мог воспрепятствовать им подойти к основанию своего своеобразного жилища.
Приблизительно в центре ровной площадки находились остатки стен древнего храма, и около них возвышалась, на двадцать футов превышая развалины стен, одинокая колонна. Она заканчивалась громадной капителью из птичьих голов, высеченных из красного гранита. На площадке капители, имевшей в поперечнике около семи футов, стояло открытое для непогоды, безногое, высокое и неуклюжее, одетое в лохмотья существо – святой муж Исидор.
Широкая стена случайно, или с помощью человеческих рук, так разрушилась с левого конца, что было возможно, правда, с некоторым трудом, взобраться по ней. Каким же образом взобрался святой со стены на колонну, казалось загадкой, и Павлиний объяснил, что ангелы перенесли святого столпника по воздуху.
При приближении путников святой Исидор несколько раз нагибался, как бы пытаясь отломить одну из каменных птичьих голов, каждая из которых была в десять раз больше его руки, чтобы запустить ею в своих посетителей. Потом он подошел, к ужасу Гиеракса, к самому краю своего жилища, как будто собирался кинуться вниз со злости или просто улететь вдаль. Но когда все это не заставило Павлиния отступить, святой муж успокоился и снова начал что-то распевать на своей колонне, чего внизу нельзя было понять, время от времени нагибаясь, чтобы ударить себя бичом по спине или плечам. Это и были те самые движения, которые издали казались усердными физическими упражнениями.
– Сегодня он возбужден чем-то, – заметил Павлиний, помогая своему спутнику слезть с верблюда. – Обычно он целыми неделями стоит молча и недвижимо, устремив взор к северо-востоку, на Александрию. Он еще совершит нечто великое. Столпничество – очень тяжелая вещь, но кто его перенесет, тот в старости всегда становится чудотворцем или даже епископом!
Теперь оба гостя стали карабкаться вверх по стене. Павлиний тащил при этом на спине тяжелый мешок с хлебом и, кроме того, должен был помогать осторожному горожанину. Когда на полдороге они остановились отдохнуть, Гиеракс сказал, вытирая пот:
– Да, да, удивительные пути ведут часто к месту епископа.
Затем они снова полезли дальше, иногда точно по широким ступеням, иногда по шатающимся уступам, подчас им приходилось упираться и руками, и ногами, чтобы залезть на следующий камень.
– Головокружением здесь страдать не полагается, – сказал Гиеракс в утешение, – а спускаться будет еще хуже!
Наконец, они взобрались на стену, которая на расстоянии двадцати шагов отстояла от самой колонны. Гиеракс должен был лечь, так как его колени дрожали. Павлиний смело подошел к самой колонне и стал возиться с канатом, свисавшим с капители и проходившим через железный блок.
Казалось, что Исидор перестал интересоваться своими гостями и полностью отдался своему занятию. Теперь Гиеракс мог разобрать, что говорил святой. Это было довольно однообразно.
– Господь, Спаситель мой, сжалься надо мной и прости мне мои прегрешения. Я был гностиком, кабиром, офитом, каинитом, ператом. То, что было в этих сектах истинного и в чем я познал тебя глубже своих братьев, это зачти мне милостиво после моей смерти. Но то, что я узнал лживого, когда был гностиком, кабиром, офитом, каинитом и ператом, то позволь мне перед лицом твоим искупить, искупить, искупить, искупить, искупить.
И пять раз святой ударил себя пятихвостной плеткой, два раза справа, два раза слева, а последний раз по голове. И пять раз поклонился он на север.
– Господь, Спаситель мой, сжалься надо мной и прости мне мои прегрешения. Я был валентинианом, манихейцем, монархианом, сиборнацианом и монтанистом, в качестве которого полагал, что ты установил второй брак, так как первый только союз с плотью и дьяволом. Это позволь мне перед лицом твоим искупить, искупить, искупить, искупить, искупить, искупить.
И снова пятикратное бичевание и поклоны.
– Господь, Спаситель мой, сжалься надо мной и прости мне мои прегрешения. Я был патринассионом и алогистом, то есть человеком, не имеющим рассудка, я был новицианом, сабельеном и каллистианом, то есть нигилистом. То, что было в этих сектах истинного, и в чем я узнал тебя глубже, чем мои братья, это зачти мне милостиво после моей смерти. Но что я узнал ложного, когда был…
– Подними себе кое-что на будущее время, святой человек! – воскликнул Павлиний, укрепивший тем временем мешок с хлебом на крючок и поднявший тяжелую ношу до самой капители. – Сними мой хлеб, спусти пустой мешок и выслушай благосклонно, что хочет сказать тебе посланник архиепископа Александрийского.
Серьезно и сосредоточенно отложил Исидор свой бич, втащил длинными руками свежий запас хлеба на свою платформу, бросил в воздух пустой мешок и сказал, не глядя на своих посетителей:
– Мне нет никакого дела до архиепископа Александрийского. Я не нуждаюсь ни в ком на земле, кроме Господа, Спасителя моего!
Гиеракс поднялся и отошел на такое расстояние, что мог ясно видеть святого мужа.
– Но архиепископ нуждается в тебе, святой человек! – воскликнул он. – Кто знает, сколько времени будет оставлять тебя церковь здесь, на твоем столбе? Кто знает, сколько времени церковь будет препятствовать себе сделать тебя пастырем одной из своих провинций? Поэтому сегодня церковь просит тебя проявить свою мудрость и могущество.
Было ясно видно, что Исидор прислушивался к льстивым словам Гиеракса. Но, не двигаясь и по-прежнему смотря в пустоту, он сказал:
– Я не мудр и бессилен. Я простой бедный человек, которому Господь разрешил искупить на этом месте свои прегрешения.
– Ты сможешь совершить добро и уничтожить зло, – ответил Гиеракс, – если ты выслушаешь меня и станешь подтверждать мои слова среди своих братьев. Александрийскую церковь жестоко угнетают служители государства. Сотни благочестивых монахов решили отправиться в столицу, дабы защитить архиепископа от его врагов. Я боюсь, что будет пролита кровь, кровь иудеев, жадные рабы которых думают похитить их серебро, кровь назареев, с которыми можно справиться только силой, и кровь бестии Ипатии…
– На колени! – завизжал Исидор и скрестил руки. – Взгляни на этот знак, посмотри на меня и сознайся, кто послал тебя – церковь или дьявол? И, если ты послан дьяволом и хочешь вызвать перед моей грешной душой, чтобы соблазнить ее, образ Евы со змеиными косами и адскими глазами, то этим знаком я свергну тебя со стены, свергну с горы, и погружу на десять тысяч футов под землю, туда, где горит вечное пламя и где обитают еретики. Но если ты послан истинной церковью и выдержишь вид этого знака, то ты – посол Неба, и я искренне приветствую тебя. И я позволю тебе говорить с этой стены моим братьям сегодня ночью, через три часа после заката, когда луна будет сиять на небе. Ибо день посвящен покаянию и благочестивым созерцаниям. Созови всех братьев священной горы и говори с ними, ибо Господь положил мед на твои уста и даровал тебе силу проникать в сердца. Посол архиепископа, ты можешь проповедовать у моей колонны… А теперь уходите и не мешайте моему покаянию, иначе мы все – и вы, и я – впадем в большой грех.
Исидор снова принялся пересчитывать еретические секты, к которым он принадлежал.
Гиеракс был в восторге от своего успеха. Он проводил своего спутника до того места, где расположились погонщики с верблюдами. По дороге он увидел группу черных анахоретов, обращенных арабов, которые получили свободу крещением и посвятили жизнь благочестивому отшельничеству. В воспоминание о своем спасении они носили на левой ноге тяжелые шары на цепях.
Затем Гиеракс встретил каменный лес, обитаемый тремя отшельниками, работа которых состояла в поливке окаменелых стволов водой из близлежащего соленого озера. Это была веселая работа, так как они высмеивали этим бесплодность мирского труда.
Здесь караван сделал привал, и Гиеракс после обильного обеда удалился в одну из хижин, украшенную плитами натрия, чтобы выспаться до времени ночного собрания. Он считал, что вполне заслужил отдых. Павлиний принялся созывать отшельников на сегодняшнюю ночь к колонне Исидора во время своего дальнейшего объезда, для которого он взял последнего нагруженного хлебом верблюда. Прошло уже два часа после захода солнца, когда Павлиний разбудил посла.
– Вы хорошо отдохнули, господин. Теперь пора.
Гиеракс быстро собрался, но перед уходом выпил для подкрепления большой кубок вина. Затем они отправились в путь пешком, в сопровождении опытного проводника.
Ночь была темная, несмотря на то, что над их головами во всем своем великолепии сияли звезды. Окрестности имели устрашающий вид. На озере от ночного ветра бежали маленькие черно-синие волны. Вокруг раздавался голодный вой шакалов и злобный лай гиен. По эту сторону гор не было отшельников, однако, ночь не была безмолвна. По крайней мере Гиераксу слышались голоса, как будто он находился посредине невидимого войска, готовящегося к битве.
Медленно и осторожно продвигались они вперед. Затем путь пошел через чащу кустарников, угрожающе шумевших Под ветром. Гиеракс вздрогнул, когда какая-то птица, потревоженная в своем сне, с криком взлетела из-под его ног.
Затем они опять стали пробиваться сквозь скалы, готовые обрушиться на их головы. Посол схватил руку проводника и приказал себя вести.
Неподвижно сверкало небо. По дорогам скользили тени хищных зверей, а, может быть, и святых братьев.
Поднявшись выше, они справа и слева заметили темные фигуры, торопившиеся к колонне.
Святая гора была уже близко, когда, наконец, за спиной путников ярко взошла луна. Сразу весь ландшафт погрузился в фиолетовый свет. Гиеракс перевел дыхание. Еще несколько тысяч шагов, и – он стоял на вершине, и в ярком лунном свете видел более тысячи человеческих фигур, беспорядочно окружавших колонну, на которой с распростертыми руками стоял Исидор. Гиеракс пожал руку Павлинию и молча пошел к стене, пробираясь среди группы безмолвных отшельников. Никто не обращал на него внимания; никто не посторонился перед ним.
Наконец, он добрался до развалин и пошел, не колеблясь, твердым шагом кверху, пока не достиг удобной, широкой ступени. Постепенно все отшельники собрались у стены и обступили колонну плотным кольцом. Они, не отрываясь, смотрели на Исидора, стоявшего с распростертыми руками и не подававшего никакого знака. Тогда Гиеракс решился начать свою речь; в первый момент он сам испугался собственного голоса, раздававшегося в ночной тишине на вершине священной горы.
– Святые братья, святой муж Исидор разрешил мне лично говорить с вами, мне, бедному, нуждающемуся в покаянии грешнику, который без его благословения был бы обречен на вечную гибель. И для этого я стою сейчас перед вами, как посланец церкви. Ибо церковь, благороднейшими членами которой являетесь вы, жаждет вас, как олень свежей воды. Святые братья, совершающие здесь на святой горе необыкновенные подвиги благочестия, я не намереваюсь отвратить вас от ваших мученических жилищ, которые в глазах небес сверкают ярче дворцов великих мира сего и даже ярче церквей городских. Но тех из вас, которые готовы покинуть на короткое время эти святые места, чтобы искупить затем перерыв своих подвигов еще более благочестивой жизнью, младших из вас в глазах мира, прошу я вы слушать меня. Борьба между Небом и адом, между церковью и римским государством приближается к концу; еще немного времени, и ад, и государство падут побежденные к вашим ногам. Скоро поднимутся благочестивые мужи монастырей и соединятся с нижайшими рабами Господа, чтобы потребовать отчета у чиновников государства во всех насилиях и искажениях нашей веры. Тогда поднимется земной бой, на улицах развратной Александрии совершатся кровавые злодеяния, и они участятся и будут ужасно караться Небом, если ваши молитвы не отвратят зла. Ибо вы уже на земле святые и вы хорошие ходатаи. Вижу, как мстящая церковь божия в земной страсти обрушивается на дома иудеев и проклятых назареев, выкидывает сладострастных женщин и детей из кроватей и свергает кумиров. Вижу, как поднимается стон безбожников, а изменники небесного воинства трепещут от воплей жертв.
Гиеракс должен был прекратить свою речь, так как постепенно смутное волнение охватывало слушателей. Некоторые повторяли призыв этой речи, другие кричали так, что нельзя было понять, торжествовали они или негодовали, угрожали оратору или соглашались с ним. Наконец, из одного угла раздался крик, понесшийся дальше и подхваченный наконец всей массой: «Аллилуйя!».
– Благодарю вас, святые братья! Если вы все или несколько сотен вас захочет принести великую жертву – в день борьбы остаться в стенах нашего города, то помолитесь за наше оружие; а ваши могучие руки, ваши цепи и дубинки, ваши камни будут сильным оружием против наших врагов.
Стоголосый единодушный крик был ответом.
– И вы увидите, святые братья, что в нашей грешной Александрии еще много надо сделать, прежде чем сможет настать тысячелетнее царство божие. Порок и грех выходят открыто на улицу и открыто живут в домах, где все еще приносят жертву языческим кумирам, где дьявольские девушки, прекрасные и молодые, обнимают несчастных, приносящих жертву вином языческим богам. Идите в эти дома, оторвите их друг от друга, поднимите с постелей, с теплых перин нагих женщин; покарайте порок и проповедуйте женщинам до тех пор, пока они не отбросят грех, как ядовитое животное, и скромными, кающимися последуют за вами. Покажите им на собственном примере, как умерщвляют плоть, чтобы, не смотря на все муки души и тела, сохранить свою чистоту до судного дня. Не бойтесь увидеть нагой грех, срывать платье с тел, мясо с костей. Не бойтесь, что взоры этих грешниц с дьявольской помощью соблазнят вас и приведут к падению, к возвращению в мир. Вы не закалили своего мужества, не испытали своей силы, если не были там, где на распутьи сидит грех.
– Мы идем! – завизжал один, и сотни голосов повторили:
– Мы идем!
– Особенно одну из грешниц надо считать лучшим творением сатаны, одной из дьявольских богинь древности, опасной, как никто в мире. Ее зовут Ипатия, она – вампир, она зачаровала сердце высшего чиновника императора, и церковь непрочна в Александрии, пока жива Ипатия; бесстыдными речами и плясками танцовщиц, заколдованными напитками и дьявольскими знаками выманивает она каждое воскресенье юношей из церкви в дом порока. Кто чувствует себя сильным, пусть испытает себя перед этой идолопоклонницей, ибо она прекрасна, как праматерь всех грехов. Прекрасна, как Ева в раю, как ночные видения, в которых сатана являлся святому Антонию, когда хотел поколебать святого мужа. Ипатия так прекрасна…
С колонны раздалось не то рыданье, не то смех. Сам Исидор закричал почти сверхчеловеческим голосом:
– Сатана показал ее мне. Сотни черных змей выползают из ее головы и невинными локонами вьются по щекам. Эти щеки принадлежат трупу, но каждую ночь пьет она кровь из живых людей; подобно розам, светится румянец сквозь щеки трупа и чарует до беспамятства. И, похожие на Мертвое море в темную ночь, лежат два бездонных глаза. Ее лоб бел, как мрамор языческого храма, и из ядовитых озер ее глаз исходит черно-синее сияние, как из глаз набожных детей, и соблазняет, соблазняет даже лучших, даже здесь на столбе, несмотря на голод, нужду и бичевание. Один раз дьявол показал мне еще больше – пару близнецов среди роз, нечто прекраснее всего остального божьего творения со всеми пальмами и людьми, и животными, нечто такое прекрасное, что один Бог не мог бы сотворить его. Дьявол! Я не хочу больше этого видеть, оно должно исчезнуть по воле Неба с лица земли, чтобы мы все могли снова дышать свободно и не должны были бы бичевать себя. Я, я сам покину эту колонну и пойду впереди вас в город, молясь о победе над язычниками. Аллилуйя!
Никто не видел, как это случилось. Внезапно Исидор исчез с колонны и появился на самом высоком обломке скалы и спрыгнул с развалин мимо Гиеракса; многие отшельники бросились на колени, прижав головы к самой земле.
Исидор затянул псалом:
О, Господи, кто живет в хижинах твоих?
И кто на святой горе твоей?
Тот, кто приходит без колебания,
Творит добро и поступает правильно
И всегда говорит истину!
Могучий напев все торжественнее и проникновеннее поднимался к звездному небу. В вечном покое сверкало небо, несколько звезд сияло, не мигая, еще ярче, чем луна, и внезапно, когда пение достигло такого подъема, как будто монахи созерцали самого Бога, повелителя звезд, – на северо-востоке, как раз со стороны Александрии, невысоко над горизонтом, загорелся зодиакальный свет, который рос, увеличивался и, наконец, принял форму необъятной, светло-розовой огненной пирамиды.
Глава VIII
ИУДЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
Гиеракс теперь мог сообщить в Александрию, что молодые монахи обещали целым войском выступить из пустыни и по-христиански оживить египетскую столицу. Анахореты же, под предводительством Исидора, по первому сигналу будут исполнять все поручения, которые им дадут.
Когда отношения между двумя властями Александрии стали невыносимы, все предсказывало предстоящую борьбу. У архиепископа было то преимущество, что он всегда находил поддержку у своего Бога и верующих подчиненных, тогда как наместник ни в иудейском вопросе, ни относительно Ипатии не мог сказать, совпадают ли его намерения с желанием двора.
В ответ на свои последние настойчивые запросы Орест получил официальное письмо министра, в котором ему весьма прозрачно давалось понять, что он должен всеми мерами способствовать окончательной победе официальной церкви и достойным образом предоставить себя в распоряжение архиепископа, «до тех пор, пока этот почтенный предводитель церкви не перешагнет границу, поставленную законом и известными целями правительства».
Это, конечно, мог бы сказать себе и сам наместник. Однако, одновременно пришли два противоположные друг другу по содержанию частные письма. В одном, автор которого был одним из приближенных императора, напоминал наместнику о значении его особы, советовал даже по малейшим поводам не допускать выхода церкви из круга своих задач. Императорская власть начинает испытывать притеснения со стороны предводителей церкви. В самом Константинополе духовенство, несмотря на свое высокомерие, не главенствует. В Риме и Александрии, однако, начинает возникать государство в государстве. Властолюбивая и жадная церковь именно теперь может сыграть на руку германским варварам, со всех сторон теснящим римское государство. Так что с полным почтением следует указывать епископу на его место.
Другое письмо пришло из женского дворца, где как раз старались побороть военную партию. Старые государственные формы доказали свою неспособность спасти громадные пограничные пространства, а внутри установить порядок. Старый фундамент сгнил, только церковь сможет укрепить расшатавшееся здание. Алтарь стал необходимым для трона, и потому его надо защищать как трон и даже больше. И тому подобное: подчинение церкви государства, зависимость чиновников, даже высших, от епископов.
Таким образом, наместник Орест, добродушно посмеиваясь, начал предрождественскую беседу со своим советом заявлением, что хорошее отношение к предводителям церкви без основательных причин разрывать не следует. Однако, уже несколько дней, во время христианского праздника Епифании, в день трех святых королей, случилось тяжелое по своим последствиям проявление их соперничества.
Рано утром наместник по заведенному порядку принимал парад. На узком мысе перед Суэцкими воротами, между виллами восточной окраины и иудейским кварталом, проходили солдаты мимо своего начальника, который сидел на коне перед выстроенной за ночь трибуной.
Наверху расселось знатное общество города. Казалось вполне естественным, что профессор Ипатия была также приглашена и в своем прекрасном, хотя совершенно простом белом платье, заняла место рядом с какой-то молоденькой генеральшей. То, что трибуна была разукрашена различными венками и штандартами, а также статуей богини победы – мраморной Викторией – настолько соответствовало ежегодному обычаю, что устроители всегда имели наготове такую довольно посредственно сделанную статую. Тысячу лет протягивала Виктория свой венок навстречу римскому войску, и тысячу лет не могло пожаловаться это войско на свою богиню. И никто не задумывался особенно над образом старой статуи: ни наместник, ни солдаты.
Однако, во время полуденной службы архиепископ в невероятно длинной проповеди представил дело так, что римские офицеры, очевидно, в угоду известной языческой безбожнице, заставляли солдат отречься от своей веры и поклоняться языческой богине. Образованные слушатели не поняли, как следует, чего добивался архиепископ, но зато народ уразумел как нельзя лучше. Толпа подростков ринулась из церкви, пронеслась через иудейский квартал, разгромив мимо ходом несколько лавок и поколотив нескольких покупателей, к Суэцким воротам, и с помощью языческой черни трибуны были разломаны, украшения раскрадены и статуя Виктории, у которой предварительно отбили крылья, брошена в море. Когда появились войска, было слишком поздно, но зато каких-либо выходок в иудейском квартале на сегодня можно было не опасаться.
От этих известий Орест пришел в неописуемую ярость, на какую только был способен его мягкий характер. Он несколько раз в присутствии высших чиновников повторил, что не оставит этого оскорбления безнаказанно, а будет действовать в согласии с правительством, которому, очевидно, нежелательно, чтобы новые правители подрывали воинскую дисциплину. Но если бы он даже знал, что в Константинополе не обратят внимания ни на него, ни на армию, а следовательно, и на государство, он все-таки не смог бы промолчать. На этот раз компромисс был невозможен.
Когда гнев немного утих, он хладнокровно обсудил со своими юристами наказание христианам и место Кириллу.
Христиане должны были понять, что приносят вред сами себе, когда епископ затевает вражду с правительством. В течение нескольких последних месяцев молодежь рабочих союзов натравливалась на лавочников иудейского квартала, которые, по вековому обычаю, вели торговлю и по воскресеньям, чем, по мнению церкви, приносили христианам некоторый убыток. С того времени, как город стал кишеть монахами, проповедовавшими по воскресеньям на всех углах, Кирилл обнаглел настолько, что приказал во всех церквях проповедовать насильственное празднование воскресенья иудеями и египтянами.
Теперь христиане должны были узнать, чья власть сильнее. В наместничестве выработали закон, по которому каждая религия обязывалась соблюдать свой праздничный день. И иудеям предоставлялось такое же право торговать по воскресеньям, как христианам по субботам.
Но важнее всего было притянуть к ответу самого архиепископа за возбуждающую проповедь. Подрывание воинской дисциплины не прощалось и в самом новом Риме.
Судьбы Ипатии, может быть, и не коснулись так сильно эти церковные и наместнические события, если бы в это время Орест не искал ее общества чаще обычного. Может быть, он хотел показать, что императорский наместник не позволит себе давать указания каждому архиепископу, во всяком случае, он на глазах у всех проявлял по отношению к девушке свое уважение и дружбу. На самом деле эта борьба была ему вдвойне приятна, так как она позволяла умно и изысканно беседовать с прекрасной подругой об искусстве и литературе. Он чаще прежнего приглашал Ипатию на маленькие собрания в свой дом и ждал ее посещения в тот полный событиями вечер, когда вражда между двумя силами должна была впервые привести к большому кровопролитию.
Случилось это в третью субботу после праздника Епифании; прекрасный городской цирк, находившийся недалеко от Пустынных ворот, вблизи западной окраины города и диких львов Ливии, был переполнен зрителями, со страстным любопытством смотревшими на проделки дрессированных животных. Когда Орест появился в своей обширной ложе, где уже ожидало его около двадцати приглашенных, в том числе и Ипатия, он добродушно подшутил над тем, что первые ряды и почти все места по обе стороны манежа были заняты иудеями. Театр и цирк – терпимейшие здания, так как они превращаются каждую субботу в синагогу и каждое воскресенье – в церковь.
Орест опоздал к началу представления. На протянутом канате танцевал козел. Следующим номером были пять слонов: один – громадный индийский и четыре маленьких африканских, сидевших на колоссальных тумбах, изображая школу. Под нарастающий восторг публики большой слон-учитель писал на песке кончиком своего хобота греческие буквы, тогда как ученики должны были, по возможности, подражать его движениям. Самый маленький и самый умный среди фокусников изображал дурачка, кривлялся и первым получил несколько шлепков по голове, пока с комичными гримасами не решился написать требуемую букву. Кульминация номера наступила тогда, когда учитель трубными звуками своего хобота произнес буквы, а ученики подтягивали ему. Школа слонов в течение нескольких недель была излюбленным номером в цирковой программе.
Когда после этого на арену вышла уже немолодая наездница, ездившая на быке, пляской и танцем изображая похищение Европы, внимание зрителя немного ослабело, и общество, собравшееся в ложе наместника, разбилось на отдельные группы. Гости занялись ледяным лимонадом, а Орест принял несколько чиновников, обязанных и здесь докладывать ему о служебных делах. Он вскрывал и прочитывал не особо важные телеграммы, приказал доложить ему о расследовании по поводу поведения архиепископа, а затем подозвал начальника полиции, с которым хотел обсудить нечто спешное.
В это самое время было обнародовано распоряжение о торговле. Если сегодня его читали на всех улицах, то завтра оно вступало в силу. Вся эта история была явно не по душе Оресту. В качестве государственного человека, он предпочел бы один общий праздник для всех вероисповеданий и не побоялся бы достичь хорошей цели допущением маленькой несправедливости. Что за беда, если в воскресенье поколотят несколько иудеев, раз от этого выигрывает единство римского государства? Но раз поступки церкви вынуждают его на строгие меры, – христианские купцы завтра же ощутят их.
Шумные александрийцы, вероятно, воспротивятся подобному указу. Начальник полиции должен был принять назавтра необходимые меры. Сегодня известие появилось слишком поздно, так что за этот вечер можно было не бояться.
Пока Орест разговаривал со своими подчиненными, за его спиной один из слуг, низко кланяясь, предлагал гостям прохладительные напитки. Вскоре поднявшийся вокруг ложи шум достиг слуха наместника. Но прежде, чем он успел спросить в чем дело или взглянуть, не случилось ли несчастье с танцовщицей, какой-то странный иудей перегнулся через барьер и, указывая на слугу, закричал:
– Ваша милость, это шпион! Шпион архиепископа! Заклятый антисемит! Он всюду, где замышляется что-нибудь против нас!
Старик продолжал бы дальше, но переодетый слуга швырнул в сторону поднос с лимонадом и выскочил из ложи. К сожалению, на свою беду! Наместник, улыбаясь,
откинулся в кресле, дав знак начальнику полиции.
Внизу шпион сразу попал в руки своим злейшим врагам. Он думал скрыться через манеж, но как раз там его схватили, а потом он попал в руки прибежавшего отряда солдат, которые, не зная хорошенько в чем дело, избили его до полу смерти. Начальник полиции смог отправить в тюрьму почти что труп.
Узнав о происшедшем, наместник остался в своей великолепной ложе, ожидая конца представления со своим любимым номером – верховой ездой нубийского льва.
Между тем в городе готовились скверные вещи. Благодаря случайности или, скорее, агитации архиепископа, понимавшего опасность своего положения, вышло так, что как раз на этот вечер повсюду были созданы собрания христиан, на которых выступили монахи, некоторые отшельники или искусные ораторы из числа членов рабочих союзов. Все они говорили о взаимоотношениях церкви и государства. Как только стало известно о распоряжении наместника относительно торговли, несколько десятков проповедников во всех концах города одновременно выступили против безбожного чиновника, тайного язычника, раба проклятой Ипатии. Повсюду примешивалось еще озлобление против иудеев, как во времена худших гонений. В египетских лавках языческого квартала продавались только предметы древнегреческой индустрии, не интересовавшей ни христиан, ни иудеев. Но иудеи и христиане были конкурентами, и указ наместника грозил серьезными убытками многим честным купцам.
Как раз в разгар возбуждения, около десяти часов вечера, разнеслись удивительные известия. В одном месте рассказывали, что в цирке иудеи с позволения наместника бросили диким зверям христианского священника, в другом – что в цирке избивают всех христиан, а к одиннадцати часам стало известно, что иудеи схватили в цирке нескольких христианских мальчиков, дабы в страстной четверг распять их, согласно своему обычаю. Наместник еще и не подозревал о надвигающейся опасности, а уже отовсюду к цирку и иудейскому кварталу двигались вооруженные толпы.
В это самое время из крыши, видной отовсюду Александровской церкви, вырвалось пламя. Впоследствии различные христианские партии обвиняли друг друга в поджоге, но в первую минуту возбужденные толпы решили, что иудеи, в сознании своего торжества, совершили еще и это преступление. И вот народ, шедший, еще сам не зная куда, – ко дворцу или в иудейский квартал, – с удвоенной яростью двинулся теперь к месту пожара.
Таким образом под предводительством случайных вожаков все эти вооруженные толпы направляясь к Александровской площади. Толпа в несколько сотен крикунов двинулась к цирку, но постепенно крики: «Долой наместника» и «В огонь колдунью» становились все тише и у стен цирка толпа остановилась в беспокойной нерешительности, как мятежное, но безголовое чудовище. Хотя от цирка до Александровской церкви было не больше четверти часов ходьбы, здесь еще ничего не знали о разыгрывавшихся событиях.
Александровская церковь лежала на восточной окраине старого города недалеко от старой городской стены времен Птоломея. Недавно в ней сломали старые ворота, чтобы сделать удобнее сообщение обеих частей города. Как раз против этой бреши стояла церковь. Случилось так, что пожарная команда иудейского квартала прибыла на место первой и уже установила цепь для передачи ведер, когда подошли толпы христиан.
Казалось, что на минуту воинственное настроение погасло. Вооруженные с изумлением увидели пожарных и решили позволить им продолжать свое дело. Но постепенно площадь наполнялась все больше, скоро уже нельзя было двинуться, и внезапно пожарные поняли, что находятся лицом к лицу с тысячной толпой врагов. С громким криком побросали иудеи свои ведра и побежали через брешь к своим узким улицам. Некоторых из них ранили.
Враждебные толпы собрались на площади и, не заботясь о горящей церкви, стали обсуждать, как осуществить расправу, чтобы предотвратить угрожавшую завтра конкуренцию. Внезапно один маленький черный монах, которого никто не знал, но все слушались, посоветовал разместить несколько сот надежных людей у входов в иудейский квартал, чтобы в течение нескольких часов ни одна весть не могла проникнуть оттуда в другие кварталы города. Остальные, – а их насчитывали до тридцати тысяч, – должны были ворваться внутрь и не возвращаться до полного окончания всего дела. Никто не спрашивал, о каком деле идет речь.
План был выполнен. Ошиблись только в одном важном пункте. Иудеи лучше наместника почувствовали, что благоприятный для них закон разнуздает ненависть христиан. Начиная с середины дня, когда на хлебной бирже распространился слух о новом законе, отдельные улицы и союзы стали вооружаться на случай нападения. Никто не верил в серьезную опасность, полагаясь на защиту наместника.
Когда пожарные прибежали к себе, они нашли своих соплеменников не только на ногах, – пожар близлежащей церкви показался наученным горьким опытом иудеям важным предостережением, – но и отчасти с оружием в руках.
Таким образом, для начала, несколько сот человек заняло первые улицы, а в то время как во всем квартале под нескончаемые крики и вопли началось поголовное вооружение. Надеялись задержать христиан только на некоторое время, так как войско вскоре должно было быстро разогнать чернь.
Когда наступавшие вошли в квартал и наткнулись на неожиданную преграду, движение приостановилось, и, быть может, этим бы все и закончилось, но один из монахов поднял левой рукой крест, взял в правую меч и, призвав Бога и святых его, бросился на врага. Первая кровь пролилась, и христиане двинулись вперед.
Дикий напор сразу отбросил всех защитников на несколько сот шагов в глубину их улиц. Благодаря такому успеху, некоторые богатейшие дома были сразу разграблены, несколько женщин и детей изнасиловано и избито и, под прикрытием ночной темноты, освещаемая только огнем горящей церкви, все сильнее разрасталась дикая уличная борьба.
Надеясь на помощь войска, иудеи защищались с отчаянным мужеством и там, где расположение улиц или еще какое-нибудь преимущество ставило группу нападавших перед большинством иудеев, христиан окружали и беспощадно избивали.
Если защитники с величайшим напряжением защищали каждый дюйм, чтобы выиграть время, то и нападавшие старались закончить свою работу как можно скорее.
В кровавых летописях Александрии не значилось еще подобного избиения.
Отряды надежных людей, завладевшие входами в квартал и спокойно глазевшие на пожар в церкви, думали сначала, когда начался это ужасный шум, что у иудеев громят церкви, может быть, поколотив при этом их строптивых владельцев. Жалея, что приходится отказаться от этого удовольствия, они не нарушали своего обещания и не пропускали ни одной живой души. Нескольких иудеев, добравшихся до ворот в надежде поднять тревогу в городе, прогнали ударами обратно. Их рассказам никто не верил.
В цирке представление продолжалось без помех. В ответ на известие, что городская чернь собирается перед входом, наместник только пожал плечами. А новость о пожаре в церкви распространилась слишком поздно. Пожары не были редкостью в Александрии. Только в двенадцатом часу ночи, когда на арене происходило состязание колесниц (после которого должен был идти заключительный номер – лев на лошади), – в ложе наместника появился еще раз начальник полиции с донесением, что бежавший слуга действительно оказался шпионом, и что в результате быстрой расправы он несколько дней не придет в сознание. Одновременно чиновник сообщил, что горит Александровская церковь и что, к сожалению, из лежащего рядом с ней иудейского квартала не явилась пожарная дружина. Спасти здание невозможно, но соседним домам опасность не грозит.
Наместник сердито послал одного из адъютантов с приказанием ближайшему пехотному полку занять площадь и прекратить всякие беспорядки, а, главное, не дать огню распространиться дальше.
В цирке началось движение. Новость облетела амфитеатр, и несколько сот зрителей поспешили к выходу, – одни потому, что их дома были поблизости от пожара, другие, – особенно иудеи, – потому, что от каждого пожара они могли ожидать для себя более или менее крупных неприятностей. Пошли слухи, что в иудейском квартале начались беспорядки.
Наместник, страшно недовольный этой помехой хорошему вечеру, послал за подробными известиями. Как раз, когда начался последний номер, и могучая черная лошадь, которую должен был оседлать лев, дрожа и фыркая, выбежала на арену, пришло известие, что церковь сгорела дотла, но в иудейском квартале, по-видимому, все обстоит спокойно. Даже как-то особенно спокойно. Кроме толпы людей, смотрящих на пожар со стороны проломанных ворот, между городом и кварталом не видно ни души. Иудеи, покинувшие цирк, были спокойны, или, в крайнем случае, сопровождаемые безобидными насмешками, пропущены на улицу и предшествуемые фонарями своих слуг, шли они по пустынным улицам. Шум, который слышали последние, очевидно, был обычным праздничным шумом субботней ночи.
Наместник внимательно следил за любимым номером. Молодой, стройный нубийский лев – черно-желтое животное с великолепной черной гривой – одним гигантским прыжком вскочил на арену и, громко рыча, остановился в центре. Дрессировщик с кинжалом вместо кнута встал рядом с ним. Лошадь была хорошо выдрессирована и почти не выдавала своего страха. Как стрела, помчалась она по арене, громко ржа и ударяя копытами о барьер.
Дрессировщик дотронулся острием кинжала до льва. Животное сделало три тихих кошачьих шага по арене, смерило взглядом расстояние и внезапно оказалось на широком седле, на спине бешено носившейся по кругу лошади. Ржание испуганного коня и рев седока заглушили даже аплодисменты зрителей.
Еще дважды был повторен этот номер, затем и лев и лошадь исчезли, и представление было окончено.
Здание цирка быстро опустело. Не торопясь покинул наместник с гостями свою ложу. Он пожелал офицерам и чиновникам доброй ночи, не преминул сказать что-нибудь их женам, и, наконец, в сопровождении адъютантов, рядом с Ипатией, стал спускаться по мраморным ступеням. И старик и девушка засмеялись одновременно, когда увидели выстроившуюся внизу лейб-гвардию Ипатии. Во главе ее, конечно, были Вольф, Троил и Александр. Орест, улыбаясь, собирался сказать, что эта молодежь начинает тяготить его своим присутствием. Он не закончил, однако, ради шутки посмотрел внимательно вокруг. Они вышли на улицу, и свет факелов упал на всем известный мундир наместника и не менее известную фигуру Ипатии. Ее голова и плечи были покрыты черным платком. Белое платье ниспадало до пят. Казалось, что сотни людей ожидали этого момента, чтобы смехом и шумом встретить наместника и его молодую подругу. Не замедляя шагов, Орест приказал одному из своих адъютантов прислать отряд охраны. Пока офицер исполнял приказание, Орест спокойно подошел к своим носилкам. Казалось, что он не удостаивает чернь ни единым взглядом. Он хотел только затянуть свое прощание с Ипатией до момента прихода отряда охраны.
Подозвав Вольфа, внушавшего ему наибольшее доверие своей солдатской выправкой, Орест сказал:
– Сейчас появится несколько моих людей, чтобы проводить профессора к дому. Я знаю, вы готовы лично защищать Ипатию от этих крикунов, но я должен сделать что-нибудь со своей стороны. Я сам поеду к месту пожара. За время моей службы строилось столько новых церквей, и я присутствовал на стольких торжественных закладках фундамента, что мне необходимо увидеть исчезновение одного из таких сооружений. С вашей стороны было бы очень любезно сообщить мне о благоприятном возвращении моего друга. Я буду ждать там.
Шутя обернулся наместник к Ипатии, ведь он будет сейчас горевать, как Ахиллес, у которого эллины уводят подругу.
В шумевшей толпе произошло движение. Люди сторонились с криками, некоторые попадали на землю: сквозь толпу в боевом порядке двигалось два десятка пехотинцев в полном вооружении. Орест приказал их офицеру сопровождать Ипатию и встать на страже перед Академией. Потом наместник отправился к Александровской площади.
Чернь вновь подняла крик вслед уходившим солдатам. Однако перед носилками наместника она боязливо расступилась, и Орест удовлетворился тем, что погрозил пальцем.
Ипатия тоже старалась выразить полное равнодушие к угрозам толпы. Легким движением руки она указала Троилу и Александру места рядом с собой. Сзади под предводительством Вольфа шла остальная молодежь, а за ними маленький отряд солдат.
Молодому философу было немного не по себе и она, совсем не потому, что была женщиной, охотно облокотилась бы на чью-нибудь сильную руку. Она оглянулась. Рядом такая рука была у Вольфа, но от христианина она не хотела принимать помощи. Может быть, она была удивлена тем, что отсутствует ее жених. Чтобы справиться с собой, она сказала Троилу:
– Добрый князь слишком осторожен. Что могли бы сделать мне эти люди, если бы я была одна?
– Решительно все, профессор! Например, вас могли бы убить, и было бы жаль всех познаний, которые вы собрали.
Ипатия пожала плечами и еще настойчивее попыталась вести спокойный философский разговор.
Не задумываясь над тем, что она говорит, девушка сказала, как высоко стоит образованный человек над чернью и как спокойствие мудрого не может быть поколеблено никакими угрозами. В этот момент из среды преследователей раздался громкий свист.
– Позвольте сказать мне нечто, профессор! – воскликнул Александр. – На меня вы можете положиться так же, как на самого грязного из солдат, идущего за нами, которому платят за то, что он идет на смерть. Но если бы я сказал, что прогулка по Афинам была бы для меня менее приятна, чем пребывание в этой проклятой Александрии – я согласился бы. Я не Бог весть какой философ, но никогда не лгать – это, на мой взгляд, уже частица мудрости. Сознать человеческий страх – часто начало мудрости.
Молча все шли дальше, и только около стен Академии Ипатия спросила сдавленным голосом:
– А где же?..
– Вы хотите знать, где Синезий? Он воспользовался удобным днем и хорошим ветром, чтобы съездить в Кирены. Он хочет пристроить к своему дому новый флигель маленькую Академию с маленькой библиотекой и колоссальным письменным столом с новым устройством. Чернила будут непрерывно наполнять чернильницу, чтобы не беспокоить мелочами занимающихся. Кажется, он хочет устроить там фабрику папирусов. Комнаты старого дома, которые двадцать лет назад служили ему детской, будут переделаны в колоссальную лабораторию. Одним словом, он думает о будущем, и поэтому сейчас его нет с нами. Недели через две он явится с редкой рукописью, содержащей повествование о подвигах великого Александра.
С коротким «спокойной ночи» Ипатия быстро ушла к себе. Офицер расставил часовых, а Вольф объявил, что остаток ночи он проведет поблизости.
– Все равно я не смогу заснуть. Мне было бы легче, если бы я проломил несколько этих крикливых голов. Доброй ночи, Троил, доброй ночи, сын Иосифа. Сообщите, если хотите, его светлости, что я позабочусь о ночном спокойствии Ипатии. Прощайте!
Мимо кучек черни, уже начавшей расходиться и лишь изредка посылавшей вслед студентам свои грубые угрозы, молодые люди пошли ближайшей дорогой к Александровской площади. Почти у всех студентов были комнаты именно в Латинском квартале Александрии – так что то один, то другой уходили к себе; некоторые заворачивали в уютный кабачок, и, наконец, только Троил и Александр шли далее к наместнику, чтобы передать ему желанное известие.
Когда они достигли площади, пожар еще не окончился. Крыша центральной части уже сгорела, а над почерневшими стенами боковых приделов
[238] вспыхивали только кое-где синие огоньки, но над входом и алтарем вздымалось еще могучее пламя. Говорили, что там, в потайных кладовых, были сложены запрещенные и конфискованные писания христианских еретиков и последние книги императора Юлиана. Вздымающееся пламя гудело, как ураган; в промежутках слышались команды греческих пожарных дружин, крики людей, попадавших под дождь летящих углей, раненых и испуганных и, наконец, дикие ругательства арабов-водоносов, не умевших работать без взаимных оскорблений.
Троил и Александр нашли наместника, который с благодарностью выслушал их сообщение. Они остались около него, смотря на увенчанный крестом остаток крыши. Языки пламени взлетали одни за другим; внезапно раздался треск, заглушивший все остальные звуки, и в одно мгновение пылающий костер с громом скрылся за оголенными стенами здания. Колоссальное черное облако поднялось к небу. На площади стало сразу тихо и темно.
– Кончено, – сказал наместник тихо своей свите. – Одной церковью меньше!
В это мгновение из толпы, ограждавшей вход в иудейский квартал, раздался дикий крик о помощи, а затем отдельные слова: «Боже Израиля! Убийцы!»
Наместник торопливо пошел на голос. При его приближении толпа расступилась. На земле лежал, истекая кровью, старый иудей в своем праздничном платье, в котором он только что был в цирке. Александр узнал в нем богатого владельца стекольной фабрики. Он наклонился и приподнял голову раненого. Умирающий открыл глаза, узнал наместника и прошептал:
– Благодарение Богу! Пощады! Несколько тысяч… два часа! Убийство и грабеж! Мой дом… моя дочь, моя Мира! Обесчещена, замучена, убита!
На площади стало тихо. Только внутри церкви огонь завывал, как ветер в колоссальной трубе. Со стороны иудейского квартала несся неясный гул. Теперь становилось ясным, что это был звон скрещивающегося оружия и крики о помощи.
Полк, стоявший на площади, собирался уходить.
Тогда наместник подошел быстрыми шагами к полковнику:
– Оставьте гореть то, что горит! В иудейском квартале погром. Соберите ваших людей, дайте мне лошадь. Надо спасти то, что осталось. Пошлите за подкреплением, за кавалерией. Вперед! Марш!
Не прошло и минуты, как полк уже стоял в полной боевой готовности. Наместник с полковником почти галопом помчались к злополучному кварталу.
За пять минут солдаты очистили пространство между стеной и предместьем. Они ускорили свои шаги, когда увидели, во что превратились первые дома. В начале улицы лежало тридцать трупов христиан и иудеев. И затем не было дома, на пороге которого не лежал бы мертвец; не было лавки, которая не была бы разгромлена. Везде валялись разодранные ткани, разбитые бочки с вином или маслом Повсюду шныряли мародеры. Но наместник приказал не останавливаться. Только те из воров, которые случайно попадали в сферу действия римского меча, сразу успокаивались. Спешили спасать то, что еще можно было спасти!
До сих пор солдаты двигались молча. Слышались только команды. Нарушителей порядка хотели захватить врасплох. Несмотря на слова умиравшего, наместник не представлял себе серьезность сложившегося положения. Теперь же он приказал подать сигнал. Убийцы должны были услышать звук надвигающейся расправы. Пусть лучше часть их спасется, чем хотя бы на одну лишнюю минуту продолжится избиение!
Под звуки труб полк поспешил дальше. Вперед! Вперед! Теперь видно было, как впереди бегут какие-то фигуры. Полковник разделил людей и послал две роты боковыми улицами. Место встречи было назначено у Суэцких ворот. Вперед! Вперед! Наконец достигли улиц, на которых монахи оказались после двухчасовой бойни. Но главная масса убийц уже сбежала, и оставались только отдельные кучки, окруженные отчаянно сражавшимися иудеями.
Не было времени спрашивать. То здесь, то там раздавались восклицания, из которых наместник понял положение дел. Иудеи просили предоставить им возможность расправиться с остатками грабителей, чтобы он мог преследовать главные массы. Им оставался только один путь – через Суэцкие ворота в пустыню. И в то время, как иудеи принялись сводить свои кровавые счеты, полк стремительно двинулся дальше.
У Суэцких ворот удалось настигнуть арьергард христианских банд. Последние были перебиты. Сотни были захвачены и переданы на расправу горевшим мщением иудеям. Преследование продолжалось. Вдали виднелись бегущие человеческие толпы.
Наместник остановился и поручил дальнейшее преследование полковнику. Дрожа от возмущения, он отъехал в сторону и старался прийти к какому-нибудь решению.
Небольшой отряд остался при нем для охраны. Он намеревался уже послать и его в погоню за беглецами, но вдруг раздался топот. С дикой скоростью мчалось несколько эскадронов кавалерии. Их офицер хотел остановиться перед наместником, но Орест протянул руку вперед и сделал знак сжатым кулаком. Офицер понял его. Он взмахнул мечом по воздуху, и эскадроны промчались мимо.
Наместник стал медленно возвращаться обратно. Во время погони он не обнажал меча, но его одежда и чепрак
[239] его коня были испачканы кровью.
Медленно ехал он от дома к дому, минуя улицу за улицей. Здесь уже не оставалось в живых ни одного убийцы. С воплями и просьбами, благодарностями и проклятиями теснились иудеи к своему спасителю. Сотни людей рассказывали ему отдельные эпизоды этой ночи, пока он шаг за шагом продвигался по разоренным улицам. Он не мог говорить. Когда он собирался сказать несколько утешительных слов, гнев душил его. Но иудеи понимали его и так. Иногда он поднимал руку, как бы прося успокоиться, иногда сжимал кулаки.
Наконец, около выхода его встретили представители квартала. Они сообщили с громкими причитаниями все, что знали о размерах бедствия. Только приблизительно можно было подсчитать, сколько мужчин погибло в схватках, сколько женщин и девушек было замучено в домах, и сколько товаров уничтожено в лавках.
– Положитесь на меня и на императора! – Больше Орест не мог ничего сказать.
Затем он приказал провожавшему его отряду вернуться и присоединиться к своему полку. Сам он поехал один через предместье в греческий город.
Около казарм он слез и отдал свою лошадь одному молодому солдату. Но он не пошел в свой дворец. Он не хотел показаться своим черным слугам в том состоянии бессильного гнева, которое все еще время от времени овладевало им и затемняло его сознание. Каждый раз, когда краска ярости окрашивала его бледные, сухие щеки, ему хотелось приказать утопить убийцу Кирилла.
Наместник пытался успокоить себя ночной прогулкой. Твердыми шагами старого военного шел он через городской вал и Портовую площадь. Внезапно он заметил, что строгий приказ, согласно которому каждое судно должно было вывешивать два фонаря на носу и на корме, почти нигде не был выполнен. Это обратило его внимание на общий порядок; он захотел узнать, регулярно ли совершают полицейские свои обходы, закрыты ли кабаки и многое другое. Он проверил под платьем свое оружие и вышел затем через западные ворота Портовой площади в пользовавшийся дурной славой Матросский квартал.
Было два часа ночи, однако, везде были открыты пивные, из которых доносились дикие крики матросов, рабочих и пьяных прислужниц. Один раз заметил Орест на своем пути обход. Унтер-офицер с тремя солдатами остановился перед подозрительным домом и, смеясь, приказал вынести себе кружку пива. Обнаженная девушка отворила дверь и расхохоталась в ответ на циничную шутку. Сквозь открытые двери кабаков наместник увидел группу военных. А между тем солдаты должны были ночевать в казармах и посещение Матросского квартала было категорически запрещено!
Из переулка раздался стон, и наместник свернул на крик. Пьяный грузчик, тяжело дыша, держал за волосы окровавленную девушку и методично бил ее в обнаженную грудь. Заметив военного, он выпрямился и, шатаясь, скрылся в темноте. Девушка размазала кровь по лицу и, всхлипывая, направилась в ближайший кабак. Там, на полу, лежали, сцепившись в пьяной злобе, два матроса. Никто не обращал на них внимания, и густая кровь впитывалась в грязный песок. Яркая луна сгущала тени в узких переулках, в уступах стен, между домами. Оттуда неслись ругательства, стоны, поцелуи.
Орест почувствовал, что горькое сознание собственного бессилия охватывает его все больше. Что стало с древним римским государством! Так обстояло дело с законами. Так же с воинской дисциплиной. Все непокорны, подкупны или просто слабы, всех, от императора до последнего ночного сторожа, можно было соблазнить соответствующей подач кой. Министров, наместников и унтер-офицеров. И кто-то отстаивал этот порядок! И за сохранение его горячился старый чиновник, вместо того, чтобы спокойно улечься после интересного циркового представления и предоставить иудеев их судьбе.
Без дальнейших приключений Орест вышел из Матросского квартала и по бесконечной Императорской улице повернул на северо-восток. Эта похожая на бульвар улица была оживлена. Усталые проститутки заговаривали с наместником, и в кучках прожигателей жизни обсуждался сегодняшний погром. Большинство казалось довольным, но архиепископа обзывали далеко не лестно. Медленно дошел наместник до конца Церковной улицы и собирался вернуться домой. Внезапно он остановился перед дворцом архиепископа. Маленькие окна были не освещены. Однако в темном доме чувствовалась напряженная жизнь. Непрерывно темные фигуры пересекали улицу и исчезали в дверях, другие быстро покидали дворец и скрывались в темноте ночи.
С новой яростью вспыхнул гнев в наместнике, и после короткого колебания он перешагнул порог, закутался плотнее в свой плащ, беспрепятственно прошел в широкий портал и поспешно, как один из бесчисленных монахов, поднялся на первый этаж. Не остановившись в первой приемной, где человек десять дожидались очереди, наместник прошел в следующую, где Гиеракс принимал доклады о жертвах этой ночи. Орест хотел пройти мимо, но здесь его узнали. Узнал Гиеракс. С низким поклоном Гиеракс уступил ему дорогу, бормоча что-то о высокой чести, о том, что владыка уже спит, но что о посещении наместника ему будет немедленно доложено.
Однако Орест услышал голос архиепископа, раздававшийся в соседней комнате. Он оттолкнул архиепископского поверенного, отодвинул тяжелый персидский ковер и очутился в ярко освещенной рабочей комнате главного церковного предводителя.
Заложив руки за спину, Кирилл ходил по комнате, диктуя двум писцам одновременно донесение о событиях этой ночи. Три или четыре монаха, забрызганные кровью и грязью, стояли в глубине комнаты. Кирилл произнес: «… с факелами в руках иудейская чернь напала на богомольцев, собравшихся в Александровской церкви…», потом он повернулся и оказался лицом к лицу с наместником. Его испуг, если он действительно испугался, длился меньше секунды. Затем жестокое лицо приняло насмешливое, почти веселое выражение. Он выпрямился, сделал приветливый жест и спокойно сказал:
– Вы видите, господа, важное посещение. Попрошу вас оставить меня наедине с его светлостью. Но не расходитесь. Через полчаса я буду продолжать диктовку. Архиерей Гиеракс будет продолжать собирать сведения. Соседнюю комнату я попрошу также освободить. Его светлость, вероятно, не желает быть подслушанным.
Они остались вдвоем. Орест бросил шляпу и плащ на ближайший стол, подошел к архиепископу и тихо сказал:
– Знаете ли вы, что меня распирает желание устроить короткий процесс и казнить вас за устройство этой бойни?
– Охотно вам верю, князь. Но это было бы бестактно. Ведь с тем же основанием я могу подать знак своим монахам, и вы никогда не выйдете из этого дома.
– Я не боюсь ничего. Я солдат!
– А я монах!
Орест яростно бросился в кресло. Кирилл снова заложил руки за спину и продолжал свою прогулку по комнате.
– К чему резкие слова, князь, – сказал он через мгновение. – Мы оба достаточно опытны, чтобы надеяться решить нашу вражду словами. Без сомнения, ваша светлость могли бы осадить мой дворец и приказать убить меня. Сознаюсь, я не подумал об этой возможности. И я был прав, так как вы этого не сделали и не сделаете. А если бы так случилось, что вышло бы из этого? Революция александрийских христиан, в которой вы простились бы с жизнью. Ваша светлость не в чести среди простого народа.
– Оставим эти разговоры о важностях, – сказал Орест. – Император не может смотреть спокойно, как избивают тысячи лучших его граждан и разрушают сотни домов. Кровь этой ночи всецело на вашей совести, владыка!
– С тем же основанием утверждаю я, князь, что Александрией плохо управляют, что правительство разжигает ненависть к иудеям и не в силах затем справиться с чернью. Так сообщаю я в Константинополь.
– Доказано, что вражда к иудеям проповедовалась в церквях!
– Наш долг – обличать заблуждение неверующих. К убийству и воровству не призывал ни один священник. Чернь неправильно поняла нас.
– Старая песенка!
– Хотите, чтобы я был откровенен? Ваша светлость – солдат, я – монах; но в то же время мы – государственные люди, политики, а не глупые писаки. Нельзя накачать в жилы иудеев выпущенную у них кровь, а что касается нескольких разгромленных лавок, то, правда же, дело не в них. Сделанного не воротишь. А вашей светлости известно, как относятся в Константинополе к совершившимся фактам. Там поохают, прибавят к истории мятежной Александрии еще несколько страниц и, в конце концов, попросят нас не ухудшать положения своими пререканиями. Право же, константинопольским заправилам нет дела до нескольких убитых иудеев. Вашей светлости это известно не хуже меня. Не сможем ли мы исполнить желание двора, и ввиду выдающихся обстоятельств сделать что-нибудь сообща?
Перед лицом этой беспощадной силы наместник почувствовал, как пропадает его воля и даже гнев. Пренебрежительным движением он разрешил архиепископу продолжать. Кирилл разгладил длинные полы своей черной одежды и сел против наместника на край стола.
– Итак, поговорим. Весь ваш спор происходит от того, что ваша светлость считает себя по праву законным правителем Египетской провинции, а я полагаю, что положение дел даровало мне некоторую долю самостоятельности. Прошу вас помнить, что я говорю не о фактах, а о наших взглядах на них. Ваша светлость являетесь, безусловно, полным представителем императора в Египте, и в качестве такового обладаете всеми его правами. Это ясно! Вопрос лишь в том, является ли император теперь таким же повелителем страны, как раньше? Я сомневаюсь. Вы знаете, что в своих дворцах на берегах Золотого Рога император всемогущ. Он может целовать самых хорошеньких танцовщиц, может платить за лучшие блюда и награждать себя титулами, какие только взбредут ему на ум. Он даже может издавать законы, конечно, если почувствует охоту к такому скучному занятию! Но будут ли выполняться эти законы? В Британии, в Галлии, в западной Африке, везде, где не владычит церковь, восстают против него мятежные царьки, а если случится, что какой-нибудь римский полководец случайно одержит там победу, то на следующий день он сам начинает предписывать императору свои законы. В Испании, в Германии, в Италии ваш цезарь – пустая тень. Германские медведи пьют крепкое вино из белых черепов или золотых чаш и называют это своей новой религией. А в восточной половине государства, где еще нет собственных царьков, сила его величества выражается в том, что каждый может делать, что хочет. Будете ли вы спорить с этим?
Орест подумал о впечатлениях сегодняшней ночи. Он молчал. Кирилл продолжал дальше:
– Вашей светлости придется отдать мне справедливость. Одна из величайших революций в истории совершилась незаметно. С ужасающим грохотом несколько столетий тому назад были уничтожены цари и «на вечные времена» основана республика. Это была новая форма, которую через несколько столетий похоронили императоры. Эта идея про держалась целых четыре века, несмотря на то, что на трон всходили временами не только сумасшедшие, но и настоящие философы. Как это вы еще не успели заметить, что время империи прошло, прошло, говорю я. Теперь миром правит новая форма. Правда, мир еще сам не знает этого. Правит церковь! Император – только утопия. А вы являетесь наместником его величества императора!
Орест вскочил и хотел заговорить. Кирилл дружески положил руку ему на плечо и сказал:
– Ваша светлость, это не поможет, к миру мы придем только благодаря откровенности. Ваша светлость собирались убить меня. За это я говорю вам правду.
– Ну что же, Кирилл, – сказал, наконец, Орест, – в том, что вы говорите, много правды, и я знаю, что старое государство гибнет и что никто из нас не верит в него. Но оно неоднократно переживало такие эпохи упадка. Придет деятельный цезарь, явится мудрый первый министр, и наша старая империя возродит былую мощь.
– Ваша светлость говорите так, но не верите во все это, как, впрочем, вы сами и сказали. Нет, старое государство гибнет потому, что погибла идея. Новая идея – это власть церкви, и мы победим, ибо мы служим новой идее. Так много говорится о новой вере! Мы верим исключительно в нашу силу.
– А если это все и так, Кирилл, зачем говорите вы мне все это, и чего вы от меня хотите?
Кирилл взял одно из кресел и уселся поудобнее.
– Милый Орест, я не только хочу жить с вами в мире, но я хотел бы, чтобы вы служили мне. Чтобы возвыситься, новая власть церкви должна была заключить союз с чернью. Или, вернее, чернь возвысилась, и церковь поэтому стала во главе ее. Все равно, без этой сволочи не обойтись. Но мы нуждаемся в чиновничестве, нам нужны такие люди, как вы, Орест. Вы привыкли служить. Сейчас вы служите слабому, беспомощному, изнеженному императору. Разве не приятнее будет служить церкви? Ведь вы христианин?
– Оставьте в покое религию. Ему же придется мне повиноваться. Соборам, на которых председательствуют придворные кастраты, называющие себя церковью? Или грязным монахам с гор? Или, может быть, вам?
Кирилл откинулся в своем кресле и закрыл глаза. Затем он сказал:
– Единственному, тому, который станет повелителем церкви. Повелителю мира.
Затем, вскочив, он быстрыми шагами подошел к окну, выходившему на темный двор. И как бы говоря сам с собой, он продолжал:
– Римское государство стояло твердо, пока все его слуги, начиная с императора, верили в его вечность, заботились об его вечности и каждый, как бы ни было мало его дело, готов был отдать за него жизнь. Это делаем теперь мы, слуги церкви. Я хочу денег, власти, мести! Но этого всего я хочу не для себя, а для архиепископов Александрии! Вы должны видеть меня, каков я есть! В мире может быть несколько императоров. Во главе церкви может стать только один! Патриарх Константинопольский считает им себя, но придворный угодник императрицы не годится для этого! Епископ Рима может быть им, но я не допущу этого. Рим владычествовал достаточно долго, долой Рим! От нас, из Египта, из Александрии вышло новое учение, у нас же должна остаться власть. Моисей вынес Ветхий завет из области наших жрецов. В Египет бежала мать Бога с нашим Спасителем! В Египте родился символ веры, которому поклоняется теперь мир. В Европе считают уже гением того, кто ломает себе голову над египетскими загадками. Они тупы, бесцветны, как их кожа, и непостоянные, как их ветер. Они поклонялись героям, пока мы не подарили им единого Бога. Все, что поддерживает церковь, родилось под нашим пламенным солнцем. Августин и Антоний были африканцами, великий Афанасий – александрийцем. Нам принадлежит мир! Мне!!!
– Вы, кажется, очень доверяете мне, Кирилл. Скажете ли вы все это перед собором?
– Конечно, если я буду уверен в большинстве.
– А какое место предоставит ваша милость мне в этом новом здании?
– Первое, Орест! Вы солдат и наместник императора, владыка церкви будет памятником Бога на земле. Разве вам не улыбается мысль стать солдатом наместника Бога?
– Титул хорош, но титулы не соблазняют меня. Я радуюсь только одному, милый Кирилл, что вы обращаете столько внимания на человека, которого считаете побежденным. Не заботьтесь больше обо мне!
– Я тороплюсь, ваше сопротивление задерживает меня. Я мог бы принудить вас к уходу, но с вашим преемником придется все начинать сначала. Я еще не стар. Я сам хочу достигнуть кое-чего. Я смогу бороться с Римом и Константинополем, если стану неограниченным повелителем Египта.
– Право, Кирилл, вы мне начинаете нравиться!
– Вы знаете, Египет – житница всего мира. Рим со своим епископом подохнет с голоду без нашего хлеба. Предоставьте мне назначать цены, и вы увидите, что получится!
– Хорошенькое занятие! Разве церковь спекулирует?
– Затем не мешайте в мелочах, которыми я покорю Александрию. Отдайте мне иудеев!
– Об иудеях еще можно будет поговорить. Они привыкли выплачивать военные убытки своих повелителей.
– Вы соглашаетесь? Предоставьте мне иудеев и – и Академию!
Орест встал.
– Ипатию?
– Ипатию и других.
Орест вздохнул и сказал:
– Ваша милость открыли мне глаза. Быть может, ваша милость правы, и все пойдет так, как вы говорили, а за план покорить Рим примите мои комплименты; вы – действительно государственный человек. Но одно, ваша милость, изволили забыть. Вы беретесь за новое дело, и у ваших солдат нет еще старых знамен, нет еще старой чести. Возможно, что как раз поэтому вы победите. Революции выигрывают бесчестными солдатами. Мне же, начальнику обреченного на смерть отряда, остается, в конце концов, только честь. Вы правы: государственному человеку не должно быть дела до горести иудеев и хорошенькой женщины-философа. Но мне остается моя честь, и потому я накажу убийц иудеев и буду охранять Ипатию!
– Ваша светлость внезапно полюбили иудеев! Но для них ваша помощь несколько запоздала – и мне жаль розовой крови прелестной Ипатии.
Орест поднял кулак и сказал:
– Берегитесь, Кирилл! Вы строите церкви на костях своих мучеников. Не создавайте нам мучениц!
– Ваша светлость причисляет себя к язычникам?
Орест взял шляпу и плащ. Кирилл позвонил и сказал вбежавшим монахам:
– Двух слуг с факелами его светлости!
В слабом свете утра наместник в сопровождении двух монахов зашагал к своему дворцу.
Глава IX
ПИРАМИДА ХЕОПСА
В порыве первого гнева наместник решил противопоставить архиепископу законы и мощь государства. Он созвал свой совет, но результатом многочисленного совещания было решение не применять к предводителю церкви никаких открытых мер строгости, а добиваться победы дипломатическим путем.
Орест прекрасно сознавал, что беззастенчивый Кирилл всегда победит его на этом пути. Он надеялся только на перемену в настроениях правительства, или даже на перемену его самого. Сто лет императоры и императрицы кокетничали с христианством. Это, однако, не мешало тому, что христиан то ласкали, то казнили, а церкви то воздвигались, то сравнивались с землей. Конечно, на Востоке, по крайней мере, последнего чаще не делали. Но разве из этого следовало заключать, что это любопытное движение сможет изменить судьбы государства? Безумие! Рим и римские дамы не были педантичны. Они постоянно изменяли всем своим двенадцати богам, хотя среди них находился весьма изобретательный на превращения Юпитер и многоопытный Геракл. Уже и тогда римские дамы охотно молились какому-нибудь таинственному восточному Божеству. Одно время там был в моде быкоголовый Серапис, потом азиатский Бог солнца, затем божья матерь – Кибела. А теперь мода была на крест, и на другую божью матерь. Но и это не останется, и это пройдет.
Наместник должен был тем временем как можно меньше обращать внимания на законы. Приходилось учиться у Кирилла и вести борьбу всеми средствами; кто знает, может быть, ему удастся столкнуть Кирилла в его собственную яму! Не он, так следующий наместник, наверное, сделает это со следующим епископом.
Тем временем спор о погроме развивался все живее и не оставалось сомнения, что правительство со дня на день сдает свои позиции. Наместник вывесил объявление, в котором говорилось, что иудеи находятся под охраной оружия, а архиепископ в особом послании к епископу Рима высказал свое неудовольствие убийствами и грабежами. Но ни то ни другое не удержало зажиточных иудеев от поспешного бегства из города Александра Великого в поисках новой родины. Очевидно, охрана государства и письма архиепископа не удовлетворили их. Наместник занял иудейский квартал войсками и приказал продолжать торговлю и ремесла по-прежнему. Но последние не желали этого. Обладатели разгромленных лавок как можно скорее обращали все, что могли, в деньги и убегали. На уцелевших улицах ежедневно происходили распродажи, и ежедневно отправлялись караваны на восток и корабли на север с купцами и наиболее ценными товарами. Военные отряды должны были особенно следить за ночной безопасностью квартала, но каждую ночь там совершались грабежи, убийства и насилия. Причастность архиепископа к последнему доказать было невозможно. Орудовала чернь, которая считала иудейский квартал свободным и пользовалась этой свободой, как умела. Если напившаяся компания матросов не была в состоянии заплатить по счету, она отправлялась в иудейский квартал и располагалась в каком-нибудь пустом доме, а иногда и выкидывала обитателей из населенного. Потом из ближайших лавок вытаскивали мебель, еду и питье. А так как в это время хозяев в лавках обычно не оказывалось, то никто не заботился об уплате.
Конечно, патрули непрерывно проходили по улицам. Но характерно, никогда не находили они следов беспорядка, ни разу не пришлось им прибегать к оружию. И отчаявшись, иудеи рассказывали, что солдаты насмехались над погромами, сами ловили женщин, брали из громившихся лавок то, что им было больше всего по вкусу. По ночам иудеи не отваживались выходить на улицу, боясь одинаково и грабителей, и сторожей.
Орест хотел собрать доказательства против архиепископа и его подчиненных, но, как выяснилось, ничего нельзя было найти. После той ночи, когда мастеровые союзов и монахи предводительствовали чернью, эти благочестивые люди сделались «защитниками» порядка. Они много времени проводили в иудейском квартале, помогая его жителям ликвидировать их имущество. От этого паника только увеличивалась, так как они неустанно напоминали своим жертвам, что ввиду приближения масленицы, а потом и пасхи, им следует торопиться. К праздникам из Фиваиды и диких гор в город соберутся монахи и отшельники, – непримиримые враги Израиля, рядом с которыми ни один иудей не сможет быть спокоен за свою жизнь. Эти слухи не были лишены основания. Во всяком случае, чернь прониклась ими вполне, с удовольствием предвкушала предстоящий, решительный и последний погром, и прилагала все усилия к тому, чтобы на долю диких отшельников пришлось как можно меньше работы. Но монахи и мастеровые были неуловимы, так как их предостережения были
хорошо замаскированы и не лишены основания.
Таким образом, наместник понял, что несмотря на его высокую защиту, иудейский квартал быстро уничтожается и скоро превратится в пустыню. Он сменил батальоны, а по том и полки, которым вверялась охрана улиц. Ничто не помогало. Офицеры пожимали плечами; солдаты разделяли чувства благочестивых граждан. Так же бессилен был наместник против хлебных спекулянтов, которые после исчезновения с биржи всех иудеев вздули цену на пшеницу, прекратив в то же время всякий вывоз. Если со старыми, хорошо известными фирмами наместник мог бы договориться, то с людьми, которые теперь вели игру, нельзя было ни увидеться, ни поговорить. Орест знал, что эта спекуляция была подготовлена Кириллом, чтобы создать затруднения для Рима и его епископа. Он чувствовал, что в этом деле Кирилл был заодно с Константинополем и двором. Но эти большие политические выпады тревожили его меньше, чем последствия, которыми это подорожание грозило самой Александрии. Появились предсказания близкой голодной смерти. Нил не увлажнит страны в этом году, ужасные события, ужасные времена наступят скоро!
Итак, народ и правительство оказались накануне старого египетского карнавала, сопровождавшегося обычно довольно заурядными беспорядками.
Непосредственно перед праздниками, в довершение несчастий, появилось пастырское послание архиепископа. Оно не только было вывешено у всех церковных дверей Александрии (что само по себе не могло произвести большого эффекта), но и прочитано со всех амвонов. Послание прежде всего обрушивалось на еретиков, которые не соглашались признать соборных постановлений до последней точки над «i». В буквальном смысле слова! Проклятые остатки арианцев, которые, по мнению Кирилла, все еще не были уничтожены и сохранялись под именем назареев повсюду, и даже в его провинции, сравнивались с дикими зверями, и их уничтожение ожидалось уже не от людей, а от отрядов пламенных ангельских воинов. Затем в послании говорилось об угрожавшем стране голоде, как об уже установленном факте. Пророчество подкреплялось выдержками из Библии и ссылками на сны благочестивых людей. Не называя имен, архиепископ прозрачно намекнул, что продавшие Христа, враги Бога, – стали теперь врагами всего человечества. Наконец, он требовал от всех добрых христиан не только молитвами, но и земным оружием уничтожить бич римского государства. Выражения были достаточно неопределенны. В Константинополе и в Риме можно было понять их так, что архиепископ Александрийский проповедует поход против еретических и варварских германцев, заполнивших Италию и угрожавших нанести удар мировому господству цезарей. Патриотическое пастырское послание! Но александрийская чернь не думала о Риме и германцах и все поняла по-своему. Бичом всех провинций, а особенно Египта, были иудеи и последние греческие софисты, и тот, кто поражал их мечом, получал благословение церкви в настоящем и хорошее место на небе в будущем.
Не только иудеи дрожали в ожидании карнавала, но и изысканное греческое общество старого города старалось исчезнуть с арены грядущих беспорядков. У кого была вилла в Зефирионе или в каком-нибудь еще более отдаленном месте побережья, те уезжали туда. Многие чиновники взяли отпуск, а Академия объявила перерыв в занятиях.
Александр Иосифсон, семья которого бежала в Италию, первый посоветовал удалить Ипатию на время карнавала из опасного места. Синезий предложил Кирены или какой-нибудь маленький городок своего Пентаполиса. Он даже послал в гавань свою весельную барку и предложил ее для бегства. Но Ипатия наотрез отказалась отправиться в путешествие. Поездка может затянуться, а она хочет продолжать свои лекции немедленно после каникул.
Тогда, вечером, накануне праздника, Троил выступил с предложением осуществить давно задуманную поездку к пирамидам. Ипатия согласилась, когда Вольф сказал, что никогда не видел знаменитых пирамид и с удовольствием посмотрит их в таком обществе. Решили отправиться на следующее утро как можно раньше. Кроме матросов на судне должны были собраться четыре друга, Ипатия со своей феллашкой и молодая служанка. После долгих просьб получил разрешение ехать вместе со всеми маленький темнокожий погонщик ослов, который только недавно вступил в свою должность и причислял себя к составу Академии с тех пор, как Ипатия воспользовалась однажды его ослом.
Так как судно и без того было подготовлено для знатных пассажиров, то одной ночи было вполне довольно, чтобы сделать последние приготовления для поездки по Нилу со всем комфортом, который Троил считал необходимым для Ипатии и для себя. С восходом солнца барка должна была встать у начала Нильского канала.
Был, однако, уже девятый час, когда вся компания завершила упаковку необходимых вещей и на двух повозках направилась к пристани. Путешествие началось весело, как настоящий студенческий пикник. Если Ипатия уже на александрийских улицах смотрела так оживленно, как же засверкают ее удивительные глаза на нильских волнах перед колоссальными памятниками!
Однако, когда повозки пересекали площадь, они должны были остановиться, так как посредине проходили две процессии масок, направлявшихся к месту встречи.
Первая группа представляла римское государство. Впереди на белом верблюде ехал монах, изображавший церковь. Он вел на привязи ослика, на котором задом наперед сидела смешная фигура, изображавшая цезаря, – карлик, вооруженный с ног до головы, но в ночном колпаке. Левая рука держала розгу и была привязана за спину. В правой руке была рукоять меча, а сам клинок монах на верблюде держал у себя на коленях. Затем следовали карикатуры на отдельные виды оружия и полки римской армии. Кроме фигуры цезаря, наибольшее удовольствие доставила зрителям сатира на северные германские полки, изображавшая двух солдат в медвежьих шкурах, которые вместо пения издавали нечленораздельный рев. Это было центральное место процессии.
Повозка могла бы проехать, но Ипатия сама захотела посмотреть вторую группу. Уже издали была видна стоявшая на фантастически разукрашенной повозке высокая белая фигура, и Троил, хорошо знакомый с местными обычаями, догадался, что это было изображение Нильской невесты. Ежегодно из пакли и тряпок изготавливали колоссальную куклу, одетую в женское платье, возили с насмешками и издевательствами по улицам и вечером сбрасывали в Нильский канал. Старые легенды говорили, что однажды Нил отказался оплодотворять страну, если ежегодно ему не будут приносить в жертву живую, прекрасную девушку. Как бы там ни было, теперь река удовлетворялась куклой и непристойными словами. Но ежегодно в эту ночь чернью овладевало что-то вроде дикого воспоминания о древнем кровавом жертвоприношении, и осторожные родители остерегались в это время показывать народу своих молодых дочерей.
Повозка проехала в сопровождении сотни танцовщиц, одетых нимфами. На телеге рядом с куклой стояла дюжина мужчин с масками на лицах в одежде старых египетских жрецов. Они поднимали сверкающие ножи и время от времени вонзали их в фигуру. Чернь торжествовала.
Александр первым догадался, что задумали устроители праздника. Это было достойно монаха! Нильская невеста представляла собой карикатуру на Ипатию. Белое платье, гладкое до пояса и ниспадавшее многочислеными складками от талии до пят, было сделано отлично. Еще яснее была прическа, так как только одна Ипатия во всей Александрии укладывала так свои черные волосы. Маска на лице была сделана плохо, но зато художник изыскал возможность подчеркнуть недостающее сходство. В левой руке кукла держала большой лист, на котором стояло: «Император Юлиан», а в правой – большой тростниковый прут, употреблявшийся в низших классах школы.
Выдумка имела успех. Намек на Ипатию возбудил общую веселость. Повозка медленно проехала мимо.
Когда Троил понял значение Нильской невесты этого года, он пробормотал проклятье. Ипатия спросила, в чем дело, но Вольф оценил ситуацию и вмешался с каким-то замечанием. Ипатия не должна была знать, чем ей угрожают. Однако Синезий, успевший на другой повозке объяснить служанкам смысл происшедшего, жестом дал понять Ипатии, какой «чести» она удостоилась. Вольф хотел отвлечь ее внимание, но она сказала смеясь:
– Пускай они меня топят, раз это будет в моем отсутствии! Оставьте шутам их шутки.
– Каким шутам? – спросил Троил грубо. Александр предупредил ее ответ, воскликнул с восторгом:
– Если бы все могли это слышать! Это Сократесса!!!
– И чтобы сходство было полнее, она нашла себе Ксантиппа, – заметил Троил.
Ипатия не слышала перебранки. Дорога была свободна, и возница торопился въехать в тихие улицы. Только теперь чернь узнала Ипатию. Со всех сторон полетели насмешливые и циничные замечания. Все равно ее найдут сегодня ночью! Но это говорилось без злобы, и никто не остановил повозок. Все же приключение было не из приятных, и Ипатия благодарила своих спутников за совет уехать на время из Александрии.
Судно давно стояло в полной готовности и через несколько минут, после прибытия путешественников, медленно поплыло по каналу.
Скоро Александрия осталась позади, и Ипатия начала посвящать Вольфа в тайны фараоновской архитектуры, как внезапно появился новый спутник. Сверху раздался пронзительный крик, крик ребенка, которому не позволили ехать со взрослыми, и быстрее ветра подлетел марабу. Все засмеялись. Крылатый философ спустился на палубу и встал, поджав одну ногу, на носу. Там он принялся царапать свою морщинистую шею, щелкнул клювом и, наконец, сердито втянул голову в плечи.
Поездка по каналу была однообразной и оживлялась только остроумной беседой собравшихся. У служанок Ипатии было достаточно работы с уборкой ее каюты и приведением в порядок судовой кухни. Матросы под командой черного капитана с невероятным криком старались избегать столкновения с многочисленными лодками.
Никто не прерывал беседы, касавшейся мировоззрения фараонов. Только Синезий, чувствовавший себя хозяином, вмешивался изредка с заботливыми вопросами или похвалами захваченным припасам. Все было хорошо продумано и доказывало особую заботу о земных удобствах, которыми остальная компания, как казалось, абсолютно не интересовалась. Однако, друзья нетерпеливо морщились, и Ипатия с трудом скрывала улыбку, как только Троил принимался дразнить Синезия именем Ксантиппа. Когда Синезий узнал, почему его так прозвали и нахмурил свое красивое лицо, не хуже спящего марабу, Троил воскликнул надменно:
– Ты заблуждаешься, благородный и гостеприимный хозяин: имя Ксантиппа в высшей степени почетно! Как храм не может возвышаться, не имея под собой почвы, как человеческие глаза не сверкали бы, не имей они перед собой вкусных кушаний, как птицы не могли бы летать без воздуха, необходимого для их крыльев, а судно плыть без воды… Хочешь ли ты еще сравнений? Как наездник свалился бы с верблюда – нет, нет, Синезий, ты не верблюд, ты только седло, – и так, как наездник без седла, как рыба без хребта (поистине у рыбы должны быть кости) – короче говоря, раз ты мне мешаешь продолжать мои сравнения до бесконечности: как Египет без нильского ила – таким был бы Сократ без Ксантиппы, а потому, само собой разумеется, и наша Сократесса должна была найти себе… ну, ты можешь выбрать любое из моих сравнений.
Синезий пытался протестовать. Но Троил и Александр безжалостно напали на него, доказывая, что он во всех отношениях похож на старую Ксантиппу, а особенно теперь, когда начинает ворчать и браниться.
Ипатия и Вольф сидели молча.
Внезапно прекрасный философ воскликнул:
– Оставьте глупые сравнения, я считаю вполне возможным, чтобы Сократ выбрал себе подругу мудрее Платона, – и она взглянула на Александра, – мудрее Аристида, – и она посмотрела на Троила, – и Алкивида! – Смеясь она посмотрела на марабу таким чарующим взглядом, что философская птица вышла из своего оцепенения и вскочила в центр беседующей группы.
Таким образом снова воцарилась веселость, и Синезий продолжил свои хозяйственные замечания.
К вечеру подъехали к шлюзам, и после получасового сражения с бесчисленными черными и коричневыми, полуголыми и совсем нагими лодочниками, лодка скользнула в коричневые воды вечной реки. Свежий северный ветер наполнил все паруса, и прекрасный кораблик гордо поплыл вверх по течению в глубину страны чудес.
Два дня и две ночи продолжалось путешествие. Ипатия расцвела, как молоденькая девушка. Днем она беззаботно веселилась с друзьями, вечером она еще долго болтала со служанками, а по утрам казалось, что в каюте проснулся ребенок. Маленькие события путешествия находили девушку все более любопытной и все более счастливой. Она приветствовала первого крокодила и первого гиппопотама, как будто они были хорошенькими птичками. В первый же день пути, перед закатом, они увидели на болотистом берегу массу фламинго, сверкавших пурпурным опереньем, а за ними тонконогих марабу, качавших голыми головами, и как бы не одобрявших яркой окраски своих розовых товарищей. Троил сравнил это зрелище с аудиториями Академии, а старый марабу при виде вольных собратьев с большим самообладанием юркнул вглубь каюты, кидая оттуда косые взгляды на своих необразованных родственников. Звонко и весело хохотали тогда путники, и Вольф в последний раз слышал смех Ипатии, звеневший, как серебряный колокольчик, и видел в ее удивительных черных глазах детскую радость.
Однако сам собой разговор постоянно возвращался к серьезным темам, хотя ими интересовались только Вольф и Ипатия. Невольно беседа касалась религиозных вопросов, а только двое последних с интересом относились к этим вещам.
Убеждения Синезия сводились к тому, что неизвестно почему, но религия должна существовать, исключительно для народа. Александру казалось, что он не знает, зачем должна существовать религия. А Троил полагал, что религия всегда была и всегда будет. Таким образом, все трое не могли понять стремления греков и назареев добиться ясности в этих вопросах и убедить других.
И Вольф и Ипатия чувствовали себя столь близкими друг другу в своем стремлении к потустороннему, что даже на узком пространстве маленького корабля умели отделяться от остальных. Особенно в ранние утренние часы, когда остальные под руководством Синезия предавались нескончаемому завтраку или развлекались рыбной ловлей в маленькой лодке, привязанной к судну длиннейшим канатом, Ипатия и Вольф вели беседу о богах, о тайне свободной воли и загадках потусторонней жизни.
В начале поездки оба полагали, что во всех этих вещах им придется быть противниками, и они начали свои религиозные беседы со святым пылом проповедников. Но после первых минут разговора учительница философии убедилась, что Вольф и образованнее и шире во взглядах, чем она считала. Она даже была недовольна тем, что гордые губы этого белокурого германца смеют с ней спорить. Вольф же, слышавший ее до сих пор только с кафедры, удивлялся, что прекрасный философ с таким изяществом может вести серьезные разговоры. Не было и следа старых систем, ученого высокомерия или формализма. Это было превосходно!
Эллинка и назарей одинаково верили в вечность и ценность законов природы и знали, что они сами, как и все люди, должны держать свои мысли и дела в железных рамках. Оба читали новые послания епископа Августина, удивлялись глубине, с которой этот выдающийся человек созерцал людские души, и иронизировали над наивным стремлением легко и быстро познать доброго Бога. Однако у Вольфа и Ипатии не было единого мнения в вопросе о потусторонней жизни. Как бы там ни было, Вольф не мог освободиться от представлений своих детских лет. Он признался своей ученой подруге, что небо его братьев по вере выглядит совсем не так, как его собственное. Он представлял себе небеса, населенными могучими веселыми героями, хорошо вооруженными сыновьями королей, в кругу которых он, вооруженный так же как и они, ожидает последней битвы и тысячелетнего царствия божия. И от того, что его собственные представления на этот счет резко отличались от воззрений его единоверцев, и те и другие казались ему прекрасным сном, и он не был склонен оспаривать веру Ипатии. Да она и сама сознавалась, что потусторонний мир не слишком ясно вырисовывается перед ее взором. Одно она знала наверняка, что стремление вверх – эта неутолимая жажда идеала – никогда не может быть потушена. В высь! В этом слове заключалась ее вера.
Ведь тогда исчезали все невзгоды! Мужчины и женщины забывали все, что могло омрачать их дружбу. Исчезала угроза старости, и вечно юные души, подобно бабочкам, вздымались над вечностью. Можно было сказать и так: все муки страсти и духа времени исчезли навеки, и души плавали в розоватом тумане, всезнающие, а потому не стремящиеся к отдельным знаниям, вселюбящие, а потому свободные от любви; только тогда, когда находили друг друга двое, которые были связаны на земле взаимной любовью или взаимной ненавистью, тогда их братские сердца парили, как пара голубков, блаженные, вечные, единые. Мечты! Мечты!
Ипатия и Вольф посмеивались поочередно над своими снами, а потом тот, фантазия которого была разрушена, опускал смущенно глаза, а собеседник наслаждался его смущением, пока не приходила его очередь сомкнуть веки под взором другого.
Мечты! Ипатия впервые сказала, как безумны люди, сражающиеся во имя фантазий своей веры, как дети, ссорящиеся из-за своих снов!
Но вот вопрос о богах был серьезнее. За своих богов она готова была бороться до бесконечности.
В вечерние часы, когда звездное войско, сияя, выступало на небе так ярко и близко, что Вольф постоянно сравнивал этот прекрасный свет со своим родным туманным северным небом, в вечерние часы, когда остальные друзья сидели за ужином или развлекали друг друга охотничьими небылицами, в эти вечерние часы Вольф и Ипатия погружались в беседы о бессмертии и свободе. И странно, что после этих глубокомысленных разговоров Ипатия, как ребенок, часами забавлялась со своими служанками и марабу, а Вольф полночи проводил на палубе, смотря на далекие созвездия, так как он не мог заснуть.
А в светлые, свежие радостные утренние часы Вольф и Ипатия сражались за своих богов. Обычно Вольф наступал, – он насмехался над человеческими, а подчас и гораздо худшими наклонностями олимпийских богов, и принуждал Ипатию сдавать позицию за позицией. Конечно, прелестные легенды о Зевсе и Афродите и о всей остальной компании не были для Ипатии непреложным предметом веры. Она не называла всю эту божественную сволочь так, как она этого заслуживала, но должна была признать, что с таким Олимпом теперь уже ничего нельзя было поделать. Она чувствовала себя немного уязвленной, когда Вольф насмехался над последними языческими жрецами, бессмысленно и тупо совершавшими старый культ там, где это не запрещалось императорскими чиновниками. Ипатия говорила, что можно было только благодарить христианских императоров за то, что они уничтожили внешние жертвоприношения и оставили эллинству только его духовную силу. Старых греческих богов надо рассматривать только как олицетворение неизвестных сил природы, а предчувствие, что повсюду за этими прекрасными богами находится нечто основное, нечто неизмеримо великое, – это предчувствие не было чуждо древним поэтам. В Афинах был воздвигнут жертвенник неведомому и безымянному великому Богу, Богу Теона и Ипатии, истинному Богу.
– А был ли этот Бог – Богом греков?
Ипатия немного рассердилась, кровь окрасила ее щеки, и она перешла в наступление. Что знает Вольф о своем Боге? Разве Бог, которому он молится, не такой же неведомый и безымянный? Разве сын плотника не является для него только лишь самым благородным и самым чистым созданием этого неведомого существа? Разве назареи приравнивают сына к отцу? Вольф отступил, и оба замолчали, и оба насупились, и оба радовались про себя, что, быть может, они взирают на одно и то же неведомое существо. Но они продолжали хмуриться, пока светило солнце. В лучах звездного света лицо каждого снова принимало дружелюбное выражение.
На третье утро путешествия на юго-западном горизонте показались две пирамиды. Больше не было речей о будущем. Прошедшая эпоха фараонов вновь завладела умами молодых людей. Матросы радовались возможности провести несколько спокойных дней в священном месте, а праздновавшие свои каникулы студенты радостно приветствовали цель своего путешествия. Ветер подул с востока, и через три часа барка пристала к месту своего назначения. В последнюю минуту чуть было но случилось несчастье: при выгрузке маленький погонщик упал в воду и, наверное, захлебнулся бы, если бы Ипатия не подняла на ноги весь экипаж для его спасения. Наконец беднягу вытащили, и спустя немного времени он уже стоял на голове в знак благодарности к своей спасительнице, так что маленький караван мог весело начать свое путешествие по пустыне.
Тут-то Синезий показал себя с наилучшей стороны. Осталось загадкой, каким образом сумел он обогнать своими лодками быстроходную барку. Он только посмеивался и отказывался давать какие-нибудь разъяснения. Достаточно того, что на берегу были во множестве приготовленные ослы, погонщики, носильщики и проводники, как будто предстояло встречать супругу влиятельного князя. Должно быть, хитрый Синезий сумел воспользоваться сигнализацией, обычно употреблявшейся только для передачи сведений об уровне Нила, так как скоро показались местные власти, приветствовавшие Ипатию, как княгиню. Позднее Синезию сильно досталось за эту хитрость, но чтобы не испортить шутки, Ипатия принимала все с ласковой важностью. Процедура встречи длилась недолго. Скоро тронулись в путь, мужчины на верблюдах, женщины на ослах, причем рядом с Ипатией бежал ее собственный погонщик. Он быстро справился с маленьким местным темнокожим, хотевшим занять его место возле Ипатии.
Однако заботы предусмотрительного Синезия на этом далеко еще не закончились. Программа была продумана до мельчайших подробностей и выполнялась, пожалуй, чересчур точно. В полдень, на том месте, где погонщики стали печь на костре свои маисовые лепешки, некая скатерть-самобранка приготовила пышную закуску, а вечером они «случайно» нашли огромную палатку с удобным помещением для женщин и гамаками для мужчин.
Приглашенные ученые и жрецы оказались весьма полезными. Синезий, прекрасно владевший местным наречием, был переводчиком, да и Ипатия могла участвовать в разговоре. Эти люди умели разбирать иероглифы и превосходно рассказывали легенды и истории.
К концу второго дня все общество достигло великой пирамиды Хеопса. По желанию Ипатии проводники остались внизу. Там, наверху, она не желала увеличивать своих знаний. В сопровождении четырех друзей с трудом поднялась она наверх. Одному Вольфу было разрешено ее поддерживать и изредка подсаживать на особенно высокий каменный уступ.
На вершине пирамиды среди своих друзей она долго стояла молча. Над пустыней спускалось краснеющее солнце, как будто оно намеревалось погрузиться в море. Синезий открыл рот, чтобы сообщить несколько данных о вышине и широте пирамиды. Однако он замолчал, когда Троил шепнул ему:
– Дурачься, пожалуй, но только не мешай нам!
Долго стояли они так. Потом Александр и Троил спустились с маленькой платформы и очень внимательно стали смотреть на Нильскую долину. Троил проворчал что-то, чего Александр не понял. Но он не стал расспрашивать. Синезий спустился на несколько ступеней вниз и начал делать своим людям какие-то сигналы.
Вольф и Ипатия стояли совсем рядом у северного края площадки. Неожиданно Ипатия задрожала и прислонилась к его плечу. Потом она опустилась на колени и долго плакала. Наконец, встала и, не глядя на христианина, протянула руки Александру и Троилу.
– Не правда ли, здесь наверху… здесь наверху это не глупо… Мой бедный отец!..
Она снова заплакала, а затем принялась смеяться. Было ли видно снизу, что она осушила глаза, или там неправильно поняли ее движение, когда она страстно протянула руки к северу, это трудно сказать. Достаточно того, что внезапно марабу, которому очень не нравился этот подъем на пирамиду, стал взбираться, как какой-то высокий неуклюжий человек на первые ступени пирамиды. Рядом с ним прыгал и карабкался маленький погонщик. Сверху едва можно было разглядеть их маленькие фигурки. Только Вольф заметил, что скоро марабу остановился, полный удивления, и, почесав правой ногой за ухом, внезапно вспомнил, что ведь он умеет летать. Но он не полетел прямо к вершине, а медленно кружился около карабкавшегося мальчугана. Все расхохотались, когда уже недалеко от вершины марабу стал помогать своему маленькому товарищу сердитыми ударами клюва в спину.
Обоих приняли очень радушно: птица получила несколько комплиментов, а маленькому погонщику Троил начал объяснять строение пирамиды, подражая голосу и манерам Синезия.
А последний успел тем временем приготовить очередной сюрприз. На западной стороне пирамиды, защищенной от вечернего ветра и открывавшей вид на спускавшееся над пустыней солнце, распорядитель путешествия приказал разложить ковры и подушки и приготовить небольшой запас напитков. Конечно, не следовало осквернять могилу великого фараона обычным ужином, но небольшая выпивка в честь предков умершего царя не могла бы оскорбить ни Бога, ни людей.
Медленно, со слегка ухудшенным настроением, стала спускаться Ипатия вниз, опираясь на руку Вольфа; спуск оказался еще труднее, чем подъем, и таким образом волей-неволей на полпути пришлось воспользоваться выдумкой Синезия. Друзья лежали, откинувшись на подушки. Двое – справа от Ипатии, двое – слева; вино подняло настроение, а закат солнца был великолепен.
– Теперь я опять в состоянии разговаривать, – сказала Ипатия, сделав несколько глотков. – О… это было слишком. Страшно созерцать вечность прямо перед собой. Приходится подумать об Августине, который отрицает реальность времени.
– Но это же бессмыслица, – заметил Синезий удивленно.
Александр, которому вино быстро ударило в голову, сказал живо:
– Ипатия, позвольте рассказать сказку, сочиненную одним из моих предков, которую часто рассказывала мне мать, когда я был ребенком. В ней говорится, как я думаю, о времени и вечности, а, может быть, только о глупой любви.
Не дожидаясь ответа, он сделал глоток вина и начал рассказ:
– Жил-был мальчик, который никогда не ходил в школу, так как он не желал учиться, предпочитая ловить бабочек и пускать стрелы в лесных животных: в больших для практики, в маленьких для охоты. И вот, однажды, на лугу увидел он птичку, такую прекрасную, какой никогда еще до сих пор не видел. Головка ее была, как черный бархат, тельце сверкало, как белый шелк, а шейка блестела подобно изумруду. «Я поймаю ее!», – сказал он себе. «Я поймаю ее!», – и он нагнулся за прекрасной птицей. Она не была боязлива и подпустила мальчика совсем близко к себе. Потом она вспорхнула и стала перелетать с места на место, не исчезая с глаз мальчугана, так что его решение становилось все тверже. Так бежал он целый день за белой птичкой с изумрудной шейкой и черной головкой. И вот оба достигли опушки леса, тянувшегося на сотни верст, так что нужно было сто лет, чтобы пройти его до конца. Мальчик бежал за птичкой от дерева к дереву, от куста к кусту, пока оба не оказались на другом конце леса. Там птичка взлетела на высокое дерево, уселась на сучок и стала кивать бархат ной головкой, и вертеть изумрудной шейкой, и сверкать серебряным тельцем. Мальчик хотел настоять на своем: он полез на дерево, сначала по нижним толстым сучьям, потом все дальше, пока ветки не стали совсем тоненькими. Но воля мальчика была непреодолима, сук сломался, он упал с вершины дерева и разбился насмерть. И его своевольный череп раскололся пополам. И вот через сто лет от мальчика не осталось ничего, кроме нескольких белоснежных костей, а немного в стороне лежал расколотый череп, когда-то хранивший его упрямый мозг, а теперь белый и блестящий, как кубок. Накануне шел дождь и в этом кубке оставалось немного воды. Быстро подлетела хорошенькая птичка, повертела изумрудной шейкой, кивнула бархатной головкой, осторожно и осмотрительно подскочила поближе, прыгнула вперед, прыгнула назад и, наконец, вскочила на край черепа, чтобы попить воды. Тогда сомкнулись расколотые половинки и поймали хорошенькую птичку, которая не могла уже больше улететь. Так, наконец, добился маленький мальчик того, чего хотел.
– Поздновато, – прошептал Троил.
Потом все вновь замолчали, словно ожидая реакции Ипатии. Но она смотрела вдаль, туда, где исчезало солнце и поднимались огненно-красные облака. Было тихо, так тихо, как еще никогда раньше. Не было слышно ни людей, ни животных, ни каравана, расположившегося у подножья пирамиды. Синезий откашлялся и сказал:
– Мужественный мальчик Александра познал на себе иронию времени, так как он хотел телесно того, что поднимается над пространством и временем. Если бы эту сказку придумывал не иудейский раввин, а греческий философ, она звучала бы несколько иначе. Мудрый ученик Платона легко удовлетворился бы духовным обладанием удивительной птичкой, и вместо того, чтобы протягивать к ней свои телесные руки, он сразу бы поймал ее головой, и с этого момента она принадлежала бы ему, как принадлежат друг другу духи.
Вольф расхохотался, и даже по губам Ипатии скользнула улыбка. Троил воскликнул:
– Однако, любезный хозяин! Ты, по крайней мере, оставляешь кое-что другим! А на охоте ты делаешь то же самое? Созерцаешь фазана и мысленно укладываешь его в свою духовную сумку, а фазан появляется потом на чужом столе!
– Все же здесь есть нечто, – сказал Александр, немного подумав, – чему можно поучиться. Быть может, он прав. Если череп слишком мал для птицы, он может предоставить ей только духовное помещение. И если Синезий стремится к слишком большой птице, то ему, конечно, ничего не остается, кроме Платона, и я полагаю, что наш благородный хозяин, действительно, мечтает о такой птице, которая ни как не подойдет к его прекрасно сформированному черепу. Он любит… марабу!
– Конечно, марабу! – закричали Вольф и Троил. Моментально птица дала о себе знать. До сих пор она с маленьким погонщиком оставалась наверху. Теперь аист медленно и тяжело полетел вниз, но сейчас же вернулся, как только заметил, что погонщик тоже начал свой спуск. Скача и подпрыгивая, спустился мальчик, потом, достигнув сравнительно гладкого места, полетел вниз, как стрела. А за ним, стуча клювом и хлопая крыльями, несся марабу, и так пронеслись оба, как школьник, спасающийся от разгневанного учителя.
Ипатии не хотелось слушать дальше пререкания своих друзей, и она сказала Троилу:
– Смеяться легко. Не знаете ли вы тоже какой-нибудь хорошенькой сказочки о времени и вечности?
– Я не знаю сказок.
– Ну, так придумайте!
– Сказок не придумывают, но я могу рассказать то, что я видел, и то, что я вижу – истинную историю этой пирамиды: когда Бог, который в те времена не имел еще никакого имени, создал мир, он дал каждому существу, человеку, животному и растению его долю радости, каждому одинаковую долю счастья и наслаждений. И он звал все создания к своему трону и стал думать: кто из них самый умный и кто самый глупый. Оказалось, что самым умным является человек, самым же глупым – пшеничное зернышко, так как оно вырастает, чтобы сделаться хлебом для людей. Когда это выяснилось, Господь, который не имел имени, спросил: сможет ли умное существо со своим запасом счастья прожить дольше глупого? И человек поспорил с зернышком пшеницы, что он сможет прожить дольше. Через биллионы лет соперники услышат приговор Бога. Человек был умен, он распределил свои радости на долгую жизнь, на несколько сот лет. И он смеялся над зерном, которое в течение одного лета рождалось и умирало. Но человек не знал, что наслаждения питаются жизнью, а жизнь питается временем. Вовсе не тело фараона, как вы думаете, покоится глубоко под нашими ногами. Там лежит пшеничное зерно и человеческий труп. Труп принадлежит молодой женщине, которая некогда спокойно скончалась семнадцати лет от роду, ибо она жадно пила назначенную ей долю наслаждений и скоро истратила свое время и свою жизнь. А пшеничное зерно не коснулось и капли воды, хотя оно мучалось жаждой, и оно уснуло рядом с девушкой таким же сном смерти. Но будет время… Пирамида будет стоять, она пережила уже три великие имени божия, и она будет стоять, пока вечный Бог не получит от человечества своего последнего имени. Тогда наступит последний день, и перед судом Бога выступят девушка и зерно пшеницы. И всем своим могуществом не сможет Бог пробудить к жизни семнадцатилетнюю девушку, а зернышко собственной своей силой сможет начать жить после тысячелетнего сна. И я, мои милые друзья, создан, к сожалению, человеком, а не зерном пшеницы, которое могло бы спать под ногами Ипатии.
– Нет!
Это сказала Ипатия и больше не произнесла ни слова. Но она посмотрела на Вольфа, и он начал свой рассказ.
– Под нами пирамида, а вы толкуете о жизни и смерти, как о чем-то важном. Слушайте! Жила-была фея, по имени Фата. И так как она пожелала иметь большую мудрость и холодное сердце, ей присудили обладать бесконечным знанием и железной душой. Она стала вечной феей смерти. Но заклятие должно было исчезнуть, чтобы она снова могла стать обыкновенной женщиной, если смелый юноша освободит ее от него. Но никто не знал, как это сделать. Фея смерти приблизилась со своим бесконечным знанием и железным сердцем к благороднейшему из греков – Ахиллесу. И она сказала ему: «Я приношу тебе вечную славу, но ты должен отдать мне за это жизнь. Ты умрешь молодым!» Но Ахиллес начал просить о пощаде, так как он хотел еще жить. Но она поцеловала его в смуглый лоб, и он умер. И через тысячу лет фея смерти со своим бесконечным знанием и железным сердцем предстала перед благороднейшим германцем – Зигфридом. Она сказала ему: «Я приношу тебе вечную славу, но ты должен отдать мне за это жизнь. Ты должен умереть». И Зигфрид засмеялся, так как он стремился к битвам и смерти. Но она поцеловала его смуглый лоб, и он умер. И еще через тысячелетие фея смерти пришла к юноше, который был и германцем, и греком. И она сказала ему свои слова. Но он обнял ее стройное тело и, поцеловав, сказал: «В твоих объятиях жизнь и смерть одно и то же. С тобой нет смерти». И фея смерти освободилась от заклятья и стала женщиной. И когда настал их час, они оба умерли.
Долго все молчали. Ипатия вздрогнула. Синезий напомнил о простуде и предложил продолжать спуск.
У подножия пирамиды они снова нашли прекрасную палатку, в которой проболтали до поздней ночи. Еще два дня, бродили они и осматривали все сказочное и загадочное, что сохранилось со времен фараонов. По аллее из сфинксов дошли они до какого-то храма и слышали там молитву жреца Зевса. В другом египетском храме они слушали проповедь христианского монаха. А на берегу Нила стояли смуглые феллахи, христиане и язычники и приносили совместную жертву за плодородный год.
Через четыре дня переполненное впечатлениями маленькое общество возвращалось к своей барке. В последний час путешествия по пустыне, когда белые верблюды уже вытягивали длинные шеи к священной воде, один из проводников приблизился к Ипатии, прося ее покровительства. Он просил разрешения доехать на их судне до Александрии, где хотел снова стать там христианином и заниматься предсказаниями. Синезий стал его расспрашивать, и они услышали удивительную историю.
Этот египтянин был сыном прорицателя и сам стал прорицателем, укротителем змей и заклинателем духов. Он много бродил по свету. Во времена Юлиана он сделался в Александрии жрецом Сераписа. Потом в Константинополе он крестился, перешел с солдатами через Альпы, помогал друидам при их жертвоприношениях, а в Риме снова стал язычником. Милости ужасного епископа Миланского снова вернули его христианству. Потом в свите Алариха он был арианцем и затем из страха преследований бежал сюда.
– Но эти египтяне – все нищие, они не в состоянии платить, как следует, своим предсказателям. Я хочу снова стать христианином.
Удивленная Ипатия спросила, разве можно заниматься его ремеслом одинаково во всех религиях.
– Конечно, госпожа, – сказал предсказатель. – Тебя я не буду обманывать. Я убедился, что это искусство нравится одинаково и язычникам, и христианам, и иудеям.
– Мошенник замечательно подходит к нашей философской лодке! – воскликнул Троил, смеясь. И просьба предсказателя была исполнена.
Погрузка продолжалась недолго. В последний момент на судно проскользнул какой-то египтянин с мешком. Друзья не обратили на него внимания. Но один матрос схватил мешок и поднял крик. Там было что-то живое. Сбежался весь экипаж, предсказатель упал на колени перед Ипатией и стал молить о пощаде. В мешке были ядовитые змеи, правда, лишенные своих зубов.
Предсказатель бросился объяснять зачем ему змеи.
– Госпожа! – воскликнул он смиренно. – Ни одному прорицателю не будут верить, если он не укрощает змей. Но обыкновенные змеи не думают о нас и не приходят на наш зов. Только эти милые твореньица вылезут на мой свист, потому что я пою их изредка молоком. Видите ли, госпожа, когда я собираюсь укрощать змей, я поначалу прячу поблизости своих собственных. Мой успех зависит от этого. Поверьте, госпожа, удается вызвать только тех змей, которых сам предварительно припрятал. Змеи – мое средство к существованию.
Прорицателю и его змеям разрешили ехать, его маленькие представления забавляли общество, пока барка спускалась вниз по священной реке. Счастливо и без приключений прошел обратный путь.
Снова путешественники должны были завоевать себе право перехода из Нила в канал. Они были еще далеко от гавани, когда из уст рулевого послышалось ругательство в адрес чего-то, неподвижно покоившегося на поверхности воды. Путешественники перегнулись через борт, чтобы рассмотреть грязную массу. Это была Нильская невеста, кукла, копия Ипатии, которую, по старому обычаю, бросили в воду.
Глава X
СВЯТОЙ АММОНИЙ
Наконец прошла пасха. Мягкая египетская зима закончилась, все сильнее стало припекать солнце. Сорок дней поста подходили к концу, и нетерпеливые отшельники с гор ежедневно, поодиночке или группами в два-три человека приходили в Александрию. Их призывала высшая сила, и вот они пробирались через пустыню по дорогам, отмеченным скелетами людей и верблюдов. Большинство приходили в город полумертвыми от голода и истощения и почти без сознания от жажды; каждый день в египетском квартале можно было видеть, как эти благочестивые люди подходили к первому попавшемуся источнику, где за ними начинали ухаживать добродушные бедные язычники. Потом, несмотря на свои окровавленные ноги и разорванную одежду, напившиеся воды отшельники принимали независимый вид и начинали поносить и проклинать добрых еретиков.
Настроение, которое святые мужи приносили в город Александра, было далеко не радостным. Все чаще на улицах можно было видеть отдельных монахов, которые завязывали и поддерживали торговые связи с монастырями и купцами; по указаниям Гиеракса, прибывали нескончаемые вереницы повозок не только с гор, но и из еще более отдаленных мест, даже из Фиваиды. А александрийцы охотно повторяли шутку, что в Египте теперь больше монахов, чем было раньше богов с собачьими головами.
Этим попам все были рады. Они приносили деньги или то, что стоило таковых, жили и давали жить другим. Если многие из них пришли с плохими намерениями, то среди богатств города они чаще предавались удовольствиям и делам, чем выполнениям политических планов своей церкви. Правда, черные рясы дали себя знать в кровавом избиении иудеев, но нельзя было сказать, считали ли они это происшествие развлечением или долгом. Во всяком случае, ни чего более они не предпринимали. Как только город успокоился, они первыми начали ратовать за порядок. В то время, как обыкновенные грабители прятались сами и скрывали свою добычу, рясы и клобуки посылали своим монастырям огромные караваны с целыми лавками, и пока купцы еще не доверяли установившемуся миру, монахи на законном основании, с помощью нотариусов, накинулись на иудейское наследство. Покинутые дома, владельцы которых бежали или умерли, переводились на имя церквей на основании благочестивого императорского указа. Имущество иудеев, желавших собрать немного денег на дорогу, скупалось этими монахами за смехотворную цену. На бирже рассказывали, что один из монастырей заплатил за три дцать домиков с садами тридцать золотых.
Когда, наконец, страх перед решительными мерами наместника и возобновлением погрома начал исчезать, монахи на законном основании оказались владельцами половины иудейского квартала, и граждане Александрии начали чувствовать достаточное уважение перед рассудительностью и ловкостью обитателей монастырей. С ними вступали в сделку, а то, что оставалось от старой вражды и новой зависти, разрешалось, по хорошей городской привычке, шутками и насмешками.
Зато совсем иначе вели себя отцы-пустынники. Среди них были как хорошие, так и плохие; одни, как выпущенные на волю школьники, с головой окунались в городские наслаждения, другие голодали среди всего изобилия, выступали с суровыми проповедями и старались обращать на истинный путь грешников и особенно грешниц. Первые пришельцы оказывались не очень благочестивыми, следующее – слишком святыми. Однако в Александрии были недовольны поведением и тех, и других.
Особенно в Матросском квартале все пошло вверх дном. Каждую ночь происходили отвратительные потасовки и кровавые схватки. В грязных притонах, где раньше грубо, но просто напивались и забавлялись с девками матросы всего Средиземного моря, теперь проводили время в неслыханных оргиях полубезумные отшельники, которые грешили, вознаграждая себя за ужасные испытания долгих месяцев и лет. Владельцы кабаков не брали с них денег, а девушки, от избытка благочестивого суеверия или разгорячившейся похоти, сами бросались в их объятия. В результате многие матросы брались за ножи.
После полуночи являлись настоящие проповедники, опрокидывали кувшины с вином и били своих павших братьев. Выкрикивая псалмы и проклятия, они пробирались в самые темные углы, оплевывали валявшиеся там полу бесчувственные тела и силой вырывали заблудших из судорожных объятий ночных красавиц. Нагие женщины начинали биться в судорогах на грязных полах и, ползая на коленях, выпрашивали благословения святых старцев. Впрочем, случалось, что святой старец не выдерживал и сам удалялся со своей падшей дочерью
подальше от нескромных взоров, дабы благословить ее наедине. Христианские матросы из Карфагена или Малой Азии становились на сторону анахоретов, язычники из Испании или Марселя бросались на них, а какой-нибудь старик-египтянин смотрел на свалку из угла, как римлянин на бой диких зверей.
Не только наместник с миролюбивыми гражданами был возмущен этими выходками. Самому архиепископу становилось несколько неспокойно, и, защищая всей своей мощью каждого монаха от посягательства городской власти, он тем временем посылал в горы посла за послом. Если Исидор не явится немедленно, чтобы взять на себя предводительство, то внезапная уличная битва или энергичные действия властей могут положить конец неограниченному господству церкви. Еще были в силе старые императорские указы, за старые грехи запрещавшие монахам и отшельникам пребывание в городе. Настроение населения Александрии склонялось в пользу властей; если бы Орест энергично взялся за дело и начал проводить в жизнь эти указы, то приход Исидора был бы бесполезным, и церкви пришлось еще на несколько лет, по крайней мере, склонить свою голову перед государством.
Живя в Александрии, отшельники, очевидно, окончательно забыли, зачем они явились сюда. Или, быть может, они полагали, что все уже сделано. Назареев или еще каких-нибудь еретиков было не видно и не слышно. В иудейском квартале провели основательную чистку, и даже Ипатия, казалось, перестала возбуждать гнев церкви. Правда, скандалы перед дверями ее аудитории становились все чаще, а многие студенты, которым надоели вечные драки, перестали посещать ее лекции.
Для начала этого было вполне достаточно, но все равно город был недоволен. В Александрии гордились Ипатией не меньше, чем колонной Помпея или иглой Клеопатры, или еще какой-нибудь достопримечательностью. И когда один помешанный монах предложил вполне серьезно чудовищными машинами низвергнуть какой-то обелиск, так как он, видите ли, представляет собой памятник языческих тиранов, – против него восстали все патриоты Александрии. А когда сотни студентов заявили, что на следующий семестр они не желают оставаться в этом поповском гнезде, а переберутся в один из свободных новых университетов, или даже в вечные Афины, то в результате этого не только все граждане, сдававшие комнаты, озлобились на монахов, но и во всем городе стали требовать прекращения этого нашествия диких.
– Позор, что всеизвестнейший город позволяет управлять собой тысяче глупых монахов и сотне совершенно невежественных отшельников! – звучало из уст коренных александрийцев.
Среди портовых рабочих разнесся неясный слух, что архиепископ через подставных лиц установил высокую цену на пшеницу и намеревается еще повысить ее вдвое. Кирилл якобы приказал во всех церквях молиться против скорого разлива Нила! Он ждет голода, чтобы распродать свое зерно по баснословным ценам! Сам Орест сказал депутации от купечества, что его беспокоит судьба торговли и промышленности, раз монастыри стремятся захватить все в свои руки. Если так пойдет дальше, через двадцать лет Египет будет мертвой страной. Опасения Ореста имели серьезные основания. Кирилл сознательно стремился поставить все римское государство в хозяйственную зависимость от Египта.
Накануне вербного воскресенья наместник в новой праздничной колеснице подъехал к Академии, чтобы нанести прекрасной Ипатии официальный визит. Он сообщил ей что с этого дня, в сопровождении высших чинов своей свиты, он будет посещать ее астрономический курс, дабы открыто показать, что император и государство не находят ничего предосудительного в ее лекциях, а скорее, наоборот, видят в ней опору порядка и украшения науки.
С быстротой молнии распространилось известие, что наместник принял прелестного философа под свою личную защиту и обещал ей уничтожить монахов и свергнуть архиепископа.
Наверху, в приемной Ипатии, слова наместника прозвучали, конечно, не так гордо. Правда, он обещал своей прекрасной подруге появиться среди ее слушателей, но в то же время рассказал и о всех своих затруднениях, сознавшись, что возраст не позволяет ему как следует бороться с неистовствами архиепископа. С тоской спросила Ипатия, не ее ли особа увеличивает затруднения. Орест не сказал «да», но его «нет» было нерешительно и уклончиво. Он спросил как бы мимоходом, действительно ли Ипатия собирается отказаться от своей деятельности и заняться личной жизнью, став супругой благородного Синезия.
Ипатия была сегодня бледнее обыкновенного, но после такого вопроса покраснела и обняла своего верного марабу.
– Они не желают нас больше, старик, – сказала Ипатия, похлопав птицу по лысой голове. – Мы должны уступить место. Я – монахам, а ты – воронам и попугаям!
Марабу открыл от удовольствия свой клюв и втянул го лову в плечи.
– Клятвопреступление и обман! Честное человечество! Чернь труслива, князья – изменники! Только сны честны! Честно только то, чему я тебя учила: строгая мысль, мумии, математика, астрономия и сухое, окаменевшее сердце марабу!
Ипатия поднялась и сказала:
– Я благодарю вас, князь, за намерение посетить одну из моих лекций. Я принимаю это, как знак внимания, но не к себе, а к нашему общему делу!
Посредством нескольких любезных фраз Орест изыскал удобный предлог проститься и, сопровождаемый хозяйкой до лестницы, покинул ее жилище. Потом он стал думать, что же, собственно, является их общим делом? Старые боги? Ипатия не верила в них, а он не верил ни во что. Римское государство? Оно рушилось.
Орест хотел доставить добрым гражданам Александрии удовольствие посмотреть на его парадный выезд и приказал ехать вокруг гавани, а затем через Александровскую площадь. Накануне праздника разодетые горожане наполняли главные улицы. Повсюду мелькали экипажи и наездники. Все уже забыли, что недавно была уничтожена целая часть города и преступники до сих пор оставались ненаказанными. Монахов не было видно.
По непонятному тщеславию они выходили на улицы только ночью. Временами среди разодетых граждан мелькали лохматые головы отшельников. Это были немытые существа, и их власяницы резали глаз среди пестрой толпы. Самые строгие из новоприбывших анахоретов с немым восторгом смотрели на высокие постройки и пышные лавки, разжигавшие ненависть и зависть. Перед одной лавкой, где на деревянных подставках лежали книжные новости, стоял проповедующий анахорет. Он требовал, чтобы благочестивые граждане попросту подожгли лавку, предпочитая сжечь город, чем терпеть далее языческие мерзости перед лицом божьего солнца. Существует Библия – этого вполне достаточно! Огонь – лучшее лекарство для греховного человечества, для проклятого города, для книг и всемирно известной библиотеки, которая была просто изобретением дьявола.
Оресту пришлось выслушать часть этой проповеди, так как лошади двигались в толпе очень медленно. Толпа, выслушивающая гневные ругательства, расступилась перед его экипажем, со всех сторон на него глядели злобные лица. Но он хорошо знал своих александрийцев. С насмешливой улыбкой вытянул он шею и воскликнул довольно громко:
– У этого юноши слишком много огня. Не мешало бы погасить его!
В мгновение ока шутка разнеслась по сторонам, и среди приветствий, аплодисментов и смеха наместник мог продвигаться дальше.
Чем дальше перемещался Орест к западной половине города, тем невзрачнее становились дома и лавки и пестрее делалось население. Здесь смешивались гордые египтяне с живыми потомками македонян. Наместнику всегда почтительно уступали дорогу. Он выехал за ворота, намереваясь завершить трудовой день прогулкой по покинутому городу мертвых. Оба боковых курьера получили приказание быстро проехать по узкой и длинной улице Бальзамирования, чтобы предупредить возможные встречи. Потому что, если бы здесь с парадным выездом наместника повстречался караван верблюдов или хотя бы пара быков, кому-нибудь пришлось бы возвращаться обратно. А Орест знал по опыту, что в подобных случаях должен уступать более умный, то есть, очевидно, наместник императора. Его экипаж двигался медленной рысью, и Орест, как и всегда, с интересом ученого рассматривал маленькие хижины, которые и сейчас строились так же, как и во времена фараонов. Египтяне сочли бы оскорблением для богов жить в светлых, приспособленных для человеческого жилья домах. Египетские жрецы учили, что о домах мертвых надо заботиться больше, чем о жилищах живых.
Орест пробурчал что-то насчет проклятых попов и рассчитывал поскорее проехать мимо развалин Серапеума на свободу, когда внезапно новое происшествие преградило ему дорогу. Перед одной из самых больших хижин какой-то жирный монах устроил своеобразную распродажу. Орест догадался, что весь его товар происходил из разграбленного иудейского квартала. Внутренность хижины казалась переполненной, а часть добычи валялась на улице вокруг грубого стола. Это были статуэтки греческих и египетских богов, которые во множестве продавались торговым домом И. Когена позади Вифлеемской церкви и служили богатым в качестве украшений, а бедным – как объекты культа. Мраморные копии прекраснейших олимпийских статуй, грубые глиняные фигуры с собачьими или ястребиными головами, изящные женские фигурки из раскрашенного и раззолоченного гипса, различные треножники и прочие принадлежности языческого богослужения, мумии и, наконец, масса шуточных карикатурных фигурок, служивших подсвечниками, кубками или просто украшениями.
Благочестивый собственник этих сомнительных сокровищ явно хотел сбыть их как можно скорее, по какой угодно цене. Окружавший его народ брал нарасхват быкоголовых идолов; драгоценные греческие произведения не так легко находили себе покупателей.
Орест приказал остановиться. Улица была все равно запружена, и наместник хотел посмотреть, нельзя ли будет купить за бесценок прекрасного Гермеса, за которого накануне погрома Коген требовал баснословную цену.
Конечно, погром иудейского квартала был преступлением, но если за бесценок можно получить прекрасную статую…
Орест уже собрался спуститься на землю, чтобы осчастливить благочестивого продавца своим визитом, но неожиданно приказал немедленно ехать вперед. Из узкого переулка стремительно выскочили два отшельника и несколько монахов. Судя по одежде, последние не принадлежали к монастырю продавца статуэток. С быстротой молнии святые мужи очутились у прилавка и обрушили свой гнев на торговца. Один отшельник схватил его за капюшон и принялся награждать ударами, другой, вскочив на стол, начал длинную проповедь, а монахи занялись товарами, разбивая все, что было возможно.
Проповедник обрушился на язычество, на чувственные утехи и жадность монахов, а подвергавшийся экзекуции вопил и клялся броситься в ноги архиепископу. Что касается окружающих, то некоторые бросились бежать, не заплатив за свои покупки, другие стояли, хохотали, а большинство поспешило разойтись, не будучи уверенным, как им следует поступать.
Вскоре на улице стало немного спокойнее, и возница попробовал ехать дальше. Внезапно проповедник простер руки к небу и закричал так, что его, наверное, можно было бы услышать в соборе:
– И ты здесь, Каин, братоубийца, отбросок человечества, и ты, вероломный раб императора, влекущий народ мой в бездну ада своим беззаконным примером!
Возница стегнул по спине вороных. Лошади взвились на дыбы. Стоящие рядом отступили, и дорога освободилась, когда внезапно отшельник соскочил со стола, схватил одну лошадь под уздцы и, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары бича, продолжал осыпать наместника бранью и оскорбительными библейскими сравнениями. Он один шумел так, что со всех сторон начали сбегаться люди, и в одну минуту улица была и спереди и сзади запружена народом.
Тем временем в лавке начался настоящий погром. Беспрерывно что-то трещало и звенело, и из двери летели на мостовую греческие и египетские боги или выскакивали люди с божественными фигурами в руках.
Народ не был настроен злобно: только пять-шесть десятков, окружавших колесницу наместника, принадлежали к попам или фанатикам; они повторяли оскорбления отшельника или грозили кулаками. Более отдаленные, увеличивавшие опасность одним своим присутствием, были или добродушными, привыкшими к послушанию египтянами, или молчаливыми христианами этого квартала, не посещавшими церкви и подозревавшимися в ереси.
Положение наместника становилось все опаснее, он не мог противопоставить оскорблениям ничего, кроме спокойного достоинства, а это еще больше раззадоривало отшельника, бросившего поводья и теперь стоявшего вплотную к экипажу и продолжавшего осыпать наместника оскорблениями и угрозами.
Наконец, Орест решил нарушить свое молчание.
– Кто ты, осмеливающийся задерживать наместника императора?
– Кто я? Я – Аммоний со Святой горы! Двенадцать лет я не спал вволю и не ел досыта. Я приковал себя к шее гиены и три года жил в одной норе, борясь с ней по ночам за свою жизнь. Вот! Вот! Это раны, которые я получил в борьбе за Господа! Вот кто я! А кто ты? Ты – сын сатаны, враг церкви, языческая собака!
– Я такой же христианин, как и ты, – возразил Орест торжественно. – Тридцать лет тому назад епископ Аттил собственноручно окрестил меня в Константинополе!
Яростный вой и смех были ответом.
– Уж тридцать лет христианин! Старик! Он не христианин! Крещеный грек. Сын язычника и сам язычник! Он приносит жертвы идолам! Человеческие жертвы! Христианских детей!
Кулаки потянулись к наместнику. Аммоний немного отступил, опрокинул прилавок и, нагнувшись, поднял с земли отбитую руку нагой мраморной статуэтки. Это был Аполлон хорошей работы. Божество только что вылетело в дверь, и вытянутая рука отломилась. Аммоний схватил мраморный обломок, поднял его и с криком: «Антихрист!» запустил в голову наместника. К счастью для последнего, мраморный снаряд задел кожаный навес экипажа, и рука каменного божества упала вниз, разлетевшись на куски. Но все-таки Орест без сознания откинулся назад. Со лба его потекла кровь.
Толпа ужаснулась. Только Аммоний продолжал проклинать крещеного грека и искал нового оружия.
Вдруг справа раздался бешеный топот. Это были торопившиеся на помощь два солдата, сопровождавшие экипаж. Последнего было достаточно, чтобы ситуация немедленно улучшилась. Монахи скрылись. Язычники и еретики поспешили на помощь. С обнаженными мечами два солдата пробились к экипажу и очистили дорогу. С диким криком толпа вручила им все еще продолжавшего свои проклятия Аммония. Длинной веревкой его крепко привязали к дышлу
[240].
Так как повернуть лошадей было невозможно, возница медленно доехал до Серапеума, а оттуда, как можно скорее, во дворец. Орест не приходил в сознание.
Аммоний бежал с завязанными за спиной руками, продолжая выкрикивать свои проклятия, рядом с лошадью.
Они быстро ехали по улицам. Несмотря на это, за ними спешила громадная толпа.
Говорили, что наместник убит монахом.
Когда колесница остановилась перед дворцом, вокруг столпилось больше тысячи человек.
Орест пришел в себя. Он позволил осмотреть и перевязать свою рану и узнал, что чернь на площади пытает его убийцу. – «Если наместнику угодно предать его официальному суду, следует разогнать толпу силой», – сказал секретарь.
Орест не ответил.
До его комнаты едва доносился крик толпы, пение отшельника и время от времени ужасный крик. Еще раз вошел один из секретарей узнать его волю.
Наместник молчал. Внезапно все стихло.
Минутой позже с неподвижным лицом выслушал он сообщение, что Аммоний не вынес пытки. Что делать с трупом? Чернь собирается повесить его на фонаре напротив дворцовых ворот.
Орест не желал давать волю народному правосудию.
Вскоре появилась процессия из монахов во главе с архиепископом и всей его свитой и потребовала пропустить их во дворец. Кирилл собирался требовать выдачи Аммония под тем предлогом, что всякий духовный, а следовательно, и отшельник может быть судим только своими духовными властями.
Когда монахи увидели труп Аммония, они подняли дикий крик, но Кирилл успокоил их одним движением руки.
Спокойно потребовал он у поспешившего к нему навстречу секретаря пропуска к князю. Он хотел высказать наместнику императора свое сочувствие по поводу поступка отшельника, свое негодование по поводу его убийства и, наконец, настойчивую просьбу немедленно выдать его тело.
Секретарь побежал во дворец. Кирилл, медленно шагая во главе монахов, вступил во двор. Народ боязливо отступал перед ним, и скоро монахи и отшельники заполнили большую часть пространства! Труп лежал посреди двора.
Секретарь возвратился с ответом наместника.
Его светлость просит передать владыке свое возмущение преступлением и сожаление по поводу слишком поспешной и незаконной, хотя и вполне заслуженной, казни. Труп убийцы владыка может взять с собой. Его светлость тяжело ранен и не может принять визита. Кирилл поднял указательный палец, и монахи замолчали. Они медленно вышли на улицу, шестеро из них несли худое тело отшельника, пока в двухстах шагах не нашли пустой повозки, на которую и положили его, не зная, что прикажет Кирилл дальше. Монахи и отшельники окружили повозку. Человек сорок стояло наготове, чтобы продолжать путь. Толпа прибывала с каждой минутой. Многие из тех, которые только что избивали убийцу, стояли теперь среди монахов.
Кирилл находился недалеко от повозки, совещаясь с несколькими стариками. Потом он зашагал вперед, и в тот же момент за ним покатилась телега с трупом, хотя никто из монахов не успел хотя бы слегка толкнуть ее.
– Чудо! Чудо! – раздавалось из группы отшельников, и со всех сторон раздавалось ликующее: «Чудо! Чудо!».
Кирилл бросил радостный взгляд на небо и приказал узнать в чем дело. Сомнения не было. Как только архиепископ начинал двигаться к собору, повозка с трупом сама следовала за ним. Кирилл произвел тщательное расследование. Само собой, когда все монахи отступали, повозка не двигалась. Но едва сорок рук святых мужей слегка касались деревянных частей, она катилась за архиепископом так, как ему хотелось.
– Мученик! Чудотворец! – сказал громко Кирилл, сложил благоговейно руки и воскликнул:
– Возблагодарим Господа за его милость!
Архиепископ быстро направился к собору. При полном неистовстве толпы с той же быстротой следовал за ним труп, лишь иногда приостанавливаясь, когда одни монахи отталкивали других, чтобы самим удостоиться прикосновения к повозке. Так достигли собора. Широко распахнулись двери перед молящимся архиепископом, и маленькие носилки с трупом чудотворца перенеслись через порог – никто не знал толком каким образом.
Последовала дикая драка между всеми, желавшими попасть внутрь церкви. Не только монахи и отшельник хотели услышать, как архиепископ будет открыто объявлять о явлении нового чудотворца, но и простой народ неистово стремился внутрь. Церковная прислуга была бессильна. И только монахам удалось, посредством ударов и проклятий, очистить перед алтарем небольшое пространство для тела покойного. Особенно проститутки Матросского квартала добивались счастья поцеловать руку мертвеца или, по крайней мере, протиснуться настолько, чтобы видеть его тело.
Пока среди толчков и побоев, проклятий и ругани устанавливался относительный порядок, прислуга и церковные мальчики начали украшать носилки. Скоро черное покрывало закрыло грубые носилки, и, утопая в цветах, лежал Аммоний в своем отшельническом одеянии на катафалке. Не только женщины восхищались его видом. В не меньшем восторге были монахи.
Как прекрасно выглядит он, лежа таким образом! Какая честь стать мучеником!
За носилками возвышался алтарь с символическим изображением последнего суда. Справа и слева кто-то укрепил могучие пальмовые ветки, такие пышные, что образ, освещенный десятками факелов, был виден сквозь листья как какое-то дивное видение.
Архиепископ захотел лично держать речь к собравшимся. Он только что произнес про себя молитву и направился затем к кафедре, как вдруг одна пальмовая ветвь над его головой медленно опустилась вниз. Быстрым движением Кирилл подхватил ее и торжественно вложил в руки трупа. Потом он взошел на кафедру и начал:
– Чудо за чудом! Знак за знаком! Сам Господь ведет своих верных к победе над толпами противников! Сам судья мира вручил нашему дорогому усопшему ветвь мученика!
В таком тоне Кирилл говорил около часа. Раскаты его прекрасного голоса наполняли церковь, и не было человека, в котором он не зажег бы гнева против наместника и всех других врагов церкви. Господь совершил видимое чудо в награду за усердие в иудейском квартале. Может быть, последуют еще большие чудеса, если гнев праведников обратится против антихристовой ведьмы, против язычницы Ипатии, которая еще опаснее, чем иудейские христопродавцы.
Быстрее ветра от ворот к воротам, от корабля к кораблю разнеслась весть, что наместник замучил одного благочестивого старца, тело которого на глазах народа было перенесено ангелами в храм, где архиепископ благословил его, чтобы освятить народ и сделать плодородным этот год. Отовсюду стремился народ. Тысячи и десятки тысяч теснились перед собором. Здесь они узнавали, что святой Аммоний продолжает творить чудеса, исцеляя больных и воскрешая мертвых. Ангел принес ему с неба пальмовую ветвь мученика.
Двери божьего дома были широко открыты. Все громче и пронзительнее раздавался крик стоявших снаружи. Они тоже хотели удостоиться созерцания мученика, желая стать здоровыми и счастливыми!
Архиепископ закончил свою речь и отдавал необходимые распоряжения. Находившиеся внутри должны были немедленно, соблюдая порядок, выйти из церкви через алтарь, чтобы таким образом освободить место другим прихожанам. Два ряда монахов должны были уговаривать толпу уходить. Никого нельзя было оставить за дверями. Вся Александрия должна была в эту ночь стать участницей благодати, исходившей от святого Аммония. Святой Аммоний должен стать покровителем Александрии, которая еще так недавно поклонялась богам с бычачьими головами.
Час пробил. Небо ждет от своих добрых александрийцев доказательства их веры, и тогда последняя битва с язычеством наступит, будет выиграна и искуплена драгоценной кровью чудотворца Аммония.
Приказания архиепископа были исполнены. Людские толпы медленно и тяжело, но безостановочно покатились к выходу, и, ликуя и неистовствуя, теснились на их место новые. Первые, покинувшие церковь, надеялись еще раз войти в нее и побежали ко входу, чтобы вновь занять место на площади. Но здесь ждала уже половина города. Счастливцы, видевшие святого, могли только рассказывать и снова рассказывать. Новая прекрасная легенда родилась в эту ночь на Портовой площади Александрии.
Медленно проходил народ мимо катафалка. После речи архиепископа некоторое время стояла тишина. Слышны были только крики толпы, боровшейся в дверях храма. Архиепископ отдал новое приказание и скрылся в своей ложе.
Теперь через небольшие промежутки времени один за другим то тот, то другой священник или монах всходил на трибуну. Каждый, у кого был дар слова, должен был сегодня пустить его в ход. Церковнослужители, монахи и отшельники выставляли своих ораторов или фанатиков. Один говорил несколько минут, другой – час. Один смиренно призывал верующих к святой жизни и чистоте помыслов, другой рассказывал о видениях пустыни, об искушениях сатаны и исполинской силе воинов Господа. Третий выкрикивал призыв к борьбе с последними язычниками, с безбожными чиновниками и развратным, атеистическим константинопольским двором.
Потом – уже поздно ночью – появились внезапно маленькие певчие в белых вышитых облачениях и стали махать своими серебряными кадильницами вокруг святого Аммония. Все тяжелее становился воздух в церкви, все тусклее мерцали факелы. Все реже появлялись кроткие проповедники, все необузданнее делался бред отшельников и призывы монахов.
Кирилл со спокойным достоинством сидел на своем возвышении и лишь изредка нервно барабанил пальцами по перилам. Несколько молодых священников толпились около него. Время от времени посылал он кого-нибудь удалить с трибуны плохого оратора и поощрить хорошего. И снова посылал он послов в свой дворец. Неужели все еще нет известий от Исидора? Самое позднее, он хотел прийти в вербное воскресенье. Если он явится со своими неистовыми спутниками сегодня ночью или, по крайней мере, завтра утром, то берегись наместник императора, и да поможет Бог крестнице отступника.
Ночь прошла. Никто не утомился. Все еще выступали новые проповедники, все еще катились человеческие волны и была переполнена площадь перед церковью. В окна забрезжил слабый утренний свет. Кирилл встал. Поклонение трупу шло слишком медленно… Внезапно, одним ударом должен завоевать город его Аммоний.
Он сказал несколько слов своим адъютантам и снова сел. Выступил новый оратор – Гиеракс. Сперва казалось, что его ученое красноречие слишком слабо по сравнению с последними отшельниками, кидавшими в толпу слова, как зажженные факелы. Гиеракс попытался спокойно описать события этой ночи. Но внезапно он уставился на труп и закричал, что святой старец Аммоний шевельнул сейчас рукой в знак того, что он сотворил новое чудо, что он хочет посредством собственной силы переместиться в другое место.
Это сообщение подействовало, как удар грома. В минуту катафалк был окружен монахами, и сотни голосов закричали: «Дорогу, дорогу мертвецу! Дорогу святому! Чудо! Дорогу чуду!» Как будто ураган пронесся по церкви, – мужчины и женщины кричали, слабые падали под ноги, но все-таки проход образовался. Открытый катафалк пронесли между двумя человеческими стенами. Казалось невозможным протиснуть его в дверь, но и это удалось. А потом на плечах монахов наружу, вниз по лестнице, и дальше в обезумевшую толпу. Потом святой сам указывал свой путь. Гиеракс шел впереди. Кирилл больше не показывался. Черная масса монахов обступила катафалк. Сотни рук прикасались к нему, и катафалк катился сам по себе, а толпа очищала ему дорогу. Это тоже было чудом!
Чудо пронеслось через вал и дальше мимо дворца наместника. Несмотря на дикие крики, Аммоний не захотел остановиться здесь.
Позади Александровской площади процессия остановилась. Толпа лихорадочно следила за волей святого. Не намерен ли он совершить триумфальное шествие по разгромленному иудейскому кварталу? Не собирается ли он двигаться много дней, чтобы быть погребенным в священной земле древней Синайской горы?
Внезапно Гиеракс ринулся вперед, точно повинуясь приказанию святого. Он пошел дальше, и катафалк тронулся за ним. При свете дня под яркими лучами солнца толпа перемещалась с холма на холм. Сомнения больше не было. Крича от радости, несли монахи повозку между платанами, и сотни тысяч голосов кричали, благодаря Бога, и все были счастливы. Каждый понимал, чего хотел святой. На вершине холма стояла часовня; ее крышу поддерживали прекраснейшие колонны из розового мрамора. Крыша была золотая, и золотистые обручи охватывали колонны внизу, у их основания, и наверху, под стройными капителями. Прекрасна была и бронзовая дверь, а сама часовня сверкала драгоценными камнями. В середине ее стоял одинокий золотой саркофаг, и в нем покоился основатель города – Александр Великий. Язычник, грек, македонец, которого достаточно долго почитали, как какого-то идола, и чей прах не должен дольше осквернять окрестностей христианской церкви и внутренности часовни, давно нуждавшейся в более святом назначении.
Милый святой Аммоний! Как хорошо он придумал! Какое счастье для города, что золотая гробница будет хранить останки мученика!
Бледный от волнения и нерешительности, стоял Гиеракс перед реликвией города Великого Александра. Сам он происходил из старой македонской фамилии. Однако отступать было поздно.
Но святое дело не нуждалось в орудиях. Бронзовая дверь слетела с петель, золотая крышка гробницы свалилась, а то, что было под ней, исчезло. Действительно, исчезло! Шитая золотом пурпурная мантия – вернее, то, что осталось от нее через семьсот лет, оружие, императорское кольцо с громадным синим камнем, удивительный венец – все исчезло, даже урна с пеплом Александра Великого исчезла. Все превратилось в прах.
И тогда святой Аммоний расположился в гробнице Александра Великого, и сотни тысяч богомольцев приветствовали благочестивым пением начало нового дня.
Глава XI
КАТАКОМБЫ
Ясное утро вербного воскресенья застало наместника Египта и архиепископа за работой. Оба получили известие, что к городу приближается новая толпа отшельников. На этот раз их было сразу несколько сотен. Кирилл знал, что возглавляет их Исидор.
Наместник, рана которого почти перестала его беспокоить, удовольствовался тем, что писал и диктовал письма: письма императору и императрице, военному министру и управляющему дворцами. Содержание было везде одинаковое, менялся только тон. Сеющая ненависть тактика архиепископа дала свои результаты: сам наместник императора подвергся нападению, избежав смерти только чудом. Это было явным оскорблением его величества. На этот раз Кирилл открыто высказал свои симпатии, осмелившись не только выставить напоказ тело убийцы и оскорбителя его величества, но даже причислить его к лику святых. Надо принять во внимание, что Аммоний умер не по приговору суда, а был убит народом, это является явным доказательством того, что имя императора высоко почитается в Александрии. Решительные меры по отношению к зарвавшемуся церковному предводителю не вызовут никаких осложнений. В этом же духе Орест написал еще несколько частных писем и приказал в тот же день отправить их в Константинополь.
Тем временем Кирилл тоже работал. Он послал Гиеракса навстречу отшельникам, шедшим под предводительством Исидора, и немедленно вслед за тем имел конфиденциальную беседу с начальником полка нижнего Египта. Полковник стоял перед архиепископом, как перед начальством. Кирилл сказал ему:
– Через час вы получите приказание выступить со своим полком из Пустынных ворот и двигаться до начала равнины, где и преградить дорогу святым, идущим с гор. Именем церкви приказываю вам выполнить этот приказ следующим образом: выходите через Солнечные ворота, расположитесь на отдых в двух милях от озера и после захода солнца возвращайтесь в казармы.
Полковник поклонился и вышел, а Кирилл улыбнулся, вспомнив про знаки римского государства, нашитые на мундире офицера.
Часом позже наместнику принесли на подпись срочный приказ – нужно было выставить против отшельников, о численности и наличии оружия которого не было известно, целый полк. Наместник колебался, полагая, что отряд его личной охраны был бы надежнее. Полковник намеченного полка был больше христианином, чем солдатом. Градоначальник противопоставил свои возражения. Для скопищ бродячей сволочи слишком много чести иметь дело с гвардией. Но и в Константинополе произведет большее впечатление известие, что христианские изуверы были обузданы христианскими офицерами. Орест подписал приказ.
В подземельях таинственного дома совершалась небольшая заутреня. Присутствовало около трехсот мужчин и мальчиков. Торжество закончилось грустной, почти что траурной речью Библия. Мученик был сегодня кроток, как никогда. Вскоре после восхода солнца многие бедные ремесленники и рабочие знакомыми тропами вернулись в свои жилища. Остальные собрались в большой пещере, чтобы часа два провести с Библием в беседе, а затем начать святую неделю скромной трапезой.
Вольф присутствовал при богослужении. Когда же собравшиеся начали расходиться, и Библий ждал возможности начать беседу, он простился со старым знаменосцем. Вольфа беспокоило положение в городе и ему не терпелось узнать последние новости.
– Вольф хочет уйти. Он считает себя слишком умным для наших разговоров. Его опять тянет к этой язычнице, Ипатии! – сказал старый знаменосец Библию.
Последний строго сказал:
– Если он не чувствует себя больше ребенком, наше учение не для него.
Вольф молчал. Он не хотел оскорблять старого мученика. Но все-таки тихо произнес:
– Мы ведь не рабы попов, чтобы заучивать наизусть символ веры.
Библий отвечал:
– Наша община не является собранием философствующих немцев. Община желает общих наставлений. Ты хочешь уйти от нас?
– Дайте мне время!
– Иди же, – сказал Библий сурово, – мы тебя не держим. Продолжай верить, что ты христианин, ибо это так, пока ты в это веришь. А в день, когда гордость знания обманет тебя или ты устанешь бороться с миром из-за мира, тог да ты знаешь, где нас найти. Меня ты тогда едва ли найдешь – вероятно, лишь остатки нашего братства. Мы будем искать убежища среди садовников отшельнических гор, безымянные среди безымянных. Там найдешь ты нас, когда только желание не будет томить тебя больше, когда ты станешь искать покоя. А до тех пор прощай, верь в Христа и веди себя хорошо!
Тут вмешался отец Вольфа.
– Вольф вовсе не для того здесь, чтобы быть хорошим. Он должен быть смелым и сражаться рядом с нами, когда придет время.
– Будь уверен, что Ипатия не сделает меня трусом.
– Так, значит, мы увидимся в Валгалле. Прости, Библий, я хотел сказать – в раю.
Библий усмехнулся.
– Я не знал этого слова, но догадался, что это рай. Не будем спорить из-за слова. Из-за слов целое столетие льется кровь.
– Начинайте же беседу, ваше преосвященство, – ответил с улыбкой Вольф, почтительно кланяясь.
– Не смейся! Каждому ребенку приходится выучить несколько слов. По крайней мере, как звать отца.
– Отец! – воскликнул Вольф, обхватывая обеими руками обрубок руки старого епископа.
Потом он поднялся по ступеням и вышел в город.
Долго не мог Библий приступить к обычной беседе. Качая головой, ходил он взад и вперед перед собравшимися и думал о Вольфе. Да, если бы все христиане или даже если бы все люди были похожи на Вольфа, – такие же смелые, откровенные, здоровые и молодые, – тогда тысячелетнее царство скоро настало бы. Тогда никто не стал бы думать о смерти и о жизни после смерти. Тогда не приходилось бы бороться с нуждой и голодом, с пороками больших и недостатками маленьких. Тогда на земле не стало бы неясных стремлений, не стало бы религии. И снова покачал он головой. Это было бы хорошо? Разве тоска и вера не лучше смелости, юности и здоровья? Или старый Библий стал вдруг эллином, так как с ним поговорил друг Ипатии? Вот здесь перед ним стоят и сидят бедные, жалкие люди и их болезненные, невежественные дети. Этим не смогут помочь греческие боги, им нужна весть о Спасителе.
Библий усмехнулся особенно кротко и начал беседу. Сегодня он остановился на некоторых строках нагорной проповеди. Он стеснялся говорить о существе божием, стеснялся Вольфа, хотя его уже не было. И прежде чем истекли положенные два часа, он закончил свое наставление сердечным призывом с миром приступить к трапезе и никогда не ставить букву закона выше любви.
Трапеза началась. Некоторые члены общины принесли столько запасов, что каждый мог получить свою долю пасхального агнца, медовый хлеб и кубок вина. Для одних из присутствующих это был благочестивый обычай, для других – сошествие Бога к бедным и несчастным. Но для большинства это было редким праздником, и после первых глотков меда собравшиеся оживились. Мужчины болтали и спорили, а мальчики запели старую египетскую песню, которую в течение многих столетий распевали дети на улицах Александрии весной, когда аисты справляли свои свадьбы в дельте Нила, а потом отправлялись на север к мужчинам из льда и женщинам из снега, у которых не бывало детей, так что египетские аисты должны были приносить им живых ребят. Внезапно все смолкло. Со стороны железной двери раз дался сигнал. Один из часовых ударил мечом в пустой шар. Настала мертвая тишина. Нападение! Убийцы! Церковь! Железная дверь вела в дом. Библий знал, что в узком проходе сторожа смогут, жертвуя собой, выиграть несколько минут. Спокойно и печально отдал он приказания. Факелы были потушены. В темноте старый солдат должен был пробраться к скрытому выходу на кладбище, чтобы посмотреть, не загражден ли и он. И медленно, с самыми молодыми впереди, собравшиеся должны были перейти в погребальную пещеру, чтобы оттуда постараться выбраться на волю. Снова встретиться можно было среди садовников. Так было решено уже давно.
Сквозь железную дверь долетал приглушенный крик и звон мечей. В пещере все молились – вслух и шепотом. Внезапно послышались быстрые шаги и тяжелое дыхание старого солдата:
– Выход свободен! Не видно ни собак, ни монахов. Отец, позволь мне распоряжаться теперь. Я солдат. В таком порядке, как все стоят, пусть идут к выходу, не обгоняя друг друга! Мы даем вам час времени, в течение которого я и десять моих товарищей будем защищать проход.
Старик назвал поименно десять человек, у которых, он знал, есть при себе кое-какое оружие. Каждый ответил на вызов и пробрался в темноте туда, откуда звучал голос старика.
– А Библий? – спросил мученик, когда старый солдат перестал называть имена. – Надеюсь, что вы меня не прогоните? Арсений будет следить за порядком среди уходящих. Спешите к выходу. В погребальной пещере можете зажечь огонь. Не обгоняйте друг друга в коридорах. Мы клянемся предоставить час в ваше распоряжение. Раньше этого им не справиться с нами – двенадцатью. Прощайте! Увидимся у садовников!
С рыданиями и прощаниями толпа беглецов направилась к потайному входу позади возвышения для ораторов. Последние еще не скрылись, как внезапно железная дверь слетела с петель и упала. Один из сторожей вбежал в пещеру, закричав громко и прерывисто:
– Остальные убиты! Это отшельники! Я не смог сдерживать натиск!
Следом за ним ворвались нападавшие. Однако в абсолютно темной пещере самые неистовые среди них не могли ничего поделать. Они требовали света, огня. Выкрикивались кровавые угрозы.
Прежде чем внесли свет и проход очистился, двенадцать защитников могли укрепиться на своих местах. Библий стоял впереди всех.
Когда отшельники отыскали факел, они неистово бросились вперед. Последний сторож был также убит, и теперь разыскивали еретиков. Поднялся бешеный крик, когда отшельники признали, что пещера опустела. Они рыскали повсюду. Прошло много времени, пока они заметили выход. Но здесь, на хорошо выбранных местах, там, где проход начинал сужаться, их ожидали противники.
Старый знаменосец надеялся, что робкие монахи не решатся напасть на их позиции, однако он плохо знал отшельников.
При свете другого факела они узнали епископа Библия и закричали от радости. Бесстрашно кинулись они на еретиков. Первый натиск был отражен, но в нем погиб пронзенный ножом Библий.
Отшельники отпрянули так же неистово, как нападали, а новые бросились на приступ. Среди защищавших не скоро появились мертвые, но раненых было достаточно.
Отшельники продолжали свое дело со свежими силами. Защитники скоро измучились и могли отдыхать только тогда, когда им удавалось выбить факел из рук державшего его монаха. Тогда наступал перерыв, пока не появлялся новый факел. А в темноте старый солдат то выводил несколько вперед свой небольшой отряд, то снова отодвигался назад, чтобы не дать прибывшим приноровиться к расстоянию. Так боролись они около получаса. Половина еретиков обессилела от потери крови. Среди отшельников было больше сотни раненых. В конце концов осажденные отступили, а отшельники, после короткого совещания, предприняли новый натиск. Рев и проклятия, звон мечей и предсмертные крики! Ужасная рукопашная, в которой никто не знал, кого он поражал и кто бил или кусал его самого. Все дальше назад. Шаг за шагом отстаивал старый знаменосец проход. Поначалу он чувствовал, что рядом с ним борются друзья тесной сплоченной стеной. Но с каждой минутой эта уверенность покидала его. Удары уже начали падать слева; спереди и справа кто-то защищал его. Потом ужасный крик – и прямо перед ним кто-то прорычал имя божие так, как только отшельник мог прорычать его. Он отступил еще. И внезапно очутился в светлом пространстве погребальной пещеры. Рядом с ним отступали еще двое из его товарищей. А по пятам шли сто кровожадных отшельников. Последние беглецы исчезли на ступенях узкого прохода.
– Задержите их на одно мгновение! – крикнул знаменосец своим товарищам.
Последние обернулись и исполнили его просьбу. Старик достиг расщелины, вскочил в нее и подставил меч и щит преследователям, перескакивавшим через трупы двух последних защитников. Он засмеялся, осыпая их насмешками.
– Пожалуйте, милости прошу. По одному человеку, ну, а с одним-то я справлюсь. Ну-ка! Да! Вам еще придется вытаскивать своих мертвецов за пятки, чтобы очищать место следующим! Иначе вы закупорите проход своими грязными трупами!
Старый солдат задыхался. Из его многочисленных, хотя и легких ран непрерывно сочилась кровь, и он не долго продержался бы, если бы, действительно, после каждого удара не наступал перерыв. Потому что каждый новый противник, падая под его ударами, заграждал проход. Это могло продолжаться довольно долго.
Когда на него кинулся длинный тощий отшельник с киркой в руке, старик зацепил кирку своим щитом и ударил парня в плечо. Но в эту же минуту из-за спины нападавшего вылетел нож, вонзившийся в левое колено старого знаменосца. Последний упал, но пока вытаскивали его новую жертву, он вытащил нож из раны, опустился на правое колено и стал ожидать новых нападений.
– Вы правы, собаки! – закричал он. – Так нас учили делать! Таким образом еще вернее можно проучить вас! Спасибо, я не забуду урока! Пожалуйте, следующий, по очереди!
Опустившись на правое колено, прикрывая таким образом все тело, старый солдат продолжал отражать нападение за нападением. Его не поражали ни ужасные дубины, ни кривые ножи, ни железные стержни. Но колено болело, а из раны вытекло слишком много крови.
Спокойно продолжал он защищать скалистую дверь. Его поза не переменилась, удары сыпались с прежней силой. На какое-то мгновение его охватила слабость. К счастью, это было во время очередной передышки, и следующий нападавший получил полагающийся ему удар меча. Не смертельный, правда, но все-таки достаточно основательный для начала.
Сражение продолжалось дальше. После второго приступа слабости старик призадумался. Он обещал час. Ну, если принять во внимание битву в проходе и количество крови, потерянной им, несмотря на отсутствие значительных ран, наверное,
прошло добрых два часа. И вновь поднял он меч, но тут в третий раз охватила его сильная слабость, и он упал вперед на свой щит. Несколько ударов в спину, и, прыгая со ступени на ступень, пронеслись над ним нападавшие. Вверх, к выходу. И дальше к пустынному кладбищу. Нигде не было видно ни одного еретика.
Поздно ночью несколько назареев пробрались вниз в пещеру, чтобы похоронить своих храбрецов. Старый знаменосец лежал не на ступенях. Очевидно, он еще раз почувствовал прилив сил и, оставляя за собой широкий кровавый след, дополз до середины пещеры. Здесь они и нашли его. При свете факелов назареи обыскали пещеру и собрали трупы своих товарищей вокруг старика. Седую голову Библия они положили на грудь старого солдата. Вдруг глаза его открылись. Он долго смотрел перед собой.
– Я не убит. Но у меня нет больше крови. Я отдал всю, до последней капли. Похороните… Я не хочу… шакалы… около Библия… Последнюю каплю… Вольф… скажите ему…
Улыбка осветила его черты.
– Сколько?
Его не сразу поняли.
– Ах, да! Ровно тридцать отшельников валялись на полу катакомб!
– Скажите Ули – тридцать на двенадцать… Нет, с нами был Библий. Не считается… Скажите Ули… он должен быть храбрым… около Библия…
Когда назареи убедились, что старик действительно умер, они похоронили убитых. Старейший из них, рулевой из гавани, прочитал молитву и добавил потом:
– Прощайте, блаженные братья! Мы уходим к садовникам и постараемся жить и умереть во Христе. Мы оставляем мир кровавым врагам. Но когда новое солнце засияет над единым христианством, тогда мир будет принадлежать садовникам, и над вашими могилками с любовью будут вспоминать вас.
Глава XII
ИПАТИЯ
В то время как под землей люди боролись и избивали друг друга, Ипатия начинала свою последнюю зимнюю лекцию. В вербное воскресенье, которое ознаменовалось еще более кровавыми событиями, церковная травля сделала свое дело, и беспокойства в городе привели к тому, что слушателей оказалось значительно меньше. Не больше четырех сотен студентов наполнило сегодня большой зал, и среди них было много таких, которые явились сюда впервые, только для того, чтобы получить зачет астрономического курса. Такой конец семестра слегка огорчил Ипатию: курс начался так успешно! Но она привыкла обращаться главным образом к первой скамейке, а здесь не было заметно никакой перемены. Синезий и Александр записывали так же усердно, как и в первые дни; Троил выражал свое одобрение сочувственными улыбками или кивками головы, а Вольф, да, Вольф, пожирал ее своими синими глазами варвара. Она знала, что во многом поддалась влиянию его честной веры, и что многое, полученное раньше от него, возвращалось теперь обратно. Все-таки было удовлетворением обращаться лично к нему, хотя бы и на расстоянии нескольких шагов. Два часа еще не прошли, когда Ипатия окончила свою лекцию. Медленно сложила она рукописи и откинулась в своем кресле. Легкий одобрительный шепот сейчас же затих, как только слушатели поняли, что она хочет добавить еще несколько слов. Из-под полуопущенных век кинула она взгляд на Вольфа, неподвижно сидевшего, запустив пальцы в свою огненно-красную гриву. После долгой паузы Ипатия сказала:
– С моей стороны было бы нечестно не признать в конце лекции, что в течение моей работы у меня появилась новая точка зрения. Когда я решалась начать с вами мои беседы, я не намеревалась защищать старые предрассудки или противопоставлять старую философию новой вере. Мне нечего прибавить к моей критике, я не могу взять обратно ни одного обвинения против христианских неоплатоников. Однако нечто я хотела бы сказать вам, господа; быть может, мы не так скоро увидимся снова. В воздухе, действительно, носится что-то, похожее на призрак новой религии. Все чистые средства чувствуют это. Скорее даже не новая религия зовет нас, а религия впервые входит в мир. Мы смутно чувствуем, что в жизни есть что-то ценное, нечто, имеющее постоянную, устойчивую ценность. Мы все стремились бы умереть, если бы в мире не было ничего ценного. Надо признать, что наша старая вера в богов не была такой религией. Для черни старая вера была бессмысленным идолопоклонством, полным лжи и глупости. Для просвещенных духов от Платона до императора Юлиана старая вера была странствованием среди прекрасных проявлений природы. Старые боги были для нас безупречно-прекрасными человеческими образами, прекрасными, молодыми, здоровыми людскими телами. Но и эта новая религия, которая несколько веков тому назад появилась в наших краях, еще не религия. У бессмертной черни она сделалась, в свою очередь, ложью и ханжеством. Совершенно безразлично, ожидают ли слепые старухи исцеления от того, что они съедят печень дальнозоркого орла или прикоснутся к телу какого-нибудь убитого христианина. Но и для образованных последователей новой веры она не является религией. Новая вера – это только неясное стремление вверх от эгоизма к любви, и в то же время стремление вниз – в бездонные глубины природы. Это стремление из жизни, казавшейся единственно реальной нашим отцам, назад в смерть, которая не страшна, так как скрывает новую загадку жизни. Мы достаточно долго созерцали самодовольно прекрасный лик природы, мы стремимся теперь проникнуть в сердце человека. Старая вера не знала этих томлений вообще, новая сумела подарить нам только их сладкую боль. Старая вера сушила сердце человека – новая искажает его лицо. Старая вера была оазисом среди безграничной пустыни – новая создает нам мираж. Ласковое озеро со свежей водой, а вокруг него качающиеся пальмы и гостеприимные палатки. Мы знаем, что это только мираж, и что верующие, которые с восторженными криками погонятся за обманчивым образом, с отчаянием узнают, что их завлекал обман. Но, быть может, это озеро со своими пальмами и палатками все-таки больше, чем иллюзия? Быть может, это отражение, нереальное само по себе, но отражающее действительное озеро и настоящие пальмы? Пойдем дальше! Мы – вы и я – мы не вступим в счастливую страну, ибо религия будущего приходит медленно: чернь стоит у нее на дороге. И бессмертная чернь обладает бессмертной ненавистью. Но мы не будем ненавидеть, особенно во имя веры. И если бы среди нас был кто-нибудь, у кого новая вера похитила самое дорогое – отца или радость творчества, то все-таки он не должен думать о мести. Это – единственная прекрасная мысль в простом учении сына назарейского плотника. И новая вера, которая так победоносно овладевает ныне древними твердынями греков, станет некогда такой же бедной, как бедны теперь боги Олимпа. Настанет время, когда христианство сделается старой религией, для свержения и уничтожения которой поднимутся люди из глубин народа. Настанет время, когда христианство, как теперь старые боги, будет искать царственного защитника, который спас бы его от гибели. Настанет время, когда христианские попы будут думать, что вместе с ним погибнет человечество, и животное начало восторжествует в новых идеалах, как сегодня думают так жрецы наших богов. Зная это, склоним голову и скажем: простим нашим врагам – не потому, что мы знаем больше, чем они, не из высокомерия, – нет, но потому, что начало и конец всякой мудрости есть сознание незначительности нашего знания!
Ипатия умолкла и медленно поднялась. На этот раз не раздалось ни одного одобрительного восклицания. Наиболее верные ее приверженцы были поклонниками старых богов и не могли благодарить ее за эту последнюю речь. Нельзя было особенно винить ее за то, что в такое опасное время она делается уступчивее, но все-таки это было не особенно хорошо с ее стороны. Кучка студентов протиснулась к кафедре, чтобы получить свои зачеты. Ипатия безучастно исполнила свою обязанность и потом, против обыкновения, стала ждать, пока все студенты один за другим не покинут аудитории. Когда в зале остались только ее четыре друга, она медленно спустилась по двум ступенькам, протянула каждому руку и сказала несколько слов благодарности за мужественную поддержку. И еще попросила об одной последней услуге. Она хочет сходить сейчас к больному наместнику и просит проводить ее до дворца, так как сегодня действительно есть опасность подвергнуться оскорблению со стороны какого-нибудь неистового монаха.
Маленькая группа быстро направилась ко дворцу наместника. На Портовой площади царила воскресная тишина, и даже около собора никого не было. Казалось, что город сегодня настроен спокойнее, чем в последнее время. Быть может, настроение народа изменило покушение на наместника. Комедию со святым Аммонием теперь уже многие не принимали всерьез.
Ипатия со своими друзьями прошла по широкой церковной лестнице. До дворца наместника осталось не больше тысячи шагов.
Был прекрасный весенний день, и солнце, сверкая, отражалось в зеркальной глади моря и обливало своими лучами кружевные дома и могучий маяк. Ипатия жадно вдохнула воздух.
– А меня еще предостерегают против опасностей улицы! По-моему, больше опасности в собственном кабинете!
Синезий сделал поучительное замечание относительно правильного сочетания физической и духовной работы и высказал надежду дожить, благодаря строгому режиму, исключавшему излишества как в охоте, так и в учении до глубокой старости. Но когда он собрался объяснить, почему он стремится к долголетию, Ипатия оборвала его почти сердито и сказала:
– Назовите один день тысячелетием, и тогда окажется, что всякая однодневка живет тысячу лет.
Синезий замолчал, а Троил попробовал, шутя, объяснить понятия времени и пространства обманами зрения и слуха.
Беседуя, дошли они до дворца. Состояние здоровья наместника значительно улучшилось, из уважения к Ипатии четырех друзей пропустили с ней.
Орест полулежал с забинтованной головой в самом мягком кресле своего кабинета и радостно протянул руку своей прекрасной подруге.
– Как мило с вашей стороны, Ипатия, что вы пришли навестить меня. И со своей лейб-гвардией! Вы правы! Нет, нет, друзья мои, я всегда рад вас видеть, но вы понимаете, что когда здесь Ипатия, я не могу принять вас, как следует.
Он попросил своих гостей усаживаться, а Ипатия должна была разместиться рядом с его ложем.
Он желал дать своему прелестному другу хороший совет, а если совета окажется недостаточно, то и приказание. Сегодня он еще может поручиться за покой в городе, так как он военной силой закрыл пути, ведущие из монастырей. Таким образом сейчас можно не опасаться дальнейшего нашествия отшельников, а монахи стали несколько менее фанатичны, испугавшись последствий его раны.
– Воспользуйтесь, милая Ипатия, этими днями и уезжайте сегодня, куда хотите, вглубь страны. Как старый друг, я могу быть нескромным и коснуться вашей тайны. Вам не найти лучшего убежища, чем родина вашего друга Синезия, который будет счастлив сегодня же приготовить для вас хорошее судно и отвезти вас в Кирены. Это, действительно, будет самым лучшим для всех нас. Вы скроетесь с глаз здешних молодцов и сможете спокойно продолжать там служить старым богам. Кирен почти не коснулось христианство. Тамошние жители – настоящие язычники, поклоняющиеся набальзамированным животным; при этом они еще не научились убивать других людей только потому, что молятся другим мумиям. Я бы окончательно успокоился, если бы сегодня вечером вы уже были в открытом море.
Ипатия молчала, и только Синезий поблагодарил наместника за отеческий совет и хорошее мнение. Он сказал, что всегда будет считать задачей своей жизни сделать свою страну достойной столь высокой похвалы, чтобы потомство, говоря об Ипатии, с благодарностью думало о Киренах. Появились новые гости, важные чиновники и крупные коммерсанты, с каждым из них Орест должен был поговорить. Ипатия стала прощаться, и Орест засмеялся, когда четыре друга тоже поднялись разом, как по команде.
– Правильно, правильно, мои молодые друзья! Но я надеюсь, что это ваш последний визит. Итак, счастливого пути, милая Ипатия, но не прощайте. Я навещу вас этим летом, а когда все успокоится, вы проведете зиму в городе.
Ипатия удалилась и слышала еще, как наместник сказал оставшимся гостям:
– Да, наша божественная Ипатия не сможет, к сожалению, оставаться в городе. Мое огорчение велико, но я надеюсь…
Молча шла Ипатия, знаком попросив Синезия и других оставить ее одну, Быстро дошла она до набережной и остановилась возле одного из столбов, к которым могучими канатами привязывались стоящие на якоре корабли. Здесь была правительственная гавань, и строго соблюдался воскресный отдых. Нигде не было видно ни души. На палубах тоже все было неподвижно, и только поднимавшаяся то тут, то там узкая полоса дыма выдавала присутствие людей. Вольф, Александр и Троил, испытывая противоречивые чувства, смотрели на прекрасную женщину, старавшуюся скрыть свои слезы. Что-то волновало их. Синезий, права которого были признаны теперь открыто, подошел к ней, осторожно коснулся ее руки и сказал тихо и вкрадчиво:
– Милая Ипатия, посмотри на эти облака дыма. Еще возвращающемуся Одиссею кухонный дым казался добрым знаком. По дыму нашел он дорогу домой. Совсем нетрудно пробыть на таком корабле два или три дня. Я приготовлю все, и мы отправимся сегодня же!
Ипатия не отвечала. Она выпрямилась, и все еще, стоя спиной к молодым людям, смотрела, но не на запад, в сторону Кирен, а на восток, спокойная, строгая и холодная, как статуя.
– Позволь нам проводить тебя до дому, милая Ипатия, и оставайся там, пока я не смогу тебя увезти. Сейчас я оставлю тебя. Я иду к архиепископу. Я скажу ему, что ты решилась стать моей женой и покинуть город Александра. Ты увидишь, что это ему понравится. Я не думаю, чтобы он был злым человеком. Он будет милостив и ко мне, и к тебе, а так как он влиятельный человек, влиятельнее твоего друга наместника, было бы глупо сердить его. Могу я пойти к нему?
– Делай, что хочешь, – сказала Ипатия и почти сурово взглянула на Синезия.
– И ты позволишь проводить тебя и будешь ждать меня у себя?
– Я иду к себе.
Синезий обратился к своим друзьям с просьбой охранять его жену. Они отвечают за все. Нельзя откладывать посещения архиепископа, так как его влияние может ускорить отъезд.
– Прощайте! Защищайте Ипатию! Да хранит ее каждая капля вашей крови!
И Синезий направился по Церковной улице во дворец архиепископа. Ипатия спокойно смотрела ему вслед. Когда он скрылся из виду, она вздрогнула и громко сказала:
– Никогда! Я не уеду и не покину Александрии. Здесь я стою и здесь я останусь, и никогда не буду его женой.
Казалось, что она сказала это одному Вольфу. Он кинулся вперед и схватил ее за руки, не смея произнести ни слова.
– Пойдем, – сказала Ипатия. – Веди меня домой! Не знаю, но, кажется, пришло мое счастье. Теперь я не хотела бы умирать.
– Теперь! – прошептал Вольф, зашагав рядом с ней к Портовой площади.
Троил и Александр подождали немного. Затем они отправились следом за ними, и Троил сказал:
– У нас удивительно благодарные роли, не правда ли? Один идет выпрашивать милости архиепископа, а другой уводит его невесту. И за это мы отвечаем каждой каплей крови!
– Разве ты серьезно думаешь об опасности, Троил?
– Конечно, – сказал Троил, улыбаясь, – нас всех перебьют. Знаешь ли, Александрик, я думаю – не пойти ли мне сейчас домой и не устроить ли знатную попойку, послав вас ко всем чертям, или из чистого эпикуреизма остаться с вами, чтобы быть укокошенным Кириллом. В конце концов это будет что-то вроде самоубийства. Но жертвовать за Ипатию последней каплей крови, как это только что в столь изысканных выражениях предложил нам сделать Синезий, это, пожалуй, совсем новое наслаждение. И, право же, интересно, как я при этом буду себя чувствовать?
– Не говори так!
– Ах, ты, еврейчик! Я думаю, ты боишься?
Александр остановился и сказал своим обычным насмешливым тоном:
– Боюсь? Боюсь? Что это такое? Если дело дойдет до драки, то ты будешь присутствовать при этом из любопытства, чтобы пережить кое-что новое. Вольф будет драться, потому что для него драка так же естественна, как для быка сила или для льва мужество. Страх! Мне стало не по себе от твоих слов, и по мне лучше бы я никогда не встречал ни вас, ни Ипатии. Я бы никогда не знал тогда, какие уроды мои тетки, и стал бы со временем великим человеком. Страх? Я так же неспособен покинуть Ипатию в опасности, как ходить на голове. Бесстрашной может быть любая собака. Человек должен быть благороден. И я полагаю, что мы благородны.
– Мне хочется сказать тебе кое-что, милый Александрик. Ты говоришь не особенно логично. Но по храбрости равен нам всем. Твой знаменитый патрон Александр Великий был бы тобой доволен.
Тем временем Ипатия и Вольф почти дошли до конца пристани. Они не особенно много разговаривали.
– Вольф! – произнесла Ипатия со своей прекрасной улыбкой, и слово прозвучало в ее губах так же чуждо, как «Ули». Тогда он тоже улыбнулся и сказал:
– Ипатия!
– Ты правильно произносишь имя, лучше, чем я твое. Так торжественно! Никто не зовет меня иначе со дня смерти отца.
– Могу я называть тебя иначе? Можно мне говорить, Гипатидион?
– Нет, это не идет ни к тебе, ни ко мне. Не надо.
У конца пристани они остановились. Издали донеслось что-то похожее на пение воскресных псалмов. Потом снова все стихло.
– Ты сделала меня счастливым, Ипатия. Ты не пойдешь с ним? Могу ли я…
– Молчи, Ули! Чьи мысли поднимаются так высоко, как мои…
– Безразлично!
– Я не смогла бы быть твоей женой так, как ты этого хочешь. Я не могла бы лежать в твоих объятиях, не могла бы целовать тебя, не содрогаясь от прикосновения мужчины. Не от тебя! Оставь это! Жизнь не дает непрерывного счастья, только счастливые мгновения, а счастливые мгновенья похитило у меня мое мышление. Навсегда! Оставь это! Но если они убьют меня, и моя бедная маленькая душа вылетит, – как это рисуют на старых картинах, – изо рта, то поймай своим дыханием мою бедную душу, и она расскажет тебе обо мне.
– Это невозможно, Гипатидион! Ибо вместе с тобой умру и я, и не смогу услышать, что будет рассказывать твоя душа.
– Ах, Ули, ей не понадобится много слов.
Они взглянули друг на друга, и Ипатия сказала:
– Сейчас мне показалось, что моя душа уже вылетела.
В эту минуту поспешно подошли Троил и Александр.
– Разве вы ничего не слышите? Ну, разумеется, Александрик, станут они прислушиваться!
– Кто-то гнусавит псалмы на улице?
– Он прав, – сказал Александр. – Это не в церкви. Это процессия. Это монахи. Идем скорее!
Троил и Александр почти побежали вперед, а за ними следовали Вольф и Ипатия. Они завернули за собор и пересекли громадную Портовую площадь, на которой не было видно ничего особенного. Только на западной стороне несколько рабочих смотрели вниз, как будто там двигалось что-то замечательное. Они уже пересекли площадь и достигли угла Академии, когда из академических ворот выскочил маленький погонщик, подбежал к Ипатии и прошептал:
– Назад! Спасайтесь! Вас подстерегают монахи!
Они остановились. Вольф выпрямился. В воротах Академии поднялся шум. Мальчик побежал по площади на встречу толпе псалмопевцов.
Вольф сказал быстро и твердо:
– Нам надо уходить назад. Если мы дойдем до дворца, Ипатия спасена. Если они подойдут раньше, мы их задержим, а Ипатия скроется в соборе. Там убежище.
Они хотели бежать назад, но тут из ворот Академии выскочило около ста человек молодежи из союзов и монахов.
– Вон она бежит, ведьма! Долой ее! Разорвем ее на кусочки! И любовников тоже!
Толпа подбежала к Ипатии и ее защитникам. По знаку Вольфа беглецы остановились.
– Теперь бежать нельзя. С этим сбродом мы справимся. Сюда, Троил. Сюда, Александр! У вас есть по ножу, идите. Вы не сочтете меня трусом за то, что я остаюсь при Ипатии. Вам надо задержать их, ну, прощайте!
Они обернулись к своим преследователям, и те сразу остановились. Между ними было шагов тридцать. Раздались дикие ругательства и угрозы.
– Дай руку, Ипатия! – воскликнул Троил, – Все на свете бессмыслица. Но ты была моей прекрасной иллюзией. Давай поспорим, что мы не увидимся больше? Ни здесь, ни там.
Улыбаясь, Ипатия протянула ему руку.
– Не надо спорить, до свидания!
– Дай и мне руку, – сказал Александр. – И ты, Вольф. Обоих вас я любил довольно несчастливо!
– Прощай, мой друг, мой лучший друг! Но не лучше ли было бы…
– Оставь его, Ипатия, не мучай. Он умирает не очень охотно. Но все же он порядочный парень. Прощайте, Александрик!
Под дикий рев толпы пожали они друг другу руки, и Александр с Троилом, сжав свои длинные ножи, пошли пря мо на толпу.
– Сволочь отступает, – сказал Вольф.
– В собор!
И он быстро повел Ипатию вверх по широким ступеням.
– Ты не хочешь ловить мою душу?
– Я люблю тебя больше своей жизни, но не больше твоей жизни. Идем!
Он перескочил последнюю ступень и ударил мечом в дубовую дверь.
– Откройте! Убежище!
Тем временем Александр и Троил были уже в трех шагах от толпы. Мастеровые и монахи были вооружены железными прутьями, ножами, дубинами и топорами. Но никто не поднял оружия. На друзей обрушились только ругательства. Троил отвечал тем же, и вначале казалось, что все ограничится перебранкой.
– Ругайся же, – шепнул Троил, – это их сдерживает. Александр замялся на минуту и потом начал:
– Псы! Лентяи! Воры! Христопродавцы! Грабители! Шакалы! Степные собаки!
– Висельники! – подхватил, в свою очередь, Троил. А в дверь храма продолжал ударять меч.
– Откройте! Убежище! Убежище!
Все громче и ближе раздавалось пение псалмов. С быстротой стрелы промчался маленький погонщик и шепнул друзьям:
– Отшельники идут!
– В таком случае, спокойной ночи, Александрик, – сказал Троил тихо и продолжил:
– Стервятники! Коршуны! Пожиратели трупов! Падаль!
Погонщик домчался до собора и сообщил свою весть Ипатии. Вольф велел ему проникнуть в собор через ризницу и попробовать отворить двери.
– Убежище! Убежище!
Все громче и громче раздавалось пение, и в глубине площади показались тесные ряды ужасных анахоретов. Все больше и больше! Свыше пятисот человек. И если глаза Вольфа не обманывали, то они уже начали свою кровавую работу. Их топоры, палки и цепи были в крови. Неужели назареи…
Очевидно, и у отшельников было острое зрение. Ибо внезапно пение прекратилось, и раздался дикий рев. Тогда один, длинный и худой, шедший во главе, неистово закричал, и отшельники бросились вперед.
– Отшельники! – закричал один из монахов. И внезапно вся толпа перешла в наступление.
– Ну, я скоро смогу убедиться в этом! – крикнул Троил, сердито смеясь, взмахнув ножом, всадил его в шею ближайшего врага и хотел вытащить его обратно. Тогда ударила его железная дубина и, хрипя, он повалился навзничь. Десять топоров обрушились на него.
При первом натиске Александр отступил на три шага. Увидя, что Троил упал, он закричал:
– Наконец-то! Ну, так получайте! Вот! И вот!
И с таким неистовством стал он поражать окружающих, что монахи отступили.
– Вот! И вот!
Он разил наудачу, опьянев от крови, сея вокруг смерть, и кричал, и разил, пока какой-то нож не вонзился ему в сердце, и он не упал в свою очередь.
– Убьем ведьму!
– Убежище! Убежище!
Отшельники уже взбегали на лестницу впереди монахов. Внезапно они остановились, испуганные, и только их предводитель, худой и длинный Исидор, продолжал бежать вперед. С крыши академии спустился марабу и стал беспокойно носиться над головой Ипатии. Он ударял клювом в церковные двери и кричал, как человек.
– Дьявол охраняет ее! – закричал один из отшельников.
– Убежище!
В толпе были почти одни молодые отшельники. Их рубахи и верблюжьи шкуры представляли собой лохмотья. На руках и оружии виднелась кровь. Только во главе их, рядом с Исидором, стояли старики. Глаза всех горели.
Вольф старался воспользоваться моментом. Держа свой меч за клинок, он поднял высоко вверх крестообразную рукоятку, и, взбежав на последнюю ступень, громко закричал:
– Именем нашего общего Спасителя, заклинаю вас отступитесь от вашего намерения! Кровь на руках ваших, а Господь говорит: не убий. Я такой же христианин, как, и вы, и клянусь вам, что эта женщина не заслуживает смерти! Месть Господа поразит вас, если вы преступно…
Снова проскользнул к нему маленький погонщик и шепнул:
– Они в ризнице. Я слышал голоса. Но они не хотят отворять.
– Молодец! Иди к Ипатии. Я ничего больше не знаю. Но у меня достаточно сил. Быть может… Беги во дворец, расскажи, приведи помощь!
Марабу не мог больше держаться в воздухе и тяжело упал к ногам Ипатии.
Тогда отшельники закричали с облегчением, и, дико завывая, подняли оружие.
– Он назарей! – рычали отшельники.
В два прыжка Вольф был около Ипатии.
– Прощай, душа моя принадлежит тебе!
Закрыв глаза, как бы без чувств, прислонилась Ипатия к дубовым дверям храма. Он услышал, как она прошептала его имя, потом снова бросился он вниз навстречу отшельникам. Что-то очутилось рядом с ним. И прежде чем он схватился с врагами, марабу опередил его. Казалось, птица хотела первой принять бой.
Отшельники отхлынули, и сам Исидор спрыгнул вниз. Отчаянно ударяя клювом, птица бросилась вперед, но один! из старцев ударил ее своей дубинкой по голому черепу. Марабу болезненно щелкнул клювом и исчез под ногами отшельников.
– Дьявол поражен во имя Господа!
Тогда Вольф испустил ликующий крик, какого еще ни когда не слышали в Александрии.
– Юух-хух! – пронеслось над толпой, его рука поднялась и опустилась, и Исидор лежал на земле. И рука поднялась и опустилась, и один из старцев упал навзничь. И тогда началась борьба одного с пятьюстами. Окруженный со всех сторон, поражаемый отовсюду, Вольф расчищал место вокруг себя. Всякий, кто приближался к нему на шаг, падал, и под проклятиями раздавался его крик:
– Во имя Иисуса Христа, за Ипатию! Сюда и сюда!
В пылу битвы он не сразу понял, что монахи стали бросать камни над головами сражающихся. Он слышал, как они с грохотом ударялись в церковные двери. Внезапно он задрожал.
– Готово, она упала, ведьма! Победа! Вперед во имя Господа! Смерть назарею! Смерть ведьме!
Дважды описал Вольф своим мечом ужасный круг. После третьего раза он стал задыхаться. Очевидно, его ранили. Теперь он почувствовал это. Кровь текла с его лба. Левому бедру тоже досталось. Он не мог перешагивать через несколько ступеней. Но шаг за шагом стал он подниматься вверх по лестнице, продолжая сыпать удары во все стороны. Кричать он уже был не в состоянии.
Стоя наверху, продолжая отступать, старался он коснуться Ипатии рукой, так как оглянуться Вольф не мог. В это время прекрасная женщина, с зияющей раной на лбу, полулежала у церковных дверей. Алая кровь текла по ее белому платью. И когда отважный защитник, наконец, заметил это, он в последний раз закричал и снова ринулся в толпу отшельников. Рассекая их ряды, добрался он до одного, которого заранее заметил, – до одного, еще державшего в руке камень. Из последних сил Вольф вонзил ему в грудь меч по самую рукоятку. Теперь, когда единственным оружием у него остались кулаки, он вцепился в горло ближайшему из своих противников и через минуту, пронзенный, изрубленный, избитый, упал на землю.
Не заботясь о мертвых и раненых, ринулись отшельники вперед. Только своего умиравшего вождя, Исидора, несли впереди четверо братьев. Последние ряды затянули псалом. Так кровавым потоком дошли убийцы до церковных дверей. Там лежала Ипатия. Едва ли она была еще жива. Но один из благочестивых старцев все-таки вонзил ей нож в сердце. От удара камнем она упала на колени и полусидела, прислонясь к дверям. Теперь она повалилась на спину, продолжая смотреть своими черными глазами на врагов.
Молча стояли святые пустынники вокруг трупа. Только толпившиеся сзади и не видевшие своей жертвы громче прежнего распевали псалмы. Тем временем монахи выкрикивали проклятия наместнику, а мастеровые осыпали оскорблениями императора.
Несколько секунд царил суеверный страх перед трупом Ипатии. Исидор, которому удар Вольфа раздробил левое плечо, истекал кровью и сам походил на труп. Теперь он открыл глаза и при виде Ипатии начал хрипеть. Он вытянул правую руку и шевелил скрюченными пальцами. Тем временем стоявшие сзади напирали все сильнее, и круг около Ипатии продолжал сужаться. Молодые монахи поднесли Исидора еще на шаг ближе. Теперь Исидор мог коснуться мертвой, и судорожным движением вцепился он в воротник ее белого платья. Тогда дико прорвалось наружу священное неистовство окружающих.
В эту минуту медленно распахнулись тяжелые створки двери, и на пороге появились встревоженные церковные слуги. Человек двадцать отшельников протянули к трупу свои покрытые кровью и грязью руки и со смехом и проклятиями, кусок за куском, стали срывать одежду. Торжествуя, прятали они эти кровавые клочки ткани и уступали место соседу, отрывавшему, в свою очередь, новый лоскуток платья. Рыча от похоти, довершили отшельники свое дело. Даже туфли были сорваны с ног трупа. Молодой анахорет, завладевший одним из них, среди бешеных криков протискивался среди собратьев, комкая его и оглашая воздух богохульствами.
Окровавленные одежды исчезли, и в нагой красоте лежало тело девушки. Только в пышных волосах остался еще обрывок черного платка, покрывавшего зияющую на лбу рану, через левую грудь Ипатии медленно струилась кровь.
Исидор попытался выпрямиться, и благочестивые братья освободили ему немного места. Еще раз простер он руку. «Ипатия!» – вскричал он громко и упал замертво, прижавшись лицом к ее тонким ступням. С новой яростью поднялись крики мести из толпы святых старцев.
– Исидор умер! Исидор умер! Она колдует и после смерти! Мученик! В церковь его! На алтарь святого! Вырвите глаза у ведьмы! Разорвите ее на куски! В огонь ее!
Они кричали все вместе, и ближайшие к трупу намеревались исполнить советы кричавших.
На берегу, как раз напротив Академии, монахи устроили костер такой величины, чтобы на него можно было положить тело ведьмы.
Старейшие пустынники торжественно перенесли тело Исидора через церковный порог и исчезли в темноте.
А на лестнице отшельники набросились на тело Ипатии. Ужасны были крики неистовствующих. Отвратительные восклицания, подобные тем, что раздавались по ночам в пещерах святой горы, где молодые отшельники часами боролись с дьяволом, вылетали из копошащейся кучи. Кроме того, они ругали друг друга. И снова звуки псалмов и звон топоров и дубин.
– Довольно с тебя будет и одного глаза! Она не будет больше колдовать! И другой туда же! Не трогайте грудь! Грудь! Пустите меня, я хочу одолеть дьявола! Я хочу грудь… Сто лет… Не бей!..
Внезапно все слилось в один звериный рев и какую-то отвратительную массу стащили вниз и бросили на приготовленный костер.
Тем временем монахи и мастеровые убрали мертвых, занеся их в церковь, другие несли раненых в Академию для перевязки. Лишь только трупы Троила и Александра остались лежать. Безжизненное тело Вольфа несколько ликующих монахов кинули рядом с Ипатией на костер. Скоро доски загорелись. Кто-то облил их смолой. Тогда наиболее веселый из монахов еще раз сбегал к лестнице, притащил труп марабу и швырнул его к двум трупам.
– Браво! Браво! Пусть и дьявол сгорит! Дьявол, ведьма и назарей!
В церковных дверях стояло теперь множество священников и других служителей церкви, вытягивавших шеи, чтобы лучше видеть. Дворы Академии были наполнены испуганными людьми. В переулках собрались безучастные зрители из египетской черни. Они потешались над дракой греков и христиан.
Распевая псалмы, монахи, отшельники и мастеровые окружили костер. Пламя медленно поднималось к небу.
В это время со стороны пристани раздался сигнальный рожок и, как маленькая собачонка, примчался погонщик ослов, издали крича:
– Держитесь, Ипатия! Держитесь! Солдаты!
Дрожа от нетерпения, взбежал он по лестнице и заметил темное облако дыма. Он оглянулся, ища Вольфа и других. Потом мальчишка разглядел костер, он все понял и, опустившись на ступеньку, горько заплакал.
Звук труб приближался и мерным шагом на площадь вышли солдаты. Идущий впереди офицер не знал, что ему теперь надо делать. Тогда достойнейшие из среды пустынников вышли к нему навстречу, и он остановил свой отряд.
– Не обращайте ваших ударов на святых старцев! – воскликнул один отшельник, белая борода которого была залита кровью. – Святой Исидор принял мученичество в последней борьбе с язычеством! Если вы захотите и нас приобщить к числу мучеников, мы возблагодарим вас и с пением псалмов вступим в небесное царство! Но вы все, а особенно ты, начальник этих христианских солдат, вы все совершите смертный грех и подвергнетесь вечному проклятию! Вы должны слушаться Бога больше, чем императора! Мы творили волю божью!
Офицер отсалютовал мечом и скомандовал своему отряду выстроиться для молитвы. Тогда отшельники расступились и показали ему костер, посылавший к небу черные облака дыма.
Торжественное молчание воцарилось на площади. Только со стороны лестницы слышались всхлипывания маленького погонщика.
Потом монахи, солдаты и отшельники затянули новый псалом.
Мальчик очнулся от своего плача. Слезы продолжали течь по его коричневым щекам, но он неустанно думал. Ему так хотелось еще чем-нибудь доказать Ипатии свою любовь. Она не должна была думать там, наверху, что ему не удалось сделать своего дела. Право же, он бежал изо всех сил, скорее он не мог.
Он не понимал, что случится с Ипатией после смерти. Но он видел, что что-то надо сделать. Он готов был исколотить себя за то, что не знал наизусть молитвы божьей матери Изиде. Сколько раз мать хотела выучить его ей! Теперь он смог бы прочитать молитву, и Изида сжалилась бы над доброй Ипатией и вывела бы ее из мрака подземного мира к свету. Теперь уже делать нечего, он все равно не знает молитвы. Но что-нибудь все-таки надо сделать.
Он встал и пробрался вовнутрь храма. Никто не остановил его. Он проскользнул в ризницу и стащил там из серебряного сосуда полную горсть ладана. Потом через боковой выход выскочил он во двор, обежал вокруг церкви, протискался между окровавленными монахами к самому костру и кинул свой ладан в пламя, которое, как будто в ответ на это, внезапно поднялось к небу двумя могучими огненными столбами.
Уильям Нэйпир
АТТИЛА
ПРОЛОГ
Монастырь святого Северина,
Окрестности Неаполя, 488 г, н. э.
Как говорил мой отец, для того, чтобы стать великим историком, необходимы две вещи: умение писать и материал — о чем писать. Теперь его слова звучат для меня насмешкой. Да, отец, мне есть, о чем писать. Вот только ты сам в такое вряд ли поверил бы.
Я собираюсь поведать удивительную и пугающую историю. В наши смутные времена, когда искусство хрониста сделалось редкостью, я, возможно, являюсь последним человеком на земле, который способен это сделать.
Мое имя — Приск Паниций, и мне почти девяносто лет. Я пережил самую гибельную эпоху в истории Рима, а теперь его дни подошли к концу, и с империей покончено. Тит Ливий писал об Основателях Рима. На мою долю выпало рассказать о его Последних Защитниках — и о Разрушителях. Это повесть для горьких зимних ночей; это повесть об ужасах и зверствах, лишь изредка смягченная спасительными проблесками мужества и благородства. Это во многих отношениях страшная повесть, но я не считаю ее скучной. И хотя я очень стар, а моя рука беспомощно дрожит, пытаясь удержать перо над пергаментом, все же я верю, что мне достанет сил, дабы изложить последние главы сей саги. Может показаться странным, но я убежден, что, стоит поставить точку, и мои часы на этой земле сочтены. Подобно святому Северину, мне ведом день моей смерти.
Святой Северин? Сейчас, когда я пишу эти слова, его хоронят в часовне монастыря, где я доживаю последние дни. Он был проповедником, святым человеком, слугой нищих и жил в провинции Норик, за Альпами, и сыграл весьма неожиданную роль в истории последних дней Рима. Он умер лет шесть назад, но лишь сейчас преданные последователи сумели перенести его бренные останки через высокие альпийские перевалы, на юг через всю Италию, и чудеса сопутствовали каждому шагу их продвижения сюда. Кто я такой, чтобы усомниться в правдивости этих рассказов? Воистину, мы живем в удивительные времена.
Обитель, в которой я поселился, расположена на согретом солнцем побережье близ Неаполя, и за мной здесь ухаживают монахи, чью веру, должен признаться, я отнюдь не разделяю. У этого монастыря, ныне посвященного святому Северину и религии Христа, странная и поучительная история. Некогда здесь находилась роскошная прибрежная вилла Лукулла, одного из величайших героев республиканского Рима, жившего в первом веке до рождения Христа, во времена Цицерона, Цезаря, Помпея и прочих титанов. Лукулла прославляли за его блестящую победу над Митридатом, царем Понтийским; впрочем, эпикурейцы острили, что самая значительная из его заслуг в том, что он привез в Италию вишню.
После смерти владельца вилла много раз переходила из рук в руки, пока, наконец, — по одной из поразительных прихотей, доставлявших столько наслаждения Клио, музе истории, — после вынужденного отречения от престола златовласого шестилетнего Ромула Августула не сделалась резиденцией последнего римского императора.
Сегодня она стала пристанищем для монахов. И вот сейчас они стоят вокруг гроба, в котором покоятся бренные останки их возлюбленного святого Северина, и голоса возносятся к небесам в скорбном, мелодичном напеве, курится фимиам, сверкает священное золото. Именно Северин предсказал остготу Одоакру, что свою судьбу тот найдет на освещенных солнцем землях юга. И не кто иной как Одоакр впоследствии низложил последнего императора, Ромула Августула, распустил Сенат и объявил себя первым варварским правителем Италии.
Вам осталось узнать обо мне совсем немного. Я веду скромную жизнь в своей келье и часто сижу, сгорбившись, в скриптории, в обществе пергамента, пера и накопившихся за восемьдесят лет воспоминаний. Я всего лишь архивариус. Писец. Рассказчик. Когда холодными зимними вечерами люди собираются у очага, они слушают голос сказителя, но не обращают внимания на его лицо. Он для них не существует. Реальны лишь его слова.
Платон утверждал, что в жизни, как и в игре, есть три разновидности людей. Есть герои, вкушающие сладость побед. Есть зрители, которые наблюдают. А есть воры-карманники. Я не герой, что тут скрывать? Но и не вор-карманник.
Солнце садится вдалеке, опускаясь в уставшее Тирренское море, где некогда громадные суда бороздили соленые волны и везли зерно из Северной Африки в Остию, дабы накормить миллионы ртов в Риме.
Кораблей этих больше нет, а вандалы разграбили и увезли с собой в Африку все сокровища, которые не успели забрать готы — даже бесценные диковины иерусалимского храма, те самые, что Тит с ликованием привез в Рим четыре столетия назад. Что сталось с этими сокровищами? С Золотым Ковчегом Завета, в котором, как утверждают, находились заповеди самого Бога? Его давным-давно переплавили на монеты вандалов. И Колонна Траяна осталась без большой бронзовой статуи императора-воина, венчавшей некогда ее вершину, а бронза, расплавленная в прокопченных кузницах, превратилась в ременные пряжки, браслеты и украшения для варварских щитов.
Ныне Рим — лишь тень того, прежнего города, и в конце концов он оказался вовсе не вечным. Он бессмертен не более чем люди, возводившие его, хотя раньше мы верили в обратное и кричали:
«Ave, Roma immortalis!», когда в него входила победившая армия или шли игры. Нет, Рим не божество, а всего лишь город, как и любой другой; он подобен старой уставшей женщине, ограбленной, обесчещенной и брошенной, покинутой всеми любовниками, горько всхлипывающей ночами; та же судьба постигла прежде Иерусалим, и Трою, и вечные Фивы. Разграбленный готами, дограбленный вандалами, захваченный остготами… И все же наибольший ущерб Риму причинило племя более ужасное и все же менее заметное, чем прочие: племя, именуемое гуннами.
В призрачной оболочке нынешнего города среди руин форума скребутся бродячие, умирающие с голода коты, и сорняки пробиваются из трещин некогда раззолоченных зданий. Скворцы и коршуны гнездятся под карнизами дворцов и вилл, где когда-то вели беседы полководцы и императоры.
Солнце садится, в келье холодно, а я уже очень стар. Ужин мой состоит из маленького пшеничного хлебца и двух-трех глотков вина, разбавленного водой. Христианские монахи, с которыми я живу в этом одиноком монастыре, учат, что иногда хлеб и вино становятся плотью и кровью Господа. Воистину, на свете множество чудес, и даже это может оказаться правдой. Но для меня это просто хлеб и вино, и мне их достаточно.
Я историк и хочу поведать великую и ужасную историю. Сам по себе я ничто, но кажется, что знаю все на свете. Я прочел каждую букву, каждый обрывок хроник и летописей, уцелевших от пережитых мною времен. Я был знаком и говорил с каждым актером на сцене истории во время тех бурных, сотрясавших мир событий. Я был писцом и в Равенне, и в Константинополе, я служил и полководцу Аэцию, и императору Феодосию II. Я всегда был человеком, которому люди доверялись, и хотя сам предпочитал помалкивать, но все же не затыкал уши, если до меня доходили слухи и сплетни, выслушивал очень внимательно самые серьезные и объективные оценки вероятных деяний и сражений, согласный с драматургом Теренцием в том, что
«Homo sum; humani nihil а те alienum puto». Это замечательные слова, и они стали моим девизом, как могут быть девизом любою писателя, имеющего дело с человеческой природой. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».
Я видел Вечный Город на Семи Холмах, и благовонный двор Равенны, и золотой божественный град Константина. Я странствовал вверх по течению могучего Дуная, и проходил сквозь Железные Ворота, и отправлялся в самое сердце земли гуннов, и слышал из их собственных уст историю об удивительной юности наводящего ужас вождя; и я выжил, чтобы рассказать об этом. Я стоял на обширных Каталаунских равнинах и видел, как две величайшие в мире армии схлестнулись в кровавой битве, бряцая оружием, окутанные такой яростью, какой не знала больше ни одна эпоха, где решалась судьба мира — судьба столь удивительная, что ее не смогла предвидеть ни одна из сражающихся сторон. Но некоторые мудрые люди знали. Певцы, и пророки, и последний из Тайных Владык: они знали.
Я знавал рабов и солдат, проституток и воров, святых и волшебников, императоров и вождей. Я знал женщину, которая правила Римом, сначала за
своего идиота-брата, потом — за своего идиота-сына. Я знал красавицу — дочь императора, предложившую себя в жены вождю варваров. Я знал последнего благороднейшего римлянина, который спас уже потерянную империю и погиб за все свои страдания от кинжала императора. Я знал и его юного свирепого друга, с кем, в беззаботные мальчишеские годы, он играл на широких, продуваемых всеми ветрами равнинах Скифии; друга детства, в зрелом возрасте ставшего его смертельным врагом, который скакал во главе полумиллионного конного войска, затемнявшего небо дождем стрел и разрушавшего все на своем пути, подобно лесному пожару. В конце концов, два друга детства, ставшие старыми, утомленными жизнью мужчинами, сошлись лицом к лицу в боевых порядках на Каталаунских полях. И хотя ни один из них не понимал этого, эту битву они оба обречены были проиграть. Наш благороднейший римлянин потерял все, что любил, но то же самое произошло и с его варваром-врагом, темным братом Ромула, тенью Энея, которого называли Аттилой, владыкой гуннов, но который также с гордостью носил имя, данное ему устрашенными жертвами: Бич Божий.
Да, из этой ярости сражения, где, разрушаясь, гибнет прежний мир, родился мир новый, и он все еще рождается, медленно, чудесным образом, восстает из пепла, как сама надежда. Один мудрец со старческой усталой улыбкой на устах говорил мне когда-то: «Упования могут оказаться ложными, однако ничто не обманывает так сильно, как утрата надежды».
И все это — Бог. Так утверждает мудрейший из поэтов, сумрачный Софокл. Непостижимым образом он описывает нам свет и тьму всего сущего: благородства и отваги, любви и самопожертвования, бессердечия, трусости, жестокости и ужаса. А потом невозмутимо заявляет:
И все это — Бог…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВОЛК ВО ДВОРЦЕ
1
Гроза с Востока
Тоскана, начало августа 408 г.
Над выжженными солнцем равнинами у реки Арно занимался яркий рассвет. Вокруг сумрачных стен пограничного города Флоренции измученные остатки варварской армии Радагайса пробудились, чтобы обнаружить, что они больше не окружены безжалостными римскими легионерами. Медленно, неуверенно, ощущая свое поражение, они стали сворачивать лагерь, направляясь к холмам на севере.
На другом холме, к югу, с которого открывался прекрасный вид, с удовлетворением наблюдая за отступающим войском, восседали верхом двое римских офицеров, ослепительные в своих бронзовых нагрудниках и алых плюмажах.
— Мне отдать приказ? — спросил младший.
Полководец Стилихон не отрывал взгляда от разворачивающейся внизу картины.
— Благодарю, трибун, но я сделаю это сам, когда все будет готово.
«Дерзкий щенок, — подумал он, — со своим купленным званием и гладкими, без шрамов, руками и ногами».
Далеко внизу вздымались тучи пыли, частично скрывая из вида большие варварские деревянные повозки, со скрипом выкатывавшиеся из лагеря в северном направлении. Оба римских офицера на холме слышали, как щелкают хлысты из бычьей шкуры, слышали крики людей, пока эта пестрая и никчемная армия вандалов и свевов, предателей-готов, лангобардов и франков начинала долгий путь отступления через альпийские перевалы к своим родовым землям.
Рим еще долго будет оправляться от их нашествия.
Жестокая орда германских воинов Радагайса объединилась исключительно из-за жажды золота, и свирепость их потрясала своей разрушительной силой. Они залили кровью пол-Европы, пройдя от своих родных мест, с холодных балтийских берегов, до просторов Тосканы, и остановились только под стенами Флоренции. Оказавшись там, они взяли в осаду эту надежно укрепленную колонию Рима на берегах Арно.
Великий полководец Стилихон, такой же хладнокровный, как всегда, помчался им навстречу, на север от Рима, с войском, составлявшим всего пятую часть от орды Радагайса — но зато его армия была искусна как в сражениях, так и в осадах.
Как зачастую говорилось, римский солдат на каждый день, проведенный с мечом в руке, провел сотню дней, орудуя лопатой. Никто не рыл траншеи так хорошо, как римский солдат. И очень скоро осаждающие обнаружили, что сами оказались в осаде. Окружившая их армия, пусть и меньше числом, имела доступ к жизненно важным источникам снабжения из округи, к еде и воде, свежим лошадям и даже к новому вооружению. Окруженная армия, насильственно заключенная в своем лагере под палящим августовским тосканским солнцем, оказалась в обстоятельствах таких же тяжелых, как и сама Флоренция. У попавших в ловушку варваров не было никаких ресурсов, и они медленно начали умирать.
В отчаянии упавшие духом и изможденные германцы бросились на окружавшие их барьеры, но все было тщетно. Кони, ранившие копыта о разбросанные римлянами по запекшейся земле металлические шары с шипами, шарахались в сторону, ржали и сбрасывали своих взбешенных всадников под укрепления, где их быстро отправляли на тот свет стоявшие на валах лучники. Тем, кто пытался атаковать осаждающих пешим порядком, приходилось сначала спускаться в траншеи глубиной в шесть футов, потом подниматься на такую же высоту с противоположной стороны и прорываться через три линии заостренных кольев.
А за кольями их поджидали шеренги римских копейщиков со своими длинными метательными копьями. Неодолимая преграда. Варвары, не убитые там, вернулись к своим шатрам и упали на землю, лишенные сил и впавшие в отчаяние.
Когда Стилихон решил, что Радагайс лишился не менее трети свои сил, он приказал римлянам ночью сняться с лагеря и уйти за холмы. И вот теперь, когда занялся рассвет, озадаченные и измученные северные племена обнаружили, что они свободны и тоже могут уйти — домой.
Однако, пока они собирались и отступали в полной неразберихе, неплохо было бы натравить на них новые войска и посмотреть, что они смогут делать. Стилихону не доставляло большого удовольствия видеть, как погибают люди на поле боя — в отличие от многих других полководцев. Но огромная и недисциплинированная толпа внизу, которую собрал для летней кампании этот причиняющий постоянное беспокойство вождь Радагайс, оставалась угрозой для северных границ Рима, даже потерпев поражение. Завершающая атака новых вспомогательных кавалерийских войск, пусть и легких, определенно не принесет большого вреда.
И когда армия варваров хаотично растеклась по равнине, а ее авангард уже подошел к подножью холмов на севере, полководец Стилихон кивнул.
— Командуй, — приказал он.
Трибун передал сигнал по рядам, и через несколько мгновений Стилихон с некоторым изумлением увидел, что вспомогательные отряды уже пустили коней в галоп.
Не то чтобы он многого от них ожидал. Эти новые воины с востока были невысокими и вооруженными очень легко. Любому оружию они предпочитали свои аккуратные луки и стрелы и даже во время сражения не расставались с арканами — как будто гнались за телками, сонно моргающими глазами. Когда это сражения выигрывались с помощью простой веревки? А воины Радагайса, даже побежденные, никоим образом не могли сойти за сонных телок.
Мало того, что эти всадники были невысокими и легко вооруженными, они к тому же сражались без доспехов, обнаженные по пояс, их тела с бронзовой, задубевшей кожей были окутаны только пылью. Совершенно очевидно, что они не смогут причинить большого вреда отступающей армии, но в любом случае интересно посмотреть на них в действии. Еще ни один римлянин не видел, как они сражаются, хотя всем доводилось слышать хвастливые и неправдоподобные рассказы об их доблести. Говорили, что на своих косматых степных лошадках передвигаются они очень быстро, так что, вероятно, в будущем их можно будет использовать в императорской курьерской службе… Если удача будет на их стороне, они даже могут умудриться догнать самого Радагайса и взять его в плен. Конечно, это почти невероятно, но почему бы не попытаться?
В любом случае, сообщения об их впечатляющей скорости не были преувеличением.
Всадники с грохотом вырвались из узкой долины на востоке и помчались прямо на колонну отступающих варваров. Неплохая тактика: солнце позади них, бьет прямо в глаза противнику. Стилихон, разумеется, был слишком далеко, чтобы увидеть выражение лиц воинов Радагайса, но если судить по тому, что колонна замедлила движение, люди в ней начали толкаться, в воздухе раздались панические крики, потом тяжелые повозки отчаянно рванули вперед, стремясь скорее достичь безопасных холмов и твердой земли до того, как яростная атака восточных всадников настигнет их, можно было догадаться — они не улыбались.
Грохочущие копыта подняли с сожженной солнцем земли тучи пыли, и Стилихон с трибуном напрягались, пытаясь что-нибудь разглядеть. И тут в воздухе потемнело. Сначала они не поверили своим глазам.
— Это… это то, что я думаю, господин?
Стилихон был потрясен. Это было действительно тем, чем казалось. Сам воздух потемнел от невообразимого урагана стрел.
Он слышал, что эти люди — искусные наездники; слышал, что они ловко управляются со своими непривлекательными луками. Но ничто не подготовило его к такому.
Стрелы обрушивались бесконечным ливнем, как убийственные жалящие насекомые, прямо на колонну Радагайса, и потрясенным германцам пришлось остановиться, потому что дорога впереди оказалась завалена трупами их же людей.
И тогда всадники, ярость атаки которых ничуть не ослабела, хотя они успели преодолеть целую лигу или даже больше по этой твердой, выжженной солнцем земле — к этому времени римская кавалерия уже устала бы и замедлила ход — врезались в охваченную ужасом, оцепеневшую колонну.
Стилихон и его трибун, вцепившись в луки седел, вытягивали шеи и приподнимались в стременах, пытаясь разглядеть происходящее.
— Во имя Света, — пробормотал полководец.
— Вы когда-нибудь видели что-либо похожее? — произнес трибун.
Всадники за несколько мгновений промчались сквозь колонну, потом с невероятной ловкостью повернулись и снова понеслись сквозь нее с другой стороны. Воины Радагайса, невзирая на недели голода и болезней под стенами Флоренции, пытались сформировать некое подобие боевого порядка и отразить атаку. Эти высокие и белокурые копейщики, свирепые и искусные фехтовальщики сражались с жестокостью обреченных. Но свирепость атакующих была страшнее. С того места, где они находились, оба римских командира видели отдельные группы кавалеристов, поворачивающихся и снова нападающих; словно в восторге, безо всяких усилий они убивали беспомощных, топчущихся на месте германцев. Видели они и убийственный результат, которого добивались лассо жителей востока. Любого варвара, пытающегося вскочить в седло и ускакать прочь, тут же стаскивала вниз свистящая петля, брошенная с ужасающей, небрежной точностью. Жертва падала, запутавшись в поводьях, и ее тут же убивали там, куда она рухнула.
Стилихон с изумлением наблюдал, как всадники, оказавшиеся еще ближе, все то время, что римская конница еще только вытаскивала бы свои длинные мечи, продолжали стрелять из своих коротких луков. Теперь, когда битва внизу беспорядочно растеклась по равнине, Стилихон видел, почему их боевое искусство так славилось. Он наблюдал за одним всадником: тот наложил стрелу, выстрелил в спину убегавшему германцу, тут же выхватил из колчана другую стрелу, одновременно крутнувшись на голой спине своего коня, наложил стрелу, наклонился вниз под невероятным углом, удерживаясь только силой ног, потом резко выпрямился и пустил вторую стрелу почти в лицо германцу, бегущему к нему, размахивая топором. Стрела пронзила того насквозь и вышла из затылка. Из раны хлынули кровь и мозг. Всадник наложил следующую стрелу и унесся прочь раньше, чем воин упал на землю.
Галопом! Стилихон не верил своим глазам — вся стычка произошла на полном скаку, и не было и намека на то, что всадник замедлит темп скачки.
— Во имя Света! — снова выдохнул он.
Буквально за несколько минут равнина оказалась усеяна мертвыми и умирающими варварами. Восточные всадники наконец-то придержали своих скакунов и перешли на шаг. Они объезжали окровавленную равнину, добивая упавших из луков или пронзая их копьями. Ни один из них не спешился. Пыль начала оседать. Солнце едва поднялось над горизонтом, освещая все вокруг мягким золотым сиянием. Прошло всего несколько минут, как занялся рассвет.
Полководец и трибун посмотрели друг на друга. Ни один не произнес ни слова. Ни один не знал, что сказать. Они пришпорили коней и спустились с холма, чтобы приветствовать свои новые войска.
Под наспех натянутым тентом на краю поля битвы Стилихон неуклюже умостил свое могучее тело на шатающемся походном табурете и приготовился встречать военачальника иноземных всадников. Его зовут Ульдин. «Вождь Ульдин», — поправил он себя.
Наконец он появился, такой же низкорослый и непривлекательный, как лошади и луки своего народа. Но внутри этой невысокой оболочки с кривыми ногами скрывалась та же самая выносливость и неисчерпаемая сила.
Стилихон не встал, но очень любезно кивнул головой.
— Вы сегодня хорошо поработали.
— Так хорошо мы работаем каждый день.
Теперь Ульдин улыбнулся. Его пытливые раскосые глаза сверкнули, но не весельем. Он щелкнул пальцами, и у него за спиной возник один из его воинов.
— Вот, — произнес Ульдин. — Вот он.
Воин шагнул вперед и бросил к ногам Стилихона темный, влажный мешок.
Полководец буркнул что-то и рывком открыл мешок. За свои тридцать лет воинской службы он повидал достаточно, поэтому отрубленные головы и конечности не могли ввергнуть его в смятение. И все же вид расчлененных останков Радагайса — отрубленные кисти рук, из которых тянулись багровые сухожилия, лицо, заляпанное кровью, и широко раскрытые глаза, уставившиеся на него из темноты мешка — заставил его сердце замереть на мгновенье-другое.
Так вот он, великий германский военачальник, обещавший вырезать два миллиона граждан Рима и повесить каждого сенатора на карнизах Дома Сената. Тот, кто сказал, что оставит трупы сенаторов висеть на карнизах Дома Сената, чтобы вороны начисто склевали с них плоть, и тогда скелеты будут позвякивать на ветру, как костяные колокольчики — этот человек был поэтом.
Что, старина, теперь ты не такой разговорчивый? — подумал Стилихон.
Потом поднял взгляд и произнес:
— Я приказывал взять Радагайса живым.
Ульдин оставался бесстрастным.
— Это не в наших обычаях.
— Нет, это в обычаях римлян.
— Ты что, отдаешь приказы вождю Ульдину, солдат?
Стилихон замялся. Он знал, что дипломатия никогда не была его сильной стороной. Солдаты говорят то, что думают. Дипломаты говорят то, что хотят услышать другие. Но все же он должен попытаться… Кроме того, давить на человека, говорящего о себе в третьем лице, следует осторожно.
Ульдин воспользовался нерешительностью полководца.
— Запомни, — негромко произнес он, поглаживая редкие седые прядки, едва покрывавшие его подбородок, — гунны твои союзники, а не рабы. А союзы, как и хлеб, легко ломаются.
Стилихон кивнул. Он также запомнит на всю оставшуюся жизнь, как сражаются гунны. Да поможет нам Бог, думал он, если они когда-нибудь…
— Когда мы торжественно въедем в Рим, в конце месяца, — пообещал он, — ты и твои воины будете ехать с нами.
Ульдин слегка расслабился.
— Так мы и поступим, — согласился он, повернулся и вышел на солнце.
2
Глаз императора
Рим, конец августа 408 г.
Императорский дворец безмолствовал под звездным летним небом.
Мальчик обливался потом под тонкой простыней, с яростной сосредоточенностью наморщив лоб и стиснув обмотанную веревкой рукоятку своего небольшого, короткого и широкого ножа. Сегодня ночью он выберется из комнаты в тени дворцового внутреннего двора, незамеченным проскользнет мимо ночной стражи и выковырнет глаза императору Рима.
Он слышал, как ночные стражники прошли мимо его двери, переговариваясь тихими, скорбными голосами. Он знал, о чем идет речь: о недавнем поражении этих подонков, варварской армии Радагайса. Да, конечно, римское войско разбило их, но только с помощью новых союзников: этого беспощадного, презираемого всеми племени с востока. Без поддержки таких союзников римская армия была слишком слаба и деморализована даже для того, чтобы выйти на поле боя против жалкой фаланги надушенных греков.
Когда стражники прошли и дрожащие оранжевые отблески от их факелов погасли, мальчик выскользнул из-под простыни, вытер пот с лица и прокрался к двери. Она открылась легко, потому что днем он предусмотрительно смазал петли оливковым маслом. Мальчик вышел во внутренний двор. Духота итальянской летней ночи угнетала. Ни собачьего лая в переулках, ни кошачьих воплей на крышах. Этой ночью не слышно было даже отдаленного гула большою города.
Он услышал приближающиеся шаги. Их было двое: побитые жизнью старые солдаты, уволенные из Пограничной Гвардии. Мальчик глубже забился в тень.
Стражники на миг приостановились, один из них расправил согнутые плечи и потянулся. Они стояли в ярком лунном свете между двумя колоннами всего в нескольких футах от мальчика, и силуэты их были такими же черными, как двери, ведущие в смерть. Такими же черными и невидящими, как слепые глаза императора.
— А потом, сказал Радагайс, он набьет Дом Сената соломой и подпалит ее факелом, и не оставит за собой ничего, кроме почерневших камней.
Второй стражник, грубый старый солдат, печально помолчал. Пусть от Сената в наши дни осталась только выхолощенная тень; пусть даже, как знали все до единого, империей на самом деле правил императорский двор и несколько деспотичных закадычных друзей, и не имело никакого значения, чего хочет или не хочет Сенат, все же Дом Сената олицетворял все самое гордое и освященное веками, что только существовало в Риме. И варварское войско, которое могло уничтожить его… Это был бы невыразимый позор.
Но варвары побеждены. Пока. С помощью других варваров.
В тени, за спинами старых солдат, скорчился мальчик с ножом.
Каждый вечер ему приходилось идти этим длинным, пустынным коридором в отдаленном, безмолвном внутреннем дворике дворца на Палатинском Холме, и спину ему сверлил леденящий кровь взгляд первого и величайшего императора. В дальнем конце коридора находилась его скудная крохотная комнатенка — никаких шикарных покоев — с единственным жалким глиняным светильником, словно он был не более, чем раб. Вот как он жил: голая деревянная кровать в келье без окон на задворках дворца, смежной с кухнями. Мальчик, по общему мнению, самый ценный заложник Рима, остро чувствовал свое унижение. В других комнатах дворца жили другие юные заложники из варварских народов: свевов и вандалов, бургундов и гепидов, саксов, алеманов и франков. Но даже они смотрели на него с пренебрежением, как на низшего из низших, и не желали принимать его в свои разговоры или игры. И их презрение еще сильнее распаляло его и без того ожесточенное сердце.
Сегодня он отомстит этим непрощающим глазам императора, отомстит за все эти месяцы оскорблений, глумлений и презрительного смеха римлян. Римляне безумно боялись знамений; их, как и любой другой известный ему народ, терзал суеверный благоговейный страх. Они страшились надуманных предсказаний любой беззубой карги на рынке, каждого несвоевременно родившегося ягненка или жеребенка, каждого предзнаменования, которые их расширенные глаза видели в звездном ветре.
Мальчик верил в Астура, бога своего народа, и в свой нож; а вот римляне, как любой слабый народ, верили во все. Когда они увидят, что их великий первый император неожиданно ослеп… Вот тогда мальчик посмотрит, что станется с презрительным римским смехом. Он застынет в их белоснежных глотках.
В неразберихе завтрашних празднований и игр он сбежит. Он скоро будет далеко, далеко от этого продажного, разлагающегося города, он пойдет на север, в горы. После долгих недель или даже месяцев трудного пути он снова спустится с них, и солнце останется за спиной, а он вернется на широкие, продуваемые ветрами равнины своей возлюбленной степной страны еще до того, как выпадет первый снег. Здесь он всего лишь заложник, и больше ничего: заложник-варвар, заключенный в комнатенку без окон обветшалого Императорского Дворца, в этом несдержанном, затянутом паутиной, тревожном, обреченном городе. Но там, среди своего свирепого, свободного народа, он был принцем царской крови, сыном Мундзука, сына самого вождя Ульдина. Ульдин, в свою очередь, был сыном Торды, сына Беренда, сына Султана, сына Бульчии, сына Болига, сына Замбура, сына Раэля, сына Леванга…
Имена всех древних поколений были навечно выгравированы в его сердце, потому что гунны, как и кельты, ничего не доверяли бумаге или камню, опасаясь, что чужаки или неверующие разузнают их святейшие тайны, среди которых была и эта секретная генеалогия, эти звенья в божественной цепи царей, ведущей назад, к великому герою Таркану, сыну Кэйра, сыну Немброта, сыну Чама, сыну Астура, Владыки Всего, что Летает; того, кто носил на своей голове Корону Гор и разрывал на части тучи своими ужасными когтями, там, в своем королевстве, в синем небе над горами Алтая и занесенного снегами Тянь-Шаня. Того, кто, как буря, пожирал своих врагов; кого восточный народ называет также Шонгаром, родоначальника всей широко распространившейся нации гуннов.
Что знают об этом римляне? Для них все люди за границами империи были варварами, и любопытство римлян исчезало возле приграничных стен.
Здесь, в Риме, к сыну Сыновей Астура относились чуть-чуть лучше, чем к рабу или военному трофею. Он подумал о широких равнинах Скифии, и сердце его заныло от тоски по родине, от желания увидеть черные палатки своего народа и большие табуны коней, медленно бредущих по высокому ковылю. Среди них щипал траву и его любимый белый пони, Чагельган; отличное имя, потому что он на самом деле был быстрым, как молния — чагельган на языке гуннов. Когда он вернется на равнины, сядет верхом на неоседланного коня, без уздечки, держась только ногами и запустив кулаки в густую белую гриву, и они помчатся по степям, и ковыль будет хлестать его по коленям, а ветер — трепать гриву коня и его волосы. Здесь, в этой горькой, чахнущей империи, все ограничено и задушено, каждый клочок земли кому-нибудь принадлежит, на каждой лошади — клеймо, каждый участок прямых дорог замощен и поименован, каждое поле и виноградник обнесены забором — и римляне имеют глупость считать себя свободными! Они давным-давно забыли, что такое свобода.
Но он вновь обретет свободу. Его прощальным даром Риму будут выколотые глаза великого императора — и тогда он бежит. Он понимал, что на его поиски пошлют солдат. Он сознавал свою ценность. Чтобы предотвратить его побег, они пошлют целые армии. Но стоит ему попасть в горы, в глушь — и его не найти; для людских глаз он будет все равно что призрак или тень.
Мальчик не дышал. Он отодвинулся еще глубже в темноту и стал невидимым. Этому его научил один из старейшин племени, одинокий и почти всегда молчавший Кадиша. Кадиша много лет странствовал по бесконечным диким просторам Средней Азии, видел много странного, и умел, как говорили в племени, прикинуться горсткой песка в пустыне или одиноким деревом. Кадиша научил мальчика, что нужно делать. Он забился как можно дальше в тень ниши. Голыми плечами он упирался в холодный мрамор фронтона, увенчанный очередной помпезной мраморной статуей какого-то давно умершего героя Рима. Пальцы, вцепившиеся в грубую веревку на рукоятке кинжала, покрылись потом. Он чуял соленый морской запах, пропитавший веревку, влажную от пота.
Мальчик был для своего возраста совсем маленьким, он казался скорее ребенком семи-восьми лет, чем подростком на пороге юности. Над его народом всегда насмехались за невысокий рост. Но что они понимали, эти вырождавшиеся римляне со своими холодными колкостями и чувством превосходства, или длинноногие белокурые готы? Стоит только взглянуть на коней его народа: они мельче, чем любая другая порода в Европе, зато куда более выносливые. Они могут целый час проскакать галопом с всадником на спине и ничуть не устанут.
Мальчик все еще задерживал дыхание. Он закрыл свои раскосые глаза, чтобы они не засверкали в темноте, как кошачьи.
Стражники, стоя в нескольких шагах от него, продолжали беседу.
Да уж, отличные стражники эти двое. Старые, уставшие, почти глухие, готовые в любую минуту упасть. Очень похожи на город, который охраняют. Теперь они разговаривали о народе мальчика и о том, как Рим победил варварскую армию Радагайса только с помощью других варваров. Как Стилихон, великий полководец римских войск, объединился с варварским племенем и завоевал победу; а племя это называется гунны.
Один из стражников фыркнул.
— Наполовину животные, вот они кто. Питаются только сырым мясом, одеваются только в звериные шкуры, а уж их обряды после победы… Думаю, что после триумфа на арене будет страшная грязь, и уж могу тебе точно сказать: никому не захочется стать их военнопленным.
— Да, в этом мире вряд ли есть другая такая мощь, которой стоит бояться, — произнес второй стражник.
— Хм-м, ты сегодня настоящий философ.
Второй стражник посмотрел на залитый лунным светом внутренний дворик и тихо сказал:
— Что ж, завтра, во время триумфа полководца Стилихона, мы их увидим своими глазами.
— Триумфа императора Гонория.
— Ах-ах, прошу прощения, — прозвучал насмешливый ответ. — Да, разумеется, триумфа императора.
Наступила тишина, потом один из них произнес:
— Помнишь ту ночь на Рейне?
— Конечно, помню, — ответил второй. — Могу ли я ее забыть? Тогда ты спас мою ничтожную жизнь.
— Только не начинай снова благодарить меня за это.
— Даже и не собирался.
— Во всяком случае, ты бы сделал для меня то же самое.
— Не стоит быть таким уверенным.
Два старых солдата ухмыльнулись друг другу, но ухмылки быстро завяли.
Да, они помнили ту ночь на Рейне. Стоял конец декабря, река замерзла, и орды варваров галопом мчались по залитому лунным светом льду, словно возвращались в свое королевство: вандалы и свевы, аланы, лангобарды, готы, бургунды. Да, они помнили ту ночь — и все ночи, недели и месяцы, последовавшие за ней.
Первый стражник склонил голову, вспоминая.
— В ту ночь я думал, что вижу Рим, охваченный пламенем.
— Неужели история Рима окончена?
Второй пожал плечами.
— История была долгой, — сказал он. — И в последней главе может вспыхнуть величайшая огненная буря. Падение Рима затмит падение Трои, как солнце затмевает пламя свечи.
— Мы займем там свое место, — произнес второй, — и падем смертью такой же славной и героической, как смерть самого Гектора.
Они опять иронически фыркнули, посмеиваясь над собой. Потом один сказал:
— Ну, пойдем дальше, старый троянец.
И оба брата по оружию, теперь низведенные до статуса низших дворцовых стражей, с одеревенелыми старыми суставами, покрытые шрамами, которые до сих пор ныли холодными ночами, медленно побрели по коридору, шлепая сандалиями по мраморным плитам.
Мальчик расслабился, отлепился от холодного мрамора и перевел дыхание. В миг, когда стражи завернули за угол и исчезли из вида, он выскользнул из ниши и, перебегая из тени в тень, помчался в противоположный конец коридора.
Там, в бледном, рассеянном свете луны стояла впечатляющая статуя самого Цезаря Августа: большая мускулистая рука повелительно вытянута, одет он в пластинчатые доспехи полководца четыре столетия назад. Его глаза в лунном свете сверкали, эти нарисованные черным глаза с мистически сверкающими белками. Вокруг основания статуи были выгравированы слова:
«PIUS AENEAS». И действительно: разве Цезари — не прямые потомки самого легендарного Основателя Рима?
Завтра на заре Август будет выглядеть совсем по-другому — своим ножом мальчик ослепит этот ледяной взгляд.
Он быстро вскарабкался на пьедестал и, чувствуя себя, будто в странном сне, полез вверх по бронзовой фигуре. Нож он зажал в зубах и, потянувшись вверх, сумел уцепиться за одну огромную руку Августа. Потом обхватил голыми ногами ноги статуи, подтянулся, выпрямился и обхватил рукой шею императора.
И застыл. Стражи возвращались обратно.
Это невозможно. Они всегда делали дюжину кругов по внутренним дворикам, так же регулярно, как совершали свое вращение звезды, в истинно римском стиле, и сейчас они должны были находиться в другом месте — в одном из бесчисленных дворцовых внутренних двориков, В своем нетерпении он, должно быть, обсчитался.
Мальчик оставался неподвижным, как сама статуя, пока стражи шли мимо, угрюмо глядя себе под ноги. Они не заметили его, сжавшегося в комок на великане-императоре, словно злобный демон. И вот они скрылись из вида.
Он отклонился назад, уцепившись за статую ногами и одной рукой, взял в правую руку кинжал и воткнул лезвие под алебастровое правое глазное яблоко Августа. Немного поковырял, и глаз легко выскочил. Мальчик ловко подхватил его — размером с утиное яйцо — рукой, в которой держал нож, и сунул в тунику. Потом воткнул тонкое лезвие под левый глаз и…
— И что, по-твоему, ты делаешь?
Голос был холоднее, чем любая мраморная или бронзовая статуя.
Он посмотрел вниз. У подножья статуи стояла молодая женщина лет двадцати, в изумрудно-зеленой столе, перехваченной на талии поясом, со строго убранными волосами — заплетенными в тугие косы и обернутыми вокруг головы. Волосы у нее были рыжеватого оттенка, а кожа — очень светлой. Женщина была высокая и очень худая, с изящным носиком, тонким, резко очерченным ртом, и холодными, зелеными, немигающими, похожими на кошачьи глазами. Ее облик излучал одновременно хрупкость и силу характера. Она вопросительно изогнула бровь, словно ей просто любопытно и даже забавно узнать, чем же занимается мальчик. Но в глазах не было ни веселья, ни обыкновенного любопытства. Ее взгляд заставил мальчика представить себе огонь, прожигающий путь сквозь стену льда.
— Принцесса Галла Плацидия, — прошептал он. — Я…
Ее не интересовали объяснения.
— Спускайся, — рявкнула она.
Он спустился.
Она посмотрела на изуродованный лик Цезаря Августа.
— Он увидел Рим кирпичным, а оставил его мраморным, — тихо произнесла она. — А ты… ты увидел его бронзовым, а оставил… изуродованным. Как это характерно. — Она снова кисло посмотрела на мальчика. — Так важно знать своих врагов, тебе не кажется?
Мальчик казался еще меньше, чем он был на самом деле.
Она протянула руку и приказала:
— Другой глаз.
Мальчик нащупал глаз, спрятанный в складках туники.
— Я… — Он сглотнул. — Когда я проходил мимо, одного глаза уже не было. Я только пытался убедиться, что второй тоже не вывалится.
Он даже не понял, что произошло, когда ударился о стену у себя за спиной. Только с трудом поднявшись на ноги, мальчик почувствовал, что одна сторона лица горит от боли. Синевато-багровые рубцы — синие шрамы татуировки на щеке, навеки врезанные в его плоть матерью, еще когда он лежал в колыбели — горели все сильнее. Он прикоснулся пальцами ко рту и понял, что странное ощущение щекотки на онемевших губах — это струйка крови.
Он крепче сжал в правой руке нож и шагнул вперед. Зубы он тоже яростно стиснул.
Галла даже не вздрогнула.
— Убери это.
Мальчик остановился. Он по-прежнему сжимал нож, но не мог больше сделать ни шага.
Глаза принцессы, одновременно холодные и пылающие — огонь на льду — не отрывались от него.
— С того дня, как ты появился здесь, от тебя одни неприятности, — заговорила она, и голос ее резал, как толедская сталь. — В Риме у тебя были лучшие галльские наставники, чтобы учить тебя риторике, логике, грамматике, математике и астрономии… Они пытались обучить тебя даже греческому! — Она засмеялась. — Какой трогательный оптимизм! Разумеется, ты ничему не научился. Твои манеры за столом — просто позор, ты только и делаешь, что хмуришься и насмехаешься над другими заложниками, равными тебе… варварами. А теперь ты стал еще и разрушителем?
— Радагайс принес бы куда больше вреда, — выпалил мальчик.
На какой-то миг Галла замялась.
— С Радагайсом покончено, — произнесла она. — Что и продемонстрирует нам триумфальная Арка Гонория, когда на следующей неделе ее торжественно откроют на церемонии. На которую ты пойдешь.
Он посмотрел на нее широко распахнутыми глазами.
— Странно, что ее не назвали Аркой Стилихона, правда ведь? В моей стране, когда выиграют сражение…
— Меня не интересует, что происходит в твоей стране. До тех пор, пока это не происходит здесь.
— Но ведь мы теперь союзники, разве нет? Если бы не помощь моего народа, Рим, возможно, уже заполонили бы варвары!
— Придержи язык.
— А уж они бы причинили куда больше вреда, чем это. — Он махнул на изувеченную статую, возвышавшуюся над ними. — Если бы Радагайс и его воины ворвались в город, они бы набили Сенат соломой и подожгли…
— Я приказала тебе заткнуться! — яростно воскликнула Галла, приближаясь к нему.
— …ее, и ушли бы, и от Рима остались бы только почерневшие булыжники. А потом пришли бы готы, потому что теперь их предводитель — Аларих, а он просто блестящий полководец, который…
Холодная костлявая рука принцессы взлетела вверх, чтобы во второй раз ударить маленького негодяя, а его раскосые, злобные азиатские глаза сверкали, когда он издевался над ней, и тут из дальнего угла внутреннего дворика зазвенел еще один голос.
— Галла!
Они услышали шуршанье столы по замощенному полу — к ним направлялась Серена, жена великого полководца Стилихона.
Галла повернулась к ней со все еще поднятой рукой.
— Серена?
Торопливо шагая, Серена сумела изобразить реверанс перед принцессой, но в ее взгляде не было ни покорности, ни смирения.
— Опусти руку.
— Прошу прощения?
— А ты, мальчик, отправляйся в свою комнату.
Он попятился к стене и остановился.
— Ты осмеливаешься приказывать мне?
Серена встретилась взглядом с Галлой, и взгляд ее не дрогнул. Она была ростом ниже принцессы и, вероятно, в два раза старше, но никто не посмел бы отрицать ее красоту. Она просто завила волосы и надела белую шелковую столу, которая оставила открытыми плечи и шею с надетым на нее узким ожерельем из индийских жемчугов. От глаз, темных и блестящих, отходили тоненькие лучики смешливых морщинок, и мало кому из мужчин при дворе хватало сил противиться ее желаниям, высказанным тихим и нежным голосом, когда она обращала к ним свой взгляд и широкую улыбку. Но в гневе ее прекрасные глаза метали пламя. Они метали пламя и сейчас.
— Ты думаешь, это мудро, принцесса Галла, жестоко обращаться с внуком нашего самого ценного союзника?
— Жестоко обращаться, Серена? А что, по-твоему, я должна делать, поймав его за поруганием одной из самых ценных статуй во дворце? — Галла почти незаметно придвинулась к Серене. — Иногда я всерьез думаю, обращаешь ли ты на это хоть какое-то внимание. Можно подумать, что твои симпатии лежат не только на стороне Рима, но и на стороне варваров! Нелепо, я понимаю. Но разумеется, твой муж…
— Достаточно! — вспыхнула Серена.
— Совсем напротив, вовсе недостаточно. Поскольку твой муж и сам нехристианского и варварского происхождения, я — и конечно, многие другие в придворном кругу, хотя тебе, возможно, удобнее не замечать этого — многие из нас начали подозревать, что ты, видимо, с трудом различаешь, что является истинно римским, а что — нет.
Серена язвительно усмехнулась.
— Давно прошли те времена, когда даже императоры родились и выросли в Риме. Адриан был испанцем, как и Траян. Септимий Север был ливийцем…
— Я знаю нашу историю, благодарю, — оборвала ее принцесса. — И в чем суть?
— Суть в том, что ты пытаешься сказать, будто мой муж не истинный римлянин из-за своего происхождения. Да только римлянство больше не имеет никакого отношения к происхождению.
— Ты умышленно искажаешь мою мысль. Я имела в виду, что ты и партия твоего мужа…
— У нас нет никакой «партии».
— …в серьезной опасности — вы готовы забыть самые принципы римской цивилизации.
— Когда я вижу взрослую женщину, бьющую маленького мальчика, я не вижу в этом цивилизации, принцесса, — язвительно заметила Серена. — Не вижу и дипломатии, хотя мальчик — внук нашего самого ценного союзника.
— Конечно, кто-то может и не согласиться с тем, что, поскольку ты просто жена солдата, пусть и странным образом… возвысившегося, твои взгляды не имеют никакого значения. Но я не хочу быть такой немилосердной. Или такой, — тут Галла Плацидия усмехнулась, — самодовольной.
— Ты видишь призраков, принцесса, — парировала Серена. — Ты видишь то, чего не существует. Она отвернулась и положила руку на плечо ждущего мальчика. — Иди в свою комнату, — пробормотала она. — Пойдем.
Они вместе пошли по коридору к комнате мальчика.
Галла Плацидия некоторое время стояла, сжимая и разжимая белые костлявые кулаки. Потом резко повернулась и пошла прочь, ослепленная бешенством, подметая шелковой столой землю. Ей мерещились подозрения, заговоры и зависть, внутренним взором она видела, как они, будто злобные феи, поспешно удирали в темные тени императорских внутренних двориков; зеленые глаза принцессы беспокойно метались из стороны в сторону, но не находили ничего достойного себя.
Серена остановилась на пороге комнаты мальчика и ласково, но решительно, повернула его лицом к себе.
— Нож, — сказала она.
— Я… я его где-то уронил.
— Посмотри на меня. Посмотри на меня.
Он взглянул в проницательные темные глаза и снова уставился в пол.
— Он мне нужен, — несчастным голосом произнес мальчик.
— Нет, не нужен. Отдай его мне.
Очень неохотно мальчик протянул ей нож.
— И обещай мне, что больше не будешь причинять ущерба во дворце.
Он подумал немного — и промолчал.
Серена не отрывала от него темных глаз.
— Поклянись.
Очень медленно мальчик поклялся.
— Я доверяю тебе, — сказала Серена. — Помни об этом. А теперь ложись в постель. — Она ласково подтолкнула его, захлопнула дверь и пошла прочь. — Маленький волчонок, — пробормотала она, и по ее лицу промелькнула тень улыбки.
Один из дворцовых евнухов постучался в комнату Галлы. Она кивком разрешила ему подойти.
Это был сообразительный, язвительный Евтропий. Он принес жизненно важные сведения — Серену и Аттилу видели перед комнатой мальчика, и казалось, что они то ли давали друг другу какое-то обещание, то ли заключали соглашение.
Он ушел, а принцесса вскочила на ноги и беспокойно заметалась по комнате, воображая, что повсюду происходят тайные умыслы и сговоры. Она представляла себе, что гунны вступили в тайные переговоры со Стилихоном, или мальчик каким-то образом передает сообщения от Стилихона и Серены своему кровожадному народу туда, далеко, на дикие равнины Скифии. Или даже своему деду, Ульдину, который — по ее мнению, ошибочно — будет принимать участие в завтрашнем триумфе императора, наряду со Стилихоном. Как будто он равный римскому полководцу!
Она видела своего брата, императора Гонория, правителя Западной Европы, вернувшимся во дворец в Милане или скрывающимся в новом дворце в Равенне, в безопасности там, за изобилующими москитами болотами, видела, как он хихикает себе под нос, скармливая первосортную пшеницу своим любимцам — домашней птице. Гонорий, ее брат-идиот, младше сестры на два года: восемнадцатилетний Правитель Мира. «Куриный Император», окрестили его злые языки придворных. Галла Плацидия все это знала, сведения доставляла ей сеть информаторов, да и ее собственные проницательные зеленые глаза видели всех насквозь.
Пусть Гонорий остается в своем новом дворце; может, это и к лучшему, он хотя
бы не путается у нее под ногами. Равенна, этот странный город-сон, символически соединенный с остальной Италией только узкой каменной гатью через болота. Равенна, чьи ночи наполнены лягушачьим кваканьем, где, как говорят, вина больше, чем питьевой воды. Пусть император остается там. Он будет в покое и безопасности со своими цыплятами.
Она долго не спала в ту ночь, глядя на Главный внутренний дворик, прислушиваясь к мирному плеску Дельфиньего фонтана и понимая, что сон не придет. Если она сейчас положит на подушку свою гудящую голову, ей приснится грохот десяти тысяч конских копыт, или разрисованные лица варваров, синие от ожогов и шрамов, которыми эти ужасные люди награждают своих детей еще в младенчестве. Ей приснится черный, бесконечный ливень стрел, приснятся беженцы, всхлипывая и спотыкаясь бредущие по разоренной стране, или бегущие укрыться в горы от грядущих гнева и кары. И в своем мучительном сне она будет кричать, и снова видеть церкви и крепости, охваченные пламенем в ночи, как пылающие башни трагического Илиона. Ее худые, костлявые плечи поникли под весом империи в сто миллионов душ. Она сжала тяжелый серебряный крест, висевший у нее на шее, и помолилась Христу и всем Его святым, и снова поняла, что сон не придет.
Она встревожилась бы еще сильнее, если бы увидела странный ритуал, происшедший в голой клетушке мальчика до того, как он, наконец, забрался в постель и уснул.
Он присел на корточки, вытащил из складок туники алебастровый глаз и аккуратно поместил его в пересечение четырех плиток пола, чтобы глаз никуда не укатился. Немного подумав — при этом мальчик и лишенный глазницы глаз мрачно смотрели друг на друга — он сунул руку под кровать и вытащил оттуда камень. Мальчик поднял камень над головой и изо всех сил ударил им по глазу, моментально превратив его в порошок.
Мальчик положил камень, ухватил щепотку алебастрового порошка и отправил его в рот.
И съел его.
3
Гунны входят в Рим
Ему снились жалкие сны о детском отмщении. И вот мальчик проснулся.
В крохотной келье было темно, но он распахнул ставни, в комнату ворвались слепящие солнечные лучи итальянского лета, и мальчик повеселел. Рабы суетились, таскали кувшины с водой и деревянные доски, на которых лежали сыры, обернутые влажным муслином, солонина и свежие буханки хлеба.
Мальчик выскочил из своей комнатушки и схватил одну из буханок.
— Эй, ты, маленький…
Но мальчик знал, что все в порядке. Это был его любимый раб, Букко, толстый и веселый сицилиец, над головой которого собрались самые ужасные проклятья, да только он не
обращал на них никакого внимания.
— Чтоб ты насмерть подавился, малолетний воришка! — проворчал Букко. — Чтоб ты насмерть подавился, а твою печенку расклевали сотни больных голубей!
Мальчик рассмеялся и побежал прочь.
Букко посмотрел ему вслед и ухмыльнулся.
Маленький варвар. Пусть все во дворце относятся к нему с высокомерным пренебрежением, но, во всяком случае, среди рабов у него есть друзья. Только одна римская супружеская пара обращается с этим мальчиком по-доброму.
* * *
Иногда по утрам он шел к бочке с водой, стоявшей во внутреннем дворике, и ополаскивал лицо, а иногда не ходил. Сегодня мальчик умываться не пошел.
Именно поэтому Серена, увидев его немного позже, пришла в ужас.
— Что, черт тебя возьми, ты сотворил с лицом? — воскликнула она.
Мальчик озадаченно остановился. Он попытался улыбнуться, но ему стало очень больно.
— О Господи, — вздохнула Серена, взяла его за руку и отвела в другой уголок дворца. Они вошли в холл ее собственных покоев, Серена усадила его за изящный маленький столик, заставленный ощетинившимися щетками и костяными гребнями, горшочками с мазями и бутылочками духов, и показала ему его отражение в полированном медном зеркале.
Пришлось признать, что выглядит он не лучшим образом. Галла Плацидия рассекла ему губу сильнее, чем он предполагал; возможно, она ударила его одним из своих тяжелых золотых перстней с печатками. Ночью рана, вероятно, открылась и начала кровоточить, потом кровь запеклась, и теперь чуть не весь подбородок мальчика был покрыт неприглядной красно-коричневой коркой. Правая щека распухла и побагровела, так что синие шрамы были почти незаметны, а правый глаз — мальчик чувствовал, что с ним что-то не так — опух, почернел и почти закрылся.
— Ну? — спросила она.
Мальчик пожал плечами.
— Думаю, я ударился ночью головой…
Серена внимательно посмотрела на него.
— Галла Плацидия ударила тебя до того, как появилась я?
— Нет, — угрюмо буркнул он.
Она взяла один из маленьких горшочков, стоявших на столе, сняла крышку и вытащила льняную салфетку.
— Будет больно, — предупредила Серена.
Обработав рану, Серена перевязала его распухший, почерневший глаз, наложив на него пропитанную уксусом салфетку.
— Хотя бы до вечера. — Она взглянула на мальчика и снова вздохнула. Ее губы тронула слабая улыбка. — И что с тобой делать?
— Отправить меня домой? — пробормотал он.
Она доброжелательно покачала головой.
— Так уж устроен мир. В лагере твоего деда живет римский мальчик твоих лет, и он тоже тоскует по дому.
— Тупица, — фыркнул мальчик. — Он может ездить верхом на лучших в мире лошадях! И его не заставляют есть рыбу.
— Тебя никто не заставляет есть рыбу.
У мальчика вытянулось лицо.
— Галла Плацидия… — начал он.
— Ладно, ладно, — перебила Серена, похлопала его по руке и сменила тему. Она прикоснулась к повязке легким, как перышко, пальцем. — Вот как ты теперь будешь выглядеть на ступенях дворца во время триумфа императора? — Она поджала губы. — Тебе придется встать позади всех. Хоть разок не привлекай к себе внимание.
Мальчик кивнул, резко вскочил с табурета и, задев, сильно толкнул изящный маленький столик, так что все бесценные горшочки и пузыречки Серены полетели на пол. Он забормотал извинения, неуклюже бухнулся на коленки и помог ей все собрать, потом поднялся на ноги и вышел из комнаты, повинуясь сердитому приказу.
Серена сама стала приводить все в порядок. Она покачивала головой, пытаясь не улыбаться. Этот маленький варвар. Приходится признать: это чистая правда, ему не место во дворце. Это небольшой смерч, свирепая сила природы в действии.
Мальчик помедлил за дверью, потрогав повязку на глазу. Иногда ему нравилось притворяться, что она действительно его мать: его мать, которую он едва помнил и которая в ночь полнолуния вырезала изогнутым бронзовым ножом у него на щеках эти ритуальные синие шрамы, всего через неделю после его рождения, и гордилась своим маленьким сыном, почти не кричавшим от боли. Но его мать давно мертва. Он уже не помнил, как она выглядела. И когда мальчик вспоминал о матери, он думал о женщине с темными, блестящими глазами и нежной улыбкой.
Евнух снова пришел к Галле и сообщил, что Аттилу с повязкой на лице видели выходившим из личных покоев Серены.
Галла стиснула зубы.
И настал день триумфа императора.
За стенами прохладных и строгих внутренних двориков дворца гудел переполненный Рим. Это было одно общее выражение благодарности, один общий вздох облегчения. И возможно, с облегчением смешалось смятение. Потому что в Рим входили гунны.
Пели трубы, развевались стяги, ревели толпы на всем пути от Триумфальных Ворот до Марсова Поля. По улицам вели быков, украшенных гирляндами поздних летних цветов, они сонно качали большими головами, не зная, что идут навстречу своей жертвенной смерти. Везде были разношерстные толпы людей, они пили, пели и восторженно кричали. Опытный глаз легко различал среди них мелочных торговцев и жуликов, слепых попрошаек, которые жались к стенам — закутанные в лохмотья хрупкие скелеты, они подергивались и бормотали, обращаясь с просьбой к прохожим. Хватало и притворных слепцов-нищих, стоявших с протянутыми, слишком упитанными руками. Вот стоит солдат-ветеран на деревянной ноге, а там на потрепанном костыле прыгает солдат-притворщик, подвязав одну (совершенно здоровую) ногу к ягодицам и спрятав ее под рваным плащом. А чуть дальше прохаживаются проститутки в сандалиях на высокой шнуровке, с подошвами, на которых сапожными гвоздями тщательно выбит узор, оставляющий в пыли слова «иди за мной». В этот день воссоединения и чувственных настроений они неплохо заработают. Их большие, обольстительные глаза подведены черным углем и оттенены зеленым малахитом, и все они — поразительные блондинки в искусно сделанных льняных париках, привезенных из Германии. Некоторые стаскивают с себя парики и весело машут ими.
Потому что, хоть это не только праздничное, но и серьезное событие — ведь празднуется ни много ни мало, а спасение Рима — в этот день здесь хватает и обычного мошенничества, и воровства, и проституции, как в любой другой день в этом великом городе. Немногое изменилось за четыре столетия, прошедших со времен Ювенала, или за столетие после того, как Великий Константинополь провозгласил эту империю Христианской Империей; и еще менее того изменилась человеческая натура.
Вот торговец рыбой продает свои «острые рыбные котлетки» — вот уж действительно, сверхострые, лишь бы скрыть, что рыбу выловили в Остии не меньше двух недель назад.
Caveat emptor. А вон торговцы фруктами с абрикосами, фигами и гранатами. А вот мошенники и прорицатели, «халдеи-астрологи» с задворков Рима, нацепившие смехотворные мантии, расшитые луной и звездами. Вон хитроглазый молодой сириец с ловкими руками, широкой улыбкой и жульническими игральными костями. А рядом другой, старик, со слезящимися глазами, скрюченный возрастом, грек, как он утверждает, неубедительно рекламирует свое собственное «чудодейственное снадобье» — маслянистую зеленую жидкость в неопрятных стеклянных бутылочках, которую он предлагает прохожим — за деньги, разумеется. За определенное количество монет.
В Риме за определенное количество монет можно купить все: здоровье, счастье, любовь, протяженность ваших дней, благосклонность Бога или богов — все по вашему вкусу.
Деньги могут купить все, даже — как иногда шептали очернители — сам пурпур императора.
Ну ступенях императорского дворца собралось столько монарших домочадцев, сколько туда поместилось. Из каждой двери, из каждого окна люди приветствовали, и кричали, и махали флагами и тряпками, в точности, как и в самом убогом доме города; они неосторожно свешивались из окон своих покоев на пятом и шестом этажах высоко вздымавшихся insulae.
Первыми в триумфальной процессии шли пожилые сенаторы — они всегда шли впереди императора, пешком в знак своей покорности. Этому никому ненужному клубу миллионеров в старомодных тогах, отороченных пурпуром, толпа аплодировала весьма тускло. Потом под громовые аплодисменты пошли лучшие войска Стилихона, его Первый Легион, почтенный Legio I Italica, появившийся при Нероне и располагавшийся в Бононии. Как и в других легионах, в нем больше не насчитывалось полных пяти тысяч человек, скорее всего две тысячи; и они проводили все больше и больше времени с подвижной полевой армией Стилихона, обороняя границы Рейна и Дуная. Но у Флоренции они показали всем, что по-прежнему остаются лучшими войсками в мире. Остальным легионерам достаточно было роста в пять футов десять дюймов, но чтобы вступить в
Legio I Italica, нужно было иметь полных шесть футов роста.
Они гордо промаршировали в безукоризненном строю под развевающимися штандартами с вышитыми орлами, драконами или извивающимися змеями, иногда гневно распрямляющимися под действием ветра. Они несли не мечи, а деревянные дубинки, по обычаю всех триумфов, но все равно выглядели суровыми и беспощадными. Сзади маршировали их центурионы с грозными, как всегда, лицами, зажав в кулаках толстые виноградные дубинки. Потом шел наместник Гераклиан, заместитель Стилихона с быстрыми и неуверенными глазами, всегда завидующий, как поговаривали, своему блестящему командиру. А за ним, на благородном белом жеребце, сам Стилихон. Замечательное, длинное и скорбное лицо; умные глаза; повадки одновременно мягкие и решительные.
А рядом с ним ехала незаурядная личность. А следом — еще пятьдесят или около того незаурядных личностей. До такой степени незаурядных, что в толпе, усыпавшей улицы, воцарилась тишина; казалось, что толпа потеряла голос.
Потому что рядом со Стилихоном, на низкорослой и норовистой гнедой лошадке, так закатившей свирепые глаза, что виднелись одни белки, ехал мужчина из тех, кого римляне до сих пор никогда не видели. Ему было, вероятно, за пятьдесят, но выглядел он крепким, как бычья шкура. У него были необычные раскосые глаза, редкие прядки скудной седой бороденки едва прикрывали подбородок. На нем был заостренный шлем и грубый, потертый кожаный жилет, а сверху он накинул просторный, запыленный плащ из потрепанной конской шкуры. Он ощетинился оружием: с одной стороны меч, с другой — кинжал, за спину закинул красиво выделанный лук и колчан, набитый стрелами. Мрачный, непроницаемый взгляд устремлен вперед, и, несмотря на мелкое телосложение, он излучал силу.
Звали его Ульдин, а сам он называл себя вождем гуннов.
Сразу вслед за ним ехали его соплеменники, его личная охрана; они тоже были одеты в пыльные, неопрятные меха, ощетинились оружием и сидели верхом на низкорослых лошадках с лютыми глазами. Аккуратные маленькие копыта выбивали из мостовой завитки пыли. Распахнувшие рты зеваки чуяли запах кожи, коней и пота: что-то чуждое, звериное, что-то безбрежное и дикое, столь далекое от упорядоченных улиц Рима.
Некоторые всадники Ульдина стреляли глазами налево и направо, с вызовом встречая взгляды граждан Рима и глядя на них с неменьшим любопытством. Ульдин смотрел только вперед, но его люди не могли удержаться и не глазеть по сторонам и вперед, на монументальные городские строения; строения таких размеров и пышности, что они с трудом могли постичь это, Даже самые убогие дома, населенные беднейшими римлянами, были выше, чем любые творения рук человеческих, виденные этими всадниками за всю жизнь. А еще там высились дворцы патрициев и императоров, величественные триумфальные базилики, окна в которых были из вещества под названием стекло — оно впускало внутрь свет и тепло, но не впускало холод. Непроницаемые куски зеленого и синего льда, не таявшего на солнце — совершенно непостижимая вещь.
Фантастические, перегруженные деталями Бани Диоклетиана и Каракалла, украшенные мрамором всех мыслимых цветов и оттенков: желтый и оранжевый из Ливии, розовый с острова Эвбея, кроваво-красный и сверкающий зеленый из Египта, а еще драгоценный оникс и порфир с Востока. А дальше Пантеон, и Колизей, и Форум Траяна, и Арка Тита, и величественные храмы римских богов, в чьих сокровищницах, по слухам, хранилось золото половины мира…
И все-таки граждане Рима довольно охотно продолжали приветствовать криками всадников-варваров, признавая, хотя и с беспокойством, что Рим был спасен только благодаря союзу с этими чужаками.
Правда, самые франтовые аристократы отворачивали свои изящные носики и прикрывали рты маленькими белыми платочками, надушенными лавандовым маслом. Некоторые держали шелковые зонтики, прошитые золотыми нитями, чтобы защитить бледную кожу от солнца, и, указывая пальцами на всадников-гуннов, шутили, что все ж таки никому не захочется загореть вот так. Эти франты были разодеты в легкие шелковые тоги с вышитыми на них экстравагантными сценами охоты или дикими животными; или, если они хотели продемонстрировать свое благочестие — со сценами мученичества любимого святого. Что могли бы сказать на это суровые прежние герои Рима, как взъярился бы Катон Цензорий, можно только догадываться. Эти эпигоны, эти выродки…
Как гунны оценили их и сам Рим, можно себе представить.
Говорили, что многие патриции не остались в Риме, чтобы посмотреть триумф. Вяло и надменно сказали они, что в городе будет чересчур жарко, что он будет слишком запружен плебсом и — хуже того — всадниками-варварами, и это просто невыносимо. Вонь будет просто омерзительная. И они отправились со своими друзьями на озеро Лукрин, на залив Путеоли, чтобы, обессилев, лежать на своих расписных галерах, потягивая из кубков фалернское вино, охлажденное снегом, который приносят в кувшинах с вершин Везувия рабы. И, развалившись на галерах, слушая, как рабы тихонько наигрывают на струнных инструментах, они опустят свои изящные руки в прохладные воды озера и посмотрят в сторону острова Искья и вздохнут о днях своей молодости. Или о молодости Рима. Или о любых днях, кроме сегодняшних, и о любом другом месте, кроме этого. О чем угодно, лишь бы не об этих тяжелых днях и требовательных временах.
Домочадцы императора смотрели со ступеней дворца. Во главе их толпы стояла уверенная, невыразительная фигура принцессы Галлы, одетая сегодня в тогу ярко-шафранового цвета. Остальные домочадцы как будто сдвинулись от нее на другую сторону, а в самом дальнем уголке, рядом с Сереной, скорчился маленький, свирепо нахмурившийся мальчик.
— Эй, короткозадый! Эй!
Мальчик посмотрел налево и нахмурился еще сильнее. Там стояли двое других заложников, мальчишки-франки, и кричали ему через толпу:
— Давай-давай, проталкивайся вперед! Отсюда ты ничего не увидишь, кроме лодыжек! — И оба высоких, светловолосых мальчика захохотали.
Он уже собрался протолкаться к ним, крепко стиснув зубы, но тут на его плечо легла рука Серены, мягко, но решительно повернув его обратно к разворачивающемуся перед ними представлению.
Полководец Стилихон, мрачный на своем прекрасном белом коне, проезжая мимо них, повернулся и поклонился принцессе Галле, сумев перехватить взгляд жены: они обменялись едва заметными улыбками.
Стилихона отвлек голос Ульдина: тот на рваной, ломаной латыни спросил, кто этот мальчик на ступенях, с перевязанным глазом. Стилихон оглянулся и успел увидеть мальчика до того, как тот скрылся из вида. Он повернулся обратно и широко улыбнулся:
— Это Аттила, сын Мундзука, сына…
— Сын моего сына. Я его знаю. — Ульдин тоже широко ухмыльнулся и спросил: — А какие заложники живут взамен у нас?
— Паренек по имени Аэций — того же возраста, что и Аттила, старший сын Гауденция, старшего военачальника кавалерии.
Вождь гуннов искоса бросил на Стилихона взгляд.
— Тот самый Гауденций..?
— Так утверждает молва, — ответил Стилихон. — Но ты и сам знаешь, что такое молва.
Ульдин кивнул.
— А почему у него перевязан глаз? У сына Мундзука?
Стилихон не знал.
— Он постоянно ввязывается в стычки, — пожал он плечами. — Мой маленький волчонок, — тихо добавил он, скорее себе, чем Ульдину. Потом стер любящую улыбку с лица и снова принял вид солдатской суровости, подобающий достоинству полководца на триумфе в Риме.
Где-то среди триумфального шествия ехал и сам император на безукоризненно белой кобыле, украшенной плюмажем: юный Гонорий в пурпурной с золотом тоге. Но его почти никто не заметил. Он не производил впечатления.
Со ступеней Палатинского Холма принцесса Галла внимательно взирала на триумф.
После шествия, после бесконечных речей и панегириков, после торжественной службы благодарения Господу в церкви святого Петра, в Колизее состоялись триумфальные игры.
Двумя поколениями раньше император Феодосий закрыл все языческие храмы и отменил кровавые жертвоприношения, а христиане всеми силами старались положить конец играм: не столько по причине их жестокости, сколько из-за того, что толпа получала от этих представлений слишком много низменного удовольствия; а еще потому, что в дни игр под арками Колизея собиралось так много размалеванных, нарумяненных шлюх — они выпячивали губы, распутно обнажали груди и бедра, и христианин не знал, куда девать глаза. А уж дамы-христианки…
Всего шесть лет назад, в 404 год от Рождества Господа нашего, некий восточный монах по имени Телемах, со сверкающими фанатизмом глазами, кинулся с лестницы на арену в знак протеста против омерзительного представления. Чернь, верная себе, забила его камнями до смерти, потому что они — простонародье — любили свои спортивные состязания и игры. А позже, с типичным для немытой и неграмотной толпы непостоянством, они выли в скорби и раскаянии о том, что натворили. И юный и впечатлительный император Гонорий тотчас издал декрет, с этого времени и впредь упраздняющий игры.
К несчастью, как и многие другие его декреты, этот был почти полностью проигнорирован. Очень скоро игры вновь пробрались на арену, и страсть толпы к крови и зрелищам возродилась. Так что в этот августовский день, всего четыре года спустя, не кто иной, как сам император Гонорий провозгласил триумфальные игры открытыми.
Некоторых преступников заставили одеться, как крестьян, и заколоть друг друга вилами. Мужчину, который изнасиловал собственную дочь, привязали к столбу и натравили на него каледонских охотничьих псов — они сожрали его гениталии, когда он еще был жив. Толпе это особенно понравилось. Произошла долгая и кровавая схватка между огромным лесным бизоном и испанским медведем. В конце концов бизон был убит, а медведя пришлось утащить с арены волоком и, без сомнения, добить где-нибудь в подвалах. Однако сражений гладиаторов больше не происходило, потому что их запретили навеки, как не подобающие христианской империи. Не убивали больше и слонов, потому что Рим четыре долгих столетия грабил и опустошал Африку, и от тех обширных стад, что бродили когда-то между Ливией и Мавританией, ничего не осталось. Говорили, что в поисках слонов теперь требуется отправляться за многие тысячи миль на юг, за Великую Пустыню, в неизведанное сердце Африки — и все понимали, что это невозможно. И свирепых тигров не осталось в горах Армении, и львов с леопардами в горах Греции, где семь столетий назад, еще мальчишкой, на них охотился Александр Великий. Их тоже переловили, посадили в клетки и морем отправили в Рим на игры — и все они исчезли.
4
Цицерон и свобода
Вечером, после того, как гунны удалились в свой временный лагерь, разбитый за городскими стенами, в честь императора Гонория и его блистательной победы над армией Радагайса устроили большой пир.
В огромном пиршественном дворцовом зале с колоннадами вокруг длинных столов установили ложа на три сотни гостей, гордых, поздравляющих самих себя.
Приказали явиться всем детям-заложникам: Гегемону и Беремону, двум пухленьким мальчикам-бургундам; высоким, белокурым, остроумным, хохочущим франкам; двоим ленивым принцам-вандалам, Берику и Гензерику; и всем остальным. Аттила, нахмурившись, сидел в середине, но никто из них не осмеливался приблизиться к нему. Даже то, как он держал фруктовый нож, пугало их.
Неподалеку, чтобы подбодрить мальчика, сидели Стилихон и Серена. А наибольшей благосклонностью императора, устроившись куда ближе ко главе стола, чем Стилихон, пользовался наместник Гераклиан — льстец, обаяшка, истинный римлянин древнего происхождения — и совершенно некомпетентный воин. В конце зала, на возвышении из богатого зеленого египетского мрамора, стояли два огромных, ослепительно белых и золотых, ложа, покрытых пурпурной тканью, и на них полулежали имперские брат и сестра — Галла и Гонорий. Гонорий ел очень много, его сестра — очень мало. Их привычки к питию отличались точно так же, демонстрируя их разные характеры.
Еда и вина были великолепны. Из окутанной туманами Британии привезли устрицы, сохраняя их во время перевозки в соленой морской воде; теперь они лежали в небольших ивовых корзинках, все еще прикрытые лоснящимися зелеными морскими водорослями. Подавались превосходные рыбные соусы garum, привезенные из Битинии и Кадиса; изысканнейшие блюда, такие, как павлины, зажаренные в меду, отварные дрозды, верблюжьи ножки и рагу из соловьиных мозгов. Многие гости ворковали над этими сказочными деликатесами, в том числе и дети-заложники, в восторге от привилегии попробовать подобную пищу. Однако мальчик-гунн, грубый и невоспитанный, попробовав паштет из мозгов испанских фламинго на маленьком ломтике мягкого пшеничного хлеба, с отвращением выплюнул его. Стилихон со своего места услышал, как с омерзением отхаркивается мальчик, обернувшись, посмотрел, что случилось, и тут же повернулся обратно, пытаясь подавить улыбку.
Подавали тефтельки из дельфиньего мяса, вепря, отваренного в морской воде, колбаски из кальмаров, и величайшие кулинарные редкости — сыр из оленьего молока, сыр из заячьего молока и даже сыр из кроличьего молока, про который говорили — нет сомнения, в интересах некоторых из гостей позже этой же ночью — что он целителен и препятствует диарее.
Подавали молоки из барабулек на листьях настурции и бараньи яйца, мурену и угрей в сброженном соусе из анчоусов; подавали торт из овечьей плаценты и патиссонов, омлеты из медузы и ломтики копченых журавлей — из птиц, которых ослепляли еще птенцами, чтобы они вырастали жирными. Подавали свиные соски с морским тунцом и пенис зубра в соусе из перца и шелковицы. Подавали жареных гусей, которых последние три месяца жизни насильно кормили фигами, и пряный паштет из печени свиньи, которую утопили в красном вине. А сами вина! И пукинийское, из залива Тергестин, и сладкое маринийское из альбанских гор, и пряное рубиновое кьянти (опасно крепкое), и двенадцатилетнее наментийское, и даже фалернское, из хорошо известного в мире опимианского урожая: как гласила этикетка на горлышке, почти столетней выдержки и, как согласились все, только сейчас достигшее своих лучших качеств.
— Господин? — произнес раб, протягивая бутылку Стилихону.
Полководец помотал головой.
— Воды.
Императорские повара, вся тысяча, превзошли самих себя в старании и мастерстве. Верные римским традициям, они предприняли невероятные усилия, чтобы замаскировать одно блюдо под другое. Смех гостей отражался от расписных позолоченных потолков, когда они понимали, что блюдо, принятое ими за запеченного голубя, залитого медом, на самом деле было сделано целиком из сахара. А каким изысканным воображением нужно обладать, чтобы отварить зайца, пришить на место снятый с него мех и прикрепить к его спине крылья пустельги — заяц стал походить на странного миниатюрного Пегаса!
Весь пир оказался абсолютным триумфом римского вкуса и творчества, и великолепие банкета было одобрено почти всеми. Гости ели и пили в свое удовольствие, и часто отлучались, чтобы опорожнить мочевой пузырь, или желудок, или и то, и другое.
За столом происходил обычный обеденный разговор: об ужасно жаркой погоде, о том, как они стремятся в свои маленькие именьица в деревне, как только закончится триумф. В это время года в пятьдесят раз лучше жить в горах Кампании, и, конечно же, детям там особенно хорошо. А неимущие сельские жители могут быть просто очаровательны со своими забавными, безграмотными взглядами и суждениями.
Гости замолкали, чтобы взять еще одну-две лягушачьи лапки с серебряного блюда, чтобы сморщиться и пустить ветры, чтобы ополоснуть пальцы в золотых чашах, в воде, ароматизированной лепестками роз, а потом обтереть их о волосы проходивших мимо рабов.
Пока еще можно подыскать себе очаровательную маленькую виллу с несколькими акрами виноградников и оливковых деревьев, просто-таки совсем дешево. Очень хорошо отзываются о районе вокруг Беневентума, к примеру, этого прелестного старого колониального городка на
Via Appia, за Капуей. Немного далековато и примитивно, это правда, и добраться не так просто, как до Капуи, но все равно очаровательно, просто очаровательно. Капую «открыли» довольно давно, и она страдала от того, что называли «переселением неаполитанцев», а вот дальше в горы, рядом с Каудиумом и Беневентумом, все еще можно чувствовать, что находишься в настоящей Италии. Разумеется,
Via Appia поддерживают не в таком хорошем состоянии, как раньше — тут они слегка понижали голоса — и добираешься туда очень уставшим. И в местных лавках невозможно раздобыть свежих устриц для званого обеда ни за какие деньги. Приходится «обходиться» тем, что предлагают местные поставщики, иногда это весьма грубая пища: ячменный хлеб, колбаски из конского мяса, фиги — ну, и тому подобное. И все-таки — несколько недель в горах Кампании, на собственной небольшой вилле, может стать таким отдыхом от Рима. Это просто необходимо, честное слово.
Потом поболтали о нелепых ценах на собственность в городе: теперь гоняются даже за жильем на Aventine. Этак скоро люди заявят, что модно жить к западу от реки! Поворчали об экономических переселенцах с севера, особенно о германцах, и о том, что у них нет ни приличных манер, ни чувства закона и порядка, они просто снижают общую атмосферу всего района, если поселяются по соседству. Они ходят в смехотворных штанах, у них куча ребятишек, и пахнет от них странно.
Под конец, когда кувшины с вином и блюда почти опустели, поднялся придворный управитель, стукнул золотым посохом по земле и воззвал к тишине.
— Ваше Божественное Величество, — произнес он, так низко поклонившись императору, что всем показалось, будто у него сейчас сместится спинной диск. — Прекраснейшая принцесса Галла, сенаторы, полководцы, префекты и преторы, судьи, епископы, легаты, квесторы, ликторы, дамы и господа, представляю вам нашего достопочтенного поэта, равного Лукрецию, нет, Вергилию, нет, самому великому Гомеру — дамы и господа: прошу тишины. Клавдий Клавдиан!
Под более чем жалкие аплодисменты поднялся на ноги жирный, потный, смуглый мужчина и обеспокоенно оглядел три сотни гостей.
Одни-двое вежливо улыбнулись ему. Все знали, что сейчас произойдет.
Поэт молил о прощении, умолял о снисхождении, бесконечно кланялся и кивал в сторону императорского возвышения, хотя умудрился ни разу не поднять на него глаза — несомненно, опасаясь, что будет потрясен и ослеплен сиянием Его Императорского Величества. Потом, вытащив из складок тоги угрожающе толстый свиток, он объявил, на удивление сильным и звучным голосом, что будет рад прочесть собравшемуся обществу короткий панегирик, который набросал этим утром, во хвалу великолепной победе императора над ордами варваров; он попросил слушателей о снисхождении, поскольку времени для работы у него было совсем немного.
Вообще-то все знали, что у Клавдиана всегда есть буквально дюжины панегириков, уже написанных и припрятанных в библиотеке его прелестной виллы на Эсквилине, предназначенных для того, чтобы охватить все мыслимые и немыслимые события, и он вытаскивает их по мере надобности. Но все были слишком вежливы, чтобы заявить об этом вслух. Кроме того, несмотря на ехидные замечания за глаза, Клавдиан очень нравился императору.
Он кашлянул и начал:
О возлюбленный принц, ярче, чем дневное светило,
Чьи стрелы в цель летят верней, чем парфянские!
Разве моя хвала может сравниться с твоим величественным умом?
Как восхвалить твое великолепие и твою красоту?
На ложе из золота, на финикийской порфире мать даровала тебе жизнь,
И предсказания сулили тебе удачливую судьбу!
И Аммон, и Дельфы, так долго немые, нарушили свое молчание,
И камень в Кумах — храм неистовой Сивиллы — снова заговорил!
Дородный легат рядом со Стилихоном приподнялся на локте и кисло пробормотал:
— Что-то я такого не припомню.
— По-моему, меня сейчас вырвет, — пробормотал в ответ полководец, — и виноваты в этом будут не их сомнительные британские устрицы.
Оба склонили головы, пытаясь подавить смешок.
Галла на возвышении повернула голову.
Клавдиан продолжал:
Когда в пылу погони ты направлял скакуна среди каменных дубов,
И локоны твои струились по ветру,
Звери сами падали пред твоими стрелами,
И лев был рад получить рану от священной руки принца,
Приветствовал твое копье и с гордостью умирал!
Когда после псовой охоты ты искал тени лесов
И свободно раскидывал члены во сне,
Какая любовная страсть начинала пылать в сердцах дриад,
Сколько наяд подкрадывалось к тебе на дрожащих ногах,
Чтобы украсть незамеченный поцелуй!
Многие гости одобрительно засмеялись, оценив восхитительный образ. Даже сам император хихикнул в кубок с вином. Клавдиан великодушно помолчал, дав императору отсмеяться, и возобновил декламацию, потому что осталось еще много:
Кто, хотя бы и более варвар, чем дикие скифы,
И более жесток, чем дикие звери,
Увидев рядом с собой твою необыкновенную красоту,
Не схватит с готовностью цепи рабства
И не предложит служить тебе?
Аттила проверял остроту маленького фруктового ножичка на подушечке большого пальца.
И весь мир преклонится пред тобой, о благороднейший принц!
И я предвижу разграбление далекого Вавилона,
И Бактрию, склонившуюся перед законом,
Испуганную бледность на берегах Ганга —
И все пред твоим именем!
Потому что перед тобой весь мир преклонит колени;
Красное Море подарит тебе драгоценные раковины,
Индия — слоновую кость, Панчая — духи,
А Китай — рулоны желтого шелка.
И весь мир признает твое имя, твою империю.
И будет это безгранично, без сроков и пределов!
Аплодисменты длились почти так же долго, как читалась сама поэма.
Чуть позже Галла проходила за ложами, чтобы поговорить с управляющим, и случайно услышала, как один из пьяных и неосмотрительных гостей рассеянно интересовался у соседа, присутствовал ли вообще император на сегодняшнем Триумфе?
— Потому что если он там был, я его точно не заметил, — невнятно бормотал гость. — Я, как и все остальные, глаз не отводил от божественного Стилихона!
Галла остановилась.
Не зная, что их подслушивают, второй гость произнес sotto voce:
— Наверное, наше Священное Величество был слишком занят — кормил своих любимых цыпляток.
Они захихикали. Потом один посмотрел вверх и увидел, что принцесса стоит прямо позади них. Теплое вино хлынуло у него обратно из горла.
Галла наклонилась и взяла с блюда жареного жаворонка.
— Молю вас, продолжайте, — улыбнувшись, сказала она и перегрызла ножку птички пополам.
Она поговорила с главным управляющим, тот кивнул и быстро ушел. Возвращаясь на императорское возвышение, Галла заметила, что среди детей-заложников не видно негодника-гунна.
Галла подозвала служителя, который сообщил, что мальчик отпросился в туалет.
— Давно?
— Ну, — начал заикаться служитель, и по его лбу потекла струйка пота, — пожалуй, довольно давно.
— Пойди и приведи его.
Служитель обыскал все уборные, и вверху, и внизу. Аттилы нигде не было. Служитель спустился в свою клетушку на половине рабов, понимая, что его дни во дворце сочтены, и приготовился к самому худшему.
В это время мальчик-гунн украдкой пробирался по Главному внутреннему дворику, в прохладной зеленой тени от Дельфиньего Фонтана.
Во дворец нелегко было пробраться, но и выбраться из него — не легче. Но Аттила продумал свой побег очень тщательно, терпеливо наблюдая за каждым движением дворцовых стражей весь год своего плена: он следил за каждым отпиранием и запиранием ворот, подслушивал каждый пароль. Невзирая на свою природную дикость, он мог быть очень терпеливым, если требовалось. Отец, Мундзук, все время твердил, что терпение — главная добродетель всех кочевых народов. «Ничто не может поторопить солнце», — говаривал он. Постоянно кочующие гунны, без сомнения, хорошо умели ждать, и мальчик тоже обладал терпением и ритмом кочевников. Бесполезно пробиваться сквозь песчаную бурю — но в миг, когда буря кончится, можно воспользоваться своим шансом. Хватай его в свои свирепые руки, ибо он может больше никогда не подвернуться. Римляне походили на людей, пытающихся передвинуть пески в пустыне, как пески Такла Макана, когда дует восточный ветер — только ночью ветер меняется, и весь песок возвращается обратно. Эту работу не завершить никогда.
Мальчик также понял, по каким правилам и как часто меняется дворцовый пароль, и почувствовал только презрение к тому, как это легко. От календ до ид каждого месяца пароль менялся в полдень; от ид до календ следующего месяца он менялся в полночь. Другими словами, достаточно подслушать пароль сразу после полуночи во второй половине каждого месяца, и ты пройдешь в любые ворота дворца до следующей полночи.
Он даже разобрался в криптографической системе, используемой во дворце, и вновь с презрением подумал об их лени и самодовольстве: как греческие купцы, чересчур уверенные в безопасности своих судов в море, даже в штормовой октябрь. Она была основана на криптографической системе, разработанной еще Юлием Цезарем для военных сношений. Может быть, эти нудные часы, которые Аттила проводил со своим проклятым педагогом, Деметрием из Тарса, во время которых в него вбивали начатки римской истории и культуры (чтобы он начал относится к империи с соответствующим уважением и почитанием), может быть, эти уроки все же были не совсем напрасной тратой времени?
В августе буквы В, Г, С, У, Т заменяли буквы А, Б, В, Г, Д — а далее весь алфавит смещался на пять букв, превращаясь в закодированный. В августе «Цезарь» писали как «Цезврь». В следующем месяце первые семь букв алфавита менялись на Е, Н, Т, Я, Б, Р, Ь и «Цезарь» писали «Цнзррь».
Все это мальчик выяснял тайком, подслушивая из коридоров, подбирая обрывки бумаги, обдумывая все увиденное и услышанное в одиночестве, как волк или паук. Как медленно текущая Железная Река в Скифии, в чью честь, как говорили, его и назвали.
И все то время, что он проникал в тайны дворцовой системы кодов, вспыльчивый педагог-грек регулярно бил его за то, что он медленно соображал над книгами.
Кроме умственной подготовки к побегу, Аттила занимался и практической подготовкой — унес фруктовый нож с банкета, накопил мелких медных монет, украл с кухни мешок толокна и запасся пробкой.
Вскоре после того, как настала ночь празднования победы над варварами, Аттила улизнул со своего места у низких столов в банкетном зале и быстро помчался в свою комнатенку, где хранились его сокровища. Потом проскользнул через пустынные внутренние дворики дворца, молясь своему отцу Астуру, чтобы он направлял и охранял его, и вот уже добрался до главных ворот, так сильно дрожа от страха, что едва мог заставить себя говорить.
— Стой! Кто идет?
Он молча подошел ближе.
— Я сказал: стой!
Аттила остановился.
Лунный свет упал на черную кирасу стража и его черный шлем с плюмажем. Это tesserarius — часовой-парольщик. Он уставился на мальчика.
— Назови свое имя.
Аттила заколебался, потом тихонько произнес:
— Цицерон.
Страж удивился.
— Кто дал тебе пароль? — заворчал он.
— Не твое дело, — отрезал мальчик. — И я не обязан называть тебе свое имя. Пароль сегодня Цицерон. Так что дай мне пройти.
Страж еще помялся, стиснув в мясистом кулаке древко копья. Потом неохотно отпустил его и кивком позволил мальчику пройти. Другие стражники стали открывать тяжелые, окованные железом ворота. С неприятной живостью tesserarius уже ощутил, как кнут центуриона опускается ему на спину. Но что он мог поделать? Пароль есть пароль.
Мальчик проскользнул мимо него и исчез на улице. Страж посмотрел ему вслед, но уже не смог увидеть.
5
Улицы Рима
Аттила в первым раз за этот год вдохнул свежего воздуха. Пусть воздух этого огромного и перенаселенного города совсем не похож на дикий воздух Скифии, все-таки он свеж. А между ним и горячо любимой родиной теперь нет никаких препятствий, кроме нескольких сотен миль.
Он повернул налево от дворца и поспешил вдоль по улице. По левую руку от него тянулся громадный Палатинский дворцовый комплекс, построенный Септимием Севером. Мальчик завернул за угол и направился к затененным аркам великого акведука Нерона и дальше, к темным улицам за ним. Все это он продумал давным-давно.
Вниз, к подножью Палатинского холма, еще раз налево, обойти Арку Константина, оставив справа огромную, нависающую массу Колизея. Скользнуть в аллею позади древнего храма Венеры и Рома, потом пройти мимо храма Мира — по римским стандартам очень маленького и незначительного. Мальчик спешил все вперед и вперед, в сторону безымянных и опасных улочек Субурры. Сзади него высились три холма — Квиринал, Виминал и Эсквилин.
После триумфа и игр полуночные улицы беднейшей части города были забиты пьяными, глумящимися над всем на свете людьми. Они, пошатываясь и спотыкаясь, выползали из
pervigiles es popinae, многочисленных городских всегда открытых таверн, или исчезали в дверях одного из публичных домов, ремесло которых обозначалось статуей Гермеса с возбужденным, необычайно большим пенисом, раскрашенным в привлекающий внимание алый цвет.
Чернь распевала песни о величии Рима — и о своем императоре.
Император Гонорий сидел в купальне,
Выставив задницу в окно, а член засунув в воду!
Его волосы — о! просто прекрасны,
Убраны так старательно,
А яйца походят на цыплят,
И тут является его сестричка…
Время от времени, ради разнообразия, они разражались песнями о превосходстве своей любимой команды колесничих — Синих или Зеленых. Этот немузыкальный рев прерывался только для того, чтобы «певцы» извергли содержимое своих желудков — кислое вино — в уличные канавы.
Наконец сторонники Синих налетели на Зеленых, и началось столпотворение. Но, как значительно сообщают нам историки, люди любят драться, и чтобы драка завязалась, требуется совсем немного. И, разумеется, соперничающая команда колесниц — это вполне достаточный повод для кровопролития.
И в самом деле — разве в блистающей, помешанной на Боге столице на востоке, в Константинополе, не безумствуют ли толпы, не убивают ли друг друга, выбирая священников, как произошло совсем недавно при избрании епископа Евстахия? Или из-за изменений в литургии? Но они там — просто сумасшедший, легко возбудимый, азиатский народ. Уж в Риме-то людям хватает здравого смысла ограничивать свою жестокость спортивными интересами.
В основном Аттила ловко избегал сцен разврата и буйства. Он лишь изредка останавливался, чтобы с молчаливым презрением взглянуть на моральное убожество и безнравственность, составлявшие уязвимое место великого города. И, как всегда, он не мог не сравнивать поведение римских плебеев со своим собственным, спокойным народом там, на бескрайних равнинах — их торжественные пиры, их истинное достоинство, их уверенность в своих силах и исключительное самообладание. К пьянству они относились с отвращением: взрослый человек, который пытается снова превратиться в младенца — или вовсе безумца. А уж ежедневные римские бесплатные подачки этому проворовавшемуся, немытому сброду…
Потому что, впервые услышав, что каждый день римское государство бесплатно кормит любого, кто встанет за едой в очередь, мальчик отнесся к этому с недоверием. Поначалу это был великодушный дар — кусок хлеба, который выдавали только бедным или временно безработным. Но со временем бесплатный хлеб сделался в порядке вещей. А недавно, во времена правления императора Аврелия, ежедневная лепта превратилась в щедрую, соблазнительную раздачу не только хлеба, но и свинины, масла и вина сотням тысяч лишенного стыда сброда. Но всем известно, что в мире не бывает ничего бесплатного. Подачку бросали толпе в обмен на покой. В обмен на их сердца и умы.
Мальчик знал, что его народ, гуннов, никогда не смогли бы тихо совратить и романизировать, как других варваров. Для гуннов, как и для самого мальчика, гунна до глубины души, подобный отказ от самого себя — ежедневная подачка, постыдный отказ от собственной гордости и уверенности в своих силах — превратился бы в источник невыразимого бесчестья и позора. Среди гуннов, наиболее воинственного и гордого народа среди других, невозможность мужчине обеспечить семью мясом собственным трудом была бы невыносимым унижением.
Мальчик скользнул в еще более узкую и темную улочку, где вторые и третьи этажи зданий словно смыкались у него над головой, Он немного зачернил лицо грязью и взъерошил волосы, даже и в лучшие времена не особенно приглаженные. Теперь, став больше походить на тысячи других обычных мальчишек в трущобах Рима, он снова вышел на главную улицу. Мальчик посмотрел на небо и нашел большое созвездие, которое римляне называли
Ursa Major — Большая медведица, а его народ — Крылья Астура, Владыки всего, что Летает. Дальше его взор передвинулся на Полярную звезду. Мальчик едва заметно улыбнулся, повернул направо и пошел туда, куда она указывала — на север.
Позади в сточной канаве развалился пьяный старик; он поднял вверх бутыль с дешевым вином и заорал:
—
Vivit! ait Mors, Venio!.(Жизнь! — воскликнула Смерть. — Я иду!)
В пиршественном зале Галла почувствовала что-то неладное, потому что служитель не вернулся. Она щелкнула пальцами, не сходя с монаршего возвышения, и приказала рабам немедленно проверить комнатенку беспокойного заложника. Кроме того, она отправила двух придворных порасспрашивать часовых у восточных ворот. Когда они вернулись, она задала им единственный короткий вопрос, и, не дожидаясь, когда придворный закончит мямлить ответ, взмахнула рукой и сильно ударила его по щеке. Некоторые гости заметили происходящее и захихикали.
Потом она приказала центуриону тотчас же отправить поисковый отряд и в течение часа отыскать мальчика-гунна. Галла понимала, что как заложник, Аттила был одной из самых надежных гарантий Рима: гунны не нападут, пока он у них.
Побледневший юноша, возлежавший рядом с ней в расшитой золотом мантии из тирийского порфира и в серебряной диадеме, слегка покосившейся, замер между двумя глотками вина и заикаясь, спросил, глядя на нее возбужденными глазами:
— Ч-что случилось? Т-ты на меня рассердилась?
Галла выдавила ласковую улыбку.
— Не на тебя, дорогой мой. На кое-каких неумех, которым доверила важное дело.
— Ка-какое дело? Это опасно?
— Нет, что ты. Раб! — Галла прищелкнула пальцами, и подбежал еще один раб. — Его священному величеству нужно наполнить кубок!
— Я… я… — промямлил священное величество, протягивая кубок. Раб наполнил его до краев. Галла улыбнулась.
Гонорий икнул и неуверенно улыбнулся ей в ответ.
Мальчик услышал хриплый, безумный голос, а завернув за угол, увидел проповедника, стоявшего на ступенях церкви и ругавшего за грехи прохожих, которые издевательски смеялись над ним: мужчины с залитыми вином подолами под руку с легконогими, размалеванными проститутками.
Но не все прохожие смеялись. Не смеялись слепые, и немые, и хромые; не смеялись изгои прокаженные, которые ползли, опираясь на колени и шишковатые, без пальцев кисти рук; не смеялись дети-карманники и босые, оборванные сироты, занимавшиеся проституцией за корочку хлеба. Не смеялись одинокие, безымянные и нелюбимые, чьи презренные, жалкие вопли трогали сердце самого Господа, когда он еще человеком шел по этой земле.
Проповедник был личностью выдающейся, его обнаженные костлявые руки торчали из-под плаща, превратившегося в лохмотья, волосы спутались и были в колтунах, губы пересохли и потрескались, глаза налились кровью, а грязные ногти сильно отросли и походили на медвежьи когти. Он говорил хриплым голосом и судорожно жестикулировал, и некоторые прохожие, даже безнравственно пьяные, чувствовали потребность остановиться и прислушаться к ужасным, пророческим словам. Мальчик остановился и тоже прислушался.
— Горе тебе, о великий Вавилон! — выкрикивал проповедник. — Ибо ты, высокомернейший среди наций и могущественнейший среди империй, как ты пал теперь! Послушайте меня, вы, что идете мимо, погрузившиеся в грязь и зловоние своей порочности! Ибо сказал Господь наш пророку Иезекиилю: «Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба; будут искать мира и не найдут. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. И дети их оденутся в скорбь, и принцы их будут голодать, как нищие на улицах».
Ибо ты спасся от армий нехристей-варваров, что окружили тебя, о надменный Рим, но не будет твоя безнаказанность длиться вечно! Нет, не вечно; и года не продлится, и одной луны не продлится безнаказанность твоя, ибо говорю я тебе: еще до того, как одна луна прибудет и убудет, налетят на тебя армии с севера, и младенцев твоих разорвут на куски, и десять тысяч ночей Рима станут ночами ужаса!
— Скажи нам что-нибудь, чего мы не знаем! — заорал фигляр из толпы и разразился хохотом.
Пылающие, невыносимые глаза пугала-проповедника уставились на остряка, и тихим голосом он произнес:
— О да, и Рим будет смеяться, пока не погибнет.
И таковы были властность и тайна в глазах и голосе проповедника, что остряк замолк, и смех застыл у него на губах.
А проповедник, похожий на огородное пугало, продолжал:
— И через время, и в последние годы Рима, и в последний час мира, когда Господь сотрет все с лица земли, и Христос снова придет к нам в славе Своей, в те последние дни, что наступят раньше, чем умрет хоть один из вас, вы увидите все своими глазами — придет с востока принц ужаса, и назовут его Бич Божий. И его армии сотрут с лица земли ваши храмы и ваши дворцы, и всадники его растопчут копытами детей ваших, и гордыня ваша падет в прах, а над высокомерием вашим они посмеются.
Ибо и до вас были на земле могущественные принцы, и гордо стояли Сидон и Вавилон, Ниневия и Тир. А теперь все они исчезли, и даже развалин от них не осталось. Гнев Господа нашего сдул их прочь, как сдувает песчинки ветер, и их заносчивые дворцы, их башни, кутавшиеся в облака, их дьявольские храмы с алтарями Молоха, залитыми кровью невинных — все, все повержено в прах.
Ибо не устоит то, что от человека, а лишь то, что от Господа нашего. И кровь невинного, и рыдания вдовы, и слезы сироты взывают к небесам о справедливости! И сейчас, когда говорю я с вами, святой Иеремия сидит в своей келье в Вифлееме и бьет себя камнем в грудь за грехи человечества! И сердце его рыдает, ибо стены наши сверкают золотом, и потолки, и резные капители надменных наших колонн, а Христос ежедневно умирает у наших порогов, нагой и голодный, приняв облик Своих бедняков. Ибо человек жесток в сердце своем с младенчества и насмехается над учением Иисуса Христа. Но Господу отвратительно видеть то зло, что произросло на земле. И Он соберет детей Своих рядом с Собой: кротких и мягких; тех, кто сеет мир, тех, кто любит согласие, тех, кто ненавидит несправедливость, тех, кто благочестив в сердце своем. А надменные империи будут сметены в геенну огненную, откуда и в вечности не слышно будет ни единого звука, кроме воплей грешников!
Проповедник продолжал вещать. Он будет проповедовать до зари и даже дольше, пока голос его не охрипнет окончательно и он не сможет больше произнести ни звука. Но мальчик, наклонив голову, повернулся и стал проталкиваться в темные улицы.
Там он пустился бежать. Он не мог объяснить, в чем дело, но его вдруг охватил то ли страх, то ли омерзение, и тогда он помчался, очертя голову, и ему казалось, что он должен бежать всю ночь напролет и весь следующий день, и лишь тогда будет в безопасности.
Он бежал сквозь тесную, пьяную толпу, и вдруг с размаху врезался в громадного, широкоплечего детину, похожего сложением на быка. От мужчины разило вином. Мальчик отшатнулся и собрался бежать дальше.
— Эй, смотри, куда идешь, маленький язычник! — взревел мужчина.
— Сам смотри.
Мужчина остановился, пошатнулся и затуманенным взглядом уставился на мальчика.
— Что ты сказал?
Аттила тоже остановился и, не мигая, уставился на мужчину.
— Я сказал: сам смотри. — Нащупав под туникой рукоятку украденного ножа, он добавил: — Ты пьян, а я — нет.
Мужчина повернулся и широко расставил ноги. Теперь он не казался таким пьяным, словно возможность стычки, пусть даже и с этим щенком, рожденным в сточной канаве, моментально протрезвила его.
В мерцающем свете факелов, под холщовым навесом, готовились зарезать, а потом насадить на вертел и зажарить козла. Вокруг столпились люди, нащупывая монеты и пошатываясь. Не каждый день Рим праздновал победу над варварами, и чернь весьма решительно собиралась продолжать пирушки и попойки, распевая и прелюбодействуя до зари.
Козел сопротивлялся, раздавалось жалобное меканье. Потом воцарилась тишина, и в темную пыль хлынула его кровь. А толпа уже приготовилась полюбоваться на драку.
— Сделай его, Борас! — подначивали зеваки.
Борас шагнул вперед, попал сандалией в лужу козлиной крови, посмотрел вниз и снова вскинул вверх взбешенный взгляд, словно и в этом был виноват маленький язычник.
— Посмотри, что из-за тебя случилось, — сказал он негромко, голосом, полным злобы.
Аттила равнодушно посмотрел.
— Ты бы все равно в это вляпался, — отозвался он, — ты здоровый, но неуклюжий.
— Ах вот как! — взревел мужчина, надвигаясь на мальчика. — Ну ты сейчас и получишь…
— Только посмей прикоснуться ко мне. Ты что, не знаешь, кто я такой?
Мужчина так удивился, а толпе так понравился наглый ответ этого тощего, нахмуренного оборванца с лицом, покрытым коркой грязи, что все они замерли, дожидаясь объяснений.
Мужчина скрестил на груди руки и качнулся на пятках.
— О, простите меня, простите. Да смилостивится Господь над моей грешной душой. А кто же вы такой, молю, ответьте?
Мальчик понимал, что должен молчать, что не должен ничего говорить, что должен оставаться никем; что должен как можно быстрее улизнуть в тень и снова стать уличным пострелом, таким же, как тысячи безымянных других, живших, как крысы, в городских переулках. Но гордость переполняла его.
— Я Аттила, сын Мундзука, — начал он, — сына Ульдина, сына Торда, сына Берена…
Толпа захохотала, и его тонкий, надменный, недрогнувший голосок утонул в этом хохоте. Мальчик продолжал перечислять свою генеалогию, но его никто не слышал. Толпа гикала и улюлюкала в пьяном восторге, хлопала в ладоши, к ней присоединялись все новые горожане. Противник Аттилы только поощрял их к этому, потому что он медленно обходил мальчика по кругу, словно разглядывал странное невысокое существо со всех возможных сторон. Он скрестил загорелые руки на груди, недоуменно наморщил лоб и, наконец, заухмылялся толпе заговорщической улыбкой.
— …сына Астура, Владыки Всего, что Летает, — закончил мальчик, ни разу не запнувшись, и голос его дрожал от гнева.
Толпа постепенно замолкала.
— И кто они все такие, Аттила, сын Муд-Сука? — спросил Борас, взмахнув рукой и очень низко наклонившись. Зеваки снова захохотали. — Что-то все это похоже на клички, которые и коню-то не дашь.
Новый взрыв хохота.
— Ты ведь произошел не от лошади, нет? — спросил Борас. — Ты не очень-то похож… хотя по правде сказать… если подумать хорошенько, так воняет от тебя, как от коня.
Дрожащая рука мальчика крепко сжала рукоятку ножа. Он не шевельнулся, хотя настоятельный голос в голове кричал: «Беги сейчас же! Протолкайся сквозь эту глумящуюся толпу и беги, как ветер, и никогда, ни за что не оборачивайся! Или тебя найдут. Тебя будут искать и обязательно найдут!»
Но он не шевельнулся, и в нем, как лава, кипели гордость и гнев. Толпа снова замолчала, предвкушая дальнейшее развлечение.
— Я королевской крови, — негромко произнес Аттила, — и направляюсь на свою родину, там, за горами. А теперь дай мне пройти.
— Мальчишка пьян! — заорал кто-то из зевак.
— Скорее, рехнулся, — отозвалась какая-то старуха. — Безумен, как барсук, получивший солнечный удар. Натравите-ка на него собак.
— В Цирк его! — пробормотал еще кто-то, повернулся, и его вырвало на ноги соседа. Началась потасовка, но в основном внимание людей было приковано к странному, безумному мальчишке, думавшему, что он король.
Быкоподобный противник сумел подойти так близко в Аттиле только потому, что кто-то из толпы запустил мальчику в лицо пригоршню грязи. Аттила в бешенстве повернул голову, чтобы посмотреть, кто это сделал, стирая грязь с лица и со все еще распухшего глаза, разбитого Галлой всего лишь вчера вечером.
И вот тут-то, с поразительной скоростью, на него упала тень громадного противника. Прежде, чем Аттила успел шевельнуться, Борас схватил его в медвежьи объятья и поднял высоко над головой. Толпа в восторге завопила, а Борас сильно тряхнул мальчика.
— Твое величество! — орал он. — Твое священное величество, о Аттила, сын Муд-Сука, сына Уддера, сына Турды, сына Жополиза, позволь мне поднять тебя над человечьим стадом, чтобы ты мог свысока обозреть свое великое королевство! И позволь мне… ах, увы мне, увы! Я уронил твое величество прямо в ужасную лужу крови! О горе мне, о, прости меня!
Аттила лежал в небольшом болотце из пыли и козлиной крови, а толпа, все увеличивающаяся в размерах, глумилась над ним и хохотала в пьяном заразительном восторге. Из близлежащих таверн высыпали зеваки, воздух, казалось, загустел от пыли, винных паров и издевательского смеха.
Мальчик с черной, мрачной ненавистью посмотрел вверх и вокруг, на их лоснящиеся, красные от хмеля лица. И в сердце своем он проклял весь Рим.
Борас разгуливал по кольцу, образованному зеваками, как кипрский борец, поигрывая бицепсами и широко ухмыляясь. Он не заметил, как мальчик поднялся на ноги: с волосами, вымазанными кровью, с перемазанным лицом; когда-то белая туника разорвалась на спине и была густо испачкана темнеющей кровью. Он не заметил, как мальчик сунул руку в заляпанную кровью тунику и вытащил острый нож с рукояткой, обмотанной веревкой. Он не заметил, что мальчик уже у него за спиной.
Но он почувствовал острую, мучительную боль в спине, и резко повернулся — мальчик стоял прямо перед ним, держа нож в правой руке и откинув для равновесия левую.
Смех замер. Улыбки на всех лицах застыли. Неожиданно все переменилось. Подобного не должно было случиться.
Мужчина уставился на мальчика, скорее удивленно, чем гневно. Ему было больно. Сама ночь замолчала и наполнилась страхом.
— Эй, ты… — слабо произнес он и прижал руку к ране — это же почки. — Борас повернулся. — Ты…
Он, шатнувшись, шагнул к мальчику, но безуспешно. Тот с легкостью отскочил. Борас протянул к нему окровавленную руку, скорее умоляя, чем угрожая.
Аттила остановился и посмотрел на него. Потом обернулся и сказал толпе, негромко, не повышая голоса, пристально всматриваясь в каждое перепуганное лицо:
— Если вы сейчас же не дадите мне пройти, я убью вас всех.
На этот раз его слова услышали.
Толпа — человек пятьдесят, а то и все сто — казалось, испытывала общее потрясение. Как ни нелепо прозвучала угроза мальчика, что-то в блеске его чужих, раскосых глаз на варварском, изуродованном шрамами лице, что-то в его твердой, недрогнувшей руке, в которой он держал фруктовый нож с коротким лезвием, медленно поворачиваясь и указывая острием на каждого по очереди, заставило их замолкнуть. В нем было что-то такое, говорили они позже…
Проникшись спокойной, безжалостной угрозой, толпа действительно начала расступаться, как расступилось море по команде Моисея. И нет никаких сомнений в том, хоть это и кажется невероятным, что в тот миг мальчик действительно ушел бы от них, оставив своего громадного противника на коленях в пыли, словно поверженного ангелом: как Иаков у ручья Иавок, вслепую сражавшийся с невидимым противником, не зная, что это сам Господь.
Но к этому времени шум привлек внимание городских стражей, и когда сердитая, ошеломленная толпа начала расступаться перед мальчиком, в полуночном воздухе раздался совсем другой голос:
— Прочь с дороги, эй, там, прочь с дороги! Пошевеливайтесь, пьяное отродье, прочь с моей дороги!
Ощутив новую опасность, мальчик резко повернулся и снова вытащил нож.
Толпа расступилась, и перед ним возник вовсе не пьяный уличный задира. Перед ним стоял высокий сероглазый офицер в кольчуге, какие носили пограничные легионы, с рваным шрамом на подбородке и насмешливой улыбкой на губах. За его спиной стояла еще дюжина солдат.
Офицер с удивлением обнаружил, что причиной гвалта был всего лишь маленький, грязный, заляпанный кровью мальчишка.
На мгновенье мальчик вытянул руку с ножом в сторону солдат — всех двенадцати сразу.
Офицер взглянул на крепкого, коротко подстриженного мужчину рядом с собой.
— Что ты об этом думаешь, центурион?
Центурион ухмыльнулся.
— Надо признать, что у мальчишки мужества хватает.
Офицер снова посмотрел на мальчика, спокойно положив руку на рукоятку меча. Он не вытащил его, а глаза его, несмотря на улыбку, оставались холодны, как лед.
— Брось это, сынок, — негромко произнес он.
Аттила несколько мгновений мерялся с ним взглядами, потом вздохнул и бросил нож.
Офицер повернулся к своим людям.
— Опс, Крейтс, свяжите ему руки за спиной.
Все еще стоя на коленях в пыли, Борас увидел, что мальчика связали, и расслабился. Ноги у него задрожали, он протянул вперед руки и упал, и остался лежать в грязи. Голова его подергивалась. Он перекатился набок. Он ощущал во рту горький, металлический привкус, а спина неожиданно похолодела. Он ничего не понимал. Веки почему-то опускались, руки и ноги болели и дрожали. Борас начал молиться. Сердце его колотилось о ребра — нет, трепетало, как пойманная в клетку птичка. Он уставился на звезды над головой и стал молиться всем богам, которых мог припомнить. Перед глазами все расплывалось, и ему казалось, что вокруг каждой звезды появился сияющий нимб. Он молился Митрасу, и Юпитеру, и Изиде, и Христу, и даже самим звездам.
Звезды безмолвно смотрели на него.
— А ты, — приказал трибун Борасу, — отправляйся домой, к жене. Эту рану нужно зашить.
Борас не шевельнулся. Один из солдат опустился перед упавшим на колени и прижал пальцы к его шее. Потом поднялся на ноги.
— Он мертв.
— Ах ты маленький… — заревел кто-то в толпе. — Да я тебя…
Два солдата перекрыли ему путь скрещенными копьями, а третий сильно ткнул под ребра, и он отступил назад. Но настроение толпы уже резко изменилось, став агрессивным.
— Ты, свинья, убийца! — завизжала старуха.
— Перерезать его грязную шею!
— Вздернуть его! Посмотрите на него — это же дьяволенок, посмотрите ему в глаза! Он убьет нас всех, только позвольте ему!
Женщины в толпе начали креститься. Мужчина сжал в руке голубоватый камень, висевший у него на шее от дурного глаза.
Офицер посмотрел на пленника.
— Да ты знаменитость, — пробормотал он.
Мальчик взглянул на него так свирепо, что даже офицер на мгновенье пришел в замешательство. Потом пришел в себя и потребовал назвать свое имя.
Мальчик не обратил на него никакого внимания.
— Я спросил тебя, — повторил офицер, наклоняясь ниже, — как тебя зовут?
Но мальчик по-прежнему не обращал на него внимания.
Из разгневанной толпы чей-то голос прокричал;
— Он говорил, что его зовут Атталус или что-то в этом роде!
Только сейчас офицер заметил синие шрамы на щеках мальчика; в свете факелов они выглядели жутковато.
— Не может… — тихо начал он и повернулся к своим людям. — Парни, мне кажется, мы кое-что сможем заработать. — И снова обернулся к мальчику. — Раздевайся.
Мальчик не шевельнулся.
Офицер кивнул, один из солдат шагнул вперед, схватился за то, что осталось от изорванной туники мальчика, и сорвал ее.
Толпа ахнула. Они в жизни не видели ничего подобного.
Вся спина мальчика была разрисована фантастическими узорами и завитушками, рубцами и шрамами; некоторые из них были сделаны иголкой и синими чернилами, другие — жестоко вырезаны ножом, а потом сшиты конским волосом, чтобы рубцы остались рельефными и четкими. Так делали гунны. И он не Атталус. Аттила.
Беглец…
Принцесса Галла Плацидия будет неимоверно рада его поимке. Похоже, она странным образом одержима мальчиком.
— Отлично, парни, — заключил офицер. — А вы все, — сказал он, повысив голос, — разойдитесь. Или мы вас заставим — а это больно.
Толпа угрюмо и неохотно стала расходиться. Кто-то подошел к Борасу и закрыл его лицо куском ткани. Офицер спросил, знает ли он этого человека. Мужчина кивнул.
— Значит, ты и позаботишься о трупе, — сказал офицер и повернулся к солдатам. — Так, — рявкнул он. — Назад к Палатину. И быстро!
— Маленький совет, — приветливо сказал офицер мальчику с крепко связанными за спиной руками, пока они поднимались на холм. — В следующий раз, когда будешь в бегах, постарайся не привлекать к себе столько внимания, убивая кого-нибудь.
Мальчик ничего не ответил.
— Тебе повезло, что мы оказались рядом. Они бы разорвали тебя пополам.
Тут мальчик заговорил.
— Они бы даже не подошли ко мне.
Офицер ухмыльнулся. Помолчав немного, он поинтересовался:
— А этот мужчина, которого ты уложил?
— Самооборона.
Офицер кивнул. Это и так было достаточно ясно.
— Я не собирался его убивать, — выпалил мальчик.
Офицер с некоторым удивлением заметил, что в глазах мальчика блестят слезы — не такой уж он крепкий орешек, каким пытается казаться.
Офицер еще раз кивнул.
— Все в порядке, сынок. Такое случается. Ты отлично оборонялся.
Мальчик попытался вытереть нос связанной рукой, но у него ничего не получилось. Если он начнет шмыгать носом, офицер услышит, а этого ему не хотелось.
Они повернули налево, на
Vicus Longus, и вышли на долгий подъем к Палатину. Им пришлось снова проходить мимо похожего на огородное пугало проповедника, и мальчик взглянул на него с испугом, даже с ужасом.
— Псих, — бросил трибун.
— Ты христианин? — спросил мальчик.
Трибун ухмыльнулся.
— Мы теперь все христиане, сынок. Много это нам помогло.
Наконец пьяные толпы на улицах начали рассеиваться. Они все шли, и тут увидели центурию пограничных войск. Те с любопытством смотрели на странного, маленького, с торчащими волосами, полуголого связанного пленника.
— Я бы тебя развязал, если б знал, что ты не попытаешься снова сбежать, — значительно мягче сказал офицер.
— Обязательно попытаюсь.
— В этом я не сомневаюсь.
— И у меня получится.
— Тоже возможно.
Мальчик посмотрел на офицера, и они, кажется, едва заметно улыбнулись друг другу.
— Так ты что… хотел добраться до дома?
Мальчик не ответил. Вместо этого он неожиданно задал вопрос:
— А сам ты откуда?
— Ну, — сказал офицер, — отец мой тоже был солдатом, а он родом из Галлии. А я служил в
Legio II Augusta, в Британии, в Карлеоне. Вряд ли ты о нем слышал.
— Слышал, — отозвался мальчик. — Это на западе провинции, пограничная крепость для защиты от силурийских племен.
Офицер удивленно рассмеялся.
— Откуда, во имя света, тебе это известно?
Мальчик не ответил на вопрос.
— А что ты делал в Британии?
Офицер вдруг засомневался — а стоит ли столько болтать? Что-то в этом мальчишке есть такое… необычное.
— Ну, моя мать из кельтов. Отец женился на ней там, так что я, надо полагать, полукровка. Но мы все кельты под римскими шкурами — во всяком случае, нам нравится так думать. Мы — я и мои парни — до недавнего времени там и служили. А потом…
— А потом император отозвал британские легионы домой? Потому что Рим попал в беду?
— Придержи коней, — небрежно бросил офицер. — Рим не мой дом. Мой дом — Британия. Да и все равно, с Римом еще не покончено. Нам уже приходилось иметь дело с племенами похуже готов. Помнишь Брения и его галлов? Они разграбили сам Рим. А Ганнибал? А кимвры?
— Так почему же Палатинские гвардейцы не защитили Рим? Их там, в лагере, тридцать тысяч!
— Клянусь яйцами Юпитера, ты и вправду все знаешь! Тогда тебе известно, что мы, пограничные войска, думаем о Палатинских гвардейцах здесь, в Риме. Немного… размякли, скажем так. Слишком много теплых купален и слишком мало настоящих сражений.
— А в Британии все еще сражаются?
— Теперь все больше и больше, — уныло признался офицер. — Пикты все время устраивают вылазки на севере, а еще есть пираты-саксы по всему восточному и южному побережьям. А от нашего наместника на Саксонском берегу толку не больше, чем от дырявого ведерка. Так что да, в Британии тоже забот хватает. Но теперь, — тут он заговорил с нетипичной для него нерешительностью, — им… им просто придется позаботиться о себе самим.
Мальчик обдумал, услышанное, а потом спросил:
— А какая она, Британия? Твоя страна?
— Моя страна? — Голос офицера потеплел. — Моя страна прекрасна.
— Моя тоже, — сказал мальчик.
— Расскажи мне о ней.
И весь оставшийся путь они с любовью, в подробностях, описывали друг другу свои страны.
Мальчику понравилось то, что он узнал о Британии: много места, хорошая охота и никакой замысловатой кулинарии.
— Ну что ж, — сказал офицер, глядя, как его люди развязывают мальчика и передают его дворцовой страже. — В следующий раз не забудь: придержи свои гордость и гнев. Терпение — это великая военная добродетель.
Мальчик слабо улыбнулся.
— Пожмем руки, — предложил офицер.
Они пожали друг другу руки. Потом офицер рявкнул приказ, и его люди выстроились в шеренгу.
— Так, парни, наша ночная стража почти завершилась. Через два дня мы отправляемся в Павию, под начало полководца Стилихона. Так что, пока есть время, попробуйте самых знаменитых римских шлюх!
Услышав такую замечательную новость, все солдаты вскинули кулаки вверх и заорали «ура!». Потом повернулись и ушли в ночь. Мальчик долго смотрел им вслед.
Его отмыли и сопроводили назад в комнатенку, а за дверью поставили постоянного часового. Мальчик лег и провалился в неглубокий, прерывистый сон.
6
Меч и пророчество
Жарким утром он метался в беспокойной дреме, и тут его разбудили негромкие голоса у постели. Аттила открыл глаза.
Возле кровати стояла Серена, а за ее спиной — сам полководец Стилихон.
— Ну, мой маленький волчонок, — улыбнулся полководец, — какую головную боль ты устроил всей империи на этот раз?
Аттила ничего не сказал и не улыбнулся в ответ.
Серена, наклонилась и положила прохладную руку ему на лоб.
— Глупый мальчик, — произнесла она.
Он хотел посмотреть на нее сердито, но не смог. У нее такие нежные глаза.
— Держи, — сказал Стилихон, бросив что-то на кровать. — Это тебе. Только пообещай, что больше не будешь пытаться убежать. — Теперь он говорил сурово, по-солдатски. — Обещаешь?
Аттила посмотрел на небольшой сверток, снова взглянул вверх, встретился взглядом с полководцем и кивнул.
Стилихон поверил.
— Откроешь, когда мы уйдем.
Серена наклонилась, поцеловала его, кивнула мужу и вышла.
Стилихон немного помялся, потом сел на небольшой деревянный табурет, довольно неуклюже для человека с такой солдатской выправкой. Он умостил локти на коленях, положил подбородок на сжатые кулаки и долго и внимательно рассматривал мальчика. Тот терпеливо ждал.
— Завтра я уезжаю на север, в Павию, — произнес Стилихон. — Серена останется здесь, во дворце. — Он еще немного помолчал, потом добавил: — Войска готов под началом Алариха перегруппируются. Ты о нем слышал?
Аттила кивнул.
— Но ведь он тоже христианин?
— Христианин. Он пообещал — если будет грабить Рим, не тронет ни камня, ни плитки из христианских строений. — Стилихон улыбнулся. — Хоть что-то. Скоро готские армии вообще ничего не будут грабить, тем более Рим. Но… — и великий полководец вздохнул. — Мы живем в трудные времена.
Аттила опустил взгляд. Он чувствовал неясную вину.
Стилихон пытался подыскать правильные слова. Каким-то образом он чувствовал — все, что он скажет сейчас мальчику, имеет очень большое значение. Почти как… как будто он никогда больше его не увидит. Как говорится в тех древних «Сивиллиных книгах»…
Он выкинул из головы все мысли о навязчивых книгах и заговорил медленно и осторожно, как мог бы говорить с Галлой:
— Трудные времена. Странные времена. — Тяжело посмотрел на мальчика и сказал очень просто: — Делай то, что правильно, Аттила.
Мальчик вздрогнул. Эти слова удивили его.
Стилихон продолжал, глядя прямо в глаза мальчику:
— Я всегда служил Риму, хотя в моих жилах течет кровь варваров. Но с другой стороны, все мы когда-то были варварами. Чем был сам великий Рим во времена до Нунны, и Ромула, и Древних Владык? Так, деревня на холме.
Мальчик неуверенно улыбнулся. Он не привык к тому, чтобы полководец так рассуждал.
— Что, кроме Рима, существует, чтобы сдержать этот кровавый поток? Чтобы продолжить… историю? Без Рима мир опять превратится в место, заросшее темными лесами, полное колдовства, легенд и привидений, рогатых воинов, человеческих жертвоприношений и ужасных саксонских пиратов… Без Рима мир опять превратится в мир без истории. Ты понимаешь, о чем я говорю, мальчик?
Аттила неуверенно кивнул. Они смотрели друг другу в глаза. Мальчик опустил взгляд первым.
— Кто-то говорил мне, — нерешительно начал он, — кто-то говорил, что все римляне — лицемеры, и они ничем не лучше других. Они все толкуют о варварах, приносящих человеческие жертвы, и о том, как все это отвратительно, и как им нужен римский закон, и цивилизация, и все такое — но что такое римские арены, как не одно огромное человеческое жертвоприношение?
— Кто тебе это сказал? — нахмурился полководец.
Аттила замотал головой.
Стилихон даже не стал пытаться вытягивать имя из этого маленького мула. Он вздохнул и произнес:
— Мы веками жили в борьбе, мы, римляне. Мы не мягкий народ. Нет совершенного общества; суди общество по его идеалам. Мы создали законы, мы установили пределы. Гладиаторов больше нет — ты знаешь об этом. Христианская вера рассказала нам о чувстве вины — это, вероятно, неплохо. Теперь на арене казнят только преступников и военнопленных, и они этого заслуживают. И хозяин больше не властен над жизнью и смертью своих рабов. За их убийство его могут даже привлечь к суду. Столетия борьбы — и все действительно меняется к лучшему. Ты можешь сказать то же самое про жизнь и законы в землях варваров?
Аттила молчал.
Возможно, это бесполезно. Стилихон немного подумал и снова заговорил, тоном, который мальчик не понял.
— Пророчества исполняются. — Он говорил тихо, с глубокой печалью. — И в наши дни двенадцать столетий, предсказанных Риму, окончатся. Мы можем уничтожить все следы пророчеств — мы даже можем сжечь «Сивиллины книги», как приказали сильные мира сего. Но сами пророчества останутся. Убеждения — это сила, истинная сила. Армия, которая верит во что-то, всегда разобьет армию, которая ни во что не верит, и не имеет значения, насколько велик перевес сил. Но во что верим мы? Верим ли мы все еще в Рим? Или мы верим в те древние, непреклонные Книги, которые утверждают, что Риму предназначены двенадцать сотен лет? — Он покачал головой. — Я бы их все сжег, и дело с концом.
Воцарилась тишина.
— Но это не может быть концом всего. Не может все это быть напрасно. Не может! — Голос Стилихона возвысился до страдальческого крика, он сильно стиснул кулаки. — Эти двенадцать долгих столетий мук и жертв не могут потеряться во времени, как сухие листья на ветру. Боги не могут быть так жестоки. Что-то должно выжить.
Он понизил голос.
— Прости, я… я говорю довольно бестолково. — Он сжал губы, но не выдержал и заговорил снова. — Верующие, те, кто защищает то, что в сердце своем считают верным, всегда восторжествуют. Я видел небольшой, уставший отряд окровавленных, измученных сражениями солдат, окруженных врагами, численностью в десять, в двадцать раз превосходящих их. Но те солдаты были преданы друг другу. Они верили в себя, и друг в друга, и в своего бога. Я видел отряд всего в шестьдесят человек, пехотинцев, защищенных лишь легкими доспехами, вооруженных всего лишь щитами, копьями да мечами — ни дротиков, ни метательных снарядов, ни артиллерии, ни кавалерии, ни лучников, ни даже времени, чтобы установить шесты и раскидать заградительные шары с шипами. И все же я видел, как они, сцепившись щитами, сцепившись копьями, устояли против тысячи верховых воинов, и ушли с поля битвы окровавленные, но не покорившиеся. Непобежденные. — Стилихон кивнул. — Я это знаю, потому что был одним из них.
Армия, которая верит в свое дело, всегда победит армию неверящих дикарей, тех, что верят лишь в пламя и меч. Помни об этом, Аттила.
Полководец встал и снова вернулся к своим отчужденным манерам.
— Ты должен во что-то верить. Поэтому верь в правое дело.
Он шагнул к двери и в последний раз оглянулся. Потом кивнул в сторону свертка на кровати.
— Можешь открыть его сейчас.
Дверь за ним закрылась.
Мальчик развернул сверток и увидел завернутый в тонкую промасленную льняную ткань меч необыкновенной красоты. Он был длиной с его руку, с золотым орнаментом на рукоятке и обоюдоострым лезвием, отлично наточенным.
Он был из превосходной стали и очень старым —
gladius hispaniensis или испанский меч, чудесно изогнутой, опасной формы: лезвие сначала было выпуклым, потом сужалось, а острие было исключительно длинным. Никакой щит, никакие доспехи не устоят против прямого удара из-под руки таким мечом. Аттила снова завернул его в защитную промасленную ткань, положил под подушку и начал грезить наяву.
В конце концов он встал и вышел во внутренний дворик. Как оказалось, остальные дети-заложники уже слышали о его побеге. Они были в восторге. Гегемон, жирный мальчик-бургунд с вечно сонными глазами, подошел к нему вразвалочку в саду, где они играли под тутовыми деревьями, и спросил, правда ли это.
Аттил насторожился. Эти неуклюжие, плохо соображающие германские дети уже не раз задавали ему вопросы. Правда ли, что гунны мажутся жиром вместо того, чтобы одеваться, и никогда не моются? Правда ли, что гунны едят только мясо, а пьют только сброженное кобылье молоко? Правда ли, что гунны — потомки ведьм, которых выгнали из христианских земель и которые совокуплялись с демонами ветров и пустынь? «Да, — серьезно отвечал он всегда, — это чистая правда».
Гегемон дал понять Аттиле, что теперь он может присоединиться к их шайке. «Хоть ты и гунн».
Но мальчик продолжал держаться в стороне, гордо и отчужденно, как всегда.
Он немного понаблюдал за германскими детьми, которые играли в солдат и громко кричали среди розовых кустов под жарким итальянским солнцем, и отвернулся от них.
Вечером к нему явился совсем другой посетитель. Аттила уже засыпал, когда раздался стук в дверь. Впрочем, это был просто знак приличия, потому что дверь тут же распахнулась, и в комнату вошел высокий, худощавый Евмолпий, один из главных дворцовых евнухов.
Он остановился у изножья кровати мальчика.
— Сообщение от Серены, — холодно произнес Евмолпий. — Не смей больше с ней разговаривать. И с полководцем Стилихоном тоже, если вам когда-нибудь доведется встретиться.
Аттила уставился на евнуха.
— Что ты хочешь сказать?
Евмолпий неприятно усмехнулся.
— Прошу прощения, видимо, ты еще слишком плохо знаешь латынь, чтобы понять даже такой простой приказ. Повторяю: ты больше никогда не должен разговаривать с Сереной. Никогда в жизни.
— По чьему распоряжению? — спросил мальчик, приподнимаясь на локте.
— По личному распоряжению Серены, — пожал плечами Евмолпий. И добавил для собственного удовольствия: — Она говорит, что считает твое общество… безвкусным.
Он зашел слишком далеко.
В комнате на долю секунды повисла оглушающая тишина, потом Аттила пронзительно закричал:
— Ты лжешь! — выскочил из кровати и налетел на остолбеневшего евнуха, стиснув зубы и молотя его кулаками.
Часовой, услышав вопли евнуха, ворвался в комнату, оторвал разъяренного мальчика от воющего Евмолпия и швырнул на пол. Потом повернулся к евнуху, лежавшему поперек кровати, и присвистнул.
— Клянусь медными яйцами Юпитера, — выдохнул он.
Евнух выглядел так, словно его терзал каледонский охотничий пес.
— Нечего стоять там и ругаться, — пробормотал Евмолпий сквозь кровь, льющуюся из его разбитого рта, и прижал трясущуюся руку к горлу, куда мальчик сильно укусил его. — Позови лекаря.
Этой ночью, впервые, Аттилу заперли на замок, а у двери поставили трех часовых.
Он все равно не мог уснуть. Сердце его бешено колотилось, переполненное черной яростью, которая не даст ему спать долгие годы.
На следующее утро Стилихона неожиданно вызвали в Палату Императорской Аудиенции, как раз перед отбытием в Павию.
Явившись туда, он увидел, что на троне сидит не император, а принцесса Галла Плацидия. Гонорий уже успел уехать в свой безопасный и надежный дворец среди болот Равенны.
Галла была ослепительна в своей мантии, золотой и — что особенно скандально — с императорским пурпуром. По обеим сторонам ее чересчур разукрашенного мраморного трона (из чистейшего каррарского мрамора) стояли оба самых верных дворцовых евнуха — сам Евмолпий и Олимпий.
Стилихон старался особенно не вглядываться, но даже с того места, где он стоял — низко и довольно далеко, как смиренный проситель у самого подножья ступеней, ведущих на возвышение — он видел, что у Евмолпия на щеке несколько швов, а шея почему-то замотана льняной тканью. В добавление ко всему, и Евмолпий, и Олимпий были… накрашены. Они подвели глаза углем, как шлюхи с дальних улочек Субурры, или восточные деспоты, или египетские фараоны у тех древних, притесняемых народов, что верили, будто их правитель — бог.
Как думаем мы сейчас про наших императоров, промелькнуло в голове у Стилихона.
Когда мужчина у власти начинает краситься, наступает время тревожиться. А евнухи Галлы обладали очень большой властью. Стилихон поклонился и стал ждать.
Наконец Галла обратила на него внимание.
— Ты был в храме и уничтожил последние Книги?
— Да, ваше величество.
— Языческим предрассудкам не место в христианской империи вроде нашей. Ты согласен со мной?
Стилихон слегка наклонил голову.
— Мы встретимся с епископом Рима и ведущими священниками, — продолжала Галла. — Мы четко объясним им, что пора положить конец подобным пессимистическим предрассудкам прошлого. Рим теперь — христианская империя и находится под защитой Бога. Все эти древние свитки — не более, чем бредовые речи старой ведьмы из пещеры.
Воцарилась неловкая тишина. Галла обожала неловкие паузы. Они подтверждали ее власть. В Палате Императорской Аудиенции никто не имел права говорить, пока к нему не обратятся с Императорского Трона.
Что сказал бы в этом случае Цицерон? — кисло подумал Стилихон. Этот великий оратор? Несмотря на все свои напыщенность и эгоизм — последний великий голос Свободного Рима. Тот, кто умер за свои ораторские таланты, чьи отрубленные голову и кисти рук доставили в мешке Марку Антонию, этому вечно вдрызг пьяному распутнику и хвастуну. Его жена Фульвия — нынче состоявшая в третьем браке — выхватила голову Цицерона из мешка и плюнула на нее, потом вытащила изо рта его язык и проткнула своей шпилькой. Прекрасный пример для подражания всем римским женщинам.
Стилихон ждал, думая о своем.
Наконец Галла произнесла:
— Напомни мне, Стилихон, как звали того вождя варваров, что разбил три легиона Публия Квинтилия Вария в лесу Тевтобург, во время выдающегося во всех других отношениях правления императора Августа?
— Действительно выдающегося, — отозвался полководец, — поскольку во время правления Августа родился Христос.
Галла медленно закрыла глаза и снова их открыла.
Стилихон настороженно смотрел на нее.
— Его звали Арминий, ваше величество. Это латинский вариант его настоящего имени, Герман, что значит — «человек войны». Войска называли его Герман-германец.
— Арминий, — кивнула Галла. Разумеется, она и сама это знала. — Двадцать тысяч солдат вместе с семьями и слугами вырезаны за два или три дня в темных лесах Германии. Должно быть, это было ужасно. Самая страшная катастрофа, когда-либо приключавшаяся с римскими армиями.
Стилихон находился в нерешительности, пытаясь понять, что она задумала. Но это невозможно — с тем же успехом можно пытаться угадать, когда змея укусит в следующий раз.
— Самая страшная, — согласился он. — Во всяком случае, после Ганнибала и Канн, когда шестьдесят тысяч человек погибли в одном…
Галла не интересовалась военно-историческими воспоминаниями Стилихона.
— Этого Арминия воспитали — воспитали и обучили — в самом Риме, верно?
— Да, ваше величество.
— Как и другого врага Рима, Югурту из Нумидии?
— Насколько мне известно, так, ваше величество.
— А тебе не кажется, что Арминий, как и Югурта, находясь с ранних лет в Риме и наблюдая за муштрой солдат на Марсовом Поле, сумел понять своего будущего противника и то, как он действует? И поэтому, когда он напал на них в том ужасном, лишенном солнца лесу в темном сердце Германии, он обладал огромным преимуществом? Благодаря тому, чему научился в столице врага мальчишкой?
Вот теперь Стилихон понял, в чем заключается ее игра, и в глубине души испугался за волчонка.
Он заговорил очень медленно:
— Думаю, это маловероятно, ваше величество. В конце концов…
Галла вскинула руку вверх. Она уже сказала все, что хотела.
— Ты можешь идти.
Стилихон, не мигая, выдержал тяжелый взгляд Галлы гораздо дольше, чем это считалось вежливым. А потом, вопреки этикету Палатина, повернулся спиной к монаршему присутствию и вышел, не поклонившись.
Галла напряглась от гнева, вцепившись в подлокотники трона, белая и холодная, как чистейший каррарский мрамор.
7
Беседы с британцем
Тем вечером полководец Стилихон сидел в своей белой полотняной палатке, на краю войскового лагеря за пределами города Фалерия, у реки Тибр, и думал. Это долгий дневной переход из Рима, но полководец всегда сурово обращался с армией.
Он перечислял в уме очередность предстоящих ему дел. Прежде всего он должен встретиться на поле боя с армией Алариха и разгромить ее. Во дворце шептались, что ему следовало бы более основательно отнестись к войску Радагайса.
С Аларихом легко не будет. Варвары уже давно сражаются не как варвары. Они сражаются, как римляне. В старые добрые времена тактика варваров на поле боя, будь то готы, вандалы, пикты, франки или маркоманы, была почти одинаковой. Выглядело это так:
1. Собраться на поле боя всем вместе. Женщин и детей посадить в повозки и оставить на краю поля, чтобы они могли полюбоваться представлением.
2. Лупить оружием по щитам и выкрикивать оскорбления противнику. Особенно сильно оскорблять размеры их гениталий.
3. А потом…
В атааааааааааааку!
Орда варваров в двадцать-тридцать тысяч хвастунов плотными рядами кидалась на ощетинившийся оружием римский легион численностью тысяч в шесть, не больше, зато умеющих действовать, как единый безжалостный отряд, и орду рубили на кусочки. Все мужчины, плененные или раненые, обезглавливались прямо на поле боя. Женщин и детей продавали в рабство. Конец рассказа.
Но теперь… теперь они сражались отрядом, в рядах и шеренгах. Они поворачивались, размыкали и смыкали ряды с легкостью хорошо обученного римского легиона. И были чертовски
хорошими наездниками. Нет, легко им не будет. Но все равно это нужно сделать в первую очередь. Власть Алариха необходимо уничтожить. Если можно будет снова призвать Ульдина и его гуннов — отлично. Если нет — римлянам придется выстоять в одиночку.
Потом нужно вернуться в Рим, в это гадючье гнездо, и… и… И что? В сознании звучали негромкие, умоляющие голоса ближайших друзей, которые настаивали, что он должен сам сесть на трон. «Ради Рима», — говорили они, — «и ради того, чтобы у нас появилось толковое правительство. Подними свои легионы и приходи в Рим. Народ признает тебя».
А еще есть тяжкий груз — тонкий свиток, который до сих пор лежит у него в кошеле. И знание, что, попади он в плохие руки…
Стилихон поднял глаза. Теперь ему прислуживал декурион из Палатинской гвардии, дворцовый солдат благородного происхождения в блестящих черных кожаных нагрудниках. И единственная кровь на его оружии — это кровь тех, кого он казнил в камерах дворца после нескольких часов пыток. Стилихон кисло посмотрел на него.
— Господин? — вкрадчиво начал декурион.
— Ты уволен, — отрезал полководец. — Пришли мне солдата из пограничных отрядов.
Гвардеец побледнел.
— Со всем моим уважением, господин, мне трудно представить себе, что у солдата-пограничника есть надлежащие манеры и знание придворного этикета, чтобы удовлет…
Ярость полководца ударила Палатинского гвардейца в грудь, как выстрел из баллисты. Он отшатнулся, выбежал из палатки и поспешил выполнить приказ, а вслед ему летела ядреная брань полководца.
Через несколько минут в палатку поскреблись, и полководец приказал входить. Он некоторое время продолжал чтение.
Депеши из Галлии… Читать их нелегко.
Наконец он поднял глаза и увидел перед собой высокого сероглазого офицера с рваным шрамом на подбородке.
Стилихон посмотрел на него своим самым свирепым взглядом.
— Как ты заработал шрам, солдат?
Тот даже глазом не моргнул.
— Споткнулся о собаку, полководец.
Стилихон с головы до пят смерил его взглядом, вопросительно вскинув брови.
— Повтори.
— Споткнулся о собаку, полководец. В закоулках Иски Думнонии. Напился пьян, как скунс британским медом, полководец. Треснулся башкой о каменную поилку для скота.
Стилихон подавил улыбку, отодвинул походный табурет и подошел к офицеру. Тот продолжал смотреть прямо перед собой, не моргая. Стилихон, такой же высокий, как и пограничник, встал в самое раздражающее положение — сбоку от офицера, но так, чтобы тот не мог его видеть. Любимый способ любого декуриона запугивать солдат во время муштры.
— Ты немного неуклюжий, солдат?
— Чертовски неуклюжий, полководец.
Стилихон придвинулся совсем близко и шепнул бойцу на ухо:
— Другие солдаты придумали бы что-нибудь более мужественное. К примеру — это был удар боевого топора, нанесенный гигантом-рейнцем, который едва не снес тебе голову. Или чертовски большой двуручный меч франка — но ты сумел вовремя увернуться, поэтому он только чиркнул тебя по подбородку. У тебя что, нет воображения, солдат?
— Никакого, полководец. — Пограничник еще выше вздернул подбородок. — И память паршивая. Поэтому я вынужден всегда говорить только правду.
Стилихон отступил назад и ухмыльнулся. Ему нравилось то, что он видит и слышит. Он вернулся за стол и махнул на полотняный стул перед собой.
— Садись, солдат.
— Благодарю, полководец.
— Чашу вина?
— Нет, благодарю, полководец. В моем возрасте после него трудно заснуть.
— Сколько ж тебе лет?
— Двадцать пять, полководец.
— Гм. Хотел бы я снова стать двадцатипятилетним. В моем возрасте я от вина сразу засыпаю. — Однако Стилихон все же налил себе разбавленного водой вина и тоже сел. — И сколько человек под твоим началом?
— Всего восемьдесят, полководец.
— Офицер, у которого в подчинении восемьдесят человек? А где твой центурион?
Пограничник ухмыльнулся, вспомнив своего центуриона.
— Еще жив, полководец. Шрамов на нем больше, чем на разделочной доске мясника, но он все еще очень и очень жив. Но понимаете, полководец, это полный бардак. Простите меня за выражение, но нам просто… просто недостаточно… — Он умолк, понимая, что его следующие слова можно расценить, как предательство. Но Стилихон его опередил.
— Знаю я, знаю, — устало произнес он. — Людей не хватает. Все это я уже слышал. — Он наклонился вперед, провел рукой по лицу и задумался. Потом снова заговорил: — Ты британец?
— Да.
— Женат?
— Да, полководец.
— Значит, когда ты выступил из… где вы стояли?
— В Иске, полководец. Это Думнония.
Стилихон серьезно кивнул.
— Знаю. Говорят, девушки там хорошенькие, темноглазые.
— Совершенно верно, полководец. На одной из них я и женился.
— Значит, ты выступил из Иски, чтобы вернуться в Италию по императорскому приказу и любой ценой защищать Рим, а жену оставил там?
— Да, полководец. И двоих детей.
— И двоих детей, — повторил Стилихон. — Жестокий приказ. Скучаешь по ним?
— Чертовски, полководец. Я… — Он замялся. — Надеюсь, в один прекрасный день я смогу вернуться. Когда все будет кончено.
— Британия теперь за нашими границами, солдат. Ты понимаешь это?
— Да, полководец. Но ведь еще ничего не кончилось.
— Хмм. — Стилихон пригладил седую щетину на макушке. — А ведь среди вас много дезертиров.
Пограничнику стало стыдно.
— Да, полководец.
— Хмм. Значит, ты пошел в армию в… восемнадцать?
— Да, полководец.
— И тебе служить еще тринадцать лет. Это долгий срок без жены и детей. И для жены долгий срок без мужа. Если ты понимаешь, что я имею в виду.
— Я не самодовольный дурак, полководец.
— Вспомни императора Клавдия. Он всего на несколько дней отлучился в Остию, а его жена тут же вышла замуж за Гая Сильвия.
— Мой жена не Мессалина, полководец.
— Нет, нет, — поспешно сказал Стилихон. — А ты — не Клавдий, я уверен, а простой смертный, как и все мы. — Он ухмыльнулся. — Знаешь, каковы были последние слова божественного Клавдия, если верить Сенеке? — Пограничник помотал головой. — Боги, кажется, я обосрался!
Пограничник усмехнулся, а Стилихон продолжал уже серьезно:
— Когда ты уволишься, ферму в Британии за хорошую службу не получишь. Уже нет. Может, в Галлии еще и получишь. А может, и нет.
Пограничник промолчал.
Полководец вздохнул и снова ощутил на своих плечах тяжелое бремя — бремя ответственности, да к нему еще бремя трагической преданности отличного офицера. А ведь таких, как он — тех, что не дезертирует с последней позиции — еще тысячи и тысячи.
— Ладно, солдат. Давай сыграем партию в шашки. Умеешь играть в шашки?
— Плохо, полководец.
— И я тоже. Вот и отлично. Это значит, что партия не затянется, и мы сможем скоро пойти спать.
Как и предсказывал полководец, партия продлилась всего несколько минут. Пограничник выиграл.
— Как же, плохо он играет, — проворчал Стилихон и потянулся. — Ладно, солдат, можешь идти. Побудка на заре.
— Есть, полководец.
Стилихон еще долго сидел, глядя на разбросанные шашки. Он слышал, как воют у реки волки, довольно близко — они спускаются с холмов, чтобы напиться или залечь в засаду на жертву, которая придет на водопой, слышал, как в ответ воют псы в лагере, взывая к своим родственникам там, в дикой глуши. Так люди, запертые в безопасных городах, тоже тоскуют о необузданной дикой природе. Они устают от цивилизации и ее жестких требований, от ее запретов, и тоскуют о старых лесных тропах, и страшатся новой, темной эпохи.
Стилихон потянулся за вином, но вовремя остановился. Свобода приходит, когда научишься говорить «нет». Заснул он за столом.
После нескольких дней похода на Павию Стилихон понял, что ему по-настоящему нравится его новый помощник, этот британский командир, все больше и больше, пока они бок о бок скакали верхом по дороге. Его звали Люций.
— А мою лошадь, — сказал Люций, наклонившись и потрепав длинную, серую, могучую холку, зовут Туга Бин.
Полководец смерил его ироническим взглядом.
— Ты дал имя лошади?
Люций кивнул.
— Эта самая лучшая серая кобыла из табунов обширной коневодческой местности Ицени. И куда я — туда и она.
Полководец покачал головой. Надо же — любитель лошадей!
— А что ты думаешь о Палатинской гвардии, солдат? — спросил он. — Как пограничник?
— Прошу прощения, полководец, но, говоря напрямик, я лучше промолчу.
— Х-мм, — пробормотал Стилихон. — Лично я считаю их кучкой напыщенных педерастов.
Люций ухмыльнулся, но ничего не сказал.
— Сегодня ты ужинаешь со мной, солдат. Только мы вдвоем. Мне нужно кое-что с тобой обсудить.
— Полководец?
— Сегодня ночью, солдат. В двенадцатом часу.
Они отлично пообедали, и Стилихон настоял, чтобы Люций выпил кубок вина.
— Я не специалист по винам, — подчеркнул он, — но это опимианское очень недурно, тебе не кажется? Виноград растет прямо над заливом, и считается, что он вбирает в себя морскую соль. — Полководец сделал глоток, посмаковал его во рту и проглотил. — Честно говоря, ничего подобного я не чувствую, просто так утверждают спесивые знатоки вин в Риме.
Люцию нравился Стилихон.
Они поговорили об армии, о вторжениях варваров, о римском государстве. Об уязвимости Африки, о ее бескрайних пшеничных полях. О загадочной натуре гуннов.
— И все же они могут стать нашим спасением, — произнес Стилихон.
— Или… — отозвался Люций, но не докончил мысль.
— Х-мм, — хмыкнул полководец. — Лично я бы даже приплатил, лишь бы продолжать дружить с ними. И хорошенько заботился бы о наших заложниках-гуннах.
Он налил еще по кубку вина. Люций не отказался. Через минуту Стилихон спросил:
— Ты веришь в пророчества, солдат?
— Ну-у, — медленно начал Люций, — я, конечно, не философ, но думаю, что верю. Полагаю, как большинство людей.
— Вот именно! — Стилихон стукнул кулаком по столу, а глаза его заблестели.
— В той части Британии, где я живу, полководец… Не знаю, стоит ли об этом говорить сейчас, ведь все мы теперь христиане, а Юлий Цезарь их не особенно любил…
Стилихон нахмурился.
— Кого, христиан?
— Нет, полководец,
druithynn и
bandruithynn — святых мужчин и женщин Британии, жрецов нашей исконной религии.
— Ах да, друидов. Цезарь терпеть не мог их и ту власть, которой они обладали. В основном поэтому он и стер их с лица земли, насколько я понимаю, там, на острове Мон?
— Он многих убил, полководец. Но некоторые сумели бежать к своей родне в Гибернию.
— А-а, Гиберния. Никогда не мог раскусить эту вашу Гибернию. Они там все сумасшедшие, правда?
Люций улыбнулся и ответил загадочно:
— Ну, скажем так: они никогда не прокладывают прямых дорог. Но после резни на Моне она стала родным домом для druithynn на следующие четыре сотни лет.
— А теперь?..
— А теперь они возвращаются в Британию. Несмотря на то, что все мы стали христианами, даже в Гибернии, druithynn возвращаются. И многие люди, особенно сельские жители, по-прежнему придерживаются старых религий.
Стилихон кивнул.
— Можешь не рассказывать. То же самое происходит среди холмов и в деревнях даже в цивилизованной Италии. Скажу тебе больше, солдат: обычные деревенские сатурналии заставляют думать, что ночь в борделе Субурры — это просто обед с девственницами-весталками.
— В Думнонии, полководец, в моей деревне, супружеские узы так же священны, как среди самых суровых христиан на Востоке. Но это не повсеместно в Британии, особенно во время больших празднеств кельтского года — ну, вроде ваших сатурналий. В Думнонии зимой мы до сих пор празднуем Самхейн, а еще есть Белтейн…
— И тогда мужья должны хорошенько следить за женами, а?
Люций поморщился.
— А что касается молодежи, еще не связанной супружеством…
Оба замолчали, задумавшись об обнаженных юных кельтских девах, но одновременно опомнились и вернулись к действительности.
— С чего мы вообще об этом заговорили? — пробурчал полководец.
— Пророчества, полководец.
— Ах да! — Стилихон опять наполнил кубки.
— И я хотел сказать, — продолжал Люций, — что пророчества среди druithynn очень сильны, только их никто не записывает. Считается, что в пророчествах очень много mana — это священная сила, а если их записать, то прочесть сможет любой.
Стилихон кивнул, впившись в Люция взглядом своих карих глаз, пылающих на длинном печальном лице. Потом, не отводя взгляда, он протянул руку, взял со стола свиток и встряхнул его. Оттуда выпал еще один потрепанный свиток, Стилихон развернул его и разложил на столе. От времени тот стал коричневым, а края были обожжены.
— Всего две недели назад, — очень медленно и очень тихо заговорил полководец, — по приказу принцессы Галлы Плацидии я пошел в храм Юпитера Капитолийского, теперь, разумеется, ставшего местом христианского поклонения. Я взял там «Сивиллины Книги» и сжег их. Пепел я, как сухую листву, развеял с Тарпейской Скалы. А когда оглянулся, то обнаружил, что один обрывок упал с жаровни и уцелел. Тут появился один из священников, вовсе не тот человек, которого я когда-либо уважал за его духовный пыл или ум. Жирный старый сенатор Мажорий. В прежние дни он был одним из quindecemvires — одним из Пятнадцати, кто охранял «Сивиллины Книги» ценой собственной жизни. Но когда Феодосий навсегда закрыл языческие храмы, Мажорий очень быстро сообразил, с какой стороны намазан маслом его кусок хлеба, и внезапно превратился в одного из самых горластых и пылких христиан. Поэтому, как говорится, ему даже не пришлось покидать храм. Вроде святого квартиросъемщика, от которого новый домовладелец — христианский Бог — не смог бы избавиться, даже если б захотел.
Оба прыснули.
— Да, так вот, жгу я последнюю из Книг, и тут вперевалочку подходит Мажорий и поднимает с пола этот обрывок пергамента. Посмотрел на него, сунул мне в руку и говорит, что это, мол, самое последнее из Сивиллиных пророчеств и что я должен его сберечь. Почему, он не знает, но так должно быть. И таинственно добавил: «У Бога тысяча и одно имя».
Ну, начать с того, что я вообще неохотно жег эти Книги. Галла заявила, что они — порочное языческое суеверие, что они могут подорвать моральное состояние римских граждан своими бесконечными предсказания гибели и разрушений. И вот, к собственному удивлению — ты же понимаешь, я не из тех людей, на кого могут повлиять жирные старые сенаторы, указывая, что мне делать…
— Понимаю, полководец.
— Но все-таки я сделал именно так, как велел старый жирный жрец, и сохранил последний обрывок пергамента. А теперь беспокоюсь, потому что не знаю, что с ним делать дальше. Не знаю, много ли у меня осталось времени.
— Полководец, вы кажетесь мне вполне крепким человеком.
Стилихон имел в виду совсем не это, но не стал возражать. Он подтолкнул пергамент к Люцию.
— Я хочу, чтобы его взял ты. И охранял ценой собственной жизни.
Люций нахмурился.
— Почему? Почему я?
— Считай, что это предчувствие. Я прожил всю жизнь, прислушиваясь к своим предчувствиям. Жена говорит, что это женский дар, но я его всегда принимал с благодарностью. И обычно я не ошибаюсь. Предчувствия подсказывают нам то, чего не подскажет никто и ничто. Держи. Он твой.
Люций посмотрел на свиток. Там были две колонки стихов, написанные древним храмовым почерком, чернилами, пожелтевшими от времени. Одни строчки были написаны длинным, напыщенным гекзаметром, другие — короткие, обычные рифмованные загадки, похожие на рифмы народов-варваров, и это его удивило.
— Прочти одну, — попросил Стилихон. Люций подвинул к себе свечу и прочел своим низким, звучным голосом:
— Один с империей, один с мечом, один с сыном, один со словом.
Полководец кивнул.
— А теперь прочти последние гекзаметры.
Люций прочитал:
— Когда Ромул взобрался на скалу, его брат Рем задержался внизу. Мертвец увидел шесть, царь — двенадцать; и книга Рима закрыта.
Он опять поднял взгляд:
— Это… это пророчество, которое отвело Риму двенадцать столетий?
— А в наше время… — начал Стилихон. Он широко развел руки: — В твоих руках — последнее пророчество Сивиллы Кумской, после чего она навечно исчезла из нашей истории. Все эти стихи относятся к концу Рима. Они трудные и невразумительные, как все стихи Сивиллы, и говорят, что, кто бы ни пытался объяснить их, только запутается. И все-таки я передаю их тебе.
— Мне? Но почему?
— Я чувствую — не знаю, почему — что эти последние и самые ужасные стихи не должны быть уничтожены, что их необходимо увезти далеко, далеко от Рима, за его границы. Потому что каким-то неясным способом, никем не предсказанным, они могут спасти Рим. Или душу Рима, если не получится спасти памятники, храмы и дворцы.
Стилихон страстно наклонился вперед, глаза его снова запылали.
— Выполни свой долг: забери их с собой в Британию.
— Но мне служить еще целых тринадцать лет!
— Поедешь, когда поедешь, — рассеянно отмахнулся Стилихон. — Они, конечно, бремя, но ты их запомни. Галла их боится, и Церковь их боится, а я думаю, что напрасно. Потому что они — очень могущественная вещь, если их правильно использовать, и могут спасти Рим, хотя я не могу предсказать, как именно. Книги никогда не ошибались — их просто неверно толковали. — Полководец сел на место и внезапно стал выглядеть старым и уставшим. Он провел рукой по лбу. — Я не смог уничтожить эту последнюю Книгу. Мне кажется, что тот, кто сжигает книги, в конце концов будет сжигать людей.
Оба они еще немного посидели в мрачном молчании. В лагере стояла тишина. Ухала сова, и сквозь тихую, безветренную звук был слышен очень хорошо. А в палатке два встревоженных солдата словно ощущали ветер столетий, прикоснувшийся к ним, как призрак. Они чувствовали себя маленькими и незначительными и обремененными чем-то таким огромным, что не в силах были постичь. Близился конец, это они понимали, но не такой конец, который может ясно разглядеть смертный. И это пугало больше всего.
Люций видел мысленным взором женщину в длинном белом одеянии. Она незряче шла сквозь густой морской туман на край утеса, похожего на зеленый, открытый всем ветрам мыс Пен Глас, над горячо любимой долиной Думнония, которую он называл родным домом. Ему хотелось громко крикнуть, но он оставался немым и беспомощным и видел, как женщина шла в величавой задумчивости прямо на опасный край — к черным клыкастым скалам далеко внизу. И он подумал, что эта женщина — Клио, сама муза истории.
— У тебя бывают видения, — раздался резкий голос полководца. Люций с трудом вернулся к действительности. — Необычно для солдата.
— Мой… мой народ в Британии часто становился fill, barda — поэтами и провидцами, так же часто, как и солдатами, — попытался Люций превратить все в шутку. — Вы же знаете, какой репутацией обладаем мы, кельты.
Стилихон никак не откликнулся на шутку.
— Я хочу от тебя еще кое-чего.
— Да, полководец?
— Завтра я отправляю тебя назад, в Рим.
— Но, полководец, Палатинская гвардия не желает, чтобы пограничники находились в пределах городских кварталов. Потому-то меня и моих парней и отправили с вами в Павию, не в обиду вам будь сказано. И мы к этому готовы — биться с готами и все такое. Я не думаю…
— А римские шлюхи не замучали твоих парней, солдат?
Люций ухмыльнулся.
— Парни уже говорили, что немного притомились, это верно, полководец. Говорили, что после Рима возвращение обратно на границу с пиктами будет казаться отпуском.
— Ну, граница с пиктами оставлена навсегда, — хмуро сказал Стилихон. — Но границ пока еще хватает. Нужно удержать Рейн и Дунай.
— Да, полководец.
— Как бы там ни было, я отлично знаю, что между Палатинской гвардией и пограничными войсками, вернувшимися в Рим, существует напряжение. Но таков мой приказ, а я, о чем необходимо время от времени напоминать Палатинской гвардии, являюсь военачальником всех римских вооруженных сил. Поэтому не обращай внимания на этих ублюдков. Ты и твоя центурия завтра возвращаетесь в Рим. Я хочу, чтобы вы присмотрели там кое за кем.
— Да, полководец?
— Среди заложников есть один, кто действительно имеет значение — по совершенно очевидным причинам. Мальчик-гунн по имени Аттила.
Люций осклабился.
— Я его знаю.
Стилихон удивился.
— Да?
— Именно мой отряд вернул его обратно в ту ночь, когда он разгадал пароль и сбежал из Палатина.
Стилихон тяжелым взглядом уставился на Люция.
— Я уверен, это не просто совпадение, — негромко произнес он. — Что ж, как ты уже наверняка догадался, в этом мальчике есть что-то особенное. Уж не знаю, что именно.
— У него на плече сидит орел, — пошутил Люций. — Это такая старая пословица.
— Что-то в этом роде, — сказал полководец как будто самому себе. — Орел — или буревестник. — Потом более оживленно добавил: — В общем, я хочу, чтобы ты за ним присматривал. Разумеется, больше никаких попыток побега. Но приглядывай за ним и в другом смысле. Нам действительно нельзя пока обгадиться перед его дедом, Ульдином.
Люций кивнул.
— Мальчишка тоскует по дому, я понимаю, но не хочу, чтобы он опять пустился в бега по городским улицам. Это слишком опасно, особенно учитывая его страсть к дракам. Но если все переменится… обстоятельства… и ты почувствуешь, что ему опасней оставаться в Риме, чем бежать… Ты понимаешь, о чем я?
— Да, полководец.
— Гунны… гунны нам не враги. Они не строители империй, поэтому у них нет причин разрушать империи. Они не боятся разрушения своей собственной родины, но и не желают уничтожать чужие, как сказал про них один философ. Да, собственно, как можно уничтожить их родину? Это не город и не страна. Это просто земля. Как можно уничтожить леса и равнины Скифии? Они не хотят завладеть Римом. Они хотят свободы, широких открытых равнин, пастбищ для своих коней и скота, хорошей охоты. Они не завидуют тому, что есть у римлян. Они не хотят устраивать себе резиденцию в Палатине или отдыхать в банях Каракалла, где болтается толпа смазливых бездельников-греков, готовых умастить тебя маслом и чем только не ублажить. И они никогда, никогда не обратятся в христианство. Они сохранят свою религию и свои привычки.
— И они довольно неплохие воины.
— Довольно неплохие? — задумчиво повторил Стилихон. — Я видел, как они налетели на армию Радагайса — а те были вовсе не мальчишки-школьники — и уничтожили ее, как будто зарезали отару овец. Да поможет нам Бог, если они когда-нибудь пожелают…
Повисла тяжелая тишина.
— Я понял вас, полководец.
— А мальчишка-заложник — часть всего этого. Поэтому стереги его как следует и смотри, чтобы никто не причинил ему вреда. Мне нравится этот мальчик.
Люций кивнул.
— Даю вам слово.
8
О, Кассандра
На следующий день, когда Аттила, наконец-то, освободился от уроков — Ливий, вечно Ливий и Блистательные Основатели Рима — он кинулся в кухню и уселся на свое место за большим, грязным столом, где обычно ужинали дети-заложники. Он пришел первым. Но — весьма необычно — едва он сел, как Букко, большой, толстый раб-сицилиец принес ему миску супа и хлеб на деревянном подносе.
Аттила проглотил все в один момент: Ливий всегда нагонял на него голод. Не успел суп кончиться, как Букко снова наполнил миску. Это озадачило мальчика — что такого он сделал, если к нему относятся просто-таки по-королевски? Но, взглянув на Букко, он заметил, что раб смотрит на него очень печально. Почти… с жалостью.
— Букко?
— Да, маленький господин?
Аттила повел рукой.
— А где все? Гегемон, и Бегемонд, и остальные?
Букко заерзал и опустил взгляд. Потом все же произнес, почти шепотом:
— Их нету, господин.
Мальчик похолодел.
— Нету? Ты хочешь сказать, что…
— Их освободили, господин, была общая амнистия с Аларихом и его союзниками.
Аттила выронил кусок хлеба.
— А меня почему не освободили? Разве армию готов разбили не с помощью моего народа? Под командованием моего собственного деда?
Букко выглядел очень несчастным.
Мальчик уже выскочил из-за стола и метнулся к двери.
— Так вот как с нами расплатился Рим! — заорал он, распахнул дверь и замер на месте. Сразу за дверью стоял дородный дворцовый страж, перекрыв проход своим копьем. На его лице сияла широкая ухмылка.
Аттила вернулся и снова сел за стол. Что-то шло совершенно не так. Он очень хотел поговорить со своими единственными друзьями в Риме, Сереной и Стилихоном.
— Доешь хлеб, — сказал Букко.
— Сам ешь, жирное сицилийское дерьмо! — пронзительно завопил Аттила, схватил кусок хлеба и швырнул его в Букко. Это был отличный удар, он попал прямо в толстую щеку раба. Но тот просто наклонился, немного неуклюже из-за своей толщины, поднял хлеб с пола, отряхнул его и снова положил перед мальчиком.
— Не суп, — сказал он. — Хлеб.
Аттила уставился на раба. Что-то мелькнуло в глазах Букко… настойчивость.
Мальчик осторожно разломил кусок пополам. В нем лежала бумажка.
Букко вернулся к плите, что-то насвистывая с фальшивой веселостью.
Аттила вытащил записку. В ней говорилось:
«Подожди в кухне. Когда часовой у двери сменится, тотчас же приходи в мою комнату. Второй часовой позволит. Смотри, чтобы тебя не заметили. Поспеши. С.»
Аттила поступил так, как ему велели. Первый раз в жизни.
После того, как в главном дворе пробил колокол, он выждал несколько минут и вышел из кухонной двери. За ней стоял новый часовой, сжимая копье. Он не шевельнулся, словно мальчик был невидимкой.
Аттила вернулся в кухню. Букко убирал его миску. Мальчик порывисто кинулся к нему и обнял толстяка за необъятную талию, Букко удивленно посмотрел на него.
И мальчик убежал.
Перед дверью Серены тоже стоял часовой и тоже вел себя так, будто мальчик был невидимкой.
Аттила вошел.
Серена сидела на невысокой кушетке спиной к нему. Заслышав его шаги, она повернулась, и Аттила со смятением увидел, что ее лицо залито слезами. Серена, всегда такая собранная и горделивая! При виде мальчика ее большие, влажные глаза вновь наполнились слезами.
— Аттила, — воскликнула она, протянув к нему руку.
— Что случилось?.. — спросил мальчик и понял, что его голос дрожит от страха.
Она на мгновенье обняла его и тут же отпустила.
— Опасность, — сказала она. — Ты должен бежать. Сегодня, если можешь. — И замялась.
— Скажи, в чем дело?
Серена покачала головой. Выглядела она встревоженной, смущенной и неуверенной и пыталась подыскать нужные слова.
— Где Стилихон? — спросил мальчик.
— В Павии, — коротко ответила она.
— Они сказали, — выпалил Аттила, — они сказали. — Евмолпий сказал — что ты приказала мне никогда больше не разговаривать с тобой! Он сказал — ты сама так захотела.
— Он солгал.
— Я знаю. Я… я его ударил.
Серена улыбнулась сквозь слезы.
— Знаю, что ударил. Весь дворец знает. И многие ликуют. — Она глубоко вздохнула. — Иди сюда, сядь рядом. Времени совсем мало.
Аттила сел.
Она снова вздохнула, немного подумала и заговорила:
— Ты слышал про «Сивиллины Книги»?
— Книги пророчеств? — Он кивнул. — Среди моего народа пророчества, и священные стихи, и всякое такое никогда не записывают. Они слишком драгоценны, и доверяют их только памяти святых людей.
— Ах, — вздохнула Серена. — По-моему, у кельтов тоже. Если бы так было и в Риме. — Она внимательно вгляделась в его лицо и продолжила: — Среди последних и самых великих «Сивиллиных Книг» есть пророчество о том, что Рим будет существовать двенадцать столетий. Когда Ромул основал город, он посмотрел в небо и увидел двенадцать грифов, круживших вокруг семи холмов, и понял, что они символизируют двенадцать столетий, во время которых боги позволят Риму триумфально править всем миром. Но город был основан Ромулом в — ты хорошо учишь Ливия?
— Да, — устало отозвался мальчик. — За семьсот пятьдесят три года до Рождества Христова. — Тут он нахмурился и начал подсчитывать на пальцах. Потом потрясенно посмотрел на Серену.
— Да, — печально подтвердила она. — Это грядет. Это произойдет скоро — если в это верить. Или так: если в это верить, это скоро произойдет. — Она втянула в себя воздух. — Я знаю, знаю, в эти дни все говорят загадками. Прости меня. Прин… скажем, императорской властью Стилихону велели уничтожить Книги и не оставить от них никаких следов. «Иначе люди будут продолжать верить», — сказали ему. Но… буря грядет. И многое из того, что было драгоценным и прекрасным, что казалось людям чудом, будет уничтожено и навсегда исчезнет.
Мальчик понял не все, о чем она говорила. Зато хорошо понял, что должен уходить прямо сейчас. Рим перестал быть для него безопасным.
— Куда мне идти?
Она улыбнулась и погладила его по щеке.
— Туда, куда ты всегда хотел уйти, маленький волчонок. Домой. — И встала. — Тот меч, что полководец Стилихон дал тебе…
— Он у меня, — ответил мальчик. — Надежно спрятан.
— Разумеется, надежно, — откликнулась Серена. — А у Стилихона есть еще один дар. Господь велел ему действовать мудро. Последнее, самое грозное пророчество… О, Кассандра, почему мы, сыновья и дочери Трои, не слушали?..
Похоже, она разговаривала сама с собой и, опять погрузившись в загадки Сивиллы, впала в беспокойство и бормотала тихонько, шаря глазами по полу.
— Мы думали, что пророчество обещало конец света, но ошибались. Мы все время истолковывали его неверно. Оно предсказывало не конец света, а только конец Рима.
Она в последний раз сжала руку Аттилы, глядя ему прямо в глаза своими встревоженными, темными, ищущими глазами, словно пытаясь сообщить ему что-то, что невозможно выразить словами, что было старше, чем возраст мира.
— Все мы будем уничтожены, и все мы вернемся, — сказала она. — Давным-давно меня учил этому один святой человек, а я не хотела ему верить. Зато верю теперь. Его звали Гамалиэль — Певец Солнца, Добытчик Огня, последний из Тайных владык. Где теперь его голос и мудрость? — Рука ее упала, а взгляд сделался далеким.
Наконец озадаченный мальчик спросил:
— А как я убегу?
— Сегодня ночью, — ответила Серена.
Внезапно где-то в дальней части дворца раздались неистовые вопли. Серена вздрогнула, и Аттила к своему немалому смятению заметил, что она дрожит от страха. Серена повернулась к нему.
— Уходи, — сказала она. — Часовой у твоей двери — верный человек. Оставайся в своей комнате. В назначенный час он отопрет твою дверь и проводит тебя к… к выходу из дворца. Оттуда ты дойдешь до Церкви Магдалины, а оттуда тебя выведет из города монах по имени Евстахий, и ты получишь свободу — а может быть, и лошадь.
— Лошадь!
Серена улыбнулась и снова прикоснулась к нему.
— Скачи, как ветер, маленький волчонок.
— Как осенний ветер в степи, когда на Восточном небосклоне восходит Альдеберан, помчусь я, — пробормотал Аттила. — И как бледные листья горных берез, когда гонит их осенний ветер, помчусь я.
— А нам говорят, что у варваров нет поэзии! — улыбнулась Серена, но улыбка тут же увяла. — Укради все, что тебе нужно. Ни с кем не разговаривай. Никому не сообщай, как тебя зовут!
Она отвернулась, чтобы мальчик не увидел ее слез.
— А теперь уходи, — повторила Серена.
Аттила шагнул к ней, как в мольбе протянув руки.
— Но… Но я…
Серена не оглянулась.
— Я сказала — уходи! — выкрикнула она.
Мальчик вздрогнул, отшатнулся, потому повернулся и побежал. В глазах его блестели слезы.
* * *
Он вернулся в свою комнату, освещенную факелами, и увидел, что двое гвардейцев переворошили его постель, обыскали комод с бельем и теперь перебирали каждую его вещь. Он вбежал в комнату, но они едва удостоили его взглядом.
— Выйди, — буркнул один.
Аттила вышел и скользнул в коридор, ведущий к статуе Августа — его «загадочным образом» исчезнувший глаз уже заменили другим. Он пошарил за статуей; все на месте — его меч, подарок Стилихона, спрятанный в таком месте, где им вряд ли придет в голову искать.
За спиной послышались шаги.
Евмолпий. Он поднял изящно выщипанную бровь.
— Какие свеженькие разрушения ты намерен учинить сейчас, крысеныш?
Не говоря ни слова, Аттила вытащил сверток из-за статуи, развернул промасленную ткань и повертел мечом перед глазами евнуха.
— Что, красивый? — спросил он.
— Дай сюда.
Мальчик улыбнулся и помотал головой.
У евнуха неожиданно сделался опасный вид.
— Я сказал — дай сюда.
Аттила вскинул глаза, резко поднял меч на уровень плеча, согнул руку, чтобы нанести удар, и направил длинное, смертоносное лезвие прямо в грудь мучителя.
— Если он тебе так нужен, возьми.
Евмолпий посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом, внезапно шагнул в сторону и попытался схватить мальчика сбоку. Но Аттила был быстрее. Он нырнул под вытянутую руку евнуха, повернулся на цыпочках и снова направил на него меч.
— Так-так, — тихо произнес Евмолпий. — И кто же — какой изменник — дал такому крысенышу, как ты, такой чудесный подарок?
Вопреки всем ожиданиям евнуха, Аттила неожиданно сделал выпад, испуганный Евмолпий шагнул назад, споткнулся о постамент статуи Августа и упал. С трудом поднимаясь на ноги, утратив все самообладание, он яростно ругал мальчика. Задержавшись еще на мгновенье, чтобы отряхнуть свой ослепительный позолоченный далматик после прикосновения варвара, Евмолпий, как разъяренная гадюка, прошипел по-гречески что-то нечленораздельное и ушел.
— Между прочим, порез у тебя нехороший, — крикнул вслед мальчик. — Вокруг глотки.
Он осторожно завернул меч и спрятал его в складках туники.
Упав, Евмолпий уронил лист бумаги. Когда он исчез за поворотом, мальчик поднял листок. Текст оказался зашифрованным. Он вернулся в комнату. Гвардейцы впустили его, заперли дверь снаружи и задвинули засов. Он рухнул на кровать и попытался разгадать шифр. Аттила любил шифры, но этот оказался сложным. Вскоре усталые глаза закрылись, и он уснул.
Но и во сне он продолжал трудиться над шифром. Он понимал, что это почему-то важно. Аттила видел сам себя как бы на расстоянии, в полумраке, напрягая зрение из-за гаснущей масляной лампы. Из одного из дальних внутренних двориков раздался странный, высокий крик, словно птичий.
Ему снилось, что он вскочил с постели и помчался в Палату Императорской Аудиенции. Там на раскрашенном деревянном троне сидела принцесса Галла Плацидия, окруженная детьми, что показалось ему странным — ведь у нее детей не было. Да и кто бы, как сплетничали в задних комнатах дворца, захотел на ней жениться?
«Галла и муж, — издевались они. — Девственница и страдалец».
Ее брат, Гонорий, сидел у ног принцессы и играл детским волчком. Принцесса гладила козленка, лежавшего у нее на коленях, и улыбалась. Козленок тоже улыбался. Рядом с ней стоял Стилихон. На лице у него было озадаченное выражение. Он прижал руку к спине и издал глухой, протяжный стон. Аттила в ужасе увидел, что у полководца из спины торчит большой нож с золотым орнаментом на рукоятке. «Я должен идти домой, к жене», — сказал Стилихон. Принцесса гладила козленка, смотрела на Аттилу и улыбалась. Он проснулся онемевшим от скорби и услышал крик. Он лежал в холодном поту и прислушивался изо всех сил. Может, это был вовсе и не крик. Может, это тот самый преданный гвардеец стучался в дверь, а может, и сам монах Евстахий. Но тут в ночи снова зазвенел крик, похожий на крик экзотических птиц в императорском птичнике, и мальчик понял, что происходит нечто ужасное. В глубине души он уже знал, что не будет ни преданного гвардейца, ни доброго монаха по имени Евстахий. Он остался один.
В коридоре раздались отчаянные вопли, потом звуки потасовки, потом, как от невыносимой боли, взревел мужчина. Потом бегущие шаги, хлопанье дверей, потом стало слышно, как трещит и ломается дерево. Аттила в испуге вцепился в кровать — так человек, уносимый черной ночью в океан, вцепляется в деревяшку. Мальчик не мог пошевелиться. В любой момент сюда могут ворваться гвардейцы с мечами наготове и пронзить его этими стальными лезвиями, пригвоздив к соломенному тюфяку. Но никто не пришел. Аттила заставил себя отпустить кровать и потряс головой, чтобы очистить ее от ночного кошмара. Он встал и замотался в тонкий шерстяной плащ, хотя ночь была теплой. Потом взял меч и подошел к двери. Аттила обеими руками вцепился в рукоятку, поднял меч высоко над головой и с размаху вонзил его в тяжелую дубовую дверь. Он был исполнен решимости пробить в ней дыру, и неважно, сколько времени это займет. Но после первого же удара дверь зловеще отворилась. Часовых за ней не было.
Он дернул меч и с усилием освободил его. Как в тумане, он почувствовал в воздухе несомненный медный запах, даже вкус, крови. И ощутил, буквально волосами на затылке, что весь дворец укрыт облаком страха. Ночь окуталась безмолвным ужасом.
Мальчик побежал. Он пробежал мимо человека, обмякшего в дверях, остановился и вернулся к нему. Спереди грубая туника мужчины была темной и мокрой. Букко, толстый раб-сицилиец, его друг. Аттила опустился на колени и положил руку на щеку Букко. Она была холодной, как влажная глина. Аттила слегка шевельнул голову Букко, она неуклюже упала набок, и на шее открылась рваная зияющая рана. Мальчика едва не вырвало, он вскочил на ноги и кинулся прочь. За что Букко? За что простого раба?
Теперь сквозь туман страха до него стало доходить окружающее. Вокруг никого не было. Даже в этот поздний час во внутренних двориках должны находиться часовые, работать ночные рабы, aquarii должны носить ведра с водой, священники и дьяконы, служащие императорской семье, должны направляться на утреннюю службу в холодную, наполненную запахом ладана часовню. Но вокруг никого не было. Казалось, что дворец внезапно опустел — и все-таки издалека в жарком ночном воздухе доносились звуки.
Он снова услышал птичий крик, только теперь точно знал, что это кричит не птица, а женщина. Завернув за угол, во внутренний дворик, он едва на наткнулся на женщину, стоявшую у небольшого фонтана. Он никогда не видел ее раньше. Она была вся в белом, как жрица, но на протянутых к нему руках лежал мертвый котенок, рот был открыт в безмолвном крике, а глаза смотрели невидяще. Бессмыслица какая-то. Мальчик, спотыкаясь, попятился от нее. Безумство — ему вдруг захотелось расхохотаться. Все это настолько бессмысленно, что походит на ночной кошмар, но все это было реальным, пожалуй, чересчур реальным. Он совсем не спит.
Аттила услышал приближающийся топот, потом топот затих, потом захлопали двери и послышалось лязганье цепей, которые тянут по мраморному полу. Мальчик подошел к тюку лохмотьев, сваленному в углу, но тут тюк зашевелился и из него появилась окровавленная человеческая рука. Аттила побежал дальше.
Он услышал, как в городе зазвенели церковные колокола, и опять это было бессмыслицей. Казалось, что они предупреждают о каком-то зловещем, кровавом событии. Ему казалось, что звук раздается из-под земли, из царства хаоса и древних ночей. На этот раз он бежал по дворцу не тайком, как волк. Он бежал, прижав к груди руку и чувствуя под ней стальную тяжесть меча. Этой ночью меч ему понадобится.
Его как будто никто не замечал.
Мимо прошли два солдата, волоча под руки какого-то мужчину. Они именно волокли его, потому что ноги у него были сломаны. Он был одет в униформу высшего командира. Лицо у него распухло и покрылось запеченной кровью, так что мальчик не узнал его. Только зубы белели на темном лице, а губы растянулись в кошмарной улыбке.
Мальчик пошел дальше, по бесконечным пустынным коридорам, сквозь огромные залы дворца, отчаянно стремясь добраться до покоев Серены раньше, чем это сделает кто-нибудь другой. В одном из просторных залов дворца он увидел, что красивая мозаика бога Бахуса, украшавшая пол, разбита, как будто безумцем: лицо бога буквально уничтожено, превратилось в мозаичные осколки. Словно взбесившийся сумасшедший схватил тяжелую медную лампу и напал на Бахуса, как на живое существо. Полнейшая бессмыслица. Повсюду в воздухе висел резкий запах крови, слышались отдаленные вопли, чувствовался запах масляного дыма там, где проходили со своими кровавыми заданиями солдаты с зажженным факелом в одной руке и обнаженным мечом в другой. Кого-то из них хорошо наградят за ночную работу. Опять послышались приближающиеся шаги, снова в ночи раздались крики.
Мальчик помчался дальше и, наконец, добежал до дверей в покои Серены. Он заколотил в дверь. Серена услышала его голос, распахнула дверь, и Аттила кинулся к ней. Он обнял ее за талию и спрятал лицо в складках ее белой столы.
— Мой милый… — сказала Серена.
— Что это? Что происходит?
— Ты должен уйти. Ты должен уйти прямо сейчас. В темноте и неразберихе ты должен попытаться…
Аттила посмотрел на нее. Глаза у нее сверкали от слез. Отчужденность и церемонность исчезли.
— Я обещал полководцу Стилихону, что никогда больше не буду пытаться бежать.
— О, мой дорогой, мой милый, эту клятву ты больше не обязан выполнять. — Она погладила его по голове. — Ни к чему выполнять клятву, данную тому, кто уже мертв.
Мальчик громко вскрикнул, и этот крик едва не разорвал ей сердце.
Где-то рядом разбилась ваза или бутыль. Раздался звук, словно по полу волоклись чьи-то ноги в сандалиях.
— Этого не может быть! — кричал мальчик.
Серена покачала головой. Это конец. Они обнялись и зарыдали вместе.
— Они сказали, что мой муж — предатель; он и его окружение.
— Кто «они»? — Но он знал. Куриный Император и его сестра с ледяными глазами.
— Мой дорогой, ты должен бежать.
Но Аттила уже вытащил свой меч, и тут в комнату вошли двое солдат. Аттила шагнул к ним.
— Аттила, — раздался голос Серены у него за спиной.
Он оглянулся. Еще двое солдат уже стояли по обеим сторонам Серены, обнажив мечи.
Он отвернулся. Перед ним стояла цепь из шести или восьми солдат Палатинской Гвардии, блистательных в своих черных шлемах и кирасах. Они широко улыбались.
— Где Стилихон? — требовательно спросил Аттила.
Солдаты остановились. Их optio нахмурился.
— Этот предатель? А тебе какое дело, маленький негодяй? — Он подумал. — Надеюсь, его голова уже торчит на пике на городских стенах Павии.
— А мой сын? — спросила Серена. — Евхарий?
На этот раз даже optio не смог посмотреть ей прямо в глаза. Уставившись в пол, он буркнул:
— Спит вместе с отцом.
Серена
прислонилась к стене, пытаясь вдохнуть.
Мальчик вытянул руку с мечом. Его рука немного дрожала, но он не боялся и не отрывал от них решительного взгляда.
В обычной ситуации optio просто подошел бы к такому мальчишке, дал бы ему подзатыльник и вырвал меч. Но в глазах этого было что-то такое…
Он подал знак своим людям. Почти небрежно двое из них с цепью в руках шагнули к мальчику и перебросили цепь поперек груди Аттилы. Прежде, чем он успел что-то сообразить, они обошли его кругом, крест-накрест, и вернулись обратно; его руки оказались плотно пришпилены к телу. Он стоял беспомощный, как связанная курица на рынке.
— А теперь, — произнес optio, — брось меч, как пай-девочка.
Аттила непристойно обозвал его мать.
— Пожалуйста, — тихо произнесла Серена из дальнего угла комнаты.
Optio кивнул солдатам, державшим цепь. Они дернули, как в перетягивании каната, как будто мальчик был просто узлом в середине. Цепь резко натянулась, и Аттила охнул от боли. Меч выскользнул из его руки и, брякнув, упал на пол. Солдаты обернули вокруг него остаток цепи и потащили его прочь.
Следом вели Серену с приставленным к ее спине острием меча.
Аттила обернулся, и она что-то сказала. Слишком тихо, чтобы он мог расслышать ее слова, но он и так знал, что она говорит. И ее увели.
Его затолкали в камеру, черную, как безлунная ночь, сырую, как подземная пещера. Пока его заталкивали туда, он умудрился впиться зубами в мускулистую руку и вырвать кусок плоти. Аттила выплюнул его на гвардейца. Тот взревел от боли и ярости и швырнул мальчика о каменную стену так, что в глазах у того засверкали красные искры. Обмотанный цепью, Аттила рухнул на зловонный пол в углу камеры, уронил голову на грудь и потерял сознание. Очнувшись, он не смог ничего разглядеть. Из дальней камеры слышался женский голос, почти безумный от ужаса. Женщина кричала:
— Нет, нет, нет!
Но Аттила знал, что это не она. Они оба мертвы. Его единственные друзья, те, кого он любил… В голове болезненно пульсировала кровь, и он всхлипнул от боли. Что еще хуже, цепь сдавливала руки, и это было мучительно.
Но ярость перевешивала боль. Он так отчетливо видел их обоих в темноте камеры! Стилихон со своим длинным, скорбным лицом. Его скрипучий голос и слова «мой маленький волчонок». И она: ее большие темные глаза, ее нежная улыбка. Такой он увидел ее в последний раз.
«Мой милый…»
— Мой народ придет, — тихо произнес Аттила вслух, несмотря на боль. — Они не будут терпеть это оскорбление. — А потом громко, так, что тюремщик в дальнем конце коридора услышал и нахмурился: — Гунны придут.
9
Пусть польет дождь и утопит огни
Такова была ночь, когда полководца Стилихона и все его окружение беспощадно уничтожили.
Императорский двор выдвинул официальную версию, согласно которой Стилихон тайно сговаривался с варварскими племенами, возможно, с самими гуннами, чтобы свергнуть Гонория и всю его семью и посадить на трон своего сына, Евхария. Но в это поверили немногие, потому что все знали, что Стилихон — человек благородный. И я тоже не думаю, что у него было сердце предателя. Я думаю, что Гонорий, подстрекаемый своей сестрой Галлой Плацидией, а также непорядочными и своекорыстными придворными вроде Евмолпия, Олимпия и других, увидел в Стилихоне соперника, которого любил народ.
В лагере у Павии великий полководец, столько раз бывший спасителем Рима на самых разных полях сражений, мог поднять оружие против небольшого отряда солдат под началом трусливого наместника Гераклиона, пришедшего той ночью арестовать его, потому что большая часть армии, несомненно, сражалась бы и погибла за него. Они были преданы Стилихону, а не императору. Но Стилихон не мог поднять оружие против своей горячо любимой родины, пусть даже родина хотела его убить. Он из Павии отправился в Равенну, где искал убежища в тамошней церкви. Наместник Гераклион окружил церковь, выманил Стилихона наружу лживыми обещаниями свободного прохода и, как только тот оказался в его лапах, бесстыдно обезглавил его, не сходя с места, по строгому, но тайному приказу самого императора.
Рим всегда убивал своих верных слуг, своих самых мужественных сыновей; во всяком случае, иногда так кажется.
Вместе со Стилихоном император убил также младшего сына Стилихона, Евхария; префектов-преторианцев Италии и Галлии; двух армейских военачальников, преданных Стилихону; квестора Бонавентура; императорского казначея и многих других, чьи имена забыла история, но не сердца, любившие их.
После этой резни придворные-подхалимы, что раньше пели хвалу Стилихону, внезапно прозрели, признали, что их ввели в заблуждение с самого начала, и начали пламенно доказывать, что он действительно был самым гнусным и злобным из предателей.
Многих друзей Стилихона подвергли ужасным пыткам, чтобы вынудить их признаться в измене. Все без исключения сошли в могилу молча, благородно подтвердив своей смертью дружбу со Стилихоном при жизни.
Жену Стилихона, Серену, тоже убили, задушили в подвале шелковым шнуром. Говорят, что она была спокойна до самого конца и молилась Христу о душах тех, кто ее убьет. Говорят, что она умерла в странной безмятежности, так подходившей ее имени. Словно она уже видела своего возлюбленного супруга, ждущего ее там, на берегах вечно солнечной страны, за холодной темной рекой, которую должна была пересечь.
А войска Стилихона отказались верить, что их командир был предателем, так что единственным и немедленным результатом страшной резни было то, что тридцать тысяч воинов, яростно негодуя из-за поступков императорского двора в Риме, тотчас же присоединились к армии Алариха и готов, после чего Аларих, чувствуя, что империя опять разваливается на кусочки, вновь обратил свой взор на Рим.
При дворе Рима поселилась мучительная ненависть. Поселилось гнетущее принуждение, унизительная лесть и обнаженный страх, пробивающийся сквозь призрачные улыбки.
Аттила не улыбался. Он оставался пленником, хотя ему сохранили жизнь — лучшую гарантию того, что гунны не нападут на Рим.
Гонорий проводил все больше и больше времени в Равенне со своими цыплятами.
Галла Плацидия проводила все больше и больше времени в Риме, раздавая приказы.
А мальчик-гунн проводил все больше и больше времени в своей плохо освещенной клетушке, один, прижав кулаки к ушам или к глазам — выдавливая из них красные искры. Он разрывался между своими обещаниями, данными Стилихону, понимая, чего полководец от него хотел, и знанием того, что произошло с самим Стилихоном. Этот самый преданный слуга. «Делай то, что правильно, Аттила».
Но прошел еще год, а гунны так и не пришли.
Хотя мальчик постоянно оставался под строгой охраной, его занятия возобновились, режим немного ослаб, и даже комнату ему выделили чуть побольше.
Появлялись и исчезали другие дети-заложники, в зависимости от того, какие соглашения были достигнуты с германскими племенами, угрожавшими границам империи. Но Аттила не сходился с ними. Он презирал их всех.
Особенно он презирал двух принцев-вандалов, Берика и Гензерика, которые очень охотно и основательно романизировались. Их отпустили обратно к своему народу, но они с удовольствием вернулись в Рим для какой-то дипломатической сделки.
Они были на несколько лет старше Аттилы, может, шестнадцати и восемнадцати лет, и очень уверенные в своем превосходстве, изысканности и вульгарном остроумии. Как-то раз Аттила услышал, что они отпустили циничную шутку о гибели Стилихона и Серены. Он обернулся к ним и, пригвоздив их к месту своим взглядом, который уже в этом возрасте сделался просто угрожающим, сказал, что, если он еще раз услышит от них что-нибудь подобное, то позаботится о том, чтобы оба они еще до сумерек были мертвы. Братья переглянулись и расхохотались над этой скандальной угрозой. Но их выдала тревога в глазах; и больше они никогда не упоминали убитого полководца и его жену рядом с мальчиком.
Однако принцы вандалов, вероятно, под давлением более высокопоставленных придворных, постоянно пытались убедить Аттилу расслабиться и насладиться теми удовольствиями, которые предлагал Рим. Потому что хорошо известно, что вандалы — самые пассивные из всех народов.
— Там, в черных палатках твоего народа, есть у вас теплые купальни, изысканные вина, шелковая одежда, вкусная еда, которыми мы наслаждаемся здесь? — насмешливо спрашивал Гензерик.
А Берик добавлял:
— Я еще никогда не видел гунна в шелковой одежде, а ты, Гензерик?
— Никогда, — бормотал Гензерик, поглаживая свой шелковый плащ. — В шутовских пыльных кожаных штанах и, по-моему, в кроличьем мехе, но в шелках? Нет.
И насмешливо усмехались, глядя на ощетинившегося мальчика.
Аттила с презрением отвергал все их попытки сблизиться. Братья, как и все остальные дети-заложники, казались ему блаженными дурачками, ничего не знавшими о мире — в точности, как жирный, лоснящийся скот на пастбище: пасутся и нежатся на теплом летнем солнышке, даже не подозревая, что скоро придет зима и их попечители в мгновенье ока превратятся в их убийц.
Он держался еще более обособленно, чем раньше, а одного его взгляда исподлобья обычно хватало, чтобы даже самые крепкие соперники отступили.
Остальные дети кичились своим умением говорить по-латински и по-гречески, плененные тем, что считали высшей культурой своих хозяев. Они цитировали друг другу Горация и Вергилия или изящные куплеты Сафо; они прикрывали глаза и вздыхали, потому что весь мир восхищался расслабленными эстетами из Байи и Помпеи. Аттила продолжал усердно, с мрачной решимостью изучать латынь и историю Рима, хотя к своему педагогу-греку, бедному, навязанному ему Деметрию из Тарса, относился с презрением.
Он узнал о великих победах Сципиона Африканского, Цезаря в Галлии, Фабия Кунктатора (Фабия Медлителя), который победил карфагенян, уклонившись от открытого сражения, но втянув их в длительную партизанскую войну.
— Вот так мой народ завоюет Рим, — заявил Аттила, — терпением и хитростью.
Деметрий разозлился.
— Прекрати…
— Но ведь все эти великие римские герои побеждали другие народы и так блистательно расширили границы Рима? — уточнил мальчик. — Значит, войны и завоевания — это всегда замечательно?
Педагог, как всегда, попался.
— Только в том случае, если победитель является частью высшего закона и культуры, — осторожно сказал он. — Как Рим по сравнению с неотесанными племенами за его пределами. Разумеется, если бы Рим не был превосходящей культурой, провидение никогда не позволило ему сделаться такой великой империей.
Мальчик на мгновенье задумался, потом улыбнулся.
— Философия назовет это порочным кругом, — заметил он. — А с точки зрения логики это и вовсе ничего не стоит.
Деметрий потерял дар речи, а мальчик засмеялся.
Когда-то Рим был великим. Это мальчик понял и нехотя признал. Когда он читал о Регуле, или Горации, или Муции Сцеволе — обо всех этих сильных, суровых, безжалостных героях древнего Рима, в его жилах вскипала кровь. Глядя на горделивые городские строения, он тоже признавал их величие. Но все это было давным-давно, в другом мире. Теперь все пришло в упадок: фрукт сгнил, осталась лишь оболочка. Римляне сбились с пути и даже не знают об этом.
Что касается варварских народов, которые Рим продолжал укрощать и чьего расположения искал, они теряли свои варварские добродетели, не приобретая при этом взамен ничего из старинных римских доблестей: ни силы духа, ни стойкости, ни самодисциплины, ни воинской дерзости. Они не учились гордиться собой, своей нацией и племенем, не учились смиряться перед богами, что является отличительной чертой истинной мудрости: гордое и даже радостное приятие любой судьбы, которую определили тебе боги, и неважно, насколько ужасной может оказаться эта судьба.
Вместо всего этого принцев-вандалов, или свевов, или бургундов совращали, учили их проводить свои дни в праздности, в вялом потакании своим слабостям, как Берик и Гензерик. А когда их отпускали и они возвращались к своему народу, то брали с собой поваров, придворных танцовщиков и массажистов, портных, музыкантов и поэтов, и устраивали в своих варварских домах неуклюжее и нелепое подражание римским обычаям. Они привозили с собой даже личных парикмахеров.
Однажды придворный парикмахер попытался подобраться к лохматой макушке Аттилы, но очень пожалел об этом.
Во всяком случае, готы были сделаны из более стойкого материала. И во время небольших столкновений между гуннами и высокими германскими всадниками с могучими копьями из ясеня и темно-коричневыми плюмажами, раскачивающимися на ветру, было видно, что репутация их заслужена. Но многие, очень многие племена варваров были уничтожены — не боевым оружием, а купальнями, вином и шелком.
Аттилу тошнило от надушенного императорского двора Рима, хотя он видел, что этот двор начинает рассыпаться. Внутри, среди широких залов с колоннадами, среди мрамора и золота, малахита и порфира, император и императрица и их лебезящие придворные могли наряжаться в парчу, тяжелую от рубинов и изумрудов, нанизывать на белые руки золотые браслеты, нацеплять на высокие прически жемчужные диадемы и скользить в зловещей тишине сквозь клубы фимиама под мозаиками, восхваляющими их. Но мальчик-варвар, маленький волчонок, видел своими немигающими желтыми глазами трещины в величественных зданиях и покинутые храмы, видел, сколько продуваемых сквозняками, нежилых комнат во дворце. Он видел, что люди начинают голодать, хотя богатые римляне по-прежнему ходили в шелках. Аттила презирал шелковые наряды даже на женщинах — разве не Элагабал, чудовищный мальчик-император Гелиогабал, первым в Риме начал носить одеяния из чистого шелка? Через три кошмарных года его безумных жестокостей народ восстал и убил его. А теперь они подражают ему, и не только в одежде, но и в алчности и порочности. Так казалось Аттиле. Эстеты даже рассказывали истории об изящных шутках Элагабала и ностальгически вспоминали о том, как он умерщвлял гостей на своих пирушках: они задыхались в тучах падающих лепестков роз. Гости ловили ртом воздух и, умоляя о милосердии, испускали дух, погребенные под цветами. Император смотрел на это и смеялся. Теперь эстеты тоже смеялись.
И мальчик тосковал о берегах широкого коричневого Дуная, о горах Харвад, о бескрайних равнинах. Он тосковал о простом кобыльем молоке и мясе, питая отвращение к богатым новинкам, к нелепым придуманным деликатесам, которыми питались римляне. Он тосковал по волчьему вою на горных перевалах, по черным войлочным палаткам своего народа, по большому монаршему шатру своего деда, Ульдина, укрытому шкурами зверей и украшенному вырезанными из дерева и раскрашенными конскими головами.
Он наблюдал и ждал. Терпение всегда считалось высшей добродетелью его народа. «Терпение — это кочевник», — говорили они.
Наступит час, и гунны придут.
Однажды он шел в кухню, чтобы пообедать, и тут к нему привязался один из управляющих.
— Сегодня ты обедаешь в личных покоях принца Берика и принца Гензерика, — промурлыкал он.
Мальчик нахмурился.
— Ну уж нет.
— По распоряжению принцессы Галлы Плацидии, — холодно ответил управляющий, не глядя на мальчика.
Аттила на мгновенье задумался, потом его горделивые плечи слегка опустились, и он позволил отвести себя в личные покои братьев-вандалов. Управляющий постучал, вялый голос ответил:
— Войдите.
Управляющий открыл дверь и втолкнул Аттилу внутрь.
Так, подумал Аттила, осматриваясь. Значит, вот что получаешь, если ведешь себя хорошо. Вот как Рим соблазняет своих врагов.
Дверь за ним захлопнулась.
Он стоял в большой комнате с колоннадой по трем стенам. Хотя на улице было еще совсем светло и длинный летний вечер еще не кончился, здесь уже задернули занавеси, и комната освещалась искусственно. Кроме того, похоже, что работает отопление под полом — в это время года! Аттила уже задыхался. Особенно потому, что чересчур жаркий воздух комнаты благоухал ароматом розового масла.
Пол был искусно украшен мозаиками и черным мрамором, в комнате стоял полумрак; она освещалась не дымящими глиняными масляными светильниками, а множеством превосходнейших, очень дорогих кремового цвета свечей из пчелиного воска, установленных в серебряном канделябре прямо у него над головой. В дальнем конце комнаты, в тусклом свете виднелись еще одни распахнутые двери. Оттуда раздавался смех, пронзительные вскрики и хихиканье.
В центре комнаты, вокруг низкого прямоугольного стола, уставленного изысканными блюдами из редчайшей рыбы и мяса, превосходными винами и экзотическими восточными фруктами, стояли три ложа. Да, эти принцы вандалов действительно привилегированные особы. Такие изысканные блюда доставлены, должно быть, прямо из императорских кухонь.
Гензерика не было видно, а Берик сидел, точнее, лежал, на одном из лож; к нему прильнула совершенно пьяная блондинка с высокой прической. На принце-вандале был белый шелковый халат, подпоясанный золотым кушаком, глаза он подвел углем, уже начавшим растекаться, и надел на оба запястья золотые браслеты. Берик перекатился по ложу и глупо улыбнулся мальчику, подняв кубок и рыгнув.
— Друг, — провозгласил он, — партнер по питию, распутник, я салютую тебе.
Из темной двери в соседнюю комнату опять раздались взвизгиванья и хихиканье. Берик обернулся в сторону шума, потом снова повернулся к мальчику и лучезарно улыбнулся ему. Он похлопал по соседнему ложу.
— Садись сюда. Сегодня у тебя особая ночь.
Аттила подошел и сел. В горле у него отчаянно пересохло, но он не хотел здесь ничего пить. Он представил себе прохладные горные потоки, в каплях которых отражалось солнце. И медленно текущие степные реки, цапель в камышах, с бесконечным терпением поджидающих добычу…
Полненькая рабыня, потупив взор, внесла большой кувшин вина. Берик протянул ей кубок. Она стала наливать вино, но у нее так тряслись руки, что немного пролилось на принца.
Берик уставился на нее.
— Ты, тупая вонючая сука, — очень тихо и невнятно произнес он.
Блондинка захихикала над его остроумием, а Берик продолжал:
— И к тому же уродливая. Иисусе, да глядя на такое лицо, даже в голову не придет хотя бы перепихнуться с ней, уж не говоря о женитьбе. — Блондинка просто зашлась от смеха, а Берик повернулся и добавил, обращаясь к Аттиле: — Даже если учесть, что мои запросы снижены вином, я ни под каким видом не прикоснусь к ней, а ты? — Он посмотрел на дрожавшую девчонку-рабыню: — Даже за все зерно Африки.
Девушка не поднимала головы. Аттиле она уродливой не показалась. У нее было круглое нежное личико и перепуганные глаза.
— Что ты здесь стоишь? — возмутился Берик, неожиданно повысив голос. — Убирайся!
Она испуганно вздрогнула, но тут вмешался Аттила.
— Я… можно мне тоже глоток вина?
Он взял со стола кубок и протянул ей. Девушка подошла к нему — руки у нее очень сильно тряслись — и стала наливать вино как можно осторожней. Она налила совсем немного, но Аттила кивнул ей и сказал:
— Хватит. Спасибо.
Он поднял глаза, чтобы улыбнуться, но девушка уже удирала, как испуганный зверек.
— Рабам не говорят «спасибо», ты, педераст, — заявил Берик. — Как крестьянин какой-то! Иисус! — И снова громко отрыгнул. — Пью с полудня. — Тут его рот перекосило. — Кажется, меня сейчас вырвет. — Он отхаркнул, наклонился и сплюнул на пол, потом снова сел и поморщился. — Фу. Мне нужно в купальню.
— Пойдем в купальню со мной, малыш, — предложила блондинка.
Берик ухмыльнулся, запустил руку ей под тунику и начал гладить грудь. Она застонала.
Аттила от стыда уставился в пол.
Берик поднял вверх свой кубок и выкрикнул:
— Usque ad mortem bibendum! Будем пить до самой смерти! — он выглядел очень довольным собой и тем, что знает это латинское изречение. Потом набрал полный рот красного вина, приблизил губы к обнаженной груди девушки и вылил вино на ее гладкую белую кожу. Блондинка ахнула, будто в экстазе.
Аттила, не отрывая глаз от пола, сделал глоток вина. Ему никогда не нравился этот вкус, не понравился он и сейчас. Еда тоже, хотя он проголодался. В центре стола стоял жареный лебедь, фаршированный жареным павлином, фаршированным жареным фазаном, фаршированным жареной куропаткой, фаршированной тремя или четырьмя крохотными жареными жаворонками, лежавшими в самой середине, словно в маленьком гнездышке. Это произведение искусства было безжалостно изрублено братьями на куски, но они не съели ни кусочка.
Почему ему приказали ужинать здесь? Аттила не понимал. Может, предполагалось, что его соблазнят или что-нибудь в этом роде? Он, соображая, кинул взгляд на большие серебряные ножи, лежавшие на блюде с жареным лебедем, и отвернулся.
— Поешь чего-нибудь, — посоветовал Берик. — Тогда не напьешься вусмерть слишком быстро. И должно же тебя чем-нибудь рвать, если придется — а судя по тому, какая намечается пирушка, это случится обязательно. Скоро придут эти педики — братцы-бургунды, а уж они в себя заливают так, что диву даешься. Нет ничего хуже, чем блевать одним вином. Иисус. — Он провел рукой по очень потному лбу. — Я как-то странно себя чувствую, — пожаловался он.
— О, привет, голубчик, — протянул другой голос из дальнего конца комнаты. Старший братец, Гензерик.
Он вырядился в темно-красный халат с искусно вышитыми золотыми нитками охотничьими сценами, и очень высоко подпоясался. На шее у него болтался большой серебряный крест — вандалы очень гордились тем, что они христиане, считая эту религию знаком истинной цивилизации и
Romanitas. Вокруг головы Гензерик обмотал что-то вроде жемчужного ожерелья, а худой, вялой рукой он обнимал хихикавшую девушку, которая посмотрела на Аттилу из-под опущенных ресниц.
— О, — тихо произнесла она, — только глянь на эти шрамы. Это так по-варварски! — Она говорила так, словно шрамы возбуждали ее.
Девушка была лет восемнадцати-девятнадцати, с большими синими глазами и очень длинными, прямыми черными волосами. Она накрасилась ярко-красной помадой, как уличные проститутки, жирно подвела глаза темным углем, а белую тунику с разрезами на бедрах спустила с плеча, обнажив округлость груди.
Гензерик отпустил девушку и плюхнулся на ложе.
— Яйца господни, — сказал он, — я готов. — Откинул голову назад, уставился на потолок, вздохнул и пробормотал себе под нос куплет из Мартиала:
—
Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra Sed vitam faciunt, balnea, vina, Venus, что означает: «Красотки, купальни, вино, как говорят, развращают нас. Но они делают жизнь такой сладкой — вино, купальни и красотки»…
Потом поднял голову и ухмыльнулся Аттиле:
— Это Лоллия, — сказал он. — Лоллия — Аттила. Может, за вечер вы познакомитесь получше. — И подмигнул через плечо Аттилы. Берик захохотал и рыгнул.
Лоллия подошла к блондинке и начала целовать ее в губы. Девушка пьяно отозвалась, их языки переплелись. Они погладили друг друга по парикам и начали негромко театрально стонать. Оба вандала смотрели на это и ухмылялись.
Аттила не отрывал глаз от ножей.
Тут Лоллия оторвалась от блондинки, и он почувствовал, что она подошла к нему сзади. Девушка остановилась, возможно, беззвучно посмеиваясь, и закрыла ему ладонями глаза. Ладони были влажными от пота, но Аттила чувствовал запах ее духов. Потом он ощутил ее волосы на своей щеке, они его легонько щекотали, ее губы затеребили мочку уха мальчика, кончик языка двигался взад-вперед. Он вырвался и уставился в пол, щеки его полыхали от стыда.
— А, наш малыш стесняется! — заорал Гензерик.
— Только не говори мне, что ты никогда… — удивился Берик.
Аттила мечтал встать и уйти. Он мечтал убежать. Но что-то его удерживало.
Лоллия плюхнулась на ложе рядом с ним и положила голову ему на плечо. Она вздохнула, потянулась, и разрезы на тунике обнажили ее ноги до самых бедер. Такие голые и коричневые. Ногти на ногах она накрасила тем же цветом, что и губы, а ее сандалии были просто переплетением изящных полосок из мягкой посеребренной кожи, зашнурованных почти до колен, и от этого ноги казались особенно обнаженными. Мальчик старался отодвинуться в сторону, но не мог. Она взяла со стола кубок с вином, отпила немного, потом поднесла кубок к его губам, заставила его тоже сделать глоток и засмеялась, когда вино потекло у мальчика по подбородку. Она поставила кубок, повернулась к Аттиле и слизнула вино у него с подбородка.
— Клянусь титьками Юноны, ты ей нравишься, парень, — протянул Гензерик.
Руки Лоллии уже гладили его голые колени, потихоньку поднимаясь все выше. Он резко вырвался и наклонился вперед.
— Ах, наш малыш стесняется! — опять сказал Гензерик, глядя на них полуприкрытыми, покрасневшими глазами.
— Ага, — тихо повторила Лоллия. Она погладила Аттилу по голове, потом провела кончиками пальцев вниз по его шее. Он почувствовал приятный трепет в спине, а кожа покрылась мурашками. Аттила представил себе прохладные горные потоки, в каплях которых отражалось…
Он снова оттолкнул ее. Лоллия сердито засопела.
— Может, ты предпочитаешь что-нибудь другое, то, что любят гунны? — промычал Берик, тупо глядя на него.
Аттила уставился на него яростным взглядом.
— И что это? — заинтересовалась Лоллия.
— Лошадь! — выкрикнул Берик.
Все трое — Лоллия и оба брата — сочли это смешным до истерики. Блондинка к этому времени заснула. Из уголка рта у нее вытекала розоватая слюна и капал на тонкий шелк, покрывавший ложе.
Берик сильно ткнул ее в бок.
— А ну, просыпайся, тупая шлюха, мы платим тебе не за то, чтобы ты тут спала!
Но девушка не проснулась.
— Ты ничего не знаешь про гуннов! — прошипел Аттила, кровь у которого кипела от бешенства, но его никто не слушал.
— Сначала они связывают кобыле задние ноги, чтобы она не лягалась! — орал Берик.
— А, так вот как вы это делаете? — хохотала Лоллия. — Нужно запомнить на будущее. Только на прошлой неделе в конюшне я была вся в синяках!
— Потом они перекатывают ее на спину, — веселился Гензерик, — и готово — эти смешные желтые человечки так и наяривают между огромными бедрами своей любимой кобылы, как Купидон, имеющий свою мамочку Венеру.
— Чистая правда — я видел рисунки, — заявил Берик.
Они чуть не задохнулись от смеха.
Когда веселье поутихло, Берик рухнул на ложе. Лоллия снова повернулась к разгневанному мальчику и начала нашептывать ему на ухо всякие глупости. Он стиснул кулаки, но сумел удержаться и не ударить ее. А через некоторое время, против своей железной воли, он снова расслабился. Ее теплые пальцы заскользили по его бедрам, забрались под подол туники. И на этот раз, хотя он ненавидел ее — бешено ненавидел их всех! — он не смог пошевелиться, только закрыл глаза. От вина сердце его колотилось все быстрее и быстрее, словно он бежал. Он чувствовал, что не может двинуться. Потом он понял, куда легла ее мягкая рука, и ахнул.
— Задница Ганимеда, — произнес Берик, — думаю, он ей действительно нравится.
Мальчик закрыл глаза.
— Кстати о Ганимеде и его восхитительной… Ну, ты знаешь о чем, — сказал Гензерик.
Аттила открыл глаза, увидел, как братья обменялись похотливыми взглядами, и Гензерик кивнул в сторону дальней темной комнаты.
— Точно, — загоготал Берик, пошатываясь, поднялся на ноги и осушил кубок. — Держитесь, мальчики! Я и-иду!
Через несколько минут Лоллия взяла Аттилу за руку и заставила встать на ноги.
— Пойдем и мы туда, — пробормотала она.
Смущенный, возбужденный, испуганный, он позволил ей увлечь себя к темной комнате.
— Но… но… Разве… Я хочу сказать, ведь Берик уже…
Но девушка глянула на него из-под длинных черных ресниц и порочно улыбнулась.
— Чем больше — тем веселее, — сказала она.
Они уже подошли к двери дальней комнаты. Сначала Аттила не смог ничего разглядеть из-за полумрака. Он чувствовал руку Лоллии у себя на талии, она повернулась к нему, и он ощутил на щеке ее теплое дыхание.
— Ты видишь то, что вижу я? — мурлыкнула она. — Ты видишь, какие порочные вещи там происходят? Бьюсь об заклад, тебе нравится наблюдать. Я знаю, что тебе нравится.
Он еще сильнее возбудился. Потому что теперь видел, что в комнате нет ничего, кроме огромной кровати, а на кровати двигались смутно различимые фигуры. Глаза постепенно привыкли к темноте, и теперь Аттила видел, что на кровати лежат еще две девушки, обе обнаженные, издают негромкие стоны и по очереди целуют Берика, который уже успел раздеться.
Берик тоже по очереди целовал обнаженных девиц, а под ним Аттила увидел еще одну фигуру. И тут с ужасом понял, что четвертая фигура — это мальчик.
Он лежал, уткнувшись лицом в кровать, и на нем была только золотая цепь на талии и жемчужные браслеты на щиколотках. Как девушка. Как беспомощная девушка-рабыня, которую наряжает похотливый хозяин.
Мальчик на кровати поднял голову и посмотрел на него из-под мерзкого дешевого парика с льняными кудряшками. Они заставили его надеть это, чтобы он походил на Ганимеда, и теперь Аттила увидел, какой он юный…
— Нет! — закричал Аттила и бешено рванулся в сторону от Лоллии.
— Милый, — сказала она, позабыв о чувственном мурлыканье, — что…
— Прочь от меня!
Он кинулся к двери, но тут Гензерик вскочил на ноги, истерически хохоча, и встал в проеме, перекрыв выход.
— Ах, малышу это не нравится? Малыш еще слишком маленький?
Аттила остановился перед ним, яростно сверкая глазами.
— Выпусти меня.
Гензерик печально покачал головой.
— Не разрешено. По приказу самой принцессы Галлы.
— Принцесса Галла не приказывала вот этого, — прошипел мальчик, ткнув пальцем в темную комнату.
Принц-вандал сардонически поднял бровь.
— Это факт? — И снова загоготал. — Это гребаный факт?
За спиной Аттилы визгливо захохотала Лоллия.
— Я всегда считал, — произнес Гензерик, снова вернувшись к своей вялой манере разговаривать, — что главная сила принцессы в том, что она так замечательно понимает человеческую природу. Тебе так не кажется, мой дорогой?
Лоллия уже стояла рядом с Гензериком, и он обнял ее. Они снова начали целоваться, прямо перед мальчиком, искоса наблюдая за ним и улыбаясь между поцелуями.
— Вы омерзительны, — спокойно сказал Аттила. — Вы просто рабы римлян. Вы просто мартышки в клетке.
Гензерик оторвался от Лоллии и ухмыльнулся.
— Ага, а почему бы и нет… Зато посмотри, что нам дается взамен. Какая клетка! Какие партнеры! Особенно вот эта — моя возлюбленная Ливия…
— Лоллия, — поправила его Лоллия.
— Ну, Лоллия, извини, — протянул Гензерик, снова привлекая ее к себе, запуская руку ей под тунику и лаская голые ягодицы. — Это маленькая шлюха с самыми восхитительно грязными мыслями, о какой ты и не мечтал. Поверь мне, она действительно может научить тебя такому, чего ты себе и представить не можешь.
Медленно и лениво они снова начали целоваться.
Но резко прекратили, потому что Аттила наклонил голову вниз и со всего размаха врезался в живот Гензерика. Тот с шумом выпустил воздух из легких и, задыхаясь, упал на бок.
Лоллия негромко вскрикнула. Потом попыталась схватить мальчика за волосы, но для нее он был слишком быстрым и слишком трезвым. Он нырнул ей под руку, распахнул тяжелые дубовые двери покоев и помчался во внутренний дворик.
Последнее, что Аттила услышал, когда летел в сторону своей маленькой, тихой, освещенной масляным светильником комнатенки — как Лоллия грязно ругалась, а Гензерик блевал на мраморный пол.
Он остановился у фонтана, где раб ополаскивал кувшин. Длинный летний день почти перешел в сумерки. Шел шестнадцатый час после рассвета.
— Чашу, — выдохнул мальчик.
Раб покачал головой.
Тогда мальчик выхватил у него кувшин и припал к нему. Это, конечно, не прохладный горный поток, но по крайней мере это вода, и она его успокоила. Он сунул кувшин в руки раба и вытер рот.
— Страшно, правда? — прошептал раб.
В обычных обстоятельствах рабам строго запрещалось обращаться к кому-либо первым, но обстоятельства были далеко не обычными.
Аттила нахмурился.
— Я не испуган, — надменно сказал он. — Просто это омерзительно.
Теперь нахмурился раб.
Аттила махнул в сторону покоев принцев.
— Некоторые из заложников, с которыми я якобы должен сойтись, — пояснил он. — Мразь.
Раб позволил себе едва заметную уклончивую улыбку.
— А почему, собственно, я должен быть испуган?
Глаза раба расширились.
— Вы хотите сказать, что еще не слышали?
— Не слышал что?
— Про Алариха.
— А что с Аларихом? — Аттиле захотелось хорошенько тряхнуть раба. — Рассказывай.
Раб глубоко втянул в себя воздух.
— Он направляется к Риму. Во главе ста тысяч воинов.
Услышав эту новость, странный мальчик-гунн отнюдь не испугался. Совсем наоборот — к великому удивлению раба, на лице мальчика медленно расплылась широкая улыбка.
— Как Радагайс, — пробормотал он.
— С той разницей, что Аларих — это не Радагайс, — прошептал раб. — Все говорят, что он великий вождь, а его люди полностью ему преданы. Кроме того, кто в Риме будет командовать его войсками, теперь, когда… вы-знаете-кто мертв?
Аттила кивнул. Он взял кувшин, сделал еще один большой глоток и вернул его рабу.
— Спасибо, — сказал он. — Несомненно, рабов благодарить не положено, но все равно спасибо.
И странный мальчик-гунн пошел в свою комнату, а раб готов был поклясться, что слышал, как тот насвистывает.
Весь прочий Рим трусливо съежился от страха. Во дворце в Равенне началась настоящая паника. Люди бежали прочь, как цыплята, учуявшие лисицу. Ибо полководец Стилихон недавно убит, и не меньше тридцати тысяч его людей после этого присоединились к Алариху и его жестоколиким готам, и кто теперь будет спасать Рим? Говорят, наместник Гераклиан. Но Гераклиан — это куда меньше, чем Стилихон; а Аларих — куда больше, чем Радагайс.
— Этот дурак император Гонорий, — шептались в тенистых внутренних двориках дворца. — Он своей левой рукой отрубил себе правую.
По всему Риму, и по Равенне, и по всей Италии, от равнин реки По и цизальпинской Галлии до холмистых городов Калабрии, и на золотых холмах Сицилии разлетался страх и надвигалась неминуемая паника.
За исключением одной маленькой, тихой комнатенки, которая освещалась дешевыми, коптящими масляными светильниками.
Мальчик лет тринадцати-четырнадцати, слишком маленький для своего возраста, со щеками, на которых выделялись странные синие шрамы, стоял в этой комнатке на коленях и молился.
Он молился богу гуннов: обнаженному мечу, воткнутому в землю, образуя крест, похожий на крест христиан, только из твердой стали. Он молился своему отцу Астуру, Владыке Всего, что Летает, от имени убитого полководца Стилихона и его жены Серены. Он стискивал зубы, и сжимал челюсти, и молил о мести убийцам, и, вспоминая их, снова плакал.
А еще он молился, чтобы пришли готы и сделали ту работу, которую гунны так позорно провалили. Хоть они и враги гуннов с незапамятных времен, пусть готы придут и сравняют Рим с землей в красном ветре степей.
Пусть Тибр пенится от крови римлян.
Пусть здания рушатся, как сломанные кости.
Пусть все рушится. Пусть все будет уничтожено.
А когда его сравняют с землей, пусть землю утрамбуют сотни тысяч копыт коней варваров. И не оставят ни единого торчащего камня. Ничего, лишь семь голых бесплодных холмов у красной от крови реки там, где некогда стоял великий Рим. И ничего на этих холмах, лишь одна гробница под бесконечным небом. Гробница убитого полководца и его возлюбленной убитой супруги.
Сквозь слезы он снова услышал ее вздох: «Мой дорогой…»
Мальчик закрыл глаза и стал молиться Чакгхе, богу-коню равнин, и
kotii rub, духам-демонам ветра, и
kurta rub, волкам-духам святых Алтайских гор, и Духу Отцу Вечного Синего Неба.
…О
Господь, я молю, пусть сегодня польет дождь и утопит все огни.
Пусть сегодня польет дождь…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БЕГСТВО И ПАДЕНИЕ
1
Об аримаспах, грифонах, гуннах и прочих чудесах неведомых земель скифов
А в это время далеко, в Китае, волновались племена…
Говорят, что северную границу Китайской Империи защищает большая стена, больше, чем любая из стен, которые пересекают север Британии, чтобы отражать нападения раскрашенных синим цветом людей из просторов Каледонии. Но чего только не рассказывают, а историк должен оставаться благоразумным, прежде, чем поверить во что-то и записать это. Не сам ли Геродот записал, что где-то в сторону Китая, на бесконечных диких пустошах Скифии, живет племя под названием аримаспы, и у каждого из них есть только один глаз? И то, что где-то в тех же местах обитают грифоны, которые охраняют огромные сокровищницы с золотом? Что есть племя, которое называется педасиане, и если этому народу грозит опасность, то их жрицы отращивают себе густые бороды?
Более того, нам рассказывают, что у гор, разделяющих Скифию пополам с востока на запад, живут аргиппейны, и питаются они ничем иным, как только вишневым соком, и пьют его, лакая из небольших мисок, как коты. У них нет никакого оружия, ибо они очень мирный народ. Все остальные племена Скифии считают их священным народом и никогда не причиняют им вреда. Хотел бы я встретить таких людей, да боюсь, что все это детские сказки, как и стерегущие золото грифоны, и не существует в мире племени, не знающего, что такое война или скорбное оружие войны.
А еще дальше на север от этих мифических миролюбцев, сообщают нам историки, в воздухе полно перьев; а еще севернее живут люди, которые шесть месяцев спят, а шесть месяцев бодрствуют, ибо так и создан год: половина его — ночь, половина — день. Но это просто нелепо. А среди людей, что зовутся исседонянами, говорит нам сам Геродот, женщины обладают совершенно одинаковыми правами с мужчинами — а это даже нелепей, чем люди, питающиеся одним вишневым соком! Ни одно общество, практикующее подобное помешательство, долго не протянет.
Я-то, конечно, не верю в такие мифы и сказки, и очень удивлен, что Геродот, называвший себя историком, утруждался записыванием подобных сумасбродных небылиц. Но не только Геродот, Отец Истории (Отец Лжи, как называют его некоторые остроумцы), записывал подобное. В бессмертной эпопее «Путешествие Аргоса» Аполлония Родосского разве не читаем мы о странных моссиноики, которые населяют отдаленную территорию Священной Горы в Малой Азии? Все, что остальные народы делают публично, эти делают наедине, а все, что остальные делают наедине, эти делают открыто. Но, разумеется, Аполлоний — поэт, а, как сказал Платон, все поэты — лжецы. Аполлоний выудил свою историю из «Анабазиса» Ксенофонта, чьи рассказы о моссиноики еще более диковинны. Он рассказывает, что они пользуются дельфиньим жиром, как греки — оливковым маслом; что их светлая кожа целиком покрыта прекрасными татуировками, изображающими яркие разноцветные цветы; что если они смеются прилюдно, значит, им очень стыдно, а обычно они идут к себе домой, чтобы там посмеяться втихомолку; и танцуют они точно так же, только наедине с собой, как безумцы. И едят они только в полном уединении, потому что считают, что вкладывание пищи в отверстие на лице совершенно омерзительно. А с другой стороны, эти люди шиворот-навыворот свободно испражняются прямо на улицах, безо всякого стеснения; а самое постыдное — это то, что они не видят ничего плохого в наслаждении сексуальными контактами со своими женами или даже, как древние этруски, с чужими женами, сладострастно и публично. Как говорит Аполлоний, словно свиньи в поле — они ложатся на землю для беспорядочных половых сношений и ничуть не смущаются присутствием зевак. Вот и подумаешь, не разгулялось ли у родосского поэта воображение и не обменял ли он вдохновение муз на вдохновение распутного ребенка…
Но, несмотря на все эти очевидные нелепости, мне открывается более глубокая истина, и я слышу мудрый старческий голос. Гамалиэль, кого я тоже имел удовольствие знать, говаривал, что все, во что человек когда-либо где-либо верил, обучает нас. Пусть сказки об охраняющих золото грифонах не рассказывают нам правду о таинственных, не отмеченных на карте просторах Центральной Азии, зато они могут многое поведать о верованиях и сердцах людей.
Так говаривал Гамалиэль, и его глаза поблескивали лукавством и восторгом. Эти глаза видели столько чудес и ужасов, но они все равно сияют светом жизни. Эти древние, сверкающие глаза. Гамалиэль, Добытчик Огня, Певец Солнца, последний из Скрытых Владык — он странствовал так далеко и прожил так долго, и все равно вкладывал всю свою веру в таинственные слова, которые так любил: Все есть Бог.
Но я отвлекся. Позже я поведаю истории Гамалиэля. И право же, в свое время я введу в эту историю и самого себя, Приска Панийского — не в силу пошлой нескромности, а, скорее, потому, что на короткое время я действительно занял свое место на подмостках мира и принял участие в великой и ужасной драме истории.
Но до этого еще много лет. А мы пока остаемся в детстве Аттилы и следим, как формировался его непокорный, железный, имеющий важнейшее значение характер. Мы остаемся в темных, бурных годах начала пятого столетия от Рождества Христова. Мрачные годы. Одни говорили, что они пройдут, другие — что станет еще хуже. Но немногие, очень немногие, мудрые, те, кто видит дальше, чем любой оптимист или пессимист, предсказывали, что грядущие годы будут и к лучшему, и к худшему, ибо в запутанном клубке истории — работе самого Господа, Который Любит Истории, очень часто трудно отделить одно от другого.
Я повторюсь: далеко, в Китае, волновались племена.
На обширных, бескрайних равнинах Центральной Азии начались дожди. Южные пустыни двинулись на север, а осеннее обновление сожженной солнцем травы перед началом дождей с каждым годом происходило все позже и позже.
И кочевники, видя на юге только безжизненную пустыню; на севере — темные, непроходимые леса Скифии; на востоке — только великую Китайскую империю и ее громадную, непреодолимую стену, были вынуждены двинуться в единственном возможном направлении — на запад, на теплые, плодородные земли Европы с ее умеренным климатом. В сторону Средиземноморья: море в центре мира и его древние, цвета львиной шкуры мысы, дремлющие на солнце.
Так началось великое переселение народов, длившееся веками и до сих пор не
прекратившееся. А среди них двигалось самое дикое и опасное племя — гунны.
Они пришли с востока, с пересохшими от пыли глотками, с опаленными ветром глазами, устремленными к западному горизонту. Они скакали верхом на низкорослых, крепких лошадках с большими нескладными головами и гнали перед собой отары овец и стада исхудавшего, умирающего от голода скота.
Они несли луки и стрелы. Стрелы их не отличались от стрел других народов. Стрела — это всего лишь оперенное древко с заостренным железным наконечником.
А вот их луки изменили мир. Их луки были оружием страха, стреляющим очень далеко, с такими армии противника никогда еще не сталкивались.
Они были сделаны из нескольких видов материалов, а не просто из куска дерева, и на первый взгляд особого впечатления не производили: каких-то три фута длиной и походили на кусок хорошо отполированного рога какого-нибудь животного. Но стоило изогнуть его в руках или о бедро, и становилось понятно, что в них заключены необыкновенные сила и могущество. То, как эти луки изготовлялись, было строжайшей тайной, передаваемой через поколения. Основные элементы — рог, дерево, сухожилия и клей, сваренный из жил животных или из определенного вида рыб. Несравненные лучники-гунны за долгие поколения поняли, что рог сопротивляется сжатию, поэтому согнутый лук быстро принимает первоначальную форму, а определенные сухожилия — в особенности ахилловы сухожилия антилопы — сопротивляются растяжению. И лучники гунны стали приклеивать рог внутрь своих деревянных луков, а сухожилия антилопы — снаружи. Звучит так просто, но потребовались долгие годы, пока они довели свое искусство до совершенства. А когда это произошло, их луки превратились в оружие ошеломляющей силы. Говорят, что всякий раз, как воин-гунн натягивает тетиву и выпускает стрелу, он прилагает усилие, равное подтягиванию вверх на ветке дерева на одной руке, а на самом деле — и вовсе на трех пальцах.
Если вы вдумаетесь в то, что во время битвы воин-гунн выпускает за минуту до пятнадцати стрел, причем мчится во весь опор, как вихрь, сквозь ряды злополучной вражеской пехоты, вы поймете, каким крепким телосложением и прочностью обладают эти свирепые люди. Прочностью, во всех отношениях равной самому закаленному римскому легионеру с суровым лицом, в железном шлеме, да впридачу дополнительной скоростью и дерзостью. Ничего удивительного, что остальные чужеземные племена боялись их, как демонов ада. Даже готы, самое могучее племя из всех германских народов, обладающее львиными сердцами, испытывают к гуннам завистливое уважение.
Луки, которыми пользуются римлянами, стреляют на почтенное расстояние в триста пятьдесят ярдов или около того. Лук гунна посылает стрелу более, чем на пятьсот ярдов — на немыслимые полмили! Когда это впервые увидели в сражении, этому просто не могли поверить. Враги говорили, что гунны — не люди, а, должно быть, адские отпрыски колдунов и ведьм пустыни. Но в конце концов оказалось, что они люди, как и все прочие.
Стрела вылетает из лука гунна с ошеломляющей силой, поэтому через две сотни ярдов, когда римские стрелы в основном уже опускаются и падают в траву, стрела гунна все еще может без напряжения пробить деревянную доску толщиной в дюйм. Когда приходится сражаться против гуннов, от доспехов мало толка. Даже закаленная сталь становится просто мертвым грузом против этих ужасных, изогнутых луков и свистящих стрел.
Кроме того, воин-гунн демонстрирует потрясающее искусство верховой езды. Он может скакать во весь опор, каждые четыре-пять секунд выпуская свои смертоносные стрелы. При такой скорости практически невозможно поразить его в ответ, а сила и выносливость его крепкой низкорослой лошадки таковы, что она может нести на себе всадника и скакать при этом галопом целый час. Благородные испанские и каппадокийские лошади империи или же красивые, своевольные армянские и парфянские кони выдохлись бы за четверть этого времени.
Оказавшись рядом с врагом, воин-гунн может соскользнуть с чепрака и съехать на бок своему коню, удерживаясь только бедрами, и при этом по-прежнему скакать галопом и стрелять. Он может наклониться так низко, что будет стрелять из-под шеи лошади, пользуясь ее телом, как прикрытием. Так стоит ли удивляться тому, что каждое племя по всей Скифии боялось гуннов? Или тому, что к этому времени каждая империя в Европе и Азии тоже начала их бояться?
Таковы были эти люди, которые пересекали великие равнины в своих крытых шкурами повозках, и их женщины и дети были такими же крепкими, как и мужчины. Повозки шли колонной, растянувшись назад так далеко, что невозможно было охватить их взглядом, рассыпавшись по безводной степи, и колеса этих скрипучих деревянных повозок поднимали пыль, рдеющую в лучах заходящего солнца. Чтобы пересечь вброд большие реки этой страны, могли уйти недели: когда они заходили глубоко в воду, над ревом скота поднимались песни кочевых погонщиков, фыркали лошади, под огромными деревянными колесами расплескивалась вода, визжали женщины, орали мужчины и возбужденно смеялись дети.
Племя продвигалось на запад, где столкнулось — и сражалось со всей своей свирепостью и безрассудством — с племенем, шедшим впереди. Они не делали различий между солдатом и штатским. Когда наступал час битвы, они ставили повозки в круг, чтобы спрятать женщин и детей внутри, каждый мужчина брал лук и копье и садился верхом на свою лошадку; сражались все. Каждый мужчина был воином — как в гражданской армии в Риме много лет назад, в дни его республиканского величия.
Но не надо думать, что эти племена занимали территории в том смысле, в каком захватывал территории и строил империю Рим. У этих народов не было ни границ, ни империй — они были кочевниками и поклонялись самой земле, как своему наследственному дому. Хотя одну группу гуннов — черных гуннов, народа Аттилы, несущих основной ужас остальным племенам — видели раньше на северных и восточных берегах Дуная, в Транс-Паннонии, с тех самых пор, как Баламир привел их в Европу за три или четыре поколения до Ульдина, время от времени они просто исчезали из вида. Потом даже богатые пастбища в займищах Дуная истощились, и гунны снова перекочевали на восток, перейдя через Харвадские горы, — которые римляне называли Карпатскими, — и спустившись на равнины самой Скифии. Многие из них смотрели назад, на восток, даже когда находились западнее Харвадских гор, где все еще живут многие их братья-гунны. И хотя они с жадностью вглядываются в мрамор и золото империй Средиземноморья, их мысли и мечты по-прежнему стремятся к открытым степям Азии — своему истинному дому. И летом, когда дни в году удлиняются, многие гунны из Паннонии, если не сражаются в это время со своими соседями, устремляются на охоту назад, на пустынные и безлюдные просторы Азии — только их они понимают и любят.
А там они многие месяцы живут в седле, опьяненные безграничной свободой и беззаконием этих необузданных земель. Или, скажем, единственный их закон — это закон лука, и аркана, и копья. Они скачут по широким равнинам, спускаются в долины и переходят через горы по узким перевалам в узкие, бессолнечные теснины у рек во время полного, белого паводка. Они охотятся на диких зверей, презирая жалкую, оседлую жизнь, которой живут люди в мире закона и цивилизации. Они охотятся на медведя и волка, на рысь, леопарда и зубра. Когда наступает зима, и мех диких животных становится густым от холода, они охотятся на горностая, бобра и норку. Они возвращаются, и сани потрескивают на полозьях из дерева и кости, потому что с верхом завалены мехами, богатыми, лоснящимися шкурами, искрящимися от скифских морозов. Эти меха они продают хитроглазым купцам в греческих торговых городах на берегах Эвксинского моря, в Танаисе, Херсонесе и Офиузе. Или еще дальше на запад, на рынках на Дунае и на ярмарке Маргуса.
На ярмарке Маргуса все и начнется. Там, где начнется конец всего.
2
В горы
Мальчика грубо разбудил один из палатинских гвардейцев. В руке он держал факел. На улице все еще было темно.
— Вставай и одевайся. Мы отправляемся на рассвете.
— Отправляемся? Куда это?
— В Равенну.
Всего через несколько минут он уже сидел рядом с Олимпием, одним из главных дворцовых евнухов, в высокой, чрезмерно разукрашенной либурнийской карете, катившей по темным и безмолвным улицам Рима. Похоже, Олимпий здорово не хотел, считая это личным оскорблением, все путешествие провести рядом с полудиким гунном, и настоял на том, чтобы Аттилу как следует обыскали прежде, чем он согласится сесть рядом с мальчиком. А что вы думаете — у маленького варвара запросто может оказаться кинжал или что-нибудь в этом роде! Солдаты исподтишка переглянулись — удар ножиком в громадные мясистые телеса Олимпия вряд ли оказался бы фатальным. Мальчика должным образом обыскали и заявили, что он чист. Теперь Олимпий сидел рядом с Аттилой, время от времени прижимал к губам небольшой шелковый лоскут, пропитанный розмариновым маслом, чтобы оградить себя от омерзительных, болезнетворных испарений, которые наверняка исходили от мальчишки, и не желал ни слова ему сказать. Аттила этому радовался. Он не мог придумать, о чем бы ему захотелось поговорить с Олимпием.
Да и вообще, он вовсе не стремился ехать в одной карете с евнухом. В отличие от тощего и вечно голодного Евмолпия, но в полном соответствии с большинством тех, кого еще в детстве лишили семяносных частей организма, Олимпий был чрезвычайно жирным. При отсутствии других телесных удовольствий еда сделалась для него очень важной.
Свободные складки темно-синего шелка не особенно скрывали массивное туловище. Скорее они производили террасоподобный эффект, как в знаменитых садах императора Адриана в Тиволи: каждая терраса подпиралась все более и более толстой складкой жира. Соответственно евнух сильно потел. По его пухлым щекам струился пот и смешивался с белой свинцовой пудрой, которую он так старательно нанес утром на лицо, и уже не имело значения, исходят от мальчика-варвара болезнетворные испарения или нет.
Очень скоро от самого евнуха стали исходить испарения совсем другого сорта. Мальчик прижался носом к окну и понадеялся, что до Равенны не очень далеко.
С обеих сторон кареты ехали конные гвардейцы. Предыдущие попытки мальчика бежать не забылись, и шансов ему не оставили.
Длинная и неповоротливая колонна выползла из дворцовых ворот и направилась через весь город на север, по большой Фламиниевой Дороге. Обычно каретам не разрешалось ездить днем в городской черте, когда-то сам Юлий Цезарь издал этот закон. Но этот случай был особым.
Непосредственно за Аттилой ехали в еще одной разукрашенной и непрактичной карете Берик и Гензерик. Оба мучались похмельем, и от каждого покачивания кареты на широких кожаных ремнях их начинало тошнить. Они жевали фенхель, но это мало помогало. Около Фламиниевых Ворот Берик высунулся из окна кареты, и его вырвало.
В голове колонны ехал отряд Пограничной Гвардии, около восьмидесяти человек. Дороги в те дни были плохими, а леса — опасными, особенно после того, как пересечешь реку Нера по большому Мосту Августа и начнешь медленно подниматься в горы Мартанис. Но никакая разбойничья шайка, даже самая отчаявшаяся, не осмелится напасть на отряд хорошо обученных солдат.
Они выехали из Фламиниевых Ворот, и их число еще увеличилось за счет нового отряда из Палатинского лагеря: около пятидесяти гвардейцев в черных доспехах тотчас же заняли почетное положение в голове колонны, отправив пограничных гвардейцев в арьергард. Впереди всех ехал сам наместник Гераклиан. Казалось, что он с радостью оставляет Рим, чтобы оказаться в безопасности в окруженной болотами Равенне.
Галла Плацидия осталась в Риме.
Ее советчики просто умоляли ее. Евмолпий считал, что королевское присутствие в колонне необходимо, чтобы поддерживать порядок.
Она сухо, невесело рассмеялась:
— Я остаюсь здесь. И ты тоже.
Евмолпий заметно побледнел. Говорили, что готы не отличаются нежностью по отношению к плененным евнухам.
Перед тем, как отправиться с колонной, наместник Гераклиан сказал принцессе, что она должна бежать в Равенну, единственную безопасную гавань во всей Италии.
— Равенна — это итальянский Константинополь, — говорил он, — единственный город, который мы легко сможем защитить. Рим всегда был уязвим для нападений. Вспомните Бренния и галлов.
— Вспомни Ганнибала, — огрызнулась Галла. — И не смей читать мне нотации, наместник Гераклиан. Может, я и вполовину младше тебя, но уже давно не ученица. Что ты скажешь про оставшуюся Палатинскую гвардию? Их больше тридцати тысяч, разве нет? С каких это пор армия в составе пяти римских легионов должна бояться шайки варваров, пусть даже многочисленной? Сколько легионов было у Цезаря, когда он завоевал Галлию? Или у Божественного Клавдия, когда он завоевал целый остров Британия?
— Ваше священное величество…
— Говори.
Гераклиан покачал головой.
— В Палатинской гвардии действительно тридцать тысяч человек… но у Алариха их больше сотни тысяч. И готы выиграли много сражений, от Скифии до Нарбонской Галлии и до самого подножья Пиренеев. Это нация великих воинов, ваше величество. Уже много Палатинских гвардейцев ушли в Равенну, а некоторые — на юг.
Галла презрительно фыркнула.
— Ушли в Равенну? Ты хотел сказать — бежали. — Она подбоченилась и снова смерила его взглядом. — Надо полагать, ты тоже уходишь в Равенну?
Гераклиан начал заикаться.
— Я… мне… я необходим, ваше величество, чтобы командовать колонной.
— Мне казалось, что любой младший командир пограничной гвардии без труда сумеет направить колонну в Равенну?
Гераклиан вспыхнул и ничего не ответил.
— Так, — произнесла Галла. — Палатинцы оказались настолько же преданными империи, как предшествующая им преторианская гвардия. А мы знаем, чем они кончили, правда, наместник Гераклиан?
Да, он это знал. Они кончили тем, что безжалостно убили императора Пертинакса и продали империю за пятьдесят миллионов кусков серебра. Ее купил богатый делец, некто Дидий Юлиан, который быстренько объявил себя императором. Он продержался у власти всего-навсего шестьдесят шесть дней, и тоже был убит — обезглавлен, как обычный преступник, в купальне.
— Пусть все бегут, — сказала принцесса. — Галла Плацидия не побежит.
Она говорила с самообладанием и таким величайшим чувством собственного достоинства, каких можно ожидать от императрицы, которая царствовала полжизни. И Гераклиану снова пришлось напомнить себе, что эта высокая, костлявая, бледнокожая женщина в длинном, жестком далматике и сверкающей тиаре — всего лишь девчонка двадцати одного года. Однако ей хватало воли и присутствия духа на дюжину Цезарей.
— Что произойдет, когда появится Аларих? — спросил он.
— Это ты мне расскажешь, — отрезала Галла. Ее ледяной взгляд пронзал наместника насквозь. — Теперь, после смерти твоего бывшего соратника, предателя Стилихона, ты — военачальник всей армии, разве нет? Я ожидала, что у командира будет куда больше решительности и смелости, чем проявляешь ты, наместник Гераклиан.
Ее голос сочился презрением. Гераклиан на миг прикрыл глаза. Он ощущал, как в нем вскипает холодная ярость. Как он ненавидел эту женщину! И как он ее боялся. Он попытался скрыть свои чувства, но она их уже заметила. Ее глаза казались ему иглами.
Галла усмехнулась.
— Ну?
Это она приказала убить Стилихона, в бешенстве думал Гераклиан. Я только выполнял приказ. А теперь я командую западной армией, а она пытается переложить на меня всю вину. Это несправедливо. Все ускользает прочь…
— Когда придет Аларих, — заговорил Гераклиан, пытаясь сдержать дрожь в голосе и потерпев неудачу, — вас возьмут в плен. И увезут из Рима в цепях.
— Нет, — возразила Галла. — Скорее, варварские орды увидят, как умеет умирать принцесса Рима.
Гераклиан встал и поклонился.
— Мне пора, — сказал он. — Я должен присоединиться к колонне. Прежде всего я предан…
— Императору, — улыбнулась Галла. — Да, разумеется.
Ubi imperator, ibi Roma. Где император, там и Рим.
Гераклиан снова поклонился.
— Ваше величество, — произнес он, повернулся и вышел из комнаты.
Галла смотрела, как он уходит, с бесстрастным лицом. Потом позвала Евмолпия.
— Ваше величество?
— Вели служанкам приготовить мне ванну.
— Да, ваше величество.
Что ж, подумала она, по такому случаю Галла Плацидия должна выглядеть исключительно хорошо.
Кроме того, она позвала писца и написала письмо, которое следовало немедленно отправить вслед наместнику Гераклиану.
Огромная колонна вытекала из города, но не было радостных возгласов от толпы, собравшейся по обеим сторонам дороги. Совсем наоборот — за отступавшей колонной следили с угрюмым осуждением, даже с откровенной враждебностью. Совершенно неожиданно великий триумф Гонория над готами, казалось, случившийся всего за несколько дней до этого, хотя на самом деле все произошло год назад — и торжественное заявление на Триумфальной Арке, что варвары, враги Рима, уничтожены навеки — стал казаться лживым. Некоторые зеваки выкрикивали оскорбления и даже швыряли комья грязи в проезжавшие мимо кареты, но тут гвардейцы Палатина надвинулись на них, обнажив мечи, и те кинулись прочь. Большинство граждан Рима не могли бежать в Равенну. Им оставалось просто сидеть и ждать, когда придут готы.
Вдоль всей
Via Flaminia располагались огромные кладбища с гигантскими гробницами из известняка, витиевато украшенными смесью христианских и языческих символов, рыбами, птицами, крестами и ракушками. Между гробницами высились темные, скорбные тени кипарисов. Аттила смотрел на них и размышлял. Римляне по обычаю хоронили своих мертвых за городской чертой. Хоронить кого-нибудь в черте города — плохая примета, считали они. Исключением был великий император Траян, завоеватель Дакии, единственной римской территории за Дунаем.
Когда он внезапно скончался во время похода, прах императора-солдата, наперекор его предсмертному пожеланию, привезли обратно в город и захоронили в помещении под громадной колонной, носившей его имя; вырезанные на ней барельефы предлагали выразительные свидетельства его побед над Дакией. Но многие говорили, что подобное погребение его смертных останков идет вразрез со всеми обычаями. И с того момента, целых три столетия назад, после высшего расцвета императоров из династии Антонинов — Адриана, Траяна и философа Марка Аврелия, когда Римская Империя охватывала значительную часть земного шара и наиболее цивилизованную часть человечества, с того момента, говорили некоторые, империя начала сокращаться; тогда и начался ее долгий и медленный упадок. А теперь к городу подходила армия из сотни тысяч голубоглазых всадников-готов, они уже были в Италии…
Мальчик жаждал увидеть, как Аларих въезжает в гордый Рим, хотя готы и были старинными врагами его племени. Но у него были и другие планы. Когда Фламинийская Дорога поднимется вверх, в горы…
День позднего лета был душным, в воздухе тучами вились комары. Они садились на лица кавалеристов, те раздраженно отмахивались и сдвигали на затылок шлемы, чтобы вытереть пот со лба.
Вокруг разворачивались огороды, снабжавшие бесконечные потребности Рима, а дальше шли обширные именья и виллы в долинах Тибра. Высушенные солнцем сосновые шишки хрустели под колесами карет, стручки ракитника негромко взрывались на удушающей августовской жаре, из высокой травы доносилось стрекотанье разнежившихся на солнце цикад.
Олимпий потребовал задернуть на окнах красные занавески, чтобы хоть немного защититься от жары, и в карете стало сумрачно, как в церкви. Мальчик задремал. В лихорадочной дреме он видел Стилихона и Серену, один раз он даже проснулся, поверив, что они все еще живы. Вспомнив, он почувствовал, что память жжет его плоть, как солнечный ожог, а глаза ослепли от скорби. Он зажмурился и постарался снова найти убежище во сне. Ему снился Тибир, бог огня, и Отитсир, бог солнца Ему снилась родина.
Карета остановилась. Аттила вздрогнул, отдернул занавеску и высунулся в окно. Олимпий попытался помешать ему, но мальчик не обратил на него внимания. Воздух был жарким, душным и зловещим. Откуда-то издалека, от головы колонны, раздавались крики. Потом из арьергарда в голову колонны галопом промчался пограничный гвардеец. Когда он возвращался обратно, Олимпий окликнул его, и в это время колонна снова медленно двинулась вперед.
— Эй, послушай!
Кавалерист осадил коня, подтянув сжатые кулаки к груди. Мускулы у него на руках вздулись. Он повернул коня к карете и пустил его шагом, заметив с кислым видом, что внутри сидит жирный дворцовый евнух. Кавалерист молча смотрел на дорогу и на далекий горизонт с угрюмым выражением лица — плохой признак.
— Солдат! Как тебя зовут?
Солдат искоса посмотрел на евнуха и буркнул;
— Центурион. Центурион Марко.
— Марк?
— Нет, — медленно произнес солдат, словно разговаривал с особенно тупым ребенком. — Марко.
«Марко, ну надо же! — сердито подумал Олимпий. — Это даже не на латыни. Это по-варварски.»
— Ну, Марко, что там такое произошло?
— Неприятности впереди на дороге.
— Что, разбойники?
Марко негодующе фыркнул.
— Разбойники, клянусь моей задницей! Прошу прощения. Но я думаю, мы бы справились с несколькими разбойниками, вам так не кажется? Нет. Большие неприятности, очень большие. — Он откашлялся и сплюнул. Некоторое время ехали молча.
— Ну, говори же, что там, — произнес Олимпий раздраженным от нетерпения и страха голосом.
— Да дело вот в чем. Вот мы, направляемся на север по Фламинийской Дороге. — Он показал рукой. — А вот Аларих, направляется на юг по Фламинийской Дороге. И мне почему-то кажется, что дорога недостаточно широкая, чтобы нам с ним разъехаться.
Олимпий прижал к губам свою пухлую белую ручку, и Аттила мог бы поклясться, что он приглушенно вскрикнул.
Мальчик перегнулся через дрожащего евнуха и спросил:
— Но ведь Аларих стоит лагерем в Цизальпинской Галлии?
Центурион всмотрелся внутрь кареты и в некотором удивлении отдернул голову, разглядев мальчика.
— Ты отлично осведомлен, — пробормотал он. — Ты тот самый гунн, да? Отпрыск Ульдина?
Аттила кивнул.
— Он отец моего отца.
Центурион пожал плечами.
— Он стоял там. Аларих всего месяц назад был за Альпами, а сейчас идет на юг. Их всадников неуклюжими не назовешь. Полагаю, что завтра в сумерки он уже будет у ворот Рима. — Он расправил плечи и сурово сжал губы. — Ну, что будет — то будет. Наше дело — сначала добраться до Равенны. Так что мы собираемся повернуть на восток.
Мальчик изо всех сил постарался не выдать своего восторга.
— В горы? — спросил он.
— В горы, — кивнул Марко.
— В горы! — воскликнул Олимпий.
Мальчик вытянул шею и посмотрел на небо: тяжелое, потемневшее и разбухшее, оно предвещало яростный летний ливень. Готовые пролиться дождем тучи свисали с небес, словно гигантские серые брюха, которые вот-вот лопнут.
Аттила пришлепнул комара на скользкой от пота руке.
— Вот-вот будет гроза, — сказал он.
Центурион посмотрел не на небо, а вперед, на север, вдоль дороги, на горизонт.
— Похоже, ты не шутишь, — проворчал он и крикнул: — Хей! — Потом пришпорил свою гнедую кобылу, повернулся и галопом поскакал в арьергард встревоженной колонны.
Так-так, думал Аттила, устраиваясь поудобнее на роскошном мягком сиденье и почти забыв об Олимпии, Гроза, Все лучше и лучше. Мы направляемся в горы.
Мальчик любил горы. В горах можно спрятаться.
В первую ночь они разбили простой походный лагерь около Фламиниевой Дороги, а на следующую — у Falerii Veteres. В полдень третьего дня они пересекли мост Августа через Неру и почти сразу же повернули, на восток, оставив позади широкие равнины Тибра и начав подниматься по узкой дороге в Сабинские горы, по направлению к городу Терни. Дорога сделалась ухабистой, а после Терни они свернули на проселочную дорогу, скорее, тропу через холмы, и колонна могла двигаться только медленным шагом. С такой скоростью они вряд ли могли покрыть больше пятнадцати миль в день, даже используя каждый светлый летний час, а этого они себе позволить не могли, потому что им приходилось разбивать лагерь и принимать меры безопасности, раз уж они не ночевали в укрепленных городах. И все-таки, догадывался мальчик, этот путь считается наименее рискованным, потому что меньше всего можно предположить, что императорская колонна выберет его.
— Где Галла? — спросил Аттила.
— Принцесса Галла Плацидия, о который ты, как я полагаю, справляешься в таком необычайно фамильярном стиле, — едко отозвался Олимпий, — осталась в Риме.
— И что с ней сделают готы?
Олимпий ханжески перекрестился, закатил свои опухшие глаза к крыше кареты и произнес:
— Ничего сверх уготованного ей Господом.
Потом нагнулся и отдернул бархатные занавески, чтобы впустить немного прохладного горного воздуха.
На склонах холмов паслись овцы и ягнята, кое-где встречались пастухи. Один остановился прямо на дороге, глазея на приближавшуюся колонну, и стоял там, пока гвардейцы не прогнали его прочь.
— Разумеется, хорошо известно, — начал Олимпий, не замечая, слушает его мальчик или нет. В сущности, он заговорил только для того, чтобы немного успокоить нервы, которые к этому времени совсем разгулялись со всеми этими солдатами, горами и готами. — Разумеется, хорошо известно, что пастухи здесь, в холмах, совершенные животные. Они не принимают ванну с момента крещения и до самых похорон. Да их и крестят-то редко. — Он с сомнением выглянул в окно и посмотрел на выжженную солнцем землю, зажав в жирной, белой, ухоженной руке носовой платок. — Они, наверное, до сих пор поклоняются козам, во всяком случае, большинство из них. — Олимпий снова устроился на сиденье. — Мошенники и разбойники, так говорят в Риме про обитателей Сабинских гор. А то и еще вульгарнее — «овцеложцы». Понятно, что имеется в виду. Да что там, еще совсем недавно Сабинские крестьяне были печально знамениты тем, что стригли волосы не только на голове, но и на лобке, причем публично. На рыночной площади, на глазах у собственных и чужих жен! Они так же чувствуют стыд, как животные, за которыми ухаживают.
Мальчик прыснул, и Олимпий сердито посмотрел на него.
Словно в доказательство словам евнуха, чуть дальше колонна миновала еще одного пастуха, который стоял и глазел на них так, словно они были первыми человеческими существами, увиденными им за долгие месяцы. Может, так оно и было. Он стоял совершенно голый, накинув на плечи овечью шкуру. Его темно-коричневая кожа пересохла и потрескалась под солнцем пустыни, ноги деформировались от недоедания в детстве или несчастного случая в зрелом возрасте, а глаза налились кровью и были дикими. Мальчик вспомнил эклоги Вергилия, вбитые в него греком. Вот вам и романтика пастушьей жизни. Олимпий что-то недовольно забурчал.
Мальчик ухмыльнулся.
Ох, уж эти итальянские варвары…
Он посмотрел назад и увидел, что пастух потрусил к зарослям кустарника, вывел из-за них изнуренного мула, взгромоздился на него и, повернув к долине, всего лишь раз оглянулся на императорскую колонну. Потом довольно жестоко лягнул мула и скрылся за горным выступом.
Аттила выпрямился и задумался.
Они взбирались все выше и выше в горы, по каменистому ущелью, которое зимой, вероятно, превращалось в речку с крутыми берегами. Колючий кустарник цеплялся за осыпающиеся склоны, в жарком летнем воздухе громко стрекотали цикады. Тишина и одиночество здесь, наверху, подавляли. Казалось, что они уже очень далеко от Рима.
Мальчик не выдержал. Внимательно осмотрев крутые каменистые берега по обеим сторонам, он пробормотал:
— Отличное место для засады.
— О! — содрогнулся Олимпий. — О, не говори так!
— Ну, тут ведь не угадаешь, — произнес проклятый мальчишка, получая невыразимое удовольствие.
— В любом случае, этот солдат, Марк, сказал, что мы можем не бояться разбойников, — очень быстро и тревожно заговорил евнух. — В конце-то концов, ведь нас охраняет колонна хорошо вооруженных профессиональных солдат.
— А как насчет шайки бывших гладиаторов? — поинтересовался мальчишка. — Не гладиаторов-рабов. Я имею в виду профессионалов. Говорят, многие из них стали разбойниками, теперь-то, когда у них отняли работу на арене. Из них получится отличная засада, точно?
— Не будь смешным, — сказал евнух. — Ты, должно быть, наслушался глупых баек от рабов. — Он снова прижал платок к лицу, промокнув капельку пота, повисшую на кончике его носа луковкой. — Гладиаторы, ну надо же! — запыхтел он.
Однако мальчик был прав. Он всегда прислушивался к рассказам рабов и считал, что это отличный источник сведений. Он любил сведения. Они давали власть.
Император Гонорий отменил игры в 404 году, после самоотверженного протеста монаха Телемаха. В это же время он закрыл школы гладиаторов. К несчастью, ни самому Гонорию, ни его советникам не пришло в голову, что безработный гладиатор, как и безработный солдат, очень и очень опасен. А пять тысяч профессиональных гладиаторов, неожиданно оставшихся без работы, это величайшая опасность.
После хорошо оплачиваемой кровавой резни на арене казалось маловероятным, что эти мужчины спокойно осядут и превратятся в добрых горожан, пойдут работать водоносами, начнут рисовать фрески, станут торговать фигами или делать что-нибудь в этом роде. Некоторые пошли в армию, но остальные были для этого слишком старыми.
Армии требовались молодые люди в возрасте до двадцати одного года, здоровые, послушные и легко обучаемые. После стольких лет личного риска гладиаторы, несмотря на всю их прочность и предрасположенность к исключительной жестокости, считались плохим материалом для того, чтобы стать солдатами. Самых привлекательных внешне расхватали состоятельные римские дамы, как «личных помощников» и «носильщиков», а в одном случае, вызвавшем много веселья среди городских сатириков и в литературных салонах, как
ornatrix, или «парикмахера».
Слово изначально было женского рода, но теперь его так забавно применили к мужчинам-парикмахерам, в последнее время вошедшим в моду. В основном ими становились, конечно же, евнухи, или мужчины, которых интересовали только мальчики. Поэтому, заслышав о гладиаторе-парикмахере, сатирики заострили свои гусиные перья.
И вскоре по Риму начали гулять небольшие пасквили на тему о том, как странно, что
ornatrix должен посещать свою хозяйку в ее личных покоях только после того, как он полностью обнажится, умастит себя маслом и энергично позанимается в спортивном зале со своим
membrum virile.
Но улыбки на их лишенных естественности лицах увяли, когда они поняли, что основная часть гладиаторов подалась в горы, чтобы стать разбойниками.
— Вспомните Спартака! — предупреждали пессимисты.
— Да, и посмотрите, что с ним случилось, — возражали оптимисты. — Распяли вместе со всеми его людьми вдоль Аппиевой Дороги.
— Да, — напоминали пессимисты, — но только после того, как они уничтожили два римских легиона.
— А, — отмахивались оптимисты, — да, конечно…
Вот почему Олимпий так разволновался, когда проклятый мальчишка-варвар предположил, что на них могут напасть из засады. Как отлично понимал евнух, такое вполне могло произойти.
Хотя в основном бандитские шайки в Сабинских горах не считались большой угрозой. Они действовали трусливо, нападали на одинокие уединенные фермы или на богатых купцов, достаточно глупых, чтобы путешествовать без приличного воинского сопровождения.
Кем бы они ни были, казалось невероятным, что у них достанет безрассудства напасть на императорскую колонну с таким сопровождением, даже здесь, в этих отдаленных холмах.
3
Первая кровь
Первая стрела угодила Марко в руку около плеча.
— Проклятье! — взревел он. Стрела насквозь пробила ему трицепс. Он приказал своему
optio отломить древко и вытолкнуть головку с другой стороны. Сам он яростно вцепился зубами в кожаную уздечку и прокусил ее. Еще одна стрела просвистела у него над головой, пока optio пытался наложить тугой жгут. Галопом подлетел сероглазый британский солдат Люций.
— Первая кровь, центурион! — весело воскликнул он. — Отлично!
— Да, но к несчастью, это моя кровь.
Еще одна стрела, не долетев, покатилась по жесткой земле под ногами у лошади. Люций, прищурившись, огляделся. В безмолвном воздухе не было слышно ничего, кроме стрекота цикад, и видно лишь синее небо над головой. Ни облачка пыли, ни шороха.
— На нас устроил засаду… кто? Одинокий мальчишка лет шести? Что, во имя Света, здесь происходит?
Марко покачал головой.
— Представления не имею. Самая немощная засада, в которую я попадал.
Колонна остановилась, хотя они находились в узком ущелье. Стрел больше не было. Никаких поводов для паники.
— Когда кровь остановится… — начал Люций.
— Уже остановилась. — Марко потрогал жгут. — Тугой, как у девственницы…
— Отлично, центурион. У меня сообщение. Отправляйся к палатинцам в авангард и спроси наместника Гераклиана — с уважением — чего он от нас хочет.
Марко вернулся быстро.
— Он говорит, что ты соображаешь лучше, чем он.
Люций уставился на центуриона.
— Он хочет, чтобы я отдавал приказы?
— Похоже на то. Он еще хочет, чтобы ты вместе с пограничной гвардией перебрался в голову колонны.
— Господи Иисусе! — Люций отвернулся. — Полководец Гераклиан, — произнес он себе под нос, — ты просто бесполезная куча навоза. — И повернулся обратно. — Хорошо, центурион, мы едем вперед. В конце ущелья, когда доберемся вон до тех бархатных дубов — видишь их? — ты, я и первый эскадрон резко поворачиваемся, едем налево и смотрим, что там можно увидеть. Как тебе такой план?
— Здорово сложный, но может, что и получится.
— Отлично, наглый ублюдок. Вперед.
Тронувшись с места, Марко подал безмолвный сигнал первому отряду из восьми кавалеристов, чтобы они приготовились отделиться от колонны и подняться вверх по левому склону.
В нужный момент они так и поступили, и Люцию не пришлось отдавать ни единого слова команды. Кони, напрягаясь, поднимались на крутой откос; с опущенными головами, раздувающимися ноздрями, они с трудом добрались до верха. Кавалеристы натянули поводья, остановились и огляделись.
Ничего. Ни единого облачка пыли.
— Что за чертовщина происходит, командир?
Люций, прищурившись, смотрел на равнину. Наконец он тихо произнес:
— Какая бандитская шайка, центурион, предпримет пробное, разведывательное нападение, чтобы проверить силы выбранной мишени? Даже не залп, просто несколько хорошо нацеленных стрел, а потом у них хватит дисциплины, чтобы отступить и исчезнуть до того, как враг сумеет ответить?
— Я что-то таких не знаю.
Люций снова всмотрелся в подернутый дымкой горизонт почти зажмуренными глазами.
— Гладиаторы? — предположил молодой кавалерист, Кариций, широко распахнув глаза в мальчишеском возбуждении и трепете. — Ставшие разбойниками?
— Гладиаторы, — пренебрежительно фыркнул Опс, египетянин-decunon с бычьей шеей, лет сорока. Он уже собирался в отставку, но по-прежнему был крепким, как и любой другой в легионе. По-настоящему его звали Опорсенес, но ему больше подходило имя Опс. — Вот только не надо мне про проклятых гладиаторов. Гладиаторы, детка, это актеришки с мечами в руках. Они просто чертовы знаменитости-убийцы, вот что это такое.
Как и любой другой солдат, Опс испытывал к гладиаторам, как к работающим, так и безработным, только презрение. Секс-символы, которым переплачивали, педики паршивые, показушные драчуны, такие и пяти минут не продержатся в настоящем сражении, где помогает остаться в живых только настоящая взаимная преданность и доверие между тобой и другими. Это тебе не размахивать мечом перед орущей толпой.
— Отлично, парни, — сказал Люций, поворачивая коня. — Назад в колонну и смотреть в оба. Еще ничего не кончилось.
— Да что ж такое происходит? — прошептал Олимпий, когда колонна снова потащилась вперед. — На нас ведь не могли напасть, нет?
— Похоже, что уже напали, — ответил маленький варвар, поудобнее устраиваясь на сиденье. — Я бы сказал, здорово дисциплинированное нападение.
Страх Олимпия перешел в презрительную насмешку.
— О, так ты у нас еще и военный эксперт, вот оно что? Несомненно, хорошо знакомый с военными трактатами Энея Тацита, Фронтиния и Вегеция?
Мальчик смерил евнуха взглядом и бесстрастно кивнул.
— Да, я их все прочитал. И еще тот, анонимный, De re militari, который учит, как можно плыть на судне с помощью бычьей тяги. Интересная идея. Особенно хороша для нападения в верховьях реки. Ты об этом знаешь?
Евнух хватал ртом воздух, как умирающая кефаль.
Аттила улыбнулся и закрыл глаза.
— Они скоро опять нападут, — пообещал он. — Тебе лучше помолиться.
Они выбрались из ущелья и оказались на высоком, бесплодном плато. Идеальном для молниесного нападения на медленную, неповоротливую колонну. Но лазутчики, которых выслал Люций — Гераклиан почему-то до этого не додумался — не сообщали ни о каких признаках жизни, кроме ящериц и цикад. А земля была слишком твердой и каменистой, и на ней не могло остаться заметных следов.
Они пересекли плато в напряженном молчании: пограничные гвардейцы в авангарде, Палатинские — в хвосте колонны. Опять начали спускаться к широкому естественному амфитеатру, поросшему травой. Дорога заворачивала вокруг подножья холма. Местность слева резко поднималась, а справа так же резко опускалась.
Люций приказал остановиться.
Ни звука, лишь ветер шелестит в сухой траве.
Опс что-то проворчал. Люций велел ему замолчать.
Он вспоминал тот день, когда Ганнибал перерезал римлян у озера Тразимене, напав на них из засады. Колонна римлян не смогла развернуться в боевой порядок, прижатая к берегу озера. Он думал, какое здесь отличное место для подобной засады. Слева крутой подъем, справа еще более крутой спуск. На этом склоне они ни под каким видом не смогут выстроиться в хороший боевой порядок.
Тут Марко сказал:
— Приближаются кони. Оттуда, из-за вершины.
— Пастухи? — предположил Люций. — С козами?
— Нет, лошади. С всадниками.
Они прислушались. Люций ничего не слышал. Напряжение сделалось непереносимым. Желание солдата начать битву, как хорошо знал Люций, часто приводило к слишком ранней атаке.
Нет ничего хуже, чем дожидаться противника, особенно невидимого и многочисленного.
Но Марко не был новичком. Он снова кивнул.
— Приближаются.
— Как ты их слышишь? — удивился Люций.
— Я не слышу. А наши кони — да.
Он не ошибался. Их лошади уже нервничали, унюхав пот и страх своих всадников. Но ветер принес с собой еще что-то. Они прядали ушами, а ноздри их раздувались, пытаясь уловить запах приближающихся сородичей.
Люций наклонился и заговорил прямо в дергающееся ухо своей прекрасной серой кобылы.
— Что случилось, Туга Бан? Нас ждут неприятности? — И выпрямился, не обращая внимания на скептический взгляд центуриона. — Думаю, ты прав. — Люций прищурился, оглядывая склон слева. Потом сделал знак Марко, чтобы тот дал команду всем спешиться. — И Палатинской гвардии тоже — если военачальник Гераклиан не против. Так что давай туда и вели всем пошевелить толстыми задницами.
— Мы не поскачем вниз?
— С нашей-то скоростью? С этими проклятыми перегруженными каретами? — Люций покачал головой. — Если мы останемся в седлах, нас порубят на кусочки. — Он соскользнул на землю и прикоснулся к эфесу меча. — Придется сражаться. — Он снова вгляделся в крутой склон и в дрожащее марево над ним. — И где эти паршивые разбойники с большой дороги?
Марко промолчал. Они оба отлично знали, где сейчас бандиты.
И оба отлично знали, почему стая грачей в дубраве под ними с карканьем, поднялась в воздух и полетела прочь из долины. Грачи очень умные птицы. Они не улетают, если к ним приближаются лошади, овцы или козы. Зато улетают, если приближаются люди, и умеют отличить человека с луком от человека без оружия. Если грачи улетают — жди беды.
Марко вытащил меч и потрогал лезвие.
Люций выстроил их в две линии слева от колонны, лицом к подъему.
— Высокая горка, — пробормотал Марко.
— Это точно, — согласился Люций. — Надеюсь, ты делал зарядку?
Марко отхаркался и сплюнул.
— Да-да.
Но он понимал, что Люций прав. Надо признать, этот офицер обычно всегда прав. Командир Люций — отличный парень. В подобной ситуации, если на них должны напасть сверху — а сейчас произойдет именно это — самое лучшее, что можно сделать (так чаще всего и бывает во время войны): ошеломить противника, то есть контратаковать вверх, в гору.
Марко поднял глаза — вот и они. Он негромко свистнул. Контратака в гору, с куда меньшим количеством людей. Боже праведный!
На уступе прямо над ними стояло не меньше четырехсот человек, наложив стрелы на тетивы. Одетые пестро, многие вообще голые по пояс. Из доспехов — не больше, чем кожаные нагрудники. Они стояли там небритые, оборванные, с дикими глазами. Но оружие у них было серьезное. Кроме луков и стрел — щиты, копья, а у некоторых еще и тяжелые пики. Пикником тут и не пахнет. Они стояли в строгом боевом порядке и бесстрастно смотрели вниз, на злосчастную колонну, ожидая приказа.
Потом вперед шагнула одинокая фигура в белом и швырнула вниз мешок. Подпрыгивая на камнях, он раскрылся, и оттуда выкатились две отрубленные головы. Одна ударилась о колеса кареты и остановилась. Вторая покатилась вниз с обрыва. Разбойники.
Ждать дальше бессмысленно. Люций дал команду, и они бросились в атаку.
Мышцы на ногах горели и дрожали от напряжения, когда он взбирался вверх по откосу впереди своих людей. Они кричали, но Люций слышал, как, перекрывая этот рев, стрела за стрелой с тошнотворной частотой глухо вонзается в человеческую грудь. На таком близком расстоянии от доспехов не было никакого толка, а раны были смертельными. Уже пятеро выбыли из строя… десять… двадцать… А их всего-то восемьдесят, да еще пятьдесят палатинцев на левом фланге. И вот он уже в пяти ярдах от линии лучников и видит изумление в их взглядах. Их предводитель все еще не дал команды отступить или вытащить мечи, и они все еще стояли, обремененные
луками, с удивлением видя, как быстро солдаты взлетели по крутому откосу вверх. Люций посмотрел на бандита, возвышавшегося над ним, и успел разглядеть налившиеся кровью глаза, запекшиеся от палящего солнца губы, ввалившиеся щеки и трясущиеся руки. Эти люди не в самой лучшей форме, в отличие от его людей.
И они сшиблись с врагом. Люций шагнул наверх и столкнул «своего» бандита с уступа. Снова шагнул вперед и взмахнул мечом. Вздрогнув, лучник попытался отразить удар — какая нелепость! — своим луком, но прочная сталь погрузилась в его кишки по самую рукоятку. Люций резко повернул меч и потянул его, и человек упал, давясь собственной кровью, а из рваной раны в животе вываливались наружу внутренности. Сзади к нему подбежал другой, вытаскивая меч, но он не успел. Люций стремительно поднял меч, прикрыв щитом грудь и живот, и воткнул острие в глотку противнику. Лезвие заскрежетало, ударившись в шейные позвонки, и Люций, поворачивая и вытаскивая меч, почувствовал, как они раздвигаются. Руку залило кровью. Человек безжизненно обвис, и Люций яростно толкнул труп щитом на того, кто подбегал следом.
То же самое происходило вдоль всей линии. На левом фланге молчаливые палатинцы методично превращали в фарш своих недокормленных противников. Следовало отдать им должное: когда дошло до дела, они оказались весьма крепкими солдатами.
Хотя во время подъема они потеряли, пожалуй, не меньше четверти своих людей, сейчас все сражались в смертельном, плотном боевом строго, как умели только римские солдаты, подставляя противнику сплошную стену щитов и сверкающих лезвий. И потрепанной шайке разбойников приходилось биться с твердой сталью.
Марко сражался справа от Люция. Хотя покрытый боевыми шрамами центурион никогда не позволил бы себе ни единого слова жалобы, Люций видел, что рана в его левой руке снова начала кровоточить. Марко старался удержать щит этой рукой, нанося удары правой, но левая рука быстро слабела, щит дрожал и опускался все ниже и ниже. В любой момент враг мог заметить это и нацелиться в горло или в легкие. Люций ничего не сказал, просто постарался прикрыть Марко, оказавшись немного впереди центуриона и прикрывая его слева. Они всегда составляли хорошую команду.
Чуть дальше вдоль линии пошатнулся и упал юный Каприций. Бородатый, похожий на нищего попрошайку мерзавец поднял у него над головой свое короткое копье, готовый вонзить его в шею юноши. Люций повернулся туда, но он уже не успевал. И тут, когда копье уже опускалось, Опс, крепко сбитый египтянин, кинулся вперед, подняв вверх щит и почти закрыв собой мальчика. Копье, разумеется, пробило щит насквозь, и судя по реву Опса, попало ему в руку. Но Каприций, хоть и был на волосок от смерти, остался жив. Он вскочил на ноги и вонзил свой меч в бок противнику, который все еще пытался выдернуть копье из щита Опса. Люций ощутил комок в горле. Все-таки под его началом служат отличные ребята. Будь он проклят, если позволит себе потерять еще кого-то. Он продолжал сражаться с безмолвной яростью.
Бандиты отступали по всей линии. И — какая глупость — они оставили своих коней тут же, рядом. Теперь они отступали прямо на ржавших, перепуганных лошадей, пытаясь пройти мимо них, под ними, даже над ними, некоторые прыгали в седла и хаотически мчались прочь. Линия солдат по-прежнему теснила их. Внезапно Люций заметил мужчину, швырнувшего вниз мешок с отрубленными головами.
Схватившись за поводья, он пытался повернуть свою лошадь, чтобы сесть на нее верхом.
Люций подтолкнул Марко:
— За мной!
Отошел назад и помчался вдоль линии налево, догоняя предводителя разбойников. Марко мчался за ним по пятам и орал во всю глотку. Люций ухмыльнулся. Это Марко, как он есть. На самом деле Марко кричал, потому что раненая рука пылала от боли.
Они добежали до вожака в тот миг, когда тот уже вскочил на лошадь и дернул поводья, поворачивая направо. Марко не тянул время даром. Он прыгнул вперед и вонзил меч в шею лошади. Из сонной артерии с невероятной силой хлынула кровь прямо в лица обоим. Вожак снова дернул поводья, пытаясь удержать умирающее животное, но тщетно.
Несчастная лошадь затопталась по кругу, ее большое сердце толчками гнало кровь, которая хлестала из зияющей раны на шее, задние ноги подогнулись, и животное рухнуло на землю.
Предводитель бандитов выкатился из-под нее и поднялся на ноги, но тут же снова упал на пыльную землю от пинка грубого, подбитого гвоздями башмака Марко. Тот решительно прижал острие меча к затылку бандита и, задыхаясь, стал ждать, что скажет Люций.
Стычка уже закончилась. Около двухсот мертвых бандитов лежали на земле. Раненых добивали. Оставшиеся в живых улепетывали через плато к дубраве. Кое-кто пытался их догнать, но было очень жарко, и сражение все равно завершилось победой римлян.
Люций избавил умирающую лошадь от мучений, вонзив меч за ее дергающееся ухо, в мозг. Он всегда жалел коней. Потом подошел и приказал предводителю встать на ноги.
Пленник выглядел пыльным и истощенным, но в его глазах полыхнули остатки гордости. Одет он был тоже странновато, в длинное белое подобие мантии, грязное, с оборванным подолом. Никаких доспехов, никаких щитков — никаких опознавательных знаков.
— Ну, — выдохнул Люций, помотав головой и поморгав, чтобы стряхнуть с глаз лошадиную кровь, — твое имя?
Мужчина опустил голову.
— Ты хорошо вымуштрован. Неплохая попытка засады.
Мужчина взглянул на него, и в его глазах загорелась ненависть.
Люций кое-что заметил. Вожак прятал левую руку. Люций схватил его за руку и вытянул ее. На указательном пальце блеснуло кольцо с печаткой.
Люций остро взглянул на него.
— Так ты был солдатом? Солдат, ставший бандитом, а? Что, однажды рассердился, потому что тебе не заплатили за несколько месяцев? Или начал капризничать? Значит, ты повернул оружие против Рима, который тебя кормил, которому ты всем обязан, и предпочел жить в лесу, как дикий зверь?
Бандит отвернулся, сплюнул и снова посмотрел на Люция, в глазах его по-прежнему полыхала странная ненависть.
— Я служил Стилихону, — ответил он.
Люций медленно кивнул и очень тихо произнес:
— Я тоже служил Стилихону. И мне нравится думать, что я по-прежнему ему служу.
Они долго смотрели друг другу в глаза.
— Что ж, — сказал, наконец, Люций и отпустил грязную руку вожака. — Достаточно.
— Вздернуть их?
Люций устало отвернулся.
— Вздерни.
Захватили живьем только восьмерых бандитов, включая вожака. Они послужат примером для других.
Раненых добили прямо там, где они упали. А эту восьмерку повели через плато к опушке леса.
В начале небольшого ущелья, ведшего с плато, стояла старая, потрепанная сосна. Пленников подвели к ней и раздели догола. Люди Люция перекинули веревки через прочные нижние ветви и надели петли на шеи пленникам, приготовившись подтянуть их вверх и повесить, и тут подъехал наместник Гераклиан и начал командовать.
— Думаю, тут нужен особый урок, — заявил он.
Люций отвернулся. Он не имел ни малейшего желания любоваться «работой» палатинцев. Но Марко заставил себя смотреть.
Палатинские гвардейцы связали пленникам руки за спиной, заставили их встать на колени и начали жестоко пороть плетьми из завязанных узлами кожаных шнуров. С особой жестокостью они пороли вожака, но он, как и все его соратники-разбойники, не издал ни звука. После порки вожака пинком швырнули на землю и крепко связали ему щиколотки. Между голенями ему пропустили веревку, обмотали ее вокруг лодыжек, другой конец веревки перебросили через нижнюю ветвь дерева и вздернули его вверх ногами. Один из гвардейцев взобрался на дерево и вогнал вожаку в скрещенные лодыжки девятидюймовый железный гвоздь, прибив его к стволу дерева. Так его и оставили, в сознании, дрожащего от боли и страданий, но безмолвного. Из пробитых щиколоток по его спине струилась кровь, капая на землю с его волос и кончика носа.
Марко знал, что самое страшное в таком перевернутом распятии. Девятидюймовый гвоздь, пробивший кости, это ужасно, но он не убивает. Нет, страшнее всего то, что ты перевернут вверх ногами, не в состоянии шевельнуться, и ждешь смерти. Это займет дня три, может, и больше. Бандиты оказались в тени сосны, поэтому от жажды они умрут не скоро. Кровь прихлынет к их головам и там и останется. Уже через час у них начнутся такие страшные головные боли, что и представить себе невозможно. Через день губы и языки у них распухнут и побагровеют, а белки глаз сделаются пурпурно-красными, как спелые сливы. Случалось, что глазные яблоки у людей лопались, не выдержав давления. Но и это не убьет их. Они умрут от кровоизлияния в мозг или от обезвоживания. А если этого не произойдет, дня через три они умрут от мучительного удушья, не в состоянии шевельнуть грудной клеткой, чтобы вдохнуть. И умрут они с благодарностью. Если им повезет, воронье не доберется до них, пока они не умрут. Эти стервятники, с сильными черными клювами и яркими, неулыбчивыми глазами. Но если не повезет, они учуют распятых издалека, прилетят, начнут терзать перевернутую грудь, выклюют глаза — деликатесное лакомство — пока те еще будут живы, или начнут отрывать мягкую плоть с губ. Нет никакого смысла закрывать глаза: они просто начнут с век, отрывая их осторожно, как шелк. Ничего удивительного, что ворон считают за бродячие души проклятых.
Гвардейцы Палатина по очереди прибили вверх ногами всех восьмерых бандитов к скрипучей, залитой кровью ветви старой сосны. Мученики стонали, некоторые умоляли не делать этого, но все оказалось бесполезно. У гвардейцев не было на них времени, зато было много презрения.
— Ну, ну, дамочка, кончай хныкать, — весело сказал один, забивая очередной девятидюймовый гвоздь. — Скоро будешь в Гадесе с деревянным мечом в заднице.
Люций сел верхом и посмотрел через долину на юг, в сторону Рима. Он понимал, что это отребье не заслужило ничего лучшего. Самое справедливое наказание для преступников. Но все же никто не мог заставить его наслаждаться этим.
Потом они проехали назад через плато, спустились к ждущим в колонне каретам, и высокое дерево с омерзительным украшением из живых, но умирающих людей, осталось позади.
Некоторые солдаты притащили с опушки леса охапки хвороста и сложили погребальный костер, чтобы сжечь трупы. Вонь с поля битвы уже сделалась невыносимой: кровь, пот и содержимое разрубленных кишок перемешались с жарким воздухом. Люди прикрывали лица, когда волокли трупы бандитов к костру. Тела горели медленно, шипели, как жарящееся мясо, высоко в воздух поднимался столб масляного дыма.
— Сигнал предупреждения, — одобрительно сказал Гераклиан, — всем остальным шайкам грабителей в этой местности.
Растопленный человеческий жир сочился из костра и затекал в растрескавшуюся землю. Люций приказал перенести погибших римлян на повозки и отвезти их в долину. Наверху слишком твердая земля, чтобы рыть в ней могилы. Внизу, где почва мягкая, им можно устроить достойные похороны, как подобает каждому, погибшему за Рим.
Они потеряли четверть своих сил. Люций принял правильное решение атаковать. Но это победа далась тяжело.
Еще больше солдат были ранены. Тех, кто мог выжить, перебинтовали товарищи и помогли сесть верхом.
Вот лежит один со стрелой, застрявшей глубоко в легких, и кровь, пузырясь, вытекала из него вместе с жизнью. Каприций, юный рекрут, всего восемнадцати лет. Даже упрямый героизм Опса не смог его спасти.
Рядом с юношей лежал сам Опс. Тот удар копьем сквозь щит тяжело ранил его в руку. Копье задело артерию, и крепкий египтянин потерял очень много крови. Он прижимал руку к груди, а его вторая рука, покрытая запекшейся кровью, была ржаво-коричневого цвета. Лицо у него стало пепельно-бледное, а дыхание — поверхностное и неровное.
— Вперед, солдат, давай-ка мы тебя починим, — сказал Люций.
Опс не обратил на него внимания. Он смотрел на Каприция.
Люций знал, что они были не только друзьями, но и любовниками. Такое случалось часто. Соратники смеялись над такими, давали им издевательские клички, вроде Минций Флавиан, если заставали их вместе в постели, но при этом большинство из них время от времени выбирали себе дружка. Опс мог умереть за юношу, и похоже, что именно это с ним и происходило. А они не могли позволить себе терять таких солдат, во всяком случае, не сейчас. Люций отвернулся и тихонько выругался. Не выругайся он, мог бы и заплакать. Марко опустился рядом с Каприцием на колени. Почему такое всегда случается с самыми молодыми?
— Сядь, мальчик, — ласково попросил Марко. — Нужно снять с тебя нагрудник, чтобы перевязать тебя.
Эта нежность, с которой солдаты заботились друг о друге после сражений. Люций все слышал, но не мог посмотреть.
Увидев, как погиб великий Гектор, рассказывает Гомер, даже бог Аполлон закричал на Олимпийцев: «Как жестокосерды вы, о боги! Вы живете ради жестокости!»
И Люций вспомнил старую песню:
Жестока воля Господня,
И печаль моя все растет,
И буду я плакать, любовь моя,
Ибо войны не прекратятся никогда.
Каприций посмотрел на центуриона влажными полузакрытыми глазами и покачал головой:
— Подожди немного, — прошептал он. На его губах пузырилась кровь. — Совсем чуть-чуть.
Марко подождал. Остальные стояли вокруг, склонив головы. Через несколько минут Марко встал и сделал знак. Тело Каприция нежно положили на повозку рядом с павшими соратниками.
Возвращаясь в колонну, Люций посмотрел на Олимпия, сильно потевшего в полумраке богато украшенной кареты.
— Где, черт побери, мальчик?
— Я за мальчишку не отвечаю, — огрызнулся евнух. — Он ушел.
Кровь застыла у Люция в жилах.
— Ушел?
— Да здесь я! — раздался из-за его спины веселый голос. Люций обернулся и увидел Аттилу, скользившего вниз с покрытого травой откоса.
— Где, черт бы тебя побрал, ты был все это время? — возмутился Люций.
Мальчик остановился возле дверцы кареты, прикрыл рукой от солнца глаза и посмотрел вверх, на Люция, сидевшего верхом на своей огромной лошади.
— Наблюдал. — Он по-волчьи усмехнулся. — Учился.
Люций не был настроен шутить.
— Садись в карету, — скомандовал он, пришпорил свою Туга Бин, и колонна двинулась в путь.
Этой ночью они разбили лагерь в долине, после того, как похоронили своих мертвецов. Они вырыли по периметру большой ров, соорудили насыпь и ограждение. Оборонительный лагерь в самом сердце Италии! Странные настали времена.
Люди измучились, но все равно пришлось выставить ночных часовых, которые менялись каждые два часа. Люций и Марко несли вместе с ними первую стражу, хотя их глаза закрывались от усталости. Как только их стража окончилась, они вместе со своими людьми спустились к реке и выкупались перед тем, как уснуть. Они смыли запекшуюся кровь с рук, лиц и туник, потом набрали полные легкие воздуха и окунулись с головой под воду, просидев там столько, сколько смогли выдержать, и вынырнув на поверхность, благодарно хватая ртом воздух. Было темно. Никто из них не разговаривал, а река омывала их прохладной водой, очищая. Они зачерпывали полные пригоршни чистой, холодной воды, и выливали их себе на головы, словно совершали помазание. Они молились всем богам: и Христу, и Митре, и Марсу Ультору, и Юпитеру. Они поднимали глаза к небесам и видели там кружение звезд: Дракона, свернувшегося кольцом вокруг Полярной звезды, созвездие Орла и созвездие Щита, медленно скользящие к западному горизонту; серп луны, повернутый рогами вверх, как корона Дианы-охотницы; охотника Ориона, которого она жестоко убила, медленно поднимающегося к рассвету.
Люций подумал о жене, о том, что она видит те же самые звезды. Орион тает на небосклоне, когда она выходит из дома, чтобы собрать в белый передник свежие яйца, и солнце поднимается над ласковой долиной Думнонии. Его дети, Кадок и маленькая Эйлса, выгоняют во двор курочек ореховыми прутьями и без умолку болтают друг с другом, а их большие карие глаза остаются серьезными и внимательными. Он улыбнулся в темноту и почувствовал, как сильно бьется сердце. Он видел чистый, тоненький ручеек, бегущий по долине к серому Кельтскому морю; холмы и роскошные луга, на которых пасется упитанный белый скот; и высокие горные хребты, поросшие древними дубравами. Та страна ничего не знает о войнах и убийствах. Его жена и дети никогда не видели обнаженного в гневе меча, не говоря уже об отталкивающих последствиях сражения. Так и должно быть, и это правильно. Но теперь он боялся за будущее той страны, там, за пределами ослабевшего Рима, наслушавшись рассказов о жестоких пиратах-саксах, постоянно приближавшихся… Он должен быть там, с ними. Он так боялся за них.
Перед тем, как покинуть Иска Думнориум, чтобы подняться на стоявшие на якоре в устье реки суда, ждущие последние несколько потрепанных центурий из когда-то могучего
Legio II Augusta, он заключил жену в объятия, и они поклялись друг другу, что каждый вечер и каждое утро, где бы ни оказались, они будут смотреть на луну и звезды, и их любовь помчится с ночным ветром над бескрайними равнинами, горами и пустынями, что разделяют их. Какие бы страны ни пролегали между ними, им светит одна и та же луна, одно и то же солнце. Люций смотрел на лунный серп и молился, рассказывая в молитве о своей глубокой тоске.
Потом солдаты вернулись в лагерь и, завернувшись в одеяла, уснули, как новорожденные.
4
Лес
На следующее утро Люций опять искупался в реке и увидел сверкающую вспышку пчелоеда, мелькающего над широким лугом. Он перекрестился и пробормотал молитву. Если пчелы к удаче, то что означает пчелоед?
Он вернулся в лагерь и увидел быстро скачущего верхом императорского гонца. Люций подошел, чтобы поинтересоваться, что за донесение тот привез, но всадник невыразительно ответил:
— Это только для наместника Гераклиана.
Люций пожал плечами, позволил тому спешиться и войти в палатку Гераклиана.
Через несколько минут гонец вышел из палатки, вскочил в седло и умчался прочь.
Гераклиан сообщил Люцию, что с этого дня Палатинская гвардия будет постоянно держаться в авангарде.
Они позавтракали грудинкой и сухарями, свернули лагерь и тронулись в путь. Пришлось снова подниматься вверх из долины. Они ехали по грубым, сожженным солнцем, пустынным равнинам, где лишь изредка встречались ракитник или кермесоносный дуб, воздух опьянял ароматами можжевельника и дикого тимьяна. По этой выжженной пустоши они ехали до второй половины дня. На юге собирались грозовые тучи, но гроза так и не разразилась. Даже здесь, в горах, воздух был жарким и душным. Потом начался медленный спуск, и дорога привела их в густой сосновый лес.
В лесу было темно и гнетуще, вернулась внушающая ужас, тяжелая атмосфера, что преследовала их в день, когда они покинули Рим. Несомненно, вот-вот должна была разразиться гроза. А в темноте леса тяжесть и безмолвие нависшего летнего дня казалась еще более зловещей. Лошади испугались, начали вращать глазами, сверкать белками и нервно прядать ушами, их ноздри раздувались, чуя опасность, а из-за густых, темных деревьев, стоявших, как злобные часовые, по обеим сторонам дороги, ничего не было видно.
Люций заметил, что Марко внимательно вглядывается в лес слева от дороги. Он проследил за направлением взгляда.
— Что там, центурион?
Марко покачал головой.
— Ничего.
Они снова замолчали.
Наместник Гераклион, едущей с Палатинской гвардией во главе колонны, поймал себя на том, что думает о Варии и о его легионах в темном лесу Тевтобурга, хотя сам находился в самом сердце Италии. Италия перестала быть безопасной. Еще он думал о Стилихоне.
Иногда ему очень не хватало общества и неиссякаемого оптимизма этого человека, убитого героя Рима, который его всегда возмущал и чьим убийством он руководил. Хуже всего то, что Гераклиан понимал — сам он человек очень слабый. А еще он понимал, что это самое ужасное ощущение для мужчины. Быть гребцом на галерах, быть распятым, стать «развлечением» во время представления с дикими зверями — все это ничто в сравнении с пыткой ежеутреннего пробуждения и понимания, что дух твой под панцирем сверкающей бронзы и алых красок слаб и робок. Гераклиан сильнее сжал поводья и поехал дальше.
Темные сосновые деревья почти соприкасались верхушками у них над головами, и те лоскутки неба, что все-таки виднелись между ветвями, были тяжелыми и серыми, как щиты. Стало так темно, что они с трудом различали тропу, и вдруг все осветилось — разветвленная молния ударила в лес в опасной близости к дороге. Буквально через мгновение громыхнул гром, показав, что молния едва не ударила в саму колонну. Лошади заржали, начали вставать на дыбы, всадники с дикими криками осаживали их.
В скрипучей либернианской карете, позолоченные украшения и кармазинные занавески которой среди этого зловещего и сурового ландшафта казались особенно нелепыми, Олимпий, охнув от страха, когда сверкнула молния, схватил Аттилу за руку. Мальчик аккуратно высвободился.
— Но наверное здесь, под высокими деревьями, мы в безопасности? — пролепетал, заикаясь, Олимпий.
Это прозвучало так, словно он обидчиво жаловался богам, устроившим эту грозу, на молнию и на то, как все обернулось. Знак глубочайшей тупости… И Аттила улыбнулся.
Олимпий не понимал этого мальчика-гунна. Он улыбался часто — эдаким волчьим оскалом, но в его улыбке не было счастья. Он был полон гнева, даже ненависти. Он улыбался, как маленький божок, наблюдающий за жертвоприношением.
Наместник Гераклион подал знак, что колонна должна двигаться дальше, и они угрюмо повиновались.
Опытные солдаты, такие, как Марко и Люций, опустили копья и сняли железные шлемы — уж лучше промокнуть. И стоило пожалеть знаменосца в такую грозу. Он не смел опустить знамя, даже ради собственной безопасности. Бедный парень превратился в живую мишень для молнии.
Поднялся холодный ветер, начал терзать ветви прямо у них над головами, трепать их плащи. А потом пошел дождь. Большие холодные капли падали на головы и плечи и барабанили по крышам карет, в которых сидели немногочисленные везунчики. После первых шумных капель дождь хлынул потоком, и солдаты в голове колонны с трудом различали дорогу из-за сплошной пелены воды. Гензерик и Берик, наконец, проснулись. Олимпий неистово крестился, да и по всей колонне солдаты и командиры то и дело осеняли себя крестом во имя Иисуса или обещали жертвы Митрасу и Юпитеру, если благополучно доберутся до Равенны. Многие давали обещания и клятвы всем троим богам. Чего беречь залог, если ставка одна?
Дождь все хлестал, волосы прилипли к головам, красные шерстяные плащи — к плечам, лошадиные гривы — к холкам, со всех струилась холодная горная вода. На пересохшей летней дороге, сначала твердой, как бетон, а потом размокшей и превратившейся в желтую, липкую грязь, быстро образовались лужи. И люди, и кони склоняли головы в знак повиновения, и страха, и усталости перед превосходящей силой грозы и богов грозы, но продолжали двигаться вперед. Один Аттила высунулся в окно кареты и, ухмыляясь, смотрел на дождь.
— Сядь в карету, мальчик, — бранился Олимпий. — Задерни занавески.
Но Аттила не обращал на него ни малейшего внимания.
Все остальные в колонне ощущали этот ливень, как беснующееся животное, угрожавшее уничтожить их единым взмахом ослепительно белых рогов. Но Аттила чувствовал, что гроза пронизывает его насквозь, что он — ее часть, что она не причинит ему вреда. Все остальные, съежившись в своих личных вселенных, чувствовали себя перед этой грозой такими маленькими, утратившими силу, испуганными, приниженными. А мальчик чувствовал себя сильнее, крепче, могущественнее: единым целым с громом, единым целым со вселенной. И глядя на него, ощущая часть этой истины, чувствуя что-то противоестественное, Олимпий зажмурился и опять перекрестился.
Аттила ухмылялся дождю и черному, залитому водой лесу, так плотно окружавшему их. Когда еще одна ужасная молния ударила в деревья рядом с дорогой, и одна из сосен рухнула на землю в окружении искр, дыма и пламени, и кони во всей колонне начали метаться во все стороны, закатывая глаза и прижав уши, так что пришлось с трудом сдерживать их, натягивая поводья, и каждый второй в колонне осенил себя крестом, беззвучно шепча отчаянную молитву, Аттила в исступленном восторге вглядывался в лес, смотрел на хаос темных, разъяренных небес и шептал:
— Астур, отец мой… Владыка Гроз…
И тут молния ударила в карету Берика и Гензерика.
Молнии непредсказуемы, и эта не тронула саму карету, но кожаные ремни, что поддерживали ее, лопнули, и вся громоздкая махина выгнулась по центру и опустилась на оси.
Задняя ось с громким треском сломалась. Перепуганные лошади заржали, встали на дыбы и попытались вырваться из постромок, но остались безжалостно прикованы к сломанной карете. Возница хлестнул их кнутом, и они нервно повиновались.
Колонна медленно остановилась. Двое верховых гвардейцев, ехавших по обеим сторонам кареты Олимпия, повернули назад, чтобы выяснить величину повреждений. Они быстро пришли к выводу, что сломанную кареты нужно вытолкать с дороги в лес, а обоим принцам-вандалам придется пересесть в другую карету.
В этот миг Аттила обернулся и увидел, что Олимпий наклонился вперед и как-то странно сгорбился, а из его необъятного брюха торчит подрагивающее древко стрелы. Евнух, прижав руки к животу рядом со стрелой, бормотал:
— Меня подстрелили! — Он посмотрел на мальчика и повторил: — Меня совершенно ужасно подстрелили!
— Похоже на то, — согласился Аттила.
Большая часть стрелы оставалась снаружи, и мальчик уже сообразил, что в животе евнуха застрял дюйм или два, включая головку. Учитывая объемы Олимпия, рана будет совсем небольшая. Он бросил на евнуха короткий сострадательный взгляд и снова высунулся наружу. И точно, рядом с окном, в позолоченной стенке кареты, торчала еще одна стрела. Пока Аттила рассматривал ее, из темного леса и дождя беззвучно посыпались еще стрелы, как сверхъестественные посланцы из другого мира. Очевидно, тетивы невидимого противника еще не успели отсыреть. Одна стрела попала в ногу лошади; другая пробила глотку солдата, он упал на коня, вцепившись в его холку и заливая промокшую гриву кровью.
— Нападение! — закричал молодой optio. — Слева! Второй эскадрон, ко мне!
Восемь кавалеристов начали прокладывать себе путь в густоту леса, срубая мечами низко растущие сосновые ветви.
Вдоль колонны на полном скаку промчался Люций и яростно осадил Туга Бин, чьи передние копыта продолжали скользить вперед по желтой грязи. Люций, несомненно, давно заметил летящие стрелы.
— Спешивайтесь, вы, чертовы тупицы! — взревел он. — Оставьте лошадей, воспользуйтесь своими паршивыми ногами! На нас напали и справа, и слева, если вы, конечно, этого еще ни хрена не заметили! А вы, парни, скиньте эту проклятую штуку с дороги — сейчас же!
Солдаты повиновались немедленно. Упряжь отрезали от поврежденной кареты, и кавалеристы, подоспевшие сзади, повели их прочь. В кожаное седло Люция, рядом с бедром, ударилась стрела, он протянул руку, не глядя, схватил ее и презрительно откинул в сторону, продолжая выкрикивать команды. Наместник Гераклиан и его гвардейцы во главе колонны не подавали признаков жизни.
Сломанную карету приподняли и столкнули с дороги, она тяжело ударилась о ствол высокой сосны и замерла.
— Вы, педики! — заорал Люций на испуганных принцев-вандалов. — Пересаживайтесь в карету перед вами!
Берик и Гензерик, съежившись под плащами, потрусили вперед, к следующей карете.
Люций резко повернул лошадь и вгляделся в дождь.
— Иисус, что за насмешка! Это же просто бандиты, ради Христа! Любители хреновы!
— Опять нападение! — проорал Марко, резко осаживая коня. — Я, черт возьми, просто поверить не могу!
— Я тоже! — крикнул в ответ Люций.
— Остатки той шайки?
Люций помотал головой.
— Это не бывшие солдаты. Они стреляют с обеих сторон.
Стрелы продолжали ударяться в щиты и стенки карет, но оба командира не обращали на них внимания.
— Можно подумать, — заговорил Люций, — что кто-то не хочет, чтобы мы добрались до Равенны.
— А наместник Гераклиан… — начал Марко.
Люций приподнялся в седле и вытянул шею, пытаясь разглядеть, происходят ли в голове колонны какие-нибудь решительные действия. Потом опустился в седло и раздраженно произнес: — Клянусь яйцами Юпитера! Те, кто на нас напал, это, выражаясь армейским языком, кучка хреновых любителей. А мы мечемся, как муравьи на муравейнике! — Он снова сердито повернул лошадь и продолжил отдавать приказы.
— Так. Опс, берешь двадцать человек, и паршивыми ножками пробираетесь вон к тем деревьям и убиваете бандитов. А ты, солдат Дерьмо-вместо-мозгов, приказываешь спешиться еще двум эскадронам и делаешь то же самое справа. И когда я досчитаю до десяти, чтоб ни одной больше стрелы из леса не вылетело!
Грубоватого вида солдат и два эскадрона быстро спешились.
— А ну, дамочки, вперед! — весело скомандовал он. — Повеселимся в лесочке! Найдете кого живого — вырвите у него кишки и повесьте их на ближайшем дереве.
Они исчезли за деревьями, и оттуда почти сразу же раздались громкие вопли. Скоро еще от одной разбойничьей шайки ничего не останется.
Люций вернулся назад, к Олимпию и Аттиле.
— Что, опять бандиты? — завыл Олимпий. — Опять бывшие гладиаторы?
— Да-да, как же, — буркнул Люций. — Я прямо весь дрожу. Любители хреновы, вот кто. — Он сердито посмотрел на евнуха и Аттилу. — Вымуштрованные солдаты нападают на двигающуюся колонну только с одной стороны. Хреновы любители нападают одновременно с двух сторон. — Он сплюнул. — Как вы думаете, в чем тут дело?
Олимпий простонал, что представления не имеет. Мальчик немного подумал и произнес:
— Потому что можно попасть в своих?
— Послушайте, добрый человек, — негодующе взвыл Олимпий, который не мог поверить своим ушам. Они тут беседуют о военной тактике, а у него в животе застряла самая настоящая стрела, и он по-настоящему истекает кровью! — Послушайте, добрый человек! Я ранен!
Люций рывком открыл дверь кареты и нагнулся.
— В кишки? Поднимите-ка одежду.
— Я просто не могу позволить подобного…
Люций нагнулся еще ниже и аккуратно разрезал одежду евнуха кончиком меча. Стрела застряла в складках жира евнуха не больше, чем на полдюйма, и под кожей хорошо были видны очертания наконечника.
— Отлично, — сказал он. — Дышите поверхностно, чтобы стрела не продвинулась глубже. И стисните зубы.
— Прошу прощения?
— Я сказал, — повторил Люций, протянув руку, зажав стрелу в кулаке и резко дернув; издав неприятный хлюпающий звук, наконечник выскочил из брюха евнуха, и кровь потекла довольно сильно, — стисните зубы. Впрочем, уже поздно. Я ее вытащил. Прижмите чем-нибудь ранку, а когда мы выберемся отсюда, перевяжем вас.
Но Олимпий лишился чувств.
Люций взглянул на Аттилу.
— Похоже, тебе придется поработать.
— Шутишь?
Командир покачал головой.
— Пока он не очухается. У жирных задниц вроде этого и кровь ленивая. Она скоро свернется. А пока прижми ему рану рукой. — Он ткнул мальчика в плечо. — Противная работа, я понимаю, но кто-то должен это сделать.
И исчез под дождем, во весь голос выкрикивая команды, чтобы снова построить колонну.
Аттила уставился на лежавшего без сознания евнуха (из дырки у него в брюхе текла кровь) и немного подумал. Потом оторвал широкую полосу шелка от бесценного синего наряда Олимпия, пропустил ему под спину, мокрую от пота, и завязал на животе. Но шелк очень быстро пропитался кровью, так что Аттиле пришлось сделать прокладку из своего собственного льняного рукава, хотя он считал, что жирная задница этого не заслуживает. Он еще сильнее разорвал одежду евнуха и плотно привязал получившуюся повязку шелковым бинтом. Немного понаблюдал. Белый лен впитал какое-то количество крови, но из-под него ничего не вытекало.
Аттила удовлетворенно отряхнул руки.
Тут евнух застонал и очнулся.
Мальчик на это совсем не рассчитывал.
Он слышал, как кричат под проливным дождем солдаты, слышал отдаленный рокот грома и понимал, что настал его шанс. Ладони у него вспотели, а сердце бешено колотилось в костлявой груди, но вовсе не от страха. Аттила краем глаза посмотрел на Олимпия, но евнух, похоже, забыл о нем, прижав руки к животу и тревожно выглядывая в окно. Аттила едва не принес ему извинения, но решил, что это будет нечестно. Мальчик вскочил на ноги, вцепился в лысую голову Олимпия и начал бить ее о деревянную стенку кареты.
К несчастью для евнуха, у Аттилы не хватило силы, чтобы ударить его до потери сознания. Но Олимпий почувствовал, что по затылку течет кровь, и его затошнило, голова у него закружилась, перед глазами заплясали зеленые пятна, и он с трудом прохрипел:
— Умоляю тебя, не убивай меня, кто бы ты ни был. Я щедро вознагражу тебя. Весь этот сброд — полное ничтожество, просто солдаты и рабы, но я человек богатый, у меня высокое положение в Риме…
Он упал на сиденье, хватая ртом воздух. Когда дверца кареты открылась, он сидел, зажмурившись, и только услышал, что гроза шумит сильнее, чем до этого. Потом он расслышал, как дверца болтается туда-сюда под напором ветра, и понял, что мальчик убежал.
Один из кавалеристов увидел бегущего к деревьям мальчика и тотчас же закричал:
— Побег!
Люций резко обернулся и издал крик отчаяния.
— Этот увертливый… Так, Марко, нападающих мы вычистили, все в порядке. Придержи несколько человек, чтобы допросить. Маленький принц далеко по такой погоде не уйдет. — Он вытер со лба пот и дождевые капли. — Скачи вперед, сообщи наместнику Гераклиону. Скажи ему — я имею в виду, предложи ему — чтобы он возглавлял колонну. Мы догоним их позже.
— У них это получится отлично, я уверен, — язвительно произнес Марко. — Палатинской гвардии не досталось ни одного удара.
Люций уставился на него.
— Что ты хочешь сказать?
— Ничего. Простому тупоголовому солдату вроде меня не пристало делать выводы. Я просто докладываю о фактах: странно, но ни единая стрела не полетела в сторону Палатинских гвардейцев или наместника Гераклиона. Все приберегли для нас.
Они внимательно посмотрели друг на друга. Не было в мире человека, которому Люций доверял бы больше, чем своему центуриону. Они спасали жизни друг друга чаще, чем можно было сосчитать.
— Что происходит, Марко? — спросил Люций. — Почему на нас охотятся?
— На нас ли? — уточнил Марко. — Или на тех, кого мы охраняем?
Люций нахмурился и тряхнул головой.
— Езжай вперед, центурион.
— Слушаюсь!
Люций махнул рукой эскадрону из восьми человек, давая знак следовать за ним. Он рассчитывал вернуться через пару минут, замотав маленького ублюдка корабельными канатами, если возникнет такая необходимость.
Колонна снова мучительно медленно тронулась в путь, а девять всадников нырнули в чернильную глубину соснового леса.
Гроза была яростной и короткой, как все летние грозы, и уже начинала стихать. Небо над головой светлело, хотя в сумраке соснового леса кавалеристы все еще толком не видели, куда идут. С деревьев капало, но с неба уже не хлестало. Каждые несколько секунд кавалеристы останавливались и прислушивались, а также изучали следы. На влажной, покрытой хвойными иголками земле след мальчика был слабым, но заметным.
— Как он собирается от нас скрыться? На дерево влезет? — пошутил один из солдат.
— Тихо! — приказал Люций. — Ни звука.
Поехали дальше.
Через несколько минут деревья поредели, и между темными стволами они увидели солнечный свет, прорвавшийся сквозь тучи и освещавший голые холмы впереди.
Они выехали на опушку, и даже эти закаленные солдаты, где только не служившие — от Стены до песков Африки, от диких гор Испании до заросших тростником берегов Евфрата — остановились и в благоговении уставились на открывшийся перед ними вид. Внизу расстилалась прекрасная долина, зеленая от виноградников и оливковых рощ. Чуть дальше высились древние известняковые холмы, серо-золотые под солнечными лучами, а на них паслись овцы и стояли небольшие фермы. А за ними поднимались ввысь горы, даже сейчас покрытые снегом; они купались в необыкновенном искрящемся свете, который отражался от последних грозовых туч и сверкал на обширном небосклоне. А над дальними холмами дугой изгибалась огромная радуга; ее воздвиг там отец Юпитер после великого потопа, во время которого спаслись только Девкалион и его жена Пирра.
И здесь, в сердце Италии, возникало чувство необузданности и опасности, как и на диких просторах за Стеной.
Люди и лошади, подсыхая на солнце, курились паром. Тут один молодой кавалерист резко вскинул руку:
— Вон он идет.
Люций посмотрел на него испепеляющим взглядом.
— Отличная работа, Сальций. Я смотрю на него уже пять минут.
Юноша со стыдом опустил голову, остальные захохотали.
— Все равно молодец, — сказал кто-то еще.
Остальные что-то согласно пробормотали.
— Будь у него хоть капля мозгов, спрятался бы в лесу, — заметил Сальций.
— Много ты понимаешь, — возразили ему. — Это же гунн. Он стремится на открытое пространство. Для него даже лес — тюрьма.
— Ну, считайте, что мы его поймали.
Остальные закивали.
— Это верно.
Люций прищурился, пытаясь как следует разглядеть далекую фигурку.
— Так это мальчик-гунн? Я-то считал, что сбежал один из принцев-вандалов. Вы имеете в виду того, которого зовут Аттилой?
Солдат немного растерялся от такой резкой реакции Люция.
— Да, командир.
— Тот, который всегда убегает, — добавил кто-то.
Светло-серые глаза Люция с непроницаемым выражением смотрели на долину. Далеко внизу маленькая фигурка мальчика отчаянно бежала через поля, между рядами виноградников. Он то и дело оборачивался на девятерых всадников на холме у опушки леса. Аттила понимал, что они хорошо его видят, и им некуда спешить. Какие шансы у мальчишки против девятерых кавалеристов?
— Ну, давайте, ублюдки! — гневно закричал он высоким, пронзительным голосом, согнувшись пополам, схватившись за грудь и задыхаясь. — Давайте, идите сюда, хватайте меня! — Он выпрямился и сделал непристойный жест рукой. — Чего ждете?
Его тонкий голос разносился по всей долине. Услышали его и кавалеристы и ухмыльнулись друг другу против воли.
— Надо отдать ему должное, — признал кто-то.
Люций повернулся к своим людям.
— Возвращайтесь к колонне.
Помощник выглядел озадаченным.
— Почему?
— Один человек вполне в состоянии справиться с этой козявкой. Возвращайтесь к колонне и доложите наместнику Гераклиану, что я приведу мальчишку.
Немного обиженные солдаты повернули коней и снова въехали в лес. Люций пришпорил лошадь и начал спускаться в омытую дождем, залитую солнцем долину. Оставив позади самый каменистый и крутой откос, он пустил Туга Бин в галоп, через влажный от дождя луг, покрытый поздними летними цветами и готовый к сенокосу, потом помчался через виноградники к тому месту, где видел мальчика. Он смотрел вперед, но к тому времени, как добрался до этого места, мальчик поднырнул под лозы и оказался на следующем ряду. Взбешенному Люцию пришлось проскакать до конца ряда и вернуться назад по следующему, но мальчик опять успел поднырнуть под лозы. Люций осадил тяжело дышащую лошадь и задумался. Он нагнулся, сорвал тяжелую, сочную рубиновую гроздь ягод. Всходил Арктур. Скоро наступит время сбора урожая.
Некоторое время Люций с удовольствием жевал виноград, потом произнес самым скучным голосом:
— Ты же понимаешь, что все равно никуда не денешься.
Наступило молчание. Мальчик решал, стоит ли выдавать себя ответом. Но, как и подумал Люций, он был слишком гордым и безрассудным.
— Но тебе меня не поймать.
Он еще не закончил говорить, как Люций соскользнул с лошади и осторожно пошел вдоль ряда, ведя животное под уздцы.
— Я могу велеть людям поджечь виноградник.
— Твои люди вернулись к колонне, — парировал мальчик.
Люций невольно усмехнулся. Военная сообразительность мальчика весьма впечатляла.
— Как ты собираешься добраться куда-нибудь самостоятельно? — спросил он. — В горах зима наступает рано. У тебя нет ни денег, ни оружия…
— Выживу! — весело отозвался мальчик. Похоже, он тоже чавкал непреодолимо спелым, сочным виноградом. — Бывало и хуже!
— Ты представляешь, что такое Альпы в октябре или ноябре? Ты ведь пойдешь в Паннонию через них, верно?
Мальчик не ответил. Он удивился, что Люций так точно просчитал его планы. Откуда он знает, что Аттила собирается на север, домой?
Тем временем Люций поставил лошадь в конце ряда, так, чтобы голова виднелась с одной стороны, а хвост — с другой. Туловище скрывалось за лозами. Аттила повернулся, увидел лошадиную морду в конце ряда, поверил в очевидное и нырнул в следующий ряд виноградника. Он лежал на мокрой траве, под темно-зелеными виноградными листьями и тяжелыми гроздьями. Люций подкрался к нему на цыпочках. Мальчик не шевелился. Он надкусил еще одну ягоду, и сладкий сок брызнул ему в рот. Главное, приглядывать за лошадью…
Тут он ощутил прикосновение холодной стали к затылку и понял, что все кончилось. Сердце его упало словно прямо на траву, и он выплюнул остатки сладкой виноградной мякоти. Его тошнило.
— Встань на ноги, сынок, — произнес Люций. Голос его звучал на удивление ласково.
Аттила опустил голову.
— Да пошел ты, — ответил он.
Люций не сдвинулся с места.
— Я сказал, встань на ноги. Я не собираюсь тебя убивать. Ты же самый ценный заложник Рима.
Мальчик прищурился.
— Пошел в задницу.
Что-то в его голосе подсказало Люцию, что тот действительно не сойдет с места, как бы он ему не угрожал. Поэтому командир вытянул руку, схватил мальчика за загривок и силой поставил его на колени. Тот стоял в угрюмом молчании, глядя на виноградные листья перед глазами. Вокруг его лица сердито жужжала поздняя сытая оса, она даже села ему на волосы, но Аттила не шевельнулся, чтобы прогнать ее.
И тут Люций сделал нечто очень странное и совершенно не военное. Он спрятал меч в ножны, сел рядом с мальчиком на мокрую траву, скрестив ноги, сорвал большую гроздь сияющего винограда и начал его уплетать, словно других забот у него не было. Мальчик посмотрел на него, и в его взгляде что-то промелькнуло.
— II Легион «Августа», Иска-Думонио-рура. А
твой отец был галл.
Люций едва не подавился виноградом.
— Кровь Христова, парень! Вот это память!
Аттила не улыбнулся. Точно, это он. Высокий сероглазый командир с рваным шрамом на подбородке, арестовавший его тогда на улице после драки на ножах. Мальчик смотрел пристально, но не на Люция. На воображаемый образ.
— А ты Аттила, так?
Мальчик что-то буркнул.
— Меня зовут Люций.
— По мне так девчачье имя.
— Возможно, но это не так, ясно?
Мальчик пожал плечами.
Люций подавил поднимающийся гнев.
— По-кельтски это Люк. Или можешь называть меня Киддвмтарт, если тебе так больше нравится. Это мое настоящее кельтское имя.
— А что оно значит?
— Волк в тумане.
— Хм-м, — задумчиво протянул мальчик, разрезав ногтем травинку. — Во всяком случае, звучит лучше, чем Люций. Вроде как имя гуннов.
— А что значит Аттила?
— Не скажу.
— Почему не скажешь?
Мальчик посмотрел на Люция, или Киддвмтарта, или как там его зовут.
— У моего народа имена священны. Мы не говорим наших истинных имен всякому старому чужестранцу. И уж точно не говорим, что они означают.
— Иисус, да ты просто хитрый мошенник. А моя жена утверждает, что это я хитрый.
Мальчик посмотрел на него с удивлением.
— Так ты женат?
— Солдатам можно жениться, — ответил Люций, улыбнувшись. — Хотя некоторые говорят, что не успеешь жениться — начинаешь чахнуть; теряешь жизненные и мужские соки и всякое такое.
Мальчик рвал травинку на мелкие кусочки.
— Я полагаю, по-твоему только тупицы женятся? — продолжал Люций. — А ты не думал, что я настолько тупой, чтобы на веки вечные приковать себя к женщине.
Что-то в этом роде Аттила и подумал, верно.
— А, — тихо произнес Люций, глядя на запад, на холмы. — Ты просто не видел мою жену.
Теперь мальчик смутился, и его щеки ярко запылали, несмотря на бронзовую кожу.
Люций рассмеялся вслух.
— Еще поймешь. Пройдет несколько лет, и попадешь в рабство, как и все мы.
Черта с два, подумал Аттила, уставившись на свои грязные ноги. Девчонки! Он снова вспомнил тех хихикающих, полуодетых девушек в покоях принцев-вандалов, и то, как они возбудили его против воли. И испугался, что предсказание Люция уже исполняется.
— У меня есть сын твоих лет, — продолжал Люций. — Сын, и дочка помладше.
— У моего народа на вопрос, есть ли у него дети, мужчина вроде тебя ответил бы: один сын и одно несчастье.
Люций что-то пробурчал.
— Как его зовут? Твоего сына?
— Кадок, — ответил Люций. — Британское имя.
— Он похож на меня?
Люций представил себе карие мечтательные глаза своего сына, представил, как он неторопливо идет по залитым солнцем лугам Думнонии вместе со своей маленькой сестренкой Эйлсой. Он сжимает в грязной руке игрушечный лук и стрелу, пытается охотиться на белок и мышей-полевок или говорит сестренке названия цветов и объясняет, которые из них можно есть.
— Не особенно, — признался он.
— Почему это?
Люций рассмеялся.
— Он нежнее тебя.
Мальчик издал гортанный звук и сорвал еще пучок травы. Похоже, этот Кадок — тоже несчастье.
— Что ж, — произнес Люций, поднялся на ноги и встал над мальчиком. Он пошарил под плащом и вытащил короткий меч с широким лезвием из тех, что используют для ближнего короткого боя. Взял меч за лезвие и протянул его мальчику рукояткой вперед.
У Аттилы открылся рот.
— Это забрали у тебя вместе со свободой, — сказал Люций. — Пришло время вернуть его тебе.
— Это… это… — заикался мальчик. — Его подарил мне Стилихон. Всего за несколько ночей до того, как…
— Я знаю. И Стилихона я знал.
— Ты..? Я хочу сказать, ты…
— Стилихон был хорошим человеком, — произнес Люций. — И однажды я дал ему определенное обещание.
Их глаза встретились. Потом Аттила протянул руку и взял драгоценный для него меч. Лезвие было таким же острым, как и раньше.
— Ты ухаживал за ним, — сказал мальчик.
Люций ответил не сразу. Он расстегнул свой ремень с ножнами.
— Надеюсь, ты тоже будешь, — сказал он, протягивая ремень мальчику. — Не знаю, зачем Стилихон сделал тебе такой подарок. Мне он тоже сделал подарок. — И рассеянно улыбнулся. — И легче, и тяжелее, чем тебе. Я его не понимаю, не больше, чем ты, но для него это что-то означало. Поэтому и для меня это много значит.
Мальчик сражался с ремнем, пока Люций не велел ему повернуться и не застегнул его сам. Ремень оказался слишком свободным, поэтому Люцию пришлось показать, как можно укоротить его, чтобы он сидел плотно. Аттила сунул меч в ножны, поднял взгляд и кивнул.
— Хорошо, — сказал он.
Люций улыбнулся.
— Во время странствий будь осторожен, — сказал он.
Аттила уставился на него.
— Что ты имеешь в виду?
Люций нетерпеливо махнул рукой в сторону холмов.
— Тебе пора идти, парень.
— Ты отпускаешь меня?
Люций вздохнул.
— А я думал, ты соображаешь быстрее. Да, я отпускаю тебя.
— Почему?
Люций замялся.
— Так ты будешь в большей безопасности. Без колонны.
— Но ты… Разве у тебя не будет неприятностей?
Римлянин сделал вид, что не услышал вопроса.
— Старайся по возможности путешествовать ночью. Луна только начинает расти, но она поможет тебе, когда будет полной. Люди в деревнях нормальные, но не забывай, что все пастухи немного бандиты. Да еще они могут заинтересоваться тобой и по-другому — если ты понимаешь, о чем я. Несколько… гм… экзотично. Поэтому держись от них подальше — я бы так и поступил. И не вытаскивай меч, если в этом нет необходимости. Прячь его под плащом. Старайся выглядеть нищим, а еще лучше — сумасшедшим. Никто не будет грабить безумца.
Мальчик кивнул.
— Пожмем руки? — спросил Люций.
Гунн протянул ему пятерню.
— Руку, в которой держат меч, дурень.
— О, извини.
Мальчик протянул правую руку, и они обменялись рукопожатием.
— Иначе откуда я знаю, что ты не ударишь меня мечом во время рукопожатия? Ты ведь не друг Риму, правда?
Аттила ухмыльнулся.
— Правда, — сказал Люций. — А теперь вали отсюда. И больше я тебя видеть никогда не хочу.
— И я тоже, — ответил мальчик. Снова улыбнулся высокому командиру, в последний раз, прикрыв рукой глаза от солнца. Потом повернулся и потрусил по рядам виноградника в поле. Еще раз обернулся и крикнул:
— Будь я на твоем месте, я бы вернулся в Британию! С Римом покончено!
— Да, да! — крикнул в ответ Люций, махнув ему рукой. — Будь осторожен!
Мальчик пробежал через луг, поднялся на холм, на вершине обернулся, в последний раз помахал рукой и исчез.
Люций вернулся к лошади, сел верхом и поехал к лесу.
5
CLOACA MAXIMA
— Ну? — спросил Марко.
Люций поравнялся с ним.
— Он ушел.
Марко кивнул.
— Я так и думал.
— Выбили что-нибудь из пленников?
— Полководец Гераклиан приказал нам отпустить их. Сказал, они не стоят того, чтобы рисковать головой.
— В самом деле?
— Да. Но одно мы все-таки выяснили: они хорошо говорят на латыни. Просто отлично говорят.
Люций нахмурился.
— А почему бы и нет?
— Видишь ли, они готы.
Люций резко осадил лошадь.
— Они что?
— Отряд готов.
Люций уставился в пространство между дергающихся ушей Туга Бин. Бессмыслица какая-то.
— А где Гераклиан сейчас?
Марко хмыкнул.
— Он и все палатинцы посадили остальных заложников верхом на коней и отправились вперед. По сути, они уже далеко. А мы по непонятной причине остались здесь, с каретами.
— А жирный евнух?
— Тоже с ними.
— Что, верхом? Да как?..
— И не спрашивай. Не самое приятное зрелище.
— Но они пока считают, что Аттила с нами?
— Пока да.
Люций пришпорил лошадь, и они какое-то время ехали в задумчивом молчании.
Потом Марко сказал;
— Можно спросить?
Люций кивнул.
— Тебе не кажется, что кто-то очень не хочет, чтобы мы добрались до Равенны?
Люций тряхнул головой.
— Я уже не понимаю, что мне кажется. Я не понимаю, что за чертовщина здесь происходит, но точно знаю одно: я очень рад, что я простой тупоголовый солдат, а не паршивый политик.
Центурион ухмыльнулся.
Когда стало совершенно очевидно, что палатинскую гвардию им уже не догнать, Люций послал двух солдат вперед за подкреплением. Они должны были как можно скорее домчаться до основной дороги и императорской cursus станции, и оттуда потребовать подкрепления. Если потребуется — из Равенны.
— Думаешь, на нас опять нападут? — спокойно поинтересовался Марко.
— Не думаю, а знаю. И ты тоже, — ответил Люций, оглядывая уменьшившуюся колонну: сорок кавалеристов, несколько раненых и две громоздкие либернианские кареты. — По правде говоря, мы попали в серьезную беду. — Он повернулся к Марко. — Но держи это у себя под шлемом.
Они проехали еще с полчаса, и тут колонна дернулась и остановилась. На большой ветке, перекинутой поперек дороги, были повешены оба кавалериста. Их раздели догола и содрали с них кожу. Одному отрубили правую кисть и засунули ему в рот, непристойно распластав пальцы по освежеванному окровавленному лицу. Второму в рот запихнули его же собственные гениталии.
— Снимите их, — негромко приказал Люций.
Обоих завернули в одеяла и похоронили у дороги.
Люций обратился к охваченным ужасом людям, стараясь изо всех сил, чтобы голос и глаза не выдавали его собственный ужас. Он сказал, что они оказались в глубочайшем дерьме. Он сказал, что они по самые глаза окунулись в Cloaka Maxima — в великую помойку. Он сказал, что у него нет ни единой догадки о происходящем, сказал, что они могут вовсе не выжить, а не то что добраться до Равенны. Но они должны держаться вместе — только тогда у них остается какой-то шанс.
— Не бежать! — сказал он. — Мы бывали и в худших переделках.
Люди хорошо знали своего командира. Они сделали суровые лица, подняли щиты, приготовили копья, и колонна с обновленной решимостью тронулась в путь.
Аттила уже украл мула.
Он пробрался на небольшую ферму, и утки подняли отчаянный шум. Но никто не вышел. Дряхлый, облепленный мухами мул угрюмо стоял в тени каменного амбара, привязанный к забору. Аттила отвязал старую истлевшую веревку и повел животное со двора так тихо, как мог. Булыжники были густо усыпаны соломой, поэтому мальчика и мула было почти не слышно.
В амбаре было небольшое окошко, изнутри раздавались какие-то звуки. Несмотря на риск, Аттила поддался искушению, поставил мула у стены амбара и взобрался ему на спину, чтобы заглянуть в окошко. Вливавшееся в открытую дверь амбара солнце освещало происходившее внутри.
В сене дергался вверх-вниз пожилой мужчина в одной рубашке, а под ним на спине лежала молодая девушка, тоже раздетая. Должно быть, между ними было лет тридцать разницы в возрасте. Может, отец и дочь. В тех отдаленных сельских местах подобное было обычным, как солнечный свет — надо же как-то проводить долгие и ленивые летние дни. Похоже, девушке нравилось то, чем они занимаются, если судить по тому, как она дергалась под мужчиной, по тому, как подгибались кончики ее пальцев ног, по лицу, залитому потом и по ее негромкому аханью. Мальчик ощущал под ногами тепло мула, а по его животу и еще ниже разливалось жаркое томление. С пересохшими губами, недоумевая, он соскользнул с дряхлого и ко всему равнодушного мула и тихо повел его прочь со двора. Вместо поводьев он обмотал холку мула истлевшей веревкой, взгромоздился на его колючую, грязную спину, встав на забор и поехал прочь.
Он спустился в долину, проехал по широкой пустоши, по лугам, заросшим высокой травой и пестрым от последних цветов этого года — ромашек, маргариток, золотытячника, тысячелистника и пиретрума.
Он должен был их почувствовать; он должен был хотя бы обратить внимание на то, что подсказывали ему чувства. Но он был далеко от колонны и наконец свободен, и ничто больше не разделяло его и далекую, любимую родину — так казалось Аттиле. И он сделался беспечным, беззаботным, безрассудным. Он даже посвистывал. Он должен был заметить, как прядает ушами его угрюмый мул. Он должен был услышать, как приглушенно гремят котелки и сковородки, должен был учуять дым и безошибочный запах лагеря, полного людей и лошадей. Но Аттила ехал через луг, болтая ногами, едва придерживая веревку и насвистывая, как мальчишка — каковым он, в сущности, и был. И только добравшись до опушки рощи, он увидел прямо перед собой лагерь — и человек двести солдат. Палатки, костры, кони, привязанные к колышкам. А между ними лежало не больше сотни ярдов.
Один из солдат поднял голову от костра и замер. Он поднялся на ноги и всмотрелся внимательнее. Потом повернулся к приятелям, отдыхавшим у палатки.
— Эй, гляньте-ка туда!
Они глянули и увидели на дальнем краю луга взъерошенного мальчишку с характерными раскосыми глазами и синими шрамами и татуировками на щеках. Все моментально вскочили на ноги.
— Ягненочек идет прямо в пасть льву!
Они ухмылялись.
Потом увидели, что мальчик повернул своего дряхлого мула и нахлестывает его, заставляя бежать так быстро, как только возможно, и мигом вскочили в седла.
Далеко он не уйдет. Но потерять его второй раз они не хотели.
Люций тревожился все сильнее с каждой пройденной лигой, хотя не показывал этого своим людям. Солнце садилось, а они все еще не разбили лагерь.
Местность была неподходящей. Они пробрались сквозь густой лес и вышли на плоское, но каменистое плато, с трех сторон окруженное темным лесом, а с четвертой круто обрывавшееся в долину. Неподходящее место для безопасного лагеря, но иначе придется возвращаться в лес.
Быстро темнело, а люди совершенно выбились из сил. Впрочем, сам Люций тоже.
Пройдя половину плато, он поднял руку, призывая всех остановиться, потому что взгляд его зацепился за что-то за деревьями, может, в полмиле от них. Марко остановился рядом.
— Видишь что-нибудь?
— Нет.
Они поглядели еще немного и уже собрались двигаться дальше, как вдруг из тени деревьев появилась довольно странная фигура и затрусила к ним. Не очень быстро, но видно было, что всадник торопился, как мог. Верхом на дряхлом, грязном муле сидел мальчик, вцепившись в костлявую спину животного и болтаясь, как тряпичная кукла. Он держался за мула с остервенелой решимостью и безостановочно колотил его пятками в тощие бока.
— Даже если очень захотеть, этого малого с мула не стряхнешь, — проворчал за спиной у Люция Опс. — Все равно что сирийский триппер, вот что.
Мальчик приближался, и теперь они различали страх в его глазах. Наконец он добрался до них и, задыхаясь, остановился. Мул под ним тяжело дышал, словно собирался испустить дух прямо на месте. Мальчик резко обернулся и посмотрел на деревья, но ничего не увидел. Тогда он неуклюже съехал с мула на землю.
— Так быстро вернулся? — спросил Люций. — Что случилось?
Мальчик выпрямился. Лицо его было потным и грязным.
— Они идут сюда.
— Кто?
Аттила покачал головой.
— Не знаю. Только им нужен я.
— Ты?
— Не знаю, зачем.
— Я тоже, — проворчал Опс.
— Заткнись, декурион, — велел Марко. — Руку-то тебе уже зашили?
Опс заерзал в седле.
— Скоро зашьют, командир.
Марко покачал головой. В центурии постоянно шутили, что Опс, готовый с радостью встретиться лицом к лицу с целой шеренгой воющих пиктов и даже не моргнуть при этом, ужасно боится иголок.
Марко опять повернулся к Аттиле.
Прикрывая рукой глаза от лучей заходящего солнца, мальчик смотрел в мрачные лица римских офицеров в высоких шлемах с алыми плюмажами.
— Я думал, что смогу перегнать их, но…
Люций покачал головой, улыбнувшись такому предположению. Этот мул не смог бы перегнать даже хромую черепаху.
— Никаких шансов. В любом случае они бы тебя выследили.
Мальчик опустил взгляд.
— Прошу прощения, — прошептал он.
Ответил ему Марко, наклонившись к мальчику и едва ли не впервые в жизни смягчив свой медвежий рык:
— За что, парень? Мы за тебя отвечаем, и любая шайка мародерских варваров, извини, конечно, желающая наложить на тебя свои лапы, должна будет явиться сюда и забрать тебя. Причем без нашего позволения. Это понятно?
Мальчик кивнул.
— Понятно.
Марко распрямился.
— Так. Сколько их?
Мальчик, наконец-то, перевел дыхание.
— Две сотни? А коней, причем свеженьких, пожалуй, в два раза больше.
И опять Люций восхитился военной смекалкой мальчика. Но положение казалось безнадежным. Готам потребуется всего несколько минут, чтобы вскочить в седла, нацепить доспехи и пуститься в погоню. Он повернулся к Марко.
— Знаю, знаю, — тут же сказал центурион.
Люций обернулся и взревел:
— Центурия, спешиться! Ранцы снять, лопаты вынуть, кирки приготовить! Есть работа.
Даже после восьми лет службы он не переставал восхищаться скоростью и выносливостью своих людей. Они очень быстро выкопали кольцевую траншею, достаточно глубокую, чтобы спрятать в ней коня и всадника, и соорудили крепостной вал из земли и камней. Оставили только один узкий проход, рассчитанный на одинокого всадника. Измученные, вспотевшие, покрытые коркой грязи, с горящими от усталости мышцами, они лопатами плашмя прихлопывали вал, чтобы он держался крепче, и устанавливали наверху грубый, но действенный частокол. Никто не жаловался. Никто не сбавил темп. Никто не сделал ни глотка воды прежде, чем работа была окончена. Даже Опс со своей раненой рукой и все еще бледным от потери крови лицом трудился так же старательно, как и остальные. Даже тощий юнец Сальций работал с желанием. И Марко. Люций смотрел на них и думал о двух сотнях готов, скачущих к ним. И теперь всем придется пожертвовать жизнью ради этого непостижимого мальчишки. Но у них есть дело, и ни один из них не будет уклоняться от его выполнения. Он знал их так хорошо. И не променял бы свою центурию — то, что от нее осталось — ни на какой отряд в мире.
Люций то и дело смотрел на лес, но нападающих все не было. Что их так задержало?
— Используйте и кареты, — произнес рядом чей-то голос.
Люций обернулся. Мальчик.
Люций нахмурился.
— Обычно я не прислушиваюсь к тактическим советам от двенадцатилетних мальчишек, но…
— Четырнадцатилетних.
— Какая разница!
Люций задумался, а потом распорядился втащить обе кареты в оборонительный круг.
Мальчик снова вмешался.
— Набок. Переверни их.
Люций зарычал:
— Ты испытываешь мое терпение, мальчишка.
Но Аттила был невозмутим.
— Оставь их так, как есть, и врагу нет ничего проще, как подобраться к ним под прикрытием, накинуть аркан, прицепить его к паре лошадок и вытащить кареты на их же собственных колесах. И твое кольцо разорвано. Поверни их набок, и тогда никто не стронет их с места.
Люций фыркнул:
— Это не по-римски.
Мальчик ухмыльнулся.
— Конечно, это способ гуннов. А, да, когда будешь переворачивать, не забудь повернуть колеса внутрь круга, чтобы по ним не смогли взобраться наверх!
И Люций, рявкая, отдал еще несколько приказов, так что скоро обе огромные позолоченные кареты привязали к лошадям. Со скрипом, ругательствами и проклятиями, а потом — жутким грохотом, их перевернули, и они рухнули в пыль. Люцию пришлось признать, что из них получился очень подходящий дополнительный барьер на целую треть кольца. А поскольку для защиты периметра у них оставалось всего сорок человек, любая дополнительная подмога была кстати. Коней и украденного мальчиком рахитичного мула ввели с круг сквозь оставленный проход и привязали в центре, а потом закрыли проход кольями. Люций что-то прошептал на ухо Туга Бин, и она опустила голову и заснула.
В оборонительном круге воцарилась тишина.
Они собрали достаточно хвороста, чтобы разжечь два небольших костерка, и сели вокруг них, скрестив ноги, глядя на оранжевые языки пламени, жуя сухари и запивая их экономными глотками воды. Совсем немного еды, но это все, что у них осталось. Никому не хотелось покидать круг, чтобы немного поохотиться в сумерках. Солнце уже почти закатилось за горизонт, и темнота быстро заливала мир. Маленькие летние птички в лесу уснули, и скот внизу, в долине, тоже замолкал.
Люций и Марко стояли бок о бок на земляном валу, пытаясь рассмотреть что-нибудь в лесу.
— Вот они, — тихо произнес Марко.
— Ты их видишь?
— Увидел какую-то вспышку. Они наблюдают и выжидают.
— Почему они не напали раньше? Просто сидели и смотрели, как мы строим заграждение.
Марко буркнул:
— Вот такие они.
— Так что, ждать ночного нападения?
— Обычно темнота помогают обороняющимся, и сумерки тоже. Может, потому они и выжидают?
— Значит, атакуют на заре?
— Мне так кажется.
И тут кровь в жилах Люция похолодела. Последние солнечные лучи косо падали на каменистое плато, а лес в гаснущем свете казался черным. И из этого леса выезжали всадники-готы. Но это еще не нападение. Это парламентеры.
Их было трое. Они ехали на высоких, горячих конях, каждый держал в правой руке длинное копье, на котором сразу за наконечником трепыхался стяг. У них не было щитов, но отполированные стальные нагрудные пластины отражали последние солнечные лучи, а высокие конические шлемы с плюмажем из конских хвостов делали их еще выше.
Оба офицера подумали: против двух сотен вот таких? У нас нет шансов. Но оба тактично промолчали.
Трое всадников бесстрашно подъехали к оборонительному кольцу, и один из них кивнул Люцию:
— Ты командир?
— Да, — бесстрастно ответил Люций.
Конь предводителя, сухопарый мускулистый вороной жеребец, весело приплясывал, ретивый и полный огня. Повадка выдавала в нем испанские или берберийские крови, хотя обычно готы использовали косматых, выносливых равнинных лошадей. Военный предводитель снова заговорил на отличной латыни:
— Отдайте нам мальчика-гунна, и все остальные могут спокойно уходить. Начнете сопротивляться — ни один из вас не доживет до завтрашнего заката.
Люций повернулся к Марко. Марко подозвал Опса, и тот, шаркая, отошел от костра.
— Слышал, декурион?
— Слышал.
— Что говорят солдаты?
Крейтс, крепкий невысокий грек, лекарь центурии, сидевший, скрестив ноги, у костра и точивший кинжал об оселок, ответил за всех:
— Скажи, чтоб катился ко всем чертям.
Люций ухмыльнулся и повернулся к готу:
— Ответ такой: катитесь ко всем чертям.
Всадник остался невозмутимым и спокойно произнес:
— Вы об этом пожалеете.
Люций не отрывал взгляда от глаз врага.
— Может быть. А может быть, и нет.
Трое высоких всадников повернули коней и направились к лесу.
Люций подсел к своим людям. Аттила сидел рядом.
Грек Крейтс что-то рисовал кинжалом в пыли. Он заговорил, и его обычно язвительный голос был полон недоумения:
— Готы не сдирают с живых людей кожу. Из всех варварских народов у них самое высокое понятие о чести. Они не вырезают деревни под корень и не приносят человеческих жертвоприношений. — Он тряхнул головой.
Люций взглянул на Аттилу, но тот сидел молча, с непроницаемым взглядом.
Марко, служивший раньше на Дунае и неплохо знавший готов, согласно кивнул.
— Один из наших парней, когда я служил с
Legio X Gemina в Норике… Помнится, тогда высокие, красавцы-всадники с длинными светлыми волосами вышибли из нас семь разных видов дерьма…
Остальные громко захохотали.
— В общем, один из наших парней попал в лапы к готам, когда охотился за рекой. И вернулся обратно живым. Но знаете, что случилось?
Все с интересом придвинулись поближе, временно позабыв о завтрашней угрозе. Марко умел рассказывать.
— У этого парня, молодого optio, вообще не было здравого смысла. Зато он прочитал полно книжек, и даже сидя в лагере у реки, он вечно толковал о поэзии и философии и всяком таком. Остальные пока набивали брюхо чечевичной похлебкой да пердели на него время от времени, а он знай себе болтает. Ну и вот, пошел он в одиночку на охоту, уточку ему захотелось, потому что чечевица на его кишки паршиво действовала, ну, его и готы и сцапали. И вот они встали вокруг него кольцом на свой манер и направили копья ему на глотку. А он нам как-то рассказывал, что читал про греческого философа, которому угрожал казнью какой-то тиран, не помню, как его звали. И вот этот греческий философ, в истинно философском стиле, давай насмехаться над тираном: «Как замечательно, должно быть, обладать такой же властью, как ядовитый паук».
Тиран, правда, его все равно казнил. Но надо признать, что философ отправился в ад с определенным шиком.
— Да, и вот эти готы окружили нашего парня, и стоит он там один-одинешенек. И предводитель говорит, что, дескать, он забрел в его королевство, и наказанием за это будет смерть. А этот книжный червь, весь из себя гордый, сидит верхом и давай вслед за философом: «Как замечательно, должно быть, обладать такой же властью, как ядовитый паук». Прямо им в глаза. Наступила мертвая тишина, все двадцать всадников вытаращились на этого нахала, так надерзившего вождю, а потом — будь я проклят! — как начнут хохотать! Они так хохотали, что чуть с коней не попадали. Потом вождь поднимает копье, и остальные тоже, и подъезжает к молодому полоумному optio, и хлопает его по спине, и требует, чтобы тот поехал к их палаткам и напился там с ними какого-то сомнительного готического меда. Что он должным образом и выполняет, потому что выбора большого у него все равно нет. На следующее утро ему кажется, что он всю ночь бился головой о стенку, но зато он и этот отряд стали на всю жизнь кровными братьями.
Марко помолчал, а потом добавил уже серьезно:
— Смысл в том, что вот такой народ эти готы. Они воины, и они придерживаются старинного германского героического кодекса. Понимаете? Они не сдирают с пленников живьем шкуру, как и сказал наш малыш-грек, и они не вырезают целые деревни женщин и детей. И я не говорю, что они не делают этого, потому что мягкосердечные. Просто они, как подобает воинам, обнажают мечи только против достойного противника — другими словами, против мужчины с мечом в руке. И вы никогда не услышите о зверствах готов, как это случается с другими племенами.
Наступило неловкое молчание. Солдаты старались не смотреть на Аттилу. Но он оставался бесстрастным и, глядя в оранжевые языки пламени, ловил каждое сказанное слово.
Люций поднялся.
— Ладно, дамочки. Хватит болтать. Пора немного поспать. Рассвет наступит через несколько часов, а день завтра будет долгим и трудным.
Марко и Люций еще немного постояли на земляном валу, вглядываясь в безмолвную тьму.
— Как по-твоему, центурион, у нас есть шансы?
Марко глубоко вздохнул, но ответил неожиданно уклончиво:
— Я знаю о готах еще кое-что. Когда они атакуют, то кричат: «Вперед к гибели и концу света!». Так кто сражается лучше — человек со здоровым страхом смерти или человек, который вовсе не боится смерти?
Люций задумался.
— Я даже знаю стихи готов, — добавил Марко.
— Ты никогда не перестанешь удивлять меня, центурион.
Марко немного подумал, а потом заговорил тихим гортанным голосом, произнося германские слова:
—
Hige seed Ye bcardra, Heorte Ye cenre, Mod sceal Ye meara, pe uns mahteig lytlad.
— И что это значит?
— Это значит: «Сердце должно быть суровей, воля должна быть сильнее, битва должна быть свирепей, если силы наши ослабевают». Вот она, старинная героическая душа гота.
— Очень героическая, верно.
Марко выпрямился.
— Хотя посмотри на нас. Посмотри, с чем нам приходится сталкиваться — и сейчас, и в трудные грядущие годы. Может, ты хочешь мне сказать, что есть другой, более правильный способ относиться к миру? К тому миру, каким он стал?
Люций молчал долго, а потом ответил:
— Нет. Ты прав.
Оба смотрели в непроницаемую тьму и молчали. Им казалось, что все слова и стремления, любовь и преданность, доблесть и жертвы могут исчезнуть, их поглотит эта бездонная тьма, и из ее глубин не появится ничто, кроме еще более глубокой тьмы.
По их спинам пробежала дрожь — рядом с ними заговорил чей-то голос:
— Мать наша земля, там, на березе! Темно-янтарная бабочка, что дала нам жизнь! Когда мы поем над бескрайними равнинами, и скачем, унося наши жизни — тени в степи, она приходит, в плюмаже из белого конского хвоста, одетая для жертвоприношения, мать наша земля.
Люций обернулся, но он уже понял, кто это. Мальчик-гунн стоял у него за спиной, накинув на плечи одеяло, и его зубы сверкали в темноте.
— Но разумеется, — сказал мальчик, — у гуннов нет поэзии. Это общеизвестный факт. Они самые варварские из всех народов. Люди, что рождаются на дымящемся щите, люди, что выпускают стрелы в поисках богов.
Он еще немного посмотрел на них и молча удалился в середину лагеря, лег на землю и закрыл глаза.
Марко покачал головой, глядя на него.
— Этот мальчик…
— Знаю, — ответил Люций. — В нем что-то есть, правда? Что-то особенное.
Марко кивнул.
— Готы тоже это знают. Почему они выжидают? За что мы сражаемся? За кого мы сражаемся?
— Будь я проклят, если знаю. — Люций положил руку на плечо Марко. — Пошли, центурион. Нам тоже необходимо поспать.
Марко поморщился.
— Да уж. Завтра будет длинный день.
6
Одетая для жертвоприношения
Они вышли из леса на востоке с восходом солнца, зная, что противник будет ослеплен этим же солнцем. Их полосатые, зубчатые, разноцветные стяги гордо развевались на высоких копьях из ясеня. Их длинные щиты в форме ромбов были украшены самыми разными геральдическими символами и всеми животными-тотемами, которые населяли свирепое воображение этого воинственного народа и их безграничные северные леса. На щитах были отчеканены из варварской бронзы медведи и волки, вепри и огромные, косматые европейские бизоны, и каждый заключен в круг. Длинные плюмажи из светлого конского волоса свисали с высоких четырехгранных шлемов, а наводящие ужас длинные мечи в ножнах сверкали на боку. Они сидели в седлах высокие и гордые, и кони высоко поднимали передние ноги и грызли бронзовые удила.
Они ехали в строгом боевом порядке — никакой беспорядочной атаки с завываниями. Не доехав примерно двести ярдов, вне досягаемости стрел, они натянули поводья и остановились.
Их предводитель выехал из рядов. Это был тот же военный вождь, что разговаривал вчера с Люцием. Под шлем он надел бронзовую маску и выглядел металлическим и бесстрастным, как бог-олимпиец. Даже на его коне было забрало — чеканная бронзовая маска.
И снова он сказал, что они не ссорились с римлянами. Им нужен только мальчик-гунн. А Люций снова ответил, что мальчик находится под их покровительством, и они его не отдадут.
Предводитель готов кивнул и вернулся в ряд.
Солдаты внутри своего непрочного оборонительного кольца стиснули зубы, крепче сжали копья и воинственно вздернули подбородки. Они переглядывались молча, потому что любые слова были недостаточны.
Эти мужчины вместе пили, вместе сражались, вместе ходили по шлюхам по всей империи. Они под ливнем стрел стояли спина к спине, подняв свои щиты, или отражали налеты пиратов Аттакоти из Ирландии, или грабили побережья Силурии и Думнонии, угоняя оттуда рабов. Они бились с франками на Рейне и с вандалами в Испании, с маркомманами на Дунае, и у каждого были шрамы на теле — и шрамы на сердце по товарищам, погибшим у них на руках.
Готы спешились. Они собирались сражаться пешими. Люций и Марко переглянулись: это тоже необычно. Они построились в три ровные шеренги, охватив две трети круга. Двигались они спокойно, без суеты. Две сотни? — подумал Люций. Больше похоже на две с половиной, если не все три.
Опс наклонился, сплюнул и пробормотал что-то непристойное про варваров. Юный Сальций стоял мертвенно-бледный. Крейтс слегка подтолкнул его локтем.
— Все в порядке, парень?
— Да.
Трудно было сказать что-нибудь более утешительное.
— Просто не могу дождаться, когда мы начнем, — произнес юноша чересчур быстро.
Крейтс сумел язвительно усмехнуться.
— Я тоже.
Это последний раз, когда восьмая центурия, первая когорта
Legio II Augusta будет сражаться вместе. Это их последняя битва. Они это понимали. Это их последнее сражение. По причинам, которые они не могли постичь, именно здесь для них все закончится. Маленькое войско готов привело их к мертвой точке здесь, в мирном сердце Италии, и потребовало, чтобы они выдали им одного из своих заложников — всего лишь мальчика, да к тому же варвара! Нет, в этом нет никакого смысла. Но им придется сражаться — а потом, вероятно, готы все равно заберут мальчика. Но за это им придется заплатить своей кровью.
Нет, не этого они ожидали. Не будет долгой и счастливой отставки, какую они себе представляли после двадцати лет верной службы в легионе. Отставки на славной ферме на юге Британии, с пухленькой молодой розовощекой женой, круглобедрой и улыбчивой. Или — теперь, когда Британию у них отобрали — где-нибудь в Галлии или на богатых виноградниках Мозеля.
А они оказались здесь, потому что оказались здесь, а приказ есть приказ. Как бы там ни было, будь они прокляты, если согласятся выполнять требования готов. Значит, пусть будет, что будет. Получилось так, что они не доживут до отставки; и не узнают, что такое подагра, или артрит, или паралич, или старческая нетвердая походка, и их не пригнет к земле, к холодной могиле, горб. Они умрут здесь, с мечом в руке. Не так уж и плохо. Все люди однажды умрут.
Лишь военный предводитель готов остался в седле. Он обернулся и посмотрел на маленький, угрюмый кружок римских легионеров. Потом посмотрел назад, чтобы поприветствовать своего отца — солнце, медленно взбирающегося на восточную часть небосклона. А потом перевел взгляд на шеренги своих людей. Резко опустил руку — и они побежали.
— Приготовить луки, — ровным голосом скомандовал Люций.
Вверх поднялись сорок луков.
Воины-готы уже в полуторе сотне ярдов. В сотне. Приближаются.
— Целься, — сказал Люций, подняв spatha.
Они были уже в полусотне ярдов и бежали во всю прыть, понимая, что скоро полетят стрелы.
— Огонь!
Град стрел посыпался на приближающихся воинов. Они находили свои цели, погружаясь в грудь и ноги. Несколько человек упали на колени, сжав древки, еще несколько, споткнувшись, упали в полный рост, мешая товарищам, бегущим сзади.
Много стрел отскочило от тяжелых щитов и сверкающих шлемов, какие-то просто недолетели и упали на землю. Основная масса воинов продолжала бежать вперед.
— Огонь!
Времени хватило еще на один залп, и Люций приказал взяться за оружие. Луки отбросили в сторону, солдаты взяли щиты, мечи и копья и подняли их над траншеей. Люций почувствовал, что рядом кто-то стоит. Он вздрогнул. Опять мальчик. Он разделся до пояса и от самой макушки перемазал себя грязью. Его раскосые глаза сверкали на черном лице, как у дикого животного. Он собрал растрепанные волосы высоко на макушке, как принято у гуннов, и завязал заплетенными травинками. Так он казался немного выше. Но, хоть он и был невысоким, его торс в татуировках был крепким и мускулистым, а бицепсы выпирали. Он обеими руками держал свой короткий меч.
— Ну-ка быстро в центр, к лошадям, — коротко приказал Люций.
Мальчик помотал головой.
— Вы сражаетесь за меня. А я буду сражаться за вас.
И тут же исчез, промчавшись через оборонительное кольцо и взлетев на укрепление с противоположной стороны.
Готы уже были рядом.
Без траншеи и заграждения битва завершилась бы за несколько минут. Но каждому воину-готу, независимо от роста, приходилось сражаться снизу вверх, ударять копьем вверх, а легионеры беспощадно кололи своим оружием сверху вниз.
Люций и Марко сражались, как всегда, бок о бок, прикрывая друг друга и быстро перемещаясь, чтобы закрыть бреши. Гот поставил одну ногу на заграждение, тут Марко с ревом ринулся на него и ударил ногой в грудь. Гот опрокинулся в ров, Марко нагнулся и всадил копье в обнажившийся живот. Еще один воин обрушился на заграждение и взмахнул длинным мечом. Центурион охнул, извернулся, и меч на волосок не задел его. Люций схватил воина, ударил его головой о заграждение и перерезал ему глотку. Труп покатился в траншею.
Ров постепенно наполнялся трупами, но воины все подходили, шагали по трупам своих павших товарищей и приближались к заграждению почти на его уровне. Гротескно, но действенно. Некоторые воины крестились, наступая на мертвецов, и Люцию пришлось напомнить себе, что теперь, по слухам, готы тоже стали христианами.
Он оглянулся и увидел юнца Сальция. Тот, свалившись с вала, сидел теперь в пыли, скрестив ноги, как школьник, и держался за живот. Люций слышал, как рядом ревет Опс, схватив за глотки сразу двоих воинов и ударяя их головами о поднятое колено. Потом он презрительно скинул их в ров.
Аттила взбирался на заграждение с той стороны. Люций закричал, чтобы он спустился, и тут увидел, что происходит. Воины перекинули через земляной вал веревку с крюком и теперь передавали веревку назад, чтобы ее прицепили к коням, дернули и прорвали заграждение. Но в тот самый миг, как веревку зацепили, Аттила наклонился и одним взмахом меча перерезал ее. Он двигался быстро, как вихрь: вырвал крюк из расщепленного дерева и яростно швырнул его в голову готу, пытавшемуся щитом сбить мальчика с ног. Аттила опередил гота, голова у воина закружилась, он потерял сознание и рухнул на заостренные колья. На этот раз заграждение было спасено.
Потом, к своему ужасу, Люций увидел, как мальчик, по-прежнему двигаясь быстрее, чем это вообще возможно, три раза подряд ударил мечом в шею лежавшего без сознания воина, ногой сшиб с него шлем, ухватил в кулак прядь волос и четвертым ударом срубил ему голову. Аттила издал сверхъестественный торжествующий вопль, резко крутнулся на месте и швырнул отрубленную голову в группу воинов-готов, толпившихся за острыми кольями. Окровавленная голова с непристойно болтающимся позвонком завертелась в воздухе, расплескивая серую мягкую массу и красную кровь на лица пораженных ужасом воинов. Мальчик снова завыл, обнажив зубы, как дикий зверь, и вскинув вверх меч. Его лицо и грудь блестели, испачканные землей, потом и кровью, и на какой-то миг полдюжины готов замерли, глядя на эту фигуру из ночных кошмаров. Потом взяли себя в руки и двинулись вперед, а мальчик низко наклонился, увернувшись от неуклюжего взмаха длинного меча, и вонзил собственное лезвие глубоко в кишки атакующего. Он тут же выдернул меч, и поток крови окатил его с ног до головы, а умирающий упал прямо на него. Аттила вывернулся и наискось полоснул мечом следующего воина. Еще один труп упал в пыль.
Да, мальчик вырос с той ночи в Субурре два года назад, когда он заколол пьяного противника, а потом проливал слезы раскаяния. В ярости той битвы он нашел свое призвание, и голос совести утонул в крови других людей.
Все вокруг Люция — кучка людей, так превосходимых численно — неистово сражались, и битва была беспощадной, беспорядочной и хаотичной. Пока заграждения не прорвали. Но его люди быстро выбивались из сил. А военный предводитель готов с нехарактерным для них самообладанием посылал своих воинов отдельными шеренгами. Когда начинала уставать одна, они просто отходили и их место занимала следующая. Потом они уступали место третьей и так далее. Никому из них не приходилось сражаться насмерть. Никому даже не приходилось по-настоящему устать. Но для людей Люция подобной передышки не было. Несколько уже пали, еще больше были ранены, и все-таки каждый, кто еще мог стоять на ногах и удерживать меч, продолжал биться. Он видел, что Крейтсу перевязали левую руку — вместо кисти у него остался окровавленный обрубок. Но он сражался.
Вдруг Люций почувствовал маслянистый запах дыма, перекрывший густой запах крови. Лучники готов начали стрелять зажженными стрелами, и те попадали в оборонительный круг. Рискованная стратегия, потому что они могли попасть в своих. Но стрелы летели безошибочно, на некоторые из них были намотаны горящие тряпки, смоченные в смоле, и скоро обе огромные либернианские кареты, составлявшие жизненно важную часть обороны римлян, были охвачены пламенем. Еще больше стрел попало в центр круга, где стояли лошади римлян. Лошади взбрыкивали, вставали на дыбы, с дикими глазами рвались с привязи. Готы пытались устроить их массовое бегство.
Одному коню стрела попала в глаз. Он кричал просто ужасно. Люций и раньше слышал, как кричат кони на полях сражений, и эти крики всегда рвали ему сердце. Агонизирующее животное сорвалось с привязи, встало на дыбы, запрокинув назад большую голову на красивой мускулистой шее, передние ноги беспомощно молотили воздух. Его голосовые связки напрягались и рвались от этого жуткого крика, который поднимался, казалось, из самой его глубины. Стрела торчала из правого глаза, и пронзительные крики животного словно обращались прямо к небесам в отчаянном протесте — ведь никто и никогда не должен испытывать подобные муки на этой земле. Люций подбежал к коню, несмотря на то, что то взвился на дыбы, и когда скакун с грохотом опустился на землю, изо всей силы, держа меч двумя руками, вонзил его в сонную артерию животного, сразу под челюстью. Горячим потоком хлынула кровь, и конь умер раньше, чем ударился о землю.
Но теперь надежды не осталось. Стрелы, как жестокий дождь, сыпались на спины и холки несчастных животных, и они в панике срывались с привязи. Туга Бин была где-то в середине. Люций помчался к восточному краю круга, пытаясь не обращать внимания на лошадиные крики, наполнявшие воздух. Он с диким ревом ворвался в схватку, оттеснил группу готов и начал выдирать из земли колья заграждения. Рядом оказался Опс, и Люций прокричал, чтобы тот делал то же самое. Вскоре они сделали брешь в собственной обороне в пять-шесть футов шириной. Люций вернулся к мечущимся, охваченным паникой лошадям, и погнал их в сторону бреши. Несчастные животные протолкались сквозь брешь и поскакали через поле битвы, украденный мальчиком мул на негнущихся ногах последовал за ними. Они прорвали шеренгу готов, ударив нескольких из них копытами. Готы сомкнули ряды, взяли свои пики и стали втыкать их длинные стальные наконечники в бегущих коней. Люций отвернулся. Он не знал, что хуже — убийство людей или убийство лошадей.
Они с Опсом воткнули колья на место, закрыв брешь. Натиск готов на время прервался из-за панического бегства коней, но это ненадолго. Люди устало привалились к деревянному заграждению. Их губы пересохли и потрескались от жажды, глотки стали грубыми, как акулья кожа, от постоянных криков — но
вода кончилась. Опс был с головы до пояса залит кровью, непонятно, чьей.
Люцию казалось, что у него горят все мышцы, и он боялся, что не сможет собраться с силами и поднять меч. Руки неудержимо дрожали от напряжения, глаза жгло от пота и грязи, и перед ними все расплывалось. Он уже давно отбросил тяжелый щит.
Люций понимал, что они смогут выдержать только одну атаку. Следующая их прикончит.
И атака началась.
Люди с трудом в последний раз поднялись на ноги, не жалуясь, не удивляясь, молча, слишком измученные, чтобы издавать боевые кличи. Они сражались с поразительной жестокостью, со всей яростью отчаяния мужчин, понимающих, что погибнут. В таком состоянии человек может получить рану, которая в нормальных обстоятельствах сбила бы его наземь, и все-таки продолжать бой. И снова атака готов разбилась о римские копья и мечи, как ни мало их осталось, и снова готов остановили у заграждения, и враги опять мрачно обменивались ударами, наносили раны и получали раны, и не было пощады ни с одной из сторон. И снова, к облегчению изнуренных солдат, готы отступили, чтобы перегруппироваться. Это отступление было медленным, с запинками, потому что на земле громоздились окоченелые трупы. Убитый воин-гот сидел на земле перед заграждением, где нашел свою смерть. Его отрубленная голова валялась рядом в пыли. Другой лежал, разрубленный пополам, и его внутренности тянулись на много ярдов — их растащили копытами мчавшиеся кони. В воздухе висел тяжелый запах крови и разорванных внутренностей людей и лошадей.
Зловещая тишина упала на поле боя, когда пыль между двумя противоборствующими военными отрядами улеглась.
К своему отчаянию, Люций увидел, что, хотя многие готы пали, многие остались живы. Они снова построились в три линии, загибающиеся с левого и правого флангов. Скоро они нападут, и на этот раз восторжествуют. Эта победа достанется им дорогой ценой, но все же это будет победа. И все ради странного мальчика с блестящими глазами из степей Скифии, который даже сейчас, к отвращению Люция, неспешно брел по периметру заграждения, насвистывая и снимая скальпы.
Военный предводитель готов по-прежнему сидел верхом на своем вороном коне, далеко на правом фланге своих рядов. Он обозревал хаос поля сражения с очевидной безмятежностью.
Люций огляделся. Крейтс, стоя на коленях в пыли, баюкал обрубок руки. Люций окликнул его, и гибкий умный грек медленно поднял на него лицо с открытым, как у дурачка, ртом — весь его острый, язвительный ум словно вытек вместе с кровью. А потом, как в ночном кошмаре, не отрывая глаз от командира, Крейтс завалился набок и умер.
Юный Сальций, тоже мертвый, лежал рядом. Копье проткнуло его насквозь и вонзилось глубоко в землю. А возле него лежал Опс — Опс Invictus, Опс Непобедимый от Каледонии до Египта, от Сирии до берегов Дуная. А теперь он был побежден, здесь, в самом сердце Италии, и стрелы торчали из его живота-кургана, как колючки дикобраза. Марко сидел сгорбившись, покрытый желтой грязью с головы до ног, словно после какого-то непристойного миропомазания, и прижимал руки к ребрам. Нет, только не Марко… В панике Люций окликнул его по имени. Марко поднял на него глаза и снова уставился в землю. Он ничего не сказал. Потом, медленно, с трудом, он поднялся на ноги, все еще прижимая одну руку к ребрам, и встал рядом с Люцием. Марко так легко не сдастся. Только эти двое еще держались на ногах. Они — и мальчик. Мальчик, причина всего этого кровавого кошмара, тоже стоял на ногах. Его ничто не уничтожит. Обнаженный до пояса, с мечом в руках, со связанными на макушке волосами, украшенными косичкой из конского волоса, заляпанный толстым слоем грязи, смешанной с кровью и потом — и это не его кровь, Люций не сомневался, что не пролилось ни единой капли дикой крови мальчика. Мальчик невозмутимо посмотрел на Люция поверх заваленного трупами заграждения, быстро провел мечом по остаткам своей грязной, разодранной туники, все еще свисавшей с ремня, «украшенном» окровавленными скальпами. И ухмыльнулся.
Заграждение было проломано в трех местах, от карет осталась кучка пепла. Их было всего трое — и сотня всадников уже готова была лишить их жизни. Они покойники. А мальчик ухмылялся.
Люций посмотрел на ряды мужчин там, на плато.
— О боги, — шепнул он с горьким упреком. — О боги.
Военный предводитель готов в последний раз поднял руку в латной рукавице.
Сейчас это произойдет. Дальние, еще не принимавшие участия в бою воины взлетали на своих коней. Ходячие раненые перемещались в тень и прохладу опушки леса, но остальные поскачут вперед. Теперь они будут сражаться верхом. Они просто пришпорят коней и вырежут остатки этой беспокойной центурии.
И вот они приближаются.
Марко, стоявший рядом, посмотрел вверх.
— В иной мир, друг, — сказал он.
— В иной мир.
Всадники даже не сочли нужным перейти на галоп. Когда до заграждения осталось не больше двадцати ярдов, военный вождь снова поднял руку, и они остановились.
— Что за чертову игру они затеяли? — прорычал Марко. — Ну же, ублюдки, вперед! — заорал он.
Ряды высоких всадников верхом на конях не шелохнулись.
Предводитель выехал вперед, в точности, как предыдущим вечером — много жизней и смертей назад. Он остановился около заграждения, искусно повернул свое длинное копье и воткнул его в землю перед собой. Меч оставался в ножнах. Он на мгновенье опустил голову в шлеме, а когда поднял ее, Люций с изумлением заметил в его глаза слезы.
Он говорил тихо, но они расслышали каждое слово.
— Битва окончена. Мальчик ваш. Мы не будем больше сражаться с такими отважными воинами. Мы приветствуем вас, братья.
И, как один, всадники подняли вверх свои правые руки — без оружия.
Потом они повернулись и умчались прочь. Улеглась пыль, поднятая грохочущими копытами, и на плато воцарилась тишина.
Как в тумане, Люций бродил по полю битвы. Марко шел рядом.
Через какое-то время Марко сказал:
— Тут кто-то живой.
Люций подошел. Воин был тяжело ранен, в пробитой груди пузырилась кровь. Марко наклонился и сорвал с воина шлем. У него были коротко постриженные темные волосы и глаза…
— Я никогда не видел гота с карими глазами.
Скрипучим от жажды голосом тот попросил воды, но Марко ответил, что воды нет. И заговорил на языке готов:
— Hva pata wairpan?
Воин закрыл глаза и приготовился умереть.
— Прочь от него! — зарычал Марко на невидимого бессмертного неприятеля, скользившего над полем боя в своих длинных черных одеждах. — Еще минуту! — Грубо тряхнул умирающего и снова спросил: — Hva pata wairpan? Кто ты?
Веки умирающего затрепетали, и он простонал:
— Я не понимаю. Говори по-латыни.
Ошеломленный Марко повиновался.
Солдат выдохнул:
— Батавская кавалерия, вторая ала, иностранные войска, база на Дунае.
— Не готы?
Солдат едва заметно усмехнулся.
— Не готы.
— Но почему? Кто вас послал?
— Мы ждали приказа… Мальчик…
Но сознание умирающего солдата уже померкло, и внутренним зрением он видел лишь свет впереди и протянутые ему навстречу руки жены, стоявшей на освещенном солнцем лугу за рекой.
Голова его упала на плечо, и дыхание остановилось.
Марко аккуратно положил его на землю. Его враг. Его римский брат по оружию.
Оба офицера ощутили рядом чье-то присутствие. Мальчик стоял позади.
— Они были римлянами, — сказал он.
Люций покачал головой.
— Это римляне, — настаивал Аттила. — Их послали убить меня.
— Это батавы, чужеземцы, — пробормотал Люций.
— Одно и то же.
— Я понял это по тому, как они сражались, — произнес Марко. — Все было неправильно.
Он посмотрел на своего товарища офицера. Никогда еще Марко не видел, чтобы он так пал духом. На глазах у Люция всю его верную, любимую центурию за два кровавых часа стерли с лица земли — по непостижимому, вероломному приказу Рима. Люций так низко опустил голову, словно ее увенчала свинцовая корона.
Марко чувствовал то же самое. Но в любом случае для них здесь больше ничего не осталось. И идти им тоже некуда. И он сказал:
— Вношу предложение. Никто не ожидал такого сопротивления — да и вообще сопротивления. Будем считать, что мальчика-гунна у нас отобрали. Мы с тобой отправляемся в Равенну и докладываем, что военный отряд готов схватил мальчика. И его никто больше не увидит. — Марко покосился на Аттилу. — Извини, сынок, но я сомневаюсь, что тебе предложили бы горячую ванну и теплые одеяла. — Он снова обернулся к Люцию. — До Ульдина дойдет слух, что его внук взят в плен и, вероятно, убит, готами. Такого оскорбления не стерпит ни один вождь гуннов.
Люций хранил зловещее молчание.
Зато мальчик пришел в восторг.
— И он нападет на готскую армию Алариха? Нападет сзади, как они собираются напасть на Рим?
Люций покачал головой и тяжело вздохнул.
— Как я уже говорил, — очень тихо произнес он, — я рад, что я всего лишь немой тупоголовый солдат, а не политик.
Он говорил невыразимо устало. Кроме того, он уже понял, что им не следовало вести подобного разговора в присутствии мальчика.
Но Аттила услышал и понял. Его раскосые львиные глаза горели.
— Я знаю, кто отдал приказ, — негромко сказал он. — Я понимаю.
Марко попытался выпрямиться, но слабо застонал и упал на колени, хватая руками пустоту.
Люций тут же оказался рядом:
— Марко?
Марко неуклюже повернулся и сел, уронив голову. Ему казалось, что в его до сих пор такой могучей шее не осталось сил.
— Марко, только не ты!
— Пора, друг, — ответил центурион. — Сегодня час пробил для многих из нас.
Дело было в его ране. Он не обращал на нее внимания, как и всегда не обращал внимания на раны.
— Или они исчезнут, — говаривал он, — или ты.
До сих пор верх брал он. Но на этот раз все было по-другому…
Все его тело похолодело, конечности задрожали.
Люций выкрикнул его имя и приказал ему встать.
— Встань на ноги, солдат! — Ему казалось, что он может даже ударить Марко.
— Еще несколько минут, офицер, — попросил Марко. Прощай, тепло. Привет, холодная вечность. Он уже ничего не видел. — Да сохранят тебя боги, — прошептал он. — Было здорово служить с тобой.
И он перекатился набок и скорчился на земле, мягко улыбаясь. Это большое, мускулистое, покрытое боевыми шрамами тело свернулось калачиком, как младенец в утробе матери.
Что в начале, то и в конце. Теперь он дышал почти беззвучно, прижав руки к животу, а из-под туники сочилась кровь. Люций стоял над ним, горько ощущая потерю, потеряв дар речи от гнева. Марко перестал дышать. Кровь перестала сочиться…
Аттила отвернулся, удивляясь самому себе — он не мог этого видеть, не мог этого слышать. И он пошел по полю боя на поиски мула.
Люций с воем упал на колени, вцепившись в широкие плечи центуриона. Он поднял его тело, положил поседевшую голову себе на колени и зарыдал.
Через несколько минут Аттила вернулся. Он вел за истлевшую веревку мула. Люций все еще стоял на коленях рядом с центурионом.
Мальчик немного постоял возле него, а потом тихо сказал:
— Я ухожу.
Люций кивнул.
Мальчик немного помялся, потом добавил:
— Я уже говорил — с Римом покончено. Ты должен вернуться в Британию.
Люций не ответил. Он не знал, что сказать. И внезапно почувствовал, что латинские слова — язык Рима — застрянут у него в горле, как рыбья кость.
— На родину, — настойчиво сказал мальчик.
Люций кивнул. Его родина. Земля его сердца. И произнес на языке своего народа:
—
Mae hiraeth arnath Britan. Мое сердце тоскует по Британии.
Мальчик не знал языка кельтов, но этого и не требовалось. Он понял каждое слово, так страстно говорил Люций.
И все-таки Аттила не уходил. А потом сказал:
— Я обязан тебе жизнью. Я этого не забуду.
И тогда Люций обернулся.
— Не забудь, — негромко проговорил он. — В грядущие годы.
Он смотрел, как мальчик забирается на мула, не выказывая ни малейших следов усталости, словно утренняя отчаянная битва была для него не больше, чем прогулка по лугу.
— Будь осторожен, юноша.
Аттила кивнул.
— Я выживу.
По лицу Люция скользнул призрак улыбки.
— В этом я не сомневаюсь.
Мальчик лягнул костлявые бока мула, и тот, пошатываясь, побрел через плато, на север. И скрылся за деревьями.
Люций долго смотрел ему вслед.
7
Долгий путь домой
Среди жары и безмолвия, отмахиваясь от жужжащих прожорливых мух, одинокий римский солдат рубил в окружающем лесу хворост и сваливал его в кучу в центре заградительного кольца. На хворост он сложил колья заграждения, устроив таким образом погребальный костер, и отнес на него тела погибших. Подняв двадцатый труп, он понял, что больше не в силах сделать что-нибудь в этот день, и заснул полуобморочным сном без всяких сновидений. На следующий день, несмотря на мучительную боль в каждой клеточке тела и души, он устроил на погребальном костре остальные тела. Последним лег центурион.
Люций поджег хворост и стал смотреть, как горит костер, а солнце в это время садилось на западе. Над Римом.
Он углубился в лес. Но за ним присматривал какой-то неизвестный бог. Бог, который и благословляет, и проклинает одновременно.
Через какое-то время Люций заметил среди деревьев белую тень. Он вышел на прогалину, наполненную последними косыми солнечными лучами, падавшими из-за деревьев, и там, в этом прекрасном свете, стояла Туга Бин, щипавшая сладкую темную траву. Она все еще была оседлана, и Люций похолодел, когда заметил вонзившуюся в седло стрелу.
Он подошел и дал раненой лошади ткнуться носом в руку. Он очень осторожно приподнял седло, и сердце его запело, потому что, к своему несказанному облегчению, он увидел, что стрела всего лишь пробила кожу седла.
Туга Бин в своей невинности не получила даже царапины! И это было справедливо. Какое отношение эта ласковая серая кобыла имеет к людским жестокости и вероломству?
Он положил руку на ее широкую, крепкую спину, прижался щекой к шкуре и нетвердым голосом вознес благодарности; потом не выдержал и снова разрыдался. Туга Бин оглянулась на этот эмоциональный взрыв с некоторым удивлением и положила ему на руку свою влажную морду. Потом отвернулась и снова стала щипать сладкую, прохладную траву. Слишком уж она была вкусная, чтобы не воспользоваться случаем.
Помолившись, Люций снял седло, сломал стрелу, выдернул шипастый железный наконечник и забросил его подальше в заросли. Он снова оседлал лошадь, подтянул подпругу, перекинул назад поводья, взлетел в седло, потрепал длинную серую шею Туга Бин и ласково, но решительно оторвал ее от травы. Она сердито фыркнула, но Люций сжал ее бока и заставил двинуться вперед.
— Ты и я, девочка моя, — пробормотал он. — На закат.
К следующему полудню, под палящим солнцем, Люцию пришлось еще раз обнажить меч.
Он ехал по узкой тропинке, мимо рощи каменных сосен, и тут перед ним возникли трое. В первый миг они удивились так же сильно, как и он, но тут же лениво улыбнулись один другому и перегородили тропинку.
— Неплохая лошадка, — медленно протянул один, прищурившись и ухмыльнувшись.
— Неплохая, — согласился Люций. — И направляется туда, куда и я.
— Клянусь гигантскими золотыми яйцами Юпитера — ты не ошибся?
— Нет.
— Ну-ну.
— Вот у нас лошадок нет, — вступил второй, придвигаясь ближе к Люцию.
Туга Бин тряхнула длинной серой гривой.
— Я заметил, — отозвался Люций.
Все трое очень загорели, а зубы у них совсем сгнили. Третий медленно вытянул кинжал и, ухмыляясь, провел им по своим длинным, сальным волосам.
Люций по очереди посмотрел каждому в глаза и сказал:
— У меня нет на это никакого желания. Прочь с моей дороги.
Второй бандит отступил на шаг и тоже вытащил кинжал из-под туники.
Тот, что стоял ближе всех, угодливо склонил голову, не двигаясь с места.
— Всенепременно, ваша светлость. Сразу же, как только избавим вас от этой славной бронзовой кирасы. И от шлема, и от меча, и от щита, и от кинжальчика. А, и, конечно же, от лошадки, и от всего прилагающегося к ней снаряжения. — Он ухмыльнулся беззубым ртом и вытащил длинный меч из ножен, болтавшихся за спиной. — А уж тогда мы уберемся прочь с вашей…
Он так и не закончил фразу. Люций в мгновенье ока выдернул из ножен кавалерийский spatba, заставил Туга Бин сделать пару шагов вперед и взмахнул им в воздухе, с усталой раздраженностью повторив:
— Оставьте меня в покое.
Блестящее лезвие меча полоснуло бандита по горлу, он качнулся вперед и упал на крестец лошади Люция. Голова болталась на шее, удерживаясь лишь лоскутом кожи — такой искусный удар он нанес. Кровь, хлынув, залила серые бока Туга Бин. Потом труп соскользнул с лошади и рухнул в пыль.
Люций даже не пришпорил Туга Бин, чтобы заставить ее перейти на рысь. Она шла шагом, а оставшиеся бандиты смотрели ему вслед, и он знал, что они не осмелятся наброситься на него.
И он ехал вперед весь этот жаркий день. Он ничего не чувствовал, разве что кровь бандита, запекшуюся коркой на его обнаженной правой руке. Он даже не остановился, чтобы умыться или почистить меч перед тем, как убрать его в ножны, или протереть бока Туга Бин. Его больше ничего не волновало.
Небо было залито кровью, и кровь эта не была невинной. Опустились серые сумерки, а он все ехал на запад. Туга Бин озадаченно замедлила шаг, когда наступила ночь, но всадник не собирался останавливаться, и она легкой иноходью пошла дальше. За его спиной взошла луна, похолодало, несмотря на позднее лето — все же они находились в Аппенинских горах. Один, только один раз они услышали волчий зов на высоких горных перевалах, ведущих на север. По холке кобылы пробежала дрожь — дрожь первобытного, инстинктивного страха. Но они ехали дальше.
Они поднялись по тропинке вверх и там, залитый лунным светом, на скале стоял человек. Он стоял безмолвно, в ореоле бледного лунного света, как мифическое существо. Офицер с разбитым сердцем осадил лошадь и остановился. Он был готов к любому ужасу и откровению, что могли возникнуть из тьмы этого мира — или того.
Всадник и человек на скале смотрели друг на друга, а лунный свет заливал их и эту пустынную горную дорогу, и единственным звуком было медленное, глубокое дыхание лошади. Человек на скале был одет в длинное облачение из грубой шерсти, может быть, серое, может быть, коричневое — оттенки были неразличимы в сером лунном свете. Облачение было подвязано на поясе веревкой, а капюшон он снял, обнажив голову. У него были длинные растрепанные волосы, а всклокоченная борода доходила едва не до талии. Он держал в руках длинный посох, увенчанный простым аскетичным деревянным крестом. Глаза его в лунном свете сверкали, не отрываясь от глаз офицера с разбитым сердцем, но тот выдерживал этот взгляд, не дрогнув. Человек — или отшельник, или безумец — не шевелился. Лишь тяжелый подол его потрепанного одеяния иногда слегка колыхался под дуновением ветерка, но тут же успокаивался. Тень этого безмолвного посланца с его посохом и крестом падала на горную дорогу, ломаная и рваная из-за усыпавших землю камней, но все же вполне узнаваемая — человек, держащий крест. Ноги его так же твердо упирались в землю, как и посох.
Казалось, что прошло много времени в безмолвной ночи, а двое мужчин, двое беженцев из людского мира, глубоко заглядывали в души друг друга и ничего не говорили. Наконец неподвижность нарушилась, хотя и не молчание. Старик на скале поднял костлявую руку и прикоснулся кончиками пальцев сначала к сердцу, потом к губам, а потом ко лбу. Затем он вытянул руку, так что она оказалась над головой солдата, и начертал в воздухе невидимый крест. Рука его упала, и солдат и старик — или отшельник — опять стали смотреть друг на друга, не произнося ни слова. И вот офицер отвернулся, посмотрел на лежавшую впереди, омытую лунным светом дорогу, несильно сжал бока Туга Бин и тронулся с места.
Этой ночью он почувствовал, что невыразимо устал, словно бы за какой-то час постарел на десять, а то и двадцать лет. На следующую ночь он уснул в своей окровавленной одежде, завернувшись в лошадиную попону, под кряхтящим каменным дубом. Звезды мерцали сквозь крону дерева, а во рту ощущался вкус пыли, предательства и крови.
Проснулся он перед рассветом, когда последние звезды таяли на небосклоне, и спустился к реке, чтобы умыться. Он разделся догола и вошел в ледяную горную воду по пояс, потом нырнул с головой и вынырнул, задыхаясь и тряся черными кудрями, с которых текло, протирая глаза и набирая полный рот чистейшей воды.
Он закрыл глаза и простер руки к чистому, раннему утреннему солнцу, еще оранжевому на горизонте, и мысленно поднялся к небесным вратам, и стал молить Изиду, и Митраса, и Христа, и всех невозмутимых богов, чтобы они смыли с него кровь. Он не открывал глаз, словно боялся, что если откроет их и снова взглянет на смертный мир, то увидит, что стоит в реке, воды которой навеки окрасились в ржавый цвет, оскверненные грязью, и предательством, и кровью.
Он снова и снова погружался в ледяную воду, тер руки и лицо, плечи и грудь до тех пор, пока они не покраснели от холода.
И тогда он вышел на берег, взял за поводья Туга Бин и завел ее в ледяную воду. Она тоненько заржала, когда вода омыла ей живот, сердито запрокинула голову и обнажила зубы. Но он держал ее крепко и заводил все глубже, пока чистая горная вода не покрыла ее спину и не омыла ее, сделав снова чистой и серой. Они вернулись на берег, и как могли, отряхнули с себя воду, чтобы обсушиться. Люций оделся, оседлал Туга Бин и сел на нее верхом. Он пристегнул ремень с ножнами и передвинул меч на правый бок. А потом задумался.
Через какое-то время, медленно, словно в полусне, точно не в состоянии поверить в собственный поступок, он снова соскользнул с лошади. Отстегнул ремень и подошел к берегу. Взял ремень, раскрутил его над головой и швырнул вместе с ножнами и мечом на глубину. Он утонул немедленно. Люций поднял щит за край, обитый сыромятной кожей, и отправил его вслед за мечом. То же самое проделал он с бронзовой кирасой и дорогим шлемом. Потом повернулся, выдернул копье из земли и высоко метнул его. Копье со свистом рассекло воздух, тихо нырнуло в глубокую, темную воду и утонуло. Оставшись в сандалиях, белой льняной тунике и кожаной куртке, Люций снова сел верхом на Туга Бин и начал спускаться вниз с горного склона.
Примерно в это же время, несколькими милями севернее, Аттила проснулся под тем же утренним солнцем. Он сел, потер глаза, посмотрел на свежий утренний мир, сверкающий от росы, как лезвие меча, и улыбнулся. Потом лениво поднялся на ноги и осмотрелся.
Рядом, на опушке, на теплом, обращенном к югу склоне, стояла ферма. Аттила привязал мула к дереву и беззвучно подкрался к постройкам. Ставни были нараспашку, из сумрачной комнаты доносился сочный мужской храп. Аттила тихо вошел в невысокое помещение, служившее амбаром, и терпеливо подождал, пока глаза привыкнут к темноте. И удовлетворенно ухмыльнулся. На колышке на противоположной стене висела длинная прочная веревка, а в углу стояла алебарда с прочным на вид изогнутым железным наконечником.
Мальчик завязал веревку скользящим узлом и удовлетворенно кивнул. Это отлично подойдет. Он перекинул ее через голову и левое плечо, чтобы она не мешала выдернуть меч правой рукой. На противоположную сторону ремня прицепил нож для обрезки деревьев. Прихватил плоский точильный камень, лежавший на скамье, и мешок из дерюги. Потом поднял алебарду, довольно ухмыльнувшись, когда ощутил ее вес, вышел наружу и снова уселся на мула, положил алебарду на правое плечо и начал спускаться вниз по горному склону.
Там, в горах, они не знали, что происходит в большом мире. Но стоило Люцию спуститься на равнины, на богатые фермерские земли в долине Тибра, он увидел, какое опустошение произвели готы — настоящие готы — в своем праведном гневе.
Ферма за фермой были выжжены до основания. Золотые поля спелой кукурузы, готовые к сбору урожая, были втоптаны в грязь сотнями тысяч лошадиных копыт. Фруктовые сады вырублены и сожжены, скот зарезан либо забран готами и угнан прочь.
Местность осиротела. Люди бежали. Он видел лишь бродячих собак, визжащих среди сожженных домов, ворон и коршунов, круживших над ними и пожирающих трупы коров и овец.
Приближаясь к Риму, он видел редкие группки людей у обочин дороги. Целая семья, скучившаяся около единственной тележки, посмотрела на него расширенными, пустыми глазами. Ему казалось, что сердце его сейчас разорвется от жалости, но что он мог поделать?
И вот он увидел город на семи холмах и огромное войско готов, раскинувшееся лагерем вокруг. Как и все варварские народы, готы не делали различий между солдатами и штатскими.
Если они выступали, то выступали всем племенем: мужчины, женщины, дети — все вместе в своих крытых повозках. А когда разбивали лагерь, то делали это, как многочисленная нация — вот как сейчас, на всех полях вокруг Рима.
Город с миллионным населением окружила и словно спрятала темная тень сотен тысяч готов. Рим голодал.
Люций сел и хорошенько подумал. А потом тронулся дальше.
Армия готов была непобедима. В Италии не осталось римских сил, что осмелились бы столкнуться с ними. И между ними и сияющими сокровищами Рима оставались только стены и ворота самого города.
Аларих, проницательный христианский вождь народа готов, несколько дней назад отправил к императорскому двору и Сенату Рима гонцов, подчеркнуто сокрушаясь о смерти своего благородного противника, полководца Стилихона, и требуя четыре тысячи фунтов золота за то, что он уйдет из Италии.
Сенат ответил с нелепым презрением. «Вам не победить нас, — заявили они. — Мы значительно превосходим вас числом».
Аларих послал им лаконичное сообщение в стиле, так любимом когда-то спартанцами, а теперь — грубыми германскими народами. «Чем гуще сено, — гласило оно, — тем легче сенокос».
И повысил требования. Теперь он хотел все золото города, и все серебро, и всех рабов варварского происхождения. Требования были вопиющими, и сенаторы так и заявили. «Что же останется нам?» — негодующе спрашивали они.
И снова ответ был краток: «Ваши жизни».
Но все-таки, хотя никто не мог противостоять в открытом бою Алариху и его всадникам, вождь варваров понимал, что у него нет умения держать осаду. Рим мог удерживаться месяцами, а осаждающие, как это часто происходило, вскоре окажутся в той же ловушке, будут страдать от голода и болезней, как и осажденные. И поэтому Аларих увел своих людей от стен Рима и направился в Остию, римский порт, куда приходили из Африки и Египта большие суда, груженые зерном. Он разграбил Остию, и оставил ее разоренной, и сжег большие зернохранилища, и утопил в гавани огромные неуклюжие суда. И Рим начал голодать.
Аларих вернулся к стенам Рима и стал дожидаться неминуемой капитуляции, которая должна была скоро последовать.
Высокий светловолосый воин оперся на свое копье возле палатки и прикрыл ладонью глаза от солнца. Через поля ехал человек, без доспехов, без оружия, на прекрасной серой лошади. Из-под копыт лошади, изящно ступавшей по земле в сторону лагеря готов, вылетали небольшие струйки пыли.
Люций не смотрел ни направо, ни налево. Он ощущал у себя над головой знак, сделанный лунной ночью в горах отшельником на скале. Сердце его было таким же твердым, как и руки. Он ехал мимо первых войлочных палаток готов в сторону Рима.
Все больше и больше копейщиков выходили из своих палаток, чтобы посмотреть на него. Некоторые окликали его рассерженно, некоторые растерянно, кто-то смеялся.
— У тебя к нам сообщение, незнакомец?
— Что у тебя за дело?
— Отвечай!
Люций ехал через лагерь. Возле палаток у костров сидели, скрестив ноги, жены воинов, помешивали варево в котелках или кормили грудью младенцев. В грязи бегали ребятишки, некоторые останавливались и смотрели на странного чужака верхом на серой кобыле. Один малыш едва не попал под копыта Туга Бин, и Люций натянул поводья, чтобы не задеть его, а потом тронулся дальше. И вот ему перегородили путь четверо всадников, направивших на него свои копья.
—
Hva pat waetraeth?
Он остановился перед ними. Они смотрели на него спокойно, без опаски, копья держали свободно, но уверенно. Их синие глаза не дрогнут. Это не бандиты, которых можно прогнать взмахом меча. Да и меч он выбросил.
— Вы говорите на латыни?
Всадник справа кивнул.
— Немного. — Он провел рукой по губам. — Достаточно, чтобы велеть тебе убираться.
Люций покачал головой.
— Я не уйду. У меня дело в Риме.
Всадник усмехнулся.
— У нас тоже.
Второй всадник, на норовистом коне, с горящими от дерзости римлянина глазами, сильно дернул поводья и сердито произнес:
—
Tha sainusai metbtana, tha!
Всадник справа, со спокойной улыбкой, но твердыми и решительными глазами, наклонился вперед. Он положил мускулистые руки с надетыми на них бронзовыми браслетами на луку седла и небрежно бросил:
— Мой друг Видуза начинает сердиться. Он говорит, ты должен уйти. Или…
— Я не вооружен.
— Значит, мы сдернем тебя с лошади и вышибем тебе зубы. Но ты не проедешь в Рим через наш лагерь без…
— Я проеду в Рим, — ответил Люций спокойным, недрогнувшим голосом. — У меня там дело, которое невозможно отложить.
Раздался бешеный грохот копыт, и по спине Люция прошла дрожь в ожидании холодного укуса меча или стрелы. Но ничего не произошло. Рядом с ним остановился еще один воин. Судя по тому, что первая четверка отступила и стала поглядывать уважительно, Люций решил, что новоприбывший из знати. Он глянул влево. Незнакомец был обнажен по пояс. Когда он натянул поводья, мускулы на руках взбугрились. Волосы его были длинными и светлыми, а глаза колко смотрели на Люция. При нем не было никаких признаков высокого положения, но сама атмосфера власти и могущества угадывалась безошибочно. Он рявкнул на четверых воинов, и они робко отвечали ему, опустив копья. Новоприбывший перенес все внимание на Люция. По-латински он говорил примитивно, но понятно.
— Ты римлянин? Отвечай!
— Был.
Гот нахмурился. Его конь приплясывал в пыли. Воин так свирепо дернул поводья, что голова коня повернулась и едва не ткнулась в ногу, но пляски прекратились.
— Был? — прохрипел он. Его низкий голос звучал хрипло, но властно. — Разве мужчина может менять племя? Разве римлянин может перестать быть римлянином? Разве гот может стать саксом или франком? Разве мужчина может обесчестить отца и мать, или свой народ? Отвечай.
— Меня зовут Люций, — ответил он. — Я из Британии.
— Британия, — повторил пришелец. — Там дожди.
— Иногда.
— Часто. Всегда. Но трава зеленая. Отвечай.
Люций кивнул.
— Трава зеленая.
Воин неожиданно ухмыльнулся из-под густых усов и махнул рукой на стены Рима.
— После того, как Рим сгорит, — заявил он, — мы придем в Британию. Наши кони будут пастись на зеленой траве.
Люций мотнул головой.
— Трава в Британии — для моего народа. Наша земля.
Ухмылка воина исчезла так же внезапно, как появилась. Он подъехал вплотную к Люцию и внимательно уставился на него.
— Ты не боишься, Бывший Римлянин?
Люций снова мотнул головой.
— Не боюсь.
— Почему не боишься? Мы убьем тебя. Отвечай.
Люций вспомнил слова греческого философа: «Как замечательно, должно быть, обладать такой же властью, как ядовитый паук». Но Люций был не из тех, кто заимствует чужие слова. Он сказал свои, простые и правдивые:
— Я не боюсь, потому что я не враг вам. Вы не убьете меня. Я проеду в Рим. У меня там дело. Потом я поплыву домой, в Британию.
— Где зеленая трава?
— Где зеленая трава.
Воин еще немного посмотрел в глаза Люцию. Люций не моргал и не отводил взгляда.
— Ты странный, Бывший Римлянин, — сказал, наконец, гот.
— В этом я не сомневаюсь, — ответил Люций.
Тогда воин отъехал в сторону, обвел рукой своих людей и заорал на них на языке готов. Они расступились, и Люций проехал между ними.
Несколько сотен ярдов отделяло периметр лагеря готов от стен Рима, на достаточном расстоянии от выстрела с обеих сторон. Люций въехал в тень Porta Salaria и прокричал, что желает въехать. Никто не задал ни одного вопроса, и дверь в тяжелых дубовых воротах открылась почти без промедления. Он спешился и прошел внутрь, ведя за собой Туга Бин. Сначала он удивился, почему все прошло так легко, но увидел часового у ворот, и недоумение исчезло. Часовой умирал от голода. Глаза его ввалились и покраснели, а волосы выпадали пучками. Вокруг рта засохла слюна, а губы усохли и съежились. В таком состоянии человек не может нормально соображать. Город находился в отчаянном положении.
Люций вел лошадь вдоль улиц. Вокруг стояло зловоние от голодающих, немытых и, что всего ужаснее, непогребенных тел. Он видел людей, сбившихся в кучки на углах улиц или в тени потемневших переулков, некоторые вытягивали костлявые руки, умоляя о милостыне. Он остановился всего лишь раз, когда наткнулся на тело ребенка лет четырех-пяти, закутанное в лохмотья. Лицо казалось пергаментным, глаза закатились, мухи уже сидели на ввалившихся губах и расслоившемся носе. Этому ребенку столько же лет, сколько и его собственному…
Он скорбно склонил голову и понял, что не может идти дальше. Он отпустил Туга Бин, наклонился и поднял мертвое тельце. Он закрыл ему личико — невозможно было определить, мальчик это или девочка — и положил легкое, как перышко, тельце на обочину, смахнув мух и прикрыв искаженное, пепельное личико углом изодранного плаща. Этого недостаточно, этого всегда недостаточно, но это все, что он мог сделать. И они с Туга Бин пошли дальше.
В целом городе стояла зловещая тишина, разве только иногда доносился долгий, едва слышный вздох, словно город приготовился к смерти. Трупы лежали повсюду, и над ними вились тучи мух. Еще стоял август, и в такую жару Болезнь скоро объявится, наступая на пятки своему возлюбленному жениху, Голоду, чтобы добавить бедствия Риму.
Люций и Туга Бин с полчаса шли по оголодавшим, призрачным улицам. Собравшиеся группки умирающих начинали волноваться и о чем-то говорить, когда они проходили мимо, глядя сверкающими, безумными глазами на упитанные бока Туга Бин. Люций потрепал ее по носу.
И наконец они добрались до Палатинского Холма, до ворот императорского дворца. Часовые здесь, похоже, питались лучше. Он потребовал впустить его, сказав, что пришел от наместника Гераклиана, от колонны, ушедшей в начале месяца в Равенну, и назвал верный пароль. Ждать пришлось долго, но его все же впустили. Он настоял на аудиенции у принцессы Галлы Плацидии, сказав, что у него для нее тайное сообщение от самого наместника Гераклиана. Велели подождать, и он прождал два часа. Он ждал до вечера. Но потом ему сообщили, что принцесса Галла примет его.
— Присмотри за моей лошадью, — крикнул Люций через плечо. — Пока я за ней не вернусь.
Они дали слово.
Четверо вооруженных гвардейцев провели его в Палату Императорских Аудиенций, и там, на королевском великолепии трона из отборного каррарского мрамора, сидела принцесса Галла Плацидия. Рядом с ней стоял евнух Евмолпий.
Принцесса перевела на Люция свои светлые глаза, долго смотрела, потом произнесла:
— Значит, Гераклиан в Равенне, в безопасности.
— Да. Вместе со своей любимой палатинской гвардией. — Солдат говорил странным, язвительным тоном.
— Обращайся к Трону «ваша светлость», — прошипел Евмолпий.
Люций повернулся и твердо посмотрел на него. Потом снова обернулся и с той же твердостью взглянул на принцессу, не добавив ни слова.
Галла была поражена, но не выдала этого. Принцесса не смеет показывать свои чувства, потому что это слабость; она не имеет права повышать голос и должна всегда ходить одинаково величавой походкой, словно держит на голове кубок с водой.
Кроме того, возможно, что этот грязный, растрепанный, босоногий солдат, чье зловонное присутствие она должна терпеть ради связи с этим глупцом Гераклианом, получил солнечный удар, или ослаб от голода или еще чего-нибудь. Неважно. Один раз дворцовым этикетом можно пренебречь. Она хотела знать только одно:
— А остальная колонна?
— Погибли.
Она кивнула.
— А мальчик-гунн?
— Кроме мальчика. Он теперь свободен.
Она улыбнулась.
— Как ты это выразил.
Люций кивнул.
— Должно быть, сейчас он довольно далеко на пути к своему народу.
Галла растерялась.
— Ты хочешь сказать… к своим предкам?
— Нет, я имею в виду его народ. Там, на равнинах Скифии. Это достаточно понятно?
— Ваша светлость! — вскричал Евмолпий, подхватывая свои юбки и выбегая на середину палаты. — Его наглость возмутительна! Ты должен отречься… — он повернулся к ненормальному солдату, осмелившемуся обратиться к Императорскому Трону таким манером, — ты должен отречься… — Не совсем понимая, от чего именно должен отречься солдат, евнух сердито вскинул руку.
— Ударь меня, — спокойно сказал солдат, — и я сломаю тебе шею.
— О! — завопил Евмолпий, пятясь. — Ваша светлость! Стража!
Но принцесса Галла махнула гвардейцам, отсылая их прочь.
— Принесите этому человеку вина.
— Мне не нужно твое вино, — сказал солдат. — Меня от него вырвет.
Лицо Галлы в первый раз дрогнуло: на нем отразились сразу и неуверенность, и гнев. Она заговорила все с тем же колебанием:
— Что ты должен сообщить мне, солдат?
Люций смотрел на нее, не мигая.
— И если сатана сатану изгоняет, — произнес он, — то как же устоит царство его? Ибо он разделился сам с собою. Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, стих двадцать шестой.
Евмолпий вернулся к своей госпоже, и они оба уставились на странного, обезумевшего от солнца солдата.
Наконец Галла снова заговорила. Ее кожа и светло-рыжие волосы казались сегодня бледнее, чем обычно.
— Ты говоришь мне, что мальчик убежал?
— Мальчик убежал. Гераклиан и палатинская гвардия добрались до Равенны. А остаток моей центурии — всей моей центурии — стерт с лица земли. Отрядом батавской конницы с базы на Дунае, переодетым в готов. — Все это время Люций не отрывал взгляда от Галлы, а голос его от гнева делался все громче. — У меня нет для тебя сообщений от этого подонка Гераклиана, да сгниет он в аду. Я пришел сюда только для того, чтобы задать тебе вопрос. Один простой вопрос, на который, надеюсь, ты дашь мне прямой ответ. Правда ли, что все это отвратительное дело — эта резня — было просто…
— Ваша светлость! — завопил Евмолпий, который больше не мог сдерживаться. — Это неслыханно! Ты, немытый хулиган, не смей задавать вопросов ее императорскому величеству, и ты не смеешь…
Люций сделал два шага к Евмолпию.
— Заткни свое дерьмо, — велел он. — Я хочу услышать ответ от того, кто отдал приказ, а не от вонючего евнуха.
— Стража! — завопил Евмолпий. — Арестовать этого человека!
На этот раз принцесса была так потрясена, что не остановила их. Двое дюжих дворцовых гвардейцев больно заломили Люцию руки за спину, но, похоже, тот даже не заметил этого. Он не отрывал взгляда от белого, как фарфор, лица Галлы.
— Если ты не ответишь, — говорил он, пока его волокли прочь от трона, — я решу, что мою центурию уничтожили по твоему приказу, как часть заговора, а мальчик-гунн послужил наживкой. Я прав?
Галла ничего не ответила, но ее нижняя губа дрожала, и она стиснула белый кулачок ладонью другой руки.
— Я прав? — проревел Люций, и его голос оглушающим эхом отразился от стен палаты.
И опять он ничего не услышал в ответ. На троне молчали, пораженные ужасом.
— Тогда я буду молить Господа, чтобы ты понесла за это наказание, — сказал Люций, опять тихим, но очень ясным голосом. — И чтобы род Гонория вымер.
Это было для Галлы чересчур. Она вскочила на ноги, утратив все королевское достоинство и величавость, и отчаянно закричала:
— Уберите его отсюда! Выпороть его — и казнить в течение часа! — И Люция выволокли из комнаты.
— Так, значит, гунны не придут? — проблеял Евмолпий, когда дерзкого солдата увели.
Галла, все еще дрожа, села на место.
— Если этот безумец сказал правду, гунны не придут. План провалился.
— И что нам теперь делать, ваша светлость?
Галла злобно нахмурилась.
— Придется вести переговоры с готами. Завтра же, на заре.
— А как же мальчишка? Мы ведь не знаем, что ему на самом деле известно. И если он доберется до Скифии — маловероятно, я понимаю, но если — и все расскажет, мы обретем смертельного врага в лице гуннов.
Галла метнула в Евмолпия такой взгляд, что тот съежился.
— Убей его, — сказала она. — Разошли приказы. Прочешите всю Италию и всю Паннонию, до самых берегов Дуная. Он должен исчезнуть. Он не должен уйти. От этого зависит судьба Рима. Найди его. И убей его.
После десяти плетей сыромятным хлыстом с узлами по его спине струилась кровь. После тридцати плетей плоть на спине стала отслаиваться лентами, и он потерял сознание. К тому времени, как порку закончили, сквозь плоть белели ребра.
Он не увидел появления в его камере двух офицеров-палатинцев и не услышал их приглушенного разговора с тюремными часовыми. Он не слышал, как они говорили:
— …из колонны Гераклиана… единственный уцелевший… Боже праведный… не из нашего отряда, чтобы задавать ему вопросы… это будет преступлением… никто никогда не узнает.
Потом те же двое гвардейцев, что привязывали его и пороли плетьми, ухаживали за ним все три дня, что он без движения пролежал на животе. Он попытался поговорить с ними, но они велели ему молчать. Они сказали, что знают, кто он такой, и что его не казнят. Он пробормотал, что за неповиновение им самим грозит смерть. Они пожали плечами.
Они зашили ему раны там, где для этого осталось достаточно кожи, и обмывали его каждый час, днем и ночью. Иногда офицеры из Палатинской Гвардии заходили в его камеру и осматривали его, не говоря ни единого слова. Потом офицеры уходили. Их тоже могли приговорить за это к смерти.
Гвардейцы перевязывали его тонкими льняными бинтами и делали ему припарки из антисептических трав, таких, как чеснок и норичник, известных тем, что они предотвращают проникновение в открытую рану ядовитых испарений из зараженного воздуха, и тогда плоть даже молодых и здоровых превращается в вонючую массу, подобную сгнившему фрукту.
Он был сильным. На третий день он настоял на том, чтобы сесть, но после этого некоторые швы разошлись и снова начали кровоточить. Они отругали его, и сказали, что он тупоголовый дурень, и снова
уложили его, и поменяли повязки, и снова зашили раны, и положили новые припарки из трав.
Он лежал на животе и жаловался, что ему это надоело.
Они ворчали и не слушались.
Прошла еще неделя, и он понял, что действительно может встать. И он стоял, качаясь, в промозглой камере, чтобы доказать это.
— Но никаких путешествий! — сказали ему.
— Прочь с дороги, — ответил он.
— Нет, — сказали они. — Мы не желаем, чтобы наши труды пошли насмарку. Ты еще не окреп. Тебе нужна еще хотя бы неделя.
Он предложил более крупному из них побороться на локтях, чтобы доказать, что вполне окреп. Они отказались. Он начал спорить. Он спорил больше получаса, и в конце концов им показалось, что это они страдают от истощения.
И тогда они устало покачали головами и открыли двери камеры.
— И мою лошадь, — потребовал он. — Туга Бин.
Оба часовых тревожно переглянулись и посмотрели на него.
— Ты это серьезно?
— Да.
Они покачали головами.
— Ты привел лошадь в умирающий от голода город и надеешься увести ее отсюда? Ты уже достаточно пожил на свете, чтобы не рассчитывать на это, со всем нашим уважением, офицер.
Люций уставился на них.
— Часовые у ворот дали слово.
Они пожали плечами.
— Слова, слова… — сказал один.
— Когда скуднеет еда, скуднеет и дружба, — добавил второй.
Люций еще немного посмотрел на них. Потом отвернулся, и они увидели, как он с трудом поднимается по узкой лестнице. Вдруг он остановился и негромко окликнул:
— Спасибо вам обоим за все. Я ваш должник.
— Сумасшедший, — откликнулись они. — Уноси ноги.
8
Еще не все рухнуло
Стояла ночь. Он прислонился к стене и попытался усилием воли успокоить гул крови в голове. Он глухо застонал и потерся лбом о раскрошившуюся древнюю стену. Вокруг стояло зловоние, в куче тряпок рядом с ним что-то булькало, но он даже не оглянулся.
Надежды могут лгать, но ничто не обманывает так сильно, как отчаяние. Отчаяние — вот самая подлая трусость.
Он с усилием выпрямился, ощущая, как натягиваются швы, набрал полную грудь зловонного воздуха, оторвался от стены и пошел.
В соседнем переулке он наклонился, закрыв нос рукой, и потянул за тюк лохмотьев. Оттуда выкатился истощенный труп с открытыми глазами, почти лысый череп глухо и страшно стучал по земле, словно стал полым от голода. Он снова сильно встряхнул тряпки, из них в писком выбежала крыса. Они уже выели живот у трупа.
Он натянул черный, вонючий саван себе на плечи, наполовину закрыв лицо, и еще одну тряпку повязал вокруг головы, как пират, и нетвердой походкой направился к восточным воротам Палатина.
Часовой увидел, как он подходит.
— Ответ «нет»! — прокричал он. — Убирайся!
Люций подошел ближе.
— Сделаешь еще шаг, и я всажу тебе меч в кишки!
— Поделитесь корочкой с несчастным голодающим горожанином, — прохрипел Люций, и собственный голос показался ему самому надтреснувшим и отвратительным.
— Ты меня слышал. Убирайся.
— Кусочек хлеба или немного конского мяса?
Часовой не ответил.
Попрошайка немного выпрямился, и часовой посмотрел на него настороженно, но с любопытством.
— Сколько тебя платят, солдат?
Солдат принял оборонительный вид.
— Ты и сам знаешь. Нам не платили шесть месяцев. Но по крайней мере мы все еще…
— А жена и дети есть?
— И жена, и ребенок. Хотя в эти дни и это излишество.
— Разве они не голодают?
— Послушай, я тебе уже сказал — я не собираюсь спорить с тобой…
— А сколько ты мог бы получить за упитанную серую кобылу в твоей конюшне, если продать ее на мясо? Упитанная серая кобыла, отъевшая брюхо на сочной летней траве, с атласными боками, лоснящимися на солнце? — Попрошайка выпрямился в полный рост. — Ответь мне, солдат.
Часовой нахмурился.
— Ты знаешь, что бы я мог за нее получить. Все, чего, черт возьми, захочу, и еще немного. Но откуда…
— А сколько ты получил за мою кобылу? — Грязный саван соскользнул с плеч попрошайки, он сдернул тряпку с головы, и часовой узнал его. — Сколько ты получил за мою Туга Бин?
Люций был без оружия, но он с угрожающим видом шагнул вперед, и часовой попятился. Он проскользнул за ворота и захлопнул дверь.
— Ты ублюдок, — негромко сказал Люций. — Вероломный ублюдок. И пусть все то золото, что ты получил, принесет тебе только горе.
Он повернулся и пошел вдоль по Via Palatina, залитой лунным светом, безлюдной, оголодавшей, уже населенной призраками своего былого величия.
Он прошел не больше сотни ярдов, когда услышал крик от караульной будки. Люций заколебался, не зная, стоит ли оборачиваться. Все-таки обернувшись, он увидел стоявшего в конце улицы человека, а рядом с ним стояла серая кобыла, уже оседланная и взнузданная.
Человек держал ее за поводья. Кобыла вскинула голову и негромко заржала. Люций содрогнулся от наплыва эмоций. Он поспешно вернулся обратно и протянул руку, в которую ткнулся лошадиный нос. Кобыла от счастья прядала ушами.
Люций посмотрел на часового.
— Ну ты и дурак. Мог бы получить за нее годовое жалованье золотом.
Часовой пожал плечами.
— Может, да, а может, и нет. — И уставился в землю. — Золото за год — и всю жизнь плохо спать.
Люций крепко пожал ему руку.
— Спасибо, — сказал он с таким порывом, что часовой вздрогнул. — Спасибо тебе.
И он ступил на каменный столбик у стены, схватился за переднюю и заднюю луку седла и осторожно сел на широкую спину Туга Бин. Еще раз кивнул часовому и тронулся с места.
Еще не все лгут; еще не все рухнуло. Может быть, великий Рим и падет, но падет не все.
— Будь осторожней, слышишь? — крикнул вслед часовой. — Мы живем в очень странное время.
Так и есть, подумал Люций. Так и есть.
Он добрался до западных ворот города, проехал под лунными лучами сквозь лагерь готов, и сидел так прямо и уверенно, что те, кто бросил ему вызов раньше, не решились сделать это сейчас, видя его безмолвие. Кто-то сказал, что это призрак. Никто не осмелился остановить его мечом или копьем.
Он ехал вдоль берегов широкого Тибра и видел сытых летучих мышей, скользивших в темноте над поверхностью воды в погоне за мошками и комарами, и думал, что теперь летучие мыши питаются лучше, чем люди. Наверняка боги наказывают Рим. Он ехал в сторону порта Остии. На заре он остановился, чтобы искупаться в реке, но, передумав, снова сел верхом и поехал дальше, пропотевший и уставший. Как можно очиститься в реке, где плавают умершие от голода?
Солнце поднималось над большими каменными складами и громадными причалами Остии, но многие из них теперь лежали в руинах, почерневшие от рук захватчиков-готов. В гавани на спокойной воде еще были видны мачты и затонувшие останки огромных африканских кораблей с зерном. Людей было мало. Те, что попадались на пути, смотрели на него с опаской и ни о чем не спрашивали. Там, где раньше в течение столетий восход солнца видел, как на работу в порт прибывали тысячи рабочих, сейчас шли лишь несколько человек. Корабельные плотники и шипчандлеры, конопатчики, парусные мастера и чинильщики сетей исчезли. И купцов и торговцев, тех, кто прибывал сюда со всего Средиземноморья и привозил драгоценный мрамор и порфир с востока для домов и монументов Рима, и египетские лен и хлопок, и фрукты и пряности из Леванта — их тоже не было. Куда исчезли сотни разных языков, на которых перекались из-за цен — с раннего утра начинался здесь многоязычный галдеж? Где все матросы с лихтеров и стивидоры, толкавшие деревянные бочки, разгружавшие судно за судном от шелков и льнов, мешков с зерном, слитков серебра и олова? И тяжелые связки мехов, и баррели бесценного балтийского янтаря, и рабы из Британии, и огромные поджарые охотничьи псы из Каледонии, рвущиеся с кожаных поводков: борзые и волкодавы с зубами, как из слоновой кости, и глазами, как из балтийского янтаря?
Все это исчезло. Остия грелась под теплым и неизменным солнцем — призрак самое себя. Огромные пристанные краны с гранитными блоками и громадными дубовыми балками стояли безмолвные, почерневшие от огня, некоторые до сих пор дымились, как скорбные, угасающие драконы. Лишь редкие крики одиноких желтоногих чаек нарушали тишину.
На дальней стороне одной из мелких гаваней Люций заметил небольшое грузовое судно прямой парусной оснастки, с красным, вылинявшим от солнца и соли парусом. Он объехал булыжную стену гавани и увидел троих мужчин, грузящих на него закупоренные амфоры и ящики с фруктами. Очевидно, готы не любили сушеные абрикосы. Однако все остальное, хранившееся на складах, они уничтожили или разграбили, погрузили в свои большие повозки и увезли.
— Куда вы направляетесь? — окликнул он матросов. Они не обратили на него внимания. Люций окликнул еще раз, погромче.
Один из них поставил амфору в деревянную стойку.
— Да уж не туда, куда тебе хочется, — ответил он.
— Скажи.
— Галлия, — сказал он. — В порт Гессориак.
— Возьмите меня. Возьмите меня на север и отвезите на побережье Британии, в порт Дубрис, или Леманис, а лучше всего — в Новиомагнус.
— Деньги есть?
— Ни монетки.
Матрос ухмыльнулся приятелям: вот наглец! И помотал головой:
— Уйди с дороги. Нам еще полно всего загрузить до отплытия, и неохота пересекать Бискайский залив в сентябрьские шторма.
Люций спешился и прежде, чем они смогли его остановить, поднял на правое плечо тяжелую амфору с вином и пошел по деревянному трапу на борт. Это стоило ему таких мучений, что моряки просто не могли себе представить.
Еще незажившие раны на спине разошлись и начали заново кровоточить. Однако он не издал ни звука, не подал вида. Поставил амфору на стойку и вернулся за следующей.
Моряки переглянулись и пожали плечами.
Они думали, что будут грузиться целое утро, но благодаря помощи и силе незнакомца справились уже к пятому часу.
Капитан, то самый, что разговаривал с Люцием, облокотился на планшир.
— Так ты хочешь попасть в Галлию?
— Нет, вы хотите попасть в Галлию. Я хочу, чтобы меня высадили в Новиомагнус.
— Высадили? Да ты знаешь, что теперь значит плавание в Британских прибрежных водах?
Люций покачал головой.
— Нет, представления не имею. Это ваша работа. Но когда вы высадите меня в Новиомагнусе…
— Если.
— Когда. Там я заплачу вам пять серебряных монет прежде, чем вы отчалите в Галлию.
Капитан, понизив голос, демократично посовещался с обоими членами команды и пробурчал:
— Ладно. Только сначала сходи разберись с лошадью. Вон там, в таможне. Что получишь за нее, пойдет за первый взнос.
Люций опять покачал головой.
— Куда еду я, туда и она.
— Нет.
— Да.
— Слушай, солнышко, я капитан этого судна, а капитан корабля в море — это маленький император. Его слово — закон. Никто на этой старой дырявой посудине не пернет без моего разрешения, понял? А кони — это одна из вещей, которых я не желаю видеть на своем судне.
— Или кошек, — сказал один матрос.
— Или женщин с ихними месячными, — добавил второй.
— Или любой штуковины, сделанной из липы, — сказал первый.
— Или…
— Хватит, хватит, болтливые болваны, у нас у всех есть свои маленькие смешные предрассудки. Ваши — это кошки и обливающиеся кровью бабы, мои — кони. — Он снова повернулся к Люцию. — И мой предсрассудок подсказывает мне, что корабли, погода и лошади сочетаются так же, как вино, женщины и целомудрие. Один намек на шторм, или вдруг Юпитер рассердится и начнет метать в нас стрелы, лошади начинают в панике метаться по судну. С этими вашими конями — сплошные чертовы неприятности. Значит, хочешь сохранить свою лошадь — она с тобой остается.
— Ты просто не знаешь Туга Бин, — сказал Люций, потрепав ее по холке.
— Чистая правда. И знаешь что? Как-то я не чувствую желания знакомиться с этой очаровательной дамочкой. Так что давай вали отсюда и…
Люций шагнул на трап, ведя за собой Туга Бин.
— Если она причинит тебе во время плавания неприятности, — сказал он со спокойной решительностью, — я лично перережу ей глотку и выброшу ее за борт. Даю слово.
Капитан внимательно посмотрел на странного сероглазого любителя лошадей и понял, что тот, бесспорно, человек, чье слово кое-что значит.
— Десять серебряных монет, — проворчал он. — И ты на борту.
— Десять серебряных монет, — согласился Люций. — Когда высадишь нас в Новиомагнусе.
Моря этим поздним летом были спокойными, и плавание шло без происшествий, за исключением одного случая, когда они бросили якорь в Гадесе, чтобы взять на борт свежей воды. Оба матроса вернулись на судно, пошатываясь под тяжестью огромной амфоры.
Поставив ее и утерев пот со лба, один из них сказал:
— Рим пал. Готам открыла ворота какая-то чуткая старая матрона, которая больше не могла видеть, как люди мрут с голоду. Можно подумать, что готы собирались войти в Рим и начать чертову бесплатную кормежку. Так что они вошли и обчистили город до дна.
Ни Люций, ни капитан не произнесли ни слова. Этого следовало ожидать.
— Потом Аларих, их вождь, отправился на юг и насмерть отравился, как говорят. Грязная работа.
Люций вскинул глаза.
— Теперь готами правит его братец. Звать Атавулф. Такой же крутой, как и его старший брат, по слухам. И знаете что? Знаете, на ком он женился? Или, точнее, кто вышел за него замуж? — Он распрямил ноющую спину. — Ну, просто не знаю, в какое время мы живем. Он просто пошел, и тут его подцепила императорская сестра, вот так вот.
Люций открыл рот.
— Принцесса… Галла Плацидия? — хрипло спросил он.
Матрос ткнул в него пальцем.
— Она самая. Сестра императора, как говорили, его правая рука. А теперь она — раз! — и выдала сама себя замуж за вождя готов!
Люций опустил голову на грудь и больше ничего не сказал.
Но тем же вечером, когда судно плавно скользило по волнам, и звезды высыпали на летнее небо, и луна зашла, и золотые берега Испании исчезали за их кормой вместе с уходящей ночью, капитан и оба его матроса сидели и недоумевали, поглядывая на своего странного пассажира, сероглазого британского всадника. Потому что Люций стоял на носу старого грузового суденышка, смотрел на звезды, воздев к небесам сжатые кулаки и запрокинув голову, и смеялся, словно ему рассказали самую забавную шутку на свете.
Изворотливая портовая сообразительность не подвела матроса.
Ночью 14 августа, через 410 лет после рождения нашего Спасителя, Рим пал. Впервые за почти восемьсот лет гордая столица империи услышала на своих улицах топот варварского войска.
Они хлынули через Саларийские ворота под пение торжествующих готических труб. Многие голодающие приветствовали их, словно пришел конец их страданиям. Более того, Аларих, христианский вождь своего народа, отдал строжайший приказ: хотя все трофеи принадлежали его людям по
jus belli, ни одна церковь, ни одна часовня и никакое другое место христианского поклонения трогать никто не смел. И ни единая святая женщина тоже не подпадала под обычный
jus belli. И воины-готы, длинноволосые, усатые варвары, вели себя сдержанно и даже благородно.
Разумеется, без грабежа не обошлось, и пропали сокровища многих веков — конечно, в свою очередь их тоже отняли у более слабых колонизированных народов. Но рассказов о зверствах и пытках, каких всегда ожидаешь, когда рушится великий город, было немного, и весьма неправдоподобных. Репутация готов и в смысле военной свирепости, и в смысле определенной горделивой снисходительности по отношению к более слабым, в очередной раз подтвердилась. Рассказывали, что самые ужасные зверства, случившиеся за эти несколько судьбоносных часов, совершались не светловолосыми захватчиками, а, под прикрытием хаоса и ночи, ожесточившимися рабами, которые мстили своим жестоким господам за годы угнетений.
Дома по всей
Via Solaria подожгли, превратив в факелы, чтобы освещать армии путь в сердце города. И там, среди семи холмов, многие великие римские башни и дворцы превратились в пепел и прах. Дворец Саллюста на Квиринальном Холме, рядом с банями Диоклетиана — этот драгоценный камень архитектуры, в котором хранились несметные сокровища Нумидии, шедевры ювелиров и золотых дел мастеров, художников и скульпторов, был сожжен и уничтожен за одну ночь, а содержимое пропало навеки. Так же, видный издалека, пылал в ночи дворец баснословно богатого клана Аникиана. Повозки, нагруженные золотом и серебром, шелками, украшениями и нарядами, грохотали, выезжая из ворот в лагерь готов.
На прекрасные статуи героев Рима в Форуме накинули веревки, и пьяные, улюлюкающие всадники сдернули их наземь с пьедесталов. В яростных отсветах пожарищ эти памятники старины разбились о землю: Эней и ранние правители Рима, заслуженные полководцы Карфагенской и Македонской битв, обожествленные императоры — великие Адриан и Траян. Даже торжественная маска Цезаря расплавилась в огне, словно он был не человеком из бронзы, а жалкой восковой фигуркой…
Некоторые состоятельные горожане бежали от захватчиков, ища убежища на маленьком островке Италии, за мысом Аргентарий. Там в лесах оказалось много испуганных и голодных беженцев, все еще странно нарядных в богатые облачения и вышитые золотом далматики. Но теми летними ночами они дрожали в своих одеяниях, как нищие в лохмотьях, глядя, как за заливом пылает Рим, и все их хваленое богатство превращается в дым. Некоторые сели на суда, идущие в Африку или Египет; некоторые приняли постриг. Но никто не сумел избежать отчаяния тех дней.
В Гиппо, на африканском побережье, епископ Августин начал размышлять о значении Разграбления Рима и продумывать свой величайший шедевр — «Град Господень». Ибо город стремлений человеческих должен быть городом, который будет жить вечно — божественный Рим. Ибо нет у нас такого вечного города…
И в Вифлееме, в далекой Палестине, рыдал в своей келье Св. Иеремия, услышав о том, что мир подходит к концу. «Меня душат рыдания, когда пишу я эти строки, — сокрушался он. — Город, что завоевал мир, теперь сам завоеван».
В письме другу он также написал строчку, ставшую знаменитой во всем мире: «Чтобы восторжествовать, злу требуется лишь одно — пусть хорошие люди бездействуют».
Готы провели в городе всего шесть дней, и скрипучие крытые повозки покатились дальше, нагруженные сокровищами половины мира. Аларих двигался на юг, не удовлетворив свою жажду золота и славы. Орда готов разграбила город Капую — гордую, изнеженную и роскошную столицу Кампаньи. Даже великолепные виллы Цицерона и Лукулла на неаполитанском побережье заполонили длинноногие, длиннорукие готы — развалившись на обитых шелком ложах, они залпом осушали огромные, усыпанные драгоценными камнями кубки лучшего фалернского вина, празднуя господство над миром. В пьяном своем тщеславии эти кичливые германские воины забыли, что существуют и другие племена — в особенности одно племя — которые могут позавидовать такому легкому завоеванию Рима.
Аларих шел на юг, в Мессину, мечтая о богатых трофеях Сицилии там, через пролив. Но погода к этому времени уже испортилась, начались осенние шторма, как всегда, взошел Сириус, знаменуя начало сезона бурь и штормов, которых мореплаватели страшились с тех пор, как человек впервые решился путешествовать по владениям Нептуна. И в ту самую ночь, после восхитительного пиршества в роскошной палатке, приготовленного для него прославленным новым римским поваром, Аларих внезапно заболел таинственным видом отравления и умер. Сказать по правде, повар был подарен готу самой принцессой Галлой Плацидией…
Незадачливого творца пиршества предали смерти, так, на всякий случай. А Алариху устроили погребение, подобающее завоевателю и вождю. Его полководцы, согнав множество рабов из близлежащих городков, отвели реку Бузенцию от стен Консенции, погребли оплаканного вождя в тройном гробу в илистом русле реки и вернули реку в русло. Всех, кто трудился на погребении, убили, поэтому и по сей день точное место, где похоронен Аларих, так и не отыскали. Нет сомнений, что оно никогда и не будет найдено.
По единодушному согласию способный, энергичный, неразговорчивый младший брат Алариха Атавульф был провозглашен вождем. И готы, отказавшись от мечты (показавшейся им заранее обреченной на неудачу) завоевать Сицилию, вернулись на север, в Рим. И там, к всеобщему изумлению и язвительным насмешкам, населению города и готам вскоре было объявлено, что Атавульф, в знак достигнутой гармонии между готами и римлянами, берет в жены прекрасную принцессу Галлу Плацидию, сестру императора Гонория, безупречную девственницу в возрасте всего лишь двадцати двух лет.
9
Руины Италии
Во время этих беспокойных для Рима дней — которые, казалось, вполне могли стать для него последними, — Палатинская гвардия продолжала поиски мальчика-варвара с раскосыми глазами и щеками в синих татуировках и шрамах, пустившегося в рискованный побег по руинам Италии.
Мальчик не сдавался, даже обложенный со всех сторон.
Дряхлый мул сдох, и он украл коня. Он загнал его до смерти, и на рассвете украл другого. От зари до сумерек он покрывал сотню миль и нередко ехал ночами, продираясь сквозь густые леса Итальянских гор и спускаясь вниз, в населенные долины, только чтобы украсть что-нибудь. Он умудрялся выжить, несмотря на анархию и войну, иногда сражаясь, как загнанный в угол зверь, с бродягами, бандитами или дезертирами, жестокими и похотливыми. Он сражался, воровал и лгал, прокладывая себе путь сквозь пожары и разорение Рима, и с каждой победой становился сильнее. В эти безрассудные недели он был счастливее, чем когда-либо во все скучные и горькие годы при безопасном и благоуханном дворе Рима.
Его ожидала собственная страна: горячо любимые, продуваемые всеми ветрами равнины Скифии, широкие реки и бескрайние, густые сосновые леса, палатки из черного фетра и повозки в лагерях, разбитых его народом. Охота на вепря, охота на волков, синие небеса лета и ужасные заснеженные зимы. И он ехал со счастливым сердцем сквозь хаос и руины Италии, направляясь на север, на родину. Ничто не могло ему помешать. Ни молнии, ни бандиты, ни уличные забияки, ни голод, ни жажда, ни летнее солнце, ни зимние снега, на даже сам великий Рим. Он стал единым целым со своим отцом Астуром и бессмертными небесными богами и, убивая, чувствовал, что сможет создавать с той же легкостью и с большим наслаждением, чем уничтожает. Ибо таков путь неизвестных и переменчивых богов.
Он не всегда путешествовал в одиночку. Как-то прохладным осенним утром он проснулся и, к своему большому раздражению, обнаружил, что на лесную прогалину, где он остановился, незаметно пробрался горбатый старик. Дряхлый незнакомец склонился над его костром, подбрасывая в него своими костлявыми веснушчатыми руками сухой хворост и раздувая его заново.
Старик бесстрастно наблюдал, как мальчик выбрался из-под одеяла и схватился за меч. Он был бородатым, с крючковатым носом и глубоко посаженными глазами, с суровым лицом без капли веселья. Он заговорил, и голос его был хриплым и скрипучим, как это случается с отшельниками и пустынниками.
— Нет нужды в мече, мальчик. Не в эти Последние Дни.
Аттила нерешительно положил меч и подошел к незнакомцу.
— Как тебя зовут?
— Слуга слуг Господних.
— Это не имя.
Старик произнес раздраженно, глядя в огонь:
— Иоанн, раз это тебе так необходимо. Я, недостойный, ношу имя четвертого составителя Евангелия. — Он осенил себя крестом. — А теперь дай мне поесть.
— Еды нет.
— Ты лжешь.
Теперь разозлился мальчик:
— Я не лгу!
— А что это за отметины у тебя на лице? Что за неподобающие христианину метки, испортившие твой облик на манер самых презренных и нечестивых варваров?
Аттила потрогал шрамы.
— Мои татуировки при рождении, — ответил он. — Их нанесла мне мать час в час через десять дней после того, как перерезали мою пуповину. После того, как прошло десять дней, стало понятно, что боги не позовут меня назад, в Вечное Синее Небо.
Старик уставился на него с ужасом. Потом вскочил на ноги и вцепился в плечо мальчика костлявыми, когтеподобными пальцами. Глаза его слезились от возраста.
— Да спасет тебя Бог Израилев, и да спасут тебя все апостолы, и да спасут тебя все святые, и да вступится за тебя Богородица, и да спасет тебя от огня! Ибо ты в смертельной опасности, и ждет тебя вечный адский огонь! — Он запрокинул голову и завопил в небеса: — О Господь, будь милосерден к этой нехристианской и неисповедавшейся душе!
Мальчик с трудом вырвал руку, потому что безумный старик вцепился в него, как ястреб в свою жертву.
— Не нужен мне твой Христос, — резко ответил он.
Святой Иоанн отшатнулся, как от удара, и зажал руками уши.
— Астур, мой отец, все видит и все рассудит. И я не боюсь того дня, когда он будет судить меня!
— Что еще за дьявольское имя? Что это за демон? — вскричал святой Иоанн истерическим голосом. — Точно, что на земле демонов больше, чем птиц в небе! О, спаси нас! Не называй его имени передо мной, ибо назвать демона по имени — значит призвать его! — И он снова схватил Аттилу, на этот раз за рваную тунику. Аттила с отвращением посмотрел на него и решил не мешать напыщенным речам. — Существует демоница с тем же именем, ей поклоняются в Сирии и проводят самые грязные и извращенные ритуалы, известные человеку или зверю, в рощах Асты — о, зачем смею я назвать ее имя! Ее глаза обжигают, как огонь геенны, и у нее сотня грудей!
— Астур — это имя бога моего народа, — холодно сказал мальчик, — и, оскорбляя его, ты оскорбляешь меня, и мой народ, и тридцать поколений моих предков, появившихся из его семени.
— Мальчик, ты не понимаешь! — завыл святой Иоанн. — Предки твои горят в аду, каждый из них, прямо сейчас, пока мы бездельничаем на этой проклятой горе! И сам ты в смертельной опасности, ибо будешь гореть в огне, как и они!
Аттила заговорил очень медленно, не отрывая взгляда от перекошенного лица святого Иоанна.
— Ты хочешь мне сказать, что моя мать, умершая, когда я еще был младенцем у ее груди, сейчас горит в твоем вечном христианском аду?
— О, несомненно! — завывал святой Иоанн. — Плоть ее, и та самая грудь, что давала тебе молоко, ее мягкие и благоуханные волосы, ее гибкие члены, ее женственные красивые ягодицы — все это целуют языки адского пламени, и все, все каждый день хиреет и чахнет в этих непоправимых муках проклятых!
Мальчик уже поднял ножны и вытащил меч.
— Уйди немедленно, — спокойно сказал он.
— Я не сделаю этого! — вскричал святой Иоанн. — Сам Господь, Владыка всех небесных сил, привел меня сюда, чтобы блистательно завоевать твою душу! И я завоюю ее во имя Христа, я сделаю это, пока солнце…
Аттила приставил острие меча к морщинистым, обвисшим складкам на шее старика.
— Я сказал, убирайся.
— Я не страшусь тебя, ты, дьявольский грешник! — вопил святой Иоанн, однако его охватила дрожь, напоминавшая испуг. — Я не страшусь тех, кто может уничтожить мое тело, а лишь тех, кто может уничтожить душу!
— Значит, ты болван, — усмехнулся мальчик. — Даже самый маленький ребенок из моего народа скажет тебе, что тело и душа неразделимы, и нельзя извлечь душу из тела, как косточку из сливы. Тело и душа едины, как… как… — он подыскивал образ, — как солнце и закат.
Святой Иоанн уставился на мальчика и застонал — скорбный вой словно поднимался прямо из его живота.
Мальчик чуть сильнее вдавил острие в морщинистую глотку.
— А теперь уходи, — велел он и со слабой улыбкой добавил: — И пусть отец наш, Астур, смилостивится над твоей душой.
Упоминание дьявольского имени подействовало так, как не смог подействовать меч. Взвыв, святой Иоанн повернулся и помчался с прогалины прочь, зажав уши руками; его длинные грязные юбки развевались вокруг костлявых веснушчатых ног.
Начинался дождь. Мальчик свернул лагерь, сел верхом и отправился дальше.
Но и тут святой Иоанн не оставил его в покое. Выглядывая из-за деревьев, он продолжал завывать:
— Ты едешь под крылья демонов, мальчик!
Аттила не обернулся. Он наклонил голову, пробормотал:
— Значит, так тому и быть, — и поехал прочь под дождем.
* * *
Он ехал вверх, в горы, среди высоких сосен, чей смолистый запах был так свеж на ветру, во влажном воздухе. Высоко на обнаженной вершине он попал под первый снегопад. Снежинки падали ему на руки и на конскую гриву и быстро таяли.
На ночь он построил простой шалаш из сосновых веток и завернулся в свое единственное одеяло, умирая от тоски.
Ему было холодно и одиноко. И даже когда он заснул, зубы его оставались крепко сжатыми, потому что даже печаль Аттила считал недопустимой.
Он ставил силки из конского волоса на кроликов, высматривая, где они устраивают свои предвечерние пробежки. Он варил птичий клей из семян травы и листьев падуба, а потом намазывал его на ветви деревьев и ловил птиц.
Птички, запеченные на костре, были на один укус, и он съедал их вместе с костями. Он сплел рыболовную корзинку из ореховых веток и до отвала наелся печеной речной рыбы.
Краски становились все насыщеннее, год переходил в осень, и Аттила находил достаточно диких фруктов, семян и орехов, чтобы поддержать жизненные силы. Он научился обкусывать питательную кожицу с плодов шиповника, не задевая противных волосков в середине. Он научился запекать сосновые шишки, чтобы они лопались, и доставал изнутри вкусные ядрышки. И, разумеется, он мог освежевать и разделать кролика и зажарить его на ольховом вертеле. Он очень похудел, глаза запали, но он знал, что выживет.
Но однажды наступил вечер, когда он не смог раздобыть еды. Аттила целый день безуспешно рыбачил на озере, используя вместо крючков колючки боярышника, и в животе было легко и пусто. Он остановил коня на каменистом выступе и посмотрел вниз, в аккуратную маленькую долинку, и увидел свет факелов и свечей в деревне.
Ему даже показалось, что он услышал, как там смеются и поют хриплыми голосами. Он соскользнул с коня и повел его вниз, в долину.
10
Деревня
Это было всего лишь кольцо деревянных хижин вокруг колодца, с одной стороны стоял большой сеновал, с другой старый длинный бревенчатый дом. Он услышал верно: там, в этом доме, смеялись и пели.
Аттила привязал коня в тени на опушке леса и подкрался к дому. Встав на перевернутую колоду, он вытянул шею и заглянул в окно.
Внутри пировали. В желудке засосало еще сильнее, а рот наполнился слюной. Все население деревни сидело в доме — не меньше сотни крестьян с румяными лицами, они смеялись, пели, пили и обжирались, освещенные двумя десятками факелов.
Для праздника урожая слишком поздно, это точно, но всем известно, что в сельской местности любят находить предлоги, чтобы устроить пирушку хотя бы раз в неделю, особенно когда год начинает клониться к мрачным зимним месяцам.
По кругу пускали глиняные кувшины с вином и плоские корзинки из ивовых прутьев с горами булочек из грубой непросеянной муки. Две больших свиньи, отлично разжиревших на желудях в дубраве на холмах, покрывались золотистой, блестящей от жира корочкой на почерневших железных вертелах. Лицо человека, крутившего вертела, было почти таким же золотисто-коричневым и жирным, как и сами свиньи, но он сиял до ушей, представляя себе, какой вкусной будет эта свининка, сочная, пряная.
Огромные миски из глины или оливкового дерева были наполнены исходившими паром зимними овощами: пастернаком и репой, каштанами, капустой; стояли миски чечевицы, тушеной с мягким козьим сыром; ветчина, колбасы, жареные и отварные куропатки и лесные голуби, а еще яблоки, груши, абрикосы и сливы, сыто блестевшие при свете факелов.
Внезапно дверь распахнулась, и мальчик застыл на месте. В холодный ночной воздух, тяжело дыша, вывалилась толстуха средних лет. Ее лицо лоснилось от хорошей еды и излишка вина. Не заметив мальчика, неподвижно, как статуя, стоявшего на колоде, она ухватилась одной рукой за стенку дома, присела на корточки, задрала свои необъятные юбки и стала шумно мочиться. Закончив, она подтерлась подолом юбки и тяжело выпрямилась. Только тогда женщина повернулась, увидела замершего мальчика, и испуганно ахнула.
— Юпитер да благословит и спасет всех нас, я думала, ты грабитель или еще что-нибудь такое. — Она всмотрелась внимательнее. — А что это ты бродишь в такую промозглую ночь? — Женщина схватила мальчика за плечо и повернула лицом к себе. — Смотришь голодными глазами на нашу пирушку, как волк с холмов, а? А, может, высматриваешь наших дочерей? Хотя ты еще не дорос до таких забав. — И она громко расхохоталась.
Аттила уже решил, что не будет драться и не побежит; он подождет и посмотрит, что из этого получится. И действительно, минутку подумав, женщина сказала:
— Знаешь, ты давай заходи и поешь немного. Не дело это — прогонять одинокого путника от дверей в такую ночь. Скоро мы все услышим барабаны Сам-Знаешь-Кого в горах.
После этого таинственного восклицания она положила пухлые руки Аттиле на плечи и втолкнула его в дом.
Собравшиеся с любопытством, а некоторые с подозрением посмотрели на чужака с волосами, завязанными на макушке в варварский узел, раскосыми, блестящими, желтыми, ничего не выражавшими глазами и со шрамами и татуировками цвета ночного неба на щеках. Кое-кто начал тут же обсуждать его происхождение.
— Он с холмов, — сказал один, — с юга. Говорят, у них полные желудки и пустые головы.
— Не, он не из сабинов, — заспорил другой. — Он с востока, с болот. Погляди на его ногти. Он рыбоед, ест рыбу утром, в полдень и вечером.
Сам Аттила молчал, и никто не спросил его напрямик.
Еще кто-то предположил, что мальчик, должно быть, еще дальше с юга. Может, прямо с Сицилии.
— С Сицилии? — воскликнул первый. — Вы его только послушайте! Сицилия, честное слово! Он что, приплыл сюда?
После этого, похоже, всем сделалось безразлично, откуда он, лишь бы не отказывался от бесконечных предложений мяса, и хлеба, и вина, и еще мяса, и еще вина…
Женщина, которая привела его с холода, усадила его между собой и девушкой, сказав про нее, что это ее дочь: сытая, розовощекая, лет семнадцати-восемнадцати. Она не только питалась лучше, чем несчастные заморыши в городе, но у нее, как и у всех остальных здесь, была более чистая кожа и более яркие глаза. Она зачесала светло-каштановые волосы назад со лба и перевязала их белой шерстяной лентой; подпоясала простую белую шерстяную тунику. На тунике был глубокий вырез, открывающий полные юные груди и ложбинку между ними. Мальчик стыдливо уставился в тарелку с едой.
— Я знаю, она их просто выставляет напоказ, верно? — выкрикнула мать девушки, с восторгом заметив его замешательство.
— Мама! — одернула ее девушка.
Рядом с ней сидела еще одна девушка, худенькая и бледная, с темными кругами под глазами. Она молчала, но Аттила чувствовал на себе ее взгляд и раза два сам на нее посмотрел. Потом улыбнулся, девушка улыбнулась в ответ, но тут же засмущалась и отвернулась.
— Гляди-ка, свеженькое мясцо, — злобно ощерился на него сидевший напротив небритый старик, брызгая слюной. — Все девчонки будут твои. Как же, в деревне появилось свеженькое мясцо! Кому захочется старой копченой колбасы вроде меня, ежели тут ходит эдакий кусок свеженького мясца!
Женщина сжала под столом бедро Аттилы и поинтересовалась:
— А сколько тебе лет, мальчик?
— Четырнадцать. Зимой будет пятнадцать.
— Знаю я, о чем ты думаешь, маленькая распутница, — проворчала женщина, похлопывая дочь по руке. — Ручаюсь, он уже в подходящем возрасте. — Она ухмыльнулась мальчику и сжала его щеки. — Только посмотри на себя — оборванный, отощавший, ну прям комар зимой. Тебе нужно немного старого доброго хлебосольства, дорогуша, вот что. Немного мяса внутрь, и несколько чаш доброго вина. Я-то люблю заполучить внутрь немного мяска. А потом, может, и чего другого! — И она захохотала, раскачиваясь на скамье взад и вперед.
— Ты когда-нибудь целовался? — спросила девушка.
Мальчик смотрел в тарелку.
— Да, — буркнул он.
— О, отлично! — обрадовалась она. — И знаешь, что такое сатурналии, да?
Он не знал. Но был твердо намерен узнать.
Большие двойные двери в дальнем конце дома заскрипели, открываясь, и под оглушающие радостные вопли и приветствия собравшихся сельчан в помещение вошла процессия мужчин и женщин, тащивших грубо вырезанные, но вполне узнаваемые статуи. Первой шла весьма дородная матрона и несла Приапа, щеголявшего огромным возбудившимся фаллосом, вырезанного из оливкового дерева и намазанного оливковым маслом, явно для сегодняшнего празднества. Приап, небольшой ухмыляющийся бог плодородия, стоял среди зимних ягод: бузины, шиповника и боярышника, а его гордый фаллос был любовно украшен гирляндами ракитника и плюща. Некоторые женщины наклонялись и целовали его, пока процессия шла мимо. Дальше шел высокий темнокожий мужчина и нес примитивную, но очень трогательную статую матери-богини Кибелы. Она сидела в длинном одеянии и кормила грудью младенца-сына, лежавшего у нее на коленях. Многие протягивали руки, чтобы прикоснуться к магической статуе. Дальше шли сельчане с длинными шестами, украшенными гирляндами, или с повешенными на них фонарями. Они пели и веселились, обходя вокруг длинных столов, а все остальные пристраивались за ними. Дети бегали, путались под ногами, визжали и хохотали от возбуждения.
Краснолицый мужчина вспрыгнул на стол и поднял свой деревянный кубок к потолочным балкам.
— За плодородные поля и жирных добрых свиней в следующем году! — прокричал он и опрокинул в рот кубок, осушив полный sextarius подогретого красного вина в несколько глотков. Остальные в полную глотку присоединились к тосту.
Мальчик, хотя и с некоторым недоумением, смотрел и запоминал, его раскосые желтые глаза не пропускали ничего. Его собственный народ, как и все худощавые, аскетические кочевники, относился к вопросам плодородия весьма скрытно. Однако для крестьян и фермеров, работающих на земле, плодородие и акт совокупления легко сочетались и считались крайне важными для изобилия. Они видели, что животные совокупляются открыто, и результат бывал всегда радостным — появление на свет новых ягнят и телят. Поэтому они не считали нужным вести себя по-другому. И женщины, отдаваясь мужчине, неважно, мужу или нет, рассматривали это, как акт великой щедрости; более того, среди этих людей считалось положительно нездоровым не вступать регулярно в половые сношения.
Ничего удивительного, что возвышенные, боящиеся природы христиане города осудили и нарекли всех тех, кто не следовали их богу, pagani, что означает просто-напросто «обитатели деревни». Люди, жившие в плодородных южных долинах империи дольше всех сопротивлялись этой суровой, мрачной, помешанной на грехе, непривлекательной религии с востока, и еще долго будут ей сопротивляться. Здесь, где до сих пор благоденствовали зелень и древние боги, люди по-прежнему поклонялись плодородию и Природе, способствующей размножению.
Из заново открытых бочонков текло вино, деревенские музыканты начали дуть в свои тростниковые флейты и играть на сиплых трехструнных лютнях, а люди заплясали и запели. Они пели
«Bacche, bacche venies», и
«In taberno quando sumus», и другие народные песни о любви, и вине, и земле, которые пелись в этих долинах задолго до того, как поэты в Риме впервые прикоснулись пером к бумаге.
Si puer cum puellula
Moraretur in cellula
Felix coniunctio!
Amore sucreseente,
Parker e medio
Avulso procul tedio,
Fit Indus ineffabilis
Membris, lacertis, labiis!
Если мальчик и маленькая девочка
Окажутся вдвоем в маленькой комнатке,
Радостно будь их совокупление!
Любовь начинается с ликования,
Слабость исчезает,
Когда они прячутся в постель для забав,
И начинается их безымянная игра
Со вздохами и шепотками, с губами и членами…
— О, милосердия, милосердия! — вскричал брызгающий слюной старик с небритым подбородком, продолжая плясать и скакать вместе с остальными. — Вы возвращаете меня в мои юные дни, и я в отчаянии, потому что мой член уже не сможет вести себя так, как раньше, в бурную весеннюю пору моей похоти!
Тут остальные велели ему заткнуться и сказали, что не желают больше слышать ни про его член, ни про бурную весеннюю пору его похоти. Кто-то опрокинул на его седые волосы полный кубок красного вина и объявил, что теперь старика помазал и благословил сам Приап. Сомневаюсь, чтобы чары подействовали, но вино потекло по лицу старика, по его морщинистым щекам, и дряхлый танцор с радостью начал слизывать его с бороды.
— На следующий год к этому времени у нас на столе будет стоять распятый человек, — выкрикнул какой-то остряк.
— Да ты шутишь! — возразили ему вразнобой.
— Хорошенькая у нас будет пирушка с этим в центре! — вставил кто-то.
— Ни тебе выпить, ни тебе потрахаться, ни пернуть! — заорал его сосед. — Спасибо Владыке Юпитеру, что я — не трусливый христианин!
Аттила почувствовал, что его руку сжала чья-то теплая ладонь. Розовощекая дочка тащила его прочь от толпы.
— Ну пойдем, — шептала она. — Тут за углом есть отличная маленькая хижина.
Худая бледная девушка молча смотрела, как они уходят. Мамаша подмигнула:
— Смотри, дорогуша, будь с ним поласковей, — широко улыбнулась она.
Ночной воздух был зябким, и небо было ясным, звезды холодно светили вниз оттуда, где в небесах вечно пылали их костры. У Аттилы стиснуло грудь от холода и страха, но девушка вела его в маленькую, крытую соломой хижину, и рука его в ее ладони оставалась теплой. Сердце его так сильно колотилось, что ему казалось — она должна это услышать. Девушка потянула скрипучую, затянутую паутиной дверь, и втолкнула его внутрь. Он сам закрыл за собой дверь. Из открытого окна падало достаточно бледного лунного света, чтобы разглядеть лица друг друга: его осунувшееся и встревоженное, с губами, решительно сжатыми в предвкушении нового и пугающего приключения; ее глаза, искрящиеся восторгом в предвкушения нового завоевания.
— Я должен знать, как тебя зовут, — сказал Аттила.
Она мотнула головой.
— Никаких имен. И ты мне тоже не смей говорить, как тебя зовут.
— Да почему?
— Потому что, — ответила она и вздохнула. — Потому что я знаю, что утром ты уйдешь. Так что какой смысл? — И довольно печально улыбнулась. —
А теперь…
Она потянула его вниз, и встала рядом с ним на колени, и наклонилась, накрыв его губы своими, и они поцеловались. Было очень тихо. Чуть позже она скользнула языком ему в рот. Аттилу, конечно же, целовали и раньше при встречах (даже — совершенно мерзко — Евмолпий, когда они познакомились), и в губы тоже, как было принято при римском дворе. Этот римский обычай никогда не переймет ни один варварский народ, и уж точно не гунны.
Но этот поцелуй был совсем другим, захватывающе близким и интимным, и мальчик тотчас же ощутил волнение и тепло в крови. Он, задыхаясь, тоже поцеловал девушку, их языки соприкоснулись, переплелись, руки сами потянулись, чтобы погладить щеки, волосы…
— О-о-о, да ты шустрый малыш, да? — шепнула она. Она улыбалась, и мальчик увидел, как блеснули в лунном свете ее белые зубы. Она легла на сено и задрала юбку до пояса. Она раздвинула ноги и провела средним пальцем, как его называют врачи, index lascivius (хотя, вероятно, с их стороны довольно распутно так его называть), по ждущим губам.
— Иди ко мне, милый, — нежно позвала девушка. — Здесь, — добавила она, спуская тунику с изящных плечиков и обнажая груди, — потрогай меня здесь, вот здесь, прижмись губами к груди, поцелуй меня сюда, а теперь поводи языком, о, милый, о…
Ее вздохи и стоны заполнили всю маленькую хижину; потрясенный мальчик молчал, но девушка все время шептала, направляя его и поглаживая взъерошенные волосы.
— О, я это обожаю, я это просто обожаю, здесь… поцелуй их… теперь втяни в рот… нежнее… да, полижи их вот так, а теперь пососи, о, как сладко, а тебе сладко? О, милый, это так чудесно, а теперь там… о да, а теперь внутри, потрогай меня там… о боги… о, я люблю тебя, милый, я так тебя люблю…
Вздыхая и ахая, она задрала на мальчике тунику, сжала рукой его затвердевший член, и стала его хвалить, и сказала, что мальчик, может, и маловат для своего возраста, но это вовсе не маленькое, он не посрамит и взрослого мужчину, нет-нет. Она еще шире раздвинула бедра, и сама направила его внутрь, и плотно обхватила мальчика ногами, и они вместе, хотя и недолго, возбужденно занимались любовью, но вот мальчик содрогнулся у нее между ног, и прижался щекой к ее щеке, и крепко обнял ее, и напрягся, и ахнул, а потом медленно расслабился в ее объятиях, прижавшись лицом к ее груди. Через несколько мгновений он спал.
Девушка посмотрела на него и погладила по растрепанным волосам.
— Как это типично, — прошептала она.
— Ну и как тебе, маленькая обезьянка? — закричала мать девушки, хватая Аттилу за талию. — Ты ходил туда с моей дочерью, я знаю, что ходил, и рылся среди ее сокровищ, как маленький бандит. Я поняла, что ты грабитель, сразу же, как только тебя увидела на улице. И я знала, что ты задумал, только поглядев на твою улыбочку — как кот на молоко. Как ежик, присосавшийся к вымени молодой телки. Только посмотри на себя — прям губы облизываешь, а?
— Мам, не смущай его, — вмешалась девушка.
— Смутить его? Он отлично знает, чего ему надо, — захохотала мать. — И я тоже знаю, что у него на уме, а? Мальчишка в этом возрасте! Бьюсь об заклад, что он уже подумывает покувыркаться еще на одной перине, а, сладенький? А как насчет кого-нибудь постарше? Например, станцевать лежачий танец с ее старенькой мамашкой? Маленько постонать в потолок и поохать на луну?
— Мама! — возмущенно вскричала девушка.
И распутная крестьянка закружилась в танце с полыхающими щеками и бесстыдными глазами, высоко подняв глиняный кубок с вином.
Аттила и девушка снова сели за стол, здорово проголодавшись. Он нашел под столом руку девушки и сильно сжал ее. Спаси меня, думал он. Девушка тоже сжала ею руку, наклонилась и прошептала ему на ухо, положив скользкую горячую ладонь ему на шею:
— Не волнуйся, сегодня ты будешь спать в моей постели.
Танцевали еще церемонные танцы, когда шеренги мужчин и женщин, стоя друг против друга, обменивались поцелуями и снова отходили назад, хихикая и изображая смущение, скромно отводя глаза от тех, с кем делили постель только вчера вечером.
Потом с еще большим достоинством и со всей радостной торжественностью старого языческого духа они подняли статуэтку Приапа, и вся деревня прошествовала к опушке леса, где стояла простой каменный храм. Внутри, освещенная двумя драгоценными свечами из пчелиного воска, стояла обнаженная статуя Великой Матери, которая сдержанно, благожелательно и властно улыбалась своим простым приверженцам.
И мужчины, и женщины по очереди целовали фаллос Приапа, а потом маленького божка благоговейно положили между ног Великой Матери. Над парой опустили белую шерстяную завесу и любезно оставили их наедине на всю ночь, чтобы они совокуплялись — тогда сама Земля вновь родится весной.
Едва сельчане вышли из храма и в последний раз склонили головы перед своими возлюбленными божествами, как ночь прорезал хриплый крик, донесшийся с гор. На них потоком обрушились гневные слова, произносимые голосом надтреснутым и сухим, похожим на шуршащий в опавших листьях ветер.
Девушка прижалась к Аттиле, так что ее мягкие волосы восхитительно защекотали его щеку, и шепнула:
— Это местный сумасшедший по имени святой Иоанн.
Мальчик кивнул.
— Мы с ним встречались.
— Идолопоклонники! Прелюбодеи! — вопил святой Иоанн. — Пусть Христос смилостивится над вашими некрещенными и неисповедавшимися душами! Ибо вы обитаете у самого входа в ад и увязли в трясине дьявола — в своей похоти и грязном прелюбодеянии.
Люди переглянулись и весело захохотали. Некоторые заплясали, словно эти слова были своего рода неотразимой музыкой.
— Святой Иоанн! — кричали они, приветственно поднимая свои кружки с вином. — Святой Иоанн, спускайся к нам с горы! Добро пожаловать на наш Праздник Великой Матери!
В лесу раздался шорох, и появился старик. Он забрался на камень, и глаза у него сделались еще безумнее, подумал Аттила. На нем была длинная, грязная ряса из грубой коричневой ткани, седая борода спуталась, а тонкие губы яростно шевелились. Даже с такого расстояния мальчик мог учуять, как от него воняет; многие отшельники буквально восприняли слова святого Иеремии — тем, кто омылся в крови Христовой, нет нужды умываться.
— Горе тебе, о Израиль, ибо твоя грязь в твоих юбках! Как сказал пророк Иезекииль, ты занимался развратом, и вожделел своих любовников, чьи члены подобны членам ослов, а изливают они, как изливают жеребцы!
— Где? Где? — заволновались женщины в толпе. — Я бы от такого не отказалась!
— Для чего, говорю я вам…
Но тут святому Иоанну помешали — сначала громкими непристойными криками, в которых утонул его надтреснутый старческий голос, а потом под одобрительный рев зевак мать девушки взгромоздилась на камень рядом с ним и начала задирать ему подол.
— Прочь от меня, Блудница в Пурпуре! — возопил Святой Иоанн, отчаянно пытаясь удержать свою рясу, которую толстуха успела задрать уже до тощих запаршивевших колен, и одновременно продолжая проповедь со всем возможным достоинством. — Изыди, о Иезавель без капли стыда!
Толпа бесновалась от восторга. В конце концов оба они, и отшельник, и крестьянка, топчась в своем тесном неизящном танце, оказались на краю камня и рухнули в толпу.
Крепкие юнцы постарались поймать их, так что ничего страшного не случилось, и святой Иоанн вскоре поднялся на ноги. В бешенстве потрясая посохом, уже собрался уходить на опушку леса, как его пылающий взор остановился на Аттиле, стоявшем рядом и с большим интересом следившим за происходящим.
Казалось, что Святого Иоанна объяло ужасом. Он ткнул костлявым, дрожащим пальцем во вздрогнувшего мальчика.
— Берегитесь, берегитесь, ибо грядет Конец Времен! — вскричал он.
Толпа замолкла, слегка растерявшись от внезапной нотки страха в голосе отшельника.
— Ибо не написано разве в книге пророка Даниила, что дочь владыки с юга придет к владыке с севера, чтобы заключить договор? О да, и разве не это случилось в наши дни с дочерью последнего императора Феодосия, которую называют принцессой Галлой Плацидией, обвенчавшейся с вождем готов?
Толпа заволновалась и окончательно растерялась. Подобная новость почти ничего для них не значила, но исполнившееся пророчество значило очень многое. Аттилу новость потрясла: он ахнул и злобно нахмурился своим собственным мыслям.
— О да, и разве не написано в том же пророчестве Даниила, что в Конце Времен придет с севера Князь Ужас и полностью уничтожит вас? Ибо он придет, как смерч, с колесницами и всадниками, и низвергнет все королевства в мире. И будет поступать по воле своей, и возвысит себя над всеми богами, и будет говорить непостижимые вещи против Господа над всеми богами, ибо возвысит себя над всеми. — Голос святого Иоанна поднялся до безумного вопля, а палец, которым он указывал на лицо мальчика, дрожал все сильнее. — И на лице его будут метки его жестокости. Смотрите, смотрите: он идет. Он идет!
И тут мальчик, к потрясению собравшихся сельчан, размахнулся и нанес святому сильнейший удар по лицу. Святой Иоанн отшатнулся, но не упал. Он, тяжело дыша, оперся о посох. Из его рта на бороду струилась кровь. Потом он повернулся и заковылял прочь, к опушке леса. В полумраке они его почти не видели, да и не хотели больше никогда видеть. Но продолжали слышать его старческий, надтреснутый, язвительный голос.
— О, вы и сами отродья демонов. Вы все у дьявола во рту, и будете вечно прокляты. И ваши боги и богини — это дьяволы прямо из ада, такие же, как Молох, Иштар и Аштарот, и я не буду называть их перед Великим Господом, но все они — великие шлюхи, и поклонение им — это распутство, и прелюбодеяние, и блаженство среди женского непотребства, и…
Тут настроение толпы сильно изменилось. Веселые жители деревни оставались глухи к тем оскорблениям, что святой Иоанн или его собратья-христиане наносили лично им, но не могли перенести нападок на их самые сокровенные тайны, особенно в ночь Празднества Великой Матери, да еще там, где богиня могла это услышать. И пусть у них такое праздничное настроение, но они не допустят, чтобы святой Иоанн спускался со своей горы и называл их возлюбленную Великую Мать, давшую им всем жизнь и кормившую их, шлюхой. Некоторые из мужчин помоложе побежали за ним следом, намереваясь устроить ему хорошую трепку.
Похоже, старик решил, что по крайней мере в этом случае нельзя полагаться на истинного и мстительного Бога Израилева, который вряд ли чудесным образом спасет его от грешной толпы идолопоклонников и прелюбодеев, как спас однажды пророка Даниила из логова льва. Поэтому он повернулся и с поразительной для человека его лет скоростью метнулся в лес — и быстро исчез из виду.
Девушка и Аттила медленно, бок о бок, возвращались в деревню.
— Почему он сказал про тебя такое? — спросила она. — Про Конец Времен и все такое?
Мальчик пожал плечами.
— Я не знаю.
Она искоса посмотрела на него.
— А откуда ты, между прочим?
Он помолчал, потом ответил:
— С севера. — И по-волчьи ухмыльнулся ей в темноте. — Принц Ужас с Севера.
Девушка скептически смерила его взглядом и снова взяла за руку.
— Так пойдем, мой Принц Ужас. Настало время для следующего завоевания.
Ему и в голову не приходило, что здесь, в этих нищих краях, хотя у девушки и был свой тюфяк, вся семья спала в одной комнате, над помещением с животными. К счастью, вся ее семья состояла из матери и младшей сестры, той самой худой, бледной, настороженной девушки с темными кругами под глазами. Отец умер несколько лет назад от изнурительной лихорадки.
Поэтому когда Аттила и его новая любовь достигли вершины экстаза, он оглянулся и увидел, что и сестра, и мать лежат рядом, наблюдают за ними с улыбками на лицах и даже шепотом рассказывают друг другу, что происходит.
— Мама! — закричала девушка, натягивая повыше простыню.
— Подумаешь, зато мы можем вас слышать! — крикнула в ответ мать.
Несмотря на такое соседство двух других женщин, мальчик с девушкой сумели поспать всего пару часов и встали утром раскрасневшиеся и усталые.
Когда он собрался уходить, девушка с матерью завернули ему в ткань свежего хлеба, копченой колбасы, сушеных абрикосов и фиг. Младшей сестры нигде не было.
— Там на опушке, с восточной стороны, привязана лошадь, — сказал мальчик. — С полмили отсюда.
— Чья лошадь? — с подозрением спросила мать.
— Моя, конечно, — ответил он. — Только мне она больше не нужна. Заберите ее себе.
— А далеко ли ты ее ук… раздобыл?
— Очень далеко, — ответил Аттила. — Не волнуйтесь, все в порядке. Это хорошая лошадь.
— Ну… да благословит тебя Богиня, — все еще нерешительно произнесла женщина. — А как же твой путь?
— О, я укр… в смысле, найду другую.
Мать охнула и пробормотала оградительную молитву. Девушка только улыбнулась. Ее Принц Ужас, ее оборванный разбойник.
Солнце поднималось на востоке, утренняя звезда, его предвестник, еще была видна, и петухи кукарекали, когда они помахали мальчику, стоя в дверях домика.
Младшая сестра ждала его в лесу, у тропы, ведущей на север, в горы. Невысоко стоявшее над восточным горизонтом солнце пробивалось сквозь деревья, разливая медный свет по земле, усыпанной хвойными иголками.
Она стояла, прислонившись к дереву. Они не обменялись ни единым словом. Какой хрупкой выглядела она по сравнению со своей упитанной сестрой, глядя на него большими печальными глазами. Подняв руки, чтобы снять с себя рубашку, она сильно закашлялась. Грудки у нее были маленькими и нежными, волосы длинными и гладкими, но пахли сладко, потому что этим утром она причесывалась с розмариновой водой, специально для него.
Она подняла длинные пряди волос своими изящными руками, откинула их за спину и робко улыбнулась мальчику. Они поцеловались. Ее улыбка казалась далекой и болезненной. Она потрогала шрамы на щеках Аттилы, и они снова поцеловались. Одна прядка ее волос, сразу над ухом, была седой, как у старухи. Аттила нежно прикоснулся к этой прядке. Девушка попыталась спрятать ее, но он снова погладил ее волосы с этой странной седой меткой.
Тогда девушка прошептала:
— Моя сестра красивее.
Но он покачал головой и снова поцеловал ее.
Она заглянула ему в глаза, в золотистые раскосые глаза этого странного, чужого мальчика с синими татуировками на щеках, и увидела, что он хочет ее, и от этого ее собственное желание запылало сильнее. Она прижалась к нагретому солнцем стволу, с возбуждением удивилась собственному бесстыдству и медленно задрала юбку, опустив глаза…
Потом, спускаясь по тропинке вниз, в деревню, она оглянулась. Он бессознательно шагнул за ней. И в этот миг даже его глубокая тоска по дому растворилась в тоске по этой тоненькой, бледной девушке с большими грустными глазами. Он едва сумел заставить себя не побежать за ней следом и… и… С той, другой девушкой он ощутил только жаркий, ошеломляющий прилив крови, но эту — эту он почувствовал сердцем, и теперь оно болело, так мучительно и так сладко. Она улыбнулась и помахала ему, и он помахал в ответ. Девушка отвернулась и пошла в деревню.
Он долго смотрел ей вслед даже после того, как она исчезла из вида. Ему так хотелось побежать за ней и защитить ее от других мужчин, и от чудовищ, и от демонов, от ведьм и бурь, и от всего того, что может угрожать этому нежному телу. Он мечтал, чтобы из леса появились волки и медведи, и тогда он сможет побежать и защитить ее, вытащить меч и убить их всех у нее на глазах, даже если ему придется погибнуть при этом. Это будет такая сладкая смерть!
Потом мальчик повернулся и стал подниматься по долгой тропе на север.
Когда он в конце концов вышел из лесов на свободные, поросшие травой, продуваемые ветрами холмы, сердце его в груди бешено подпрыгнуло, а жаркая кровь снова забурлила. Он широко распахнул руки, чтобы обнять сильный, могучий ветер, и заорал над бледной, неприветливой долиной, что хочет завоевать весь мир и иметь в нем любую женщину. Потом побежал, как безумный, и воздух становился все холоднее, обжигая легкие, и кровь бурлила в жилах все сильнее и сильнее, а он смеялся и кричал, поднимаясь все выше и выше в горы.
Ранним утром, вскоре после того, как Аттила покинул деревню, в нее въехал отряд солдат из Палатинского форта недалеко от Равенны. Ими командовал офицер с лицом, настолько перекошенным и изуродованным шрамами, что дети плакали и убегали прочь. Даже косматые деревенские псы визжали и прятались под повозками или под домами.
Он приказал отряду остановиться в центре деревни, рядом с колодцем, крытым тростником. Люди, завидев прибывших, потихоньку выходили из своих скромных обиталищ, негромко переговариваясь. Он ничего не сказал, только поднял вверх руку. Его пальцы были унизаны кольцами с печатками. Люди замолчали. Конь под ним переступал с ноги на ногу, и его шумное дыхание далеко разносилось в морозном воздухе. Офицер осмотрелся и заговорил;
— Мы здесь по приказу полководца Гераклиана. Вы укрывали в этой деревне человека, бежавшего от римского закона. Мальчика лет четырнадцати с варварскими татуировками на щеках и спине. Где он?
Люди старались не смотреть друг на друга, но им это плохо удавалось. Офицер замечал все. Он повернулся к дородному декуриону и кивнул. Декурион спрыгнул с коня, вошел в ближайшую хижину и через несколько мгновений вышел из нее с горящей веткой, взятой из очага.
— Я не буду спрашивать два раза, — предупредил офицер. — Отвечайте.
Пухлощекий мельник сказал:
— Мы не знаем такого мальчика, ваша честь. Мы простые…
Офицер кивнул еще двоим своим людям.
— Свяжите его.
Они спешились, заломили мельнику руки за спину и туго связали их грубой веревкой. Мельник, несмотря на плотное сложение, не смог сдержать стона боли.
Остальные сельчане в ужасе переглядывались, но ни один не мог выдать человека, так недавно бывшего их гостем. Против этого восставали все их обычаи и законы гостеприимства. И в глубине души они приготовились к неминуемому наказанию, которое придется претерпеть за свое дерзкое молчание. Они уже имели дело с теми, кто насаждает римские законы — те появлялись каждый год, чтобы забрать скудный, но тяжело дающийся налог в императорскую казну. После каждого взимания налога они делались беднее и ощущали все больше горечи. Ничто из заплаченной ими дани никогда не возвращалось обратно — ни в виде помощи, ни в виде защиты. Они ничего не видели за свои деньги. И только их спокойная, никому не известная долина сохраняла их от опустошительного воздействия большого мира. За исключением тех случаев, когда к ним являлись представители римского государства.
Офицер просчитал ситуацию с жестокой точностью. Он пришпорил коня и подъехал к одному из амбаров, по дороге вырвав из рук одного из солдат копье. В дверях амбара съежилась лохматая невзрачная собачонка, внимательно следившая за офицером своими коричневыми глазами. Но она оказалась недостаточно проворной. Проезжая мимо, офицер с ледяным безразличием, ужаснувшим даже самых грубых нравом сельчан, пронзил собачонку копьем, повернулся и поехал обратно к центру сельской площади. Несчастное создание завыло и испустило дух.
Офицер положил копье с кошмарным грузом на край колодца. Из трупика медленно капала кровь, растекаясь темным пятном по каменному ободку колодца.
— Нет! — закричал кто-то из сельчан, не в силах поверить, что можно быть настолько беспощадным.
Офицер сказал:
— Мальчишка?
Они опустили головы от гнева и стыда, но не произнесли ни слова.
Офицер снова посмотрел на темный зев колодца, поднял руку и стряхнул с копья пропитавшийся кровью трупик собаки. Комок окровавленной шерсти, покачавшись на краю, рухнул вниз. Через мгновенье все услышали громкий всплеск, и сельчане глухо застонали.
Офицер повернулся к декуриону, все еще державшему в руках горящую ветку.
— Сожги сеновал, — приказал он.
Тут мать девушки, не в силах больше сдерживаться, в бешенстве ринулась вперед. Она пронзительно кричала офицеру, что он — мерзкая свинья, что он бесчестит человечество и что, конечно же, все боги и богини… Ее прервал сильный удар — унизанный кольцами кулак офицера сбил ее с ног.
— Мама! — закричала ее дочь, подбежав к ней.
— Со мной все в порядке, дорогая, — пробормотала мать, с трудом поднимаясь с земли. Изо рта у нее шла кровь. — Зато, если боги пожелают, с этой мерзкой свиньей скоро все будет плохо.
— Шшш, мама, пожалуйста, — умоляла дочь.
Офицер не обращал на них внимания.
Дочь повела мать прочь.
— Ну и ладно, — говорила мать, — зуб, который он мне выбил, все равно болел, как ненормальный.
Больше никому не хватило мужества — или глупости — протестовать открыто, хотя они искренне восхищались своей соседкой за ее острый язык и храбрость. Но в глубине своих сердец — сердец терпеливых и выносливых, как и у всех крестьян во всем мире — чем больше попиралась их свобода и чем больше уничтожалось их собственности, тем более молчаливыми, но непокорными они становились. В самом начале один-двое подумывали, не сказать ли солдатам, по какой тропе в горы пошел мальчик-варвар, в обмен на спокойную жизнь. Но теперь никто и не помышлял об этом. Их воду могут отравить, их бесценный зимний корм для скота могут сжечь у них на глазах, и большой сеновал, постройка которого стоила всей деревне двух полных недель тяжкого труда, могут обратить в пепел, но ни один из них не будет сотрудничать с этими проклятыми, запугивающими их шавками от государства.
Солдаты не остались, чтобы посмотреть, как сеновал сгорит до основания. Как только его охватили языки пламени, они сочли свою работу выполненной.
Офицер посмотрел на удрученных, но непобежденных селян.
— Мы вернемся завтра, — пообещал он. — И тогда вы скажете все, что мы хотим знать.
Этой ночью жители деревни сбились в тесную кучку, но никто не отступил от общего решения. Они вынесут все, что им предназначено, но не скажут ни слова. Ничто их не сломит.
Некоторые утверждают, что у селян и вообще деревенских жителей нет ни малейшего понятия о чести, что они думают лишь о примитивном выживании. Говорят, что крестьянин сделает все, что угодно, скажет все, что угодно, принесет любую клятву и предаст любую дружбу, лишь бы спасти себя, свою семью и своих немногочисленных, но драгоценных для него животных. И возможно, правда то, что честь — это добродетель, которую могут позволить себе лишь богачи. Бедная деревенская девушка в городе быстро бывает вынуждена выбирать между честью и жизнью. Но вместо чести крестьянин питает страсть менее броскую, но такую же неистовую и непримиримую: он не терпит, когда ему указывают, что он должен делать.
Солдаты полководца Гераклиона не вернулись на следующий день. Не вернулись и через день. Их обещание оказалось пустой угрозой с целью запугать непокорных крестьян и напомнить им об их низком статусе в назначенном небесами положении дел. Отряд уже отправился в погоню за мальчиком-варваром, отыскивая его свежие следы. Жители деревни стали заново отстраивать сеновал, осушать и чистить колодец, собирать и сушить на сено остатки травы. Они не увидят солдат до весны, до следующего сбора налогов. А пока они могут жить в бедности, но в мире.
11
Дорожные спутники
Аттила оставался в счастливом неведении о том, что римские солдаты идут вплотную по его следам. Он даже сумел оттеснить подальше ошеломившую его мысль о том, что Галла Плацидия вышла замуж за вождя готов и что Вечный Город все же не будет уничтожен, а снова восторжествует, чтобы покорять, цивилизовать и в конечном итоге романизировать самих завоевателей-готов. Но зато теперь гунны поймут, кто их враги.
Несмотря на сложности и вероломство широкого мира, как мальчик воспринимал это в жестокой наивности своего подросткового сердца, все же сердце это пело от юных страстей и томлений. Иной раз он начинал петь вслух, шагая по пыльным козьим тропам Италии в сторону дома.
Одним ясным утром он шел по каменистой тропинке, с правой стороны высились скалы, с левой падали вниз крутые, поросшие соснами, откосы, по которым он только что взобрался наверх по извилистой тропинке. Аттила остановился, чтобы перевести дух, и посмотрел в вечное синее небо. Ему казалось, что он слышит топот приближающихся копыт. Он подумал, что безопаснее будет убраться с тропы, но задержался немного, решив, что стоит взглянуть, кто это поднимается между соснами внизу.
И кровь его застыла от ужаса. От поворота тропы, сразу под ним, решительно поднимался наверх полный кавалерийский отряд римских всадников, Палатинских гвардейцев в зловещих черных доспехах. Ехавший впереди не отрывал скучающего взгляда от земли перед своим конем, замечая даже самый незначительный след, оставленный легкими ногами мальчика. Сразу за ищейкой ехал офицер в черном шлеме с плюмажем, его лицо ужасало — все в глубоких шрамах, перекошенное из-за того, что меч противника перерубил нервы.
Аттила заметался, охваченный нехарактерной для него паникой. В глубине души он точно знал, что они собираются убить его. На этот раз его не будут связывать веревками и не потащут к императору или его сестре, чтобы снова лишить свободы. На этот раз они просто прижмут его к ближайшему камню и отрубят ему голову.
Он бежал и лихорадочно думал. Всадники через несколько мгновений вывернут из-за поворота, увидят его, тотчас же пустят коней в галоп, проткнут его копьями — и дело с концом. Если кинуться в лесок, окажешься еще ближе к ним. Значит, остается только скала справа, но это осыпающаяся золотистая стена известняка высотой не меньше сорока футов, наверняка неприступная.
Времени на колебания не оставалось. Беззвучно, как олень, пробирающийся по лесу, он добрался до сосен и пошел дальше, всего на несколько шагов опережая кавалеристов. Он услышал, как один из них сказал, дескать, теперь они уже совсем рядом с мальчишкой, потому что следы совсем свежие. Аттила задержал дыхание. Потом углубился дальше в лес, держась рядом с тропой и надеясь укрыться в зеленом сумраке сосен. Он так внимательно следил за кавалеристами, что забыл поглядывать вперед, потом взглянул, увидел перед собой только лес, но почувствовал, что к нему приближается что-то ужасное. Он боялся смотреть, все же посмотрел и чуть не закричал от ужаса. Прямо перед ним, по узкой лесной тропинке, к нему навстречу шли солдаты в черных доспехах — пешком, с обнаженными мечами, с пугающе бесстрастными лицами. Они скорее походили на призраков, чем на людей из плоти и крови.
Задохнувшись от ужаса, с колотящимся сердцем, мальчик метнулся прочь с тропы и помчался среди деревьев, стремясь вверх, на каменистую тропинку. Когда он добежал до нее, кавалерийский отряд вывернул из-за поворота и увидел его. Должно быть, это офицер окликнул его резким и властным голосом. Но мальчик уже карабкался вверх, на скалу. Он отчаянно цеплялся за известняк, сухие, пыльные кусочки отламывались под его пальцами, он слышал, как всадники легко нагоняют его, уже почти догнали. Один из них уже рассекал мечом воздух.
Аттила вскрикнул, нырнул под шею его коня, извернулся и помчался дальше. Справа он заметил расщелину в скале, крохотную ложбинку, созданную здесь водой, тысячу лет бежавшей сверху, с гор; колючий куст можжевельника охранял расщелину. Аттила втиснулся в нее, протолкался за куст можжевельника и посмотрел вверх: сырая, крутая трещина тянулась вверх по всей длине скалы. Но подняться по ней невозможно: известняк был скользким, как промасленная кожа, там, где вода обрушивалась вниз, и сухим и крошащимся там, где воды не было. Позади он слышал, что солдаты спешиваются, а офицер приказывает им втиснуться в расщелину и вытащить его оттуда. Аттила в отчаянии развернулся и схватился за эфес меча. Раз ему суждено умереть здесь, в этой трещине в скале, как зверю, загнанному в ловушку, он хотя бы попытается взять с собой одного из них.
И тут что-то коснулось его щеки. Он снова крутанулся на месте и к своему огромному изумлению увидел тонкую веревку, завязанную через определенные промежутки узлами, чтобы лучше держаться. Солдаты еще были по ту сторону стража-можжевельника, отрубая ему ветки, чтобы протиснуться мимо. Не спрашивая, откуда взялось это чудо, мальчик вцепился в веревку, как утопающий схватился бы за деревяшку, и в три прыжка залез наверх. Он оказался рядом с узким уступом футах в пятнадцати над землей и перекатился на него, отпустив веревку. Глянув вниз, он увидел у веревки солдат, с изумлением смотревших вверх. Один полез вверх по веревке вслед за Аттилой, но теперь у мальчика появился шанс — один-единственный шанс, единственное крохотное преимущество. Он выдернул меч из ножен и полоснул по веревке у края уступа. В два удара он перерезал веревку, и солдат покатился на землю, разозлившись, но не пострадав. Тут же его товарищи начали кричать, чтобы принесли новую веревку и несколько копий. Очень скоро они продолжат погоню.
Лежа на животе, чтобы в него не попали из лука, Аттила осмотрел узкий уступ; он все еще был настолько испуган, что толком не мог соображать.
Дальний край уступа был сырым и теплым, сверху над ним нависала скала. Мальчик пополз туда. Там было темно, как в яме. Он ненавидел замкнутые пространства, это был его тайный страх. На какое-то мгновенье он подумал, что лучше умрет, чем полезет в такую тесную пещеру, но все же стиснул зубы, даже сердито заворчал сам на себя, и начал протискиваться под нависающий выступ. Он с трудом протиснулся в узкую горизонтальную щель в скале и оказался внутри, прокатившись вниз несколько футов прежде, чем сумел остановиться. Аттила понятия не имел, где оказался, потому что узкая щель не пропускала внутрь свет.
Однако, испуганно ахнув, он понял, что находится в довольно большой пещере, потому что со всех сторон слышалось эхо.
Сквозь щель в скале Аттила разглядел смутные силуэты солдат, уже поднявшихся на уступ и теперь пытавшихся сообразить, где он спрятался. Он был уверен, что ни один из них не сможет протиснуться в щель вслед за ним, поэтому ощущая одновременно страх, отвагу и бьющую через край ненависть, Аттила, работая по очереди руками и ногами, как ящерица, вскарабкался обратно к входу, зажав в зубах меч. Добравшись до щели, он взял меч в руку, и как только снаружи появилось лицо солдата, пытавшегося заглянуть внутрь, Аттила ткнул мечом вперед, прямо в это лицо. Ни один скорпион не смог бы ужалить так сильно. Солдат взвыл от боли и схватился руками за лицо. Между пальцами у него хлынула кровь, он, шатаясь, отступил назад и упал. Через несколько мгновений глухой удар сказал мальчику, что солдат скатился с края уступа вниз. Аттила услышал отдаленные крики ярости и по-волчьи оскалился в темноте. Потом повернулся и пополз назад в невидимую пещеру.
Спустя некоторое время шум и голоса затихли. Но Аттила не был глупцом и не собирался вылезать из пещеры по крайней мере сутки.
Он наощупь нашел на стене место, где сочилась вода, и слизал языком все, что смог. Вода была слизистая, со вкусом плесени, но это неважно. Она поможет ему продержаться какое-то время. Он выживет. Он обязательно выживет.
Он весь день провел в пещере, скорчившись, обхватив руками коленки. Наступила ночь, полоска света из щели исчезла, наступила кромешная тьма. Боязнь замкнутого пространства вернулась к нему с новой силой, он начал воображать самые страшные вещи. Ему казалось, что он слышит отдаленный рокот камней, что выступ сдвигается с места, всего на несколько дюймов, и выход оказывается навеки замурован. Он будет сидеть здесь, в кромешной тьме, ничего не видя, не в силах шевельнуться, и кричать, кричать, пока не умрет…
Но мальчик снова стиснул зубы и приказал себе выдержать эту ночь. Если он вернется к щели, поближе к воздуху, солдаты вытащат его отсюда, как крысу из норы, и столпятся вокруг, и будут пронзать его мечами, срывая на нем гнев и крушение всех надежд. Он сильно зажмурился, чтобы перед глазами возникли хотя бы красные и зеленые пятна, и стал ждать.
Очнувшись от беспокойного сна, Аттила услышал какой-то шорох в темноте. Это летучая мышь, сказал он себе. Но это было больше, чем летучая мышь. Это больше походит на шарканье. Он начал молиться, чтобы это не оказался пещерный медведь. Он молился отцу своему Астуру в вечно синем небе, чтобы в пещере не было другого входа, чтобы чудовищный пещерный медведь не вернулся домой с темной шкурой, блестящей от крови.
Он вытащил меч и уставился в темноту, но можно было с таким же успехом попытаться разглядеть что-нибудь сквозь смолу. Он мог увидеть только собственную руку прямо перед глазами. У него возникло кошмарное ощущение, что кто-то — что-то — как раз сейчас злобно опускается перед ним на корточки, и его лицо находится всего в нескольких дюймах от лица Аттилы, его черные глаза впиваются в глаза Аттилы, а с длинных клыков что-то капает. Он даже осмелился принюхаться к воздуху, совсем чуть-чуть, надеясь вопреки надежде… Он не учуял никакого зловонного дыхания, ничего, кроме сырого воздуха пещеры. Но шаркающие звуки продолжались, и оно приближалось.
Он вспомнил рассказы своего народа о нечистых существах, живших в темноте; они выбирались наружу по ночам, пробирались между деревьями или летали, раскинув крылья, как у летучих мышей. Они опускались на карнизы одиноких домов, принюхивались к воздуху, потом забирались в дом и вонзали свои острые клыки в мягкую плоть, выпивали кровь младенцев, оставляя в колыбельках только почерневшую, сморщенную высохшую оболочку, которую по утрам находили пронзительно кричавшие матери. Может, этот звук издает один из таких мерзких вампиров с плотью белой, как луна, и полупрозрачной, с глазами, как желе, он возвращается домой, чтобы поспать, с брюхом, наполненным младенческой кровью. Аттила вжался в стену и крепче вцепился в меч. Говорят, что вампира убить нельзя. Металл пройдет сквозь него, как сквозь туман. А когда они высосут твою кровь, ты становишься одним из них.
Он услышал странный, высокий крик, почти визг, и мог бы поклясться, что это одинокий крик ястреба-перепелятника, хотя ночью этого не может быть. Или упыря…
Но из темноты заговорил не упырь. Это был голос, как показалось Аттиле, юного мальчика.
— Пелагия! — шепнул голос. — С тобой ничего не случилось?
Аттила молчал. Никто не ответил.
— Пелагия!
Снова тишина, и тогда от входа в пещеру послышалось шарканье. Внезапно темнота осветилась небольшим желтым пламенем, и в этом тусклом свете Аттила разглядел худую грязную руку, а дальше и самого мальчика, года на два-три младше, чем он. В другой руке мальчик держал копье. Он поставил свой мерцающий светильник на выступ и осмотрелся. Тут он увидел Аттилу, сжался и направил копье прямо ему в живот.
— Если только ты хотя бы прикоснулся к ней, — прошипел он, — если ты ей хоть что-то сделал, я…
— Кому? — прошептал озадаченно Аттила, держа меч наготове.
Мальчик кинул взгляд в сторону, и при тусклом свете его лампадки Аттила увидел у противоположной стены сверток одеял.
Мальчик больше ничего не сказал. Он прошаркал к одеялам и очень нежно отогнул край. Аттила с большим удивлением понял, что всю ночь провел в одной пещере с девочкой, но даже не догадывался об этом. Должно быть, несчастный ребенок перепугался до смерти, но Аттила не слышал даже ее дыхания, уж не говоря о крике. Ей было всего лет шесть или семь, личико бледное и напряженное. Мальчик склонился над ней, целуя ее в лоб и шепча благодарственную молитву. Девочка повернула голову и посмотрела на Аттилу глазами, казавшимися огромными на худеньком личике с бледными, бескровными губами.
— Он убил человека, — прошептала она. — Солдата. Вон там.
— Так это его кровь на уступе? — взволнованно спросил мальчик. — Твоя работа?
Аттила кивнул.
— Я не знал, что здесь есть кто-то еще. Я прятался.
— Ну, мы тоже прячемся. Ты что, тоже бежавший раб?
Аттила подавил высокомерное возмущение, вспыхнувшее из-за подобного пренебрежительного отношения к его предкам.
— Нет, — ответил он как можно бесстрастнее. — Я… я с севера Я был военнопленным. Я возвращаюсь к своему народу.
— За Великую Реку? Я имею в виду — за границей империи?
Аттила опять кивнул.
Мальчик уставился на него. У него, как и у сестры, были широкие, похожие на заячьи, глаза и пристальный взгляд, хотя выглядел он вполне здоровым. Тощий, недокормленный, нервный и легко возбудимый, но вполне здоровый для бежавшего раба.
Он сказал:
— Пелагия и я — кстати, меня зовут Орест — мы убежали.
— Они были ужасными, — прошептала Пелагия. — И жирными. И хозяйка втыкала в нас иголки, если мы плохо работали или что-нибудь проливали.
Орест быстро закивал.
— Настоящие иголки. В руки или в тыльную сторону кисти. Поэтому мы убежали.
Аттила улыбнулся:
— Что ж, значит, нас трое.
Орест еще немного посмотрел на Аттилу и спросил:
— Можно нам пойти с тобой?
— Вряд ли. Я иду гораздо быстрее, чем ты. Кроме того, — добавил он довольно жестоко, — твоя сестра больна.
— Откуда ты знаешь, что она моя сестра?
— Вы похожи.
Мальчик снова кивнул.
— Да, верно, это моя сестра. С ней все будет хорошо. — Он наклонился над девочкой: она, похоже, опять уснула и дышала часто и поверхностно. — Вот увидишь.
— Ты там не наткнулся на солдат?
Орест помотал головой.
Аттила пробурчал:
— Ну, значит, как только рассветет, я уйду. Желаю удачи.
— Если тебе нужно, так из пещеры есть другой выход. Это надежнее. Вон там, внизу, — показал он.
— А почему ты мне этого сразу не сказал? — довольно сердито спросил Аттила.
Мальчик долго смотрел на него своими широко открытыми глазами, потом лег рядом с сестрой и уснул.
* * *
В сером свете зари Аттила успел пройти около лиги, когда услышал за спиной шаги.
Он спрятался и вскоре увидел мальчика Ореста, державшего за руку свою сестру. Их лица посветлели в холодном утреннем воздухе, щеки пылали. Пелагия даже слишком раскраснелась, покрывшись пятнами лихорадочного румянца.
Аттила дождался их и вышел из укрытия.
— Я ведь вам говорил! — произнес он.
— У тебя есть какая-нибудь еда? — спросил Орест. — Мы по-настоящему голодны, особенно Пелагия.
Аттила посмотрел на девочку, потом на мальчика. Неохотно сунул руку в кожаный мешок и протянул им кусок зачерствевшего хлеба.
— Это все, что у меня есть, — буркнул он.
Они разломили его пополам и начали есть. Девочка жевала медленно и с трудом, но съела все до крошки.
— Спасибо, — сказал Орест.
— Ерунда, — кисло отозвался Аттила, шагая вперед.
Дети шли следом.
Спустя какое-то время он обернулся и спросил:
— Тот крик у пещеры, как перепелятник. Это ты кричал, да?
Мальчик гордо кивнул.
— Это наш сигнал. Если хочешь, я тебя научу.
Аттила немного поборолся с гордостью и ворчливо сказал:
— Отличное подражание. Давай, учи.
— Хорошо, — ответил мальчик. — Он исходит из глубины глотки. Нужно вот так вытянуть шею и…
Втроем они шли медленнее, зато умудрялись наворовать больше еды, а в теплые дни отдыхали в лесу или в горах. Мальчик-грек болтал без остановки, пока Аттила не попросил его заткнуться. Пелагия, похоже, понемногу набиралась сил. Она даже стала слегка поправляться.
— Ты здорово воруешь, — сказала она ему однажды вечером, когда он вернулся с очередной одинокой фермы и принес с собой бутылку слабого вина, хлеба, соленой свинины, сушеных бобов и даже зажаренного лесного голубя.
— Это мой самый большой талант, — ответил он.
— Когда ты вырастешь, сможешь стать настоящим вором.
— Спасибо, — ответил Аттила.
— А я хочу работать в цирке, — продолжала маленькая девочка. — Ездить на медведе. Я видела один раз в цирке. Нам разрешили сидеть только на самом верху, а это далеко от арены, но я видела женщину, которая ездила на медведе. Она была такая красивая, с длинными светлыми волосами, в оранжевом и золотом наряде, как королева. — Она оторвала кусок голубя. — А потом каких-то людей убивали, и все радовались, но это было скучно, и мы все равно сидели слишком далеко и почти ничего не видели. А когда мы вернулись домой, хозяйка воткнула нам в руки иголки, потому что мы опоздали. — Она проглотила мясо, толком не прожевав его, и едва не подавилась. Аттила постучал ее по спине. — Благослови тебя Господь, — сказала девочка, когда отдышалась и вытерла заслезившиеся глаза. — Когда ты доберешься до дома, мы будем тебе служить. Ты богатый?
— Баснословно, — ответил Аттила.
— Баснословно, — повторила девочка. — Баснословно богатый. — Ей понравилось слово.
Он сказал:
— По правде говоря, я принц. Дом моего отца построен из чистого золота, и даже мои рабы одеты в шелк.
Девочка кивнула.
— А медведи у тебя есть?
Маленькие девочки очень странные, подумал Аттила, а вслух сказал:
— Сотни. Мы везде на них ездим, как другие люди ездят на лошадях.
Пелагия опять кивнула.
— Значит, решено. Мы станем твоими слугами, когда доберемся до вашего королевства.
12
Покойтесь на ней легко, земля и роса
Они спустились с гор и пересекли равнину По, когда морозами начинался новый год. Аттила боялся вести их в вверх, к возвышающимся белым пикам Юлианских Альп в это время года, но нужно было двигаться вперед. Они добрались сюда, потому что на дорогах было так много беженцев, столько тревог и слухов разносилось по стране, столько баек рассказывалось про готов и даже про ужасных вандалов, все еще не сошедших с тропы войны, а император сходил с ума в своем окруженном болотами дворце.
Никто не останавливал трех оборванных детей на дороге, похожих на множество других. Но достаточно одному солдату перегородить им дорогу копьем, спросить старшего мальчика, почему он прикрывает лицо, сорвать лохмотья и увидеть татуировки на щеках и раскосые львиные глаза. И все знали, какое наказание ожидает беглых рабов, неважно, какого возраста. Сначала им раскаленным железом выжигали на лбу буквы БЕГ — беглец. А потом начиналось настоящее наказание…
Нужно торопиться. Они не будут в безопасности, пока не перевалят через снежные пики Юлианских Альп и горы Норик, не спустятся на равнину Паннония и не пересекут широкие коричневые воды разбухшего зимнего Дуная — к свободе.
Они прошли Верону, стараясь держаться ближе к плоскому побережью восточнее Патава. Но им пришлось остановиться на обочине дороги. Они ослабли от голода и усталости, и холодные ветра дули с лагун на восток и с гор Иллирии. Трое детей
дрожали от голода и изнеможения, а маленькая девочка кашляла так, что казалось, будто у нее сейчас треснут ребра. Орест снова и снова спрашивал, нельзя ли украсть лошадей, но Аттила отвечал, что так они будут привлекать к себе слишком много внимания здесь, на более населенных равнинах По. Они должны идти пешком, как идут тысячи безымянных беженцев по дорогам Северной Италии. Но идти они не могли. Они обессилели.
Пока они отдыхали, на пыльной дороге показалась большая золоченая карета в окружении множества телохранителей. Карета направлялась в знаменитый город Аквилею на берегу Адриатического моря. Она поравнялась с прижавшимися друг к другу детьми. В карете сидел привлекательный, чисто выбритый мужчина; на его пальцах сверкали золотые кольца с печатками. Он немного посмотрел на них, и по его лицу медленно расплылась улыбка. Пелагия улыбнулась ему в ответ, и тут у нее начался очередной приступ кашля. Мужчина прикоснулся пальцем к губам и стал из кареты задавать детям вопросы. Сначала оба мальчика вели себя настороженно и подозрительно, желая только, чтобы он оставил их в покое. Но немного погодя он сумел завоевать их доверие, и даже Аттила, всегда очень чувствительный к опасности, попался на удочку. Возможно, его чувства притупились от голода и усталости. Через несколько минут всех троих усадили верхом на лошадей позади кареты и повезли в Аквилею вместе с богатым мужчиной и его кортежем.
Немногие богатые люди, очень немногие, отнесутся снисходительно к троице измученных странствиями маленьких беспризорников, не очень приятно пахнущих и грубых в манерах и поведении. Но большинство таких людей, неожиданно охваченных щедростью, которой до сих пор совершенно не проявляли, прячут под великодушной маской филантропа совсем другие, куда менее привлекательные мотивы.
Так произошло и с этим мужчиной, богатейшим гражданином Аквилеи, купцом, торгующим всем на свете — от коней до кораблей, от корицы до шелков, от перца до папируса и ароматизированных восковых свечей. Наверное, удивительно, если учитывать то, что произошло позже в тот день и в ту ночь в его личных банях на вилле в Аквилее, которую у всех входов охраняли высокооплачиваемые телохранители с бесстрастными лицами; удивительно, учитывая то, что он называл своими «Тибрскими спектаклями», в которых, угрожая кинжалом, заставили участвовать троих детей — чтобы он мог урчать от наслаждения; удивительно, говорю я, что этот добрый гражданин был еще и семейным человеком.
И действительно, он был главой и
paterfamilias Нериани, клана, который много поколений главенствует в области финансов и политики этого богатого торгового города на Адриатике — и будет главенствовать до тех пор, пока смерч с востока не ворвется в Аквилею с наказанием настолько ужасным, что ни один город в истории не подвергался подобному.
Никто не понял причин столь жестокого наказания, карфагенского в своей завершенности. Возможно, те, кого оно озадачило, поняли бы все лучше, доведись им увидеть, как этот богатый торговец по дороге в Аквилею взял в свою карету двух нищих мальчиков-бродяжек и одну маленькую девочку, убаюкав их обещаниями, успокоив засахаренными фруктами и небольшими кубками подслащенного медом вина…
После Аквилеи связанных, с завязанными глазами детей глубокой ночью вывезли из города и бросили в нескольких милях от него, у заброшенной сельской дороги. Там их и оставили умирать — потому что совершенно невероятно, чтобы эти трое нашли в себе волю и силы ползти вдоль этой дороги до тех пор, пока не наткнулись на камень, достаточно острый, чтобы перепилить шнуры, врезавшиеся в запястья. Но они нашли и волю, и силы — потому что старший люто понукал их. Освободившись, они, спотыкаясь, долго шли в беззвездной тьме, и в конце концов вместе упали в полуразрушенном свинарнике, и там смотрели сны — или кошмары — до самого рассвета.
Никто из них не разговаривал ни той ночью, ни на следующий день. Никто из них никогда больше не упоминал Аквилею. Орест и Пелагия с трудом дотащились до тропы, ведущей на север, до прохладного, чистого воздуха с гор, дувшего на равнинах По. Там они нашли кристально-чистый ручей, чтобы умыться. Но Аттила посмотрел на свои запястья, на кровь, все еще сочившуюся из разорванной и поруганной кожи там, где в нее врезались льняные веревки. Потом обернулся и посмотрел назад, на Аквилею, вольно раскинувшуюся под ярким зимним солнцем; Невеста Моря, Царица Адриатики. И запечатлел в своем сердце клятву: однажды он вернется, и его возвращение станет кошмаром для этого города. Его сердце стало твердым, как камень. Однажды…
Мальчики со временем оправились, во всяком случае, телесно. Но Пелагия — нет.
Они достигли подножья Юлианских Альп. В тот день они умывались в ледяном, но чистом горном потоке. Холодной, морозной ночью Аттилу разбудил раздирающий кашель Пелагии. Орест уже сидел рядом с ней с искаженным от тревоги лицом.
— Ей здесь слишком холодно, — сказал он. — Все дело в ее легких. Нам нужно укрытие.
— Может быть, завтра ночью, — ответил Аттила. — В долине на многие мили не видно ни огонька. Никаких шансов.
Орест смотрел, как кашляет и задыхается его сестра. Немного погодя он взял свое одеяло и укрыл ее. Потом свернулся рядом с ней калачиком и закрыл глаза, дрожа от холода.
Аттила смотрел дольше. Потом взял свое одеяло, подошел к ней и тоже укрыл ее, а сам лег с другой стороны, дрожа от холода.
Иногда ночами им удавалось вымолить разрешение переночевать под крышей, или подозрительные сельские жители позволяли им поспать хотя бы в амбаре, а на заре приносили туда миску с овощной похлебкой. Иногда Пелагии вроде бы становилось лучше. А иногда нет. Как-то утром она проснулась и закашлялась так сильно, что изо рта вылетали сгустки крови, закапавшие ей руки, и она от страха разрыдалась. Брат баюкал ее на груди и обещал, что скоро ей станет лучше. Когда придет весна и тепло, ей обязательно станет лучше. Виновата просто холодная зима. Она посмотрела на него своими огромными сиротскими глазами и ничего не сказала.
Вскоре после этого Аттила проснулся на рассвете и увидел, что Орест сидит рядом с сестрой, подтянув колени к груди и крепко обхватив их руками. Аттила окликнул его, но Орест не шелохнулся.
Аттила окликнул еще раз, и греческий мальчик-раб поднял лицо, залитое слезами.
Они, как смогли, вырыли неглубокую яму и завернули Пелагию в одеяло. Они нашли побеги рябины и утесника и усыпали ее ими, и положили вокруг ее милой головки руту и красные ягоды брионии, и засыпали ее землей. Орест неудержимо всхлипывал. Аттила пошел в лес и отыскал плоский кусок бересты. Он отдал его и свой карманный нож Оресту, а сам снова отошел.
Через несколько минут мальчик-раб был готов идти дальше. Аттила подошел к печальной маленькой могиле и прочитал написанное на коре: «Пелагия, горячо любимая, теперь спит вместе с родителями».
Аттила показал Оресту другой кусок бересты, на котором он старательно сделал резьбу острием своего меча. В углу угадывались грубые очертания медведя, а под ним была написана старая эпитафия юной девочке-рабыне. Когда-то педагог-грек заставил Аттилу выучить ее наизусть, и теперь эти простые, рвущие сердце слова вспомнились ему:
Покойтесь на ней легко, земля и роса,
Она весила так мало, что не придавливала вас.
Орест вытер слезы и кивнул. Аттила пошел и положил свою надпись на другой конец могилы. Он склонил голову и помолился отцу своему Астуру, Отцу Всего. Потом вернулся к Оресту и дождался, пока тот не был готов уйти. И они вместе направились в горы.
13
Творцы снов
Мальчики шли много дней, взбираясь все выше и выше в Юлианские Альпы. Погода пока милостиво держалась холодной, но ясной, а хвойный воздух был острым и ароматным. Они почти не разговаривали.
Как-то вечером, когда солнце уже клонилось к западу, они поняли, что больше спускаются, чем поднимаются, из-за неприступной крутизны окружающих гор. Они шли по узкой тропе, которая вела вниз, в глубокую темную долину, уже затянутую вечерним туманом. Они бормотали себе под нос молитвы и просьбы к своим богам, потому что оба мальчика нутром чуяли — эта долина дышала воздухом других миров.
Они добрались до берега темной реки, не певшей обычную речную песню веселья и жизни. Река текла сквозь сердце долины в черном, чернильном безмолвии, безгласная, как предвестник беды. Ее берега обрамлялись скорбными, горестными очертаниями ив и осин, а над водой клубился густой туман.
Мальчики беспокойно пробирались сквозь густые заросли низкорослых, чахлых дубов и боярышника, густо оплетенных мхом, и лишайниками, заглушавших даже воздух, которым они дышали. Между камнями росли папоротники, а в лужах — болотный хвощ. В этой сырой долине не ощущалось ни дуновения ветерка, не пела ни единая птица. Казалось, что до них сюда ни разу не ступала нога человека.
Наконец, так и не сказав ни слова из страха разбудить жутких стражей этого нечестивого места, они нашли себе местечко под низко нависшими ветвями дерева и плотно закутались в одеяла. Они не смотрели друг на друга, и оба ощущали в душе бесконечное одиночество. Знобкий туман окутал их, и они видели не дальше, чем на несколько футов. Обоим страстно хотелось оказаться как можно дальше от этой заколдованной демонами долины, вдохнуть свежего, чистого горного воздуха и увидеть впереди долгий путь на север. Но они понимали, что сначала им придется пройти это наводящее ужас место, по возможности незамеченными кем-то — или чем-то — что следит за ними.
Аттила уже уплывал в полный страхов сон, когда Орест рядом с ним испуганно вздрогнул.
— Что это? — прошипел Орест, глядя вперед своими заячьими глазами.
Аттила тоже проснулся и сомкнул пальцы на рукоятке меча.
— Что?
— Там, среди деревьев.
Но они ничего не увидели, кроме жутковатых очертаний деревьев, окутанных клубами ледяного тумана. Они смотрели долго, потом Аттила сказал:
— Ничего. Спи.
Они снова улеглись и притворились, что спят. Но сон не шел, оба дрожали, и не только от холода.
Воздух вокруг них сгустился и зашептал:
— Мы Творцы Музыки, мы Сочинители Снов.
Мальчики подскочили и начали дико оглядываться.
Аттила, поняв, что их обнаружили, и ощущая знакомый прилив презрения к возможной ране или смерти — потому что однажды она все равно придет — закричал прямо в обволакивающий все туман:
— Кто вы? Что вам нужно?
Орест съежился, услышав, что его товарищ так бесстрашно кричит в ночь, но в Аттилу вселяла мужество жаркая волна гнева и негодующего духа. Он вскочил на ноги и взмахнул своим мечом, рассекая неуязвимые туман и тьму.
— Кто вы? Выходите и покажитесь! — Он держал меч перед собой, и руки его были такими же крепкими, как само лезвие. — Выходите!
Казалось, что деревья вокруг задумались, разглядывая этого маленького, но свирепого мальчика. Потом в тумане среди деревьев что-то произошло. Он разошелся в стороны, как покрывало, и угрюмость и замкнутость заколдованной долины, которые так сильно давили на мальчиков, как будто немного рассеялись. Им даже почудился свет, сияющий на них откуда-то сверху, ярче, чем любой лунный свет.
И они увидели стоящую среди деревьев фигуру, и не испугались.
Орест немедленно решил, что это Иисус, который явился, чтобы спасти их от демонов, прячущихся в тумане. Аттила подумал, что это, вероятно, призрак его умершей матери. Но фигура в длинном белом облачении приблизилась, и они увидели, что это юная девушка с косами, заплетенными, как у жрицы.
Она подошла совсем близко и остановилась перед ними.
— Она играет на залитых солнцем лугах, — тихо произнесла она, не отрывая взгляда светло-серых глаз от Ореста.
— Чт… что? — пробормотал он, заикаясь.
Девушка протянула руку, положила ее на голову Ореста и с силой надавила. Орест упал перед ней на колени, и девушка сказала:
— Рим замучил ее, Аквилея убила ее, и Аквилея будет уничтожена. А сейчас мы ее видим. Она играет на лугу лютиков. И ее мать приходит к ней, и они вместе бегут к чистому ручью. Она сделала для своей матери венок из маргариток. Она видит, как смеется ее мать. А вон корова, мы видим коричневую корову с лоснящимися боками, и Пелагия гладит ее по влажному носу и смеется.
Аттила с изумлением увидел, что по щекам Ореста струятся слезы.
— Теперь она счастлива, — добавила девушка. — Так счастлива!
Вокруг них вздохнул ветер, и туман рассеялся. На небе появился бледный луч света — ночь прошла, как им показалось, за несколько минут, и солнечный луч упал на коленопреклоненного мальчика, окутав его золотистым светом зари.
Воцарилась тишина. Потом девушка убрала руку со лба Ореста, и он медленно пошевелился, словно просыпаясь после долгого сна.
Девушка повернулась и пошла к скрытым за туманом деревьям.
— Подожди! — закричал Аттила.
Девушка не останавливалась.
— Пойдем! — заорал мальчик, хватая Ореста за руку и рывком поднимая его на ноги.
Они, спотыкаясь, побежали за ней в туман. Они бежали, едва различая деревья вокруг, и вновь слышали тихий голос, только теперь казалось, что целый таинственный хор декламировал в унисон:
— Мы Творцы Музыки, мы Сочинители Снов.
Мы бродим по одиноким волноломам и сидим у уединенных источников.
Мы неудачники, мы провидцы, на нас светит бледная луна.
И все же кажется, что мы вечно будем движущей силой и зачинателями мира.
В конце концов они вырвались из плотного тумана леса и выбежали на залитую солнцем полянку под черной, нависающей скалой, высившейся у них над головами. У подножья скалы виднелся темный зев пещеры, а рядом росло дерево, и под утренними лучами солнца казалось, что его ветви были золотыми. Аттила, не сумев остановиться после стремительного бега, головой ударился о дерево и сломал одну из нижних ветвей. Девушка, стоявшая возле входа в пещеру, оглянулась, увидела, что случилось, и на ее лице мелькнула загадочная улыбка.
— Ну вот, — произнесла она, словно в чем-то убедилась. Потом посмотрела на запыхавшегося грека. — Тебе дальше хода нет, величайший друг и величайший предатель.
Орест нахмурился.
— Что ты этим хочешь сказать — «предатель»? — спросил он.
— Величайший друг до самой смерти, величайший предатель потом. — И она протянула к нему руку. — О маленький отец последнего и ничтожного, усни.
Безо всякого шума или трагедий Орест подбежал к краю полянки, туда, где на деревья падал солнечный свет, лег и тотчас же уснул.
Девушка повернулась к Аттиле, и ее улыбка исчезла.
— Это только для тебя, — сказала она, повернулась и вошла в пещеру.
Сначала Аттила не различал ничего, кроме неясного белого силуэта девушки впереди, молчаливой и летящей, словно привидение на кладбище. Но очень скоро стало так темно, что даже этого он уже не видел. Он просто шел вперед, как в пустоту, поверив, что это его судьба.
— Следуй за мной, Аттила, следуй за мной, — раздался откуда-то спереди, из темноты гор, насмешливый голос девушки. — Потому что больше ты никогда ни за кем следовать не будешь! О предводитель, о завоеватель, о великий владыка и вождь!
Мальчик ничего не ответил, но пошел следом, как было велено.
От каменных стен вокруг отражалось эхо как голоса девушки, так и множества других голосов, причитающих одновременно и в одном тоне. Они его приветствовали, голоса отражались эхом от влажных стен горы, и они страшили мальчика, потому что в них сочетались насмешка и высшее знание.
— Приветствуем тебя, Аттила, сын Мундзука, Владыка Всего и Ничего!
— О Владыка Мира от восхода до заката солнца!
— Победитель Орла и Змеи, павший в Италии!
— О Владыка Мира от пустыни до берегов Западного Моря!
Голоса становились все громче, приводили в замешательство, отдавались эхом со всех сторон, а он, спотыкаясь, шел вперед, с угрюмым вызовом стиснув зубы, иногда задевая о стены в проходах, царапая руки и ноги об острые камни в пятнах слюды. Голова его кружилась от слов, кувыркавшихся в сыром воздухе, но он был, как и всегда, полон решимости не поддаться страху или силе, не остановиться и не повернуть назад.
— Во время Семерых Спящих — Владыка Всего! — кричали, оглушая, голоса в унисон.
— Во время сотрясения Города Золота — Владыка Всего!
— Во время Последней Битвы — Владыка Всего!
Тут голоса резко замолчали, и Аттила увидел перед собой пещеру, освещенную мерцающими факелами. В центре пещеры горел костер, и в воздухе раздавался шепот единственного голоса. Голос был мягким, жалеющим, материнским, и сердце его разрывалось от его звучания, потому что он откуда-то знал, что это голос его матери.
— О Аттила, — шептал голос женщины. — О Маленький Отец Ничего!
Мальчик, весь дрожа, вышел в освещенную факелами пещеру и увидел перед собой юную девушку, протянувшую к нему руки.
Она перешагнула через костер, подошла к нему и закрыла ему большими пальцами глаза. Потом наклонилась к нему и плюнула по очереди на веки. Подняла горсть золы из костра и сдула ее в лицо мальчику. Он открыл глаза и понял, что ослеп. Аттила в ужасе закричал, но она велела ему сесть.
— Пусть ослепнут видящие глаза, а слепые глаза увидят! — резко произнесла девушка.
Дрожа от ужаса, но все еще полный решимости не заплакать и не бежать, он неловко сел на твердый каменный пол. В воздухе звучали голоса, и перед ним возникли видения. Он видел сражения, горящие города, слышал грохот лошадиных копыт. Он вздрогнул, услышав голос девушки, потому что теперь он звучал хрипло, словно это говорила сама древняя Сивилла, древняя, как Титон, просивший вечной жизни, но не вечной юности, и получил ее, и сделался таким старым, крошечным и сморщенным, что превратился в стрекочущую в траве цикаду.
— Я храню воспоминания больше, чем за тысячу лет, — проскрипел голос.
И даже здесь, в глубине горы, показалось, что среди камней вздохнул ветер.
Дряхлый голос в пещере произнес:
Четверо будут сражаться за конец света,
Один с империей,
Один с мечом.
Двое спасутся, а одного услышат,
Один с сыном, а один со словом.
Хотя у Аттилы кружилась голова от страха и дезориентации, он все же ощутил пробежавший по спине трепет возбуждения. Ему смутно казалось, что он уже слышал эти слова раньше, хотя он не мог припомнить, где, и он представлял себе путешествие Энея в подземный мир, которое когда-то лениво изучал под строгим присмотром педагога-грека. Теперь у мальчика возникло зловещее, пугающее чувство, что великое произведение Виргилия было не столько поэзией, сколько историей, что все повернулось вспять и падает в хаос и пламенную бездну, и что он — часть всего этого…
В полной гармонии с этими мыслями надтреснутый голос заговорил снова:
— Они будут называть тебя антихрист, Бич Божий, но они не понимают. Ты не антихрист. Ты — анти-Эней! — Она безумно захихикала и велела мальчику открыть глаза. Он повиновался, ощутив на веках липкую смесь слюны и золы. И тут же его глаза вспыхнули диким ужасом, потому что он увидел древнее существо, сидевшее перед ним в этой нечестивой пещере.
Это была тощая старуха, беззубая, слепая и невообразимо старая. Ее дряхлые, когтистые руки дрожали, из белых слепых глаз сочилась слизь, оставляя на пергаментных щеках извилистые полоски. На ней были лохмотья, серые, как зола. Она плевала в свои морщинистые ладони, и слюна ее была густой и черной, как смола.
Она подняла голову, и ее слезящиеся старые глаза невидяще заблестели.
— Чтобы построить новый город, ты должен разрушить старый! — вскричала она. — Только сохрани для фундамента камни! — Она помолчала, а когда снова заговорила, ее голос сделался еще более мрачным и скрипучим. — Но запомни вот что — это важнее всего:
Царем Царей из Палестины две империи были посеяны,
Царем Ужаса с Востока две империи были низвержены…
Старуха наклонилась и набрала еще пригоршню золы из костра. Ее рот, видимый в пляшущих языках пламени, сложился в беззубую, безгубую букву О.
— Одна лишь юность прекрасна, — прокаркала она совсем негромко, — однако старость иногда бывает мудрой.
Она швырнула золу назад в костер, и пещера наполнилась черным дымом. Аттила кашлял, задыхался, он с трудом поднялся на ноги, вслепую нашаривая выход — но без толку. Когда дым рассеялся, а воздух очистился, и сквозь пыль снова замерцали факелы, он увидел лишь юную девушку, сидевшую у противоположной стены, скрестив ноги и опустив голову, словно она спала. Ее руки безмятежно покоились на коленях — гладкие, мягкие, изящные руки молодой девушки.
Аттила схватил факел и ринулся по проходу на волю.
На полянке светило яркое солнце, Орест спал мирно, как дитя. Аттила потряс его, он потер глаза и огляделся, вспомнил, и по его лицу пробежала легкая тень.
Он сказал Аттиле:
— Ну и грязное у тебя лицо! Тебе нужно умыться.
Аттила отвернулся.
— Она… она ушла? И голоса?
Аттила кивнул.
— Они все исчезли.
Орест вырвал пучок травы.
— И что они тебе сказали?
— Все. И ничего.
Орест поднялся на ноги.
Аттила сказал:
— Нам нужно идти.
Пока мальчики шли по долине, освещенной ярким зимним солнцем, они снова услышали голоса, вздыхающие между дрожащими осиновыми листьями у темной и безмолвной реки.
Мы Творцы Музыки, мы Сочинители Снов,
Мы бродим по одиноким волноломам
И сидим у уединенных источников,
Мы неудачники, мы провидцы,
Нас озаряет бледная луна.
И все же кажется, что мы вечно будем
Движущей силой и зачинателями мира.
Мы, лежащие в веках в погребенном прошлом земли,
Мы построили своими вздохами Ниневию,
Своим весельем — сам Вавилон,
И низвергли их своими пророчествами
Отринув старое ради нового мира,
Ибо каждый возраст — это умирающий сон,
Или тот, что лишь собирается родиться.
Мальчики молчали, сделав вид, что ничего не слышали. Они просто опустили головы и пошли дальше.
В конце концов они вышли из заколдованной долины и начали подниматься по крутому, каменистому склону к высоким горным перевалам. Зимнее солнце на склоне светило в полную силу, и было жарко даже в это время года, теплый воздух поднимался от скал вверх, в синее небо над головой. Аттила остановился, чтобы перевести дыхание, и посмотрел в Вечное Синее Небо — дом Астура, его отца. Там парил бородач-ягнятник: похититель ягнят, ломающий им кости, самый крупный европейский хищник. Он почти неподвижно завис в теплых потоках воздуха, поднимающихся от нагретых солнцем гор. Он раскинул свои огромные крылья на двенадцать, а то и больше, футов, и слегка поворачивал из стороны в сторону голову, озирая мир под собой яркими, свирепыми, бесстрашными, всепобеждающими глазами. Бог неба. Богом созданный Владыка Мира от восхода до заката солнца.
О Маленький Отец Пустоты…
— Пошли, — позвал его Орест.
Что все это значило? Чего хотели боги? Может, просто развлечься людскими горестями и смертями?
Аттила перевел взгляд на друга и пошел дальше.
14
Последний листок
Ветреным осенним днем Люций свел Туга Бин на берег в Новиомагнии и пошел в таможню. Через несколько минут он вернулся и полностью расплатился с капитаном за проезд. Капитан что-то пробурчал, надкусил каждую монету и опустил их в свой кожаный кошель. Он пожелал любителю лошадей удачи, и любитель лошадей, тоже пожелав ему всего хорошего, смешался с толпой на причале.
Он направился на запад, в Думнонию. Дороги все еще оставались хорошими, а бандитов он не боялся. Здесь, на периферии империи, все казалось мирным. Британия пока оставалась ничем иным, как небольшим туманным островом на краю Европы, всеми забытым и мирным. Люций улыбнулся сам себе. Это ему здорово подходит.
Стояла спокойная погода, на ежевичные кусты светило мягкое осеннее солнышко, оно блестело на спелых ягодах ежевики и бузины, а он ехал по узкой дороге в сторону своей горячо любимой долины, раскинувшейся у сверкающего серебристого моря. Туга Бин ликующе ржала, и ее бока дрожали, потому что она чуяла знакомую землю, где была жеребенком. Мягкий осенний ветер шептался с листвой в дубравах и ореховых рощицах, и отвечал ее ржанию бессловесным восторгом.
И он добрался до своего длинного деревянного дома, и она вышла на порог в своем клетчатом переднике, и все исчезло — и его суровый самоконтроль, и самообладание. Он почти упал с лошади, самым нескладным и невоенным манером, и к тому времени, как снова почуял свои ноги, она уже перелетела через двор, быстрее, чем может двигаться женщина. Ее ноги, кажется, не касались земли. Она летела по воздуху, как стремящаяся домой ласточка. И они обнялись, и даже упряжка сильнейших лошадей не смогла бы их растащить.
Прошло много долгих минут прежде, чем звуки, которыми они обменивались, приобрели какой-то смысл и начали превращаться в слова, и многие из них все повторялись и повторялись, как бормочущее эхо: они называли друг друга по имени все снова и снова, словно пытаясь убедиться, что чудо свершилось и они снова вместе; а время от времени между поцелуями слышалось кельтское слово «
cariad».
— Киддвмтарт,
cariad…
— Сейриан,
cariad…
Но все же они отступили друг от друга на шаг, не в силах разнять руки, но уже в силах посмотреть друг другу в глаза, и ничего уже не расплывалось перед глазами, и уже не нужно было тотчас же снова вцепляться друг в друга.
Через ее плечо он увидел маленькую девочку с большими темными глазами и копной темных кудряшек, робко выглядывавшую из двери. Эйлса. Он хотел поднять ее на руки, но она убежала. Он засмеялся и обернулся к Сейриан — и застыл на месте. Такое выражение лица…
— В чем дело? — требовательно спросил он. А потом: — Где Кадок?
Она снова упала в его объятия, но теперь в этом не было ни радости, ни мира.
Вечером они долго сидели при мерцающем свете сальной свечи, переплетя руки, и сердца их находили некоторое утешение в мерном детском дыхании Эйлсы в ее деревянной кроватке.
Свеча мигала, и они страшились этого. Они страшились, что она сейчас погаснет, и возносили в сердцах молитву, чтобы она горела вечно. Сейриан ощущала в себе вину, пригибавшую ее к земле, как тяжелый серый груз. А Люций ощущал приливы пылающего гнева, которые с негодованием подавлял: нелепый и постыдный гнев, словно можно обвинять его жену за то, что случилось. Они пытались разговаривать ломаными, запинающимися фразами.
— Я писал, — говорил он, — но…
— С
cursus покончено, — отвечала она. — Говорят, теперь даже в Иске не получают писем.
— Но ты знала, что я вернусь.
Она кивнула.
— Я всегда это знала. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы почувствовала.
Он почувствовал себя уязвленным, и гнев вспыхнул снова. Почему он не почувствовал, что случилось с Кадоком? Вот в чем разница между мужчинами и женщинами, подумал он. Женщины связаны с теми, кого они по-настоящему любят, серебряной нитью, тоньше, чем паутина. У мужчин таких нитей нет, а если и есть, то они высыхают и отмирают из-за равнодушия; или мужчины раздраженно рвут их, ощущая груз своей ответственности, как более тяжелый, и ограничивающий, и карающий их, не то что шелковая паутинка, которую чувствуют женщины. Для женщин эти нити такой же сладкий груз, как младенец в утробе.
— Месяца два назад, — сказала она, — ты очень болел. Я всю ночь дрожала, а утром вся спина была в рубцах.
Он кивнул. В ту ночь его избивали в подвалах императорского дворца, но этого он ей не расскажет.
— Теперь я здоров.
— И ты опять уйдешь?
— Мне придется опять уйти.
Она кивнула, опустила глаза, и на передник закапали слезы.
— Но в конце концов я вернусь, — сказал он. — Мы вернемся.
Она опять кивнула.
— А мы будем вас ждать.
Они всю ночь проспали, обнимая друг друга, в молчаливом отчаянии прижавшись друг к другу, и чувствовали между собой темное пространство — своего исчезнувшего сына. Ноющую пустоту, которую нельзя игнорировать или заполнить.
Люций проснулся до зари и поднялся на холм позади дома. Меркурий, предвестник солнца, висел на восточном небосклоне, как крохотная лампадка, и Люций понимал, что Британия уже не просто мирный, уединенный, окутанный туманами и забытый остров на краю Европы. История и мир ворвутся сюда, и нет в мире племени, даже в отдаленных горах Скифии которому неизвестно оружие войны.
Туга Бин мирно спала в загоне позади дома, как серое привидение. Люция захлестнуло ощущение всех жизней, живших когда-либо в этой долине; радостей и трагедий тех семей, что обрабатывали эту землю и любили эти холмы и леса. И всех людей, всех родителей и детей, что еще появятся в следующие сотни и даже тысячи лет, с их новыми языками и странными богами. При этой мысли голова его закружилась. Столько людей, столько историй, и после каждого останется лишь царапина на земле Думнонии, царапина в шесть футов в этой тучной красной земле. И она тоже скоро зарастет травой и будет забыта.
Он вернулся мыслями к настоящему, к всепоглощающему сегодня, в котором нужно жить и которое нужно принять вместе со всем, что оно из себя представляет. Каждый миг жизни чудесен, сказал ему однажды мудрый человек, и неважно, насколько он ужасен. Жизнь сама — чудо. Золотой солнечный ободок показался над горизонтом, и солнечный свет заструился на вершины дубов, как расплавленное золото. И Люций поднял лицо к его далекому теплу и начал молиться о помощи. Он молил неизвестного властелина вселенной помочь в это время печали и страха.
И помощь пришла, но это был не сияющий юный бог в солнечной колеснице, спускающийся с небес, и не богиня в белых одеяниях, беззвучно выходящая из-за деревьев в золотых сандалиях. Помощь пришла в образе простого смертного: потрепанный старик в поеденной молью фригийской шапочке, который спускался с вершины холма на севере, постукивая кривым тисовым посохом по испещренной кремнем известковой тропинке.
Люций уставился на него, забыв о начатой молитве.
— Этого не может быть, — прошептал он.
Человек приближался. Очень, очень старый мужчина с длинной седой бородой, но при этом он весьма энергично спускался с холма, большими, уверенными шагами, очень подходившими его облику — поджарый, жилистый, ростом выше шести футов. Был он безоружным, за исключением узловатого тисового посоха в правой руке. Но даже в его походке чувствовались властность и целеустремленность. Он поднял вверх лицо, и даже на таком расстоянии Люцию показалось, что он видит огонек в этих глубоко посаженных ястребиных глазах.
— Гамалиэль, — прошептал Люций.
Старик заметил Люция и улыбнулся. Они пожали друг другу руки.
— Люций, — произнес Гамалиэль.
— Старый друг, — отозвался Люций.
Гамалиэль снова улыбнулся, но Люций слишком взволновался и мог только смотреть на друга и пожимать ему руку.
Появилась Сейриан. Старик обнял и поцеловал ее, отодвинул от себя и всмотрелся в ее лицо из-под кустистых серых бровей.
— Ах, Сейриан, Сейриан, одна такая на миллион, — вздохнул он. — Будь я не несколько столетий помоложе…
— Руки прочь от моей жены, — вмешался Люций.
Гамалиэль наклонился, запечатлел на ее щеке еще один поцелуй и снова выпрямился в полный рост.
— Я, знаете ли, здорово проголодался, — заметил он. — У вас там не булькает на медленном огне овсянка? Вы же знаете, как я ее люблю.
Сейриан развела огонь в очаге и поставила греться молоко с водой, а когда оно закипело, засыпала и начала помешивать овсяную муку. Они сидели, поставив на колени дымящиеся миски с овсянкой, залитой густыми желтоватыми сливками, и завтракали в дружеском молчании.
В обнаженных ветвях деревьев у дома щебетали птички, прыгая с ветки на ветку и слетая на землю в поисках корма.
Наконец они отставили миски, и Сейриан с Люцием рассказали Гамалиэлю все, что могли.
Он кивнул.
— Мы найдем его. Мы должны.
— Но как? — воскликнул Люций. — С чего начать?
Гамалиэль, как обычно, не дал прямого ответа.
— Мы начнем с того, с чего начнем. Но мы его найдем. Я чувствую это в воде. — Он выглядел необычно серьезным. — Я прочел это в овсянке.
Люций не выдержал и ухмыльнулся. Гамалиэль-мудрец, старше, чем зеленые холмы Думнонии. Гамалиэль — странник в плаще и капюшоне, великий путешественник по диким землям и по морю, добравшийся, как говорили, даже до мифического Китая и вернувшийся назад. Гамалиэль, проживший тысячу лет, а то и дольше, спокойно рассказывающий непостижимые вещи о том, как знавал Юлия Цезаря и как великий диктатор жульничал в шашки; или рассказывал о весьма неприятных привычках Сократа, словно знал его лично; и даже об Александре Великом и о том, как был его наставником и «куда более полезным, чем тот старый стагирит-педант Аристотель. Представляешь, однажды он пытался убедить меня, что если случить верблюда с пантерой, родится жираф! Какая нелепость!»
Гамалиэль-рассказчик, любитель загадывать загадки, шутник, обманщик и святой, который носит свою мудрость с такой же легкостью, как изъеденную молью фригийскую шапочку.
— Ну вот, — сказал Гамалиэль, выпрямляясь. — Насколько я понимаю, у тебя хранится последняя из «Сивиллиных Книг».
Люций вытаращил на него глаза. Он совсем забыл о том обрывке пергамента, что отдал ему полководец Стилихон. Казалось, что это случилось так давно!
— Откуда, во имя Света, ты это знаешь?
— Я знаю все, — снисходительно ответил Гамалиэль. — Ну, почти все. Во всяком случае, все, что стоит знать. В отличие от этого вечно меняющего логику, пошлого болвана Аристотеля из Стагиры с его смехотворными
genera и
probabilistic enthymemes…
— Слушай, не впутывай сюда умерших греческих философов, ладно?
Гамалиэль фыркнул и скрестил руки.
— В общем, — сказал он, — у тебя есть последние листы, верно?
Люций кивнул.
— Но какое отношение они имеют к поискам моего сына?
— Огромное, — ответил Гамалиэль. — Огромное. — Он положил руку на плечо Сейриан и ласково попросил: — А теперь, моя дорогая, расскажи мне все, что произошло.
Она глубоко вздохнула для храбрости и начала.
Они с Эйлсой сидели на берегу и искали ракушки, когда появились саксы.
Кадок плавал в своем горячо любимом коракле — крохотной лодочке, сплетенной из ореховых ветвей и обтянутой просмоленной бычьей шкурой, с величавым названием Seren Mar — Морская Звезда. Он закидывал удочки со свежей наживкой и ловил скумбрию, и был счастлив, как только может быть счастлив занятый делом мальчик. И тут его мать, прикрыв от солнца глаза, посмотрела на горизонт и увидела квадратный парус, раздувшийся под южным ветром. Она смотрела, как он приближался, и только когда он оказался за одну-две мили от берега, продолжая быстро приближаться, разглядела, что на парусе не орел, как она думала сначала, а грубо вышитый черным волк.
Вмиг она вскочила на ноги, подхватив Эйлсу, и пронзительно закричала Кадоку, чтобы он немедленно возвращался. От ужаса и отчаяния ей казалось, что мальчик двигается слишком медленно — он еще сматывал удочку, оглядываясь назад в некоторой тревоге, но недостаточной, совсем недостаточной. Юность никогда не страшится достаточно, а старость — слишком сильно.
Сейриан оказалась перед очень страшным выбором: либо бежать в холмы и лес прямо сейчас, схватив за руку Эйлсу, или стоять и мучительно ждать, пока ее одиннадцатилетний сын медленно догребет до берега, рискуя при этом, что они все трое попадут в плен, если не хуже. И она решилась бежать с Эйлсой, молясь при этом всем богам, чтобы ее умница-сын тоже сумел убежать. Она уже наполовину взобралась на западный холм, поросший густым ореховым лесом, когда пиратское судно саксов причалило к берегу, разрезав клювоподобным носом гальку, как меч разрезает щит какого-нибудь бедолаги.
Прежде всего они решили позабавиться поимкой мальчишки-кельта, который бросил привязывать свой коракль к колышку, дабы уберечь его от летних штормов, и помчался с берега. Как хохотали саксы! Пробегая мимо коракля, они располосовали своими длинными мечами бычью шкуру, превратив ее в ленточки, поймали мальчика, сбили его наземь щитами, обтянутыми воловьей кожей, и засунули головой вперед в дерюжный мешок. Они связали его в мешке, как домашнюю птицу и бросили, кричащего, на берегу, а сами повалили в деревню посмотреть, чем там можно поживиться.
Они нашли женщину с ручной мельницей и ее дочь, солившую рядом рыбу, изнасиловали обеих, но убили только мать. Дочь, истекавшую кровью, связанную и с кляпом во рту они забрали с собой. Они убили целую семью в другом доме дальше по долине и зарезали весь их скот, забрав с собой одну телку, чтобы иметь на судне свежее мясо. Сожгли еще несколько домов и христианскую часовню — они ненавидели христиан и их молельные дома. Совершив все это и получив в трофеи одну несчастную телку да несколько рабов, они вернулись на берег и ушли в Кельтское Море, направившись на восток для следующего набега дальше по берегу белых утесов.
Когда Сейриан замолчала, Гамалиэль взял ее за руку и встал.
— Пойдем, — сказал он. — Сейриан, дорогая моя, нам нужно прогуляться.
Люций тоже поднялся.
Гамалиэль мотнул головой.
— Ты останешься здесь.
— Что это значит? — с негодованием воскликнул Люций.
— Когда мы уйдем, — сказал Гамалиэль, — возьми последние листы и выучи наизусть все, что в них написано. Выучи все.
— Выучить? — повторил Люций. — Чего ради?
— Ради будущего, — ответил Гамалиэль. Потом улыбнулся своей загадочной раздражающей улыбкой и продекламировал тихим низким голосом: — Ибо наступит время, когда люди будут гулять по полям, как в свершившемся сне, и разговаривать, словно дни долги, а звездный свет насыщен. — И добавил отрывисто: — В конце-то концов, кем был твой отец?
— Ты знаешь, кем был мой отец, — ответил Люций. — Сыном
druithynn.
— Значит, желание учить стихи должно бродить у тебя в крови. Твой отец мог прочесть наизусть десять тысяч стихов, замолкая только для того, чтобы глотнуть меда.
Люций фыркнул.
— Выучи как следует, — продолжал Гамалиэль, — каждое слово, не пропускай ничего. А я пойду на долгую приятную прогулку с твоей очаровательной женой. — И они скрылись за дверью.
Люций слышал, как хихикала Сейриан над какой-то шуткой Гамалиэля, пока они пересекали двор. С момента своего возвращения он в первый раз услышал, как она хихикает.
Он сердито сел обратно на табурет, вытащил потрепанный пергамент из кожаного кошеля и начал читать.
Сейриан и Гамалиэль гуляли долго, они спустились по долине к морю и побродили вдоль рокового берега. Сейриан остановилась и долго смотрела в серое море, слушая одинокие крики чаек в осеннем воздухе. Гамалиэль протянул старческую руку и прикоснулся к ее юной румяной щеке.
— Будь спокойна, — пробормотал он.
Она повернулась к нему, нахмурившись.
— Как я могу?
— Будь спокойна, — повторил он, куда ласковее, чем обычно. — Я не сказал — довольна.
Она снова посмотрела на море, повернулась, и они пошли дальше по скрипящей под ногами гальке, вверх по западному холму, к лесу, через гребень, и вниз, по мокрым лугам. Больше они на разговаривали.
Но вечером, сидя у очага, вкусно поужинав бараниной, тушеной с орехами и зимними овощами, они опять завели беседу.
— Ты все выучил? — требовательно спросил Гамалиэль.
— Держи, — ответил Люций, устало протянув старому другу пергамент. — Проверь, если хочешь.
В ответ Гамалиэль громко выкрикнул:
— Нет! Не предлагай мне этого! — и отшвырнул пергамент.
Люций и Сейриан удивленно посмотрели на него. Он редко впадал в гнев.
— Но…
— Это не для меня, — сказал Гамалиэль, взяв себя в руки. — Ты не понимаешь. Никогда не показывай мне их. В сущности… — Тут он встал и, ловко взмахнув тисовым посохом, отправил пергамент из рук Люция в огонь.
— Какого..? — вскричал Люций, пытаясь спасти пергамент.
Гамалиэль резко оттолкнул его руку посохом и велел сеть на место.
— Они больше не нужны, — просто сказал он.
Они смотрели, как корчился в пламени старинный пергамент, а буквы странно растекались от жара, словно слова могли пережить пергамент, на которым были написаны. Слабо пахло чем-то… тленным, как будто из склепа или из могилы, и пергамент сгорел и исчез в клубах густого черного дыма. Гамалиэль взял пучок дикого майорана с гвоздя в стене и бросил его в огонь, чтобы очистить воздух.
— Что это было? — спросил Люций. — Дыхание могилы и черный дым?
Но Гамалиэль не ответил. Он сказал только:
— Теперь последние листы — это ты. — Улыбнулся и обратился к Сейриан: — Женщина, узри своего мужа — это последняя из «Сивиллиных Книг». — А Люцию сказал более серьезно: — Однажды ты передашь их своему сыну, как положено по кельтскому обычаю поступать со святыми знаниями древности. Ибо ты и Кадок происходите от Бранов, и в ваших жилах течет кровь druithynn, как ты сам сказал.
Люций нерешительно произнес:
— Ты должен рассказать мне больше, Гамалиэль. Я как в тумане.
Старик улыбнулся и посмотрел в огонь.
— Увы, я не такой мудрый, как тебе кажется. В мире столько тайн, но нет ничего таинственнее человека. Что касается пророчеств Сивиллы… кто на деле может предвидеть будущее? Разве вложат боги такую ужасную власть в слабые и вероломные руки человека? Разве будущее записано в книге небес, неизменное и предопределенное от яйца до конца? Разве ты не знаешь в сердце своем, что можешь выбирать между темным путем и Светом?
Сейриан сказала Люцию:
— Ты это знаешь.
Люций уставился в пол, смутно ощущая себя пристыженным.
— У человека есть выбор, — продолжал Гамалиэль, — и будущее не записано, и все пророчества — это никчемные плохие вирши. И даже пергамент, на котором они записаны, не годится для того, чтобы подтереть задницу императора!
Люций ухмыльнулся.
— Тогда зачем суетиться из-за них?
— Потому что люди верят в пророчества. Они жадно выслушивают свои гороскопы, цепляются за «свои» драгоценные камни, за мифических прародителей и за все эти маленькие-маленькие обманы. У наших организмов есть свой срок, они живут — и прекращают существовать, но за этот срок они, безусловно, обладают властью, могут ранить, а могут исцелить. Вот в чем их сила.
Люций
медленно кивнул.
— Мир изменился, — сказал Гамалиэль, — и мы вместе с ним. — Он грустно улыбнулся. — И на эту славную землю, и даже в эту долину, приходят саксы.
Заговорила Сейриан:
— Я почти ничего не знаю о саксах. Я знаю, что это слово означает «люди меча». До того дня я не видела, чтобы в нашей тихой долине обнажили меч. А теперь я знаю, что каждый мой сон о них наполнен кровью.
— Потому что они хотят, чтобы их так воспринимали — и видели во сне, — сказал Гамалиэль и продолжил тихим голосом:
Девять дней и девять ночей владыка Один
Провел, прибитый гвоздями к древу,
Жертвуя собой.
Потом небо отворилось,
Загремел гром,
Занялся рассвет,
И поплыли длинные корабли.
Люди меча, люди топора,
Ледниковый период, волчий период,
И никакой пощады от человека человеку.
— Они всего лишь одно из многих племен, — говорил дальше Гамалиэль. — Да, они свирепые и страшные люди. Со временем из этой свирепости может произрасти нечто великое и страстное, но пока они — Люди Меча, как ты и сказала, дорогая Сейриан, и Люди Крови, и saxa — это их слово для грозных и острых длинных мечей. Они поклоняются странным, темным богам, а имя Христа — пытка для их ушей. Море принадлежит им, и они в своих узких остроконечных кораблях бороздят его день и ночь, а в глазах их — голод и вожделение. Они смеются, утверждая, что пересекут и самый океан и доплывут до входа в Ад, который представляет собой большую темную пещеру, в которую черным потоком вливается море. Они шутят, не боясь богов, что приплывут в эту адскую бездну и обшарят весь Ад в поисках золота.
Несмотря на жар от очага, Сейриан поежилась.
— А что же должны сделать мы? — спросил Люций.
— Последнее кельтское королевство будет сражаться против языческих захватчиков, — ответил Гамалиэль, — и битва будет выдающейся.
— А Британия погибнет в конце?
— Все нации и империи погибнут в конце, — с тихой грустью сказал Гамалиэль. — Но не все войдут в легенду столь блистательно, как последнее из кельтских королевств. — Он посмотрел в огонь. — Так говорили наши прорицатели. Так говорил Мирддин. Для всех нас наступают трудные времена, и повсюду за границами волнуются племена. Саксы — свирепый народ, но не свирепее, чем свевы, или готы, или вандалы и пока еще не свирепее, чем то племя, что придет совсем издалека. «Шторм с Востока — о, этот шторм не прекратится».
— А что случится с нами, Гамалиэль?
Гамалиэль улыбнулся. Часто, когда он бывал в унынии и словно удивлялся веселости, поднимавшейся из самой глубины естества, которую никто, кроме него, не ощущал и не понимал, его морщинистое старое лицо вдруг озарялось таинственной улыбкой, и он говорил, как сказал и сейчас:
— Все будет хорошо, и вся суть вещей устроится хорошо.
— Да как же это?
— То, что гусеница называет концом света, Владыка называет бабочкой, как сказал мне один старый мудрец, которого я встретил в горах между Китаем и пустынями Скифии.
— Ты говоришь загадками, старый друг.
— Я говорю загадками, потому что жизнь — загадка. И не та загадка, которую нужно разгадать, а та, которую нужно взвалить на плечи, как взваливаем мы тяжелый груз, и нести по дороге, распевая хвалы миру, который Господь создал в мудрости Своей, и не позволять тревожиться сердцу. — Он поворошил в очаге толстой стороной посоха. — Именно так мы и вернем вашего Кадока. Потому что он происходит из Бранов, славословец и сочинитель гимнов, и рожден с целью, которой он не сможет достичь, если будет оставаться в цепях на невольничьем рынке в колонии Агриппина.
Сейриан вздрогнула, представив себе эту жестокую картину, и опустила голову. Но Гамалиэль не стал преуменьшать правду о доле Кадока. Он просто повторил:
— Мы вернем его.
— Ты можешь вернуть его? — вскинулась Сейриан, гневная и агрессивная в своих сомнениях.
Гамалиэль ответил:
— Увидим. — Он ласково улыбнулся ей и положил свою сухую старческую руку на ее. — Увидим в самом сердце темной ночи.
— Опять загадки, — вздохнул Люций.
Гамалиэль положил вторую руку на мускулистое плечо Люция.
— Старый друг, — сказал он.
На следующее утро Сейриан и Гамалиэль смотрели, как Эйлса выгоняла цыплят во двор, а Люций при первых проблесках зари начал чинить изгородь выше по холму.
Сейриан пожаловалась Гамалиэлю:
— Он не разговаривает со мной.
Гамалиэль вздохнул.
— Он солдат, а не оратор. Если хочешь понять, что у него на сердце, присматривайся к его поступкам, а не к словам. Ты ведь знаешь, что ему совсем не хочется возвращаться в империю. Он только хочет отыскать сына — ради себя, ради Эйлсы и ради тебя. Смотри, как устало и тяжело шагает он по дороге, ведущей из долины. Не забывай, почему он это делает и с какой тяжестью на сердце снова покидает тебя. Никогда не сомневайся в нем.
— Я в нем и не сомневаюсь! — воскликнула Сейриан с неожиданной злостью, и ее глаза мрачно сверкнули. — И никогда не сомневалась! В нем нет ни капли трусости или вероломства. Именно это и приводит меня в отчаяние. Более слабый человек уже сдался бы, и остался дома, и… и…
— И вы бы жили долго и счастливо?
Она уставилась на булыжники двора и помотала головой.
— Нет. Ты прав. Я его потому и люблю, что он уходит. Если бы он остался у домашнего очага и ухаживал за мной, с улыбочками, и поцелуйчиками, и милыми пустяками, как высокорожденный благородный любовник, я бы его слегка презирала. — И она улыбнулась, подумав о противоречивости человеческого сердца.
— Он хороший человек, — подтвердил Гамалиэль. — Хорошее — это противоположность слабому, таким людям редко достаются уют и довольство жизнью. Будь терпеливой и следи за Эйлсой, как орлица — я знаю, так и будет. И не забывай поглядывать, не появятся ли темные тени саксонских длинных кораблей, ведь никто не знает, когда они могут приплыть сюда в следующий раз. Мы вернемся. Мы вернемся скоро, с твоим сыном, и вы снова станете семьей.
Сейриан сердито смахнула слезы и коротко кивнула.
— Я знаю, знаю. Идем-ка. — Она повернулась и нырнула в дом. Гамалиэль последовал за ней, наклонившись, чтобы не удариться головой о притолоку, как уже не раз случалось. Она вытащила завернутый в холст сверток и сунула его в искривленные руки. — Я испекла медовых лепешек.
— А, знаменитые медовые лепешки Сейриан, дочери Марадока! — воскликнул Гамалиэль, поднимая сверток над головой. — Кто сможет причинить нам вред с такими могущественными талисманами в кармане? Наверняка даже боги смотрят вниз, чувствуют этот запах, поднимающийся к небесам, и отшвыривают подальше миски с амброзией и кубки с нектаром, и желают сделаться простыми смертными на земле, лишь бы вкусить радостей благословенных медовых лепешек Сейриан, дочери Марадока!
— Хватит уже, хватит, старый дурень! — засмеялась Сейриан и вытолкала старика из дома на солнышко.
Эйлса уже покормила цыплят и, очень довольная, подошла, остановилась перед высоким стариком и прищурилась.
— Кадок показывал мне цветы, и всегда ловил рыбу, — сказала она, — много-много рыбы. Он был умным.
— Он и сейчас очень умный, — ласково сказал старик.
Эйлса уставилась на него.
— Мы теперь завтракаем без него… Ты найдешь его, правда?
Он погладил копну кудряшек.
— Не бойся, малышка. Твой брат скоро опять будет здесь.
Они ушли на следующее утро, на рассвете. Сейриан и Люций без слов прижались друг к другу с такой отчаянной тоской, что Гамалиэль, печалясь за них, не выдержал и отвернулся. Его руку потянула маленькая ручка, и он посмотрел вниз, в яркие карие глазки Эйлсы.
— Ты тоже уходишь? — спросила она.
— Да, малышка, я тоже ухожу.
— У тебя руки сухие и морщинистые. Ты капитан корабля?
— Не совсем так.
— Но мне твои руки все равно нравятся, — поспешно добавила она.
— Спасибо, моя дорогая.
— И ты слишком старый, чтобы сражаться с плохими людьми.
— Это правда.
— Тогда что же ты будешь делать?
Гамалиэль улыбнулся.
— Иногда я и сам об этом задумываюсь, — пробормотал он. — Ну, я составлю твоему папе компанию во время долгих странствий и поисках твоего брата.
— Но ты же не знаешь, где он!
— Мы не знаем этого точно.
— И как же вы его найдете?
— Будем просто смотреть.
Эйлса ненадолго задумалась.
— Иногда я так нахожу свои вещи. Позавчера я нашла свой обруч в свинарнике, но я его там не оставляла, а свиньи не играют с обручем. Они слишком жирные, и он застрянет посередке. — Она нахмурилась. — А иногда я не могу найти и тогда сдаюсь, а они все равно возвращаются ко мне. Странно, правда? С тобой такое бывает?
— Ах, — вздохнул Гамалиэль, — постоянно.
— Гм, — сказала Эйлса и побежала играть.
Люций и Сейриан подошли к нему рука об руку, и Сейриан поцеловала Гамалиэля, и он говорил ей какие-то успокаивающие слова, а она кивала и с трудом улыбалась. А потом все трое соединили руки в треугольник.
Гамалиэль сказал Сейриан:
— Утешитель да будет с тобой. Да охраняет Он твои поля днями, а Она да сидит у твоего очага вечерами.
Сейриан подхватила:
— Да стелется путь вам под ноги, да покажется солнце, чтобы светить вам, да будет Господь третьим путником, что пойдет рядом с вами туда же, куда и вы.
Люций и Сейриан ничего не пожелали друг другу, и Гамалиэль понимал, почему. Глубокие чувства невозможно выразить словами.
Подбежала Эйлса и с негодованием разорвала треугольник, так что пришлось сделать квадрат. Она закрыла глазки и помолилась:
— Пусть папочка и этот старик никогда не ложатся в постель без ужина, пусть их не убьют и не съедят морские чудовища или еще кто-нибудь. — Подумала и добавила: — И даже пусть не откусят им руку или ногу, чтобы им не пришлось возвращаться домой в тачке.
И все серьезно заключили:
— Аминь, — и маленькая группка распалась.
Люций и Гамалиэль взяли свои кожаные мешки, а Гамалиэль еще и тисовый посох.
Эйлса подбежала к Люцию и обняла его за ноги.
— Ты побыл дома совсем недолго, — сказала она. — Я тебя даже не запомнила хорошенько.
Люций ответил недрогнувшим голосом:
— Я уйду еще только один раз и вернусь с твоим братом.
Девочка засияла от восторга.
Сейриан подняла ее на руки и, стоя у скрипучей деревянной калитки, они смотрели, как двое мужчин — высокий, сероглазый, широкоплечий молодой и сухопарый, стройный, старый, как эти холмы — шли рядом вверх по склону, к вершине и на восток.
15
Морские волки
На побережье, в маленьком порту Сейтонис, они уговорили местного торговца и его корабельную команду перевезти их через Кельтское море в Бельгику.
Они покинули побережье Думнонии на
Gwydda Ariana — «Серебряном Гусе» под ярким солнечным светом. Ветер дул сзади и лишь немного с траверза, и они могли сделать добрых сто миль в день. К ночи они должны были попасть в Бельгику.
После обеда ветер переменился и задул с юга так внезапно, словно кто-то закрыл дверь от сквозняка, и с марсовой площадки, которая на самом деле представляла собой просто старую бочку, наскоро привязанную к грот-мачте, предупредили о тумане впереди. Они дрейфовали вперед до тех пор, пока не увидели с палубы границы тумана: плотные облака, неподвижно лежавшие на плоском и безветренном море, зловещие и печальные.
Они потихоньку продвигались вперед, ловя ветер, и удары боковой волны казались жуткими в окружающей тишине, и они все приближались к туману, лежавшему на воде, закрывая собой белые утесы галльского берега. Море, до сих пор бывшее самым обыкновенным, с небольшими волнами и зыбью, сделалось спокойным, как деревенский пруд, и маленькое суденышко слегка покачивалось с левого на правый борт, а парус трепыхался тщетно.
Капитан, седеющий ветеран с двумя золотыми кольцами в левом ухе и левым глазом, поврежденным балкой, хмурился, вглядываясь в туман, и не отдавал никаких приказов.
— Почему мы не ставим весла? — рассердился Люций.
Капитан долго не отвечал, а потом проворчал:
— Не нравится мне это.
— Это просто туман. Сколько еще осталось до берега?
— Миль двадцать, наверное.
— Ну, разве нельзя начать грести? Ветер там или не ветер, а через несколько часов мы будем на месте.
Капитан все еще не смотрел на Люция. Он сплюнул за борт и сказал:
— Саксы. Они страх как любят туман.
Немного поколебавшись, капитан все же приказал ставить весла, и они погребли в туман. Тишина пугала, единственный звук исходил от весел, медленно погружавшихся в воду. Они вошли в участок, где туман был более редким, и Люций разглядел несчастного впередсмотрящего на марсовой площадке, высоко над палубой. Потом туман снова сгустился, и матрос исчез из вида, как птица в облаках.
Но наконец туман сделался реже, а потом растаял совсем, и тогда пошел дождь. Гамалиэль и Люций спрятались в каюте, над которой была туго натянута парусина, и капли дождя бешено барабанили по ней. Опять поднялся ветер, на этот раз с запада. Капитан приказал распустить паруса, и они понеслись вперед сквозь хлещущий дождь. Сквозь пелену воды не было видно никаких других судов, враждебных или дружеских.
Ближе к вечеру дождь стал затихать, прекратился совсем, и выглянуло солнце. Впередсмотрящий на марсовой площадке снял с себя одежду и развесил ее по краям бочки для просушки. Он вглядывался в горизонт.
Ничего. Хотя на востоке тучи все еще висят низко на горизонте и…
Он уже натягивал на себя одежду, когда заметил на восточном горизонте цветное пятнышко. Он напряг зрение. Миль десять, а то и больше. Нет, меньше. Он заметил его поздновато — глаза устали. Яркий парус, темный корпус, и идут прямо на них. Боясь гнева капитана, он все же свесился из бочки и крикнул:
— Парус слева на четверть румба.
Капитан всмотрелся.
— Далеко?
— Шесть миль. И приближается.
— Если ты спишь на вахте, матрос, — загрохотал капитан, с впечатляющей скоростью впадая в гнев, — плетка прогуляется по твоей спине быстрее, чем ты успеешь сплюнуть!
— Я не спал, капитан, нет!
Люций и Гамалиэль снова вышли на палубу. Люций посмотрел в море. С палубы казалось, что далекий корабль все еще на горизонте.
— В чем дело? — спросил он.
Капитан сплюнул.
— Неприятности. Вечно паршивые неприятности.
Парус надувался ветром. Капитан приказал лечь на левый борт, и парус привели к ветру.
— Клянусь яйцами Юпитера! — зарычал капитан.
— Пурпурный парус! — крикнул впередсмотрящий.
— Было время, — сердито пожаловался капитан своим пассажирам, — когда пурпурный парус означал римское судно. А сейчас он может означать любую чертовщину. Богатые дамы носят парики, как шлюхи, корабли ходят под пурпурными парусами, а римский император, насколько мне известно, носит паршивые желтые трусы.
Люций хотел сделать замечание старому грубияну, но передумал. Какое отношение к его нынешним заботам имеет достоинство императора? Кроме того, любой капитан — император на борту своего корабля, и это известно даже сухопутным крысам.
— Рулевые! — заорал капитан. — Три румба влево и держи ровно. Выбирай шкоты с правого борта!
Оба громадных рулевых с выпирающими на руках мышцами (от напряжения, потому что приходилось разворачивать судно под полными парусами), навалились на рулевое управление. Широкие кожаные ремни скрипели от их усилий.
Несколько матросов выбирали шкоты с правого борта, и громоздкое торговое судно медленно, мучительно поворачивало налево. Капитан рявкал, отдавая приказы, и наконец
Gwydda Ariana оказался почти под прямым углом к ветру. Сильнее он повернуть не мог.
Впередсмотрящий видел, как пурпурный парус тоже поворачивает на правый борт, и делал он это намного быстрее. Темный корпус — теперь он это хорошо видел — был низким и узким. Оба корабля плыли параллельно, на север. Матрос потрогал свой кинжал с костяной рукояткой.
Люций спросил:
— Что, пурпурные паруса нынче в моде?
— Не так заметны, как белые, — отрезал капитан. — Пурпур помогает пиратам подойти очень близко.
— Вы же не знаете наверняка, пираты ли это.
— Ну да, и я не знаю наверняка, трахал ли мой папочка мамочку. Но готов побиться об заклад, что так оно и было. — Он отошел в сторону. — Палубные, готовь весла по правому борту. И быстро, черт вас возьми!
Оставшиеся шесть членов команды повиновались, вставили весла в шесть грубых отверстий в балке, возвышавшейся над палубой всего на несколько дюймов. Вместо специальных гребных скамеек, какие бывают на военных судах или галерах, на этой старой лоханке были только вбитые в палубу планки для упора. Тощие на вид матросы привязали босые ноги к планкам и замахали веслами.
Судно свернуло с курса — но приближающийся корабль сделал то же самое. Капитан снова выругался.
— Мы идем… — начал Люций.
— К вратам Гадеса, — прорычал капитан.
— Ты слишком много ругаешься, — произнес спокойный, низкий голос за спиной. — Кроме того, мой друг задал тебе вопрос. Мне кажется, тебе должно хватить учтивости, чтобы дать ему простой ответ без излишних многословных добавлений и объяснить ему, куда мы направляемся.
Капитан ошарашенно обернулся, увидел старика с бородой, как у священника, и решительным взглядом, и недовольно буркнул Люцию:
— Мы направляемся назад к побережью Британии, к порту Леманис, если сумеем добраться туда раньше наших дружелюбных гостей…
Его прервал резкий крен судна — парус больше не раздувался, а бешено хлопал, потому что ветер сменился и дул теперь прямо с левого борта.
Капитан заорал, чтобы немедленно ставили весла, и все с безумной скоростью кинулись исполнять приказ. Он был старым стреляным воробьем, не улыбавшимся уже лет двадцать, им не раз приходилось сталкиваться с трудностями, но до сих пор они справлялись.
— Убирай паруса! — грохотал он. — Рулевые, держать северо-запад!
Теперь ветер дул им в лица. Паруса были свернуты и плотно привязаны к рее.
Gwydda Ariana тут же потерял скорость, и началась качка.
Волны перехлестывали через нос, судно раскачивалось и медленно ползло вперед, разворачиваясь все сильнее и сильнее к наветренной стороне.
— Гребите! Гребите, паршивые трусливые ублюдки! Гребите так, словно к глотке уже приставлен нож, а дьявол стоит за спиной! Вспомните все, что вам рассказывали о саксонских пиратах, и гребите, пока кишки не лопнут и кровь не хлынет изо рта! Сильнее налегайте, ребята! Толкайте и поднимайте! Мышцы заживут за день, а если вам глотки перережут — потребуется больше времени, чтобы их вылечить! Ха!
Капитан выстроил остальных членов команды, чтобы они вовремя сменяли уставших гребцов.
— Если увидишь, что кто-то упал или блюет, оттолкни его к черту и хватай весло. Когда ты устанешь, тебя тоже кто-нибудь сменит.
Люций и Гамалиэль переглядывались. Старый сквернослов, похоже, наслаждался всем этим, словно он оживал перед лицом смерти.
Они встали на носу корабля и замерли в ожидании.
— А что случилось с парусом? — недоумевал Люций. — Мы еле движемся.
Капитан стоял у них за спиной, уперевшись кулаками в бока и глядя на гребцов. Люций и Гамалиэль подскочили, услышав, как он пророкотал:
— У них быстрое судно. Под парусом они нас легко нагонят.
— А мы под веслами быстрее, чем они?
Капитан ухмыльнулся, обнажив черные зубы.
— Ни единого паршивого шанса, приятель. Они и на веслах быстрее нас. Тут вопрос в другом: будут ли они упираться? Любой дурак может спустить паруса и сидеть попердывать на солнышке. Но гребля против ветра требует решимости. Для них это всего лишь вероятность кой-чем поживиться. А нам жалко наших жизнешек. — Он утер рукой нос и фыркнул. — И кто, по-вашему, будет грести быстрее?
— Ну, — сказал Гамалиэль, кивнув на пурпурный парус, — похоже, они решили превзойти самих себя.
Капитан с шипением втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Потому что гнавшееся за ними судно было вот оно, и пурпурный парус был опущен. Зато вспыхивали яркие световые пятна — это гребцы в унисон поднимали и опускали весла. И нос судна — жестокий, острый нос военного корабля — слегка поворачивался, нацелившись прямо на них.
Они гребли все сильнее и сильнее, но без толку. Расстояние между ними и военным судном сократилось до трех миль, до двух, одной, половины… На борту
Gwydda Ariana сломавшиеся гребцы лежали в лужах собственной рвоты, а те, кто встал на их место, работали веслами и обливались потом, мышцы их превратились в пылающие канаты, подошвы ног, упиравшиеся в планки, потрескались из-за страшного напряжения и усилий. Но как бы героически они не напрягались, они не могли уйти от узкого военного корабля.
— Сушите весла, ребята, — крикнул капитан, и голос его звучал так же устало, как выглядели гребцы.
Все было кончено.
Все было кончено. И с ними тоже покончено.
Gwydda Ariana покачивался на волнах, медленно останавливаясь.
Еще сто ярдов, и они разглядели команду саксов. Те убирали весла, сжимали в руках большие ясеневые копья и надевали простые стальные шлемы. Их военное судно было очень красивым, даже Люцию пришлось нехотя признать это: хищное, быстрое, лоснящееся, с восемнадцатью близко посаженными веслами с каждой стороны. Ничего удивительного, что оно так легко перегнало
Gwydda Ariana. Должно быть, этот корабль перегнал бы даже самое быстрое либурнийское военное судно в Средиземноморье, Около сорока саксов молча стояли на корме. Они держались прямо и невыразительно. Это просто судьба. Боги были на их стороне. По их верованиям, у этих свирепых германских воинов никогда не возникало сомнений. Все идет, как идет. Ты живешь, ты сражаешься, ты умираешь. Важно только одно — быть сильным.
Их капитаном был неистовый краснолицый гигант с бочкообразной грудью и медвежьей шкурой, накинутой на могучие плечи, с острым взглядом ярко-синих глаз и торжествующей улыбкой, играющей на губах.
Узкий, жутко разрисованный бушприт приблизился. Раскосые глаза, нарисованные на обеих сторонах остроконечного носа, делали его похожим на морское чудовище, каким он и намеревался стать. Корабль саксов сидел в воде глубже, чем громоздкое торговое судно, едва разрезая ровные волны.
Саксы легли в дрейф, но все же убрали свой ужасный крамбол, окованный железом: убийственную кат-балку, защищавшую борта от тарана военного корабля, которая при продвижении вдоль судна-жертвы превращала все весла в щепки.
Капитан саксов что-то выкрикнул, и с кормы их корабля полетел corvus, или «ворон», с крючьями; его железные зубы вонзились в палубу торгового судна.
Команда выстроилась в цепочку и под предводительством своего массивного капитана, размахивающего в воздухе топором, начала было переходить на «торговца», но им внезапно пришлось остановиться. Путь преграждал Гамалиэль, прочно прижавший тисовый посох к доскам
corvus. Все готовы были поклясться, что за мгновенье до этого старик находился на баке, но теперь он стоял тут, сверля их таким напряженным взглядом, что даже эти закаленные морские волки начали спотыкаться. Он сильно стукнул посохом по деревянным планкам.
— Не смейте ступать на этот корабль, — негромко произнес Гамалиэль. — Поднимите corvus, возвращайтесь обратно и плывите прочь.
Люций шагнул к нему и положил руку на эфес меча, но Гамалиэль не обратил на него никакого внимания. Капитан разразился громким хохотом, но в глазах его застыла странная нерешительность.
— Ты не в том положении, чтобы отдавать приказы, старик. Прочь с пути, или я прикажу обезглавить тебя прямо на планшире, а твою седобородую голову помещу у нас на бушприте для красоты.
Его люди тоже захохотали, но их хохот потонул в рыке Гамалиэля — такой силы, что их смех моментально стих. Вытянув перед собой посох, старик взревел:
—
Тогда вы обречены, на Ад!
Капитан отпрянул. Его привели в бешенство слова старика и еще более — непонятная, неподдающаяся объяснению аура могущества, исходившая от того. Чего проще — шагнуть вперед и снести голову старого дуралея одним взмахом топора. Но все же, все же… он понимал, что не может этого сделать, и сердце его полыхало яростью из-за такого непривычного ему чувства собственного бессилия.
Капитан заорал в ответ, сознавая, насколько слаб и нерешителен его голос по сравнению с ошеломляющим взрывом старика:
— Не зли меня этой болтовней о христианских наказаниях, старик! Я христианскими учениями и их трусливыми рабскими поучениями и задницу-то не вытру!
Саксы двинулись дальше, и тут случилось нечто страшное. Гамалиэль тоже шагнул вперед, и Люций, стоявший прямо у него за спиной, услышал, как опустилась нога старика на узкие доски. Но это не походило на легкий, дрожащий старческий шаг. Он был грозным — и очень, очень тяжелым. Под его весом прогнулись доски.
Люций вытянул шею, чтобы взглянуть на Гамалиэля, но тут же отвернулся. В старике что-то изменилось. Солдат не понял, что именно, и не очень хотел понимать, потому что у него похолодела в жилах кровь. Даже здесь, на морском ветру, он учуял отвратительное, зловонное дыхание. Длинная тень Гамалиэля на воде дрожала и ломалась на волнах, и ужаснувшемуся Люцию показалось, что это тень не человека, а вставшего на задние лапы, чудовищного медведя…
Он, спотыкаясь, отшатнулся от громадной, нависшей тени, перекрывшей corvus, и взгляд его упал на саксов. Никогда Люцию не доводилось видеть выражения такого животного страха, с каким они смотрели на нечто, бывшее раньше Гамалиэлем и смотревшее сейчас на них из-под монашеского одеяния. Члены их одеревенели от ужаса, они попятились, в спешке сбивая друг друга с ног… Люций, так и не решившийся посмотреть непосредственно на массивные очертания перед собой, увидел, что тень на поверхности моря съежилась и снова стала напоминать Гамалиэля; он вновь услышал его голос, сильный и спокойный:
— А теперь расскажи мне: каких кельтских рабов увезли с побережья Думнонии этим летом? И куда их отправили?
Вождь саксов от страха сделался говорливым, одновременно расталкивая своих перепуганных людей и пробивая себе дорогу обратно на корабль.
— В Колонию-Агриппину! Всю эту партию отвезли в Колонию-Агриппину! На Рейне все еще дают хорошие цены. — Тут он повернулся к своим людям и паническим криком приказал поднимать corvus и поднимать паруса. Он не сказал, в какую сторону плыть, но команда его поняла. Куда угодно, куда угодно, лишь бы подальше от этого заколдованного нечестивого судна!
Не нуждаясь в дополнительных командах, саксонские морские волки подняли corvus, оттолкнулись от борта торгового корабля и под полными парусами поплыли на северо-восток.
Ни один человек на борту не осмелился оглянуться. И почему-то ни в этот день, ни в один из последующих ни один сакс не осмелился заговорить о таинственном старике. Потому что стоило им вспомнить о нем, как сердца их леденели, а перед внутренним взором возникали страшные образы.
Gwydda Ariana направился на восток, к песчаным берегам Рейна. К вечеру, наконец-то, поднялся последний туман, ветер задул с юго-запада, и они набрали хорошую скорость.
Люций сидел на носу и делал вид, что точит меч, но делал это вяло и лениво. Гамалиэль сел рядом с ним. Посидев немного и видя, что плечи молодого человека опустились под тяжким грузом, он негромко сказал:
— В этом мире у тебя могло быть много бедствий. Но успокойся: я превозмог мир.
Люций без слов уставился на него.
— С ней все в порядке, — мягко добавил Гамалиэль. — И с ней, и с малышкой все будет хорошо.
Люций вздрогнул.
— Откуда ты знаешь, о чем я думал?
— Я родился не вчера, — улыбнулся Гамалиэль. — Кроме того, будь у меня такая жена, как у тебя, я бы тоже о ней все время думал.
— А ты был когда-нибудь женат, Гамалиэль?
— Ну, была когда-то юная афинянка… но ее отец меня не одобрил. Я в то время работал ночным водоносом, а днем изучал, философию в Лицее. Не совсем тот муж, которого он представлял для любимой дочери.
Люций неуверенно улыбнулся. С ним рядом опять старый, рассеянный друг Гамалиэль. И все-таки, и все-таки…
Потом он все же решился спросить:
— Гамалиэль, а что тогда случилось с пиратами-саксами?
Разумеется, он понимал, что не получит прямого ответа. И не получил.
— Ах, — вздохнул Гамалиэль. — Через меня прошла сила, но не моя. Она только проходит сквозь меня, как ветер пролетает сквозь листву.
— Хватит загадок. Чья сила?
— У осеннего ветра в листьях есть тысяча и одно имя, — сказал Гамалиэль. — Хватит притворяться, что ты затачиваешь меч, и отправляйся в постель. На рассвете мы будем в устье Рейна.
Gwydda Ariana высадил их у мокрой деревянной фактории на болотистых берегах дельты Рейна, и они быстро нашли речное суденышко, которое повезло их на юг.
Они плыли вверх по реке, мимо крупного торгового города Лугдун Батавор, и дальше, в Колонию-Агриппину. Там они расспрашивали всех работорговцев, которых могли найти, и все больше впадали в уныние, узнавая новости.
Многих кельтских рабов, привезенных после летних набегов, купили воины-франки, недавно разбогатевшие, нападая на Бельгику и Галлию. Но на некоторых из этих франков, в свою очередь, устраивали засады мародеры с востока. Восточные всадники, на косматых низкорослых степных лошадках…
Гамалиэль всю ночь просидел, глядя в костер, а Люций спал беспокойным сном, в тревоге и отчаянии.
На заре старик поднял голову и сказал:
— Мы идем на восток.
Они плыли вверх по великому Рейну, мимо суровых пограничных городов Вангион и Аргенторат, все дальше и дальше на юг. Сошли на берег на восточном берегу и пошли сквозь дикую страну Алеманнию, которая называлась Черным Лесом.
Они столкнулись со множеством опасностей и пережили много трудностей там, среди темных сосен и печальных, закопченных деревушек. Но они были настроены твердо и решительно, и шли вперед, и в конце концов пришли к берегам Дуная, где наняли судно, идущее на восток: речной баркас, возивший мозельское вино вниз, в Сирмий и дальше, в Эпидаврий. При каждой возможности они расспрашивали всех, с кем встречались, и в большинстве своем люди считали, что они чокнутые, раз пытаются отыскать одного-единственного раба в величайшей империи, известной человечеству — а то и за ее пределами. Но иногда — очень редко — они слышали намеки или отголоски, и сердца подсказывали им, что нужно активно искать дальше.
— Нельзя оставлять надежду, — сказал Гамалиэль.
— Даже если сама надежда давно покинула нас? — кисло отозвался Люций.
Гамалиэль посмотрел на него, и в глазах у него вспыхнул гнев, и Люций опустил голову — ему стало стыдно. Гамалиэль часто повторял слова Христа: отчаяние — это величайший грех, но сейчас их повторять не требовалось. Люций помнил эти странные и пугающие слова и больше не сказал ни слова о покинувшей их надежде.
— Не сильно я интересуюсь возвышенными вопросами философии и теологии, ты же знаешь, — произнес Люций. — Так называемые мудрецы, тонущие в болоте собственных слов, слов, слов…
Гамалиэль вздохнул.
— Я и сам когда-то пришел к этому заключению, — сказал он. — Думаю, это произошло, когда все Афины возбудились из-за логического парадокса
Pseudomenos — Лжеца.
Люций смотрел озадаченно.
— В самом деле, — сказал Гамалиэль. — Это выглядело примерно так: если я говорю «я лгу», и при этом действительно лгу, я говорю правду. Но если я говорю правду, значит, я не лгу. Но если это правда, значит, правда и то, что я лгу. А если…
— Хватит, умоляю! У меня уже голова разболелась!
— В общем, ты меня понял.
Люций не был в этом так уверен, но предпочел промолчать.
Он давно привык к повадкам старого бродяги, таким же бессвязным и беспорядочным, как и его странствия по всему миру, к его особенной, глупой, необузданной мудрости, прятавшейся где-то под потрепанным старым плащом и поеденной молью фригийской шапочкой.
— Мой добрый друг Хрисипп, — продолжал Гамалиэль, — в своем роде неплохой философ — стоик, знаешь ли, ученик Клеанта — написал шесть книг о
Pseudomenos. А другой, Филет, довел себя до смерти, пытаясь в нем разобраться. Думаю, именно тогда я и начал относиться скептически к… чисто умственному подходу к миру. Можно много чего сказать о более прагматичной мудрости моего старого друга Крейтса. Один его впечатлительный студент, некто Метрокл, как-то раз — не знаю, как выразиться повежливее — как-то раз очень громко пустил ветры на агоре ко всеобщей потехе сотен горожан. Их юмор может быть очень грубым — у этих афинян. Они даже стали предлагать ему уйти от позора из Афин и назвали его
мю.
Гамалиэль стыдливо захихикал.
Люций смотрел на него задумчивым, непонимающим взглядом.
— Неважно, — сказал старик. — Это греческий каламбур.
Солдат пожал плечами.
— По мне, так это все греческое дерьмо. Только… я не хочу, конечно, показаться грубым… но в этой истории есть хоть какой-нибудь смысл?
— А, ну да, конечно. Ты сейчас поймешь. Ну вот, стоит, значит, этот самый Метрокл, весь опозоренный — еще бы, так неудачно навонять! Можно сказать, совершенно сконфуженный! — И Гамалиэль снова хихикнул. — И тогда Крейтс, чтобы показать, как глупо кому бы то ни было стесняться, в конце-то концов, совершенно естественной человеческой телесной функции, быстренько съедает пять фунтов люпина (который, как тебе известно, вызывает очень сильное вздутие живота, если не отравит на месте), и всю следующую неделю ходит и пускает газы в присутствии величайших мужей Афин! Метрокл понял, в чем смысл, и перестал стыдиться.
— Гм. — Сам Люций так и не был уверен, что он уловил, в чем же все-таки смысл.
— Ну, ладно, — подытожил Гамалиэль, — философию побоку. Ты хотел знать… что?
— Я думал о том, что ты сказал про ад: что можно спастись хорошими поступками, даже таким убийцам, как те саксы.
Гамалиэль посерьезнел.
— Можно ли относиться к вечному наказанию, как к справедливости? — мягко произнес он. — Я знавал одного из тех теологов, о которых ты как-то говорил — он был лучше многих других. Аккуратный маленький египтянин; Ориген, вот как его звали. Его, в сущности, запомнили потому, что он кастрировал сам себя ножом, чтобы лучше служить Христу.
— Болван! — вырвалось у Люция.
Гамалиэль сделал вид, что не услышал этого нетеологического восклицания.
— Возможно, он воспринял учение Сына Человеческого слишком буквально. Но гораздо интереснее его рассуждения об аде. Он утверждал, что в конце концов все будут прощены. Он утверждал, что даже сам дьявол однажды раскается, и его душа, которой отпустят грехи, будет допущена на Небеса.
— Что ж. — Люций вонзил нож в деревянный фальшборт. — Я каждый день узнаю что-нибудь новенькое.
— Пусть глаза будут открыты, а сердце смиренно, — отозвался Гамалиэль, — и ты каждый день узнаешь тысячу новых вещей.
Как-то утром, когда они проплывали мимо Августа Винделикора на южном берегу, Гамалиэль обнаружил Люция, глядящего в коричневые, мутные воды большой реки.
Он поднял глаза, и Гамалиэль увидел, что они полны слез. Старик положил ему руку на плечо, чтобы немного подбодрить, но Люций покачал головой, улыбнулся и сказал, что он не уверен, может, ему это и приснилось, но ему кажется, что он слышал на противоположном берегу, который насвистывал одну мелодию. Эту мелодию Кадок любил насвистывать каждое утро, когда дома, во дворе, разбрасывал корм цыплятам или гулял по лесам и полям Думнонии рука об руку со своей сестрой.
Люций посмотрел на Гамалиэля.
— Это возможно? — спросил он. — Что мы пойдем даже по следам песни?
— Все возможно, — ответил Гамалиэль, — кроме одного: однорукий человек не может дотронуться до своего локтя. — И игриво хлопнул Люция по спине. — Может, это было нам предназначено, идти даже за свистом мальчика.
Ведомые такими странными и неожиданными ключами, они плыли по реке на восток. По правому борту раскинулась империя, по левому простирались земли северных племен: спорные земли воинственных гермундуров и маркомманнов, лангобардов и каттаменов и других племен, чьи имена еще были неизвестны.
Они проплывали мимо пограничных городов Лаурик, Виндобона и Карнунт, эти могучие легионерские крепости возвышались на берегах южной стороны. Потом добрались до большой излучины реки, откуда она поворачивала на юг, к Иллурии. Дальше лежали дикие земли сарматских языгов, а за ними — обширная, не обозначенная на картах Скифия. Тут они сошли на берег, услышав еще один ключ, показавшийся Люцию одновременно мучительным и ужасным, но, казалось, вовсе не удивившим Гамалиэля.
— Такое случается, — только и сказал он.
В прокуренном винном погребке, полном перепившихся пограничных солдат, они услышали слепого скифского нищего, который пел завораживающую мелодию.
Они расспросили его, узнали, как его зовут, и услышали, что ослепили его свои же соплеменники за то, что он подсматривал за наложницами вождя, когда они купались.
А потом его выгнали на дикие земли, чтобы он умер так, как животное, но он нашел себе что-то вроде убежища здесь, в приграничных землях между Скифией и Римом, и вот теперь поет песенки в тавернах и борделях за медяки.
Гамалиэль и Люций переглянулись над кубками мерзкого вина, и Люций сказал, что уже имел дело с подобными племенами.
Гамалиэль кивнул:
— Я тоже.
Они подтянули ремни, вскинули на спину мешки и побрели по равнинам Скифии к знаменитым черным шатрам самого ужасного племени из всех.
16
Последняя граница
В самую лютую зиму пробивались Аттила и Орест через высокие белые горы Норика Губы их обветрели и кровоточили, ресницы слипались от снега, руки и ноги были замотаны тряпками. Найдя диких ягод или попавшего в ловушку зверька, они честно делили между собой каждый глоток, чтобы, раз уж им приходилось медленно умирать от голода, это происходило в равной степени.
Каждую ночь, забравшись в укрытие, которое они сумели отыскать или сделать на скорую руку — обычно всего лишь простенький шалаш из серебристых еловых ветвей — они разматывали на ногах друг у Друга промокшие тряпки и растирали друг другу ноги, чтобы вернуть в них жизнь. Потом ложились спать, прижавшись друг к другу, и дрожали всю ночь. Наступал ледяной рассвет, и тела их были окоченевшими и неподатливыми. Они молчали об этом, но каждый боялся проснуться утром и увидеть, что второй — мертв. Оба молились, чтобы, если умрет один, боги забрали в тот же миг и второго в залитые солнцем земли там, за темной рекой.
Как-то утром, когда они пробирались под низкими ветвями елового леса, сверху раздалось негромкое шуршанье, и на голову и плечи Ореста упал целый пласт снега. Он скинул капюшон и начал протирать глаза, и тут увидел, что Аттила ухмыляется.
— Чего радуешься, тупица? — выдохнул Орест.
— Он тает, — все еще улыбаясь, сказал Аттила. — Это оттепель.
Когда Орест понял, о чем речь — они смогли! — мальчики обнялись и ликующе закричали в пустое синее небо, а с ветвей серебристых елей падали на них все новые и новые снежные пласты. Плащ из мягкого белого снега окутывал их плечи и головы, одинаково и без всяких различий.
Вскоре они спустились на нижние склоны, где снежный покров был значительно тоньше — летом здесь будут высокогорные пастбища для откормленных коричневых коров этой страны. Они даже нашли первые зеленые побеги — тысячелистника и салата-черноголовника, выглядывавших из-под снега, и пожевали их. Но хотя им больше не приходилось страдать от страшного холода при каждом шаге, теперь им попадалось больше деревень, больше людей, которых следовало избегать, больше собак, лаявших на них, когда они шли мимо в темноте и тишине.
Еще несколько дней они шли на север вдоль горного хребта к большому озеру Балатон, и наконец вечером спустились к его безмятежным берегам. Аттила наладил деревянную пику, оснастив ее вырезанными из кости крючками, и пошел багрить на мелководье форель.
Они запекли ее на горячих камнях и ели до тех пор, пока не наелись до отвала.
Позже, как делал это каждый вечер, Орест отошел к деревьям, опустился на колени, прижался лбом к холодному мшистому стволу и помолился за душу своей ушедшей сестры. Потом вернулся в лагерь с сияющим, сразу и лучистым, и спокойным лицом, словно обрел утешение и облегчение в холодном, сверкающем безмолвии небес.
Они подошли к воротам города Аквинка, и скучающие
vigiles, ночные стражники, впустили их без единого слова. Два деревенских оборвыша пришли продавать какую-нибудь украденную ерунду, а может, и самих себя — кому какое дело?
Мальчики, конечно же, пришли в Аквинк не торговать, а воровать. Они уже почти вырвались на свободу, но все-таки перед ними оставалась большая преграда — Дунай, и они надеялись украсть лодку или плот, а может, пробраться на борт торгового судна, направлявшегося в факторию на другой стороне. Для этого им требовалось попасть к пристани.
Аквинк был маленьким приграничным городком, построенным из бревен и ила, с каменным пограничным фортом легиона у реки.
На узких улицах стояла вонь от бойни, куда приводили и где забивали скот, от открытых сточных канав, от свиней, толкавшихся в грязных задних двориках, и от угольных горнов в закопченных кузницах с уставшего вида кузнецами, открытых допоздна.
По булыжной мостовой к ним приближалась группа пьянчуг. Оказавшись так близко к долгожданной цели, мальчики сделались беспечными. Особенно Аттила: по мере приближения к родине его королевская кровь начинала кипеть в жилах, а когда он думал об изумленном восторге, с которым встретят его у родных палаток, он становился гордым и безрассудным. Поэтому когда один из пьяниц наткнулся на него, он повел себя не так, как следует беглецу и тайному путешественнику. А ведь он уже попадал в подобное положение!
— Эй, жирный дурень, — заорал он, — смотри, куда идешь!
И тут пьянчуги перестали казаться такими уж пьяными. Хотя от них по-прежнему разило винными парами, вся пятерка остановилась очень ровно.
— Что ты сказал? — возмутился один.
Орест, стоявший чуть в стороне, увидел, как что-то мелькнуло под шерстяным плащом мужчины. Что-то похожее на сталь, что-то похожее на пластины доспехов…
И не успев ничего сообразить, Орест закричал:
— Аттила!
Мужчина молниеносно повернулся к Оресту.
— Как ты его назвал?
Орест попятился с лицом, искаженным страхом и чувством вины.
— Господин, о,
мой господин, — стонал он, — уходи. Беги…
Но рука старшего мальчика уже нырнула под изодранный плащ. Он понял, что все, ради чего он мучился и страдал долгие недели и месяцы, кончится прямо сейчас, на мокрой и мрачной улочке Аквинка.
Пьянчуги, несомненно, были вовсе не пьянчугами, а отрядом крепких пограничников, опрокинувших пару кубков вина, чтобы запить ужин. Более того, командовал ими толковый optio, читавший донесения из штаб-квартиры легионеров в Сирмие и знавший, что на всем протяжении реки приказано быть начеку и искать беглеца-гунна с синими татуировками и шрамами на щеках. Наследник рода вождя Ульдина, самого ценного заложника. Мальчика по имени…
Аттила лишь наполовину вытащил меч из ножен, когда
optio положил обе мясистые руки ему на плечи и прижал его к стене на этой мрачной улочке.
— Ты, мальчик, — проскрипел он, — как тебя зовут?
Аттила молча поблескивал желтыми раскосыми глазами.
Optio собрался сорвать войлочную шапочку с головы мальчика, но внезапно отшатнулся назад.
— Командир? — окликнул его один из солдат, шагнувший вперед.
Optio упал спиной на руки солдату, диким взором глядя в небо, из его открытого рта хлынула на небритый подбородок черная кровь.
И тогда Аттила, не выпуская из рук окровавленный меч, кинулся бежать по улице, волоча за собой Ореста. Отчаянные вопли помчавшихся следом солдат эхом отражались от высоких стен мокрой улочки, подбитые гвоздями сандалии грохотали по булыжникам.
Мальчики метались по узким переулкам и тенистым дворам городка, пытаясь отыскать путь к свободе, казавшейся такой близкой.
— Если нас поймают, — пыхтел Орест, — ты… — И провел рукой по горлу. — Я не…
— Береги дыхание, — жестко оборвал его Аттила.
Они прижались к стене в тени какой-то колонны, дожидаясь, пока солдаты прогрохочут мимо, и сдерживали дыхание до тех пор, пока им не показалось, что легкие сейчас разорвутся. Солдаты ушли, мальчики выпустили воздух, и Орест рухнул на колени.
— На ноги! — прошипел Аттила.
— Не могу, — с присвистом ответил Орест. — Я только…
— Что случается с бежавшими рабами? — жестоко спросил его Аттила. — Им отрубают руки? Выкалывают глаза?
Орест замотал головой.
— Пожалуйста, — шепнул он.
Аттила схватил его за руку и потянул.
— Встань на ноги, солдат! Мы уже почти пришли.
— Куда?
— На пристань.
— Откуда ты знаешь, куда идти?
Аттила в темноте уставился на него.
— Потому что к реке дорога идет под уклон, бараньи твои мозги. Пошли скорей.
И они побежали дальше, вниз с холма, пока не услышали, наконец, как вода плещется о деревянные барки и причалы, и учуяли сырой всепроникающий запах широкой, в милю, реки. В темноте сновали крысы. Мальчики проскользнули между двумя огромными деревянными причалами и увидели блеск Дуная. На их стороне кое-где в церквях и богатых домах городка горели факелы, но восточный берег и дальше… ничего. Ни единого проблеска света не было на тех черных равнинах. Над головой серебристо мерцал Млечный Путь, сверкали зимние звезды пояса Ориона и яркий Сириус, штормовая звезда, горящий ярче и выше, чем любой земной свет.
— Туда, — выдохнул Аттила. — Туда.
Они скользнули дальше, к пристани, и не встретили ни единой живой души. С одной из привязанных барж с зерном на них мяукнула кошка, охотившаяся на крыс, жалостливо посмотрела на них и ушла. Они подошли к барже. Похоже, она была достаточно большой, чтобы спрятаться на ней где-нибудь под грязным и никому не нужным брезентом, или даже в вонючем кольце мокрого каната.
Тут в ночи раздался грохот конских копыт, и мальчики похолодели. Из-за угла разливался свет факелов, и вот с дальнего конца гавани показался отряд пограничной кавалерии, человек сорок-пятьдесят. Аттила, все еще сжимая руку Ореста, кинулся бежать к деревянному причалу, чтобы прыгнуть в воду. Но двое кавалеристов мгновенно пустили коней в галоп, и один из них набросил на мальчиков батавскую сеть. Они споткнулись и упали, барахтаясь беспомощно, как мухи в паутине.
Их рывком подняли на ноги и для надежности влепили каждому по пощечине.
Командир с коротко постриженными белыми волосами и жестоким немигающим взглядом сорвал с головы Аттилы шапочку и провел короткими пальцами по шрамам татуировки.
— Так, — сказал он. — Аттила. Ты прошел долгий путь.
Мальчик плюнул ему в лицо. Командир немедленно ударил его, так сильно, что голова у мальчика пошла кругом и он отшатнулся. Но не упал. Командир очень удивился. Такой удар сбивает с ног и взрослого мужчину. Когда в голове и перед глазами у Аттилы прояснилось, он отступил назад и впился взглядом в глаза офицера.
Вытирая плевок с лица, командир кивнул на Ореста:
— А это кто?
Аттила пожал плечами:
— Понятия не имею. Просто привязался ко мне, как шило в заднице.
Орест промолчал. Двое солдат потащили его прочь, но он не отрывал взгляда от угрюмого, неулыбающегося Аттилы.
— Дайте ему хорошего пинка и вышвырните за городские ворота, — бросил командир, не замечая больше Ореста.
Все внимание он обратил на Аттилу, а все его мысли были теперь об императорской благодарности, о быстром продвижении по службе, о подарках в виде серебра, золота и наилучших самийских товаров…
— Заковать по рукам и ногам, — сказал он наконец, — и доставить в форт. Больше не бить — мне нужно его порасспрашивать. Этот малый знает больше, чем говорит.
Орест некоторое время, задыхаясь, лежал в грязи; как долго, он не знал. Попытался пошевелиться, но все тело болело. Руки и плечи покрылись синяками, как ему казалось, до самых костей, один бок очень болел при каждом вдохе. Ягодицы свело от боли судорогой. Ноги… Да что ноги, пекло даже у корней волос, за которые дергали его гогочущие солдаты.
Но сильнее всего болело сердце — от потери. Аттила был для него всем. Он еще никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким.
С трудом поднявшись на ноги, Орест медленно побрел прочь от города, в поля у реки. Река такая широкая, такая темная. Он никогда ее не переплывет. Мальчик ковылял в ночи до тех пор, пока не набрел на ручей. И там, среди тростников и шелестящих камышей, случилось чудо — к полусгнившему причалу была привязана старая деревянная лодка, в которой лежало единственное весло; она легко покачивалась на речных волнах. Им не нужно было ходить в Аквинк!
Орест спустился к ручью. Из тростников взметнулась испуганная куропатка и полетела через реку. У Ореста от страха снова заколотилось сердце. Он с трудом взобрался в лодку.
Она немного протекала — на дне плескалась илистая вода — и сильно воняла рыбой. Не так просто будет грести одним веслом, да еще и вычерпывать пригоршней воду, целую милю по этой большой реке. Но это лодка, а лодка означает свободу.
Он присел на корточки на дне лодки — илистая вода омывала ноги — сжал плоское весло и задумался. Орест понимал: жестокое отречение от Аттилы — его спасение. Вот почему он сидел сейчас здесь, готовый обрести свободу на неуправляемых землях на том берегу. А мальчик с татуировками, называвший себя принцем, был заключен, заперт на ключ и на засов в вонючих и грязных подвалах где-то там, в городе, и его «расспрашивал» неулыбающийся тюремщик.
Орест посмотрел вверх, на ясные зимние звезды. Волнует ли их, что случится с ним или с другим мальчиком? Волнует ли их, что он сделает сейчас? Имеет ли какое-то значение, волнует их это или нет? Он опустил взгляд. Звезды все так же неотвратимо мерцали на поверхности черной воды. Они не оставят его одного.
Наконец он вздохнул, положил весло и с трудом выбрался из лодки на скользкий берег ручья. Пробрался сквозь заросли тростника и сыти и медленно заковылял в сторону города.
Аттилу, как приказал крепкий беловолосый командир, сковали по рукам и ногам, и то волоком, то на руках, втащили вверх по узкой винтовой каменной лестнице в маленькую комнатенку с единственным зарешеченным окном. Там его усадили на табурет, и двое часовых с копьями в руках встали перед ним, не обращая внимания на его гневные взгляды.
Через несколько минут, пообедав, пришел беловолосый офицер и приказал закрыть за ним дверь. Он вытирал рот льняной салфеткой и, набив желудок вкусной едой и вином, заметно расслабился.
— Погоди только, услышит мой народ, как со мной здесь обращаются, — прошипел Аттила раньше, чем тот успел вымолвить хоть слово. — Погоди только, услышит мой дед Ульдин! Он не будет терпеть подобного оскорбления своей крови.
Офицер поднял бровь.
— Кто сказал, что он об этом услышит? Ты больше не убежишь. Твоя следующая остановка — и место твоего обитания очень, очень надолго — императорский двор в Равенне.
— Ни за что, — отрезал Аттила. — Я лучше умру.
— Мужской ответ, — признал офицер. Против своей воли он начал восхищаться откровенной, неприкрытой свирепостью мальчика, или по крайней мере получать от нее удовольствие. Так можно наслаждаться волчьими боями на арене.
— И все-таки, — продолжал офицер, — именно туда ты и отправишься, причем, не забывай, по соглашению с твоим народом. Ты заложник. Это совершенно цивилизованный договор.
— Цивилизация, — сплюнул мальчик. — Был я уже там. Дайте мне все, что угодно, кроме вашей цивилизации.
Мужчина и мальчик молча мерились взглядами. Потом мальчик отвернулся.
Офицер сказал:
— Я никогда не бывал далеко за рекой. Только редкие карательные экспедиции, когда аламанны или маркоманны чересчур наглеют. Расскажи о своей стране.
«Моя страна? — подумал Аттила. — Да что ты поймешь? Ты римлянин, и сознание у тебя прямое и ровное, как дорога. Как описать тебе, дубина, мою горячо любимую страну?»
Он втянул в себя побольше воздуха, подергал наручники, пристроил руки на коленях и сказал:
— Моя страна — это земля без границ и армий. Каждый мужчина в ней — воин. Каждая женщина — мать воина. Пересеки серый Дунай — и ты в моей стране,
и можешь скакать верхом недели и месяцы, но не проедешь ее всю. Там нет ничего, кроме зеленых, зеленых равнин в степи, ковыля и заячьей травы, куда не кинешь взгляд. И на расстояние полета орла, хоть сотню дней скачи на восток, к восходящему солнцу, все еще будут зеленые равнины моей родины.
— У тебя буйное воображение, мальчик.
Аттила перестал обращать на него внимание. Он не мог больше видеть ни его, ни сырые стены подвала. Он видел только то, что описывал.
— В марте, — говорил он, — равнины становятся юными и зелеными, как грудка зимородка на Днепре. В апреле они бывают пурпурными от камнеломки и вики, а в мае желтыми, как крылья бабочки-крушинницы. Там, где можно много дней скакать по степи, в тысячу раз больше всей вашей империи, где нет ни заборов, ни преград, где нет ни кусочка огороженной земли, которой владеет кто-то, ничто не прервет твоего галопа весь день и всю ночь, так далеко, как захочется, словно твой конь и ты летите… Там, там свобода, какой никогда не знал ни один римлянин.
Офицер молчал. Часовые не шевелились. Все слушали.
— А за степями вздымаются белые горы, где кормятся души святых, когда они грезят и общаются со своими предками. А за черными водами озера Байкал, и за Снежными Горами, и за Синими Горами стоят Алтайские горы, душа и средоточие мира, куда должен сходить каждый, кто хочет стать мудрым или могущественным. Высокий Алтай виден за много дней пути, высоко над равнинами и восточными пустынями. Это дом всех волшебников, всех шаманов, всех праведников, всех, кто связан с Вечным Синим Небом с начала времен. Говорят, даже ваш Бог, Христос, ходил туда перед своим жертвоприношением.
Аттила замолчал.
Сказанное им было богохульством. Он не скажет больше ни слова, потому что даже рассказ об Алтае становился предательством всех, кого он знал.
После долгого молчания офицер сказал:
— А мне всегда говорили, что у гуннов нет поэзии.
— У гуннов есть поэзия! — негодующе воскликнул Аттила. — Просто они не доверяют ее бумаге, а только памяти. Все, что истинно священно или опасно, можно доверять только памяти.
Офицер опять надолго замолчал. Потом кивнул часовым, и они открыли дверь. Офицер хмуро вышел из комнаты, оставив мальчика мечтать о неизвестной стране.
Аттила лежал на боку на комковатом соломенном тюфяке. Устроиться удобно мешали скованные за спиной руки. Ему сказали, что завтра наручники снимут. Но завтра будет завтра.
Он видел сквозь зарешеченное окошко яркие зимние звезды: зеленую подмигивающую Вегу низко над горизонтом, и Арктур, и сияющую Капеллу. И слышал далекий, высокий крик ястреба-перепелятника. Он исходил снизу, от земли, что было неправильным, и раздавался посреди ночи, что было вдвойне неправильным. Крик перепелятника, как и любой другой хищной птицы, был криком силы и торжества, когда ястреб парил высоко в небе ясным днем, оглядывая всю землю, как собственное королевство. Аттила напряг слух, и скоро крик послышался снова. Не настоящий перепелятник: это просто невозможно. Это мальчик растянул большими пальцами травинку, и она дрожит…
У Аттилы не было травинки, чтобы ответить, и руки у него не свободны. Не в силах сдержать сильно бьющееся сердце и жаркий прилив крови, Аттила закричал в полный голос, крик отразился эхом от стен маленькой камеры, и тут же прибежали часовые. Они откинули засов, распахнули дверь и грубо спросили, что он замышляет. Мальчик ответил, что ему, должно быть, приснился кошмар. Они подозрительно осмотрели его и ушли, закрыв дверь на два засова.
Он терпеливо ждал следующего крика, лежа на тюфяке. Терпение — это кочевник. Но ничего не услышал. Вместо этого на звезды за окном упала тень. Сначала Аттила решил, что это ночная птица, решившая устроиться на узком каменном карнизе за решеткой, но тень мгновенно исчезла. Потом снова появилась, и что-то едва слышно стукнулось о карниз. Аттила поднялся и с трудом дохромал до крохотного оконца. С карниза свешивался конец завязанной узлами веревки. Он, ни на миг не задумавшись, подскочил к решетке и вытянул шею, пытаясь ухватить веревку зубами. Ничего не получалось. Он попытался снова, оскалившись и кидаясь на решетку, но безуспешно. Узел задрожал на самом краю и исчез. Аттила в отчаянии сел на пол.
Снова и снова летел сквозь ночь к маленькому зарешеченному окну конец веревки, и снова и снова падал и исчезал. Аттила перестал его дожидаться. И наконец, брошенная по более широкой дуге, веревка чудесным образом пролетела сквозь решетку и ударилась о стену изнутри. Аттила тотчас же вскочил на ноги, схватился за узел и вцепился в него изо всей силы.
За веревку дернули, он дернул в ответ. Потом дернули сильнее, и он ахнул от боли — скованные руки вывернулись вверх. Он опустился на землю и, продолжая держаться за веревку, улегся на нее всем своим весом и уперся ногами в стену. Он надеялся и молился, чтобы этого хватило.
Дважды веревка начинала выскальзывать, и мышцы на руках вопили от боли, но Аттила держался. Веревка дрожала, как рыболовная леска. И, наконец, чья-то тень — перекрыла звезды за оконцем, и писклявый мальчишеский голос окликнул его по имени.
Он с трудом поднялся на ноги.
— Орест?
Тень кивнула.
— Ты вернулся.
— Да.
Тень ненадежно умостилась на узкий карниз, припав к нему. Одна рука держится за решетку, в другой толстый кусок дерева.
— Тут нужен лом, баранья твоя голова, — шепнул Аттила. — Как ты выдернешь железо деревяшкой?
— Знаешь ли, ломы под ногами не валяются, — с негодованием прошипел Орест. — Это все, что я смог найти.
Он просунул палку между двумя прутьями и надавил на нее всем своим весом, откинувшись почти горизонтально от стены форта в тридцати футах от земли. Ничего. Он рухнул на решетку.
— Эй, — шепнул Аттила. — Попробуй вот с этой стороны.
Орест передвинул палку и попытался снова, и на этот раз прут слегка подался. От цементного основания полетели облачка пыли, и прут вывалился.
— Теперь этим прутом давай остальные, — шептал Аттила.
— Знаю я, знаю, — огрызнулся Орест.
Он сумел выломать еще два прута, и тут они услышали, что солдаты отпирают засовы.
— Скорее, тот прут! — шепотом закричал Орест.
Аттила с трудом изогнулся и передал прут. Открылся первый засов. Орест приставил прут на место в тот момент, когда открылся второй засов.
— Спускайся! — зашипел Аттила, бухнулся на тюфяк и закрыл глаза.
Дверь распахнулась, и солдаты заглянули внутрь. Они увидели, что маленький беглец спит, как младенец. На окошке две мальчишеские руки вцепились в решетку и веревку, но солдаты этого не заметили. Дверь снова закрыли и заперли на засовы.
Вывернули еще один прут, и Орест смог проскользнуть в камеру. Он взял у Аттилы веревку и привязал ее к оставшемуся пруту.
— А он выдержит? — спросил Аттила.
— Придется. Ну-ка, встань на колени.
— Сначала ноги, дурак. Никто не убегает на руках.
Сильный рывок прута в оковах — и ноги Аттилы оказались свободны. Потом Орест проделал то же самое с руками.
Аттила поморщился и потер распухшие запястья.
— Отлично. Пора бежать.
Во всем был виноват прут, беспечно оставленный на карнизе. Аттила спустился хорошо, а Орест, спускаясь, сильно крутнулся. Веревка скользнула по карнизу, задела прут, он покатился и упал, громко загремев о камень — в камеру.
В мгновенье ока солдаты были у двери, отпирая засовы. Дверь распахнулась, и они остановились, распахнув рты, увидев пустой тюфяк и окно без четырех прутьев. Действовали они быстро: подскочили к окну и перерезали веревку.
Орест пролетел пятнадцать футов. Аттила слышал, как затрещали его кости. Этот треск был ясно слышен в тихом ночном воздухе, и тут же его друг закричал.
— Беги! — кричал Орест. — К реке — беги!
Но Аттила схватил его и рывком поднял на ноги. Он перекинул левую руку Ореста себе за шею и вдвоем, шатаясь, а не бегом, они похромали к безмолвной реке, чтобы спрятаться в тростниках.
За спиной скрипели открывающиеся деревянные ворота форта. Солдаты гнались за ними.
— Оставь меня, — с трудом выдохнул Орест, спотыкаясь. — Беги!
Старший мальчик не слушал. И не оглядывался — он мог споткнуться и упасть.
Он волок на себе Ореста через луг, к затянутому туманом берегу. Он слышал, как недовольно фыркают кони, которых выводили из конюшни, слышал топот копыт, особенно громкий в этот ночной час.
Они добрались до фруктового сада и, задыхаясь, вбежали в тень деревьев.
Ветки были голыми, прошлогодняя листва устилала землю; трава была высокой и мокрой. Они упали в траву рядом со стволом дерева, стараясь вдыхать ночной холодный воздух как можно тише. Среди деревьев слышались крики солдат.
В искалеченной ноге Ореста пульсировала боль, но пока еще не очень сильная. Хотя сломанная кость торчала под кожей, как злокачественная опухоль, ужас и возбуждение побега каким-то образом заглушали боль. Пока.
— Нужно идти, — сказал Аттила.
Сразу за садом тянулась каменная гужевая дорога, а за ней густые тростники вдоль берега. Всадники растянулись вдоль всей дороги, перекрыв все подходы к реке.
Мальчики скорчились на краю сада, выглядывая из высокой травы.
Луны не было, но зимние звезды казались беспощадно яркими.
— Мы в ловушке, — простонал Орест. — А лодка прямо здесь, рядом с тем сломанным старым причалом.
Аттила уставился на него.
— Вон там, — повторил Орест, мотнув головой. — Я ее нашел.
— Ты нашел лодку? — спросил Аттила. — И все-таки вернулся за мной?
Орест смущенно пожал плечами.
Аттила посмотрел на затянутую туманом реку. Когда они окажутся на ветреных равнинах, там не будет никаких оков, ни для одного из них. И он не допустит, чтобы его друг охромел, как поступали обычно с рабами гуннов: им перерезали сухожилия на ногах, чтобы они не сбежали. Но этот мальчик-грек… нет, к нему будут относиться по-другому.
Он скользнул в сторону, но через несколько мгновений вернулся, протянув Оресту толстую и надежную на вид палку.
— Когда сможешь, — шепнул он, — беги к лодке.
— Бежать?
— Ну, хромай или как сможешь.
— Но они меня увидят. Где будешь ты?
— В реке.
— Разве они не полезут туда за тобой? Разве они не умеют плавать?
— Ты что, шутишь? — спросил Аттила. — Некоторые из этих батавских конников могут переплыть реку в доспехах, держась за коня. Но… — Он безнадежно огляделся. — Ладно, как-нибудь. — И исчез.
Аттила крался по краю сада до зловонной дренажной канавы, ведущей к реке. Солдаты в зимних плащах по-прежнему стояли вдоль замерзшей дороги с неуверенным видом, получив довольно расплывчатый приказ. Где-то в бешенстве скакал беловолосый офицер, но цепь солдат выглядела хаотично.
Аттила втянул в себя побольше воздуха, выскочил из канавы и побежал.
Он пробежал прямо между двумя вздрогнувшими всадниками и влетел в тростники, сильно замедлив ход, потому что илом засасывало ноги. Пробираясь дальше, он громко вопил.
Всадники закричали и помчались за ним, но их продвижение тоже замедлялось густыми тростниками и липким, вязким илом. Мальчик услышал, как мимо уха просвистела веревка и упала в тростники. Он ухмыльнулся и стал продираться дальше по колено в иле. Никто не кидает веревку так, как гунны.
Аттила ощутил под ногами гальку, тростники поредели, и мальчик кинулся в ледяную реку.
Орест смотрел, как все всадники потянулись к тому месту, где нырнул Аттила. Они собрались там бесполезной толпой, оставив дорогу без охраны. Он подтянулся на ноги и стиснул обеими руками палку. Сломанная нога волочилась.
Орест сжал зубы, чтобы не прорвался крик боли, и, похожий на самого жалкого калеку во всей империи, потащился на дорогу, а оттуда в тростники. Его никто не заметил.
Тащить себя через ил было еще труднее. Весь его вес приходился только на одну ногу, и от этого он увязал с каждым шагом все глубже, и палка тоже. Орест проклинал свою злодейку-судьбу за то, что свалился со стены. Но он тащился вперед, и легкие горели, будто он пробежал миль пять. Болел каждый мускул. Даже шея ужасно болела (он не мог понять, почему), но он все равно двигался вперед.
На реке не было никаких следов мальчика-гунна, только дорожка пузырьков на поверхности воды. Но они могли подниматься и от выдры, нырнувшей в черную, освещенную лишь звездами, воду.
Наконец Орест добрался до лодки и потащил ее к воде. Он толкал ее, совершенно измученный, потом буквально рухнул на носу лодки, опасно погрузившейся в воду, и начал грести единственным веслом, по очереди с каждой стороны, как варвар в долбленке на Рейне.
Орест не знал, что делать теперь. Голова у него кружилась, ноги и руки горели, залитые потом глаза почти ничего не видели. Он услышал крики с берега, услышал сильный плеск воды и понял, что его заметили. Кавалеристы спешивались и ныряли, или звали свои лодки с реки, или плыли верхом на лошадях, как истинные батавцы — как рассказывал мальчик-гунн.
Потом раздался другой звук, он опустил затуманенный взгляд вниз и увидел две руки на борту лодки, потом появился промокший насквозь узел волос, а потом — круглая голова с желтыми сверкающими глазами. Тяжело дыша, Аттила подтянулся, словно в нем оставалось все столько же энергии и силы, как всегда, перевалился через борт раскачивающейся лодки и перешел на корму.
— Давай весло! — крикнул он, вырвал его из рук вздрогнувшего мальчика и начал бешено грести по обеим сторонам лодки.
Выше по течению показались темные тени: головы людей и лошадей. Ниже по течению, возле форта, виднелись черные корпуса речного флота легиона. Но они плыли слишком медленно. Мальчики были уже на середине реки и двигались быстро.
Аттила понял это.
— Держи, — сказал он, сунув весло Оресту. Тот взял его устало, но не жалуясь. К изумлению Ореста, Аттила вскочил на ноги и начал плясать, как безумный, на дне неустойчивой жалкой лодчонки. Он потрясал кулаками и гневно мотал головой в сторону потерявших дар речи солдат, смотревших на него с берега и из воды.
— Вы паршивые задницы! Вы жирные римские ублюдки! — пронзительно вопил он. — Вы беспомощные поганые тощезадые недоноски! Черта с два вы нас поймаете, вы, вонючие мешки с ослиным дерьмом! Ну, давайте, хватайте нас, римские тупицы! Астур вас всех обгадит! — Он на минуту прекратил пляску, повернулся, задрал тунику и показал им голые ягодицы. Ни солдаты, ни их распахнувший рот командир не издали ни звука.
Аттила продолжал глумиться.
— Вы и на баню не нападете, вы и чертов коринфский бордель не захватите, вы, беспомощные длинноносые суки! Да вы просто чертово дерьмо, и больше ничего! Попробуйте поплыть за нами, и сразу пойдете на дно, как свинец, вы, дерьмовые ваши мозги! Ну, вперед, попробуйте нас поймать! Вперед! Задницы!
Он крутанулся и посмотрел на Ореста, ухмыляясь в сумасшедшем восторге, глаза его пылали горящим, яростным безумием. В темноте Орест не видел солдатских лиц, только смутные тени, замершие на мелководье, все еще верхом. Можно себе представить выражение их лиц.
Аттила снова повернулся туда.
— Неудачники! Недоноски! Подонки! Свиньи поганые! Вы все сгниете в аду! А Рим падет! Мы вернемся, и от вашей паршивой прогнившей империи не останется ничего, кроме лужи крови и горы камней! — Он вытер рот рваным рукавом. — И трахните за меня своего императора, и его сестричку тоже! Трахните его прямо в его тощий куриный зад!
Едва не задохнувшись от безумного хохота, Аттила рухнул на дно лодки. Он откинул голову назад, воздел кулаки к звездам и в последний раз прокричал;
— Су-у-у-уки!
На заре в Аквинк прибыл отряд Палатинских гвардейцев.
— Здесь у вас находится плененный мальчик-гунн, — проскрипел командир с кривым, бесформенным из-за ранения лицом. — Где он?
— Спешьтесь и приветствуйте старшего по званию, как положено! — заорал красный от ярости трибун.
Вместо ответа палатинец протянул пергамент с императорской печатью. Трибун моментально потерял самоуверенность.
— Мальчик-гунн, — повторил палатинец.
— Он… он сбежал… — начал заикаться трибун.
Палатинец недоверчиво посмотрел на него.
— Сбежал? Из пограничного форта?
— У него был сообщник. А зачем он вам был нужен, между прочим?
— Не ваше дело.
Трибун отвернулся к реке, совершенно успокоившись в преддверии неизбежного наказания.
— Он переплыл на ту сторону Дуная, к своему народу.
Палатинец тоже посмотрел на реку и кисло произнес:
— Так. Полагаю, мы больше никогда о нем не услышим.
Трибун заверил его:
— О, вы обязательно о нем услышите.
Палатинец вспомнил все, что говорится о пророчествах умирающих, и вздрогнул под своими блестящими черными доспехами.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДИКИЕ ЗЕМЛИ
1
Смерть сердца
После трех горьких дней скитаний по широкой равнине Паннонии беглецы отыскали безопасное место для отдыха. Аттила нашел знахарку, которая вправила сломанную кость в ноге Ореста, сердито отругала его и велела не двигать ни единым мускулом две недели. После этого ему разрешалось ходить только с палкой и как можно меньше опираться на больную ногу хотя бы месяц.
К тому времени, как они снова пустились в путь, наступила ранняя весна. Они пришли к длинной горной гряде, которая на языке готов называлась
Harvada, на языке гуннов —
Kharvadb, а на латинском —
Carpathian. Они прошли высокие перевалы этих диких гор в самое цветущее весеннее время, и наконец спустились на бескрайние степные просторы Скифии в марте, когда молодые травы, как и рассказывал Аттила, сверкали зеленью, как грудка зимородка на Днепре.
Они много дней шли по степи, молча, опьяненные ее пустотой, красотой и древним одиночеством. Как-то утром они подошли к одной из медленных извилистых речек этой страны и услышали женщину, которая пела на берегу реки, стирая и раскладывая одежду для просушки на камнях. Она пела песни кочевников на языке гуннов, и Аттила понял, что он уже почти дома.
Мой любимый, как он ездит верхом,
Гордо, как ветер.
Скоро он исчезнет,
Как ветер, как ветер.
Моя любимая, как горделиво она танцует,
Она танцует, как ветер;
Скоро она исчезнет,
Как ветер, как ветер.
Смотри, движется племя,
Прибивая траву, как ветер;
Скоро мы все исчезнем,
Как ветер, как ветер.
Женщина испуганно вздрогнула, когда они ее окликнули, но увидев всего лишь двоих грязных, перепачканных после долгого странствия мальчишек, успокоилась и выслушала их. Она увидела, что один из мальчиков принадлежит ее народу, с татуировками на щеках и хвостом на макушке, который трепал ветер. Мальчик разделся до пояса, как воины племени, и хотя он еще не вышел из мальчишеского возраста, она не смогла не залюбоваться жилистой силой его рук и груди. Она опустила глаза, отвечая ему, как поступила бы в разговоре с мужем или с мужчиной племени, потому что мальчик излучал странную властность. Потом показала пальцем через реку, где в неглубокой долине раскинулись черные кибитки.
Мальчики поблагодарили ее и ушли.
Приблизившись к долине, они увидели мальчика, шедшего по высокой траве. Он опустил голову, словно в глубокой печали, брел медленно и ничего не замечал. В нескольких шагах позади шел раб.
Аттила окликнул его:
— Кто ты?
Он остановился и поднял голову. Этот мальчик, гулявший в одиночестве, словно придавленный к земле всей скорбью мира, был на голову выше Аттилы. У него были синие глаза, тонкие черты лица, прямой, классический римский нос. Длинные и аккуратные руки и ноги, высокий и благородный лоб. Только волосы оставались мальчишескими, густыми, коричневатого оттенка. Во всем остальном он выглядел и вел себя так, как будто был старше своих лет.
Он заговорил на очень хорошем языке гуннов:
— А ты кто? — спросил он спокойно.
Аттила замялся и неохотно ответил:
— Я Аттила, сын Мундзука.
Мальчик кивнул.
— Я Аэций, сын Гауденция.
В тот самый день, когда родился Аттила — таков иронический юмор богов — под тем же самым гордым, слепящим летним солнцем, под знаком Льва, родился другой мальчик, в Дуростории, в Силестрии — провинции, граничившей с Паннонией. Его окрестили Аэцием. Отцом его был некий Гауденций, военачальник кавалерии на границе Паннонии.
В ту же ночь в черной кибитке Мундзука около улыбающейся, мокрой от пота матери и крохотного младенца у ее груди, сидел на корточках все еще встревоженный отец. Старуха провела рукой над маленьким, сморщенным младенцем и произнесла:
— Он рожден для войны.
В Дуростории, в прекрасном дворце военачальника, пока очень прямо державшийся отец мерил шагами колоннаду снаружи, а в комнате мать прижимала к груди крохотного новорожденного, старая
baruspex нетерпеливо оттолкнула повитуху, внимательно всмотрелась сначала в малыша, а потом в растертые дубовые листья у себя на ладони, и произнесла:
— Он рожден для войны.
Аттила и Орест начали спускаться в долину.
— Твой отец, Мундзук! — выкрикнул мальчик-римлянин им вслед.
Аттила остановился.
— Что? — спросил он.
Мальчик замялся и мотнул головой.
— Ничего, — ответил он.
Аттила уверенно направился в лагерь гуннов. Орест шел следом, его заячьи глаза метались во все стороны, губы нервно дрожали. Он тоже был наслышан о гуннах. Конечно, своему другу он доверял безоговорочно, но как насчет остального племени?
Гунны не строили оборонительных стен, а когда не воевали с соседями, редко выставляли вокруг лагеря охрану. В подобном отсутствии страха заключалась потрясающая беспечность, но это вселяло еще больший ужас в сердца их врагов.
Однажды византийский посол поинтересовался, почему они не строят защитных стен.
Ульдин подошел пугающе близко к послу, приблизил лицо вплотную к лицу вздрогнувшего грека и сказал:
— Наши стены сделаны из мужчин, копий и мечей.
Сейчас женщины сидели около своих незащищенных кибиток, помешивая что-то в черных котелках, подвешенных над дымящими торфяными кострами. У многих на щеках были такие же синие татуировки, как у Аттилы. Они с непроницаемым видом провожали взглядом пришельцев, и все молчали.
За кибитками слышалось ржание и фырканье лошадей — самого ценного достояния гуннов. Где-то среди них находилась и белая кобыла с длинной гривой и хвостом, почти достигавшим земли. Чагельган, его лошадь, его самая любимая кобыла…
Наконец мальчики добрались до главной кибитки в лагере — внушительного шатра на трех массивных шестах, украшенного кистями. С двух сторон кибитки стояли часовые, увешанные перьями, ленточками, чучелами хищных птиц и отполированными человеческими черепами.
Орест сглотнул. Он хотел сказать хоть что-нибудь, хотя бы окликнуть друга по имени, но не смог. Во рту у него пересохло, как в степи под августовским солнцем.
У входа в кибитку стоял один-единственный мужчина, но это был мужчина крупнее, чем Орест когда-либо в своей жизни видел. Не в высоту — в ширину. Торс у него был массивный, как у быка, ноги походили на стволы деревьев, такие толстые, и казалось, что они слегка искривились под весом мускулистого тела. Но говорят, что у всех гуннов кривые ноги из-за того, что они целыми днями сидят в седле. Говорят, они даже спят в седле.
Человек скрестил на груди руки, и его могучие бицепсы напряглись еще сильнее. Он плотно сжал губы под тонкими, свисающими усами, а узкие глаза не отрывались от мальчиков. Они остановились перед ним.
— Мы хотим видеть вождя, — сказал Аттила.
Человек не шевельнулся.
— Отойди.
Человек не шевельнулся.
— Булгу, я сказал —
отойди!
Человек-гора вздрогнул и внимательнее присмотрелся к мальчику. Потом, к удивлению Ореста, он шагнул в сторону, и земля дрогнула под его обутыми в войлок ногами.
Мальчики вошли.
Кибитка оказалась длинной и просторной, как дом у германских племен, только не из дерева, а из войлока. Потому что гунны ничего не строят навечно; все проходит, как ветер, как ветер.
В глубине кибитки имелось возвышение, а там, на искусно украшенном резьбой троне, сидел вождь. Он услышал о приходе мальчиков и поспешно занял соответствующее положение для приема. Его возлюбленный внук…
Аттила вскричал:
— Ульдин! — и кинулся к нему.
Пока он бежал, в полумраке кибитки произошло нечто ужасное. Лицо вождя изменилось. Лицо его деда, старого вождя Ульдина, изменилось. Это было не морщинистое, хмурое, но честное старческое лицо его деда, а более молодое, с густой бородой — куда более густой, чем обычно у гуннов. Узкие глаза, вздернутый красный нос, а рот, который всегда выдает очень многое, прятался под темной косматой бородой.
Мальчик затормозил перед грубо сколоченным деревянным троном, и тут рот сидевшего на нем расплылся в широкой улыбке. Обнажились и зубы: желтые, кривые, гнилые. Вот только до глаз, узких, настороженных, улыбка так и не добралась.
— Аттила, — пророкотал вождь.
— Руга! — ахнул Аттила.
— Хвала Астуру и всем богам на небесам, — продолжал Руга, — ты вернулся.
Аттила молчал, вытаращив глаза.
— Наши римские союзники сообщили нам, что ты… выбрал свой путь, хотя и был важным заложником при дворе императора.
— Ты бы… мой дед сам захотел бы, чтобы я бежал, если б он знал… А мой отец? Где мой отец?
Узкие глаза смотрели холодно.
—
Где мой отец Мундзук?
— Не смей повышать на меня голос, мальчик, — сказал Руга спокойно, но с затаенной злобой.
Аттила услышал, что за его спиной откинулось входное полотнище кибитки, и раздались тяжелые шаги: Булгу. Орест, дрожа, притаился у стенки кибитки. Все пошло не так, как надо, и сообразительный мальчик-грек сразу же понял это.
— Мой отец, Мундзук, — повторил Аттила, с трудом оставаясь спокойным и уважительным. — Сын Ульдина.
Резко, с той ужасной, беспричинной свирепостью, из-за которой его так боялись, Руга наклонился вперед и прорычал:
— На колени перед моим троном, мальчик, или я прикажу жестоко пороть тебя на повозке всю дорогу отсюда до Такла Макана!
Дрожа даже в глубине своей несгибаемой юной души, Аттила опустился на колени.
Руга продолжал бушевать:
— Стоять передо мной и требовать от меня ответа, вот как? Похоже, при дворе Рима ты растерял все свои хорошие манеры! — Он снова откинулся на спинку трона и прищурился, поглаживая спутанную бороду.
— Мундзук, сын Ульдина! Да. Я тоже сын Ульдина, брат Мундзука.
Аттила, терзаясь, ждал, хотя сердцем уже понял, что его ждет.
— Великий вождь Ульдин, — произнес Руга, — недавно скончался в своей постели от преклонного возраста, и рядом с ним были все его женщины. Через несколько дней Мундзук погиб на охоте — несчастный случай. Одна стрела… — Руга пожал плечами. — Воля богов. Кто мы такие, чтобы спрашивать с них?
Мальчик опустил голову. Его отец, всезнающий, всемогущий бог его мальчишеского мирка. Благородный Мундзук, любимец женщин, приводивший в восхищение мужчин. Его правление этим народом должно было быть долгим и великим. А он, Аттила, даже не сказал ему «прощай» перед его долгим и горьким странствием, не получил от него благословения…
— Он похоронен под прекрасным курганом, — добавил Руга, — в половине дня пути отсюда на восток.
Аттила не шевельнулся — он не мог. Он сильно зажмурился, чтобы не хлынули слезы.
— Теперь ступай.
Мальчик поднялся с колен, стремительно повернувшись, чтобы Руга не увидел брызнувшие из глаз слезы. Он уже дошел до выхода из кибитки, и тут Руга окликнул его:
— Ты сказал, что римляне плохо обращались с тобой?
Мальчик остановился и, не оборачиваясь, ответил:
— Они пытались убить меня.
— Ты лжешь! — взревел Руга, снова вспыхнув от гнева, вскочив с трона и метнувшись вдоль кибитки. Он был человеком крупным, но стремительным. — Они не осмелились бы оскорбить своих союзников — гуннов!
Тут Аттила повернулся, и хотя лицо его было залито слезами, глаза его не дрогнули, глядя в глаза дяди. Он сказал:
— Я не лгу. Они пытались убить меня. Они пытались сделать так, словно меня убили люди Алариха-гота, чтобы вы напали на готов, бывших врагов Рима, а теперь его союзников.
Руга смотрел на него, встряхивая головой, словно пытался прогнать окутавший ее туман недоумения. Он понимал, что мальчик говорит правду. Она горела в его глазах с такой силой, какую не смог бы призвать лжец.
— Эти римляне, — пробормотал он, наконец. — Они мыслят, как гадюки.
— Они и убивают, как гадюки.
Руга снова посмотрел на Аттилу, словно увидев его впервые. Он увидел стремительность и силу и неожиданно восхитился мальчиком так же сильно, как испугался его возвращения и вознегодовал из-за него.
Он положил тяжелую руку на плечо мальчика.
— Ступай, — сказал Руга. — Раздобудь себе новую одежду — сходи к женщинам. А потом поклонись могильному кургану своего отца.
Аттила повернулся и вышел. Орест встревоженно трусил следом.
Руга поманил Булгу.
— Приведи Чаната, — велел он.
Через несколько минут в кибитку вошел высокий сухопарый гунн, обнаженный до пояса, с длинными, смазанными маслом волосами и великолепными черными усами. Он не выказал ни удивления, ни смятения, выслушав приказание вождя; поклонился, вышел из кибитки и направился в большой загон, чтобы найти своего коня.
С севера надвигались тяжелые серые тучи, дул сильный ветер. Мальчик ехал верхом на своей белой кобыле, Чагельган, на поиски могильного кургана отца. Ехал он, опустив голову, и даже его кобыла низко опустила голову. Вокруг завывал ветер, потом начался дождь. Они ехали на восток.
Бескрайнюю, лишенную деревьев степь закрывала пелена дождя. Траву прижал порывистый ветер с севера, лошадь и мальчик отворачивались, чтобы хоть немного передохнуть. Через несколько часов дождь поредел, выглянуло размытое солнце. Далеко на плоской линии горизонта мальчик увидел разрыв, и понял, что это и есть курган, под которым погребен его отец.
Он добрался до кургана, спешился и сел на самом верху, скрестив ноги. Он поднял лицо к последним каплям дождя, падавшим с Вечного Синего Неба, широко раскинул руки и разрыдался, и плакал долго.
Вся вторая половина дня ушла у него на то, чтобы добраться назад в лагерь, и вернулся он уже в сумерки. Аттила пошел на реку, чтобы смыть с себя пыль — и скорбь. Река была глубокой и обрывистой, и мальчик, печальный и уставший, неосторожно соскользнул с лошади и сразу оказался на глубине. Вода была холодной, Аттила задохнулся — и вернулся к жизни. Он сдернул с себя одежду, швырнул ее на берег и снова погрузился в воду. Когда он вынырнул, чтобы вдохнуть, мир вокруг потемнел и стал беззвучным, и он слышал только негромкий шорох птиц-перевозчиков, строивших весенние гнезда даже в эти последние светлые мгновенья дня. Строили гнезда, растили птенцов…
Он снова задрожал от холода и скорби и попытался выбраться на берег, крутой и скользкий; мокрый мальчик беспомощно съехал обратно в воду. Аттила поднял глаза и увидел римлянина Аэция. Тот стоял на берегу и безучастно смотрел вниз. Рядом стояла его лошадь. Глаза Аттилы полыхнули гневом, но Аэций не обратил на это внимания. Он встал на колени и протянул руку. Аттила, помявшись, все же схватился за нее, и Аэций вытащил его на берег. Он был сильным. Аэций поднял одежду Аттилы и протянул ему. Аттила быстро оделся: кожаные штаны со шнуровкой, грубошерстная рубашка и меховой жилет с застежкой на поясе. Они не обменялись ни единым словом. Потом Аттила с трудом забрался на свою лошадь — руки и ноги его замерзли, окоченели и мелко дрожали.
Мальчик-римлянин тоже сел верхом на высокую гнедую кобылу, и оба какое-то время сидели и смотрели на темнеющую степь.
Потом Аэций негромко произнес:
— Мой отец умер прошлым летом. Я даже не видел его могилы.
Они некоторое время молча смотрели друг на друга, потом Аэций повернул лошадь, и мальчики бок о бок вернулись в лагерь.
Аттиле еще неделю разрешили оплакивать отца, а дальше настал час церемонии. Он понимал, что это скоро произойдет…
Он чистил Чагельган щеткой, когда к нему легким галопом подскакал один из воинов. Он осадил коня и дождался, чтобы первым заговорил наследник Аттила.
Аттила вопросительно вздернул голову.
— Время, — сказал воин. — Ваш дядя-вождь и святые люди так решили.
Мальчик кивнул. Он потрепал Чагельган по боку и в последний раз ласково пошептал ей в ухо.
Настал час церемонии возмужания,
Kalpa Oliimsuk. Смерть
Сердца.
То, как люди выстроились по пути к Камню, куда прошествовал мальчик, напомнило Аэцию римские триумфы. Но жесткие песни с непривычной мелодикой, завывания и причитания женщин не имели ничего общего с Римом. А угрюмые жрецы племени, шедшие следом, с обритыми надо лбом и выкрашенными кроваво-красной краской головами, обнаженные до пояса, в юбках с ремнями, на которых висели перья и черепа животных, ничем не напоминали ему высокорожденных патрициев, служивших священниками в христианских церквях Рима.
Аттила с бесстрастным лицом вел рядом с собой Чагельган. Мужчине не подобают никакие эмоции, кроме гнева.
Аэций спрашивал, что означает эта церемония, но никто не желал, ему объяснить. Лишь его мальчик-раб, кареглазый Кадок с тихим голосом, рассказал хоть что-то.
— У многих народов, чтобы стать мужчиной, требуется познать свое сердце. Но чтобы стать мужчиной гунну, необходимо убить свое сердце. Нужно убить что-то, что ты любишь больше всего на свете.
И теперь Аэций, протолкавшись сквозь толпу поющих и завывающих людей, с нарастающим ужасом смотрел, как Аттила ведет свою драгоценную кобылу к большому серому Камню. В последний раз потрепал он ее лоснящиеся белые бока.
Толпа замолкла. В прохладном весеннем воздухе разлилось напряжение, и воцарилась хмурая тишина. Все стали участниками церемонии превращения мальчика в мужчину.
Аттила не поднимал глаз. Его лошадь терпеливо стояла рядом. Наконец он протянул руку и выхватил из ножен длинный кривой меч.
Ни секунды не колеблясь, одним быстрым движением он полоснул по терпеливо опущенной шее Чагельган. Ее передние ноги подогнулись, и она упала на колени. В ее больших бархатных глазах застыли ужас, боль и непонимание.
Мальчик снова с силой опустил меч, громко закричав. Глубокая рана на шее лошади сделалась еще глубже; он перерубил ей позвоночник. Лошадь упала в пыль. Мальчик ударял снова, и снова, и снова, выкрикивая слова, которых никто не понимал, и наконец голова полностью отделилась от исполосованной шеи. Аттила положил окровавленный меч на Камень и опустился перед ним на колени. Толпа взорвалась приветственными криками и улюлюканьем.
Двое мужчин племени подхватили стоявшего на коленях мальчика и поставили его на ноги. Они посадили его себе на плечи и полушагом, полубегом понесли обратно по пройденному им пути. Люди кидали им под ноги яркие весенние цветы и набрасывали венки на опущенную голову мальчика.
Теперь он снова принадлежал племени. Теперь он действительно был одним из своего народа, принцем королевской крови и достойным мужчиной.
2
Женская кибитка
Вечером устроили грандиозный пир. Мужчины пили, орали и вонзали зубы в жареное мясо восьми разных животных, в том числе и конское. Женщины терпеливо смотрели на выходки своих мужей. Подали крепкий кумыс, сброженный из сладкого кобыльего молока, и все пустились в пляс посреди кибитки, хватая взятых в рабство карликов и заставляя их тоже плясать. Самые дерзкие мужчины рассмешили всех, швыряя карликов туда-сюда, как мешки с сеном.
За высоким столом вождя, среди остальных членов королевской семьи, сидел мальчик чуть старше Аттилы, но очень отличающийся от него поведением. Звали его Бледа, и был он братом Аттилы, старше его на два года. Он сидел, тупо ухмыляясь себе под нос, и ел так много, что в конце концов ему пришлось выйти, потому что его тошнило. Вернувшись, он так накинулся на еду, словно голодал много дней. Им с младшим братом не о чем было разговаривать.
Руга не плясал, но зато много орал, жадно лопал и выпил невероятно много кумыса. Аттила послушно сидел рядом, но ел и пил очень мало. Один раз он поднял глаза, ощутив на себе чей-то взгляд, и увидел, что мальчик-римлянин, аккуратно евший баранью ногу, смотрит на него со странным выражением. Внезапно шум в палатке словно отдалился, а синеглазый печальный Аэций оказался рядом. Аттила незаметно кивнул ему. Аэций положил в рот кусочек жареной баранины и так же незаметно кивнул в ответ.
Пир продолжался.
Кто-то сзади наполнил кубок Аттилы, он обернулся и увидел Ореста. Мальчик-раб выдавил улыбку. Аттила оторвал кусок от оленьей лопатки и протянул его мальчику. Кормить рабов на пиру строго запрещалось, но Аттиле было наплевать. Орест взял мясо и с виноватым видом запихал его себе в рот. Потом, стараясь не показать, что жует, он двинулся дальше, наполняя кубки воинов.
Аттила сделал еще глоток кумыса, и его сгорбленные плечи слегка расслабились. Не все, что он любил, уничтожено.
И тут наступил момент, которого он страшился почти так же сильно, как Смерти Сердца.
Встал Руга и высоко поднял свой кубок. Он качнулся в сторону, но ему тут же с готовностью помогли выпрямиться, и он заорал:
— Сегодня мой племянник Аттила стал мужчиной!
Раздались одобрительные возгласы и крики, некоторые стали бросать вверх куски еды. Бледа швырнул через стол обглоданную оленью кость и попал бы Аттиле в глаз, если бы тот не увернулся. Брат радостно заухал.
— Сегодня он смочил кровью свой меч у Жертвенного Камня! — орал Руга. — Сегодня он доказал, что он мужчина, который с презрением относится даже к собственному сердцу!
Еще больше одобрительных криков.
— А ночью… — Руга сделал драматическую паузу, — сегодня ночью… он впервые идет в Женскую Кибитку!
Тут толпа пирующих оглушительно захлопала в ладоши.
Аттила опустил голову и сделал еще один, большой глоток кумыса. В горле и в животе стало тепло. Это хорошо. Он сделал еще глоток. Он чувствовал, что ему это необходимо.
На середину кибитки кувыркнулась поразительная фигура в шутовском костюме из меха и перьев, с яркими лентами, повязанными вокруг узла на макушке, и с безумной улыбкой. Это был Маленькая Птичка, сумасшедший шаман гуннов. Он гикал и хохотал, хлопал в ладоши и пел песню о том, как благородный принц Аттила должен пойти и покувыркаться как следует в женской кибитке, потому что теперь он мужчина.
— И ты должен родить много сыновей, потому что их не хватает, — кричал Маленькая Птичка.
Руга зыркнул на него и заерзал на месте, но шаман продолжал дальше.
— Детей должно родиться много, ведь ты знаешь, что еще полно могил ждут, когда их накормят, а мы не хотим, чтобы земля голодала.
Люди неуверенно засмеялись над шуткой шамана — его шутки всегда были странными и тревожащими. Но потом они выпили еще много кумыса, и подбодрили себя выпивкой, и снова стали хохотать над жестокими шутками и песнями. Маленькая Птичка тоже хохотал, хотя не съел ни кусочка и не выпил ни глотка.
Женской Кибиткой называлась большая белая круглая юрта, центральный шест в которой был сделан из цельной ели.
Она стояла в центре Женского Поселка — там под строгой охраной содержались все пленные женщины и рабыни. Жены гуннов, разумеется, жили со своими мужьями в собственных кибитках, где им зачастую приходилось тесниться рядом с наложницами и рабынями, выбранными во время войн.
Но Женский Поселок принадлежал исключительно вождю, и только он мог разрешить членам семьи или гостям насладиться его прелестями.
Отдельно от Женской Кибитки жила личная наложница Руги, которую никто не смел трогать или даже смотреть на нее; ее день и ночь ревностно охраняли рабы-кастраты. Но пока, с тех пор, как король почти год назад сел на престол, ни одна из его наложниц или жен до сих пор не забеременела. И считалось очень неразумным касаться этой темы.
Прохладная ночь немного охладила голову Аттилы, и он глубоко втягивал в себя воздух. Мясо и кумыс тяжело давили на желудок, но кровь жарко бурлила в жилах, и он чувствовал: пусть даже он не сможет войти в Женскую Кибитку совсем бесстрашно, все ж таки дрожать так, чтобы это заметили все, он не будет.
Двое огромных вооруженных кастратов, охранявших юрту, ухмылялись и отпускали непристойные замечания, пока расшнуровывали юрту и впускали его внутрь.
Внутри было сумрачно, в центре горел костер, и дым уходил в дыру в потолке. Вокруг центрального шеста лежали груды мехов, а на них — женщины. Некоторые лежали дальше, у стен юрты, они дремали, сплетничали тихими голосами, полировали ногти песчаником, расчесывали и заплетали друг другу волосы. Воздух казался сонным из-за древесного дыма, запаха масла для волос и нежного женского аромата.
Тут же к Аттиле подошли две женщины, обе старше, чем он.
Они улыбнулись и протянули к нему руки. Одна, вероятно, была черкешенкой, со светло-голубыми глазами, очень светлыми волосами и кожей. Вторая была смуглее, наверняка из империи, возможно, откуда-то с востока, с золотыми серьгами в ушах. Она очень бесстыдно потрогала Аттилу. Ее накрашенные ногти заблестели при свете лампы, когда она провела руками по его груди.
Но большинство женщин не походили на нее. Женская Кибитка была не римским борделем, и сам воздух в ней казался тяжким от печали пленных девушек. Многие вспоминали своих утраченных мужей и детей, исчезнувшие деревни и далекую родину. Многие попали сюда по тропам войны и жестокости, и мало кто собирался ласкать нового господина руками с накрашенными ногтями.
Мальчик отошел от накрашенной восточной девушки и черкешенки, чьи лица в смятении вытянулись. Он обошел юрту по кругу, женщины смотрели на него, и в нем росло смущение, но тело его жарко пылало при мысли, что любая — что
все эти женщины могут быть его, если он захочет. Вот почему мужчины стремятся стать королями. Да только он понимал, что женщины эти пришли сюда по воле меча.
Наконец его взгляд упал на девушку, скорчившуюся в уголке. Она закуталась в шерстяные покрывала, намотав их на плечи и даже на лицо. Длинные волосы падали на эти тряпки сверху, глаза она опустила. Но вот девушка подняла взгляд, и Аттила увидел в полумраке большие, зачарованные глаза, узкое лицо и вспомнил ту, другую девушку много месяцев назад.
Он прикоснулся к ней, она медленно поднялась, и покрывала соскользнули.
Другие женщины столпились вокруг, воркуя и хихикая, а восточная женщина с накрашенными ногтями уже манила их на покрытое мехом ложе. Было принято, чтобы мужчина получал удовольствие с выбранной им женщиной, а остальные женщины стояли вокруг и хвалили его, чтобы их глаза сияли притворным сладострастием, вызванным единственным отчаянным желанием: чтобы их перевели из одной кибитки в другую: из общей Женской Кибитки в одну из личных, где живут жены и наложницы.
Аттила вспыхнул, несмотря на выпитый им кумыс. Подобная открытость претила ему. Он покачал головой остальным женщинам, взял девушку за бледную руку, увел ее за одну из занавесок, за которыми они спали, и задернул занавеску.
Остальные женщины вернулись на свои ложа и снова стали ждать. Они проведут всю жизнь в ожидании, а потом совсем состарятся, и их продадут, как домашних рабынь, по цене меньше, чем за мертвую лошадь.
Аттила снял с девушки рубашку и долго рассматривал ее тело. Она тоже решительно и молча смотрела на него. Наконец он толкнул ее на ложе и начал целовать. Потом замер, приподнял голову и снова взглянул на девушку. Все еще в благоговейном трепете от всего приключения в Женской Кибитке, Аттила вдруг начал мямлить, что им совсем не обязательно… делать все… если она не… и ему очень жаль…
Она притянула его к себе. Он удивился и пришел в восторг, когда она страстно поцеловала его. Потом девушка положила руки ему на грудь и сильно оттолкнула его.
— Что такое? — ошеломленно спросил Аттила, садясь.
Она мягко засмеялась.
— Нам совсем не обязательно… делать все… мне очень жаль… — передразнила она.
Потом наклонилась к нему и начала развязывать шнуровку на его рубашке.
— С чего ты взял, что я не хочу? — спросила она, выгнув брови. Стянула рубашку через голову и села верхом на обнаженную грудь Аттилы. — Иногда мне это тоже нравится.
Мальчик, открыв рот, уставился на нее. Тогда она накрыла его рот своим, и он больше ни о чем не думал.
* * *
Теперь у Аттилы была своя кибитка и девушка, согревавшая ему ложе.
— Скоро опять начнем набеги, — заявил Руга, крепко хлопнув его по спине. — Надеюсь, ты привезешь мне взамен этой еще десяток шлюх. Она была лакомым кусочком мяса.
Мальчик вежливо улыбнулся.
3
Чанат
Почти через месяц одиноким всадник, обнаженный до пояса, с длинными, смазанными маслом волосами и роскошными усами, подъехал к Равенне. Сначала стражники перегородили ему путь, но когда он сообщил, кто он такой, они неохотно разрешили ему проехать, правда, в сопровождении вооруженного эскорта.
Наконец, после того, как у него отобрали коня, тщательно обыскали — оружия у него не было — и обязали приличия ради накинуть белый плащ на жилистые плечи, его допустили к императору Рима.
Сестра императора тоже присутствовала. Женщина, и сидит на собственном троне, будто ровня мужчине! Эти
римляне, с отвращением подумал воин.
Он стоял, скрестив на груди руки, и, вместо того, чтобы почтительно опустить глаза к мозаичному полу, смел смотреть прямо в Божественное лицо императора Гонория.
Эти
варвары, с отвращением подумал император.
—
Asia konusma Khlatina, — произнес воин. —
Sizmeli konusmat Ioung.
Началось крайне неаристократическое смятение — управляющие заметались по дворцу в поисках переводчика, понимающего отталкивающий язык гуннов. А в большой, тускло освещенной Палате Императорских Аудиенций воцарилась неловкая тишина. Гонец не отрывал взгляда от лица императора. Это было невыносимо. Гонорий уставился на свои колени. Его сестра холодно смотрела в лицо посланника гуннов. Его дерзкие раскосые глаза неприятно напоминали ей другого, более юного жителя степей.
Наконец переводчика нашли. Он явился в Палату с откровенно испуганным видом и встал, дрожа, за спиной воина-гунна, ожидая, когда тот заговорит. Воин повторил свои слова, и вид у несчастного переводчика сделался еще более потрясенным — незавидная участь переводить подобные оскорбительные вещи ледяному Императорскому Трону.
—
Asia konusma Khlatina, — произнес воин. —
Sizpicli konusmat Ioung.
Переводчик, заикаясь, сказал:
— Он говорит: «Я не говорю на латыни. Вы должны говорить на языке гуннов».
— Мы уже догадались, что он невежествен в изучении языков, — отрезала Галла Пласидия.
Император беспокойно покосился на сестру, снова повернулся к гонцу и через переводчика приветствовал его.
— Также, — добавила Галла, — наши приветствия вашему королю, благородному Руге.
Воин в ответ приветствий не передал. Опять воцарилась тишина, опять повисло смущение, мучительное, казалось, для всех, кроме воина.
В конце концов принцесса Галла Пласидия сказала переводчику:
— Как по-твоему, ты можешь побеспокоить его вопросом, чего ради он осчастливил нас своим милостивым появлением, причем именно сегодня? Что-то я плохо представляю себе, что он проехал весь путь из Бог знает какой отдаленной необузданной тьмы, просто чтобы сообщить нам, что не знает латыни.
Трясясь еще сильнее, чем раньше, переводчик обратился к гунну.
Воин остался невозмутим. Помолчав еще немного, он заявил:
— Меня зовут Чанат, сын Суботая.
Галла вскинула брови.
— Боюсь, я не имела удовольствия знать вашего отца.
Чанат проигнорировал ее сарказм.
— Я прибыл с известием от моего короля.
Император вздрогнул. Его сестра сжала губы, ставшие еще бескровнее, чем обычно, но промолчала.
— Одну луну назад, — продолжал Чанат, — племянник короля, Аттила, сын Мундзука, вернулся домой, в лагерь гуннов за горами Харвад.
Тишина.
— Он сказал нам, что бежал, хотя был заложником в этой стране, потому что вы, римляне, замышляли убить его.
— Он лжет! — вскричала Галла Пласидия.
С большой неохотой Чанат решил, что, раз женщина обращается к нему, он тоже должен обращаться к ней. Эти римляне…
— Он принц королевской крови, — холодно возразил Чанат. — Он не лжет.
Ледяной взгляд Галлы Пласидии и раскосые глаза гунна надолго впились друг в друга в огромном, хрупком пространстве Палаты Аудиенций. Первой отвернулась Галла.
— Впредь во все луны, и годы, и поколения, — докончил воин, обращаясь к Гонорию, — народ гуннов никогда больше не станет союзником Рима.
Император оторвал взгляд от колен — все это время он смотрел на свои собственные сплетавшиеся и расплетавшиеся потные пальцы.
— Вы собираетесь напасть на нас?
Галла негодующе поморщилась.
Чанат остался неподвижным.
— Я сказал то, что сказал.
Гонорий снова посмотрел на свои пальцы, подумал, что они ужасно похожи на личинки, и пронзительно выкрикнул:
— Я могу приказать убить тебя!
Галла уже хотела дать знак управляющему, чтобы тот подошел и сопроводил их к выходу, потому что аудиенция определенно подошла к концу, как вдруг воин снова заговорил:
— Все, что ты можешь сделать со мной, — он широко улыбался, словно это была шутка, — не будет столь ужасно, как то, что сделает со мной мой господин и повелитель, если я подведу его.
Гонорий, приоткрыв свой маленький ротик, уставился на жуткого варвара. Потом с громким и пронзительным криком он вскочил с трона, сбежал со ступенек и кинулся в свои покои, подхватив подол, чтобы его костлявые ноги не запутались в нем. Сестра встала и поспешила следом за ним.
Как только они ушли, Чанат рванул изящную брошь, скреплявшую на плечах белый шелковый плащ. Плащ соскользнул с его мускулистого золотистого торса и с шелестом упал на пол. Чанат повернулся, наступил на плащ и вышел из Палаты Императорских Аудиенций.
У городских ворот ему вернули коня. Он проверил упряжь и убедился, что не исчезла ни единая золотая монета, украшавшая ее. Чанат на прекрасном латинском языке похвалил стражей за их честность, вскочил в седло и направился к гати через болота Равенны — и домой.
* * *
Аттила и Аэций все чаще и чаще охотились вместе и брали с собой своих рабов, Ореста и Кадока, и в конце концов гунны стали называть их просто «четверка».
Они бесконечно соревновались: в борьбе и фехтовании, в метании копья и аркана, или играли в старинную игру гуннов, которая называлась
piilii, заключавшуюся в бешеной скачке за надутым воздухом мочевым пузырем свиньи. Они преклонялись перед Чанатом, величайшим и самым свирепым воином среди гуннов, но тот сказал, что восхищаться следует мудростью, а не силой.
— Мудрость, — фыркнул Аттила. — Нет уж, мне подавай силу.
Чанат покачал головой, а потом заговорил. Как ни странно, говорил он о Маленькой Птичке, хотя Аттила даже не упомянул сумасшедшего шамана.
Аэций остановился послушать. Его темно-синие глаза на изящном лице смотрели печально. Он тоже интересовался Маленькой Птичкой, этот высокорожденный римский мальчик, воспитанный на серьезных учениях Сенеки и Эпиктета, а также на доктринах христианской церкви и всех ее красивых словах о мудрости провидения и бесконечной доброте мира. В глубине сердца он знал, что слова и песни Маленькой Птички пугали его сильнее, чем что-либо еще.
— В мире много людей, которых считают мудрыми, — медленно начал Чанат, — но мы, гунны, знаем, что мудрец лишь Маленькая Птичка, несмотря на свое сумасшествие. Он мудр, ибо его безумие даровано ему богами. Лишь он один советовался с богами. Он девять зим и девять лет просидел на вершине горы в священных горах Алтая и съедал всего лишь крупинку риса в день, а больше ничего. Вместо воды он слизывал снежинки, падавшие ему на губы. И за девять долгих лет он ни разу не открыл глаз, чтобы посмотреть на мир, наделенный чувствами, а следовал лишь богам и неизвестным силам там, за занавесом мира. А когда вернулся, то принес с собой не весть об утешении.
Мальчики ждали.
— Он вернулся от них, от тех созданий с ястребиными головами и орлиными глазами, что отбрасывают на землю тени больше, чем горы, тех, кто создал медвежий коготь и клык вепря — это восхищало его. И с тех пор Маленькая Птичка лишь танцует, или поет бессмысленные песни, или разговаривает со своим единственным другом — ветром. Он с восторгом насмехается над теми, кто говорит мудрые, серьезные слова о небесной справедливости, о высоком долге и назначении человека. Ибо — говорит он — мы, люди, всего лишь праздная шутка Бога.
Аэций боялся Маленькой Птички. Во всяком случае, он боялся безумных слов, что говорил и пел Маленькая Птичка. И знал, что его друг Аттила тоже напуган.
4
Четверка
Как-то утром Аттила собирался поехать верхом с Орестом — на низкорослых большеголовых лошадках гуннов, но тут в лагерь вернулись Аэций и его темноглазый мальчик-раб.
— Ты уже поохотился?
Римлянин вытащил из заплечного мешка утку.
Аттила фыркнул.
— День пути, и мы среди вепрей. На северо-востоке лежит долина, заросшая лесом. Мы в ней переночуем, а утром будем охотиться. Но, — тут он щелкнул по колчану, висевшему на плече римлянина, — нам потребуются не детские лук и стрелы.
Аэций посмотрел вниз и увидел, что к лошадке Аттилы приторочено тяжелое копье. Не говоря ни слова, он отъехал и через несколько минут вернулся с длинным ясеневым копьем.
Сразу за длинным заостренным наконечником копья была насажена толстая железная распорка: копье на вепря, чтобы остановить бешеную атаку зверя. Все знали, что вепрь, получивший удар в бок обычным копьем, запросто мог и дальше с визгом мчаться вперед, и распарывал брюхо лошади своими шестидюймовыми клыками даже в предсмертной агонии.
Аттила прищурился, когда римлянин подошел к нему со своим верным рабом.
— Вперед, — бросил он Оресту. — Пусть догонит нас.
Ударил пятками лошадку и пустил ее в галоп по ярким зеленым равнинам свободной и бескрайней степи.
К концу дня, после безостановочной скачки, четверо мальчиков, добравшихся до края лесистой долины, обессилели, но ни один этого не показал. Разбивая в тени деревьев лагерь, таская хворост и разжигая уютный костер, они почти не разговаривали.
— Ты, мальчик, — бросил Аттила рабу Аэция, — принеси-ка еще хворосту, чтобы хватило на ночь.
Кадок побежал исполнять приказ.
Аттила кивнул.
— А он хорош.
— Он очень хороший, — подтвердил Аэций.
— Откуда?
— Он кельт — из Британии.
— А-а. Когда-то они были хорошими воинами.
— Они и сейчас хорошие воины.
— И язык гуннов понимает.
— Он понимает язык гуннов, латынь, кельтский, язык саксов, галльский и немного язык готов и говорит на них.
— Образованный для раба.
— Он не всегда был рабом.
Мальчики немного посмотрели в огонь, думая, в чем бы еще посостязаться. Потом Аттила сказал:
— На, попробуй вот это. — И протянул кожаную фляжку.
— Что это? — с подозрением спросил Аэций.
— Что-то вроде сброженного овечьего молока.
— Не кумыс?
Аттила помотал головой.
— Нет, от этого не опьянеешь. Просто овечье молоко, скисшее. Хорошо освежает в жаркую погоду.
Аэций осторожно поднес фляжку к губам и попробовал. В следующий миг он откинул фляжку и выплюнул все в зашипевший костер.
Аттила разразился хохотом и забрал фляжку.
Аэций с отвращением вытер губы.
— Что, во имя
Гадеса, это такое?
Аттила широко ухмылялся.
— Мы называем это
yogkhurt.
—
Yogkhurt, — повторил Аэций еще более гортанно.
Аттила кивнул.
Аэций тряхнул головой.
— На слух так же паршиво, как и на вкус.
На следующий день они пошли искать вепря. След нашелся быстро — предательские отпечатки копыт — но мальчики потеряли его в густых зарослях, куда не могли пройти лошади. Позже у поваленною дерева они нашли что-то, похожее на логово. Аттила спешился и негромко присвистнул, пригнувшись около ствола и водя пальцами по коре.
— Что там?
— Царапины. Глубокие. — Он ухмыльнулся. — Здоровый.
Поехали дальше.
— Он где-то залег, — крикнул Аттила. — Нужно его спугнуть.
— Я чувствую запах, — сказал Кадок.
Аттила повернулся и уставился на мальчика.
— В вашей стране не только постоянные дожди, но и вепри есть?
Мальчик кивнул.
— Полно вепрей. Осенью, в буковых лесах, мы…
Вепрь с визгом выскочил из ниоткуда. Когда Аттила смотрел на огромную щетинистую спину зверя, с пыхтеньем несущегося на них, у него в мозгу мелькнуло: это мать, мы оказались слишком близко к выводку. Нет в природе свирепости страшнее, чем свирепость матери, защищающей детей. Потом он заметил величину вепря, длину клыков — восемь дюймов? Девять? — и услышал грохот маленьких копыт, несущих на себе вес в четыре сотни фунтов, а то и больше.
А потом в его ушах зазвенел более страшный звук — крик его лошади. Аттила лежал лицом вниз на земле, рот его был полон прошлогодних листьев, а на его ногах билась в агонии лошадь, которой вепрь распорол брюхо молниеносным ударом своих жутких клыков.
Остальные трое мальчиков мгновенно спешились, и Аэций отчаянно пытался выдернуть копье из перевязи. В любой момент вепрю могло надоесть терзать лошадиные внутренности, и тогда он обратит свои маленькие глазки-бусинки и чудовищные клыки на них. Или на четвертого мальчика, беспомощно прижатого умирающей лошадью. Если вепрь обойдет лошадь кругом и набросится на Аттилу, мальчик умрет в мгновенье ока.
Вепрь замер, и в тишине, повисшей на поляне, слышался только хрип умирающей лошади. Вепрь поднял массивную голову. Аэций подумал, что он весит четыреста пятьдесят, а то и все пятьсот фунтов. Это был самый большой вепрь, какого он когда-либо видел; больше, чем любой из бывших на арене, или в лесах Силестрии — да где угодно. Вонь от него, заполнившая всю лесную поляну, была густой, мерзкой, мускусной, а страшные желтоватые клыки, с которых капала кровь и свисали кишки распотрошенной лошади — дюймов девяти длиной, а то и больше.
Вепрь смотрел на них, и его бока вздымались и опадали. Он никуда не спешил и ничего не боялся. Потом он почуял какое-то движение рядом с собой и снова испугался — и запылал бешенством. Он повернулся, чтобы еще раз пронзить клыками лошадь — но это была не лошадь, это было что-то другое.
Принюхиваясь, вепрь галопом помчался туда, где, беспомощно извиваясь, лежал в прошлогодней листве пойманный в ловушку Аттила, нагнул голову и рванулся к мальчику.
Раб-кельт двигался так же быстро, как лесной зверь. Он поскользнулся на внутренностях лошади, перелез через ее распоротое брюхо и вонзил меч в бок вепря как раз в тот момент, когда зверь первым ударом клыков располосовал спину Аттилы. Лезвие вонзилось не глубже, чем на дюйм, но этого хватило. Вепрь повернулся, бешено завизжав, и устремился к Кадоку. Но Кадок соскользнул с мертвой лошади, и разъяренный вепрь снова вонзил клыки в мертвую плоть. И тут же ощутил более глубокую, более страшную рану в спине — что-то пронзило его грубую щетинистую шкуру. Зверь резко крутанулся на аккуратных маленьких копытах и увидел Аэция. Мальчик-римлянин выдернул копье и прижался спиной к старому буку. Нижнюю часть древка он воткнул между корнями дерева, потому что вепрь такой величины мог смахнуть в сторону взрослого человека с копьем, как паутину, если тот не закрепится в земле, как корни дуба.
Краем глаза Аэций заметил, что Кадок снова взобрался на лошадь и собирается ударить вепря сзади.
— Нет, Кадок! — закричал он. — Пусть он кинется на меня!
Вепрь смотрел на Аэция, но не слышал человеческих криков — в ушах у него грохотала только его кровь. И он кинулся.
Тонкое ясеневое копье разломилось пополам, как хворостина — такова сила удара пятисотфунтовой туши, и Аэций едва успел метнуться в сторону. Но в своем бешеном рывке вепрь насадил себя грудью на острие копья. Распорка проникла в легкие зверя, убивая его. Вепрь откатился назад с отчаянным визгом и упал набок, полосуя невидимых противников. Яркая легочная кровь хлестала из пасти. Он попытался подняться, но задние ноги подогнулись, хотя передние еще крепко стояли в мягкой лесной почве.
Аэций с трудом поднялся, испуганный и дрожащий, и увидел двух мальчиков — двух рабов, знакомых с плетью и цепями своих господ — которые с двух сторон подползали к умирающему вепрю с ножами в руках. Аэций закричал:
— Нет! — вепрь умирал, но даже в эти последние мгновенья он мог повернуть свою огромную голову и разорвать человека пополам. Но оба мальчика-раба впервые в жизни ослушались приказа господина, подползая все ближе и старательно увертываясь от окровавленной мотающейся головы.
Они, как по команде, метнулись вперед и вонзили свои ножи в тушу зверя. Нож Кадока глубоко вонзился в мускулистую шею, а нож Ореста попал между ребер. Вепрь все же мотнул головой, ударил Кадока и отбросил его на подстилку из листьев, к счастью, не задев клыками. Безоглядная свирепость вытекала из него вместе с кровью. Вот пропитавшиеся кровью бока поднялись, потом еще раз. И он сдох.
Аэций набрался решимости и, отворачиваясь от зловония, исходившего из распоротого брюха лошади, схватил ее за задние ноги, чтобы стащить с упавшего мальчика. Он крикнул рабам, чтобы те помогли ему, но тут раздался крик с другой стороны лошади, и оттуда появился Аттила. Он сумел выбраться сам, и хотя он держался за бедро, где растянул сухожилие, хотя его рубашка на спине промокла от крови, лившейся из раны, нанесенной клыками вепря, все же он легко отделался и пока еще был полон возбуждения от опасности и почти не чувствовал боли.
В один миг настроение мальчиков изменилось, и они пустились в пляску на этой лесной поляне, как четверо равных. Они хлопали друг друга по рукам и плечам, молотили кулаками воздух и улюлюкали, как самые варварские племена в Скифии. Они скакали вокруг огромной окровавленной туши убитого вепря и орали, хватали мечи и сломанные копья и, словно исполняя ритуал, снова и снова вонзали их в зверя. Они вызывали на бой лютую душу вепря и даже богов, создавших такого кровавого и ужасного зверя и с улыбкой пустивших его на землю, чтобы он стал для людей источником страха и мучений. Они перемазались кровью вепря, потом смешали кровь с влажной лесной землей и намазались этим, и завывали в высокое синее небо, проглядывающее сквозь шелестящую зеленую весеннюю листву. Смешались четыре разных языка — греческий и кельтский, латинский и гуннский, но все они кричали одно и то же, это было одно и тот же кровавое вызывающее ликование, торжество жизни над смертью.
Наконец, обессилев, они упали на землю, и потихоньку восстановили дыхание, и самообладание, и вспомнили о разнице в положении. Жаркая кровь успокаивалась, напряженные руки и ноги расслаблялись, и они даже прочитали молитвы — каждый из них. Они молились духу вепря и просили у него прощения; они молились тем безымянным духам, что создали вепря, что гнули и лепили в своих железных руках его кривой позвоночник, и покрыли его жесткой щетиной, и сделали его копыта, и придали форму его ужасным клыкам.
Аттила велел обоим рабам разжечь костер и начал резать вепря, рассекая толстую шкуру, чтобы добраться до темно-розового мяса на мясистых ляжках. Они насадили мясо на прутья и поджарили их на костре. Несмотря на величину вепря, четверо умирающих с голода мальчиков сумели проделать в туше изрядные бреши прежде, чем упали на землю, не в состоянии больше проглотить ни кусочка, и уснули.
Проснулись они, когда начало темнеть. Мальчики согрелись, разжигая костер, поджаривая еще мясо, хотя ни один из них не мог больше есть, и по очереди пытаясь разрубить крепкую шею вепря. Тяжелая работа — делать это легкими мечами, и каждый из четверых вымотался до предела.
— Но мы же не можем оставить его здесь, — сказал Орест. — Нам никогда не поверят.
Странно, но он, как и Кадок, теперь считал себя вправе высказываться раньше, чем господин ему позволит. Но здесь четверка чувствовала себя куда свободнее, чем в лагере или при дворе.
Аттила кивнул.
— Мясо все равно пропадет. А вот голову нужно забрать.
Целый час они рубили и резали шкуру, мышцы, сухожилия и кости, но все-таки отделили голову от туши. Потом долго спорили о том, как доставить ее в лагерь, потому что голова сама по себе весила фунтов двести. Наконец решили смастерить что-то вроде салазок из толстых ореховых ветвей, перетащить на них голову вепря, привязать для надежности прутьями и волочь салазки в лагерь гуннов, меняя лошадок каждый час.
— Мы станем героями! — возбужденно воскликнул Орест.
— Предметом зависти каждого мужчины, — добавил Кадок.
— И мечтой каждой женщины, — хихикнул Аттила.
Остальные трое смутились.
Аттила ухмыльнулся.
— Как,
ни один из вас не делал этого? С женщиной?
Оба мальчика-раба густо покраснели. Аэций мотнул головой.
Аттила ухмыльнулся еще шире.
— Так-так. — Здорово чувствовать себя могущественным. Ему это нравилось. Помолчав немного, он спросил: — Ты скучаешь по дому?
Аэций поднял глаза и понял, что Аттила обращается к нему.
— Тоскуешь по Риму?
У Аэция вытянулось лицо.
— Я скучаю по Италии, — признался он. — Рим — это…
— Рим — это помойка, — отрезал Аттила.
— И ты оттуда сбежал.
— И я оттуда сбежал. Не обижайся, но… ваши солдаты никуда не годятся. Большинство.
Некоторое время оба мальчика настороженно смотрели друг на друга, потом Аттила засмеялся. Но не Аэций.
— А вы, — сказал Аттила, приподнявшись на локте и царственно махнув обоим рабам, — вы оба. В тот же миг, как вернемся в лагерь, будете свободными и можете уходить, нагрузившись золотом.
Они уставились на него. Орест промямлил:
— Но… но мне некуда идти.
Тогда Аттила спросил, на этот раз вполне серьезно:
— Ты хочешь остаться, грек? Остаться с ужасными гуннами, которые едят сырое мясо, у которых нет бань и которые не желают склоняться перед кротким умирающим и воскресающим богом христиан?
Орест уставился в землю.
— Если хочешь — оставайся, — сказал Аттила. — Но не рабом.
Аэций сидел, скрестив ноги, напротив Аттилы, как всегда настороженный и внимательный. Он думал, как по-королевски ведет себя этот мальчик, вынося решения, милостиво даруя свободу и золото направо и налево с царственной беспечностью и пышностью.
— А ты, — сказал Аттила, поворачиваясь к Кадоку, — ты тоже будешь свободен. Ты почти спас мне жизнь.
— Я
спас тебе жизнь, — негодующе выпалил Кадок.
Аттила впился взглядом в темноглазого раба, и Аэций подумал, не впадет ли он от такой дерзости в ярость, как его вспыльчивый дядя. Но Аттила засмеялся, и все облегченно вздохнули. Никому не хотелось видеть, как он гневается.
— Очень хорошо, — сказал он. — Ты
действительно спас мне жизнь. И мой дядя даст тебе в благодарность столько золота, что ты не сможешь выйти из лагеря!
Чтобы тащить свинцовую тяжесть головы вепря на самодельных салазках из ореховых сучьев, потребовались две лошадки.
Двое мальчиков ехали верхом, двое шли пешком, меняясь примерно через час. Трое пытались настоять, чтобы Аттила с разорванным сухожилием и раной в спине ехал верхом все время, но он наотрез отказался и честно шел пешком, как и остальные.
Это был тяжелый переход, и до лагеря гуннов они добрались только к следующей ночи, так что их встречали и приветствовали лишь несколько часовых.
Но на следующее утро, когда заспанные люди выбрались из своих кибиток, в центре лагеря, на повозке с высокими колесами, чтобы подчеркнуть величину, красовалась чудовищная голова вепря, такая огромная, какой ни один мужчина, ни одна женщина из этого народа никогда не видели.
Под повозкой лежали четверо измученных, грязных мальчишек, сбившихся в кучку под грудой грубошерстных попон.
Люди собирались вокруг, пораженно ахали, самые храбрые трогали голову и даже постукивали по торчавшим из окровавленной пасти клыкам. И переговаривались.
Мальчики проснулись от шума, выбрались из-под повозки и осмотрелись. Когда они поняли, что происходит, начали ухмыляться; их хлопали по спинам и плечам, а они соглашались, что да, это был потрясающий и невероятно опасный подвиг. Они убили Чудовищного Вепря из Северных Лесов и притащили его, во всяком случае, голову, домой, чтобы люди увидели ее собственными недоверчивыми глазами.
Двое крепких мужчин племени подняли Аттилу в воздух, посадили себе на плечи и пошли по кругу, а женщины пели и восхваляли его великий подвиг. И другие мужчины убивали вепрей, пели они, но Аттила убил Короля Вепрей. Яркое солнце светит из отважных глаз принца Аттилы. И нет в стране воина, равного принцу Аттиле.
Некоторые женщины выкрикивали непристойности, говорили, что будут счастливы родить от него сына, лишь бы он посетил их кибитку…
Аттила ухмылялся, и махал рукой, и упивался всем этим, совершенно забыв о раненой спине и больном бедре. Остальные трое старались казаться не очень обиженными: их вклад в смерть вепря остался полностью незамеченным, все похвалы достались принцу гуннов. И тут все прекратилось, пение замерло, и над толпой повисла зловещая тишина.
Перед ними стоял Руга со своим личным стражником. Он не пел и не восторгался великим достижением племянника. Он не называл его убийцей Короля Вепрей и не заявлял, что из его отважных глаз ярко светит солнце. Он угрюмо стоял перед ними с мрачным лицом, скрестив на груди могучие руки, и молчал.
Аттила соскользнул с плеч мужчин, поморщился, наступив на больную ногу, и подошел к дяде.
— Мы убили вепря, — сказал он, махнув рукой как можно небрежнее.
Руга кивнул.
— Вижу.
— И рабы, и римлянин, они его тоже убивали. По правде говоря, они спасли мне жизнь. Теперь на мне долг Королевской Крови Ульдина, и я даровал им свободу.
Руга долго молчал. Потом повторил медленно и тихо:
— Ты даровал им свободу?
Аттила нерешительно кивнул, отведя взгляд в сторону.
— То есть… — Голос его ослаб и замер. Он уже понял, что совершил ошибку.
Голос Руги загремел над лагерем, и ближайшие черные кибитки задрожали под его напором. Он гремел, шагая навстречу мальчику.
— Не
твое право даровать рабу свободу! Это право короля! — Он размахнулся и кулаком сбил Аттилу с ног. — Или ты считаешь, что равен королю? Так, мальчишка? — Он поставил обутую в войлочный башмак ногу на грудь Аттиле, вышибив из него дух, и снова загремел: — Это так? Победитель вепрей! Выскочка! Щенок недоделанный!
Пылкий дух Аттилы сник под праведным гневом дяди, и мальчик уткнулся лицом в пыль.
Тут Руга посмотрел на мальчика-римлянина, и люди ахнули. Некоторые заметили, что сделал Аэций, увидел это и бородатый король с ястребиным взором. Почти против воли Аэций, увидев, как Аттилу сбили с ног, шагнул вперед и потянулся за мечом.
Маленькая Птичка тоже увидел это своими яркими, как у птицы, глазками, и решил, что это забавно.
— Белый мальчик вытащил меч, папа! Белый мальчик вытащил меч!
— Заткнись, безумец, — прорычал Руга, отталкивая пляшущего дурачка. — Ты говоришь чепуху.
— Все чепуха, — сердито ответил Маленькая Птичка и сел в пыль.
Руга вперил пылающий взгляд в Аэция.
— Подходишь ко мне с оружием, вот как, мальчишка? — пророкотал он.
Аэций споткнулся и остановился, но назад не отошел. Он сказал тихо, так что услышали его только те, кто стоял совсем близко:
— Не бей его.
— Ты приказываешь мне, мальчишка? Дни, когда гунны слушались приказов римлян, давно прошли. И если б я решил назначить тебе наказание за все то зло, что твой народ причинил этому мальчику, этому принцу королевской крови — несмотря на всю его дерзость — я бы приказал трижды содрать с тебя шкуру и бросил бы твое окровавленное тело на муравейник в степи, чтобы его объели начисто, до костей! Отличная смерть для такого высокорожденного, как ты, а? А?! Ответь мне, мальчишка!
Но Аэций больше ничего не сказал. Он сделал единственный шаг назад, опустил руки и потупил взор.
Люди смотрели на все это настороженно, опасаясь, что гнев короля обрушится и на них.
Он был один, а их — тысячи, десятки тысяч, и все-таки воля Руги, как воля любого вождя гуннов, а возможно, и всех вождей всех народов, была такой же реальной и могущественной, как железный прут, опускающийся на спину, и противостоять ей могли лишь самые сильные духом.
Руга отошел от Аттилы и злобно посмотрел на толпу. Никто не решился взглянуть ему в глаза.
Тогда он показал на распростертого на земле племянника и приказал стражам:
— Взять его и его драгоценного римского дружка и привязать их к повозке в степи. Оба раба — а они по-прежнему рабы — отныне будут прислуживать в моей кибитке. И горе вам, — крикнул он Оресту и Кадоку, смотревшим на него широко распахнутыми глазами, — если вы прольете хоть каплю кумыса, когда будете наполнять мой королевский кубок, понятно?
Руга повернулся и пошел в свой богато убранный шатер, а потрясенные люди медленно разошлись. Оба раба нерешительно поплелись за Ругой.
А обоих мальчиков, римлянина и гунна, повел из лагеря отряд копейщиков. Они прошли три мили по выжженной степи до повозки без бортов, стоявшей по колеса в высокой траве. Там мальчиков раздели донага и привязали лицами вверх к повозке; прочно привязали даже шеи и головы, чтобы они не смогли отвернуться от солнца. И оставили их там, чтобы они поджаривались днем и замерзали ночью.
— Ну вот, — дружелюбно сказал Аттила, когда стражи ускакали прочь и мальчики остались в обществе лишь шелестящего ветра и палящего солнца.
— Ну вот, — отозвался Аэций.
— Вот это мы попали.
— Действительно.
— Пить хочешь?
— Конечно, я хочу пить. Может, у тебя есть вода?
Наступило молчание. А потом, по неизвестной причине — может, от пережитого страха и перспективы провести мучительные день и ночь — мальчики расхохотались.
Они хохотали истерически, до тех пор, пока по щекам не потекли слезы.
Аттила взмолился:
— Хватит, хватит, нам нужно беречь воду! — но от этого они расхохотались еще сильнее.
Наконец смех затих, слезы на щеках высохли, и мальчики замолчали.
Солнце палило. Они зажмурились, но красные и оранжевые пятна проникали и под закрытые веки. Губы пересохли и потрескались, щеки и лоб сгорели.
— Не открывай рот, — посоветовал Аттила. — Дыши через нос.
— Знаю я, — буркнул Аэций.
— Мы переживем и это.
— Чертовски верно!
Ближе к сумеркам они услышали шорох в высокой траве, довольно близко. На миг мальчики поверили, что это стражи пришли их освободить, потому что Руга смягчился. Но нет, Руга не смягчался никогда.
— Что это? — прохрипел Аэций, глотка которого уже напоминала шершавую акулью кожу.
Аттила принюхался, и внутри у него все сжалось от ужаса.
— Золотистые шакалы, —
шепнул он. — Целая стая.
Римлянин выругался — Аттила услышал это от него впервые — и спросил:
— А наверх они забраться смогут?
Аттила попытался помотать головой, но это у него, конечно же, не получилось.
— Не думаю, — ответил он. — Если полезут, кричи громче.
Сумерки опустились на бескрайнюю пустынную степь.
Мальчики лежали в напряженном молчании, прислушиваясь и принюхиваясь к острому жарком запаху золотистых шакалов, шныряющих у колес повозки.
А те поднимали влажные носы и принюхивались к теплому, соленому аромату сожженной солнцем человеческой плоти.
Хотя мальчики не могли поднять или повернуть жестоко привязанные головы, они понимали, что шакалы находятся прямо под ними, из их узких, сильных пастей капает слюна, заливая высокую траву.
И оба представляли одно и то же: как острые белые зубы этих тварей вгрызаются в их животы и отрывают кожу, как они погружают длинные морды во внутренности и пожирают вкусную, окровавленную печень и селезенку, а они, мальчики, еще лежат здесь, еще живые… Или шакалы принюхиваются ниже и вгрызаются в их обнаженные, обгоревшие…
Был ли это просто порыв теплого ветра или действительно шакал, поставивший передние лапы на повожу и обдавший его жарким песьим дыханием, Аттила так и не понял, но с внезапной настойчивостью скомандовал:
— А теперь —
кричи!
И мальчики дико закричали, так громко, как позволяли им сожженные, воспалившиеся глотки. Замолчав, они услышали вдалеке визг и вой шакалов, улепетывавших от них по высокому ковылю.
Но они обязательно вернутся.
И все долгие ночные часы Аттила и Аэций, лежавшие рядом, отпугивали шакалов паническими хриплыми воплями.
Через какое-то время шакалы обязательно поймут, что мальчики могут только кричать, и тогда… Но они этого так и не поняли.
Налетели мухи и комары, кусая мальчиков с ног до головы. Из травы вылетали мотыльки, чтобы выпить соленый пот с их кожи. К рассвету оба мальчика так сильно дрожали — ночи в степи холодные — что их зубы стучали, как будто стрекочут две огромные цикады.
Но они выжили. Скоро рассветет, и придут воины, отвяжут их, перекинут их, полуобморочных, через лошадиные спины и отвезут обратно в лагерь.
Когда первые серые лучи рассвета омыли с востока степь, Аттила пребывал в мучительном, страшном забытьи, и ему показалось, что знакомый голос произносит во сне:
— Только не говори мне, что ты опять попал в беду.
Во сне же мальчик открыл глаза, всмотрелся в расплывающееся знакомое лицо и прохрипел:
— Только не говори мне, что ты проделал весь этот путь, чтобы повидаться
со мной.
Перевернутое, искаженное лицо расплылось в ухмылке, острое лезвие перерезало веревки, и кровь хлынула в обескровленные руки и ноги, жарко потекла к голове, и в конечности болезненно впились тысячи иголок.
Аэция тоже освободили. Мальчики несколько минут охали и растирали запястья, а потом им протянули кожаные фляжки с водой. Они хотели выпить все, но после первых глотков фляжки у них отняли. Только после этого они смогли сесть и посмотреть на своих спасителей.
— Это и вправду ты? — спросил, наконец, Аттила.
— Вправду, — кивнул он.
— Но ты приехал не для того, чтобы повидаться со мной.
Он покачал головой.
— Нет, я приехал увидеть моего мальчика. И забрать его домой.
— Твоего мальчика? — До Аттилы доходило медленно. — Раба? Кельта?
Он кивнул.
— Но, — выпалил Аттила, — но он спас мне жизнь!
Люций усмехнулся.
— Весь в отца, — лаконично ответил он.
5
Потерянный и спасенный
Когда конечности мальчиков вновь обрели некоторую подвижность, они неуклюже сползли с повозки, и Люций протянул обоим по тунике.
— Я знаю, что некоторые из вас, варваров, предпочитают сражаться обнаженными, — сказал он, — но…
— Я не варвар, — заносчиво заявил Аэций на совершенной латыни, куда более правильной, чем латынь Люция с мягким кельтским грассированием.
Аттила ухмыльнулся и натянул тунику.
— И ты..? — начал Люций.
— Аэций, сын покойного Гауденция, военачальника кавалерии на границе Паннонии.
Люций растерялся.
— Я немного знал твоего отца. Он считался хорошим командиром.
— Таким он и был, — скованно ответил Аэций.
— Что ж, — сказал Люций. — Значит, ты заложник мира здесь, у гуннов? Заметно, что они относятся к тебе исключительно хорошо.
Аттила возмутился.
— Уж во всяком случае лучше, чем римляне относятся к
своим заложникам!
Люций промолчал.
— А это кто? — мотнул Аттила головой в сторону молчаливого спутника Люция.
— Цивелл Лугана, — отозвался старик с длинной седой бородой и по-доброму подмигнул мальчику. — Во всяком случае, сейчас меня зовут именно так.
Аттила с любопытством посмотрел на него, потом пожал плечами и обернулся в сторону лагеря.
— Твой сын, — вздохнул он. — И есть еще один раб. Они находятся в большом шатре короля. Но спят за ним. Забери обоих. Забери и Ореста, моего раба.
Аэций остро взглянул на Аттилу, но тот спокойно встретил его взгляд.
— Так для него будет лучше, — сказал он. — Теперь моя жизнь станет непростой.
Люций немного подумал и ответил:
— Посмотрим.
Они привязали коней к повозке и пошли сквозь тишину и темноту к лагерю гуннов.
Кадок спал позади королевского шатра, закутавшись в потертую попону.
Старик, называвший себя Гамалиэлем, или Цивеллом Луганой, и множеством других имен, улыбнулся и пробормотал:
— Время просыпаться, сочинитель песен, птицелов, Сочинитель Снов из рода Брана со словами о мире на устах…
Люций опустился на колени и потряс Кадока. Мальчик широко открыл глаза и крепко обхватил отца за шею. И оба разрыдались, хотя отец прикрывал сыну рот рукой.
Когда маленький отряд из шестерых человек появился перед королевским шатром, там пылали факелы, потому что свет зари был еще холодным, серым и тусклым. Их окружила сотня, а то и больше, воинов с натянутыми тетивами. Наконечники стрел холодно блестели в свете факелов. Ибо пусть лагерь гуннов и не был обнесен стенами, никакие чужаки не могли пробраться в него в темноте и остаться незамеченными зоркими копейщиками.
И во второй раз за сутки Аттила противостоял дяде в открытом неповиновении, только на этот раз их было шестеро, и он отстаивал не только собственную гордость. Люций проделал такой невообразимый путь, чтобы найти похищенного сына, и Аттила не мог допустить, чтобы тот вернулся домой ни с чем.
Над лагерем гуннов повисла затаившая дыхание тишина. Потрясенные разворачивающейся на их глазах страшной драмой люди образовали естественную арену. Взгляды метались между маленькой фигуркой мальчика Аттилы и громадной, укутанной в медвежью шкуру фигурой его дяди, вождя Руги. Между ними происходила борьба воль, и даже воздух, казалось, потрескивал от напряжения.
— Дядя… — начал, наконец, мальчик.
— Ты привел в мои владения вооруженных людей, — сказал Руга. — Ты показал им дорогу в мой лагерь. Ты привел их с обнаженными мечами под войлочные стены моего шатра. Ты хотел, чтобы меня зарезали во сне, как скотину, Аттила?
Аттила попытался возразить, но Руга перебил его.
— Ты предал свой Народ, о племянник мой, кровь моя. Ты пошел против моего слова, ты опозорил и унизил меня перед всеми воинами племени.
Мальчик не дрогнул, хотя по закону племени теперь любой мужчина мог вытащить нож и убить его на месте, ибо его заклеймили предателем. Но он не шелохнулся.
И тогда Руга сделал очень странную вещь. Медленно и (как могли сказать видевшие это) с глубокой печалью он подошел к мальчику, стоявшему, не двигаясь, и, похоже, не испугавшемуся. Крепкий бородатый воин положил руки на плечи мальчику и посмотрел на него со смешанным выражением гнева, гордости, скорби и глубочайшей любви. И сказал голосом низким, рокочущим и тихим — его услышали лишь те немногие, кто напряг слух:
— Твой брат Бледа дурак, Аттила.
Мальчик поднял на него глаза.
Руга сильнее сжал его плечи.
— Я бы сделал тебя своим наследником, — прошептал он. Поморгал затуманившимися глазами и продолжил еще тише: — Я бы дал тебе все. Я бы отдал тебе мое королевство, и мой народ, и власть над всеми землями от Святых Гор до берегов Римской Реки. Ибо никогда не будет у меня собственных сыновей, и не будет никого, равного тебе по духу. А теперь я вынужден приказать казнить тебя.
Руга отвернулся, и его широкие, обтянутые мехом плечи поникли, как слабые плечи старика.
— Пусть уходят, — сказал он. — Пусть все уходят — кроме принца Аттилы.
И только тогда — когда всем показалось, что суровое испытание закончилось и мрачный приговор вынесен — в пыли перед королем бешено закувыркалась чья-то фигура, а потом вскочила на ноги в центре круга. Это был шаман Маленькая Птичка, обративший все свое внимание на Гамалиэля.
— Как, отец мой! Не отпускай этого старого глупца с длинной седой бородой! — завопил он. — Ведь он знает слишком много, слишком много! Он явился, чтобы пытать меня — пытать всех нас — своими мудрыми и серьезными древними речениями, чтобы рассказывать, как справедливы боги! Его слова подобны мухам, досаждающим моим усталым ушам!
Руга обернулся и со смутным недоумением уставился на странную стычку между своим дурачком и тем из чужаков, кого он едва заметил.
— Если боги справедливы, старый ты дурак, — продолжал вопить Маленькая Птичка, скачущий вокруг неподвижного и безмолвного Гамалиэля, — то они и несправедливы тоже! Ты забыл, ты забыл, ты состарился и стал бестолковым в своей мудрости и дряхлости! Разве боги плачут, когда видят человека на кресте и христиан, с обожанием упавших перед ним на колени? Они плачут, они скорбят, они поворачиваются, и обнажают свои задницы, и пердят прямо в его окровавленное лицо!
Гамалиэль мрачно, не мигая, смотрел на пляшущего, глумящегося шамана, и молчал.
— Если Господь — Создатель, он также и Разрушитель! Если Господь — Бог любви, он также и Бог ненависти! Ты знаешь, что это правда, ты, старый бородатый дурень, поэтому ты ничего не говоришь, но цепляешься за подмоченные слова утешения и лжи! Утешение и ложь, вот все, что ты можешь предложить, как шарлатан на рынке, продающий кобылью мочу и говорящий, что это снадобье от всех болезней! — Маленькая Птичка закружился на месте и ткнул пальцем в Аттилу. — Спустятся ли твои боги на землю и спасут ли этого изгнанника с разбитым сердцем, с которым поступили так несправедливо под ухмыляющимися небесами?
— Думай, что говоришь, дурак! — зарычал Руга, но шаман и глазом не повел.
— Не спасут, и ты это знаешь! Изгнанник с разбитым сердцем уедет прочь, а боги не спустятся и не спасут его; не раньше, чем моя мамаша разродится поросятами, а луна упадет с небес на землю. Ты знаешь, что это правда, старый бородатый дурень, и я говорю, как говорят боги. Пора тебе снова сходить к Старику в Горах, старый бродяга, старый дурень. Твои мозги испортились и заплесневели, как мул, сдохший месяц назад!
Неожиданно Маленькая Птичка ткнул пальцем в Кадока, робко жавшегося к отцу.
— Ты мудр, темноглазый мальчик. Ибо вот этот любит свой маленький меч, а вот этот любит свой город, а вот этот носит в сумке судьбу всего мира — а вот ты хранишь судьбу мира у себя на устах. Слова создают мир, да-да, потому что слова движут и сотрясают мир во веки веков.
При этих словах Аттила и Орест содрогнулись, но тут Руга шагнул вперед и прогремел:
— Достаточно!
Этот неприкосновенный шаман и дурак, Маленькая Птичка, иногда доводит себя до головокружительного возбуждения.
— Недостаточно, отец мой! — вскричал Маленькая Птичка, подскочив к Руге и упав перед ним на колени в преувеличенной покорности. — Этого никогда недостаточно! — С этими словами он свернулся в клубочек в пыли у ног Руги и моментально уснул.
Руга повторил свой приказ, и даже Люций с Гамалиэлем не осмелились возразить ему. Жестокий и неоднозначный характер короля был очевиден даже самым преданным и несчастным.
Пятерых — Люция, Гамалиэля, Аэция, Кадока и Ореста — копейщики выпроводили из лагеря. Они остановились и оглянулись, всего один раз, встретились взглядами с Аттилой, и все было сказано без слов. И они ушли.
Принца должны были предать смерти. Это знало все племя — и все племя знало, почему он казнен не будет. Все видели, как король смотрел на него. Видели в глазах короля горькую, полную раскаяния привязанность, даже любовь, которой раньше никогда не видели. И знали, что Руга никогда не отдаст приказ убить принца.
Позже в этот же день Аттила получил лошадь и еды на семь дней. Двое сильных мужчин держали его, а один из жрецов склонился над ним и бронзовым ножом трижды глубоко рассек ему лоб. Мальчик стиснул зубы и дернулся, но не издал ни звука.
Потом ему, дрожащему, помогли сесть на лошадь. Жрец смыл кровавую вину с рук в миске с водой, брызнул водой на мальчика и объявил приговор перед всем собравшимся племенем:
— Тридцать лет и тридцать зим ты будешь ездить в одиночестве там, где захочешь. Но ты не смеешь взъезжать ни в страну Черных Гуннов, ни в страну Белых Гуннов. Ибо они — твой Народ, который ты предал. Ты будешь ездить в одиночестве, и никто не признает тебя своим. Если ты попытаешься вернуться в страну своего Народа, который ты предал, каждый мужчина поднимется против тебя, и каждый меч поднимется против тебя, и каждая женщина, и каждый ребенок криком сообщит о твоем присутствии. Чтобы отметить твое изгнание, тебе на лоб нанесли тройной знак предателя. А теперь уезжай, и с тобой не будет никого, кроме твоей запятнанной грехом души.
И мальчик отправился в изгнание.
Никому не позволили проводить его или хотя бы попрощаться. Для Народа принц больше не существовал.
Но о нем говорили. Позже в этот же день у поилки для скота женщины беседовали между собой:
— Он вернется.
Одна старуха посмотрела в степь, на восток, зажмурилась и мысленным взором увидела этого странного, бесстрашного мальчика, ехавшего по бескрайним равнинам, а копыта его лошадки выбивали из земли облачка пыли. Она кивнула и повторила:
— Он вернется.
* * *
Изгнанник с разбитым сердцем целое утро ехал на восток и добрался до могильного кургана отца. И там, на кургане, сидел, скрестив ноги, Маленькая Птичка. Он раскачивался взад и вперед, и узел его на макушке смешно болтался, словно беседуя со своим единственным другом, ветром.
Мальчик молча остановил лошадь.
Для любого из племени даже взгляд на проклятого изгнанника означал смертный приговор, поэтому о беседах и речи быть не могло. Но Маленькая Птичка был другим, его оберегали боги. И он обратился к Безымянному-и-Проклятому так же жизнерадостно, как заговорил бы с любым другим.
— Приказывать Маленькой Птичке, — пропел он. — Приказывайте ковылю на ветру, получится то же самое.
Шаман всегда говорил, будто о себе, но на самом деле он говорил о Народе. Он, смеясь, говорил о трагедиях и скорбно говорил о самых простых и нелепых вещах. Он въезжал в лагерь, сидя на коне задом наперед, одевался, как женщина, плясал и хлопал в ладоши на детских похоронах. Он говорил, что все это одно: что боги истекают кровью, когда человечество истекает кровью, но они же смеются, когда человечество истекает кровью.
А теперь, похоже, он считал, что изгнание Аттилы было особенно забавным, и весело пел одну из своих песенок:
Я иду под землю,
И стою на дубовом листе,
Я скачу на кобыле, что никогда не жеребилась,
И держу мертвеца на руке.
Мальчик ударил лошадь пятками и устало двинулся дальше.
— Однажды, когда ты был младенцем, младенцем-поросенком… — крикнул ему вслед Маленькая Птичка.
Аттила помедлил, вздохнул и повернул лошадь.
— И что?
Шаман раздражающе улыбнулся.
— Однажды, когда ты был мальчишкой — ты не помнишь? Ты и твой брат, Бледа Тупой-Голова с Трухой, пошли поиграть в лес. Мы тогда разбили лагерь на болотах у Днепра. Не припоминаешь, маленький отец?
Аттила покачал головой.
— И там, в лесу, ты встретил старуху, — весело продолжал Маленькая Птичка, — ты встретил старуху с бородавкой на кончике носа, бородавкой величиной с кротовью горку. Но это, признаюсь, так, кстати. А может быть, я просто сочиняю. Может быть, я вообще
все сочиняю.
Мальчик терпеливо ждал. Лошадь трясла головой, отгоняя мух, и тоже ждала.
— Так вот. Старуха улыбнулась отвратительной улыбкой — и изо рта у нее вылетела летучая мышь! И старая ведьма скрипела, и квакала, и тыкала своим старым пальцем, и сказала тебе и твоему братцу с задницей вместо мозгов, что тот из вас, кто первым прибежит обратно и обнимет мать — ваша мать в те далекие дни была еще жива, маленький отец, и была она такой красивой и очаровательной…
Мальчик не шелохнулся.
— …что тот из вас, кто первым добежит и обнимет мамочку, станет королем мира. Ну, если бы какая-нибудь дряхлая, носатая старая карга — и боюсь, что с обвисшими сиськами — если бы такая тошнотворная старая дама, как я уже сказал, однажды пристала бы
ко мне в облюбованном летучими мышами лесу и велела бы
мне побежать и обнять мою мамочку, я бы дважды подумал, прежде чем выполнить ее странный приказ. Но не ты, о невинный мальчишечка, каким ты был в те далекие дни, и не твой поскакун-братец с задницей вместо мозгов. И вы оба кинулись бежать, мечтая стать королями мира. И твой поскакун-братишка с задницей вместо мозгов добежал первым до вашей мамочки, такой красивой, сидевшей на коврике под солнышком и чесавшей овечью шерсть — или чем там занимались женщины в те дни. И она сильно удивилась, когда Бледа, ее сынок с задницей вместо мозгов, вдруг начал обнимать ее ни с того ни с сего. А ты, о благородный князек, здорово отстал, потому что упал носом в грязь. А может, твой не-такой-уж-тупоголовый-как-кажется старший братишка подставил тебе подножку? Ибо нигде не сказано, что мир — справедливое и радостное место, маленький отец. Как бы там ни было, но падая — падая! — ты набрал две полные пригоршни грязи. И встал и заорал своему братцу, что ты обнял мать-землю. Он оглянулся, да-да, Принц Тупоголовый Бледа, и увидел твою шутку, и — о! — как он сердито нахмурился!
Маленькая Птичка замолчал и посмотрел на мальчика в седле глазами, лучившимися странным, загадочным весельем.
— Ну, — сказал он, — и что ты извлек из моей сказки, маленький отец?
Аттила слушал сумасшедшего, медленно опуская взгляд к земле. Потом дернул поводья и поехал прочь.
— О, Владыка Мира! — закричал Маленькая Птичка, бросая ему вслед, как копье, травинку ковыля. — О, Вождь! О Маленький Отец Пустоты!
Что касается той пятерки, то они пошли каждый своим путем.
Орест исчез ночью, вскоре после того, как покинули лагерь гуннов, задолго до того, как перешли через горы Харвад, и они его больше никогда не видели и ничего о нем не слышали.
После дружеского прощания Гамалиэль направился на юг, в Византию, где, по его словам, у него были срочные дела.
Аэций попрощался у ворот форта на Дунае, а оттуда его переправили в Рим.
Люций и Кадок, отец и сын, долго-долго добирались домой, в Британию.
Что касается их возвращения домой, и радости, плескавшейся в глазах Сейриан, матери и жены, и счастья на запрокинутом личике кудрявой Эйлсы — потребуется перо получше моего, чтобы верно описать все это. Но я не думаю, что в истории человечества еще встречалось такое незамутненное счастье.
Перед тем, как изгнанный принц покинул земли гуннов навеки, произошла еще одна встреча.
Через два дня пути на восток Аттила увидел на горизонте фигуру верхом на лошади. Фигура не двигалась. Еще через час он поравнялся с ней.
— Краденая? — спросил мальчик-гунн, показывая на лошадь.
Второй мальчик кивнул.
Аттила внимательно осмотрел лошадь.
— Паршивый выбор. Она уже хромает.
Второй мальчик ухмыльнулся.
Аттила ухмыльнулся в ответ.
Господин и раб направились в восточные степи вместе.
Вернувшегося в Рим Аэция усыновила высокопоставленная, с преувеличенным чувством собственного достоинства, но довольно добрая семья сенатора. Осенью ему наняли личного педагога, потому что чувствовалось, что за время, проведенное среди немытых гуннов, мальчик ужасно отстал в манерах и образовании.
Он отнесся к педагогу с надменным презрением.
— Грек?
Педагог кивнул.
— Бывал когда-нибудь за Альпами? Участвовал в сражениях? Когда-нибудь…
— Аэций, — вмешался приемный отец, — довольно.
— Нет, господин, — кротко ответил педагог. — Правда, что я не путешественник и не солдат. Но не все люди рождаются для одинаковых деяний.
Аэций немного подумал и решил, что ответ неплохой.
— Как тебя зовут?
— Приск, — ответил педагог. — Приск Паниций.
ЭПИЛОГ
И ныне, прежде чем голос мой зазвучит также же напыщенно и предвзято, как у Цезаря в его сомнительных «Галльских войнах», позвольте мне перестать говорить о себе в третьем лице.
После того, как Аэций вернулся в Рим от гуннов, именно я два года, пролетевших очень быстро, но богатых событиями, был его наставником. В шестнадцать он покинул дом и ушел воевать. Но за эти два года я постарался сформировать его характер, хотя сам был не намного старше, и затем следил за его судьбой долгих сорок лет.
И вот, состарившись, я пишу историю его жизни — самого замечательного ученика, с каким мне довелось встречаться, и самого замечательного человека. Точнее, я говорю о жизни и об эпохе Аэция и Аттилы, ибо нельзя говорить об одном, забывая о другом. Они были подобны Луне и Солнцу, дню и ночи. Они были предназначены друг для друга, неразлучные, как любовники, как Троил и Крессида, как Дидона и Эней. Ничто не могло разделить их, но под конец ничто не могло и свести их вместе. Течение самой истории или, возможно, воля неведомых богов была против них.
И мнится мне, что во всем мире не было истории трагичнее этой.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Современные названия, отмеченные звездочкой *, следует считать приблизительными
Августа Винделикорум — Аугсбург
Аквилея — небольшой город, по-прежнему существующий под этим именем
Аквинкум — Будапешт
Аргенторатум — Страсбург
Байя — по-прежнему существует под этим именем
Балатон, озеро — по-прежнему существует под этим именем
Беневентум — Беневенто
Болония — Болонья
Британия — Англия и Уэльс
Вангионис — Вормс
Ветере Карнунт — Гамбург*
Виндобона — Вена
Гадес — Кадиц
Галлия — Франция
Дакия — Румыния
Дубрис — Дувр
Думнония — Девон
Дуросторум — Силистра, город на румыно-болгарской границе
Иллирия — Босния и Сербия
Каледония — Шотландия
Кампанья — местность вокруг Капуи, славящаяся мягким климатом, плодородием и прекрасными пейзажами
Канны — Канне дела Баталья
Каппадокия — Центральная Турция
Капуя — по-прежнему существует под этим именем
Карлеон Кемой — Корнуолл
Каудий — Сан-Мартино*
Колония Агриппина — Кельн
Консенция — Косенца
Кумы — Кура
Лауриакум — Эннс*
Лондиниум — Лондон
Лугдунум Батаворум — Лейден
Лукрина, озеро — расположено рядом с Байей; предприимчивый Сергий Ората впервые начал выращивать там устриц, после того как нажил состояние, изобретя первый в мире душ (см. Плиний «Естественная история»)
Лютеция — Париж
Маргус — Позаревац
Медиоланум — Милан
Нарбоненсис — часть Галлии, в районе Нарбонны, современный Лангедок-Русильон
Неаполь — по-прежнему существует под этим именем
Новиомагнус — Чичестер
Норик — Австрия*
Нумидия — Тунис*
Паний — небольшой городок во Фракии
Паннония — Венгрия*
Патавий — Падуя
Путеоли — Поццуоли
Сарматия — см. Скифия
Сербия Мавритания — Марокко и северный Алжир*, не путать с современной Сербией и Мавританией.
Силестрия — северная Болгария*
Силурия — южный Уэльс
Сирмий — Сремска Митровица, Югославия
Скифия — Россия, Украина, Казахстан, и далее на восток
Танаис, река — Дон
Тевтоберг, лесной массив — большая часть современной Германии
Тергест — Триест
Тибур — Тиволи
Толетум — Толедо
Фалерии — Сивита Кастеллана
Фалернии Агер — район Кампаньи, где делалось знаменитое фалернское вино
Харватские горы — Карпаты
Херсонес — Севастополь
Хубойя — Эвоя
Юксиния — Одесса
Уильям Нэйпир
«Собирается буря»
Посвящается Ионе

Главные действующие лица:
* Отмечены реальные исторические фигуры. Существование остальных остается недоказанным.
Аладар — воин из племени гуннов, сын Чаната, один из восьми избранных.
Амаласунта — единственная дочь правителя визиготов Теодориха.
Аттила — верховный вождь гуннов, родился 15 августа 398 г.*
Афинаида — дочь Леонтия, ученого из Афин, и позднее жена императора Феодосия II.*
Аэций — Гай Флавий Аэций, родившийся 15 августа 398 г. в пограничном городе Силестрия (Силистра на территории современной Болгарии). Сын Гауденция, начальника кавалерии, и позднее ставший стратегом армий Западной Римской империи.*
Баян-Казгар — военачальник, а позднее вождь народа оронча.
Бела — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Бледа — старший брат Аттилы.*
Валентиниан — родился в 419 г., император Западной империи с 425 по 455 гг.*
Галла Плацидия — родилась в 388 г., сестра императора Гонория, мать императора Валентиниана III.
Гейзерих — родился в 389 г. возле озера Балатон в современной Венгрии. Правитель вандалов с 428 г.
Гонория — родилась в 422 г., дочь Галлы Плацидии, сестра Валентиниана III.*
Гонорий — родился в 390 г., император Западной империи до 423 г.*
Гьюху — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Денжизек — старший сын Аттилы.
Есукай — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Кандак — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Куридач — главнокомандующий армии гефалитских гуннов.
Маленькая Птичка — шаман гуннов.
Мундзук — старший брат Руги, некоторое время был каганом гуннов.*
Ноян — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Орест — по происхождению раб из греков, спутник Аттилы в течение всей своей жизни.*
Пульхерия — сестра императора Феодосия II.
Рваное Нёбо — командующий у кутригурских гуннов.
Руга — младший брат Мундзука, позднее — каган гуннов.
Теодорих — сын Алариха, позднее ставший королем визиготов (419–451).*
Теодорих Младший — первый из шести сыновей Теодориха.*
Токуз-Ок, Девять Стрел — бог-правитель племени оронча.
Торисмонд — второй из шести сыновей правителя Теодориха.*
Феодосий II, прозванный Каллиграфом — император Восточной империи с 408 по 450 гг.*
Цаба — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Чанат — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Чаратон — главнокомандующий армии белых гуннов.
Чека — первая жена Аттилы.*
Эллак — второй сын Аттилы.*
Энхтуйя — ведьма у кутригурских гуннов.
Юхи — воин из племени гуннов, один из восьми избранных.
Примечания и благодарности
Из многих книг, которые я прочитал и которыми руководствовался, самыми полезными оказались два недавних исследования: «Падение римской империи» Питера Хизера и «Падение Рима и конец цивилизации» Брайана Уорд-Перкинса. Оба ученых считают, что Рим пал, а затем весь Запад погрузился в пучину Темных веков. Хизер утверждает: далеко не последнюю роль в этом сыграли гунны.
Стихи о древнем ирландском короле Голле взяты из «Безумия короля Голла» У. Б. Йетса (пер. А. Косачевой. — Прим. ред.) Использованы стихи из «Проклятия Кромвеля». Свадебный гимн Клавдиана приводится без изменений. Подлинность остальных стихотворений остается на моей совести.
Особое спасибо Джону, Женевьеве и Анжеле из Ориона за их энтузиазм, поддержку и понимание, Лиззи Спеллер и Байуотеру — за помощь с латинским и греческим, поскольку мои познания в этих языках оказались слишком скудны, Патрику Уолшу, лучшему, как всегда, посреднику. Благодарю отзывчивый персонал различных библиотек, включая Публичную библиотеку Шафтисберри и Лондонскую библиотеку, а также Иону за великое терпение и за все остальное.
Примечание к русскому изданию
Все стихи, кроме «Безумия короля Голла» — в переводе Э. Дейнорова.
Цитаты из Библии даны в синодальном переводе.
Для уточнения ряда имен и названий использована работа Л. Н. Гумилева «История народа хунну» (М., АСТ, «Историческая библиотека», 2002).
Пролог
Прошло тридцать лет с той поры, когда сына вождя гуннов Аттилу отправили в изгнание, и в мире наступило относительное спокойствие. Уже никто не расскажет, что он пережил за это время скитаний по бесконечным скифским пустыням со своим верным рабом — греком Орестом. Остается лишь догадываться о том. В двадцатом стихе третьей главы Книги Иова говорится: «На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею…» А незаурядным людям приходится испытывать боль особой силы.
В первой книге своей хроники я, Приск Панийский, рассказывал об отрочестве Аттилы — римского заложника, о его исчезновении и бегстве через всю Италию, разграбленную и разоренную готами, о вынужденном возвращении в земли гуннов. Во второй книге я сообщу о случившемся позже: о возвращении Аттилы из призрачной пустыни, о мрачном кровавом дне, когда он назначил себя великим вождем, о том, как он собрал все свои и родственные племена и создал из них армию, огромную и могущественную. Правитель стремился добиться желанной цели — бросить вызов ненавистной Римской империи, отравившей отрочество, разрушившей юность вождя, уничтожившей его соратников, пока тянулось долгое изгнание. Аттила готовил тщательно продуманную месть в масштабах Апокалипсиса.
Итак, продолжим наш рассказ…
Часть первая
ПОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
Глава 1
Бронзовый всадник
Скифские степи возле реки Борисфен, осень 441 года
Старый гунн потянул своего коня за вожжи, остановил его и, прищурившись, посмотрел на восток. Странный всадник все еще был там. Он находился без движения весь день и всю ночь под палящим солнцем и холодной луной. В его облике почудилось что-то мистическое. Старик невольно вздрогнул.
Шел Месяц Бурь. Хотя ураганов пока не наблюдалось, небо, приобретая темный цвет, замерло в ожидании. Сильный порыв ветра всколыхнул жухлую коричневую траву. Коснувшись степных водных каналов, осушенных летним солнцем шесть месяцев назад, он поднял вихри пыли. Серые облака постепенно затягивали небо, лошади в упряжках забеспокоились и понесли. Собаки навострили уши и тревожно заскулили в повозках. Все ждали, с трудом сохраняя спокойствие. Где-то далеко, за границей этого мира, снова зашевелились, просыпаясь, духи. Мистические существа с присущей им шаловливостью, используя свою неограниченную силу, готовились к вторжению в мир людей. А люди интересовались духами, почитали их, но никогда не понимали.
Позже, после того как этот таинственный день подошел к концу, некоторые говорили, что видели молнию, разорвавшую небо, хотя грозовых облаков никто не заметил. Другие наблюдали тень гигантского орла, пролетающего над землей возле могильного кургана на равнине.
Неизвестный всадник сидел на своем приземистом маленьком пегом жеребце на вершине длинного могильного кургана Мундзука, брата старого кагана Руги, который умер около тридцати лет назад. Согласно некоторым древним песням, Мундзук не умер, а был чудесным образом вознесен на небо огромным орлом — самим Астуром, отцом богов. Иные говорят, что Мундзука забрали в расцвете сил вместе с жертвенными лошадьми и самыми красивыми женами и рабынями в Вечное Синее Небо, и там ему суждена жизнь в сражениях и пирах, пока не придет конец света. Брат верховного вождя Руги не пересекал врата смерти подобно обычным смертным.
Но вскоре верховный вождь Руга стал уставать от хвалебных народных песен, посвященных Мундзуку. Руга разгневался. Теперь среди племен лишь изредка звучало имя Мундзука. Три десятилетия — слишком длительное время для людей, которые считали женщину состарившейся по достижении двадцати лет.
Но пожилой воин, разглядывая могильный холм за равнинами, вспомнил это имя. И хотя его больные и слабые глаза, из которых текли слезы от порывов сухого степного ветра, почти не видели странного всадника, что-то в его осанке, такой неподвижной и непоколебимой, заставило гунна задрожать. Человек на кургане застыл, словно камень…
Уже прошло то время, когда старый воин, не задумываясь ни секунды, пришпорил бы своего коня и поскакал бы к непрошеному гостю, вытягивая на ходу стрелу из колчана и прилаживая ее к луку. Кем был одинокий призрак из степей, который явился конным к могильному кургану, принадлежащему одному из умерших, но любимых народом вождей? Всадник не покидал своего места.
Воин по имени Чанат уже постарел и сомневался, следует ли натягивать тетиву. Лучше поскакать обратно в лагерь и рассказать об увиденном. В ближайшем будущем Чанат погибнет в битве, как и подобает мужчине. Он молил богов о такой смерти каждую ночь. Но не сегодня, не в случайной схватке с неизвестным всадником в глубине степей. Здесь не было свидетелей или гимнов, сопровождающих уход воителя из жизни.
Всадник на кургане немного повернул голову. Как казалось, он неотрывно следил за старым воином. Чанат не мог разглядеть выражение его лица, глаза гунна были слабыми и старыми. Всаднику же не терпелось поторопить коня. Ветер взъерошил короткую гриву животного, и темные волосы человека на кургане закрыли голову спереди и сзади. Но даже в том, как незнакомец стянул в кулак поводья, чувствовалась некая сила. Она была даже в манере сидеть на лошади. В наезднике имелось нечто непоколебимо твердое. Его тело казалось лишенным мягкости, присущей человеческой плоти.
Могучий всадник поднял правую руку и один раз махнул в сторону. Очевидно, он на что-то решился. Затем его рука опустилась, незнакомец отвернулся, замерев в ожидании. Старик не нашел в себе сил воспротивиться. Он, Чанат, который выполнял повеления только самого верховного вождя Руги более тридцати лет, пришпорил свою лошадь и направился к кургану.
Странник повернулся, когда гунн стал приближаться, он невозмутимо взглянул на воина. Пожилой воин остановился перед ним. Некоторое время Чанат рассматривал лицо странного наездника, терзаясь сомнениями. Но нет, это просто невозможно!..
Судя по всему, всаднику шел четвертый десяток. Он носил короткий меховой плащ, завязанный на горле узловатой полосой из сыромятной кожи. Плащ, очевидно, когда-то был гладким и темным, как норковая шерсть, но сейчас стал серым и грязным из-за скопившейся пыли, летящей по равнинам. Остроконечный войлочный колпак, обычный головной убор для гуннов, закрывал широкий лоб. Волосы, густые и темные, падали прядями сероватого оттенка на плечи с резко очерченными мускулами. Под бровями блестели глаза темного цвета, их пронзительный взгляд заставлял застыть на месте. Нос был крепким и костлявым, со множеством шрамов и порезов, полученных за долгие годы сражений. Губы оказались плотно сжатыми, а подбородок покрывали тонкие волоски начинающей седеть бороды. В ушах висели блестящие золотые кольца.
Всадник сложил под плащом свои загорелые до цвета бронзы руки, голые до плеч. Его мускулы охватывали две серебряных ленты. Бицепсы были большими и крепкими, словно камень. Толстые вены и множество сухожилий виднелись на предплечьях, как будто кузнец тщательно обдумывал форму для рук, но слишком сильно поцарапал. Правая рука казалась особенно расчерченной и разлинованной, словно разделочная доска мясника.
Под пыльным плащом на всаднике оказалась только потертая куртка из черной кожи, с узлами спереди и снизу, на которых держались штаны и старые оленьи сапоги. Из-за толстого кожаного пояса вокруг талии торчал чекан гуннов — маленький топор с изогнутым и заточенным железным лезвием. Виднелся и почерневший веревочный аркан. У незнакомца имелся и великолепный меч — скорее, персидский или византийский, нежели гуннский. Его гарду украшал витиеватый золотой орнамент, а кожаные ножны были поцарапаны. Они подходили для испанского оружия с постепенно расширяющимся конусообразным клинком и длинным, несущим мгновенную смерть, острием.
На спине всадника крест-накрест висели кожаный колчан со стрелами и короткий, потрескавшийся особый степной лук, разящий наповал. Руки были сжаты в кулаки и лежали на неотполированном деревянном седле, шишковатом и с широкими расселинами. Только очень сильный человек мог обладать такими руками. Кожа на них казалась обветренной и постаревшей, как и покрытое преждевременными морщинами лицо.
Все указывало на то, что человеку пришлось пройти через множество снежных бурь и сильных пустынных ветров, выдержать обжигающие и сводящие с ума солнечные дни. Но он, испытав невероятные страдания, не сдался.
— Так, — произнес каменный всадник тихим, но неприятным голосом, — Чанат, ты все еще жив.
Чанат ничего не ответил. Он, старик, действительно был бременем и позором для своего народа. Ему следовало уже давно погибнуть с мечом в руках в какой-нибудь славной кровопролитной битве.
— Как и я, — снова сказал всадник. — Я все еще жив и вернулся домой за тем, что принадлежит мне.
Это и в самом деле был ОН. Чанат поднял голову и посмотрел на человека. Это был ОН!
С востока приближался другой всадник — примерно того же возраста, вероятно, на год или на два моложе. Он ехал на маленькой гнедой лошади. Истерзанный, как и другие, битвами, изнемогающий от длительных переходов, этот странник, казалось, легко держался в седле. Взгляд наездника оставался острым и пронзительным. Он путешествовал с непокрытой головой, хотя его узкая похожая на обезьянью макушка уже начала лысеть. По бокам же его светлые волосы были коротко подстрижены. Щетина, форма подбородка и оттенок кожи говорили о том, что человек не является гунном, хотя у него за спиной и был короткий гуннский лук с двумя колчанами крест-накрест. Даже спустя столько времени Чанату казалось: он помнит этого всадника — мальчика-раба, грека. Да, одного из светлокожих греков! Верный слуга своего хозяина на протяжении всех лет изгнания, покрытых тайной, пронизанных страхом и горем…
Слуга склонил голову при виде Чаната. Тот кивнул в ответ.
— Чанат, — произнес прибывший, — иди в лагерь. Принеси нам лопату.
Чанат нахмурился.
— Лопату, вождь Аттила?
— Аттила шаньюй, — ответил он. — Верховный вождь Аттила. Каган.
* * *
Пока Чанат выезжал из лагеря, перекинув лопату через седло, он дважды задавал себе вопросы, и оба раза отмахивался от них, в спешке продолжая путь. В глубине души, в сердце и во всем старом теле гунн чувствовал невероятное нарастающее возбуждение, которого не испытывал уже много лет. Хозяин дал ему приказ, остальное не имело значения. Господин, стоило ему лишь согнуть мизинец, заставлял других падать ниц. Такому хозяину старик мечтал служить всю свою жизнь.
В каганский шатер вернулся не отчаявшийся безумец в тунике из мягкой белой анатолийской шерсти и в одежде из византийского шелка, увешанной драгоценностями. Его железная грудь не была усыпана императорскими знаками отличия — тяжелыми золотыми монетами с печатями, надписями на чужеземных наречиях, изображениями голов их правителей. Этот человек без пятен от вина на бороде не объят желанием найти новую молодую наложницу, пока мечи и копья висят, покрываясь ржавчиной, в палатках. Нет, там, на самой вершине могильного кургана Мундзука, сидит истинный повелитель народов — надменный и решительный, хоть и облаченный в неприглядную одежду из неказистого меха и покрытых пылью шкур. Это шаньюй. Верховный вождь.
Чанат проехал мимо скучающих и любопытных караульных, готовый в любой момент раздробить им черепа, если бы стражники осмелились встать на пути. Караульные пропустили гунна. Худой и угрюмый старый воин все еще пользовался уважением в этом тихом лагере.
Он протянул лопату верховному вождю. Своему вождю. Сколько бы еще Чанат охотно сделал для него! Он был готов даже пролить ради вождя свою жидкую немолодую кровь.
— Орест, — сказал каган.
Светлокожий грек взял лопату у Чаната и грациозно спрыгнул с лошади.
Аттила спустился с могильного кургана с восточной стороны и оглянулся назад.
— Копай там, — велел он, кивнув головой, с которой так и не снял колпак.
— Вы собираетесь вскрыть одну из могил…
Неожиданно почувствовав на себе свирепый взгляд кагана, Чанат на секунду замер. Но затем продолжил. Это был верховный вождь, который вряд ли рассердится на человека, выражающего свои мысли, если почувствует, что мысли правильны.
— Одну из могил Погребенных Вождей?
— Могилу Мундзука, — ответил Аттила, — моего отца.
По лицу Чаната промелькнула тень, но старик промолчал. Они сели и стали смотреть, как Орест докопал до глубины могилы, убрав чернозем со сложенных в кучу погребальных камней. Аттила слез с лошади и упал на колени возле длинной пирамиды, затем отодвинул глыбы одну за другой с величайшей осторожностью. Вождь долго стоял, прежде чем войти. Расчистив погребение от упавшей земли, он положил свою теплую ладонь на холодный череп отца и начал молиться о прощении и понимании.
Аттила долго стоял на коленях, затем поднес другую руку и с видимым усилием повернул несчастные заброшенные останки. Наконец, задыхаясь, он поднялся, вскочил на ноги и снова запрыгнул на лошадь. Двое мужчин — крепкий слуга-грек и выносливый старый воин — начали ставить камни на свое место и засыпать зияющую яму, которую раскопали
в этой священной земле, а затем заложили ее дерном. В результате удалось утрамбовать могилу лопатой и сровнять с поверхностью, словно ничего и не было.
Аттила и спутники снова сели на лошадей и поехали наверх — к длинному кургану. Каган протянул правую руку к могиле и низким грудным голосом повторил часть великой гуннской молитвы, произносимой при погребении умерших.
Затем они пришпорили лошадей и поехали вперед, вниз по крутому склону кургана по направлению к тихому лагерю гуннов, откуда шел дымок.
Возле лагеря Аттила остановил коня, двое спутников последовали его примеру.
Великий вождь повернулся к Чанату.
— Отца похоронили без лошадей, жен и рабынь.
Аттила почти перешел на крик:
— Без единого золотого кольца для путешествия!
Чанат не мог взглянуть ему в глаза.
— Говори, — грозным голосом приказал Аттила.
Со страдальческим выражением лица Чанат тихо ответил:
— О, не спрашивай меня, шаньюй. Не спрашивай меня о мертвых!
Аттила посмотрел вдаль, словно он мог перерезать горло самому горизонту. Затем троица продолжила свой путь.
Глава 2
Горящая палатка
Гуннский лагерь располагался в излучине широкой реки Днепр, которую греки называют Борисфеном. Свое начало она берет далеко на севере, среди замерзших гор, и даже в конце жаркого лета Днепр по-прежнему невозмутимо течет по лугам и впадает в Понт Эвксинский. Именно там гунны слонялись все лето, высушивая и соля окуней, объедаясь огромными речными осетрами, охотясь на пернатую дичь и водившихся в большом количестве травоядных антилоп, когда те спускались вниз в сумерках на водопой. Иногда зимой объявляли перемирие, а летом продолжали воевать. Сейчас же прошли те времена, когда этот народ находился в состоянии войны даже с соседними племенами. Мир длился круглый год.
При входе в растянувшийся вширь лагерь караульные бросили неопределенный взгляд на Чаната и его новых спутников. Один воин вышел и схватил за поводья лошадь Ореста, и грек покорно остановился. Но Аттила продолжил свой путь и оказался внутри. Посмотрев на решительного гунна, никто не осмелился воспрепятствовать его намерениям.
Аттила подъехал к каганскому шатру и склонил голову, затем пришпорил коня и направился прямо к откидному полотнищу на входе, не спешившись даже в большом внешнем покое для гостей. Два воина преградили ему дорогу копьями, один из них потребовал назвать имя.
— Безымянный-и-Проклятый, — ответил тот, соскакивая с коня и спрыгивая на землю. Он попытался пройти во внутренние огороженные покои. Вперед выступил один воин — и тут же согнулся вдвое, пораженный в живот острым клинком Аттилы. Он отшатнулся назад и сел, истекая кровью.
Другой караульный с копьем наперевес пошел на вошедшего, но тот разрубил оружие на части сильным взмахом меча, приблизился к противнику и воткнул клинок между ребрами. Затем Аттила направился внутрь, ни разу не остановившись, лишь выдернув меч из тела упавшего замертво воина.
Аттила схватился за занавеску, сделанную из тонкого малоазийского шелка, отгораживавшую внутренние покои, потянул и бросил под ноги. Внутри оказался верховный вождь Руга, смотревший в замешательстве со своей кошмы. При Руге оказалась молодая девушка, сидевшая на коленях возле его ног.
Каган бросил неясный взгляд на незваного гостя. За минувшие годы Руга растолстел. Но, хотя ему и пошел шестой десяток, вождь обладал впечатляющей фигурой, окладистой бородой, столь непривычной для обыкновенного гунна. Его плечи казались мощными и округлыми. Но курносый нос Руги был пурпурного цвета, словно молодое вино, а глаза — опухшими и налитыми кровью.
Руга посмотрел вниз на девушку и пнул ее, поспешно отправляя из покоев, затем снова взглянул на человека перед собой. Несмотря на пошатывание, вызванное большим количеством выпитого вина, он не выказывал страха.
— Кто послал тебя? — резко спросил Руга.
— Кто послал меня? — улыбнулся Аттила. — Астур. Астур послал меня.
Руга пристально посмотрел на него.
Незнакомец протянул руку и стащил колпак с широкого, загоревшего на солнце лба. Старый каган увидел три едва различимых красноватых шрама. Порезы на щеках вошедшего были хотя и мертвенно-голубого цвета, но аккуратными, сделанными, очевидно, в младенчестве матерью. Без сомнения, правителем был один из своих. Но со шрамами на лбу он выглядел непривычно среди остальных жителей: такими отметками обладали лишь предатели, осужденные на смерть в изгнании.
Аттила стоял перед каганом, сохраняя полное молчание, лишь слышно было, как капает кровь с лезвия меча. Руга казался рассеянным, сбитым с толку, а затем, к удивлению, вождь выразил радость. Он сделал шаг вперед и обнял Аттилу полными руками.
— Мой мальчик! — воскликнул старый каган. — Ты вернулся спустя тридцать лет! Конечно, это Астур послал тебя! Конечно, Астур наблюдал за тобой и закрывал своими крыльями все тридцать лет!
Он отступил, остановился недалеко от Аттилы и начал бормотать:
— Мне не верилось, что мы когда-нибудь снова увидимся, когда я выслал тебя по закону и обычаю племени. Даже вождь не вправе пренебрегать законом своего народа. Помни это, мой мальчик, коли вернулся в свою страну. О, Аттила, я бы отдал тебе все…
— Ты убил моего отца, — произнес Аттила. Он протянул левую руку и повернул ее вверх ладонью. — Вот наконечник стрелы, который я вынул из скелета сегодня. Из его покинутой и одинокой могилы.
Руга пристально посмотрел затуманенными глазами и, заикаясь, что-то промямлил. Затем он развернулся и сел на кушетку.
— Сядь рядом со мной, — сказал каган.
Вошедший стоял.
— Аттила, — промолвил старый вождь. Руга вытянул полную дрожащую руку, словно хотел дотронуться до лица, до шрамов предателя. Но потом он снова опустил ладонь. Верховный вождь глубоко вздохнул и выдохнул:
— Мундзук не вызывал благоговейного трепета. Его убили, да. Но это убийство со мной нечего обсуждать.
Глаза Аттилы сверкнули, но гунн промолчал.
— Память — странная штука, и воображение часто притворяется ею. — Руга покачал головой, словно искренне печалясь. — Ты знаешь закон племени. После рождения Бледы, твоего старшего брата, Мундзук ни разу больше не спал с вашей матерью. В могиле его кости теперь лежат в одиночестве. Да, обними меня, мой мальчик. Я…
Аттила упал на шею кагану и обвил ее руками.
Руга рыдал от горя и счастья.
— Мой мальчик, — говорил он, — мой мальчик…
Его голос оборвался из-за очередного прилива эмоций. Затем все резко закончилось, и из открытого от удивления красного рта не вырвалось более ничего, кроме коротких вдохов.
Аттила снова обвил шею старика, но наконечник стрелы, что убила Мундзука, по-прежнему находился в ладони левой руки. Вцепившись в кагана, словно сжавший челюсти волк, он медленно прижал острие к стискиваемому горлу Руги.
— Ты лжешь, — тихо прошептал гунн.
Пятнистые руки старого кагана, которые выдавались вперед, как и мышца вокруг шеи, задрожали под пальцами душителя. Но Аттиле это показалось трепетом мотылька. Ноги старика, обутые в сандалии, дергались по тростниковой циновке, глаза с мольбой закатились вверх.
Аттила сжал пальцы еще сильнее, проткнув наконечником стрелы кожу и, наконец, пронзил дыхательное горло… Кровь сочилась сквозь пальцы убийцы с пеной и пузырями, появлявшимися из порванных легких.
— Мой мальчик, — прохрипел умирающий каган. — Мой сын…
Аттила положил одну руку на лоб Руги и откинул назад голову, а большим пальцем другой руки еще глубже вбил наконечник стрелы в окровавленное горло. Острие, грязное и ржавое, со скрежетом воткнулось в позвоночник, с последним сильным толчком прошло сквозь него, и старый каган испустил дух.
Убийца вождя вытащил большой палец руки из зияющей дыры. Кровь сгустками лилась оттуда, затем превратилась в струйку, но вскоре перестала хлестать.
Человек, прервавший жизнь кагана, отступил назад, весь в поту, его руки блестели от крови. Гунн не отрывал взгляда от мертвеца перед собой. Грудь убийцы резко вздымалась, Аттила выглядел так, словно до сих пор сражается.
Он резко встряхнул головой.
Потянувшись за мечом, Аттила намотал на руку потускневшие волосы старого вождя и отсек Руге голову. Затем он вышел в главные покои для гостей, снова сел на коня, который замер в нетерпении, и, внимательно осмотрев место побоища, потянул за удила и выехал из палатки.
Снаружи, на естественной арене, созданной стоявшими кругом палатками главных вождей племени, в самом центре лагеря, Аттила бросил голову кагана с раскрывшимся от удивления ртом в пыль, сел и стал ждать. Отовсюду медленно собирались испуганные люди — немолодые растолстевшие мужчины с открытыми ртами, как у мертвого Руги, женщины с огромными от ужаса глазами, несущие младенцев, объятые любопытством грязные дети, проползающие между ног родителей…
Всего оказалось около нескольких сотен человек, и мужчин было гораздо больше, чем женщин. Рождение детей, одного за другим, подрывало женское здоровье, а прекратившиеся на время войны не уносили жизней мужчин. Перед прибывшим стояли одетые в лохмотья грязные мирные люди.
Когда убийца кагана рассматривал их, раздался голос. Чанат воскликнул:
— Это верховный вождь Аттила!
Люди подхватили его слова и, как один, воскликнули:
— Это верховный вождь Аттила!
Но Аттила по-прежнему рассматривал своих людей, и на его лице не промелькнуло и тени улыбки.
После долгого неудобного молчания вождь отозвал Чаната в сторону.
— Принеси мне огня.
Чанат подъехал к рядам стоящих друг возле друга соплеменников, и те кинулись выполнять его просьбу. Вскоре принесли не менее восьми горящих камышовых факелов. Старик выбрал тот, который казался самым ярким, и вернулся к своему властителю. Аттила взял факел в правую руку, потянул за уздцы, приблизился к каганскому шатру. Белые войлочные стены загорелись. Пламя тут же перекинулось и на деревянные столбы, на которых крепился шатер.
— Мой господин… — произнес идущий рядом Чанат. — Девушка…
— Гм, — ответил Аттила, поворачивая к нему голову и неспешно гладя свою тонкую бородку. — И золото.
Он ударил пятками по бокам коня, и испуганное животное взвилось на дыбы и тихо заржало: дым уже начал щекотать ноздри. Аттила вытащил из-за пояса аркан и стал безжалостно пороть несчастное создание по крупу. Другой же рукой гунн так сильно натягивал поводья, что конская морда оказалась почти вжатой в шею. Пятки всадника снова впились в раскачивающиеся бока жеребца, когда тот резко заржал. Его крик исходил из наполовину пережатого горла. Затем конь прыгнул вперед и исчез в охваченной пламенем двери палатки.
Люди не отводили глаз. Не каждому поколению доводилось увидеть такое. Они догадывались: это всего лишь начало.
За ними стоял еще один человек и тоже смотрел на происходящее — неразговорчивый слуга-грек нового кагана. Люди разглядывали пылающий шатер, слуга разглядывал людей. Какой-то парень, которому было не более двадцати лет, сделал шаг вперед к шатру, словно желая последовать за своим вождем. Орест незаметно улыбнулся про себя.
Одна из стен обвалилась, когда рухнули деревянные подпорки, и огненная стихия сделалась еще неистовее. Из-за усиливающего жара люди отступили назад. Некоторые из них посмотрели на Чаната, но тот не шевелился.
Языки пламени взмывали в серое хмурившееся небо, взлетали искры, пепел, остатки и клочки почерневшего войлока, кружась, поднимались ввысь, словно некое оскверненное жертвоприношение. Шатер превратился в преисподнюю, никто не смог бы выжить там. Конечно, можно было предположить, что в племя наведался не убийца или узурпатор, а просто безумец.
Затем конь и всадник с ревом выскочили из пылающих лохмотьев шатра, промчались и замерли в пыли перед толпой. Люди не отрывали глаз. Попона на жеребце дымилась, в воздухе витал запах жженого волоса. Лицо всадника почернело, лишь глаза горели красным пламенем.
В небе блеснула молния, разорвав его на части, и ударила в последний стоящий столб каганского шатра, который тут же свалился на землю. Новый вождь даже не оглянулся, а задыхающийся и едва живой его конь не дрогнул. Грома не было, как позднее клялись наблюдавшие. Никто не заметил первых редких капель дождя, способных потушить чудовищный погребальный костер.
Разрушенный шатер вспыхнул в последний раз и перестал существовать. Так пожелали боги.
На фоне этого ужасного кроваво-оранжевого огня появился почерневший всадник, вновь оглядывая людей. Затем он развязал сверток, лежавший у него на коленях, и опустил на землю. Это была девушка — любимая фаворитка мертвого кагана, завернутая в плед, который предохранил бледную кожу от ожогов. Шатаясь, она встала на ноги и отступила назад, подальше от страшного обгоревшего человека. Аттила немного повернулся и потянул свой аркан. Люди увидели, как из преисподней появляется знаменитый сундук с сокровищами убитого. Их глаза заблестели, и далеко не только из-за огня.
Безумный всадник, обожженный вождь, кем бы он ни был, вновь потянул за аркан, отпустив ручки ящика. По сигналу старый воин слез с лошади, подошел к сундуку и со всей силы ударил топором. Внутри что-то хрустнуло. Аттила схватился за тяжелую крышку и поднял ее. Сундук был до краев полон золотых монет.
Всадник, от одежды которого шел дым, начал ездить туда-сюда перед племенем, подобно главнокомандующему, прохаживающемуся по рядам воинов перед битвой. Странным монотонным голосом он продекламировал:
Вождю, чью власть невозможно сломить,
Воюй с ним хоть сотню лет,
От наймита руки суждено было пасть.
Деньги — вот и ответ!
Толпа поежилась.
Голос всадника стал сильнее и резче:
— Довольно! Те, кто были великими воителями, внушавшими трепет от гор Алтая до Черного моря и до самых берегов Дуная, вскоре снова станут ими. Боги с нами!
Горящие глаза гунна замерли на избранных, которые оглянулись на кагана и, кажется, он почувствовал, что воспламеняет их души.
— Что касается золота, — сказал Аттила с презрением, кинув взгляд на сундук с трещиной, — то можете забрать его. Это ничто по сравнению со славой настоящего воина.
Он остановился и снова посмотрел на людей. Кажется, всадник стал еще выше в седле.
— Я Аттила, ваш вождь. Я сын Мундзука, сына Ульдина, изгнанный на тридцать лет по приказу мертвеца.
Он посмотрел на остатки горящей палатки, а затем снова на людей, которые не могли пошевелиться. Кое-кто склонил голову, словно стыдясь за всех. Но смягчившийся голос Аттилы удивил их.
— Я ваш властитель, а вы — мой народ. Вы будете сражаться за меня, а я умру ради вас! Мы покорим и побережья Западного океана, и острова Средиземного моря. И никто не сможет противостоять нам.
Люди хором радостно закричали.
Наконец пошел дождь.
Глаза Аттилы заблестели от изумления. Позади него почерневшие развалины каганского шатра начали шипеть, дымиться и исчезать под тяжелыми, крупными каплями, словно некое огромное животное, испускающее дух.
Глава 3
Избранные
Аттила взял копье у одного из присутствующих воинов, проткнул отсеченную голову Руги, лежащую в пыли, и поднял вверх.
— Орест, — произнес он. — Избранных — ко мне.
Перед толпой выехал раб-грек и, как будто наугад, указал на восьмерых мужчин. Одним из них был юноша, который сделал шаг вперед. Остальных семерых Орест стал пристально высматривать.
Они стояли, выжидая.
— Ваши кони, — сказал каган.
Они кинулись к загону.
Взгляд Аттилы блуждал по кругу. Наконец, он остановился на синем шатре напротив, с резными деревянными столбами и ярким флажком, развевающимся на верхушке.
— Чей шатер? — грозным голосом спросил верховный вождь.
Через несколько минут вперед вышел старик с морщинистым лицом, мягкими белыми волосами и хитрыми подозрительными глазами.
— Он мой, — сказал Аттила и кивнул на девушку, которую вынес из огня. От волнения пленница переминалась с ноги на ногу. — А она твоя.
По толпе пробежал смех. Ведь все знали: старик, звавшийся Заберганом, слыл ужасным скрягой, заботившимся только о размере своего стада, о продовольственных запасах и оставшихся золотых монетах, а заодно — и о своем синем шатре. Что касается жен и женщин, то он не видел причин тратиться больше, чем на одну: у Забергана была старая жена Кула, ставшая невыносимой обузой, зато дешевая в содержании. И хотя девушка выглядела соблазнительно длинноногой и симпатичной, люди понимали, насколько Забергану оказались бы милей холодные слитки золота в кровати, чем теплое молодое тело.
Старик сдержанно поблагодарил кагана и посмотрел на бедную пленницу, когда та приблизилась. Аттила ухмыльнулся и приказал отправляться в путь.
Вернулись восемь избранных мужчин, сейчас уже все на лошадях.
Ухмылка постепенно исчезла с лица великого вождя. Воины задрожали под взглядом его львиных глаз.
— И ваши луки, — приказал он. Голос был таким резким, что некоторым захотелось закрыть уши руками. Затем, подчинившись команде, воины смущенно поспешили к своим палаткам, стремясь первыми принести оружие. Лошади всадников едва не запинались друг о друга. Когда они вернулись, их лица пылали, словно у поссорившихся подростков.
Аттила выстроил избранных в одну линию и велел назвать свои имена.
— Есукай, — с нетерпением отозвался первый. Его лицо горело. Это был тот молодой человек, который, как помнил Орест, двинулся в объятый огнем шатер вслед за Аттилой. Вождь посмотрел на него. Даже сейчас, назвав имя, избранный выглядел так, словно желал немедленно ринуться в бой, будучи не в силах сдержать свою энергию. Быстрый, импульсивный, храбрый, верный…
Аттила кивнул. Этот умрет молодым.
Каган отвел лошадь в сторону.
— Имя! — снова крикнул он.
Вторым оказался Гьюху, производивший впечатление осторожного и умного человека. Рот его был слегка изогнут, а его возраст примерно совпадал с годами Аттилы. Конечно, ненадежен, но его мозги могли принести пользу.
Далее шли три брата, Юхи, Бела и Ноян — трое сыновей Акала. Молодые, крепкого телосложения, невыразительные, застенчивые. Они никогда не станут командовать армиями или биться за любовь красивых женщин, но будут сражаться и умрут друг за друга. Вместе братья представляли силу.
За ними следовая Аладар, самый высокий из всех воинов, сидевший на самой крупной лошади. Худой, но мускулистый, серьезный и симпатичный, с длинными черными промасленными волосами и густыми усами. Женщины, вероятно, теряют из-за него голову.
— Сколько же жен у тебя в шатре, а?
Аладар слегка улыбнулся.
— Семь уже будет слишком много.
Женщины никогда не обделят его своим вниманием. Но на руках воина оказалось достаточно шрамов, чтобы вождь понял: Аладар не относился к числу праздных лежебок, желающих лишь лежать в палатке со своими семью женами днем и ночью, когда те покрывают любовника поцелуями, ласками и набрасывают роковые невидимые сети.
Потом шел Кандак, маленький толстячок среднего возраста с раскормленным лицом, но сильными руками, который пользовался уважением среди своих. Вот этот — единственный из всех, кто мог бы попробовать принять командование. Кандак погибнет, когда уже состарится.
И, наконец, Цаба, выглядевший хрупким и мечтательным. Последний из избранных, без сомнения, любил поэзию и с детства играл на лютне. Вероятно, у Цабы даже была всего лишь одна жена, которую он обожая до безумия, целуя и обнимая у всех на виду. Аттила знал такой тип людей. Сейчас этот человек мог петь колыбельную котенку, а через минуту — безумно ринуться туда, где шел самый ожесточенный бой. И тогда в разные стороны полетят ноги и руки врагов, а голова воина будет полна совсем другой поэзией. Безумец, это точно. Но он станет сражаться, и неважно, с искалеченными руками или нет.
Аттила снова кивнул. Орест, как всегда, сделал отличный выбор.
Когда каган и избранные выехали на равнину, с хмурого, темно-синего неба лил сильный дождь. Тот беспокойный день только начал превращаться в вечер, но было темно, словно наступили зимние сумерки. Некоторым из избранных не хотелось идти при такой непогоде, поскольку многие оказались с непокрытой головой. Но вождь не колебался ни минуты. Он успевал повсюду на своем побывавшем в огне жеребце, от которого даже во время дождя валил пар. По лицу Аттила стекала дождевая вода, смывая копоть от пожара. Он был подобен призраку, оберегаемому небесами, его глаза мерцали из-под края черного фетрового колпака, с которого падали капли.
Никто не осмеливался усомниться в своем предводителе.
Молчаливый слуга, раб-чужестранец, ехал, не жалуясь, чуть позади, с непокрытой головой, почти лысый. Его череп блестел от потоков воды. За ним следовал Чанат, старый воин племени. Длинные волосы старика взлохмаченной серой гривой развевались по плечам, а густые усы выглядели еще мрачнее, чем его рот с крупными и плотно сжатыми губами. Ему уже шел, вероятно, седьмой десяток, зрение и слух не были такими острыми, как прежде, но тело еще оставалось мускулистым и крепким. На широком лбу обозначились глубокие морщины. В степях, где ветер, не утихая ни на мгновение, гулял по волнующимся мерцающим лугам, время быстро брало свое из-за пронизывающего зимнего холода и палящего летнего зноя. Но близко посаженные глаза Чаната вновь горели ярким пламенем. И сейчас оно было даже ярче, чем прежде, когда старик гордо следовал за каганом. В большом кулаке гунн крепко сжимал арбалет и нисколько не сомневался, что может владеть им не хуже остальных. Казалось, время не властно над ним.
Аттила наклонился к Чанату.
— Одного зовут Аладаром. Он твой сын.
Чанат гордо улыбнулся:
— Откуда вы узнали?
— Он почти столь же красив, как его отец.
— Почти.
Гунн задумался.
— То была замечательная ночь, когда он родился.
— Не сомневаюсь, — ответил Аттила.
* * *
Верховный вождь ехал с длинным копьем на плече, на конце которого висела обезображенная голова старого Руги, откуда падали капли розового цвета. Наконец он остановился и стал вращать своей тяжелой ношей, словно пушинкой, затем воткнул копье в нору сурка в земле. Обезображенная голова с открытым ртом, с по-прежнему свисающими с мочек ушей драгоценными серьгами, с остатками волос, намертво приклеившихся к большому черепу, с серебряными каплями воды, унизывающими бороду, уставилась на воинов сквозь непроглядную пелену дождя.
Аттила потянул под уздцы лошадь и велел отойти назад приблизительно на пятьдесят ярдов.
— Немедленно! — взревел он, перекрикивая ветер и дождь. — Десятая часть того золота, что лежит в сундуке, достанется первому, кто достигнет цели!
С неохотой и даже сначала объятые ужасом, но затем, проникшись все возрастающим духом соперничества, подстрекаемые желанием наживы и возбужденные увиденной жестокой сценой, воины двинулись по кругу и выстроились в очередь к голове. Но никто не смог попасть по ней. Ветер сыграл с ними злую шутку. Воины ехали и стреляли, а стрелы летели то влево, то вправо, то проскальзывали через мокрую траву и терялись. Аттила отступил назад и наблюдал.
Через несколько минут каган поскакал вперед, вклиниваясь со своей лошадью в их ряды. Он выхватил лук и одну стрелу у Кандака — полноватого, но крепкого на вид гунна на белом мерине. Восемь избранных отпрянули в сторону и стали смотреть, как Аттила вскинул лук и одним легким и быстрым движением, едва взглянув на тетиву, послал стрелу вдаль. Тетива зазвенела, и стрела полетела косо, затем слегка изогнулась из-за сильного ветра, повернулась и пронзила насквозь наводящую ужас голову на копье. Она выпала оттуда и, задрожав, свалилась на промокшую траву позади.
Воины не отрывали взгляда.
Каган бросил лук снова на колени Кандаку.
— Когда-нибудь вы все сможете так стрелять, — сказал Аттила. — Скоро.
Затем он повернулся и направился назад, к лагерю.
Голова Руги осталась на острие копья где-то на равнине — в качестве урока для воинов и завтрака для ворон.
* * *
Буря утихла, облака расступились, вновь показалось голубое небо. Вождь еще раз вывел избранных на равнину. Одна из жен кричала, что этой ночью муж не сможет усладить ее настолько хорошо, насколько она того заслуживает: у него совсем не останется сил.
Аттила приказал остановиться и посмотрел на воинов. Затем со всей мочи пришпорил коня и поскакал галопом перед ними, словно командир перед битвой, вдохновляя бойцов и бросая в лицо горькие слова.
— Как называют нас китайцы? — ревел он. — Чем мы прославились в их записях? Как они именуют нас в своих хрониках?
Аттила резко остановился перед отрядом и выпалил те оскорбления, из-за которых душа воинов наполнилась гневом.
— Никчемные бродяги! Молокососы!
Избранные вздрогнули, и лица у всех потемнели. Было известно, как их презирали в городах цивилизованного мира, в золотом сердце Китая — той страны, одно название которой приносило гуннам неудачу. Или далеко отсюда, в таинственных империях Персии и Рима, откуда доносились такие странные слухи.
— А в Риме, — громко кричал Аттила, — как о нас говорят в книгах тиранов западного мира, чьи головы раздуты от важности?! «Отвратительные, безобразные и умственно отсталые люди». Так сказано в произведениях некоего Аммиана Марцелина. Если бы он уже не умер, то его тело первым бы по всей длине насадили бы на кол, когда наше войско окажется в Риме!
Гунны, невнятно забормотав, согласились со своим вожаком.
— Для китайцев мы — «вонючки». По их словам, мы не пьем ничего, кроме молока, не едим ничего, кроме мяса, воняем, как животные. Они морщат свои носы при виде нас. В Китае даже наше имя осквернено! И мы, гунны, народ, становимся «сюнну». И кто тогда мы на китайском языке? Жалкие рабы!
Кровь закипела в жилах воинов. Их лошади стали грызть удила и ржать, в нетерпении перебирая передними ногами по длинной мокрой траве. Голоса собравшихся воинов перерастали в сердитый гул.
Каган проскакал в опасной близости от Цабы и, ухмыльнувшись, спросил:
— Ты раб?
В ответ Цаба резко и презрительно выругался.
— О, вонючки! — громко воскликнул Аттила над головами воинов. — О проклятые бродяги земли, презренные, гонимые от Великой Стены до Западного моря! Отпрыски зла, порождения ведьм и демоны ветра! Знайте, как глубоко вас ненавидят! А чем же мы отплатим за эту многовековую ненависть? Будем разглагольствовать, вести вежливые споры?
В ответ мужчины бросили сердитый взгляд. Аттила раззадоривал их.
— Может, преподнесем в дар шелк и золото нашим исконным правителям, помазанникам Божьим в Византии? С внимательными, кроткими послами? С рабским смирением, с подобострастным унижением, как и подобает таким рабам-вонючкам, как мы?
При этих словах воины выдернули мечи из кожаных ножен и подняли их вверх, лезвия засверкали на фоне небесной синевы.
— Как достойно ответить на столь глубокое оскорбление, мой любимый народ? Мои «вонючки»?
Говоря так, Аттила стащил с плеча свой изогнутый лук, в мгновение ока приладил стрелу к тетиве и выстрелил прямо в середину испуганной толпы. Цель была выбрана верно. Стрела полетела и попала в небольшой круглый щит Гьюху. Опешив, воин посмотрел вниз, но удар был несильным, и стрела не пробила брешь.
Каган взобрался в седло и, подняв высоко оружие, закричал над головами избранных:
— Мир узнает нас по нашим лошадям и стрелам!
Мужчины ответили хором древним воинским кличем гуннов, и земля задрожала, когда они, подгоняемые яростью, нагнулись и поскакали прочь галопом по степи.
Аттила вернул их, построил и муштровал до конца того дня, пока не наступили сумерки, рассказывая, что скоро предстоит вести боевую подготовку со своими собственными отрядами. Гунн высмеивал избранных, поливал грязью, возбуждая в их душах желание одержать победу. Он приказал, чтобы те поняли, насколько быстро можно сделать дюжину выстрелов. Воины потянулись к колчанам за спиной, нащупывая стрелы и посматривая на выемку на конце для тетивы. Затем тщательно прилаживали стрелу, скользя взглядом по вытянутой руке, снова натягивали луки… Большинству потребовалось две или три минуты, чтобы сделать дюжину выстрелов с заминками.
Наконец, не выдержав, верховный вождь ринулся вперед. Один несчастный воин — крепкий и длинный, словно каланча, Юхи — все еще пытался выпустить свою последнюю стрелу. Аттила ударил его кулаком и швырнул стрелу вместе с луком на землю. Лошадь Юхи стала раздувать ноздри и пустилась рысью в толпу стоящих позади гуннов. Те засмеялись, а Юхи нахмурился.
Аттила схватил двенадцать стрел в левую руку.
— Теперь смотрите, — сказал он внезапно тихим голосом. — Орест, — позвал он через плечо.
Грек отъехал на небольшое расстояние, воткнул свое длинное копье в землю и небрежно повесил щит за кожаный ремень.
Все смотрели, не сводя глаз.
Аттила взял лук в левую руку, в кулаке по-прежнему торчали двенадцать стрел. Он повернул руку. Каган не смотрел на стрелы, казалось, он едва прикоснулся к ним, дотронулся до выемки большим пальцем. Он вытаскивал стрелы одну за другой из кулака и одним долгим, но простым движением прилаживал к тетиве, прямо к натянутому изгибу лука. Вождь пустил одну стрелу вдаль и выхватил новую из кулака, вкладывая ее в выемку. Первая стрела попала прямо в центр щита.
Аттила не терял времени, прижимая тетиву к щеке и пытаясь следить взглядом за стрелой, но, поскольку держал лук под углом сбоку, направил стрелу так, что она оказалась бы прямо в груди противника. В сердце. Подобное положение лука означало, что стрела не сможет попасть ему в ноги или в седло.
— При каком условии всадник, скачущий галопом, выпустит стрелу?
Избранные молча отвели глаза.
— Только когда все четыре копыта лошади оторваны от земли. Только тогда он улучит момент, паря в воздухе ровно и легко. Тогда и стрела летит в нужном направлении. Выпусти стрелу, когда твоя лошадь скачет по твердой земле. А если ты подпрыгиваешь в седле, то не попадешь в цель.
Воины посмотрели друг на друга. Некоторые ухмыльнулись. Теперь Аттила проверял, насколько они доверчивы.
Внезапно каган перешел в галоп, в ярости кружа вокруг щита на копье. Лошадь заржала и закусила в удила, прижав уши и оскалив зубы. Аттила был одержим таким же животным бешенством. Гунны увидели, как он, промелькнув мимо, продолжал выдергивать и выпускать стрелы легкими, быстрыми движениями. Те летели и втыкались в раскачивающийся на ремне щит. Некоторые, внимательно наблюдая во время стрельбы, могли бы поклясться, что слова о стреле, выпущенной в ту секунду, когда лошадь находится полностью в воздухе и не касается поверхности земли, являлись правдой…
Аттила остановился и оглянулся. В щите торчали одиннадцать стрел. Двенадцатая расколола древко копья.
С момента первого натягивания тетивы до выпуска последней стрелы прошло, вероятно, полминуты. Нет, даже меньше. Лица воинов вытянулись: они не могли поверить своим глазам. Каган выпускал стрелу приблизительно каждые три секунды, останавливаясь и несясь на лошади во весь опор. И это было неважно. Все казалось каким-то почти сверхъестественным действом.
Аттила посмотрел на них сверху, его грудь вздымалась, на лице появилась широкая улыбка.
— О, мои «вонючки», — тихо сказал гунн. — Вы тоже сможете скоро так же стрелять. И станете наводить ужас на землю.
* * *
— Где мой брат Бледа? — спросил Аттила Чаната по пути обратно.
— В своей палатке.
— Приведи Бледу ко мне.
Все по-прежнему продолжали ехать.
— А Маленькая Птичка?
Чанат покачал головой:
— Все еще жив. Его не видели все лето. Но он вернется.
Аттила кивнул:
— Вернется сейчас.
Бледа растолстел, почти все волосы выпали, но выражение лица осталось прежним — жадным, сонным, лукавым, обиженным, хитрым.
Аттила тепло обнял его.
— Мой брат, — невнятно произнес Бледа. Он уже был пьян, ведь солнце село. — С возвращением. Мне всегда хотелось увидеть того предателя убитым.
— А теперь мы правим вместе, — сказал Аттила, крепко сжимая и тряся ему руку. — Мы — два брата, два сына Мундзука. Мы станем править народом вместе, ведь дел так много.
Бледа посмотрел в горящие глаза младшего брата и внезапно подумал, что не хочет править народом. Лучше бы ему остаться в своем шатре с новой молодой девушкой, которую он недавно купил за золото — подарок Руги. Невольницу привезли из Сиракуз, тело рабыни было таким гладким. Когда она…
— Но сначала, — сказал Аттила, отступив от Бледы, а затем снова приближаясь и хлопая в ладоши, — сначала — организовать все.
Бледа вздохнул.
Съев нескольких крупных кусков темного мяса, но не запивая их вином, Аттила вышел с Чанатом к палаткам. На властителе не было короны или диадемы, богатых византийских одежд из пурпурного шелка. Он оделся всего лишь в поношенную кожаную куртку, штаны с подвязками крест-накрест, а ноги обул в грубые сапоги из оленьей кожи.
— Мой господин, — начал Чанат. — Ваш раб, Орест… Он обращается к вам, как к простому человеку. Я слышал его. Это неправильно.
— Раб?
— Ваш… слуга.
Аттила покачал головой. Орест больше не был ни рабом, ни слугой. Даже слова «друг» или «родной брат» казались неподходящими. Не существовало слова, которое могло бы передать, кем для него стал Орест.
— Орест волен называть меня так, как ему нравится, — сказал Аттила и взглянул на Чаната. — Но только он.
Старый воин не мог согласиться с этим, но ничего не ответил.
Ближе к краю большого круга с палатками они остановились и осмотрели загон для лошадей. Наверное, там находилось около тысячи животных — припавших к земле, неуклюжих, с огромными головами и толстыми шеями, с толстым брюхом и короткими, но крепкими ногами. Быстрые, как лань, выносливые, как мул…
— Вот в чем сила гуннов, — прошептал Аттила.
— Мир узнает нас по нашим лошадям и стрелам, — сказал Чанат.
Кони тихо заржали и зафыркали в загоне, втягивая носом ночной воздух. От низкой луны первых сумеречных часов падал серебряный свет на их спины и шероховатую подстриженную гриву. Аттила повернул лицо на приятный лошадиный запах и вдохнул.
Тишину нарушил звук голоса, и в такую ночь, полную обещаний и ожиданий, он поразил Аттилу. Песня оказалась печальной, почти скорбной. Каган повернулся и приблизился к палатке, откуда доносилась музыка. Это был голос женщины, мягкий и низкий. Гунн медленно двинулся сквозь темноту и увидел, как она сидит возле входа в простую палатку, и на ее руках спит младенец. Еще один ребенок двух или трех лет, задремав, прилег на одеяла поблизости, а три или четыре женщины расположились позади, образовав полукруг. Она пела:
Земля весной покроется травой.
Он — не трава, он не придет на мой призыв.
Вода под солнцем скоро хлынет с гор.
Он — не вода, он не придет на мой призыв.
Шакал лежит теперь в твоей постели,
И ворон свил гнездо в твоей овчарне,
А в поле остается только ветер,
Лишь ветер северный летит на мой призыв.
Голос оборвался, женщина перестала петь. Ее голова печально упала на грудь, и младенец, широко открыв глаза, посмотрел на мать.
Одна женщин, сидевших рядом, протянула руку и положила ее на плечо несчастной.
— Кто это? — прошептал Аттила.
— Женщина одного из двух стражников, убитых вами в палатке Руги.
Аттила нахмурился. Он совсем забыл о них.
Каган подошел к палатке и молча встал рядом. Через несколько минут женщины подняли голову, и некоторые вздрогнули. Но не вдова.
Аттила показал жестом из-за плеча на Чаната.
— Женщина, — сказал гунн. — Вот твой новый муж. Будь довольна.
Она внимательно посмотрела блестящими от слез глазами. Затем медленно встала на ноги, по-прежнему держа младенца на руках, сделала шаг вперед и плюнула на землю почти что под ноги Аттилы. И произнесла:
— Ты убил моего мужа и сжег его тело, не предав земле. Ты оставил меня вдовой, а детей — беспомощными сиротами. Мое сердце разбилось на сотни осколков, словно старый горшок при ударе о твердую землю. Я выплакала все слезы, и они высохли, но я по-прежнему безутешна. Теперь ты обращаешься со мной, словно с коровой, отдаешь меня этому дохлому быку с дыханием старой собаки и морщинистой мошонкой. Но меня не так-то легко заполучить. Уходи из моей палатки и возвращайся в свою постель, прихватив с собой окровавленный меч, который станет твоим спутником в холодной ночи. И пусть боги покарают тебя!
Чанат сделал шаг по направлению к ней, но Аттила остановил воина.
Женщина бросила на кагана пристальный взгляд, полный презрения и бесстрашия.
— Сколько же еще людей ты убьешь, мой господин, делающий жен вдовами? Я знаю, как мыслят и чем живут люди, подобные тебе. Вы — не тайна для меня. О, великий шаньюй, каган — властитель всех поднебесных стран! Великий вождь всего и ничего!
Она снова плюнула, быстро повернулась и пошла обратно в палатку. Затем задернула за собой вход.
— Мой господин! — вмешался Чанат, но Аттила покачал головой.
— Слова, слова, слова, — сказал каган.
Они продолжили свой путь.
— Во время бурь в пустыне, в зубах льва, в тисках многотысячный армий, — произнес Аттила, — можно бесстрашно двигаться вперед. Но перед лицом разгневанной вдовы…
— Такая женщина, вероятно, очень неплоха в постели, — сказал Чанат. — И она воспитает хороших воинов. Жаль, что у нее не прибавилось желания при мысли о моей сморщенной мошонке.
— И правда, жаль, — ответил Аттила.
Проходя мимо следующей палатки в самом центре лагеря, Аттила и Чанат услышали крики молодой женщины и мычание бессильного старика. Внезапно девушка почти что выпала к их ногам из грязной, убогой на вид палатки. Волосы были вырваны клоками, лицо избито и в синяках, а туника наполовину разорвана на спине. За ней, спотыкаясь, появился старик, задыхающийся от бешенства и выпучивший глаза. На скудной его бороде виднелись пятна слюны. Он остановился и выпрямился, заметив кагана.
— Как она досталась тебе? — отрывисто спросил Аттила. — Я отдал ее Забергану.
— Заберган продал ее мне, — сказал старик. — Он — мой двоюродный брат. Я заплатил хорошую цену.
— А сейчас ты бьешь ее?
Старик заговорщически улыбнулся:
— Чем больше бьешь, тем нежнее мясо.
— Как ты бьешь ее?
— Этим, — ответил старик, размахивая шишковатой палкой, и приблизился к Аттиле, его дыхание участилось и стало горячим из-за кумыса и похоти. — По спине, — сказал он почти шепотом, — по молодым упругим ягодицам, по мягким молодым бедрам…
— Как? Так? — спросил Аттила. И в мгновение ока схватил палку у старика и толкнул его на землю. Чанату показалось, будто он услышал, как что-то захрустело, пока тот ударился о твердую землю. Затем Аттила очутился верхом на старике и стал колошматить по костлявой худой спине со всей мочи. Под шквалом ударов тот мог только съеживаться и умолять о пощаде.
Аттила снова выпрямился, сломал палку о поднятое бедро несчастного и уронил две половинки в пыль.
Вождь помог девушке встать на ноги и кинул на нее быстрый взгляд.
— Иди в женскую кибитку. Скажи, что это я послал тебя. Там хорошо о тебе позаботятся. Сейчас ты моя.
Девушка смотрела на говорившего испуганными глазами.
— Иди, — сказал Аттила, подталкивая ее.
Девушка ушла.
— Разбираюсь с домашними неурядицами своих людей! — заворчал гунн, бросая взгляд ей вслед. — Я думал о чем-то более высоком, когда мечтал стать каганом.
Чанат захохотал:
— Вы добры к женщинам.
Они двинулись дальше, оставив старика лежать в пыли.
— Добр? — пробормотал Аттила. — С добротой это не имеет ничего общего. Я хочу, чтобы из чрева той женщины родились хорошие воины.
Утром вдова, жившая в палатке, находящейся на краю лагеря возле загона для лошадей, подошла к двери и увидела грека, молча сидящего на коне. Он протянул ей красивую серебряную вазу.
Лицо женщины осунулось и потемнело от горя. Она взяла вазу и заглянула внутрь. Там был прах. Вдова повернулась, не говоря ни слова, и исчезла в палатке.
На рассвете Аттила и воины уже оказались на равнине, намереваясь поупражняться в стрельбе.
— Вы или научитесь стрелять так, как ваш каган, — сказал он, — или кончики ваших пальцев сотрутся до крови во время подготовки.
Аттила оставил избранных и поехал дальше с Чанатом и Орестом.
Большие заячьи глаза Ореста бегали по степи, словно грек ждал, что тень самих Эриний появится из-за горизонта — тень покрытых грязью мстительниц из Тартара, у которых из глазных яблок сочилась кровь, а в волосах извивались змеи. Такими они, наверное, явятся к состарившемуся Оресту, когда придет время. Как правило, Эринии являются, чтобы отомстить за убийство родителя или дяди обиженным блудным сыном.
Но прежде Орест всегда производил впечатление осторожного человека с неопределенными мыслями. Или же со вполне ясными, но живущего в неясном мире. Через тридцать лет странствий по неизведанным безлюдным местам он вернулся вместе с хозяином, не веря ни во что, кроме неизменности небытия.
Наконец Аттила осадил лошадь, и все трое сели и посмотрели на далекий горизонт.
— Мой отец… — начал он.
— Не спрашивайте, прошу вас, — ответил Чанат. — Прошу, не надо.
— У Руги не было ни сыновей, ни дочерей.
Чанат отвернулся.
— Старый каган страдал каменной болезнью. Это, скорее всего, случилось, когда пришло двадцатое лето его жизни.
Серое небо степи стало тускнеть и приобретать теплый оттенок в лучах солнца. Откуда-то издалека донесся звонкий писк пятнистых сусликов. Пыль виднелась на далеком горизонте — вероятно, там пробегало стадо сайгаков. А может, всего лишь демоны ветра.
— До этого Руга и моя мать…
— О, не спрашивайте, мой каган.
Ночная тьма начала рассеиваться, и небо из темно-серого стало светлым, а затем и синим, словно днем. Как дорогая шелковая одежда синего цвета, которая была на вожде Руге, когда тот сделал последний вдох и умер…
Аттила повернулся и кивнул Оресту. Как всегда, грек уже знал, что тот имеет в виду. У этих двоих даже не возникало необходимости говорить на своем, понятном только им, языке, словно старым
друзьям. Им едва ли нужны были слова.
Орест пришпорил коня и поскакал вперед, направляясь на юг, к поселениям за низкими холмами.
— Мой господин, можно спросить — кто?..
Аттила посмотрел на него, не мигая.
— Моя семья, — ответил он.
* * *
Поздно вечером два дня спустя, проехав много миль, Орест вернулся обратно, весь в пыли и изнуренный, сопровождаемый странной вереницей из женщин и мальчиков. Мальчики постарше, которым пошел второй десяток, ехали на собственных лошадях, а те, кто помладше, а также женщины, путешествовали в крытой повозке, рассматривая раскинувшийся впереди лагерь.
Живущие в палатках, в свою очередь, глядели на них с любопытством, а затем — с удивлением. Общее количество прибывших оказалось сложно определить, но все сходились на том, что видели шесть мальчиков, столько же девочек и столько же женщин.
Аттила забрал еще две больших палатки из центра лагеря и в одну отправил своих шестерых сыновей. Им было от семнадцати до четырех-пяти лет, и самый младший заплакал, когда его отлучили от одной из женщин. Аттила сел на лошадь и стал смотреть, как они идут. В другую палатку он велел отвести женщин. Тем временем все заметили, что среди прибывших — пять жен и восемь дочерей. Вновь удивленный гул пробежал по толпе. Пять жен для кагана — дело обычное. Но для того, кто странствовал по пустынной Скифии тридцать лет, обладать пятью женами и не дать такой семье распасться, защищая от любого проходящего мимо разбойника, казалось едва ли возможным. Какая-то сила, должно быть, охраняла их…
Убедившись в крепком телосложении сыновей и красоте дочерей, все направили взоры на жен. Даже они вряд ли являлись бесполезными придатками грязного гарема разбойника. Самые старшие смотрели свысока, словно правительницы, возраст же самой младшей жены равнялся возрасту старшей дочери. Без сомнения, новый каган был великим вождем.
Впереди всех шла женщина, которая, вероятно, являлась ровесницей своему мужу. Ее походка была грациозной и неторопливой, глаза — темными и большими, волосы небрежно перехватывала лента. Платье оказалось простой шерстяной накидкой коричневого цвета, а единственными украшениями служили лишь два скромных золотых кольца в ушах и золотая цепочка на лбу. Своим высоким ростом и стройной фигурой женщина напоминала владычицу, но ее красивое, тонкое лицо говорило о долгих годах невзгод и странствий по пустыням, а вовсе не о размеренной жизни во дворце. Вокруг прекрасных глаз уже появилось множество едва заметных морщинок, кожа натянулась на широких и высоких скулах, длинные темные волосы поседели на висках.
Каган что-то крикнул, но никто не понял ни слова. Женщина остановилась, посмотрела на своего господина и хозяина и улыбнулась. В ее улыбке чувствовалось тайное торжество. Она подошла к Аттиле и отправилась в большой синий шатер позади. Остальные жены — те, кто был моложе, красивее, еще мог выносить и родить ребенка — смотрели ей вслед. Затем они двинулись к новому шатру.
— Как зовут его первую жену? — прошептал Чанат Оресту.
Некоторое время Орест молчал. Потом с полуулыбкой ответил:
— Ее зовут Чека. Владычица Чека.
Когда спустилась ночь, она долго лежала на спине возле мужа, скрестив на груди руки. Лицо женщины покрылось испариной, а на губах играла улыбка, словно у юной девушки.
— О, великий шаньюй, — прошептала Чека, посмотрев на Аттилу с мольбой и широко открыв глаза. — О, мой великий господин, мой могучий лев, мой искуситель, мой неистовый вождь и завоеватель! Ты соскучился по мне за те последние несколько дней?
— Гм, — пробормотал Аттила, закрыв глаза.
Чека засмеялась.
Когда она проснулась через час, рядом никого уже не было.
…Кровь кагана бурлила. Время пришло, необузданные желания вырвались из-под контроля, неутолимая жажда покорить мир вновь не давала ему покоя. Безоружный, Аттила выехал в одиночестве на равнину, воздел руки к небу под звездами и стал молиться отцу Астуру, который являлся создателем всего сущего и наблюдал за жизнью внизу. В молитве Аттила ни о чем не просил: то, чего он хотел, у него сейчас было, а то, чего еще не хватало, должно скоро появиться.
Великий гунн закрыл глаза и улыбнулся небу. Лишь своей молитвой Аттила мог дотянуться до всесилия отца Астура, мог войти в серебряный свет, который бог создал даже до того, как сотворил землю из сгустка крови…
Он вернулся, прошел в женскую кибитку и позвал всех к себе. Среди них была девушка, спасенная из палатки Руги и отданная Забергану. Все еще со следами синяков, полученных от того изверга, бившего ее, она робко приблизилась к спасителю. И когда над восточной степью забрезжил рассвет, еще пять наложниц лежали на спине, сложив руки на животе. На их губах блуждали неясные улыбки. Они размышляли, носят ли в своем чреве сына нового кагана.
Аттила уже ушел. Той ночью удалось поспать два часа, и этого было достаточно — более чем достаточно. Сон делал его нетерпеливым.
— В могиле будет достаточно времени выспаться, — ворчал каган, выталкивая недовольного Ореста из-под одеял.
Сейчас, когда рассвело, они уже очутились на равнине, в дюжине миль от лагеря. Их кони по-прежнему неслись галопом, Аттила во все горло выкрикивал боевой клич. Орест трясся в седле и посмеивался над жестокой энергией хозяина. Впереди показалось и стало быстро передвигаться облако пыли — стадо сайгаков. Великий вождь, оскалив зубы, словно волк, был готов разорвать всех животных.
Он ждал тридцать лет, чтобы вернуться в свою страну. Странствовал по заброшенным лугам, полям и пустыням далеко на востоке, ссутулившись и наклонив голову, идя против летящего песка и невыносимого одиночества. Но один-единственный человек остался и прошел с ним через все это. Он не покинул бы его, хотя Аттила порой приказывал уйти — грубо, в лицо, велел убраться со своей преданностью. Орест остался рядом и шел по пятам, словно его собственная тень.
В одной скрытой от глаз долине, расположенной в нескольких сотнях миль в далеких Белых Горах (так рассказывали друг другу зачарованные сплетники, которые теперь называли Аттилу правителем), он создал разбойничье государство и взял мужчин себе на службу. И взял жен. Жены отправились снова на запад на его родину, на пастбища возле Понта Эвксинского. А мужчины, вероятно, все еще ждали своего предводителя далеко на востоке.
Теперь три десятилетия блужданий по пустыням закончились. Пора было действовать. Аттила не мог вернуться раньше, все племя отвернулось бы от нарушителя приговора. Отрезанный от своего народа, шаманов и богов, великий гунн ждал, пока завершится его, «предателя», срок изгнания. Теперь время пришло. Время вернуться к своему народу и бросить вызов миру, который недооценил и унизил его.
Аттила пережил насмешки и оскорбления, удары, избиения до полусмерти, молчание и презрение, как суждено любому человеку без рода и племени, не имеющего защитника или покровителя. Он, сын и внук вождей, был простым главарем у разбойников. Правда, мир несправедлив. Точнее, справедлив только для тех, кто обладает властью.
В то время как Аттила, некогда юноша с разбитым сердцем, выехал к своему народу, никто не поверил, что это действительно предатель. Но приговор, который был вынесен Ругой тем безоблачным утром, ясно свидетельствовал о воле богов. Никто не смел возразить. Если бы кто-то из племени говорил с Аттилой или втайне приютил его за многие годы изгнания и отвержения, он понес бы суровое наказание. Никто не нашел в себе сил нарушить запрет.
Теперь Аттила вернулся. То, как он жил долгое время один, без племени, в пустыне, лишь с молчаливым и недостойным доверия рабом-чужеземцем и таинственной семьей, имея лишь рваную одежду, оставалось загадкой. Несомненно, боги покровительствовали великому гунну, иначе выжить оказалось бы невозможно.
Существует много историй у других народов о сумасшедших правителях, оказавшихся в необитаемой местности и превратившихся в зверей. О царе ассирийцев Набухудоносоре, который, уйдя от своего народа, принялся поедать траву подобно быку. Его тело намокало от небесной росы, пока не выросли волосы, равные орлиным перьям, а ногти не стали походить на птичьи когти. Об одноглазом кельтском правителе Голле, бежавшим с поля боя не из-за трусости, а из-за навязчивой идеи о кровавой ярости, овладевающей людьми во время массового убийства. Я слышал отрывок из песни о преследовании Голла, много лет назад исполненной кареглазым кельтским мальчиком:
И вот брожу я по лесам
Под летнее жужжанье пчел,
Слежу, как осень в небесах
Листвою украшает ствол;
И как от холода зимой
Бакланы зябнут на камнях;
Брожу с косматой головой,
Пою, под рук летящий взмах.
И волк мой голос узнает,
За мной без страха лань идет,
И с зайцем мы два друга.
Листва кружит, они шуршат,
старые листья бука…
Аттила не был ни таким жалким царьком, ни никчемным героем фольклорных басен. Он сделался живой легендой для своего народа, легендой из плоти и крови. Правитель вернулся из пустыни, чтобы занять свое место среди людей. И мир признал его победу.
Завоеватели, вознамерившиеся покорить весь мир, безумствуют в молодости. Но даже если они доживают до старости, то остаются не менее нетерпеливыми, чем в юности. Когда Александру исполнился двадцать один год, он уже обладал лаврами победителя. В тридцать лет Ганнибал, не отступив перед опасностью, разрушил цветущий Рим, вступив в бой. И Цезарь горько сожалел, что не смог поставить мир на колени в том же возрасте.
Аттила тоже относился к числу тех, кто жаждал власти. Но лишь когда ему исполнилось сорок лет, он ощутил, что такое могущество. По словам некоторых историков, Аттила мог тренировать свою железную волю и свергнуть Ругу гораздо раньше, до того, как он решился примерить на себя титул властителя гуннов. Один взгляд этих львиных глаз — и ни один мужчина из племени не осмеливался ему противоречить. Но вождь оказался мудрее. Он знал, что терпение — великое оружие степняков. Он наблюдал. Ждал. И когда, наконец, вернулся в лагерь своего народа, то, видимо, не только обладал силой, но и правом на жизнь, которой был лишен в пустыне столько времени. Какие же несчастья и испытания пришлось ему перенести! Теперь возвращение правителя представлялось еще более невероятным и таинственным.
Все воины его племени верили в Аттилу — верили так, как никогда не доверяли Руге или даже бескомпромиссному старому Ульдину.
Аттила был мужем гор, другом пустыни и братом степи. В его душе дул тот же невидимый ветер, который спускался с небес и оживлял сны шамана. Если во главе армий стоял он, никто не мог им противостоять. Вот во что люди верили, и великий гунн знал это. «Армия, которая во что-то верит (все равно во что), всегда одержит победу на той армией, которая ни во что не верит».
И армия верила в него.
Глава 4
Маленькая Птичка
Все было так, как предсказывал Чанат. Маленькая Птичка объявился, услышав где-то (вероятно, ветром принесло) о том, что случилось в лагере гуннов и о возвращении блудного сына, который убил своего дядю голыми руками и ржавым наконечником.
Невозможно сказать, старел ли шаман вообще или каким было по счету нынешнее лето его жизни. В волосах цвета воронова крыла лишь изредка проблескивала седая прядь, а лицо по-прежнему оставалось удивительно красивым и по-детски невинным, хотя ему исполнилось, наверно, сорок или даже шестьдесят. Тонкая кожа покрывала широкие азиатские скулы, на которых разлился лихорадочный румянец, но глаза казались живыми, блестящими и злыми, словно у норки. Какая-либо растительность на лице отсутствовала, и ее следов нигде не наблюдалось. Даже для гунна Маленькая Птичка казался слишком гладким и невинным, словно мальчик. Он убирал волосы наверх в пучок по моде того времени, но связывал их яркой шелковой лентой с цветами, словно женщина. На шее шаман носил бусы, украшенные небольшими черепами животных, а также браслеты и кольца (опять же, подобно женщине). Он наклонял голову влево и вправо, когда говорил, передразнивая и себя, и собеседника. Его одежда выглядела одновременно и нарядной, и рваной. Потрепанную куртку из сафьяна, небрежно распахнутую на груди, украшали грубо сделанные черные маленькие фигурки людей.
Когда Маленькая Птичка отшвырнул свой плащ и пустился в пляс, кружась на месте, ноздри защекотал запах приятного конопляного дыма, глаза стали вращаться, руки разомкнулись, амулеты закружились и смешались. Словно и не существовало никаких различий между одним и другим человеком, и все они, предки и потомки, превратились в нечто единое при повороте колеса судьбы. Но под конец никто из них не стал чем-то большим, чем крохотное черное пятнышко в белом свете вечности…
Шаман позвал кагана Аттилу. Тот сидел у огня и ел с некоторыми из избранных. Чанат и Орест располагались поблизости, как и юный Есукай с хитрым Гьюху.
Маленькая Птичка устроился без приглашения среди них, сложил руки, словно христианский священник, и любезно улыбнулся вождю.
— Великий шаньюй, — сказал шаман, — какое путешествие вам пришлось пережить в мире грез, вам, кому по истечении семи дней не было бы дозволено вернуться в лагерь, чтобы даже вылизать ночной горшок кагана Руги!
Аттила глянул на безумца через косточку, которую тот обгладывал.
— Добро пожаловать обратно, Маленькая Птичка, — громко произнес великий вождь.
— Мой господин! — попытался возразить Есукай.
— Мальчик мой, да пребудет с тобой благочестие и чистота, — воскликнул с досадой Чанат, не отрывая своих темных глаз из-под черных изогнутых бровей от маленького шамана, — но если ты…
— Слушайте! — пронзительно завизжал Маленькая Птичка, смотря в широко открытые глаза Чаната. — Мешок со старыми костями возвращается к жизни и говорит! Я думал, ты уже давно мертв, Чанат.
Чанат дернулся, чтобы схватить шамана за подпрыгивающий пучок волос и утащить куда-нибудь в темное место (и неважно, связан он с богами или нет), но Аттила протянул вперед руку.
— Слова, слова, слова, — произнес он.
Маленькая Птичка, отвернувшись от Чаната, посмотрел с презрительной усмешкой, но затем со слащавой улыбкой снова обратился к кагану Аттиле. Его голос звучал монотонно и нелепо.
— Вы были странником и изгнанником на этой земле, господин, оставляющий после себя вдов, жалким отверженным, презираемым всеми. Ваше чело отметили три постыдных шрама предателя. Как далеко и быстро вы забрались в мир грез! Но пасть и взлететь можно в одно мгновение, ведь никогда не знаешь, какова воля злых и непредсказуемых богов. Обо всех победах и триумфах в этом мире грез станут слагать бессмертные легенды! Несомненно, великий шаньюй, о мой Аттила, маленький князь всего и ничего, — несомненно, боги не оставят вас своим покровительством. Вы будете жить вечно и покорите весь мир. Да, такова ваша судьба.
Аттила по-прежнему не реагировал.
Маленькая Птичка вздохнул. Скрестив ноги, он сел в пыли и с досады встряхнул головой. Затем посмотрел вверх и сказал более привычным голосом:
— Итак, великий шаньюй, где вы были? Что делали?
Аттила отложил в сторону косточку и вытер губы.
— Везде, — ответил он. — И нигде.
Маленькой Птичке понравился ответ, и он улыбнулся.
— А почему вы не вернулись раньше?
— Ты знаешь. Закон племени был против меня.
— Такому господину, как вы, — тихо вмешался Гьюху, — не стоит бояться закона.
— Не льсти мне, — сказал Аттила, даже не смотря на него. Каган по-прежнему не отрывал глаз от Маленькой Птички. — Я не выше законов. И не выше законодателей.
Наступила полная тишина. Шаман понял смысл его слов.
— Кроме того, — добавил Аттила, — мне было чем заняться.
— Что вы сделали? — спросил Маленькая Птичка более тихим голосом.
Голос Аттилы тоже не был громким:
— Чего я не сделал?!
В огне что-то треснуло. Мужчины, сидящие вокруг, замерли в ожидании, почти со страхом глядя на него во все глаза. Лишь Орест смотрел в землю, пока его каган шептал странные, но древние слова.
Был я правителем, был и рабом,
Был я безумцем, плутом и глупцом,
Каплей росы на траве и орлом над горой,
Тысячи жизней взял я с собой…
— Это слова шамана, — тихо произнес Маленькая Птичка.
Аттила кивнул:
— Ты был девять лет в пустыне и в высоких горах священного Алтая, Маленькая Птичка. Но мне пришлось провести там тридцать. А тридцать лет — это длинный промежуток времени.
Шаман отодвинулся от того места, где сидел.
— Посмотри мне в глаза.
Тот отвернулся.
— Посмотри мне в глаза.
Собеседник кагана выполнил приказ, и ему не понравилось то, что он увидел. Глаза Аттилы стали желтыми в свете костра и засверкали, словно у льва. Они безжалостно прожигали насквозь, подобно лучам солнца. Шаману приходилось видеть такие глаза прежде, но не у человека.
Маленькая Птичка задержал на нем взгляд немного подольше, а затем, ни сказав более ни слова, он вскочил на ноги, как юный гимнаст, и поспешил прочь, к потемневшим палаткам.
Остальные тоже почувствовали смутный страх, откланялись и вскоре молча исчезли, опустив головы. Ушли все, кроме Чаната, который остался возле огня, и верного Ореста, лежавшего на земле с закрытыми глазами.
Аттила долго смотрел в костер, и пламя, танцуя, отражалось в его глазах.
Через некоторое время Орест заговорил. Повернувшись к Чанату, он произнес:
— Друг, расскажи мне о Маленькой Птичке.
Чанат долго думал, потом ответил:
— Я помню историю Маленькой Птички еще со времен своей юности. Такое не забыть никогда.
Старик потянул за травинки, вытряхнул семена, высыпал их на ладонь и стал рассматривать, затем нагнулся вперед и сдул.
— Когда шаман был молодым…
Чанат наблюдал, как семена падают в огонь и погибают.
Скрестив ноги, Аттила сидел на другой стороне костра, вглядываясь в тлеющие угольки и положив руки на колени, погруженный в раздумья и молчаливый, словно каменный бог.
— Когда шаман был молодым, его уже считали безумцем, — сказал Чанат, — но не таким, каким он стал сейчас. Сумасшедший юноша с головой, полной видений и грез. Затем Маленькая Птичка встретил девушку, это случилось на празднике. Она была очень красива. Сначала девушка безжалостно насмехалась над шаманом. — Чанат улыбнулся. — Как жестоко и надменно она вела себя с Маленькой Птичкой! Чтобы проверить, конечно. Как и все женщины, кокетничала она без меры, и шаман обожал ее. Но своими жестокими шутками девушка причиняла Маленькой Птичке боль, подобно многим женщинам племени. Затем дразнила его и нещадно бранила. «Ты ничтожный коротышка! — могла закричать она своим звонким девичьим голосом так, что весь лагерь слышал и смеялся. — Я презираю и тебя, и землю, по которой ты ходишь! Твои руки похожи на женские, ты дрожишь, заслышав писк ягненка, ты пугаешься при виде капли дождя на носу. О, как я ненавижу тебя!» Она могла придумывать оскорбления бесконечно, как это случается с женщинами, когда они к кому-то неравнодушны.
Орест молча засмеялся. Сейчас его глаза открылись и смотрели на звезды, словно что-то ища.
— Но Маленькая Птичка был еще талантливее, еще очаровательнее и хитрее. Слова, песни, стихи и необычные сравнения лились из его уст, как вода по весне с высоких гор Таван-Богд, Пяти Владык. Поток красивых и кружащих голову слов не мог не затронуть душу девушки. Прошло некоторое время, и она поддалась обаянию шамана. Без сомнения, Маленькая Птичка был напастью и гибелью и в любви, и в настоящем бою. Она — ее звали Ценгель-Дюю, что значит Младшая Сестра Очарования, — она бы закричала: «О, ты — самая большая напасть и гибель из всех мужчин, Маленькая Птичка! Которая из женщин настолько глупа, чтобы назвать тебя своим мужем? Да она должна быть глухой, слепой и старше на сотню лет! Она, твоя очаровательная жена, которая ждет сейчас тебя, ходячее бедствие!» Но ночью при свете костра шаман преклонялся перед Ценгель-Дюю, говорил ей льстивые слова, и тогда его глаза ярко блестели и искрились — скорее от радости, чем от того напыщенного раболепства, которое все женщины считают отвратительным. Маленькая Птичка уверенно льстил и очаровывал ее, словно зная, что в результате завоюет. И конечно, так и вышло. Влюбленные поженились, и вскоре у нее стал расти живот. Счастью шамана не было предела. Чувства граничили с безумием, и они могли в любой момент вылиться в приступ ревности или даже что-то похуже. Но вместо этого…
Чанат собрал траву в пучок.
— Вместо этого… Он однажды ушел в лес. Лето было в самом разгаре, и люди находились на севере, на опушке, охотясь на косуль и кабанов, и удача сопутствовала им. Говорят, в лесу шаман встретил ворона. Ворон сидел на нижней ветке, обратился к нему и поприветствовал как брата. И Маленькая Птичка спросил его, какие есть новости. Ворон ответил: «Прошлое позади, а большие перемены — впереди». Маленькая Птичка поинтересовался, что он имеет в виду. Из слов ворона следовало: он, Маленькая Птичка, убьет возлюбленную своей правой рукой. Маленькая Птичка внимательно посмотрел на него и, заикаясь, произнес, а затем громко закричал: «Никогда, никогда, никогда!» Шаман поклялся, что предпочтет увидеть, как погибнет весь народ и солнце погаснет на небе, нежели причинит вред возлюбленной, поскольку та была его душой, жизнью и самой красивой из женщин, живущих на равнинах, протянувшихся со Священных гор до Западного моря. Затем обозвал ворона демоном, присланным, чтобы мучить его. Ворон посмотрел блестящими черными глазами и сказал то же самое: он, Маленькая Птичка, убьет свою возлюбленную. Тогда Маленькая Птичка разгневался, словно дух леса вселился в него, выхватил нож и одним взмахом перерезал птице горло. Та упала на землю замертво. Маленькая Птичка повернулся, кинулся прочь, отбросил в сторону его голову и закричал в голубое небо, бросая вызов. Немного успокоившись, он оглянулся. Там больше не было ворона. На том месте лежала его возлюбленная, распростертая на земле с перерезанным горлом.
Казалось, даже воздух вокруг них пронизывал ужас таинственной истории.
Чанат поднял голову.
— Потом Маленькая Птичка трижды пытался покончить с собой. Каждый раз он терпел неудачу — что-то мешало ему. Он перестал есть, но это не помогло. Даже сейчас, вы это заметите, он вообще почти не принимает пищу. С тех пор Маленькая Птичка стал еще безумнее или мудрее, чем все остальные живущие. Или и безумнее, и мудрее. Что-то ушло от него в тот день, когда шаман убил жену. Но что-то и появилось. Хотя все, чем дорожил Маленькая Птичка, у него отняла судьба, но, в свою очередь, она послала взамен дар предвидения.
Чанат немного подумал и тихо сказал:
— Мне не дано знать будущее всего мира, как Маленькой Птичке. Я счастлив быть невинным, как дитя, и пусть мир и боги по-прежнему останутся для меня тайной.
Старый гунн сдул последние травинки с руки и медленно встал на ноги. Он двинулся прочь, но напоследок оглянулся и негромко проговорил:
— Но отнеситесь к нему с должным уважением. Маленькая Птичка прошел долгий путь.
Глава 5
Нападение на Танаис
Уже следующий день приблизился к полудню, когда Орест объезжал лагерь вокруг и услышал ужасный крик, доносившийся из каганского шатра.
Он тут же выхватил меч и ворвался внутрь. Там грек увидел двух жен правителя из тех, что были помладше. Женщины затеяли ожесточенный спор, стоя лицом к лицу прямо перед местом, где сидел Аттила. Они вцепились друг другу в волосы и начали потасовку. Звук их криков заглушался громовым смехом кагана, наблюдавшего за сценой, скрестив на груди руки.
Затем он заметил Ореста и подошел к нему, все еще широко улыбаясь.
— У нас есть дело, — сказал вождь и оглянулся. — Хотя можно бы и понаблюдать, как женщины так долго дерутся.
Выйдя из палатки, он оседлал своего любимого пегого жеребца Чагельгана и позвал к себе Гьюху.
— Пора строить подходящий владыке дворец.
Гьюху низко поклонился.
— Это честь, о которой я и не мечтал, мой господин. У вас будет самый замечательный и самый великолепный белый шатер из всех, начиная отсюда и до Железной реки.
— У меня будет самый замечательный дворец из всех, встречающихся здесь вплоть до озера Байкал, — ответил Аттила. — Построенный из резного отполированного дерева, с большим количеством покоев для множества жен и слуг. Что касается моего трона, пусть он будет простым и неярким.
— Из дерева? — повторил Гьюху.
— Из дерева.
— Мой господин, — сказал Гьюху, — леса, ближайшие к нашим любимым лугам, находятся на расстоянии не менее двух дней пути на север. А лесной народ вовсе не относится к нам дружелюбно.
— Тогда возьмите свои луки и мечи, а также лучшие тележки для перевозки. Я собираюсь ударить по востоку. Мы будем отсутствовать не более недели. Постройка дворца завершится по моему возвращению.
Аттила пришпорил коня и поехал прочь.
— Напасть? — спросил Орест, побежав за ним.
Аттила бросил взгляд назад и зарычал от раздражения:
— Залезай на лошадь, живо.
Затем каган кивнул:
— На восток, к византийскому торговому поселению в устье Танаис.
— Но… сейчас не сезон для меха.
— Меха? — сказал он, усмехаясь. — Но мех — не то, что нам нужно. Все дело в греках.
Через несколько минут великий вождь выехал из лагеря и поскакал на восток, в дикие степи. Он взял всего лишь четырех спутников: верного Ореста, юного Есукая, обаятельного Аладара и Цабу, худого и дальнозоркого мечтателя. Старый Чанат дулся как ребенок за то, что его не взяли.
Как думали многие, Аттила, вероятно, был сумасшедшим, раз отправился на восток с таким маленьким количеством слуг и караульных. Но никто не осмелился сказать о том. Через два-три дня пути они собирались напасть на территорию, где жили незнакомые племена и кочевники, а сейчас не спускали глаз с жалких пастбищ, оставшихся после знойного и иссушающего лета.
Вооружения казалось достаточно, но запаса продовольствия хватило бы только на один день.
Кончики пальцев воинов-гуннов были истерты до крови из-за многих часов и дней упорных тренировок стрельбы из лука под неусыпным оком Ореста, как с места, так и во время галопа. Нежная кожа на левых руках избранных стала красноватой и покрылась ссадинами и царапинами. Но сейчас Аттила разрешил носить кожаные нарукавники и петли на пальцах. С каждым днем навыки стрелков улучшались. Мускулы и грудь болели, но сделались тверже из-за постоянного давления тетивы и стрелы, несущей смерть.
Они ехали на юг и восток до тех пор, пока не оказались на побережье Меотис Палюс, что значит «Скифское болото». На языке варваров оно называется Азовским морем. Здесь часто кормятся и пасутся дикие животные.
После долгого и жаркого лета оно почти высохло. Когда Аттила с воинами подъехал к солоноватой отмели, чтобы дать остыть лошадям, то гунны вспугнули множество небольших серовато-коричневых птиц. Те собирались на покрытых богатой растительностью берегах и с жадностью поглощали крошечных моллюсков, пока не приходила осень. Тогда стая отправлялась на зимовку далеко на восток, через Равенское море и дальше, в солнечную Индию. А вся Скифия оказывалась во власти льда и мороза.
— Так, — сказал Орест тоном своего хозяина. — Греки.
Долгое время Аттила не говорил ни слова. Затем, по-прежнему глядя вперед, произнес:
— В этом мире лишь мечи и копья дают нам силу. Такова реальность. Человек придумал многое, но только чтобы скрыть действительность. Вера — всего-навсего прикрытие, позволяющее сгладить жесткость реальности. Но реальность создает Бог, а веру — человек.
— А правду?
— Ага, — сказал Аттила, поворачиваясь к Оресту. Его глаза бешено вращались. — Правда… Правда — совсем не то, что воображают себе люди в своих мечтах и вымыслах.
Они продолжали ехать.
— Вот реальность, — сказал Орест через некоторое время. — Твой брат Бледа уже замышляет заговор против тебя.
— Ну, конечно, — невозмутимо ответил Аттила. — Ты думаешь, я дурак?
— Боже упаси, великий шаньюй, — воскликнул Орест преувеличенно угодливым тоном.
Аттила неодобрительно посмотрел на него:
— Хватит лести. Это удел Гьюху.
Орест улыбнулся:
— Но вы знали, что Бледа уже послал вестника с письмом в Константинополь?
Несколько секунд он наслаждался эффектом: Аттила был захвачен врасплох.
— Мой брат… Письмо?..
— Бледа просит помощи и золота, желая вернуть себе то, что по праву принадлежит ему, как старшему брату и законному властителю гуннов.
— Мой брат! — снова воскликнул Аттила, и в этот раз, казалось, его обуял восторг. Каган даже уронил поводья и, ликуя, хлопнул в ладоши. — Он не мог сплести тонкой интриги и низвергнуть меня!
Аттила засмеялся, потом закричал:
— О, мой глупый брат, как же ты развлечешь нас своими планами и кознями!
Затем он вытер слезы с глаз тыльной стороной ладони. Как же будет хорошо понаблюдать за этим развертывающимся тайным сговором! Как приятно подглядывать за маневрами своего брата, неуклюжими, словно у верблюда на рынке. Как сладко наслаждаться таким знанием и силой. Ждать и, наконец, неожиданно наброситься на этого слабоумного дурака и уничтожить его за наглость и глупость.
— Держи меня в курсе, — сказал Аттила, насмеявшись вдоволь. — Пожалуйста.
— Нам нужно послать кого-нибудь и убить вестника?
— Нет, — ответил Аттила. — Нет, нет. Это замечательная возможность для империи услышать о моем возвращении.
— Для империи? — тихим и удивленным голосом спросил Орест, словно почти забыл это слово за тридцать лет странствий.
— Для империи, — повторил Аттила: он-то ничуть не позабыл ни само слово, ни того, что за ним скрывалось. — Для Рима.
Они ехали без остановок весь день, пока не настали сумерки. Когда сгустилась тьма, Аттила и Орест разбили лагерь, удалившись на несколько миль от комаров и духоты болота. Они поели соленой говядины, попили некрепкого кумыса и уснули на земле под лошадиными попонами. Каждый из них проснулся, лишь едва забрезжил рассвет, чтобы поплотнее укутаться в одеяла: уже начала проступать влага из темной земли, становилось зябко, холодная зима постепенно вступала в свои права.
Когда солнце встало, гунны уже поднялись, сели на лошадей и тренировались в стрельбе с места и в галопе.
Весь второй день воины ехали на восток молча. Построившись, словно стая диких гусей, за своим таинственным предводителем, гунны казались орлам с небес крошечной точкой, медленно двигающейся по бескрайней равнине.
Далеко впереди они увидели облако пыли, вздымаемое стадом антилоп, канюка, низко летящего по направлению к животным и промчавшегося над головами избранных так близко, что воины смогли заметить немигающие желтые глаза птицы, продолжавшей парить. Вскоре они вспугнули потревоженного удода, рванувшегося из высокой травы из-под ног лошадей, а на низком сильно общипанном холме обратили внимание на сурка, сидящего на задних лапах и рассматривающего их. Зверек тут же исчез в земле, прежде чем воины успели натянуть тетиву. Мысль о хотя бы нескольких кусочках его темного и жирного мяса доставляла каждому из них невыразимые страдания. Другой дичи не попадалось.
На третий день гунны пробрались через сухие заросли кустарника и оказались в узком заливе болота с солоноватой водой, наполовину заросшем ивой и заваленном ломаной ольхой. Они привязали лошадей и стали ждать.
Три ночи прошли вдали от дома, где-то на великой равнине. Возле залива, с неторопливым течением и с множеством снующих мальков, куда приходят стада, гунны ждали возможности стремительно напасть и убить неуловимых антилоп. Но безуспешно, не представилось ни единого удобного случая. Тени птиц — и ни одного стада. И шла уже третья по счету ночь.
На наружной стороне утеса воины продолбили маленькую нишу для факела. Ветер, пронизывающий, словно зимой, застилал глаза, которые почти заледенили. Тепло от огня помогало им, но лишь слегка. Сердца избранных замерли и едва бились, как и дрожащие языки пламени в воздушном потоке, поднимавшемся с мелкой топи. Но гунны увидели, что каган ушел на равнину в одиночестве. Он стоял, откинув назад голову, вытянув руки и бормоча под луной какие-то слова. Затем Аттила исчез.
Ночь была тихой, ветер успокоился. Ярко горели звезды. В мире царило безмолвие. Головы воинов отяжелели, в головах постоянно пульсировала одна и та же мысль об охоте. Когда олень, вздрагивая, показался в свете факела, гунны схватили его и убили животное на благо богов и своих собственных желудков.
Весь следующий день они ехали по длинной сухой траве, похожей на сено. К вечеру добрались до низких холмов из доломита, поднялись по неглубокой долине и оказались на покрытой зеленью возвышенности. Там в сумерках они заметили в отдалении огни факелов. Это было греческое торговое поселения в устье Танаис. Стали различимы невысокие деревянные дома, пристани, широкие бревенчатые причалы и сама великая река, протянувшаяся во мраке без конца и края. Повторяя ее изгибы, на север убегала пыльная дорога, и люди шли или ехали по ней на маленьких пони и шумных тележках.
Находящийся неподалеку узкий залив, созданный рукой человека, был заполнен темными балками, свалившимися с северной стороны. Хотя Скифия и изобиловала безграничными лесами, преимущественно дубовыми и каштановыми, в горах же Греции и Каппадокии едва попадались кипарисы и кедры. Но такие торговые поселения, как это, приносили наибольшую выгоду во время добычи меха поздней зимой и осенью, когда шкуры животных лучше всего. Охотились на черную норку, красновато-коричневого соболя, куницу, бобра. С гор на восток уходил козий кашемир бледного соломенного цвета, жирный на ощупь. А уж затем в империи изготавливали из него изящную одежду для византийских матрон и патрициев. А с севера, с великих скифских рек, плыли длинные с загнутыми носами лодки-плоскодонки. Ими управляли голубоглазые бородатые северяне, привозя бочки ценного балтийского янтаря.
Но нападать на такое маленькое торговое поселение, как это, расположенное на самой границе империи, где огни из окон домов наконец-то пронзили бесконечную тьму варварских равнин, казалось почти жалким делом. Сейчас царил мир, многие из племен стали федератами, союзниками или даже оплачивали содержание иностранных наемников восточного императора в Константинополе. Маленький городок в свете факелов безмятежно раскинулся возле широкой и медленной реки.
Аттила велел своим воинам спускаться с холма, пока те могли видеть дорогу, но сами оставались незамеченными.
— В городе нет гарнизона? — прошептал Орест.
Аттила по-прежнему не отрывал взгляда от маленького оплота империи, который находился внизу.
— Вероятно.
…Почти стемнело, и несколько воинов едва не засыпали в седле. А если и не заснули, то не от страха перед своим господином, а из-за теней, отделившихся от большой колонны. Возможно, около полудюжины всадников на лошадях и пестрый экипаж еще с дюжиной человек, женщины и дети следовали за караваном пешком. По тому, как они двигались, медленно шаркая и склонив плечи, стало ясно: некоторые, если не все, закованы в кандалы, уже слишком стемнело, чтобы разглядеть детали. Брезжили сумерки, повсюду разлился грязно-голубой и серый свет. Едва заметно мерцали факелы у ворот города. Наконечники копий охранников заблестели, когда они, словно листья на ветру, попали под лунный свет.
Аттила не произнес ни слова и не подал знака. Он пришпорил коня и поскакал вниз по склону, к дороге. Гунны, у которых живот свело от страха при мысли об атаке, попридержали лошадей, ожидая дальнейшего в своем укрытии за холмом. Они смотрели, как каган удаляется, и слышали лишь свист и цокот копыт его коня, несущегося по высокой, сухой траве.
Один из охранников, сидевших на лошади, заметил, что Аттила приближается в сумраке. Он велел всаднику остановиться, но не поднял тревоги. Избранные повернулись и приготовили копья к бою.
Аттила поскакал вперед.
— Стоять! — закричал стражник, натягивая поводья и направляясь к вождю. Очевидно, это был их центурион. Аттила не обратил на кричащего никакого внимания, подъехав к экипажу.
Когда раздался приказ центуриона, занавески в экипаже раздвинулись, и показалось лицо — хорошо откормленное лицо городского купца-грека. Он почти завизжал, увидев в нескольких шагах от себя сидящего на лошади варвара со связанными в пучок волосами, носящего только брюки с перекрещивающимися лямками из шкуры оленя. Силуэт вооруженного всадника вдруг возник перед купцом из темноты.
Варвар обратился к нему:
— Говоришь ли ты на латыни?
Купец, которого звали Зосим, заикаясь, заявил, что, конечно, он говорит на латыни. Но был удивлен, поскольку его спросили вновь:
— Говоришь ли ты по-эллински?
Купец не мог поверить своим ушам. Перед ним был варвар-полиглот, голый по пояс дикарь с золотыми серьгами в ушах и этими ужасными татуировками темно-синего цвета, с серебряными браслетами, крепко облегающими твердые, как камень, бицепсы. Это создание со свирепым взглядом, не знающее ни законов, ни букв, ни других признаков цивилизованной жизни, взывало к нему из скифского мрака сначала на языке Цицерона, а потом на языке Демосфена, Неужто его воспитывали образованнейшие грамматики и риторы империи, а не какая-то увешенная драгоценностями женщина из племени варваров в войлочной палатке, воняющей кожей, потом и лошадиными испражнениями?!
Центурион прошел рядом с говорящим и резко встряхнул за плечо.
— Назад, Пучок-Волос-на-Макушке! — закричал он. — Эта колонна идет по указанию императора, и тебе же будет хуже, если ты…
— Мирос мигатэ элиника? Говоришь ли ты по-гречески? — повторил варвар, не повышая голоса и не отводя взгляда от удивленного купца.
— Конечно, и по-гречески тоже, — выпалил Зосим. — Но мне непонятно, почему я должен общаться с вонючим разукрашенным варваром, похожим на тебя. Теперь делай-ка, как велит этот добрый человек, и…
Аттила посмотрел через плечо — туда, где всего лишь в двадцати или тридцати ярдах в полумраке сидели четверо его спутников. Сейчас великий воин заговорил по-своему.
— Убить солдат, — выкрикнул он.
И гунны выскочили из-за холма и понеслись на неприятеля.
Сам Аттила не шевелился, когда вокруг свистели стрелы. Лошадь тихо заржала и стала осторожно отступать назад, почувствовав, как что-то, жужжа, слегка задело нос. Но всадник по-прежнему не двигался, словно смотрел обычную игру.
Все закончилось за считанные секунды. Один из солдат мягко осел в своем седле со стрелой, пронзившей сердце. Его голова поникла, словно цветок осенью. Остальные бросились врассыпную или лежали мертвыми во мраке, попав под копыта своих же лошадей. Аттила ехал на коне и считал количество убитых. Затем повернулся к гуннам, кружа рядом с ними.
— Шесть человек с шестнадцатью стрелами, — сказал он. — Отличное зрелище.
Затем он заметил лошадь, которая, дрожа, стояла со стрелой, засевшей глубоко в загривке. Передние ноги животного, казалось, были готовы ринуться вскачь, грудная клетка сильно вздымалась, кровь, пенясь, шла из ноздрей. Но лошадь не падала.
— Кто из вас выстрелил в него?
Секунду поколебавшись, Есукай поднял руку.
Аттила подъехал к молодому воину и нагнулся к его лицу.
— Не — делай — такого — впредь, — сказал каган, и глаза его зло сверкнули.
Есукай не мог вымолвить ни слова.
Аттила поскакал назад, остановился перед раненой лошадью и вытащил свой чекан — короткий заостренный топор. Он пододвинулся вперед в седле, взмахнул со всей силы и воткнул длинное железное лезвие в лоб лошади, прямо над глазами, словно жрец, приносящий в жертву породистое животное и устраивающий для него царские похороны.
Аттила взмахнул топором, лошадь обмякла и упала замертво в пыль.
Каган отдал приказы забрать оставшихся пять лошадей, принадлежавших солдатам, затем направился к экипажу и посмотрел на съежившегося купца. Там было еще двое человек.
Один из них, с улыбкой, застывшей на тонких губах, произнес дрожащим голосом:
— Мой господин, я… Я… Эти двое, они купцы, но я — законник.
— Законник? — спросил Аттила, смотря на пленника.
— Да, да. — Улыбка грека стала шире и слащавее. — Со связями в высших судах империи.
— Ненавижу законников.
В руке Аттилы блеснул нож, вождь соскочил с лошади и прижал лезвие к длинному тонкому горлу законника. Голова тут же упала на его влажную от крови грудь.
Из экипажа притащили двух кричащих купцов. Им вставили кляп в рот, связали и посадили на двух лошадей. Животные поскакали на запад, к дому, тьма поглотила их. В последний момент Аттила обернулся и посмотрел на толпу, состоящую приблизительно из дюжины молчаливых, испуганных до смерти мужчин, женщин и детей в оковах, следовавших за экипажем. Никто не шелохнулся во время расправы.
Аттила сказал:
— Когда-то я знал мальчика и девочку, которые были беглыми рабами. — Он оглядел каждого из толпы. — Девочка еще не успела встретить седьмое лето своей жизни, она умерла. Ее звали Пелагия. Гречанка. Но даже в ней было больше силы, чем в вас.
Конь Аттилы вскинул голову и оскалил зубы, словно презрительно выражал согласие со своим хозяином.
— Освобождайтесь, — велел каган.
И оставил пленных, убив их вооруженную охрану. Но сами рабы так и остались в цепях, стоя с разинутыми ртами и глядя на темную дорогу.
Когда Аттила с гуннами поехали на запад, Аладар приблизился к нему и спросил:
— Мой господин, законник — он кто? Шаман? Тот, Кто Знает?
— Нет, — ответил Аттила, покачав головой. — Это не тот законодатель, что является дарителем мудрости, а мелкий торговец в судах, полных таких же торговцев. Это человек, который сковывает цепями души других людей, собирает души в обмен на золото. В Римской империи их очень высоко ценят, они становятся ораторами, сенаторами, политиками.
— Политиками? Политики — это почти как вожди?
— Нет. — Каган язвительно ухмыльнулся. — Политики — ничто по сравнению с вождями.
Гунны продолжили путь.
Через некоторое время Аттила проговорил:
— В Риме есть законы, которые запрещают людям ездить в экипаже по городу в темное время суток. Любой, кто нарушает указ, подвергается наказанию.
— Но, наверное, подобные законы,
достойные презрения, не соблюдаются?
— Нет, им подчиняются.
Аладар попытался понять эту странную логику, а затем, отчаявшись, разразился громовым хохотом.
— Почему?
— Потому что, — ответил Аттила, — по их мнению, они свободны, если поступают по закону.
— Тот законник, он запугивал людей таким образом?
— Без сомнения.
Аладар нахмурился.
— Я мог бы сам перерезать ему горло.
После полуночи они спали четыре часа, а потом, по предрассветному холоду продолжили путь вдоль Меотического озера.
Солдаты из гарнизона в устье Танаис пошли по следам отряда, когда солнце встало над темным озером, а небо, мерцая белым и серебряным цветами, казалось низким. Аттила остановил своих воинов и заставил их развернуться на восток, словно крошечное стадо диких гусей. Некоторое время избранные молча смотрели, как приближается хорошо вооруженное подразделение императорской кавалерии. Солдаты должны были скоро настигнуть кагана и воинов.
Тем временем гунны избили двух связанных купцов, находящихся без сознания, и стреножили их лошадей, а затем заставили своих коней скакать галопом. Цаба и Аладар повернули налево от приближающихся, пока Аттила отводил Есукая и Ореста к отмели. Все четверо, не переставая двигаться, натянули тетивы, прицелились и пустили стрелы на том расстоянии, когда промахнуться было не возможно.
Аттила приказал еще в пути:
— Уничтожить лошадей впереди!
Стрелы зажужжали в чистом воздухе, и две лошади споткнулись, одна упала, взрыв песок. За распластавшееся на земле животное и всадника зацепились и свалились еще два воина. Остальные, их было около двадцати или более, продолжали наступать. Двое солдат из кавалерии, легко вооруженные, низко опустили длинные смертоносные копья. Безоружные гунны, имеющие численное превосходство, смогли избежать боя, постоянно перестраиваясь и затем отступая в сторону, переходя в быстрый галоп за римскими флангами и выпуская стрелы. Они то обращались в бегство, точнее, казалось, что варвары собираются бежать, то занимали возвышенность, которую солдаты только что покинули. Тонкие стрелы не переставали свистеть в ярких рассветных лучах, пробивая непрочные кольчуги и кирасы, ранили в грудь и живот, проникали еще глубже. Солдаты неловко валились на землю.
Воины в смятении кружили вокруг, у большинства из них застряли наконечники стрел в плечах или бедрах. По блестящей стали струйкой бежала кровь. Центурион скомандовал построиться и приблизиться, обнажив мечи. Но кавалерия потеряла всякую надежду подойти к столь неуловимой цели.
Вновь всадники-варвары повернули вниз, с горного хребта, к палящему утреннему солнцу, а затем вернулись обратно, улюлюкая от радости, закрутившись на месте почти на полном скаку и подняв вихрь из песка и камней. Пришпоривая своих крупноголовых лошадей по низкому, мощному крупу, гунны отвели их назад, когда те перешли в галоп, затем снова поднялись и выступили вперед — прямо из-за слепящего света солнца. Повсюду что-то жалило, кусало и застилало кавалеристам глаза, а их противники неслись вдоль берега озера, пролетая сквозь дымку над отмелью и вздымая мелькающими подковами неторопливые воды, рассыпая серебряные радуги и яркие блестящие брызги.
В воздухе не смолкал свист тонких стрел. Растерявшиеся солдаты были в смятении: они чувствовали, как на их шеи и плечи спускаются арканы и сети. Лошади хромали под всадниками. А гунны с ревом появлялись незнамо откуда, набрасывали на передние ноги животных пеньковые арканы со свинцовыми крючками. Повсюду сверкали вспышки отражающегося солнечного света, слышались победные возгласы, виднелись раскачивающиеся пучки волос и взлетающие ленточки. Белозубые дикари во все горло пронзительно кричали, везде мелькали их синие татуировки.
Кони римлян сильно прихрамывали и ржали, затем внезапно упали на колени на залитом солнцем берегу моря, словно в покаянии и отчаянной мольбе. Всадник с кожей медного цвета направился к каждому из растерявшихся кавалеристов, откинул в сторону оружие из его ослабевших рук и убил одним ударом кинжала или копья. Иногда распластавшийся солдат протягивал руку, пытаясь в последний раз защититься. Тогда меч гунна рассекал в мгновение затвердевшую кожаную повязку и предплечье и обрубал их, и только потом лишал жизни всадника.
Повсюду кружились и падали люди, перелетая через склоненные головы своих лошадей и мягко валясь в грязь, поверхность которой стала красной от солнца и крови. Кони, пронзенные копьем, вздыхая, испускали дух. Центурион превратился в обезглавленный труп на песке, где сгустками текла кровь. Несколько последних кавалеристов, казалось, ждали, словно скот перед бойней или стаю подраненных зверей, окруженную бесчисленными и безымянными хищниками. А обнаженные воины, смеясь, обсуждали предстоящее убийство, как обычный радостный ритуальный праздник во имя вечного чуда и изменчивости жизни.
Цаба и Аладар слезли с лошадей и беспечно шагали по отмели, собирая головы. Простые железные шлемы лежали полузатопленными в мутной воде, а их владельцы, согнувшись или странно скрючившись, затихли в грязи. Их головы находились поодаль от тел, лбы покрылись запекшейся кровью, лица были обтянуты сеткой ярко-красного цвета, открытый череп обнажался.
Цаба запел песню победы. Аладар откинул назад голову, засмеялся и протянул правую руку, залитую кровью по плечо. Он потряс связкой голов, и в сверкающем свете солнца закружились дугой капли крови, словно какая-то темная расплавленная руда, которая извергается из вулкана. Кровь упала и исчезла в воде внизу, как будто ее никогда и не существовало…
Гунны оставили убитых лошадей, тела и несколько конечностей в малиновой пене прибоя на берегу и продолжили путь, издавая громкие восторженные кличи. Два византийских купца зашевелились и застонали. Они были по-прежнему связаны и переброшены, подобно поклаже, через седла захваченных коней.
У Цабы оказался глубокий порез на лбу, который едва не затронул глаз. Оттуда сильно шла кровь. Но избранный, судя по всему, не обращал на боль внимания. У Аттилы обнаружилась большая рана на предплечье, клочок кожи свободно болтался, а кровь стекала вниз по руке. Битва закончилась, и гунны замедлили свой стремительный полет к победе. Каган остановился и связал рану лоскутом от одежды одного из купцов. Затем приказал Цабе сделать то же самое, а уж после осмотрел своих людей.
Избранные подняли глаза на вождя, и что-то, похожее на восхищение, промелькнуло в их взгляде. Это их правитель — непобежденный, неутомимый вождь. Это их первая кровь, их победа.
Но теперь воины хотели большего. Жажда победы, как и жажда славы или золота, неутолима. Аппетит растет во время еды.
Аттила улыбнулся.
— Домой, — проговорил он.
* * *
Весь следующий день гунны непрерывно ехали, не проронив ни слова. Но ночью возле костра, когда все ели, Аттила обратился к воинам.
— Некоторые люди преклоняются перед понятиями «правильного» и «неправильного», делают добро и зло богам, добиваясь цели, — произнес он. — Я верю в жизнь и смерть. Вопрос не в том, правильно ли что-то. Он в другом: «Дает ли это мне более полное ощущение жизни?» Вот что в центре всего! Таков образец, по которому боги сотворили землю — колыбель жизни! Больше жизни! Даже бледные моралисты на трибунах или коварные законники в бездушных судах, занятые проверкой всего вокруг, делают так. Ведь это дает им более полное ощущение жизни, доказывает их силу над остальными. И, подобно стаду, многие дозволяют им поступать так и верят в них. Не позволяйте. Только слабые и рабы позволяют. Ты сам себе судья, и никто не вправе судить тебя, кроме тебя самого. Другой человек может судить тебя не больше, чем одежда, в которой ты стоишь перед ним. Ты жил? Вот вопрос, задаваемый на смертном одре, единственный вопрос. Есть ли у тебя мужество быть самим собой, осуществить свои желания? «Месть — это неправильно, — говорят христиане. — Прости, прости!» — с чувством вины шепчут они, окруженные бесцветными облаками фимиама, в раскаянии поднимая глаза к небу. Их белые руки мягки, словно воск свечей, тела склоняются в благоговейном почтении перед Богом, и мрачные храмы наполняются песнопениями евнухов.
— Прости? — воскликнул Аттила внезапно резким голосом. — Какое это имеет отношение к сладкой мести? Вот где жизнь! С лихвой отомстить одному из старых врагов — вот самая пьянящая, самая животворная радость. Она наполняет тебя счастливым смехом, она окружает мир золотым сиянием, она заставляет тебя радоваться жизни! Все, что мы делаем, должно заставлять нас радоваться жизни, заставлять нас обладать тем, что нам дано. И не следует беспокоиться, если твоя месть и твоя победа — чье-то сокрушительное поражение. Смотрите — вот она, тайна. Это ведь и его триумф, скрытый триумф, исполнение высшего желания, дарованного богами, которым он не мог больше сопротивляться, как не сумел противиться черным крыльям бури над степью. Все люди должны умереть; цари и рабы в могиле выглядят одинаково. Поверженный не в силах сделать ничего, он способен только спасти самого себя от этого наказания и огня, от этого рокового дня. Поэтому он решительно идет на смерть. Герой бросает вызов в лицо буре до самого конца, пока не падет, словно цветок, срезанный косой, чтобы быть воспетым и навечно остаться в народной памяти из-за своего оскорбленного благородства. Нет ничего благороднее, чем оскорбленное благородство!
— Я помню своего отца, Мундзука. — Аттила кивнул и замолчал на минуту. — Его лицо стоит перед моими глазами. Я помню, как отец погиб из-за предательства Руги и покрывшегося ржавчиной золота Рима. Был ли Мундзук настолько слаб, что подлец Руга убил его в самом расцвете сил? Был ли отец побежден им, превратилась ли его жизнь в ничто, в пустоту, а его наследники — в мишень для презрения и насмешек? Вовсе нет! Он прославился своей смертью и оскорбленным благородством.
— Разве это не тайна?! А понимание этого — не самое ли опьяняющее чувство свободы мыслей и поступков? Разве это не вечный восторг?! Когда правда пробьется через облака, она расплавит весь лед святости, а свежий ветер унесет прочь раскаяние. И это могло разрушить самую основу веры! Знать, насколько свободны мы на самом деле, и нет ничего иного… Я сойду с ума, ради всех богов, я весь горю!
Аттила вскочил на ноги и начал ходить вокруг, затем, сжав кулаки и напрягая мускулы на руках, стал со свистом рассекать воздух перед собой.
— Жизнь дает жизнь. Энергия дает энергию. Если бы только у всех мужчин хватало мужества быть по-настоящему живыми! Тогда никто бы не терпел неудач, и хотя смерть существовала бы, но не случалось бы утрат. Лишь героизм, благородство, слава процветали бы в мире — в том мире мечты, который и замышлял при создании Творец. Он дал нам жизнь, и нам нужно учиться жить. Не научишься жить, склоняя голову и прислушиваясь к бессмысленным и неясным словам мертвенно-бледных проповедников в тех огромных каменных гробах, холодных, как могила, которыми они называют своими священными церквями и местами благоговения. Те гробы и склепы полные запятнанных кровью статуй повешенных святых. Они бы весь мир лишили жизненной силы. Энергия — это вечное наслаждение. Лучше убить младенца в колыбельке, чем лелеять невыполненные желания. Тогда ты станешь путеводной звездой для других людей, и они по-настоящему полюбят тебя. Это не те мертвенно-бледные моралисты, которых почитают толпы. В глубине сердца чернь ненавидит философов и тот способ, как они контролируют мысли и бдительно следят за самыми сокровенными желаниями. Это те, кто излучает энергию и жизнь, кто сеет смех, кто возбуждает желание, кто разрушает цепи и осуществляет тайные помыслы, кто берет все в свои руки и делает мир разнообразным и цветным. Именно поэтому истории о людях — это истории о любви, сражении и смерти. Рассказы не о неосуществленных желаниях, которые руководили человеком, а об энергии, конфликте, страсти. Вот где огонь, вот где жизнь! Но христиане говорят только о воде и хлебе жизни, пресной и холодной, как их души. Я даю вам мясо и вино жизни! Они того не понимают, эти христиане, моралисты и чиновники в своих кабинетах и судах. Лишь слабого раба с соломенным позвоночником можно согнуть или сломать эдиктами бумагомарателей. Долой их, дни крадут души людей!
— Греки до рождения Христа понимали это и создавали грустные и изумительные, трагические и правдивые истории. Ведь они, умные и великие люди, складывали песни даже о своем собственном горе, даже о своих несчастьях и скорби, о своей собственной семье, своих потомках. Греки лелеяли свою печаль, бережно хранили ее в сказках и передавали из уст в уста ночью возле огня, и души слушателей наполнялись грустью. Во время чтения появлялось ощущение, что их переполняет ощущение жизни. Вот где тайна: люди чувствуют внутри себя больше жизни, и собираются толпы, чтобы вновь послушать о горе и героизме, скорби и смехе, крушении и триумфе, обо всем, что сплелось и перемешалось, словно в клубке самой жизни. И рассказчик, повествуя об этом большому скоплению народа и касаясь сердцевины печали, трагедии, которая приключилась в этом мире, вызывает уважение. Его облик приобретает в историях великие и величавые черты. А те, кто слушают, воспринимают его как удивительного человека, который много путешествовал, а пережил еще больше. «Nulla maiestior quam magna maesta», — говорили древние римляне сотни лет назад, когда в них имелось понимание. «Нет ничего величественнее, чем великая печаль».
Внезапно речь оборвалась. Аттила повернулся и ушел от избранных в темноту степи прежде, чем они поняли, что происходит. Ушел вместе со своей трагической историей и великой печалью.
Глава 6
Шпионы
По возвращении в лагерь гуннов Аттила стал вновь властным и прагматичным.
Он только сейчас объяснил, что организовал нападение на Танаис ради похищения двух купцов. Следовало забрать пленных в лагерь и заставить учить избранных языкам империи, а затем отправить их в Рим в качестве шпионов. Сами узники были удивлены дерзкой самоуверенности верховного вождя.
Так зарождалась система тайного наблюдения Аттилы, которая в свое время охватила почти весь известный мир — от христианского царства Грузии на востоке до галльских берегов холодного Атлантического океана. Конечно, его сеть никогда не превосходила по масштабу и сложности комплекс, созданный секретными службами Константинополя, и не проникала, запуская дрожащие щупальца, на каждую важную встречу и в каждый дом в империи. Но для правителя-варвара обладать доступом к такому объему информации о своем неприятеле означало иметь реальную силу, о которой не смел даже мечтать любой другой чужеземец, сидя в закопченной палатке.
Аттила приказал, чтобы избитых и покрытых синяками византийских купцов тщательно перебинтовали, накормили и вымыли, а также дали им отдохнуть, словно паре украденных породистых лошадей. Он мельком полюбовался на работу и оценил мастерство, с которым был построен великолепный деревянный дворец за всего лишь восемь дней непосильного труда. Каган удовлетворенно кивнул, стоя рядом со своими пятью женами.
Правительница Чека приблизилась к Аттиле и взяла под руку, когда тот поднимался по ступеням и входил через резные деревянные двери дворца. Это противоречило всем обычаям — жена шествовала рядом с мужем. Но правительница не была обычной замужней женщиной.
* * *
На следующее утро Аттила назначил надсмотрщика над шпионами, которых собирался отправить в империю. Им стал Гьюху. Хитрый советник выбрал двадцать мужчин и, к удивлению многих, двадцать женщин племени. Он изолировал каждую группу в отдельной палатке на краю лагеря, где их учили говорить, понимать и даже писать по-гречески и на латыни. К ярости мужчин, у женщин это получалось лучше. Казалось, они получали удовольствие от науки о странных значках, которые их наставник поневоле Зосим рисовал мелом на грифельных досках.
Не предупреждая заранее, Аттила сам несколько раз посещал палатки с испуганными педагогами и внезапно заговаривал с учениками на обоих языках. Люди удивлялись, их души наполнялись суеверным трепетом, ведь каган в совершенстве владел и латинским, и греческим, словно римлянин. Ученики отвечали, вначале заикаясь, но затем, по прошествии многих недель, все с большей твердостью и уверенностью.
Однажды Аттила увидел, что Гьюху свел две группы вместе, мужчин и женщин, приказав общаться между собой на двух языках. Верховный вождь спросил своего помощника, почему тот так сделал.
— Вполне вероятно, — ответил Гьюху, — тот или другой из похищенных купцов по злобе мог научить наших людей неправильно. Поэтому их бы поймали, когда придет время путешествовать по империи. Но сейчас мы уверены: обе группы запомнили одно и то же — и без ошибок.
Аттила язвительно улыбнулся:
— Мудрый Гьюху, подозреваешь, что один хитрее другого…
Избранный не обратил внимания на двусмысленный комплимент.
— Но почему, мой господин, вы сами не могли просто научить наших людей двум имперским языкам, ведь вы говорите так превосходно и бегло?
Аттила глянул на льстеца.
— У меня есть чем заняться.
* * *
Наступила зима, степи покрылись шестью дюймами снега на четыре долгих, горьких месяца. Говорят, в Скифии на самом деле только два времени года: время огня и время льда. Тихие весна и осень настолько коротки, что в этой стране крайностей едва ли заметны. Черные войлочные палатки были завалены снегом. По бесконечным заснеженным равнинам лишь изредка мелькали горностаи.
Однажды вечером Аттила созвал двадцать мужчин и двадцать женщин к себе в новый деревянный дворец, дав каждому тяжелый кошелек с золотом. Однако каган приказал в следующий раз одеться просто. Затем он отправил их на юг, где стояла суровая зима, пошутив, что у соглядатаев появится возможность оценить солнечный свет средиземноморских стран.
Некоторые из мужчин и женщин отправились как муж и жена, другие — как брат и сестра, третьи, как казалось, являлись родственниками. Верховный вождь позаботился, чтобы никто не шел в одиночестве. Аттила послал их на юго-запад, в великие города империи — Сирмий, Константинополь, Равенну, Медиолан и даже в сам Рим, либо далеко на запад — в Тревер или Нарбон, далеко на юг, в жаркую и пыльную Антиохию и Александрию. Сколь странны эти места для степных всадников!
Каган велел ученикам найти работу писцов или слуг у богатых и могущественных людей, втираться в доверие повсюду, где они оказывались: в дома сенаторов, патрициев, землевладельцев, епископов и префектов. Они станут называть себя лишь «жителями Востока», если их станут спрашивать о роде и месте рождения. Когда появится важная, на их взгляд, информация, необходимо покинуть своих хозяев тайно ночью и отправиться обратно, в степь, никогда не доверяя кому-либо еще и не оставляя письменных сообщений, и вообще никогда ничего не фиксируя на бумаге.
Из отдаленных портов Массилии и Равенны, Аквилеи, Фессалоник, Александрии и Антиохии ученики вновь должны были отправиться на восток, через Босфор, и на север, к берегам Понта Эвксинского, выйдя на сушу в устье Танаис, Офиузы или Херсонеса, словно выжившие аргонавты при Пагасе, несущие Золотое Руно. Там, поднявшись вверх по реке и добравшись на лошадях до лагеря гуннов и дворца самого Аттилы, они смогли бы передать ему свое сокровище — знания. Верховный вождь благословил бы тех, кто пришел, даровал кубки и золотые кольца, о которых никто не смел мечтать.
Со смешанным чувством страха и возбуждения шпионы отправились в долгое и утомительное путешествие.
Что касается двух византийских купцов, то их миссия была закончена. Аттила никогда не забывал и не прощал дерзости, которую они позволили себе в ту темную ночь у шлюзов реки Танаис. Купцы поняли это сейчас, но, увы, слишком поздно. Утром, когда шпионы уходили, верховный вождь приказал Есукаю и Аладару привести их на берег реки и оставить там, стоящих на коленях и дрожащих в покрытых инеем зарослях длинной осоки. Два воина забили ослушников до смерти. Такая гибель, самая постыдная для любого человека, была им уготована.
Тела купцов столкнули в реку, где они недолго плавали среди льдин. Пустые черепа раскололись, выпуская пузырьки воздуха, мозг серой массой тянулся жирной пленкой позади, откуда шел на рассвете пар, смешивающийся с холодной водой.
Всю ту зиму Аттила выжидал, до самой весны, когда слой льда на реке стал медленно уменьшаться и исчез, превратившись в пар под лучами встающего солнца, снег сошел с бесконечных просторов, и степь покрылась ярко-зеленой травой, словно крылья зимородка.
Каган ждал в одиночестве, живя своей мечтой. Он стал подобен волку или пауку, Железной реке, неторопливой, спокойной и безжалостной Волге, в честь которой, по мнению некоторых, он получил свое имя. Но никто, как я полагаю, никогда не узнает истинного значения имени великого гунна.
В деревянных стенах дворца правителя эхом отдавался крик не одного, а двух новорожденных младенцев — двух дочерей Аттилы. А в палатке, где жили наложницы, появилось на свет еще несколько детей. Мальчикам дал имена сам великий вождь, девочкам — их матери. Они получили гордые, величественные имена: Айжизель, что значит Прекрасная Луна, Незебеда, что означает Вечное Счастье, и Севгилья — Возлюбленная.
* * *
Каждый день на равнинах, под пронизывающими зимними ветрами, отряд воинов, насчитывающий всего несколько сотен, скакал галопом и заходил с фланга по команде. Весной это делалось уже с большей охотой. Они учились останавливаться у невидимого препятствия по сигналу своего вожака, учились выпускать стрелы на невообразимой скорости.
Пара лучников и метателей дротиков погибли, по-прежнему держа оружие в руках, их глаза горели жаждой мести. Но отряд воинов становился сильнее и, что более важно, они стали увереннее в своих силах. Бойцы начали скучать по битве, в которой могли бы применить приобретенные навыки и закалить души.
Однажды вернулась одна из двадцати избранных женщин, она сразу направилась во дворец. Прошло много часов, прежде чем она вышла оттуда. Разведчица снова оказалась рядом со своим терпеливым мужем и детьми, а в руках ее был мешок, полный золотых колец. На ее лице светилась необычная улыбка. После этого домой вернулись еще несколько — все в одно лето. Они принесли Аттиле информацию, которую он ждал, и даже больше.
Наконец пришел последний из сорока шпионов. Ни один не погиб по собственной глупости и не провалил задание. Так Аттила узнавал то, что ему было нужно, и с каждым днем становился сильнее. И народ (женщины больше, чем мужчины) чувствовал эту странную увеличивающуюся силу и энергию. Люди радостно улыбались. Женщины снова играли древние песни на арфах, в нескольких строках восхваляя ратные подвиги своих мужчин, но гораздо более высмеивая их за слабость или неуверенность.
Безжалостный каган устроился на деревянном троне в деревянном дворце и, улыбаясь, задумался. Сейчас было пора. Годы проходят, размышлял он, все созрело. И пора, пора сорвать сочный, спелый фрукт — Рим. Или, точнее, сбить с дерева и раздавить его, поскольку он слишком перезрел, испортился и не подходит в пищу ни человеку, ни животному. Время пришло. Есть планы, есть силы, чтобы вести войну. «Я сделаю свой народ сильным, его имя станет известно всем остальным племенам. Мои люди перестанут быть объектом для насмешек и подставкой под ноги чужеземных правителей. Разве христиане не говорят в священной книге, что есть время любить, время ненавидеть, время воевать и время мириться? Смотрите, у меня есть власть; и я готовлю свои земли к войне».
После печальных лет отрочества, которые пришлось провести как раб-каторжник в Риме, он мог быстро, словно сам дьявол, процитировать римское священное писание.
Аттила улыбнулся. Теперь пришло время воевать. Богам, в конце концов, это должно понравиться. Как и их созданию — человеку, выходящему на арену, чтобы видеть действие.
Боги… Им, должно быть, понравится и этот человек.
Глава 7
Императрица и полководец
Насколько Аттила узнал от своих шпионов, поздним летом того года, который по христианскому летоисчислению являлся 422-м, дела обстояли следующим образом.
После 410 года для разграбленного Рима наступили тяжелые времена. В те дни некоторым казалось, что, в конце концов, мир устал от раздоров и войны. Как же мы ошибались! Как говорил Платон, только мертвые ничего не знают о войне, живым она никогда не надоест.
В течение шести дней, когда Рим погряз в грабежах и разбое, произошло нечто, удивившее изнуренных жителей города своей строгостью: Вождь Аларих издал указ — сохранить неповрежденными все культовые места христиан. Тогда армии готов вышли из города и повернули на юг.
Но через несколько дней Аларих погиб при таинственных обстоятельствах. Говорили о заговоре, об отравлении, об умышленном убийстве… Но точно никто ничего не знал.
Сестра императора Гонория, умная и спокойная женщина Галла Плацидия вышла замуж за необразованного иллирийского полководца. У них было двое детей: сын по имени Валентиниан, родившийся в 419 году, и дочь Гонория, появившаяся тремя годами позже. Вскоре оказалось, что Валентиниан глуповат и легко возбудим, как его дядя, Гонорий. Гонория, маленькая чаровница, отличалась большей сообразительностью, остроумием и веселым нравом. Но каждому из детей в свое время было суждено оставить неизгладимый след в истории.
У Гонория так и не появилось собственных детей, его бедная, всеми забытая жена умерла молодой. А затем его священное величество начал проявлять к своей сестре нечто большее, чем просто теплые братские чувства.
Объектами любви императора нередко становятся члены его семьи: хорошо известна чрезмерная привязанность Нерона к своей матери, а Калигулы — к сестрам. Даже Гай Юлий Цезарь однажды видел во сне, как насилует собственную мать, хотя прорицатели и успокоили его, заверив, что это символ покорения им Матери-Земли. Поскольку сам император был священного происхождения, то чувствовал: только равный, имеющий такую же божественную сущность, мог разделить с ним ложе. Более того, многие постоянно плели интриги, желая убить его. Вероятно, единственное, кому кесарь был в силах доверять в постели — его же плоть и кровь. Но порой его собственные плоть и кровь и были своего рода заговорщиками, и такое поведение, регулируемое правилом «безопасность — в инцесте», видимо, являлось неблагоразумным.
Галла могла пойти на конфликт с любым человеком. Но конфликт со своим братом-императором она не могла ни предвидеть, ни устроить…
В то время при дворе императора появился молодой кавалерист приблизительно двадцати пяти лет от роду, старший сын знаменитого Гауденция — главного начальника кавалерии, прикомандированной к реке Дунай. Высокий, стройный, серьезный и рассудительный не по годам, юный полководец удивительно быстро вырос с командующего кавалерийским отрядом из восьмидесяти человек до трибуна легиона и легата. Теперь, не совершив на этом поприще ни единой ошибки (а что гораздо более важно — при власти, где тесно сплетаются политика и военное дело), нанеся ряд оглушительных поражений нескольким вражеским племенам, находящимся на границе с Римом, он получил высшее звание, став самым молодым военачальником за двести лет.
Стратег Аэций.
Аэция хвалили и уважали повсюду. Говорили, что сын Гауденция скорее умрет, чем не сдержит свое слово. Когда он давал обещание, то оно было таким же нерушимым, как и великая цепь, которая пересекала бухту Золотой Рог в Константинополе в годы войны.
Красивый, словно Аполлон, но жесткий, словно кожа для седла, Аэций маршировал, подобно Цезарю, ехал и спал наравне со своими людьми. Воины уважали его за это. Когда громко стучали капли дождя или на вершинах Альп в начале весны или поздней осенью барабанил град, большинство полководцев спешили укрыться в крытых повозках и экипажах. Но Аэций наклонял голову, натягивая шерстяной плащ, пропитанный гусиным жиром, и продолжал ехать в бурю, прячась от сильной непогоды не более, чем самый непритязательный из его легионеров. Он ехал без остановок и без оглядки.
Аэций принял командование среди бесконечных приграничных стычек с варварскими племенами, соседями Рима. Он сражался вместе со своим отрядом в центре битвы, что вызываю неодобрение со стороны других полководцев. Каждый год приносил ему все новые шрамы.
Суровый и безжалостный военачальник, он дал понять: если когда-нибудь кто-то перестанет ему повиноваться или хотя бы один человек покинет шеренгу и бежит перед лицом врага, то весь легион будет подвергнут древнему наказанию децимации. Иными словами, Аэций выберет наугад каждого десятого человека из целого отряда, а оставшиеся станут забивать его до смерти на том месте, где находилась площадка для парадов. Поэтому за трусость одного ответят все. Никто не сомневался: он сделает, как сказал. В войске Аэция не оказалось ни одного труса.
Под его командованием и твердым взглядом его голубых глаз армия, казалось, вновь обретала прежнюю силу и дух, который утратила, вероятно, со времени катастрофы при Адрианополе в 378 году. Тогда недавно прибывшие орды готов, перебравшиеся через римскую границу под видом беженцев и иммигрантов, разбили легионы в клочья. От этого удара Римская империя не оправилась до сих пор. Прошли годы, военная подготовка оказалась неудовлетворительной, стычки с врагом носили прерывистый и нерешительный характер. Мир с варварами существовал, скорее, благодаря золоту, чем кровопролитной войне. Даже доспехи легионеров год от года становились все тоньше.
Аэций велел вновь оснастить имперские арсеналы хорошим оружием и приезжал туда без предупреждения и в любое время, желая проверить их работу. Если он находил кого-то, кто не был занят делом, то безжалостно наказывал. Полководец беспрестанно муштровал отряды и постоянно настраивал на битву с бесчисленными врагами. Армия становилась сильнее и более дисциплинированной. Как случается с военными, с каждым прошедшим годом они чувствовали себя по-новому, но были по-прежнему безмерно счастливы, ощущая растущую силу и мощь.
Однако полководец не всегда являлся ревностным традиционалистом. Когда приходило время наказать восставший город или племя, Аэций отказался от древнего римского обычая предавать смерти всех мужчин, женщин или детей того племени, всех коров и коз, всех собак и кошек. «Руины Карфагена, — лаконично изрекал он, — существовали до рождения Христа». Вместо этого просто довольствовался убийством мужчин, способных держать оружие, а из остальных делал рабов. Его сострадание к врагам империи стадо известно далеко за пределами Рима.
Аэция знали как немногословного человека, не являющегося сторонником жестких мер. В душе его бушевали глубокие страсти. Его долгом являлось служение Риму. Хотя, вероятно, была одна женщина…
Она была на три года старше полководца и дважды вдова. Придворным наблюдателям казалось очевидным, что Галлу привлекала в Аэции нечто большее, чем его слава военного и незыблемый авторитет, заслуженный за многие годы. О Галле и молодом талантливом военачальнике не ходило ни одной непристойной сплетни, но казалось забавным, насколько часто Галла чувствовала потребность позвать Аэция в свою личную консисторию и как многократно требовала его присутствия на императорских сборах.
Как они его тяготили!
При объявлении любого нового императорского указа всему суду нужно было подняться на ноги и провозгласить:
— Мы благодарим вас за этот закон!
И так — двадцать три раза.
А затем хором:
— Вы устранили неясности в императорской конституции!
И — еще двадцать три раза.
Далее:
— Пусть хранятся бесчисленные копии этого кодекса в правительственных ведомствах наших провинций!
Это повторялось тринадцать раз.
Аэций едва мог скрыть отвращение к подобному абсурду. Но, как всегда, он выполнял свой долг и повторял нужные заклинания вместе с остальными.
Как было замечено, на званых обедах Галла разговаривала и обменивалась шутками с Аэцием чаще, чем того требовала острая необходимость, иногда забывая об остальных гостях. Никого не удивляло, что она испытывала некие чувства по отношению к своему полководцу. Многие из женщин при дворе ощущали то же самое. В нем было редкое сочетание прямоты, мужества, приятной внешности, на которую суровые годы уже наложили отпечаток, естественного благородства и скрытой меланхолии. Аэций казался неотразимым. Как говорили, полководец словно родился не в свое время. Ему следовало бы появиться на свет в безжалостные и простые дни старой республики.
Каким было чувство Аэция по отношению к Галле, никто не мог сказать. Подобно многим людям, способным на глубокую страсть, он скрывал свои сильные переживания под маской формальности и холодности. Лишь слышалось, как они постоянно о чем-то спорят и обсуждают. Аэцию, конечно, нравилась компания Галлы больше, чем изнурительные ритуалы при дворе. Но меньше, чем военный лагерь и битва. Казалось невероятным, что он испытывает к ней еще какие-то чувства. Военачальник мог бы без особых сложностей жениться на Галле и стать следующим императором. Более амбициозный и менее принципиальный человек так бы и поступил, не обращая внимания на свою совесть. Но не Аэций. В глубине сердца он оставался преданным ей, но не более.
Со временем отношения стали сложнее. Было ли бы справедливо говорить о Галле, как об императрице, обижающейся на полководца за высокие моральные принципы и за игнорирование ее как женщины? Кто может это сказать? Их связь всегда казалась тесной, но не счастливой. Иногда они просто флиртовали друг с другом, иногда мучили и терзали, иногда даже превращались в лютых врагов.
Гонорий начал проявлять ревность к полководцу. Однажды Аэцию пришлось бежать из римского двора и переехать из Италии в приграничную область после того, как повсюду распространились слухи, что император замышляет его убить.
По возвращении стало ясно: привязанность императора к своей сестре переходит все границы. Придворные, мужчины и женщины, молодые и старые, друзья или родственники, но обычаю приветствовали друг друга поцелуем в губы. Но то, как Гонорий целовал сестру утром, днем, а чаще всего ночью, за столом, где пили и ели, выходило за рамки придворного этикета. Более того, он ласкал ее так, что все наблюдатели диву давались. Из-за сплетни разразился скандал, и те, кто был предан императрице, стали частично верить слухам. Летописец Олимпиодор говорит о «постоянных чувственных ласках и маленьких поцелуйчиках». Однажды Галла отпрянула в отвращении и смущении, и еще долго между братом и сестрой не стихали взаимные горькие разногласия.
Некоторые сплетницы и болтуньи нашептывали: она с готовностью отвечала на любовные потакания брата и разозлилась только тогда, когда вспыхнул скандал. По моему мнению, хотя такое нередко происходит среди членов правящих семей, я не верю в виновность Галлы. Она же не была рабыней своих желаний, никто не мог управлять ею.
Бедная женщина, ставшая предметом столь бдительного контроля почти в каждой ситуации, которую преподносила ей судьба в короткой, но бурной жизни, казалось, совсем запуталась. Ведь Гонорий был священным правителем империи. А если бы он, опьяненный вином и охваченный противозаконной страстью, действительно потребовал от Галлы провести ночь с ним?! Невозможно представить такое. Но отказать означало бы подвергнуться огромной опасности.
Такова одна версия: она не хотела видеть его, решившись бежать, как бежал сам Аэций из-за непредсказуемых сумасшедших выходок императора. Галла надеялась, что он забудет ее, новая страсть вскружит Гонорию голову и поселится в его сердце.
Так, одной безлунной ночью Галла взошла на корабль, направлявшийся из Равенны в Константинополь, со своим трехлетним сыном Валентинианом и маленькой Гонорией, которую держала на руках. В Сполето, который находится на другом конце Адриатики, к ним присоединилась небольшая группа солдат. На одном был отличительный ярко-красный плащ полководца.
— Как всегда, вовремя, Аэций, — заметила Галла, когда он поднимался на борт во главе своего отряда.
Аэций легко спрыгнул с трапа.
— Как всегда, для вас, ваше высочество.
Галла отвернулась в темноту и улыбнулась.
Глава 8
Новый Рим
Аэций и Галла вместе прибыли в Золотой Город — Константинополь.
Как рассказать об этой величественной метрополии, этом городе сияющих башен и золотых соборов, царственных монументов и гладких мраморных тротуаров? Он вольготно раскинулся в бухте Золотой Рог лицом к Босфору, став связующим звеном между двумя материками — Европой и Азией, словно вставшими на колени перед высокомерной столицей подобно данникам. После Рима Константинополь мне нравился больше всех остальных городов. Признаюсь, своей новизной и относительной чистотой возле залитого солнцем Мраморного моря Новый Рим порой затмевал Старый. Тот стал казаться кровавым и продажным, запятнанным долгими веками и темными человеческими желаниями.
В то время Константинополь считался миллионным городом, обладающим самой замечательной природной бухтой в мире. Основанный Константином Великим почти два столетия назад, он расположился на месте древнегреческого рыбного порта Византии, был объявлен новой столицей Римской империи. Его назвали в честь императора — Божьего помазанника. Константин никогда не слыл человеком ложной скромности.
Гордая новая столица стала городом фантастического богатства и монументальной архитектуры. Об изобилии ее морей ходили легенды. Говорили, стоило только закинуть сеть, как можно было вытащить крупную добычу. Со своими бесплатными больницами, находящимися на государственной службе докторами и учителями, денежными средствами, выделяемыми на общественные развлечения, улучшенной почтовой системой, процентами, налогами, таможней и акцизами, уличным освещением, политикой фиксирования цен и неистощимой одержимостью спортом, Константинополь и в самом деле являлся современным городом.
Прежде всего, византийцев объединяло три вещи: христианская вера, римское подданство и страсть к гонкам на колесницах. Последнее означало, что каждый человек, начиная от императора и заканчивая нищим, был либо в партии «голубых», либо в партии «зеленых». Все зависело от того, какую команду он поддерживал. И горе обрушивалось на того, кто оказывался в толпе фанатиков-противников на темной аллее в день гонки…
Константинополь также стал городом бесконечных теологических диспутов. Пока, если говорить языком истории, происходили восстания черни из-за голода, несправедливости и жестокого гнета, византийские жители бунтовали против некоторых положений христианской религии или порядка литургии. Гневаясь, различные императоры принимали участие в этих спорах, пытаясь понять трудности и предложить новые доктрины, которые объединили бы яростных оппонентов. «Афтартодокетизм» — так называлось одно из учений, разработанное старым Феодосием Великим, но поддержки оно не получило. Христиане оставались такими же раскольническими и беспокойными, как команды гонок на колесницах.
Не случилось ли несколькими годами раньше, в 415 году от рождества Христова, что талантливая Ипатия была растерзана на улицах Александрии толпой диких христиан, подталкиваемой самим епископом Кириллом? Ипатия, астроном, поэт, физик и философ, считалась одной из самых одаренных женщин своего времени. Но она придерживалась языческих убеждений. Эта женщина никогда не признавала божественной сущности иудейского плотника и могла перехитрить и победить любого, кто вступал с ней в спор, сверкая остроумием и ловко владея критским клинком. В конце концов, христианам надоела ее четкая, продуманная и ясная система скептицизма — и, вероятно, ее интеллектуальное превосходство, возвышенная страсть, тот чистый огонь, который горел внутри нее, жгучее желание знать правду и вера в нечто большее, чем примитивные таинственные палестинские культы. Неопровержимая обоснованность доводов Ипатии, должно быть, приводила в бешенство тех приверженцев собственного слепого абсурда. Они подкараулили ее на улице и забили до смерти. Затем, все еще неудовлетворенные, эти «ученые», исповедующие религию братской любви, соскребли мясо с костей женщины устричными раковинами и бросили остатки окровавленной плоти в грязь собакам, которые уже однажды сожрали грешницу Иезавель, если следовать их запятнанным священным книгам.
Даже теологи жаловались: вокруг слишком много богословия. Великий учитель Западной Церкви, святой Григорий Нисский в отчаянии заявлял, что невозможно даже купить буханку хлеба в Константинополе и не быть втянутым в теологический диспут с булочником об истинных взаимоотношениях между Отцом и Сыном. Далее он продолжал: «Меняла станет говорить о Рожденном и Нерожденном, а не давать тебе деньги, а если хочешь принять ванну, банщик заверит тебя — Сын, несомненно, происходит из ниоткуда».
Бедный Григорий неохотно принял назначение епископом города по указанию старого императора Феодосия, но прослужил лишь год, а затем бежал в родную деревню и превратился в отшельника.
На улицах с тесно прилегающими друг к другу домиками, покрытыми красной черепицей, откуда доносились споры о богословии, можно было оказаться свидетелем вавилонского столпотворения — услышать греческое и сирийское, латинское и арамейское, персидское и армянское наречия. К тому времени в императорской армии появилось несколько готов. Но из-за длинных и нескладных рук и ног, а также отталкивающих красных лиц, неприятных светлых волос и холодных голубых глаз их повсюду презирали как чужой народ.
Богатые ехали в повозках под балдахинами с бахромой, которые тянули пары молочно-белых мулов. Караваны верблюдов наводнили рыночные площади. Они шли из Персии, Индии или по Шелковому Пути из Китая. (Вскоре обороты этой торговли явно уменьшились, когда один предприимчивый купец провез контрабандой несколько куколок тутового шелкопряда из Согдианы, и в Византии началось производство шелка). Зерно доставляли через Александрию, из богатых амбаров Египта, а древесину, меха и варварские янтарные драгоценности — с юга, из скифских степей и лесов Германии.
На городском форуме стояла гигантская статуя Аполлона с головой
Константина на колонне из красного порфира. От форума вела главная улица Константинополя, Меса. Она протянулась на три мили до Золотых Ворот в Великой стене города. Туда, где самые богатые ювелиры и парфюмеры разместили свои магазины, приходили за покупками знатные византийские патриции и матроны. В прохладных мраморных аркадах, увешанных баснословно дорогими рулонами цветного шелка, или у маленьких кустарных кожевенных мастерских они любили приобретать куски самого нежного шелка и самые изящные кошельки, сделанные из шкур неродившихся козлят. Хорошо известно, что у богатых есть особая склонность к таким вещам.
Повсюду царили суета, благополучие и изобилие. Конечно, при наличии денег…
Бедняки и нищие влачили свое существование в вонючих переулках, где коршуны парили над кучами мусора, а крысы кусали детей по ночам. Истинная сущность Сына мало волновала этих жителей, а от драгоценностей и шелка они были еще дальше.
Галла приехала в тот день, когда в городе еще не стих одобрительный гул по поводу торжественного триумфа после поражения вечно наводящих страх на восток персидских армий. После этого состоялась женитьба молодого императора Феодосия II на прекрасной невесте.
Феодосий был племенником Галлы, и он ей нравился. В то время ему едва исполнилось двадцать лет. Это был мягкий и образованный человек, хороший наездник. И в науке юноша обладал знаниями выше средних. У Феодосия в войсках числилось несколько способных полководцев, и могущественная персидская династия Сасанидов недавно обнаружила, что легионы Восточной Римской империи являлись чем-то большим, чем просто достойным соперником.
Но имелась еще и старшая сестра Феодосия — грозная, набожная, убежденная в необходимости хранить невинность Пульхерия. Она сильно влияла на византийский двор.
Двор и дворцы, как никакое другое место, полнились слухами. Говорили: несмотря на свою громко афишируемую девственность, Пульхерия, судя по всему, проводила немало времени с любимыми христианами и священниками в личных покоях. Но больше всего слухов ходило вокруг Нестора и его сподвижников, являвшихся по ряду причин, в которые не слишком неинтересно вникать, теологическими врагами сестры Феодосия. Но все эти основания для разногласий можно считать такими же сплетнями, как и инцест Галлы со своим братом.
Зимой 414 года двенадцатилетний Феодосий вступил на престол Восточной империи. Пульхерию (достигшую пятнадцатилетнего возраста) объявили официальной опекуншей брата и стали называть «Августа». Думали, что этот титул — просто название, и не более. Но с того момента юная девушка начала властвовать, и ей успешно удавалось держать в своих руках бразды правления процветающей и невероятно богатой Восточной Империей последующие тридцать шесть лет.
Ее брат, повзрослевший и набравшийся мудрости, вовсе не был глупцом, как я уже говорил. Это не Гонорий. Образованный, мягкий и гуманный, Феодосий увлекался рукописным шрифтом в различных витиеватых, тщательным образом составленных, манускриптах, за что получил прозвище «Феодосий Каллиграф». Все правители Восточной империи приобретали прозвища подобным образом. Например, одному не слишком повезло называться «Константином Копронимом» после того, как тот нечаянно упал в нечистоты в купели, где его крестили в младенческом возрасте.
Под суровым оком Пульхерии императорский дворец фактически превратился в женский монастырь. Всех мужчин выдворили из женских покоев. В четко распланированном и длительном ритуале в Святой Софии, во время постоянных песнопений в окружении запаха ладана, присутствовали лишь она и ее сестры — Аркадия и Марина. Обе были преданы идее сохранения своей невинности перед Богом. Возле алтаря возложили драгоценности — некий символ долга перед Небесами. В течение нескольких часов уличные бродяги из простонародья и разносчики на Агоре посмеивались, услышав о нововведении, поговаривая, что это вовсе не подношение, поскольку никто, кроме Бога, не захочет их девственности. Грустно, но факт: сестры императора с длинными и неприветливыми лицами и плоскими бюстами (очевидно, что-то наподобие женской груди у них напрочь отсутствовало) явно не являлись предметами обожания в то время.
Не потворствуя никаким слабостям плоти, Пульхерия вряд ли ощутила восторг, когда в мрачный и замкнутый императорский двор вошла, танцуя и смеясь, новая девушка — без преувеличения, само очарование. Та, которой было суждено стать императрицей. Красивым оказалось даже ее имя — Афинаида. Смех, живой взгляд, остроумие и улыбки, блестящие черные волосы, ниспадающие волнами на плечи, изгиб бровей, тонкая шея, взгляд из-под иссиня-черных ресниц, похожий на черный мед — все это приковывало внимание. Покачивающиеся бедра, когда она плавной походкой куда-нибудь двигалась, лишали дара речи и, дразня и маня.
Афинаида — самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.
Глава 9
История Афинаиды
Она была не просто красива. Нужно больше, чем обычная красота, чтобы не только поразить душу человека, но и удержать его.
Впервые девушка появилась в императорском дворе после судебного процесса — яркая и страстная в гневе, который обуял ее из-за ошибки правосудия, невероятно гибкая, полная глубочайшего презрения к тем, кто, по ее мнению, пытался обмануть ее с причитающимся ей наследством. Тогда ей исполнилось всего восемнадцать лет.
Афинаида была дочерью выдающегося замечательного философа из Афин по имени Леонтий. Говорили, в нем горел тот чистый, ясный свет, озаривший Афины много лет назад, в дни, когда Лицей и Академия обрели второе дыхание. После смерти Леонтия огласили волю старика, согласно которой все переходило двум старшим сыновьям. Дочери, которую отец любил больше всего на свете, он не оставил ни гроша. Сначала Афинаида пыталась уговорить братьев, но те лишь смеялись и издевались над сестрой. Они всегда обижались, что отец любил дочь больше, чем сыновей. Поэтому девушка явилась в высший суд Восточной империи — в суд Императорского Правосудия в Константинополе — и предстала перед ним. С нею не было ни одного адвоката или законника.
— Я не могла себе этого позволить, — сказала она просто, но с достоинством. Девушка стояла возле разинувших рот судей, одетая в обычную белую столу, перехваченную на талии узким кожаным поясом. — Я буду сама вести свое дело.
Это была правда. Тетя Афинаиды, пожилая сестра Леонтия, еле-еле наскребла маленький кошелек серебряных монет, которых хватило только на поездку из Пирея в Золотой Рог.
Волю покойного вновь зачитали перед судом. Разделив поровну имение между двумя сыновьями, Леонтий сделал лишь лаконичную приписку для дочери: «Афинаиде я не оставляю ничего. Ей и так повсюду будет способствовать удача».
Афинаида вздрогнула, когда услышала произнесенные вслух жестокие слова отца. Затем, взяв себя в руки, начала говорить.
Через некоторое время послали за самим Феодосием. Тонко мыслящему императору должно было понравиться столь невиданное доселе зрелище.
К удивлению собравшихся легатов и священников, советников и преторов, эта юная девушка доказывала свою правоту в базилике, словно опытнейший ритор или адвокат, знающий закон вдоль и поперек. Она хорошо понимала четыре древних раздела римского законодательства: закон, право, обычай и предписание. Афинаида свободно дословно цитировала старейшие авторитетные источники: самые туманные императорские декреты, целый параграф из гражданского права, которое знала как свои пять пальцев, «Речи» Цицерона и «Риторические наставления» Квинтилиана, «Дигесты» Ульпиана и «Исследования» Папиниана, покрывшиеся пылью и полузабытые трактаты, редкие и неоднозначно толкуемые места из «Ответов». Даже упомянула «Против Боэция» Демосфена, введя научное язвительное отступление о том, почему великий афинский оратор все-таки был прав, даже когда греческий закон сильно расходился с римским.
— Ведь законы, как и люди, рождены для того, чтобы умереть, — говорила Афинаида. — Лишь справедливость бессмертна.
Невозможно сказать, что лишило дара речи собравшихся почтенных седых старцев — очаровывающая мягкость и четкость голоса девушки, ее ослепительная красота или потрясающая эрудированность. Видимо, дело в невероятном сочетании всех трех качеств. Но присутствовавшие в суде риторы не могли произнести ни слова. Некоторые из сидевших на твердых каменных скамьях уже стали подумывать, как хорошо было бы заполучить в жены эту бесприданницу из провинции. А остальные начали терзаться, что уже приняли обязательства по отношению к другой женщине много лет назад, и брак не утратил своей силы.
Неслыханно, но девушку учили так же, как юношу. Сам Леонтий, имевший свою оригинальную точку зрения на воспитание детей, изложенную в завещании, занимался образованием дочери.
Стройная афинянка цитировала даже Священное Писание христиан, хотя и не была крещена в Церкви истинной, и с детства ей прививали языческие взгляды. Афинаида привела в пример дочерей Салпаада из 6 и 7 стихов 27-й главы книги Чисел: «И сказал Господь Моисею: Правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их…»
Цитата из Священного Писания, столь сложная и малопонятная, заставила многих священников из того собрания великих умов заерзать на скамье и обратиться к Библии за разъяснением.
Доводы Афинаиды подошли к концу, и она молча стояла, ожидая решения старцев.
Если бы суд посчитал заключения ошибочными, то девушка оказалась бы на улице без единой монеты. Она была такой красавицей, что стало ясно, как сложится ее судьба дальше. Некоторые из седовласых участников ассамблеи даже начали тайно рыться под одеждой в кошельках, желая знать, сколько там монет. И они бы поспешили за Афинандой и сделали щедрое предложение уже на ступеньках суда…
Наконец, после приглушенного обсуждения в тесном кругу законников, Феодосий поднялся, чтобы огласить вердикт. Он прокашлялся и уверенно посмотрел на девушку.
— Я считаю волю Леонтия неоспоримой, — сказал император.
Те, кто был там, писали, что, даже произнося подобные слова, он, казалось, стал выше ростом и более серьезным. Как будто за те несколько кратких минут в суде Феодосий превратился в сильного и решительного человека. Именно так и случилось: юноша вырос, ведь он первый раз в своей жизни влюбился.
— Леонтий, твой мудрый и дальнозоркий отец, был прав, — продолжал император. — Тебе не нужно никакого наследства. Ты сможешь хорошо прожить сама.
Глаза Афинаиды вспыхнули темным гневом, но она промолчала.
— Ты уйдешь из зала суда без денег, как и пришла сюда, — сказал Феодосий. Он, казалось, хотел сделать приговор более жестоким. Придворные услышали слова императора и посмотрели на девушку. Ее лицо выражало решимость и отчаяние одновременно.
Не произнеся ни звука, Афинаида повернулась к выходу.
— Однако, — окликнул ее Феодосий, и его голос смягчился, — если ты согласишься стать моей женой, то перестанешь беспокоиться о своей бедности.
Девушка остановилась. Она стояла, по-прежнему склонив голову, спиной к императору вопреки всем правилам этикета.
В зале суда воцарилось молчание.
Любая другая девушка в ее ситуации немедленно дала бы согласие, упала бы к ногам императора и тихо плакала от переполнявшего душу чувства благодарности. Но Афинаида не была любой другой девушкой.
Она посмотрела молодому императору в лицо, снова нарушив все правила придворного этикета. Афинаида увидела перед собой в первый раз не абстрактный символ власти и могущества, некое позолоченное изображение, а человека из плоти и крови, одетого в легендарный темно-красный пурпур, не живого бога в ослепительном золоте, а молодого, цветущего, немного долговязого юношу с тонкими чертами лица и близорукими глазами — умными, симпатичными и полными тоски. Вероятно, от девушки не укрылись его меланхолия и одиночество — непременные спутники императоров и властителей.
Ей неожиданно пришло в голову, что в такого мужчину она могла бы влюбиться.
— Я подумаю об этом, — ответила Афинаида.
Не говоря больше ни слова, без единой монеты в кошельке, она повернулась и исчезла из зала суда.
Афинаида шла по улицам Константинополя как во сне.
Все это… Все это могло бы принадлежать ей… Императрица половины Римской империи! Какая у нее будет власть и богатство! Сколько добра она бы сделала! Но тогда придется отказаться от всей языческой философии, многовековой глубочайшей научной системы и борьбы греков, покориться погружению в ту странную азиатскую религию чудес, крови и человеческих жертвоприношений, которую сейчас исповедовали правители империи.
Что бы сказал отец? Он, вероятно, был мудрее, чем думал сам.
Афинаида стояла в центре города, той переполненной площади Августейона, окруженном четырьмя монументальными зданиями. Они, казалось, воплощали душу человечества во всем ее благородстве и слабости, начиная от великодушия, возвышенности и порядочности и заканчивая самыми темными и низкими чертами человеческой натуры. С одной стороны находились большой комплекс Мегапалаций, императорский дворец и суды, откуда Афинаида только что вышла. С другой — величественный Сенат. С третьей — красивый храм Святой Софии, Священной Мудрости. А с четвертой — ипподром, арена для гонок на колесницах между давними соперниками, партиями «синих» и «зеленых». Почти каждый день бедняки толпились в этой внутренней части города, чтобы понаблюдать за своими командами, стремительно несущимися в пыли. Порой колесницы становились кучами поломанных осей, покалеченных людей и хрипящих лошадей. Иногда там же затевались драки, зрители размахивали кулаками после того, как соревнование было выиграно, вытесняя какого-нибудь жалкого одинокого болельщика из рядов противника во влажную тенистую аллею и отрезая в качестве предостережения ухо, нос или палец…
Афинаида посмотрела на четыре внушительных здания. Казалось, они стали вращаться вокруг нее. Девушка вздрогнула и ушла с площади.
Афинаида направилась на запад, к Месе, которая тянулась по всему городу, словно блестящая мраморная артерия — одно из чудес света. Она миновала изумительный овальный мощеный мрамором Форум Константина и возвышающуюся в центре на сотню футов колонну из порфира, привезенную на корабле из Египта — из Гелиополиса, Города Солнца. (О, все это, как всегда, залитое солнцем, оживает сейчас перед моими глазами. Я, Приск, хорошо знал Константинополь, и никогда, никогда не смогу увидеть свой любимый город снова!) В цоколе, в основании колонны, находился топор — с его помощью Ной построил ковчег. Там имелись корзины и остатки хлеба, которым Христос накормил множество людей, и, в знак уважения к древнему происхождению — статуя Афины, доставленная из Трои в Старый Рим самим Энеем.
На вершине колонны, где летали только птицы и ангелы, посматривая на крыши домов, располагался еще один памятник. Тело принадлежало Аполлону, вылепленному рукой Фидия, но голова, окруженная нимбом в виде лучей солнца, являлась головой императора Константина, правителя всей Земли, что находилась под небесами.
Как казалось, здесь собиралась половина жителей города: огромная бушующая толпа шлюх и перекупщиков, торговок рыбой, продавцов инжира, торговцев певчими птицами, точильщиков ножей, карманников, мошенников и прочих низших людей общества. Хуже всего были банды детей-воров с блестящими яркими глазами и ловкими маленькими пальчиками. Они напоминали грызунов, желающих непременно сделать в тайнике запасы на грядущую зиму.
В углу мужчина с грубым голосом читал громко вопящей толпе неграмотных слушателей скандальную ежедневную газету-листок «Деяния римлян». Люди хрипло закричали, когда тот объявил, что сегодня день рождения одного из несовершеннолетних членов императорской семьи. Особое возбуждение вызвали новости из раздела, озаглавленного «Преступления, наказания, свадьбы, разводы, смерти, предзнаменования и другие факты». Слушатели были тронуты до слез, узнав о недавней смерти святой равноапостольной Феклы в Азии, пустыни возле Никополиса. Она была отдана на растерзание диким зверям злым императором-идолопоклонником, но ее непорочные последователи стали кидать цветы на арену, чтобы успокоить животных. Затем святую Феклу бросили в озеро с хищниками, но те погибли от удара удивительной молнии. Блаженная крестилась в воде и позднее жила более ста пятидесяти лет в пещере, поедая лишь ягоды можжевельника. Туда приходило много больных, хромых и слепых, и она всех исцелила. Теперь святая Фекла отошла в лучший мир. Толпа набожно крестилась и молилась, чтобы святая, оказавшись на Небесах, помнила об оставшихся на земле.
Слушателей захватила история о вороне, недавно нашедшей себе пристанище на рыночной площади возле церкви Святого Апостола Иакова. Очевидно, птица, ко всеобщему изумлению, превосходно говорила по латыни и привлекала странников из самых дальних уголков света. Но, увы, ворону до смерти забил взбешенный продавец обуви за постоянные испражнения на его палатку. Другие торговцы на рыночной площади устроили этому продавцу хорошую взбучку и оплатили богатые похороны для вороны.
Подобная абсолютная чепуха восхищает необразованную чернь. Толпа замирает от ужаса или взрывается громкими раскатами смеха. Таково городское население во всей своей неприглядности.
В другом углу монах-безумец стоял на перевернутом деревянном ящике и обращался к маленькой, но преданной аудитории. Афинаида остановилась, желая послушать, и поняла, что тот открыл перед собой тайную Книгу пророчеств. Автор встретил Сына Божьего в пустыне, и тот был ростом девяносто шесть миль, а длина Его ступней достигала четырех милей. Рядом с Ним шла похожая обликом Святая Сестра. Пророк советовал использовать пыль и кровь жаб для лечения болезней кожи, а далее в течение сорока дней принять крещение для лучшего усвоения полезных веществ.
Мысли Афинаиды вновь вернулись к Афинам, к прекрасной, с фиолетовым оттенком цитадели Пиндара, и девушка увидела, как она меркнет. Что же до великих, многочисленных и фанатичных городов Востока, то они непрерывно растут вширь. Культ Афин, культ разума и свободы слова, исчезает из-за появления странных вероисповеданий и молитв; приступов экстаза у отдельных людей в маленьких и темных часовнях, наполненных фимиамом и погруженных во мглу.
Афинаида прошла через близлежащий Форум Феодосия, возле Амастриума, огромного Акведука Валента и церкви Святых Апостолов. Спустя некоторое время Меса тоже осталась позади, и девушка оказалась в темных аллеях города, ведущих на север. Она направилась к грязной маленькой колоннаде, носящей величественное название «Портик торговцев чечевицей», а затем к еще более запачканному портику книжников и продавцов книг. Там продавали вульгарные рассказы низшего качества, именуемые «романами» — самый никудышный и жалкий из всех литературных жанров, авторов которых никогда не посещала ни одна муза. Они никогда не будут пользоваться уважением.
Афинаида на минуту задержала взгляд на нечистых обложках, обычно переплетенных страницами, чем они и отличались от традиционных тонких свитков. Один чумазый, в чернилах и бедный торговец на вид попытался продать ее «Настоящие и поразительные путешествия по всей Лубриции, по каждой области, а также под землей». Девушка отвернулась и поспешила дальше.
Оттуда она направилась к краю взбудораженных улиц, затем вошла в аллею Трех Птиц, быстро миновав улицу Туманной Судьбы и пьяниц, засвистевших у вывески «Грустный Слон». Девушка отказалась от их предложения выпить вина, а вместо этого остановилась, чтобы освежиться у фонтана Четырех Рыб, одновременно размышляя, сколько бранных слов начертано на маленьких золотых пластинках, прибитых лицевой стороной вниз на дне фонтана, чтобы только духи могли прочесть их. Вокруг было много надписей, большей частью непристойных, однако Афинаиде не удавалось оторвать взгляд от чтения некоторых из них: «Амариллис — шлюха… Сильвий сосет член… Я поимел девчонку из „Грустного Слона“».
Девушка продолжила свой путь на восток, пока не подошла к Золотому Рогу, где стала смотреть на огромные корабли, бросившие там якорь, на потемневшие от соли красные и синие свернутые паруса, кружащихся чаек, невысокого роста работников, носящих зерно, ткани и амфоры в доки на берегу. Она расслышала всегдашние неприличные восклицания портовых грузчиков во время работы. Затем Афинаида намеревалась снова повернуть на запад, но решила немного отдохнуть, прислонившись к стене, вытащить ногу из пыльной сандалии и растереть ее пальцами.
Кто-то положил ей руку на плечо, приблизился к уху и пробормотал, дыша вином:
— Я бы дал тебе отличную жареную перепелку за это, красотка, или даже силок с ними. Да, вот так!
Афинаида снова обула ногу в сандалию и выпрямилась, сбросив руку незнакомца со своего плеча, словно та была мухой-паразитом. Она посмотрела вниз и увидела сгорбленное, близорукое, небритое, усмехающееся создание.
— Перепелку? — переспросила девушка в недоумении.
— Или силок с ними! Да, теперь я вижу тебя спереди, такую гордую… Все чудесно.
Ручеек слюны потек по покрытому щетиной подбородку говорившего.
— Ты могла бы стать как бы моей свеженькой молодой женой на часик. За углом моя закусочная.
Старик мотнул головой, и слюна взлетела в воздух. Афинаида прижалась к стене.
— Туда, давай, — сказал он. — Моя жена на рынке.
Казалось, его ноги дрожали от нетерпения, а голос приобрел странное звучание. Руки затряслись под туникой.
— Нагнись вперед, к печке для хлеба, и я задеру твои юбки, запущу свои ладони в прекрасные черные волосы…
Афинаиде почудилось, что она сейчас упадет в обморок.
Внезапно мужчина повернулся и поднял руки, защищаясь от нападения костлявой старухи с палкой. Та сотрясала воздух невообразимой нецензурной бранью. Афинаида закрыла уши ладонями, но все-таки слышала, как грязно они ругались между собой.
Мужчина говорил не менее отвратительные слова, чем женщина, но под сильными ударами ее палки начал отступать, потом, наконец, сдался и помчался в темноту своей закусочной на углу улицы.
Женщина воткнула палку в землю и прислонилась к ней, согнувшись почти вдвое и глотая воздух после невероятного физического напряжения.
Афинаида неуверенно взглянула на нее.
Старуха, закряхтев, снова выпрямилась и посмотрела на девушку своим одним видящим глазом, второй был молочно-белого цвета.
— Где твой защитник, девушка? — гневно спросила она. Голос оказался грубым, а дыхание — хриплым. — Знаешь, тебе нельзя просто так бродить здесь! Ты здесь в такой же безопасности, как овечка в лесу, полном волков.
— Я… я одна, — произнесла Афинаида.
— Ты молодая глупышка, — ответила женщина. Она нащупала в своей старой шерстяной одежде батон и протянула его. — Он твой за монету.
Афинаида покачала головой:
— У меня нет денег.
Женщина посмотрела на нее внимательнее:
— В чем дело?
— Не могу сказать.
— Гм. У тебя был богатый муж, пока он не пришел однажды поздним вечером домой и не обнаружил тебя в постели с одним из армянских рабов, лежащим между твоих ног и показывающим луне свою задницу.
— Вовсе нет! — воскликнула с негодованием Афинаида. — В любом случае, это не твое дело!
— Гм, — ответила старуха. Она разломила батон на две части и засунула целую половину в свой морщинистый рот. Потом начала жевать единственным оставшимся передним зубом. — Ты выглядишь уставшей, — пробормотала старуха с набитым ртом.
Афинаида опустила глаза.
— Немного.
Старуха подумала и положила вторую половину батона в руку девушки.
— Держи, дорогуша, — захихикала она. — Вот уж не знала, что займусь благотворительностью!
Афинаида оглядела старуху сверху вниз, начиная с запачканной шерстяной шапки, из-под которой торчали тонкие седые волосы, и кончая ногами, сморщенными и покрытыми трещинами.
— Давай, — настаивала она. — Тебе нужно поесть.
Афинаида взяла хлеб и медленно стала его жевать. Он оказался удивительно вкусным.
— Там внизу булочник, он дает мне буханку или что-то вроде нее каждое утро. Да благословит его Господь!
Девушка кивнула и проглотила остатки. Закончив, она спросила:
— Ты живешь где-то поблизости?
Старуха ухмыльнулась, показав свой единственный зуб горчичного цвета. Она махнула через улицу в сторону арок, и, просияв от радости, сказала:
— Мой дом.
Афинаида улыбнулась.
— Спасибо за хлеб.
— Не стоит, дорогуша.
Девушка пошла прочь, но старуха окликнула ее:
— Твой путь лежит в Метаною, моя девочка. Дом покаяния — единственное место для тебя сейчас.
Девушка бродила по городу всю вторую половину дня. Ей хотелось пить, и один из безымянных бедных, слепой и безногий попрошайка, сидевший возле фонтана Святого Иринея, наклонил свой кувшин с трещиной, чтобы она утолила жажду.
Затем Афинаида пошла в темную пещеру церкви Святого Стефана и увидела в мерцающем свете свечи знаменитую икону Феотоки Паммакариста Счастливой Матери Божьей. У нее оказалось отвлеченное и безмятежное выражение лица, отстраненное от нищеты и неприятностей города и всего мира. Золотая, поеденная червями рамка, откуда она смотрела, была покрыта поцелуями, оставленными губами шлюх в красной помаде. Те приходили сюда каждый день из любви к иконе. Проститутки почитали ее и тихо говорили с ней, словно с великодушной всевидящей матерью на Небесах, стоя на коленях многие часы в благоухающей темноте. Их губы были по-прежнему ярко-красными, под глазами виднелись синяки, а запах последнего клиента еще не смыт.
Афинаида сидела на лестнице при выходе с церкви, размышляя о непостоянстве удачи и мечтая о спелом и сочном винограде, когда у нижней из ступеней остановился позолоченный экипаж, который тянул единственный белый мул, покрытый малиновой попоной. Дверцу отворил один из шести похожих на изваяния невероятно дорогих рабов-нубийцев, сопровождавших повозку пешком и одетых в ослепительно белые туники. Оттуда вышла хозяйка города, та, что держала бесчисленное количество «шептателей» в своем величественном особняке, где маленькие обнаженные мальчики-рабы забавляли богатых патрицианок, принося им миндаль и цукаты, шепча хвалы и сладкие пустячки в их уши, украшенные жемчужными серьгами.
На этой женщине был великолепный плащ из шелка темно-синего цвета, с отделкой из парчи, с нитями жемчуга и золота, изображающий чудесную жизнь и смерть мученика из числа ее любимых святых — Поликарпа, епископа из Смирны. Он появлялся на трех разных вышитых вставках: привязанный к столбу, заколотый мечом и, наконец, сожженный. Это был плащ работы удивительно искусного мастера. Более того, у этой женщины дома имелось достаточно много подобных изделий, на каждом из которых присутствовали изображения какого-то любимого святого — лучше всего, мученика. В общем, она предпочитала, чтобы святые являлись и страстотерпцами, поскольку вышитые иллюстрации их смерти, исполненные с помощью жемчужных и золотых нитей, казались сложнее и производили неизгладимое впечатление.
Самым любимым, наверное, был плащ насыщенного изумрудного цвета, на котором изображалось драматическое мученичество святого Игнатия Антиохийского, брошенного на растерзание львам в Колизее в правление императора Траяна. Дама с нетерпением ждала праздника, 17 октября, когда облачалась в плащ без гордыни, не боясь нарушения приличий. Более того, на пальцах та женщина носила множество массивных золотых колец, украшенных ценными камнями или покрытых эмалью. В один из них, внутри крошечного медальона, был вложен локон светло-желтых волос Иоанна Крестителя.
Да, то была великая праведница.
Как только она начала подниматься по ступеням церкви, которой сама оказывала столь щедрую поддержку, двое из рабов подхватили край плаща с пыльной земли, а впереди неожиданно появилась девушка с улицы, полная отчаянной решимости.
Женщина изогнула свои аккуратно подведенные брови.
Афинаида протянула руку и сделала глубокий вздох, желая что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова.
Женщина быстро оглядела ее сверху вниз и поспешно отвернулась в сторону.
Афинаида снова встала перед ней и посмотрела прямо в глаза.
Дама была возмущена.
— Прочь с моей дороги, потаскуха! Да как ты осмеливаешься на меня так смотреть?!
Девушка мягко улыбнулась.
— Скоро придет день, когда ты не осмелишься смотреть на меня.
Патрицианка повернулась к одному из своих спутников в крайнем удивлении.
— Эй, эта девчонка — безумная! Или пьяная, что более вероятно. Уберите ее с дороги.
— Помни обо мне, — проговорила Афинаида по-прежнему тихо, даже когда слуга крепко сжал ее руку и потянул в сторону. — Посмотри мне в лицо и запомни меня.
Праведница, вне себя от злости, посмотрела на дерзкую шлюху, которая была красива — вплоть распущенности и какой-то вульгарности, и, к своему крайнему раздражению, обнаружила: даже во время самых волнующих и захватывающих моментов торжественной мессы, проводимой в церкви Святого Стефана, все-таки она могла достаточно четко вспомнить лицо девушки.
* * *
Уже стемнело, когда Афинаида вернулась на большую площадь у Священного дворца и увидела, как в окнах загорались лампы. Вдруг она ощутила, что стало прохладней. Девушка сжалась, села в углу аллеи и начала размышлять. Она не могла пойти попрошайничать к той массивной двери. Пока еще нет. Но город действительно наводнили стаи волков.
Огромный соборный колокол пробил полночь, на улицах не осталось никого, кроме шлюх, воров и стражей города, согнувшихся возле своих жаровен и завернувшихся в плащи. Вооружены они были длинными заостренными палками, и сами казались столь же жалкими и зачастую пьяными, как уличные бандиты, за которыми они гонялись. Здесь было не очень хорошее местечко для одинокой девушки.
Наконец Афинаида спросила одного из караульных, где находится дом под названием Метаноя. Решив сначала сделать откровенное предложение, но не получив ответа, он недовольно показал дорогу. Девушка прошла несколько минут и оказалась у деревянной двери невысокого здания возле часовни в переулке. Она робко постучала. Через некоторое время окно отворилось, и появилось женское лицо.
Ничего говорить не понадобилось. Почти тут же дверь открылась, и Афинаида вошла внутрь.
Там девушка провела семь дней. Среди проституток Дома Метаноя, или Дома раскаянок, за ней ухаживали бессловесные и безгранично добрые монахини, часто — дочери знатных дворян, которым не готовили приданого, чтобы выдать замуж.
Афинаида ела, спала и коротала время за разговорами с этими шлюхами, молодыми и старыми, изможденными, одинокими или все еще смеющимися, несмотря на безнравственный образ их короткой жизни и вопиюще несправедливое отношение. Покрытые болячками, со шрамами, полученными во время пьяных потасовок, с еще свежими синяками, оставленными накануне последним клиентом, они наконец бросили все и бежали сюда в поисках убежища.
Девушка рассказала о себе. Другие женщины тоже вскоре поделились историями о своей жизни. Пока они, запинаясь, снимали тяжесть с души, глаза Афинаиды становились круглыми от ужаса.
Она многое узнала за эти семь дней.
* * *
Наступили сумерки следующего воскресенья, когда девушка вновь предстала перед огромными дверями императорского дворца — прекрасная незнакомка в простой белой столе.
Сколько разных домашних слуг, евнухов и камергеров ей пришлось пройти и сказать каждому: «Сам император ожидает меня». Сколько было презрения, недоверчивых смешков, нетерпения, безразличия…
Наконец, через много часов, Афинаиду допустили в переднюю и велели ждать.
Вскоре в комнату вошел человек, закрыл за собой дверь и посмотрел на девушку — молодой мужчина, напряженный, добрый. Но ему еще предстояло немало узнать.
Он не мог произнести ни слова, поэтому Афинаида приблизилась к императору.
— Ты знал, что я вернусь, — сказала она с поддельной обидой. — У меня был выбор?!
— Я, — ответил он, — я… — Он нерешительно взял ее руку в свою. — Нет, но я надеюсь, что будет.
* * *
Пожилому, страдающему артритом, но по-прежнему энергичному епископу Аттику велели заблаговременно обучить молодую язычницу основам христианства перед ее крещением и последующей свадьбой. Епископ был крайне удивлен, обнаружив, что девушка — умная, живая, красивая, как одна из дьяволиц, которые искушали святого Антония в пустыне Фив. Она знала не только основы христианства, а гораздо больше. Он оказался весьма поражен, ибо стало очевидно: Афинаида, прежде слушая и понимая Евангелие, излагаемое предельно ясно и с точки зрения Православной Церкви, после длительных раздумий отказалась от него, посчитав неверным. Как будто язычница по-прежнему находилась в том блаженном состоянии, когда человек не задумывается о природе своих собственных тяжких грехов, и единственное, чего хочет, — это очищения в крови ягненка, который был принесен в жертву!
Аттику приказали слишком не усердствовать. Поэтому он быстро еще раз пробежался по основным доктринам истинной Церкви, позволив себе лаконичные, но резкие высказывания относительно внушающих ужас и вызывающих порицание религиозных взглядов ариан, монофизитов, иероконодулиан и других еретиков. Епископ не успокаивался до тех пор, пока не убедился, что девушка, не выражающая никаких эмоций и не проявляющая особого рвения, может сама, без напоминаний, перечислить их.
Она крестилась в маленькой часовне дворца, где получила новое имя Евдоксия, гораздо более христианское, нежели явно языческое Афинаида. Одна из приближенных случайно обмолвилась после обряда, что имя Евдоксия казалось ужасным, а Афинаида — очень красивым. Грозная сестра императора Пульхерия бросила на нее такой взгляд, который своей силой мог повалить ливанский кедр.
Придворная дама покинула дворец на следующий день. Евдоксия принимала все кротко и с улыбкой. Но наедине (если верить слухам) император называл ее по-прежнему Афинаидой.
Они поженились в седьмой день июня, в 421 году от Рождества Христова, в величественной прямоугольной базилике Святой Софии. Венчал новобрачных патриарх Епифаний.
Евдоксия и Феодосий путешествовали по улицам Константинополя в изразцовом позолоченном экипаже, в который было запряжено четыре белых коня. Герольды и трубачи извещали о процессии, люди выскакивали из домов и бросали цветы под ноги императору и его жене. Они возложили почти на каждую статую венок и украсили все двери, через которые проходили новобрачные, миртом, розмарином, плющом и самшитом, устроив почетную церемонию «коронования города».
На Феодосии была мантия из золотой парчи, пурпурные туфли и пояс с изумрудами. Афинаида облачилась в жесткий далматик, усыпанный драгоценными камнями. Индийские жемчужины сияли в ее темных волосах. Спускаясь из императорского экипажа, Феодосий с супругой торжественной и величественной походкой поднялись к приделу собора, озаренного множеством свечей. Зазвучали звонкие хоралы «Господи, помилуй!»
Среди собравшихся была и скромная семья Афинаиды: добрая старая тетушка, оплатившая ее путешествие в Константинополь, и, к удивлению многих, оба старших брата, которые заняли столь непримиримую позицию по отношению к сестре в деле о разделе наследства, оставленного отцом. Теперь они оказались в дальнем углу собора, не веря своим глазам, но наблюдая за свадьбой Афинаиды и самого императора. Братья казались смущенными, но их глаза горели в полумраке величественного храма. Они терзались угрызениями совести, чувством сожаления. А в глубине души явно было понимание: все-таки их сестра обладала невероятно добрым и чутким сердцем, какого у них никогда не было.
С того дня братья целиком и полностью посветили себя ей. И не просто потому, что она стала императрицей.
Среди важных священников и дьяконов, запахов и песнопений, во время всего таинства и символического брачного ритуала причастия, два брата Афинаиды испытывали не меньшую радость в душе, чем остальные. Она покорила их, как и многих в последующие годы, скорее своей добродетелью, нежели силой.
К сожалению, подобное качество встречается совсем не часто.
Императорская пара стояла перед алтарем и патриархом Епифанием с увешанными драгоценностями пальцами и длинными надушенными волосами. Священник повернулся к пурпурным мантиям и диадемам, лежащим на бархатных подушках. Патриарх благословил одеяния, затем их подхватила его свита, накинув на новобрачных и застегнув на золотые фибулы.
Епифаний возложил диадемы на головы Феодосии и Евдоксии со словами:
— Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Собравшиеся запели:
— Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков!
Император и императрица повернулись и стали спускаться вниз, по приделу, проходя через ряды самых знатных и богатых граждан Константинополя. Одной из них оказалась великая праведница, одетая в плащ с несметным количеством вышитых изображений страшных пыток и смерти блаженных братьев Прима и Фелициана, святых мучеников. Другие женщины, стоявшие вокруг, с неодобрением шептали, что она выглядит так, будто пытается затмить собой саму невесту. Но, по правде говоря, это оказалось неправильно: великая праведница никоим образом не являлась столь же красивой лицом, как ей хотелось в это верить.
Когда пара новобрачных проходила мимо, Евдоксия, судя по всему, замедлила шаг, внимательно посмотрела ей в глаза и улыбнулась. Как только праведная дама поняла, что ее узнала сама императрица, она издала негромкий вскрик, прижала ко рту носовой платок и забилась в припадке. Ее тут же перенесли к боковой двери на улицу и сбрызнули святой водой…
После церемонии новобрачные вернулись во дворец, где, сопровождаемые вооруженными слугами и евнухами, вошли через секретный проход и поднялись по винтовой лестнице, чтобы очутиться в Кафизме, великолепной императорской комнате, выходящей окнами на север к ипподрому. Феодосий осенил крестным знамением своих верноподданных, и сотни тысяч людей закричали:
— Да здравствует император! Да благословит Господь императрицу!
Во дворце устроили щедрый свадебный пир, и новобрачные сидели вместе на высоком помосте. Августа Пульхерия была удостоена места ниже. Она ела мало, ничего не пила и все время хмурилась. Когда служанка-рабыня случайно толкнула ее, Пульхерия сильно ущипнула девушку за руку.
Зазвучал гимн Гименею. Специально из Рима по этому случаю привезли на корабле одного из самых замечательных придворных поэтов. Это был Клавдий Клавдиан, родившийся из Александрии. Он уже состарился, но его вдохновение оказалось неподвластным времени, и стихотворения оставались такими же пространными и витиеватыми, как всегда. Несколько гостей просили их извинить во время чтения гимна, которое длилось почти целый час. Что удивительно, их не обнаружили и по возвращении за стол.
Я изложу лишь потрясающие заключительные строки из гимна, где Клавдий просто восхитительно сказал непорочной чистоте новой императрицы, которой суждено было впервые познать мужчину предстоящей свадебной ночью.
После, когда ваши губы покой обретут после огненной страсти,
Ночь набросит покров, и вы в объятьях заснете,
Станет Морфей нежно беречь ваше дыханье, доколе не сменит
Ночь первый проблеск зари — луч юной девственной Эос.
Но и тогда будете рядом на покрывалах,
Царственных ласк хранящих тепло…
Когда Клавдий закончил и вытер запотевший лоб, раздались оглушительные аплодисменты.
* * *
Пока отмечали свадьбу императора и прекрасной императрицы, одна попрошайка, сидя на краю улицы у северной оконечности Месы, обнаружила: какой-то дурак, у которого было денег больше, чем ума, спрятал мешок с крупными золотыми пластинками в коричневое шерстяное одеяло, где она спала. Нищенка подождала несколько дней: вдруг кто-нибудь придет и заберет с угрозами свои деньги. Но никто не явился. Тогда она решила, что Господь ждал, пока ей исполнится семьдесят лет, после чего даровал Свое благословение. Пути Его таинственны и неисповедимы, и богатство теперь принадлежит ей.
У нее появилась возможность снять маленькую комнатку над магазином ее друга-булочника и жить в достатке до конца своих дней.
Тогда же один слепой и безногий как-то вечером нищий сидел и дрожал весь день и всю ночь у фонтана Святого Иринея, натягивая тонкий плащ на костлявые плечи и молясь, чтобы стих холодный азиатский ветер. Внезапно он почувствовал чью-то худую, но мягкую руку на запястье.
Нищий дернулся в слепом удивлении. Рука держала его осторожно, но крепко.
— Кто ты? — прошептал он хриплым голосом. Глаза бегали с места на место в темноте, словно бедняк мог видеть. — Магдалина? Дева Мария?
Нищего посадили в повозку и повезли по улицам. Он знал, что рядом сидела девушка, ангел или даже сама Дева Мария, которая не промолвит ни слова. Они миновали ворота и оказались во дворе. Звук колес, стучащих по булыжнику, отдавался эхом в окружающих стен. Нищего вывели и помыли, раны смазали маслом и перевязали, затем уложили спать в маленькой узкой комнате и укрыли от холода теплыми шерстяными одеялами.
На следующий день молодой человек, угрюмо сообщивший, что его зовут Бракк и он работает здесь, в госпитале для бедных, вынес старика в солнечный сад, огороженный высокими стенами от ветра, дующего с находящегося поблизости моря.
Нищего оставили в беседке, и он сидел там весь день до самого вечера, пребывая в блаженном изумлении, пока в ночном воздухе не стал витать приятный аромат жасмина.
Глава 10
Путешествие в Иерусалим
Я тоже ее знал. Приблизительно в это время, продолжая служить главным писцом в управлении князя Святой Щедрости (титул более впечатляющий, чем само управление, уверяю вас), я был удостоен звания писца в консистории. Это означало, что я обладал информацией обо всех происшествиях, рассматриваемых в Императорском судебном совете.
Через несколько лет усердной службы у некоторых из старших сенаторов или даже самого императора не возникало вопроса, обратиться ли ко мне по данному делу или спросить, был ли уже
прецедент по такому-то и такому-то правительственному решению или указу. В действительности тогда стало казаться, будто я — не просто обычный писец, а ценный советник. По этой причине меня часто отправляли в суд Западной Империи в Равенне, Медиолан или Рим. Там я непосредственно вникал во все тонкости проводимых разбирательств.
Я тоже попал под чары новой и совсем юной императрицы. Какой мужчина мог бы этого избежать?
Вспоминается, как однажды она встретила меня, несущегося по мраморному коридору во дворце Константинополя и опаздывающего на утреннее собрание в консистории (как ни странно, из-за того, что пришлось провести больше обычного времени на стульчаке). В глубине сердца я поспешно клялся чаще есть чечевицу в будущем, когда императрица остановила меня и улыбнулась. Все мысли о стульчаке и чечевице тут же вылетели из головы. Я замедлил шаг, и она невероятно приятным и нежным голосом попросила подойти и написать письмо.
— Ваше божественное величество, — начал я мямлить, — я бы с удовольствием выполнил ваш приказ, но я, я…
Один неизбежный взгляд в огромные темные глаза — и я пропал навсегда. Зная, что заслужу ужасающий выговор за свое отсутствие тем утром в консистории, я смиренно последовал за Евдоксией в личные покои за письмом, представляя, как слова, сладкие, словно мед, льются с ее губ на бумагу. Сердце сильно билось у меня в груди. То была обворожительная чаровница, искусительница, фея снов, от которых никогда не хочется пробуждаться.
Конечно, Евдоксия знала об этом. Рот девушки искривился от изумления при виде моей остолбенелости, безнадежной покорности и слепого желания выполнять каждый ее каприз. Императрица могла бы приказать мне встать на край высокого окна спальни и броситься вниз с третьего этажа. И я бы повиновался. Но, естественно, она бы такого не сделала.
Вероятно, Евдоксия была горда и, без сомнения, довольна своей красотой. А какая женщина ведет себя иначе? Но жестокость? Нет. В страшном мире, в жестоком и прихотливом императорском дворе Афинаида не была жестокой. Она любила все человечество, щедро и не задумываясь одаривая людей теплотой своего сердца.
Афинаида начала диктовать. Мое перо задрожало, и я стал писать…
Когда я мчался, чтобы принести запоздалые извинения за отсутствие тем утром в судебной консистории, высокий и неулыбчивый евнух по имени Никифор помахал мне рукой с длинными пальцами, украшенными кольцами с печатями.
— Императрица уже попросила за тебя прощения, — сказал он. — Ты был нарасхват сегодня.
Больше никто не позаботился бы о простом придворном писаре и не уберег бы его от насмешек. Но такова была Афинаида, любимая и за доброту сердца, и за красоту. Эти качества редко встречаются в одной женщине.
Я потерял из-за нее голову. Иногда мои приятели-секретари и писцы лукаво посмеивались над этим. Но я обожал ее.
Таким был дворец и его обитатели. Когда приехали Галла и Аэций с маленьким кортежем, прошло лишь несколько месяцев после императорской свадьбы. Безлунной ночью они добрались до большой укрепленной крепости с мощными стенами из красного египетского гранита, внутреннее убранство которой отличалось обилием порфира из Птолемеи в Палестине, аттического мрамора, богатых камчатных полотен из Дамаска, слоновой кости и сандалового дерева из Индии, шелков, парчи и фарфора из Китая. Это дворец мечты, где даже ночные горшки были сделаны из чистого серебра.
С беженцами с Запада обращались с невероятной учтивостью — Галла Плацидия и Феодосий являлись прежде всего тетей и племянником. Она приходилась дочерью, а он внуком императору Феодосию Великому. И, вероятно, непорочная Пульхерия стала восхищаться Галлой больше, когда поняла: причиной ее стремительного бегства из Италии было желание уберечь себя от непристойных посягательств мужчины.
Всем предоставили прекраснейшие комнаты в императорском дворце с видом на залитое ярким солнцем море, столь непохожее и далекое от болот и мрака Равенны. Их осыпали подарками из золота, драгоценностями и превосходной одеждой, чему Галла очень радовалась. Аэций, вероятно, не испытывал таких глубоких чувств, но ничего не сказал. Он уже бывал в Константинополе прежде и знал этот старый город.
* * *
В сумерках следующего дня раздался громкий стук в мою дверь.
Я занимался скучной, но необходимой работой для управления Святой Щедрости, точнее, дополнял колонки чисел. Я не мог не желать, чтобы существовал знак… Кажется безумием говорить такое, но я не мог не желать, чтобы существовал знак пустоты, наравне со всеми цифрами, указывающими на некое количество. Специальный символ, определяющий отсутствие числа. Я даже лениво нацарапал круг «О» на краю бумаги для изображения пустоты, вакуума. Облегчило бы это мою работу? Но я снова нарисовал его. Конечно, это глуповатая идея, которая могла бы сделаться лишь объектом насмешек. Но я уже достаточно пострадал от язвительных шуточек друзей-писцов из-за своей сильной привязанности к императрице.
— Входите, — сказал я, не оглядываясь.
Дверь отворилась, и кто-то встал позади меня. Я все еще не поднимал головы. Но, словно подчинившись некоей силе, которую излучал вошедший, я посмотрел назад.
Это был он — мой ученик. Мой дорогой, любимый, высокий, худой ученик с серьезным взглядом. Стратег, коим стал всего в двадцать пять лет!
Прежде чем осознал, что делаю, я вскочил на ноги и обнял его. Конечно, это противоречило всему придворному этикету, ведь обычный педагог из рабов не мог приблизиться к знатному человеку без его приглашения или первым обратиться к нему, тем более — обнять. Но Аэций и я всегда были друг для друга не просто рабом-учителем и лучшим учеником. Он крепко обнял меня в ответ, его голубые глаза светились от радости и, вероятно, от забавных воспоминаний о нашей долгой учебе, которую стратег столь открыто ненавидел.
Мы отступили назад и посмотрели друг на друга.
Было приятно снова видеть его в императорском дворе, пусть даже и на короткое время. Само присутствие Аэция, величественного и сильного, успокаивало, особенно в мире, который казался охваченным ветрами больших перемен снаружи и нездоровых миазмов слабости и безумия изнутри. Новости из Равенны об императоре Гонории не были добрыми. Аэций возвышался над всем этим, словно гранитный столб в бурю — худощавый, энергичный молодой человек с решительным взглядом, твердый.
— Так, — сказал он, положив руки мне на плечи и посмотрев сверху вниз на меня. — Ты сейчас работаешь в Константинополе?
Я кивнул:
— Мое время преподавания закончилось, и я отправил своего самого лучшего, хотя и ленивого, ученика в наш огромный мир. Полагаю, ты хорошо помнишь все уроки по логике? И три категории: показательную, убедительную и софистическую?
— Только ты сам помнил их в конце своего третьего десятка, — ответил Аэций, хлопая меня по руке. — А говоришь, как престарелый педант уже.
— Уже говоришь, как престарелый педант, — поправил я его. — Пошло неправильно расставлять слова в предложении.
Аэций улыбнулся:
— То немногое, что я усвоил из логики, давно забыто. Кстати, — добавил он, и улыбка стала шире, — огромный мир, куда ты отправил меня, редко подчиняется своим же законам.
Я выглянул из окна и посмотрел на мерцающий Золотой Рог. Чайки кружились низко в сумерках далеко за отмелью.
— После того как ты ушел на границу изучать воинскую службу, меня отстранили от двора Гонория и послали на восток. Тут тихо и мирно.
Я снова поднял глаза на Аэция.
— А ты? У меня больше нет важных новостей. Но ты-то как? Какие у тебя новости?
— Я слышал, император женился, — пробормотал Аэций. — Новостей предостаточно, так мне казалось.
— Ах, да, — сказал я. — Афинаида.
— Ты говоришь о ней так, как мужчина говорит о своей возлюбленной.
— Шшшш! — зашипел я, взволновавшись. — Даже не шепчи такие вещи!
Аэций засмеялся. Я посмотрел на него. Хорошо ему ничего не бояться! Но нам, учителям-рабам, есть чего опасаться при императорском дворе.
— Так, — произнес он. — Эта Афинаида — Евдоксия, как нам нужно говорить, полагаю, — она очень красива?
— Гм. — Я все еще смотрел на своего ученика. — Ты сможешь решить это сам, когда встретишься с ней. Императрица возвращается из Летнего дворца в Гиероне через два дня.
— Есть какие-нибудь другие новости?
Я пожал плечами:
— Нет, Ты знаешь это прекрасно. У простых писцов, похожих на меня, нет новостей. А вот у стратегов…
— Ты хочешь услышать мои новости?
Я кивнул:
— Конечно.
Аэций подумал, потом вздохнул, притащил стул с трещинами из тени и сел. После длительных размышлений он начал.
— Во время своего последнего пребывания на базе у реки Дунай, в Виминации…
— Подожди, подожди! — воскликнул я, как можно быстрее затачивая гусиное перо.
— Ты хочешь все это записать? — спросил он.
— Каждое слово, — ответил я. — Для того дня, когда…
Аэций поднял брови.
— Анналы Приска Панийского?
Я застенчиво кивнул:
— Знаю, Тацит из меня не получится. Но…
Стратег положил свою властную руку на мою и сказал:
— Не будь столь уверен в этом. Мы живем в интересное время.
Наши глаза встретились. Мы оба поняли едва заметную иронию в его словах.
Я оперся рукой о край своего письменного аналоя, обмакнул перо и замер в ожидании.
— Ну, — начал Аэций, — есть новости из придунайских гарнизонов…
Я ежедневно испытывал восторг при виде моего дорогого ученика Аэция в его красном одеянии стратега, посещающего бесконечные собрания и сессии по законопроектам в императорской консистории со спокойной невозмутимостью. Это характерно для человека действия, коим он и являлся на самом деле. «С навыками, полученными в течение многих лет, и твердостью характера, выработанной во время приобретения этих навыков», — как говорил святой Григорий Нисский.
Он самоотверженно выполнял свой долг как в консистории, так и на поле боя. На границе сейчас все было тихо; не велось никаких грандиозных военных кампаний. Более того, летние операции подходили к завершению. Аэций покорно занял свое место в большом полукруге суда, в центре которого восседал Феодосий с сенаторами, советниками, стратегами и епископами, устроившимися по сторонам. Кроме этой сердцевины императорской администрации, дворец был наполнен евнухами, рабами, служанками, имелось множество смешных обрядов, титулов и великолепных знаков отличия. Мой собственный хозяин в то время, князь Святой Щедрости, держал одно из простых управлений в государстве.
Через два дня после прибытия маленькой группы из Равенны вернулась императрица, проведя неделю у прохладных фонтанов в садах Летнего дворца в Гиероне, который она очень любила. Дворец находился на обдуваемом ветрами мысе, где проливы впадали в Понт Эвксинский, и туда было особенно приятно приезжать в конце сухого и знойного лета, когда даже цикады казались хриплыми и задыхающимися от пыли.
И я был там — я, Приск. Я присутствовал там, простой и ничем не выделяющийся придворный писец, в то время как они, смутившись, впервые встретились взглядами. Это произошло в триклинии девятнадцати опочивален. Аэций и Афинаида встретились — оба самоуверенные и самонадеянные из-за своего возраста, хотя каждый по-своему. Тогда я увидел, как исчезла из них вся самоуверенность и самонадеянность.
— Августа Галла Плацидия и главнокомандующий западными легионами стратег Аэций! — объявил камергер.
Они вошли в комнату — сначала Галла, потом Аэций. Галла и Феодосий вежливо улыбнулись друг другу, затем император сделал шаг вперед, и они поцеловались.
Аэций, казалось, как-то странно застыл на месте.
Афинаида тоже.
Тогда она поняла, что такое настоящая любовь. Все ее существо словно потянулось к нему, и Афинаида вдруг подумала с отчаянием: «Это тот мужчина, которого я люблю и буду любить всегда. О, что я наделала?!»
…Я видел, как они избегали друг друга целую зиму. Для каждого из них просто мельком взглянуть на другого казалось самой сладкой, самой острой болью. Влюбленные едва разговаривали. Когда в государство Сасанидов (в Персию) отправили дипломатическую миссию, Аэций, к удивлению некоторых, поехал следом. Молодой человек провел всю зиму вдали от Востока.
Афинаида казалась порой как-то странно отрешенной для молодой жены; но на следующий день императрица слишком громко хвасталась (и слишком открыто, к смущению многих) изумительными чертами характера своего мужа. Женщины, которые чересчур кичатся мужьями, редко хранят им верность. Но в случае с императрицей люди приписывали это естественной теплоте и щедрости ее сердца.
* * *
Весной объявили, что императрица собирается совершить паломничество в Иерусалим.
— Хотя дорога абсолютно безопасна, — добавил Феодосий, — Евдоксию будет сопровождать первая когорта императорской охраны под командованием стратега Аэция.
Феодосий глубоко уважал молодого полководца и с гордостью полагал: только опытнейший воинский отряд может достойно сопроводить его любимую жену.
Это было самое лучшее и одновременно самое худшее, что могло случиться. Проводить время вместе по приказу своего собственного мужа! Боль усиливалась. Вероятно, они втайне хотели страдать. Нужно ли человеческому сердцу испытывать ощущение счастья, или ему просто не хватает сильных, ярких, острых чувств? Разве есть разница в том, какими должны быть эмоции?
Я отправился с ними, видел все и не записал ничего. Но сейчас, в эти последние дни, когда только я остался из всей этой храброй и прекрасной компании… Теперь можно сказать правду.
Свита императрицы взошла на борт императорской баржи, которая стояла на якоре в тихом море в бухте Фосферион. Судно миновало узкий пролив Босфор и бросило якорь на азиатском побережье, где множество кричащих от радости людей размахивало ветками оливы и мирта. Там состоялся обед, данный главой золотого города Хризополиса. Некоторые уже замечали, что императрица и стратег, видимо, презирают друг друга, поскольку едва обмениваются взглядами, не говоря о беседах. Когда им приходилось быть в тесной компании, например, на обеде, эти двое опускали глаза и понижали голос, словно от позора и стыда.
Судно отправилось дальше на восток и оказалось в провинции Вифиния, а затем — в Никомедии. Императрица поехала в прекрасном четырехколесном экипаже. Аэций и отряд держались далеко впереди.
Афинаида прибыла в Гиерополис, чтобы омыть свое очаровательное тело в целебных горячих серных источниках. Оттуда она взяла курс на азиатскую гору Олимп и монастыри, где завязался долгий научный диалог с местными священниками, после которого у тех осталось чувство удивления и покорности, а молодые и темпераментные послушники стали обожать и даже боготворить свою императрицу. Афинаиду равным образом радушно принимали и чествовали в Смирне и Эфесе, во всех больших городах ионийского побережья, на юге Памфилии, в тени гор Тавра, в Селевкии и Тарсе, где жили евангелисты.
Это показное веселое путешествие имело свою тайную политическую цель — закрепить любовь народа, Церкви, властвующих сенаторов во всем Леванте к императору и его обворожительной жене и сделать Феодосия и Афинаиду узнаваемыми и уважаемыми далеко за стенами Константинополя.
Через несколько недель пути процессия оказалась у богатого поселения Антиохии, «третьего города империи», полного галдящих критян, сирийцев, евреев, греков, персов, армян. Город называли Антиохией Прекрасной за знаменитые мраморные улицы, проложенные Иродом Великим. Там впервые стали использовать термин «христиане».
Афинаида влюбилась в этот город в первого взгляда. Она посетила святилище Аполлона, где поженились Марк Антоний и Клеопатра. Теперь оно было наполовину разрушено рьяными религиозными фанатиками. Императрица настояла на послеобеденном путешествии из жаркой и душной Антиохии, подальше от пригородных лачуг, облепивших окрестные холмы, чтобы увидеть своими глазами рощу Дафны, где сотни проституток все еще занимались нехитрым ремеслом «в честь богини».
На обеде императрица произнесла великолепную импровизированную речь о славном прошлом прекрасной Антиохии и процитировала из «Одиссеи»: «Гордо скажу о родстве своем с вашим народом и кровью». Всегда производит хорошее впечатление, когда иноземный сановник заявляет, что он имеет такое же происхождение, как и его аудитория.
На следующий день они выехали из города и отправились на юг, к величественному храму Баальбека. Но по приказу императрицы процессия повернула на восток и двинулась в пустыню, следуя за толпами, хлынувшими на холмы. Они желали посетить религиозный «памятник», столь отличающийся от надменных построек Баальбека — знаменитого святого отшельника Симеона Столпника на пьедестале, расположившегося недалеко от Теланессы. Там, в мерцающей сирийской пустыне, Афинаида, Аэций и их свита увидели своими глазами прославленного святого, сидящего на вершине столпа семидесяти футов в высоту, где он уже находился в течение десяти лет и останется еще на двадцать. Множество паломников расположились у пьедестала, смотря в изумлении на праведника и собирая вшей, падавших с его немытого, истощенного тела на землю. Они прятали насекомых в свою собственную одежду, как ценные мощи, называя их «Божьими жемчужинами».
Ни Афинаида, ни Аэций не искали никаких жемчужин.
В последующие годы многие пытались подражать Симеону. Новости о его великом акте самоуничижения, полном личной неприязни деянии распространились повсюду, и запах чувствовался по всей долине. Далеко в лесах Арденн в Галлии дьякон из Ломбардии попробовал последовать примеру святого, пока другой, более прагматичный епископ не велел ему перестать заниматься такими глупостями.
Возле Симеона сидел еще один житель пьедестала, Даниил Столпник. Даниил начинал с довольно маленького постамента, но щедрый благотворитель хорошо заплатил, чтобы возвели величественную двойную колонну. Можно было перейти к ней с первого пьедестала посредством импровизированного моста из досок, поэтому никогда не приходилось пачкать ноги пылью этого мира. И там Даниил сидел и молился, опорожнял свой желудок и восхвалял Бога.
Когда процессия подошла к прекрасному храму Баальбека, наступил вечер, но покинутое языческое святилище гордо стояло в поздних лучах розового света, озарившего пустыню. Афинаида и ее свита подивились портику Каракаллы с кедровой крышей, изумительным мозаикам на мраморных полах, барельефу Юпитера Гелиопольского и, прежде всего, захватывающему дыхание храму языческого бога, его колоннам, по размерам не имеющим себе равных в мире — примерно восемьдесят футов в высоту и восемнадцать в обхвате. Думаю, таких никогда больше никто ни в какие времена не сможет возвести. Один из камней в основании весил свыше тысячи тонн. Знания о том, как вырезать и передвинуть подобные гигантские глыбы, уже исчезли из памяти человечества. Никогда не суждено нам вновь увидеть такое величие.
Афинаида и ее свита посетили и храм Венеры, богини любви и красоты, который теперь стал базиликой, посвященной святой Варваре, непорочной деве и мученице. В соседнем городе шептали, что в стенах зданий храма до сих пор проводятся древние ритуалы. Могущественные священники из христиан были крайне недовольны этими слухами, но светская власть втайне обо всем знала. Говорили, что хранящие молчание камни до сих пор свидетельствовали о естественном культе старых богов, древних даже по сравнению с богами Олимпа, которые победили их — Астарты, Атаргатиды и самого Баала, сквозь темную пелену наблюдавшего за своими последователями еще за две тысячи лет до того, как Христос начал шествие по земле.
Всего век назад Евсебий писал: мужчины и женщины все-таки пришли сюда, подчинившись желанию «слиться воедино» перед алтарем в честь богини. Мужи и отцы позволили женам и дочерям открыто продавать себя случайным прохожим и верующим ради своей таинственной богини любви. Некоторые из мужчин даже получали удовлетворение, видя, как женщины становятся проститутками. Все ночи они пели, пили и танцевали под звуки варварских барабанов и флейт…
Нет, Баальбек никогда не был излюбленным местом христиан.
Там проливалась жертвенная кровь и царила священная любовь. Разве может одно существовать без другого? В древней религии отсутствовала какая-либо мягкость. Кровь ручьями текла по камням. «Анаф, сестра Баала, пробиралась, стоя на коленях, по шею в крови, в человеческой крови, — свидетельствуют древние тексты. — Человеческие руки лежали у ее ног, они летали вокруг нее, словно цикады. Она связала головы вокруг своей шеи и руки примотала к поясу. Она вымыла свои руки в реках человеческой крови, текущих у ее колен…»
В Баальбеке, как казалось, боги тоже были смертными. Они рождались для поклонения, преуспевали и приобретали великолепные храмы, построенные для самих себя. Позднее, когда мужчины и женщины перестали верить в них, боги слабели и умирали. Новое поколение смертных богов занимало их место. В свое время даже Христос исчезнет навсегда с лица земли.
Никто из императорской свиты не произносил тайных мыслей вслух в Баальбеке. Но процессия задержалась там надолго.
И вот, наконец, показался Иерусалим, священный город Сиона. Это место Афинаида тоже очень полюбила. Она осталась в городе больше, чем казалось приличествующим. Муж ждал ее в Константинополе, и настало время вернуться к супружескому ложу. Сейчас самой главной обязанностью стало рождение Феодосию сыновей. Других причин, чтобы жить дальше, у императрицы не было.
Шла последняя ночь перед спуском со священной горы Сион на побережье, в Цезарию, после чего предстояло путешествие домой на корабле. Афинаида прогуливалась по уединенной террасе скромного дворца, где она остановилась вместе со свитой, рассматривая долину Геенны и Шеол, куда древние израильтяне сваливали тела своих мертвецов в дымящиеся пропасти внизу и сжигали их. Издалека, из Гефсиманского сада на оливковом холме, в этот ад подул легкий ветерок.
От тени дворца отделилась еще одна фигура и вышла на террасу, чтобы подышать ночным воздухом перед сном. Они едва не столкнулись. Оба отступили назад и посмотрели с тем же самым крайним удивлением, с каким впервые увидели друг друга три долгих месяца назад. Их глаза широко открылись, заблестели и стали казаться какими-то наивными при свете луны на востоке. Затем, словно лунатики тихой черной ночью, они снова стали приближаться друг к другу.
Из оливковой рощи донесся резкий предупреждающий крик птицы, и луна приобрела золотой оттенок на небосклоне над долиной Шеол, где в воздухе летало множество мелких пылинок из-за созревшей в конце лета пшеницы в деревне неподалеку, и появился туман из-за дыма, который валил от сжигаемого мусора.
Они не сказали ничего. Стало невероятно неловко, словно встретились два подростка…
Невозможно сказать, кто кого поцеловал. Их губы встретились. Они сопротивлялись, не давая себе покориться этому желанию или, скорее, этой потребности — прикоснуться к другому. Оба испытывали чувство удовлетворения. Но оба были побеждены.
После поцелуя они отпрянули и долго смотрели друг от друга. Молча. Шли минуты. Никто из них не шевелился, да и не смог бы пошевелиться…
На следующий день на рассвете они покинули город и отправились в длительное путешествие по побережью. Ехали вдали друг от друга, склонив голову и храня молчание, словно два человека, недавно потерявшие все.
Галла знала. Галла заметила их своим острым взглядом, когда те возвращались.
Замужество и невзгоды, вероятно, смягчили ее сердце. Материнство же для нее наверняка не казалось чем-то важным. Слабости других людей в душе этой женщины вызывали, скорее, жалость, а не презрение, как было прежде. Она видела эту живую агонию своими глазами: Афинаида и Аэций, не желая того, но не в силах больше ждать, страстно держали друг друга в объятиях, разлученные суровыми обстоятельствами, строгими обрядами и придворными формальностями. Ее реакция была реакцией женщины, немного влюбленной в мужчину, обожавшего другую: грустная улыбка и молчание.
Вероятно, она поняла, что Аэций и Афинаида обладали чем-то общим, что не изменится на протяжении всей жизни. Каждый из них любил другого, и никому из них никогда не понадобится кто-то еще.
Между Галлой и Афинаидой могла бы возникнуть затаенная вражда, злоба или что-то похуже, но ничего этого не случилось. Между Пульхерней и Галлой сложились столь же теплые отношения, как у поклявшейся в вечной девственности сестрой императора с тонкими губами и человеком мужского пола из плоти и крови. Пульхерия, естественно, чувствовала жгучую ревность и негодование, выражавшееся в ханжеском поведении. (Блюстителями нравов движет зависть, а не моральные принципы. Тот, кто может, именно так и поступает, а тот, кто не может, читает проповеди). Но хладнокровная зеленоглазая Галла, вероятно, посчитала, что чувства Афинаиды к Аэцию отражают ее собственные. Наверно, она увидела, как бедная девушка, вышедшая замуж в столь юном возрасте, с сердцем, созданным для любви к тому, кого втайне обожала, но в реальности не имеющая возможности даже обнять, обречена страдать всю жизнь. Какова бы ни была причина, она всегда обращалась с императрицей, столь непохожей на нее по характеру, только по-доброму.
А потом, на двадцать шестой день августа 423 года, пришло известие с шокирующими новостями из Рима. Император Гонорий умер от водянки, а узурпатор Иоанн поднял легионы в Иллирии и объявил себя новым императором Запада.
Аэций, казалось, вздохнул с облегчением, когда представился случай наконец уйти.
— У Рима врагов не уменьшается, — сухо заметил стратег. — Пора дать бой.
Глава 11
Варварское побережье в огне
Торговля в Константинополе закрылась на семь дней из-за объявленного общественного траура по Гонорию. Восточный император Феодосий даже приказал отменить лошадиные скачки, что едва не вызвало мятеж.
В это время в Рим вернулась Галла вместе с Аэцием, и ее сын в возрасте четырех лет стал императором.
С детства Валентиниан поступал, скорее как дядя, нежели отец. Сказывалась никуда не годная наследственность. Он был вялым, жадным, несерьезным, раздражительным и жестоким. Галла сама, как шептали злые языки, намеренно воспитала сына глупым, дала плохое образование и наполнила его голову религиозными предрассудками. Нося христианское имя, Валентиниан очень увлекался темной стороной магии и гаданиями.
Обвинять мать в ошибках — дело крайне несправедливое: Галла искренне и глубоко верила в христианского Бога. Не в хриплые и бессвязные бормотания гаруспиков посреди алых брызг и пятен крови умирающего голубя, не в иные ловушки-прикрытия погибающего язычества. Когда шумные и усердные проповедники сновали повсюду, а настоящей божественной любви-доброты не имелось нигде (можно сказать, что это время было очень похожим на любое другое), Галла, несмотря на безжалостность и гордыню, посвятила всю свою жизнь официальной религии империи.
Более того, хитрые сплетники замалчивали один важный факт: Валентиниан оказался слишком глупым и достаточно безнравственным, чтобы открыть для себя радости черной магии.
Но, являясь единственным законным наследником Западного трона, маленький мальчик с хитрым взглядом был торжественно коронован диадемой и возведен в сан императора. А фактически на Западе стала править его мать.
В течение нескольких лет после этих событий в империи установился непростой и непривычный мир, за исключением одного ошеломляющего поражения, которое, казалось, произошло неожиданно. Попытка отвоевать владения каждый раз терпела неудачу. Зерновые поля Северной Африки перешли под контроль вандалов.
В июне 429 года, когда нещадно палило солнце, африканское побережье охватил огонь. Нападающие вандалы были всадниками из германских степных племен, недавно осевшими на юге Испании и объятые горячим желанием завоевывать и разрушать. Видимо, за одно поколение они смогли научиться кораблестроению и мореплаванию у местных испанских жителей. Из своего королевства Вандалузия (или «Аидалузия», как называли его берберы) неприятель пересек узкие проливы, перешел провинцию Мавритания и с огнем и мечом двинулся на ценные зерновые поля Нумидии и Ливии.
Рим был захвачен врасплох. Никто, кроме Аэция, казалось, не понимал, какой это грозило катастрофой. Говорят, что, когда он услышал новости, его лицо приобрело пепельный оттенок. Аэций сжал себе запястье левой руки правой и не мог произнести полдня ни слова.
Императорский двор, богатые сенаторы и беспечные компании в Риме весело продолжали вести свои дела, словно не осознавая: из-за далекого горизонта медленно появляется и уже застилает небо огромное кроваво-темное облако.
На следующий год армии вандалов направились на восток, к Магрибу, нацелившись на завоевание Врат Восходящего Солнца. Города сдавались один за другим, не выдерживая их яростного напора. Говорили, в ясные ночи можно было разглядеть африканский берег, освещенный так, будто повсюду, от Тингиса до Великой Лептиды, горели огромные сигнальные костры.
Летом 432 года город Гиппон оказался осажденным вандалами. На третий месяц той ужасной блокады, когда умирающие от голода убивали друг друга за крысу, один из великих отцов Церкви, святой Августин из Гиппона, в последний раз посмотрел на этот погибающий мир, который он так любил и которого боялся. Он умер на двадцать восьмой день августа в возрасте семидесяти пяти лет. Спустя несколько недель Гиппон взяли и сожгли почти дотла. Письма Августина и его личная библиотека чудом уцелели: двести тридцать две книги плюс трактаты, комментарии, послания, наставления и бессмертные труды «Исповедь» и «Божий Город».
Прошли годы, вандалы-завоеватели покорили Северную Африку. Молодой и нерешительный император Валентиниан колебался. Аэций призывал возобновить борьбу на суше и на море. Вначале он говорил энергично, потом — яростно. Когда Галла Плацидия согласилась со стратегом и стала убеждать сына действовать в том же направлении, слабый и параноидный подросток воспротивился им, назвав «командирами», отказался что-либо делать в Африке и отправил Аэция в изгнание.
Не в последний раз Аэций нашел убежище у визиготов в Толосе. Тем временем Валентиниан упросил раздражительного и распутного короля вандалов Гензериха заключить постыдный мир. Гензерих еще в юности как-то раз был заложником у римлян со своим младшим братом Берихом; последний уже давно скончался в результате «несчастного случая».
Гензерих оказался жестоким и кровожадным. Он всегда приходил в восторг от зрелищ, отличающихся крайней жестокостью и развращенностью. Особенно ему нравилось смотреть, когда женщин заставляли совокупляться с животными, как говорилось в древних мифах: дикий бык, изображающий Зевса, спаривался с обнаженной рабыней, привязанной к колесу тележки и олицетворяющей Европу. Вероятно, правитель верил: демонстрируя страсть к подобным развлечениям, он указывал на свое родство с высокой культурой классического мира. Король вандалов говорил мало, был низкого роста. Хоть он и занимался сексом с женщинами, но делал это с ненавистью.
К ужасу многих, королевство вандалов в Северной Африке под властью злобного Гензериха быстро укрепляло позиции. А ресурсы же Рима были на исходе.
Улицы города наводняло все больше бедно одетых и умирающих беженцев, спасающихся от яростных атак вандалов в Северной Африке. Их крошечные деревянные лодки, покачиваясь, плыли по Средиземноморью и далее к берегам Нумидии и Мавритании, чтобы остановиться в Италии. Отчаявшихся голодных ртов прибавлялось, а зерна становилось все меньше! Но некоторые по-прежнему продолжали беспечно жить и не желали замечать, как кроваво-темное облако почти закрыло небо.
Глава 12
Госпожа и рабыня
Прошли годы, и сестра Валентиниана, Гонория, превратилась в молодую женщину. Как только она достигла переходного возраста (наступило шестнадцатое лето ее жизни), девушка открыла свое истинное лицо, и имя «Гонория» оказалось невероятно неподходящим для этой заядлой любительницы удовольствий. «О, несовместимое имя! — воскликнул один монах-летописец. — На свете не было столь бесстыдной женщины и столь ненасытной в своих плотских желаниях, как августа Гонория!»
Столь простому писцу, как я, не подобает иметь то или иное мнение о поведении сестры Валентиниана. Но многие другие историки считали по-другому, говоря о ней как о «чувственном демоне», «лакомом кусочке, воспламенявшим плоть мужчин и пронзавшим их души» и даже «Великой Блуднице, чье появление приведет к концу света». Более строгие анналисты писали, что не могли излагать на бумаге ужасные истории, которые слышали о вожделении и распущенности августы, хотя уже вдавались в разнообразные и беззастенчивые подробности. Какой бы ни была правда о Гонории, я, как историк, дающий только достоверные сведения, должен отметить бесспорные факты.
Гонория родилась через три года после брата, в 422 году. Дочь печального Флавия Констанция и его целомудренной и честной жены августы Галлы Плацидии, она в 437 году едва достигла пятнадцатилетнего возраста. Казалось, у девушки было три интереса в жизни: украшение своего тела, привлечение к себе внимания (и мужчин, и женщин), и чувственные удовольствия. Большего различия между матерью и дочерью представить невозможно. Во дворце ходили слухи, что наверняка августа Галла родила ребенка не от благородного и молчаливого Флавия, а, скорее, после визита одного из ненасытных и распутных богов языческого пантеона. Вероятно, Зевс наведался к Галле в виде золотого дождя, как к Данае, или обернувшись лебедем, как к Леде.
Дочь Галлы, подобно дочери Леды, Елене Троянской, была неотразима в глазах мужчин: обе девушки отличались яркой красотой и нескрываемым сладострастием. Гонория стала причиной череды событий столь же гибельных и трагических, как и Елена, устроив похожее развлечение для язвительно усмехающихся сверху богов. Печальная история Трои известна у богов как «Гнев Ахиллеса», люди же помнят ее как «Смерть Гектора».
Если отец и не Зевс, то, вероятно, это был великий Пан или какой-то развратный сатир из свиты последнего, который зачал Гонорию с непорочной и высокомерной Галлой, когда та закрылась в своем ограниченном по собственному желанию и уравновешенном мирке. Огромное различие между матерью и дочерью, конечно, не вызывало сомнений и часто бросалось в глаза.
Одной красоты в женщине не достаточно, чтобы соблазнить мужчину и свести с ума от любви. Она должна еще покорить его взмахом ресниц, неотрывным сияющим взглядом, который бросает в ответ, бездонной глубиной глаз, подведенных темной краской для век, очаровательным выпячиванием карминовых губ, нежным прикосновением пальцами к его руке, наклоном вперед, желая взять, скажем, упавшую салфетку с пола, давая ему возможность мельком увидеть свои сладкие и сочные груди с затвердевшими розовыми сосками, — вот такая женщина завоевывает мужчин, как я говорю, и красотой, и откровенной чувственностью. В этом смысле святой Августин предупреждал нас: «Женщины — самая большая ловушка, которую дьявол уготовал для мужчин». И даже Библия в стихе 34-м главы 14 Первого послания к Коринфянам напоминает нам: «Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит».
Уловки и способы соблазнения августа Гонория прекрасно усвоила с ранних лет. Как только ее тело стало приобретать более женственные формы, во дворце начали верить в сплетни, будто она требует сексуальных удовольствий от рабов. Ни Агриппина, ни Мессалина не были столь развращенными. В Равенне, сомнительном в нравственном отношении городе, где находилось около двадцати тысяч рабов, каждый из них обязывался выполнять приказы господина или госпожи. Так что слуг, желающих удовлетворить ее похоть, всегда оказывалось множество.
Более шокирующим стало безразличие августы к тому, являлись ли ее партнерами в любовных играх мужчины или женщины. Так Сафо с острова Лесбос, чьи произведения почти не сохранились для потомков (слава Благопристойности!) получала удовольствие там, где видела его. Ее страсть распространялась не только на мужчин, но, будучи более всеобъемлющим чувством, на людей в целом.
Говорили, что особую роль в пробуждении в августе Гонории желания испытывать плотские радости сыграла одна примечательная личность. Как-то раз в личные покои Гонории вошла новая рабыня с рабовладельческих рынков Александрии. Ее звали Сосострида, что на древнеегипетском языке означало просто «Сестра» и служило обычной формой выражения теплых чувств к невольнику. Другие имена рабов, свидетельствовавшие о большем, чем привязанность. Они напоминавшие тем, кто носил их, о долге доставлять удовольствие хозяину по его требованию и обозначали «желание», «поцелуй», «наслаждение», «любимый» и даже «сексуальность». Сама Сосострида вполне могла выбрать любое из этих необычных названий — как оказалось, таков был ее горячий темперамент. «Сестра» являлось, вероятно, более неясным словом; но существовало немало рабовладельцев, находивших извращенное удовольствие в приглашении своей «сестры» ночью в постель.
Сосостриде исполнилось восемнадцать-девятнадцать лет. Она была родом из Египта — стройная, темнокожая и очень красивая девушка. Теперь вы знаете, какова репутация у египтян — и у мужчин, и у женщин. В древние времена, до появления на свет Христа, в Египте процветала крайняя распущенность, а женщины весь день прогуливались не только с голыми ногами, но даже с голой грудью. Вечером они сидели за столом с мужьями и друзьями мужей, бесстыдно ведя беседу, словно были умом равны мужчинам! Их полные круглые груди гордо и развратно лежали на всеобщем обозрении, красота их темных сосков подчеркивалась с помощью небольшого количества косметики и румян!..
Но я отступаю от темы.
О Сосотриде и августе Гонории я слышал от одного писца во дворе Равенны. А тот, в свою очередь, узнал обо всем от самой египтянки, оказавшейся позднее в его собственной постели. Он получил крайне непристойное и отвратительное удовольствие от ее рассказов о развлечениях в юности в объятиях и мужчин, и женщин. Вот такими порочными были времена. И хотя верно, что у лжи короткие ноги, и слухи не столь беспочвенны, например, когда августа спешит сообщить на рыночной площади о делах, творящихся в ее спальне, я думаю, есть какая-то прискорбная правда в картинах, промелькнувших в моем изумленном воображении после мрачных подробностей, изложенных тем бесстыдным писцом. С тех пор я прокручивал эти эпизоды в голове снова и снова много раз, руководимый единственно желанием узнать, могли ли они действительно иметь место или нет. Сейчас возникает такое ощущение, будто я сам был свидетелем таких ужасных сцен.
Августа Гонория обыкновенно принимала ванну вечером и утром, а затем сонно лежала на кушетке, а рабы умащивали и массировали ее тело, используя теплое масло с ароматом лепестков роз. Вскоре заметили, что это задание выполняла исключительно Сосотрида, а остальных невольников выпроваживали подальше. Более того, днем взгляды, которыми обменивались госпожа и рабыня, казалось, означали большее, нежели просто теплые отношения, которые могли существовать между августой и ее служанкой. Словно их взоры соединяла некая недозволенная тайная страсть, лишь усиливавшаяся из-за неясных улыбок, даримых друг другу на публике, будто они молча вспоминали о наслаждениях предыдущей ночи и с нетерпением ждали удовольствий от ночи следующей. Говорили, иногда после наступления темноты из личных покоев августы Гонории слышались крики, звучавшие странно для слуха тех, кто всегда полагал, что такие стоны женщины мог вызвать только муж, исполняющий свои супружеские обязанности.
Действительно, если верить слухам, самые худшие опасения двора имели основания. Уже с первой ночи у Гонории Сосотрида начала использовать привораживающие масла на своей госпоже, нежно шепча, что она великолепно знает это искусство. Другие рабыни помогали юной августе выйти из ванны, заворачивали в мягкое покрывало, переносили на широкую кушетку с подушками, клали на живот и заботливо растирали.
Затем египтянка брала свою чашу с парфюмерными мазями, лила их в ложбинку на спине Гонории и тонкими и изящными коричневыми руками начинала втирать масла и массировать ее плечи и шею, спину и бока. К удивлению других рабынь, Сосострида запустила руки под мягкое белое покрывало, лежащее на нижней части тела августы, а также массировала ее гладкие белые ягодицы.
Через несколько минут покрывало сдвинулось в сторону и бесшумно упало на пол, оставив Гонорию обнаженной и незащищенной, но, казалось, та ничуть не возражала. Затем, к крайнему изумлению присутствовавших рабынь, которые, не будучи египтянками, никогда не смели позволить себе подобной вольности с госпожой из правящей семьи, Сосострида снова взяла чашу и направила маленькую струйку золотистого масла между бедер августы, которые тогда еще невинно и крепко были сжаты вместе.
Наглая египтянка, понимая по улыбке, играющей на ее устах, уселась возле своей госпожи на кушетку, а не встала на колени рядом с ней, как подобает рабам. Она была одета в длинную белую тунику, небрежно схваченную вокруг талии красным поясом. Теперь, чтобы удобнее сесть на кушетку, хотя и без приглашения, Сосострида бесстыдно задрала платье почти до колен, выставив на всеобщее обозрение длинные гладкие ноги и демонстрируя красивые кожаные сандалии, дерзко высоко зашнурованные в развратной манере большинства проституток Субурры.
Египтянка низко склонилась к госпоже, желая теснее прижаться к ее рукам, но, делая это, ее сочные груди под белой льняной туникой с шокирующей откровенностью мелькнули возле спины августы, и Гонория задрожала при этом движении, даже не подумав объявить выговор. Затем бесстыдная рабыня начала кончиками пальцев дразня водить вверх и вниз по гладкой блестящей щели, от ягодиц до колен, и обратно, но дразня, словно они были заняты вовсе не работой, а непорочной игрой.
Далее (перед широко открывшимися от удивления глазами других рабынь) Сосострида раздвинула белые бедра юной госпожи. Склонившись, она распустила волосы, встряхнула головой и начала ласкать своими длинными черными волосами
бедра Гонории, перенося их то вверх, то вниз — на ягодицы, на спину.
Волосы Сосостриды были великолепного для египтянки цвета, насыщенного иссиня-черного, длинными, прямыми и доходили ей почти до талии. Сейчас рабыня использовала их не как простое украшение, а как орудие соблазнения. Под ее нечистыми манипуляциями августа Гонория издала тихий стон и, к своему удивлению, казалось, приподняла немного ягодицы и изогнула стройную спину. Когда Сосострида снова села на шелковые подушки возле нее, случилось, что ее бедра больше не были сжаты, а немного раздвинулись, словно объятые сладострастным предвкушением. Египтянка улыбнулась, и ее улыбка была полна победы. Она снова погрузила кончики пальцев в чашу с благовониями.
Тогда, как говорят (хотя я удовольствием не поверил бы), Гонория слегка повернула голову и прошептала остальным рабыням приказ покинуть комнату. И все они покинули спальню. Но женщины, будучи рабынями своих страстей, а заодно крайне любопытными сплетницами, не исчезли, а спрятались в соседней прихожей, желая оставаться рядом с дверьми, а затем бесшумно снова открыть их и подсматривать через разрисованные занавесы за тем, что происходит между египтянкой и их госпожой.
Казалось, Сосострида и здесь действовала с умом, поскольку через несколько минут бросила взгляд туда, где скрылись остальные рабыни. Она вызывающе посмотрела на них, хотя едва ли могла видеть в темноте. Египтянка изогнула брови и улыбнулась, словно прекрасно знала об их местонахождении и наблюдении. Она даже наслаждалась от сознания того, что ее способ удовлетворения августы доступен для глаз посторонних.
Теперь Сосотрида… Но тут я должен прервать свое повествование ради соблюдения приличий. Есть много о чем рассказать, очень много. Но пусть эта постыдная похоть не оскверняет страниц моей скромной хроники. Другие писатели с более низкими моральными принципами могут говорить о любовниках августы Гонории, как им заблагорассудится, получая за это свои грязные деньги. Да минует меня такая судьба, о Музы!
Нет возможности рассказать все, что я знаю об августе Гонории, не выходя за рамки приличий. Долго той ночью стояли в укрытии рабыни, наблюдая. Они слышали еще больше стонов и вздохов, видели своими глазами столько возмутительных развратных манипуляций между девушкой и девушкой, что это заставило бы покраснеть самую бесстыжую портовую шлюху Коринфа. Как же рассказывать новые подробности, не оскорбив до глубины души своих благопристойных читателей? Как говорить о распутных девицах (одна — дочь императора, а другая — простая рабыня), которые провели всю ночь за выдумыванием разных извращений и получали от этого массу доселе неизведанных ярких удовольствий, о которых ранее и не мечтали? Как рассказывать о ночи, когда они снова накидывали друг на друга какую-то одежду, но лишь для того, чтобы усилить восторг, испытываемый при виде полуобнаженного тела? Ведь это всегда считается более непристойным, чем абсолютная неприкрашенная нагота, что известно любой проститутке! Какие слова найти для рабыни, усаживающей госпожу на кушетку, обувающей на ноги хихикающей августы собственные красные кожаные сандалии с высокой шнуровкой, застегивающей тонкую золотую цепочку вокруг ее стройной девической талии, наносящей помаду на ее уже припухшие вишневые губы и подводящей темной краской ее глаза? А та, прежде невинная девушка, внешностью и поведением стала походить на роковую соблазнительницу из снов любого добропорядочного мужчины! И рабыня-египтянка…
Но нет, меня бросает в дрожь при мысли об этом. Я больше не скажу ни слова. Стыдно. Было бы крайне неверно излагать новые подробности подобного грехопадения.
Сейчас моя лампа гаснет, холмы Италии за окном погружаются в ночной сон, слышен лишь одинокий крик филина. Тут я должен прерваться. В моем возрасте нехорошо работать так поздно, силы скоро иссякнут. В тихом скриптории становится прохладно, но я чувствую, как странно быстро бьется мое сердце, словно из-за большого напряжения. Появилось и невероятное возбуждение.
Достаточно сказать, что августа Гонория, как я говорил, бесстыдно предавалась плотским удовольствиям, которым уделяла особое внимание. И эти наслаждения она получала равным образом с мужчинами и женщинами, даря те же низменные радости им в ответ и не делая между ними никаких различий. А это — верный признак характера человека крайне неразборчивого и легко увлекающегося. Но было бы неправильно далее задерживаться на жалких личных делах августы…
Итак, пора в кровать, и да убережет меня Господь от непристойных и нечистых мыслей!
Глава 13
На погибель Рима
Наступило утро — и снова перехожу к Гонории.
Итак, низменные инстинкты ее натуры дали о себе знать. Пока еще августа в полной мере наслаждалась порочными визитами Сосостриды. Но то, что эта неисправимая нимфоманка поддастся чарам мужчин с опасными последствиями для себя, стало лишь делом времени, когда. Его звали Евгений, он был ее слугой. Утомленная скучными правилами и формальностями двора, августа поддалась импульсу своей души и оказалась в его объятиях — вероятно, больше из-за желания чего-то нового и необычного, чем из-за настоящего чувства любви к нему. Виновность Гонории и позор вскоре обнаружились: девушка забеременела. Это стало заметно по ее стройной фигуре.
Мать, сдержанная и корректная во всем, была в гневе. Она была несказанно посрамлена. Галла тотчас заперла бедную дочь в одной из самых темных и тусклых спален императорского дворца и велела соблюдать строжайший пост, на какой сажали отъявленнейшего преступника в ночь перед казнью. Тем временем брат Гонории, вечно мстительный, подозрительный и все еще не имеющий собственных детей, замышлял более хитрое наказание.
В один пасмурный вечер во дворец торопливой походкой вошла старуха, которую отвели в ту темную спальню. Там с душераздирающими криками она продемонстрировала свое ужасное умение, используя травы, вызывающие выкидыш: пижму, полынь, асафетиду, называемую «испражнением дьявола» из-за омерзительного запаха, настои кипяченой мяты болотной.
Вскоре эти древние и нечестивые средства, стимулирующие менструацию, начали действовать, и бедная девушка стала корчиться, словно по ее внутренностям бил огромный кулак. Старуха опустила августу на пол и раздвинула ей ноги, вглядываясь, исследуя и водя туда-сюда расширителем и длинными изогнутыми иглами. Наконец она извлекла вздувшиеся багровые остатки трехмесячного плода, который завязала в запачканные льняные тряпки и бросила в ведро рядом с собой. Вытерев повсюду кровь и убрав следы, старуха сказала в утешение девушке, что зародыш все равно бы не смог жить, поскольку у него оказалась сильно деформирована спина.
Гонория лежала, не говоря ни слова, больше недели. Ее охватывали то полное отчаяние, то печаль, то горечь, хотелось винить во всем остальных, приходили мысли о черной мести. Даже находясь в заключении, она общалась с другими людьми во дворце и вне его, обещая богатые награды в будущем. План августы состоял всего лишь в том, чтобы убить идиота-братца, а Евгения, любовника-раба, возвести на престол на освободившееся место. Трудно разобраться, смеяться ли смелости Гонории или жалеть ее, наивно полагавшей так легко сокрушить империю.
Заговор был раскрыт, августа чуть не лишилась жизни. Валентиниан, одержимый истерической яростью, хотел казнить ее немедленно. Он поклялся, что сделает это сам — булавкой от броши, если потребуется. Галла сдержала сына и убедила отправить свою беспокойную сестру в изгнание куда-нибудь подальше. Евгения, не стоит о том и говорить, осудили на самую медленную и мучительную смерть, подвергнув долгим разнообразным пыткам (особенно — в тех «мужских» местах, которые принесли столько позора императорской семье). Но позвольте не останавливаться на том подробно: некоторые наказания могут быть справедливыми, но не поучительными.
Несколько часов спустя, глубокой ночью, в дверь спальни-тюрьмы августы Гонории постучали. Ее молчание восприняли как знак согласия. Тяжелая дверь отворилась снаружи, и большая серебряная тарелка, покрытая куском малинового бархата, появилась возле кушетки, на которой лежала девушка. Слишком юная и все еще невинная, чтобы подозревать то, что ей следовало подозревать, она наклонилась, отодвинула в сторону ткань и увидела, что там было. Ужасные крики августы слышала половина дворца.
В конце концов, Гонорию, подавленную и с бледным лицом, забрали из спальни-тюрьмы и отнесли в женскую часть, где одели и гладко причесали, словно монашку, а потом отправили под охраной в порт Остия. Оттуда августа отплыла на корабле в Константинополь. И там ее держали фактически как узницу в запертых комнатах в высокой башне императорского дворца Феодосия под неусыпным наблюдением непорочной и никогда не улыбающейся Пульхерии. Гонория оказалась единственной, кто не являлся девственницей среди множества унылых и монотонно поющих богомолок.
Прошло двенадцать долгих лет, когда мир вновь услышал о ней. Но в тот момент невероятный план, давно вынашиваемый в глубине ее ожесточенного сердца, осуществился, месть свершилась: мир сам испытал великие потрясения. Действительно, Западная империя пала, скорее всего, в результате действий Гонории. Никогда не недооценивайте силу красивой женщины, собирающейся использовать свою красоту в качестве силы. Как Елене было суждено принести гибель Трое, так и Гонории — Риму.
* * *
Совсем недавно в Константинополь пришел секретный посланник от некоего Бледы, который называл себя истинным властителем гуннов. Он принес удивительные вести: толстый, жадный до золота старый — вождь Руга погиб на троне от руки таинственного выходца из пустыни, Аттилы, потерянного сына каганской семьи, сейчас ставшего взрослым.
Феодосий узнал об этом и очень обеспокоился. Вскоре император передал об услышанном Галле Плацидии в Равенне, поскольку она могла больше сказать о гуннах. Грубые полулюди-полуживотные, жившие мирно, были почти забыты всеми где-то за границей Паннонии уже целое поколение. Но Феодосий все равно волновался. Было такое ощущение, что новое имя как-то ему знакомо. Еще ребенком довелось слушать рассказы…
В Равенне Галла сама прочитала послание. Такого выражения лица Валентиниан у своей матери еще не видел и удивился.
— Что это? — спросил он. — Мама? Что это?
Галла подняла глаза. Лицо приобрело пепельно-серый оттенок. Императрица казалась пораженной, рассерженной и испуганной одновременно. Сначала она едва ли могла ответить, качая головой и не веря написанному. Наконец произнесла:
— У гуннов новый вождь.
— У тех вонючих всадников с узкими глазами? И что? Что такого? — Валентиниан усмехнулся. — Я слышал, они носят меховые куртки, сшитые из шкур полевых мышей!
— Они не носят шкур полевых мышей, — сказала Галла необычным ровным голосом. — У гуннов доспехи из дубленой кожи. Иногда — из шкур волков, которых мальчики того народа в возрасте двенадцати лет, проходя ритуал посвящения, убивают в дикой местности, вооруженные лишь одним копьем.
— Зачем ты рассказываешь мне это? — спросил Валентиниан. Он сел и скрестил руки.
Видимо, Галла не обратила внимания на сына и продолжала смотреть куда-то вдаль.
Валентиниан почувствовал, как мать начинает сердить его, что было не такой уж редкостью. Она такая… высокомерная. Откуда Галла все это узнала? Да кто тут вообще император?
— Гунны — самые опасные из всех варварских народов, — сказала наконец мать.
— Они счастливо живут у наших границ уже три десятилетия, и ни разу не роптали! — воскликнул Валентиниан. — Неплохой барьер между нами и всей этой ужасной Скифией. Гунны — не наши враги.
— Уже наши, — ответила Галла.
* * *
Аттила сел, поглаживая свою седую редкую бородку, и стал обдумывать, что рассказали шпионы. Его глаза блестели от изумления, в голове одна за другой рождались все новые мысли. Великий гунн засмеялся. Вернее, раздался отрывистый и резкий взрыв хохота.
Сколько слабости! Сколько дыр в казавшейся неприступной римской крепости!
Галла была все еще жива и правила на Западе. Хладнокровное зеленоглазое чудовище, источник мучений и пыток отрочества Аттилы. Этот монстр гонялся за ним по всей Италии, словно хищник, и убил бы как крысу. Но маленький мальчик-крыса, которого Галла хотела уничтожить, скоро вернется. Вот досада-то! Аттила вернется, а императрица задрожит, взглянув ему в глаза. В глаза, видевшие такое… Аттила вернется во главе армии воинов, бесчисленной, как звезды. Ослабленные римские легионы вряд ли смогут противостоять и сражаться.
Галле придется наблюдать, как ее мир гибнет в огне. Зеленые виноградники Мозеля, пшеничные поля Галлии, согретые солнечными лучами оливковые рощи Тосканы — все превратится в пыль. Виллы богачей в Кампании будут сожжены дотла, останутся лишь почерневшие руины. Величественные дворцы и храмы самого Рима, торжественные суды, христианские церкви и соборы — все падет и сровняется с землей, перемешается с глиной, тем источником, который они так высокомерно презирали. Любимая империя Галлы исчезнет под копытами лошадей гуннов.
Теперь пришло время ей об этом узнать. Пора. Как приятно знать, что та хладнокровная зеленоглазая женщина жива. О, как чудесно знать, что она еще жива! И Галле придется встретиться с судьбой лицом к лицу и наблюдать за крахом своей империи.
Начнем с того, что дочь этой женщины была шлюхой! Аттила откинул назад голову и снова засмеялся. Сын — император Западной империи, такой же дурак, как его дядя. Феодосий, правящий на Востоке, не шел ни в какое сравнение с дедом, Феодосием Великим. Муж Афинаиды предпочитал каллиграфию битве.
Сколько человек у неприятеля? Западная армия еще могла иметь в своем распоряжении сто восемьдесят полков на поле боя, Восточная — сто пятьдесят. И тот, кто ими командовал, был далеко не дураком.
Лицо Аттилы потемнело.
Аэций! Почти бессознательно великий гунн попытался перестать думать о нем. Аттила не хотел видеть это имя в списке врагов, появившемся в голове. Остальных можно с удовольствием победить и проглотить, как лев антилопу. Но Аэций… Его стоит убить. Или его стоит оставить в живых?
— У него есть семья? — спросил Аттила у собравшихся шпионов и повернулся к женщине, вернувшейся из самой Равенны.
Она выглядела смущенной.
— Аэций, — хрипло произнес Аттила. — Стратег.
Женщина покачала головой:
— Он ни разу не был женат.
Каган гуннов казался озадаченным.
— Говорят, — сказала женщина, — он любит Афинаиду, императрицу.
— И что стратег собирается с этим делать? Разве ему не хочется сыновей?
Женщина покачала головой. Он не понимала.
Аттила сел и стал думать. Благородный возлюбленный. Великодушный солдат. Последний из римлян, достойный уважения. Друг детства. Заклятый враг. Его тень, его возмездие.
— Где стратег сейчас?
— У визиготов. При дворе короля Теодориха в Толосе. Аэций снова оскорбил императора Валентиниана своей прямотой.
На лице Аттилы появилась едва заметная улыбка:
— Боюсь, скоро Валентиниан еще больше обидится. Но тогда ему как раз понадобится Аэций.
Но Аттила понимал, почему Аэция отправили в изгнание.
Трусливый император Валентиниан не мог смотреть на такого человека с подозрением и горькой обидой. Полководцы, подобные Аэцию, постоянно приковывали к себе внимание. Так случалось довольно часто. Поэтому в военную палатку молодого главнокомандующего с завидным постоянством приходили новости об организации заговора против него. Необходимо было бежать, чтобы спасти свою жизнь. Иногда сообщения приносили, если верить слухам, от самой Галлы Плацидии.
Аэций отправился в изгнание и останавливался у франков, бургундов или визиготов, против которых всегда сражался. Те огромные, мускулистые, краснолицые воины из германских племен неизменно приветствовали стратега как брата, заставляя пить из кружек пенящийся эль и уговаривая не уходить ради их блага, напасть на Рим и покорить город ради своего. Тогда Аэций отхлебывал напитка, благодарил за радушный прием и не говорил больше ни слова. Когда туземцы смеялись над ним, стратег просто улыбался. Как только стало известно, что императорский двор прощает изгнанника за любые преступления, тот немедленно оседлал коня, попрощался с великодушными хозяевами, поехал без свиты обратно на юг и без малейшего упрека вновь принял командование западной армией.
Таким был мужчина, в которого превратился голубоглазый юноша. Насколько же четко Аттила помнил Аэция, торжественно стоящего в степной траве по пояс, когда впервые увидел его. Высокий, гордый, стройный молодой человек… Как Аттиле в Риме, так Аэцию пришлось провести детство в чужом лагере гуннов. Когда они вместе ездили по скифским степям в те долгие летние дни, вся жизнь и весь мир казались яркими и солнечными.
Каган хрипло велел шпионам убраться и поднес руку к глазам, не сосредоточиваясь ни на чем и глубоко погрузившись в воспоминания.
Однажды они выехали вместе — Аттила, Аэций и два мальчика-раба. Всего лишь вчетвером они убили ужасного вепря и тащили тушу на обратном пути в лагерь! А теперь великий гунн узнал, что и стратег тоже провел много лет в изгнании, вдали от любимого народа.
Искорка исчезла из глаз, пропала вся сардоническая радость от абсурдности этого мира. Конечно, существовал смысл и пример для подражания; и Драматург был автором трагедий.
Глубокая печаль наполнила душу Аттилы.
Стройный мальчик-римлянин, который положил руку на эфес меча, когда Руга ударил Аттилу по лицу, и стал бы биться, защищая друга. Вдвоем они лежали всю ночь в повозке на равнине, ожидая наказания, связанные и не состоянии пошевелиться, смеясь, дрожа и криком отпугивая шакалов…
О, Аэций! О, вы, боги, боги!..
Часть вторая
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛЕМЕН
Глава 1
Меч Саваша и правители-данники
Новости распространялись подобно степному огню, охватившему берега от Дуная до Аральского моря: найден меч Саваша!
Саваш был богом войны у гуннов. Легенды гласили: любой, нашедший его меч, станет властелином всего мира.
Рассказ о том, как оружие обнаружили, казался странным.
Некий пастух бродил по степи, когда заметил, что одно из животных порезало ногу. Он пошел по кровавому следу в траве и увидел прекрасный меч, наполовину засыпанный землей: тонкий орнамент, извилистое, суживающееся лезвие, какого никогда прежде встречать не доводилось. В суеверном страхе пастух отдал находку Аттиле, и каган тут же воспользовался случаем. Подняв оружие над головой, гунн заявил, что обнаружен меч Саваша.
Один человек из толпы не кричал громко от радости, а наблюдал, и вскоре его лицо, обычно бесстрастное, приняло крайне озабоченное выражение. Это был грек Орест. Только он из всех ликующих людей заметил: меч, который верховный вождь держал в руках, оказался подарком юному Аттиле, сделанным римским стратегом Стилихоном.
Невероятно циничное поведение? Обман хитрым и беспринципным повелителем своего же народа? Ослепление магическим «божественным мечом», в действительности изготовленным в каком-то императорском арсенале в Италии, в самом «сердце» неприятеля?
Но нет, это было не так просто. Крайнее удивление на лице Ореста постепенно снова сменилось безмятежностью.
Аттиле часто нравилось произносить шепотом таинственный стих:
Коль суждено будет пасть от гордыни и похоти,
Значит все это одно — сами заколем себя…
Сейчас Орест хорошо понимал своего кровного брата и друга.
Аттила объявил себя каганом всех гуннов, живших от реки Дунай до Китайской стены. В качестве дани привезли индийский жемчуг, восточные шелка и балтийские меха. Ночью Аттила встал и в самый разгар праздника по поводу прибытия Дания, обращаясь к своему народу, заявил: вскоре их империя покорит мир.
И люди поверили в эти слова. Построили огромный деревянный алтарь, такой же высокий, как дворец вождя. Зарезали много животных, жертвенник окропили кровью и жиром овец, крупного рогатого скота и лошадей.
В последующие дни, услышав новости, распространившиеся в обширных скифских степях на востоке, пришло большое количество людей и засвидетельствовало свое почтение — мелкие князьки, правители крошечных, разбросанных повсюду отрядов белых гуннов с берегов Каспия, кривоногие главари гефалитских гуннов, обитавших около Аральского мира. Даже из более отдаленных восточных областей явились те, кто едва ли были похож на гуннов. Эти одевались скорее как разбойники, чем правители. Они спустились на крепких маленьких лошадях с сочных зеленых лугов под сенью гор Тянь-Шань, поклонились кагану Аттиле, а затем встали и обняли своего повелителя, словно давно потерянного друга. Подобным теплым образом приветствовали Аттилу и гунны-отшельники с юга священного Алтая и из ужасной пустыни Такла-Макан.
Души наполнялись радостью, когда люди видели, как любили и узнавали их правителя все эти кочующие племена гуннов. Оставалось гадать, где тот побывал во время изгнания, сколько страданий перенес и сколько подвигов совершил, чтобы завоевать уважение у такой огромной толпы, словно герой народных мифов. Он стал подобен самому Таркану, выполнившему семь заданий, чтобы завоевать руку прекрасной дочери шаньюя Байкала. Ее красота превращала любого иного в каменный столб.
Аттила любезно принимал всех и показывал магический меч, который гости, становясь на колени, молча, объятые благоговейным страхом, целовали клинок. Человек, держащий оружие, приковывал к себе особое внимание. Безжалостные вожди племен, живших на равнинах, в горах и в пустынях, отлично знали: любой мошенник мог бы взмахнуть драгоценной находкой и заявить, что это меч Саваша. Но этот мужчина вовсе не был обманщиком. Он излучал такую силу, которая заставляла всех, стоящих рядом, трепетать до костей, словно пораженным какой-то стремительно распространяющейся лихорадкой. Перед гуннами стоял почти ставший легендой сын Мундзука, много лет назад отправленный далеко на восток в изгнание. Вожаки слышали его историю. А теперь Аттила, назначивший сам себя каганом, был здесь. Вокруг царила доброжелательная атмосфера, и даже мелкие князьки гордо подняли голову, испытывая страх и сильную привязанность одновременно.
Так увеличивался лагерь великого полководца.
Белые гунны и желтые гунны, одержимые междоусобицами и древней враждой, собрались у палаток людей Аттилы и, внемля настойчивым и осторожным призывам кагана, а иногда его пламенным речам, стали считать себя одним могущественным народом, объединенным узами крови, с общим языком и культом предков — прославленных сыновей Астура.
Скопление разрозненных племен превратилось в настоящий праздник, который продолжался несколько дней, а потом и недель. С рассвета до самых сумерек проводились игры и торжества, все вечера в палатках гуннов ели и пили. Жаркими летними ночами в тени предавались страсти сыновья Аттилы и дочери князьков (и наоборот). А утром щеки многих дев (хотя уже вовсе и не дев) покрывались румянцем, а глаза были опущены вниз из-за стыда и воспоминаний об удовольствиях. И многие молодые люди то и дело отрывались от игры и искали взглядом девушку, кротко сидящую где-то сбоку. И много мячей пролетело мимо цели, вызывая язвительные насмешки и обидные шутки прочих присутствующих.
Аттила сам выбрал пару молодых неопытных жен из тех, кто пришел с данью, но они сказали, что происходят от разных его детей. Полагали, что потомство кагана перевалило за две сотни, но никто не был полностью уверен в том. Аттила возвышался над всем, непоколебимо спокойный и решительный. Некоторым из ближайших последователей, Чанату и Кандаку, казалось, будто весь лагерь гуннов погружается в хаос.
А тем временем лето подходило к концу. Вскоре предстояло отправиться на зимние пастбища, но людей, лошадей и стад было так много, что и любых лугов вряд ли хватило бы. В становище Руги насчитывалось всего три или четыре тысячи человек, столько же имелось коней и овец. Теперь гуннов стало в десять раз больше, и трава в окрестных степях уже почти полностью исчезла. Советники верховного вождя твердили о плохих предзнаменованиях во время ссор, возникающих на пастбищах, о спорах, превращавшихся в кровавую месть и ведущих к настоящей междоусобной войне. Маленькая Птичка, верный себе, пел жестокие небольшие песни и читал стихи, играя на ломаной лире.
Но Аттила был по-прежнему улыбчив и безмятежен, будто весь этот праздничный хаос — лишь часть его более дерзкого плана, подробности которого каган держал в тайне. И спутники, кажется, доверяли своему предводителю. Даже Чанат, плюющий в пыль и бормочущий, что ничего хорошего не выйдет, в глубине души знал: Аттила видит гораздо дальше, чем он. Даже дальше, чем любой человек, с кем когда-либо приходилось встречаться.
— Нас слишком много, — ворчал старик. Старый гунн, каган и несколько избранных стояли на небольшом холме и смотрели на раскинувшийся впереди лагерь. — Для всех пастбищ недостаточно. Нас слишком много.
— С другой стороны, — сказал Аттила, — нас слишком мало.
Он подозвал к себе вождей разных племен, которые в ожидании замерли вокруг холма. Было пора попрощаться и отправляться по домам. Но у Аттилы оказались другие планы.
— Те из вас, кому нужно отправиться к новым лугам, могут идти. Но они вернутся в наш лагерь весной. Когда снег растает, здесь вырастет хорошая трава. — Каган показал на луну на утреннем небе, еще не ставшую полной. — Когда луна вырастет и уменьшится ровно двенадцать раз, я вернусь.
Больше Аттила не сказал ни слова вождям. Брату Бледе он приказал править мудро во время своего отсутствия. Тот заворчал и кивнул.
Великий вождь сформировал отряд из ста человек. Туда вошли восемь избранных, а также два старших сына, Денжизек и Эллак, которые выглядели довольными, словно юнцы. Еще девяносто воинов Орест отыскал среди обычных людей. Аттила велел десяти командирам начать строевую подготовку своих подразделений, подобно тому, как сам учил их. Затем приказал сыновьям выбрать двести лучших лошадей из загона. У каждого будет один конь для верховой езды и один вьючный — для переноса оружия, стрел, палаток и продовольствия. Работой каган обязал заняться и женщин.
Все без устали трудились целых три дня. Мужчины охотились на сурков в степи и, разложив на кучи, приносили животных, складывая вокруг костров становища. Женщины ловко разделывали туши маленькими острыми ножами, болтая и непрерывно смеясь, но тут же замолкая, как только в поле зрения появлялась чья-то фигура. Человек приходил в замешательство, некоторое время колебался и неуверенно шел прочь. О чем женщины разговаривали целый день? Они лишь обменивались загадочными улыбками.
Свежевали сурков и подвешивали коптиться высоко над огнем. Растягивали шкуры, словно во время засухи, на длинных подставках, похожих на обезглавленных летучих мышей. Доили кобыл и лили в огромные бурдюки из жесткой кожи молоко — тягучее, жирное и пенящееся. Цедили козье молоко, наполняя им матерчатые бурдюки, свисавшие с деревянных столбов. Прозрачная желтая сыворотка текла в ведра, стоявшие внизу. На следующий день продукт сворачивался, из него готовили аарул — сушеный творожный сыр, который мог не портиться в течение многих недель при путешествии по степи.
Проверяли запасы мяса, выкидывали постные черные куски с пренебрежительными криками «Хар мак!» Взамен подкладывали большие белые доли жирной баранины с едва видимыми прожилками. Именно это любили кочевники везде, где был суровый климат. Люди могли подкрепиться и продолжать свой путь по холодным равнинам, преодолевая тяготы нелегких дней и ночей.
В последний вечер перед уходом некоторые из старейшин племен сели на землю, скрестив ноги, вокруг смердящих костров. Они завернулись в истрепавшиеся попоны с заплатами, покачали головой и пробормотали, что вождь все-таки безумен. Погода была крайне неподходящей для выезда по любому делу — с мечом Саваша в руке или же нет. На юг надвигались сильные морозы и лед из легендарных северных стран, где, как считалось, жили гигантские белые медведи, превышавшие по росту самые длинные ели. Огромные снежные заносы и морозы постепенно распространялись повсюду, земля миля за милей оказывалась в их плену. Людям следовало бы оказаться на юге до морозов и подготовить зимние пастбища. Это не время начинать сражение.
Но человек, который ведет воинов в сражении, говорили старейшины, не являлся простым смертным. Пламя войны горело в его глазах уже весь год.
Чтобы отметить уход самых мудрых членов племен, состоялась маленькая церемония. Ночью шаманы зарезали ягненка и вскрыли его. Затем вытащили небольшое количество окровавленных кишок, сердечную мышцу, голень и кусок жира. Они бросили это все в шипящий жертвенный огонь. Маленькая Птичка бродил поблизости с глиняной трубкой в руке, выпуская из ноздрей конопляный дым. Его блестящие глаза, казалось, стали кровавыми при свете костра.
Предзнаменования оказались хорошими. Старейшины пошли к кагану, чтобы сообщить о своих наблюдениях, но Аттилу это не интересовало.
Он провел последнюю ночь наедине с Чекой во дворце.
Одни говорят, как слышали, когда супруги ночью спорили. Другие рассказывают о пронзительном и резком голосе правительницы Чеки, которая кричала, что после посещений Аттилы через девять месяцев она испытала муки деторождения, потом давала младенцам сосать грудь еще два года, а теперь он поедет с дорогими детьми в какое-то дикое путешествие и потеряет их! Те, кому довелось услышать жену Аттилы, изумлялись ее силе. Каким мощным и громким был голос властительницы!
Некоторые прислушивались к более глубокому, тихому голосу вождя и, вероятно, звуку ударов плетью. Но никто не вышел.
На рассвете появился Аттила и отдал один из последних приказов. Во-первых, его сыновья Денжизек и Эллак не последуют с отрядом. Два мальчика, стоя у каганского дворца, в глубокой печали повесили головы. Затем сама правительница Чека возникла около своих детей. Она была меньше ростом, чем Денжизек и Эллак, одела длинное лоскутное платье и аккуратно убрала назад волосы. Супруга Аттилы осмотрела собравшееся войско, кивнула и уверенно улыбнулась. Затем посмотрела на мужа, и тот отвернулся.
Каган приказал построить лошадей в линию и встал во главе со своей гвардией избранных. Жены ринулись к лошадям, чтобы намазать им лоб молоком, что было пожеланием счастливого пути. Некоторые плакали. Кое-кто просил привезти обратно много высушенных голов. Вокруг бегали дети и возбужденно смеялись, размахивая пучком травы или маленькими деревянными игрушками, кидая длинные травинки, словно копья.
Отряд уходил, когда начался легкий осенний дождь.
Где-то через полмили к великому вождю приблизился галопом Маленькая Птичка:
— Так значит, ты сегодня уезжаешь без своих двух замечательных сыновей?
Аттила заворчал, но ничего не ответил.
— И что скажут в Риме? Вспоминаю, это Орест-проказник рассказывал мне: есть такая шутка у их могущественных седых сенаторов: «Рим правит миром, мы правим Римом, а наши жены правят нами!»
Маленькая Птичка еще немного подумал.
— Ты думаешь, так бывает действительно только в Риме, великий шаньюй, мой всемогущий господин и властитель? Может, это случается во всех странах и державах мира?
Аттила некоторое время молчал. Затем велел шаману возвращаться в лагерь вместе с женщинами. Маленькая Птичка засмеялся, развернул коня и исчез в степи.
Когда отряд скрылся, появилось такое ощущение, будто с ним ушло самое важное, и становище перестало быть домом.
Вскоре случилось то, чего и опасались старейшины. Щедрое лето закончилось, скот худел и едва стоял на ногах, с каждым днем дул все более холодный ветер, начали распространяться болезни — сухие струпья, чесотка, сап, убивающий ослов и лошадей, но грозивший перекинуться на людей. Животные шатались у источников воды из-за сильных болей. Даже у овец и коз, самых устойчивых из всех, стали появляться следы заражения вшами. Хриплые крики превращались в сухой, отрывистый кашель. В палатках очень боялись, что разразятся не только ссоры, но и ужасная бубонная чума, которая приходит, как считалось, если есть больные сурки. Чума убивает даже самого сильного мужчину или женщину за считанные дни.
От руки одного из людей Аттилы в споре из-за девушки пал человек из другого племени. Полномасштабной междоусобной войны едва удалось избежать благодаря щедрым дарам, состоящим из лошадей, тонких ковров и золота. Постепенно некоторые семейства, возлагавшие большие надежды на меч Саваша, начали бесцельно разбредаться на восток и юг.
— Помните о возвращении через двенадцать лун, как сказал наш господин, Аттила шаньюй, прошу вас! — кричал Маленькая Птичка вслед удаляющимся повозкам. — Сам Маленькая Птичка смиренно ждет своего хозяина!
Шаман спрятался от несчастного племени среди детей, которых очень любил. Они сели вокруг нежданного гостя, скрестив ноги — малыши с четкими круглыми лицами, типичными для гуннов, с розовыми щечками и широко раскрытыми глазами. А шаман рассказывал сказки о горах, сражающихся друг с другом и выплевывающих изо рта горящие расплавленные скалы и огромные валуны, о мамонтах, роющих подземный туннель столь же быстро, как скачут лошади, из-за чего в мире людей повсюду начинались землетрясения.
Затем Маленькая Птичка внезапно остановился, в своей необычной манере изогнулся, прижал ухо к земле и от удивления едва не вскрикнул. Глаза детей стали еще больше.
Шаман сказал, что слышит, как дерутся муравьи в двух милях отсюда. Затем снова сел.
— Там, — показал он, — на другой стороне того холмика. Вы слышите? Ужасная битва. Муравьи отчаянно сражаются за право быть каганом холмика. Когда спустится ночь, многие из смельчаков погибнут.
Умные дети засмеялись этой бессмыслице, а глупые и доверчивые расстроились и забеспокоились за муравьев. Но вероятно, грустные и легковерные мальчики и девочки вовсе не были столь безрассудными. Кто думает — тот смеется. Кто чувствует — тот плачет…
Маленькая Птичка рассказал еще одну историю, чтобы утешить их — о мышиной семье, с которой был в дружеских отношениях. Заядлые путешественники, мышки плавали по Равенскому морю в ракушках и преодолевав снежные просторы зимой на крошечных санках, сделанных из былинок.
Когда дети вдоволь насмеялись и заснули возле костра. Маленькая Птичка вздохнул, собрался и ушел. Он высоко сел на любимом песчаном отвесном берегу, посмотрел на темную бескрайнюю траву и запел:
Недруг северный ветер ежедневно мучает нас,
Недруг голод страдать заставляет.
А сайгаки в осень ушли, лишь болезни с нами сейчас,
И в тоске душа застывает.
Но один есть друг у меня, мой товарищ, что не предаст —
Небу душу свою доверяю.
На следующее утро заметили, что, когда стало светать, шаман все еще дрожал у потухшего смердящего костра. Одна из женщин спросила, не заболел ли он.
— Ночные кошмары, один за другим, — сказал Маленькая Птичка, не отрывая взгляда от пепла. — Во сне видел снова змей. Они обвились вокруг моего горла и головы. И вокруг сердца.
Шаман закрыл глаза. И тихо прошептал:
— Змеи принесут мне смерть.
Глава 2
Поход на восток: воспоминания о Китае
Сто человек во главе с Аттилой в течение семнадцати дней и ночей ехали на восток, переправившись через Железную реку к северу от болот и многочисленных устьев ручьев и пройдя мимо огромного, ровного и усыпанного солью побережья Равенского моря. Затем они повернули на юг.
Пастбища уже начинали исчезать и бледнеть под копытами лошадей. Короткая золотая осень почти закончилась, уступая место приближающейся зиме. Сайгаки мчались перед отрядом словно привидения, а в песке, среди жухлой травы, были едва заметны следы волков. Иногда воины натыкались на явные напоминания о том, что здесь когда-то жили люди: неяркие желтые кольца на лугах, у собранных ветрами мусорных куч и разбросанных остатков побелевших костей животных. Здесь были оборванные банды безымянных кочевников, вероятно, отдаленные кровные родственники, а может, и враги, которые пропали в бесконечных восточных степях, не оставив после себя ничего, кроме неясных колец от палаток в сухой траве.
Отряд спустился в неглубокий овраг поздно вечером, миновав огромные разбросанные повсюду валуны медного оттенка в лучах заходящего солнца, поехал по узкой каменной тропинке. Там был заметен тростник и карликовые деревья. Воздух здесь оказался холоднее и более влажным. В безмолвной долине, уже в тени, воины прошли у светло-зеленых ив, вымыли лошадей и остановились на отдых.
На следующее утро они выбрались из оврага на дальнюю сторону, оставив позади редкий оранжевый сосновый подлесок. Земля была устлана хрупкими иглами, а в воздухе пахло смолой.
Отряд продолжил свой путь.
В полдень Аттила приказал остановиться возле высокой пирамиды из обвалившихся камней. Мужчины уронили поводья, их плечи опустились, и всадники устало замерли в седле. Лошади наклонились и начали щипать редкую траву на дороге. Верховный вождь перебросил ногу через голову коня, спрыгнул на землю, подошел к высокой пирамиде и вскарабкался на вершину — легко и грациозно, словно ребенок. Он снял свой потертый колпак и запустил пальцы в темные косматые волосы с седыми прядями. Губы изогнулись в характерной сардонической язвительной усмешке.
Аттила посмотрел на далекий горизонт. Насколько было видно, ветер тихо шевелил выгоревшую на солнце траву, которая вздымалась, словно бесцветный невесомый океан. Под ногами, в маленьких пещерах и проходах у каменной пирамиды, она шелестела. Прищурившись из-за яркости, Аттила заметил, что на юге трава становилась желтой, а линия горизонта расплывалась из-за пыли — там степь наконец-то сменялась пустыней. Далеко на севере и востоке, вероятно, мелькало что-то зеленое, даже, скорее, насыщенного темно-зеленого цвета. Там начинались безмолвные сосновые леса. Хотя, наверно, ничего такого там не было. Никто не может видеть так далеко, даже великий вождь.
Аттила повернулся, чтобы спрыгнуть вниз, и заметил: с той стороны, откуда пришел отряд, приближался всадник. Вождь остался на пирамиде, стал наблюдать, выжидая. Воины последовали примеру своего предводителя. Одинокая фигура на коне блестела в лучах солнца, всадник продолжат путь.
Через несколько минут человек подъехал ближе, и гунны услышали шелест копыт лошади по траве и смогли рассмотреть лицо «незнакомца», покрытое татуировками. Наконец всадник остановился перед отрядом.
— Итак, — сказал Аттила, спрыгивая с пирамиды, — Маленькая Птичка, известный безумец.
— Да, это я, — гордо подтвердил шаман, слегка наклонив голову. — В лагере было скучно. Там возникла опасность, что я смогу жить вечно и стать таким же дряхлым и бесполезным, как старый Чанат.
Аттила ухмыльнулся, сел на лошадь и отдал приказ двигаться дальше.
Маленькая Птичка ехал с ним рядом.
— Кстати, — добавил шаман, — там была женщина.
Каган глянул в сторону и поднял бровь.
— Сначала казалось приятно лежать между ее бедер. Но вскоре она стала причинять моим ягодицам сильную боль утром и вечером, словно в задницу вонзали что-то, по размерам и форме напоминающее спицу от колес тележек.
— Такова опасность для того, у кого слишком пылкий темперамент, — серьезно ответил Аттила.
— Но война принесет облегчение, — сказал Маленькая Птичка.
В сумерках одна из вьючных лошадей споткнулась о нору сурка. Мужчины тут же выхватили ножи. Во рту они уже ощущали вкус свежей конины, жареной на медленном огне. Но Аттила не позволил воинам убить животное. Маленькая Птичка подошел к лошади, которая терпеливо стояла и дрожала от боли, почти мгновенно навалив позади гору едко пахнущего навоза. Передняя нога оказалась скрюченной и волочащейся по земле.
Шаман что-то произнес в ухо животному и погладил своей желто-красной рукой его гриву. Затем снова и снова шептал слова, которые никто не понимал.
На следующее утро лошадь была здорова.
Отряд пересек необитаемую равнину, где тяжелое серое небо над головами внезапно огласилось криками диких гусей. Эти звуки встревожили, но затем успокоили воинов: теперь появилось ощущение, что они оказались не одни в этой бесплодной пустыне. Гуси пролетели дальше, крики стихли, и вокруг снова наступила тишина. Гунны получше закутались в плащи, наклонили головы и продолжили путь. На небе нависла серая, мрачная пелена, но на горизонте виднелся пучок серебряного света, который, как чудилось, вел прямо в волшебный мир, оставленный позади, словно отряд ехал под гигантской крышкой, закрывающейся с пугающей постепенностью. Становилось все страшнее, но воины не теряли мужества — скорее, наоборот. Все уже подготовились к смерти, и половина уже была готова принять ее вдали от дома и в такой малочисленной компании. Но любой из них погибнет с оружием в руках.
И затем, стоя в одиночестве, без стад и родной лесистой местности, совершенно неожиданно для себя воины увидели зубра — большого белого быка, одного из диких животных, свободно странствующих в лиственных лесах далеко на севере. Громадный зверь стоял, словно изваяние, как геральдический знак посреди кучи разбитых камней. В его холке глубоко засела стрела. Хотелось хотя бы теперь отведать мяса, но все знали: жуткое создание каким-то образом пытались убить, а делать это запрещено. Прищурившись, многие заметили необычную форму стрелы, которую раньше встречать не приходилось.
Значит, сейчас уже осталось недолго.
Чанат поспешил к раненому животному. Оно повернуло и опустило к старику свою огромную голову. Гунн остановился на безопасном расстоянии, слегка прикоснувшись правой рукой к древку копья, торчащего из быка. Взрослый зубр, раненый или нет, мог бы разорвать лошадь на части одним взмахом длинных изогнутых рогов.
Чанат повернулся в сторону и еще немного, прищурившись, рассматривал животное, затем поехал обратно.
— Кутригурские гунны, — сказал старик. — Будун-Бору.
Аттила бросил на него резкий взгляд:
— Пока на запад?
Чанат чуть-чуть задрожал, словно пытался освободиться от
какой-то напасти.
— Все племена идут на запад, и так уже во время жизни двух поколений. Они говорят, Сердце Мира и высокие равнины никогда снова не увидят дождя.
Аттила задумался.
— Кто же среди нас этот стрелец-умелец? — насмешливо спросил Маленькая Птичка. — И что этот придурок знает о стрелах страшного Будун-Бору?
Чанат резко повернулся к нему.
— Ты скоро сам достаточно узнаешь о стрелах Будун-Бору, когда они воткнутся в твою дрожащую шкуру, и тогда завизжишь, как насаженный на кол щенок!
Маленькая Птичка засмеялся и попытался урезонить гунна:
— В острие стрелы столько же правды, старый Чанат, сколько в песне красивой девушки!
Тот тихо заворчал на глупую шутку.
Аттила не обращал внимания на обоих, рассматривая мистическое животное на равнине.
На разломанной пирамиде, в последний раз заняв свое место в мире, умирая и почти не двигаясь, стоял зубр с белой шкурой без пятнышка крови, ревя от ярости, сотрясая холодные степи, не имеющие нигде конца и края. Затем он поднял огромную тяжелую голову и громко замычал в бесстрастное небо. Небо ответило эхом на его страдальческий вопль. Но ничего не изменилось.
Аттила покачал головой и тихо сказал:
— Оставьте быка в покое. Такова его судьба. — Затем он прищелкнул поводьями и пришпорил коня. — Зубра больше нет.
После раненой лошади и зубра был орел. Три животных или души трех животных служили одновременно хорошим предзнаменованием и предостережением. «Не отчаивайтесь, — казалось, говорили они, конь же поправился. Не осмеливайтесь, — ведь бык-то погиб». А третьим был дух, навеки недосягаемый, невредимый и непревзойденный в жестоком мире людей из-за своего совершенства.
Откуда ни возьмись пошел град, скрывший от глаз окружающие равнины. Воины поехали дальше, но градина размером с кулак ребенка попала и разбилась о морду лошади Ореста, а затем, развалившись на кусочки льда, упала на землю. Лошадь затрясла головой и запоздало взвилась на дыбы, обнажив зубы и пронзительно заржав от боли и негодования. Гунны спешились, притянули поближе животных и вместе с ними попытались как можно лучше устроиться в жалком убежище. Грохочущий град заглушал слова.
Через несколько минут косматые грозовые облака прошли по небу и исчезли на востоке, небо снова стало голубым и ясным. Теперь отряд продолжил путь по залитой солнцем равнине, усеянной повсюду яркими капельками, прилипшими к поломанным травинкам. Над головами гуннов, простираясь до самого горизонта, повисла разноцветная радуга Тэнгри — бога неба. На западе можно было видеть клубящийся туман, поднимающийся в виде пара с прогретого пруда. На протяжении многих миль попадались мутные и темные градины, приставшие к корням длинной травы и хрустевшие под копытами лошадей, а затем светлевшие и медленно таявшие, словно ускользающие жемчужины.
Снова выглянуло солнце и осветило засаленные плащи воинов и попоны коней — потных, с резким, сильным запахом шерсти. Но в воздухе витал приятный аромат влажной травы, и сердца гуннов наполнились радостью.
Внезапно Аттила схватил свой лук, натянул тетиву и выпустил ее высоко в небо. Только тогда, взглянув вверх, все заметили огромное призрак насыщенно-золотого цвета. Это был орел, пролетающий над головами, и воины вздрогнули от ужаса, подумав о том богохульном поступке, который совершил каган. Но, естественно, движение стрелы сбилось, и она прошла мимо, не причинив птице вреда, на расстоянии многих метров. Попадание в божество исключалось. Орел продолжал небрежно парить, его глаза янтарного цвета пристально рассматривали что-то вдали, на горной цепи, недоступное простым смертным.
Обезумевший верховный вождь гуннов подтянулся и пригнулся в седле, желая понаблюдать за удаляющейся птицей, подставив раскрасневшееся лицо слепящему солнцу. Золотые серьги Аттилы, отражаясь, раскачивались в разные стороны, голова была откинута назад. Он засмеялся, обнажив белые волчьи зубы, затем развел широко руки и посмотрел на свой отряд.
— Народ, рожденный с боевым щитом! — закричал вождь. — Народ, мечущий стрелы в поисках богов!..
И Астур, отец Аттилы, продолжил путь на запад, непроницаемый и неразрушимый.
Вечером отряд остановился и стреножил лошадей. Каган велел караульным держать луки наготове, а остальные зажгли костры и принялись готовить. В безветренную ночь дым медленно поднимался столбом в небо. Одинокий волк выл в долине неподалеку, и его вой походил на голос самой заброшенной местности. В сумерках над головами пролетели два лебедя-кликуна, тихий шелест их крыльев слышался среди треска дров в огне и воя несчастного зверя. Больше ниоткуда в этих бескрайних просторах не доносилось ни звука.
Некоторые думали, что было бы хорошо сделать невысокое заграждение от ветра из седел и попон, а затем поднять его, подложив еще седла и попоны, и смастерить трон для кагана. Тогда Аттила мог бы сидеть там возле костра.
Такого раньше никто не устраивал. Но Аттила разгневался и распинал по сторонам седла и попоны. Он, как и прежде, разровнял грязную землю подошвами поношенных оленьих сапог и сел, скрестив ноги, в пыль вместе с остальными воинами. Затем вынул нож из ножен, наклонился вперед и отрезал кусок мяса от шипящей голени на железном вертеле.
Гьюху расположился рядом, когда все ели, что было для него несвойственно. Ведь этот воин любил пробовать пищу в одиночестве, осторожно, словно собака. Закончив жевать, Гьюху сделал большой глоток кумыса, Прополоскал рот, передал фляжку и тихо сказал:
— Нас преследуют.
Аттила кивнул:
— Это всего лишь вестники. Главная сила еще позади.
— Откуда вы узнали?
Верховный вождь глотнул кумыса и улыбнулся огню.
— Если бы главные силы были бы здесь, то мы бы уже знали об этом.
Он осмотрел свой отряд, остановив взгляд на каждом из воинов. Орест сидел немного поодаль, строгая палку и, очевидно, не прислушиваясь. Но верный спутник Аттилы всегда вел себя так, а в действительности не пропускал ни слова.
— Подготовьте людей, но не пугайте. В нашем воображении Будун-Бору — демоны и духи, необъяснимое зло, которое можно победить с теми же шансами, что остановить стрелами реку во время сильного разлива. Это якобы Волчий Народ, люди, способные превратиться в настоящих волков и сожрать своих соплеменников при лунном свете. Но они — обычные люди из плоти и крови, как и все остальные. На самом деле, это наши дальние родственники, тоже почитающие Астура, приветствующие друг друга словами «саин байну», а на прощание говорящие «баяртай». И если уколоть любого из них, то пойдет кровь.
Аттила дал знак, чтобы фляжку с кумысом снова передавали по кругу.
— Я знаю. Я раньше уже с ними сталкивался.
— Шаман — тот, кто знает, — произнес нараспев чей-то голос поблизости. Это был Маленькая Птичка, как всегда, говорящий загадками. Он даже стал двигаться по кругу, где сидели воины, по какой-то особой и крайне необычной траектории и, разумеется, продолжал насмехаться. — Как много вы знаете, мой господин, делающий женщин вдовами!
— А как же много тебе придется узнать, мой маленький певчий дурачок!
Маленькая Птичка вскочил внутрь круга и занял место возле Чаната. Затем с обожанием широко улыбнулся старому воину. Чанат бросил на шамана сердитый взгляд. Остальные засмеялись.
— Но, — сказал Маленькая Птичка, откинувшись назад и посмотрев на неподвижные звезды, — таинственные земли, которыми управляют Тенгри, бог солнца, и Итуген, богиня луны, являются предметом спора. А путь к привидениям усыпан душами усопших шаманов. — Маленькая Птичка взглянул на Аттилу. — Это отчаянный призыв.
Наступила тишина, некоторое время было слышно лишь потрескивание в костре.
Аттила зашевелился и сказал:
— Я долго этого не знал, воля богов оставалась для меня тайной.
Маленькая Птичка ответил:
— Тот, кто полагает, что ему известны воля или намерения богов, не знает ничего.
Каган посмотрел на него и продолжил:
— Долгое время я ломал голову над судьбой нашего народа и над тем, существует ли жизнь после смерти. Астур выгнал нас в пустыню и превратил в бездомных и презираемых повсюду, отвергаемых и изможденных, задыхающихся от пыли и умирающих от голода. В Римской империи есть люди, называемые евреями, им тоже негде жить. — На некоторое время Аттила замолчал. — Но теперь я понимаю. Мы соберем все кланы, все племена странствующих гуннов, которые откликнутся на призыв, а также охотно возьмем в свои ряды тех, кто станет служить под нашими знаменами. Любых родственников из числа Белых Гуннов с запада, гефалитских гуннов возле Аральского моря и даже Будун-Бору, кутригурских гуннов, которых мы боялись при жизни многих поколений. Вероятно, возьмем даже тех, кто не говорит на нашем языке и не почитает наших богов, но в своем бесстрашии или отчаянии внемлет зову.
— Когда-то я знал двух братьев по имени Бесстрашие и Отчаяние, — сказал Маленькая Птичка. — Они были близнецами.
Аттила не обратил на шамана внимания.
— Кто бы ни ответил на призыв, тот станет сражаться с нами против Западной империи. Такой армии, которая появится у нас, мир еще не видел. Всадников будет столько, сколько песчинок в Такла-Макане. Отправимся на запад, разрушим Рим и сровняем с землей его и все еще существующие развалины! От этого города и камня на камне не останется, ведь наш народ там ненавидели, презирали и оскорбляли с самого начала. Наконец, когда новое государство будет простираться от далекого мрачного моря, называемого у неприятеля Атлантическим, являющимся границей Рима на западе, а на востоке — по всей Азии, до самой Великой Стены, тогда мы двинемся на своего заклятого врага. На древнего врага, появившегося задолго до того, как гунны услышали о Риме. На Китайскую империю.
Это прозвучало как ужасное ругательство. Маленькая Птичка зашипел и, вздрогнув, отвернулся. Остальные едва ли осмеливались взглянуть друг на друга. Это было проклятие, выражение, которое нельзя произносить, символ возмездия в древние времена. «Империя на востоке», — так обычно называли эту страну, если случайно заговаривали о ней. И никогда — «Китай». Барабанные перепонки начинали болеть, нёбо сохло, в голове гудело, даже если просто люди слышали название того государства — слово-проклятие, напоминание о древней катастрофе.
— Тогда империя гуннов станет могучей, — сказал Аттила. — Китай падет, а с ним падет и весь мир к нашим ногам.
Воины старались поверить в эти слова, чтобы понять точку зрения своего вождя. Впоследствии Чанат рассказывал, как его не покидало ощущение, будто он пытается проглотить целую корову.
Империя гуннов, простиравшаяся по всему миру, начиная от руин Рима и заканчивая развалинами Китая! Такое было невозможно себе представить.
Аттила говорил с воинами об их прошлом и будущем, а также о предначертанной богами судьбе. Правитель воскресил в памяти образы прежде величественных городов гуннов, опустошенных армиями Китая в древние времена. Когда-то было много вождей, продолжал великий полководец, они жили в прекрасных поселениях на широкой излучине берега Желтой реки на севере, в богатой и омываемой со всех сторон земле под названием Ордос.
— Сомневаюсь, — раздался низкий старческий голос. Это оказался Чанат.
У остальных перехватило дыхание от его дерзости, но Аттила улыбнулся и стал слушать. Каган очень любил этого бесстрашного, хотя далеко не юного воина, потому дал Чанату возможность высказаться.
— Сомневаюсь в городах, — не унимался старик. — Мы родились уже в седле. Вы же знаете народные легенды.
Аттила наклонил голову.
— Может, да, а может, и нет, — ответил он. — Но Китай — наш давний враг, и с этим не поспоришь.
Чанат задумался, поглаживая свои длинные седые усы, затем покачал головой и угрюмо произнес:
— Да, с этим не поспоришь.
Тогда Маленькая Птичка вынул из плаща необычный разбитый инструмент с одной струной. Затем осторожно потянул за него и изменил звучание, каким-то образом изогнув деревянную рамку, с низких басов на более высокую, сильную и скорбную мелодию. Прорицатель начал исполнять древнюю народную балладу того времени своим гипнотическим и завораживающим голосом. Он и не пел, но и не говорил, этот маленький загадочный шаман — не совсем взрослый, но и не ребенок, не вполне безумный, но и не здравомыслящий, который так же часто сидел на коне задом наперед, как и наоборот.
В балладе рассказывалось о великом правителе Тумане, отдавшим старшего сына Модэ в соседнее племя в качестве заложника и сделавшего второго сына наследником. Затем, желая смерти Модэ, Тумань напал на соседнее племя, но юноша исчез и вернулся домой. Отец поприветствовал сына неискренними улыбками и устроил пир, по-прежнему строя в своем злобном сердце козни, как лишить сына жизни. Но тот сам плел заговор с целью убийства отца, и план Модэ был действительно ужасным: он хотел сделать всех воинов и себя виновными в цареубийстве, поэтому никто не смог бы поднять мятеж.
Сначала Модэ жестоко муштровал своих подчиненных. «Стреляйте во все, что я стреляю, — кричал сын Туманя. — И да будет казнен любой, у кого дрогнет рука!»
Затем он поехал на охоту. В каждое животное, которое стрелял Модэ, стреляли и воины. Антилопы были утыканы стрелами, словно дикобразы, кабаны походили на огромных ежей. Тогда Модэ стал дразнить приближенных. Он направил лук на одного из самых любимых коней, одного из Небесных Скакунов. Некоторые из воинов засомневались — и тут же погибли. Юноша нацелился на любимую жену, и снова кое-кто последовал его примеру, но не все. И эти нерешительные были казнены. Наконец, Модэ направил стрелу на самую лучшую лошадь отца. Воины схватились за луки, и никто не дрогнул.
Затем во время охоты Модэ поехал позади отца, натянул тетиву и выстрелил ему в спину. Пораженный, Тумань завертелся в седле, испытывая невыносимую боль. Остальные воины наследника, уже настолько приученные беспрекословно повиноваться и не смевшие сомневаться, сделали то же самое. Через мгновение властитель Тумань лежал мертвым на земле. Тело было утыкано стрелами так, что на нем не осталось свободного места.
Модэ сжег останки отца и развеял по четырем ветрам, взяв только оголенный череп в качестве кубка для питья. Он стал великим властителем, завоевал и объединил множество племен. Так зарождалось государство гуннов в северной излучине Желтой реки, в земле, известной под названием Ордос…
Маленькая Птичка отложил инструмент.
— Враждующие семьи основали большое количество государств, — сказал он. — Я даже слышал, как рассказывали, что Рим был заложен, когда воин Ромул зарезал своего брата Рема.
Шаман посмотрел на Аттилу и улыбнулся.
— Но государство Модэ просуществовало недолго, — ответил Аттила и сердито взглянул на огонь. — Хотя ему и подчинялись более тридцати укрепленных городов по всей Монголии и Синьцзяну, и наш народ (на языке того времени — хунну) не уступал великолепием и славой империи Китая. Модэ правил в столице, называемой Ноин-Ула, что на горе Владык, с помощью железного скипетра. Но Китай презирал гуннов. Притом «хунну» означало всего лишь «народ», по-китайски же слово звучало как «сюнну», в переводе — «грязные рабы». И этим китайцы оскорбляли наших предков. Между ними разразилась война, и китайцы одерживали победы над жестокими воинами из Манчжурии. Но борьба продолжалась много лет, и положило конец ей предательство. В итоге тридцать прекрасных городов было разграблено, великолепные башни и дворцы Ноин-Улы сожжены дотла, а тех хунну, кто не погиб в битвах, объявили вне закона и сослали умирать от голода в пустыню. Сколько же людей «упразднили» империи, подобные Китаю?! Они отправились на запад, в неосвоенные земли Центральной Азии, и пропали навсегда.
Аттила медленно кивал, по-прежнему смотря в огонь.
— И тогда мы, хунну, стали мифическим, призрачным народом пустынь, обнищавшими бандами диких путников, жителями палаток, каннибалами, как о нас рассказывали, охотящимися за детьми поселенцев, словно бродячие собаки. Мусорщиками в грязных лохмотьях и старьевщиками, потомками ведьм и демонов ветра! Ладно, пусть люди верят, если от этого их холод пробирает до костей. Те хунну были нашими отцами.
Так говорил Аттила, такова была мифология гуннов. И кто скажет, что это неправда? Каган еще в детстве слышал рассказы, как основатель Рима, благочестивый Эней, побежденный давним врагом, бежал на запад из гибнущей Трои, неся на широких плечах старого отца Анхиза. Не кажутся ли жуткими параллели и отголоски прошлого? В них слышится смех богов.
Затем был император Тит, разрушивший храм в Иерусалиме и навеки превративший евреев в разрозненное и проклятое племя бродяг. И так же, как троянцы или иудеи, предшественники гуннов отправились на запад, спасаясь из песков из возвышенной и величественной Ноин-Улы. Подобно грекам, предрешившим судьбу троянцев, а римлянам — евреев, китайцы обрекли на гибель странствующих повсюду гуннов. Однако тяжело быть бродягой, жизнь кочевника невероятно горька и невыносима.
В Римской империи когда-то существовало племя ампсивариев, ведущее подвижный образ жизни. Тацит рассказывает целую историю об этом народе в двух лаконичных, типичных для него фразах: «Постоянно странствующих изгнанников сначала воспринимали как гостей, потом как попрошаек, затем как врагов. Наконец мужчин, способных держать оружие, истребили, а молодых и старых взяли в качестве трофея». Об ампсивариях мы ничего больше не знаем.
Почти то же самое случилось с евреями. Траян подумывал об уничтожении всего беспокойного и воинственного племени — заносчивого, высокомерного и самодовольно считающего себя «избранным». Но, конечно, было бы сумасшествием полагать, что можно искоренить целый народ. Вспомните об ампсивариях, уже забытых — с их языком, обычаями, богами. Или о назамонах на ливийском берегу. Нет, ни вы, ни даже сама История не воскресит в памяти то племя. Назамоны исчезли, словно никогда и не существовали. Однажды они восстали против уплаты налогов Домициану, и жестокий император тут же приказал уничтожить мужчин, женщин и детей. Когда это было сделано, Домициан просто заявил: «Я остановил жизнь назамонов». Словно он являлся богом! Каким, конечно, император и считался — священным кесарем. Траян мог бы совершить то же самое с надоедливыми евреями. Но в настоящее время Бог, признанный во всем мире, — иудейский Плотник, имеющий единую сущность со Своим Божественным Отцом.
Сколь бы обманчивой и изменчивой не оказалась Муза Истории, смех богов эхом откликается в наших склоненных головах…
Глава 3
Судьба купцов из Персии
В утреннем сумраке перед отъездом Аттила устроил для воинов, как обычно, длительную тренировку и муштру в езде на лошади и стрельбе из лука, чтобы те всякий раз по команде галопировали и поворачивали в трудных условиях. Отряды, в каждом из которых было по десять человек, имели свой особый сигнал и двигались независимо друг от друга. Сотня всадников могла разделиться на части и скакать галопом, перестраиваться и рассыпаться в разные стороны, а потом появиться, обладая, кажется, еще большим количеством бойцов, чем на самом деле. С оружием воины обращались уже с необычайной ловкостью, от их скорости захватывало дыхание, а сила и выносливость в том долгом путешествии были неисчерпаемы.
Каждый воин отрядов начал перенимать черты характера своего командира. Те, кто служил у Есукая, были импульсивными и безрассудными, как и у поэта Цабы и красавца Аладара. Они бы отлично справились во время стремительного нападения, поразив неприятеля своим бесстрашием, и погибли бы с громкими криками, но счастливыми. То, кто подчинялся трем крепким братьям — Юхи, Беле и Нояну — были стойкими и упрямыми, составив мощный центр. У Чаната же воины отличались спокойствием и хитростью, как и у Кандака. Эти бойцы терпеливо ожидали бы на флангах, пока не отдадут приказ, затем тихо вклинились бы в ряды врага без лишнего шума и суматохи, но убивая безжалостно и без разбора, словно рога быка. Люди Гьюху могли ехать много миль окольными путями, перейти вброд кажущуюся непреодолимой реку вверх по течению с самодельными пузырями из козьих шкур, невидимо плывя в вечерней дымке. А после этого — напасть на неприятельский лагерь под покровом ночи, перерезая горло своим жертвам, еще не успевшим проснуться.
Несгибаемыми были гунны, и с каждым днем они становились более жесткими. И разум, и мускулы твердели, словно земля под палящим солнцем.
Отряды продолжали путь в сумрачном утреннем свете, прошли мимо серых глыб, спрятавшихся в лугах и покрытых лишайником, словно расплавленными монетами. Остался позади мертвый бык в высокой траве. Куски его высохшей шкуры, свисающие с огромной побелевшей грудной клетки, напоминали выброшенную на берег перевернутую лодку, которая оказалась в глубине материка из-за сильнейшей бури. Затем на востоке, на горизонте, сквозь облака выглянуло солнце, будто пылающая бездна сверкнула из неизмеримых глубин.
Такой была великая азиатская степь, не выказывающая неприязни или пренебрежения к крошечным преходящим человеческим существам, подобно горам со свирепыми буранами или бушующему, несущему смерть морю. Она полнилась лишь безбрежным, нечеловеческим, безмолвным равнодушием. Если весной воткнешь копье накануне вечером в землю, на следующее утро уже не найдешь его: вырастет высокая трава. Таковы степи Кулунды — степи Изобилия.
Там обитало бесчисленное количество антилоп и более маленьких легких собратьев лесных бизонов. Порой местность превращалась в ковер, состоящий из миллиона шкур каштанового цвета. Летом животные шли к берегам реки и полностью осушали ее. Такими были те дни, годы божественного изобилия. «Городские жители и крестьяне поглотили бы все, что оказывалось незанятым и двигалось по поверхности земли», — думали воины, рассматривая те священные степи с чувством неописуемого восхищения, от которого едва не останавливалось сердце. Но тогда смерть принесла бы радостное облегчение, поскольку гунны любили безрассудно, а предмет их страсти был обречен на гибель. Все проходит и заканчивается, и ничто не пролетает так быстро, как счастливая жизнь человека.
Воины охотились за сайгаками по бескрайним степям, преследуя большие стада этих странных антилоп с вытянутой мордой, которые шли рысью быстрее, чем человек мог бежать, и мчались со скоростью сорок или пятьдесят миль в час. Всадники склоняли низко головы, втягивая своими длинными бугорчатыми носами как холодный воздух, так и горячую пыль степей.
Когда отряды ехали по низкому холму, от стада отделилось одно животное и стало наблюдать. Оно видело, как плащи воинов колышутся сзади по ветру, и шевелило ноздрями, делая мощные вдохи. Большие карие глаза смотрели с любопытством, но без страха. Затем антилопа прыгнула вперед и внезапно повернула к стаду. Множество сайгаков и маленькая группа воинов перешли в галоп одновременно, лошади ринулись вниз с холма и перемахнули через осенние рыжие степи.
Естественно, Аттила заранее отправил несколько человек из отряда Гьюху длинными окольными путями и велел залечь в засаде, устроенной для заметавшихся антилоп. Сейчас охотники, радостно крича, выскочили из своего тайника в высокой траве, приблизились к большому перепуганному стаду и начали убивать. Сайгаки бежали быстрее лошадей, но охотники были рядом и склонялись из седла, задевая ногами и ударяя по мчавшимся животным, и стреляли прямо в шею и холку. Стрелы застревали глубоко и пронзали сердце. Сайгаки падали замертво в пыль, вытягивая передние ноги и оседая под собственным весом. Некоторые из животных стремительно вклинивались сзади, иногда выпрыгивая и вырываясь из смертельной пляски стада, а иногда спотыкаясь и катясь кувырком на полном скаку. Тогда они с грохотом валились в грязь и, оглушенные, лежали там, пока их не растаптывали другие сайгаки или тут же не убивали всадники.
Воины тоже пострадали в той безумной давке, но каждый раз гунны воспринимали боль как часть великолепной игры. Сердца наполнялись радостью и колотились так бешено, что бойцы ничего не чувствовали и состязались друг с другом, демонстрируя бесцельный героизм. Один воин-подросток, голый по пояс, зажал между зубами рукоятку своего чекана, заостренного топора, спрыгнул с лошади и растянулся во весь рост на спине взрослого самца антилопы. Упав, он ухватился за рога — красивые, янтарного цвета в форме лиры рога с глубокими кольцами. Позднее юноша хвастался у костра, что за них очень просто держаться. Затем он перебрался на одну сторону и пригнул ревущего сайгака к земле, хотя и ободрал кожу до мяса на ноге и руке.
Воин выбрался из-под животного, зажал чекан между зубами и метнул длинный изогнутый топор в череп жертве. Юноша вылез из пыли с улыбкой от уха до уха, таща антилопу, висящую в ногах, словно тяжелый мешок, и держа ее голову за извилистый рог. Он сиял от радости победы. Пыль вперемешку с каплями крови подростка и зловонной мочи сайгака покрывала правый бок победителя от плеча до голени. Раненый зверь недолго протащил своего мучителя по земле, пока тот не прицепился в голову взбешенного самца.
По окончании битвы другие воины были покрыты не меньшим количеством пыли и крови или свежими пятнами синяков из-за падений на твердую почву или ударов копытами. Белые зубы блестели сквозь приоткрытые губы. Хохочущие во все горло, объятые диким восторгом, гунны слезли с лошадей и пошли пешком, добивая истекающих кровью сайгаков длинными ножами, словно раненых врагов на поле боя. Стадо уже давно исчезло в огромном облаке красновато-коричневой пыли, двигавшегося вдоль горизонта. Те, кто участвовал в военной пирушке, присоединились к остальным, дружески похлопывая по спине и посмеиваясь друг над другом. Какое же малое количество они убили! Жалкие остатки! Почему воины выбирали только самых старых и грязных животных? Даже женщины охотятся лучше!
Гунны взяли лучшие куски и разбили лагерь позади холма, на дальней стороне, повернувшись лицом на восток, чтобы встречать первые лучи солнца по утрам. Они пообедали еще теплой сырой печенью и обглодали суставы и кости, высосав мягкий мозг. Затем подкоптили немного мяса над огнем и вознесли благодарность небесам, пока приятный аромат распространялся вместе с поднимавшимся до самых звезд дымом.
Гунны спали крепко и спокойно, видя стадо сайгаков, несущееся по степи на зимовку на юг, и шкуры антилоп по цвету гармонировали с падающим снегом. Когда отряд отправился на следующий день в путь, мешки и животы всадников заметно округлились.
* * *
Из Бухары шел караван верблюдов и торговцев — бородатых, с темными глазами, с укутанными и спрятанными лицами. Он проехали поблизости от того места, где высокая трава превращалась в низкую поросль, а затем пустыню, считая, что тут безопаснее и вряд ли можно столкнуться с воинами-кочевниками. Один из путешественников оглянулся и закричал. Все остановились, посмотрели туда, куда указывал торговец, стали молиться богу Ахура-Мазде и ждать. К ним по траве неслись дикари! Через несколько минут они осадили лошадей. Вожак подъехал поближе и осмотрел караван. У незнакомца были синие татуировки на щеках, следы от трех тонких шрамов на широком загорелом лбу и узкие и жестокие глаза. Он улыбнулся.
Торговцы оказались высокими мужчинами, верблюды — обычными грязными созданиями с двумя горбами, но лошади — породистыми, с упряжью, украшенной бирюзовыми амулетами и дымчато-серебряными лигатурами. Вожак дикарей поинтересовался последними новостями, и несчастные рассказали, дрожа от страха и раздумывая, какая же смерть им уготована. Распятие на кресте? Или, может, варвар велит посадить всех на кол?
Но он по-царски взмахнул рукой, словно был правителем, и пожелал хорошего дня. Затем повернулся к своей компании разбойников, вместе с которой поехал на восток. Торговцы с изумлением смотрели дикарям вслед. Через мгновение они взглянули на небо, поблагодарили удивительного и непредсказуемого Ахура-Мазду, после чего отправились на запад.
— Они никогда не вдохнут в Бухару жизнь, — сказал Аттила, пошевелившись в седле и провожая караван глазами. — Здесь нет места торговцам или торговым судам. Дураки!
Гунны ехали по лесистой местности и пустыне («дикой Хоразмии» в представлении греков), и через день оказались на далеких нефтяных промыслах, где черная смола проступала на поверхность сквозь бесплодные пески. От некоторых смоляных ям постоянно шел дымок. Лошади остановились и смотрели на масляные озера с подозрением.
Иногда нефть воспламенялась сама по себе и горела много дней и даже лет. Как пишет Геродот, такое случается в пустынях Парфянского царства. Персы называют это «радинак», и, будучи умными, хитрыми и ненадежными людьми, не считают черную жижу полезной. Она уничтожает урожаи, загрязняет воздух, несет смерть и человеку, и животному, горит и не гаснет. Из-под земли вырываются высокие желтые языки пламени, заметные в звездную ночь на расстоянии многих миль вокруг. Но днем кажется все совсем другим — черным, коптящимся и адским, гибельным для всего, что живет и дышит.
Но Аттила усмотрел в нефти некую пользу. Без дальнейших объяснений он велел четырем воинам спуститься с лошадей и наполнить тягучей жидкостью большие кожаные короба, что вызвало возмущение среди гуннов.
Аттила гнал отряд к нечестивому месту, находящемуся в вечном сумраке, даже когда полуденное солнце освещало все остальное окрест. Лучи лишь едва проникали сквозь пелену густого дыма. Лошади склонили головы и прикрыли глаза и ноздри. Был темно и душно, пахло дымом и серой. Повсюду витал резкий запах просачивающейся или горящей нефти, не слышалось ни единого звука, кроме тихого скрипа песка от проседания копыт лошадей. Здесь жили демоны. В любой миг воин мог почувствовать, как под ним тонет конь, и тогда вопли животного ненадолго прорывали гнетущую тишину. Всадник и лошадь оказывались тогда в озере смолы, опускаясь все ниже и ниже в беспросветную тьму, распластавшись, открыв рот и молча с трудом дыша во мраке. Человек по-прежнему сидел верхом на уходящем в небытие коне, и, связанные некими адскими узами, оба навсегда исчезали в глубине мертвого полночного мира…
Скоро после чудовищности природы воины столкнулись с чудовищностью человека. Купцов из Бухары не отпустили по пути, подобно тому, как поступил Аттила. Очевидно, их схватили на где-то далеко на западе и привезли сюда. Устроили игры. Злобные родственники, кутригурские гунны, издевались над жертвами, создав из смерти театральное зрелище.
Кое-кто из купцов еще был жив и стонал на колу. Чанат слез с лошади, вынул нож и положил конец их страданиям. Затем вытер острие об один из голубых шелковых халатов несчастных и снова уселся верхом, смотря с отвращением. Казнь на колу — редкий вид наказания у племени, предпочитавшего устраивать это за действительно тяжкие преступления, например, за изнасилование каганской жены или дочери, подлое предательство или пренебрежение погребением в земле. Но кутригуры сажали на кол для развлечения, руководствуясь своим чувством юмора. Шакалы среди людей, они, как и все жестокие человеческие создания, были настолько трусливыми, насколько и бессердечными. Волчье племя.
Чанат наклонился с лошади и сплюнул.
— Смерть, прими их.
— Люди делают так, как делают, — сказал Аттила. — Не боги удерживают их.
В конце ряда казненных купцов забрезжил неясный свет сквозь нефтяную копоть. Лошади тихо заржали от страха, легкие свело от сильной боли. Временами гунны думали, что видят темные тени, движущиеся в тумане вокруг и позади, но не говорили ничего, не желая нагнетать обстановку. Они убили еще нескольких, висевших в дымке и медленно и мучительно умиравших. Кутригуры насадили несчастных на кол с невероятной ловкостью, тщательно заострив вершину столба и намазав животным жиром. Затем, в определенное время, палачи осторожно вводили кол в каждого обнаженного пленника, сжавшегося на земле, но не убивали его. Постепенно кол медленно втыкался, все больше раздвигая внутренние органы, в печень и селезенку, кишки, желудок и легкие по мере своего продвижения. Потом мучители отрезали большой кусок от плеча, чтобы намазанное жиром острие могло выйти наружу, и привязывали ноги пленника к столбу, а руки стягивали сзади. Тогда жертва не соскальзывала бы вниз. Далее они устанавливали орудие казни вертикально к земле, и насаженный на кол несчастный висел там в течение двух или трех дней, моля о скорейшей смерти.
Пройдя немного дальше, гунны натолкнулись на более массивные столбы с отсеченными головами верблюдов, принадлежавших купцам. С их шей свисали красные лоскуты, откуда капала кровь. Кутригуры презирали этих животных. Лошадей же забрали, а заодно — и личные вещи.
Когда воины вышли из туманной сумрачной долины и поехали по лесистой местности, некоторые пустились вскачь на бешеной скорости, чтобы стряхнуть омерзение и отвращение. Затем резко остановились и посмотрели наверх.
На невысоком горном хребте к северо-востоку на полудиких лошадях сидели два сородича-кутригура, подняв копья над головой, словно бросая вызов. Затем они развернули коней и исчезли на дальней стороне гребня.
Аттила, очевидно, полный презрения к смерти, тут же пришпорил свою лошадь и понесся стремительным галопом за незнакомцами, но животное взвилось на дыбы и остановилось на вершине горы. Каган гуннов взглянул вниз. Его отряд встал позади и стал осматривать неглубокую долину, которая раскинулась перед глазами. Два всадника исчезли за дальним гребнем. Внизу огромный выстроенный по кругу лагерь был сожжен дотла, осталась лишь обгоревшая трава. Кутригурские гунны уже ушли.
Через несколько миль воины стали свидетелями очередных леденящих душу сцен. Низкорослая колючка в сухой канаве, пара последних высохших ягод, багрово-красные, словно кровь быка… Насаженные на длинные черные шипы человеческие руки, неровно отрезанные до запястья. Отряд остановился и не мог оторвать взгляда, уже почти не в состоянии понять это новое зверство. В конце концов, Аттила пришпорил коня и осмотрел руки. Мраморно-белые, кажущиеся ненастоящими, они были маленькими, вокруг каждого запястья висели рваные клочья кожи и капли крови. Рядом еще один кустарник оказался в серых и блестящих кольцах кишечника…
— Они боятся нас, — сказал Чанат, пытаясь разглядеть что-нибудь хорошее. — Они стараются запугать нас, словно не желают сражаться.
— Они не боятся нас, — ответил Аттила. — Они проверяют, испугаемся ли мы их.
Он дал сигнал, и воины отправились в путь. Сейчас большинство ехало с луками, зажав в кулаке несколько стрел. Во время охоты на сайгаков гуннов обуяла дикая радость, а затем наполнила гордость — им все-таки удается оставаться в живых в течение всего путешествия, даже в труднопроходимой местности. Но теперь всадники преследовали людей. А там, где люди — там свет добра и тень зла.
На сердце было печально и торжественно, и воины смиренно следовали призыву исполнить свой долг.
Глава 4
Деревня
Ночью в пустыне всегда холодно, а сейчас и днем похолодало. Еще одна луна вырастет и пойдет на убыль, и тогда дни будут самыми короткими, а ночи — длинными и довольно прохладными, любимыми лишь черными магами да сумеречными демонами.
Пустыня оказалась усыпана серым гравием, на берегах серо-голубого озера виднелось немного жухлой травы. Вероятно, в горах Тянь-Шань и на вершинах Таван-Богда, у Пяти Владык, шел снег. Но здесь после кратковременных осенних дождей и случайного града было сухо, одиноко и холодно.
Кутригуры оставили для воинов Аттилы и другие знаки: упавшие перья, пучки конских волос, зацепившиеся за шипы, следы крови на бледно-серых скалах, похожие на неестественный ржаво-красный лишай, неисчезающий и необъяснимый. Недавно зарезанный олень лежал на тропинке, частично освежеванный, но на лопатках мясо не успело испортиться, хотя и было немного испорчено клювами птиц, но в целом оставалось нетронутым.
— Мне это нравится, — сказал юный Есукай.
Аттила покачал головой:
— Наши родичи в черных одеждах не делают подарков врагам. Съешь это — и будешь вскоре мертв, как олень.
— А, — Есукай кивнул, и воины продолжили путь.
Они проехали через заброшенные солончаки, вспугнув стаи маленьких пестрых птиц, клевавших моллюсков. Крепкий серо-зеленый чертополох-отшельник тянулся к свету из окостеневшей земли. Далеко, за низинами воины увидели одну-единственную круглую белую палатку, принадлежавшую кочевникам и бросающуюся в глаза, как греческий огонь на фоне темного неба. И, продвигаясь все больше на восток, они оказывались все глубже в пустоши, походя на сильно разочарованных людей, увлеченных саморазрушением. Уже давным-давно отряд миновал реки Амударья, Оксус, Сырдарья, Сарысу, пересек невысокие зеленые холмы Улутау возле озера Тенгиз, оглядел белоснежно-белые вершины Тянь-Шаня на юге и прошел возле безбрежных неподвижных вод серо-стального озера Балхаш, где жили чудовища. В той топкой местности, гоня лошадей сквозь длинную влажную траву, в которой ржанки устроили перекличку по заболоченной территории, гунны вспугнули лысух в тростнике. Воины услышали резкий вскрик цапли и увидели ее головку с хохолком посреди зарослей кустарника. Сквозь камыш, где разбили лагерь, проникали лучи заходящего солнца и отражались на кусках расплавленной меди на реке.
Гунны слабели от недоедания, но каждый день натыкались на еще более голодных существ, чем они. Отряд проехал пустынную страну, безжизненные солончаки и Кызылкум, Красные Пески — раскаленную дикую местность с редкими стебельками сухой желтоватой травы. Изредка попадались оазисы, такыр, встречались каналы и стада изможденных лошадей. Всадники склонили головы в капюшонах и вспомнили, что засуха всегда была самым страшным врагом для кочевников. Почему же они отправились в этот заброшенный край, где почти никогда не шел дождь? Чтобы увеличить свою численность, а потом повернуть на запад — к зеленым пастбищам и равнинным лесам Европы. Пускай скорей наступит тот день!
В бороздах и дюнах, насыпанных горячим ветром, страдальцы поняли предсказания о долгом сне и внезапном пробуждении. Песок слепил глаза бьющих копытами лошадей, которые уныло ржали, красные крупные частички застревали в гриве и длинных ресницах. Где-то внизу, в глубине пустыни, согласно поверьям всадников, жил червь-кровопийца, который плевался кислотой — ужасное существо без головы, без глаз, таящееся в недрах земли.
Гунны проехали по высокому каменному плоскогорью и в широкой ложбине возле обмелевшего озера увидели четырех костлявых коров, печально стоявших со сжавшимся выменем на твердых потрескавшихся берегах с высохшим на солнце илом. Несколько исхудалых жителей деревни лили воду серого цвета в корыто для кучки едва державшихся на ногах овец с длинными, тощими шеями. Шерсть клочьями падала с голов и шей животных из-за болезни. Кое-кто из юных воинов приготовился так или иначе заполучить их и забить и уже приложил стрелы к лукам, но Аттила велел остановиться.
Люди стояли и смотрели — молодые полураздетые, старые и беззубые. Их дети были облеплены грязью, мухи забивались в глаза и носы. Эти люди пассивно ожидали чего-то от небес, которым еще даже не умели молиться. Глаза малышей следили за всадниками из другого мира — но невыразительно и не мигая, словно совсем их не видели.
После вопросов о кутригурских гуннах, которые встретили с мрачным молчанием, один или двое жителей деревни начали отрывисто говорить, перебивая друг друга. Их язык был странным, но Аттила хорошо все понимал.
Из рассказов следовало: на поселение много раз нападали всадники в черном. Запасы на зиму забрали, лучший скот зарезали. Некоторые из тех дьявольских наездников сбрасывали убитых животных в колодцы. Зачем они делали это? Они же не были врагами жителям деревни? К чему такая жестокость, даже по отношению к чужакам? Да, нету в этом мире справедливости!
Из толпы несчастных вышла вперед старуха, тяжело опираясь на крепкую палку. Ее лицо было морщинистым и обветренным, словно потрескавшаяся грязь на берегу озера. Женщина гневно и бесстрашно обратилась к Аттиле, будто уже вступила с каганом в спор.
— Много лет те люди относились к нам снисходительно, — сказала она. — Теперь там, где разбили лагерь, на востоке, внизу по реке, они запретили брать воду. Только горькое озеро и осталось у нас, как будто боги создали реку исключительно для них одних. — Старуха застучала палкой в пыли. — Это так?
— Нет, — ответил Аттила. — Реки созданы богами для всех людей без различий. Всадники-кочевники могут путешествовать по любой стране. Но западные земли боги не делали Римской империей, ведь бедняки из Азии не могут пройти в зеленые пастбища и леса, а император ревностно охраняет их, словно скряга в своем подвале. Леса Европы, степи и великие реки Скифии, горы Азии — все это было создано безо всяких различий и разграничений для всех людей одинаково.
Аттила обращался и к своим спутникам:
— Помните это, когда придете в империю, когда посмотрите на прекрасные стены и башни, на бесчисленные армии Рима, и ваши сердца замрут в груди.
Один или двое молодых воинов нервно засмеялись при этих словах. Но лишь один или двое.
— Но это не самое худшее, — продолжала старуха, покачав палкой и снова воткнув ее в пыль. Она не собиралась отпускать этого владыку кочевников, пока не выскажет все, и потребовала, чтобы Аттила внимательно слушал. — Мы обязаны платить дань каждый восьмой день. Мы должны приносить тушу животного, которого поймали, весом не меньше человеческого. В противном случае необходимо привести одну из наших овец или коров. Каждые восемь дней. — Старуха выкинула вперед руку ладонью наверх. Она была пуста. — Что у нас осталось? Четыре коровы, пара едва держащихся на ногах быков, кучка коз, немного овец — ах да, еще мясные мухи, которые сидят сверху. Как платить дань дальше и сберечь свои жизни? Зима на носу. Наши дети и младенцы уже болеют от недоедания. Но им все равно, тем людям Будун-Бору. Они — демоны. Демоны, рожденные от злых духов.
Аттила подумал и приказал разгрузить двух вьючных лошадей. Затем раздал бедным жителям деревни аарул, несколько жирных кусков баранины на кости и козьего мяса. Изнуренные и несчастные люди стояли и молча смотрели вверх, словно умоляли о том, о чем сами не знали, и глаза их были сухими, как
пыль.
Аттила велел воинам поворачивать, и они объехали северный берег обмельчавшего озера и поскакали дальше.
Оказавшись вдали, Чанат горько сказал:
— Им придется сняться с лагеря и уходить.
— Мир огромен, — ответил Аттила. — Все племена находятся в вечном движении.
— И большие племена давят малые на своем пути.
Правитель гуннов кивнул.
— Они наткнутся на оборонительные сооружения империи, как готы, будут голодать и умрут там, в многочисленных потрепанных лагерях на берегах Дуная, смотря на обетованную европейскую землю.
Чанат и Аттила в последний раз оглянулись назад. Посреди красноватой песчаной бури, надвигающейся с юго-запада, стояли оборванные жители деревни, наблюдавшие за всадниками с безнадежной тоской, слишком ослабевшие, чтобы двигаться. Они схватили детей за маленькие высохшие ручки. Дети пристроились рядом сбоку, прячась около родителей от приближавшейся бури. Истощенные малыши были обнажены, но покрыты толстым слоем пыли. Солнце светило на них, удлиняя тени.
Вскоре все они исчезли из виду за горизонтом, словно никогда и не существовали.
— Мир таков, каков есть, — сказал Аттила, — и другим не будет.
— Однако… — ответил Чанат.
Аттила дернул за поводья. Даже Чагельган, казалось, запнулся и с жалостью и с неожиданными и какими-то не лошадиными угрызениями совести оглянулся назад, в бурю.
— Мы выехали не для того, чтобы быть сиделками у несчастных в этом мире, — прорычал Аттила. — Они — не наши люди.
— Но мы могли бы найти пристанище от бури у них, — произнес Чанат. — И, вероятно, завтра…
— Чанат, — сказал Аттила, вздохнув. Каган склонил голову так низко, что подбородок коснулся груди. — От твоего царского благородства и великодушия меня выворачивает.
— Чанат таков, каков есть, — ответил старый воин, радостно улыбаясь, — и другим не будет.
Он еще раз пришпорил коня и поехал назад, в надвигающуюся бурю.
Рядом неторопливо двигался Маленькая Птичка.
— Мой господин, делающий женщин вдовами, становится сострадательным! — запел шаман своим писклявым детским голоском сквозь поднимавшийся ветер. — Но осторожнее, мой господин, осторожнее! Чем больше и мягче твое сердце, тем шире мишень для неприятельских стрел.
…Воины укрылись в деревенских лачугах, закрыв лицо плащами и низко опустив голову, защищаясь от вихрей красного песка. Но Аттила, Чанат и Орест остановились в потрепанной хижине старухи с палкой. Она провела гостей в темную хибарку, заперла дверь и бросила несколько охапок дров в огонь в центре лачуги. Скрестив ноги, Аттила, Чанат и Орест сели вокруг, окруженные дымчатой мглой, прислушались к завываниям ветра и выпили скисшего овечьего молока. Хозяйка называла его арак, передавая по кругу в треснувшей чаше.
Когда огонь разгорелся с новой силой, воины заметили, что женщина была очень старой. Однако казалась бодрой, ее живые маленькие глаза, холодные и блестящие, как у змеи, еще мерцали на измятом лице. Щеки, покрытые складками, были изрезаны глубокими морщинами, словно земля, вспаханная в темноте лунатиком. Но когда старуха сняла с головы платок, гунны увидели: она все еще заплетала свои длинные седые волосы несколькими цветными лентами, будто самодовольная молодая девушка. Они улыбнулись.
Аттила вежливо передал хозяйке чашу.
— Так, — сказал он. — Кутригуры, совершившие нападение. Сколько их?
Женщина сделала большой глоток, чмокнула губами, тонкими и поблекшими из-за старости и пустынного ветра, и улыбнулась. Затем выпила еще, поставила чашу обратно и вытерла рот уголком платка.
— Сколько? — переспросила она и развела руки в разные стороны. — Много.
Аттила понял смысл жеста. Он означал, что в языке старухи не было слова для обозначения такого большого количества.
— На каждого из нас, — не отступал каган. — Сколько?
Женщина снова взяла чашу, выпила молоко до дна и приказала Оресту наполнить еще раз из кожаного кувшина в углу. Орест взглянул на Аттилу. Тот выглядел сбитым с толку. Верный раб сделал, как велели.
— Сколько на каждого из вас? — спросила старуха. — Достаточно, — и хмыкнула. — Десять на одного.
— Тысяча.
— Наверно, двадцать.
Аттила посмотрела на Чаната.
— Наверно, двадцать тысяч, по ее словам.
Чанат изменился в лице.
— Мой господин, мы не можем…
Аттила едва заметно улыбнулся:
— Мы остаемся, как ты и хотел, храбрый Чанат. Но не беспокойся, неприятности сближают.
Старый воин нахмурился.
Каган спросил у старухи:
— Когда они вернутся? Нападавшие?
Женщина покачала головой:
— Это мы к ним ходим. Через два дня необходимо уплатить очередную дань.
Она со всей силы плюнула в огонь, костер зашипел и съежился под ее злобным взглядом.
— Два дня, — повторил Аттила. — Тогда завтра мы отправимся в путь и найдем для них тушу животного.
Старуха выглядела озадаченной.
Аттила рассмеялся.
* * *
Следующий день был затишьем после бури. Высокое плоскогорье казалось сморщенным и промытым струями песка, и походило на шкуру паршивой дикой собаки. Оно производило впечатление еще более заброшенного места, чем обычно. Аттила взял четверых воинов — Ореста, Чаната, Есукая и Гьюху. Маленький отряд медленно поехал на восток, к низменности и реке, где кутригуры разбили лагерь. Было очень холодно.
Гунны спустились с высокого каменного плато на плоскую равнину с серой травой, в которой встречались пирамиды из булыжников, будто твердые пни деревьев из какого-то давно исчезнувшего леса. Пронизывающий ветер завывал среди них, и розово-серый отблеск рассвета стал просто холодной полоской в небе на далеком горизонте. Воины проехали сквозь длинные шевелящиеся тени, мерцающие и танцующие в траве, и с трудом пробирались сквозь горы камней, памятные знаки безымянных кочевников, украшенные и увешанные цветными клоками шерсти, лопатками овец и черепами птиц, скалы со странными выбитыми рисунками, завитками, рубчиками и причудливыми узорами, словно в них попали древние морские раковины.
Затем с правой стороны появились остроконечные горы из темно-серого глинистого сланца, с последними желто-фиолетовыми вьюнками и викой, еще тянущейся к жизни из щелей, куда проникали теплые лучи солнца. Высоко на склонах гунны увидели колонну двугорбых верблюдов, идущих вправо и жующих жвачку. Всадники остановились и стали наблюдать за этими созданиями. Их большие мягкие ноги бесшумно ступали по ровному камню, животные были полны аристократической меланхолии, обветренным благородством среди ветра и каменных глыб.
Отряд прошел через покинутое пастбище и спустился в узкий ров со зловещими высокими стенами из глинистого сланца, темными и блестящими от воды, а оттуда в широкую и глубокую долину. Там располагалась река, а на берегу стоял лагерь. Большего встречать еще не доводилось.
Воины подождали до сумерек, когда зимнее солнце почти касается темной полоски земли, и его кроваво-красный свет разливается на горизонте. Гунны сделали для лошадей кляпы из толстой веревки, связанной вокруг морды, а узлы запрятали в рот. Животные сильно трясли головами и сердито раздували ноздри, но бесшумно, что и было необходимо. Затем всадники пустили коней рысью и погнали вокруг местности, где находился лагерь, под прикрытием низкого холма, возникшего в результате давнего сильного наводнения и возвышавшегося над долиной.
Они спешились и залезли на вершину.
Лагерь расположился на расстоянии приблизительно в три или четыре сотни шагов. В нем насчитывалось, должно быть, более тысячи палаток. Ветер утих, и гунны слышали вдалеке крики и ржание лошадей. Среди палаток прогуливались мужчины, мерцали костры, взад и вперед бегали дети, женщины готовили пищу или ухаживали за больными. Некоторые несли воду из реки в огромных кувшинах коромыслом. На многих копьях в разных краях лагеря висели черные кожаные щиты. Позади, в сумраке, находился загон, где стояли тысячи лошадей.
На небе над этим громадным поселением светила одна-единственная звезда, одна блуждающая планета — безмолвно движущийся Меркурий. Внизу реки беспокойно, хотя и почти бесшумно, порхали черно-белые тени. Это были чибисы, поднимавшиеся в воздух над темнеющими берегами.
Рядом снова послышался шелест крыльев. Есукай потревожил стаю куропаток, и они наконец вспорхнули, так же неохотно покидая свои теплые гнезда, как заяц нору. Во мраке раздался громкий шум, когда птицы полетели вдоль холма в безопасное место. Но стремительный Есукай уже успел приложить стрелу к луку, перекатился на спину и, все еще вращаясь, пустил стрелу в парящую куропатку. Орест сердито зашипел на него, но было уже слишком поздно. Молодой воин точно расценил свои силы, стрела попала в цель. Убитая птица упала с неба, и ослепительно-белое горло и нижние крылья ярко сверкнули в последних лучах солнечного света на западе.
Есукай ухмыльнулся.
Орест взглянул вниз, на лагерь. К тому времени Аттила уже наблюдал.
В сумерках возле лагеря стоял и смотрел на них одинокий воин.
Гунны не могли издалека разглядеть лицо, но враг был плотного телосложения, в черной или темной одежде. Он нерешительно прошел несколько ярдов в том направлении, где находились Аттила с отрядом, сузив глаза. Неприятель слышал, как вспорхнули куропатки, и повернулся в тот момент, когда одна из птиц падала, блеснув в небе. Отойдя немного от лагеря, воин остановился, некоторое время понаблюдал, затем направился обратно к палаткам.
Орест вздохнул и склонил голову, схватив ее руками.
Аттила продолжал смотреть.
Воин исчез из виду, скрывшись за широкой низкой палаткой, и через пару минут появился вновь, ведя коня.
Аттила взглянул на Ореста. Орест — на Аттилу.
Оба посмотрели на Есукая.
— У тебя дерьмо вместо мозгов, — сказал Орест.
— Что? — спросил, вздрогнув, Есукай. — Что?!
И он начал карабкаться вверх по склону, желая увидеть то, что заметили Аттила и его верный спутник.
— Остановись — и вниз, — бросил через плечо каган, и Есукай не посмел сопротивляться.
Аттила повернулся.
Враг сел на лошадь и целенаправленно пошел рысью к укрытию маленького отряда. Когда воин приблизился, гунны увидели на нем черные кожаные штаны и сапоги, а также черную кожаную куртку, неряшливо завязанную узлом, обнажавшую полные мощные руки. В одной ладони воин зажал копье, другой натянул поводья. Длинные прямые волосы были иссиня-черными в последних лучах солнца, широкое скуластое лицо казалось чисто выбритым, и лишь тонкие приглаженные усы свисали вниз. Глаза не отрываясь смотрели на холм, где лежали гунны.
Аттила пополз назад.
— По коням, — приказал каган. — Приближается наша жертва.
Как только неприятель оказался на вершине, на него тут же накинули арканы. Существовала опасность, что петли переплетутся, но Аттила и Орест бросили их не одновременно — сначала один, потом второй. Две веревки плотно обвились вокруг горла врага прежде, чем тот успел вскрикнуть. Гунны по очереди пришпорили лошадей, аркан туго натянулся на высокой луке деревянного седла, и шея воина оказалась разрезана почти надвое. В то же мгновение Чанат пустил стрелу в сердце лошади, и животное осело на землю с открытым ртом, но прежде чем оно смогло почувствовать боль, было уже мертво. Конь упал на траву и покатился кувырком вниз по склону, а кутригур высвободился и болтался, едва касаясь голыми ногами земли, все еще с веревкой вокруг шеи. Есукай подъехал ближе и воткнул кинжал в сердце врага. Но в этом уже не было необходимости.
Пока остальные снимали аркан с мертвеца и устраивали его тяжелое тело на одну из лошадей, Аттила спешился и снова полез сквозь траву, чтобы понаблюдать за лагерем.
Ничего не изменилось. Верховный вождь продолжал смотреть еще некоторое время. Все было как раньше.
Аттила опять запрыгнул на Чагельгана, и отряд поскакал прочь легким галопом. Зарезанного воина прочно привязали к крестцу мирной лошади Ореста. Его глаза оставались открытыми, голова низко наклонилась и наполовину свешивалась с шеи, и оттуда капала черная, венозная кровь.
Глава 5
Будун-Бору — Волчье племя
Было темно и безлунно. Отряд ехал при свете одних только звезд, неясные тени скользили по неподвижной траве. Ни один луч света не проникал сюда. Но когда воины глубокой ночью вернулись, начался большой переполох, и радостные жители деревни с песнями вели гуннов обратно, зажигая факелы. Дети танцевали, с удовольствием наклоняясь вперед, чтобы плюнуть на Человека-Волка, и, протягивая маленькие грязные ладошки, шлепали и щипали его бесчувственное тело. Женщины откидывали назад головы и завывали импровизированные пеаны в честь благородных завоевателей. Даже старая жрица исполнила несколько победных танцев в пыли вокруг своей лачуги.
— Еще немного рановато, — пробормотал Чанат.
Воины сняли тело с лошади, крепко привязали к длинному столбу и завернули в толстый мешок, чтобы не погрызли крысы. Затем подняли столб и установили вертикально между крыш двух лачуг, обезопасив от деревенских собак, которые могли бы прибежать и разорвать мертвеца.
— Откуда вы знаете, что остальные не придут и не набросятся на нас в свою очередь, пока мы спим? — спросил Чанат.
Аттила покачал головой.
— Слежки не было. Кутригуры нападут на нас именно тогда, когда я хочу. И в беспорядке.
Чанат не мигая смотрел на верховного вождя. Он знал, что господин говорит правду, хотя и не понимал, почему это так.
Все спали.
На следующий день жители деревни устроили пир в честь победителей. Это оказался самый жалкий праздник, на котором когда-либо доводилось присутствовать. Воины жевали, медленно глотали и обменивались взглядами. Выражения лиц были многозначительными. Гунны ели куски непонятного и столь сухого мяса, что боялись, как бы не сломать зубы, пили кислый арак, закусывали ломтики сыра аарул, который принесли с собой, и искренне нахваливали еду. Жители деревни сияли от гордости.
Позднее старуха-жрица привела за руку застенчивого подростка и обошла с ним три раза вокруг костра, бормоча невнятные заклинания. При каждой вспышке огня женщина бросала горсть зерна в пламя, и ее голос немного повышался и потом снова утихал.
Вечером, когда все сидели возле потрескивающих поленьев, Аттила поинтересовался, что это была за церемония.
— Приворожить удачу ради его жены.
— Жены? Разве жена — такая удача?
Старуха качнулась назад и хихикнула.
— Вероятно. А может, если привести ему жену, появится ребенок — дождь в сухой день, новорожденный теленок, все, все, что по воле богов падает с небес. — Она хитро прищурила глаза. — А вдруг ты — его удача. А вдруг его удача — увидеть смерть наших врагов.
— Расскажи, что ты знаешь о ваших врагах. Расскажи нам о кутригурских гуннах, о Будун-Бору.
Старая жрица помешала огонь своей толстой палкой, подталкивая отвалившиеся красные угольки обратно в костер.
— Ты узнаешь их по именам, — произнесла она. — Красный Зоб и Черная Вена, Змеиная Кожа и Рваное Нёбо, Каменный Зуб, Половина Уха, Кровавая Полночь и Дождливый Ястреб. Это не человеческие имена. Это имена демонов из преисподней.
Аттила кивнул в сторону мертвого воина, привязанного к высокому столбу:
— Демонов так просто не убить.
Старуха облизнула губы и хитро ухмыльнулась:
— Наверное, вы тоже демоны, но более могущественные.
Она снова посмотрела в огонь. Улыбка исчезла. Жрица еще раз сказала, что кутригуры — не человеческие существа, а демоны в образе людей.
— Давай я расскажу тебе о том племени. — Старуха плюнула в костер. — О нем и о моем погибающем народе.
Наступило долгое молчание, пока женщина воскрешала историю в памяти. Когда она заговорила, голос ее был низким и проникновенным.
— Мы считали, что мы — единое племя, мой народ. Других не было до того как Нага, Великая Мать, Причина Лет, впервые легла с От-Утзиром, и из ее чрева родились мы, ее дети. В момент встречи с другими, пришедшими из-за огромного песчаного моря, все полагали, что это животные, непохожие на нас. Теперь-то мы понимаем, как ошибались. Но насчет кутригуров не заблуждались. Они — не человеческие существа. Великая Мать в тот день, когда сотворила то племя, упала в грядку с вредоносными цветами, пасленом и плющом… А папоротник-орляк уронила на лошадь. Вот из чего сделаны кутригуры. Яд течет в их жилах, змеи вьют гнезда в волосах. У них не ногти, а когти. Это дети зла, отверженные потомки Наги и От-Утзира, и им нравится быть такими, поскольку зло похоже на крепкий напиток. Когда пьешь его в первый раз, заболеваешь. Через некоторое время хочешь еще, аппетит растет, тебе нужно все больше и больше… Мы же, племя людей, теперь страдаем от проклятия кутригуров. Великая Мать пришла к нам в гневе, и мы не знаем, отчего и почему. Была одна девушка… — старая жрица осеклась.
Она сделала быстрый вдох — гунны видели, как двигалась худая грудь, — и очень низко опустила лицо. Плотно сжатые кулаки лежали на коленях. Воины ждали. Старуха немного подняла голову и продолжала.
— В те дни, когда мы еще являлись великим народом, когда в наших загонах стояло больше лошадей, чем поддавалось счету, была девушка, прекрасная девушка. — Жрица сглотнула. — Она походила на птицу, райскую птицу, а ее муж — на орла. Она… однажды она поехала в степь со своим сыном, маленьким розовощеким мальчиком. Два лета и две зимы минуло со дня его рождения. Чоро — так звали крошку — стал бы великим полководцем. Но тогда он был слишком мал даже для того, чтобы охватить своими пухлыми ручками мать за талию.
Старуха засмеялась каким-то неожиданным горьким смехом. Гунны ждали.
— Ее малыш… Он держался за маму как можно крепче своими толстенькими кулачками, а та вела сына в весеннюю степь смотреть на антилопу. Мальчик обожал наблюдать за животными, как и все дети. Муж сказал жене: «Осторожнее. Береги наше дитя, ведь это наш первый и единственный ребенок». Она же улыбнулась и ответила, что позаботится обо всем. Нисколько не боясь, девушка откинула назад свою прекрасную головку и рассмеялась. Она была райской птицей… Мать и сын увидели множество антилоп, и красавица схватила тонкий лук — недаром же слыла искусным стрелком — и убила зайца и куропатку для домашнего очага. На обратном пути выскочил одинокий олень, но девушка оставила животное в живых, хотя могла бы этого не делать. Она была райской птицей…
Снова наступило долгое молчание.
— По дороге домой матери показалось, что откуда-то доносится свист, и девушка испугалась. Она поскакала быстрее, без остановок, ударяя пятками лошадь по животу. Но что-то было не так. Чувство ужаса не исчезало. А то, что слышала девушка, оказалось свистом стрелы. Хотя она и летела домой, как ветер по степи, просвистела еще одна стрела и, звонко хлопнув, попала в цель. — Жрица чмокнула языком по небу, и от этого звука воины вздрогнули. — Девушка почувствовала боль в спине, но ощущение тревоги в сердце оказалось еще невыносимей, ужас поселился в глубине души. Она окликнула сына, пока ехала, но тот не отвечал. Тогда, загнув назад одну руку и крепко держа вожжи другой, мать стала искать малютку. Мальчик наклонился, словно мертвый. Стрела прошла прямо сквозь тело младенца, принеся ему немедленную смерть, и воткнулось в спину девушки. Не очень глубоко, хотя все-таки задело. Это не та рана, что поразила ее в самое сердце. Пронзительно закричав, мать остановила лошадь, и ее вопль, эхом отозвавшийся в степях, был похож на вой ветра. Девушка испытала невыразимый ужас, протянув руку назад, схватив в кулак ту стрелу, выдернув за перо из себя и держа тело собственного ребенка. Несчастная едва не упала с лошади. Рана оказалась в спине возле позвоночника. Одежда намокла от крови своей и сына. Она снова смешалась, как уже однажды в чреве. Тогда — во имя жизни, теперь — после смерти.
Изнуренные воины, сидевшие вокруг, хранили молчание, и у некоторых грозных гуннов в глазах заблестели слезы.
— Мать опустила тело мертвого сына на землю, отломала наконечник у стрелы, вытащила дротик из тела мальчика и поцеловала его лицо, ничего не выражавшее, ведь малютка так рано покинул наш мир. Нужно было закрыть глаза крошке, но бедняжка не могла заставить себя это сделать. Несчастная провела рукой над его лицом, глазами, заглянула в них. Они оставались широко открытыми. Больше ничего там не было. Свет исчез. Мать прижала сына к груди и зарыдала. Когда бедняжка подняла голову, вокруг уже собрались всадники, которые утащили тело бездыханного младенца и всадили в мальчика еще несколько стрел, желая удостовериться в его смерти, хотя в том и не было необходимости. Тогда чужестранцы бросили раненую девушку на землю, и каждый из них воспользовался беззащитной по своему усмотрению. После подтянули штаны, плюнули на несчастную, засмеялись, сели на коней и поскакали прочь. Вот каковы воины Будун-Бору, Волчьего племени.
Огонь почти погас. Ночь была тихой и холодной.
— Они — демоны, как ты и говоришь, — сказал наконец Чанат.
— Никто не противостоял им. И, наверно, по сей день это так.
— А девушка? — спросил Аттила. — Она выжила?
Старуха улыбнулась горькой улыбкой.
— О да, несчастная не погибла. Она пролежала день и ночь на земле, затем встала, нашла в длинной траве закоченевшее крошечное тельце сына, завязала в одежду и, неся в руках, пошла обратно в свой лагерь. И думала, что сердце разорвется от боли. Когда бедняжка появилась в деревне, подбежал ее сильный муж, ее орел, ее лев. Глаза отца сверкали, белые зубы сияли, а черные волосы развевались на ветру: так рад был он встрече. Но тут же увидел своими глазами сверток в окровавленной одежде, что несла в руках убитая горем женщина. Тогда ее сердце разорвалось от боли.
Старуха посмотрела на слушателей, и все, как один, отвернулись, будучи не в состоянии выдержать взгляд.
— И с тех пор рана еще не зажила.
На сердце стало тяжело. В ушах звенела прощальная песня.
— А мужчина? — спросил Аттила очень низким голосом. — Ее муж?
— Он никогда больше не говорил с ней. Он не простил ее. На следующий день выехал он один против врагов, несмотря на ее мольбы. После того дня несчастная ни разу не видела мужа.
Старуха наклонила голову, и наступило долгое молчание. Наконец жрица пошевелилась и повернулась, по-прежнему скрестив ноги на грязном полу лачуги. Потом откинулась назад, сняла плащ и платок, развязала платье и стянула его. Тогда при гаснущем свете костра возле костлявого позвоночника гунны увидели кривой шрам от давнего ранения стрелой. Они все поняли. Старуха снова завернулась в одежду и повернулась к воинам.
Затем жестом попросила передать чашу с араком, сделала большой глоток и поставила ее обратно. В оранжевом свете глаза ее были полны слез.
— Конечно, велика печаль в этом мире, — сказала наконец жрица. — И мне не так много лет, как вы можете подумать. В одни двери старость стучится раньше, чем в другие.
Воины не отрываясь пили арак. Им было нечего сказать, нечего предложить. Жрица прошла огромный путь, какой не всем под силу.
— Однако должны ли мы жаловаться и обвинять богов? — подвела итог старуха, и ее голос вновь стал решительнее. — Ведь они сделали кутригуров такими, какие они есть, и мы не знаем, почему. В пустынях на востоке, в лесах на севере живут не менее ужасные племена. Наши глаза не видят их. Поэтому должны ли мы обвинять богов, что они сделали нас из терзающейся плоти и поселили на полной страданий земле, зная, как сложится судьба каждого человека? Должны ли мы рыдать, как дети, навсегда возненавидеть и обидеться на богов, как несмышленый ребенок — на родителя? Должны ли мы вечно проклинать и оплакивать свою судьбу, как малые и неразумные создания? Разве мать не рождает дитя в крови, в слезах, причем хорошо понимает, сколько печали, страданий и, наконец, какую смерть придется принять чаду? Она, как и мы, осознанно обрекает на это ребенка, пока вынашивает его. И разве мы ошибаемся, говоря, что мать любит своего малыша? Да она бы умерла за него, если бы могла!
Старуха кивнула, и лицо рассказчицы озарилось неописуемой улыбкой.
— О, да. На земле мало матерей, которые не отдали бы жизнь за детей. Такова уж их доля. — И снова кивнула. — Когда-то жила-была старая женщина, многому научившая меня в юности, тоже жрица, часто гулявшая и разговаривавшая с Матерью Нагой. Однажды мы пошли подышать свежим воздухом и наткнулись на молодого зайца. Его схватил неопытный орел. Хищник наклонился над бедолагой, вцепился в него и теперь глупо смотрел на добычу, словно не зная, как убить. Наверно, он поймал первого зайца, поэтому и не растерзал мгновенно, как сделал бы взрослый орел. Несчастный был в агонии, прижатый к земле когтями птицы, и стал пронзительно кричать. Он завопил, и я, тогда еще совсем дитя, никогда не испытывавшая боли в душе, повернулась к старухе, которую очень любила, и спросила, почему Великая Мать не пришла и не спасла бедного зайца? Как могла Нага позволить ему так страдать? Женщина повернулась, дотронулась до моей головы и в тот момент как-то по-детски, наверно, но я подумала, что это и была сама Нага. Старуха сказала тихим и нежным голосом, который я слышу даже сейчас. Она сказала: Великая Мать находится не где-то далеко на небесах, наблюдая за нами. Великая Мать — не холодная Царица Небес, не надменная владычица, не хитрая и коварная Причина Лет. Она здесь и сейчас. Она с нами и страдает. Она в зайце. Она в крике зайца.
Старуха кивнула.
— Я думаю, это так.
Воины выпили еще, подумали, а затем уснули.
Глава 6
Дань весом не меньше человеческого
Когда начало светать, Аттила был уже на ногах.
Он вытянул руки, расправил грудь и ухмыльнулся всходящему солнцу. Казалось, наступал хороший день для боя.
При первых лучах великий гунн объехал и осмотрел деревню и широкое каменистое плоскогорье, на котором она находилась. Скоро начнется атака.
Орест не замедлил появиться возле своего предводителя.
— Так они пока не преследовали нас?
Аттила посмотрел на синевато-серый горизонт.
— Или еще не решились. Знают ли они о нас вообще?
— А если они бы тотчас пошли за нами и напали ночью?
— Было бы замечательно.
Аттила повернулся к кровному брату, греку по происхождению, и улыбнулся:
— Нас бы вырезали всех до единого, конечно. Но это было бы замечательно!
Орест отвернулся, качая головой.
— Но ничего такого не случилось. Я знал, что не случится. Они нападут, когда я буду готов к ним. Не раньше.
Аттила снова посмотрел на плоскогорье.
— Буди людей, — крикнул каган вслед Оресту. — И остальных в деревне.
Он приказал жителям привести своих немногочисленных быков вниз, в долину, обмотать колючим кустарником и прогнать обратно. Затем велел детям выйти на плоскогорье и собирать валуны и камни, настолько большие, насколько могли утащить, но по размеру не меньше головы. Их поставили по периметру деревни большим кругом. Разбросанные глыбы лежали в пыли, виднелся лишь краешек поверхности.
— Отличная защита, хозяин, — сказал Маленькая Птичка, торжественно кивая своим пучком волос на голове. — Это — если они нападут на мышах.
— Иди и собирай колючки, — ответил Аттила.
— Я?! — голос Маленькой Птички стал высоким от негодования. Шаман осторожно дотронулся кончиками пальцев до груди и недоверчиво, скептически поклонился. — Я? Разве я простой крестьянин, сборщик шипов, как эти грязные и вонючие мужланы?
Аттила выхватил свой аркан из бычьей шкуры и опустил на него.
Маленькая Птичка пошел собирать колючки.
Великий гунн велел притащить шипы в круг, где стояли валуны, связать их крепкими веревками, образовав внутренний круг, поменьше, за исключением одного узкого участка. Его каган велел обмотать отдельно, чтобы заграждения можно было втащить и вытащить из дыры, словно колючие ворота. Аттила требовал все новых шипов и делал укрепление выше и шире. Жители деревни принесли еще, но каган хотел большего. Каждый раз приходилось спускаться дальше в долину.
Крестьяне ворчали. Их руки и запястья кровоточили из-за длинных тонких царапин. Худые, истощенные, едва передвигающиеся быки вряд ли могли служить хорошей защитой. Возвращаясь, люди смотрели вдаль, на горизонт — не появились ли одетые в черное всадники. Тогда смерть стала бы неминуемой.
Теперь Аттила обратился к уставшим крестьянам:
— Полагаю, у вас есть лопаты? Мотыги?
Люди молча кивали.
— Принесите.
Воины из отряда Аттила с сомнением глянули друг на друга. С лопатами и мотыгами в руках пока что не выигрывали войн. Ими пользовались простые крестьяне, выполнявшие тяжелую, нудную и монотонную работу. Ни один кочевник никогда не умел обращаться с лопатой. Огородничество — занятие готов. Но не гуннов.
Аттила приказал спешиться, выстроиться в линию и указал на кучу обычных крестьянских инструментов.
— Доблестные воины, — сказал он, — пора вам узнать, как копают яму.
Когда гунны уже едва не падали от усталости, появилась новая задача. Аттила велел своим людям снять таинственные узлы, завернутые в холст, которые каждый вез на вьючной лошади. Жители деревни увидели, что все это время животные несли по три просмоленных дерева из северных лесов. Здесь почти не было растительности, поэтому такое большое количество деревянных столбов многих удивило. Но они не были предназначены для костра.
Аттила велел детям принести кувшины с водой из горького озера и вылить содержимое, чтобы смочить потрескавшуюся и затвердевшую землю. Когда она стала достаточно мягкой, каган сам показал, ловко воспользовавшись колотушкой с железным наконечником, как, сильно ударив несколько раз, установить каждый столб под большим наклоном к поверхности почвы. Аттила своими руками поместил стволы деревьев в круг, в чащу с шипами.
— Внутрь, мой господин? — с сомнением в голосе спросили озадаченные воины.
— Внутрь, — ответил он. — Столбы не горят, в отличие от колючек, которые пламя охватит быстро, — Аттила посмотрел в сторону, — раньше или позже.
Гунны не понимали своего предводителя, но, ворча, делали все, что он велел. Этот безумец, как тихо шептались между собой крестьяне, уже зарезал одного из кутригуров, словно желал рассердить все племя. С тем же успехом можно разворошить улей или потревожить стадо бизонов и побежать на них, будучи беззащитным и обнаженным, размахивая руками и громко крича. На что надеяться? В чем смысл? Аттила зарезал кутригура и затем вернулся сюда в поисках убежища.
Охваченные радостью, крестьяне устроили ночной пир, но теперь, при свете холодного дня, начали снова задумываться. И сомневаться. Аттила был безумцем с сардонической улыбкой и громовым смехом. Он любил неприятности, подобно шаману, который говорит фразами с обратным порядком слов, ездит задом наперед на лошади, плачет, когда остальные смеются, и смеется, когда остальные плачут.
Однако что-то в этом грозном безумце заставляло верить в него.
Аттила приказал жителям деревни пригнать как можно больше скота в середину чащи шипов и поставить как можно больше разных сосудов со свежей водой. Затем заставил разобрать одну лачугу, притащить деревянные стены, положить их в колючий круг и снова построить в форме грубой палатки, достаточно большой, чтобы вместить всех крестьян общим количеством пятьдесят или шестьдесят человек, которые проползли бы туда на руках и коленях, устроившись, словно селедки в бочке. Это немудреная защита против вражеских стрел, но ее должно было хватить.
Наконец работу завершили, и Аттила кивнул с видимым удовлетворением. Теперь чаща с шипами возвышалась в человеческий рост, а то и выше.
— Есукай, — позвал каган.
Нетерпеливый молодой воин подъехал поближе. Аттила кивнул на колючие заросли:
— Перепрыгни.
Есукай похлопал коня по шее, но не решался.
— Мой господин, слишком высоко. И столбы…
— Тогда возьми галопом.
— Но я не могу скакать галопом через те валуны.
Аттила кивнул и улыбнулся:
— Да, действительно так…
* * *
После скудного завтрака на следующий день Аттила отвел Гьюху и Кандака в сторону и что-то тихо сказал им. Затем отправил прочь с еще двадцатью гуннами, целым стадом из сотни вьючных лошадей и всеми оставшимися вещами, кроме двадцати боевых коней. Теперь даже самые верные из избранных выглядели обеспокоенными и смутившимися. Они не только должны копать ямы в земле, как простые крестьяне, но сейчас, как казалось, сражаться, стоя на ногах, ведь теперь любимых лошадей отняли. Воины долго смотрели, как Гьюху, Кандак и остальные вели лошадей далеко по плоскогорью на юг, потом достигли линии горизонта и скрылись из виду.
Конечно, Аттила оставил себе коня. Он оседлал любимого, задиристого и неутомимого пегого жеребца Чагельгана, и ближайшие из спутников последовали примеру своего предводителя. Вместе с Орестом верховный вождь поехал впереди, а Чанат и Есукай позади везли зарезанного кутригура, по-прежнему привязанного к длинному шесту, подвешенному между лошадями.
— Мы вернемся до того, как наступит полдень, — крикнул Аттила гуннам и обеспокоенным жителям деревни. — Как и Будун-Бору!
И он засмеялся.
Отряд поехал по лугам, миновав зловещий высокий ров из сланцеватой глины, а далее направился к равнине, держась реки. Он не остановился, хотя у трех воинов скрутило желудок от боли. Руки, схватившиеся за вожжи и луки, покрылись капельками пота, как кожа головы и верхняя губа, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Без сомнения, придется погибнуть сейчас, прямо сегодня. Но так гунны думали и раньше, но, подчиняясь приказам Аттилы, продолжали жить.
Отряд медленно и спокойно провел лошадей по равнине через реку. Остался позади огромный лагерь из черных палаток, откуда шел темный дым. Утренний воздух был неподвижен. И люди, и животные могли чувствовать запах едкой копоти, конюшни и даже как будто самого присутствия племени. Воины добрались до последнего холма — последнего возможного места для убежища и укрытия. Именно там Есукай вспугнул куропаток. Впереди и внизу, на краю лагеря, появилось ощущение полной незащищенности, будто воины превратились в младенцев. Гунны попытались не сжимать луки слишком крепко.
Каменистый ритуальный путь вел со склона к лагерю. Воины обошли его и поехали кругом. По сторонам дороги стояли ряды столбов, и на каждом висела человеческая голова. Коршуны и вороны клевали остатки. Повсюду виднелись колдовские тотемы, распятые птицы, приколотые к крестам, статуэтки из перьев и меха. Из деревянных масок зияли пустые глазницы, рты были широко раскрыты и искажены в безмолвном крике ужаса. Чанат осмотрел их и вздохнул через сжатые зубы. Такое зло не смоешь много лет.
Кутригуры, чья мощь и слава не вызывала сомнений, не выставляли караульных. Четыре всадника уже почти вплотную приблизились к лагерю и при этом оставались незамеченными. Затем один или два человека молча пошли по дорожке, схватившись за копья. Они выглядели более озадаченными, чем кто-либо еще. Раздался чей-то сердитый голос:
— Кто вы? Как осмелились без приглашения войти в лагерь?
Один приложил стрелу к луку, но Аттила повернулся, посмотрел на него, покачал головой, и сбитый с толку воин выронил оружие.
В центре лагеря был широкий и пыльный круг. В самой большой из юрт торчал высокий столб, целиком вырезанный из одной лиственницы. Гунны остановились и стали ждать. Вскоре из юрты показался человек, плечи которого были укутаны одеялом с множеством вышитых узоров. Он снова выпрямился и посмотрел на четырех всадников. Нос кутригура был почти срезан ужасным ударом, глаза сильно сузились, а на коже виднелись следы оспин от старой болезни. Лицо хранило беспристрастное выражение, какое и подобало иметь вождю.
— Кто вы, осмелившиеся вторгнуться на мою территорию?
— Мы из деревни, — ответил Аттила, ткнув большим пальцем в сторону плоскогорья на западе.
— Ты лжешь, — сказал вождь. Его лицо потемнело. — Мы преследуем вас с запада уже много дней. Ты прекрасно это знаешь. Почему вы пришли теперь в ту деревню? Почему вы там остановились? Какова ваша цель? Скажи мне прежде, чем умрешь.
Некоторое время странный главарь разбойников не отвечал. Наконец произнес:
— Смысл моих слов вряд ли будет тебе понятен.
Среди собравшихся воинов прокатился гул при подобной дерзости.
Вождь кутригуров осмотрелся. Большинство из его людей уже сидели верхом, сжав в руках луки.
Аттила тоже окинул взглядом окрестности. Круг рядом с воинами еще не сомкнулся. Тогда гунн снова заговорил:
— Мы принесли тебе наш подарок, нашу дань. Отличная туша. — Каган зловеще улыбнулся. — Весом не меньше человеческого — именно такое условие ты и ставил.
Повернув коня, он схватил мешок, в котором лежал завернутый в одежду зарезанный воин, и сорвал маскировку.
Стоявшие в кругу ахнули, не веря своим глазам. В тот момент, когда нахлынули ярость и желание отомстить, Аттила поскакал во весь опор. Остальные три спутника последовали примеру предводителя. Чанат и Есукай бросили шест с распухшим телом на землю, покрыв погибшего позором.
Четверка уже неслась мимо черных палаток, прежде чем воины-кутригуры пришли в себя от изумления и смогли направить гнев в нужное русло, чтобы разумно действовать. Тогда они кинулись вдогонку.
Несясь на бешеной скорости, Аттила вытаскивал копья из земли и сваливал палатки в находящиеся неподалеку костры. Три гунна делали то же самое, оставляя за собой груду разбросанных обломков. Они проскакали через палатки, как заяц мчится по траве, видя над собой разомкнувшиеся челюсти хищника, без устали петляя налево и направо и не позволяя преследователю держаться четкой прямой линии. Повсюду была пыль, яростные крики сотрясали воздух. Оглушительный галоп дюжин (или сотен) летящих лошадей заставлял дрожать землю. Стали свистеть стрелы. Четверка пригнулась в седлах, и ни одна стрела не попала в цель.
Случилось так, как и думал Аттила: у кутригуров было много жестоких воинов, но они оказались не очень ловкими. Осознание этого стало облегчением, когда просвистела еще одна стрела и с треском воткнулась в стену палатки, пока Аттила проезжал мимо. Оттуда выбежала женщина, визжа как недовольная дикая птица, и преследователи замедлили шаг перед матерью, сердито размахивающей кулаком возле морд лошадей и изрыгающей непристойные ругательства.
Наконец гунны вырвались из лагеря и поскакали по травянистым равнинам к узкому рву и высокому плоскогорью, этой ничтожной защите деревни. И к колючим зарослям… Сейчас никто больше не пригибался и не петлял. Все мчались по прямой, подобно летящей стреле, к дому. Расстояние между маленьким отрядом и преследователями было уже даже не четыре-пять сотен локтей. Случайные стрелы со свистом проносились мимо, но ничто не могло замедлить бешеной скачки, как ничто не могло и ускорить ее. Припав к земле, бесстрашные лошади летели во весь опор. Толстые, мускулистые шеи животных вытянулись на ветру, зубы были оскалены, ноги мелькали так быстро в пыльном воздухе, что казались невидимыми и бесчисленными. Кутригуры приближались, но расстояние между ними и гуннами почти не сокращалось.
Четверо всадников проскакали в ров и взмыли на узкий склон между высокими влажными сторонами. Стук лошадиных копыт и их собственные дикие крики и вопли эхом отражались от стен и отдавались в обезумевших ушах. Воины начали гикать и шумно ликовать. Во время галопа Орест приложил стрелу к луку и, словно ради удовольствия или, вероятно, только интереса, любопытствуя, можно ли так сделать, наполовину повернулся в седле, притянул тетиву к груди и низко нагнулся, чтобы прицелиться. Когда первый из преследователей показался в конце рва, неуклюже распихивая остальных, тоже желающих оказаться первыми в тесном проходе, он пустил стрелу. Звук от попадания в грудь воина достиг ушей верного помощника Аттилы прежде, чем тот помчался прочь.
Ущелье огласилось криками товарищей мертвого кутригура, когда погибший упал с лошади и очутился на дороге. Его запястье запуталось в поводьях. Конь вырвался из-под контроля, и остальные врезались в животное, однако пришпорили своих лошадей и промчались над распростертым всадником, объятые неистовым яростным желанием добраться до убийц. Ржание лошадей и гам толкающихся воинов, сжатых в таком тесном проходе, отдавались эхом в высоких стенах, когда четверо всадников поехали дальше.
Внезапно лошадь Чаната споткнулась о серые валуны, вероломно разбросанные по плоскогорью и спрятанные в серой траве. В тот момент маленький отряд мчался среди высокой травы, которую шелестящий ветер превратил в погребальные знамена. Несущаяся на большой скорости лошадь запнулась и упала вперед. Треск ее сломавшихся берцовых костей гулко отозвался в вышине. Оказавшись на земле, животное перевернулось и, казалось, еще несколько раз описало круг в прозрачном воздухе. Всадник вылетел далеко в траву и приземлился на спину с глухим стуком. Трое других его спутников уже находились на расстоянии двухсот-трехсот локтей от того места, когда обнаружили, что случилось. Они дернули за поводья, остановились и повернулись.
Такого не могло быть! Чанат, пересиливая боль, поднялся из травы, где лежат на локтях и встряхнул головой.
Кутригуры неслись во весь опор с небольшого холма, который находился в четырехстах-пятистах локтях оттуда. Чанат оказался почти на полпути между ними и своим вождем, который очутился бы возле старика всего на несколько мгновений раньше, чем враг.
Этого не могло быть! Чанат погибнет! Но если гунны вернутся за ним, то погибнут все.
Этого не могло быть! Это стало бы настоящим безумием.
Чанат неуверенно встал на ноги, протер руками глаза и посмотрел вниз, на травянистый склон, где мчалась шумная толпа всадников. Остальные три гунна видели, как он напрягся и не двигался с места. Затем повернулся спиной к приближавшимся кутригурам и бросил взгляд наверх, на холм. Там были старые друзья.
Чанат поднял правую руку и замер, шок и неуверенность исчезли. Он откинул назад поседевшую голову и сильно затянул вокруг сильной, мускулистой шеи медное кольцо. Луч солнца блеснул на широком загорелом лбу. Старик улыбнулся. Через мгновение он отвернулся от остальных гуннов, выхватил меч и двумя руками поднял над головой, в последний раз бросив вызов своим врагам и смерти во всем мире.
Кутригуры заглушили воплями его крик.
Этого не могло быть!
Аттила, Орест и Есукай
пришпорили лошадей и понеслись вниз по холму, чтобы сразиться с неприятелем: трое против тысячи.
Стрелы сыпались сейчас градом, но кутригуры оказались грубыми и неумелыми воинами, едва ли они могли скакать во весь опор и одновременно стрелять. Толпа всадников опустила вниз копья, в нетерпении нагнувшись вперед в седле. И ринулась в атаку!
Трое гуннов резко остановились возле Чаната, и Есукай, держась за седло, свесился вниз, схватил старика за грудь под руки и, невероятно напрягшись, поднял его наверх. Тот в ярости брыкался, и конь Есукая чуть не свалился набок под двойной ношей, с большими усилиями удержавшись на ногах. Аттила и Орест объехали кругом и оглянулись. Их разделяла всего пара метров. От громких криков закладывало уши. Одни воины, скачущие впереди, приложили стрелы к лукам, другие выхватывали мечи, третьи подтягивались повыше в седле, чтобы нанести решающие удары.
Когда гунны повернули и поскакали на холм, два всадника стали стрелять без остановки. Кутригуры следовали по пятам. Казалось невозможным, чтобы Есукай оторвался от них, еще и с Чанатом. Но они должны были попытаться это сделать. Сдаваться здесь и сейчас представлялось неприемлемым, ведь под ногами лежал целый мир, который предстояло завоевать.
Аттила резко взмахнул оружием и раскроил грудь воина. Каган мчался рядом с врагами, подняв вверх руку с мечом. На бешеной скорости он упал в пыль, а лошадь, оставшаяся без всадника, с вывалившимся из взмыленного рта языком продолжала скакать возле кутригуров. Кони неприятелей не были столь выносливыми. Однако все-таки казалось невероятным, что от них можно выйти живым.
Кутригуры уже почти полностью окружили гуннов. Отовсюду появлялось еще больше врагов, некоторые не сдерживали улыбки. Но всему свое время. Кое-кто легко взмыл на холм и по-прежнему несся на изможденной лошади отчаянным галопом. Этих воинов возьмут живьем. И не будут убивать еще много дней. Затем кутригурские женщины ловко сдерут с половины тела кожу, привяжут и положат пленников на муравейники в степи, чтобы миллионы маленьких ртов несколько суток отщипывали по кусочку.
Сила и гордость Есукая не знали границ. Теперь Чанат сидел позади, и они сражались вместе, сидя на спине лошади, нанося удары налево и направо. Кутригуры начали ухмыляться, повернули и засмеялись. Кажется, арканов ни у кого не было.
Вскоре гунны потерпят поражение. Для кутригуров же все походило больше на игру. И ее окончание казалось уже совсем близким.
Внезапно с невероятной скоростью кутригуры начали падать и исчезать. Отовсюду доносилось звонкое пронзительное ржание лошадей, и в воздухе закружились столбы пыли. Послышались глухие удары, а помимо этих звуков — свист стрел. Впереди обреченная четверка увидела ряд всадников, сидящих на спокойных и терпеливых лошадях на вершине холма и выпускающих одну за другой стрелы. Неподвижные, они поражали цель, четкую и ясную, каждый раз находя грудь подходящего воина.
В лагере у Маленькой Птички начался приступ истерики. Он снова стал говорить о змеях, и Цаба приказал отрядам Юхи, Белы и Нояна, трем похожим на скалы братьям, сыновьям Акала, выехать на нескольких лошадях, оставшихся в колючем загоне. Это было ядро войска, тридцать непоколебимых воинов, которые сейчас бесстрашно стреляли по приближавшимся кутригурам.
Скачущая на трех лошадях четверка помчалась туда во весь опор. Их души наполнило чувство гордости за свой народ и своих бесстрашных товарищей. Чудесным образом отряд расступился, и Аттила, Орест, Есукай и Чанат оказались внутри. На плоскогорье земля стала выравниваться, и вдалеке гунны увидели деревню с хрупкими колючими зарослями. Позади три брата и их люди продолжали стрелять с убийственной точностью, почти безо всяких эмоций. Их лошади стояли неподвижно и невозмутимо. Кутригуры, придя в полное замешательство из-за этой атаки, потянули коней под уздцы и остановились. Мужчины стали кричать и валиться на землю, животные толкали друг друга, и холм почти полностью был усеян мертвыми. Кутригуры завыли от ярости.
А затем отлетели назад.
Братья и их отряды подождали, пока враги обратятся в бегство, потом повернулись и легким галопом потрусили за каганом в деревню.
Аттила, Орест, Чанат, Есукай и тридцать воинов попридержали лошадей и осторожно провели их через разбросанные валуны. Колючие ворота были открыты, и гунны проехали по узкому проходу между последними столбами, сейчас прочно вкопанными в сухую холодную землю. Потом дорогу снова перекрыли. Гунны чувствовали все еще затрудненное дыхание лошадей, наклонились, согнулись надвое, держа поводья в руках и смеясь. Животные были в пене, изо ртов их текла слюна, мускулы на ногах дрожали. Но всадники сохраняли спокойствие и не падали от отчаяния. Не пугали их вращающиеся глаза и промелькнувшие уши взмыленных берберских коней, выхоленных и встающих на дыбы. Лошади гуннов вынесли все.
Воины тяжело дышали и смеялись. За исключением Чаната, который стоял немного поодаль и сильно хмурился.
Есукай вытянулся и лег спиной на землю.
— Сами боги мчались с нами сегодня, — произнес он. — Клянусь задницей моего коня, так оно и было!
Аттила тоже с трудом дышал, когда одна из деревенских женщин подошла с мокрой тряпкой, желая смыть кровь, текущую из левого плеча кагана.
— Да, — пробормотал он. И посмотрел на Чаната. — Разве нет, Чанат?
Старик хмыкнул. Воины засмеялись.
— И вы, сыновья Акала. «Трезубец Акала» — так мы будем вас называть. Вы отлично сражались!
Три молчаливых брата выглядели довольными, как всегда.
— Правильно. — Аттила хлопнул в ладоши. — Здесь скоро будет племя. И в этот раз его окажется не так-то просто обратить в бегство.
Каган глянул наверх и осмотрел низкие холмы далеко на юге.
— Гьюху, Кандак и остальные?..
— Мы не видели никого, мой господин, с утра, когда они уехали.
— И лошадей, — раздался чей-то голос.
Аттила кивнул:
— Хорошо. Тогда по местам.
Глава 7
Несколько локтей мрачной пустыни
Аттила, Чанат и Орест сидели за колючими зарослями, посматривая вперед.
Перед ними лежали груды руин некогда процветающего поселения. Гунны собрали весь скот, который смогли, в терновом загоне. Молчаливые жители деревни расположились рядом. Оставшиеся животные паслись снаружи. Вскоре им предстояло пасть от рук нападающих.
— В детстве, — тихо произнес Чанат, — я часто мечтал о славной смерти во время доблестной битвы.
Двое других воинов с любопытством посмотрели на старика. Чанат не принадлежал к тем людям, кто предается воспоминаниям.
— Мои братья и я, — сказал он. — Четверо братьев у меня было, и я похоронил их всех. Мы играли в воинов все долгие летние дни в степи. И все наши мечты походили одна на другую. Став мужчиной, я вырос из тех глупых грез. Но сейчас, состарившись, хотя ратное поле и не утратило своей яркости и героической привлекательности, как и в детских мечтах, я снова хотел бы пасть в бою.
Аттила тихо сказал:
— Детство сделало всех нас такими, какие мы есть.
Разоренной лежала под небесами несчастная деревня, где жил гибнущий народ. Ни крошечной тени, ни деревца. Лишь ровная соленая пустыня и почти высохшее жалкое озеро. Случайно проходящие стада были слишком далеко и избегали людей. Все лучшие охотники уже давно ушли. Они обрекли себя на гибель, попав в руки более жестоких преследователей. Вскоре настанет холодная зима, и тогда, наверное, станет мало травы в низинах. А еще были влачащие жалкое существование бедно одетые люди, цепляющиеся за свою жизнь на этой потертой земле, как блохи за собачью шкуру. Жили для того, чтобы в любой момент быть равнодушно уничтоженными, отправленными в забвение, превращенными в пустой воздух великой силой.
— Не за многое же мы сражаемся, — пробормотал Чанат. — За пространство мрачной пустыни.
— Мы воевали за меньшее этим утром, — ответил Аттила, — за жизнь одного человека.
— Вы глупо поступили.
Аттила засмеялся:
— Твоя благодарность удивляет меня, Чанат.
Старый воин кашлянул и плюнул.
— Я знал, что ты будешь сопротивляться, — сказал каган. — На самом деле я крепко держал рукой аркан и готовился немного охладить тебя.
Чанат пристально посмотрел на него.
— Ты такой осел, ты стал бы спорить, когда враги оказались бы совсем рядом.
Чанат заворчал:
— Это вполне возможно.
— А потом мы бы все погибли.
— Как я и говорил, вы поступили глупо.
Сжав руки и по-прежнему не сводя своих ясных голубых глаз с обезлюдевшего плоскогорья, Орест тихо спросил:
— А ты никогда не делал ничего необдуманного, мудрый Чанат?
— Только если в этом замешана женщина, — зло пробурчал старик и гордо пошел прочь, к другой стороне загона.
Аттила и Орест обменялись улыбками.
Они открыли бурдюк с водой и промокнули горло.
Холодное голубое небо. Тишина. Весь мир замер в ожидании. Только колокольчики коз нарушали гнетущее безмолвие, когда животные в счастливом неведении шевелились и слегка задевали чахлую растительность. Смерть уже приближалась.
— Это напоминает мне о прежних временах, — сказал Аттила. — Это ожидание.
Лоб верховного вождя покрылся испариной.
Орест кивнул. Ручеек пота стекал по лбу и носу верного слуги, хотя день и был холодным. Не поборешь страха перед битвой! Орест махом вытер влагу тыльной стороной ладони.
— Было время, когда мы сражались пешими на зеленых равнинах Манчжурии, — прошептал Аттила. — Тогда лошади заболели, ты помнишь? А когда руководили лесными вождями, которые носили венки из листьев в качестве доспехов?
На лице Ореста появилась слабая улыбка.
— А когда стояли в рукаве Желтой реки, а ты сражался, размахивая лопатой, поскольку меч сломался!
Тот покачал головой:
— Сколько битв мы пережили вместе, да? А теперь эта — разложившаяся деревня возле почти высохшего озера в земле, у которой и имени еще не появилось.
Аттила задумался. Затем сказал:
— Однажды в Италии, когда я был маленьким и стал заложником в Риме, на нас напали римляне. Они хотели меня убить. — Губы кагана изогнулись при этих словах.
— Но другие римляне спасли вас.
— Нашелся один хороший человек. Молодой офицер.
— Но там были добропорядочные римляне, верно?
— Один или двое.
— А мальчик в лагере вашего дяди? Аэций?
Аттила ничего не ответил.
Они выпили еще.
— Перед тем как я пришел к тебе, — произнес Аттила, — к тебе и твоей сестре, в аппеннинскую пещеру, а потом — в ту долину…
— Я не забыл.
— И я, — голос кагана стал тихим и низким.
Четверо их в битве Конца Времен.
Вот первый — за империю держится он.
Вот второй — меч в руках он сжимает.
Остальные спасутся, об одном все узнают.
Один останется с сыном,
Со Словом второй лишь единым…
Наступило молчание, и Орест сказал:
— Тут много того, что нам непонятно.
— Тут много того, чего мы никогда не поймем, — ответил Аттила. — Но война — великий учитель.
Каган прикоснулся рукой к эфесу меча, своего прекрасного оружия с инкрустированной рукоятью, подаренного римским стратегом и представленного народу как Меч Саваша. Люди поверили. А сам Аттила? Кто может сказать… Кто может сказать, во что действительно верил такой человек, как Аттила?
Великий гунн кивнул вдаль.
Орест повернул голову, и ему показалось, как сам горизонт зашевелился. Словно там что-то тлело, а дым был пылью. Верный спутник Аттилы снова вытер пот с лица.
— В обычном набеге участвовало бы всего лишь несколько дюжин, — размышлял Орест. — Это не несколько дюжин. И это — не обычный набег.
— Придет две тысячи. Кутригуры жаждут мести. И мы хотим, чтобы они все были здесь.
Орест, зашипев, глубоко вздохнул:
— Вы безумны. Говорю со всем должным уважением к вам, мой господин. Но вы безумнее, чем хвост у обезьяны.
Некоторое время Аттила молчал, не отрывая тяжелого взгляда от далекого дымящегося горизонта. Глаза кагана сузились, кольца в ушах заблестели в лучах солнца. Он тихо сказал, не поворачиваясь:
— Со всем уважением, мой старый друг, мы хотим, чтобы они все были здесь. И тогда их лагерь останется незащищенным.
И тогда с воем появилось Волчье племя.
Кутригуры пришли, ревя по-звериному, и их вопли становились все громче и ужаснее по мере стремительного приближения. Скуля и взвизгивая, гикая и крича, они выскочили из пыльного облака на плоскогорье. С оглушительным грохотом копыт и барабанов, с высоко поднятыми копьями, с уже прижатыми к тетиве стрелами…
Старая жрица недооценила кутригуров, сказав, что врагов была тысяча, а может, две.
На многих не оказалось почти никакой одежды, небольшие клочки ткани на кутригурах выполняли чисто декоративную функцию. Однако неприятели нашли время, чтобы нарядиться, идя на убийство. Женщины племени наградили мужей заботой и с гордостью послали сражаться, танцуя, улюлюкая и прося вернуться в крови врагов или даже своей собственной. «Пусть никто не придет обратно не окровавленным!» — пели они.
Теперь кутригуры мчались к маленькому дерзкому отряду безымянных и неизвестных врагов. Украшенные шрамами и яркими полосами, с пятнами и линиями, нацарапанными женщинами кончиком иглы, с чернилами, которые медленно, капля за каплей, сочились из еще не заживших порезов. Поводья с перьями и мехом болтались вместе с отсеченными и привязанными за волосы головами врагов или других людей, которые повстречались на пути. Кутригуры были в пестрой одежде с вкраплениями из китайского шелка, в окровавленных накидках зарезанных священников и неподходящих воздушных покрывалах из муслина, принадлежавших девушкам, жившим в разграбленных городах, сейчас уже тоже окровавленных, запачканных и обмотанных вокруг толстых запястий или мощных мускулов в качестве военного трофея и знаков победы. На шее висели браслеты из заячьих лап и накидки из шкуры буйвола.
Мех и шкура волка обладали огромной магической силой. Самые знатные из воинов носили головные уборы с головами волков с вечно разомкнутыми челюстями и ожерелья из нескольких ушей этого животного. На многих были меховые колпаки, проткнутые отвалившимися оленьими рогами, длинные косы захваченных в плен женщин с гордостью вплетали в свои собственные волосы.
Лица, ярко раскрашенные в белый, коричневато-желтый и красный цвета, украшали татуировки. На лбу и щеках виднелись малиновые узоры, должными символизировать бесстрашие, их вывели кончиком меча, который обмакнули в жуков, раздавленных в ступках женщинами. На широких гладких грудных клетках были запечатлены ухмыляющееся солнце, луна и синие лица с извивающимися змеями вместо волос, на пыльных спинах — кровавые отпечатки пальцев, оставленные другими воинами. Бока лошадей украшали птицы, рыбы, ярко-желтые попоны и красноватые отметины. Некоторые появились после того, как туда приложили руки, отсеченные у стонущих пленников.
Одни носили темно-синие тюрбаны, когда-то принадлежавшие персам, а теперь грубо обмотанные вокруг голов или горла, другие — шлемы из сыромятной кожи, которые проткнули рогами быков или сайгаков и усеяли странными магическими изображениями. Кутригуры сжимали в кулаках пучки стрел и даже своими заточенными и заостренными зубами (ведь кое-кто не брезговал и каннибализмом) стискивали еще несколько штук. Некоторые накрасили губы и намазали вокруг рта ярко-красным, желая внушить врагам, что те уже мертвы, а у ртов остались следы крови после последней резни, когда они накинулись на убитых и стали жадно пить кровь.
Такими появились завывающие кутригуры, и из-за жалких колючих зарослей Аттила и избранные заметили несколько просто раздетых неприятелей, носящих лишь браслеты и кольца вокруг толстых запястий. Атакующие гнали лошадей во весь опор, пришпоривая ногами в блестящих сандалиях с дорогими награбленными украшениями. Были они похожи на рассвирепевших шлюх, если тех усадить на коней. На некоторых не было ничего, кроме кожаных ремней на талии с висящими топориками, кинжалами и привязанными головами, где виднелась запекшаяся кровь. С них свисало множество черепов и голов. Кутригуры сжимали зловеще изогнутые остроги и веревки из жгучей крапивы. Даже тела воинов были покрыты осколками битого стекла, яркими шариками, драгоценностями. Некоторые уже испытывали сильное волнение, тяжело и часто дыша и наполовину прикрыв глаза, словно приближаясь к следующей кровопролитной кульминации.
Но люди Аттилы за колючими зарослями знали, как они погибнут, если попадутся живыми, какая им предстоит медленная и мучительная пытка.
Такой легион, насчитывающий много тысяч человек, с воем напал на гуннов в тот день. Внешний вид и гвалт кутригуров производили омерзительное впечатление. Враги с грохотом вздымали облака пыли, сквозь которое они и появились, словно одержимые демонами. Позади шествовала толпа женщин и детей постарше, вооружившихся маленькими ножами и кинжалами для окончательной расправы, которую собирались произвести после свирепой битвы на ратном поле, оглашенном стонами.
Там была и ведьма Энхтуйя.
Пораженный ужасом, маленький отряд Аттилы глянул из укрытия на чудовищное полчище. Люди попытались убедить себя: раньше случалось пережить и кое-что пострашнее, но победа все равно оставалась на его стороне. Но никто даже на мгновение не смог вспомнить, когда. Гунны собрались с духом и положились на своего вождя.
Орест бросил взгляд в сторону и увидел Аттилу, схватившего лук левой рукой. Его лицо приняло воодушевленное выражение, но прежняя сардоническая ухмылка не исчезла даже сейчас. Смех в преддверии смерти… Похоже, несмотря на нелепость и кошмар, в этой безымянной пустоши между последним взрывом хохота и последним вздохом каган собирался одержать своего рода отчаянную победу.
Орест покачал головой:
— Перестаньте улыбаться, заклинаю Аидом, — заворчал он. — Вы заставляете меня нервничать.
— Я просто размышлял, — невозмутимо ответил Аттила, и его улыбка стала еще шире.
— Размышляли о чем?
— Я просто размышлял: представь, как отреагируют римские легионы на это завывающее и вселяющее ужас войско. Они сражались со множеством врагов, но ни разу не сталкивались ни с чем, похожим на кутригурских гуннов в дикой ярости.
Орест покачал головой.
— Все должно идти своим чередом, — сказал он и выдернул первую стрелу из рядов в земле под ногами и приложил к тетиве.
— Не стрелять, пока я не отдам приказ!
— Да, мой господин, — пробормотал грек с некоторым сарказмом.
Аттила кивнул в направлении ужасного облака пыли, стремительно приближающегося к гуннам.
— Наблюдай.
Кутригуры легко преодолели ничем не примечательное плоскогорье, по прошествии многих лет ставшее почти совсем ровным. Ветер и безжалостное солнце почти высушили его. Несчастная кучка врагов, в рядах которых насчитывалось менее ста человек, стояла за презренными колючими зарослями и выглядывала из-за края, подобно суркам, высунувшим нос из норы. Вой смешался со смехом, и некоторые из воинов от возбуждения искусали себе губы до крови.
— Пора, — сказал Аттила.
Первые лошади кутригуров показались среди валунов, разбросанных по твердой суровой земле, почти полностью покрытых бледной пустынной пылью. Один конь перевернулся. Остальные замедлили бег, дрогнули и стали продвигаться осторожнее. Разъяренные всадники стегали животных веревками, ремнями и кнутами, но лошади могли скакать по камням не быстрее, чем верблюды идут по песчаным дюнам. Воины, скачущие позади, врезались на полном скаку в еле передвигающийся передний ряд и стали давить друг друга.
Аттила поднял правую руку. Восемьдесят человек не отрываясь смотрели на него, а не на врага.
Каган выжидал. Затем он заметил, как один воин наехал на другого, свернул в сторону и едва ли не упал с коня. Он врезался в третьего кутригура, под которым лошадь в ярости взбрыкнула и налетела на огромный камень, повредив ногу.
Аттила опустил руку.
— Вперед! — закричал он.
Восемьдесят лучников собрались вдоль одной стороны колючих зарослей. Кутригуры в слепом гневе и по неопытности не окружили их, а сбились в одну толкающуюся и двигающуюся по кругу массу.
— Они прежде не атаковали укрепленные позиции, — сказал Орест.
Аттила кивнул:
— Даже столь слабо укрепленные, как наши.
Стрелы посыпались на врагов, каждый лучник выпускал по дюжине в минуту. Они взлетали высоко в вечное голубое небо и затем падали вниз, проламывая шлемы и доспехи из бычьей кожи и вонзаясь в мозги, мясо и кости. Казалось, идет дождь. Тысячи стрел поразили кутригуров в первую минуту. Сотни получили ранения и не менее сотни умерли на месте. Лошади становились на дыбы и метались, в агонии и в припадке безумия кусая друг друга.
Наконец откуда-то сзади, из рядов беспорядочно окруженных всадников, донесся властный голос. Где-то старый зловещий вождь со щеками со следами оспин и почти плоским носом стал отдавать приказы. Шеренги толпящихся всадников начали отступать, а воины — разделяться. Те, кто находился на левом фланге, перешли в галоп первыми. Между кутригурами появилось свободное место. Стрелы, сыпавшиеся с неба, падали в пыль и не достигали цели. Всадники стали расходиться дальше и занимать свои позиции. Затем все поскакали галопом. Они разделились и мчались с нарастающей скоростью. Но не к колючим зарослям, через вероломную груду камней, а вокруг. Кутригуры неслись, выкрикивая военные лозунги и быстро двигаясь, словно сами демоны из пыли, вокруг чащи с шипами, и стрелы восьмидесяти гуннов Аттилы все чаще не попадали в кружащиеся мишени. Затем враги стали прицеливаться и стрелять. Дисциплина у них была плохой, а особой меткостью кутригуры, как уже выяснилось в результате проверок, не отличались. Но неприятелей оказалось очень много, и они выпускали все новые и новые стрелы… И усилия стали приносить плоды.
Аттила мрачно кивнул. Он ожидал этого.
Каган приказал своим людям пригнуться и продолжать стрелять.
Сквозь неразбериху, мелкую пыль и мелькающие копыта гунны заметили, что кутригуры ловят оставшийся скот, коз с висящими ушами и костлявых быков, пригибают к земле и убивают. Они прислонили горящие факелы к нескольким деревенским лачугам, и пламя взметнулось в небо.
Стучавшие зубами от ужаса и не способные проронить ни слова жители поселения собрались в глубине колючих зарослей, в палатке с деревянными стенами. Старая жрица беспрестанно шевелила губами, шепча заклинания, хотя никто не мог слышать ее слов из-за грохота яростной битвы, криков людей, пронзительного ржания лошадей и бесконечного града стрел, попадающих в тонкие перекрытия над головами.
Скачущие во весь опор кутригуры также стали целиться в быков внутри колючих зарослей и в нескольких оставшихся лошадей. Жители деревни воспринимали предсмертные муки животных как свои собственные. У них не было убежища, и казалось невозможным ничего сделать. Теперь все поняли, почему Аттила отдал ранее приказ увести большинство лошадей куда-нибудь в безопасное место, в зеленую и нетронутую долину за линией горизонта, недосягаемую для людей и летящих стрел.
Двое из воинов Аттилы упали, раненые в грудь. Колючие заросли были препятствием для коней, но не для стрел. Но ничего больше сделать не удалось. Теперь мчавшиеся кутригуры начали разбираться и вместо того, чтобы стрелять в небо, выпускали стрелы прямо в шипы. Одни решительно шли по камням и собирались по периметру колючих зарослей, но их тут же поражали длинными копьями. Другие с грохотом падали в ров, выкопанный ворчащими воинами Аттилы, неаккуратно, но затянутый отрезками холста, посыпанного песком, и заканчивали тем же самым образом. Но земля была слишком твердой, а времени слишком мало, чтобы гунны превратили его в мощное препятствие. Там лишь могли переломать ноги и свалиться с лошадей несколько всадников из передних рядов, но не более. Аттила предусмотрел и это и пробормотал:
— Теперь как в Риме, но так придется сделать.
Он приказал своим людям лечь на землю. В тот момент Есукай покачнулся и завертелся на месте, схватившись за предплечье и громко крича от гнева: в руке застряла стрела. Чанат снова вскочил на ноги и побежал к нему, не подчиняясь приказу и волнуясь за Есукая.
Воины лежали пластом на земле и как можно лучше прицеливались сквозь шипы, но теперь численное превосходство стало слишком явным. Один из воинов Аттилы неожиданно поднял голову — туда, прямо в темечко, попала стрела. Он повернулся в сторону, глаза закатились, и гунн замертво упал в пыль.
Много кутригуров погибло за колючими зарослями, но врагов не становилось меньше, появлялись все новые бойцы, которые шли дальше и перепрыгивали через тела убитых товарищей. Руки защищавшихся, хотя и твердые как сталь, начали уставать. Каждый раз, натягивая тетиву, они испытывали такое ощущение, будто внутри все разрывается. Каждый из воинов выстрелил не менее сотни раз. В запасе еще оставались стрелы. Но лучники были обычными людьми из плоти и крови. А кутригуры, как шакалы, чувствовали запах, шедший от раненых, и приближались.
Кое-кто попридержал лошадей и все-таки попытался пробраться через груду камней, но тут же был сражен стрелой. Однако некоторые сделали то, что воин-гунн никогда бы совершил добровольно, и это стало неожиданностью. Они слезли с лошадей, упали на землю и проползли приблизительно сто ярдов на животе, направляясь к колючим зарослям. Зажав топорики, кинжалы, дубинки и короткие копья между зубами, кутригуры с трудом продвигались, петляя и толкаясь локтями и коленями, подобно армии ящериц. Они не отрывались от земли, держась разбросанных камней, поэтому оставались труднодоступной мишенью. Люди Аттилы пригнулись и стреляли, однако цель оказалась слишком мелкой, и часто стрелы с твердым наконечником лишь царапали валуны, скользили по пыльной поверхности и падали.
Некоторые уже были достаточно близко, чтобы наброситься с длинными лассо, веревками и крюками с бородкой, смогли немного разрушить колючие заросли и пролезть внутрь. Заостренные столбы остановили бы всадников, но не пеших или ползущих на животах, как рептилии. Тогда кутригуры выпрямились и, обнаженные, побежали с воем внутрь, подняв оружие над головой. Теперь предстояло отчаянно биться лицом к лицу, как и предвидел Аттила.
— Отряд Аладара! — закричал он, стоя в круге. — Налево от меня! Не дайте там пройти!
Гунны кинулись туда, где прорывались кутригуры, и все превратилось в хаос и пыль.
Видя, что битва подходит к концу, Чанат откинул в сторону свое грозное оружие, свой лук, последнюю надежду для воинов, и поднял меч. Его тупое лезвие покрылось засечками и зазубринами за шесть десятилетий кровопролитных боев. Аттила мельком заметил, что старик гордо выпрямился, выглядывая из колючих зарослей и готовясь к предстоящей атаке. Каган повернулся в сторону и несколько секунд не мог смотреть ни на Чаната, ни на кого-то еще.
Затем вынул свой меч и стал ждать.
Голый дикарь шел на старика, тыкая в него коротким копьем. Чанат низко взмахнул мечом. Нападавший отступил назад, пронзительно визжа, словно обезьяна, и в свою очередь, защищаясь, опустил копье. Чанат сделал шаг к нему, подняв руку для второго правостороннего удара. В последнее мгновение старик стремительно повернулся на пальце ноги, описал полукруг и атаковал сзади, заняв новую и неожиданную позицию и приблизившись слева к неприятелю. Затем выпрямился, вытащил меч из ребер убитого и снова кинулся в бой, ни разу не взглянув на дикаря.
Неподалеку сражался Орест сразу с двумя кутригурами. Чанат опрокинул на землю одного из них и отсек голову. Грек бился молча, как кот, и, по-видимому, с не меньшим удовольствием.
Но все-таки ранений Чанату избежать не удалось. Он продолжал сражаться, но с каждым новым ударом шея кровоточила все сильнее. Старому гунну было необходимо отдохнуть. Но на боле боя о покое можно только мечтать и обрести его лишь в могиле. «Хорошо, пусть так!» — закричал Чанат. Еще один кутригур повернулся и обратился в бегство, и кто-то из отряда Аладара пустил стрелу в спину врагу. Тот упал на землю.
Старый гунн приблизился к своему кагану, весь в крови и пыли. Шея покрылась запекшейся коркой, кожаная куртка лохмотьями свисала с широкой груди.
— Гьюху и Кандак, — хрипло сказал он, дернув головой. — Вы отослали их вместе с лошадьми. Это подкрепление?
— Нечто вроде, — ответил Аттила.
— Тогда где они? Если они вскоре не появятся, то будет уже поздно. А нам нужны свежие силы.
— У Гьюху и Кандака нет того, что можно назвать свежей силой, — сказал Аттила. — Даже наоборот. Они вернутся слабыми.
Чанат нахмурился и недовольно пробормотал, что сейчас не время для головоломок и тайн:
— Загадками войны не выиграешь.
Каган лишь поднял бровь, затем повернулся, воткнув меч в грудную клетку кутригура, перепрыгнувшего через разрушенные заросли, пробравшегося сквозь столбы и побежавшего вперед, оскалив зубы, словно росомаха.
За ползущими врагами всадники услышали приказ, исходящий от хитрого старого вождя: никто не смог бы столь долгое время руководить Волчьим племенем, не будь он коварнейшим и беспощаднейшим человеком. Затем одни стали передавать горящие факелы по рядам, а другие разделились и начали брать стрелы из повозки. Женщины раздавали их, улыбаясь и оживленно болтая. Эти стрелы были плотно упакованы в смолистый камыш, который не замерзает и не ломается в болотах даже при очень сильном холоде. Некоторые оказались пропитанными нефтью из пустынных месторождений. Если их один раз зажечь, то они не погаснут до тех пор, пока не сгорят полностью. От факелов, которые кутригуры держали в руках, пламя перекинулось и на эти огненные стрелы. Враги подняли их вверх и размахивали, словно знаменами победы, по пути зажигая оставшиеся из полыхающих лачуг деревни. Неторопливо выбрав цель, воины стали обстреливать гуннов в колючих зарослях. Пламя тут же охватило сухой терновник и стало быстро распространяться.
Огонь вспыхнул прямо перед лицом Ореста и Аттилы, и оба воина тут же упали навзничь. Грек слегка зашатался.
Случилось то, что предвидел Аттила. Едва загорелись колючие заросли, на пути неприятеля возникла непроходимая огненная преграда, послужившая отличной защитой для гуннов. Такую же роль сыграли и столбы. Когда терновник превратится в груду черного дымящегося пепла, кутригурам придется пробираться без лошадей. И маленький отряд, состоявший из воинов и искателей приключений, будет мгновенно вырезан, несмотря на храбрость и доблесть.
Град стрел не прекращался. Боец из группы Аладара, сдерживавший натиск там, где враги прорвались через колючие заросли, сделал шаг назад и стал медленно отступать сквозь шипы к хижине, в которой, сжавшись от ужаса, сидели жители деревни. Он осторожно гладил стрелу с белым оперением, воткнувшуюся в живот, идя спокойно и неторопливо и перебирая перья, словно это был птенец. Воина настигли еще две стрелы, как будто пущенные наудачу и попавшие в спину, пока тот шел. Гунн упал и испустил дух.
Его пронзительный вопль слышали все жители деревни, съежившиеся под деревянными перекрытиями.
Первые лошади споткнулись и свалились в ров за колючими зарослями, лишь сверкнув копытами. Оскалив зубы, животные громко ржали. Они отчаянно пытались уцепиться за осыпавшиеся стены суровой незаметной западни перед колючими зарослями, которые теперь возвышались над головами. Там кони и всадники стали легкой добычей для гуннов. Но теперь ров был наполовину наполнен мертвыми и умирающими, а колючки горели и постепенно превращались в руины.
Спешившиеся воины бесстрашно приблизились к чаще с шипами, как раз вдоль другой стороны заваленного котлована, и стали стегать своих оставшихся в живых лошадей длинными веревками, сбивая колючки и оттаскивая их прочь. Кони и люди давили друг друга во рву, пешие несли топоры к потемневшим от огня столбам и разрубали на части. Мчались самые опытные кавалеристы кутригуров, по-прежнему горя желанием сражаться.
— Аладар! — отчаянно закричал Аттила. — Приведи сюда людей! Не давайте врагам пройти, что бы ни случилось!
Аладар со своим отрядом кинулся через круг и сделал большее, чем просто удержание нападавших. Он набросился на веревки с кинжалом и разрезал их, а воины, упав на колени, укрылись в тени вставших на дыбы лошадей кутригуров и стали стрелять прямо во всадников. Один из неприятелей уже почти соскользнул со своего споткнувшегося коня, но все-таки смог встать на ноги. Он вытащил длинный изогнутый меч и посмотрел на Аладара. Тот подбежал к кутригуру сбоку и ударом сзади снес макушку черепа, которая завертелась в воздухе, словно обеденная тарелка с костями. Однако враг по-прежнему стоял в позиции для нападения, широко раскрыв удивленные глаза. Его мозги вытекали через открытый череп, как серая каша, пузырящаяся через край котелка.
Аладар завертелся на пятке и вспорол кутригуру живот, вскрыв желудок. Обреченный на смерть еще долго оставался в живых и мог видеть, как собственные тусклые кишки вываливаются на землю, подобно куче скрючившихся угрей. Потом он испустил дух.
Неподалеку Есукай провел рукой по лицу и глубоко вздохнул. Струя ярко-красной крови закапала из подмышки. Стрела прошла дальше, чем казалось.
Орест отъехал от разваливающихся горящих колючих зарослей и посмотрел на Аттилу. Белки глаз сверкали на потемневшем от сажи лице. Грек не произнес ни слова. А что можно было сказать?! Они вместе пробивались через разрушенную войной Италию еще в юности, ускользая и от готов, и от римлян. Похоронили третьего спутника — плоть и кровь Ореста, любимую маленькую сестру Пелагию. Они не понесли ни одного поражения. Бежали из римского легионерского стана и перешли Дунай под непрерывным огнем. С тех пор сражались по всей Скифии, а заодно — вдоль широких песчаных берегов Желтой реки и на изумрудно-зеленых лугах Манчжурии. В отрочестве воевали в испепеленных землях Трансоксианы, в горах и крутых спусках Хорасана против могущественных правителей из династии Сасанидов. Вели странные и жуткие битвы среди руин Кушанской империи, сражались на стороне индийских князей и против иных индийских царей, добивались вместе золота и славы. А теперь оказались здесь — в этой земле, у которой, по выражению Ореста, и имени-то еще не появилось. И раньше приходилось сталкиваться с запущенностью, но не столь ужасной. Все, казалось, ополчилось против гуннов.
Аттила знал, о чем думает Орест и остальные воины, силы которых постепенно таяли. Каган повернулся и уверенно, как и подобает завоевателю, зашагал рядом с ними, вращая сверкающим мечом над головой. Громко, заглушая грохот битвы, Аттила заявил, что это вовсе не конец. Никому не суждено здесь сложить голову! Гуннам по-прежнему предстояло сражаться и разрушить Рим, а затем выступить против Китая. Мир принадлежал им. Аттила сказал, что слышал об этом от Астура, творца всего живого. Гибель — не здесь и не сейчас. Конечно, каждый воин в глубине сердца чувствовал: именно тут и должно было это случиться, время пришло. Они погибнут, сражаясь посреди колючих зарослей и под градом стрел, пронзаемые мелькающими мечами кутригуров. Но все-таки гунны почему-то верили в Аттилу.
Верховный вождь отдал краткий приказ, и изможденные, но вымуштрованные воины тут же выполнили его, покинув брешь в терновнике, отойдя от столбов и отступив назад. Теперь, по-видимому, самым логичным казалось бы собраться всем вместе, из последних сил отчаянно защищая деревянную палатку. Но лучшей мишени для смертоносных стрел кутригуров придумать было невозможно. Аттила же велел воинам снова разделиться на группы по десять человек и, сколько бы ни осталось в живых, сражаться, образовав подвижный отряд.
Это был хитрый ход. Кутригуры не могли пускать стрелы в общую массу. Поскольку таковой не оказалось, существовала вероятность попадания в своих же соплеменников. Когда свирепые дикари ворвались внутрь, им пришлось атаковать каждую группу по отдельности. Нападая на одну, кутригуры тут же несли большие потери от стрел другой в тылу или на фланге. Эта военная тактика при малой численности войска оказалась самой верной. Сила и ловкость обращения с мечом, которыми обладали люди Аттилы, их фанатичная преданность друг другу и своему властителю производили ужасающее впечатление. Ряды врагов таяли с невероятной скоростью. Хотя никто, кроме одного человека, не знал этого, но отряды гуннов сражались подобно миниатюрным римским легионам. Для раздробленной, сбитой с толку, неуклюже передвигающейся кавалерии кутригуров они оказались непобедимыми.
Дым и пыль застилали небо, крики животных оглашали окрестности чаще, чем вопли людей. Усталость опускалась на плечи бойцов, кровь заливала лицо: удар — и гибель, и снова удар — и снова гибель. Сколько это продлится? Тогда истощение станет причиной смерти, а не бесстрашие или сила врагов. Подобное нередко случается с воином. Убивает его усталость, а не что-либо еще.
Орест, Аттила и ближайшие из спутников сражались спина к спине у восточной границы круга, пытаясь приблизиться к центру. Но неприятель продолжал наступать. Сменить позицию казалось неосуществимым. Оставаться в живых было единственным, что могли сделать гунны.
Аттила громко закричал, пытаясь привлечь внимание. Орест повернулся и увидел нависшего над собой кутригура — высокого, худощавого юношу с длинными волосами, зачесанными наверх и сильно замазанными белой глиной, с лицом, забрызганным пятнами свежей крови, с украшенным лентами копьем наперевес. Грек взмахнул горизонтально длинным мечом и направил клинок в живот неприятелю. Тот замер, опустил оружие и снова схватил его вертикально двумя руками, приняв простую позицию для атаки. Так можно было отразить удар нападавшего, быстро повернуть копье, даже если древко сломалось бы, и двинуться на неприятеля. Но Орест действовал вопреки ожиданиям кутригура. Он выполнял один из своих самых любимых трюков — как обычно, молча и невозмутимо, будто тренировался с другом.
В тот момент, когда копье кутригура наклонилось, и враг перешел в оборону, грек изменил направление удара и точным молниеносным движением перенес оружие через голову юноши, поправил руку на эфесе, когда сверкнул меч, и затем с силой опустил его сзади на ноги противника, перерезав сухожилия, мускулы и раздробив наполовину кость.
Через мгновение он вынул меч, выпрямился и снова взял его в правую руку. Ноги ошеломленного воина изогнулись, будто мышцы полностью вылезли оттуда, и кутригур осел на колени в лужу собственной крови, все еще не понимая, что случилось, что пошло не так? Ему и не было суждено это понять. Боги оказались благосклонны в тот день и даровали юноше смерть. Ведь каждый день смерть хочет забрать всех и каждого, а жизнь подходит к концу, когда боги разрешают ей сделать это.
Орест вонзил лезвие в кутригура и снова вынул свой меч. Затем поставил ногу на поясницу убитого и толкнул бездыханное тело в объятые огнем колючие заросли.
Это была не просто битва. Она более походила на казнь.
Но гунны проигрывали. Несмотря на жестокость, храбрость и ту смертоносную ловкость, с которой сражались воины, стало ясно: поражения не миновать. Около дюжины уже погибло, от кроваво-красных ран стонало вдвое или втрое больше человек. От усталости воины едва держались на ногах. Количество же врагов не уменьшалось: когда с воем погибал один дикарь, на его месте тут же появлялись двое других. День казался бесконечным.
Аттила по-прежнему скакал на лошади среди своих людей, выстраивал в определенном порядке, уклоняясь от мелькающих копий, нетерпеливо кружился и рассекал любого, с ревом идущего на него, почти надвое до пояса. Когда каган пытался приказать гуннам повернуться в другую сторону, то, услышав голос предводителя, воины воспрянули духом и стали сражаться еще отчаянней. Но они терпели поражение!
Наконец солнце стало садиться в тот короткий холодный зимний день. А битва все не кончалась. В лучах заката бойцы казались фантастическими созданиями с огненными очертаниями, марионетками в руках богов, которые затеяли какую-то игру теней со смертельным исходом. В ратном поле, залитом кровью, была некая ужасная красота: небо окрасилось в ярко-рыжий цвет, одни воины стонали и изгибались, падая прямо в объятия товарищей и тут же испуская дух, другие распевали короткие боевые кличи и снова ввязывались в драку, чтобы убить того, кого успеют, прежде чем их самих отправят на тот свет.
Высоко над головами показалась стая диких гусей, и вновь черные тени заслонили солнце. Некоторые воины замерли посреди битвы и посмотрели наверх. Они не могли ни о чем думать, не находилось нужных слов для выражения того, что творилось в сердце при виде безмолвных призраков с черными крыльями, проплывающих где-то далеко в небе и скрывающихся на западе в лучах палящего и исчезающего за линией горизонта солнца.
В одно мгновение произошли три события. Чанат застонал, перестал сражаться и укрылся среди горстки других воинов. Аттила прямо перед глазами гуннов, объятых ужасом, уронил голову и схватился за грудь. Затем из его рук выпал меч. Каган немного покачнулся, и в этот момент воины увидели, что в предводителя попала стрела с черным оперением. Рана не была пустяковой. Наконечник застрял между ребрами в плотной грудной мышце, хотя и не задел сердце. Аттила отломал древко и откинул его прочь, прикрыл рану кожаной курткой, завязал узлом и снова выпрямился.
Почти в тот же самый миг донесся таинственный звук откуда-то издалека, приглушенный и зловещий, проникший сквозь пелену пыли. Сражающиеся замерли и зашатались, будто сонные. Один из кутригуров остановился, занеся руку для удара, и повернулся в сторону. В тот момент его могли убить, но снова донесся звук, и противник — Есукай, бок которого от плеча до бедра был залит кровью, — также затих и как слепой посмотрел на запад.
В третий раз послышался этот звук, невероятно печальный, заставивший дрожать воздух и землю. Кутригуры перестали сражаться. Старый вождь повернулся и застыл. Словно некий невидимый бог дал сигнал закончить битву. На ратном поле воцарилась тишина. Оно замерло в ожидании.
Глава 8
Захваченные в плен, раненые и проклятые
Пыль рассеивалась, ее относило ветром в сторону. Невысокие костры все еще потрескивали, деревенские лачуги были охвачены пламенем, но колючие
заросли исчезли, оставив после себя лишь пепел там, где горел огонь. Казалось, будто пролегла граница в какой-то сложной и смертельной игре.
Воздух становился чище. Небо приобрело насыщенный темно-синий цвет. На нем блуждало одинокое золотое светило.
Кутригуры и их враги, посмотрев в одну сторону, увидели вдалеке пламя, вспыхнувшее на горизонте. Небольшое, но заметное, оно появилось на востоке в пяти милях от того места, где сражались воины. Там находился лагерь кутригуров. В темно-синее небо взвился столб дыма, будто это был дым из горна или черный дым из проклятых нефтяных промыслов на диком побережье Хорезма, затмевающий даже далекий чистый свет, озаривший небеса.
Последний друг Аттилы — черный огонь.
Наверху по низкому холму, вероятно, на расстоянии полумили, двигалась, еле переставляя ноги, толпа несчастных. Не армия доблестных воинов явилась на зов о помощи в трудный час, вознаграждая за некогда проявленный гуннами героизм. Как и говорил Аттила, спасители отличались не силой, а слабостью: исхудавшие руки старцев были скрючены, женщины связаны вместе самодельной пеньковой веревкой, дети едва шевелились и капризничали. Около сотни из них, а возможно, больше, испуганно держались за копье.
Громкий сигнал рога донесся снова. Это трубил Гьюху. Вместе с Кандаком и отрядом из двадцати человек он показывал на небо на востоке, где опускалась темнота. Затем вскочил на коня рядом с пленниками, связанными, закованными в кандалы и подавленными. Рог, в который трубил гунн, имел форму огромного полумесяца из слоновой кости желтого цвета, потрескавшегося от времени. Это был священный рог жрецов-кутригуров, выкопанный много лет назад из-под земли — полый внутри клык какого-то древнего животного, чьи кости выпали из желтой пыли в осыпавшемся известняковом холме. Его потомки, вероятно, уже более не топтали поверхности земли.
Кутригуры долго не отрывали взгляда от своих соплеменников, закованных в кандалы. Глаза уже немного подводили старого вождя, особенно при тусклом освещении. Но многие из воинов, присмотревшись, заметили пожилых отцов и матерей в числе захваченных, сестер, слишком юных для того, чтобы сражаться с помощью маленьких изогнутых ножей, жен с младенцами на руках, завернутых новорожденных или едва научившихся ходить малышей, державшихся за взрослых. Их запястья и лодыжки были туго затянуты веревкой. Двадцать воинов, двигаясь по бокам, держали копья наготове по направлению к груди и горлу пленников, окружив их и не выпуская в сторону. Любой, кто пытался вырваться и убежать, был тут же пронзен мечом. Зловещие охранники ехали молча и невозмутимо. Очевидно, они выполнят все, что пообещали. Но всего лишь двадцать человек! Но этого оказалось больше, чем достаточно для достижения поставленной цели.
Пусть будут они прокляты. Прокляты те самозванцы, которые перехитрили их, обошли с флангов даже в центре битвы, выслали тайком подкрепление, напавшее на беззащитный лагерь, когда мужчины были далеко и сражались с врагом.
Некоторые из молодых и импульсивных кутригуров, оскалив зубы, повернулись к неприятелю, желая нанести последний безжалостный удар. Вместе со своим вожаком они ринулись в бой. Того свирепого воина с синими татуировками и с растрепавшимся пучком волос, которого гунны заприметили уже давно, но не могли достать или подобраться ближе, нельзя было снова упустить. Когда изможденные кутригуры опять решили идти в атаку, горя желанием ворваться и покончить с презренными бандитами и дерзкими незваными гостями, их вожак поднял меч правой рукой. Одновременно, словно в зеркальном отражении, будто не существовало ни времени, ни расстояния, командир отряда из двадцати всадников на холме поднял копье и направил в бредущего рядом связанного пленника. Им оказалась худощавая девочка-подросток, которая вздрогнула и сжалась.
Вождь кутригуров все это видел и громко прокричал приказ остановиться. Девочка была его дочерью.
Ситуация стала безвыходной.
С мрачным выражением лица старый вождь долго смотрел на холм, где стояло столько соплеменников в веревках и цепях. Он думал о великом становище у реки, оставленном утром в полном порядке. Теперь поселение превратилось в почерневшие от огня руины, в чем сомневаться не приходилось. Скот наверняка зарезали, лучших лошадей забрали и отогнали в другое место, а остальных закололи, и они умирали от жажды, открыв рот, лежа на вздувшихся животах и дергая ногами в нарастающей агонии на извилистом берегу реки. На мгновение кровь снова вскипела в старых тонких жилах вождя, и вновь захотелось помчаться во весь опор и, невзирая ни на что, покончить с врагами, принеся в жертву и молодых, и пожилых.
«Можно с удовольствием предать смерти ненавистных врагов, — размышлял вождь. — А младенцев? Их еще больше там, откуда пришли пленные. А вас, наши враги? — Вождь повернулся и осмотрел истощенных и окровавленных воинов, стоящих за жалкими рядами столбов. — Вы — трусливые собаки и предатели, озлобленные шпионы. Должна быть возможность уничтожить вас. Хоть бы одна-единственная…»
Но это неправильно. В горе и в приступе ярости кутригуры накинулись бы и убили его, покончив со своим вождем.
Необходимо как-то извлечь пользу из ситуации. Нужно действовать так, как подобает настоящему вождю в трудный час, или остальные набросятся на него, как волки на оленя, и разорвут.
Медленно кутригур двинулся на коне к линии боя. При нем не было оружия, кроме деревянной палки. Воины расступились в разные стороны. Вождь остановился перед остатками колючих зарослей. Все кутригуры сделали несколько шагов назад. Предводитель врагов снова сел на лошадь, чтобы встретиться с вождем. Правый бок Аттилы был промокшим и темным, но он сидел невозмутимо и прямо, не шатаясь. Конь оказался грязным маленьким пегим жеребцом с жестоким взглядом — бойцовским. Это старый вождь сейчас уже знал. Он понимал и то, что те несколько дюжин человек оказались такими воинами, с которыми встречаться еще не доводилось. На них божье проклятье…
Два предводителя посмотрели друг на друга.
— Значит, — сказал вождь, — ты нападаешь на наших женщин и убиваешь детей. Пронзаешь мечом младенцев. Вот как ты сражаешься, как одерживаешь победу!
— Твои глаза стали слабы, старик, — ответил Аттила. — Взгляни-ка снова. Так ты мог сделать, не мы. Женщины и дети все еще живы, а вот многие славные воины — нет.
— Ты — порожденье…
— Я — милосердный человек, — сказал Аттила. — Что приказать мне своим воинам? Убить женщин и детей у тебя на виду? Всех пленных зарежут прежде, чем ты доскачешь и остановишь моих людей. Успеешь только несколько раз вдохнуть. Гунны все делают быстро. — Аттила улыбнулся. — Но у меня нет желания убивать слабых и беззащитных. Мои воины милосердны, как и я. Давай договоримся.
— Ты — демон!
Аттила покачал головой:
— Нельзя вести переговоры с горячей головой. Вероятно, тебе нужно отдохнуть после напряженной битвы, старик. И тогда сможем все обсудить. Но помни: женщины и дети на том холме, как и мы. Пока ты готовишься к перемирию, мы позаботимся о них. — Аттила снова улыбнулся волчьей белозубой улыбкой, сложил сильные руки на груди и снова высоко поднял голову.
— Мне не нужен отдых, — прорычал старый вождь с потемневшим от гнева лицом. Уставившись в желтые глаза незнакомца, он спросил:
— Как тебя зовут?
Называть сначала свое имя считалось плохим признаком у всех кочевников — признаком слабости. Но Аттила всегда презирал эти обычаи, поскольку знал, где скрываются истинная сила и слабость.
— Меня зовут Аттила, — ответил он, — сын Мундзука.
Вождь сузил глаза. Он слышал это имя раньше. Слышал о великих деяниях, совершенных человеком с этим именем. Как раз далеко на востоке, в горах, был вождь у разбойников…
— А каково твое имя?
Старый вождь попытался успокоить своего неугомонного коня.
— Меня зовут Кызил-Богаз, — ответил он. — Красный Зоб, вождь всех кутригурских гуннов.
— Всех? — с насмешкой переспросил Аттила. — Всех, что остались. Оглянись. Вы не можете победить нас. Уже половина твоих людей погибла, они лежат утыканные стрелами, словно ежи. Пустынные крысы и птицы рвут тела на части. Посмотри на свою мертвую армию! Хочешь увидеть, как зарежут вторую половину войска, а твоя сила исчезнет, как сломанная колючка, унесенная порывом ветра? Посмотри на моих людей. У меня сто человек — не больше, не меньше. А павших в бою сколько?
— Сколько?
Старый вождь прекрасно знал ответ. Ему было не нужно, да и не хотелось снова смотреть на ратное поле. Над ужасной арифметикой этой битвы голову ломать не приходилось. Властный вождь разбойников потерял не более горстки воинов. А сколько пало кутригуров! Еще одно такое сражение, и с ними будет покончено. Подобных потерь племя не знало прежде. Сегодня утром вышли две тысячи бойцов. Теперь не менее пятисот воинов устилали каменистую землю, их тела грязными кучами были свалены в роковом круге. Столько же, отстав, лежали в сгущающемся сумраке, разными способами залечивая раны от стрел, порезы от мечей, перевязывая сломанные ноги. Становища, куда кутригуры отступили бы, не существовало, как и войлочных юрт, в которых воины смогли бы отдохнуть, женщин с чашами, наполненными прохладной водой, и нежными руками. Все оказалось разрушено и сожжено дотла. Да проклянут боги этого смеющегося разбойничьего царя с желтыми глазами!
— Сколько твоих людей погибло? — горько повторил старый вождь. — Всего лишь малая часть.
— Твоя армия многочисленна, но слаба, — ответил Аттила. — Присоединяйся ко мне, и я сделаю тебя могучим. — И каган кивнул. — Присоединяйся к нам.
Красный Зоб посмотрел на Аттилу.
— Ты погубил отцов, сыновей, братьев в этой битве. Будун-Бору так просто не прощают.
— Тогда давай устроим поединок, — предложил каган. — Ты и я.
Красный Зоб оглядел Аттилу, бок которого по-прежнему был мокрым. Но он сидел на лошади прямо и твердо, как камень. Очевидно, рана оказалась несерьезной.
Вождь отвернулся.
— Старцы, женщины и дети — не единственная награда, что ждет вас после нашего объединения.
Красный Зоб снова посмотрел на Аттилу. Любопытство взяло верх над остальными чувствами.
— Говори!
— Мы отправимся на запад. Против Римской империи.
Красный Зоб нахмурился.
— Что такое Рим?
— Великая империя. Ты пойдешь с нами. Мы братья. Мы выступим вместе против Рима, империи столь же огромной, как Китай.
Красный Зоб попытался улыбнуться, хотя смешного было мало.
— Империи столь же великой, как Китай, не существует.
— Нет, есть. Римская империя не менее богата, но не такая могущественная.
Красный Зоб задумался. Нужно ли верить этому кровожадному и вероломному выскочке? Кроме того, что рассказывали другие, вождь видел, как в глазах Аттилы горит пламя правды, словно светильник в огне. Пусть он будет проклят!
— Кроме того, — сказал Аттила, положив расправленную левую руку на правую сторону груди, — мне нужен знахарь. Многим из моих людей необходима помощь, а твоим — тем более.
— Ты спалил наши юрты. Идти некуда!
— Очень хорошо, — ответил Аттила. — Мы уже достаточно долго ведем переговоры. — Затем он посмотрел на горизонт и поднял меч. Командующие всадников на холме, едва различимые во мраке, тоже схватились за копья. Группа закованных в кандалы людей зашаталась перед ними, словно кукуруза на ветру.
— Подожди, — произнес Красный Зоб.
Он поглядел на свои пыльные, окровавленные руки на луке деревянного седла и вздохнул. Затем пришпорил коня и направился к кутригурам.
Аттила ждал.
Он и гунны вряд ли поняли, что случилось потом. Красный Зоб что-то быстро сказал командирам и спустился с лошади перед воинами. Это было необычно. Гунны едва ли слышали слова, которыми кутригуры обменивались между собой. Внезапно их вождь упал на колени, словно прося прощения за плохо проведенную битву со столь немногочисленной вражеской армией. Затем он завалился набок, и гунны с ужасом заметили, что Красный Зоб превратился в безглавое существо. Его голова завертелась в пыли. Воин, стоящий напротив старого вожака, по-прежнему держал в руке короткий изогнутый меч, которым и разрубил шею убитого.
Кутригур снова выпрямился. Намазанные глиной волосы украшало множество перьев. Воин оказался моложе, чем Красный Зоб. Ему было не более сорока лет, а вероятно, даже меньше. Отличаясь широкой, мускулистой грудью, он выглядел сильным, словно бык. Он снова убрал меч в ножны, не вытерев кровь, и пришпорил коня.
— Меня зовут Рваное Нёбо, — сказал воин без предисловий. — Я — вождь кутригурских гуннов. Мы принимаем твое предложение. Вы — наши братья. Вы хорошо сражаетесь. Мы поедем с вами.
Он был низкого роста, плотного телосложения и обладал огромной силой, но его голос оказался резким и высоким. Рваное Нёбо, обладатель маленьких и подозрительных глаз, представлял собой полную противоположность задумчивому и сообразительному Красному Зобу. Из этого кутригура не получится хорошего вождя…
Аттила кивнул.
— Добро пожаловать, — сказал он.
Два племени сожгли своих убитых. У Аттилы погибло восемь человек. Большинство из оставшихся в живых получило ранения разной степени тяжести.
Есукай, нетерпеливый молодой Есукай, всегда желающий быть во всем первым… И сейчас он стал первым — первым из командиров Аттилы, завершившим свой жизненный путь. И самым юным. Так часто случается на войне.
Стрела, которая пронзила предплечье, прошла дальше и повредила грудную клетку. Кровь, заливавшая все тело, с плеча до бедра, когда Есукай бесстрашно бился в тот трудный день, была его собственной. Храбрый воин не обращал на рану внимания, словно тогда его жизнь не имела никакого значения.
Есукай умирал возле одного из почерневших столбов, Чанат тихо покачивал голову смелого гунна. Вряд ли несчастному захочется пить. Прикрыв глаза, он говорил очень тихо, и каждый раз на губах появлялись кровавые пузыри. Чанат заботливо вытирал рот, словно мать, убирающая остатки молока у своего ребенка. Рядом в сумраке стояли Аладар, Аттила и Орест. Соблюдая обычай, командующие опустились на колени перед Есукаем и попросили прощения за ошибки, которые могли допустить в жизни по отношению к нему. В ответ умирающий улыбнулся всем радостной улыбкой и прошептал:
— Все в порядке, все в порядке…
Затем он положил руку, на которой не было крови, на лоб каждому по очереди в знак благословления. Командиры поднимались на ноги со слезами на глазах. Ведь после долгого путешествия и ожесточенной битвы они стали друг другу братьями.
— Мои женщины, — пробормотал Есукай. — Самая юная, Камар. Самая любимая…
Голова говорившего упала, и все подумали, что он умер. Но Есукай произнес:
— Мое сердце скорбит о Камар. — Глаза его были закрыты, слова едва уловимы. Аттила встал на колени, чтобы слышать. — И о моих детях, сыновьях и дочерях. Позаботьтесь о них.
— Как о сыновьях и дочерях вождя, — ответил Аттила.
Чанат снова вытер губы умирающему, и кровь перестала идти.
В ту ночь гунны сожгли его тело на большом костре из сухой травы вместе с трупами других восьми воинов, погибших днем. Этот погребальный костер был одним из многих, появившихся на мрачном поле битвы: кутригуры тоже предавали огню своих павших в бою воинов. Маленькие маяки горели на огромной безмолвной местности под полночным синим небесным сводом. Освещенные пламенем фигуры двигались медленно, словно призраки, низко наклонив головы, а затем останавливались и стонали, падая на колени подле обезглавленных тел и сломанных конечностей, и безутешно рыдали. То были матери и жены, сестры и постаревшие отцы из племени кутригуров, пришедшие в поисках родных среди живых и нашедших их среди мертвых. Вокруг стояли дети постарше и помладше с грязными лицами, едва ли понимавшие, что случилось.
В середине костра было заметно тело Есукая, объятое пламенем. От грудной клетки остались лишь кости. Они загорелись и вскоре превратились в белый пепел. Вверх взметнулись искры и исчезли среди звезд. Гунны запели, прославляя Есукая. Горестное стенание было о самих себе, согласно обычаю, и о славном друге и сотоварище, которого они потеряли.
Пусть завидуют тому, кто пал в бою
Полководцы и владыки всех времен.
Ты ушел от нас сегодня, Есукай,
И достоин ты царских похорон.
Храбрый воин, ты был орлом в бою,
Словно ирбис, налетел ты на врага,
Ну, а нам, оставленным тобой,
Будет вечно твоя память дорога.
Сердце храброе, неустрашимый взгляд —
Ты запомнишься долинам и горам,
Но не будет утешения всем нам,
О тебе сейчас сердца скорбят.
Меч отброшен, сломан лук, доспех пробит,
Для тебя теперь закончена война.
Пусть ночная степь теперь молчит.
Славный друг наш, Есукай, покинул нас.
Наконец погребальный костер догорел, гунны снова сели на коней и медленно поехали на восток.
Вождь кутригуров, сомнительных союзников, громко закричал в темноте:
— Куда вы направляетесь?
Аттила оглядел его. Затем кивнул и сказал тихо, почти с нежностью:
— Поехали.
После получасовой ночной поездки к реке с женщинами, детьми и старцами, возвращенными кутригурам, которые теперь без веревок и цепей, но все же с трудом передвигались в арьергарде, они появились на покрытом растительностью берегу. Гунны осадили лошадей и стали ждать, пока остальные подтянутся на холме.
Рваное Нёбо шел рядом с Аттилой и тяжело дышал.
Впереди догорали остатки огромного костра, а с ним и несколько черных войлочных палаток. Это был искусственный костер, сложенный из подлеска, хорошо пропитанного густой черной нефтью, собранной воинами в пустыне по приказу Аттилы. Теперь они поняли: каган придумал еще один фокус. Черный дым, который кутригуры заметили на горизонте и посчитали, что юрты объяты пламенем…
Лагерь по-прежнему находился на берегу реки, как и всегда, согреваемый ласковой и благотворной луной. Лошади фыркали и мирно стояли в загонах, юрты были пусты и целы.
Рваное Нёбо оторвал взгляд от нетронутого поселения и посмотрел с восхищением, но с затаенной злостью на царя разбойников с желтыми глазами — Аттилу, сына Мундзука.
— Сегодня вы бились, как львы, отправив многих моих людей в могилу. Но наших стариков и детей, женщин и невинных девушек, даже юрты и лошадей в загонах вы не тронули.
— Мы так чаще всего и поступаем.
Рваное Нёбо проворчал:
— Ты не самый большой дурак, которого я когда-либо видел.
Аттила улыбнулся.
Наконец Рваное Нёбо снова уселся в седло, поднял копье и закричал своим изможденным и сбитым с толку воинам:
— Начиная с сегодняшнего дня, — заявил он, — не существует больше ни черных, ни кутригурских гуннов! Есть одно племя — гунны. Именно так, как мы слышали. Мы станем величайшим народом на земле!
Пятнадцать сотен всадников, несмотря на усталость, раны и невероятную сонливость, в тот момент даже пересиливавшую желание завоевать империю, ответили оглушительным криком. Он разнесся на много миль по бесплодным степям, и даже шакалы в своих норах задрожали от страха.
Глава 9
Хорошее лекарство, плохое лекарство
Рваное Нёбо тут же устроился в высокой юрте Красного Зоба и предложил Аттиле тоже там отдохнуть. Видя, что каган ранен, вождь бывших кутригурских гуннов пододвинул к нему кушетку и послал за целительницей.
Главарь разбойников с удовольствием опустился на овчину.
— Мы — одинаковые, ты и я, — сказал Рваное Нёбо. Аттила ничего не ответил. — Мы — властители. А наши племена — больше не пустынные или степные гунны, или обитающие на востоке горные гунны. Мы, гунны, станем единым народом и будем вселять ужас всем, кто живет на земле.
Он передал Аттиле чашу с кумысом и сделал глоток из другого кубка.
— Крестьян, за которых ты сражался, очень трудно защищать, — продолжал Рваное Нёбо. — Это — рабы. Почему ты бился за них?
Аттила откинул назад голову и закрыл глаза.
Рваное Нёбо не останавливался:
— Мы знаем о вас, древнем народе Ульдина, о том, как вы ушли на запад. Мы думали, вы исчезли за краем земли, вторглись в отдаленные территории и поплатились за это. — Вождь мрачно кивнул. — Как же мы ошибались! И какая цена ждала нас сегодня!
При входе в палатку что-то зашевелилось, и Рваное Нёбо встал.
— Твоя целительница. Я оставлю вас.
Женщина опустилась на колени перед Аттилой, не говоря ни слова и не поднимая лица. Она очень осторожно развязала кожаную куртку и аккуратно убрала мокрую ткань с груди. Сердце целительницы замерло. Наконечник проник достаточно глубоко. Но пузырей крови на губах не было, следовательно, стрела не задела легкое, хотя и прошла очень близко. Раненому, вероятно, придется набраться терпения.
— Вытаскивай, — пробормотал Аттила. — Давай.
Женщина взялась за длинный и тонкий стальной наконечник. Ей тоже придется быть сильной.
Прошло много времени, когда целительница наконец смогла зашить зияющую рану конским волосом и маленькой иглой, положить припарки из вскипяченных трав на входное и выходное отверстия и обмотать грудь крепкими белыми льняными бинтами.
Какой же силой, должно быть, обладал этот воин!
Внезапно Аттила схватил целительницу за тонкое запястье, и от неожиданности и боли она закричала.
Раненый поднялся.
— Не пытайся отравить меня, когда притворяешься, что лечишь, женщина. Тебе это не удастся. Я выживу, несмотря на яд. И убью тебя.
Она и не сомневалась, что так и случится.
Был то яд или нет, но каган быстро слабел. Стрела проникла глубоко, и, когда целительница извлекала наконечник из тела, Аттила испытал сильную боль и потерял много крови. Вероятно, в рану попала какая-то инфекция. Но пока от нее не шло того зловония, которое появляется, когда боги отмечают избранного печатью смерти, хотя саму стрелу вынули уже давно.
Аттила боролся. Лицо стало бледным, теперь началась лихорадка. Гунны лечили жар всеми известными средствами, натягивая над раненым толстые овечьи шкуры, пока его лицо не становилось мертвенно-бледным и мокрым от пота, словно лед, тающий под лучами солнца. Давали пить только самую чистую и свежую воду прямо из реки. Ее брали вверху по течению каждое утро на рассвете.
Но лихорадка не спадала, и временами Аттила бредил, произнося таинственные и страшные слова и стихи, звучавшие как пророчества о конце света. Он невнятно и бессвязно бормотал об ужасном властителе, падении горящих городов, о великом льве, орле и сутулом звере с жесткими волосами, который еще придет в страну и отомстит за двенадцать долгих грешных лет. Женщина вытерла раненому лоб, дала попить и пожалела несчастного, которого мучили кошмары.
Появился Маленькая Птичка. Каган едва мог разглядеть шамана.
— Это яд, — прошептал он, — но не женщина тому виной.
Отдышавшись, Аттила сплюнул.
— Где ты был во время битвы? Я забыл тебя.
— Где я был? — переспросил Маленькая Птичка. — Выживал, вот где я был.
Аттила слабо улыбнулся. Скосив глаза, он посмотрел на шамана и увидел старого, уставшего человека с грустным взглядом. Каган совсем забыл, сколько лет уже исполнилось шаману. Маленькая Птичка всегда казался неподвластным времени, но не сейчас.
Аттила протянул руку, и шаман взял ее в свою, словно сын, берущий руку отца на смертном одре. Толстые извивающиеся и бугорчатые вены стали плоскими и почти невидимыми, будто кровь исчезла оттуда. Однако голос Маленькой Птички остался по-прежнему радостным и веселым — столь противоречивым было его сердце.
Шаман сказал, что, по-видимому, Рваное Нёбо — один из сыновей старого вождя, Красного Зоба.
— Старший?
Маленькая Птичка покачал головой.
— Первый, имеющий право на жизнь. — Глаза шамана сверкнули. — Он — не единственный великий вождь, убивший отца. Таковы слухи.
— Хватит, Маленькая Птичка, — прохрипел умирающий каган. Шаман был уже весьма немолодым человеком, но не мог отказаться от своих жестоких колких замечаний и острых шуток. Говорить подобным образом было свойственно характеру шамана и природе его мудрости. Даже в те моменты Маленькая Птичка склонял голову и утирал со щек слезы, думая, что Бог нагибался именно так, ложась у врат, ведущих в потусторонний мир, в гроб из окровавленной овчины, делая несколько последних судорожных вздохов, вздымая и напрягая грудь, а в венах, легких и во всем несгибаемом теле разливался яд и начиналось загнивание. Уже недалеко был тот момент, когда врата смерти откроются, высунутся серые от пыли руки и утащат шамана с собой, затем снова закроются, и Маленькая Птичка исчезнет навсегда. Причин жить он видел не более, чем в случае, если бы вдруг солнце на небе погасло, словно свеча. Другой каган, похожий на Аттилу, шаману был не нужен; все оставшиеся дни Маленькая Птичка провел бы где-нибудь в уединении.
Над головой кружились облака. На полу палатки блеснул луч солнечного света — и исчез.
Орест сидел рядом с Аттилой весь день и всю ночь. Вряд ли он сомкнул глаза. Иногда каган вскрикивал, задыхался и кашлял. Из зараженных легких летели брызги.
Орест громко велел всем убраться из палатки. Затем грек зарыдал:
— Мой брат… — И стал качать на руках голову верховного вождя. Дыхание Аттилы было едва уловимым и затрудненным, а лицо — зеленым и желчным.
Однако одну посетительницу это вряд ли испугало. Она прошагала по лагерю, опираясь на палку и неся кувшин воды, не обращая внимания на крики и вопросы. Ею оказалась старая жрица из деревни.
— Откуда ты узнала, что каган болен? — спросил Орест.
— Из сна, — ответила она немного раздраженно. — А ты думал, откуда? Теперь поди прочь.
Жрица что-то сказала кагану низким голосом, затем сняла бинты и начала промывать водой раны.
Она кивнула на кувшин, который принесла с собой.
— Из озера, — добавила жрица. — Пить не очень приятно, зато эта вода залечивает все раны и вымывает болезни. — Старуха ухмыльнулась, обнажив один белый зуб. — Лишь боги знают, что внутри!
Орест осторожно понюхал.
— Соль, — пробормотал он. — Что-то соленое…
Жрица искоса посмотрела на грека.
— Долгие речи сейчас не помогут твоему хозяину. Передай мне те лохмотья.
Раны, казалось, заживали быстрее, когда старуха их мазала, но жар не спадал, и каган по-прежнему слабел. Заражение проникло внутрь организма. Жрица оставалась с Аттилой (с разрешения Ореста) и без устали молилась днем и ночью.
У кутригурских гуннов была своя ведьма — Энхтуйя, волшебница и предсказательница, державшая змей.
Как-то раз вечером Орест и Маленькая Птичка сидели подле своего умирающего властителя. В центре юрты пламя уже почти погасло. Возле входа что-то зашевелилось, и вошла, улыбаясь, ведьма. Ее темная кожа блестела при свете огня.
Когда Маленькая Птичка посмотрел на Энхтуйю, то стал вести себя, словно сумасшедший. Шаман зашипел, завыл и вскочил на ноги, швырнув вперед стул с тремя ножками. Закричал, запрыгал, остановился и снова взглянул на ведьму. Потом снова закричат и запрыгал. Он завопил:
— Убирайся! Вон!
Но Энхтуйя стояла и только шире улыбалась.
Маленькая Птичка побежал обратно, сильно схватил Аттилу за руку и завизжал, что ведьму необходимо выгнать, убить, ее глаза холодны, как у змеи, а внутренности — кишащее гнездо.
— Слушайте меня, не ее, меня! — кричал шаман, наклонив рот почти к уху кагана. — Она не вылечит вас! Она приносит только вред! Выгнать ее, говорю, или змей Анашти сожрет вас и весь народ!
Аттила простонал:
— Уведите ведьму прочь.
— Однако время придет, и очень скоро, — ответила Энхтуйя своим странным голосом, высоким и резким, словно жалящее насекомое. Когда ее уводили, ведьма резко взмахнула рукой. — Время придет, — произнесла Энхтуйя, — и ты будешь слушать.
Случилось именно так, как она и говорила. Еще два раза ведьма появлялась в юрте кагана, и каждый раз Аттила был при смерти. На третий раз он уже не велел Энхтуйе уйти. Маленькая Птичка пришел в бешенство.
Орест вскочил на ноги и стал оттаскивать шамана, сведя ему руки за спиной. Тот попытался ударить грека по лодыжке, но Орест поднял скрученные руки вверх, что причинило Маленькой Птичке сильную боль, а затем бросил противника на пыльный пол.
— Тихо, дурак, — рявкнул он. — Дай своему хозяину немного отдохнуть.
Но шаман не хотел молчать. Маленькая Птичка лежал и что-то бормотал от гнева и страха, свернувшись на земле как зародыш, повернувшись набок и подтянув колени к груди. Орест пинал его, пока тот не вскочил на ноги. Шаман помчался по юрте, упал навзничь и выполз через вход.
Грек снова глянул на незваную гостью. Он уже издалека заметил незнакомку, идущую по лагерю, и стал раздумывать, кто бы это мог быть. Даже Аттила повернул лицо — желтоватое, осунувшееся, покрытое потом.
Женщина производила необычное впечатление. Она отличалась очень высоким — выше, чем у большинства мужчин племени — ростом и очень стройной фигурой. Рыжевато-коричневые волосы, поблекшие со временем, были собраны, намазаны смолой и завязаны в узел на макушке узкой головы, из-за чего незнакомка казалась еще выше. По лицу этой женщины с острыми скулами, выступающими костями и очень тонкими губами невозможно было определить возраст. У нее был темный цвет лица, а кожа походила на мед — не сладкий и бледный мед с горы Гиметт, а коричневатый каштановый мед, мерцающий и переливающийся при свете огня. Но глаза оставались пронизывающе голубыми, как лед в преломляющихся лучах зимнего солнца.
Все вокруг незнакомки казалось жутким и неестественным, даже Орест чувствовал в ней какую-то неопределенность. Наблюдения, которые грек, не говоря ни слова, постоянно вел за людьми и замечал малейшие движения их душ, многому научили верного спутника кагана Аттилы и подсказали, что это — не самая обычная посетительница.
Невозможно сказать, из какого племени происходила женщина с темной блестящей кожей и бледно-голубыми северными глазами. Ее грудь не отличалась мягкостью и округлыми материнскими формами, была ровной и костлявой. Все, кто занимается магией, знают таинственную силу того, что имеет границ. Они упражняются в ловкости и произносят заклинания на перекрестках, не являющихся в прямом смысле дорогой, в полночь, в час колдовства, когда уже прошла ночь, но не наступил день. В Энхтуйе, которая, казалось, представляла собой воплощение призрачности и неизвестности, оставаясь при этом не темной и не светлой волшебницей, не мужчиной и не женщиной, эта сила увеличилась в сотни раз.
Вокруг ее горла висела витая змеиная кожа, как и на запястьях и руках, где змеи сплетались в кольца. То тут, то там к коже Энхтуйи пристали чешуйки, которые тускло мерцали, и при плохом освещении или в мягких отблесках пламени костра ночью среди юрт чудилось, что ее кожа была такой же чешуйчатой, как и любимых змей. В маленьком кожаном мешочке на талии шевелились две живые змеи. Яд этих рептилий вызывал мгновенную смерть. Иногда Энхтуйя доставала змей и играла с ними, гладя извивающиеся тела и прижимая к своим впалым щекам, мурлыча, как ребенок, забавляющийся с котенком.
Змеи смотрели на ведьму немигающими непрозрачными глазами и время от времени высовывали серые языки. Никто не осмеливался подойти к Энхтуйе, пока та держала в руках любимцев. Вероятно, они никогда не кусали хозяйку. Но некоторые утверждали, что такое случалось достаточно часто, поскольку заставить змею не кусаться не проще, чем заставить собаку не лаять. Единственным объяснением, почему ведьма все еще была жива, считалось то, что Энхтуйе покровительствовала лунная богиня. По этой причине яд не оказывал на нее никакого воздействия.
Другие же оставались уязвимыми для рептилий. Это были, как правило, пленники, которых кутригуры иногда пытались посадить на кол на краю лагеря, или раненые, со стоном умирающие на поле боя. Зачастую появляющуюся сквозь дым и сумрак Энхтуйю замечали в образе духа, парящего над смертным одром. Она и там не расставалась со своими любимыми змеями. Ведьма вставала на колени, подобно заботливой сиделке, возле раненых и умирающих, вынимала рептилий, как будто те были маленькими помощниками-врачевателями. Сжимая головы, чтобы рассердить тварей, она опускалась возле воина чужого племени и подносила змей к губам несчастного, словно являлась некоей демонической тенью целительницы, приблизившейся к больному, желая дать чашку воды. Глаза Энхтуйи сияли от восторга, когда она наблюдала за рептилиями, ползущими все ближе к обреченному, который беспомощно барахтался в грязи, вероятно, размахивая обрубком искалеченной руки в поисках точки опоры в пыли, пытаясь скрыться от этих ужасных призраков. Ведьма направляла змею прямо к раненому и улыбалась, наблюдая, как та погружала ядовитый зуб в губы, щеки, глаза жертвы…
Энхтуйя была колдуньей и потому прекрасно знала не только как навредить, но и как вылечить.
Сейчас она опустилась на колени возле умирающего. Не произнесла ни слова, поскольку, подобно любому властителю, ведьма понимала: молчание — сила. Но прозвучал голос Ореста:
— Я наблюдаю за тобой.
Энхтуйя повернулась и пристально посмотрела на грека своими холодными голубыми глазами. Даже Орест почувствовал внутри какую-то дрожь. Затем ведьма кивнула. Она поняла его. И осторожно принялась за дело.
Энхтуйя взяла горшочек и налила туда вонючую и смердящую смесь из меда, соли, бараньего жира и настоев каких-то степных цветов, а затем влила эту ужасную мазь в рот Аттиле. Он тут же стал задыхаться и никак не мог откашляться.
— Я наблюдаю за тобой, — повторил Орест.
Ведьма не отрывалась от своего занятия.
Умирающий каган по-прежнему задыхался от вонючей смеси. Энхтуйя опустила голову и приложила ухо к груди Аттилы. Затем немного пошевелилась и еще раз послушала. Дольше всего она задержалась на правом боку — там, куда и была нанесена рана. Оттуда доносился протяжный, громкий, страшный хрип.
Энхтуйя опять села прямо, засунув руку под одеждой и вытащив длинный и тонкий нож. Через мгновение ведьма наклонилась к кагану, который едва ли находился в сознании, и, кажется, принюхалась, как животное. Затем аккуратно развязала бинты, поднесла кончик ножа к ребрам возле старой раны и воткнула его. Аттила изогнулся и тяжело задышал. Послышался свист, когда воздух проник внутрь.
Ведьма глянула на Ореста из-под черных бровей.
— Если побледнеет, Аттила выживет, — сказала она. — Если станет плотнее и пожелтеет, умрет.
— Вот насколько хватило твоих колдовских сил?! — в ярости воскликнул Орест.
Энхтуйя не обратила внимания на грека и медленно вынула нож из глубокой и узкой раны. Оттуда хлынул гной.
Плечи Ореста опустились, и он склонил голову.
Струя била, словно поток воды весной.
Ведьма убрала гной впитывающей льняной тряпкой. Затем из раны начала сочиться кровь, и Энхтуйя снова прочистила ее. Наконец она заткнула рану маленьким кусочком ткани и соединила края.
Внезапно ведьма встала и вышла из палатки, сказав, что вернется завтра.
Орест спал там, где сидел. Голова грека лежала в ногах хозяина, лежавшего на кровати.
Энхтуйя сдержала свое слово. Каждый день утром и вечером она производила одну и ту же ужасную операцию, и с каждым днем выходило все меньше гноя. На третий день лихорадка спала. Дыхание стало спокойным, и, хотя и работало одно легкое, второе быстро заживало.
Энхтуйя делала припарки и прикладывала пластыри из коровяка, листьев клевера, кипяченой травы пустырника, семян льна, пропитанных соком черного паслена.
Аттила сильно кашлял пару дней. Но на седьмой день после прихода ведьмы он поднялся и стоял на ногах, когда Орест заглянул в палатку.
— Вам нужен покой! — воскликнул грек.
Каган повернулся к своему верному спутнику, в одно мгновение схватил меч со столба, вынув из ножен и взмахнув им. Орест лишь успел наклониться, чтобы избежать серьезных ранений.
Затем снова выпрямился:
— Слава Богу на небесах!
Аттила убрал оружие в ножны и ухмыльнулся.
Глава 10
Мужья и жены
Сначала гунны роптали и были недовольны предстоящим объединением с кутригурами.
— Представьте, какой страх мы сможем нагнать теперь на врагов! — восклицал Гьюху. — Такое огромное племя! Мой господин, какую мощь мы обретем в единстве!
Но искренне ли говорил Гьюху эти слова, сказать трудно.
— Будем надеяться… — весело пропел Маленькая Птичка, как всегда, саркастичный, чистосердечный и лицемерный одновременно. — Будем надеяться, что, путешествуя, мы не пройдем мимо чистого озера. Тогда тут же погибнем, увидев ужасное отражение! И давайте еще надеяться, что наши теплые дружеские отношения с родственниками-кутригурами сохранятся долгое время. Междоусобица всегда так безнравственна и…
— Тише, дурак, — оборвал шамана Аттила. — Мы идем под одним знаменем.
— И с одним каганом?
— Каган может быть только один. — Аттила взглянул на Маленькую Птичку. — И еще кое-что. Я не позволю тебе отпускать язвительные замечания по отношению к вождю Рваное Нёбо.
Глаза шамана сверкнули от злобного удовольствия, едва он подумал о возможности подразнить этого похожего на быка болвана. Но Аттила сощурил глаза и показал на себя пальцем.
— Слушай. Ты можешь насмехаться надо мной, как тебе заблагорассудится — мне все равно. Слова — всего лишь слова, не более. Но люди, подобные Рваному Нёбу, воспринимают это как унижение. Слова пугают их. И ты разрушишь хрупкий союз наших двух племен своим ехидством.
Чанат сидел в пыли, скрестив ноги. Он не поднимал головы, длинная косматая седая борода наполовину закрывала лицо старого гунна. Старик заговорил тихо, но четко:
— Мой господин, кутригуры — не наши люди. Их путь — не наш путь. Их обычаи… — Он отвернулся и плюнул в пыль. Все понимали, о каких обычаях говорил старый гунн. — Их обычаи — не наши обычаи.
— Как и привычки… — Маленькая Птичка задрожал и не смог произнести имя. — Как и привычки ведьмы — не мои привычки.
— Она спасла мне жизнь.
— Но она пахнет смертью.
Аттила погладил свою тонкую бородку и проигнорировал слова шамана. Но тот неотрывно смотрел блестящими глазами на Чаната, и каждая клетка его тела дрожала от крайнего напряжения.
— Так ты говоришь мне, — едва слышно сказал Аттила, — что я ошибаюсь?
Чанат поднял голову и встретился взглядом вождем.
— Да. Мой господин, умоляю вас, давайте вернемся другой дорогой и оставим этих людей. В них течет не наша кровь, они — не наши. Я боюсь, обычаи и темная слава кутригуров будут преследовать нас повсюду. Отбросьте их, как блох, от которых отряхивается собака.
Атмосфера становилась крайне накаленной. В любой момент каган мог взорваться гневом. Наступило тягостное молчание.
Наконец Аттила заявил:
— Кутригурские гунны, наши родственники, останутся с нами.
Все ненадолго замолчали, затем Чанат швырнул раскрытый нож в пыль, встал на ноги и пошел в темноту.
Возле костра в лагере старик увидел ведьму Энхтуйю, которая готовила кусок мяса, нанизанный на палку. Он был похож на сердце.
Энхтуйя не вернулась к Аттиле. Бинты снова меняла женщина, лечившая кагана в первый день. Она действовала аккуратно и даже перед тем, как дотронуться до раны, дышала на руки, сложенные в форме чашки, чтобы согреть их. Целительница оказалась немолодой, но руки ее по-прежнему оставались мягкими.
— У тебя есть муж?
Женщина не подняла головы и не смотрела на кагана.
— Его убили. Не в битве, — поспешно добавила она. — Прошлой зимой.
— Гм.
Когда целительница закончила, Аттила просунул руку под край ее платья из оленьей шкуры и погладил бедро.
Женщина посмотрела вбок, наклонив голову. Но не сдвинулась с места.
Позже, выходя из палатки, она осмелилась взглянуть на Аттилу и прошептать:
— Вы чувствуете себя лучше, мой господин?
Аттила повернулся и громко рявкнул. Целительница исчезла.
Теперь шаткое перемирие между врагами стало превращаться во нечто иное. Хотя вначале казалось невероятным, чтобы люди, на глазах которых высокомерные самозванцы зарезали их братьев, отцов и сыновей, сражались с ними плечом к плечу в битве. Однако объединение могло состояться. Волчье племя любило воевать и побеждать больше, чем ненавидеть и мстить. Хотя их обычаи и отличались жестокостью и дикостью, кутригуры оставались простовато-великодушными людьми.
В течение многих часов Аттила разговаривал с Рваным Нёбом, который теперь производил более приятное впечатление, чем вначале. Этот вождь с бычьей шеей был бесхитростным и не обладал проницательностью, зато удивил силой, честностью и чистосердечностью. Каган стал испытывать некую дружескую привязанность по отношению к нему.
На зимних равнинах, которые засыпало снегом, верховный вождь стал обучать и тренировать кутригуров.
Без сомнения, Рваное Нёбо должен остаться вождем кутригуров. Когда речь зайдет о законе племени и наказании, организации и разрешении свадеб, погребении мертвых, среди своих он будет обладать правом сказать последнее слово. Но если дело коснется войны, Рваное Нёбо уступит, признав превосходство Аттилы. А тот, кто руководит войной, правит всем.
В отряде Аттилы был девяносто один человек из той сотни избранных воинов, что существовала первоначально. Десятки раненых кутригуров умерли со стонами в юртах, оплакиваемые женщинами, растрепанными и покрытыми сажей. Но многие поправились. Общая численность вооруженных людей по-прежнему превышала две тысячи, а лошадей оказалось вчетверо раза больше. Амбиции оставались безграничными, как небо.
Вследствие объединения двух племен, укрепления дружеских отношений, из-за вечной тяги к войне у гуннов, жаждущих золота и добычи из великой, сказочной, погибающей империи на западе под названием Рим, а также благодаря брачным узам и просто возникавшей порой взаимной симпатии, черные и кутригурские гунны стали единым народом.
Тогда могли бы появиться горы драгоценностей, сваленных в сверкающие кучи, рабыни с карими глазами, лошади — породистые скакуны из Аравии, с Берберского побережья, равные Небесным Коням.
На это возразил даже Рваное Нёбо.
— Нет лошадей, равных Небесным, — сказал он. — Даже император Китая желает стать владельцем Небесных Скакунов.
— В Аравии такие же кони, — ответил Аттила.
— Лжешь!
— Нет,
не лгу.
Вновь Рваное Нёбо увидел горящий свет истины в тех немигающих желтых глазах и был вынужден с неохотой признать поражение.
— Мне бы хотелось посмотреть на тех арабских лошадей.
Своим людям Аттила сказал, что они могут взять в жены вдов или женщин постарше, т. е. тех, кому исполнилось более тридцати лет. Сам он так и поступил. Женщина, которую выбрал каган, была вдовой приблизительно двадцати восьми лет. Очевидно, считалась она далеко не молодой. Верховный вождь запретил искать и преследовать девственниц. Воины выглядели недовольными, но не осмелились ослушаться приказа.
— Мой господин, — говорил потом старый Чанат Аттиле, когда никто не слышал. — Кутригурские женщины… Если мы должны взять их в жены по вашему распоряжению…
Аттила повернулся и насмешливо посмотрел на него.
— Первое впечатление не очень приятное. — Чанат строгал ножом палку.
— Ну да, не очень, — согласился каган.
— Прошло много времени с тех пор, как я обращал внимание на женщин. Обычно столько времени в одной палатке достаточно, чтобы стало меньше требований.
— И расширились интересы, — ответил Аттила.
— Вы говорите, как перс.
Немного в отдалении среди палаток шла женщина, неся воду.
— Посмотри-ка на нее, — сказал Аттила, кивнув. — Как тебе?
Чанат сощурил глаза, потом сморщил лицо, будто только что выпил лимонного сока.
— Должно быть, ей исполнилось около сорока лет.
— Женщины постарше, — произнес Аттила, — обладают большим опытом, большим аппетитом и гораздо более благодарны.
Чанат что-то пробормотал в ответ.
На следующий день старый гунн снова пришел к кагану.
— Грудь не слишком хороша, — сказал он. — Пара конских каштанов осенью. Но остальное компенсирует это, как вы и говорили.
— Мое сердце парит, как ястреб, от радости за тебя, — ответил Аттила.
Он сидел, скрестив ноги, у костра вместе с Орестом. Оба молчали, когда вдруг где-то позади послышались знакомые шаги.
— Чанат, если ты собираешься рассказать снова о своих интимных проблемах, то меня это не интересует.
— Совсем наоборот, мой господин.
Аттила повернулся и увидел, что на лице старого воина растянулась улыбка от уха до уха.
— У меня также нет особого желания выслушивать речи о твоих личных победах.
— Я обнаружил, — продолжил, не растерявшись, Чанат, — что муж моей новой женщины — человек, которого мы убили в первый день, на холме, когда Есукай (да упокоят боги его душу) вспугнул куропаток.
— Помню. А почему тогда ухмыляешься, как обезьяна? Нужно было связать женщину по рукам и ногам перед тем, как заснешь ночью, а то вдруг она бы перерезала тебе горло, пока ты спишь?
— Наоборот, — воскликнул, смеясь, Чанат. — Она ненавидела его всем своим горячим сердцем!
Старый воин подошел и встал рядом, говоря быстро и возбужденно, словно юноша, хвастающийся перед приятелями.
— Она ненавидела его. Было хорошо, что тот человек умер. Он жестоко обращался с ней, бил ради своего удовольствия. У него имелась специальная длинная трость, которая хранилась только с этой целью. И тот человек смеялся. Его забавляло считать синяки каждое утро, давать ей глупые задания, видеть, как она выполняет тяжелую работу. Мы должны были бы забить его палками.
Аттила что-то пробормотал.
— А вы знаете, почему тот человек всегда так злился? — Чанат положил руку на пах, согнул мизинец и смешно покачал им. — Да у него был, как у сурка! — воскликнул старик. — Как у комара!
Аттила с любопытством посмотрел на Чаната, который едва не задыхался от смеха. Затем гунн немного пришел в себя и смахнул слезы радости с глаз.
— Конечно, вы знаете, что все мужчины, отмеченные богами, когда те находились в дурном расположении духа, мелочны, раздражительны, злы, язвительны и тщеславны.
— И, естественно, ни одно из этих качеств не относится к тебе, дорогой Чанат!
— Конечно, нет! — прокричал старый гунн, протягивая и показывая свое мускулистое предплечье прямо перед лицом кагана. — А что касается моей женщины, ее новый муж не только не бьет жену ради удовольствия, но она невероятно счастлива видеть иную длинную трость, я вас уверяю! Она — очень счастливая женщина! Не существует ничего, что она бы не сделала для меня!
Снова громко засмеявшись, Чанат повернулся и вышел из палатки.
Все посмотрели вслед старому гунну.
— Новая жена, — пробормотал Орест. — Может, она и стара, но ее забота делает Чаната снова юным.
— Это то, что китайцы называют слиянием ян и инь, — сказал Аттила. — Помнишь наши разговоры с пленным монахом возле Желтой реки? Чанат теперь снова в полном расцвете сил.
Орест вздрогнул. Аттила ухмыльнулся.
Грек засунул руку в одежду и вытащил маленькое выгравированное украшение.
— Если уж говорим о китайцах, — ответил он и протянул находку Аттиле.
Каган внимательно осмотрел украшение. Это оказалась бронзовая фибула с платья какого-то знатного человека.
— Где ты взял ее?
— Не я, — произнес Орест. — Гьюху — у него глаза, как у ястреба. На равнине, в траве. Неподалеку от Джунгарской расселины.
— Так далеко на севере, — задумался Аттила. — Трофей?
— Возможно. Но еще вероятнее, что армии Северной Вэй уже в пути.
Наступила середина зимы, и степи вокруг казались повсюду безграничными и обнаженными, покрытыми белым снегом. Три месяца назад гунны попрощались со своими женщинами и маленькими детьми с большими глазами и покинули лагерь. Теперь некоторым чудилось, что с тех пор прошло много лет. Стояла поздняя осень, и старейшин удивил уход в столь унылое время года. Сейчас стало еще холоднее. Но Аттила сказал, что самый короткий день уже позади. Вскоре наступит Цагаан Сар, новый год, а потом придет и весна. Воины горько рассмеялись. Как-то не слишком торопилась весна вступить в свои права. Скоро это уж всяко не произойдет.
Иногда из глубин Скифии дул северный ветер, и даже самые сильные мужчины сидели в юртах с женщинами и толкали друг друга за место у костра. В загонах лошади умирали стоя и падали на твердую землю глыбой льда. Но иногда дул южный ветер. Становилось тепло, и снег таял. Плавучие льдины, медленно передвигаясь, превращались в стремительный поток, текущий с севера, и исчезали в середине реки. Воины бродили вокруг, обнажив руки и наслаждаясь первыми лучами солнца. Те, кто был моложе, разделись по пояс, ухмыляясь и шутя, какими нежными казались эти прикосновения. Их золотистая кожа приобретала заметный необычный сине-серый оттенок.
В один из таких приятных дней к Рваному Нёбу подошел Аттила.
— Настал день, когда нам пора сниматься с лагеря и идти на восток.
Вождь удивленно посмотрел на кагана.
— Сейчас середина зимы, — ответил он.
— Время не стоит на месте, — произнес Аттила. — И мы не должны.
— К чему такая спешка?
Аттила состроил гримасу:
— Перед нами лежит весь мир, который нужно завоевать.
— Ты хочешь выступить против Римской империи? Зимой?
Каган покачал головой:
— Чтобы выступить против Римской империи, потребуется больше, чем наши две тысячи человек, какими бы опытными они ни были. Мы отправляемся на восток. Там есть те, кто присоединится к нам. В горах Альтун-Шань находится труднодоступная страна, управляемая безносым царьком. Его племя многочисленно, воины ленивы, но сильны. Там обитают и другие народы. Многие присоединятся к нам. Мы не должны медлить.
Рваное Нёбо сложил свои толстые руки на груди и выпятил вперед челюсть.
— Это невозможно, — ответил он, — отправиться в горы зимой.
— То, что не убьет нас, сделает нас сильнее.
— Я уже сказал, — ответил Рваное Нёбо. — Мы выходим весной, когда появится трава. И не раньше.
Они покинули лагерь через три дня. Рваное Нёбо был печален и молчалив. Оказывается, разбойничий царь с желтыми глазами обладал великой силой убеждения.
Перед тем как отправиться на восток, Аттила оторвался от огромного, неуклюже передвигающегося стада быков, от тележек и большого табуна лошадей и вернулся в одиночестве на высокое плоскогорье. Там он увидел, что жители деревни столпились под тонкими навесами среди почерневших развалин, оставшихся от лачуг. Тогда верховный вождь стал искать старую жрицу. Она появилась и предложила хлеба с солью. Аттила отказался.
— Мы уходим на восток, — сказал каган.
— Зимой? Глупая идея.
Аттила вздохнул:
— Я уже слышал это раньше.
У жрицы вытянулось лицо. Остальные жители деревни собрались вокруг и с любопытством наблюдали.
— Река твоя. Она возвращена тебе.
Люди с удивлением посмотрели то на Аттилу, то друг на друга. Затем начали бормотать и смеяться, а потом ринулись вперед, желая обнять ноги своего спасителя, шею его лошади, что-нибудь. Каган осторожно потянул Чагельгана назад и поклонился.
— Река принадлежит тебе, как и всегда, — произнес Аттила. — Слава твоим богам.
Старая жрица с любопытством посмотрела на говорившего.
— Ты даже снова можешь есть рыбу, — добавил он, — если это необходимо.
Жрица выдавила слабую улыбку.
— Тебе не нравится рыба?
— Как любовникам рассвет, господин.
Аттила ухмыльнулся и яростно пришпорил коня. Некоторым жителям даже пришлось отскочить в сторону, чтобы пропустить их.
— Как любовникам рассвет!
Каган стянул поводья в кулак, мускулы на руках напряглись. Аттила ударил пятками по бокам животного и громко крикнул раскатистое:
— Ур-рагх!
Толстые и широкие ляжки коня сжались, Чагельган заржал и ринулся вперед. Подняв клубы пыли и снежный вихрь, всадник и лошадь исчезли на безлюдном плоскогорье.
Крестьяне сновали повсюду, словно потревоженные муравьи. К ночи они уже снова окажутся у своей любимой реки, станут собирать там древесину, плывущую по течению из северных лесов, и вскоре выстроят новые лачуги. Затем начнут пить, праздновать и с особым усердием восхвалять богов и Мать Нагу. Только один человек стоял и не двигался посреди всей этой суеты. Старая жрица сгорбилась над шишковатой палкой, не сводя взгляда с востока, с плоскогорья. Ее тонкие губы шевелились, будто в молитве.
Многие из черных и кутригурских гуннов вспоминали тот зимний поход на восток, словно смутный сон. Всегда впереди них, перед глазами, залепленными снегом, сквозь пургу и лед ехал один-единственный несгибаемый человек, съежившийся под черной медвежьей шкурой, но отказывающийся пойти другой дорогой.
Сколько умерло во время метели и вьюг, трудно сказать. Многие мужчины похоронили женщин на обочине, многие женщины, как смогли, погребли детей под глыбами льда. Этого было достаточно, чтобы вызвать недовольство и мятеж. Но все оставалось по-прежнему. Разбойничий каган с желтыми глазами отдал приказ, и, казалось, будто так пожелали некие высшие силы, которым ни один смертный не мог возразить.
Отряд ехал по замерзшим скалам и камням, пробирался через Джунгарскую расселину — проход длиной в пятьдесят миль, где дул штормовой ветер, называемый гуннами бураном, завывающий между Алтаем и вздымающимся Тянь-Шанем, Небесными Горами. Миновав ее, Аттила жестом, обозначающим глубокое уважение, поприветствовал Высокий Алтай, словно считал это место вторым домом. Говорили, что каган когда-то провел здесь много времени. Но каких богов, каких шаманов, какие таинственные ритуалы он повстречал в тех далеких краях, никто не мог сказать.
Летом здесь все зеленело и цвело. Подснежники пробивались сквозь коричневую землю, едва начинало теплеть, а на южных склонах зрели фисташки и лесные орехи. Но гунны оказались на северной стороне, причем зимой, и у них не было ни солнца, ни возможности передохнуть.
Поохотиться удавалось редко, и животные попадались очень худые. Иногда воины ловили огромную дрофу на лугах, вокруг которых возвышались горы, казавшиеся холодными, безразличными небесными наблюдателями, смотрящими на широкую равнину, лишенную деревьев. Изредка вестники краем глаза замечали горных козлов и степных лисиц, иногда в поле зрения попадала едва уловимая тень снежного барса, медленно и неслышно пробирающегося сквозь сугробы на нижних склонах. Расположившись у замерзших рек, где приходилось разбивать лед кирками, чтобы добраться до воды, после наступления темноты к гуннам тянулись другие животные, испытывавшие жажду: дикие собаки, ворчащие медведи, и, наконец, быстроногие и чуткие ирбисы.
В холодных серых небесах без устали парили черные грифы и царственные орлы, тоже не спускавшие с воинов глаз. Своих покойников гунны закапывали глубоко…
Глава 11
Колонна Северной Вэй
Воины семь дней шли по широкой равнине, окруженной этими высокими горами. С тележками, быками и из-за трудных речных переправ удавалось проходить лишь по десять миль в день — возможно, немного побольше. Стояла ясная и холодная погода, под ногами скрипел снежок, воздух был свежим, высоко в голубом небе висел лунный серп.
Впереди огромной движущейся колонны Гьюху, обладавший глазами ястреба, приостановил коня и стал смотреть. Аттила поднял руку, и все замерли.
Они ждали. Но ничего не происходило. Гьюху продолжал смотреть на восток. Нетерпеливый юный Аладар понесся галопом.
— Мои глаза в два раза моложе твоих, Гьюху! — закричал воин. — И я ничего не вижу!
Гьюху не обратил на него внимания. Прошло еще несколько минут. Чагельган фыркнул и поднял свою большую безобразную голову. Аттила потянул за поводья.
Гьюху произнес:
— Там. Похоже на облако дыма на горизонте. К нам приближается еще одна колонна.
Аттила стал вглядываться. Ничего…
— Это ветер, — ответил он. — Вздымающий снег.
Гьюху покачал головой:
— Ни один ветер не дует так ровно. Это — колонна.
Послышался голос Ореста, хотя никто не заметил, как он оказался позади. Даже лошадь грека шла бесшумно.
— Это колонна.
Через некоторое время Аттила сказал:
— Это колонна китайцев, колонна Северной Вэй.
Он оглядел своих воинов. Глаза кагана блестели и перебегали с места на место.
— Отличная практика.
Тихим голосом Аттила отдал приказы Аладару и Гьюху, и гунны потянули за поводья и стали осматривать подчиненных. Женщин и детей отвели подальше и оставили без защиты у тележек.
Аттила и Орест сидели бок о бок.
— Прямо как в старые времена, — прошептал грек, устроившись с непокрытой головой.
— Императоры Северной Вэй когда-то принадлежали к народу тоба — степному племени.
Орест кивнул.
— А теперь посмотри, — сказал каган. — Как быстро лишили их сил китайский шелк и цивилизация, — и язвительно добавил:
— Проказа…
Китайский полководец ехал в украшенном вышивкой желтом паланкине, опираясь на локоть. Затем впереди появился всадник, и военачальник внезапно сел прямо.
Две армии встали друг напротив друга. Между врагами оставалось не более мили. В рядах Северной Вэй насчитывалось, вероятно, четыре или пять тысяч человек, и каждый из них был вооружен и хорошо подготовлен.
Аттила уже давно разделил своих воинов на отряды под руководством избранных командиров, смешав вместе черных гуннов и кутригуров и заставив соперничать между собой и стремиться превзойти всех на поле битвы. Подобно величавым полкам или самим римским легионам, не придерживались никаких прежних правил, которые, вероятно, существовали у племен или были общепринятыми. Бойцы оставались верными лишь своему отряду и командиру. Далеко впереди, на левом фланге, Аладару подчинялась не жалкая маленькая кучка, а более трех сотен свирепых всадников. Это были наиболее молодые и нетерпеливые воины с самыми быстроногими лошадьми. Бока животных подергивались и сжимались, а в груди бились могучие сердца, с шумом втягивали воздух конские легкие. Воины Аладара считались самыми лучшими из всех, и они знали это. На концах их копий были привязаны черные знамена, а вокруг предплечий виднелись темно-красные повязки.
Три брата, Юхи, Бела и Ноян, командовали отрядами из восьми сотен человек в центре, оседлавших более крупных лошадей и умевших хорошо обращаться с пиками. Цаба со своими тремя сотнями проворных воинов занял правый фланг, где оставалось больше места между колонной и первыми низкими горными холмами на юге. Позади выстроились группы Чаната, Гьюху и Кандака, приготовившие луки и натянувшие тетивы.
Аттила ехал верхом впереди всей армии. Чуть поодаль, справа, следовал Орест, а слева — Рваное Нёбо.
Каган велел гуннам не двигаться и сохранять спокойствие, когда основные шеренги китайской кавалерии зашевелились и направились к ним. Всадники мчались все быстрее по замерзшей траве, и красные знамена постепенно приобретали более четкую форму и развевались на ветру. Караульные гунны позже всегда вспоминали тот момент, как одно из самых прекрасных и самых ужасных мгновений. Ни кутригуры, ни черные гунны прежде не сталкивались с такой огромной хорошо обученной армией на открытой местности. Аттила же лишь улыбнулся солнцу, словно вся подготовка и муштра, группировка и перегруппировка являлись лишь приготовлением к сегодняшнему дню, который наконец-то наступил.
Для тех, кто мечтает завоевать империю и любит войну, нет зрелища более приятного в лучах солнечного света, чем шеренги сидящих верхом воинов, знамена, привязанные к древкам копий и развевающиеся на ветру, серебристый зимний отблеск от бронзовых шлемов, дамасских ножен и доспехов, грызущие удила и трясущие головами лошади с разлетающейся во все стороны гривой. Бессмертен культ войны, которому преданы мужчины, ищущие подвигов, с тех пор, как они впервые пристально посмотрели на мир и поняли, что жизнь — бесполезна. Лишь смерть может прославить ее, а война — высший ритуал Смерти, самого древнего и великого бога.
Аттила, будучи полностью уверен в себе, поднял руку и быстро опустил ее. Так каган руководил всей битвой. Создавалось впечатление, будто гунны выступили против орды дерзких мальчуганов, а не против пятитысячной мощной колонны Северной Вэй. Стрелы летели точно в цель, попадая и неся мгновенную смерть воинам, стоявшим тесными рядами. Их кольчуги оказывались просто лишним весом, не способным защитить от того града. Китайцы шатались и падали. Снег смягчал падение, как и приглушал крики, и ржание лошадей. Вся битва, длящаяся совсем недолго, прошла почти что в молчании — жуткое и таинственное противостояние на безлюдной припорошенной равнине, окруженной белыми наблюдающими горами. Красные знамена задрожали, заколебались и упали вниз. Они так и остались лежать распростертыми и недвижимыми на белом снегу. Железные наконечники стрел пробивали доспехи и дробили кости, брызги крови виднелись повсюду, похожие на красные ягоды брионии, появившиеся после массового убийства, совершенного в середине зимы.
Когда китайцы стали вести себя менее активно, начали толпиться и пытаться удержать порядок, центральное звено армии Аттилы сделало странную вещь. Оно исчезло. Китайские воины, облаченные в доспехи, теперь ринулись вперед, охваченные жаждой мщения. Они изо всех сил гнали лошадей и обнаруживали, что шеренг варварских племен, против которых они неслись, больше на том месте не существовало. Но вражеские стрелы продолжали лететь неизвестно откуда. Центральное звено армии Аттилы повернулось и, как казалось, обратилось в бегство. Но, удаляясь столь же быстро, как мчащиеся позади китайцы, оно продолжало поражать огромные шеренги приближавшихся врагов. Траектория полета стрел была четко рассчитана, и они попадали точно в цель, подобно стаям черных ястребов, устремившихся на свою жертву. Китайцы пытались отвечать тем же, преследуя отступавших гуннов, но почти никогда не настигали цели. Это было похоже на гонку за привидением, но привидением, стреляющим из своего оружия.
Тем временем Аттила приказал флангам отделиться от основной армии — еще одно вопиющее отступление от китайской книги правил ведения войны, которое сбило врагов с толку. Войско, превосходящее численностью, находящееся на открытой местности и перешедшее в наступление, должно держаться вместе и придерживаться определенного порядка. В сплоченности — единственная надежда. Но только не сейчас, с этой эфемерной армией со смертоносными стрелами. Фланги, которыми командовали Аладар и Цаба, выдвинулись вперед, подобно рогам буйвола, Аладар — слева, а Цаба — справа. Они завывали боевые кличи, пробираясь по засыпанной снегом траве и стремительно образовывая полукруг, переходя в легкий галоп за уязвимыми флангами противника, а затем несясь во весь опор, вклиниваясь сзади, словно коса, в незащищенные позиции противника.
До самого начала атаки Аттила велел отступающим лучникам продолжать обстреливать израненных китайцев. Только когда на расстоянии ста, потом и пятидесяти ярдов, показались Аладар и Цаба, он, наконец дал сигнал прекратить этот смертоносный ливень. И ни один из мчащихся гуннов не был ранен. Воины Аладара и Цабы вклинились во фланги войск Северной Вэй, мечи засверкали, кромсая тела и скидывая их в могильный курган.
Аттила громко приказал центральному звену своей армии остановиться, повернуться и не двигаться дальше. Восемьсот гуннов, подчинявшихся Юхи, Беле и Нояну, крепкая сердцевина маленького войска, почувствовали крайнее разочарование, как и от нетерпения грызущие удила лошади, рвущиеся в атаку. Но больше им было нечего делать. Шестьсот человек, разделившиеся на два поражающих фланга, справлялись и без посторонней помощи. Остальным больше ничего не оставалось, как смотреть на это. Даже Рваное Нёбо, казалось, не верил своим глазам. Он смеялся. Именно это гунны, хорошо обученные и несущие смерть, могли делать лучше всего. Кажется, даже слишком просто.
Крики, издаваемые кавалерией, разносились по всей заснеженной равнине. При виде противника, полного безрассудной отваги и потрясающего презрения к смерти, китайцы впадали в панику, пятились назад и натыкались друг на друга. Порядка или места для маневра больше не существовало, все смешалось, сплелось, превратившись в массовое побоище.
Наконец Аттила отдал приказ, и остальные отряды ринулись вперед, горя желанием закончить начатое. Позади уцелевшей, но гибнущей под ударами китайской кавалерии были пешие, и их приходилось уничтожить. Никто из них прежде еще не принимал участия в военных действиях, хотя известно, что выносливые пехотинцы часто являются лучшей защитой при массированной конной атаке.
Аттила почти полностью вжался в вытянутую шею лошади, вытянув вперед меч, словно копье, и длинный изогнутый клинок точно вошел в открытый темно-красный рот китайского солдата, едва тот собрался издать боевой клич. Челюсть противника была пробита, а Чагельган даже не остановился.
Гьюху и Кандак велели отрядам окружить неприятельский арьергард и, никого не упустив, добить растерявшихся и мечущихся бойцов. Вторым приказом Аттила велел доставить живыми хотя бы двух китайских военачальников. Прошло время, прежде чем Гьюху смог найти одного из них. Наконец гунн набросил аркан на неприятеля — толстого китайца с седыми усами. Его с воем потащили с поля боя, словно строптивого молодого бычка из стада. Гьюху встал, прижав меч к шее противника, а тот повернулся, хотя его руки были крепко связаны пеньковой веревкой за спиной, и угрюмо смотрел на своих сотоварищей, сражающихся уже за то, чтобы выхватить меч среди толпы, и падавших как подкошенные, подобно летней траве под косой.
Лошади ржали и пронзительно взвизгивали, сбрасывая и топча всадников ногами. Животные оказались слишком испуганными и обезумевшими, не понимая, что давят насмерть других живых существ. Они врезались друг в друга, и всадники летели вниз, не удержавшись за свои кожаные седла с вытисненными узорами. Кони сжимали потными боками людей, которые опускались на колени и ползли, униженно пытаясь найти оружие, перебираясь через сотоварищей и поскальзываясь на лужах крови, покрывающих холодную твердую землю. Тех, кто выбирался, надеясь исчезнуть из этого ужаса, гунны тут же убивали, один раз метнув копье или с нарочитой небрежностью пустив стрелу.
Бойцы Аттилы уже спешились и передвигались без лошадей, желая наконец-то закончить избиение.
Юный воин из армии Вэй, мальчик лет пятнадцати, лежал не шевелясь в снегу с окоченелыми от холода ногами, смотря вдаль на равнину. Его левая щека замерзла. Но грустные карие глаза видели не это поле смерти, а отчий дом — очаг, кедровый ящик с рисом, маленькие резные фигурки предков в нише. Неподалеку — пруд с утками, и мать, кидающая зерно птицам. Белые утки, с нетерпением вытягивавшие вперед длинные шеи. Мальчик почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит, и стал перебирать пальцами, словно пытался ухватиться за снег, но по-прежнему видел деревню, где вился дымок, и свой дом малышей, хлопавших в ладоши, сестер, братьев, мать, размахивающую белым передником, улыбающуюся собаку с высунутым языком, щегла в клетке из прутьев ивы, тени зеленых деревьев весной…
Голову мальчика подняли с земли и снова отпустили. Большие карие глаза, все еще широко открытые и смотревшие куда-то в белоснежную равнину, остекленели и больше ничего не видели. Аладар забрал голову с собой.
Под сломанным паланкином в самом центре битвы, под желтым мокрым шелком, теперь покрытым тут и там красными каплями и полосами, гунны обнаружили спрятавшегося монаха из Северной Вэй.
Аттила приблизился и стащил балдахин, затем развернул его и пнул к Рваному Нёбу.
— Первый трофей, — произнес каган.
Внезапно Аттила нагнулся к испуганному монаху и сильно тряхнул его.
— Сюнну, — пробормотал пленник, садясь на корточки и смотря на гунна из-под дрожащих век. — Сюнну!
— Хунну, — поправил Аттила. — Твой заклятый враг.
Но монах не понял этих резко прозвучавших слов на варварском наречии, вырвавшихся откуда-то из глубины горла. Он выжидающе посмотрел на других свирепых гуннов, стоявших вокруг верховного вождя. Воины были покрыты потом и некоторые даже в пятнах крови. Их лица украшали длинные черные усы. Пряди длинных черных нечесаных волос прилипли к грязным щекам. Обагренные мечи гунны по-прежнему не выпускали из рук.
Монах стал читать про себя молитву. Затем опустил ладонь на свою оранжевую накидку и вытащил маленькую костяную фигурку с выгравированным орнаментом, и помолившись, глядя на нее. Монах обращался с просьбой к Будде, говорил на языке Будды Шакья-Муни и водил рукой над изображением бога, мирно сидящего под деревьями со своими учениками. Иногда монах осторожно прикасался кончиками пальцев к костяным фигуркам.
Аттила взял статуэтку у монаха, который тут же кинул на кагана сердитый взгляд. Затем провел немытыми и сломанными ногтями по тщательно вырезанным лицам и погладил толстыми пальцами, покрытыми шрамами, очертания людей, сидевших под древними деревьями.
— Будда, — тихо произнес Аттила.
— Будда, — ответил монах, поспешно согласно кивая. — Будда Шакья-Муни.
Верховный вождь сел на корточки возле пленника, и тот показал всех по очереди учеников Будды: Манджушри, Саматхабадра, Махакашьяпа — словно эти имена, столь дорогие для него и столь чуждые для гуннов, являлись талисманами, хранящими силу, и могли спасти жизнь даже в таком кошмаре. Каждый раз Аттила задумчиво кивал, и взгляд монаха становился все более радостным.
— Будда, — снова произнес пленник, и его лицо приняло жалобное выражение.
Аттила продолжал сидеть на корточках, рассматривая изящную костяную фигурку и поглаживая свою тонкую бородку. Через минуту покачал головой:
— Я не знаю такого бога.
Затем улыбнулся монаху немного грустной улыбкой, вынул кинжал из ножен, висевших на широком кожаном поясе, схватил пленника за пучок редких волос и перерезал ему горло. Потом встал и кинул маленькую костяную статуэтку Чанату.
— Можно сделать хорошую рукоятку для ножа, — сказал Аттила.
По полю, залитому холодным белым светом, шла Энхтуйя, неся змей. Высокая длинная фигура молча скользила среди умирающих и мертвых.
Рваное Нёбо не сводил с нее глаз, по-прежнему не веря в случившееся. Кутригуры уже называли сражение Битвой Сорока Вдохов, так быстро оно закончилось. Приблизительно четыре или пять тысяч китайцев погибли тогда в течение часа. Армия гуннов лишилась менее пятидесяти человек. Рваное Нёбо повернулся к Аттиле, его глаза сияли.
— Поехали дальше! Теперь ничто не может нас остановить. Они пали перед нами, будто уже убитые. Все богатства Китая лежат перед нами — золото и жемчуг, шелк и слоновая кость, и маленькие босоногие девочки с высокими бровями.
Аттила хлопнул вождя по плечу.
— Друг, — сказал он. — То была легкая битва. Но чтобы разрушить Китай, потребуется больше наших двух тысяч человек. — Каган поднял глаза. — Или Рим. Вероятно, наша сила огромна, но наше время еще не пришло. Сначала Рим, — он кивнул. — Потом вернемся в Китай.
Гьюху привел захваченного китайского военачальника, подгоняемого острием копья. Даба принес голову в мокром мешке — голову полководца, который всего полчаса тому назад возлежал в паланкине, наслаждаясь своим приятным путешествием с охранниками вдоль имперских северных границ.
Аттила развязал веревку, стягивавшую крепкую грудь и руки пленника, и отдал мешок.
— Ты можешь идти. Но ты отнесешь это императору и скажешь ему, что «сюнну» еще вернутся, — и добавил:
— Грязные рабы. — И сплюнул.
Военачальник посмотрел Аттиле в глаза, кивнул и взял голову. Каган велел дать ему лошадь. Китаец сел верхом и привязал мешок к седлу. Затем поехал на восток, вскоре превратился в движущуюся по огромной бескрайней снежной равнине черную точку и исчез.
Гунны похоронили китайцев как собак, а своих, погибших тем утром, погребли с надлежащими почестями и оплакали. Кутригурские женщины и дети бродили среди мертвых и внимательно осматривали их, выискивая что-нибудь ценное. Собрали и множество стрел, и гуннских, и китайских, нагрузив три тележки мечами, шлемами и копьями. Лишь тяжелые и громоздкие прямоугольные щиты вражеских пехотинцев оказались бесполезными для всадников, но их тоже забрали для возможного обмена или переплавки. Некоторые из гуннов теперь носили потрепанные кольчуги и пластинчатые латы, но большинство продолжало с презрением относиться к подобным неудобным одеяниям, предпочитая жесткую, но более легкую кожу. Женщины разобрали доспехи и использовали маленькие блестящие бронзовые пластинки в качестве сережек или, нанизав на нити, делали бусы. Дети ревностно набирали мешки сверкающих металлических обломков, мальчики дрались за них, девочки придумывали игры с переодеваниями.
Когда гунны покинули поле боя, наступил полдень. Они немного проехали и решили перекусить. Кое-кто из детей стал бесстыдно менять оружие на еду.
Затем воины повернули на юг, и равнина осталась позади. Они поднялись на предгорья, называемые Джилян-Шань. В холодной долине разбили лагерь, и к середине ночи низины окутал туман, из-за чего стреноженные лошади продрогли до костей. Даже приглушенный вой волков, доносившийся откуда-то издалека, не так пугал животных. Воины сидели возле костров в палатках, вспоминая славный день и всю Битву Сорока Вдохов в мельчайших подробностях. Пламя по-прежнему ярко горело в их груди.
Глава 12
Горы
На следующий день туман медленно рассеялся в редких лучах солнца, выглянувшего из-за вершин на востоке, и гунны поняли, насколько прекрасными были горы. Этот степной народ, о котором слагали легенды, никогда прежде не видел ничего похожего. Вершины гор прятались в белоснежных облаках, возвышаясь над ослепительными небесными дворцами. Казалось богохульством даже просто дышать при виде этой красоты.
В некоторых долинах светило яркое солнце, и снег таял. Там текли ручьи, как будто пришла весна. Лучи скользили по желтой траве. Вдруг что-то случилось, и гунны помчались во весь опор, безрассудно преследуя кого-то, пронзительно и громко крича и на миг забыв о цели своего безумного зимнего похода. Ночью они с жадностью ели полусырое мясо антилопы, а затем уснули с переполненными желудками, замирая от приятного чувства сытости и тяжести в желудках.
По пути повстречалось несколько деревень, где скот был спрятан в лачугах на зиму. Жители с широко открытыми ртами смотрели на две тысячи приближавшихся всадников, на могучее племя, в котором насчитывалось четыре или пять тысяч человек. Но эти случайные прохожие ничего не хватали, никого не грабили. Многих из них, казалось, мучили жажда и голод. Но ни один из воинов не стал мародерствовать. Неподалеку от одной деревни грязная маленькая девочка, которая стояла на краю пропасти со скалами и пасла стадо коз с висячими ушами, заметила, как гунны идут внизу по долине. Через полчаса всадники исчезли, и никто из жителей больше их не видел. Вечером девочка рассказала матери и отцу о бесчисленной армии, вооруженной луками, стрелами, копьями и производившей устрашающее впечатление. Родители велели дочке не придумывать небылиц, однако девочка утверждала, что все это правда. Ее отправили спать без ужина.
Утром отец спустился в долину, желая проверить капканы, и увидел многочисленные отпечатки лошадиных подков на земле там, где армия пробиралась в ущелье. Он выпрямился, повернулся и стал смотреть. Затем вынул попавшегося в ловушку зайца, вернулся в деревню и приказал жене дать дополнительное яйцо на завтрак дочке. Потом захотелось и самому съесть еще одно яйцо. В это время он задумался, что же это была за армия, которая не стала забирать запасы зерна, мяса и скот у жителей деревни?
Гунны поднимались, окруженные безмолвными и чужими остроконечными белыми вершинами и соснами, темными, как деготь или нефть, бьющая ключом из недр пустыни Хорасана. Попадались и ледники, свисавшие с высокомерных горных склонов и похожие на перламутровые одеяния. Снежные холмы осыпались над воинами, с трудом пробиравшимися по обрывистым склонам. Порывы ветра вздымали вихри с утесов, и пелена застилала слезящиеся глаза. Лошади, не видя ничего, спотыкались, пот, стекавший по их шеям и животу, превращался в кристаллы льда.
Гунны обогнули замерзшие невысокие склоны огромной горы, — которые приобрели блестящий ослепительно-красный оттенок в лучах переливающегося солнца — одинокого хрустального диска в миле над землей. Справа лежала ужасная бездна, куда никто не осмеливался заглянуть. Гунны шли, не поднимая головы и не смотря вперед, как ослепленные кони, испуганные видом того, что было рядом. Вдруг одна из тележек наклонилась, тихо скрипнула и покатилась по ледяной дорожке, потащив за собой двух вьючных лошадей. Животные растопырили ноги, упираясь грубыми копытами — удивленные, лишенные страха, недоумевающие. Они продолжали скользить, и тяжелая тележка, груженная китайскими щитами пехотинцев, промчалась по обочине, немного накренилась и исчезла в безмолвной пропасти внизу. Вместе с лошадьми.
Люди осторожно пробрались вперед и взглянули за край обрыва. Их взору предстала тележка, бесшумно летящая в бездну, с еще крутящимися колесами, с животными, все еще бьющими копытами по воздуху, ярко-красными и золотыми китайскими щитами, разлетающимися повсюду и образующими блестящее облако. Ни звука не доносилось от падающих, ни стона. Лишь ветер вздыхал из темнеющей пропасти. Все молчали, ожидая крика или стука. Но ни единого звука не было слышно из бездны. Только молчание стало ответом, а еще — тихий вечный ветер.
Тележки, вьючные лошади, юные гунны и старики не могли сдвинуться с места. Аттила решил разделить силы, отослав всех женщин, детей, стариков и оставшиеся тележки с гор в сопровождении Юхи, Белы, Нояна и их отрядов, состоявших из восьми сотен человек. Оказавшись в арьергарде, три брата сильно нахмурились, но ничего не сказали. Аттила объяснил им, где разбить лагерь. Двенадцать сотен вооруженных воинов продолжили путь дальше.
Они заметили двух канюков высоко в голубом небе, наклонявшихся, переворачивавшихся и снова летевших против ветра. Птицы осматривали долину, их отдаленный писк казался столь же тоскливым, как крик чаек. Это были единственные живые создания, которых гунны повстречали за три дня. Ни снег, ни ветер не нарушали тишину, воздух оставался чистым, а на небе ночью сверкали звезды. Но любой безрассудный человек, не ушедший оттуда и не переставший смотреть с восхищением вверх, вскоре лишился бы ушей и пальцев.
Было столь холодно, что китайское вино в маленьких бутылках, которые гунны забрали у побежденных, превращалось в вязкий сироп. Воины могли бы есть его, словно мед, только тотчас замерз бы язык. Они снова спустились туда, где росли деревья, но и там не оказалось теплее. Еще во время пути, когда проезжали лес, на краю тропы раздался треск, будто от удара огромным хлыстом: одна из лошадей встала на дыбы от страха, понесла и сломала ногу. Кости раскрошились на этом холоде, словно хрупкий лед. Так распадались и скалы. Когда гунны рубили дрова для костра, от поленьев сыпались голубые искры, как от металла. С каждым вдохом и выдохом на землю опадало множество мелких кристаллов льда. Воины одновременно удивлялись и пугались непредсказуемости мира.
Было безумием продолжать путь сейчас, на этом жестоком холоде. Некоторые уже ехали вдвоем на одном коне, поскольку слишком много животных погибло, а кое-кто из воинов потерял пальцы. Но возвращаться оказалось еще труднее, чем идти дальше. Впереди, по словам непреклонного полководца, который двигался в начале колонны, лежало горное государство, которое должно скоро пасть к ногам гуннов.
Воины спустились с гор, перешли посыпанное гравием плоскогорье, заваленное грязным серым льдом, изрезанное низкими хребтами, песчаными склонами и лесом. Там, давным-давно, когда погода была лучше, а боги — добрее, некая исчезнувшая река вышла из берегов. Она сдвинула камни величиной с погребальный холм. Вероятно, река уже замерзла. Возможно, только тогда ей удалось пошевелить подобные валуны.
Воины смотрели, удивлялись и дрожали. Но во сне они видели равнину такой, какой она когда-то и была: тонкий слой льда на небесно-голубой реке, поющие птицы, выпи, кричащие в тростнике, легкий ветерок, колышущий траву, порхающие насекомые. Все было прекрасно и наполнено жизнью.
Но сейчас это место казалось невероятно невыразительным, суровым и мертвым. Обстановка действовала крайне удручающе. Унылое холодное серое плоскогорье, ветер, пронизывающий, как нож, сквозь плащи из медвежьей и волчьей шкуры, через длинные запахнутые стеганые куртки, пробирающий даже лошадей до костей. Грудные клетки животных вздымались, кони дышали с трудом. Бледная кожа сильно натянулась на костлявых ребрах. Никакая трава на равнине не росла. Трудно было представить, чтобы в этом заброшенном месте когда-либо сквозь кору земли пробивалась растительность. Фуража попадалось мало, и тот быстро исчезал. А если две тысячи лошадей не кормить зимой, то они вымрут, как мухи.
Ночью на жутком холоде гунны разбили лагерь. Двери юрт выходили на юг, где днем светило тусклое солнце. Все быстрее таяли надежды. Избранные воины Аттилы, Рваное Нёбо и некоторые из вождей кутригуров подошли к кагану, расположившемуся в скромной палатке, и сказали: многие теряют веру, так не может продолжаться дальше.
Аттила ничего не ответил. Вместо этого вдруг откуда-то появился Маленькая Птичка и начал петь. Старая потрескавшаяся лютня звучала тихо, а голос был приятным и низким. Шаман пел о том, как когда-то давно из-за мрачных морей пришли голубой волк и коричневато-желтая лань и на склонах Бурхан-Халдун, священной горы у истока стремительной реки Окон, они стали спариваться. И вскоре коричневато-желтая лань родила человеческого детеныша. Тэнгри, бог солнца, и Итуген, богиня Луны, освещали момент появления ребенка на свет, они походили на две одинаково ярких чудесных лампады на небе. Мальчиком, родившимся под солнцем и луной, был Астур, прародитель всего сущего, от которого произошли мужчина и женщина.
Таково оказалось одно из старейших преданий племени. Той суровой ночью на печальном плоскогорье вожди и полководцы забыли о своих жалобах, прижались поближе к костру и слушали, прикрыв глаза.
Сын богов, Астур, смеясь от радости и вылепляя маленькие фигурки из сырой глины, сделал Батакикацана, первого волшебника, Таркана Всемогущего и Манаса, великого героя. Он сотворил для Манаса коня, достойного героя — с бронзовыми ногами и копытами размером с прогоревший костер, с глазами, как у ворона и мускулами, подобными морским волнам. Конь питался васильками, сон-травой, пастушьей сумкой и только самой нежной весенней травкой. После смерти Манаса в великой битве против снежных гигантов конь унес его жену Каныкей и новорожденного сына Семетея и всю ночь мчался по усыпанному звездами небу к Равнинам Изобилия. Там Семетей и вырос, превратившись в самого мудрого вождя племени.
Маленькая Птичка замолчал, вожди и полководцы закивали, склонив набок головы, и заснули.
На следующий день гунны продолжили путь, выбрались из унылой посыпанной гравием долины, где дул сильный ветер, и снова оказались в горах. Прошел еще один день, и вечером, когда солнечные лучи едва виднелись на востоке, гунны почувствовали, что уже не дрожат от холода. Плоскогорье осталось далеко позади, и в этих горах почему-то оказалось теплее. Сюда не проникали воздушные потоки с севера. Воины поднялись на гребень и увидели широкую неглубокую долину, приблизительно наполовину, где-то на расстоянии мили, покрытую зеленой, хотя и зимней, травой. Лошади перестали слушаться даже сильнейших всадников и стали щипать желтые корни.
Гунны расположились там лагерем на ночь.
Когда наступила темнота, Аттила пошел к Рваному Нёбу и разбудил его. Вождь недовольно заворчал, но непреклонный каган сказал, что хочет кое-что показать. Рваное Нёбо завернулся в плащ, выбрался наружу и увидел остальных избранных, уже сидевших на лошадях и готовых отправиться дальше. Он вскочил на коня, и гунны поехали на север по травянистой равнине, оставив лагерь далеко позади.
Прошло около получаса, и отряд поднялся на другую сторону неглубокой долины, вскарабкавшись по зеленым, покрытым хлопьями снега холмам. Лошади устали и еле шевелили ногами. Наконец они уже взбирались по каменным дорожкам на обнаженных горных склонах и смогли взглянуть назад, на долину, усыпанную яркими точками — кострами в лагере. Небо над головами освещала серебристая яркая луна, ветер улегся. Даже можно было сказать, что стало тихо.
Аттила вылез на гребень и остановился. К нему подошли избранные и
вождь кутригуров. Рваное Нёбо тяжело дышал. Но… он же, наверное, по-прежнему находится в палатке и видит сон. Такого не могло быть!
Внизу горы снова обрывались, и там, под ночной пеленой, скрывалась еще одна долина, окруженная скалами и неведомая миру. В серебристо-голубом лунном свете Рваное Нёбо мог отчетливо ее разглядеть. Широкая долина простиралась с востока на запад приблизительно на двадцать миль, и внизу текла река яркого серебристого цвета. Но самой удивительной была стена гор напротив гуннов примерно в пяти милях от них. Стена, почти отвесная, залитая лунным светом, тоже оказалась усыпана звездами, красными и оранжевыми, как пламя. Сощурив глаза, Рваное Нёбо отказывался поверить в то, что увидел…
— Этого не может быть! — сказал вождь.
Аттила повернулся к нему, и зубы кагана засверкали в лунном свете.
— Долина Оронча, страна бога-правителя Токуз-Ока, Девяти Стрел. — Зубы засияли еще ярче. — Имя, звучащее слишком воинственно. Он того не заслуживает.
Рваное Нёбо не отрывал глаз от Аттилы.
— Откуда ты знаешь? Ты же не был здесь прежде. Это невозможно!
Каган не ответил. Зато произнес:
— Я также знаю, что государство Токуз-Ока — великое. Племя оронча — многочисленное. Ты слышал, как живут крестьяне. Посмотри на эту долину завтра днем и увидишь плодородную орошаемую долину, полную фруктовых садов, зерновых полей, лугов и пастбищ. Здесь много людей, много тысяч. И армия несметная.
— Армия? — раздалось чье-то фырканье. — Армия крестьян? Управляемая их женами, с тяпками и вилами в качестве оружия?
Естественно, это был Чанат.
— Армия, состоящая из двадцати тысяч человек, не меньше — возразил Аттила. — Такое возможно. На горах, которые вы видите напротив, повсюду горят костры. Не верите? Это город. Он прилепился к склону, будто гнездо ворона, и находится в безопасности. Днем солнце согревает дома, и там никогда не дует северный ветер. Вся долина согревается солнцем так, горы — преграда для ветра. Ни одна чужая армия никогда не могла взять этот город. Ей бы пришлось оседлать орлов.
Не ожидая того, Рваное Нёбо почувствовал, как начинается возбуждение. Армия крестьян, но состоящая из двадцати тысяч человек! Если командовать таким войском, то возможности казались безграничными. Этот разбойничий каган, этот Аттила — сила, ум, острый, как нож, непременный успех! Рваное Нёбо почти ощутил вкус победы на языке, словно мед.
— Как можно завоевать эту державу?
Аттила уже потянул за вожжи и направился домой.
— Там, где не взять силой, — донесся его голос из темноты, — поможет хитрость.
Глава 13
Горная страна прокаженного царя
На рассвете Аттила отправился в одиночестве в страну бога-правителя.
Он ехал без оружия и медленно. Спустился с гор, пересек травянистые склоны, покрытые снегом, — и первые лучи солнца озарили вершины. В долине стало теплее, как и говорил Аттила.
Холмы зазеленели, и каган проехал через фруктовые сады и луга, мимо маленьких соломенных лачуг, где на широких полках стояли пчелиные улья и тростниковые сараи, стоявшие в обнаженных зимних огородах. Люди останавливались и смотрели на Аттилу, но никто не помешал ему двигаться дальше. Повсюду текли серебряные ручьи, стучали колеса водяных мельниц. Это спокойное, упорядоченное бытие напомнило Аттиле о давно прошедших временах и об Италии. Как могли люди оставаться в одной долине всю жизнь, словно насмехаясь над прочим миром, созданным Богом?
На полях уже появилось много крестьян, и некоторые поднимались со своих тележек, желая увидеть всадника-чужестранца, одетого в длинную стеганую куртку и со странной остроконечной шапкой на голове. Кое-кто впрягал быков, а хозяйки семенили во дворах, посыпая золой озимые овощи и поправляя потухший костер, который тлел всю ночь в камине. Дети гнали гусей вниз, к ручьям, старики, кутаясь в одеяла, сидели на порогах со слезящимися глазами, попивая горячий чай из глиняных пиал. Люди были повсюду. Здесь толпились тысячи человек и, казалось, походили на созревший початок кукурузы во время страды.
Медленно пройдя по плодородным крестьянским угодьям, где горы, темные и зловещие, начинали расти, Аттила выбрался на узкую дорожку. Она вела к большим воротам. Ворота были открыты, дорожка поворачивала и вела наверх, на возвышающийся утес. Там и дальше, разбросанные по склонам и отделяемые лишь крутыми тропинками, виднелись особняки знатных людей, храмы жрецов, монастыри и дворец самого бога-правителя, возвышавшийся над остальными зданиями.
Спокойствие, царящее в горном городе, позабавило Аттилу. Монахи с бритыми головами в рыжевато-красных одеждах останавливались и кланялись, а затем стремительно бросались прочь. Женщины, неся тяжелые корзины на голове, тоже замедляли шаг и таращили глаза, потом отворачивались и спешили дальше. Только вверху, у других широких ворот, возле которых по обеим сторонам располагались башни из серого камня, вперед вышли два караульных, преградив дорогу двумя длинными пиками. Они спросили Аттилу, куда он направляется. Этот город явно не привык к войне.
Гунн остановился, посмотрел на стражников, и Чагельган продемонстрировал свое презрение к камням под копытами, вытесанным человеком, подняв хвост и щедро их удобрив.
— Я ищу аудиенции у правителя, — сказал Аттила.
Караульные смерили говорившего долгим настороженным взглядом.
— Я видел сон о девяти стрелах, — продолжал Аттила. — А потом появилась десятая, которая прилетела и сломала все девять.
Караульные стали заикаться и смотреть друг на друга, и один побежал к своему командиру. Тот выглянул из маленькой палатки и велел отправиться на крутой холм к другому начальнику. Таким образом, благодаря бюрократии странный желтоглазый дикий кочевник попал в город, минуя украшенные резьбой и рисунками храмы, источавшие фимиам, где звенели крошечные колокольчики, нарушая утреннюю тишину. Наконец, демонстрируя глубочайшее уважение, караульные попросили Аттилу спешиться и проводили его через небольшую заднюю дверь, украшенную каменной кладкой.
Внутри была крытая терраса, окна которой выходили на юг, на долину. Вид оказался изумительный. Аттила повернулся спиной, прислонился к балюстраде, сложил руки и стал ждать. Кто правит здесь? Кто обладает этой красотой?
— Сон, говоришь? Так-так, — раздался высокий и взволнованный голос. У дверного проема на противоположном конце террасы появилась высокая фигура. Круглое лицо сияло и, казалось, имело глупое выражение. Носа там, где находились ноздри, не было. Говоривший носил причудливый головной убор — венец из чеканного золота, который облегал череп, а горизонтальные лучи расходились в разные стороны. Выйдя вперед, человек ударился ею и теперь остановился, чтобы поправить.
— Так-так, — произнес он снова.
Позади за прокаженным царем показался другой персонаж — маленький, низенький, дородный седой полководец примерно шестидесяти лет — безоружный, но в кольчуге. Его нос был неясной формы, несколько раз сломан, но без следов от проказы или иной болезни. Длинные седые усы оказались аккуратно причесанными, а взгляд — горящим и решительным. Он стоял как раз в дверном проеме и не спускал глаз с посетителя.
Бог-правитель поднял край своей одежды, демонстрируя маленькие ноги, обутые в усыпанные драгоценностями туфли из кожи, и сделал несколько шагов по направлению к незваному гостю. Он улыбнулся. Пара оставшихся зубов были нездоровыми: серые обломки, постоянно надвигавшиеся друг на друга. Губы оказались ярко-красными, и с жирных растянувшихся мочек ушей свисали тяжелые золотые серьги. Как и подобает богу-правителю, он был облачен в одежду цвета солнца, лишь под подмышками было немного темно и грязно. Во время движения живот походил на раскачивающийся холм, а голова, украшенная золотой диадемой, оказалась лысой с жирными складками у шеи. Он остановился на расстоянии нескольких шагов от молчаливого незнакомца в длинной неопрятной куртке и взглянул на террасу, издав странный шипящий звук. Внизу была еще более широкая веранда, где сидело множество кривоногих наложниц, прихорашиваясь и ожидая приказа.
Аттила не повернул головы и не пошевелился.
Бог-правитель заколебался в нерешительности и снова широко улыбнулся. Небесный отец своего народа и земной родитель темной массы уже забыл про сон. И раздумывал, почему здесь оказался этот незнакомец?
— Сюда! — приказал бог-правитель и поманил Аттилу в конец террасы. Там, за рядом каменных столбов, можно было пройти к дверям, ведущим в мрачные комнаты, выдолбленные в самой скале.
Аттила шагнул в темноту вслед за богом-правителем и услышал неподалеку упрямого старого полководца.
— Баян-Казгар! — закричал бог-правитель из слабо освещенной спальни. — Принеси нам еще света!
Аттила терпеливо ждал вместе с остальными. Все встали друг напротив друга. Аттила чувствовал, как холодок пробегает по коже. Старый полководец ушел. В комнате все стихло. Бог-правитель непрерывно улыбался Аттиле, затем тыльной стороной руки с кольцами вытер каплю гноя, вытекшую из остатков носа. Он не заслужил того, чтобы жить. Вся его страна не заслуживала того, чтобы жить.
— Баян-Казгар, — повторил Аттила. — Прекрасный Волк. Похожий на волка, может быть, но… прекрасный?
Бог-правитель странно посмотрел на незваного гостя. Что это такое он говорит? Царек уже стал подумывать, не позвать ли больше караульных. Как узнать, что делать? Где управитель? Почему он остался сейчас один? Все стало сильно раздражать. Чтобы скрыть свою досаду, царственный божок пронзительно захихикал. Незнакомец тоже засмеялся и сделал шаг вперед — к нему.
Затем вернулся преданный Баян-Казгар во главе отряда караульных, неся высокий бронзовый канделябр тонкой работы, который поставили на землю. Аттила в первый раз осмотрел комнату — большое загроможденное разным ненужным хламом помещение. Такие вещи словно манят отовсюду малоподвижных императоров. Будто здесь поселился страстный римский коллекционер. Хлам… Боги-правители всегда собирали хлам, желая придать себе вес. Вероятно, для создания иллюзии важности и значимости, будто они обладали большим, нежели собственное я. Цари над народами, ведущими оседлый образ жизни, так и не поняли (или охотно забыли), что чем больше ты имеешь, тем меньше ты собой представляешь.
Гунн восхищенно кивнул, и бог-правитель снова захихикал и стал показывать свою коллекцию.
При тусклом свете свечи Аттила изобразил искренний восторг при виде необычной сокровищницы. Сделанные из черепашьих панцирей коробочки с мускусом и корнем женьшеня от вождей соседних племен, высокие вазы, полные ярких цветных перьев исчезнувших птиц, кедровый ящик с золотом с Бий-Хема. Бог-правитель, хрипя, наклонился над ящиком, вытащил один из необработанных самородков, зажал толстым указательным и большими пальцами и положил в рот. Затем повернулся к Аттиле, глупо улыбаясь и посасывая золото, как ребенок леденец.
Насытившись, Токуз-Ок вынул самородок изо рта, облизал губы и протянул обслюнявленное золото гостю. Аттила покачал головой, вежливо отказываясь. Лицо бога-правителя тут же приняло мрачное выражение, и он бросил золото обратно в ящик. Но вскоре снова развеселился, когда стал показывать незнакомцу китайские латы и длинные мечи в украшенных ножнах. Рука Аттилы легла на один из эфесов, но сразу же отпустила его. Баян-Казгар стоял неподалеку справа. Отряд караульных наблюдал из дверного проема.
— В конюшнях внизу, в долине, у меня тысяча белых верблюдов и две тысячи белых лошадей, — произнес бог-правитель очень быстро и возбужденно.
Аттила ответил, что хотел бы взглянуть на животных, вероятно, даже объездить их, но Токуз-Ок, забывшись, продолжал болтать дальше.
У него триста жен и две тысячи наложниц, а также несколько мальчиков, один из которых черный с головы до ног, представляешь? Не хватает лишь черных ладоней и пяток, а еще у него язычок розового-розового цвета! И с каждой новой луной он, Токуз-Ок, Владыка Всего Земного Мира, создает из ничего огонь в храме Итуген за маленькой занавеской. Благословив голый камень, он выходит наружу, а туда отправляются два монаха. Вскоре они вылезают и несут камень, охваченный ярким волшебным огнем, который создал бог-правитель. Это чудо происходит раз в месяц. Как богиня…
— Итуген, — повторил Аттила, — богиня луны.
— И земли, — сказал Токуз-Ок, пытаясь говорить торжественно. — Это она благословляет наши урожаи и опыляет фруктовые сады летом.
Он вернулся к своим сокровищам, в глубине души раздумывая, какой чудесный подарок, вероятно, принес с собой незнакомец. Потом показал десятифунтовую глыбу янтаря с берегов замерзшего моря, мешки с жемчугом от индийских раджей, и в самом конце спальни — пару моржовых бивней, прислоненных к голой каменной стене. Позади в темноте виднелась маленькая изогнутая дверь, которая вела в другую комнату.
Принесли канделябр, и бог-правитель стал показывать незнакомцу ящик, полный красноватого меха, крайне редких белых бобров, голубых соболей и черных барсов. Великолепный мех сейчас немного поблек, стал сероватого цвета и осыпался. Когда Токуз-Ок хватался за него, летели невесомые пушинки, которые, поднимаясь, кружились и бесшумно падали при тусклом свете свечи, навевающим дремоту.
Бог-правитель продемонстрировал манускрипты в свитках с красным и золотым теснением, которые, но словам Токуз-Ока, опустились с небес, словно птицы, и каменные плитки из древних исчезнувших царств на западе с высеченным наклонным шрифтом, а потом (в другой комнате) — зверинец с чучелами животных, где были удав и тигр с непрозрачными глазами.
Аттила осматривал все с искренним восхищением. Бог-правитель повел его обратно на террасу. Там он глянул на свое маленькое царство и широко улыбнулся.
— Так какой подарок ты принес для меня, незнакомец? — спросил Токуз-Ок.
— У моего народа, — произнес Аттила, — есть достойный тебя дар.
Токуз-Ок повернулся к гунну, и его большое одутловатое лицо, казалось, немного побледнело.
— У твоих… людей?
Аттила ничего не ответил. Лишь кивнул в сторону далеких гор, возвышавшихся над долиной с юга. Токуз-Ок повернулся, его колени задрожат и, в горле пересохло. Повсюду на склонах шевелились маленькие черные фигурки на фоне прояснявшегося неба. Сотни. Тысячи… Бог-правитель издал странный краткий писк.
Вперед вышел Баян-Казгар.
— Что это? — хрипло спросил он. — Я велю тебя…
Аттила странно посмотрел на полководца.
— Дар приближается, — ответил гунн. — Нужно много людей, чтобы принести его сюда.
Баян-Казгар снова сердито что-то заворчал, но Токуз-Ок приказал замолчать. Полководец сделал шаг назад и взглянул на пол каменной террасы, молча закипая от злости. Самым верным представлялось ему немедленно отдать распоряжение отрядам взяться за оружие.
— Вероятно, это щедрый дар, — произнес Токуз-Ок.
— Мешки, мешки и еще раз мешки, — ответил Аттила. — Груженые на тележки.
Бог-правитель хлопнул в ладоши и посмотрел на небо, затем, не попрощавшись, побежал по террасе, мелькнул в дверях и исчез.
Отряд пошел за ним. Баян-Казгар поднял голову и снова оглядел незнакомца. Затем повернулся на каблуке и зашагал следом.
Добравшись до арки, полководец почувствовал, как чья-то сильная рука сжала его за шею и потащила назад. Каблуки застучали по камню. Баян-Казгара приволокли в ближайшую комнату и швырнули в стену, по-прежнему не ослабляя хватки, похожей на тиски, почти перекрывшей доступ кислорода в легкие. Для страховки к горлу еще прижали холодное лезвие ножа. Военачальник пытался говорить, но не мог. И это был не сон.
В глубине души Баян-Казгар проклял таинственного незнакомца.
Жестокий кочевник близко наклонился к старому полководцу и прошептал в самое ухо:
— Он — не царь.
И отпустил пленника.
Баян-Казгар повернулся, потирая шею, и посмотрел на варвара, направившего нож против него. Одно поспешное движение — и полководец понял, что будет истекать кровью, лежа на камнях, пока не умрет. Но скоро вернется отряд. Сейчас. В любой момент…
— Это — не царь, — снова прошипел дикарь. — Девять Стрел! Одна стрела поразит Токуз-Ока. Он — не правитель и уж точно не бог. Ты знаешь, что презираешь его.
— Он — семнадцатый сын Сына Небесного, — хрипло ответил военачальник. Но в его голосе послышалась неуверенность — одновременно и сомнение, и ирония. Аттила улыбнулся. Полководец же продолжал упорно твердить:
— Ты не сможешь разрушить город. И неважно, каким количеством человек ты располагаешь там, на горных склонах.
— Мы не сможем разрушить город, но мы сможем разорить землю, всю долину Оронча, и вы умрете от голода. И ты знаешь, что это правда.
Баян-Казгар ничего не ответил.
— Одна стрела, — снова произнес Аттила. Он подошел ближе, и возле горла полководца вновь блеснуло лезвие ножа. Этот незнакомец двигался словно змея. Говорил очень быстро, но Баян-Казгар расслышал и запомнил каждое слово. — Ты убьешь его. Станешь царем. Присоединишься к нам, мы отправимся в поход и победим всех, кто встанет на пути. И я подарю тебе великую империю. Затем ты вернешься в долину и будешь недоумевать, почему ждал так долго. Ты и твои сыновья станут самыми могущественными императорами этой страны.
— Ты почитаешь Итуген, богиню луны, и Астура, ты помнишь о подвигах Манаса. Вы когда-то были гуннами.
— Мы пришли из южных пустынь много лет назад, — неясно ответил полководец. — Мы воевали с Китаем.
— И будете делать это снова. Присоединяйся к нам!
— Сейчас мы — крестьяне.
— Я сделаю из вас, крестьян, воинов.
Баян-Казгар, казалось, не верил в это.
— Мы ведем оседлый образ жизни. Глянь-ка сам, как благословенна эта долина. Мы не можем покинуть ее.
Аттила стал терять терпение.
— Женщины, дети и старики вправе возделывать землю до твоего возвращения. Любой дурень может перевернуть ком. Поднимай отряды, поехали с нами. Ты вернешься. Это продлится недолго. Год, два военных действий — и ты вернешься великим завоевателем. О тебе станут слагать легенды. Хлам, — Аттила презрительно махнул рукой, показывая на вещи, — ты будешь использовать, чтобы подкидывать в костры, или расплавишь и сделаешь монету с изображением своего портрета. Ты унаследуешь не долину, а империю.
Глаза гунна горели. Баян-Казгар почти ощущал тот жар на коже.
— У меня нет сыновей, — пробормотал он. — Моя жена мертва.
— Возьми другую.
— Закон запрещает это. Только правитель может иметь больше одной жены.
Аттила не удостоил полководца ответом на нелепость. Гунн сделал шаг назад, дважды резко взмахнул наискосок блестящим ножом перед глазами Баян-Казгара, словно заколдовывая и благословляя его этим жестом.
— Убей Токуз-Ока, — сказал Аттила. — Потом приходи ко мне.
Быстро, словно змея, он пробрался к двери, оглянулся назад и поднял указательный палец, словно в последний раз желая напомнить о цареубийстве. Затем исчез.
Через несколько минут вновь появился отряд караульных, уставившихся в темноту комнаты. Они были слепы, словно кроты.
Аттила безопасно покинул город на горном склоне. Он попрощался с женщинами, стирающими белье в ручье, с детьми, ловящими сетью мелкую рыбешку в дальних прудах. Потом направился дальше — к манасчи, одетому в плащ из темно-синего бархата с золотой вышивкой, стоявшему возле обнаженных персиковых деревьев во фруктовом саду и напевавшему бесконечные песни…
Глава 14
Баян-Казгар
Гунны ждали еще два дня, и их терпение уже стало подходить к концу. На рассвете второго дня явился путник, но не тот, которого все хотели увидеть.
Проснувшись утром, воины заметили на краю лагеря лысого коротышку с бегающими глазами, сидевшего в тележке, запряженной ослами. В тележке ехали его жена и два ребенка. Там же были свалены мешки с ячменным хлебом, яблоками, сыром, необожженными глиняными горшками и кувшинами. Это оказался один из местных, услышавший о гуннах и решивший воспользоваться возможностью немного подзаработать. Несколько кутригуров вознамерились перерезать семье горло и забрать припасы. Орест понял, что может произойти, ринулся вперед и отозвал воинов. Но не знающий границ меркантилизм этого путника, не говоря уж о его безумной храбрости, оставил в душе грека глубокое впечатление.
— Эй, друзья, — позвал маленький торговец, энергично кивая. — Я принес отличные вещи! — И потер живот рукой.
— Крестьяне, — фыркнул Чанат, останавливая коня рядом с Орестом. — Они приходят, чтобы продать нам еду. Купцы… — Он прокашлялся и смачно сплюнул. — Скряги, землекопы с грязью под ногтями! Хозяйки с тряпками в мешках, со своими навозными кучами и дерьмом у дверей, высчитывающие свои…
Орест не мог не рассмеяться, слушая эту потрясающую поэтическую диатрибу. Затем грек направился к крестьянину на тележке и заплатил ему китайскими серебряными монетами за товар.
— Хлеб? — усмехнулся Чанат, когда Орест вернулся. — Хлеб? Тот, кто ест хлеб, сделан из хлеба — и крошится, как хлеб.
Верный спутник Аттилы энергично зачавкал.
— Восхитительно, — пробормотал он. — Напоминает мне об отрочестве.
Сердитый взгляд Чаната заставил Ореста смеяться так, что ненавистные крошки полетели прямо на старого воина.
Крестьянина с семьей отвели к Аттиле. Мужчина осторожно слез с тележки и низко поклонился кагану.
Гунн попросил его встать прямо:
— Ты отважен.
— Кто отважен, у того будет золото, — лаконично и весело пропел коротышка. — Кто скромен, останется беден.
Затем повернулся и стал рыться в тележке. Жена вздохнула, нашла то, что он искал, и протянула мужу. Бакалейщик же передал это вождю кочевников. Это было что-то отвратительное, сладкое и липкое — может быть, абрикосы. Аттила поблагодарил за подарок и велел Оресту забрать горшок.
— Фрукты из сада, — сказал крестьянин. — Их собирать очень опасно.
— Как так?
— В лесу живут медведи.
— А другие племена?
— Чинчин! — воскликнул коротышка.
Аттила терпеливо ждал.
По словам бакалейщика, люди из племени чинчин были лишь в три локтя ростом и повсюду покрыты черными густыми волосами. Их колени не сгибались, потому приходилось делать маленькие прыжки, чтобы передвигаться с места на место. Ноги оказывались сжатыми вместе.
— Вот так, — произнес торговец и продемонстрировал эту походку. — Мы охотимся на них, оставляя тарелки со сладкими фруктами, например, такими, — и показал на то, что дал Аттиле. — Или же развешиваем на деревьях пиалы с вином. Люди из племени чинчин пьянеют и весело кричат: «Чинчин! Чинчин!» А потом засыпают, а мы складываем их в мешки, приносим домой и готовим. Мясо просто замечательное.
Бакалейщик потер живот, энергично закивал и улыбнулся.
— А ты действительно видел тех легендарных людей?
— О да, — подтвердил коротышка.
— И ел их?
— Конечно. Восхитительно!
Но сейчас его голос прозвучал немного неуверенно. Жена отвернулась.
Аттила медленно подошел к бакалейщику.
— Ты сам ловил и ел людей из племени чинчин?
— Ну… — пробормотал орончанский гурман и вздохнул. — Ну, нет. Я нет. Нет. Сам — нет. Но такова легенда нашего народа. Я не сомневаюсь в ней. — Затем он сердито посмотрел на верховного вождя кочевников. — Ты, конечно, тоже?
Аттила не ответил. Вместо этого поблагодарил незваного гостя за подарок и велел идти в лагерь, и, не боясь ничего, продавать свои товары.
Купец тут же исчез. Аттила искоса глянул на Ореста.
— Думаю, мы не станем вербовать племя чинчин в нашу армию.
Грек покачал головой:
— Лучше не стоит.
На третий день Баян-Казгар приехал в лагерь один и стал искать аудиенции у Аттилы в палатке.
Они сели на низкие стулья. Полководец положил кулаки на колени.
— Так, — сказал Аттила. — Полагаю, одной стрелы было достаточно?
Баян-Казгар что-то заворчал и наконец проговорил:
— Листья ревеня.
Аттила выглядел недоумевающим.
— Растение, которое мы едим, это его часть. Ни одна мне не нравится, по правде сказать, но листья ядовиты: они являются сильным слабительным. В большом количестве — смертельны.
— Гм. Вероятно, это была ужасная смерть.
— Зато подходящая, — пробормотал полководец. — Токуз-Ок оказался свиньей.
Между Аттилой и Баян-Казгаром, казалось, установилось некое взаимопонимание. Они хлопнули в ладоши, положили друг другу руки на плечи и поклялись в верности до смерти.
Так Аттила, уже объединивший свой народ с кутригурскими гуннами, а потом с племенем долины Оронча, теперь побратался с его правителем — Баян-Казгаром, Прекрасным Волком.
Аттила сказал, что предпочел бы называть вождя Беяз-Казгаром — Белым Волком. По мнению великого полководца, старый воевода обладал огромными достоинствами, но красота, увы, не входила в их число. Баян-Казгар уныло признал это, но заявил: имя человека нельзя так просто поменять.
Когда Аттила захотел узнать воеводу получше, и союзники выпили чашу или две кумыса, каган кочевников назвал собеседника Равен-Япраком — Листком Ревеня. Но только гунн осмеливался так обращаться к нему. Хотя Баян-Казгару пошел уже седьмой десяток, темперамент у нового правителя оставался как у молодого бычка.
Полководец привел с собой больше воинов, чем можно было сосчитать. Кое-кто сидел на лошадях из табуна убитого бога-правителя, в котором гарцевали не менее двух тысяч особей белого цвета. В них, без сомнения, текла кровь Небесных Скакунов. Многие же оседали обычных, хотя и крепких, животных — пегих, разношерстных, гнедых и маленьких коренастых лошадок серой масти. Шумная толпа крестьян, внезапно охваченных жаждой приключений, желала учиться древним искусствам своих предков — как обращаться со стрелой и луком, щитом и сверкающим мечом. Те юноши, которые еще не были женаты, хотели больше сражаться, чем вступать в брак. Старики, мужья и отцы прощались с кричащими женами и ревущими детьми у ворот дома и мчались прочь, испытывая чувство вины и возбуждение. Но вскоре волнение взяло верх, и тот, кто не избавился от чувства вины, был без сожаления отправлен восвояси или забыт во время безудержной гонки на лошадях по бескрайним просторам.
Союз черных и кутригурских гуннов стал возможен только после кровавой битвы. Союз же их объединенных сил и племени долины возник лишь благодаря хитрости, угрозам и прозорливости людей. Оборвалась всего одна жизнь, и никто не оплакал ее.
Аттила повел войско на север в первые трудные месяцы нового года. В их рядах вновь оказались кутригуры, женщины и дети, а также Юхи, Бела, Ноян и восемьсот всадников. В течение двух недель люди оставались голодными, но странным образом воодушевленными. Они ехали до тех пор, пока не увидели заброшенное пастбище в середине пустыни, где собиралась влага и круглый год росла зеленая трава. Желтоглазый каган кочевников знал, что оно было там, но никто не понимал, откуда. Другие странники уже разбили лагерь в том месте, но когда на горизонте показалась великая армия, они не стали мешкать, и вскоре тысячи лошадей щипали траву.
Через некоторое время к Аттиле присоединились и прочие отряды кочевников, слышавшие невероятные рассказы о могущественном азиатском войске, о немыслимой цели, о полководце и кагане, отмеченном самими небесами, которому не могли противостоять ни человек, ни империя. В одни отряды входило не более дюжины человек, в другие — уже сотни. Весенняя трава не успевала расти, чтобы прокормить многие тысячи лошадей. Торговали конями, оружием и товарами, заключали браки, и даже отчаянные воины жаловались в палатках на оглушительный крик и плач младенцев по ночам. Так, благодаря славе и родственным связям, ухаживаниям и деторождению количество людей продолжало постоянно увеличиваться.
Каждый народ сформировал свой собственный полк, дисциплинированный и подчинявшийся приказам только Аттилы и избранных. Когда не было строевой подготовки, те бойцы играли в дикие игры-состязания жителей степи. Они выхватывали золотые кольца из травы во время стремительного галопа или устраивали безрассудную борьбу между двумя воинами, мчащимися на лошадях во весь опор друг рядом с другом. Старались сорвать поцелуи или добиться более интимных вещей от юных девушек, скачущих с длинными плетями-камчами в руках, которыми они беспощадно наказывали своих преследователей. Но язвительные замечания, срывавшиеся с острых язычков, оказывались еще большим оскорблением.
Настало время разбить лагерь в последний раз. Пора было начинать долгое путешествие на запад, появлялись уже первые признаки весны. Лошади и крупный рогатый скот могли питаться во время пути. Только что распустившийся клевер и вика, эспарцет, кукурузный торичник и тонкие стебельки овса оживляли согревающиеся степи.
— На Рим! — воскликнул Аттила, высоко подняв меч. — И к берегам Атлантики!
Бесчисленное войско ответило громким воплем, хотя большинство понятия не имело, что значит «Атлантика». Бойцам понравилось, как прозвучало это слово.
Маленькая Птичка, следуя на своей лошадке рядом с каганом, не кричал со всеми, но по-еретически вздыхал посреди грандиозного военного празднества.
— Как и прежде, мне бы хотелось увидеть Китай, отец, — произнес шаман, — прежде чем я умру.
— Ты увидишь Китай, — ответил Аттила, дергая за поводья. Голос кагана был резким, а Маленькой Птички — тихим и печальным.
— Только во сне, — сказал шаман. — Как-то раз я видел, как залез на вершину высокого холма, откуда мог рассмотреть весь Китай, — сейчас он говорил в своей певучей ритмичной манере, словно декламировал стихотворение. — Висячие сады в летнем дворце императора, нефритовые журчащие ручьи, сверкающие голубки в шелковых и золотых листьях…
Маленькая Птичка остановился и посмотрел на Аттилу.
Каган ничего не ответил на напевы шамана, такие глубокие и странные, о столь грустном предзнаменовании.
Глаза Маленькой Птички заблестели, взгляд стал непроницаемым.
Огромен Китай, никогда не увидишь его целиком
Высокие горы долины речные скрывают.
Огромен Китай… Император всегда далеко.
Китай… Попаду ли туда, я не знаю.
Глава 15
Возвращение домой
Великая армия вышла на север. К тому времени, когда дни стали такими же длинными, как ночи, она оказалась у края северных лесов, где весенняя трава была сочной и зеленой. А затем войско отправилось на запад. Там еще кое-где в тенистых долинах лежал снег, но в пограничных областях, например, между лесом и степью, разделенными, словно суша и море, всегда можно хорошо поохотиться.
Временами, когда солнце опускалось за горизонт, казалось, будто вернулась осень во всем своем великолепии: ветви деревьев становились золотыми от ослепительно яркого света. Иногда зимний холод пробирал до костей, вновь налетал резкий, пронизывающий, сильный ветер. Каган всегда настаивал на том, чтобы идти в темноте, когда дети уставали и засыпали в тележках. Иногда воины поворачивали на север, желая найти брод через великие реки этой страны, они ехали по полночному лесу, скользя по снегу. За ними крались волки, отбрасывая тени среди елей, их протяжный вой эхом отзывался в звездном небе. За серыми хищниками следовал еще кто-то, наблюдая и пробираясь сквозь высокие сосны, как люди по траве. Это были огромные безымянные существа, обладавшие гораздо большей силой, чем любой из когда-либо живших волков.
Но весна уже уверенно вступила в свои права, и с каждым днем воины уходили все дальше на запад, покидая суровую и негостеприимную центральную Скифию. Они приближались к плодородным пастбищам у Понта Эвксинского. Они ехали по длинной, мокрой траве на краю леса, и горькие травы в капельках росы щекотали поджилки у лошадей. Осталась позади страна, где жили лесные существа с карими глазами, использовавшие челюстные кости щук, чтобы раскрашивать тела бесчисленными завитками и зигзагами. Они обитали в покрытых корой хижинах, как говорил мудрец Маленькая Птичка, хотя только дети верили в россказни шамана. Взрослые насмехались и улыбались, услышав маленького безумца, повествующего о лесном народе, который поедал мох, а зимой ездил по снегу на оленях с уздечкой и седлом. Еще дальше на севере обитало племя, охотившееся на тюленей с копьями с наконечниками из вулканического стекла и строившее крыши лачуг изо льда, используя ребра китов.
На берегах рек гунны останавливались, чтобы напоить лошадей среди широколистных тополей. Здесь было очень ясно и тихо, повсюду пели птицы. Казалось, будто это личный заповедник для охоты какого-то великого властителя. Иногда мелькали лесные люди, которые уже давно прятались за деревьями. Это была толпа дьявольских всадников, вооруженных до зубов, со взглядом, столь же беспокойным, как у голодных волков. Они некоторое время следили за воинами, широко открыв большие мрачные глаза и укрывшись под накидками из перьев птиц, а потом незаметно ускользнули прочь, сев в рыбачьи остроконечные лодки и исчезнув на севере, в безопасных дремучих и бескрайних лесах.
Появились бледно-зеленые стрелки дикого лука, из-под копыт лошадей поднимался запах тимьяна. Ручей талого снега, весь в листьях и бесшумный, был столь слаб, что едва пробивался сквозь зеленую траву, мир столь ярок и юн, будто новый, сотворенный невидимыми руками Творца ночью. Казалось невозможным подобрать слова для выражения той радости от прихода весны после суровой зимней стужи, какую чувствовали все кочевники и странники. Не по ним была безопасность каменных домов, бани или обогреваемые полы. Хватало и смердящих костров, попон да пронизывающего холода.
Их души парили, словно ястребы, взрываясь от любви к этой земле.
Воинов удивила черная медведица, которая однажды вылезла из леса. После того как ее закололи, перевернули в траве и помолились о прощении духу Маленькой Сестры, обнаружили, что у нее было молоко. Мать спрятала детенышей подо мхом, зная о своей предстоящей смерти в тот день. Но воины стати искать, нашли медвежат и убили их: мех казался так хорош в подарок для девушек. Одного малыша оставили в живых — медвежонка с мокрым носом и с большими глазами, с огромными мягкими лапами. С тех пор он не отставал от людей. Кочевники завернули мясо двух других детенышей и матери и продолжили путь.
Маленькая Птичка понес медвежонка с собой, когда тот стал уставать. Заснув, зверь сильно помочился на шамана в качестве благодарности.
— Расскажи мне о Риме, — сказал Рваное Нёбо, улегшись на спину возле костра после того, как слишком плотно набил свой желудок мясом. Затем вождь рыгнул и потер округлившийся живот.
Аттила сел, скрестив ноги, и посмотрел в огонь. Он заговорил медленно и тихо:
— Царь царей из Палестины
Двум империям основы заложил.
Но правителю Востока
Уничтожить их жестоко хватит сил.
Несмотря на боль в животе, Рваное Нёбо сел или, по крайней мере, приподнялся на локте.
— Объясни.
— Это пророчество, римское пророчество. В первых строках речь идет о том несдержанном еврее, которого называют Христом, царем царей. Он заговорил о Рае и Аде. В Римской империи Его считают Богом.
— А тот человек был великим воином?
— Христос проповедует мир. Проповедовал… Сейчас Он мертв, хотя люди верят, что жив.
— На небесах?
— На небесах. Палестина… Это такая заброшенная страна, находящаяся далеко на юге. Племя, живущее там, называется евреями. Теперь этого мертвого бога-царя почитают по всей Римской империи.
— Хотя они и не евреи?
— Нет.
Рваное Нёбо выглядел все более и более обескураженным.
— Но ведь в Риме — римляне?.. Они не прислушиваются к проповедям Христа? Они же великие воины?
— Римляне неплохо владеют оружием.
Вождь кутригуров покачал головой:
— Мое сердце скорбит о них. Очи римлян затуманены.
Аттила продолжал:
— Этот Христос учил, что нам следует прощать своих врагов.
Рваное Нёбо откинул назад голову и засмеялся:
— Все же знают: самое большое удовольствие в жизни — убить врагов, изнасиловать их женщин и украсть золото! — И он потянулся к кувшину.
— Римляне сами казнили Христа.
Рваное Нёбо отхлебнул из кувшина и вытер губы.
— Теперь я начинаю чувствовать боль в своем сердце. И это — не из-за кумыса.
— Они казнили Христа четыре столетия назад, а потом поняли, что убили Бога.
Чанат произнес:
— Ни один человек не является Богом.
— Был один мудрый грек, — донесся голос Ореста из круга, — который сказал: если бы лошади рисовали бога, то изобразили его в виде лошади.
Все захихикали.
— Эти греки, — сказал Рваное Нёбо, — не самые большие дураки, о которых я когда-либо слышал.
— Сейчас Рим покорил их себе.
Вождь кутригуров подумал:
— А другой стих? «Но правителю Востока…»
Глаза Аттилы заблестели. Каган ничего не ответил.
Гьюху произнес:
— Вероятно, он низвергнет даже Рай и Ад, великий вождь!
Аттила не взглянул на воина. Гьюху замолчал.
— Рим и Китай, — заговорил Рваное Нёбо, и улыбка стала медленно расползаться по его лицу. — Вот это и есть две империи.
Вождь снова поднял кувшин с кумысом и сделал большой, долгий глоток.
Широкая река, которую отряды перешли вброд при серебристом свете, протекала в скалистом узком ущелье, покрытом ярким ковром трав. Внизу оказался еще один залитый светом склон, откуда сыпался с грохотом щебень. На каменистой равнине с малахитом и аспидным сланцем витали ароматы розмарина, лаванды и дикого лука, поднимавшиеся из-под копыт лошадей и перебивавшие запах кожи. Наступало жаркое лето. Уже много месяцев воины ехали снова на запад, и солнце нещадно палило, обжигая предплечья, когда отряды повернули и двинулись на юг среди многообразия примул и первоцветов, анемонов, мускусных орхидей, васильков, желтых ракитников, белого клевера, пастушьих сумок и пурпурных прострелов, где вились насекомые и с жужжанием опускались на открытые цветочные головки.
В долине, там, где заканчивалась река, были серебристые тополя и повсюду виднелись скалы розового цвета. Они рассыпались из-за толстого слоя льда и ветра, и коричневая земля обваливалась с берегов в могучую реку. Лошади тянули в сторону, тележки громыхали по усыпанной галькой отмели и снова катились по невысоким склонам на равнине. Повсюду виднелись величественные курганы, гробницы древних бородатых и голубоглазых скифов — безмолвные гиганты, тихо спящие в высокой траве.
Безудержная радость в сердце Аттилы была безграничной. Верховный вождь едва держался в седле. Он по-прежнему сжимал кулаки, высматривая вдалеке лагерь своего народа. Орест заметил это и стал поддразнивать хозяина. Только верный грек мог так делать. Он даже осмеливался упоминать имя правительницы Чеки. Но радость воинов была действительно безграничной, а будущее — безоблачным и безбрежным. Они добились своего! В подвиг казалось невозможным поверить — в этот широкомасштабный план объединения. Воины ехали по степям в начале зимы, продвигаясь на восток через Железную реку. Они проскакали тысячи миль в глубь Скифии, оказавшись в непосредственной близости от самой Великой Стены, и смогли объединить гуннов, черных и кутригурских, а потом слились с другим могучим народом — орончами. С особой жесткостью вырезали целую вооруженную колонну китайцев в качестве предупредительной меры и ради хорошей практики, и тогда армия Аттилы по пути домой пополнилась еще несколькими тысячами кочевников и отдаленных кровных родственников. Сейчас перед этим столь великим и сильным войском лежала еще одна страна, которую предстояло завоевать, а затем — последний трофей. Никто не мог противостоять бойцам Аттилы.
Даже в те дни, когда гунны уже приближались к дому, к ним присоединялись все новые племена. Кое-кто приходил ранее, год назад, услышав об обнаружении меча Саваша, а затем, разочаровавшись, они покинули армию, когда Аттила направился на восток. Эти люди вернулись, смеясь от удивления — податные цари и второсортные вожди, командиры маленьких разрозненных отрядов белых гуннов с побережья Каспийского моря под руководством своего властителя Чаратона. Куридач, великий кривоногий вождь гефалитских гуннов с Аральского моря, тоже признал себя побежденным.
Чаратон стал спешиваться, когда явился перед Аттилой, признавая его превосходство, но тот велел остановиться. И Чаратон, по-прежнему сидя на лошади, говорил, что к нему — даже к нему! — приходило посольство из Византин. Никто из гостей не осмеливался поднять глаза, боясь быть ослепленным сияющим великолепием. Византийские послы предложили создать союз и давали взятку, но Чаратон отказался.
— Хотя, — печально добавил он, — это мне многого стоило.
Аттила велел не роптать.
— Мы вскоре будем у врат Константинополя, — сказал каган, и его глаза заблестели. — Тогда Константинополь и все богатство станет твоим.
Погладив бороду, он произнес:
— Уже скоро.
Забрезжил рассвет последнего дня путешествия, которое длилось двести суток. К ночи воины окажутся в своих палатках и рядом с женами.
Аттила собрал людей, построив в полки и в шеренги, и заявил, что они — самая лучшая армия, которую когда-либо видел мир.
— Грядет великая война, и падет могучая империя, — сказал каган. — И все вы — черные и белые гунны, красные, желтые и гефалитские, кутригуры и орончи, горные племена и те, кто жил в долинах и на равнинах, — все вы прославите себя и своих потомков в этой войне. Просто следуйте за мной, и вы станете бессмертными. Время гуннов пришло!
Крик, наверно, слышали даже в лагере. Но там воины в любом случае окажутся лишь к ночи. Аттила оглядел свои шеренги, в которых уже насчитывались десятки тысяч, бессчетное количество тележек. Затем повернулся, высоко поднял голову, и все продолжили путь домой.
Впереди полдня в одиночестве скакал Маленькая Птичка, неся маленького медвежонка.
Женщины заголосили вокруг него, желая узнать новости, когда шаман въехал в лагерь. Но Маленькая Птичка почти не обратил ни на что внимания и не ответил ни на один из вопросов. Несколько девушек, испытывавших сильные страдания, даже замахнулись на пришельца, но тот увернулся и отскочил прочь, смеясь.
Когда солнце село, женщины собрались вокруг шамана, все-таки надеясь на
хорошие новости. Маленькая Птичка сел, скрестив ноги, возле костра и поднял брови, увидев собравшихся.
Земля гудела.
Шаман наклонился в сторону под необычным углом и прижал ухо к почве. Затем весело покачал своим пучком волос и ухмыльнулся, не меняя положения, словно во всем его теле не было без единой кости. Через мгновение Маленькая Птичка снова выпрямился и посмотрел на встревоженных женщин, положив руки на колени, куда несчастные, находящиеся в томительном ожидании и готовые закричать, тыкали сквозь рваные дыры в грязных штанах.
— Эти мрачные духи глубоко внутри земли, — объявил шаман. — Предчувствую или возвращение моего хозяина с безумным взглядом во главе миллиона всадников, или конец света. — Черные глаза засверкали со злорадством. — Или, вероятно… и то, и другое!
Глава 16
Болезнь Эллака, сила Энхтуйи
Но когда всадники вернулись, торжеств устроено не было.
Аттила первым на полном скаку промчался в лагерь и направился прямо в свой дворец. Кто-то попытался окликнуть воина, но тот не обратил никакого внимания. Это оказался Бледа, смотревший с раскрытым ртом на возвращение брата. Он уже успел привыкнуть к своему каганскому сану.
Аттила так резко осадил Чагельгана, что коня занесло еще на несколько локтей вперед. Великий полководец спрыгнул и зашагал прочь, пока бедное животное вставало на ноги. Когда верховный вождь приблизился к дворцу, появилась правительница Чека. Она была худой и с ввалившимися глазами, а лицо имело бледный и серый цвет печали. Аттила подбежал к жене, но та едва взглянула на мужа и чуть ли не отстранялась от объятий, словно ее вина являлась заразной болезнью.
Эллак, их второй сын… Он умирал.
— Мы все когда-то умрем, — беспечно произнес Маленькая Птичка, играя неподалеку с медвежонком.
Аттила остановился на полпути, и на мгновение показалось, что каган наконец-то шагнет к шаману и убьет его на месте. Но он направился во дворец вслед за своей женой.
Маленькая Птичка стал протискиваться между супругами.
— Дайте мне посмотреть.
Через несколько минут, получив толчки и помяв бока, шаман отступил.
— Мальчику просто нужен отдых, — сказал он, — и кипяченое молоко. Эллак что-то съел.
Медвежонок стал жевать палец Маленькой Птички, и шаман опустил детеныша на землю.
Внезапно в тени у двери появилась чья-то фигура. Это была Энхтуйя.
— Дитя умрет, — произнесла она с тихим шипением.
Маленькая Птичка легким шлепком отогнал медвежонка и сердито уставился в землю.
Ведьма плавно двигалась, ее шагов было совсем не слышно.
— Если только не выпьет невинной крови…
Аттила посмотрел на Энхтуйю долгим и пристальным взглядом. Затем кивнул:
— Принесите.
Быстро нагнувшись и неожиданно выбросив вперед тонкую руку, ведьма, словно сокол, схватила медвежонка за загривок.
— Нет! — закричал Маленькая Птичка, запрыгав вокруг. — Ей ничего не удастся, прокляните ведьму и змей с каменным взглядом! — Шаман стремительно набросился на Аттилу. — Как вы можете ставить ее выше меня? Энхтуйя — не наша святая, она ничья, она нечестива в глубине души, этот медвежонок — под моей защитой и покровительством. Если только ведьма осмелится…
Аттила громко закричал замолчать.
Маленькая Птичка стоял, гневно кусая губы. Глаза шамана метали молнии.
Каган кивнул ведьме.
— Бери, — снова сказал он. — Исцели мальчика.
Маленькая Птичка вскочил, пораженный ужасом, не переставая непрерывно бормотать. Затем тихо произнес:
— Ты выбрал. — И исчез в темноте.
Энхтуйя стала колдовать над стонущим мальчиком, пока мать, отец, братья и сестры наблюдали. В тени с ведьмы не спускал глаз Орест. Она размахивала дымящейся веткой ели над потеющим распростертым телом, жгла смолу на плоском камне и издавала сводящее с ума глухое жужжание, словно рой сердитых ос. Ведьма, придя в дикое бешенство и вращая глазами, начала изгонять невидимого демона из мальчика, резко стегая еловой веткой. В другой руке появился маленький нож, кончик которого походил на иглу. Ведьма уколола больного ребенка в грудь, живот, ступни ног, голову и ладони. Губы Эллака посинели, и это все заметили. Он застонал и сжался, затем забился из всех сил и изогнул спину. Потом тяжело задышал. Рот был полон крови.
Но это была не кровь Эллака. Энхтуйя подняла высоко медвежонка над головой сына Аттилы и маленьким ножом перерезала детенышу горло. Тот почти тут же безвольно повис, и яркая молодая кровь хлынула на лицо мальчика. Ведьма кинула свое орудие на землю и длинными худыми руками стала жать и мять бездыханное тельце, пока оттуда не вытекла последняя капля. Наконец мальчик на кушетке закашлял кровью, которая шла откуда-то из глубины его оцепеневшего горла. Затем изо рта раздался свист — вылетел демонский дух. Изможденный Эллак откинулся назад. Под струей крови губы вновь стали приобретать естественный розовый цвет.
Энхтуйя выбросила забрызганную перчатку из черного меха на землю, повернулась на пятке и вышла из дворца, не сказав ни слова. Лишь Орест видел, как она удалялась. Чека и Аттила держали друг друга в объятиях, смотря на своего ожившего сына.
На весь следующий день лагерь погрузился в тревожную тишину. К вечеру из дворца снова вышел каган и встал, скрестив руки. Его лицо хранило непроницаемое выражение. Затем Аттила улыбнулся.
Весь лагерь охватила безумная радость — и из-за возвращения воинов, и из-за выздоровления каганского сына. Эллак будет жить! И с востока пришла огромная армия родственных племен, чтобы присоединиться к гуннам! Все гудело и сеяло хаос. Окружающая тьма отступала, тут и там горели костры, люди пускались в дикий пляс, пили и ликовали, мужья немного поспешно удалялись в палатки с женами, и их не видели весь следующий день и ночь. Даже шутили (чаще женщины у реки, нежели мужчины, поскольку мужчины не считают такие шутки очень смешными), что множество страстных лобзаний случилось той лихорадочной ночью во тьме между мужчинами и женщинами, которые при ясном свете дня не были мужьями и женами. В течение девяти месяцев женщины хихикали, ожидая еще больше, чем обычных «праздничных детей».
Когда прошла торжественная ночь объединения и забрезжил рассвет, в лагере стала чувствоваться некая неуверенность. Один или два воина, которым уже не спалось, вылезли из-под одеял, побрели к последним из догоравших костров и немного устало осмотрели огромное поселение. Чтобы обойти его, потребовался бы час или даже более. Внезапно все показалось нереальным, несуществующим, сном безумца…
Воины вернулись и собрались в то же время года, когда ушли. Приближался конец лета. Десяткам тысяч бойцов не давал покоя вопрос: что дальше? Разговоры об империи и завоеваниях — все это хорошо, но…
Не было ничего, кроме одного человека. Все понимали: да, он — человек, он — каган. Но нет ничего, кроме него, за исключением нескольких квадратных метров разрытых лугов, загонов еле державшихся на ногах лошадей, конца лета, которое прошло так незаметно, пока воины мчались домой на запад… Казалось, будто совсем не осталось времени погреться под лучами солнца. Лишь общее утомление и усталость чувствовались в природе. Цветы уже вяли и роняли свои тяжелые головки. Полная противоположность празднику, закат юности и начала весны… Невероятно, чтобы мечта одного человека, пусть даже могущественного и отважного, могла воспламенить и вдохновить целое племя, связанное узами крови. Не сейчас, не в это сонное, пыльное время года, когда головы и людей, и животных заняты лишь мыслями о подготовке зимних запасов и убежища от предстоящих снежных бурь, а также о долгих длинных ночах, которые придется провести в дремоте под темным мехом.
Неужели в результате они не пришли ни к чему, и все оказалось бесплодной затеей?
Казалось, собиралась огромная толпа. В племени черных гуннов, подчинявшемся Руге, насчитывалось, вероятно, четыре тысячи человек. Из них не менее тысячи являлись воинами. С другими родственными кланами их становилось десять или двадцать тысяч. И теперь, хотя никто не мог сказать точно, сколько именно, количество бойцов увеличилось еще в несколько раз. Среди них были десятки тысяч вооруженных. Могущественная армия! Вскоре многие захотят ринуться в битву. Словно снопы, связанные в год невообразимого урожая, палатки воинов Аттилы протянулись повсюду, куда не кинешь взгляд. Сто тысяч? Двести? Кто скажет? Кто мог бы сосчитать? Гунны стали опасаться своей все растущей численности.
Так что, едва забрезжил мрачный рассвет, мир показался совсем иным многим кутилам, вождям и второсортным правителям, главарям банд и разбойничьим царькам. Мечта о всемирной империи уже не казалась столь легко осуществимой.
Аттила вышел из дворца, скрестил на груди руки и сказал, что следует собрать великий совет, и тогда он станет говорить. Воины спросили, когда нужно это сделать, а каган улыбнулся и ответил:
— Сейчас.
Затем он приказал явиться вождям разных племен, Баян-Казгару, Куридачу, Чаратону, Рваному Нёбу, всем своим избранным и командирам полков. Остальные же пусть толпятся вокруг, как хотят.
В рядах послышалось тихое роптание. Воины, недостаточно хорошо подумав, стали выражать недовольство. «Много выпьешь — долго спишь», — гласит одна гуннская пословица. Но деспотичный полководец позволил провести под одеялами не больше двух-трех часов. Он сам, Аттила, который, как все видели предыдущей ночью, пил кумыс пиалу за пиалой, ни разу не дрогнул и не дал повода для грязных слухов. Сейчас каган носился среди палаток, очевидно, в превосходном состоянии после такого короткого сна. Он ухмылялся. Зубы сверкали, как у голодного волка, золотые серьги раскачивались, отражаясь в солнечном свете раннего утра. Верховный вождь выкрикивал каждого по имени, которое отлично помнил.
— Империю не завоевать, если долго спать! — орал Аттила при входе в палатки, склонившись с седла. — Встряхни свои старые кости, Баян-Казгар! Ты никогда не станешь богатым и красивым, если будешь лежать в юрте, защищаясь от ветра! Вперед, в совет! Вот где решается, как пойдет война!
Затем каган исчез в облаке пыли, отправившись мучить Рваное Нёбо. Тот, еще не успев протрезветь, находился в полусонном состоянии, устроившись между двумя любимыми женами.
Бедный Баян-Казгар, чувствуя себя тем утром далеко не Прекрасным Волком, вылез из палатки, с трудом выпрямился и туманным взглядом окинул окрестности.
Он смотрел на степи с блестящим серебряным горизонтом, необычным для позднего лета, когда уже повеяло прохладой. Небо было синевато-серым и тяжелым, отчего часто начинала болеть голова. Посреди палаток еще печально дымили костры, а в загонах стояли лошади с влажной от росы спиной, повесив промокшие головы. Везде, неохотно пробуждаясь ото сна из-за своего неутомимого и невероятно энергичного командира, воины чувствовали, что язык покрыт налетом, в горле пересохло, живот болит, в висках стучит. Казалось, будто каждый устал за сотню человек. После менее чем трех часов сна настроение у воинов было далеко не самым лучшим.
Но они покорно стали выходить, спотыкаясь, из палаток. Люди знали: таково решение верховного вождя, которому в первую очередь надлежит беспрекословно подчиняться. Оставшиеся внутри юрт жены снова перевернулись, с облегчением вздохнули и заснули.
Глава 17
Аттила говорит, совет слушает
Аттила сидел с одной стороны круга совета на своем простом деревянном троне. Большие кулаки верховного вождя сжались вокруг резных украшений в форме лошадиных голов. Глаза сверкали. В центре стоял темный деревянный ящик. Вожди и командиры расположились по кругу, позади собиралось все больше и больше любопытных. По правую руку от кагана сидел его брат Бледа.
С момента возвращения Бледа мало говорил с Аттилой, если не считать вежливых и стандартных выражений после благополучного прибытия гуннов домой. Но Аттила знал, почему. Бледа любезно уступал сейчас трон, поскольку прекрасно понимал: он скоро займет его снова с помощью византийской армии. Прошлой ночью, пока Бледа, вдрызг пьяный, лежал у входа в шатер, около которого были лужи рвоты, а жены, за которыми никто не наблюдал, таинственным образом исчезли, Орест тихо перешагнул через распростертое тело и быстро все обыскал. Через пару минут он нашел то, что хотел. В маленькой оливковой коробочке (руки милого сердцу греческого умельца, как с одобрением заметил верный раб) находилось четыре свитка. Они оказались посланиями со двора императора Феодосия, написанными, как обычно, в цветистом и напыщенном византийском стиле. Первое начиналось так:
«Нашему Возлюбленному Брату Бледе, сыну Мундзука, сына Ульдина Великого, Нашему Самому Привилегированному Союзнику, Нашему Оплоту против восточных полчищ, Нашему Самому Ценному Другу, Владыке Всей Скифии при Феодосии, Второго после Всемогущего Бога на Земле, Нашему Дорогому Брату во Христе. Приветствуем!»
Значит, теперь Бледа официально считался последователем Христа, так, что ли? Орест ухмыльнулся и положил свитки обратно в коробочку. Никогда не перестаешь удивляться.
Когда проворный грек вышел наружу, то подумал, как легко было бы наклониться и перерезать Бледе горло. Тогда обвинили бы, вероятно, одну из жен, вернувшуюся после веселой ночи с любовником, после того, как обнаружили эту свинью — мужа, заградившего вход в шатер и мешавшего нормальному существованию. Женщину слегка поругали бы, а вскоре и простили. Но нет. Бледу ожидает традиционная судьба — несчастный случай во время охоты, случайная стрела.
Аттила взглянул на брата и великодушно улыбнулся. Идиот! Кто вскормил этого червя? Что за гнилое чрево родило на свет его, самого тупоголового поросенка из всего помета?!
Бледа подслеповато улыбался Аттиле в ответ.
Когда же он займет трон? А когда мул ожеребится, когда осленок залетает, когда из луны, куда попала стрела, пойдет кровь!
Аттила отвернулся от брата и начал излагать свой план вождям.
По его словам, несомненно, поскольку трава на лугах редеет из-за огромного количества лошадей, другого крупного рогатого скота и овец, необходимо подумать о том, чтобы сняться со становища и повернуть на юг, направившись к зимним пастбищам возле Каспийского моря.
Седой кривоногий старый Куридач, вождь гефалитских гуннов, кивнул и погладил свою длинную узкую бородку.
— Каспийские зимние пастбища — отличное место, там растет зеленая трава. А здешние степи обглоданы подчистую. Мы готовы, вскоре мы должны вернуться на восток или идти на юг — к зимним пастбищам.
Чаратон согласился:
— Гунны — не тот народ, чтобы жить слипшейся кучей, словно муравьи.
Аттила медленно кивал.
— Пастбища, которые еще лучше, чем эти, ждут нас на западе.
Вожди посмотрели на кагана.
— На берегах римского Дуная есть местечко в области, называемой высокомерными людьми Транспаннонией возле реки Тиса. Хунгвар.
— Наш народ уже давно, еще в моей молодости, пас там лошадей, — послышался голос Чаната из другого конца шатра. — Давным-давно, когда мы были Риму союзниками, во времена Ульдина. Когда мы сражались против заклятых врагов, германских племен Радегаста, и разбили их наголову на равнинах Италии.
— Эти действительно было давным-давно, — произнес Аттила.
— Но с тех пор они прогнали твоих людей обратно на восток, — сказал Куридач.
— Прогнали? — переспросил Аттила. — Римляне не прогоняли никуда мой народ, словно скот.
Лишь теперь верховный вождь медленно повернулся к Куридачу, и взгляд его был безжалостен.
Куридач опустил голову. В голосе этого великого полководца и предводителя послышалась дикая ярость, сдерживаемая железной волей.
— При Руге, — сказал Аттила, — как ты прекрасно знаешь, гунны отступили на восток в обмен на римское золото, словно рабы, действующие по распоряжению Рима и подвергшие себя полному самоуничижению. Когда Рим захотел избавиться от беспокойного и мятежного юноши, мерзкий Руга исполнил и эту просьбу, потребовав еще больше денег. — Каган окинул всех взглядом. — Но ни римские указы, ни сундуки с золотом не помешают нам добраться до зимних пастбищ. Кому принадлежит земля? Мы, гунны — свободный степной народ. Мы придем и сделаем так, как нам заблагорассудится.
— А если римляне думают иначе?
— Тогда нам нужно пасть на колени перед ними, да?!
— Вероятно, — ответил Куридач, немного заерзав на своем сидении, — вдруг эта Римская империя основана неким высшим божеством. Разве это не один из мифов, что жители того города благословлены свыше?
Чаратон согласился:
— Конечно, такая огромная империя, существующая столь долгое время, видевшая, как уходят одни поколения и им на смену появляются другие… Конечно, без покровительства богов тут не обошлось. Правильно ли выступить против Рима? Разве боги не могущественны? Очевидно, было бы неверно идти против Рима. По-видимому, границы этой империи определены вечностью.
Никто не осмеливался взглянуть на Аттилу — ни Чанат, ни Орест. Никто.
От голоса кагана мороз пробрал по коже.
— Тогда давайте падем на колени перед Римом! Давайте удовольствуемся своими разрешенными каспийскими пастбищами. Может, весной мы совершим одно или два нападения, словно мыши, на северные границы Персии, государства Сасанидов, желая напомнить, что когда-то и мы были воинами. Эти правители из династии Сасанидов взбираются на троны с золотых стульчиков и сидят там, раскачивая своими божественными ножками в серебряных чашах, наполненных розовой водой, охлаждаемой пригоршнями снега, приносимыми бесчисленным количеством рабов с гор Загр. Как ужасны они, эти властители из Сасанидов, и как же верно, что мы должны их бояться! И после ничтожных вылазок нам снова следует рассеяться по бескрайним просторам. Ведь у многих кочевников держаться сообща считается плохим знаком. Предполагалось, что странствующие гунны будут жить в разрозненных на большой территории юртах и уж никак не станут строить честолюбивых замыслов и великих планов покорения племен! Когда гунны собираются вместе, это похоже на стаю воронов у зимнего моря. Это предвещает приближение бури, не так ли?
Воины вряд ли нашлись, что ответить. Один или двое осторожно кивнули в знак согласия с верховным вождем. Остальные что-то забормотали между собой, обсуждая неясные вопросы, вежливо обращаясь к старейшинам и кивая в знак согласия. Многие начали соглашаться: вероятно, сейчас не оставалось иного выхода, как пойти разными путями, в глубине души радуясь чудесному обнаружению меча Саваша и этому недавно образованному союзу между племенами и всеми родственниками гуннов.
Внезапно Аттила вскочил на ноги, зажав в могучей руке меч Саваша, и кинул его, словно кинжал, в пыльную землю.
— Вот что я думаю о вашей мудрости! — громко закричал каган.
Не только пара слушателей вжалась в стул от страха. Замерла толпа позади. Казалось, даже небо стало темнее.
— Я говорю вам, это предвещает приближение бури! Такой, какой мир еще не видел. Бури с востока. — Аттила развел руки в разные стороны. — Мы, гунны, в жилах которых течет одна кровь, собратья по оружию, мы — эта буря. Вы говорите, что нас слишком много? Я же отвечаю: нет, нас достаточно. Вы говорите: поедем на юг. Я отвечаю: нет, отправимся на запад, устроимся в Хунгваре, где наши лошади паслись в прекрасные времена кагана Ульдина. Но не в качестве союзников Рима. Не на этот раз. В качестве врагов.
Аттила повернулся к Чанату:
— Ты когда-то бывал в империи. Ты пошел туда, в императорский двор в Равенне.
Чанат стал вспоминать ту долгую дорогу в Равенну. Его лицо исказила гримаса.
— Я помню Равенну. Там плохо пахло, словно во рве в лагере, куда уже давно не падало ни капли дождя.
— И сейчас мне говорят, что этот гнилой вонючий имперский труп по-прежнему властвует над Хунгваром? Ты, старый Куридач, которого я считал мудрым человеком, утверждаешь: Рим правит всей землей? Кто дал ему это право? Кто разрешил подобный сюзеренитет?
Ярость накипала, и стоявшие поближе к Аттиле чувствовали ее так же, как видели над собой темное, мрачное небо, готовое разорваться на мелкие кусочки.
— Кто определил границы этой хваленой империи, которую вы так панически боитесь? Тот, кто сотворил землю? Он определил, границы, как заявляют высокомерные и нечестивые римляне? Нет!
Большой кулак Аттилы с таким грохотом опустился на крышку ящика, что все подумали, как бы тот не раскололся из-за удара этого молота. Голос стал оглушительно громким, и казалось, даже стены палаток вокруг совета задрожали от ярости невероятной силы. Уши закладывало, словно гром и тьма взывали откуда-то из недр. Воины слушали, охваченные благоговейным страхом, вжавшись в сиденья. Толпа сзади стояла, будто завороженная. Аттила ходил между гуннами, бросая пронзительные взгляды, проникающие до самых глубин их трепещущих сердец. Объятый гневом и обладающий огромной силой, каган походил на льва, вырвавшегося из клетки. Словно кто-то подкинул факел в гигантский костер в центре круга, а теперь вспыхнуло пламя, которое грозило всех обжечь, а потом поглотить полностью.
— Кто постановил, что народ гуннов не должен бродить по земле, как им хочется? Кто запретил странствовать? Кто определил границы, где нам можно пасти лошадей? Кто поставил преграды? Тот, кто сотворил землю? Нет!
И снова могучий кулак с грохотом опустился на крышку ящика.
— Астур, прародитель всего сущего, создавший землю, дал ее нам и остальным людям, одинаковым между собой, равным под справедливым и сотворенным богом солнцем, поскольку он наделил нас душой, вдохнул жизнь, научил дышать и подарил свободу, чтобы мы могли странствовать всю жизнь по бескрайним равнинам. Астур не устанавливал никаких преград! Он не издавал ничтожных законов, не велел платить дань, не строил переправ через реку, платных дорог, не утверждал пошлины или налоги для ленивых бездельников в безукоризненно-белых одеждах, устроившихся в прекрасных дворцах. Астур сделал нас свободными, как и всех остальных людей. Он не придумывал никаких цепей для нас — своих детей. Не восторгался безжизненными римскими законами, спорами сенаторов и жалкими придворными указами. Я видел этих римлян собственными глазами и хочу, чтобы и вы это запомнили. Моему ясному и четкому детскому взору представали презренные пигмеи того города. Я чувствовал тошнотворный запах зловонных улиц. Как вы смеете смешивать помпезные объявления в римских придворных судах, бумажные законопроекты и налоговые сборы с волей бессмертных богов! Как вы смеете?! Я видел их сундуки и то, как дают взятки золотом, братья мои!
Аттила изо всех сил пнул ящик ногой. Железная крышка открылась, и все заметили, что он полон тускло поблескивавших монет. Аттила бросил пронзительный взгляд на Бледу, и тот отвернулся.
— Вот где их сила!
Каган снова захлопнул крышку.
— Я знаю все, все! Продажность Руги, заговор с убийством Мундзука, моего отца, это вы знаете. Вы все знаете! И я тоже знаю правду. Вы можете не признавать вину, но тогда забудьте о ней! Вы думаете: разве я не ненавижу свой народ? Не презираю за трусость и бездеятельность? Где те славные битвы и триумфальные победы гуннов за последние три десятка лет, когда я был в долгом и мучительном изгнании, трудясь и страдая в пустыне? Но нет, я не презираю их. Я люблю свой народ, как каган должен его любить, если он решительно встал во главе государства. И я прославлю людей, ведь они достойны этого. Они — дикие всадники равнин, которые нападут на Рим, словно волки на овчарню.
Голос его стал еще громче и сильнее. Раскатистый гром эхом отдавался в голове у каждого воина. Внезапно Аттила сделал шаг вперед, схватил одной крепкой рукой старого Куридача за горло и встряхнул его. Остальные были поражены, но, беспомощные, не двинулись с мест. Даже если бы каган свернул шею вождю и сорвал тому голову с плеч, и тогда (казалось, что неистовствующий безумец способен на это) никто бы не пошевелился. Он прежде уже убивал людей голыми руками. Теперь Аттила тряс Куридача, словно кучу тряпок, словно старую шкуру, покуда лилась речь безудержным потоком. А потом бросил на стул и отвернулся, по-прежнему непрерывно воодушевляя всех своими мрачными словами. Не убеждая умными высказываниями, а покоряя точными риторическими замечаниями, с почти священным гневом при виде их глупости, малодушии и невежественности.
Соглашались ли гунны с Аттилой в уме, но на сердце становилось светло и радостно после призывов верховного вождя. Они подчинятся требованиям своего полководца. И не смогут сделать ничего иного, как последовать за этим неукротимым человеком, беспомощные, как пшеничные плевелы, увлекаемые порывами ветра.
Аттила отпустил задыхающегося Куридача и отвернулся.
— Не бормочи мне тут, старый Куридач из некогда гордых гефалистских гуннов, что Астур, прародитель всего сущего, объявил и утвердил власть Рима или постановил этому городу определять судьбу мира с самого начала. Астур не предлагал нам подчиняться жалким законам, написанным римлянами, или копить золото вместо нашей собственной славы. Тогда кто же? Что это за сила, которой вы так боитесь, запрещающая пасти лошадей на европейской равнине, где животные уже давным-давно кормились многие зимы, как и во времена моего деда, кагана Ульдина? Я расскажу вам об этой силе. Я жил под ее тенью, когда был беспомощным ребенком, подсматривал и наблюдал за ней глазами своих лазутчиков с тех пор, как вернулся. Сила, которой вы боитесь, — плаксивый кукольный император по имени Валентиниан, слабоумное дитя инцеста и вина. Это его мать Галла Плацидия — холодное зеленоглазое чудовище с сосульками вместо сосков. Вот что вскормило того сына-шута. Я зарежу Валентиниана, словно больную овцу, сделав это на глазах у матери. Эта императорская семья — мое несчастье. Они охотились за мной по всей Италии, будто звери, они убили отца. Проклинаю их навеки! Уничтожу всех и навсегда сотру с лица земли этот род. Он поплатится своей кровью и жизнью. Вы, гуннские князья, трепещущие перед Валентинианом, как вы смеете бояться его?! Его и вооруженных воинов, ползающих, словно улитки, на поле боя и выстраивающихся, будто стадо животных! Кто такие эти римляне, чтобы указывать нам, где можно пасти лошадей и разбивать лагерь? Вы говорите о римском императоре так, словно он был самим Астуром. Богохульство!
Кулак снова с грохотом опустился на ящик. Голос оказался таким пронзительным, что покраснели уши.
— Вы сидите, озадаченные, и размышляете словно старухи, для которых изданы римские законы и приказы. Кто основал этот город, будучи владыкой земли, облаченным в императорские пурпурные одеяния? При всей своей застенчивости вы предлагаете устроиться в Хунгваре, получив разрешение от Рима. И потом позволите империи диктовать свои правила и разрушать вас! Станете платить дань своими родственниками и кормильцами, ведь Рим подавляет и высасывает кровь изо всех подчиненных, при этом использует собранные налоги на содержание легионов, чтобы угнетать население еще больше! Разве этого никто не видит? Разве никто не понимает великой беды? И вы позволите надеть на свои шеи подобное ярмо? Налог на каждый шаг вашей лошади, обезглавливание каждой овцы в вашем стаде, плата за каждый глоток воздуха. Потому что таково указание и воля богов?! Богохульники! Это Астур и всевышние боги сотворили землю и сковали горные цепи, именно они определили границы земель, которые обогревает солнце, и наполнили бурные моря из земляных кораблей. Вы не слышали об этом? Разве вы не знаете, как поэты и шаманы часто рассказывали об этом ночью у костра. Или были вы слишком пьяны после кумыса, пропустив все мимо ушей?! Вы не поняли воли того, кто сотворил челюсти ирбиса? Того, кто отливал железные подковы боевого коня, кто смял в руке Пять Владык, кто привел нас в этот мир, сделанный из сгустка его собственной крови? Кто распростер небо над нашими головами, словно холст, кто изрыгает молнии, рокочет в громе, чьи слезы — это дождь, из-за которого над равнинами расстилается непроглядный туман. Кто зажег звезды, отделил от луны серебро и от солнца золото, кто своими крепкими руками вырывал жизнь из смертельных объятий Кызылкума?! Вы все их отлично знаете, мои вожди, те красные пески и пустыни. Я их все вам показал! Кто выковал цепи Тянь-Шаня, кто вдохнул огонь в опустошенный Такла-Макан и уничтожил там все живое, кто разодрал когтями землю и расколол ее на горные долины, кто смеялся при виде беснующегося льва в обезлюдевшей местности, кто ликовал во время панического бегства сайгаков, когда грохотали тысячи копыт? Кто создал бездонное озеро Байкал и населил его разными существами — огромными, безмолвными и с остекленевшим взглядом? Их ни один человек никогда не увидит воочию или даже в самом ужасном из ночных кошмаров. Все, все это сотворено на радость и для наслаждения бога, который гораздо больше, чем вы осмеливаетесь представить в своем жалком воображении. Вы думаете, римский император, этот рябой скулящий щенок, был выбран им и поэтому должен следить за нашей покорностью! Мы, сыновья Астура, прародителя всего сущего! Это богохульство — дрожать перед любым смертным, имея отцом — бога. Рискуйте, рискуйте… Радость Астура — не в тех, кто заковывает в цепи, наказывает и ограничивает, а в тех, кто рискует… Вы слышали голос бога в бое шаманского барабана, вы видели, как он превращает степи в лед мановением одной руки, а другой снова оживляет и украшает цветами весны. В его руках родились солнце и звезды, а заодно созвездия, темная ночь и светлый день. Извергал ли когда-либо римский император, в какие бы пышные одежды он не был облачен и сколько бы золота и рубинов не носил, молнии своими указами? Валентиниан может сосчитать песчинки на берегу? Взлетает ли орел по его велению, расправляет ли крылья ястреб, направляясь на юг? Он может управлять Плеядами и освободить Ориона от уз? Император — простой смертный. А вы осмеливаетесь сидеть тут передо мной и говорить, как боитесь его, словно бога. Вы так трепещете от страха перед человеком, что не опасаетесь Астура? Вы осуждаете действия нашего прародителя, не признаете его решений?! Богохульники! Император презирает городскую толпу, и во многих горах пасутся его лошади. Чернь не знает Валентиниана, поскольку сама захотела жить в маленьком ложном мирке, созданном человеком. Кто наделил стариков силой? Кто издалека чувствует начало битвы, слышит гул среди вождей и крики, доносящиеся из блестящих шеренг? Где вы были, когда Астур создавал железные когти, изогнутый желтый клюв и янтарные зрачки глаз орла, а потом вдохнул в него жизнь и велел навевать страх на всех птиц, парящих в облаках? Когда он делал быстрые ноги дикого осла, белые зубы волка, лапы медведя, клыки кабана, лопатки бизона? Вы заявляете о равенстве сил? Тогда как же глупо сравнивать себя с тем, кто вылепил все это в небесной печи до того, как вы появились на свет! Где же вы были тогда? Даже вашего младенческого крика еще никто не слышал! Астур сотворил тигра, первого из зверей, с крепкими костями и стальными мускулами. Кого вы можете сравнить с Астуром? Ответит ли он на ваши мольбы? Станет ли тихо шептать вам слова? И будет ли мягкой игрушкой для ваших дочерей, еще не вышедших замуж?
Аттила засмеялся, и хохот верховного вождя, разнесшийся далеко над головами многочисленных слушателей, заставил гуннов задрожать.
— Все, что есть под небесами, принадлежит Астуру. И он дал это всем людям, которые равны и одинаковы между собой. Ограничения и законы, указы и исключения, платные дороги и налоги, поборы и пошлины, обвинения и придворные постановления, торжественные объявления правителей, казначеев, евнухов, жалкие обманщики, владыки земли в пышных одеждах… Что здесь общего с волей вечных благородных богов? Вы — дураки! Эти приспособления и привычки человека, кажущиеся столь возвышенными и величественными, внушают невероятный благоговейный страх всем, кроме истинных бунтарей и сыновей господних, они вызывают лишь презрительный смех у Астура. Разве вы того не знали? А помпезные жесты, которыми императоры и правители указывают людям, что избраны богом… Разве вы не знаете их? Таковы скандальные шутки у господа. А этот меч? Принадлежал ли он богу?! Да?!
Внезапно Аттила вырвал меч из земли и бросил с лязгом в ящик, продемонстрировав полное презрение. Затем окинул все злобным взглядом, разъяренный, словно взбешенный бык на арене, призывая найти крупицы правды в спутанном клубке его насмешек и противоречий и понять причину гнева, который вылил на окружающих. Теперь мало кто верил в этот странно украшенный меч. Прежде всего, это был просто меч. Но тем больше гунны верили в своего полководца.
Некоторым даже казалось, что оглушительный голос, раздававшийся в совете и во всем лагере, огромном, но все-таки едва ли достаточном для Аттилы и его первобытной ярости, голос, требовавший ответа на вопрос: «Кто, кто?..» Некоторые подумали, что тот голос был голосом самого Астура. Гуннов объял невыразимый страх. Все слухи об Аттиле, являющемся скорее шаманом, нежели верховным вождем, а также колдуном и духом ведьмы, нежели обычным смертным из плоти и крови, вновь всплыли в памяти, наполнив души ужасом и в то же самое время — все нарастающей радостью. Дело было не только в силе слов, в голосе, в самом присутствии Аттилы, но и в скрытом намеке на некую причастность к тому, чего гунны боялись, не могли понять и лишь почитали.
С ним во главе войска никто не устоял бы…
Аттила понизил голос и сказал почти с грустью:
— Они забрали у тебя землю, мой народ. А с ней, видимо, и твои сердца. Но я отвоюю нашу землю, а с ней — и ваши необузданные сердца. Земля и все, что есть там, — дар божий, который не являлся предметом обладания еще до того, как появились римляне. И не великодушные и вечные боги предложили людям жаться в вонючих городах, прятаться за оборонительными стенами, издавать законы, придумывать ограничения и преграды. Боги даровали землю, чтобы она стала человеку домом. Дикие зеленые бескрайние неисчерпаемые просторы! Прекрасное небо над головой, посмотрите, безграничное вечное небо! Это Астур сделал его из сгустка своей собственной крови, а из чрева Великой Матери родились все живые существа. Она — желтая бабочка на березе, она — капля росы, сверкающая в первых лучах солнца, смотрите! Там! Вы все это знаете в глубине сердца. Зачем я надрываюсь, рассказывая известные вещи? Вот где источник силы в мире, вот где жизнь, а императоры и правители — что-то совсем другое. Мы отправимся на запад и разрушим стены и ограждения римлян, друзья мои. Такова наша судьба. Таково решение Астура. Я пообещал вам золото, славу, власть, и вы все это получите в огромном количестве. Приготовились — и вперед!
Аттила резко засмеялся, словно какой-то своей шутке.
— До сих пор вы ехали со мной, и у вас скоро появится вознаграждение. Пусть же путь, по которому мчатся гуннские всадники, станет всемирным. А что касается тех законников, сборщиков податей, сенаторов, потворствующих политиканствующих придворных и кровожадных интриганов-евнухов в благоухающих римских дворах, то пусть им перережут горло их собственные дети! А раздутые белые тела повесят на зубчатых стенах горящих городов. Даже чернь станет их презирать!
Часть третья
ХУНГВАР
Глава 1
Поход на восток
Аттила дал им три дня.
Даже за это время, когда гунны в спешке собирались, каган приказал воинам беспрестанно тренироваться и упражняться на равнине. Хотя бойцы с семьями, женщинами и детьми, по-видимому, очень устали после столь долгого путешествия по Скифии и столь короткого отдыха на Эвксинских лугах, но Аттила велел идти вперед и только вперед. И подгонял с таким усердием, что казалось, будто в душе верховного вождя разгорался костер, неиссякаемый жар которого передавался каждому вопреки его желанию.
На равнине на протяжении целой мили Аттила приказал мчаться во весь опор и заходить с фланга, разделившись на многочисленные отряды в шеренгах. Он заставлял пускать стрелу за стрелой, выбирая отдаленные цели в степи. А затем приказал играть в древние игры гуннов с особым азартом и жестокостью: воины мчались на бешеной скорости к крутому берегу реки, и победителем становился тот, кто останавливался последним. Многие тормозили слишком поздно и спотыкались, по-прежнему сидя верхом, о берег и падали прямо в реку, пролетев тридцать или сорок локтей. Несколько рук и ног были сломаны, и, по крайней мере, двух лошадей пришлось убить к великому горю их хозяев.
— Женщины приходят и уходят, — сказал Аттила, покачав печально головой, — но кони…
Была еще одна опасная прогулка, когда каждый воин обязывался проковылять по туго натянутому канату, подвешенному на высоте пары футов над землей, утыканной многими дюжинами ножей и кинжалов, торчавших блестящими лезвиями вверх.
И, конечно, не обошлось без безумной игры поло. Все выходили в степь, взяв копья и надутые свиные пузыри. Никогда еще прежде такое огромное количество человек, занявших разные стороны, не принимало участия в игре. Большинство же никогда даже не видело того объекта, к которому и прилагались все невероятные усилия.
Были неторопливые и спокойные игры на ловкость с кожаными хлыстами, сетями и арканами. Когда наступил праздный полдень, из лагеря прибежало много мальчиков, нетерпеливых и румяных. Позади следовали их отцы, направлявшиеся на охоту среди тростника на краю реки. Пятилетние и шестилетние дети были вооружены маленькими луками и выискивали небольших птичек и мышей. Аттила наблюдал, как они удалялись, и шутил с теми, кто стоял рядом, что и Бледа так ходил на охоту всего год или два назад.
Когда солнце стало опускаться за горизонт, начались военные игры, и тогда, ближе к вечеру второго дня, в сумерках Бледа получил ранение в спину, как в настоящей трагедии. Стрела прошла навылет через спину под левым плечом и проткнула сердце. Никто не мог сказать, из чьего лука она была выпущена. Жены Бледы, как и подобает, устроили плач. Его похоронили, быстро исполнив надлежащие ритуалы.
Позже тем вечером Орест услышал, как Маленькая Птичка поет на краю лагеря, держа маленький факел и размахивая им туда-сюда над головой, и, словно танцуя, делает неторопливые шажки в пыли. Грек продолжал молчать и старался не пропускать ни слова. Шаман прославлял великих братьев прошлого. Он пел о Каине и Авеле, а также о Ромуле и Реме. И каждый раз один брат убивал другого…
Орест подошел к Маленькой Птичке и тихо попросил не вопить слишком громко. Но шаман в своем замедленном легком трансе вряд ли слышал грека или обратил внимание на предупреждение. Он лишь пробормотал, что будет спето еще много песен прежде, чем его история подойдет к концу. Затем продолжил что-то шептать в ночи и не остановился, когда охваченный пламенем факел потух, а в небо поднялось серое облачко дыма.
В темноте шаманы бесновались, окруженные конопляным туманом в своих шатрах. Они танцевали и били в барабаны тонкими козлиными костями. Сухую землю покрывали лужи крови и расплавленный жир овец, приготовленных для жертвоприношения, вверх взмывали столбы пламени с костров и алтарей. Искры летели еще дальше, освещая темный горизонт. Путешественники издалека могли осмотреть окрестности. Любой одинокий путник, заметив издалека это зрелище в степи, содрогнулся бы. Услышав сей звук, он повернул бы назад и отправился домой другой дорогой.
Это был звук, который сопровождал гуннов, выступивших против всего мира.
Казалось, будто наступил первый осенний день, похожий на прошлогоднее пасмурное утро, когда воины наконец-то покинули лагерь. Небо было низким, в серых полосах, дул сильный ветер.
Баян-Казгар по-прежнему нес оружие, начищенное до блеска одной из женщин, когда приблизился Аттила.
— Этот Рим далеко? — громко спросил воевода. — Сколько дней верхом?
— Дней? — повторил язвительно Аттила. — Недели. Много недель безостановочной езды на запад, далеко от твоей любимой родины. А потом долго будут идти войны, и придется пережить такие опасности, о которых я даже рассказать тебе не могу.
— Из вас плохой счетовод, — заворчал Баян-Казгар.
— Зато честный, — ответил Аттила, пришпоривая коня.
* * *
Гунны убрали колышки, сняли палатки, сложили главные опорные шесты, замотали пропахшие дымом черные войлочные стены в рулоны, связав сырой кожей, а потом разместили их в тележках. Они согнали в одно стадо овец, лошадей и другой крупный рогатый скот и начали двигаться неорганизованной колонной на запад в тот же день. Рядом ехали гуртовщики на повозках, которые, грохоча на расстоянии пятидесяти локтей друг от друга, везли массу солонины, связки палаточной ткани. В иных телегах было по десять тысяч стрел. Они походили на корабли, плывущие по суше — с холщовыми бортами, развевающимися словно паруса. Огромные колесные валы скрипели, гигантские деревянные колеса стонали, будто животные, которых силком тянули работать. Когда становище опустело, Аттила приказал сжечь каганский дворец, и никто не знал, почему. Он все еще горел — там, вдалеке, низко над горизонтом, этот странный второй закат, пока гунны не исчезли на западе, добровольно сдавшись на милость солнцу.
Так началась великая миграция огромного нового народа — объединенных гуннских племен при единоличном правлении Аттилы. Они миновали опустошенные бурей скифские равнины, перешли вброд широкие стремительные реки. Над головами тянулись бесконечные осенние облака. Через много недель гунны пришли к горам Харвад, которые готы называют Харвача, а римляне — Карпатами. Когда выпал первый снег, обрывистые мрачные скалистые расселины остались позади. Гуртовщики и пастухи уже горько жаловались, что сейчас слишком неподходящее время года для столь длительного путешествия в подобной местности, пора уже остановиться и найти зимнее пастбище к востоку от гор. Но Аттила и некоторые из избранных, прошедших весь путь легендарного объединения племен от начата до конца и повидавших еще большие холмы, чем эти, лишь улыбнулись. Им довелось пережить кое-что похуже.
И Аттила вел дальше, не делая снисхождений. Ни минутки покоя другим не давала его неиссякаемая, неустанная, мстительная энергия.
Скот спотыкался и падал на обочине. Тогда животных или стегали хлыстом и снова ставили на ноги, или оставляли там. Огромная колонна мужчин и женщин, детей и зверей, скрипящих телег и сидящих на конях всадников двигалась по
ущельям под мягкими хлопьями снега, завернувшись и закрыв голову шерстяными одеялами и храня зловещее молчание. Любое оступившееся животное или скатившуюся вниз тележку тут же покрывало толстым белым слоем. Перевалы позади были усеяны кучами тел погибших, походивших на темные глыбы. Мягкие хлопья падали и таяли на их еще теплых конечностях.
Глава 2
Ребенок-дурачок
Наконец гунны спустились на широкое плоскогорье Транспаннонии. Они подожгли все затерянные застроенные деревушки, которые попались на пути, уведя рыдающих жителей равнин туда, где бушевали снежные ураганы. Но большинство уже скрылось на западе, прослышав о приближении одетых в меха варваров, спускающихся прямо с грозных гор Харвад, где обитали ведьмы и оборотни, прятавшиеся в тумане и метели в течение полугода.
Воины продолжили путь на запад по следам беженцев, разоряя поселения и расчищая всю равнину Хунгвара, снова называя ее по-своему — «Земля Гуннов», «Родной Дом». Сжигали жалкие тростниковые лачуги, выгоняя сбитых с толку и испуганных сарматов или остготов из теплых насиженных мест на улицу пронизывающей зимней ночью. Несчастные выбегали полуодетыми, держа младенцев на руках. Никто не сопротивлялся.
Однажды на рассвете, когда немного подмораживало, гунны вернулись после очередной вылазки и увидели посреди пепла сожженной деревушки ребенка-дурачка, сидевшего там возле еще дымящихся головешек и пытавшегося согреться. Он был совершенно голым и, очевидно, не осознавал своего положения. Вероятно, ему было пять или шесть лет. Голова казалась слишком большой для тела и неправильно сформированной. Лицо покрывали какие-то выделения и сопли, но, видимо, не слезы. На верхнюю губу, всю в чешуйках, прилипла корка из высохшей слизи, а нижнее веко одного глаза раздулось из-за какой-то инфекции. На болячки на теле и на лице больно было смотреть. Ребенок, покрытый слоем серой пыли, дрожал среди пепла, словно его привязали, будто козла отпущения, походя на маленького раскаивавшегося блудника или просителя, страданиями искупающего грехи всего мира.
Если бы доброта людей измерялась тем, как они обращаются с больными, калеками и сумасшедшими, то эта деревня считалась бы доброй. Жители не выбрасывали младенцев с неправильно сформированными конечностями в одну мусорную кучу, как делали римляне с тем, что называли «коприос» (ребенок-урод, спрятанный в старом кувшине для вина и похороненный в навозе). Или как спартанцы поступали с нежеланными детьми и выкидышами. Своих болезненных и слабеньких младенцев они сваливали в ров возле дороги в Мессению под названием Апотета — «Мусорная Куча». Там их и оставляли умирать — в пропасти среди груды маленьких костей. Несчастные, щурясь и рассматривая небо, постепенно погибали от жажды и невероятных болей, которые начались с момента рождения и не прекращались до невинной смерти. Ни разу за короткую и трудную жизнь тем детям никто не улыбнулся, не приласкал их и не обогрел.
Что за мир создали боги, в котором происходят такие вещи?
У гуннов, по крайней мере, было принято подобного ребенка-дурачка быстро и милосердно убивать. Один из воинов уже начал готовиться к этому, натягивая тетиву, чтобы застрелить жалкое создание, словно больного ягненка. Но вдруг кто-то сзади выхватил стрелу. Это оказалась ведьма Энхтуйя. К всеобщему удивлению, она забрала дитя, посадила на лошадь и села рядом сама. Гунны подождали немного, желая знать, поползут ли змеи на пепельно-серое тельце ребенка, но ведьма не пустила их. Воины обменялись взглядами, словно говоря друг другу, что, наверно, доброта скрывалась где-то в глубине высохшего сердца Энхтуйи, затем повернули обратно в лагерь.
Ведьма стала играть с ребенком. Она все время проводила с несчастным и использовала свои обширные знания из области лечения травами и магии, и вскоре болячки затянулись. Энхтуйя побрила малышу череп и нарисовала там двух змей в клубке темно-синими чернилами. Ребенок не видел, но, кажется, очень гордился новым украшением.
Конечно, ведьма не могла исправить все. Голова была слишком большой и тяжелой для маленьких покатых плеч и иногда падала, когда малыш уставал. Живот так и оставался вздутым. Ребенок не говорил, и одна сторона лица все время была искажена, словно ее разрезали изнутри. Но другой стороной лица, когда Энхтуйя веселилась и играла, он улыбался. И даже смеялся, издавая странное икающее хихиканье.
Однажды утром Орест спустился к тихим берегам реки Тисы, когда шел мелкий серый дождик, хотя казалось, что день будет ясным. Среди тростника, внизу по течению, грек увидел ведьму и ребенка-дурачка. Он остановился и по привычке стал наблюдать.
Энхтуйя купала малыша в теплых водах, одновременно по привычке играя и дразня. Ребенок смеялся. Ему нравилось играть. Ведьма вошла в реку сначала по голень, потом по колено и повела за собой ребенка. Он капризничал, поскольку становилось все глубже и глубже, но Энхтуйя улыбнулась и что-то крикнула, желая подбодрить. Ребенок снова доверчиво засмеялся.
Орест хотел повернуться и идти опять в лагерь. Но непонятное чувство не давало покоя. Происходило нечто, что греку не нравилось. Хотя, очевидно, это не имело к нему отношения, Орест остался и продолжал наблюдать, не сводя глаз.
Теперь Энхтуйя взяла руки ребенка своими длинными и тонкими руками и подняла вверх. Она была гораздо сильнее, чем можно было подумать по худощавому телосложению. Ребенок закричал от восторга и забарахтался. Ведьма сделала еще шаг в реку, вода сейчас стала доходить до бедер. Она начала раскачивать малыша вперед-назад, отчего образовывались круги все шире и шире. Орест глянул вниз, словно пристыженный, потом снова наверх. Ребенок закричал и ударил ногой по воде. Энхтуйя сильно качнула его в последний раз.
А затем ведьма отпустила и бросила назад. Раздался громкий всплеск, когда малыш опустился далеко где-то в середине реки, его огромная голова виднелась среди небольших волн, и смех застрял в горле.
Орест не мог пошевелиться.
Ребенка тут же подхватило стремительное течение. Он отчаянно кричал, поднимая руки, время от время всплывая и снова уходя под воду. Малыш не играл и не смеялся, он тонул. Орест смотрел с неподдельным ужасом. В голову пришла мысль об истерической антипатии Маленькой Птички по отношению к этой женщине, этому созданию. Мрачные предчувствия наполнили душу.
Энхтуйя тоже наблюдала за ребенком и смеялась при виде того, как несчастного относило течением. Она выпрямилась, подставив лицо лучам восходящего солнца, и положила длинные темные руки на грудь и шею. Затем нежно погладила горло и свою худую физиономию землистого цвета, смотря на ребенка, тонущего рядом. И ее жуткие бледно-голубые глаза расширились от восторга и увлажнились от удовольствия.
Малыш скрылся под водой. Утонул. Жертвоприношение речному богу было совершено. Ведьма спасла ребенка, приласкала, позаботилась и сделала чем-то полезным, но затем устала от него, отдала речному богу и получила огромное наслаждение, наблюдая за гибелью. Энхтуйя почти задыхалась от удовольствия, вслушиваясь в последние крики малыша. Плоская грудь вздымалась, ведьма делала глубокие вдохи, раскрыв рот и сомкнув глаза.
Ребенок тоже задыхался. Легкие наполнялись водой. Несчастный со всей силы молотил руками и ничего не понимал. Большая голова исчезала из виду, губы были сжаты, и на поверхности появлялись пузыри. Маленькое деформированное тельце уходило под воду, под чистую прозрачную воду, поднимаясь и снова скрываясь в реке. Течение тащило его по каменистому дну через тростники с острыми верхушками, илистому, изумрудно-зеленого цвета, пока ребенок наконец не перестал барахтаться и не замер.
Вдруг сзади послышался всплеск, и по воде пошли круги. Фыркающий малыш неожиданно оказался возле берега, зашлепал руками и пополз по тине, словно некая примитивная амфибия.
На мгновение удивившись, Энхтуйя покачала головой. Речной бог отверг ее жертвоприношение, посчитав недостойным. Затем ведьма подошла к ребенку и поставила на ноги. Малыш громко, во весь голос, заплакал, а Энхтуйя засмеялась, убрала воду с его обнаженного тела краем ладони и нежно, словно мать, прочистила нос от слизи кончиком платья. Затем она взяла уродливую ручку в свою и повела несчастного обратно в лагерь.
Орест оглянулся на суровую и безразличную реку, которая только что играла с ребенком, а потом выбросила на сушу. Сегодня бог решил не убивать. Энхтуйя не противилась приказам реки или земли. Но грек чувствовал, как нечто появляется на поверхности воды — холодное, словно вечерний туман. День был теплым и, как казалось, ясным. Но там, посреди высокого тростника и камыша, Орест, этот непроницаемый, невозмутимый человек, дрожал всем телом, будто увидел такое, чего лучше бы не видеть.
Позже тем же утром, если бы кто-нибудь наблюдал, то заметил бы, как Орест решительно направляется к шатру Аттилы. Через несколько минут оттуда донесся голос разгневанного кагана, а потом верный спутник вылез наружу и пошел прочь. Его губы побелели от ярости.
Позже можно было бы увидеть, как Орест и Маленькая Птичка что-то обсуждали вдвоем около лошадей. Спустя некоторое время они замолчали, опустив головы, словно в великой печали.
* * *
Аттила приказал построить другой деревянный дворец для себя и каганской семьи, и гунны не покладая рук трудились в течение многих дней, желая побыстрее закончить возведение нового жилища.
Маленькая Птичка становился все более и более высокомерным. Однажды вечером у костра, когда каган сидел рядом, он запел одну из сказок о Таркане — герое, о котором знали все поколения кочевого народа гуннов. По словам шамана, Таркан был человеком глуповатым и мудрым одновременно, как и многие цари и правители. Сначала он жил только в палатке. Но потом стал таким могущественным и так прославился, что Астур, его отец, сделал для сына дом из прочного дерева, с перемычками из чистейшего золота, со стенами, покрытыми слоновой костью, украшенными яшмой, халцедоном и различными редкими видами драгоценных камней. Великолепный дом, дворец, не уступающий ни одному, каким хвастались колонисты. Но Таркан, житель юрты, зажег внутри огонь, прямо в середине, и заснул рядом, выпив слишком много кумыса. Он проснулся, уже объятый пламенем! Герой выбежал наружу, крича и завывая, попав под дождь, поскользнувшись в грязи и забарахтавшись. Потом начал горько жаловаться и спрашивать Астура, почему тот выбрал для обитания такую смертельную ловушку. И Астур заговорил с небес: «Глупый герой, я подарил тебе самый замечательный дом, который бог когда-либо создавал для человека. Но, как и все гунны-кочевники, ты станешь странствовать. У тебя никогда не появится дома, ты всегда будешь обитать в шатре и пасти стада. Бродяга — вот ты кто на этой земле, который презирает крестьян и города и которого столь же презирают живущие в них люди».
Раздался еще один голос. Это был Аттила.
— И они будут твоими врагами, а ты станешь их врагом. И вечная война начнется между кочевниками и колонистами за каждую пядь земли, пока не разразится война на краю света.
Словно закончив свою партию в соревновании певцов, Аттила вскочил на ноги, отряхнул от пыли одежду и невозмутимо направился в новый величественный деревянный дворец. Вожди и избранные со смехом стали расходиться.
Но Маленькая Птичка не смеялся. Он сказал:
— И они примутся за змей.
А потом он тихо добавил — так тихо, что слышал только Орест:
— И принесут в жертву невинную кровь.
Глава 3
Карательная экспедиция
Стояла весна, когда новости достигли Рима и Константинополя. На границе у Дуная неугомонные варварские племена снова стали проявлять нетерпение. Теперь дикие скифы и гунны снова разбили лагерь на равнине Транспаннонии. Люди, которых они выгнали, бежали на запад в Германию или за реку в поисках убежища в приграничных городах Аквинк и Карнунт. Но лишь немногие рассказывали ужасные истории. Казалось, загадочные степные кочевники просто решили в этом году перезимовать на плодородных пастбищах возле Тисы. Особых причин для беспокойства не возникало. Они производили впечатление бесцельно блуждающих бродяг — словно листья, подхваченные осенним ветром. Оснований видеть какой-то великий план не было, поскольку те варвары просто не умели такие планы строить. Они жили, не руководствуясь здравым смыслом или законом, признавая лишь свои примитивные обычаи и соблюдая ужасные кровавые ритуалы.
Только один слушатель воспринял новости иначе — Галла Плацидия, находившаяся в Равенне. Она сказала, что, вероятно, план существует. Некий великий план, уже начавший осуществляться. Императрица поинтересовалась, по-прежнему ли верховным вождем гуннов являлся тот, кого зовут Аттила. Вестник этого не знал. Галла Плацидия дважды ударила его, но вестник по-прежнему не мог дать ответа. Галла сердито прошипела что-то о недостатке сообразительности и исчезла из комнаты.
Позже в тот день Валентиниан сидел в своих личных покоях и ел свежие белые трюфели из лесов Умбрии.
Его мать вошла без предупреждения. Позади, неся большой свиток на длинном деревянном шесте, следовал придворный писец, который родился в Пании, скромном и незаметном маленьком городке во Фракии. Сам писец, благодаря своей усердной и безупречной службе в течение многих лет, высоко поднялся по карьерной лестнице в Византии — так высоко, что его часто отправляли в Равенну, как сейчас. Кое-кто считал эти нередкие и кажущиеся порой ненужными назначения и передвижения туда-сюда между дворцами средством, с помощью которого Западная и Восточная империи следили друг за другом. А тот чиновник, который имел право проникать повсюду, точно являлся шпионом. Но писец всегда вежливо склонял голову, узнав о подобных нелепых догадках, и прибегал к самому надежному из друзей — молчанию.
Некоторое время он служил главным писцом в управлении Святой Щедрости, а также писцом в консистории, фиксирующим звания, после чего был назначен заместителем главного писца в консистории. Эта должность, справедливо заметим, открывала немало возможностей, но требовала ответственного отношения.
Но позвольте мне не хвастаться. Лишь то… О, как я желал, чтобы мои престарелые родители могли увидеть тот день, когда я вошел во дворец самой императрицы Галлы Плацидии! Как бы они гордились, как бы сияли от радости и кивали седыми головами, слушая рассказы сына о придворных делах и интригах во время редких визитов домой, в маленький городок Паний, где лучи солнца согревают зеленые оливковые склоны. Но этому не суждено сбыться: оба родителя уже безмятежно спали под тем зеленым склоном. А члены моей семьи, если бы они существовали, служили бы писцами, секретарями и управляющими императорского двора.
Благодаря своей известной всем надежности и сдержанности я оказался в то время в непосредственной близости от Галлы Плацидии. Без сомнения, это являлось великой привилегией, хотя и не всегда удобной. Часто приходилось спать ночью на правом боку, что являлось менее любимой позой. Это случилось с тех пор, как императрица несколько раз огрела меня по левой щеке, и теперь ее стало невозможно положить на соломенный тюфяк. Однако все соглашались: Галла Плацидия била своих подчиненных не так часто, как когда-то.
Сейчас она была старой женщиной, которой скоро исполнится шестьдесят лет. Хотя императрица старалась поддерживать царственную осанку и не опускать голову на плечи, она уже не могла не сутулиться, словно несла на своих хрупких плечах огромный вес. Кожа ее была очень бледной и чистой. Солнечные лучи не прикасались к ней в течение шести десятков лет. Но вокруг холодных зеленых глаз образовалось много мелких морщин, а узкие твердые губы казались еще тоньше, чем обычно. Прошли годы с тех пор, как муж в последний раз разделил с Галлой ложе, и она считала, что материнство не оправдало ожиданий. Да и у какой матери грудь могла бы вздыматься от радости при виде такой дочери, как Гонория, носящая нелепое имя, и такого сына, как император Валентиниан III? Сына, который, как говорили, не раз пытался отравить мать, оставив ее впоследствии рыгать и стонать в спальне. Они никогда не разговаривали друг с другом, только ссорились.
Валентиниан, родившийся в июле 419 года, в двадцать восьмой раз отмечал свой день рождения — по-прежнему без жены и детей. Он был очень худым, на руках и ногах почти отсутствовали мускулы. Однако появился маленький надутый живот, как у старухи. Лицо оставалось невыразительным и детским, с полными щеками и большими глазами. Когда Валентиниан волновался, то немного пускал слюни.
Но внешность глупого и заторможенного юнца была обманчивой. На самом деле Валентиниан отличался особой хитростью, жестокостью и беспринципностью. И тем более мрачные ходили слухи о его увлечении колдовством и черной магией, и о чудищах, которые обитали где-то глубоко в дворцовом подземелье и исполняли любые прихоти своего хозяина…
Император поспешно вынул правую руку из складок одежды и, закричав от негодования, вскочил на ноги. Золотая тарелка с трюфелями соскользнула с колен и, зазвенев, словно кимвал, упала на мраморный пол.
— Мама! — воскликнул он. — Сколько раз я говорил тебе…
Галла не обратила на сына никакого внимания и приказала мне развернуть свиток на большом дубовом столе. Я подчинился, и нашим взорам открылась великолепная карта любимой империи — древний холст цвета слоновой кости, весь разукрашенный прекрасными цветными чернилами.
Галла ткнула указательным пальцем куда-то за границу, в Транспаннонию. Затем показала дальше, на юг, через Дунай и остановилась в центре Иллирии и Моэзии.
— Неприятель нападет тут, в этом месте, — сказала она. — Между Сирмием и Виминацием, предположим. Кто тогда примет бой?
— Неприятель? — пробормотал Валентиниан. — Какой неприятель?
И снова мать не обратила внимания на сына.
— Чья это территория? Твоя — или императора Феодосия?
— Я, я… — замялся Валентиниан, уставившись на Галлу с открытым ртом. К своему стыду я заметил, как его правая рука прячется в складках длинного платья. Словно маленький мальчик, который, испугавшись, ищет место, где скрыть ее.
Я отвернул лицо в сторону. Ведь это Бог избрал второго правителя на земле, владыку западного христианского мира.
— Здесь! — резко воскликнула Галла, ткнув ногтем в карту.
Валентиниан посмотрел туда, куда она показывала. Глаза императора перебегали с места на место, ни на чем не задерживаясь.
— Сирмий — это, это… — замялся он. Валентиниан не мог сосредоточиться. То и дело мысли возвращались к трюфелям. Где они остались? Казалось, что один прилип к подошве сандалии. — Сирмий, очевидно, принадлежит мне. На месте слияния Дуная и… как она называется? Вечно забываю. Эта…
— Сава, — сказала Галла.
— Да? — император засмеялся, пронзительно захихикав, словно безумец. — Но тогда, значит… это немного… я имею в виду… немного непонятно… Этот Сингидун принадлежит им, да?
Галла Плацидия вопросительно посмотрела на меня.
— Сингидун находится в ведении претории Иллирийской, — подтвердил я. — И, следовательно, принадлежит вашему величеству.
— Да? — Валентиниан был похож на ребенка, который только что получил неожиданный подарок. — Признаюсь, прошло много времени с тех пор, как мы путешествовали по границам у Дуная.
— А территория, находящаяся к востоку от Сингидуна, у Виминация, и то, что за ней, принадлежит Феодосию? — спросила Галла. Императрица обращалась ко мне.
Я кивнул.
— Виминаций, по крайней мере, хорошо укреплен, не правда ли?
— А разве в этом есть необходимость? Зачем? — поинтересовался Валентиниан. Он снова выглядел рассерженным. — Зачем Виминаций должен быть укреплен?
Рискуя головой, я проигнорировал императора и ответил Галле Плацидии. Слова недавнего доклада, сделанного писцом в Виминации, прочно врезались мне в память. «Недостаток запасов… Нет выплат в течение многих месяцев… Последовавшее сокращение населения… Побеги… Трудовые издержки и нехватка подходящих материалов… Разложение флота на Дунае… Плохое сообщение с Аквинком… Стены обветшали… Очень плохое состояние ворот… Мост необходимо полностью обновить… Берега рек осыпаются, что приводит к опасному разрушению западных стен… Не лучше обстоят дела с Сирмием и Сингидуном, Аквинком и Карнунтом или с любой другой пограничной крепостью, которую вы пожелали упомянуть».
— Я полагаю, — произнес я осторожно и искренне, — что тот, кто захочет покорить Виминаций, все-таки будет вынужден вести длительную осаду.
Галла поняла. Не просто будет войску кочевников, хотя бы и многочисленному, захватить легендарную римскую крепость.
— А Седьмой все еще там?
Седьмой. Когда-то легендарный Легион VII «Claudia Pia Fidelis» — «Верный и преданный Клавдию». Как и все легионы, сейчас он превратился в свою тень. Горстка плохо вооруженных легионеров, которая, кажется, осела в мокрой и разрушающейся крепости на берегу реки. Они играли в кости, ссорились и пили дешевое вино. Они уже даже не были способны соблазнить местных девушек и шатались без денег в кошельках. Легионеров вряд ли насчитывалось более пятисот человек (вместо прежних пяти тысяч). Аэций сделал все, что смог, но этого оказалось недостаточно. Времени, денег, настойчивости всегда было недостаточно.
— Их уже не столько, сколько было раньше, — сказал я. — Но да, Седьмой все еще там.
Галла все прекрасно знала. Императрица составила списки Четырнадцатого легиона при Карнунте, Первого при Бригетионе, яростного Четвертого скифского при Сингидуне и Второго при Аквинке, а также флота на Дунае (его павших духом остатков).
Галла снова посмотрела на карту и указала на варварские земли за рекой — плодородные равнины между Дунаем и Тисой. На карте эта территория сохранила свое первоначальное наименование, которое произошло от названия некогда жившего там племени, и Валентиниан, вытянув шею, прочитал его вслух.
— Сарматские язиги, — медленно повторил император почти с нежностью. — Сарматские язиги… Мне нравится это название. — Затем он глянул на меня и улыбнулся такой улыбкой, о которой я могу сказать только как о глупой. — Как бы мне хотелось иметь друга по имени «сарматские язиги».
— Он прямо на границе, — огрызнулась Галла. — И не просто так. Причину, по которой он здесь, зовут Аттила.
Валентиниан посмотрел на мать.
— Я собрала нужную информацию, — твердо сказала императрица. — Аттила действительно является их верховным вождем. Брат Аттилы, Бледа, уже мертв. Он бы стал нашим союзником или, по крайней мере, федератом, сохраняющим нейтралитет. Аттила не станет нашим союзником. Он сделается нашим врагом. Вот почему Аттила пришел и разбил лагерь вместе со своей ордой… — Галла почти плевалась словами на пораженного сына, — у сарматских язигов. Он вскоре захватит реку, как раз там, где проходит граница между двумя империями, чтобы смутить нас и настроить друг против друга. Я знаю: Аттила — не дурак. Он невероятно хитрый человек. Аттила нападет тут, у Сингидуна, или где-то неподалеку. Мы будем сбиты с толку. Он помчится дальше, помчится во главе своего многотысячного войска всадников. Нам бы лучше подготовиться к этому, — Галла почти дрожала, едва сдерживая ярость, взглянув в моргающие глаза сына, — ваше величество.
Внезапно Валентиниан взорвался. Существовала опасность. Он не понимал, он был озадачен и испуган. Через мгновение император даже стал семенить по кругу, а когда заговорил… Скорее, Валентиан кричал, а не говорил.
— Почему? Ну почему? Почему они хотят напасть на меня? Кто они? Чего они хотят?
Затем император рассвирепел и стал командовать. Жалкий страх превратился в агрессивность, а потом сменился жестокостью, как часто бывает с трусами:
— Мы нападем на них! Мы выступим против них! Посмотрим, как им это понравится!
Валентиниан попытался выпрямиться, прикоснулся кончиками пальцев к пурпурной одежде и принял важную позу.
— Да как они осмеливаются нападать на наше императорское величество или вторгаться на нашу суверенную территорию?!
— Нам нужно вызвать стратега Аэция, — сказала Галла Плацидия, пытаясь сохранять спокойствие. — Неважно, какую обиду он нанес вашему императорскому величеству в прошлом. Аэцию по-прежнему верны легионы, и полководец знает Аттилу с детства. Он был заложником в лагере гуннов. Аэций и Аттила — ровесники. — Галла попыталась скрыть свою неприязнь. — Стратег даже немного говорит на языке варваров.
Валентиниан мрачно глянул на мать:
— Он представляет такую же угрозу, как любой из гуннов.
Галла покачала головой:
— Нет, он…
Валентиниана тут же охватил гнев:
— И ты противоречишь мне, женщина? Помни, кто ты! И кто — мы!
Галла закусила свою тонкую губу.
— Тот Аэций — одна неприятность! Он вечно позволял себе бесцеремонно обходиться со мной! — Валентиниан хлопнул рукой по карте. — Я не хочу, чтобы Аэций вернулся. Не хочу! — Император затопал ногами. Когда он снова пошел прочь, на мраморном полу остался лежать один белый раздавленный трюфель. — Где он сейчас? С готами? С теми огромными волосатыми хитрыми германцами, с которыми Аэций так легко находит общий язык и которые воняют луком и прогорклым маслом?
Валентиниан глянул куда-то между мной и императрицей, почему-то высунув язык и почти прикоснувшись кончиком к подбородку. Указательные пальцы торчали за макушкой, вероятно, изображая рога.
— Гм? Гм?
Я попытался сохранять спокойствие.
— Если точнее, при дворе Теодориха, ваше величество.
— Их нужно наказать! И гуннов тоже нужно наказать! Сначала гуннов. Их нужно предупредить — сделать предупредительный выстрел, например, пустить стрелу, летящую стрелу. — Валентиниан сейчас начал бормотать, ходя туда-сюда по комнате, дергая за пальцы левой руки пальцами правой и кусая губы. На секунду я испугался, что потечет слюна. — Мы не боимся, вот так! Карательная экспедиция, вот так! Эвтропий!
Из соседней передней прибежал управляющий. Оттуда, без сомнения, он слышал каждое слово. Этот человек распахнул свой золотой далматик, упал на колени к ногам императора и поцеловал край платья Валентиниана — край, заметим, был покрыт пятнами крови, с маленьким прилипшим спутанным комочком, похожим на клок человеческих волос.
— Отправь сообщение Четырнадцатому в Виминаций. Или это Седьмой? Ты говорил, Седьмой?
Я кивнул.
— Хорошо. Отправь сообщение Седьмому в Виминаций. Они должны собрать вооруженный отряд, когорту или еще что-нибудь, то есть то количество, без которого смогут обойтись, и организовать карательную экспедицию. Вот так!
— Против кого, мой господин?
— Против гуннов, болван! — Кулаки Валентиниана сжались и побелели. — Захватим в плен некоторых из них, вот так! Закуем их в цени — стариков, женщин, маленьких детей! Свяжем всех вместе веревками, словно дичь в рыночном загоне. Крепко-крепко!
Теперь слюна потекла.
— Мы должны показать, что не боимся! Мы устроим настоящие игры на арене, и гунны-заложники будут жестоко и беспощадно наказаны!
— Мой господин, — раздался позади голос.
Валентиниан повернулся, рассерженно взглянув на Галлу.
— Я полагаю, ты согласна с нашим планом, мама?
Худая грудь Галлы вздымалась:
— Мой господин, я умоляю вас обдумать…
Валентиниан поднял руку, желая ударить мать, задержал ее на расстоянии нескольких дюймов от щеки и пронзительно крикнул прямо в лицо:
— Вы становитесь надоедливой, мама! Мы император, не вы!
Галла не вздрогнула и ничего не ответила.
Валентиниан повернулся и стал орать на управляющего:
— Так, давай, принимайся за дело! Карательная экспедиция… Те ужасные варвары — на арене и в цепях! Крепко-крепко! Посмотрим, как им это понравится!..
Валентиниан посмотрел на императрицу и на меня в последний раз, надул щеки и издал странный, резкий, неприятный звук. Затем подобрал свои платья и поспешил в переднюю комнату.
Я осторожно стал убирать карту.
Когда я обернулся, императрица все еще стояла там, склонив голову и закрыв глаза. Ее маленькие белые кулаки были сжаты. Галла не шевелилась.
* * *
У нижнего плеса Тисы стояли кругом черные палатки, неподалеку от того места, где река впадала в Дунай. Этот круг оказался одним из многих, растянувшихся по равнине среди непроглядного дыма костров. Женщины что-то мешали в горшках или носили воду из реки в кожаных бурдюках. Круглоголовые и краснощекие дети играли в догонялки. Стоял холодный, но очень красивый день конца весны. Небо было бледно-голубым, солнце — ярким, и зеленая земля медленно оттаивала после сильных ночных заморозков.
Римская кавалерия, в рядах которой насчитывалось сто шестьдесят человек, появилась на западе. Отряд вышел из легендарной крепости Виминаций на рассвете. Воины увидели в отдалении становище и схватились за кривые мечи.
В сочной траве повсюду росли яркие весенние цветы.
Кто-то из детей увидел, что приближаются всадники. Девочка остановилась, посмотрела и прижала большой палец ко рту. Затем подняла другую руку и неуверенно помахала.
Всадники не ответили ей.
Затем донесся громкий звук двух медных сигнальных труб, и лошади понеслись во весь опор…
* * *
Дым, поднимавшийся от палаток, был виден издалека, и один из кутригурских вождей выехал вперед со своим отрядом. Когда они приблизились к тому месту, где когда-то жили люди, то обнаружили лишь пепел, головы на столбах и несколько отсеченных рук и ног.
Об этом тут же сообщили Аттиле во дворец. Верховный вождь сидел неподвижно и смотрел в огонь. Он не ответил ничего.
Позже тем вечером, когда большинство погрузилось в беспокойный сон и даже там продолжало мечтать о мести, неожиданно перед задумавшимся каганом появился Маленькая Птичка и сел, скрестив ноги. Лицо шамана было в слезах. Маленькая Птичка наполовину сказал, наполовину пропел:
— Песня Маленькой Птички, который говорит правду:
Вести расходятся, словно огонь на равнине,
Красно-багровые, словно костер на рассвете:
Всадники едут, оружье зловеще сверкает,
Едут они за рекою, средь юрт обгорелых,
Важные всадники, знатные сильные люди.
Всадники едут, и красным оружье мерцает…
Когда шаман замолчал, Аттила поднял голову, и их глаза встретились.
— Месть разойдется, словно огонь на равнине, — произнес Аттила. — Красно-багровая, словно костер на рассвете.
Глава 4
При дворе визиготов: игра в шахматы
Далеко на западе, в маленьком сводчатом внутреннем дворике, частично спрятанном под тенью бледно-зеленых листьев молодого виноградника, два человека играли в одну старую римскую настольную игру «латринкули» — в шахматы. Это происходило при дворе визиготов в Толосе, в солнечной Южной Галлии.
Как прекрасен был двор визиготов, когда правил великий, хотя и немолодой Теодорих! Какие пеаны слагали о нем! Казалось, все древние римские достоинства слились в одно целое, а современных пороков просто не существовало. Многие смотрели на новое королевство с чувством, похожим на тоску, или даже чего-то ждали, словно видели в государстве Теодориха и его шести великолепных сыновей («сыновей грома», как иногда их в шутку называли) будущее Европы, будущее галльских и варварских племен, христиан и римлян. Теодорих с сыновьями отличались храбростью, знали свою римскую историю и юриспруденцию, говорили на латыни и даже немного по-гречески, а также на языке готов. Они читали Виргилия и могли процитировать в случае необходимости, а их акцент заставил бы поморщиться разве что самого придирчивого латиниста.
Здесь, при дворе предполагаемых варваров, творил утонченный мыслитель Сидоний Апполинарий, епископ Клермонтский. Там не было тяжелого и обесцветившегося старого серебра, зато предпочитали и больше ценили общение. Изысканно готовили яства, хотя и недорогие, но и не хвастались ими. Молчаливые рабы наполняли кубки так, чтобы гости не чувствовали ни опьянения, ни жажды. Греческая утонченность, галльское изобилие, итальянская неугомонность… Чувство собственного достоинства в роскоши, любовь к дому, четкая система королевской власти — вот что такое двор Теодориха.
И был сам великий седовласый и седобородый старый Теодорих, король западных готов, сын Алариха, покорителя Рима, который сердито склонился над шахматной доской. Говорили, что когда Сидоний играл с ним в шахматы, то епископ всякий раз убеждался в своем проигрыше вспыльчивому королю. Но противоречивость Теодориха сейчас представала в ином свете. Рядом с ним находился человек худощавого телосложения с серыми глазами приблизительно пятидесяти лет, римлянин благородного происхождения и с древней родословной, ныне — гость при дворе визиготов в связи с некоторыми размолвками, возникшими между ним и императорской семьей, из-за зависти и опасной ситуации. Подробности произошедшего забавляли старого Теодориха больше, чем римлян.
Седой король готов добродушно огрел бы своего сероглазого гостя по спине и сказал бы, что его всегда ждут в Толосе в любой час и любое время года. Действительно, почему бы нет? Уходи с тонущего римского корабля ради своего же блага! Выбирайся, пока можешь!
Но римляне так себя не вели. Собеседника звали Гай Флавий Аэций. И он был настроен выиграть не только партию в шахматы.
Не то чтобы Аэцию не нравился этот грубый старый король. Часто угрюмый и до смешного ворчливый, Теодорих безупречно честно вершил правосудие в государстве, за что и пользовался уважением в народе. Несмотря на плотное телосложение и невероятную силу, которой обладал, король горько каждый день жаловался на приближающуюся старость и слабость. Это вызывало лишь косые и хмурые взгляды со стороны семьи, особенно раздражало его жену Амальфриду, которая достаточно хорошо знала мужа после сорока лет совместной жизни. Принимаясь за обед, Теодорих громко разглагольствовал перед тем, как вцепиться зубами в уже третье за вечер жаркое и осушить двенадцатый кубок прованского вина, при этом оставаясь абсолютно трезвым. Было сложно воспринимать серьезно его жалобы на угасающие силы. Улучив минутку во время вчерашнего обеда, Теодорих склонился к Аэцию, кивнул через стол на двух особенно привлекательных готских девушек, только что назначенных придворными дамами, и пробормотал:
— Странно, как это я остаюсь все тем же, а девушки молодеют и хорошеют с каждым годом!
Таким был король Теодорих — вспыльчивым, незлопамятным, крепким, сильным и немного глуховатым. Он был известен справедливостью, страстностью, некоторой сентиментальностью по пустякам — например, из-за раненых животных. Любитель охотничьих собак, лошадей и ручных ястребов, король горько жаловался на малейшую боль или насморк, но не провел ни дня в постели с тех пор, как ему исполнилось восемь лет. Тогда Теодорих сломал ногу, упав с пони во время галопа.
Аэций глубоко уважал и любил Теодориха, и иногда хотел, чтобы история была переписана заново. Но ты тот, кто ты есть, никто не в силах сменить свой род.
Побеждая в тот день короля готов в шахматы, Аэций рассказывал ему о ситуации в мире, о жестоком режиме, установленном вандалами в Северной Африке. Теодорих лишь что-то проворчал в ответ. Аэций рассказал о том, как глупый король вандалов Гензерих, попробовав вести военные действия с помощью флота, отплыл на корабле из столицы Карфагена (что за ирония!) и разграбил много островов Эгейского моря. Жители Закинфа подняли против него мятеж. Когда восстание было подавлено, Гензерих казнил всех мужчин, женщин и детей, а кучи голов свалил в море.
Теодорих глянул на гостя из-под седых густых бровей, но опять ничего не сказал.
Во время очередной игры в шахматы пришел вестник с двумя письмами для Аэция. Стратег взял первое и раскрыл его. Прочитав, Аэций сел и на некоторое время погрузился в раздумья.
— Плохие новости? — спросил Теодорих.
Аэций медленно кивнул.
— От человека, чье имя я почти забыл. — Он пошевелился и стал говорить более отрывисто. — От бритта по имени Луций.
— Красивое римское имя.
— Он был прекрасным римским воином. Хорошим человеком. Центурионом, как мне кажется. Он… Да, необычно об этом сейчас вспоминать. Он сопровождал мальчика Аттилу во время побега из Рима в далеком 410 году, а позднее отправился в путешествие в становище гуннов, чтобы найти и выкупить своего собственного сына. Невероятная история… Расскажу ее когда-нибудь.
— Что Луций хочет от тебя?
— Что все хотят от меня, за исключением самого Рима! — ответил Аэций. — Военной помощи. Которой сейчас я не могу предоставить. — Стратег еще раз просмотрел письмо. — Должно быть, ему пятьдесят — нет, больше. Отец хороших сыновей. Король маленького государства, как он сам с иронией говорит, на западе Британии, в Старой Думнонии. Но то, о чем Луций пишет, совсем не радует. Пикты продвигаются дальше и дальше на юг, а язычники-саксы становятся все наглее. На востоке Британии, по словам Луция, саксы, приглашенные наемниками и участвовавшие в некоторых войнах, уже осели и не уходят обратно. Луций не слишком оптимистично настроен.
Стратег покачал головой.
— Но я не могу помочь ему. Не могу!
— А что во втором письме? — спокойно спросил Теодорих.
Аэций раскрыл его и стал читать, потом засунул в складки одежды.
— Опять какие-то странные новости. Здесь тоже упоминаются гунны, а заодно встречается одно имя. Как неожиданно он опять появился! В письме из Рима…
— То есть?
— То есть гунны вернулись и разбили лагерь за Дунаем.
Теодорих резко взглянул на Аэция.
— Кто их король?
— Это он, — ответил стратег немного удивленным голосом. — Мальчик вернулся. Аттила. Вождь Аттила.
Аэций замолчал на время, затем произнес:
— Галла Плацидия радушно приглашает меня к себе. Она просит вернуться.
— А император?
Аэций ничего не ответил.
Какой-то незадачливый писарь выбрал именно этот момент, чтобы явиться к королю и попросить поставить печать на документ.
Теодорих повернулся к нему, объятый гневом:
— Прочь с глаз моих, раб-покойник!
Бедный писарь зашатался от крика, открыв рот.
— Посудомойка! Самый тупой из всей канцелярии! Давай, расскажи мне, сколько золота в моей сокровищнице! Что еще ты знаешь, кроме золота! Я бы посмотрел, как твой лоб покроется морщинами из-за настоящих неприятностей, а канцелярия прогнется от забот! Как тебе это понравится?!
Теодорих вернулся к игре в шахматы. Король быстро убрал одну из фигур и с такой силой ею ударил, что доска задрожала, и сдвинулось еще несколько пешек.
— Гунны, — громко произнес Теодорих. — Объединение. Я знаю, чего ты ищешь. Ты хочешь нового союза, чтобы мои воины выступили в защиту Рима. И тот бритт Луций — он тоже должен быть на твоей стороне.
Теодорих резко засмеялся.
— Я не против твоего похода в Британию и сражений с саксами ради его спасения! Мы все переживаем свои Последние Дни!
Аэций разглядывал доску.
— Но я далеко не молод, мой римский друг. Мои старые глаза слезятся и ничего не видят на солнце. И уши, увы, слышат хуже, чем когда-то. Хотя случается меньше всяких глупостей, чем раньше.
Теодорих пошевелился, выпрямившись на большом деревянном стуле.
— Но думаю, я еще держусь по-королевски, если учесть мой почтенный старый возраст, не так ли? Да? Да?! Хотя я уже просто мешок с костями, которые не разваливаются лишь благодаря этому королевскому кушаку.
Теодорих хлопнул по массивному золотому поясу с пряжками вокруг своего большого живота.
— Мешок со старыми кишками, наполненными медом. Туша!
Внезапно Теодорих повернулся на стуле.
— Чего ты разглядываешь мой трон, парень? — громко закричал он.
Аэций поднял голову. Второй сын короля, восемнадцатилетний Торисмонд, высокий и грациозный юноша, терпеливо ждал своей очереди, чтобы ответить.
— Пусть тебя одолеют адские боли из-за геморроя, если ты займешь это место прежде назначенного времени!
— Отец, я…
— Принеси мне горшок. Хочу помочиться.
Торисмонд покорно пошел прочь и через минуту вернулся с горшком.
Аэций посмотрел на кровли домов. В весеннем небе резвились стрижи, их пронзительные крики разносились над красными черепицами городских крыш.
Бедный писарь поспешно удалялся, скрывшись в тени колоннады, по-прежнему крепко сжимая неподписанный документ и надеясь пройти незамеченным, когда Теодорих повернул голову.
— Эй, бледная рожа! Возьми горшок. Эй, давай, забери его! Какой же ты дурак: боишься запачкать свои руки королевской мочой, хотя ежедневно твои ладони запятнаны чужим золотом.
Писарь, пятясь, отступил назад.
— Раб! — закричат вдогонку король. — Счетовод! Теперь полей дворцовые розы! Они будут источать сладчайший аромат!
Теодорих снова посмотрел на Аэция, потом сделал большой глоток из деревянной чашки и облизнул губы.
— Между готами и римлянами не может быть союза, мой старый друг! Прошлое не позволяет, оно насмехается над нами. Хотя дружбу между тобой и мной разрушит только смерть. Мы же оба христиане, разве не так? Хотя ты и называешь меня арианином и язычником…
Аэций покачал головой.
— Христиане… Я не богослов.
— Слушай, не хитри, я знаю — ты храбрее, чем те, кто скрывает убеждения. Они словно медведи, которые прячут свой навоз! Разве Сын равен Отцу? Разве мой сын равен мне?
Теодорих посмотрел на Торисмонда, терпеливо ожидающего неподалеку.
— Ты могущественнее, чем твой отец, парень?! — заорал король.
Юноша грациозно поклонился:
— Нет, господин мой.
— А я — да! — донесся звонкий девический голос. — И гораздо привлекательнее!
Мелькнуло белое платье, и из маленького дворика в облаке светлых волос показалась девушка и обвила руками шею отца, покрыв бесчисленными поцелуями смеющегося короля. Это была Амаласунта, единственная дочь Теодориха четырнадцати лет от роду, его любимица. Король души в ней не чаял. Как и шестеро старших братьев. Может, Амаласунта казалась немного испорченной, но никто из родственников этого не замечал. Избалованная, самовлюбленная, легкомысленная, она была очаровательной, живой и веселой девушкой. Когда-нибудь Амаласунта удачно выйдет замуж. Но горе постигнет того мужчину, который прежде осмелится посягнуть на ее честь или осквернить ее имя. Теодорих с
шестью сыновьями встанет на защиту любимой дочери.
На земле еще не родился мужчина, которого король не осыпал бы оскорблениями, когда ему хотелось. Но если рядом оказывалась женщина, Теодорих уже был менее уверен в себе. А со своей веселой юной дочкой он и вовсе терялся.
Аэций попытался скрыть улыбку.
— Чему ты смеешься, стратег? — игриво спросила Амаласунта. — Поделись с нами. Хорошо известно, какое у тебя отличное чувство юмора, ты всегда шутишь и смеешься, словно никакие заботы не отягощают твою душу.
— Да ничему, ничему, — серьезно ответил Аэций, подумав, что девушка начинает флиртовать.
Амаласунта отбросила назад свои длинные белокурые волосы и снова нежно поцеловала отца.
— Хорошо, — сказала она и легко зашагала по двору. Аэций не обернулся и не стал смотреть девушке вслед. Стратег знал: Амаласунта бросает взгляды через плечо, желая убедиться, что гость за ней наблюдает. Но Аэций уже был слишком стар и годился ей в отцы — даже в дедушки.
— Гм, — пробормотал нежно Теодорих, прижав руку к щеке. — Ну, теперь дальше.
Король сел и снова перешел в атаку.
— Этот Христос, Он был великим проповедником, этот блаженный. — Теодорих повернулся к Аэцию. — Но говорить, что Христос равнялся Эгиру и обладал той силой, которая приводит в движение глубины моря и которая повелевала вечностью на необъятных безмолвных просторах до того мгновения, как появилось время… Это глупо. Ни один человек не является богом.
Аэций хранил молчание.
— Христос сказал своим последователям, что не мир принес, но меч. Правильно! Мужик, не тряпка!
Теодорих прикоснулся рукой к эфесу убранного в ножны меча, лежавшего рядом на скамейке, даже хотя во дворце царила тишина и спокойствие. Это оружие король получил по наследству. На готском языке его называли «Тиларидс» — Атакующий. Таинственный меч украшали рунические узоры из серебра, которые были вычеканены на кованом железе.
— Тот Христос, Он сказал, что пришел, желая принести огонь на землю! Сжечь язычников и неверующих, а также проклятых гуннов, как мне кажется. Правильно! Тот Христос, Он был не бледным рабом, Он презирал все канцелярские дела, разве нет? Настоящий воин!
Аэций кашлянул.
— Существует толкование, которое я…
— И Его еврейские предки, конечно, являлись великими борцами. Как и мы. Мы, визиготы, степной народ готов. И я, Теодорих, сын Алариха, вел своих людей к победе в битвах, как и подобает истинному королю, разве нет? Не уподоблялся женщине и не кричал во время боя. А сражался с той по-прежнему непобедимой силой — Богом. Сейчас все мои подвиги в прошлом, осталась лишь эта бесконечная словесная баталия, непрекращающаяся борьба в глубине моего сердца с вечным и не сдающимся противником. Его я считаю достойным своего меча, о владыка-Бог! И я наконец-то отправлюсь вечером в постель победителем.
Теодорих склонил свою седую голову.
— О, мой римский друг, разве нужны еще сражения? «Воля богов нелегка, и лишь умножает печали. Плачу, любимая, я оттого, что война завершится едва ли…» Старый стишок, непреложная истина. Никогда я не уклонялся от своего долга сражаться, ни как мужчина, ни как король. Но сейчас… Должны ли мы выступить против гуннов, наших заклятых врагов? И в союзе с Римом? — Теодорих зарычал, словно медведь. В любую секунду он мог заорать. Однако король заговорил спокойно, задумчиво. — История против такого союза, друг Аэций. Ты знаешь, что я имею в виду. К гуннам Ульдина, а теперь этого Аттилы, кто бы он ни был, я не испытываю привязанности. Они бесстыдно гоняли нас по земле, с востока на запад, и мы скрывались, не зная, куда еще пойти. Где преклонить головы ночью, где разбить лагерь. Нас лишили оружия, мы были отчаявшимися и жалкими беженцами. Как мы можем противостоять им? Мы повсюду искали убежища, на нас стрелы летели градом. Любой человек сделал бы то же самое. Гунны были степными демонами. Издревле враждуют наши люди и эти степные демоны.
Теодорих погладил свою длинную седую бороду, в которой еще попадались желтые полоски.
— Но вражда с гуннами не обязательно означает дружбу с римлянами. Мой народ до сих пор помнит, как Рим обращался с ним, когда мы были нищими переселенцами, постыдно лишенными даже чести.
Аэций тихо ответил:
— Рим может поступить несправедливо. Ни один город или империя, ни одна цивилизация или народ не обладают совершенством. Даже доблестные визиготы.
Теодорих забормотал:
— Гунны сражались против готов, когда вождем был Атанарих. «Имб Вистлавуду, хирдум свордум» — в лесах у реки Вислы мы схватились за крепкие мечи. Тот печальный день по-прежнему жив в народных песнях. При свете луны гунны перешли Вислу и напали на наш фланг, словно волки. И много смелых всадников полегло в тот день.
Любовники и танцовщики вдавлены в грязь,
А смелые мужчины, фехтовальщики и всадники, где они сейчас?
Лишь гордо бродит старый нищий:
Ведь до распятия Христа за честь его считали предки
Прислуживать их матерям, отцам и детям.
Аэций терпеливо слушал. Конечно, он знал все подробности этой истории. Но такова была древняя традиция готов — повторять песенку снова и снова, пока она не станет священной. Кроме того, не хотелось уходить из солнечного дворика, из маленького, спокойного, уединенного местечка, хоть старый король и рассказывал о том, что не делало Риму чести. Ведь потом долго отдохнуть не удастся…
— Это случилось три поколения назад, — произнес Теодорих. — Атанарих и его люди бежали на юг, хотя и были храбрыми людьми, можешь не сомневаться.
— Я не сомневаюсь, — сказал Аэций. Стратег видел готов в бою.
— Они бежали на юг, через Карпаты к берегам Дуная, и попросили помощи у Рима. А тогдашний император Валент согласился ее оказать. Была проведена огромная подготовительная работа, чтобы многие тысячи наших людей могли пересечь территорию империи. Но потом римляне потребовали сложить мечи. Вмиг мы лишились оружия. Тогда римляне приказали платить дань. Те, у кого были владения на границе, и чиновники вашего жадного государства — как они любили золото!
Аэций посмотрел в глаза старого короля.
— Самые знатные воины из нашего народа, даже одетые в красные плащи визиготские волки-вожди, оказались в бедственном положении. Ими торговали, их пускали в обмен, словно быков. И по-прежнему визиготам не разрешали пересечь Дунай. С севера и востока прибывали все новые беженцы. Им предлагали продавать собак, собственных жен и детей. Говорили, делается это, чтобы оплатить проход в желанную империю. Люди умирали от голода. У них отбирали все. Желудки у детей, как у стариков и женщин, прилипали к позвоночнику. Торчали скулы. Из глаз лились слезы. Ты слышал такие крики? Хотя те несчастные и не принадлежали к твоему племени, однако они были людьми. Мужчины — такие же, как мужчины твоего народа, а дети голодали и страдали, как твои дети. Ты принял их? Нет. Ты смотрел через реку на тех жалких беженцев из-за темных стен своей укрепленной Европы. А ты видел лишь… что? Врагов? Демонов? Опасность? Опасность столь слабую, что она едва могла шевелить ногами. Какая же это опасность? Все люди будут братьями. Это одна старая готская поговорка. Именно этому учил Христос: «Будут братьями». Заметь, употребляется будущее время. Это молитва, а вероятно — пророчество. Но уж точно не описание того, что есть на самом деле.
Теодорих сделал глоток вина.
— Наконец, моих людей довели до отчаяния, и тогда началась война. Они снова схватились за мечи, вскочили на лошадей и бежали. Твой Рим послал карательную экспедицию против нас в Адрианополь в 378 году, чтобы наказать умирающих от голода и оскорбленных, которые осмелились поднять восстание против бесчеловечности. Наши полководцы, Алатей и Сафрак, командовали уставшими и изнуренными всадниками и копьеносцами. Но, несмотря на все ожидания, Рим в тот день был разрушен. Конечно, Христос сражался на стороне визиготов. Твоего императора, самого Валента, убили на поле боя, а лучшие части римской армии разгромила наша презренная и жалкая варварская кавалерия. И я не думаю, что римские легионы уже забыли об этом.
Аэций неожиданно наклонился вперед.
— Присоединяйся сейчас к нам, — произнес он низким, но настойчивым голосом. — Ты нужен Риму, ты нужен всему цивилизованному миру. Каким бы ни было прошлое, сейчас христианский мир нуждается в тебе, в твоем последнем королевстве на Западе, в волках-вождях в красных плащах с длинными ясеневыми копьями. Ты бы предпочел, чтобы победителями стали гунны вождя Аттилы? Или же Рим — христианский Рим?
— Сейчас, — прорычал Теодорих, — никто. Пусть готы остаются независимыми.
Аэцию не понравился такой ответ. Он вцепился в запястье короля стальной хваткой. Глаза стратега внезапно загорелись той страстью, которая похожа на тихое негаснущее пламя, спрятанное где-то глубоко внутри под холодной, замкнутой и строгой оболочкой. Теперь оно стало ослепительно-ярким, словно экваториальное солнце, появившееся из-за облака.
— Мой господин, — произнес Аэций настойчиво. — Я не льщу вам, вы прекрасно знаете. Но это будет не обычная стычка между римлянами и варварами, я уверен. Я ведь не раз видел Аттилу. Это тот мальчик, с которым я сражался и играл в лагере гуннов, когда еще давным-давно попал в заложники.
— Ах да, припоминаю. Непростая история.
Теодорих задумался.
— Странно. И теперь этот твой друг детства ведет вражескую армию к твоим границам.
— И более того, — сказал Аэций, — я прекрасно его знал. И знаю. Тридцать лет в изгнании, а вот теперь Аттила вернулся. Я знаю, как он ненавидит Рим и мечтает разрушить империю.
Теодорих покачал головой.
— Все это грустно и странно, словно какая-то старая баллада.
Аэций нетерпеливо оборвал раздумья Теодориха.
— Это не просто глава в длинной истории Рима. Это финал. Разве ты не видишь? От этой битвы, от этой войны зависит, выживет ли христианская цивилизация. Я говорю тебе правду. От нее зависит дальнейшее существование нашего общества и нашей империи. Скоро на нас обрушится вражеский гнев и мощь. И если мы проиграем, весь мир, включая королевство визиготов, включая все то, что мы знали и о чем заботились, канет в забвение. Настанет новый Темный Век.
Теодорих улыбнулся:
— Ты отличный оратор, нет сомнения. И я знаю тебя, как прекрасного полководца. Но нет, я не принесу в жертву своих молодых воинов, чтобы спасти старый Рим. Однако желаю тебе успеха. Я велю священникам и дьяконам молиться за тебя в соборе, а этот льстивый епископ Сидоний отслужит мессу. И если Риму или гуннам суждено победить, я молю, чтобы это был Рим. Не сомневайся в том.
С присущим ему пылким великодушием Теодорих схватил руку Аэция своей огромной лапой. Этот римлянин — не его враг.
— Брат, — произнес король задрожавшим голосом. — Возможно, когда-нибудь, если мы не отправимся с тобой в бой, ты выступишь на нашей стороне.
— Этого придется долго ждать, брат. Знаешь, я же римлянин.
— Знаю. Ты — болван.
В это мгновение от тени колоннады отделился и сделал шаг вперед почти забытый всеми юноша. Это был Торисмонд, второй сын Теодориха, которому шел девятнадцатый год.
— Мой господин, — произнес он хриплым от возбуждения голосом. — Отец…
Король повернулся.
— Отправьте меня. Отправьте Теодориха, старшего сына, и меня с отрядом. Позвольте мне выступить со стратегом Аэцием против гуннов.
Теодорих фыркнул:
— Я бы скорее послал щенков против зубра. Уходи прочь, мальчик.
— Мой господин, я умоляю вас…
Даже Аэций дрогнул от оглушительного голоса Теодориха.
Торисмонд исчез.
Аэций произнес:
— Ваши шесть сыновей, мой господин. Отличные парни!
— Щенки.
— Щенков можно хорошо выдрессировать.
Теодорих странно посмотрел на стратега.
* * *
Аэций выехал на рассвете, получив благословение старого короля. Его сопровождали два воина-гота на лошадях. В этой части империи опасности не существовало. Сонные, согретые солнцем дороги старой провинции сейчас казались самым безопасным местом на свете.
Ворота Толосы открылись, и три человека покинули город. Они проехали всего несколько сотен ярдов, когда услышали громкий звук труб с башен. Аэций и готы остановились и оглянулись назад.
Деревянные ворота медленно открылись. Вперед, на залитую солнцем дорогу, выступило великолепное войско — армия, в которой было не менее тысячи готских волков в длинных красных плащах. Ясеневые копья были у всадников, сидевших на лошадях. Знамена гордо реяли на ветру, кони грызли удила — белые племенные жеребцы в отличной форме и с блестящими гривами. Во главе этой величественной колонны стояли двое юношей — принцы Теодорих и Торимонд, «Сыновья Грома». У Аэция заколотилось сердце.
С вершины башни донесся громкий голос вслед удалявшимся всадникам:
— Идите на восток и разбейте гуннов! Благословляю вас, мальчики! И ради спасения моей старой души — уничтожьте их грешные кости!
* * *
Обратно в Рим ехали спокойно. Новостей по прибытии оказалось немало.
— Карательная экспедиция? — повторил Аэций.
— Точно!
Валентиниан был опьянен этой мыслью. Он широко улыбался вернувшемуся стратегу, совсем позабыв о прежнем недоверии. Ему даже не пришло в голову, кто мог вызвать Аэция, действуя за спиной и не повинуясь приказам. Император весело запрыгал по комнате и собственноручно наполнил стакан полководца розовым албанским вином.
Аэций не обратил внимания на предложенный кубок.
— Давно ли? — гневно спросил он. — Где императрица Галла Плацидия? Что ответил император Феодосий в Константинополе? Разве Транспаннония не подчиняется ему?
— Флим-флам и ла-ла-ла! — воскликнул Валентиниан. — Феодосий — император, но не воин, в отличие от нас! Так что наше дело — нанести сокрушительный удар. Короткий, резкий шок. Отсечь руки-ноги у всех людей!
— У всех?.. Ваше императорское величество, какой именно была эта карательная экспедиция? Сколько человек взято в плен?
— Сколько? Нисколько! Их казнили, как глупых повизгивающих щенков! Вот это их научит! Те варвары по-другому не поняли бы. Именно так они и поступают с остальными. — Валентиниан предостерегающе покачал указательным пальцем. — Око за око, стратег, зуб за зуб. Теперь мы долго о них ничего не услышим, я могу точно сказать!
— Мужчины, женщины, дети…
— Сброд, много сброда! Варвары, без закона и здравого смысла! Лук и прогорклое масло! О них нужно рассказать. Кому-то приходится быть жестоким, чтобы быть добрым. Превентивный удар, стратег Аэций.
Самоуверенность переполняла Валентиниана, его бледные щеки горели.
— Пара человек должна умереть, чтобы жили тысячи. Это в природе вещей, и особенно в природе военных действий. Своего рода жертвоприношение на Алтарь Мира!
Аэций попросил разрешения покинуть императора. Он шел, стиснув зубы.
Разрушен его замысел принять командование в Остии. Не суждено теперь осуществиться его великому желанию обновить средиземноморский флот на обветшалых верфях, а затем отплыть в Карфаген и отвоевать зерновые поля у вандалов. Все эти планы в одночасье сгорели, словно кто-то поднес к ним факел.
Вскоре где-то еще в нем будут нуждаться, в нем и его волках. Их ждут на совсем иной границе.
Эпилог
Переправа
В притоке Дуная, этой великой реки с вечно меняющимся цветом воды, ловил рыбу один мальчик. Сейчас Дунай был теплым, прозрачным и зеленым в лучах раннего летнего солнца. Мальчик рыбачил невнимательно. Река казалась невероятно прекрасной, природа — цветущей. Пасторальный пейзаж умиротворял. Мальчик опустил руку в чистую воду. В тростнике сидела на своем плавающем гнезде пеганка, согревая шесть ровных белых яиц. Конечно, скоро вылупятся птенцы. Мальчик подумал, удастся ли ему увидеть это. Сегодня рождалось все, все появлялось на свет. Самец пеганки нырял неподалеку в поисках рыбы. Из воды выпрыгивала форель, в воздухе порхали стрекозы, ярко-желтые и голубые бабочки. На рогозе сидела ослепительно-красная божья коровка, утки-широконоски гордо расхаживали по мелководью. Речные куницы спускались к реке, чтобы набрать грязи, потом стремительно мчались обратно. Они строили жилища под выступами скал. Бархатцы склоняли золотые головки на краю берега. Таков был умиротворяющий пейзаж.
Мальчик почти заснул, подставив лицо солнцу, когда мелькнул зимородок, сверкнув изумрудно-голубым оперением. Тогда юный рыбак поднял голову. И стал смотреть, открыв рот. Может быть, мальчик погрузился в дремоту — как бы ему хотелось этого! Однако он чувствовал рядом деревянные борта лодки. Это был не сон, все происходило наяву.
Мальчик стал искать весла и, охваченный паникой, сломал их. Мальчик захныкал, глотая воздух…
На расстоянии не более двухсот ярдов вверх по течению, уже перейдя великий Дунай, армия гуннов форсировала этот приток, намереваясь напасть на город Маргус. Количество воинов не поддавалось пересчету, а чтобы рассказать о них, не находилось подходящих слов.
Во главе ехал Аттила. Выражение его лица казалось каменным. Неподалеку следовала ведьма Энхтуйя. На кожаном ремне вокруг шеи висели две маленькие отсеченные руки, а возле седла болталась привязанная за волосы голова ребенка-дурачка с закрытыми глазами и открытым ртом.
* * *
— Господин, гунны переправились через Дунай. Они напали на Маргус.
— Очень хорошо, — Аэций кивнул и отвернулся.
Сейчас все было готово. Казалось, пора начинать.
Пришло Время Начала Конца.
Перечень основных географических наименований, которые встречаются в тексте. Их современные эквиваленты. Глоссарий
* Современные названия, которые являются лишь приблизительными эквивалентами (как правило, эти территории перестали существовать, как политические единицы)
Аквинк — Будапешт.*
Алтай — горы на востоке Монголии и в России, священные для гуннов и многих других народов.
Аральское море — озеро на границе современных Казахстана и Узбекистана.
Ариане — последователи александрийского пресвитера Ария, утверждавшего, что Иисус Христос — Сын Божий — лишь богоподобен, но не равен Отцу и не вечен. Это течение признано впоследствии ересью.
Борисфен — река Днепр на Украине.
Вандалы — народ германского происхождения, захвативший стратегически важные для Западной Римской империи провинции в Северной Африке. Впоследствии полностью разгромлены византийским стратегом Велизарием.
Византий, Константинополь — Стамбул.
Визиготы (вестготы) — народ германского происхождения, впоследствии переселились на Пиринейский полуостров.
Виминаций — Костолац (Сербия).
Джилян-Шань — горная цепь на севере Китае.
Джунгарская расселина — пролегает между Тянь-Шанем и Алтаем, находится между современными Казахстаном и Китаем.
Гиппон — Аннаба (Алжир).
Иллирия (префектура Иллирик) — территория, включенная в границы современных Хорватии, Боснии и Герциговины, Сербии, Албании.*
Карнунт — Хайнбург.*
Кызыл-Кум — «Красные Пески», пустыня на территории современных Узбекистана и Казахстана.
Лептис Магна — Лабда (Ливия).
Манасчи — сказитель эпоса о подвигах Манаса.
Мавритания — Марокко и север Алжира.*
Марг — Пожаревац (Сербия).
Массилия — Марсель.
Медиолан — Милан.
Моэзия — север Болгарии и Македония.*
Мэотис ІІалюс, «Скифское болото» — Азовское море.
Нарбон — Нарбонн.
Нумидия — Тунис.*
Офиуза — Одесса.*
Паний — скромный и незаметный маленький городок во Фракии.
Парфия — Персия (Иран).*
Понт Эвксинский — Черное море.
Равенское море — Каспийское море.
Северная Вэй — название династии (и государства) на территории севера Китая в IV–VI вв., основанной народом тоба.
Сингидун — Белград.
Сирмий — Сремска-Митровица (Сербия).
Скифия — включена в границы современных России, Украины, Казахстана.*
Таван-Богд — «Пять Владык», самые высокие горы Алтая.
Такла-Макан — пустыня в Синцзяне (Китай).
Танаис — Ростов-на-Дону.*
Толоса — Тулуза.
Тревер — Трир.
Тянь-Шань — «Небесные горы», протянувшиеся по территории Кыргызстана и северо-запада Китая.
Харвадские горы (гуннск.), Харвача (готск.) — Карпаты.
Херсонес Таврический — Севастополь.*
Хоразмия (Хорезм) — территория находится в современном Узбекистане и Туркменистане.*
Хунгвар — Венгерская равнина.
Шакья-Муни (Гаутама, Сиддхартха) — будда (просветленный). Согласно преданию, имел царское происхождение, но оставил дворец ради поисков истины и пути спасения для людей.
Шаньюй — титул владык гуннов-хунну (согласно китайским хроникам). Чаще использовалась титулование «каган».
Стивен Прессфилд
Врата огня
Эпический роман о сражении при Фермопилах
Греческие меры длины и массы
Предметы и понятия, использованные для установления значений мер
Меры длины
Стадий 178,60 м.
Плетр 29,60 м.
Маховая сажень 1,79 м.
Двойной шаг 1,48 м.
Локоть 44,40 см.
Фут 29,62 см.
Ширина ладони 7,40 см.
Пядь 1,85 см.
Меры массы
Талант 36 000 г.
Мина 600 г.
Драхма 6 г.
Обол 1 г.
Историческая справка
В 480 году до н. э. войска Персидской державы под командованием царя Ксеркса численностью, согласно Геродоту, до двух миллионов (Геродот на самом деле называет цифру два миллиона, но, по мнению историков, это число преувеличено, по меньшей мере в десять раз. –
здесь и далее примеч. переводчика) перешли Геллеспонт и вторглись в Грецию, чтобы поработить ее.
В отчаянной попытке задержать противника греки послали спартанский отряд из трехсот отборных воинов в Фермопильский проход. Горы там близко подходят к морю, так что огромное численное преимущество персов и их конница оказывались нейтрализованы, по крайней мере, частично. Греки надеялись, что отборные воины, готовые без колебания пожертвовать своей жизнью, смогут остановить персидские полчища хотя бы на несколько дней.
Триста спартанцев и их союзники семь дней удерживали захватчиков, пока мечи и копья греков не зазубрились и не сломались, но и тогда, как пишет Геродот, они продолжали сражаться «голыми руками и зубами», прежде чем были сломлены. Спартанцы со своими феспийскими союзниками погибли все до одного, но их героический пример вдохновил и сплотил греков. В ту осень и следующую весну они нанесли персам решающие поражения при Саламине и Платеях.
Сегодня при Фермопилах сохранилось два памятника. На современном, возведенном в честь павшего там спартанского царя Леонида, начертаны его слова, сказанные в ответ на требование Ксеркса сдать оружие: «Molon labe» – «Приди и возьми».
Второй монумент, древний, представляет собой простой камень с высеченными на нем стихами греческого поэта Симонида. – то, наверное, самая знаменитая из всех эпитафий воинам:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
(пер. Г.А.Стратановского)
«Из всех этих доблестных лакедемонян и феспийцев самым доблестным все же, говорят, был спартанец Диенек. По рассказам, еще до начала битвы с мидянами он услышал от одного человека из Трахина: если варвары разом выпустят свои стрелы, то от тучи стрел произойдет затмение солнца. Столь великое множество стрел было у персов! Диенек же, говорят, вовсе не устрашился численности варваров и беззаботно ответил: „Наш приятель из Трахина принес прекрасную весть: если мидяне затемнят солнце, то можно будет сражаться в тени“». Геродот. «История»(перевод с древнегреческого Г. А. Стратановского)
Лиса знает много хитростей.
Еж знает одну большую хитрость.
Архилох
КНИГА ПЕРВАЯ
КСЕРКС
По велению Великого Царя Ксеркса, сына Дария, царя Персии и Мидии, Царя царей, Царя земель, владыки Ливии, Египта, Аравии, Эфиопии, Вавилонии, Халдеи, Финикии, Элама, Сирии, Ассирии и государств Палестины, правителя Ионии, Лидии, Фригии, Армении, Киликии, Каппадокии, Фракии, Македонии и 3акавказья, Кипра, Родоса, Самоса, Хиоса, Лесбоса и островов Эгейского моря, повелителя Парфии, Бактрии, Каспии, Сузианы, Пафлагонии и Индии, господина всех живущих на земле от восхода до заката солнца, Всесвятейшего, Праведнейшего и Высочайшего, Непобедимого, Неподкупного, Благословленного единым богом Ахурой-Маздой и Всемогущего среди смертных. Так повелел Великолепный, и так записано Гобартом, сыном Артабаза, его летописцем:
«После славной победы войск Великого Царя у Фермопильского прохода над боевыми порядками спартанцев с их союзниками, уничтожив врага до последнего человека и воздвигнув трофей в честь этой доблестной победы, Великий Царь в своей боговдохновенной мудрости пожелал побольше узнать как о некой тактике, примененной пехотой противника и оказавшейся довольно эффективной против войск Великого Царя, так и о самом неприятеле, чьи воины, не находящиеся под данью или в рабстве, встретившись с подавляющим численным превосходством неприятеля и предвидя неминуемую свою гибель, тем не менее предпочли остаться на своих позициях, где и погибли все до последнего человека.
Выраженное Великим Царем сожаление о недостатке знаний и понимания указанных вопросов услышал милостивый Ахура-Мазда. Под колесами боевой колесницы, заваленный трупами людей и упряжных животных, отыскался один израненный эллин (как называют себя греки), едва живой. Лекарям Великого Царя под угрозой мучительной смерти велено было привлечь все средства, дабы сохранить жизнь этого пленника. И бог исполнил пожелание Великого Царя. Грек пережил ночь и наступившее утро, а через десять дней к нему вернулись речь и сознание. Прикованный к ложу болезни и находясь под непосредственным наблюдением самого Царского лекаря, он наконец не только нашел в себе силы говорить, но и выразил жгучее желание к этому.
В одеянии пленника и его доспехах были замечены некоторые необычные особенности. Так, под боевым шлемом его оказался не традиционный войлочный подшлемник, какие носят спартанские гоплиты(гоплит – тяжеловооруженный пеший воин в древнегреческом городском ополчении. Он носил большой щит шлем и панцирь, а также поножи. Главным оружием были копье и меч), а кожаная шапочка, характерная для илотов, низшего лакедемонского класса крестьян. В то же время, необъяснимо для воинов Великого Царя, щит и доспехи пленника выкованы из превосходной бронзы, инкрустированы редким кавказским кобальтом, а шлем имел поперечный гребень – знак полноправного спартиата, начальника над простыми воинами.
На предварительных допросах было замечено, что язык пленника представляет собою странное смешение высокой литературной речи, свидетельствующей о глубоком знании эллинских эпических поэм и философии, и самого низкого и грубого жаргона, который в большой степени остался непереводимым даже для лучших толмачей Великого Царя. Однако пленный грек с охотой согласился перевести эти выражения сам, что и сделал, используя обрывки арамейского и персидского языков, с которыми, по его словам, он познакомился во время своих морских путешествий за пределы Эллады. Я, летописец Великого Царя, стремясь охранить уши Его Величества от непристойных и зачастую отвратительных выражений пленника, старался исключать оскорбительные слова, чтобы Великому Царю не пришлось терпеть их. Но Великий Царь в своей боговдохновенной мудрости повелел своему слуге передавать рассказ этого человека в точности, должным образом подбирая язык и соответствующие обороты персидского языка. Были приложены все усилия, чтобы в точности исполнить волю Его Величества. Молю богов, чтобы Великий Царь помнил возложенную Им же самим задачу и не разгневался на своего слугу за некоторые выражения нижеследующего перевода, которые, без сомнения, оскорбят всякого культурного слушателя.
Написано и представлено в шестнадцатый день месяца улулу в пятый год после Восшествия Великого Царя на престол».
Глава первая
В третий день месяца ташриту на пятый год царствования Великого Царя, перейдя лохрийскую границу, войско Великой Державы, не встречая сопротивления, продолжало свое продвижение на юг, в Центральную Грецию, и встало лагерем у восточного склона горы Парнас. Как и много раз прежде на марше из Азии, воды в местных ручьях не хватило, чтобы напоить войско и лошадей.
Нижеследующий предварительный допрос состоялся в походном шатре Великого Царя через три часа после захода солнца, когда завершился ужин и закончились все придворные церемонии. В присутствии полководцев, советников, телохранителей, магов и секретарей было велено привести грека. Пленника принесли на носилках, с завязанными глазами, чтобы он без позволения не мог взглянуть на Великого Царя. Маг произнес заклинание и выполнил обряд изгнания злых духов, чтобы позволить этому человеку говорить в присутствии Великого Царя. Пленника предупредили, чтобы он не обращался к царственной особе напрямую, а направлял свои речи Бессмертным (царским телохранителям), стоящим от Царя слева.
Командир Бессмертных Оронт велел греку назвать себя и тот ответил, что зовут его Ксеон, сын Скамандрида из Астака – города в Акарнании, и заявил, что прежде всего хочет поблагодарить Великого Царя за сохраненную жизнь а также выразить восхищение искусством царских лекарей. Этот человек, Ксеон, говорил, лежа на носилках и задыхаясь из-за нескольких незаживших ран на груди, задевших легкие. Он предупредил Великого Царя, что не обучен персидским правилам вести беседу и, к несчастью, обделен поэтическим и сказительским даром. Этот грек сказал что история, которую он поведает, будет не о полководцах и царях так как, по его словам, его положение не позволяло ему вблизи наблюдать политические интриги великих. Он может рассказать лишь о том, как жил он сам и что видел со своего места оруженосца в тяжелой пехоте и слуги в обозе. Возможно, заявил пленник, Великий Царь найдет мало интересного для себя в рассказе простого воина – «рядового», как он назвал это.
Великий же Царь через Оронта, командира Бессмертных отвечал, что, напротив, именно такой истории Ему и недоставало. Великий Царь уже более чем достаточно знает об интригах великих и потому желает теперь послушать «рассказ рядового пехотинца».
Что за люди эти спартанцы, которые за три дня на глазах Великого Царя убили не менее двадцати тысяч Его самых доблестных воинов? Что это за люди, которые, умирая; забрали с собой по десять, а по некоторым донесениям и до двадцати врагов? Каковы они были, эти люди? Кого любили? Над чем смеялись, о чем печалились? Великий Царь не. сомневается, что они подвержены страху смерти, как и все прочие из живущих на земле. Так какая же философия бросила их в ее объятия? А более всего, сказал Великий Царь, Ему бы хотелось постичь чувства самих этих людей, людей из плоти и крови, которых он видел сверху на поле битвы, но лишь смутно, издалека – как неясные существа в шлемах и доспехах, покрытых свежей и уже запекшейся кровью.
Под повязкой на глазах пленник потупил взор и вознес благодарственную молитву какому-то из своих богов. Поистине, история, которую он может и стремится рассказать, и есть та, что хочет услышать Великий Царь.
Хватит ли у Великого Царя терпения выслушать ее? К тому же рассказ не ограничится только битвой. Он начнется с предшествующих событий, поскольку только в их свете и в их перспективе жизнь и поступки тех воинов, которых Великий Царь видел при Фермопилах, приобретут свое истинное значение и смысл.
Великого Царя, полководцев, военачальников и советников удовлетворил такой ответ. Греку дали чашу вина с медом для утоления жажды и попросили начать оттуда, откуда хочет, и рассказывать так, как сочтет уместным.
Мне всегда было интересно: каково это – умирать?
В учебных лагерях, когда мы служили спартанским гоплитам болванами для битья, было одно упражнение. Оно называлось «дубки». Мы занимали позицию вдоль ряда дубов на краю Отонской равнины, на которой осенью и зимой спартиаты и благородные мужи упражнялись в военном искусстве. Мы выстраивались в десять рядов с длинными плетеными щитами, упирались ими в землю, а гоплиты били нас, наступая строем глубиной в восемь шеренг – сначала шагом, потом беглым шагом, потом легкой рысцой и наконец во всю прыть. Удар их сомкнутых щитов был рассчитан на то, чтобы выбить из нас дыхание. Так и происходило. Это напоминало столкновение с горой. Колени, как бы ты ни пытался удержать их, подгибались, словно тростинки под оползнем, а спустя миг мужество покидало наши сердца, и нас опрокидывало, точно былинки лемехом плуга.
Вот каково умирать. При Фермопилах копье пехотинца египтянина попало мне в солнечное сплетение. Но ощущение оказалось вовсе не таким, как можно было ожидать. Копье как будто не воткнулось, а с размаху ударило – чувство наподобие того, что мы испытывали под дубами.
Мне представлялось, что мертвые отстраняются от жизни,что они смотрят на жизнь издалека – полными отстраненной мудрости глазами. Но опыт доказал обратное. Умирающими правят чистые эмоции. Кажется, не остается ничего кроме эмоций. Мое сердце разорвалось и наполнилось болью, какой никогда в жизни не знало. Смерть охватила меня резким, всеподавляющим страданием. Я увидел мою жену и детей, мою дорогую Диомаху, которую я так любил. Я увидел Скамандрида, моего отца, и Эунику мою мать, Бруксия Дектона и Самоубийцу – эти имена ничего не говорят Великому Царю, но для меня они были дороже жизни и теперь, когда я умирал, они стали мне еще дороже.
Они улетели прочь от меня. Я улетел прочь от них.
Я ни на мгновение не забывал о моих товарищах по оружию, павших вместе со мной. Меня связывали с ними, узы, стократно усилившиеся тем, что я пережил. Умирая, я почувствовал невыразимое облегчение и понял, что больше смерти страшился разлуки с собратьями. Я предвидел жгучие мучения уцелевшего на войне, его невыносимое одиночество. Что испытывает тот, кто предал самого себя, кто предпочел в последний миг ухватиться за жизнь, когда его товарищи уже выпустили ее?
Состояние, которое мы называем жизнью, закончилось.
Я был мертв.
И все же… Каким бы титаническим ни было то испытанное мною чувство утраты, существовало еще более острое чувство. Я знал, что то же самое переживают вместе со мной и мои братья по оружию.
Я понял, что история нашей жизни погибнет вместе с нами.
Что никто никогда ее не узнает.
Я думал не о себе, не о своем эгоизме и честолюбивых планах, а только о них – о Леониде, об Александре и Полинике, об Арете, оставшейся одной у семейного очага, а больше всего – о Диэнеке. Меня тяготила мысль, что его доблесть, его ум, его тайные мысли, которые он доверил лишь мне,– все это просто исчезнет, улетит прочь, как дым от лесного пожара. Вот что было невыносимо.
Теперь мы добрались до реки Леты. Мы услышали ушами, которые больше не были ушами, шум воды; мы увидели глазами, которые больше не были глазами, течение Леты, и перед нами предстали сонмы долго страдавших мертвецов, чей срок мучений под землей наконец подходил к концу. Они возвращались к жизни, испив из этих вод, которые стирают из памяти все испытанное прежде.
Но для нас, погибших при Фермопилах, оставалась еще вечность до того часа, когда нам дозволено будет испить воды из Леты. Мы еще все помнили.
Плач, который был не плачем, а умноженной сердечной болью воинов, которые разделяли все мои чувства, придавал этой мрачной сцене невыразимый пафос.
Потом у меня из-за спины, сзади – если только в этом мире, где все направления слились в одно, у меня еще была спина и существовало понятие «сзади»,– разлилось сияние, такое возвышенное, что я понял (все мы вдруг поняли!): это может быть только кто-то из богов.
Стреловержец Феб, сам Аполлон в боевых доспехах, двигался среди спартиатов и феспийцев. Воцарилось полное безмолвие – да никакие слова и не были нужны. Стреловержец умел чувствовать муки людей, и люди без слов понимали, что он, воин и целитель, пришел сюда, чтобы спасти их. Внезапно – я даже не успел удивиться! – я ощутил, как его взгляд обратился ко мне. Ко мне, меньше всех достойному этого, тем более что рядом находился Диэнек, мой хозяин в жизни.
Я – избранник. Тот, кто вернется и обо всем расскажет людям. Меня охватила новая боль. Она оказалась еще страшнее, чем раньше. И даже сама прекрасная жизнь, даже отчаянно выискиваемый шанс поведать о нас людям – все это вдруг сделалось нестерпимым из-за боли, вызванной необходимостью покинуть тех, кого я полюбил.
Но перед величием божества невозможны никакие просьбы.
И я увидел иной свет – более блеклый, более грубый, более низкий – и понял, что это солнце. Я летел назад. 3вуки опять доходили до меня теперь через телесные уши. Это была речь воинов, египетская и персидская. Руки в кожаных ратных рукавицах вытягивали меня из груды мертвых тел.
Египетские пехотинцы позже сказали мне, что я произнес слово «локас» – на их языке оно означает грязное ругательство – и они хохотали, вытаскивая мое израненное тело на свет дня.
Они ошибались. Слово было «локсиас» – так греки почтительно титулуют Аполлона Лукавого, или Аполлона Уклончивого, чьи оракулы всегда уклончивы и неопределенны. О, я чуть ли не кричал на него я почти проклинал его за чудовищную ответственность, которую он возложил на меня – на меня, человека, не имеющего ни малейшего дара для выполнения подобной задачи.
Как все поэты взывают к Музам, чтобы говорить при их посредстве, так я прохрипел свой призыв к Разящему Издали.
Уж если ты действительно избрал меня, Лучник, так дай своим тонко оперенным стрелам вылететь из моего лука! Одолжи мне твой голос, Стреловержец! Помоги рассказать эту историю!
Глава вторая
Фермопилы славятся лечебными источниками. По-гречески слово «Фермопилы» означает « горячие ворота». Такое имя дали этому месту из-за бьющих там горячих ключей и потому что, как известно Великому Царю, это узкое ущелье с обрывистыми склонами, проникнуть в которое можно лишь с двух сторон: через Восточные и Западные ворота. По-гречески проход называют «
пилэ» или «
пилы».
Фокийскую стену, вокруг которой состоялось столь много отчаянных схваток, построили не спартанцы; она существовала еще задолго до сражения. В древние времена ее возвели жители Фокиды и Локриды для защиты от набегов со стороны северных соседей, фессалийцев и македонцев. Когда спартанцы пришли туда, чтобы занять проход, стена лежала в руинах. Спартанцы лишь восстановили ее.
Эллины не считают, что источники и сам проход принадлежат местным жителям, они доступны для всей Греции. Считается, что воды обладают целебным свойством, и летом туда стекается множество посетителей. Великий Царь наверняка заметил очарование тенистых рощ и купален, дубовых рощ, находящихся под защитой Амфиктионии (название союза греческих племен, живущих по соседству со святилищем общего высшего божества и объединяющихся для его защиты), и живописной извилистой тропы, вьющейся вдоль каменной Львиной стены, которую, по преданию, сложил сам Геракл. Обычно в мирное время у этой стены торговцы из Фракии, Антелы и Альпен разбивают свои весело расцвеченные шатры, чтобы обслуживать отважных путников, совершивших поход к горячим минеральным источникам.
Под самым обрывом близ Средних ворот есть двойной источник, посвященный Персефоне; его называют Скиллийский фонтан. В этом месте спартанцы и разбили свой лагерь – между Токийской стеной и пригорком, где потом состоялась последняя смертельная битва. Великий Царь знает как мало другой питьевой воды в окружающих горах. 3емля между воротами обычно так иссушена и пыльна, что нанимают специальных слуг поливать дорожки для удобства купающихся. 3десь сама земля тверда как камень.
Великий Царь видел, как быстро массы сражающихся воинов размесили в грязь эту мраморно-твердую глину. Никогда я не видел такой глубокой грязи, всю влагу которой составляли лишь кровь и моча сражавшихся на ней людей.
Когда перед сражением в Фермопилы прибыли передовые части спартанцев – за несколько часов до основных сил, двигавшихся ускоренным маршем,– они обнаружили,у целебных источников – невероятно! – две группы посетителей, из Тиринфа и из Халкиона, всего тридцать человек, мужчин и женщин; те собрались на своих отгороженных,участках, в разной степени обнаженные. Эти паломники обеспокоились, если не сказать больше, внезапным появлением скиритов (жители Скиритиды, области в Лаконии) в алых плащах и доспехах. Скиритов было числом до тридцати, их отобрали по резвости ног и умению сражаться в горах. Воины разогнали купальщиков и прислуживавших им торговцев благовониями, массажистов, продавцов инжира и хлеба, девушек для умащения кожи маслом, мальчиков для растирания тела и прочих. Все они прекрасно знали о наступлении персов, но думали, что недавняя буря в долине на время сделала северные подходы непроходимыми. Скириты также конфисковали всю провизию, мыло, холсты и медикаменты, а главное – шатры, которые впоследствии столь неуместно весело возвышались над кровавым побоищем. Спартанцы установили эти шатры в тылу, в своем лагере у Средних ворот, собираясь предоставить их Леониду и царским телохранителям.
Но спартанский царь по прибытии отказался укрываться в шатре, сочтя это недостойным. Тяжелая пехота спартиатов также отвергла эти удобства. По иронии, столь привычной для тех, кто знаком с войной, шатры достались спартанским илотам, феспийцам, фокийцам, рабам из опунтских локров и прочим бойцам вспомогательных частей, пострадавшим от стрел и дротиков. Эти люди после второго дня битвы также отказались укрываться в убежище. Клочья развеселых пестрых шатров из египетского холста, как видел Великий Царь, прикрывали морды обозных вьючных животных, мулов и ослов, которые так
испугались вида и запаха сражения, что погонщики не могли их сдержать. В конце концов полотно шатров пошло на перевязку ран спартиатов и их союзников.
Говоря «спартиаты», я имею в виду официальный греческий термин «
спартиатаи», который обозначает лакедемонский высший класс, полноправных спартанцев –
гомеев, Равных. Никто из так называемых «благородных мужей», или
периэков, вторичных спартанцев, не совсем полноправных граждан, и никто из завербованных в окружающих Лакедемон (древнегреческое государство Спарта на территории Лаконии. В качестве официального названия Спарты почти всегда употреблялся – Лакедемон) селениях при Горячих Воротах не сражался. Впрочем, к концу, когда спартиатов осталось так мало, что они уже не могли составить фалангу, освободившиеся места было позволено занять «разрыхляющим элементам», как выразился Диэнек,– из числа освобождённых рабов, носильщиков и оруженосцев.
Великий Царь может гордиться тем, что его войска разгромили цвет Эллады, сливки ее самых лучших, самых доблестных бойцов.
Что касается лично моего положения в спартанском войске, то объяснение этого может потребовать некоторого уклонения от темы, и я надеюсь, что Великий Царь проявит терпение.
В двенадцатилетнем возрасте я был захвачен лакедемонянами (или, точнее, сам сдался). Таких, как я, называли
гелиокекауменос – это спартанское насмешливое прозвание буквально означает «обожжённый солнцем». Так называют полудиких подростков, загоревших дочерна, как эфиопы, под воздействием стихий. Таких водилось в избытке в горах до и после первой Персидской войны. Сначала меня бросили к спартанским илотам, в рабское сословие, которое лакедемоняне создали из жителей Мессении и Гелоса, покоренных и порабощенных много веков назад. Эти земледельцы, однако, отвергли меня из-за определенных физических недостатков, делавших меня непригодным к их работе. К тому же илоты ненавидели любых чужаков в своей среде и не доверяли им, опасаясь доносчиков. Почти год я вел собачью жизнь, пока судьба, удача или длань милосердного божества – уже не знаю, что – не привела меня на службу к Александру, спартанскому юноше, воспитаннику Диэнека. Это спасло мне жизнь. Я был признан, хотя и не без иронии, свободнорожденным, и, поскольку я выказывал некоторые качества дикого зверя, восхищавшие лакедемонян, меня повысили до статуса
парастатес пэс – своего рода напарника для юношей, зачисленных в
агоге. Агоге – это известный своей безжалостностью тринадцатилетний цикл тренировок, превращающий мальчиков в спартанских воинов.
Каждого тяжеловооруженного пехотинца-гоплита из класса спартиатов на войну сопровождает по меньшей мере один илот.
Эномотархи, начальники эномотий (подразделение спартанской армии, часть фаланги, состояла из 36-64 гоплитов. В походах эмотия могла насчитывать меньшее количество гоплитов), берут по два. Таковым был и Диэнек. Командиры его ранга нередко выбирают себе в сопровождающие, в оруженосцы, свободнорожденного чужестранца или даже молодого
мофакса – отпрыска неполноправных граждан, периэков, воспитанного и обученного в
агоге. К добру ли, к несчастью ли, но мой господин выбрал для этой роли меня. Я надзирал в походе за его доспехами, следил за содержанием вещевого мешка, готовил пищу и постель, перевязывал раны – в общем, выполнял все необходимое, чтобы не отвлекать его самого от военных упражнений и собственно войны.
В детстве, до того, как судьба направила меня на этот путь, закончившийся у Горячих Ворот, я жил в Астаке, что в Акарнании, к северу от Пелопоннеса, где горы выходят на запад, к морю, откуда виден горизонт, за которым скрываются Сикелия (греческое название Сицилии) и Италия.
Через пролив там можно разглядеть остров Итака, родину хитроумного Одиссея, хотя самому мне никогда, ни в детстве, ни потом, не выпало чести ступит на священную землю великого героя: Мои тетя и дядя обещали меня свозить туда в подарок на мой десятый день рождения, но к тому времени наш город пал, всех моих родственников мужского пола перебили, а женщин продали в рабство. 3емлю наших предков захватили, и, говоря словами поэта, за три дня до того, как пошел мой десятый год под небесами, остался я, если не считать моей двоюродной сестры Диомахи, один-одинешенек, без семьи и крова.
Глава третья
Когда я был маленьким, у моего отца был раб по имени Бруксий. Впрочем, я не уверен, правильно ли называть его рабом, поскольку мой отец, похоже, куда больше зависел от Бруксия, нежели тот от него. Мы все находились в его власти, особенно моя мать. Как хозяйка дома она отказывалась принимать самые пустячные решения по хозяйству – а зачастую и не такие уж пустячные – без одобрения Бруксия. Мой отец обращался к нему за советом практически по всем вопросам, кроме городской политики. Сам же я был совершенно им околдован.
Бруксий был элейцем. Его взяли в плен аргосцы, когда ему было девятнадцать. Они ослепили его горящим дегтем, однако впоследствии познания элейца в целительных снадобьях вернули ему частицу прежнего зрения. На лбу у него было выжжено клеймо в виде бычьего рога – аргосский знак. Мой отец получил Бруксия, когда тому было уже за сорок,– в качестве компенсации за утопленный в море груз гиацинтового масла.
Насколько я мог судить, Бруксий умел все. Он мог вырвать больной зуб без гвоздики и олеандра. Мог в голых ладонях носить огонь. А самое важное, с точки зрения мальчишки,– он знал чары и заклинания, способные отвратить неудачу и сглаз.
Единственным слабым местом Бруксия, как я уже сказал, были его глаза. В десяти шагах от себя он почти ничего не видел. И это было для меня источником тайного удовольствия, так как слепота означала, что ему все время требовался мальчик, чтобы смотреть за него. Я неделями не расставался с нашим элейским рабом, находясь при нем даже ночью, поскольку он утверждал, что присматривает за мной, когда спит на овечьей шкуре в ногах у моей кроватки.
В те дни война, казалось, была всякое лето. Помню, по весне после посевной город проводил военные учения. Висевшие над очагом отцовские доспехи снимали, и Бруксий смазывал каждый ободок и сочленение, выправлял и налаживал, как он говаривал, «два копья и два запасных», заменял веревки и ремни на круглом дубово-бронзовом щите гоплита –
гоплоне. Учения проводились на широкой равнине к западу от квартала гончаров, прямо под городскими стенами. Мы, мальчишки и девчонки, приносили навесы от солнца и фиговые лепешки, забирались куда-нибудь повыше, чтобы лучше видеть, и наблюдали, как наши отцы выполняют упражнения под сигналы трубача и удары боевого барабана.
В тот год, о котором я говорю, состоялся знаменитый спор насчет предложения, выдвинутого
пританиархом – председателем городского собрания, землевладельцем по имени Онаксимандр. Он хотел, чтобы каждый мужчина стер со своего щита фамильный или личный знак и заменил его единообразной
альфой по названию нашего города – Астак. Онаксимандр аргументировал это тем, что на всех спартанских щитах начертано гордое
лямбда в честь их земли – Лакедемона. Так-то оно так, последовал насмешливый ответ, но мы же не лакедемоняне. Вспомнили историю про спартиата, на чьем щите была нарисована обычная домашняя муха в натуральную величину. Когда товарищи шутили над ним за это, он говорил, что в боевом строю подойдет к противнику так близко, что муха покажется тому величиной со льва.
Каждый год военные учения проходили по одной и той же схеме. Два дня царил энтузиазм. Каждый мужчина так радовался освобождению от земледельческих или мастеровых забот и воссоединению со своими товарищами, что учения приобретали привкус праздника. Утром и вечером устраивались жертвоприношения. Повсюду витал густой запах мяса, который жарили на вертеле, на каждой улице и площади поедались пшеничные булочки и медовые сласти, свежеиспеченные фиговые лепешки и чаши риса и ячменя, поджаренного на только что отжатом кунжутном масле.
На третий день у ополченцев появлялись волдыри. Щиты-гоплоны до крови натирали плечи. Наши воины в основном были крестьянами, якобы привычными к тяжелой сезонной работе. На самом деле большую часть времени, что эти труженики находились в поле, они проводили в холодке подсобных помещений, а не ходили за плугом. Теперь они уставали и обливались потом. В шлемах было жарко. К четвертому дню жизнерадостные вояки приводили серьезные оправдания, чтобы отлучиться: в крестьянском хозяйстве требуется сделать то-то, в мастерской нужно то-то, рабы потихоньку все разворовывают, а слуги только и знают, что развратничать.
– Смотрите, как прям строй сейчас, на учебном поле, – ухмылялся Бруксий, щурясь рядом со мной и другими мальчишками. – Под градом стрел и дротиков они не пойдут такими молодцами. Каждый будет тесниться вправо, прячась в тень товарища. – Имелось в виду, скрываясь за щит соседа по строю. – Когда они достигнут строя противника, правый фланг выдвинется на полстадия и его придется загонять на место собственной конницей!
Тем не менее наше гражданское ополчение (при полном призыве мы могли выставить до четырехсот тяжеловооруженных гоплитов), несмотря на некоторую пузатость и нетвердый шаг воинов, почитало себя более чем достойным. У того самого
пританиарха Онаксимандра имелось две пары волов, захваченных у керионейцев, чьи земли наше войско в союзе с аргосцами и элеутрейцами безжалостно грабило три года подряд, спалив сотни хозяйств и убив более семидесяти мужчин. Мой дядя Тенагр в те годы завладел прекрасным мулом и полным комплектом доспехов. Почти каждому что-нибудь да досталось.
Но вернемся к учениям нашего ополчения. К пятому дню отцы города были уже в полном изнеможении, им все надоедало и вызывало отвращение. Жертвоприношения богам удваивались – в надежде, что милость бессмертных компенсирует недостаток
полемике техне (военного искусства) или
эмпирии (опыта) в нашем войске. Теперь в поле зияли огромные пробелы, и мы, мальчишки, спускались на землю со своими игрушечными щитами и копьями. Это служило сигналом прекратить маневры. Вызывая громкое ворчание у фанатиков ратного дела и огромное облегчение у основной массы тренирующихся, звучал сигнал к последнему параду.
Всех представителей союзников, которых имел город в тот год, когда мне должно было исполниться десять (Аргос прислал своего
стратегоса автократора – верховного главнокомандующего этого великого города), весело проводили на зрительские места, и наши вновь воодушевленные граждане-воины, понимая, что их тяжкие испытания близки к завершению, взвалили на себя все оружие, какое имели, до последней драхмы, и промаршировали на славном смотре.
Это последнее событие было самым волнующим, с лучшими яствами и музыкой, не говоря уж о потоках неразбавленного вина, а закончилось все исходом множества крестьянских телег, среди ночи везущих домой по шестьдесят семь мин бронзовых доспехов и по три таланта громко храпящих воинов.
То судьбоносное для меня утро началось с яиц куропатки.
Среди многочисленных умений Бруксия первым считалось искусство в ловле птиц. Он был мастер ставить силки и ставил их именно на те ветки, где его добыча облюбовывала насест. И – хлоп! – хитрая ловушка срабатывала так нежно еле слышно с неименной осторожностью пленяя свою жертву в «башмаке», как называл это Бруксий.
Однажды вечером он украдкой позвал меня за хлев и драматическим жестом поднял свой плащ чтобы показать последнюю добычу – полного боевого задора самца дикой куропатки От возбуждения я потерял голову. У нас в курятнике было шесть домашних самок. Самец означал одно – яйца! А яйца были самым изысканным деликатесом, и я на городском рынке мог получить за них целое состояние.
Разумеется, через неделю наш маленький петушок, как господин, важно расхаживал среди курочек, и вскоре я уже ласкал в ладонях горку драгоценных куропаточьих яиц.
Мы идем и город! На рынок! Я разбудил свою двоюродную сестру Диомаху среди ночи – так мне хотелось добраться до нашей рыночной палатки и выставить на продажу всю мою кучу яиц. На рынке продавалась столь желанная мною флейта
диавлос – двойная свирель, которой Бруксий обещал научить меня приманивать лысух и тетеревов. Продажа яиц сулила мне золотые горы, и уж теперь-то двойная свирель точно будет моей!
Мы вышли за два часа до рассвета, Диомаха и я, с двумя мешками зеленого лука и тремя кругами сыра в тряпке, нагруженными на хромую ослицу по имени Ковыляха Ее осленка мы оставили дома, привязав к стойлу,– таким образом в городе мы могли ее отпустить, когда разгрузим, и мама сама направится домой к своему малышу.
Я впервые шел на рынок без взрослых и впервые нес добычу на продажу. К тому же меня волновало присутствие Диомахи. Мне еще не было и десяти, а ей – уже тринадцать. Она мне казалась взрослой женщиной, самой милой и изящной во всей округе. Мне хотелось, чтобы все мои друзья выстроились вдоль дороги и увидели меня рядом с ней.
Мы только добрались до Акарнанийской дороги, когда увидели солнце. Еще скрываясь за горизонтом, оно пылало ярко-жёлтым цветом на фоне пурпурного неба. Только тут была одна странность: оно восходило на севере.
– Это не солнце,– сказала Диомаха, резко остановившись и дернув Ковыляху за недоуздок.– Это пожар.
Там находились земли Пиэриона, друга моего отца.
Дом и поля горели.
– Нужно помочь,– заявила Диомаха не терпящим возражений тоном, и, сжимая в руке тряпку с яйцами, я скорой рысью бросился за ней и потащил за собой ревущую хромоногую ослицу.
– Как это могло случиться до осени? – на бегу кричала мне Диомаха.– Ведь поля еще не иссушило! Посмотри на пламя – оно не должно быть таким большим!
Потом мы увидели второй пожар. К востоку от хозяйства Пиэриона. Еще одно поле. Мы замерли посреди дороги и тогда услышали топот лошадей.
3емля под нашими босыми ногами задрожала как при землетрясении. И мы увидели факелы. Всадники. Целый отряд. Тридцать шесть всадников неслись на нас. Мы увидели доспехи и шлемы с гребнями. Я бросился к ним, облегченно размахивая руками. Удача! Они нам помогут! С тридцатью шестью мужчинами мы быстро потушим огонь…
Но Диомаха с силой одернула меня:
– Это не наши люди.
Они пронеслись мимо галопом и показались мне огромными, мрачными и свирепыми. Их щиты были зачернены, все белые пятна на лошадях замазаны сажей а бронзовые поножи покрыты запекшейся кровью. В свете факелов я заметил что щиты под сажей белые. Аргосцы. Наши союзники. Три всадника натянули поводья перед нами, Ковыляха в страхе заревела и забила копытами, но Диомаха крепко держала повод.
– Что у тебя там, девочка? – спросил самый большой из всадников, сдерживая своего взмыленного, покрытого грязью коня перед мешками с луком и кругами сыра. Он был как башня, настоящий Аякс в беотийском шлеме с открытым лицом; под глазами у него виднелись намазанные чем-то белым полоски, чтобы лучше видеть в темноте. Ночные налетчики. Аргосец наклонился и попытался схватить Ковыляху. Диомаха со всей силы пнула его коня в брюхо, отчего тот заржал и понес.
– Вы жжете наши поля, предатели и ублюдки!
Она отпустила повод Ковыляхи и сильно хлопнула перепуганную ослицу рукой. Скотина бросилась бежать во всю прыть – и была такова.
Я бросался в бой под градом стрел и дротиков с тридцатью минами брони на плечах, и бессчётное число меня гоняли во всю прыть вверх по крутым изрытым склонам, доводя до смертельного изнеможения, но никогда мое сердце и легкие не работали так отчаянно, как в то жуткое утро. Мы поскорее оставили дорогу, опасаясь новых всадников, и что было сил пустились к дому по бездорожью. Теперь мы видели, что горят и многие другие поля и дома.
– Скорее! – орала на меня через плечо Диомаха.
Утром мы проделали больше двадцати стадиев от нашего дома по направлению к городу, и теперь нам предстояло пробежать это расстояние назад – по каменистым, заросшим кустарником склонам холмов. Ветки рвали нашу одежду, камни обдирали босые ноги, сердце было готово лопнуть в груди. Несясь через поле, я увидел то, от чего кровь застыла в жилах,– свиней. Три свиньи и их поросята единой вереницей поспешно двигались по полю, направляясь к лесу. Они не бежали и не проявляли никакой паники, это был просто чрезвычайно быстрый, хорошо организованный ускоренный марш. Мне подумалось тогда: эта свинина пережила нынешний день, а мы с Диомахой еще нет.
Мы снова увидели всадников. Еще один отряд, а за ним еще один, этолианцы из Плеврона и Калидона. Это было еще хуже, стало быть, наш город предал не один союзник, а вся коалиция. Я крикнул Диомахе, чтобы она остановилась,– мое сердце разрывалось от напряжения.
– Я брошу тебя, маленький говнюк!
Она потащила меня за собой. Вдруг из кустов возник человек. Это был мой дядя Тенагр, отец Диомахи, в одной ночной рубашке, с копьем в руке. Увидев Диомаху, он выронил оружие. Они сжали друг дружку в объятьях, задыхаясь. Но это только подстегнуло мой страх.
– Где мама? – услышал я вопрос Диомахи.
Глаза Тенагра обезумели от горя.
– А где моя мама? – закричал я.– А мой отец – где он, он с тобой?
– Мертвы… Все мертвы…
– Откуда тебе знать? Ты видел их?
– Видел, а тебе не надо этого видеть.
Тенагр поднял из грязи свое копье и зашелся плачем. Он обмарался, по его ногам стекало жидкое дерьмо. Тенагр всегда был моим любимым дядей, но теперь я так возненавидел его, что был готов убить.
– Ты убежал! – обвинил я его с детской бессердечностью.– Ты дал стрекача, трус!
Тенагр в ярости обернулся ко мне:
– Иди в город! Спрячься за стенами! – А что с Бруксием? Он жив?
Тенагр закатил мне такую оплеуху, что сшиб с ног:
– Глупый мальчишка! Ты больше печешься о слепом рабе, чем о собственных отце с матерью!
Диомаха подняла меня с земли, и я увидел в ее глазах ту же злобу и отчаяние.
– Что у тебя в руках? – закричала она на меня.
Я посмотрел на свои руки. Там были яйца, я все еще бережно сжимал в ладонях тряпку с яйцами!
Мозолистый кулак Тенагра разбил хрупкие скорлупки, и у моих ног растеклась тягучая жижа.
– Иди в город, наглый сопляк! Спрячься за стенами!
Глава четвертая
Великий Царь руководил разграблением бессчетного числа городов и не нуждается в подробном описании последующей недели. Я лишь добавлю одно наблюдение – наблюдение оцепеневшего от предчувствия мальчишки, сразу лишившегося матери и отца, семьи, рода, племени и родного города. Тогда впервые мои глаза заметили картины, обычные, как учит опыт, для всех битв и побоищ.
Тогда я понял: это всегда огонь.
В воздухе висит едкий дым, и от сернистого запаха закладывает нос. Солнце приобретает цвет золы, а на дороге, дымясь, валяются черные камни. Повсюду, куда ни взглянешь, что-нибудь да горит. Дерево, тела, сама земля. Горит даже вода. Безжалостность пламени усиливает ощущение гнева богов, судьбы, чувство кары, вечного наказания за совершенные поступки.
Все, что было раньше, теперь ты видишь с изнанки. Все вывернуто наизнанку.
То, что стояло прямо, падает. Что должно быть связано, освобождается, а что должно быть свободно – теперь связано. Что должно храниться в тайне, теперь выпячивается и вываливается наружу а те, кто должен был все это прятать, лишь смотрят пустыми глазами и ничего не предпринимают.
Мальчишки становятся мужчинами, а мужчины – мальчишками. Рабы становятся свободными, а свободные – рабами. Детство уходит. Известие о том, что отец и мать убиты, не так поразило меня горем и страхом за себя, как внезапным осознанием того, что с ними случилось. А где был я, когда их убивали? Я подвел их, я бегал по своим детским делам! Почему я не предвидел опасности? Почему не встал плечом к плечу с отцом, с оружием в руках, набравшись мужества и силы, чтобы защитить наш очаг или с честью пасть перед ним, как пали мои отец и мать?
На дороге лежали тела. В основном мужчины, но были и женщины, и дети, с теми же расплывшимися рядом темными пятнами. Кровь впитывалась в безжалостную грязь. Живые брели мимо них, пораженные горем. Все были в грязи, многие босы. Люди старались не попасть в рабские колонны и загоны, которые должны были вскоре появиться. Женщины несли детей, иные – уже мертвых. Убитые горем, они проплывали мимо как тени, унося какие-то жалкие бесполезные вещи – вроде лампы или свитка стихов. В мирное время городские замужние женщины выходили из дому в ожерельях, ножных браслетах, кольцах; теперь ни у кого ничего такого не было. Может быть, их драгоценности были где-то спрятаны, чтобы потом заплатить перевозчику или купить горбушку черствого хлеба. Мы встречали знакомых, но не узнавали их. И они не узнавали нас. Встречи друзей происходили на обочинах дороги или в кустах, где обменивались известиями об умерших и тех, кто скоро умрет:
Жальче всего было скотину. В то первое утро я увидел горящую собаку и подбежал потушить своим плащом ее дымящуюся шерсть. Пес, конечно, убежал, и я не смог его поймать, а Диомаха одернула меня, обругав за глупость. Этот пес был первым из многих. Лошади с перерезанными мечами сухожилиями, лежащие на боку с глазами, полными немого ужаса. Мулы с вывороченными кишками, волы с дротиками в боку, жалобно мычащие, но слишком перепуганные, чтобы подпустить к себе кого-либо. Они больше всего разрывали сердце, бедные тупые животные они вызывали еще большую жалость своей неспособностью осознать свою беду.
3ато для воронья настал истинный праздник. Первым делом они подлетали к глазам мертвецов. Птицы клевали мужчин в самую задницу – одному богу известно, почему. Живые сначала отгоняли их, возмущенно бегая за мирно обедающими любителями мертвечины, которые отлетали ровно настолько, насколько диктовала необходимость, а потом, как только опасность отступала, скакали обратно на пир. Почтительность требовала похоронить павших земляков, но страх перед вражеской конницей гнал нас прочь. Иногда трупы отволакивали в канаву и под жалкую молитву бросали на них несколько скупых горстей земли. Вороны так разжирели, что с трудом отрывались от земли.
Мы, Диомаха и я, не пошли в город.
Нас предали свои же, объясняла мне Диомаха. Она разговаривала со мной медленно, как с умственно отсталым, чтобы я понял ее наверняка. Нас продали собственные сограждане, несколько фракций, стремящихся к власти, а их самих перехитрили аргосцы. Астак был портом, пусть небольшим. Аргос так долго вожделел завладеть им. Теперь это случилось.
Утром следующего дня мы нашли Бруксия. Его спасло рабское клеймо. Клеймо и его слепота, над которой захватчики потешались, хотя он ругался и махал на них своим посохом.
– Ты свободен, старик!
Свободен – голодать или ради хлеба насущного самому проситься под ярмо победителя.
Вечером пошел дождь. И дождь тоже, кажется, был не временным финалом резни. То, что было золой, теперь превратилось в серую жидкую грязь, и раздетые тела, не забранные сыновьями и матерями, теперь блестели мертвенной белизной, вымытые не знающими сострадания богами.
Нашего города больше не было. Не осталось ничего – ни жителей, ни стен, ни хозяйств. Самый дух города, сам полис, эта коллективное сознание, называемое «Астаком», который был пусть меньше Афин, Коринфа или Фив, беднее Мегары, Эпидавра или Олимпии, но тем не менее СУЩЕСТВОВАЛ,– наш город, мой город был стерт с лица земли. Мы, называвшие себя астакиотами, оказались стерты вместе с ним. Кем мы стали без нашего города?
Это словно лишило всех последнего мужества. Никто не был в состоянии думать. Все сердца оцепенели. Жизнь напоминала спектакль, трагедию, какие можно увидеть на сцене: падение Илиона, разграбление Фив. Только теперь трагедия стала нашей жизнью и в ней играли реальные люди из плоти и крови – актерами стали мы сами.
К востоку от Поля Ареса (греческий бог войны), где хоронили павших в бою, мы наткнулись на человека, копавшего могилу ребенку. 3авернутый в плащ мертвый малыш лежал на краю ямы, как узелок торговца. Мужчина попросил меня подать ему тело. Он сказал, что боится, как бы ребенка не утащили волки, потому и закапывает так глубоко. Его имени он не знал. Ему дала его какая-то женщина, бежавшая из города. Мужчина носил ребенка два дня, а на третье утро младенец умер. Бруксий не позволил мне опустить мертвое тело. «Плохая примета,– сказал он,– молодой душе иметь дело с мертвыми». Он проделал это сам. Теперь мы узнали этого мужчину. Это был математикос, городской учитель арифметики и геометрии. Из кустов вышли его жена и дочь; мы поняли, что они скрывались там, пока не убедились, что мы не причиним им вреда. Все они были не в своем уме.
Бруксий научил нас распознавать признаки безумия. Оно заразно, и нам не следовало задерживаться.
– Нам были нужны спартанцы,– заявил учитель тихим голосом, уставившись в пустое пространство заплаканными глазами.– Всего полсотни спартанцев спасли бы город.
Бруксий подтолкнул нас – мол, пора идти.
– Видите, как мы оцепенели? – продолжал учитель. Мы блуждаем во мгле, потеряв рассудок. Спартанцев вы никогда не увидите в таком состоянии. Это,– он обвел рукой почерневший пейзаж, – их стихия. Они идут сквозь эти ужасы с открытыми глазами, неколебимо. И они ненавидят аргосцев. Это их злейшие враги.
Бруксий потянул нас прочь.
– Всего пятьдесят! – продолжал кричать безумец, в то время как жена пыталась затащить его под защиту кустов.– Пять! Да один-единственный мог бы спасти нас!
К вечеру второго дня мы нашли тело Диомахиной матери, а также тела обоих моих родителей: Отряд аргосской пехоты встал лагерем вокруг опустошенных развалин нашего хозяйства. Из поселений захватчиков уже прибыли землемеры и разметчики. Мы наблюдали из кустов, как назначенные люди с мерными аршинами нарезают землю и на белом заборе возделанного моей матерью огорода ставят какие-то закорючки и знак Аргоса, которому отныне принадлежала наша земля.
Какой-то аргосец вышел помочиться и заметил нас. Мы бросились бежать, но он звал нас. Что-то в его голосе убедило нас, что ни он, ни другие не замышляют никакого зла. На сегодня они насытились кровью. Аргосцы махали руками, призывая подойти, и выдали нам тела. Я стер грязь и кровь с тела матери рубашкой, которую она мне сшила к обещанной поездке на Итаку. Ее плоть напоминала мягкий воск. Я не плакал, когда заворачивал ее в саван, сотканный ее собственными руками и, как ни удивительно, не украденный из чулана аргосцами; не плакал и когда закапывал ее и отцовы кости под камнем с именем нашей семьи.
Я должен был исполнить погребальный обряд, но меня ему еще не обучили, ожидая, когда я достигну двенадцатилетнего возраста. Диомаха зажгла огонь, и аргосцы запели пэан – священную песню, единственную знакомую им:
3евс Спаситель, убереги нас,
Идущих в твой огонь.
Дай нам мужества встать
Щит к щиту с нашими братьями.
Под твоей могучей эгидой
Мы наступаем,
Повелитель громов,
Наша надежда и защита.
Допев гимн, аргосцы изнасиловали Диомаху. Сначала я не понял их намерений. Я думал, она нарушила какую-то часть обряда и они собираются побить ее за это. Один аргосец схватил меня одной мохнатой рукой за волосы, а другой обхватил шею, готовый сломать ее. Бруксию приставили к горлу копье и кончиком меча стали колоть в спину. Никто не произнес ни слова. Их было шестеро, без доспехов, в потемневших от пота хитонах, с мусором в густых бородах и мокрой от дождя, грубой, спутанной и грязной растительностью на груди. Они смотрели на Диомаху, на ее гладкие девичьи ноги и начинающие проступать под хитоном груди.
– Не трогайте их,– просто сказала Диомаха, имея в виду меня и Бруксия.
Двое отвели ее за забор огорода. Когда они закончили, Диомаху изнасиловали по очереди еще четверо. После этого меч убрали от спины Бруксия, и он пошел на огород, чтобы принести Диомаху. Но она не позволила. Она сама встала на ноги, хотя для этого пришлось опереться на забор; ее бедра потемнели от крови. Аргосцы дали нам четверть бурдюка вина, и мы взяли.
Было ясно, что Диомаха идти не может. Бруксий взял ее на руки. Один из аргосцев вложил в мою руку черствую горбушку хлеба.
– 3автра с юга подойдут еще два отряда. Идите в горы и двигайтесь на север. Не спускайтесь, пока не доберетесь до Акарнании.– Он говорил со мной ласково, как с собственным сыном.– Если наткнетесь на поселок, не берите туда девочку, а то снова получится так же.
Я повернулся и плюнул на его вонючий хитон – жест беспомощности и отчаяния. Когда я отвернулся, он схватил меня за руку:
– И избавьтесь от этого старика. От него никакого толку. Дойдет до того, что тебя и девчонку убьют из-за него.
Глава пятая
Говорят, иногда призраки, которые не могут разорвать своей связи с живыми, задерживаются в воздухе как бестелесные стервятники. Они отказываются подчиниться приказу Аида отправляться под землю и посещают те места, где жили под солнцем. Вот так же и мы – Бруксий, Диомаха и я – неделями кружили вокруг развалин нашего города. Больше месяца мы не могли покинуть наш опустошенный полис. Мы блуждали по диким местам над агротерой – окраинным пустырям вокруг пашен; днем, пока было тепло, спали, а ночами передвигались как тени,– да мы и были тенями. С гор мы наблюдали, как внизу копошатся аргосцы, занимая наши рощи и дома.
Диомаха больше не была такой, как раньше. Она в одиночестве уходила в темные чащи и проделывала невыразимые вещи со своим женским телом. Она пыталась разделаться с ребенком, который мог расти внутри нее.
– Она считает, что нанесла оскорбление богу Гименею,– объяснил мне Бруксий, когда я однажды застал ее и она прогнала меня проклятьями и градом камней,– и боится, что никогда не станет ничьей женой, а лишь рабыней или шлюхой. Я пытался сказать ей, как это глупо, но она не стала слушать слов мужчины.
В то время на холмах скрывалось немало таких, как мы. Мы натыкались на них у источников и пытались восстановить отношения с бывшими земляками-астакиотами. Но исчезновение нашего полиса навсегда разорвало прежние добрые отношения. Теперь каждый был сам по себе – каждый человек, каждая родственная группа.
Несколько моих знакомых мальчишек объединились в банду. Их было одиннадцать, все не больше чем на два года старше меня, и все отъявленные сорванцы. Они ходили с оружием и хвастали, что убивали взрослых мужчин. Однажды они поколотили меня, когда я отказался присоединиться к ним. Мне хотелось пойти с ними, но я не мог бросить Диомаху. Они бы взяли и ее, но я знал, что она никогда не приблизится к ним.
– Это наша территория,– предупредил меня вожак, двенадцатилетний звереныш, называвший себя Сфереем. Сферей означает «игрок в мяч», и он называл себя так, потому что набил травой череп собственноручно убитого аргосца и теперь вертел его в руке, как монарх свой
скептрон (жезл, скипетр). Возвышенности над городом, недостижимые для аргосского оружия, он называл территорией своей банды.
– Если мы снова поймаем вас здесь – тебя, твою сестру или раба,– то вырежем вам печенку и скормим собакам. Наконец осенью мы покинули наш город. Это было в сентябре, когда подул Борей, северный ветер. Без Бруксия, разбиравшегося в корешках и умевшего ставить силки, нам бы пришлось голодать.
Раньше мы ловили диких птиц для забавы, или чтобы создать пару для несения яиц, или чтобы просто подержать птицу в руках, а потом выпустить на волю. Теперь мы их ели. Бруксий заставлял нас съедать все, кроме перьев. Мы хрустели маленькими, пустыми внутри косточками, ели глаза, съедали ноги до самых кончиков и выбрасывали только клюв и когти, которые было не разжевать. Мы глотали сырые яйца. Давились червями и слизнями. Мы поглощали личинок и жуков и дрались за последних ящериц и змей, пока те не уползли на зиму под землю. Мы съели тогда столько укропа, что до сих пор я затыкаю нос при запахе этой травки, если хоть щепотку добавляют к вареному мясу. Диомаха отощала, как тростинка.
– Почему ты больше не разговариваешь со мной? – спросил я ее как-то ночью, когда мы взбирались по каменистому склону.– Почему я не могу положить голову тебе на колени, как раньше?
Она заплакала и не ответила.
Я сделал себе пехотное копье из твердого ясеня и для прочности обжег острие на огне. Это была уже не детская игрушка, а оружие, предназначенное убивать. Мое сердце питалось картинами мести. Я буду жить среди спартанцев. Когда-нибудь я стану разить аргосцев. Я тренировался, повторяя виденные когда-то упражнения наших воинов, маршировал, как будто в строю, высоко выставляя перед собой воображаемый щит; мое копье, крепко сжатое над правым плечом, готовилось к броску. Как-то раз в сумерках я обернулся и увидел свою двоюродную сестру. Она холодно наблюдала за мной.
– Когда вырастешь, ты будешь как они,– сказала Диомаха, имея в виду аргосцев, надругавшихся над ней.
– Не буду!
– Ты будешь мужчиной. И не сможешь ничего с собой поделать.
Однажды ночью, когда мы шли уже несколько часов, Бруксий спросил у Диомахи, почему она так молчалива. Его беспокоили темные мысли, которые могли отравить ее душу. Сначала она отказалась говорить. Но потом в конце концов смягчилась и рассказала нам ласковым грустным голосом про свою свадьбу. Она всю ночь придумывала ее в голове – какое у нее будет платье, какой венок на голове, каким богиням принесет жертву. Диомаха призналась что часами думала о сандалиях. Обдумывала каждый ремешок, каждую бусинку. Как они будут красивы, эти брачные сандалии! Потом ее взор затуманился, и она отвела глаза.
– Вот и видно, какой дурочкой я стала. Никто на мне не женится.
– Я женюсь,– вдруг вызвался я.
Она рассмеялась:
– Ты? Да, у тебя много шансов!
Как ни глупо рассказывать об этом, но эти небрежные слова поразили мое мальчишеское сердце, как никакие другие за всю мою жизнь. Я поклялся, что когда-нибудь женюсь на Диомахе. И буду достойным мужчиной и воином, чтобы защитить ее.
Осенью мы пытались пожить на побережье, спали в пещерах и прочесывали низины и болотца. Там, по крайней мере можно было питаться. На берегу мы находили устриц и крабов, мидий и нотокантусов, которых разбивали камням и. Мы научились сетями на шестах ловить на лету чаек. Но с наступлением зимы жить без крова над головой стало невыносимо. Бруксий заболел. Он скрывал свою болезнь от меня и Диомахи, когда думал, что мы наблюдаем, но иногда когда он спал, я разглядывал его лицо. Элеец выглядел на семьдесят. В его годы тяжело было бороться со стихией, старые раны болели, но главное – он отдавал свою душу чтобы спасти наши, Диомахину и мою. Иногда я замечал, как он смотрит на меня, вглядываясь в выражение моего лица, прислушиваясь к тону моего голоса. Он хотел убедиться, что я не сошел с ума и не ожесточился.
Когда наступили холода, стало еще труднее добывать пищу Нам пришлось попрошайничать. Бруксий выбирал отдаленные хозяйства и один подходил к воротам. Шумной стаей собирались собаки, и из полей или из надворных построек настороженно появлялись люди – братья и отец, держа мозолистые руки на мотыгах и вилах, которыми в случае чего можно будет воспользоваться как оружием. На холмах в те дни было полно беженцев, и крестьяне никогда не знали, с какими коварными намерениями чужак может подойти к воротам. Бруксий снимал шапку и ждал хозяйку дома, чтобы она заметила его слепые глаза и изможденное состояние. Потом показывал на Диомаху и меня, жалко бредущих по дороге. Он не выпрашивал у женщины поесть – это превратило бы нас в глазах крестьян в попрошаек, на которых следует спустить собак,– нет, он просил какую-нибудь ненужную сломанную вещь. Грабли, цеп, изношенный плащ, которые мы могли бы починить, чтобы продать в следующем поселении. Для убедительности он спрашивал дорогу и изъявлял нетерпение двигаться дальше, давая понять, что доброта местных жителей не заставит нас задержаться. Почти всегда крестьянские женщины угощали нас обедом, иногда приглашали в дом, чтобы послушать новости из чужих мест и рассказать свои.
И вот во время одного из таких жалких обедов я впервые услышал слово «Сепия» Это место принадлежало Аргосу – лесистая местность близ Тиринфа, где произошло сражение между аргосцами и спартанцами. Мальчишка, принесший эту весть, приходился племянником принявшему нас крестьянину. Он был немым и объяснялся знаками, и даже собственная семья с трудом его понимала, но мы кое-как разобрали, что спартанцы под предводительством царя Клеомена добились замечательной победы. Мальчишка слышал, что погибло две тысячи аргосцев, хотя другие называли четыре тысячи и даже шесть. Мое сердце взорвалось радостью. Как бы я хотел оказаться там, со спартанцами! Быть взрослым мужчиной, наступать в боевом строю, обрушиться в справедливом гневе на аргосцев, за то что они вероломно зарезали мою мать и отца!
Спартанцы представлялись мне богами мщения. Я не мог наслушаться про героев, так сокрушительно разгромивших этих негодяев, которые убили моих родителей и надругались над моей невинной двоюродной сестрой. Ни один встречный не избежал моего горячего мальчишеского допроса. Расскажи мне про Спарту, Про ее двух царей. Про три сотни Всадников, охраняющих их. Про агоге, где обучают и воспитывают городских юношей. Про сисситию – трапезу воинов… Мы слышали легенду о Клеомене. Кто-то спросил его, почему он раз и навсегда до основания не разрушил Аргос, когда его войско стояло у ворот распростертого перед ними города. «Аргосцы нужны нам,– ответил Клеомен.– На кого же еще нам натаскивать наших юношей?»
На зимних холмах мы голодали. Бруксий слабел все больше и больше. Я принялся воровать. По ночам мы с Диомахой совершали набеги на овечьи загоны, палками отгоняли собак и, если удавалось, хватали какого-нибудь ягненка Большинство пастухов носили с собой луки, и в темноте вслед нам свистели стрелы. Мы останавливались подобрать их и вскоре набрали изрядный запас. Бруксию не нравилось, что мы стали ворами. Однажды мы раздобыли лук – стащили прямо из-под носа у заснувшего пастуха..`Это было оружие мужчины, лук фессалийского конника, такой тугой, что ни Диомаха, ни я не могли его натянуть. А потом случилось событие, которое изменило мою жизнь и направило ее по пути, закончившемуся у Горячих Ворот.
Меня поймали за кражей гусыни. Это была жирная добыча Видимо, ее откармливали для рынка, и ее крылья были колышками прибиты к земле. Когда я беззаботно перелез через забор, на меня набросились собаки. Меня заволокли в грязь на выгуле скотины и прибили к широкой доске размером с дверь, пронзив мне ладони ржавыми гвоздями. Я лежал на спине, крича от боли, а крестьяне привязали мои дрыгающиеся, пинающиеся ноги к доске и поклялись, что после обеда кастрируют меня, как барана, а мои яйца повесят на ворота в назидание другим ворам. Диомаха и Бруксий тайно прокрались ко мне по склону и могли слышать все это…
3десь пленник приостановил свое повествование. Усталость и незажившие раны взяли свою дань. А может быть, как представилось слушателям, он восстанавливал в памяти то мгновение. Великий Царь через командира Бессмертных Оронта спросил пленника, не нужно ли ему чего-нибудь. Тот человек отклонил предложение о помощи. 3аминка в повествовании, сказал он, возникла не из -
за неспособности повествователя, но от вмешательства богов, под чьим внутренним водительством излагался порядок событий и которые теперь повелевают временно уклониться от темы. Этот человек, Ксеон, сменил позу и, получив разрешение смочить горло вином, возобновил свой рассказ.
На второе лето после этого происшествия, в Лакедемоне, я стал свидетелем другого тяжелого испытания: на моих глазах спартанского юношу забили насмерть его учителя по муштре.
Имя того парня было Териандр, ему было четырнадцать, и его прозвали Триподом – Треножником, потому что ни один из сверстников в
агоге не мог повалить его в борьбе. В последующие годы в моем присутствии дюжины две других юношей погибли во время того же наказания. Все они, как и Трипод, сочли ниже своего достоинства застонать от боли, но тот парень был первым.
Порка – это ритуал в обучении юношей в Лакедемоне, не в наказание за кражу пищи (такими подвигами их поощряли развивать и совершенствовать свою изобретательность на войне), а за другое преступление – за то, что попались. Побои происходили у храма Артемиды Орфии на аллее, называемой 3вериная Тропа. При менее страшных обстоятельствах эта тенистая аллея под платанами была бы очень милым местечком.
Трипода пороли в тот день одиннадцатым. Двоих иренов, муштровщиков, руководивших поркой, сменила свежая пара – два парня, которым уже исполнился двадцать один год, только что вышедшие из
агоге, крепко сколоченные, как и все юноши в городе. Дело происходило так: очередной юноша ложился на горизонтальный железный брус, укрепленный меж оснований двух деревьев (за десятки лет, а некоторые говорят – за века, брус был отполирован этим ритуалом), и, чтобы удержаться на нем, обхватывал его. Два
ирена поочередно пороли юношу березовыми розгами толщиной с большой палец. У плеча истязаемого стояла жрица Артемиды, держа древнюю деревянную фигуру, которая, как диктовала традиция, должна была принимать на себя брызги человеческой крови.
Двое его товарищей по тренировочной группе стояли на коленях у плеч юноши, чтобы подхватывать наказуемого, когда он падал. В любое время он мог прекратить истязание, отпустив брус и упав в грязь. Теоретически истязаемый делал это, только потеряв сознание от побоев, но многие падали, просто когда больше не могли терпеть боль. В тот день на порку смотрело от ста до двухсот человек – юноши из других групп, отцы, братья и наставники и даже, скромно держась позади, некоторые матери.
Трипод терпел и терпел. Его спина уже была разодрана на дюжину частей – обнажились мясо и жилы, ребра и мышцы и даже позвоночник. Но он не падал.
– Брось! – уговаривали его между ударами два товарища, убеждая отпустить брус и упасть. Трипод отказывался. Даже
ирены начали сквозь зубы уговаривать его. По одному взгляду на лицо юноши было видно, что он потерял рассудок и решил лучше умереть, чем приподнять руку, прося пощады.
Ирены поступили так, как им было велено в таких случаях: они приготовились нанести ему подряд четыре сильнейших
удара, чтобы вышибить из него сознание и тем самым спасти жизнь. Никогда не забуду звука тех четырех ударов по его спине. Трипод упал. Ирены тут же объявили, что истязание закончено, и вызвали следующего юношу.
Но Трипод умудрился подняться на четвереньки. Из его рта, носа и ушей текла кровь. Он ничего не видел и не мог говорить, но сумел повернуться и почти встал, однако потом осел, продержался мгновение в сидячем положении и тяжко рухнул в грязь. Было ясно, что ему уже никогда не встать.
Позже в тот вечер, когда порка закончилась (смерть Трипода не остановила ритуала, и он продолжался еще три часа), присутствовавший там Диэнек вместе со своим подопечным Александром, о котором я уже упоминал, отошел в сторону. В то время я прислуживал Александру. Ему было тогда двенадцать, но выглядел он не старше десяти, и хотя уже стал прекрасным бегуном, но оставался хрупким и чувствительным. К тому же он был привязан к Триподу – старший юноша был как бы его покровителем и защитником. Александра подавила его смерть.
Взяв с собой одного Александра, если не считать своего оруженосца и меня, Диэнек удалился на площадку перед храмом Афины, расположенную прямо у склона холма, на котором стояла статуя Фобоса, бога страха. В то время Диэнеку было, как могу судить, лет тридцать пять. Он уже получил две награды за доблесть – при Эрифрах против фиванцев и при Ахиллеоне против коринфян и их аркадских союзников.
Насколько помню, Диэнек, взрослый воин, так наставлял своего воспитанника. Сначала, ласковым и нежным тоном, он вспомнил свой первый случай, когда сам еще был мальчиком – младше, чем сейчас Александр,– и его товарища тоже запороли насмерть. Потом вспомнил несколько собственных испытаний под розгами на Звериной Тропе.
Затем начал череду вопросов и ответов, составлявшую традиционный лакедемонский план обучения:
– Ответь мне, Александр, когда наши соотечественники одерживают верх в сражении, что побеждает врага?
Мальчик ответил в немногословном спартанском стиле:
– Наша сталь и наша сноровка.
– Да, верно, но не только. А вот что,– ласково подсказал ему Диэнек. Он жестом указал вверх по склону на изображение Фобоса.
Страх.
Врага побеждает его собственный страх.
– А теперь ответь, что является источником страха?
Когда Александр замешкался с ответом, Диэнек руками провел по своей груди и плечам.
– Страх исходит отсюда, из тела. Тело,– объявил он, это мастерская страха.
Александр слушал с мрачным вниманием мальчика, знающего, что вся его жизнь будет войной, что законы Ликурга запрещают ему, как и любому другому спартанцу, заниматься чем-либо, кроме войны, что срок его повинности начинается в двадцать лет и заканчивается в шестьдесят и скоро, очень скоро, никакая сила на земле не сможет освободить его от места в строю и от столкновения с врагом – щит в щит, шлем в шлем.
– Теперь ответь снова, Александр. В выполнявших сегодня порку
иренах заметил ли ты какие-нибудь признаки злобы?
Мальчик ответил:
– Нет.
– Ты бы назвал их поведение варварским? Они получали удовольствие от мучений Трипода?
– Нет.
– Их намерением было сокрушить волю Трипода и сломить его дух?
– Нет.
– Так каково же было их намерение?
– Укрепить его дух против боли.
Всю эту беседу старший воин вел ласковым, заботливым и любящим голосом. Что бы ни сделал Александр никогда голос наставника не становился менее любящим, никогда не выражал раздражения. Таков своеобразный дух спартанской системы обучения мальчиков – им подбирается ментор из чужих мужчин, не собственный отец. Ментор может сказать то, чего не скажет отец, а мальчик может признаться ментору в том, что постыдился бы открыть отцу.
– Сегодня получилось нехорошо, не так ли, мой юный друг?
Потом Диэнек спросил мальчика, как тот представляет себе сражение, настоящее сражение – сравнительно с тем, чему он стал свидетелем сегодня.
Ответа не требовалось и не ожидалось.
– Никогда не забывай, Александр: эта плоть, это тело принадлежат не тебе. И хваление богам за это. Если бы я думал, что это все мое, я бы не приблизился к врагу. Но это тело не наше, друг мой. Оно принадлежит богам и нашим детям, нашим отцам и матерям и тем лакедемонянам, которые родятся через сотни, тысячи лет. Оно принадлежит городу, который дает нам все, что у нас есть, и взамен требует не меньше.
Мужчина и мальчик продолжали спускаться по склону к реке Они шли по тропинке к роще с раздвоенной миртой, называемой Близнецами и посвященной сыновьям Тиндарея и семье, к которой принадлежал Александр. На это место он отправится в ночь своего последнего испытания – один, лишь с матерью и сестрами, чтобы получить благословение богов-покровителей и наставление на свой дальнейший жизненный путь.
Диэнек сел на землю под Близнецами и жестом велел Александру сесть рядом.
– Лично я считаю твоего друга Трипода дураком. В том, что он проявил сегодня, больше безрассудства, чем истинного мужества –
андреи. Город лишился его жизни, которую можно было бы отдать в сражении с куда большей пользой.
Тем не менее не вызывало сомнений, что Диэнек питает к нему уважение.
– Но, к его чести, Трипод показал нам сегодня, что такое благородство. Он показал тебе и всем юношам, наблюдавшим за испытанием, каково это – отречься от собственного тела, превзойти боль, преодолеть страх смерти. Ты пришел в ужас, завидев его
агонизму, но на самом деле на тебя сошло благоговение, не так ли? Благоговение перед этим юношей или вселившимся в него духом. Твой друг Трипод показал нам презрение к этому,– и снова Диэнек указал на тело.– Презрение, близкое к божественному.
С берега сверху я видел, что плечи мальчика задрожали и горе и ужас этого дня наконец стали покидать его сердце. Диэнек обнял и утешил его. Когда мальчик пришел в себя, ментор нежно его отпустил.
– Твои учителя объяснили тебе, почему спартанцы прощают и не накладывают никаких наказаний на воина, потерявшего в бою шлем и броню, но человека, утратившего щит, наказывают лишением гражданских прав?
– Объяснили,– ответил Александр.– Потому что воин надевает шлем и броню для защиты себя самого, а щит нужен для защиты всего строя.
Диэнек улыбнулся и положил руку на плечо своего воспитанника:
– Помни же это, мой юный друг. Есть сила за пределами страха. Более мощная, чем самосохранение, сегодня ты мельком увидел ее, пусть в грубой и неосознанной форме. Однако она присутствовала там, и она была истинной. Будем же помнить нашего друга Трипода и чтить его за этот урок.
Я кричал, прибитый к доске. Я слышал, как мои вопли отскакивают от стен загона и разносятся, усиленные, по склонам холмов. Я понимал всю постыдность своих воплей, но не мог остановиться.
Я умолял крестьян освободить меня, прекратить мои муки. Я был готов сделать для них что угодно и расписывал это во всю силу своих легких. Я взывал к богам, и мой позорный писклявый детский голос эхом отдавался в горах. Я знал, что Бруксий слышит меня. Вынудит ли его любовь ко мне броситься на помощь, чтобы и его прибили рядом? Я не думал об этом. Я лишь хотел окончания мучений. Я умолял убить меня. Я чувствовал раздробленные гвоздями кости в руках. Я больше никогда не смогу держать ни копья, ни огородной лопаты. Я буду калекой, колчеруким. Моя жизнь закончилась – и самым низким, позорным образом.
Кулак расквасил мне скулу.
– 3аткни свою дудку, сопливый говенный червяк! Крестьяне поставили доску стоймя и прислонили к ограде, а я корчился на ней под лучами солнца, еле ползущего по своему бесконечному небесному пути. На мои крики сбежались крестьянские мальчишки. Девочки содрали с меня мои лохмотья и тыкали пальцами и палками в мои гениталии, мальчишки мочились на меня. Собаки обнюхивали мои босые ступни, набираясь смелости мною пообедать. Я замолк, лишь когда мое горло было уже не в состоянии кричать. Я попытался вырвать с гвоздей прибитые ладони, но крестьяне, увидев это, крепко привязали мне руки к доске, так что я уже не мог двинуть ими.
– Как тебе это нравится, грязный вор? Посмотрим, как ты украдешь еще что-нибудь, ночной крысенок!
Когда наконец бурчание в животах погнало моих мучителей в дом, на ужин, Диомаха прокралась с холма и обрезала веревки. Шляпки гвоздей глубоко ушли в мои ладони, и ей пришлось кинжалом расковыривать доску. Когда меня сняли, ржавые гвозди так и остались в моих руках. Бруксий унес меня, как раньше Диомаху после изнасилования.
– О боги! – сказала она, увидев мои ладони.
Глава шестая
Та зима, по словам Бруксия, была самой холодной на его памяти. Овцы замерзали на высокогорных пастбищах. Снежные заносы загородили перевалы. Оленей преследовал такой отчаянный голод, что они, отощавшие, как скелеты, ослепнув от отсутствия пищи, спускались с гор, чтобы окончить свою жизнь в зимних овчарнях, где становились мишенями для пастушьего лука.
Мы оставались, высоко в горах, где мех у местных куниц и лис был белым как снег. Мы спали в покинутых пастухами землянках или ледяных пещерах, которые вырубали каменными топорами. Мы застилали пол сосновыми ветвями и, как щенки, прижимались друг к другу под сложенными вместе тремя плащами. Я просил Бруксия и Диомаху бросить меня и дать мне спокойно умереть от холода. А они уговаривали меня, чтобы я дал им отнести себя в поселок к врачу. Я категорически отказывался. Никогда больше я не появлюсь перед незнакомыми людьми, любыми незнакомыми людьми, без оружия в руке. Неужели Бруксий вообразил, что у врачей более высокое представление о чести, чем у других? Что можно взять с раба и покалеченного мальчишки? Какая польза от изголодавшейся тринадцатилетней девочки?
Была у меня и другая причина не появляться в городе, Я ненавидел себя за то, что в час испытаний так бесстыдно кричал, не в силах остановиться. Я познал собственное сердце, и это было сердце труса. Я питал к себе жгучее, безжалостное презрение. Легенды о спартанцах, что я лелеял в душе, только усиливали мое отвращение к самому себе. Никто из них не стал бы, как я, молить о пощаде, потеряв последние остатки достоинства. К тому же меня продолжала мучить позорная смерть моих родителей. Где находился я в час их отчаяния? Меня не было там, где они нуждались во мне. В мыслях я снова и снова представлял ту бойню, и каждый раз меня не оказывалось на месте. Я хотел умереть.
Единственно, что меня утешало, была уверенность в том, что я умру, умру уже скоро и таким образом покину этот ад своего постыдного существования.
Бруксий догадывался о моих мыслях и попытался обезоружить меня. Я же всего лишь ребенок, говорил он. Каких чудес доблести можно ожидать от десятилетнего мальчика?
– В Спарте десятилетние – уже мужчины,– заявил я.
Это был первый раз, когда я увидел Бруксия всерьез, не на шутку рассердившимся. Он схватил меня за плечи и неистово встряхнул, требуя смотреть на него.
– Послушай меня, мальчик. Только боги и герои способны на храбрость в одиночестве. Мужчина может призвать мужество только в строю с братьями по оружию, в строю со своим племенем и своим городом. Самое достойное жалости состояние под небом – это когда человек остается один, лишенный богов своего дома и своего полиса. Он становится тенью, оболочкой, шуткой и насмешкой. И вот таким стал теперь ты, мой бедный Ксео. Нельзя ожидать доблести от того, кто брошен в одиночестве и отрезан от богов своего дома.
Он выпрямился и в печали отвел глаза. Я видел рабское клеймо у него на лбу. И понял. В подобном состоянии он пребывал все эти годы – в доме моего отца.
– Но ты держался мужчиной, дядюшка,– сказал я, потребив самое нежное из известных мне слов для выражения любви.– Как тебе это удавалось?
– Он посмотрел на меня грустным, ласковым взором. Любовь, которую я мог бы отдать своим собственным детям, я отдал тебе, племянничек. Это – мой ответ на непостижимые пути богов. Но, похоже, аргосцы богам дороже, чем я Боги позволили им отобрать у меня не одну жизнь, а целых две.
Эти слова, предназначенные для утешения, только укрепили мою решимость умереть. Мои руки распухли и стали вдвое толще, из них сочились гной и сукровица, смерзавшиеся потом в отвратительную ледяную массу, которую я отковыривал каждое утро, чтобы добраться до искалеченной плоти Бруксий делал все возможное с мазями и припарками, но без толку. Обе средние кости в правой ладони были раздроблены. Я не мог ни согнуть палец, ни сжать кулак. Никогда мне не держать копье, не сжимать меч. Диомаха сравнивала мое горе со своим, но я лишь горько посмеялся над ней:
– Ты по-прежнему можешь быть женщиной. А что могу я?Как я смогу занять свое место в боевом строю?
Ночью приступы жара перемежались с припадками лютого озноба, когда не попадал зуб на зуб. Я метался в руках и Диомахи под телом Бруксия, накрывшего нас, чтобы согреть. Я снова и снова взывал к богам, но в ответ не получил ни звука. Боги покинули нас, это было ясно, и теперь мы не принадлежали ни себе, ни своему полису.
Однажды ночью, когда меня терзала лихорадка, дней через десять после случая в деревне, Диомаха и Бруксий завернули меня в шкуры и отправились поискать чего-нибудь съестного. Пошел снег, и они надеялись воспользоваться тишиной – возможно, если повезет, удастся застать врасплох зайца или спустившийся на землю тетеревиный выводок.
Мне выпал шанс. И я решил не упустить его. Выждав, когда Бруксий с Диомахой скроются за пределы видимости, я выполз из-под плаща, шкур и обмоток для ног и босой вышел под падающий снег.
Я карабкался, казалось, несколько часов, но на самом деле, наверное, не прошло и пяти минут. Лихорадка не отпускала меня. Я ослеп, как те олени, но меня вело безотказное чувство направления. Отыскав местечко среди сосновых стволов, я понял, что это и есть место для меня. Меня охватило глубокое чувство благоговения. Мне хотелось все сделать как следует, а главное – не обеспокоить Бруксия и Диомаху.
Я выбрал дерево и прижался к нему спиной, чтобы его дух, касающийся одновременно неба и земли, безопасно проводил меня из этого мира. Да, это было правильное дерево. Я чувствовал, как из кончиков ног распространяется Сон, брат Смерти. Ощущал слабость в чреслах и пояснице. Когда онемение достигнет сердца, представлялось мне, я умру. Но тут меня поразила страшная мысль.
А что, если это не то дерево? Может быть, мне следовало прислониться вон к тому? Или вон к тому, там? Меня охватила паника нерешительности. Я выбрал не то место! Мне было нужно встать, но я уже не владел своими членами и не мог двигаться. Я застонал. Даже в собственной смерти – неудача! Когда мое отчаяние достигло высшей точки, я с испугом заметил человека, стоявшего среди деревьев прямо передо мной!
Моей первой мыслью было, что он поможет мне сдвинуться с места. Он мог бы дать мне совет. Помочь принять решение. Вместе мы смогли бы выбрать правильное дерево, и он прижал бы к нему мою спину. Из какой-то части сознания возникла тупая мысль: а что этот человек делает здесь в этот час, в этот снегопад?
Я моргнул и изо всех своих уходящих сил попытался сосредоточиться. Нет, мне не приснилось. Кто бы это ни был, он действительно был здесь. Пронеслась смутная мысль что это, должно быть, Бог. Я спохватился, что веду себя непочтительно по отношению к нему. Оскорбляю его. Определенно, приличия требуют, чтобы я отнесся к нему со страхом и благоговением или распростерся 6ы ниц перед ним. Однако что-то в его осанке, не величественной, а странной и эксцентричной, словно говорило: оставь заботы. Я воспринял это. И ему это как будто бы понравилось. Я понял, что он собирается заговорить и какие бы слова ни вышли из его уст, они будут иметь для меня первостепенную важность – в этой земной жизни или в той, куда я собирался перейти. Я должен выслушать, приложив все усилия, и ничего не забыть.
Его ласковые, удивительно добрые глаза встретились с моими.
– Я всегда считал, что копье – не слишком изящное оружие, – проговорил он со спокойным величием в голосе, который мог быть только голосом Бога.
«Что за странное высказывание?» – подумал я.
И при чем тут – «изящное»? У меня появилось такое чувство, что слово это тщательно выбрано, что это точный термин, найденный Богом. Для него оно как будто бы под множеством покровов таило в себе глубокий смысл, но я не имел представления какой. Потом я заметил серебряный лук у него на плече.
Лучник.
Стреловержец Аполлон.
И вдруг, без молнии, без всякого озарения, а просто самым обыкновенным в мире образом я понял все, что означали его слова и само его присутствие. До меня дошло, что он имел в виду и что мне следует делать.
Моя правая рука. Ее разорванные сухожилия никогда не позволят мне сжать копье, как положено воину. Но ее средний и указательный пальцы могут зацепить и натянуть двойную жилу тетивы. Левая рука, даже лишенная силы держать ремень гоплона-щита, может удержать лук и согнуть его во всю силу.
Лук.
Лук спасет меня.
Глаза Лучника на мгновение нежно проникли в мои. Понял ли я? Его взгляд, казалось, не столько спрашивал у меня: «Теперь ты будешь служить мне?» – сколько подтверждал неизвестный мне раньше факт, что всю мою жизнь я находился на службе ему.
Я ощутил, как в мое тело возвращается тепло, а в ноги, в ступни, словно прилив, прибывает кровь. Снизу кто-то позвал меня по имени, и я понял, что это моя двоюродная сестра,– она и Бруксий, встревоженные, прочесывают склон в поисках меня.
Переползая через заснеженный гребень и пошатываясь среди сосен, до меня добралась Диомаха.
– Что ты тут делаешь один?
Я чувствовал, как она бьет меня по щекам – сильно, словно стараясь вывести из сна или транса. Она плакала, сжимая меня в объятиях, она сорвала с себя плащ, чтобы закутать меня. Потом позвала Бруксия, который в своей слепоте, как мог, взбирался по склону.
– Со мной все в порядке,– услышал я свой голос. Диомаха снова и снова била меня по щекам, плача и проклиная за глупость и за то, что до смерти напугал их обоих.
– Все хорошо, Дио,– повторил мой голос.– Со мной все в порядке.
Глава седьмая
Прошу у Великого Царя терпения выслушать повествование о событиях, последовавших за разграблением города, о котором он никогда не слышал,– неприметного полиса, ничем не славного, не породившего ни одного легендарного героя, не связанного с великими событиями нынешней войны и с битвой, в которой войско Великого Царя сражалось против спартанцев и их союзников в Фермопильском проходе.
Я хочу через ощущения двух подростков и раба выразить лишь малую долю того душевного страха и опустошения, которые покоренное население вынуждено терпеть в часы исчезновения с лица земли их государства. Хотя Великий Царь руководил разорением могущественных держав, все же, если говорить откровенно, он видел страдания тех народов лишь издали, с высоты пурпурного трона или покрытого чепраком жеребца, защищенный золочеными копьями своей царской стражи.
3а последующие десять лет между греческими городами случилось более десяти дюжин столкновений и войн. Были целиком или частично разрушены по меньшей мере сорок
полисов, включая такие неприступные крепости, как Книд, Арефуза, Колоная, Амфисса и Метрополис. Было сожжено бессчетное число крестьянских хозяйств и храмов, потоплено множество военных кораблей, убиты сотни и тысячи воинов, угнаны в рабство десятки тысяч их жен и дочерей. Ни один эллин, как бы ни был могуч его город, не мог быть уверен, что через несколько месяцев еще будет по-прежнему пребывать на своей земле с головой на плечах, со спокойно живущими рядом женой и детьми. Такое состояние дел не было каким-то исключительным. Не хуже и не лучше, чем любая другая эпоха со времен Ахилла и Гектора, Тезея и Геракла, от рождения самих богов. Дела как дела, как говорят эмпоры, торговцы.
Каждый в Греции понимал, что означает поражение в войне, и каждый сознавал, что рано или поздно эта горькая чаша совершит свой круг по столу и в конце концов окажется перед ним.
И вдруг, с возвышением в Азии Великого Царя, показалось, что этот час наступит скоро.
Страх разорения распространился по всей Греции, когда начали приходить слухи о размахе военных приготовлений Великого Царя на Востоке и о его намерении предать огню всю Элладу, и эти слухи исходили из слишком многих уст, чтобы можно было им не поверить.
И таким всеобъемлющим был этот страх, что ему дали имя.
Фобос.
Не просто страх, а – Страх.
Страх перед тобой, Великий Царь. Ужас перед яростью Ксеркса, сына Дария, Великого Царя восточной державы, Повелителя всех людей от восхода до заката солнца. Вся Греция узнала, что несметные полчища под его знаменем уже выступили в поход, чтобы поработить нас.
Прошло десять лет после разорения моего родного города, но страх от тех дней неизгладимо продолжал жить во мне. Мне уже исполнилось девятнадцать. События, о которых я еще упомяну в свой черед, разлучили меня с моей двоюродной сестрой и Бруксием и привели, согласно моим желаниям, в Лакедемон, а через какое-то время я стал служить моему хозяину Диэнеку Спартанскому. Я и еще три оруженосца были отданы в распоряжение ему и троим другим посланникам Спарты – Олимпию, Полинику и Аристодему,– чтобы служить им на острове Родос, во владениях Великого Царя. Там эти воины и сам я впервые краем глаза увидели малую долю всей военной мощи Персии.
Сначала появились корабли. На вторую половину дня меня отпустили, и я воспользовался этим временем, чтобы узнать, сколько смогу, об острове. Подойдя к ватаге упражнявшихся в поле родосских пращников, я смотрел, как эти кипящие энергией парни с удивительной быстротой бросают свои свинцовые шары диаметром в три больших пальца Этими убийственными снарядами они со ста шагов могли пробить сосновую доску толщиной в пядь и три раза из четырех попадали в мишень размером с человеческий торс. Один из пращников, юноша моих лет, демонстрировал мне, как они на своих свинцовых снарядах вырезают кинжалами причудливые приветствия: «Слопай это» или: «Люби и, поцелуй». И вот тогда, пока мы болтали, все остальные смотрели на море и указывали на горизонт в направлении Египта. Мы увидели паруса, возможно, целой эскадры, примерно в часе ходу от нас. 3абыв про корабли, пращники вернулись к своему занятию, но, как показалось, всего лишь через мгновение вновь закричали – на сей раз почти в суеверном ужасе. Все поднялись и уставились в одну сторону к нам приближалась эскадра триер с парусами, забранными для скорости гитовами. Корабли уже меняли курс и быстро причаливали к волнолому. Никто никогда не видел таких больших весел, гребущих с такой скоростью.
Это были боевые корабли. Тирренские триеры, такие низкие что скамьи
фаламитов (гребцы нижнего ряда весел на триере) возвышались над волнами не более чем на ладонь. Они гнались наперегонки под флагом Великого Царя. Упражнялись перед походом на Грецию. Перед войной. Готовились к тому дню, когда их обитые бронзой тараны отправят на дно моряков Эллады.
В тот вечер Диэнек и другие посланники прошли пешком до бухты в Линдосе. Боевые корабли были вытащены на берег, и их оцепила египетская пехота. Египтяне узнали спартанцев по их алым плащам и длинным волосам. Последовала забавная сцена. Командир египтян-пехотинцев жестом подозвал спартанцев, улыбаясь им из толпы зевак, собравшейся у кораблей. Нам устроили осмотр эскадры. Египтяне через переводчика спрашивали, как скоро, по нашему мнению, мы окажемся на войне друг против друга и не сведет ли нас судьба снова – уже на поле боя.
Египетские воины ростом превосходили всех людей, кого я встречал в жизни, и их кожу почти дочерна опалило солнце. Они были при оружии, в замшевых башмаках, в бронзовых чешуйчатых латах и инкрустированных золотом шлемах со страусовыми перьями. Оружием их были копья и кривые мечи. В приподнятом настроении эти воины сравнивали мышцы своих ягодиц и бедер со спартанскими и шутили на своем непонятном для остальных языке.
– Рад видеть вас, гиеноподобные ублюдки,– проговорил, осклабившись, Диэнек командиру египтян на дорийском диалекте и по-дружески хлопнул его по плечу.– Жду не дождусь вырезать твои яйца и в корзине послать их домой.
Тот рассмеялся, не поняв, и, сияя, ответил на своем языке каким-то оскорблением, без сомнения столь же угрожающим и грязным.
Диэнек спросил египтянина, как его зовут, на что тот ответил: Птаммитех. Диэнек спросил, сколько боевых кораблей Великий Царь насчитывает в своем флоте. «Шестьдесят»,– передал переводчик.
– Шестьдесят кораблей? – переспросил Аристодем.
Египтянин не удержался от ослепительной улыбки.
– Шестьдесят эскадр.
Египтяне шли рядом со спартанцами и позволили поближе осмотреть корабли, которые, вытащенные на песок, накренились набок, подставив днище для очистки и конопаченья. Этой нелегкой работой с энтузиазмом и занимались тирренские моряки. Я почуял запах воска. Мореходы натирали днище воском для лучшего скольжения по воде. Все доски были соединены встык, а шипы и пазы были подогнаны с такой точностью, что казалось, это делали не корабельные плотники, а столяры-краснодеревщики. Соединительные панели между тараном и корпусом были покрыты увеличивающей скорость керамикой и вымазаны какой-то смазкой, которую матросы разогревали и наносили лопатками. Рядом с этими быстроходами спартанская галера « Орфия» напоминала посудину для перевозки мусора. Но наибольшее наше внимание привлекли кое-какие вещи, не имевшие отношения к морю.
Это были кольчуги, которыми пехотинцы обернули бедра, чтобы защитить интимные части тела.
– Что это, узорчатая ткань? – спросил Диэнек, смеясь и дергая начальника египетских воинов за край кольчуги.
– Осторожнее, дружок,– ответил тот с театральным жестом.– 3наю я вас, греков! Слышал.
Египтяне стали расспрашивать спартанцев, почему у тех такие длинные волосы. Олимпий ответил, процитировав законодателя Ликурга:
– Потому что никакое другое украшение не делает красивого мужчину еще более красивым, а безобразного – еще более безобразным. И оно бесплатное.
Потом египтянин стал дразнить спартанцев за их удивительно короткие мечи –
ксифосы. Он отказывался поверить что это настоящее оружие, которое лакедемоняне берут с собою в бой. Должно быть, это игрушки. Как могут эти крошечные ножички для чистки яблок причинить вред врагу?
– Хитрость в том,– продемонстрировал Диэнек, сойдясь грудь в грудь с египтянином,– чтобы удобно прильнуть. При расставании спартанцы подарили египтянам два меха фалерского вина – лучшего, какое имели, предназначавшегося для Родосского консульства. А египтяне дали каждому спартанцу по золотому дарику (месячное жалованье греческого гребца) и по мешку свежих нильских гранатов.
Миссия вернулась в Спарту ни с чем. Родосцы, как известно Великому Царю,– это дорийские эллины, они говорят на диалекте, сходном с лакедемонским, и зовут своих богов теми же именами. Но их остров еще до первой Персидской войны был протекторатом Великой Державы. А что еще оставалось родосцам, как не подчиниться,– ведь их государство лежит непосредственно в тени мачт персидского флота! Спартанская делегация лишь попробовала, сама не веря в успех, воспользоваться родственными связями, чтобы отговорить некоторую часть родосского флота от службы Великому Царю. Но никто на это не пошел.
Успеха не имели, как узнала наша делегация, вернувшись на материк, и сходные миссии, направленные на Крит, Кос, Хиос, Лесбос, Самос, Наксос, Имброс, Самофракию, Фасос, Скирос, Миконос, Парос, Тенос и Лемнос. Даже Делос, родина самого Аполлона, выказал знаки покорности персам.
Фобос.
Этот страх можно было вдохнуть вместе с воздухом Андроса, куда мы зашли по пути домой. На Хиосе и Гермионе он ощущался испариной на коже – там не было ни одной бухты или причала, где не нашлось бы шкиперов и гребцов с рассказами о готовности Востока к войне и донесениях очевидцев о несметных полчищах врага.
Фобос.
Этот попутчик сопровождал делегацию и когда она высадилась у Фиреи и начала двухдневный тяжёлый переход по пыли через Парнон в Лакедемон. Поднявшись на восточный горный массив, посланцы могли видеть, как прибрежные жители и горожане уносят свои пожитки в горы. Мальчишки погоняли ослов, нагруженных мешками с пшеницей и ячменем, их охраняли вооруженные члены семьи мужского пола. Вскоре за ними отправятся старики и дети. Высоко в горах семьи закапывали амфоры с вином и маслом, строили загоны для овец и высекали грубые пещеры в скалистых склонах.
Фобос.
У приграничной крепости Кари наша группа присоединилась к направлявшемуся в Спарту посольству из греческого города Платеи – дюжине человек, включая верховой эскорт. Посольство возглавлял герой Марафона Аримнест. Говорили, что этот благородный муж в той славной битве десять лет назад вошел в полном вооружении в полосу прибоя и рубил мечом весла персидских триер, когда персы, спасая свои жизни, отходили от берега. Спартанцы любили подобное. Они настояли, чтобы делегация Аримнеста разделила с нами ужин и сопроводила нас на остатке пути до самого города.
Платеец поделился с нами своими сведениями о противнике Персидское войско, сообщил он, насчитывало два миллиона человек, собранных со всех покоренных стран. Предыдущим летом оно сосредоточилось у Суз, столицы Великого Царя, после чего выступило в Сарды и перезимовало там. Из этого места, как мог безошибочно предугадать любой начинающий младший командир, полчища должны были направиться на север вдоль побережья Малой Азии, через Эолию и Троаду, затем по понтонному мосту или на множестве лодок форсировать Геллеспонт, двинуться на запад пересечь Фракию и Херсонес, потом на юго-запад пройти через Македонию, а потом и на юг, в Фессалию.
В саму Грецию.
Спартанцы рассказали то, что услышали на Родосе: персидское войско уже на марше из Сард. Основной корпус уже остановился в Абидосе, готовясь к переправе через Геллеспонт.
Через месяц они будут в Европе.
В Селассии моего господина ожидал посланец от спартанских эфоров с дипломатической почтой. Диэнеку надлежало покинуть делегацию и немедленно направиться в Олимпию. Он отделился от остальных на Пелланской дороге и, взяв с собой одного меня, пошел быстрым маршем, намереваясь за два дня одолеть почти пятьсот стадиев.
Нет ничего необычного в том, что в этих путешествиях к путнику пристраиваются стаи воодушевленных собак и даже полудикие местные мальчишки. Иногда подобные беспечные спутники сопровождают тебя весь день, с веселым шумом труся по пятам. Диэнек любил этих бродяг и никогда не упускал случая приветить их и развлечься в такой благообретенной компании. В тот день, однако, он сурово отгонял всех, кто ни попадался навстречу, собак и людей, решительно шагая вперед и не глядя по сторонам.
Никогда я не видел его таким озабоченным и таким мрачным.
На Родосе произошло одно событие которое, как я ощутил, определенно послужило причиной беспокойства моего хозяина. Это случилось в бухте сразу после того, как спартанцы и египтяне закончили обмен подарками и собрались расстаться. Возникла одна из тех пауз, когда противники часто отказываются от формальностей, с которыми общались до сих пор, и говорят друг с другом от души. Мой хозяин и полемарх Олимпий, отец Александра, явно завоевали доверие Птаммитеха, и он отозвал их в сторону, заявив, что хочет кое-что показать. Египтянин отвел их в возведенный на берегу шатер командующего эскадрой и с его позволения сотворил чудо, какого спартанцы, а я и подавно, никогда не видели.
Это была карта.
Графическое представление не только Эллады и островов Эгейского моря, но и всего остального мира.
Карта была шириной около шести локтей, с мельчайшими подробностями, тончайшей работы, начертанная на нильском папирусе – необычайном материале: если поднести его к свету, сквозь него можно было видеть, но даже руки сильнейшего мужчины не могли разорвать его, если не надрезать лезвием.
Египтянин развернул карту на столе командующего эскадрой. Он показал спартанцам их родину в сердце Пелопоннеса, Афины более чем в тысяче стадиев к северо-востоку, Фивы и Фессалию к северу оттуда и горы Осса и Олимп на самом севере Греции. К западу от Греции стилос картографа начертил Сикелию, Италию и всю сушу и море до Геркулесовых Столпов. Однако карта только начала разворачиваться.
– Я хочу лишь произвести на вас впечатление, господа, – для вашей же сохранности – протяжённостью державы Великого Царя. Посмотрите на ресурсы его владений, на силы, которые находятся под его властью и которые он двинет на вас,– через переводчика обратился к спартанцам Птаммитех.– Чтобы вы сами, основываясь на фактах, а не на домыслах, могли решить, стоит вам сопротивляться или нет.
Он развернул папирус дальше. Под светом лампы появились острова Эгейского моря, Македония, Иллирия, Фракия и Скифия, Геллеспонт, Лидия, Кария, Киликия, Финикия и ионические города Малой Азии.
– Всеми этими странами правит Великий Царь. Всех их он собрал себе на службу. Все они идут на вас. Но разве это Персия? Мы еще не добрались до самой Державы…
Он развернул карту еще больше. Рука египтянина обвела контуры Эфиопии, Ливии, Аравии, Египта, Ассирии Вавилонии, Шумерии, Каппадокии, Армении и 3акавказья. Он произнёс несколько слов о славе этик царств, упомянув число их воинов и оружие, которое они несли.
– Если двигаться быстро, путешественник может пересечь весь Пелопоннес за четыре дня. Посмотрите сюда, друзья мои. Только чтобы добраться от Тира до Суз, столицы Великого Царя, требуется трехмесячный поход. Вся эта земля, все ее люди и богатства принадлежат Ксерксу. Все эти народы не воюют между собой, как любите делать вы, эллины, и не распадаются на ненадежные союзы. Когда царь велит им собраться воедино, его войска собираются. Когда он приказывает идти в поход, они идут. И все же, сказал Птаммитех,– мы еще не добрались до Персеполиса и сердца Персии.
Он развернул карту дальше.
Перед нами возникли новые земли с еще более замысловатыми названиями. Египтянин представил нам новые цифры. Двести тысяч из этой сатрапии, триста тысяч из той. Греция на западе казалась все ничтожнее и ничтожнее. Она словно съеживалась на фоне бесконечной Персидской державы. Теперь египтянин говорил о диковинных зверях и химерах. О верблюдах и слонах, о диких ослах размером с ломовую лошадь. Он очертил земли самой Персии, потом Мидии, Бактрии, Парфии, Каспии, Арии, Согдианы и Индии – стран, о которых его слушатели никогда ничего не слышали.
– Из этих обширных земель Великий Царь призвал новые мириады воинов, людей, выросших под обжигающим солнцем востока, привыкших к трудностям, которые вам и не представить, вооружённых оружием, противостоять которому у вас нет опыта, и он платит им золотом и сокровищами, которые не имеют счета. Каждое изделие, каждый плод, зерно, свинья, овца, корова, лошадь, добыча каждого рудника, каждого поля, рощи и виноградника принадлежат Великому Царю. И все это он влил в укрепление своего войска, которое уже идет поработить вас. Послушайте меня, братья. Племя египтян – древнее племя, насчитывающее сотни поколений, и его корни уходят в древность. Мы видели, как приходят и уходят великие царства. Мы правили, и нами правили. Да и теперь мы считаемся покоренным народом – мы служим персам. Но выслушайте мои соображения, друзья. Похож ли я на бедняка? Веду ли я себя униженно? Загляните в мой кошелек. При всем уважении, братья, я могу купить и продать вас со всем вашим имуществом на одни только те деньги, что ношу при себе на расходы.
Тут Олимпий прервал египтянина и потребовал не отвлекаться от сути.
– Суть вот в чем, друзья: Великий Царь окажет вам, спартанцам, не меньшую честь, чем нам, египтянам, или любому другому воинственному народу, если вы проявите мудрость и добровольно пойдете на службу под его знамена. Мы на востоке постигли то, чего вы, греки, еще не поняли. Колесо вращается, и человек должен вращаться вместе с ним. Сопротивляться – не просто глупость, это безумие.
Я следил за глазами моего господина. Он, несомненно, понял, что намерения египтянина искренни и что его слова предполагают дружбу и уважение. И все же не смог сдержать гнева, выдав его прилившей к лицу кровью.
– Ты никогда не знал вкуса свободы, друг,– сказал Диэнек, – а то бы понял, что она приобретается не золотом, а сталью.
Он быстро обуздал свой гнев, по-дружески похлопал египтянина по плечу и с улыбкой взглянул ему в глаза.
– Что касается колёса, о котором ты сказал,– закончил мой господин,– как и всякое другое, оно вращается в обе стороны.
Мы прибыли в Олимпию после полудня на второй день после отбытия из Пеллены. Олимпийские игры в честь Зевса – у эллинов самый священный праздник. В недели их проведения ни один грек не смеет поднять оружие на другого грека и даже на иноземного захватчика. Игры должны были состояться в тот самый год, через несколько недель. Олимпийскую территорию и жилища уже заполняли атлеты со своими учителями из всех греческих городов; как предписывает небесный закон, атлеты готовились к состязаниям на месте. Как только прибыл мой хозяин, участники состязаний – атлеты в расцвете молодости и несравненные в резвости ног и доблести – окружили его, громко требуя рассказать новости о персидском наступлении. Не мне было спрашивать о миссии моего господина, однако я мог догадываться, что за этим последует просьба к жрецам снять пресловутый запрет.
Пока Диэнек был занят своими делами в помещении, я ожидал снаружи. Когда он закончил, до захода солнца оставалось несколько часов. Нашему отряду из двух человек, все так же без сопровождающих, предстояло немедленно пуститься в путь обратно в Спарту. Но мой хозяин был по-прежнему обеспокоен. Казалось, он что-то замышляет.
– Пошли,– сказал он, направляясь на Аллею Победителей, что лежит к западу от Олимпийского стадиона,– я покажу тебе кое-что для твоего образования.
Мы обогнули столбы почета, где были высечены имена победителей Игр и названия пославших их городов. Там мой глаз заметил имя Полиника, товарища моего хозяина по миссии в Родосе. Его имя было высечено дважды: за победу на двух подряд Олимпиадах в беге с полным вооружением. Диэнек показал мне имена победителей-лакедемонян, которым теперь было уже за тридцать или даже за сорок и которых я знал в лицо, а также других, которые пали в боях десятилетия или даже века назад. Потом он показал последнее имя – имя того, кто одержал победу в пентатлоне четыре Олимпиады назад:
ЯТРОКЛ
Сын Никодиада
Лакедемонянин
– Это мой брат,– сказал Диэнек.
В ту ночь мой хозяин заночевал в спартанском доме для участников Игр, ему освободили ложе внутри, а мне отвели место под портиком. Но его не оставляло беспокойство. Не успел я устроиться на холодных камнях, как он вышел, полностью одетый, и сделал мне знак следовать за ним Мы прошли по пустынным улицам к Олимпийскому стадиону, вошли в тоннель для участников состязаний и вышли на обширное и безмолвное пространство напротив арены в свете звезд казавшейся пурпурной и словно бы задумчивой. Диэнек поднялся выше места судей – сидений на траве, выделявшихся на время Игр для спартанцев, – выбрал на вершине склона укромный уголок под соснами и устроился там.
Я слышал, что для любовника времена отмечены воспоминаниями о тех женщинах, чья красота воспламеняла его сердце. Он вспоминает этот год как год, когда, помешанный, он преследовал по городу одну любимую, а тот – когда другая избранница сдалась наконец его чарам.
С другой стороны, для матери и отца времена исчисляются рождениями детей: тогда-то ребенок сделал первый шаг, тогда-то – произнес первое слово. Этими домашними вехами отмечен календарь жизни любящих родителей, и они занесены в книгу их памяти.
Но для воина времена отмечены не такими милыми мерами и не самими календарными годами, а сражениями, боевыми действиями и потерянными товарищами, смертельными испытаниями выживших. Стычки и конфликты того времени стирают все поверхностные воспоминания, оставляя лишь поля сражений и их названия. Эти воспоминания приобретены за священные монеты пролитой крови и оплачены жизнью любимых братьев по оружию. Они занимают в памяти бойца особое место за пределами других знаменательных событий. Подобно жрецу со своим
графисом и вощеной дощечкой, пехотинец тоже ведет записи. Его история высечена стальным стилом в нем самом, и этот алфавит нестираемо выгравирован копьем и мечом на его теле.
Диэнек устроился на земле в тени деревьев над стадионом. Я приготовил подогретое масло, приправленное гвоздикой и окопником, и начал умащать им тело моего хозяина. Он потребовал этого, чтобы просто улечься на земле и заснуть,– так делают все спартиаты после тридцати. Диэнек был далеко не старик, ему едва исполнилось сорок два, но все его суставы хрустели, как у старика. Его бывший оруженосец, скиф по прозвищу Самоубийца, научил меня, как правильно разгонять узлы и отеки в ткани шрамов, оставленных на теле моего господина многочисленными ранами, и маленьким хитростям по облачению его в доспехи, чтобы эти дефекты не проявлялись. Левое плечо Диэнека не могло выдвигаться вперед дальше уха, а левый локоть не поднимался выше ключицы. Панцирь следовало надевать сначала на торс, чтобы господин поддерживал его за скрепы локтями, пока я прилаживаю плечевые ремни и закрепляю их в нужном положении. Его позвоночник не сгибался, и он не мог поднять щит, даже встав на колени. Бронзовый наруч мне следовало держать на весу и прилаживать на предплечье в стоячем положении. К тому же правая ступня Диэнека не сгибалась, если не помассировать сухожилие, пока не восстановится ток крови и не пройдет онемение.
Однако самой страшной раной моего господина был ужасающий рубец шириной в палец, который рваными зубцами опоясывал поперек лба всю его голову чуть ниже линии волос. Обычно его не было видно под длинными ниспадавшими на лоб волосами, но когда Диэнек забирал их, чтобы надеть шлем, или завязывал сзади на ночь, этот багровый шрам показывался. И теперь я видел его в свете звезд. Очевидно, любопытство на моем лице показалось моему хозяину забавным, поскольку он усмехнулся и поднял руку, чтобы провести ею по рубцу.
– Это подарок от коринфян, Ксео. Давний, полученный примерно в то время, когда ты родился. Кстати, его
история связана с моим братом.
Мой господин посмотрел вниз по склону, в сторону Аллеи Победителей. Возможно, он чувствовал близость тени своего брата, или рядом витали обрывочные воспоминания о детстве, или о сражении, или об агоне Игр. Он дал мне знак, что можно налить в чашу вина и что я могу налить себе тоже.
– Тогда я никем не командовал,– не дожидаясь вопросов, начал Диэнек.– Я носил хохолок, а не скребок для шкур.– Это означало: шлем с идущим со лба до затылка гребнем, какие носят рядовые пехотинцы, а не с поперечным, выделяющим командира
эномотии.– Хочешь выслушать эту историю, Ксео? В качестве сказки на ночь.
Я ответил, что хочу, очень. Мой хозяин задумался. Очевидно он сомневался, не содержит ли такой рассказ тщеславия и не будет ли он излишней откровенностью. В этом случае он бы сразу прервал себя. Однако, видимо, рассказ имел в себе элемент поучительности, поскольку еле заметным кивком Диэнек дал себе разрешение продолжать и поудобнее устроился на склоне.
– Это случилось при Ахиллеоне, в сражении против коринфян и их аркадских союзников. Я даже не помню, из-за чего началась та война, но за что бы она ни шла, те сыновья шлюхи нашли в себе мужество поднять против нас оружие. Они сломали наш строй и смяли первые четыре шеренги. По всему полю воины сошлись один на один. Мой брат был во главе
эномотии, а я был третьим.– Это означало, что он, Диэнек, командовал третьим
стихо – отрядом из девяти человек, шедшим в походной колонне на шестнадцать позиций сзади.– Поэтому когда мы перестроились в колонну по четыре, я оказался на своей третьей позиции рядом с братом, во главе моего стихо. Мы, Ятрокл и я, сражались как
диас, мы с детства упражнялись в паре. Но теперь это было не упражнение, это было настоящее кровавое безумие.
Передо мной оказался чудовищный противник – шести с половиной футов ростом, он справился бы с двумя воинами, будь один даже на коне. у него не было копья, оно сломалось, и он кипел такой яростью, что ему не хватило самообладания вспомнить про меч. Тогда я сказал себе: приятель, тебе лучше поскорее вонзить клинок в этого ублюдка, пока он не схватил свой резак для маргариток.
Я бросился на него. Он встретил меня щитом, используя его вместо оружия и размахивая им, как топором. Его первый удар расколол мой щит. Я сжал копье, стараясь ударить противника снизу, но вторым ударом он разбил древко в щепки, так что я остался безоружным перед этим демоном. Он взмахнул своим щитом, как блюдом, и попал мне прямо сюда, по шлему, чуть выше прорезей для глаз.
Я почувствовал, как обод шлема рванулся вверх и назад, унося с собой половину моего черепа. Прорезь для глаз нижним краем ободрала бровь, и мой левый глаз залило кровью.
Я ощутил то беспомощное чувство, какое бывает, когда ты ранен и понимаешь, что серьезно, но не знаешь, насколько серьезно; когда кажется, что ты уже умер, но все же не до конца уверен в этом. Все происходит замедленно, как во сне. Я упал ничком и знал, что тот гигант стоит надо мной и следующим ударом отправит меня в мир иной.
И вдруг он оказался рядом. Мой брат. Я видел, как он шагнул и метнул свой ксифос, словно метательный нож и попал этой коринфской горгоне прямо под нос.
Клинок выбил коринфянину зубы, пробил челюсть и застрял в горле, оставив лишь торчащую перед лицом рукоять.
Диэнек покачал головой и мрачно усмехнулся, хорошо понимая, как близок был тогда к гибели. Я думаю, что он испытывал глубокое почтение перед богами за то, что как-то выжил.
– Но это даже не поколебало того рукоблуда. С голыми руками и штырем в челюсти он бросился на Ятрокла. Я обхватил его снизу, а мой брат сверху, и мы повалили его, как в борьбе. Обломок моего копья я вонзил прямо коринфянину в брюхо, потом поднял из грязи еще чье-то копье и, вложив весь свой вес, нанес такой удар, что оно прошло через пах и пригвоздило гиганта к земле. Мой брат выхватил меч того ублюдка и снес ему полголовы, прямо вместе с бронзой шлема. Но коринфянин снова встал. Ни когда раньше я не видел брата действительно испуганным, но на сей раз это было так. «Всемогущий Зевс!» – воскликнул он, и это было не проклятие, а молитва – молитва мочащегося себе под ноги.
Становилось холодно. Мой хозяин закутался в плащ и еще отхлебнул вина.
– У моего брата был оруженосец из Антавра, что в Скифии ты мог слышать о нем. Спартанцы прозвали его Самоубийцей.
Мое лицо выдало недоумение, но Дианек лишь усмехнулся в ответ. Этот парень, скиф, до меня служил оруженосцем Диэнека, а потом стал моим ментором и учителем. Для меня было внове, что до Диэнека он служил его брату.
– Этот нечестивец пришел в Спарту сам, как и ты, Ксео. Безумный ублюдок! Он бежал от возмездия за кровь: в каком-то раздоре горных племен из-за девчонки он убил то ли отца, то ли тестя – не помню, кого именно. Придя в Лакедемон, он попросил первого встречного прикончить его и еще несколько дней приставал с тем же к десяткам других но никто на такое не пошел, боясь осквернения. В конце концов мой брат взял его в сражение, пообещав, что там с ним расправятся.
Парень оказался истинным кошмаром. Он не держался в тылу как остальные оруженосцы, а сунулся в гущу сражения – безоружный, ища смерти и призывая ее. Его оружием был дротик. Он делал эти дротики сам – отпиливал не длиннее человеческой руки и называл «штопальными иглами». Этот скиф брал их с собой двенадцать в колчане, как стрелы, и выхватывал пучками по три. Первые два он метал подряд в одного и того же противника, а третий оставлял для ближнего боя.
Такое описание действительно характеризовало того человека. Даже теперь – наверное, лет через двадцать – он оставался бесстрашным до безумия и совершенно не заботился о своей жизни.
– Как бы то ни было, теперь он оказался рядом, этот скифский сумасшедший. Бац, бац, бац! – он метнул свои штопальные иглы в печень коринфского чудовища, так что они вышли из спины, и еще одну прямо ему в детородные органы. И это подействовало. Титан уставился на меня, взревел и упал, как мешок с воза. Позже я заметил, что с половины моего черепа содрана кожа, лицо превратилось в кровавую массу, а вся правая сторона бороды и подбородка содрана.
– И как же вы выбрались из битвы? – спросил я.
– Выбрались? Нам пришлось пробиваться еще десятки стадиев, прежде чем враг наконец повернул к нам задницу и все было кончено. Не могу описать, в каком состоянии я находился. Брат не позволял мне дотрагиваться до лица. «У тебя несколько царапин»,– сказал он. Я чувствовал, как ветер обвевает череп, и понимал, что рана серьезная. Помню только, как этот мерзкий лекарь, наш друг Самоубийца, сшивал меня морской бечевкой, а брат поддерживал мою голову и отпускал свои шуточки: «После этого ты уже не будешь таким красавчиком. Теперь я могу не опасаться, что ты уведешь мою жену».
Здесь Диэнек замолк, и его лицо вдруг приобрело спокойное и торжественное выражение. Он заявил, что с этого момента история становится личной и здесь следует поставить точку.
Я попросил его продолжить.
– Ты ведь знаешь,– насмешливо предупредил он, что случается с оруженосцами, выносящими рассказы за пределы школы? – Диэнек отхлебнул вина и, задумчиво помолчав, продолжил: – Тебе известно, что я не первый муж у моей жены. Сначала Арета была замужем за моим братом.
Я знал об этом, но никогда не слышал этого из уст самого хозяина.
– Это вызвало печальный раскол в моей семье, поскольку я обычно отказывался разделить трапезу в доме у брата, а всегда находил какую-нибудь отговорку. Моего брата это глубоко ранило – он думал, что я не уважаю его жену или и вижу за ней какую-то вину, которую не могу разгласить. Он взял ее из семьи совсем молодой, когда ей было всего семнадцать, и я знал, что эта поспешность беспокоила его. Он так хотел ее, что не мог ждать, боясь, что его опередит кто-то другой. Поэтому, когда я избегал бывать в его доме, он думал, что я осуждаю его за это.
Ятрокл ходил жаловаться нашему отцу и даже эфорам, стараясь заставить меня принять его приглашение. Однажды, борясь в
палестре, месте для упражнений, он чуть не задушил меня (я никогда не мог сравниться с ним в борьбе) и велел в тот же вечер явиться к нему в дом в лучших одеждах и с наилучшими манерами. Он поклялся, что сломает мне хребет, если я еще раз оскорблю его.
Приближался вечер, когда я заметил, что брат снова идет ко мне. Я как раз заканчивал свои упражнения на Большом Круге. Ты знаешь Арету и ее язык. Так вот, она поговорила с мужем. «Ты слепец, Ятрокл,– сказала она.– Разве ты не видишь, что твой брат влюблен в меня? Потому он отклоняет твои приглашения прийти к нам. Ему стыдно за свои чувства к жене родного брата».
Мой брат прямо спросил, правда ли это. Я солгал, как собака, но он, как всегда, видел меня насквозь. Можешь сам понять его чувства. Но он оставался совершенно спокоен – как в детстве, когда что-то обдумывал. «Она будет твоей, когда я паду в бою»,– объявил он. Казалось, что для него проблема решена.
Но не для меня. Через неделю я нашел повод уехать из города, чтобы сопровождать одно заморское посольство. Мне удалось пробыть вдали всю зиму. Когда я вернулся, наше подразделение
лох (самое большое соединение тяжеловооруженных воинов-пехотинцев (гоплитов) в спартанской армии) Геракла призвали, чтобы послать к Пеллене. Там мой брат погиб. Я не знал об этом, пока битва не была выиграна и нас не собрали для переклички. Мне было двадцать четыре года. Ему – тридцать один.
Лицо Диэнека стало еще серьезнее. Действие выпитого вина словно бы испарилось. Он долго колебался, обдумывая, продолжать ли свой рассказ или же закончить на этом. Потом внимательно посмотрел мне в лицо и, как будто удовлетворившись, что я слушаю с должным вниманием и почтением, опорожнил чашу и продолжил:
– Я чувствовал свою вину за смерть брата, как будто я желал ее и боги некоторым образом ответили на мою постыдную молитву. Это было мучительнее всего, что со мной случалось в жизни. Я чувствовал, что не могу жить дальше, но не знал, как достойно закончить жизнь. Мне пришлось вернуться домой – ради отца и матери, а также для игр после похорон. К Арете я не приближался. Я собирался снова покинуть Лакедемон, как только закончатся игры, но ко мне подошел ее отец:
«Разве ты не хочешь ни слова сказать моей дочери?» Он не догадывался о моих чувствах к ней. Он говорил просто об учтивости – я был обязан проследить, чтобы Арете достался достойный муж. Он сказал, что я сам должен стать ее мужем. Я был единственным братом Ятрокла, наши семьи уже были тесно связаны, а поскольку Арета еще не родила ни одного ребенка, мой ребенок от нее был бы как будто и ребенком брата.
Я отказался.
Этот достойный человек не мог догадаться о действительной причине – что я не могу принять такого позора: исполнения своих глубочайших желаний на костях собственного брата. Отец Ареты не мог этого понять и потому был глубоко задет и оскорблен. Ситуация сложилась невозможная, она плодила страдания со всех сторон, но я не имел никакого представления о том, как ее исправить. В тот день я боролся в Гимнасионе, отравленный внутренними муками, когда в его воротах раздался шум. Вошла какая то женщина. Как известно, женщинам не позволено вторгаться в Гимнасион. Послышался возмущенный ропот. Я встал,– как и все, гимнос, то есть голый,– чтобы вместе с другими вышвырнуть нарушительницу.
И тогда – увидел… Это была Арета.
Мужчины расступились перед ней, как колосья перед жнецами. Она остановилась прямо у линии овала, где обнаженные кулачные бойцы ожидали своего выхода.
«Кто из вас возьмет меня в жены?» – спросила она у всех собравшихся, которые разинули рты и онемели, как телята.
Арета и теперь прелестная женщина, даже после рождения четырех дочерей, но тогда, еще бездетная, когда ей едва исполнилось девятнадцать, она была ослепительна, как богиня. Не было мужчины, который бы не желал ее, но все были слишком ошеломлены чтобы издать хотя бы звук.
« Что ж, никто не подойдет, чтобы заявить свои права на меня?»
Она повернулась и пошла – прямо ко мне:
«Тогда ты должен сделать меня своей женой, Диэнек, иначе мой отец не вынесет такого позора».
Мое сердце перевернулось от этого – оно наполовину онемело от непомерного бесстыдства этой женщины, а наполовину было глубоко тронуто ее мужеством и сообразительностью.
– И что случилось дальше? – спросил я.
– Что мне оставалось? Я стал ее мужем.
Диэнек рассказал еще несколько историй о мастерстве своего брата на Играх и его доблести, выказанной в сражениях. Во всех областях: в быстроте, и сообразительности, и красоте, и добродетели и выдержке, даже в пении – во всем брат затмевал моего господина. Было ясно, что Диэнек глубоко почитал его – не просто как младший брат старшего, но как человек, трезво его оценивая и восхищаясь им.
– Какая это была пара – Ятрокл и Арета! Весь город ждал, какие будут у них сыновья. Какие воины и герои родились бы, слив воедино достоинства обоих!
Но у Ятрокла и Ареты не было детей, а от Диэнека она рожала только девочек.
Диэнек не говорил об этом, но можно было заметить печаль и сожаление на его лице. Почему боги даровали ему и Арете только дочерей? Чем это могло быть, как не проклятием, насланным богами возмездием за преступную любовь, выросшую в сердце моего хозяина? Диэнек вышел из задумчивости или из того состояния, что я принял за задумчивость, и указал вниз на Аллею Победителей.
– Теперь ты видишь, Ксео, что проявлять мужество перед врагом мне, может быть, легче, чем другим. Я держу перед собой пример брата и знаю, что какие бы чудеса доблести ни позволили мне совершить боги, я никогда не сравняюсь с ним. Это моя тайна. И она придает мне скромности. Он улыбнулся. Странной, печальной улыбкой.
– Теперь, Ксео, ты знаешь тайну моего сердца. А насколько я стал достойным человеком, судить тебе.
Я рассмеялся, как и хотел мой хозяин.
– А теперь я устал,– объявил Диэнек, поворачиваясь на земле. – Извини меня, но пора, как говорится, лишить девственности соломенную деву.
С этими словами он свернулся на своем тростниковом ложе и мгновенно заснул.
КНИГА ВТОРАЯ
АЛЕКСАНДР
Глава восьмая
Предыдущие беседы записывались в течение нескольких вечеров, в то время как войско Великого Царя продолжало свое продвижение в Элладу. 3ащитники Фермопил были подавлены, а эллинский флот в это время понес большие потери в кораблях и живой силе в морском сражении при Артемизии. Все греческие и союзные им силы, сухопутные и морские, теперь покинули поле боя. Эллинские сухопутные войска отступили на юг, в направлении Коринфского перешейка, куда теперь стеклись силы из других греческих городов и где теперь возводили стену для обороны Пелопоннеса. Морские же силы обогнули Эвбею и мыс Каферея, чтобы соединиться с основными силами эллинского флота у Афин и Саламина в Саронийском заливе.
Войско Великого Царя предало огню всю Фокиду. Персидские войска сожгли до основания города Дримос, Хараду, Эрохос, Тефроний, Амфикею, Неон, Педиеи, Тритеи, Элатею, Гиламполис и Парапотамии. Все храмы и святилища эллинских богов, включая храм Аполлона в Абах, были разрушены, а их богатства разграблены.
Что касается самого Великого Царя, время Царственной Особы почти по двадцать часов в день занимали не терпящие отлагательств военные и дипломатические дела. Несмотря на занятость, желание Великого Царя услышать продолжение рассказа пленного Ксеона осталось неизменным. Он велел продолжить допрос в Свое отсутствие и вести письменный отчет, чтобы прочесть Великому Царю в Его свободные часы.
Грек отозвался на это повеление с рвением. Вид его родной Эллады, побежденной превосходящими силами персидского войска, вызвал у этого человека глубокие страдания и словно воспламенил его. Он жаждал записать как можно больше из своего рассказа и как можно скорее. Донесение о разгроме Дельфийского оракула Аполлона еще более усилило горе пленника. Втайне он выражал тревогу, что Великому Царю начнет надоедать рассказ о нем самом, Ксеоне, и других частных людях, и он стремился скорее перейти к более уместным темам, касающимся спартанской тактики, военной подготовки и философии войны. Грек умолял Великого Царя о терпении, утверждая, что его рассказ будто бы «рассказывается сам» по указанию Бога и что он, повествователь, может лишь следовать за ним.
Мы начали снова, в отсутствие Великого Царя, вечером девятого дня месяца ташриту в шатре Оронта, командира Бессмертных.
Великий Царь велел рассказать о военных упражнениях спартанцев, в частности о тех, которыми занимаются юноши, и об их воспитании согласно законам Ликурга.( Ликург – легендарный законодатель Спарты, создавший якобы по велению Дельфийского оракула политические институты спартанского общества. В Лакедемоне ему воздавались божественные почести).
Показательным может быть отдельный пример, не только несущий в себе некоторые подробности, но и передающий сам дух. Это событие отнюдь не явилось исключительным. Я расскажу о нем, так как оно несет много сведений, а так же потому, что в него оказались вовлечены некоторые люди чей героизм Великий Царь засвидетельствовал собственными глазами в сражении при Горячих Воротах.
Это случилось за шесть лет до битвы при Фермопилах. Мне в то время исполнилось четырнадцать, но я еще не был боевым оруженосцем у моего хозяина. В то время я не прожил в Лакедемоне и двух лет. Я служил в качестве
парастатес пэс – напарника в упражнениях для одного юноши-спартиата моих лет по имени Александр. Раз или два я уже упоминал о нем. Александр был сыном
полемарха (военачальника) Олимпия и в то время, в возрасте четырнадцати лет, находился под опекой Диэнека.
Этот юноша был отпрыском одной из благороднейших спартанских фамилий, его род по линии Еврипонтида восходил к самому Гераклу. Однако по своему телосложению он не подходил к роли воина. В менее суровом мире Александр мог бы стать поэтом или музыкантом. Среди ровесников он был самым лучшим флейтистом, хотя почти не упражнялся на инструменте. Его певческая одаренность была еще более выдающейся – как в юности, когда он пел альтом так и в более зрелом возрасте, когда его голос установился в чистый тенор.
Так случилось, если только тут не вмешалась рука богов, что нас, его и меня, когда нам было по тринадцать, одновременно секли за разные проступки по разные стороны поля для упражнений. Его наказывали за какое-то нарушение в его учебной группе, агоге бова; я же провинился в том, что неподобающим образом выбрил горло жертвенному козлу.
При нашей одновременной порке Александр упал раньше меня. Я упоминаю об этом не для того, чтобы похвастать,– просто я получал больше побоев и был более привычен к ним. Это различие, к несчастью для Александра, было воспринято как позор самого худшего сорта. Чтобы ткнуть его носом в это, учитель приставил к нему меня с наставлением, чтобы он постоянно дрался со мной, пока не сможет как следует отколотить. Мне, в свою очередь, было сказано, что, если возникнет хоть малейшее подозрение, будто я поддаюсь из страха последствий за нанесение вреда благородному спартанцу, меня будут сечь до тех пор, пока на моей спине не покажутся кости.
Лакедемоняне в высшей степени находчивы в подобных делах. Они знают, что никакие хитрые меры не свяжут двух подростков теснее. Я прекрасно понимал, что если сыграю свою роль удовлетворительно, то буду и дальше прислуживать Александру и стану его оруженосцем, когда ему исполнится двадцать и он займет свое место в боевом строю. А я только этого и хотел. За тем в первую очередь я и пришел в Спарту – чтобы как можно ближе оказаться к военной подготовке и пройти ее всю, насколько позволят лакедемоняне.
При Дубах, в Отонской долине, под обжигающим солнцем позднего лета войско выстроилось на восьминочник, как это называют в Лакедемоне – единственном городе, который практикует
октониктию Обычно это упражнение для
эномотии, хотя в данном случае участвовала целая
мора (подразделение в составе лоха численностью 1000-1200 человек). Более тысячи двухсот человек в полном вооружении и вспомогательное войско из такого же числа оруженосцев и илотов выступили в высокогорную долину и в темноте выполняли маневры в течение четырех ночей. Спали днем в лагере, попеременно, в полной готовности и под открытым небом, а потом, в течение последующих трек суток, выполняли маневры и день и ночь. Условия преднамеренно придумывались так, чтобы приблизить их по суровости к настоящему походу, имитируя все, кроме убитых и раненых. Были тренировочные ночные атаки вверх по крутому склону, и каждый воин нес полный набор вооружения и
паноплию – от пятидесяти до шестидесяти, мин доспехов со щитом. Потом атаки вниз по склону. Потом – вдоль склона. Территория выбиралась покаменистее, где росло множество узловатых дубов с низко нависающими ветвями. Искусство заключалось в том, чтобы обойти все препятствия, как вода сквозь камни, не сломав строя.
Никакой утвари с собой не бралось. Первые четыре дня вино отпускалось в половинной норме, потом два дня вина не полагалось, а остальные два дня – никакой жидкости вообще, даже воды. В рацион входили только буханки из льняного семени, которые Диэнек считал годными лишь для утепления хлевов, да фиги – ничего горячего. Подобные упражнения лишь отчасти являются подготовкой к ночным атакам; их главная задача – привить навык стремления к цели ориентирования на местности, чувство места в фаланге привычку действовать вслепую, особенно на пересеченной местности. Для лакедемонян это аксиома – войско должно уметь выравнивать линию и перестраиваться одинаково ловко как при хорошей видимости, так и вслепую, поскольку как известно Великому Царю, в пыли и ужасе офисмоса первого боевого столкновения, в результате которого возникает страшная толчея, никто ничего не видит далее пяти футов в любом направлении и не слышит в общем шуме даже собственного крика.
Среди других эллинов бытует заблуждение – и спартанцы специально культивируют его среди них,– что характер лакедемонской военной подготовки крайне жесток и сух. Ничто не может быть дальше от истины. Никогда в других обстоятельствах я не испытывал ничего подобного тому неослабевающему веселью, какое царило во время этих полевых маневров. Иначе они стали бы смертельно изнурительными. Шутки слышны с того момента, когда протрубит
сарпинкс на побудку, и до последнего изнеможительного часа, когда воины заворачиваются в свои плащи и ложатся спать. И даже тогда еще несколько минут из разных углов, как удары молота, доносятся неудержимые приглушенные смешки.
Это тот особенный солдатский юмор, что происходит из перенесенных вместе лишений. Он непонятен для тех, кто не был в том месте и не испытал таких трудностей. « Чем отличается спартанский царь от рядового воина?» – подыгрывает один спартанец другому, ложась спать в открытом поле под проливным дождем. Его товарищ на момент театрально задумывается. «Царь спит в дерьме вон там,– отвечает он,– а мы спим в дерьме здесь».
Чем хуже условия, тем сильнее надрывают живот шутки – или, по крайней мере, так кажется. Я видел, как почтенные благородные мужи лет пятидесяти и старше с густой сединой в бороде и величественным, как у 3евса, выражением лица бессильно падали на четвереньки, опрокидывались на спину и непроизвольно мочились от смеха. Однажды, придя по поручению, я видел, как сам Леонид больше минуты не мог встать на ноги, скорчившись от чьей-то непереводимой остроты. Каждый раз, когда он пытался встать, один из его товарищей по шатру, седой военачальник, заканчивающий шестой десяток, друг детства, звавший царя по прозвищу, данному еще в агоге, пытал его новой вариацией той же шутки, отчего тот снова в конвульсиях падал на колени.
Этот и другие схожие случаи вызывали к Леониду всеобщую любовь – не только полноправных спартиатов, но и просто благородных мужей –
периэков. Они видели, что их почти шестидесятилетний царь претерпевает все те же лишения, что и они сами. И знали, что, когда настанет битва, он не займет безопасное место в тылу, а окажется в первой шеренге, в самом горячем и рискованном месте на поле боя.
Цель восьминочника – довести воинов отряда до такого состояния, когда они уже не могут шутить. Говорят, если шутки прекращаются, это значит, что урок усвоен и каждый человек и вся мора совершили тот прирост в цене, которым расплачиваются при последнем суровом испытании. Трудность учения предназначается не столько для укрепления спины, сколько для закалки духа. Спартанцы говорят, что любое войско может победить, пока стоит на ногах; настоящее испытание начинается, когда все силы иссякли и воины должны выковать победу из одной своей воли.
Наступил седьмой день, и войско достигло той степени изнеможения и раздражительности, которую и должен вызывать восьминочник. День шел к вечеру, все еле поднимались после явно недостаточного сна, иссушенные, грязные, смердящие, в предвкушении последней ночи учений. Все изголодались и устали, иссохлись от жажды. Вокруг одной и той же шутки было обвито сто вариаций, и каждом хотелось настоящей войны, чтобы можно было наконец не вздремнуть на полчаса, а по-настоящему поспать и набить брюхо горячей жратвой. Спартанцы, ворча и жалуясь, расчесывали свои спутанные патлы, в то время как оруженосцы и илоты, такие же уставшие и измученные жаждой, как господа, протягивали им последнюю фиговую лепешку без вина и воды и готовили их к вечернему жертвоприношению, а их составленное штабелем оружие и паноплия ждали в безупречном порядке начала ночной работы.
Обернувшись, я увидел, как Александр стоит перед своей
эномотией рядом с Полиником, благородным спартиатом и олимпийским победителем, который яростно уставился на него. Александру было четырнадцать, Полинику – двадцать три, и даже за полстадия было видно, что юноша перепуган этой яростью.
С этим воинственным Полиником шутки были плохи. Он приходился племянником Леониду, имел награду за доблесть и не знал жалости. Очевидно, Полиник пришел из верхнего лагеря с каким-то поручением и, пройдя вдоль строя юношей из
агоге, заметил какое-то нарушение.
Теперь Равным с верхнего склона было видно, в чем оно заключалось.
Александр недостаточно внимательно следил за своим щитом или, если употребить дорийский термин,
этимазен,– «обесчестил» его. Каким-то образом щит остался лежать без присмотра, вне пределов досягаемости Александра, лицевой стороной вниз, вогнутой поверхностью к небу.
Перед Александром стоял Полиник.
– Что это я вижу в грязи? – проревел он. Спартиатам наверху был слышен каждый слог.
– Это, наверное, ночной горшок такой изящно подобранной формы. Это ночной горшок? – вопросил он Александра.
Мальчик ответил:
– Нет.
– Так что же это?
– Это щит, господин.
Полиник заявил, что сие невозможно.
– Это не может быть щит,– раскатился его голос по амфитеатру долины,– так как даже тупейший, оттраханный в задницу копошащийся в дерьме червяк из пайдариона не оставит щит лежать лицом вниз там, откуда его нельзя моментально схватить, когда наступит враг.– Он навис над смертельно напуганным мальчиком.– Это ночной горшок,– объявил Полиник.– Наполни его.
И началась пытка.
Александру было велено помочиться в свой щит. Да, это был учебный щит. Но, взглянув со склона вниз вместе с другими Равными, Диэнек понял, что именно этот
аспис, латаный-перелатаный за десятки лет, раньше принадлежал отцу Александра, а до того – его деду.
Александр был так напуган и так обезвожен, что не смог выдавить из себя ни капли.
Теперь в представлении появились новые участники. Среди юношей, которые в данный момент не оказались объектом ярости старшего, было много любителей посмеяться над жалким видом или любой неудачей своего товарища, «подвешенного на вертеле над углями». Однако весь строй прикусил языки, сдерживая внушенное страхом веселье. Но один парень по имени Аристон, очень красивый, лучший бегун на короткие дистанции среди юношей своего возраста, похожий на самого Полиника в молодости, не смог сдержаться и фыркнул.
Полиник в бешенстве повернулся к нему. У Аристона было три сестры, все, как говорят лакедемоняне, «двуглядные», то есть такие хорошенькие, что хочется смотреть на них и снова и снова.
Полиник спросил Аристона, не кажется ли ему происходящее забавным.
– Нет, господин,– ответил мальчик.
– А если кажется, подожди, когда попадешь в дело. Тогда это доведет тебя до истерики.
– Нет, господин.
– Да, доведет. Ты будешь хихикать, как твои паршивые сестрицы.– Он шагнул к Аристону.– Ты так себе представляешь войну, вонючий выскочка.
– Нет, господин.
Полиник вплотную приблизил свое лицо к лицу мальчика, его глаза горели жгучей злобой:
– Ответь мне, что, по-твоему, смешнее: когда вражеское копье фута эдак на полтора войдет в прямую кишку тебе или твоему дружку певуну Александру?
– Ни то ни другое,– с каменным лицом проговорил Аристон.
– Ты ведь боишься меня, правда? И в этом причина твоего смеха? Ты ведь до одурения счастлив, что не тебя поставили перед строем!
– Нет, господин.
– Что? Ты меня не боишься?
Полиник потребовал объяснения. Поскольку если Аристон боится его, то он трус. А если не боится, то он безрассудный невежа, что еще хуже.
– Что – «нет», ты, жалкий комок дерьма? Тебе бы следовало бояться меня! Я вставлю тебе член в правое ухо, чтобы вышел из левого, и сам наполню этот ночной горшок!
Полиник велел другим юношам помочь Александру. Пока их жалкие капли мочи брызгали на дерево щита и его кожаную обивку, на талисманы, сделанные матерью и сестрами Александра и повешенные на внутреннюю сторону, Полиник вернулся к самому Александру, спросив у него, как подобает обращаться со щитом. Мальчик знал это с трехлетнего возраста.
– Щит должен всегда находиться в вертикальном положении,– во весь голос объявил Александр,– и лямка и рукоять щита должны быть в полной готовности. Если воин отдыхает стоя, то должен прислонить щит к коленям. Если он сел или лег, то должен прислонить щит к
трипоус базис – легкой треноге, которую носят с внутренней стороны
гоплона в специальном гнезде…
Другие юноши по приказу Полиника прекратили свои потуги помочиться в щит Александра. Я взглянул на Диэнека. Его лицо не выдавало никаких эмоций, хотя я знал, как он любил Александра и, несомненно, больше всего на свете ему хотелось броситься вниз и убить Полиника.
Но Полиник был прав. А Александр виноват. Мальчика следовало проучить.
Теперь Полиник взял в руку
трипоус базис Александра. Маленькая тренога состояла из трех штырей, соединенных с одного конца кожаным ремешком. Штыри были толщиной с палец, а длиной около полутора футов.
– Построиться к бою! – проревел Полиник.
Подразделение выстроилось. Полиник велел всем положить щиты – позорным образом, лицевой стороной в грязь, как раньше сделал Александр.
Теперь тысяча двести спартиатов вместе с таким же числом оруженосцев и слуг-илотов смотрели со склона на спектакль.
– Взять щиты!
Юноши бросились к своим тяжелым лежащим на земле
гоплонам, и в это время Полиник ударил Александра треногой по лицу. Брызнула кровь. Он ударил следующего, а затем следующего, пока пятый наконец не поднял свой двадцатифунтовый громоздкий щит, чтобы защититься.
Полиник проделал это же снова и снова.
Начиная с одного края строя, потом с другого, потом с середины. Как я уже говорил, Полиник был Агиад – один из трехсот Всадников – и, кроме того, олимпийский победитель Он мог делать все, что захочет. Учителя, простого
ирена, он поставил в сторону, и тот мог только смиренно взирать на все это.
– Весело, правда? – спросил мальчиков Полиник. Я вне себя от веселья, верно? Не могу дождаться боя, тогда будет еще забавнее.
Мальчики знали, что последует за этим.
Дрюченье деревьев.
Когда Полинику надоест мучить их самому, он велит учителю прогнать их маршем за край равнины, к самому толстому дубу, чтобы там они, построившись, толкали дерево щитами, как при атаке на противника.
Мальчики встанут в восемь шеренг, упираясь щитом в спину товарища впереди, а стоящие в первом ряду вложат весь их совокупный вес в толкание дуба. А потом последует муштровка в
офисмосе.
Они будут толкать.
Они будут пыжиться.
Они будут дрючить это дерево изо всех сил.
Подошвы их босых ног будут месить грязь, увязая и упираясь, пока не вытопчут борозду по лодыжку, а сами они все будут выдавливать друг другу кишки, горбясь и надрываясь, долбя этот неподвижный ствол.
Через два часа Полиник невзначай вернется, возможно, с несколькими другими молодыми воинами, которые сами не раз проходили через подобное во время своего пребывания в агоге, и они изобразят изумление, увидев, что дерево все еще стоит.
– О боги! Эти щенки пыхтят уже половину смены, а жалкое деревце все там же, где и было!
И к перечню прочих грехов добавится еще и недостойная мужчины изнеженность Немыслимо, чтобы им позволили вернуться в город, пока это дерево не поддастся им, такая неудача опозорит их отцов и матерей, сестер, братьев, теток, дядек и более отдаленную родню, всех богов и героев в их роду, не говоря уж об их собаках, кошках, овцах и козах и даже крысах в хлеву у илотов, которые, понурив голову, поплетутся в Афины или какой-нибудь другой занюханный полис, где мужчины все же отличаются от женщин и умеют должным образом дрючить.
Это дерево – противник!
Долбай врага!
И так будет продолжаться всю ночь до середины второй стражи, пока у провинившихся не начнется отрыжка и недержание; они будут блевать и дристать, тело будет разрываться от изнеможения, а потом, после того как утреннее жертвоприношение наконец принесет милость и передышку, юношам предстоит целый день учений без минуты сна.
И стоящие перед Полиником мальчики знали, что их ждет эта пытка. Они уже предвкушали ее.
К тому времени уже у всех в строю нос был расквашен. Лица всем заливала кровь. Полиник как раз сделал передышку (у него устала рука лупить), когда Александр, не подумав, вытер рукой свое окровавленное лицо.
– Что ты, по-твоему, делаешь, козел? – моментально повернулся к нему Полиник.
– Вытираю кровь, господин. – И зачем ты это делаешь? – Чтобы видеть, господин.
– Кто это тебе сказал, что ты имеешь право видеть?
Полиник продолжал свои издевательства. Для чего, по мнению Александра, их всех вывели сюда на ночные учения? Разве не для того, чтобы научиться сражаться вслепую? Он думает, что в бою ему дадут передышку, чтобы он мог осмотреться? Видимо, так. Александр попросит противника, и они вежливо приостановятся, чтобы мальчик вынул козявку из носа или подтер свою задницу.
– Я еще раз тебя спрашиваю: это ночной горшок? – Нет, господин. Это мой щит.
И снова штыри треноги ударили его по лицу.
– « Мой»? – в ярости переспросил Полиник.– « Мой»?
Диэнек, еле сдерживаясь, смотрел на происходящее со своего места на краю верхнего лагеря. Александра терзала мысль, что его ментор наблюдает за всем этим; мальчик, казалось, призвал все свое хладнокровие, подавил все чувства, а потом он шагнул вперед, подняв щит, вытянулся перед Полиником по стойке «смирно» и громким, чистым голосом продекламировал:
Мой щит в битву с собой я несу.
Не одного лишь меня, но и брата он защитит.
Город родной он укроет собой под моею рукой,
Брат мой и город мой вечно под тенью его да
пребудут,
Щит пред собою держа, я в сраженье с врагами
погибну,
Щит пред собою держа, к недругу встану лицом.
Александр закончил. Последние слова он выкрикнул во весь голос, и несколько мгновений они эхом разносились по долине. Две с половиной тысячи человек слушали и смотрели.
Они видели, как Полиник удовлетворенно кивнул. И рявкнул что-то. Мальчик встал и строй, в котором каждый теперь держал щит, как положено, – прислонив к коленям.
– Поднять щиты!
Юноши нагнулись за своими
гоплонами.
Полиник взмахнул треногой.
С треском – это тоже было слышно по всей долине – прутья ударили по бронзе Александрова щита.
Полиник ударил снова, по щиту следующего, потом следующего. Все щиты остались на месте. Строй был надежно защищен.
Он снова проделал это слева направо и справа налево. Щиты мгновенно взлетали в руках мальчиков, занимая нужное место – перед нападающим.
Кивнув
ирену, Полиник отступил назад. Мальчики быстро встали по стойке «смирно», высоко подняв щиты. Кровь на их скулах и расквашенных носах начала запекаться.
Полиник повторил свой приказ
ирену: пусть эти бараны, сказал он, пусть эти сыновья шлюхи дрючат дерево до истечения второй стражи, а потом упражняются со щитами до рассвета.
Он снова прошел вдоль строя, глядя каждому в глаза. Перед Александром он остановился.
– У тебя был слишком смазливый нос, сын Олимпия. Это был нос девчонки.– Полиник швырнул треногу мальчика в грязь, ему под ноги.– А вот теперь он мне нравится больше.
Глава девятая
В ту ночь один из мальчиков умер. Его имя было Гермион, но все звали его «Гора». В свои четырнадцать он был не слабее любого из сверстников и даже юношей на год старше. Гермион рухнул к концу второй стражи и впал в то состояние оцепенения, которое спартанцы называют
некрофания, «маленькая смерть», от которой человек может оправиться, если на время оставить его в покое, но умрет, если попытается встать или напрячься. Гора понимал свое тяжелое положение, но отказался лежать, пока его товарищи держались на ногах.
Я попытался дать им попить – я со своим товарищем-илотом по имени Дектон, которого позже прозвали Петухом. В середине первой стражи мы незаметно принесли им мех с водой, но спартанцы пить отказались. На рассвете они вынесли Гору на плечах, как носят павших в бою.
Нос Александра так и не сросся как следует. Отец дважды ломал ему его снова и вправлял у лучших военных хирургов, но шов на том месте, где хрящ соединяется с костью, так до конца и не зарос. Дыхательные пути непроизвольно сжимались, вызывая спазмы в легких, называемые греками
астма, и на это мучительно даже смотреть, а терпеть такое самому, наверное, невыносимо. Александр винил себя в смерти того юноши по прозвищу Гора. Эти приступы, не сомневался он, явились наказанием небес за его невнимание и неподобающее воину поведение.
Спазмы ослабили выносливость Александра и привели к тому, что он стал все больше и больше отставать от своих товарищей по
агоге. А хуже всего была непредсказуемость приступов. Когда они начинались, Александр несколько минут ни на что не годился. Не поправив свое здоровье, он не сможет, когда вырастет, стать воином, а следовательно, потеряет гражданство, и ему останется выбор: жить дальше в приниженном, позорном положении или с честью покончить с собой.
Его отец, глубоко обеспокоенный, снова и снова совершал жертвоприношения и даже посылал гонцов в Дельфы за советом Пифии, но ничего не помогало.
Ситуацию осложняло и то, что, несмотря на слова Полиника о его сломанном носе, Александр оставался «смазливым». А трудности с дыханием почему-то не повлияли на его певческие способности. Казалось, причиной этих приступов служил постыдный страх, а не физический изъян.
У спартанцев есть предмет, называемый
фобология – наука о страхе. Как наставник Александра, Диэнек украдкой проходил ее с ним после вечерней трапезы и перед рассветом, пока спартанцы строились к жертвоприношению.
Предмет
фобологии состоит из двадцати восьми упражнений, и каждое делает упор на отдельную цепь нервной системы. Пять основных цепей – это колени и бедра, легкие и сердце, поясница и кишечник, таз, плечевой пояс, особенно трапециевидные мышцы, которые соединяют плечи с шеей.
Вторичные цепи, для которых лакедемоняне имеют еще двенадцать упражнений,– это лицо, особенно мышцы челюсти, шея и четыре сжимающиеся мышцы вокруг глазниц Эти цепи спартанцы называют
фобосинактеры, накопители страха.
Страх плодится в теле, учит наука
фобология, и бороться с ним нужно именно там. Когда плоть охвачена страхом, может начаться
фобокиклос, или петля страха, когда он, сам себя подпитывая, начинает «разгон». Приведи тело в состояние
афобии, бесстрашия, считают спартанцы, и за телом последует дух.
Диэнек занимался с Александром наедине под дубами и спокойном предрассветном полусвете. Он легонько хлопал мальчика оливковой веткой сбоку по лицу, и трапециевидные мышцы непроизвольно сокращались.
– Чувствуешь страх? Там? Чувствуешь? – спокойно звучал голос наставника. Так наездник успокаивает жеребенка. – Вот. Опусти плечо.– Он снова хлопнул мальчика по щеке.– Дай страху истечь кровью. Чувствуешь?
Мужчина и мальчик часами занимались «совиными мышцами»,
офтальмомимами вокруг глаз. Они, учил Александра Диэнек, во многих отношениях сильнее всех остальных, поскольку боги в своей мудрости наградили смертных очень быстрым защитным рефлексом для предохранения зрения.
– Посмотри на мое лицо, когда сокращаются мышцы, показывал Диэнек.– Что оно выражает?
–
Фобос. Страх.
Диэнек, обученный данному предмету, приказал лицевым мышцам расслабиться.
– А теперь что оно выражает?
–
Афобию. Бесстрашие.
Казалось, Диэнек не прилагает никаких усилий, да и другие юноши без особого труда осваивали это искусство. Но Александру в этом предмете ничто не давалось легко. Его сердце билось действительно без страха лишь в тех случаях, когда он забирался на певческие коры, чтобы петь на
Гимнопедии и других юношеских праздниках.
Возможно, его истинными покровителями были Музы. Диэнек велел Александру принести жертву им, 3евсу и Мнемозине. Агата, одна из «двуглядных» сестер Аристона, сделала янтарный амулет Полигимнии, и Александр носил его на перекладине своего щита.
Диэнек поощрял Александра в пении. Каждого человека боги наделяют каким-нибудь даром, которым тот может одолеть страх. У Александра, не сомневался Диэнек, этим даром был голос. Искусство пения в Спарте почиталось сразу после воинской доблести. В действительности, как утверждает
фобология, доблесть и музыка тесно связаны
через сердце и легкие. Вот почему лакедемоняне поют, идя в битву. Их учат открывать рот и набирать в легкие воздух, задерживать его там насколько возможно, а потом выдыхать отработанный воздух вместе со страхом.
В городе есть две беговые дорожки – Малый круг, который начинается от
Гимнасиона и идет вдоль Конурской дороги под Афиной Бронзовородной, и Большой круг, огибающий все пять деревень и идущий мимо Амиклов, вдоль Гиакинфова пути, и пересекающий склоны Тайгета. Александр бегал по Большому кругу, покрывая босиком по пятьдесят стадиев до жертвоприношения и после обеденной трапезы. Илоты-повара тайно выделяли ему дополнительный паек. По негласному соглашению юноши его бовы покровительствовали ему в тренировках. Они покрывали его, когда Александра подводили легкие и казалось, что ему не миновать наказания. Александр относился к этому с затаенным стыдом, что заставляло его прилагать еще больше стараний.
Александр начал тренироваться в
панкратионе – борьбе без правил, в той юношеской борьбе, культивируемой только в Лакедемоне (такая борьба без правил (
панкратион) культивировалась и в других греческих городах). Начиная с XXXIII Олимпийских игр (648 г. до н. э.)
панкратион был олимпийским видом спорта, в которой участник может пинаться ногами, кусаться, тыкать пальцами в глаза(Кусаться и тыкать пальцами в глаза в панкратионе было запрещено Плутарх пишет, как афинянин Алкивиад укусил своего противника и тот обвинил его, что он кусается «как женщина», на что Алкивиад ответил: «Не как женщина, а как лев»).
– делать что угодно, только не просить пощады.(Попросивший пощады считался побежденным) Александр бросался босой в Ферайский ручей и с голыми руками на мешок панкратиста, он бегал с тяжелым грузом, бил кулаками в ящики с песком, специально сделанные для упражнений кулачных бойцов. Его изящные кисти были исцарапаны костяшки пальцев распухли. Нос ему ломали снова и снова. Александр дрался со сверстниками из своей учебной группы и других групп; дрался он и со мной.
Я быстро рос. Мои руки становились все сильнее. Во всех атлетических упражнениях я был лучше Александра. На борцовском поле я прилагал все усилия, чтобы снова не повредить ему лицо. Он должен был бы ненавидеть меня, но в нем не было злобы. Александр делился со мной своим добавочным пайком и беспокоился, как бы меня не высекли за то, что я ему поддаюсь.
Мы втайне часами напролет говорили об
эзотерической гармонии – таком состоянии самодостаточности, в которое и должны вводить
фобологические упражнения. Как чистое звучание струны кифары, издающей только одну ноту музыкального ряда, так же и отдельный воин должен прятать все чрезмерное в своей душе, пока сам не завибрирует на той единственной высоте тона, какую диктует его демон. В Лакедемоне достижение этого идеала ставится выше мужества на поле боя, оно считается для гражданина и мужчины высшим воплощением доблести –
андреи.
Выше эзотерической гармонии лежит
экзотерическая гармония – состояние слияния со своими товарищами, аналогичное музыкальной гармонии многострунных инструментов или хору голосов. В сражении экзотерическая гармония заставляет фалангу двигаться и разить как единый дух, как единая воля. В страсти она сливает мужа с женой, любимого с любимой в бессловесное совершенное единство. В политике экзотерическая гармония создает город согласия и единения, где каждая личность, сохраняя свою собственную благородную выразительность характера, дарит ее каждой другой, так же подчиняясь законам сообщества, как струны кифары подчиняются неизменной математике музыки. В праведности экзотерическая гармония порождает ту молчаливую симфонию, которая более всего услаждает уши богов.
На пике лета случилась война с антирионцами. Были мобилизованы четыре из двенадцати лохов войска, объявлен призыв первых десяти возрастных групп, всего числом две тысячи восемьсот копий. Это была грозная сила, которую не так легко одолеть. Ее составляли не только одни лакедемоняне под командованием самого царя. Были призваны так же вспомогательные войска, состоявшие из скиритов, горных жителей. И все войско растягивалось на пять стадиев. Это была первая полномасштабная кампания после смерти Клеомена и третья, которой Леонид командовал как военный царь.
Место Полиника было в личной охране царя, Олимпий с
морой Богини-Охотницы выступал в лохе Дикой Оливы, а Диэнек в должности начальника
эномотии,
эномотарха,– в
лохе Геракла. Даже Дектон, мой друг-полукровка, был призван в качестве пастуха для жертвенных животных.
3а исключением пяти самых старших воинов, чей возраст составлял от сорока до шестидесяти лет, были призваны все вкушавшие трапезу за одним столом с Девкалионом, при которых Александр от случая к случаю исполнял роль виночерпия и слуги, чтобы иметь возможность наблюдать за старшими и учиться на их примере. Хотя Александру оставалось до призывного возраста еще шесть лет, мобилизация, казалось, повергла его в еще более глубокие сумерки Непризванные Равные слонялись вокруг. Атмосфера была напряжённой и взрывоопасной. Казалось, вот-вот что-то произойдет.
И тут вечером на улице рядом с трапезной между Александром и мной началась схватка без правил. Моментально собрались Равные – как раз потасовки им и не хватало. Я слышал голос Диэнека, подзадоривавшего нас. Александр горел огнем; мы были с голыми руками, и его кулаки, поменьше, чем мои, мелькали, как дротики. Он сильно ударил меня ногой в висок, а потом локтем в живот, и я упал. И упал по-настоящему, он меня действительно сшиб, но Равные знали привычку друзей поддаваться Александру и теперь решили, что я притворяюсь. Он сам тоже так подумал.
– Вставай, иноземное дерьмо!
Он приблизился ко мне и, когда я начал вставать из грязи, ударил меня снова. Впервые я услышал в его голосе инстинкт убийцы. Равные тоже услышали и подняли восторженный крик. Тем временем со всех кварталов на возбужденные голоса своих хозяев с лихорадочным воем сбежались собаки, которых после обеда всегда собиралось не менее двух десятков.
Я встал и ударил Александра. Я знал, что легко могу его побить, несмотря на возбужденную в нем толпой ярость, и попытался ударить не в полную силу, слегка, но чтобы никто этого не заметил. Однако я зря надеялся. Равные из ближайшей и соседней
сисситии издали возмущенный вой. Вокруг нас образовался круг, из которого ни Александр, ни я не могли выскользнуть.
На меня обрушились кулаки взрослых мужчин. Дерись с ним, маленький притворщик!
Собак охватил стайный инстинкт; они еле сдерживали свою звериную натуру. Внезапно две из них ворвались в круг и одна, прежде чем спартанцы успели палками ее прогнать, укусила Александра. И тут началось.
Александра поразил легочный спазм, его горло сжалось, и он стал задыхаться. Мой удар задержался, и тут же спину мне обжег трехфутовый хлыст.
– Бей его!
Я повиновался, и Александр опустился на одно колено. Его легкие парализовало, он был беспомощен.
– Бей его, сын шлюхи! – раздался крик у спины.– Добей его!
Это кричал Диэнек.
Его хлыст так огрел меня, что я упал на колени. Гулкие голоса оглушили меня, и все они призывали разделаться с Александром. В Диэнеке не было злобы, но не было и сочувствия ко мне. До меня Равным не было дела. Все внимание сосредоточилось на Александре. Александр должен научиться, должен усвоить горький урок – один из десяти тысяч, которые ему еще предстоит вынести, прежде чем он затвердеет как камень, как того требует город, чтобы разрешить ему занять свое место среди Равных, среди воинов. Александр понимал это и встал с яростью отчаяния,, хватая ртом воздух. Он набросился на меня, как вепрь. Я ощутил хлыст на спине и с размаху ударил, вложив в удар всю свою силу. Александр закружился и упал лицом в грязь, в углу его рта показалась кровавая пена.
Он лежал там, недвижимый, как труп.
Крики Равных мгновенно затихли. Только нечестивый лай собак продолжался, они исходили пеной и заходились в безумном визге. Диэнек опустился на колени рядом е упавшим воспитанником и приложил ухо к его груди. Потеряв сознание, Александр расслабился, и дыхание вернулось к нему. Диэнек рукой стер слюну с его губ.
– Ну, что рты разинули! – крикнул он на стоявших вокруг Равных.– Все кончено! Приведите его в чувство!
На следующее утро войско отправилось в поход на Антирион. Впереди шагал Леонид в полной паноплии, включая висящий на боку щит. Его голову украшал венок, а шлем царя, ничем не украшенный, без плюмажа, покоился на свернутом походном мешке поверх алого плаща. Стального цвета волосы, безупречно ухоженные, ниспадали на плечи. Рядом шагали его телохранители из Всадников, половина всего состава, сто пятьдесят. В почетном первом ряду – Полиник вместе с шестью другими олимпийскими победителями. Они шли, не печатая шаг и не в мрачном молчаливом ритме, а легко, разговаривая друг с другом и перешучиваясь со стоявшими на обочине друзьями и родственниками. Самого Леонида, если бы не его возраст и почетное положение, можно была бы принять за обычного пехотинца – так непритязательны были его доспехи, так просто он держался. И все же весь город знал, что этот поход, как и два предыдущих под его командованием, ведется его волей – и только его волей. Леонид был нацелен на персидское вторжение, которое, царь не сомневался, произойдет если не в этом году, то через пять лет, но произойдет – несомненно и неотвратимо.
Порты-близнецы Рион и Антирион господствовали над западным подходом к Коринфскому заливу. Этот проход угрожал Пелопоннесу и всей Центральной Греции. Рион, слева, уже признавал спартанскую гегемонию, он был союзником Но Антирион на противоположном берегу оставался в надменном одиночестве, считая себя недостижимым для лакедемонской власти. Леонид намеревался показать Антириону его заблуждение. Он приведет его к покорности и запечатает залив, защитив Центральную Элладу от персидского нападения с моря – по крайней мере, со стороны северо-запад.
Вместе с отцом Александра Олимпием во главе лоха Дикой Оливы проходил его оруженосец Мерион, пятидесятилетний военнопленный, бывший потидейский военачальник. У этого благородного человека была пышная, белая как снег борода. Он, бывало, прятал в этом пушистом гнезде всякие безделушки и неожиданно доставал их как подарки Александру и его сестрам, когда те были детьми. Он проделал это и теперь – подошел к обочине и вложил Александру в руку крошечный железный талисман в форме щита. Мерион сжал руку мальчика, подмигнул и двинулся дальше.
Я стоял в толпе перед Эллинионом с Александром и другими ребятами из учебной группы, женщинами и детьми. Когда полки маршировали по Выходной улице, весь город вышел под акации и кипарисы, распевая гимны Кастору. Воины шли с висящими на лямке щитами и поднятыми копьями, со шлемами за спиной, подпрыгивающими поверх малиновых плащей на полифемилакиях – походных вещевых мешках, которые Равные пока что несли с собой – напоказ. Однако впоследствии эти мешки, равно как и доспехи вместе со всей боевой выкладкой, за исключением копий и мечей, переместятся на плечи оруженосцев. Это произойдет, когда войско построится в походную колонну и потянется по долгой, пыльной дороге на север.
Когда мимо во главе своей
эномотии вместе с
лохом Геракла прошагал Диэнек в сопровождении своего оруженосца Самоубийцы, прекрасное лицо Александра с перебитым носом застыло как маска. Основное войско прошло мимо. Впереди каждой
моры и вслед ей плелись вьючные животные, нагруженные провиантом, и по их крестцам весело щелкали кнутами юные пастухи-илоты. Далее следовал обоз – возы с оружием, уже окутанные тучей дорожной пыли, высокие возы с провизией: амфорами с оливковым маслом и вином, мешками фиг, маслин, лука-порея, простого лука и гранатов; с кухонными горшками и висящими на крюках под ними ковшами, музыкально бьющимися друг о друга, привнося ритмичный звон в какофонию щелчков кнута и скрипа колес, крика погонщиков и стона осей в поднятой мулами пыли.
3а этими возами везли переносные горны и кузнечные принадлежности с запасными клинками для
ксифосов и древками для копий, «ящерной колючкой» и длинными наконечниками для копий, потом сами запасные копья, свежие ясеневые и кизиловые древки. Рядом в пыли шагали оружейники-илоты в своих кожаных шапках и фартуках, со шрамами от полученных при ковке ожогов.
Замыкали шествие жертвенные козы с обернутыми рогами и овцы, их вели на поводках молодые пастухи-илоты. Впереди шагал Дектон в уже запылившихся белых алтарных одеяниях. Он тащил упирающегося осла, нагруженного зерном и двумя клетками с петухами победы – по клетке с обоих боков. Он скалил зубы, и, если бы не сквозившая в этой улыбке насмешка, его вид был бы безупречно благочестивым.
В ту ночь я крепко спал на каменных плитах портика за дворцом
эфоров, когда вдруг почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Это была Агата, та самая спартанская девушка, что сделала для Александра амулет, посвященный Полигимнии.
– Эй ты, вставай! – прошипела она, не желая тревожить два десятка остальных юношей
агоге, спавших или бодрствовавших поблизости от этих общественных зданий.
Я продрал глаза и осмотрелся. Александра, который заснул рядом со мной, на месте не было.
– Скорее!
Девушка вдруг растворилась в темноте. По темным улицам я поспешил за ней к рощице, где росло раздвоенное и миртовое дерево, прозванное Диоскурами.
Александр был там. Без меня он ускользнул из своей группы (что для нас обоих, если заметят, могло закончиться безжалостной поркой перед строем). Александр стоял в черном
пэсе, плаще, с боевым мешком, перед своей матерью, госпожой Паралеей, одним из их домашних илотов и двумя младшими сестрами. Слышались горькие слова. Александр собирался с войском пойти на войну.
– Я пойду,– объявил он.– И ничто меня не остановит.
Мать Александра велела сбить его с ног.
Я увидел, как что-то сверкнуло в его руке.
Ксиеле, серповидное оружие, какое носили все юноши. Женщины тоже увидели его и заметили смертельно мрачный взгляд мальчика. На долгое мгновение все оцепенели. Нелепость ситуации становилась все более очевидной. А решимость мальчика крепла.
Мать выпрямилась перед ним.
– Что ж, иди,– проговорила госпожа Паралея. Ей не было нужды добавлять, что я тоже пойду с ним.– И да помилуют тебя боги в той порке, что ждет тебя по возвращении.
Глава десятая
Следовать за войском оказалось не трудно. Дорога вдоль Эноя была истоптана в пыль, мы утопали в ней по щиколотку. В Селассии к экспедиции присоединился отряд периэков Стефана. Александр и я, прибыв туда в темноте, разглядели вытоптанную маршем землю и недавно засохшую кровь на алтаре, где приносились жертвы и толковались знамения. Само войско находилось в полудне ходьбы от нас, и мы не могли остановиться на ночлег и поспать, а двигались вслед ему всю ночь.
На рассвете мы встретили знакомого. Илот-оружейник по имени Евкрат упал и сломал ногу, и теперь двое других помогали ему добраться домой. Он сообщил нам, что у приграничной крепости Ойон разведка донесла Леониду о том, что антирионцы, вовсе не перепуганные и не притихшие, как надеялся царь, послали тайное посольство к тирану (Тиранами в Древней Греции называли монархов; это слово не несет эмоциональной окраски.) Гелону в Сикелию за помощью. Гелон, так же как Леонид и персы, смог оценить стратегическую незаменимость Антириона и точно так же хотел завладеть им. На помощь защитникам Антириона направлялись сорок сиракузских кораблей с двумя тысячами своих и наемных гоплитов. Это сулило настоящее сражение.
Спартанские войска спешно миновали Тигей. Тигейцы, члены Пелопоннесского союза, обязанные «следовать за спартанцами, куда бы те ни направлялись», усилили войско шестьюстами своих гоплитов, доведя его общую численность до четырех с лишним тысяч. Леонид не искал
паратаксиса – решительного сражения с антирионцами. Он надеялся запугать их мощью своего войска, чтобы они поняли бессмысленность сопротивления и добровольно примкнули к союзу греческих городов против персов. В стаде Дектона шел жертвенный бык, взятый для заклания в честь присоединения к Союзу нового члена. Но антирионцы, возможно купленные золотом Гелона и воспламененные риторикой некоторых жаждущих славы демагогов, а может быть, и обманутые лживыми оракулами, предпочли воевать.
Разговаривая со встреченными по дороге илотами, Александр расспрашивал их о составе сиракузских сил: какие части, под чьим командованием, в сопровождении каких вспомогательных войск. Илоты не знали. В любом другом войске, кроме спартанского, такая неосведомленность могла вызвать лютую ругань, если не хуже. Но Александр отпускал илотов без задней мысли. У лакедемонян было принято не придавать значения, из кого и из чего состоит войско противника.
Спартанцев учили относиться к врагу – любому врагу – как к безымянному и безличному. У них считалось признаком плохо подготовленной армии в последние моменты перед битвой полагаться на то, что они называли
псевдоандреей – ложным мужеством, то есть на искусственно взвинченное воинственное бешенство, порождённое речью какого-нибудь полководца или приливом пустой бравады вызванной криками и стучанием в щиты. По мнению Александра, который в свои четырнадцать подражал военачальникам родного города, любой сиракузец ничем не лучше и не хуже любого другого сиракузца и любой вражеский стратег ничем не отличается от любого другого. Пусть врагами будут мантинейцы, олинфийцы, эпидаврийцы; пусть они выставят свои лучшие войска или визжащие орды из подонков, первоклассные части из полноправных граждан или полки из купленных за золото иностранных наемников – никакой разницы. Все равно никто не сравнится с воинами Лакедемона, и все это знают.
Среди спартанцев военное ремесло лишено таинственности и деперсонифицировано самим их лексиконом, который изобилует как сельскохозяйственными терминами, так к и просто грязными словами. Слово, которое я раньше переводил как «дрючить» – например, когда юноши дрючили дерево,– несет в себе смысл не столько проникновения внутрь, сколько перемалывания, как в мельничных жерновах. Первые три шеренги «дрючат», или «перемалывают» противника. Слово « убивать» по-дорийски «ферос» – то же самое, что « жать», « убирать урожай». Воинов с четвертого по шестой ряд часто называют «жнецами» как за выпадающую на их долю работу – орудовать шипам на нижнем конце копья («ящерной колючкой») или самим копьем над растоптанным врагом, так и за безжалостные удары коротким мечом-
ксифосом, который часто называют жатвенной косой. «Отрубить голову» по-спартански будет «увенчать» или «подстричь». Отрубание руки называется « разделка».
В Рион, на обрывистый утес над портом, где на корабли грузилось войско, Александр и я прибыли после полуночи на третий день. На другом берегу узкого залива ярко сверкали портовые огни Антириона. Отмели, с которых шла погрузка войск, уже усеяли мужчины и юноши, женщины и дети жадная до зрелищ праздничная шумная толпа. Рионские союзники заранее собрали корабли и отобранные у торговцев каботажные суда, паромы и даже рыбацкие лодки. Им предстояло в темноте перевозить войска на запад вдоль берега, за пределы видимости из Антирио на, чтобы потом переправить их через залив. Леонид, отдавая должное репутации антирионцев как доблестных бойцов на море, предпочёл переправиться ночью.
Среди рионцев, кричащих на прощание добрые напутствия, Александр и я нашли мальчика нашего возраста, чей отец, как он объявил, владеет быстроходной одномачтовой лодкой и не прочь переправить горсть аттических драхм из кулака Александра в свой – за быструю и молчаливую, без лишних вопросов, переправу через залив. Мальчик провел нас сквозь толпу зевак на берег, на темный участок за волноломом, называемый Сушилкой. Не прошло и двадцати минут после отправки последнего спартанского транспорта, как мы уже плыли на запад вслед за скрывшимся из виду флотом.
Я всегда боялся моря, а особенно в безлунную ночь, когда находишься во власти незнакомых людей. Наш капитан настоял, что возьмет с собой двух братьев, хотя один мужчина и мальчик вполне могли управиться с легкой лодкой. Я знаю этих прибрежных жителей и моряков и не доверяю им. Почти все они промышляют пиратством. Эти братья, если они действительно были его братьями, оказались неуклюжими увальнями, еле способными связать два слова, с густыми-прегустыми бородами, росшими прямо от глаз и плавно переходившими в спутанную растительность на груди.
Прошел час. Лодка мчалась чрезвычайно быстро; над темной водой далеко разносились всплески весел от транспортов и даже слышался скрип уключин. Александр дважды велел пиратам снизить ход, но перевозчик только рассмеялся и сказал, что мы находимся под ветром и нас никто не услышит, а даже если и услышат, то примут за участников конвоя или за зевак, желающих посмотреть на дело.
Как и следовало ожидать, как только береговая линия за спиной заслонила огни Риона, из черноты возникла спартанская лодка и пересекла нам курс. С суденышка нас окликнули по-дорийски и приказали остановиться. Наш шкипер вдруг потребовал свои деньги. Александр возразил: деньги – когда высадимся, как договорились. Бородачи сжали в руках весла, как оружие:
– Спартанцы приближаются, ребята. Что они с вами сделают, если поймают?
– Ничего им не давай, Александр,– прошипел я.
Но мальчик понял ненадежность нашего положения.
– Конечно, капитан. С радостью.
Пираты взяли плату, улыбаясь, как Харон на своем пароме в Царство умерших.
– А теперь, ребята, отправляйтесь за борт.
Мы находились как раз на середине самой широкой части залива.
Наш лодочник указал на быстро приближавшееся спартанское судно.
– Хватайтесь за веревку и держитесь за кормой, а я заговорю зубы этим простофилям. – Бородачи приняли угрожающую позу.– Как только отвяжемся от этих дурней, втащим вас обратно, целыми и невредимыми.
Мы прыгнули за борт. Подошла лодка спартанцев. Мы услышали, как веревку перерезает нож.
Конец остался у нас в руках. – С высадкой, ребята!
В блеске погрузившегося в волну рулевого весла два неуклюжих скота вдруг проявили незаурядную ловкость. Три быстрых взмаха весел – и лодка полетела прочь, как камень из пращи.
А мы остались плавать посреди залива.
Подошла спартанская лодка, окликая пиратов, но те вовсю спешили скрыться. Спартанцы все еще не видели нас. Александр схватил меня за руку:
– Мы не должны кричать, это будет недостойно.
– Еще бы. Утонуть – куда достойнее!
– 3аткнись.
Мы замолчали, барахтаясь в воде, в то время как спартанцы рыскали вокруг, выискивая другие суда, которые могли оказаться шпионами. Наконец лодка развернулась к нам кормой и стала удаляться. Мы остались под звездами одни.
Каким огромным ни представляется море с борта корабля, но, когда твоя голова еле возвышается над поверхностью, оно кажется еще больше.
– К какому берегу поплывем?
Александр взглянул на меня так, будто я рехнулся. Конечно, вперед.
Мы плыли, мне показалось, несколько часов. Но берег не приблизился и на длину копья.
– А что, если мы плывем против течения? Насколько я понимаю, мы остались, где были, если только нас не отнесло назад.
– Мы приближаемся,– упорствовал Александр.
– Наверное, твои глаза зорче моих.
Нам не оставалось ничего, кроме как плыть и молиться. Какие морские чудища проплывали под нами в это время, готовые схватить нас за ноги своими жуткими щупальцами или откусить их до колена? Я услышал, как Александр захлебывается, борясь с приступом астмы. Мы прижались друг к другу. Глаза слипались от соли, руки стали свинцовыми.
– Расскажи мне что-нибудь,– сказал Александр.
На мгновение я испугался, подумав, что он сошел с ума.
– Чтобы ободрить друг друга,– пояснил он.– Поддержать дух. Рассказывай что-нибудь.
Я прочитал несколько стихов из « Илиады», которую на второе лето в горах Бруксий заставил нас с Диомахой выучить наизусть. Я стал сбиваться с гекзаметра, но Александр не придавал этому значения – слова как будто придали ему новых сил.
– Диэнек говорил, что душа похожа на дом со множеством комнат,– сказал он.– Есть комнаты, в которые нельзя входить. Предчувствие смерти – одна из таких комнат. Мы не должны давать себе даже думать о ней.
Александр велел мне продолжать, выбирая стихи про доблесть. Он объявил, что в данных обстоятельствах мы не должны думать о неудаче.
– Я думаю, боги специально выбросили нас здесь. Чтобы мы узнали про эти комнаты.
Мы поплыли дальше. Когда мы начали, Орион-охотник стоял над головой, теперь же он по дуге опустился на небе. А берег оставался так же далеко, как и раньше.
– Ты знаешь Агату, сестру Аристона? – откуда-то издалека спросил Александр.– Я собираюсь жениться на ней. И никому не говорил об этом.
– Поздравляю.
– Ты думаешь, я шучу? Но мои мысли возвращаются к ней часами.– Он говорил серьезно.– Как ты думаешь, она выйдет за меня?
Обсуждать это над водной пучиной имело немного смысла. Впрочем, в нашей ситуации эта тема была не хуже любой другой.
– Твоя семья по положению выше ее семьи. Если твой отец попросит, ее отцу придется согласиться.
– Я не хочу получить Агату таким образом. Ты ее видел. Скажи мне правду. Она пойдет за меня?
Я задумался.
– Она сделала тебе янтарный амулет. Она не спускает с тебя глаз, когда ты поешь. Она с сестрами выходит на Большой круг, когда мы бегаем там. И делает вид, что упражняется но на самом деле смотрит на тебя.
Это словно бы немного утешило Александра.
– Давай сделаем рывок. Двадцать минут будем плыть изо всех сил и посмотрим, насколько приблизимся. Когда прошло двадцать минут, мы решили попробовать еще двадцать.
– У тебя ведь тоже есть девушка, которую ты любишь, верно? – спросил Александр, загребая руками.– Из твоего города. Девушка, с которой ты жил в горах, твоя двоюродная сестра, та, что отправилась в Афины.
Я сказал, что не понимаю, откуда ему известно. Александр рассмеялся.
– Я все знаю. Я слышал это от девушек, и от пастухов коз, и от твоего друга Дектона.
И сказал, что хочет узнать больше «про эту твою девушку».
Я ответил, что не хочу рассказывать.
– Я могу помочь тебе с ней увидеться. Мой двоюродный дед –
проксенос в Афинах. Он может ее разыскать и привезти к нам, если захочешь.
Волны стали выше, поднялся ветер. Мы двигались в никуда. Я снова поддерживал Александра, когда у него начался следующий приступ удушья. Он сжал зубами большой палец и до крови укусил. Боль словно успокоила его.
– Диэнек говорит, что идущие в бой воины должны спокойно и уверенно разговаривать друг с другом, чтобы каждый ободрял товарища. Нам нужно все время разговаривать, Ксео.
В таких экстремальных условиях сознание выкидывает фокусы. Я не могу вспомнить, сколько времени в последующие часы я вслух разговаривал с Александром, а сколько просто плыл, пока мы, бесконечно напрягаясь, стремились к берегу, который отказывался приближаться.
Помню, что я рассказывал ему про Бруксия. Если я и знал Гомера, то это целиком заслуга того проклятого судьбой человека, слепого, как и сам поэт. Лишь благодаря его непреклонной воле я и моя двоюродная сестра не выросли в горах дикими и неграмотными.
– Этот человек был твоим ментором,– торжественно проговорил Александр,– как для меня Диэнек.
Он хотел услышать еще. Каково было потерять мать и отца и увидеть свой город сожженным? Как долго мы с сестрой оставались в горах? Как мы добывали пищу и как защищались от стихии и диких зверей?
Захлебываясь и барахтаясь, я рассказал ему.
На второе наше лето в горах Диомаха и я стали уже с такими искусными охотниками, что нам не только не было нужды спускаться за пищей в город или к сельским жителям, но и не хотелось туда спускаться. Мы были счастливы в горах. Мы росли. У нас было мясо не раз или два в месяц или на праздник, как в отцовском доме, а каждый день. Тут крылся один секрет. Мы нашли собак.
Точнее, двоих щенков, малышей, брошенных матерью. Аркадских пастушьих овчарок – дрожащих, слепых сосунков Мать бросила их, преждевременно родив среди зимы. Мы назвали одного Счастье, а другого – Удача. Они и оказались для нас удачей и счастьем. К весне оба уже бегали, и к лету в них проснулись охотничьи инстинкты. С этими собаками наши голодные дни кончились. Мы могли выследить и убить все, что дышало. Мы могли спокойно спать, зная, что ничто не застанет нас врасплох. Мы стали такими добычливыми охотниками – Дио, я и собаки,– что порой действительно не пользовались случаем, а выслеживали дичь и с благословением богов отпускали. Мы пировали, как господа, и с презрением смотрели на проливающих пот крестьян и бродящих в горах пастухов.
Бруксий начал побаиваться за нас. Мы росли дикими. Без родного города. В былое время Бруксий вечерами читал нам наизусть Гомера, и мы устраивали игру: кто сколько стихов может повторить без ошибки. Теперь эти упражнения стали для него жизненно важными. Он здорово сдал, мы видели это. Ему недолго оставалось быть с нами, и все, что знал сам, он должен был успеть передать нам, своим воспитанникам.
Нашей школой был Гомер; «Илиада» и «Одиссея» стали учебными текстами. Снова и снова Бруксий заставлял нас читать стихи о возвращении Одиссея, когда, в лохмотьях, неузнаваемый, законный владыка Итаки и герой Илиона ищет приюта в лачуге свинопаса Эвмея. Хотя Эвмей и не подозревал, что путник у его дверей – истинный царь, хотя он и принял своего повелителя за очередного нищего без роду и племени, но из почтения к 3евсу, покровителю путешественников, гостеприимно пригласил странника войти и разделить с ним убогую пищу.
Смирение, гостеприимство, милость к чужаку; мы должны были усвоить это, впитать глубоко, в плоть и кровь, в самые кости. Бруксий непреклонно учил нас состраданию – этой добродетели, которая на его глазах с каждым днем убывала в наших сердцах. Он заставлял нас повторять сцену в шатре, когда троянский старец Приам стоит на коленях перед Ахиллом и с мольбой целует руку человека, убившего его сыновей. Потом Бруксий с пристрастием спрашивал усвоенный материал. Что бы сделали мы на месте Ахилла? А на месте Приама? Было ли поведение обоих правильным и благочестивым в глазах богов?
У нас должен быть свой город, объявил однажды Бруксий. Без своего города мы ничем не лучше диких зверей, на которых охотимся и которых убиваем.
Афины.
Туда, настаивал Бруксий, я и Дио должны отправиться туда. Город Афины был единственным открытым городом в Элладе, самым свободным и цивилизованным. Любовь к мудрости –
философия – ценилась в Афинах выше всех других занятий; жизнь мысли взращивалась и почиталась, ей придавала силу высокая культура театра, музыки, поэзии, архитектуры и изобразительных искусств. И не было в Элладе города, равного Афинам в военном искусстве.
Афины с радостью принимали иммигрантов. Смышленый крепкий парень вроде меня может заняться торговлей, заключить договор с какой-нибудь лавкой. И у Афин был свой флот. Даже с моими увечными руками я мог бы работать веслом. С моим искусством в стрельбе из лука я мог бы стать
токсотом – морским лучником, проявить себя на войне и воспользоваться военной службой, чтобы занять достойное место в обществе.
И Диомаха тоже должна отправиться в Афины. Как свободнорожденная с грамотной речью и в расцвете красоты, она могла бы найти работу в уважаемом доме и не иметь недостатка в поклонниках. Она сейчас в самом подходящем возрасте для замужества. Верхом мечтаний нашего воспитателя было ее благополучное замужество за каким-нибудь гражданином. Даже будучи женой
метэка, живущего в городе чужеземца, она смогла бы защитить меня, помочь мне найти и сохранить работу. И к тому же мы были бы вместе.
По мере того как силы Бруксия убывали, росло его убеждение в том, что мы подчинимся его желанию. Он заставил нас поклясться, что, когда придет его час, мы спустимся с гор и отправимся в Аттику, в город богини Афины.
В октябре этого второго года долгим, уже прохладным днем Дио и я охотились и ничего не добыли. Мы побрели обратно в лагерь, ворча друг на друга и предвкушая пустую кашу или месиво из бобов и гороха. И, что еще хуже, нам предстояло сейчас увидеть Бруксия, согбенного и немощного. С каждым днем все больнее становилось видеть его, все труднее – поддерживать то, что в нем еще не болело. Он не ел мяса. Мы приметили дым, и собаки бросились вверх по склону, как они любили, стремясь к своему другу, чтобы он обнял их и насмешливо поздравил с возвращением.
Идя следом за собаками, мы услышали их лай. Не обычное игривое поскуливанье, а нечто более пронзительное, настойчивое. Затем наверху на склоне показался Счастье. Диомаха посмотрела на меня, и мы оба поняли.
Потребовался час, чтобы соорудить Бруксию погребальный костер. Когда его исхудалое тело с клеймом раба охватили к наконец языки очищающего пламени, я от впадины над его сердцем зажег насмоленную стрелу и пустил ее, горящую, со всей силы, как комету, по дуге над сумеречной долиной.
…Старец Нестор, мудрец бесподобный
Средь ахейских мужей кудроглавых,
Лег на землю, исполнен годами,
И закрыл, как во сне, свои очи,
Встретив гибель от стрел Артемиды.
Десять рассветов спустя Диомаха и я стояли у Трех Дорог, на границе Аттики и Мегары, откуда на восток шла Афинская дорога, на запад – Священная дорога в Дельфы, а на юго-запад, к перешейку и Пелопоннесу,– Коринфская. Без сомнения, мы представляли собой пару самых диких оборванцев – босые, с опаленными солнцем лицами и завязанными сзади хвостом длинными волосами. У обоих были кинжал и лук, а рядом скакали собаки, все в репьях, как и мы сами.
По всем направлениям у Трех Дорог наблюдалось предрассветное оживленное движение – ехали возы, телеги и крытые повозки с товарами или дровами, шли на рынок крестьянские мальчишки со своим сыром и яйцами, с мешками лука. (Вот так же и мы с Дио отправились в Астак в то утро, теперь казавшееся столь далеким, а ведь по календарю с тех пор прошло всего лишь две зимы.) Мы останавливались у всех перекрестков и справлялись о пути. Да, указал один погонщик, Афины там, в двух часах ходьбы, не больше.
Во время недельного путешествия с гор мы с Диомахой почти не разговаривали. Мы думали о городах, о том, что нас ждет в нашей новой жизни. Я наблюдал, как другие путники глазеют на Диомаху. В ней была заметна потребность быть женщиной.
– Я хочу иметь ребенка,– ни с того ни с сего вдруг сказала она в последний день нашего путешествия.– Хочу мужа, который бы заботился о нем и обо мне. Хочу дом. Самый захудалый – все равно, лишь бы было место, где я разобью маленький садик, посажу у порога цветы и наведу красоту для моего мужа и детей.
Так она выражала свою доброту ко мне, заблаговременно устанавливая дистанцию, чтобы у меня было время привыкнуть.
– Ты меня понимаешь, Ксео?
Я понимал.
– Какую из собак ты возьмешь? – спросил я.
– Не сердись на меня. Я только пытаюсь рассказать тебе как все есть и как должно быть.
Мы решили, что она возьмет Удачу, а я – Счастье.
– В городе мы можем остановиться вместе,– вслух поделилась своими мыслями Диомаха, пока мы шли.– Скажем что мы брат и сестра. Но ты должен понимать, Ксео, что если я найду достойного мужчину, который будет относиться ко мне с уважением…
– Я понимаю. Можешь больше не говорить.
За два дня до того нас на повозке с возницей обогнала знатная афинская дама с мужем, сопровождаемая веселой толпой друзей и слуг. Дама заметила дикую девушку Диомаху и потребовала от служанок, чтобы они вымыли ее, умастили тело оливковым маслом и расчесали ей волосы. Она хотела расчесать и мои, но я не позволил. Вся их компания остановилась у тенистого ручья и развлекалась лепешками и вином, пока служанки, отведя Дио в сторону, приводили ее в порядок. Когда моя двоюродная сестра появилась, я не узнал ее. Афинская дама была вне себя от восторга и, не переставая, превозносила Диомахино очарование предвкушая, какое волнение в крови городской может вызовет эта цветущая красота. Она настаивала, что бы Дио и я, как только доберемся до Афин, явились прямо в дом ее мужа, а она позаботится о работе для нас и о продолжении нашего образования. Ее слуга будет ждать нас у Фриазийских ворот. Любой нам скажет, где это.
Мы шагали дальше, последний день был долог. Надписи на составленных в ряд амфорах с вином и других товарах, что везли обгонявшие нас повозки, указывали места доставки – Фалерон или Афины. В говоре слышался аттический акцент. Мы остановились поглазеть на отряд афинской конницы, красовавшийся перед толпой. Мимо, направляясь в город, прошли четверо моряков, у каждого на плече весло, а в руке уключина и подушка. Вскоре и мне пред стояло стать таким же.
В горах мы всегда спали обнявшись – не как любовники, а просто чтобы согревать друг друга. В те последние ночи в пути Дио заворачивалась в свой плащ и спала отдельно. Наконец на рассвете мы подошли к Трем Дорогам, Я остановился, глазея на проезжавшую грузовую повозку и тут почувствовал на себе взгляд двоюродной сестры.
– Ты не идешь, да?
Я ничего не ответил.
Она знала, какую дорогу я выберу.
– Бруксий рассердится на тебя,– сказала Диомаха.
У собак на охоте Дио и я научились понимать друг друга по одному взгляду. Я глазами попрощался с ней и попросил понять меня. В этом городе о ней позаботятся, Ее жизнь женщины только начиналась.
– Спартанцы будут к тебе жестоки,– сказала Диомаха. Собаки нетерпеливо бегали у наших ног. Они еще не знали что тоже разлучаются. Дио обеими руками сжала мою. – И мы никогда уже не будем спать в объятиях друг друга, братец?
Наверное, возницам и крестьянским мальчишкам, что спешили в это утро на рынок, наше прощание показалось причудливым спектаклем: двое оборванных подростков обнимаются на обочине, луки на плече и кинжалы за поясом, свернутые по-походному плащи за спиной.
Диомаха пошла по своей дороге, а я – по своей. Ей было пятнадцать. Мне – двенадцать.
Не могу сказать, скольким из этого я поделился с Александром. Когда я закончил, его лицо так и не просветлело. Мы вцепились в какой-то жалкий плавучий обломок, едва выдерживавший и одного-то, но мы слишком изнемогли, чтобы плыть дальше. Вода становилась все холоднее. Наши члены охватила
гипотермия; я слышал, как Александр прокашливается и отхаркивает, набираясь сил заговорить.
– Нам нужно бросить этот обломок. Если не бросим, умрем.
Я смотрел на север. Там были различимы вершины гор, но сам берег оставался невидим. Александр холодной рукой схватил мою.
– Что бы ни случилось,– поклялся он,– я тебя не брошу..
И он отпустил обломок. Я последовал за ним.
Через час мы рухнули, как Одиссей, на скалистый берег у журчащего ручья. Мы глотали свежую воду из источника среди скал, смыли соль с волос, промыли глаза и полные благодарности за свое спасение, преклонили колер ни. Пол-утра мы проспали, как убитые. Я слазил за яйцами, которые потом мы проглотили сырыми, стоя в лохмотьях на песке.
– Спасибо, друг,– тихо-тихо проговорил Александр. Он протянул мне руку, и я сжал ее.
– Спасибо и тебе.
Солнце приближалось к зениту. Наши заскорузлые от соли плащи высохли у нас на плечах.
– Пошли,– сказал Александр.– Мы потеряли полдня.
Глава одиннадцатая
Сражение состоялось на запыленной равнине к западу от Антириона, на расстоянии полета стрелы от берега, прямо под городскими стенами. Непостоянная, вьющаяся по долине речка Аканаф рассекала поле боя пополам. Перпендикулярно руслу, вдоль обращенного к морю фланга, антирионцы возвели грубую стену. Вражеский левый фланг прикрывали изрезанные холмы. Часть равнины, прилегающую к стене, занимала приморская свалка – там виднелись гниющие остовы судов, сваленные в беспорядке, смердящие кучи мусора, над которыми, галдя, вились стаи чаек. Вдобавок противник разбросал камни и прибитый к берегу плавник, чтобы местность, по которой пойдет в наступление Леонид со своим войском, была как можно более неровной.
Когда Александр и я, запыхавшись, спешили к полю, союзники спартанцев скириты только что закончили поджигать оставленные противником постройки. Войска еще стояли в боевых порядках в трех с половиной стадиях друг от друга, и между ними горели остовы кораблей. Все местные торговые и рыбацкие суда враг отвел в безопасное место внутри укрепленного участка якорной стоянки или отогнал в море за пределы досягаемости захватчиков. Это не удержало скиритов от поджога верфей и складских помещений в бухте. Бревна корабельных навесов они облили нефтью, и все, что возвышалось над водой, уже дотла сгорело. Защитники Антириона, как прекрасно знали Леонид и спартанцы, представляли собой ополчение – крестьян, горшечников и рыбаков, воинов "летних учений", вроде моего отца. Опустошение их бухты должно было лишить их спокойствия, расстроить душу, непривычную к подобным зрелищам, опалить их чувства, не подготовленные к вони и ужасу грядущего побоища. Стояло утро, почти что рыночное время, и с берега подул бриз. Поле начал заволакивать черный дым от накренившихся останков кораблей: Просмоленные и вощеные доски яростно пылали на ветру, отчего черные груды мусора превратились в гудящие костры.
Мы с Александром обеспечили себе выгодное положение среди береговых утесов, не более чем в стадии от места, где должны были столкнуться два войска. Дым уже становился удушающим. Мы двинулись по склону. Лучшие места до нас занимали мальчишки и старики из Антириона, вооруженные луками, пращами и метательными снарядами, намереваясь обрушить их на спартанцев, когда те приблизятся. Но эти легковооруженные силы заранее рассеяли скириты, чьи соплеменники внизу собирались наступать, как обычно, со своего почетного места на левом фланге лакедемонян. Скириты заняли близлежащие склоны, оттеснив вражеских стрелков назад, откуда их пращи и дротики не могли достичь спартанцев.
Прямо под нами строем двигались спартанцы и их союзники. Оруженосцы облачили их в доспехи, начиная с ног: воловьи подошвы, в которых можно топтать огонь, далее – бронзовые поножи, которые оруженосцы
укрепляли на голенях своих господ лишь за счет металлических загибов, охватывающих сзади икры. Мы увидели отца Александра, Олимпия, заметили белую бороду его оруженосца Мериона.
Воины плотно обвязывали свои интимные части. При этом всегда звучал грубый юмор, когда каждый мужчина с шутливой торжественностью салютовал своему мужском достоинству и произносил молитву, обещая, что к концу дня они по-прежнему будут вместе.
Этот процесс облачения в доспехи перед битвой, который граждане других полисов проходили не чаще дюжины раз в год во время весенних и летних учений, спартанцы повторяли снова и снова, двести, четыреста, шестьсот раз во время каждого похода. К пятидесятилетнему возрасту мужчина повторял его десять тысяч раз. Это становилось для спартанцев второй натурой, как умащение и посыпанию пылью кожи перед борьбой или расчесывание длинных волос, которые они, теперь уже в льняных поясах-сполах бронзовых нагрудниках, тщательно укладывали с помощью какого-нибудь другого готовящегося к празднику сражения щёголя, излучая жуткое спокойствие и беззаботность.
Под конец воин надписывал свое имя или знак на
скиталидах – плетенных из лозы браслетах. Они предназначались для того, чтобы погибшего можно было опознать даже в том случае, если тело окажется слишком изуродовано. Лоза использовалась потому, что не представляла ценной добычи для врага.
Позади построившихся воинов изучались знамения. Отполированные до зеркального блеска щиты, шлемы и длинные наконечники копий сверкали на солнце, придавая плотному строю вид колоссальной перемалывающей машины, состоящей не столько из людей, сколько из железа и бронзы.
Теперь спартанцы и тегейцы наступали, выстроившись в линию. Сначала скириты – на левом фланге, сорок восемь щитов в ряд и восемь вглубь; за ними селассийский Стефан, его Лавровая
мора из тысячи ста
периэков-гоплитов. Справа от них – шестьсот тяжеловооруженных пехотинцев из Тегея, затем, в центре линии,
агема из Всадников – тридцать щитов в ряд и пять вглубь, чтобы сражаться рядом с царем и защищать его; среди них выделялся Полиник. Правее, равняя строй, двигался
лох Дикой Оливы – сто сорок четыре щита в ряд с
морой Пантер, примыкающей к царской охране, затем
мора богини АртемидыОхотницы во главе с Олимпием и
мора Менелая. Справа от них, уже на своих местах, выстроился
лох Геракла, тоже сто сорок четыре щита в ряд. Отчетливо виден был Диэнек во главе своей замыкающей правый фланг
эномотии из тридцати шести воинов, разбившихся на четыре
стихо – колонны по девять человек. Всего, не считая вооруженных оруженосцев во вспомогательных частях, в войске насчитывалось более четырех с половиной тысяч воинов, и они плечом к плечу занимали на равнине около трех стадиев.
Со своей выгодной позиции мы с Александром могли увидеть Дектона, такого же высокого и мускулистого, как любой из воинов, но безоружного. В своих жреческих белых одеждах он быстро подвел двух коз к Леониду, который стоял перед строем в окружении боевых жрецов, готовый к жертвоприношению. Две козы требовались на случай, если первая жертва окажется неблагоприятной. Осанка военачальников, как и воинов в строю, выражала полную беззаботность.
Напротив спартанцев выстроились антирионцы и их сиракузские союзники. Их строй был по фронту такой же, как у спартанцев, но глубиной по крайней мере на шесть щитов больше. Останки кораблей на корабельном кладбище уже обгорели до каркасов, расстелив на поле одеяло дыма. Позади них шипели в воде черные камни бухты, а зубья обгоревших бревен верфи выступали на загроможденной плавучими обломками поверхности, как надгробные камни. Все, что осталось от порта, заволокло пепельной дымкой.
Ветер понес дым на врага. Колени и плечи ополченцев дрожали и трепетали под весом непривычной брони, а сердце так колотилось в груди, что отдавалось в ушах. Не требовалось быть прорицателем, чтобы заметить их волнение.
– Посмотри на их копья! – сказал Александр, указывая на вражеский строй, когда воины затолкались и задвигались на своих местах. – Видишь, они дрожат? Даже оперение на их шлемах трясется.
В спартанском строю лес железных наконечников казался неколебимым, как забор, все копья направлены точно вверх, выровненные в геометрическую линию и недвижимые. В рядах же противника наконечники двигались и колебались; все, кроме сиракузцев в центре, нарушили строй Некоторые копья, задевая за соседние, стучали, как зубы.
Александр пересчитывал воинов в строю сиракузцев Он насчитал две тысячи четыреста щитов и от тысячи двух сот до тысячи пятисот наемников вдобавок к трем тысячам городского ополчения из самого Антириона. Противник превосходил спартанцев числом в полтора раза. Это превосходства было недостаточно, и все это знали.
И тут поднялся шум.
Среди вражеских рядов самые храбрые (или, точнее сказать, менее перетрусившие) начали бить древками ясеневых копий по бронзовым чашам своих щитов, создавая грохот
псевдоандреи, который эхом разнесся по окруженной горами равнине. Другие, ободренные этим шумом, стали воинственно потрясать копьями, вознося молитвы богам и выкрикивая злобные угрозы. Рев утроился, упятерился, удесятерился, когда его подхватили вражеские задние фланговые ряды. Вскоре все пять тысяч четыреста человек издавали воинственные крики. Их военачальник взмахнул копьем, и весь ломающийся на ходу строй следом за ним хлынул вперед.
Спартанцы не двинулись с места и не издали ни звука.
Они терпеливо ждали, стоя в своих алых плащах,– не мрачно и не застыв, а тихо обмениваясь друг с другом словами ободрения и поддержки, совершая последние приготовления к делу, которое сотни раз репетировали и десятки раз выполняли в сражении.
А враг приближался. Ускоренный шаг. Скорый шаг. Строй растянулся и отклонился вправо, «подраненный», поскольку люди в страхе жались в тень щита своего товарища справа. Уже было видно, что ряды противника заколебались и нарушили строй, поскольку самые храбрые шли вперед, а робкие жались назад.
Леонид и жрецы все еще стояли перед спартанским войском.
Неглубокая речка дожидалась приближения врага. Вражеские полководцы, предполагая, что спартанцы нападут первыми построили своих воинов таким образом, что линия реки располагалась на полпути между двумя войсками, по плану противника, несомненно, извилистое русло речки должно было нарушить ряды лакедемонян и сделать их уязвимыми в момент атаки. Однако спартанцы переждали антирионцев. Как только началось биение в щиты, вражеские военачальники поняли, что больше не смогут удержать свое войско на месте и нужно наступать, пока кровь воинов кипит. Иначе весь жар улетучится и образовавшийся вакуум неизбежно заполнится страхом.
Теперь речка работала против врага. Его передние ряды спустились в русло, когда до спартанцев оставалось чуть больше двух стадиев. Когда антирионцы поднялись, их ряды расстроились, а интервал между рядами стал еще больше. Теперь они снова вышли на равнину, но в тылу у них оказалась речка – величайшая опасность в случае поражения:
Леонид терпеливо наблюдал; рядом стояли боевые жрецы и Дектон со своими козами. Враг уже находился в полутора стадиях и снова ускорил свое продвижение. Спартанцы же по-прежнему не двигались. Дектон потянул за поводок первую козу. Мы видели, как он опасливо оглядывается, в то время как равнина начала гудеть от топота ног и воздух зазвенел от яростно-испуганных криков.
Леонид выполнил
сфагию: громко воззвав к Артемиде-Охотнице и Музам, вонзил меч в горло жертвенной козы. Он сжал коленями ее задние ноги и задрал животному голову левой рукой, чтобы было видно, как клинок перерезает горло. Каждый в строю смотрел, как на Гею, мать-землю, хлынула кровь, забрызгав поножи Леонида и окрасив темно красным его ноги в боевых сандалиях из воловьей кожи.
Царь обернулся. Истекающая кровью жертва еще билась меж его колен. Он посмотрел на скиритов, спартиатов, периэков и тегейцев, которые, по-прежнему молча, терпеливо ждали в строю. 3атем поднял к небу меч, темный от текущей по клинку крови, и, взывая о помощи к богам, обвел им быстро приближавшиеся войска противника.
– 3евс-Спаситель и Эрос! – прогремел голос царя, заглушаемый шумом, но ясно слышный.– Лакедемон!
Прозвучал сальпинкс: «Вперед!» Когда воины двинулись, трубачи держали оглушительную ноту в течение десяти шагов, и теперь сквозь шум пробивалось лишь поскуливание дудочников, пронзительный звук от их авлосов, слышный в давке, как крик тысячи Фурий(Автор употребляет латинское имя богинь мщения, которых в Греции звали Эриниями или Эвменидами). Взвалив обеих коз, убитую и живую, себе на плечи, Дектон со всех ног бросился под прикрытие боевого строя.
Спартанцы и их союзники как один человек двинулись вперед с поднятыми вверх копьями. Их наточенные и отполированные наконечники сверкали на солнце. Теперь противник надвигался еще быстрее. Леонид, не проявляя ни волнения, ни спешки, шагнул на свое место в первом ряду. Строй пошел вперед и охватил его, телохранители безупречно заняли свои места справа и слева.
Теперь из лакедемонских рядов, из четырех тысяч глоток, донесся
пэан – гимн Кастору. На верхней ноте второй строфы:
Небесносияющий брат,
Небеснорожденный герой!
копья первых трех шеренг резко опустились из вертикального положения в положение к атаке.
Словами не передать тот страх и ужас, который производил на противника, любого противника, этот, казалось бы, несложный маневр, называемый в Лакедемоне «выставление шипов» или «глаженье хвои», столь простой в исполнении на парадном плацу и столь грозный в ситуации, когда решается, жить или умереть. От созерцания столь точного и бесстрашного выполнения этого приема, когда ни один воин не высовывается вперед, потеряв голову, ни один из страха не отстает, никто не жмётся вправо, в тень соседского щита, а все держатся твердо и несокрушимо, плотно, как чешуйки змеи, просто замирает сердце, волосы наготове встают дыбом и по спине неудержимо бегут мурашки.
Словно кружащийся в ярости огромный зверь, злобно ощетинясь и обнажив клыки, вызывает в себе бесстрашие и силу – так и бронзово-темно-красная фаланга лакедемонян изготовилась к убийству.
Левый фланг противника шириной в восемьдесят щитов рухнул еще до того, как их
промбхи, воины первого ряда, приблизились к спартанцам на тридцать шагов. У врага вырвался испуганный крик, такой первобытный, что кровь застыла в жилах, а потом его заглушило грохотом.
Противник сломался изнутри.
Левое крыло, чья наступательная ширина мгновением раньше составляла сорок восемь щитов, вдруг сократилось до тридцати, потом до двадцати, потом до десяти: Из провалов в строю подобно урагану полетела паника. Те в первых трех рядах, кто обратился в бегство, теперь столкнулись со своими товарищами, наступавшими из арьергарда. Щиты краями цеплялись за другие, копья за древки других копий; возникла мешанина из плоти и бронзы – люди под тяжестью щита и доспехов спотыкались и падали, становясь препятствием и помехой для своих наступавших товарищей. Можно было увидеть, как какой-нибудь храбрый воин идет в наступление, яростно крича на своих земляков, а они покидают его. Те, кто удержал в себе мужество, отталкивали тех, кого оно покинуло, возмущенно и злобно кричали, топча упавших. Но по мере того, как мужество покидало их, они обращались в бегство, спасая собственную шкуру.
На пике сумятицы в войске противника на него обрушились спартанцы. Теперь среди врагов дрогнули даже самые храбрые 3ачем человеку, как бы отважен он ни был, стоять насмерть, когда справа и слева, впереди и сзади все товарищи покинули его? Все бросали щиты и втыкали копья и землю. Полтысячи воинов повернулись и в панике побежали. В это мгновение центр и правый фланг вражеского строя ударили щитами по центру спартанцев.
До нас донесся стук
офисмоса – звук, известный каждому воину, но еще незнакомый для юных ушей – моих и Александра.
В детстве, дома, мы с Бруксием однажды помогали нашему соседу Пиэрону переставлять три его улья. Кто-то поскользнулся, и ульи упали. 3апертые затычкой, пчелы внутри подняли тревогу – не крик и не плач, не рычание и не рев,– это был барабанный бой, доносящийся из подземного мира, вибрация ярости и убийства, исходящая не из головы или сердца, а из мельчайших частичек, из атомов живущих в ульях
полисов.
Тот же самый звук, стократно и тысячекратно усиленный, теперь поднялся от массового столкновения воинов и доспехов, которые сшиблись в долине под нами. Теперь я понял слова поэта о «мельнице Ареса» и всем телом ощутил, почему спартанцы говорят о войне как о работе.
Александр ногтями впился мне в руку:
– Тебе видно моего отца? А видишь Диэнека?
Диэнек внизу пробивался через толпу, мы видели его поперечный «скребок» справа от
лоха Геракла во главе третьей
эномотии. Насколько смешались ряды противника, настолько ровным и сплоченным остался строй спартанцев. Их первая шеренга не бросилась сломя голову на врага, они не молотили противника, как дикари, но и не наступали с флегматичной четкостью, как на плацу,– нет, они согласованно ринулись вперед, как боевые корабли, идущие на таран. Раньше я не мог оценить по достоинству, на сколько далеко за чередующуюся бронзу щитов
промбхом выступает убийственное железо копий. Копий, бьющих и разящих сверху вниз над верхней кромкой щита, несущих в себе всю силу правой руки и плеча – не только воинов первой шеренги, но также и второй, и даже третьей. Копий, жалящих, превращающих строй спартанцев в смертельную машину, которая убийственной стеной продвигается вперед. Как волчья стая пускается за бегущим оленем, так спартанцы обрушились на защитников Антириона – не в безумной ярости, не оскалившись, с перекошенными ртами, но как опытные хладнокровные хищники, применяя сталь в безмолвной сплоченности стаи убийц, выказывая смертоносную сноровку охотника.
Диэнек обходил врагов. Его
эномотия заходила противнику во фланг. Воины погрузились в облака дыма, и их было не разглядеть. Из-под ног сражающихся поднималась пыль. Горящие корабли, дым от них и пыль создавали впечатление, будто вся равнина охвачена пламенем, а из удушливого облака доносился этот звук, этот жуткий, неописуемый звук.
Прямо под нами, где дым и пыль были пореже, мы скорее чувствовали, чем видели, лох Геракла. Спартанцы обошли левый фланг противника, их передние ряды принялись за дело – рубить этих несчастных ублюдков, которые падали, или которых затоптали, или чьи ватные колени не смогли вынести их из этой бойни.
В центре и на правом фланге по всей линии сошлись спартанцы и сиракузцы – щит в щит, шлем в шлем. Среди людского водоворота мы с трудом различали то, что раньше было арьергардом восьмирядных колонн спартанцев и двенадцати или шестнадцатирядных колонн сиракузцев. Воины трехфутовыми чашами своих гоплонов со всей силы толкали в спину передние ряды, подошвами втаптываясь а землю и поднимая еще больше пыли в удушливый воздух.
Уже было невозможно различать отдельных воинов или даже подразделения. Мы видели лишь прилив и отлив человеческих масс и слышали непрерывный жуткий звук, от которого в жилах стыла кровь.
Как при горном наводнении стена воды наталкивается в пересохшем русле на каменные столбы и плетни крестьянской дамбы, так спартанский строй обрушился на массивные порядки сиракузцев. Прочная дамба, выстроенная против наводнений, как велел страх и предусмотрительность, вросши всеми силами в землю, несколько долгих мгновений не подает признаков размыва. Но потом, на глазах у встревоженного крестьянина, поток начинает опрокидывать глубоко врытый столб, другой порыв подмывает каменную насыпь. В каждую щелочку всем своим весом и силой неодолимо начинает проникать вода, размывая их шире, прорывая и разламывая брешь, в которую устремляются все новые потоки.
Вот дамба, давшая трещину лишь в ладонь, раскололась на локоть, а потом и на длину вытянутой руки. Масса напирающей воды, усиливаясь, талант за талантом прибывает и прибывает, добавляя свой вес к неодолимому все более мощному потоку. Вдоль укрепленных краев русла отваливаются пласты грунта, и их уносит бурлящая вода…
Так начал теперь сдавать и оседать сиракузский центр под толчками и ударами тегейской тяжелой пехоты, спартанского царя со своей гвардией и сомкнутых порядков
лоха Дикой Оливы.
Скириты обошли правый фланг противника. С другой стороны части из
лоха Геракла расширили участок прорыва. Сиракузские воины на флангах были вынуждены повернуться, чтобы защитить оголившиеся бока, тем самым ослабляя сопротивление давящим с фронта спартанцам. Словно на мгновение взлетел звук напряжённой сшибки, затем настала мертвая тишина, когда отчаявшиеся защитники собирали всю оставшуюся доблесть и из последних сил напрягали свои изнеможённые члены. 3а дюжину вздохов, казалось, прошла вечность, а потом с тем же тошнотворным звуком, как при размыве дамбы, не способной больше противостоять обрушившемуся на нее потоку, сиракузский строй треснул и сломался.
И в пыли и дыме на равнине началось побоище.
Из уст спартанцев в малиновых плащах вырвались крики радости и благоговейного трепета. Сиракузский строй распался, но не в беспорядочную толпу, как у их антирионских союзников, а на все еще дисциплинированные отряды и группы, которые удерживали их командиры или просто храбрецы, взявшие на себя командование. Подняв щиты перед собой, сиракузцы пятились в сомкнутых рядах. Но это им не помогло. Передние ряды спартанцев, воины пяти первых призывных возрастов, были самыми быстрыми и сильными. Всем им, кроме командиров, было не больше двадцати пяти лет. Многие, как Полиник в авангарде Всадников, участвовали в олимпиадах. Они выигрывали венки за венками на играх пред лицом богов.
Теперь, выпущенные Леонидом и влекомые собственной жаждой славы, они преподали сиракузцам урок, сталью подписывая приговор бегущим.
Когда трубачи протрубили в сальпинкс и его оглушительный звук призвал прекратить побоище, даже самый неопытный наблюдатель мог прочесть поле боя, как книгу.
На правом фланге спартанцев, где
лох Геракла обратил в паническое бегство антирионцев, виднелся невытоптанный дерн и поле было усеяно вражескими щитами и шлемами, копьями и даже нагрудниками, брошенными бегущим врагом. Там и сям лицом вниз лежали тела с позорными смертельными ранами на спине.
На другом фланге, где более сильный противник дольше держался против скиритов, резня была страшнее и дерн жестоко вытоптали. Там, где враг пытался удержать фланг, громоздились груды трупов.
Потом глаз останавливался в центре, где побоище было наиболее жестоким. 3емля там, где ноги противников напрягаясь упирались в землю, была изодрана так, словно тысяча воловьих упряжек терзала ее копытами и лемехами стальных плугов. Размешанная грязь, черная от мочи и крови, тянулась на два стадия вширь и на сто вглубь. Тела ковром покрывали кое-где землю в два, а то и в три слоя. В тылу, на поле куда отступили сиракузцы, и вдоль изрытых берегов реки, тоже лежали трупы. По двое или по трое, по пять или по семь, воины пали там, где держали круговую оборону. Там они сомкнули ряды и заняли позицию, обреченную, как песочная башня перед приливом. Эти воины встретили смерть лицом к врагу, с почетными ранами спереди.
Со склонов, откуда антирионские стрелки наблюдали за разгромом своих товарищей, донесся вопль, а на стенах самого города рыдали их жены и дочери, как, должно быть, стенали Гекуба и Андромаха в сражениях под Илионом.
Спартанцы выволакивали тела из груд, выискивая друзей или братьев, раненых, но еще борющихся за жизнь. Когда из кучи выбрасывали стонущего врага, к его горлу приставляли клинок
ксифоса.
– Не сметь! – крикнул Леонид, настойчиво делая знаки трубачам, чтобы те повторили сигнал прекратить бойню.– Позаботиться о них! Позаботиться о врагах тоже! – крикнул он, и военачальники передали приказ по шеренгам.
Александр и я, бросившись вниз по склону, сбежали на равнину. Мы были на поле боя. Я бежал, отстав на два шага, а мальчик в неудержимой настойчивости обводил взглядом окровавленных воинов, чья плоть словно еще горела в горниле ярости и чье дыхание словно дымилось в воздухе.
– Отец! – отчаянно закричал Александр и тут впереди заметил шлем с поперечным гребнем, а потом и самого Олимпия, целого и невредимого. Потрясенное выражение на лице
полемарха было почти комичным, когда он увидел бегущего среди побоища сына. Мужчина и мальчик, широко разведя руки, обнялись. Пальцы Александра ощупывали отцовский панцирь и нагрудник, убеждаясь, что руки отца невредимы и через какую-нибудь невидимую щель не сочится кровь.
Из бурлящей толпы появился Диэнек, и Александр бросился в его объятия:
– Тебя не ранили?
Подбежал и я. Рядом с Диэнеком стоял Самоубийца. Его лицо было забрызгано вражеской кровью, а в руке он держал свои «штопальные иглы». Неподалеку столпилось несколько спартанцев; я увидел у их ног истерзанное и недвижимое тело Мериона, оруженосца Олимпия.
– Что ты тут делаешь? – спросил сына Олимпий, и в его голосе появился гнев: он понял, какой опасности подвергал себя Александр.– Как ты сюда попал?
Олимпий тяжело ударил сына прямо по голове. Тут мальчик увидел Мериона. С криком боли он упал на колени в грязь возле павшего оруженосца.
– Мы приплыли,– объяснил я.
Тяжелый кулак обрушился на меня, затем еще и еще. – Что тебе здесь делать, бездельник? Пришел поглазеть?
Мужчины были в ярости. Александр, не замечая этого, стоял на коленях рядом с Мерионом. Тот лежал на спине, по обе стороны от него на корточках сидело по воину, его голова без шлема лежала на
гоплоне, а лохматая белая борода слиплась от крови, соплей и слюны. Мериону, как оруженосцу, не полагались латы, и сиракузское копье попало ему прямо в грудь. Из сочащейся раны кровь текла в углубление на грудине; сбившийся хитон промок от темной, уже свернувшейся комками крови. Мы слышали шипение, когда его легкие пытались всосать воздух, но вместо этого втягивали кровь.
– Что он делал в строю? – срывающимся от горя голосом спросил Александр у собравшихся воинов.– Ему не полагалось там быть!
Он начал кричать, чтобы принесли воды. Мальчик разорвал на себе хитон и, сложив льняную ткань вдвое, прижал к всасывающей воздух груди лежащего друга.
– Почему вы его не перевяжете? – взывал его юный голос, а вокруг в скорбном молчании стояли мужчины. Он умирает! Разве вы не видите, что он умирает? – Александр снова позвал водоноса, но никто не подошел. Мужчины знали, почему, и теперь, поглядев на них, Александр тоже со всей ясностью понял то, что было ясно и для Мериона.
– Я одной ногой уже на пароме, племянничек,– удалось выдавить старому бойцу из кровоточащей груди.
Жизнь быстро угасала в его глазах. Мерион был, как я уже сказал, не спартанцем, а потидейцем, военачальником в своем войске, много лет назад попал в плен, и ему не позволяли снова увидеть родной дом. С напряжением, на которое было жалко смотреть, Мерион собрал все силы и приподнял почерневшую от крови руку, чтобы нежно положить ее на руку мальчика. Их роли поменялись: теперь умирающий утешал живого юношу.
– Не бывает более счастливой смерти,– просипели его сочащиеся кровью легкие.
– Ты отправишься домой,– пообещал Александр. Клянусь всеми богами, я сам отвезу твои кости.
Теперь и Олимпий опустился на колени и взял за руку своего оруженосца.
– Назови свое желание, старый друг. Спартанцы унесут тебя.
Старик попытаться что-то сказать, но горло не слушалось. Он сделал слабое усилие подняться, Александр удержал его, потом нежно обнял ветерана за шею и приподнял ему голову. Глаза Мериона посмотрели вперед и вокруг, где среди истоптанной и политой кровью земли видны были алые плащи павших воинов, каждый в окружении нескольких товарищей и братьев по оружию. Потом с трудом, который словно поглотил всю оставшуюся жизнь, он проговорил:
– Похороните меня там, где лежат они. Здесь мой дом. Я не могу просить ничего лучше.
Олимпий поклялся, что выполнит просьбу. Александр, поцеловав Мериона в лоб, повторил клятву.
Темное спокойствие опустилось на глаза умирающего. Прошло мгновение. Александр своим чистым тенором пропел Прощание с Героем:
Дух, что бессмертные боги в меня при рожденье
вдохнули,
С радостью в сердце теперь им возвращаю назад.
В честь победы Дектон принес Леониду петуха для заклания в благодарность 3евсу и Нике. Сам юноша был воодушевлен триумфом, его руки тряслись – так ему хотелось, чтобы и ему позволили взять щит и копье и встать в боевой строй.
А я не мог оторвать глаз от лиц знакомых воинов, за которыми раньше наблюдал на плацу, но которых никогда прежде не видел в крови и ужасе сражения. В моих глазах они, и так уже превосходившие жителей любого другого города, теперь стали едва ли не полубогами. Я стал свидетелем того, как они обратили в бегство не таких уж трусливых антирионцев, сражавшихся под стенами своего города. и защищавших свои дома и семьи, и за несколько минут одолели великолепное сиракузское наемное войско, обученное и экипированное на золото тирана Гелона – золото, которому, кажется, не будет конца.
Нигде на поле боя спартанцы не дрогнули. Даже теперь, когда кровь еще бурлила после битвы, дисциплина удерживала их в чистоте и благородстве, и они оставались выше похвальбы. Они не раздевали тела убитых, как с радостью и нетерпением сделали бы воины любого другого города, и в пустом тщеславии не воздвигали трофея из оружия побежденных. Их строгим изъявлением благодарности стал единственный, не стоивший и обола петух – и вовсе не потому что они не чтили богов, а наоборот, потому что благоговели перед ними. Им казалось непочтительным слишком явно выражать свою человеческую радость в том триумфе, что даровали им небеса.
Я смотрел, как Диэнек перестраивает ряды своей
эномотии, подсчитывает потери и зовет
травматов для перевязки раненых. У спартанцев существует термин для обозначения того состояния духа, которого нужно любой ценой избегать в битве. Они называют его
каталепсис, одержимость, то есть расстройство чувств, наступающее, когда в душе начинают преобладать страх или злоба.
Наблюдая, как Диэнек наводит порядок среди своих воинов, я понял, что в этом и заключается роль военачальника: не допустить в подчиненных одержимости на всех стадиях сражения – до, во время и после него. Разжигать в них отвагу, когда она ослабевает, и сдерживать ярость, когда она угрожает вывести их из-под контроля. В этом и заключалась работа Диэнека. Вот почему он носил командирский шлем с поперечным гребнем.
Как я теперь видел, в нем не было героизма Ахилла. Это не был сверхчеловек, выходящий невредимым из любого побоища, одной рукой разящий мириады врагов. Это был человек, просто выполняющий свою работу. Работу, главным смыслом которой были сдержанность и спокойствие. И не ради себя самого; а ради тех, кого он ведет за собой своим примером. Работу, цель которой можно кратко выразить единственной скромной фразой, как он сделал при Горячих Воротах в утро своей смерти: «Выполнение обычных вещей в необычных обстоятельствах».
Теперь спартанцы собирали свои «браслеты» из лозы, которые сами сделали себе перед боем, чтобы в случае гибели их можно было опознать после схватки. Воин пишет свое имя дважды, на каждом конце лозы, а потом ломает ее пополам. «Кровавую половину» он обвязывает вокруг левого запястья и несет с собою в бой, а «винную половину» оставляет в обозной корзине в тылу. Половинки ломаются специально неровно: если даже надпись зальет кровью или она будет повреждена еще каким-то образом, вторая половинка однозначно совпадет с в кровавой». После боя воину возвращают вторую половинку браслета. Оставшиеся в корзине говорят о числе потерь.
Услышав свое имя, воин выходит из строя и забирает обломок, и руки трудно удержать от дрожи.
Там и сям вдоль строя по двое-трое собрались мужчины. Страх, с которым им удалось справиться во время боя, теперь ослабил узы и набросился на них, охватив сердца. Ухватившись рукой за товарищей, они опустились на колени – не из одного почтения перед друзьями, хотя испытывали его в избытке, но потому что колени вдруг утратили всю силу и больше не могли держать тело. Многие плакали, другие неистово тряслись. Это не считалось недостатком мужества, а называлось у дорийцев
гесма фобоу – очищением от сокрытия страха.
Леонид размашисто шагал среди воинов, давая всем убедиться, что их царь жив и не покалечен. Воины жадно пили свою долю крепкого густого вина, и не считалось постыдным пить также большое количество воды. Вино уходило быстро, но никто не хмелел. Некоторые пытались расчесать волосы, словно таким образом возвращая себя к нормальной жизни. Но их руки так тряслись, что у них почти ничего не получалось. Другие с пониманием усмехались – ветераны, знающие, что лучше и не пытаться, поскольку все равно невозможно заставить члены слушаться. Признавшие свою неудачу чесальщики в ответ мрачно хмыкали.
Когда метки нашли свои вторые половины и вернулись к хозяевам, оставшиеся в корзине обозначили убитых или тяжело раненных, не способных встать в строй. Эти последние были востребованы братьями и друзьями, отцами и сыновьями, любимыми. Иногда человек брал собственную, потом забирал другую, а иногда, со слезами, и третью. Многие возвращались к корзине – просто заглянуть, чтобы увидеть число потерь.
В тот день потери составили двадцать восемь человек.
Великий Царь может сравнить это число с тысячами убитых в более великих сражениях и, возможно, сочтет его незначительным. Но тут это казалось
децимацией – гибелью каждого десятого воина.
Возникло некоторое волнение, и перед собравшимися воинами показался Леонид.
– Вы уже преклонили колени?
Он двинулся вдоль строя, но не стал произносить громогласных речей, подобно иным гордым монархам, ищущим удовлетворения в звуках собственного голоса. Нет, он говорил тихо, как товарищ, он брал за локоть каждого бойца, некоторых обнимал, иных хлопал по плечу. Он разговаривал с каждым по отдельности, как мужчина с мужчиной, как Равный с Равным, без царственной снисходительности. Слова от одного к другому разносились шепотом по рядам, не требуя громкого повторения.
– Каждый получил вторую половину метки? Ваши руки уже не дрожат и вы можете свести их вместе?
Царь рассмеялся, и воины рассмеялись вместе с ним. Они любили его.
Победители построились в обычный порядок, раненые и не раненые, а также оруженосцы и илоты. Они высвободили место для царя. Стоящие впереди опустились на колени, чтобы товарищи сзади могли видеть и слышать; а сам Леонид буднично ходил туда-сюда вдоль строя, так, чтобы все слышали его голос и видели его лицо.
Боевой жрец – в данном случае Олимпий – держал перед царем корзину..Леонид брал каждую невостребованную метку и читал имя. Он не произносил никаких надгробных словес. Не звучало ничего, кроме имени. Среди спартанцев одно это считалось чистейшей формой освящения.
– Алкамен. Дамон. Антаклид. Лисандр.
И так далее…
Тела, уже принесенные оруженосцами с поля боя, будут омыты и умащены маслом; будут произнесены молитвы и принесены жертвы. Каждый погибший будет завернут в собственный плащ или плащ товарища и похоронен здесь же на месте, под курганом чести. Дома похоронят лишь щит, меч, копье и доспехи, если только знамения не объявят, что для данного тела будет больше чести, если его сохранят и похоронят в Лакедемоне.
Леонид взял свой собственный браслет и сложил обе половинки.
– Братья и союзники, я приветствую вас. Соберитесь, друзья, и выслушайте слова моего сердца.
Он выдержал паузу, спокойно и торжественно.
Потом, когда все замолкли, царь произнес:
– Когда человек устанавливает перед глазами бронзовое лицо своего шлема и выходит на позицию, он делит самого себя, как свою метку, на две части. Одну часть он оставляет позади. Эта часть вызывает восторг у его детей, она возвышает его голос в хоре, она прижимает к нему жену в сладкой темноте их ложа. Эту свою часть, лучшую часть, мужчина оставляет позади. Он изгоняет из своего сердца все чувства нежности и жалости, все сочувствие и доброту, все мысли и понятия о том, что враг – такой же мужчина, такой же человек, как он сам. Он идет в бой, неся только вторую часть себя, низкую часть, ту часть, что знает бойню и резню и не ведает пощады. Никакой воин не может сражаться, если не сделает этого.
Царя слушали, молчаливо и торжественно. Леониду в то время было пятьдесят пять лет. С тех пор как ему стукнуло двадцать, он прошел более четырех десятков сражений. Старые раны – тридцатилетней давности – виднелись на его плечах и икрах, на шее и под стального цвета бородой.
– Потом мужчина возвращается с побоища – живой. Он слышит, как выкрикивают его имя, и выходит взять свой браслет. И забирает ту часть себя, что раньше отложил в сторону. Это священный момент. Сакраментальный момент. Момент, когда мужчина чувствует богов рядом с собой, он чувствует их так близко, как собственное дыхание. Какое неведомое милосердие спасает нас в такой день? Какая божественная милость отвращает вражеское копье на ладонь от нашего горла и роковым образом направляет его в грудь любимого товарища, стоящего рядом? Почему мы по-прежнему здесь, на земле, хотя мы ничуть не лучше, не храбрее, не почтительнее к небесам, чем наши братья, которых боги направили в подземное царство? Когда мужчина соединяет две части своего браслета и видит, как они сливаются воедино, он ощущает, как его снова наполняет та часть его, что знает любовь, и милосердие, и сочувствие. Вот от этого и подгибаются колени. Что еще может чувствовать мужчина в тот момент, кроме самой искренней и глубокой благодарности богам, которые сегодня по неведомым причинам сохранили ему жизнь? 3автра их прихоть может оказаться иной. На следующей неделе, на будущий год. Но сегодня солнце продолжает светить ему, он чувствует на плечах ласковое тепло, видит вокруг себя лица своих товарищей, которых любит, и радуется своему и их спасению.
Леонид замолк, стоя посреди пространства, освобожденного для него войском.
– Я приказал прекратить преследование врага. Я велел положить конец побоищу и не убивать тех, кого сегодня мы зовем врагами. Пусть они вернутся домой. Пусть обнимут жен и детей. Пусть, как и мы, прольют слезы спасения и воскурят благодарность богам. Пусть никто не забывает и не толкует превратно, почему сегодня мы сражались с другими греками. Не для того, чтобы победить и поработить их, наших братьев, а чтобы сделать нас союзниками против более серьезного врага. Мы надеялись достичь этого убеждением. Получилось же – принуждением. Но это неважно. Теперь они – наши союзники, и с этого момента мы будем относиться к ним, как к союзникам. Перс!
Леонид вдруг повысил голос, воскликнув с таким взрывом эмоций, что стоявшие поблизости вздрогнули от неожиданности.
– Перс – вот из-за кого мы сражались сегодня! Он невидимо присутствует над этим полем боя! Из-за него в корзине остались метки! Из-за него двадцать восемь благороднейших воинов нашего города никогда не увидят красоты родных холмов и не будут танцевать под милую родную музыку! 3наю, многие из вас подумали, что я не в своем уме, как Клеомен, предыдущий царь(Царь Клеомен сошел с ума). Послышался смех.– Иногда до меня доносится шепот, а иной раз это даже не шепот.– Снова смех.– Якобы Леонид слышит голоса, которых не слышно остальным! Он-де пользуется тем, что дала ему жизнь, не по-царски и готовится к войне против врага, которого никто никогда не видел и который, как говорят многие, никогда не придет. Все это так…
Воины снова рассмеялись.
– Но выслушайте и никогда не забывайте того, что я вам сказку: перс – придет. Он придет с таким войском, что посланное им четыре года назад, когда афиняне и платейцы столь славно разбили его на Марафонской равнине, покажется ничтожным. Он придет с десятикратно, со стократно более могучим войском! И придет скоро.
Леонид снова замолк. От жара в груди его лицо зарделось, а глаза горели возбуждением и убежденностью.
– Выслушайте меня, братья. Перс – не царь, как был для нас Клеомен или как я для вас теперь. В сражении он не занимает свое место в строю со щитом и копьем, нет, он взирает из безопасного места, издали, с холма, сидя на золотом троне.– При этих словах Леонида среди воинов послышался презрительный шепот.– Его товарищи – не Равные, свободные говорить при нем, что думают, без страха. Это его рабы и смерды. Все они, даже благороднейшие, считаются царской собственностью, наряду с козлами и свиньями, и их посылает в бой не любовь к своей стране и к свободе, а плеть других рабов. Этот царь вкусил поражение от руки эллинов, и это горько для его тщеславия. Теперь он идет сам, чтобы отомстить, но идет не как достойный уважения мужчина, а как избалованный и нетерпеливый ребенок, разозленный тем, что у него отняли игрушку. Я плюю на корону этого царя. Я вытираю задницу об его трон, который на самом деле – седалище раба. Он не стремится ни к чему более благородному, чем превратить в рабов других! Все, что я сделал, будучи царем, и все, что до меня сделал Клеомен: обхаживание врагов, все фальшивые конфедерации, все подчиненные нами слабые в коленках союзники – все это делается ради того дня, когда Дарий или кто-то из его сыновей вернется в Элладу отплатить нам.
Тут Леонид поднял корзину с половинками браслетов павших.
– Вот почему эти люди, которые лучше нас, сегодня отдали свои жизни! Вот почему они освятили эту землю своей героической кровью! В этом – смысл их жертвы. Они вывалили свои кишки не в лужу мочи сегодняшней войны, они полегли в первой из множества битв более великой войны; которая еще грядет, которую видят боги на небесах, которую все вы видите в сердце своем. Эти наши братья – герои той войны, которая станет величайшей и самой разрушительной в истории. В тот день,– Леонид указал на берег залива, на Антирион у воды и Рион на другой стороне,– в тот день, когда перс через этот пролив приведет свои полчища против нас он найдет здесь не свободный проход и купленных друзей, а врагов, объединенных и непримиримых, союзников-эллинов, которые бросятся на него с обоих берегов. А если он изберет другой путь, если шпионы доложат ему о том, какой прием ждет его здесь, и он выберет другой проход, то и в другом месте сражения суша и море станут нашим большим преимуществом. Так будет благодаря тому, что мы совершили сегодня, благодаря жертве этих наших братьев, чьи тела мы опустим сегодня в могилу. Поэтому я не стал дожидаться, пока сиракузцы и антирионцы, наши сегодняшние враги, пошлют к нам своих посланников, как обычно, с просьбой вернуть им тела их убитых. Я первым послал к ним наших гонцов, предлагая перемирие, без злопамятства и с великодушием. Пусть наши новые союзники заберут неоскверненным оружие своих павших, пусть вернут незамаранными тела своих мужей и сыновей. Пусть те, кого мы сохранили сегодня, встанут в боевой строй вместе с нами в тот день, когда мы покажем персу раз и навсегда, какую доблесть свободные люди могут проявить против рабов, как бы велико ни было их число и как бы безжалостно ни гнали их плети их избалованного царя!
КНИГА ТРЕТЬЯ
ПЕТУХ
Глава двенадцатая
В этом месте рассказа произошел досадный инцидент. Один из подчиненных Царского лекаря во время обычного ухода за ранами пленника неразумно сообщил раненому о судьбе Леонида, спартанского царя, командовавшего обороной Фермопил, о том, что стало с ним после битвы у Горячих Ворот, и о том, какое святотатство в глазах греков совершили войска Великого Царя над телом, когда достали его из горы трупов после побоища. До того пленник ничего об этом не знал.
Возмущение этого человека было немедленным и бескрайним. Он отказался говорить дальше и потребовал, чтобы его тоже умертвили – и немедленно. Этот человек, Ксеон, впал в отчаяние оттого, что тело его царя было обезглавлено и распято. Никакие доводы, угрозы и уговоры не могли вывести его из этого горестного состояния.
Оронту стало ясно, что если доложить Великому Царю о вызывающем поведении пленника, то, как бы Ему ни хотелось услышать продолжение рассказа этого человека, за свою наглость по отношению к Царственной Особе пленный Ксеон будет предан смерти. Сказать по правде, командир Бессмертных так же опасался за свою собственную голову и головы своих подчиненных, если Великий Царь будет разгневан непреклонностью грека по отношению к Его желанию узнать все возможное о своем спартанском противнике.
После частого неофициального общения с греком Ксеоном во время переговоров Оронт стал для него доверенным лицом и даже, если значение этого слова можно расширить до такой степени, другом. Он по собственной инициативе постарался смягчить упорство пленника. С этой целью командир Бессмертных попытался донести до грека следующее.
О физическом осквернении, совершенном над телом Леонида, Великий Царь глубоко пожалел сразу же, как только отдал приказ об этом. Приказ был отдан горем, испытанным после сражения, когда кровь Великого Царя вскипела при виде тысяч погибших – по некоторым подсчетам, до двадцати тысяч лучших бойцов Державы были убиты войсками Леонида, чей вызов богу Ахуре-Мазде, мог быть воспринят персидским оком как оскорбление небесам. Вдобавок спартанский супостат и его союзники послали в Царство мертвых двоих братьев Великого Царя, Габрока и Гиперанфа, и еще более тридцати других царских родственников.
Более того, добавил командир Бессмертных, расчленение тела Леонида явилось, если посмотреть в определенном свете, свидетельством трепета Великого Царя перед спартанцем, поскольку ни один другой вражеский военачальник не удостоился от Него такого крайнего и, в глазах эллинов, варварского возмездия.
Этого человека, Ксеона, не тронули подобные доводы, и он повторил свое желание немедленно принять смерть. Он отказался от пищи и воды. Казалось, его рассказ на этом месте закончился и уже не возобновится.
Но тут, боясь, что ситуацию не удастся утаить от Великого Царя,Оронт решил разыскать Демарата, изгнанного спартанского царя, проживавшего при дворе, в качестве гостя и советника, и убедил его посодействовать. Демарат явился в шатер Царского лекаря и там с глазу на глаз больше часу говорил с пленным Ксеоном. Выйдя же оттуда, он сообщил начальнику Оронту, что этот человек переменил свое решение и теперь хочет продолжить допрос.
Кризис миновал.
– Признайся мне,– попросил Оронт с большим облегчением,– какой же довод и убеждение применил ты, чтобы заставить его передумать?
Демарат ответил, что среди всех эллинов спартанцы более других известны своим благочестием и благоговейным отношением к богам. Он заявил, что по его собственным наблюдениям в этом отношении среди лакедемонян низшие по положению и по роду – в частности, пришельцы из других мест, каким и являлся пленник Ксеон,– почти без исключения, по словам Демарата, «больше спартанцы, чем сами спартанцы».
Бывший спартанский царь, как он сам рассказал, сыграл на уважении этого человека к богам, особенно к Фебу Аполлону, к которому тот явно питал глубокое почтение. Демарат уговорил пленника помолиться и принести жертву, чтобы определить как можно лучше волю этого бога. Ведь несомненно, сказал он, до сих пор Стреловержец способствовал твоему рассказу. Почему же теперь он прикажет прервать его? Не ставит ли себя этот человек, Ксеон спросил Демарат, выше бессмертных богов, предполагая знание их непостижимой воли и затыкая им рот по собственному капризу?
Неизвестно, какой ответ получил пленник от своих богов, но, очевидно, этот ответ совпал с советом Демарата.
И на четырнадцатый день месяца ташриту мы возобновили слушание рассказа.
При Антирионе Полиник получил приз за отвагу.
Это был его второй приз, добытый в таком неслыханном возрасте – в двадцать четыре года. Ни один из Равных, кроме Диэнека, не был награжден дважды, но тому уже было около сорока. За свой героизм Полиник был назначен начальником над Всадниками, и его привилегией стало председательствовать при назначении Трехсот царских спутников на следующий год. Это высшее, всеми вожделенное отличие, вдобавок к Олимпийскому венку за состязания в беге, сделало Полиника маяком славы, чьи лучи сияли далеко за пределами Лакедемона. Во всей Элладе его воспринимали как героя – как второго Ахилла, стоявшего теперь на пороге безграничной и неувядающей славы.
К чести Полиника, он не возгордился. Если что-то подобное и можно было в нем уловить, то оно проявлялось лишь в его еще более лютой самодисциплине. Это рвение в доблести, как показали события, могло стать чрезмерным, когда применялось к другим, не таким блестяще одаренным, как он сам.
Что касается Диэнека, он один раз был удостоен чести быть включенным в число Всадников, когда ему было двадцать шесть. 3атем он почтительно отклонял все последующие назначения. Он говорил, что ему нравится неприметное положение начальника
эномотии. В строю он чувствовал себя самим собой. Убеждением моего хозяина было, что его вклад будет наибольшим, если он лично поведет людей за собой, да и то не более определенного числа. Он отказывался от всяких попыток продвинуть его выше уровня
эномотии. "Я умею считать лишь до тридцати шести,– был его стандартный ответ.– Дальше у меня кружится голова».
Добавлю по собственным наблюдениям, что больше, чем ко всему остальному, Диэнек имел дар и склонность к педагогике. Как и все прирожденные педагоги, он был прежде всего учеником. Он изучал страх и его противоположность.
Но если и дальше отступать в те времена, это уведет нас далеко от нашего повествования. Остановимся же на Антирионе.
На обратном пути в Лакедемон, в наказание за то, что я осмелился сопровождать Александра в его погоне за войском, меня удалили из его общества и заставили идти в пыли вслед за обозом вместе со стадом жертвенных животных. Я был с моим другом, наполовину илотом Дектоном. Этот Дектон получил при Антирионе новое прозвище – Петух. Когда сразу же после сражения он принес Леониду для благодарственной жертвы петуха, то чуть не задушил последнего в сжатых кулаках – так обезумел он от возбуждения битвы и своего несбывшегося желания принять в ней участие. Кличка пристала. Дектон и в самом деле был петухом, из него так и била воинственность скотного двора и готовность налететь на всякого, пусть даже противник в три раза больше его размером. Это новое прозвище подхватило все войско, которое стало считать юношу чем-то вроде счастливого талисмана, несущего победу.
Кличка, конечно, задела Дектонову гордость и привела его в еще более воинственное состояние. По его мнению, подобное прозвище звучало пренебрежительно. Прозвище дало ему и еще одну причину ненавидеть хозяев и презирать собственное положение на службе у них. Меня он назвал тупоголовым болваном за то, что я следовал за армией.
– Тебе надо было бежать,– прошипел мне Дектон, глядя в сторону, когда мы среди мух тащились за обозом.Ты заслуживаешь тех плетей, что получаешь, не за то, в чем тебя обвиняют, а за то, что не утопил этого гимнопевца Александра, когда тебе выпала такая возможность, и не бросился потом прямо в храм Посейдона.– Он имел в виду святилище на мысе Тенар, где беглецы могут получить убежище.
Мою преданность спартанцам Дектон осуждал с презрением и насмешками. Вскоре после того, как два года назад судьба привела меня в Лакедемон, когда нам обоим было по двенадцать, меня отдали под власть этого мальчишки.
Его семья работала в поместье Олимпия, отца Александра и родственника Диэнека через его жену Арету. Сам Дектон был незаконнорожденным, по крови наполовину илотом, и ходил слух, что его отцом был спартиат, чье надгробие
Идотихид
Погиб
в сражении при Мантинее
стояло у Амиклской дороги напротив ряда сисситий, помещений для общих трапез.
Это полуспартанское происхождение не давало Дектону никакого преимущества. Он родился илотом и оставался им. Во всяком случае, его спартанские ровесники, а Равные даже в большей степени, относились к нему с повышенной подозрительностью, усиленной еще и тем, что Дектон отличался исключительной силой и ловкостью в атлетических играх. В свои четырнадцать лет он был сложен как взрослый мужчина и почти так же силен.
Его ждали большие неприятности, и он знал это.
Сам я тогда пробыл в Лакедемоне полгода – дикий мальчишка, только что спустившийся с гор и отданный на самые грязные крестьянские работы, поскольку отправить меня туда было разумнее, чем убить, рискуя осквернить себя. Но я оказался настолько негодным для сельского труда, что доведенные до бешенства мои хозяева-илоты пожаловались напрямую своему хозяину Олимпию. Этот благородный человек проявил ко мне сострадание – возможно, из-за того, что я был свободнорожденным, а возможно, и потому, что я стал городской собственностью не через пленение, а добровольно.
И меня отправили к пастухам коз и козлят.
Я сделался пастухом жертвенных животных, присматривал за скотиной для утренних и вечерних церемоний и ходил с войском на полевые учения.
Главным среди нас был Дектон. Прежде чем мы подружились, он возненавидел меня и питал самое жгучее презрение к моей истории, по неосторожности рассказанной ему, – якобы я получил совет непосредственно от Стреловержца Аполлона. Дектон счел это бредом. Как только я посмел возомнить, будто олимпийский бог, отпрыск Громовержца 3евса, покровитель Спарты и Амикл, попечитель Дельф и Делоса и неизвестно скольких еще полисов потратил свое бесценное время, чтобы снизойти до разговора в снегу с безродным и бездомным гелиокекауменом вроде меня? В глазах Дектона я был тупейшим из спятивших в горах безумцев, каких он только видел.
И он назначил меня старшим подтирателем задницы. – Ты думаешь, я собираюсь дать исполосовать себе спину за то, что подведу царю измазанного навозом козла? Отправляйся, и чтобы под хвостом у него не было ни пятнышка!
Дектон никогда не упускал случая унизить меня.
– Я учу тебя, затычка! Эти задницы – твоя академия. Сегодняшний урок – тот же, что и вчера: из чего состоит жизнь раба? Из постоянных унижений, из издевательств, из отсутствия другого выбора, кроме как терпеть. Скажи мне, мой свободнорожденный друг, как тебе это нравится?
Я ничего не отвечал, а молча повиновался. И за это он презирал меня еще больше.
Однажды он преградил мне дорогу, когда я с другими мальчиками-илотами пас скотину на царском пастбище.
– Ты меня ненавидишь, а? Тебе ничего бы так не хотелось, как изрубить меня на куски. Что же тебя останавливает? Попробуй! Ты ведь ночами не спишь, думая, как бы меня убить,– дразнил меня Дектон.– Но ты-то прекрасно знаешь, как это сделать! При помощи фессалийского лука, если твои хозяева тебя к нему подпустят! Или кинжалом, который ты припрятал между досок в хлеву! Но ты меня не убьешь. Сколько бы унижений я ни лил на твою голову, как бы ни издевался над тобой – ты не убьешь меня!
Он поднял камень и швырнул в меня, не целясь. Камень попал мне в грудь, и я чуть не упал. Другие мальчишки-илоты подошли посмотреть.
– Если бы тебя останавливал страх, это еще могло бы вызвать во мне какое-то уважение. По крайней мере, в этом был бы виден какой-то смысл.– Дектон швырнул другой камень, который попал мне в шею и рассек кожу, так что потекла кровь.– Но в твоих мотивах смысла нет. Ты не причинишь мне вреда по той же причине, почему не причинишь вреда никому из этих несчастных вонючих животных.– С этими словами он злобно пнул в брюхо козу, отчего та покатилась по земле и с криком убежала. – Потому что это обидит вон тех.– Он с горьким презрением указал через луг на гимнастическую площадку, где три
эномотии спартиатов на солнце упражнялись с копьями. Ты не тронешь меня, потому что я – их собственность, как и эти жрущие дерьмо козлы. Ведь я прав, а?
Мое лицо ответило за меня.
Он посмотрел на меня с презрением.
– Кто они тебе, придурок? Я слышал, твой город разграбили. Ты ненавидишь аргосцев и думаешь, что эти сыны Геракла,– с саркастическим отвращением произнеся последние слова, он указал на Равных,– их враги. Опомнись! Что, ты думаешь, сделали бы спартанцы, захвати они твой город? То же самое, и еще хуже! Как поступили с моей страной, Мессенией, и со мной. Посмотри на мое лицо. Посмотри на свое. Ты убежал от рабства только для того, чтобы стать еще ниже раба!
Дектон был первым человеком из виденных мною, мальчиков и взрослых мужчин, кто совершенно не боялся богов. Он не ненавидел их, как некоторые, не строил им рож, как, я слышал, делали непочтительные вольнодумцы в Афинах и Коринфе. Дектон не признавал их существования. Их просто не было для него, и все. Это повергало меня в ужас. Я все смотрел, ожидая, что сейчас его поразит страшный удар с небес.
Теперь, по дороге домой из Антириона, Дектон (мне бы следовало сказать «Петух») продолжал свои разглагольствования, которые столько раз я уже слышал раньше. Что спартанцы оболванили меня, как и всех прочих; что они эксплуатируют своих рабов, дозволяя им подбирать крошки со своего стола, чуть-чуть возвышая одного раба над другими; что жалкая жажда каждого из этих несчастных достичь хоть какого-то положения в обществе удерживает их в подчинении.
– Если ты так ненавидишь своих хозяев,– спросил я, почему же во время сражения ты прыгал, как блоха, так безумно стремясь сам вступить в бой?
Я знал, что добавляю Петуху новую причину для раздражения. Он только что обрюхатил свою подружку по хлеву (так илоты называют своих случайных любовниц). Скоро ему предстояло стать отцом. Как тогда он сможет вырваться? Он же не бросит ребенка и не сможет бежать, волоча с собой девку с младенцем.
Дектон обругал одного из пастухов, который дал отбиться двум козам, и послал мальчишку назад – загнать заблудших обратно в стадо.
– Посмотри на меня,– заревел Дектон, снова догнав меня и шагая теперь рядом.– Я бегаю не хуже любого из этих спартанских увальней. Мне четырнадцать, но я один на один,побью любого двадцатилетнего. И тем не менее я плетусь здесь в этой дурацкой ночной рубашке и веду на поводке козу.
Он поклялся, что когда-нибудь украдет ксиэлу и перережет какое-нибудь спартанское горло.
Я сказал, что ему не следует говорить так в моем присутствии.
– А что ты сделаешь? Доложишь обо мне?
Я не мог донести, и он знал это.
– Клянусь богами,– сказал я ему,– если ты поднимешь руку на них, на кого-нибудь из них, я тебя убью.
Петух рассмеялся:
– Подними с обочины острую палку и выколи себе глаза, дружок. От этого ты не станешь лучше видеть, чем сейчас.
Войско дошло до границы Лакедемона у Ойона на заходе солнца второго дня, а до самой Спарты – еще через двенадцать часов. Гонцы опередили войско, и город уже два дня как знал, кто ранен, а кто убит. Уже готовились к похоронным играм – они должны были начаться через две недели.
Тот вечер и следующий день ушли на разгрузку обоза, чистку и приведение в порядок оружия и доспехов, замену древков у поломанных в бою копий, правку дубовых перекладин в
гоплонах, разборку и складирование снаряжения возов, уход за вьючным и тягловым скотом. Нужно было проверить, должным ли образом каждое животное напоено, вычищено и загнано вместе со своими погонщиками-илотами по различным
клерам – хозяйствам, где они работают. На вторую ночь Равные наконец вернулись на свои трапезы.
Обычно это был торжественный вечер после сражения, когда поминали павших товарищей, признавались доблестные поступки и осуждалось недостойное поведение, когда разобранные ошибки превращались в указания и тяжкий капитал сражения запасался для будущих надобностей.
Трапезы господ обычно представляют собой островки покоя и доверия, святилища, в которых любая беседа дозволена и скрыта от чужих ушей. 3десь после долгого дня друзья могут распустить волосы, высказать, как благородные мужи, истину своего сердца и даже – правда, всегда соблюдая меру,– впасть в размягчающее расслабление, утешив себя одной-двумя чашами вина.
Та ночь, однако, выдалась не для отдыха и веселья. Над городом тяжело нависали души двадцати восьми погибших. Тайный стыд воина – знать в глубине души, что мог бы действовать лучше, сделать больше и быстрее, меньше заботясь о себе самом. Безжалостная критика, направленная на самого себя, глодала кишки, невысказанная и затаенная. Никакие награды за отвагу и даже самая победа не в состоянии полностью ее заглушить.
Полиник подозвал к себе Александра и сурово обратился к нему:
– Ну, как тебе это понравилось? Он имел в виду войну.
Как ему понравилось быть там и видеть ее всю, неприукрашенную.
Вечер уже полностью вступил в свои права. Час элеклы прошел, подавали второе блюдо, дичь и пшеничный хлеб, и теперь шестнадцать Равных из сисситии Девкалиона, утолив голод, поудобнее устроились на своих жестких деревянных ложах. Теперь можно вызвать и поджарить на углях юнцов, прислуживавших на трапезе.
Александра поставили перед старшими – руки скрыты под плащом, глаза уставлены в пол, словно недостойны прямо смотреть в лицо Равным.
– Как тебе понравилось сражение? – допытывался Полиник.
– Меня чуть не стошнило,– ответил Александр.
На допросе мальчик сказал, что с тех пор не мог спать – ни на корабле, ни при пешем переходе домой. Если он хоть на мгновение смыкал веки, признал он, то снова с неубывающим ужасом видел сцены побоища, особенно – смертельную агонию своего друга Мериона. Сочувствие Александра, как он признал, вызвали как павшие герои собственного города, так и погибшие враги. Под особым давлением мальчик заявил, что война – это бойня, «варварская и нечестивая».
Господа за трапезой воодушевились. Они считали полезным в назидание молодости выбирать юнца или даже кого-нибудь из Равных и поносить его самым суровым и безжалостным образом. Это называется
аросис – боронование. Цель его, как и физических избиений,– приучить к оскорблениям, закалить волю против ярости и страха, двух лишающих мужества зол, из которых складывается состояние, называемое
каталепсис, одержимость. Достойный ответ – юмор. Нужно парировать оскорбление шуткой, и чем более грубой, тем лучше. Рассмеяться в лицо. Разум, способный сохранить ясность, не подведет воина в бою.
Но Александр не обладал подобным даром. Этого в нем не было. Все, что он мог,– это отвечать своим чистым звонким голосом с самой мучительной искренностью. Я наблюдал за этим со своего места прислуги, что слева от входа в трапезную, под высеченной надписью
Экзо тес фирас оуден -
«3а этими дверьми – молчание», то есть ни одного слова, произнесенного в этих стенах, нельзя повторять где-либо еще.
Александр продемонстрировал форму высочайшего мужества, стоя под ударами Равных без шуток и лжи. В любой момент боронования истязаемый юноша может сделать знак и попросить прекратить. По законам Ликурга, это его право. Однако гордость не позволяла Александру воспользоваться этой возможностью, и все это понимали.
– Ты хотел увидеть войну,– начал Полиник.– Как ты себе ее представлял?
От Александра требовалось отвечать в спартанском стиле – не задумываясь и как можно короче.
– Твои глаза были полны ужаса, твое сердце сжалось при виде человекоубийства. Ответь: для чего, ты думал, существует копье? А щит? А меч-
ксифос?
Такого рода вопросы могут задаваться юноше не в грубом и оскорбительном тоне, что было бы легче вынести, а холодно, рассудительно, требуя кратко выраженного, осмысленного ответа. Александра заставили описать, какие раны может нанести копье и какая смерть может последовать после этого. Следует ли направлять удар в горло или грудь? А если у врага в икре перерублено сухожилие, следует ли задержаться, чтобы прикончить его, или правильнее идти дальше вперед? Если ты ударил копьем в пах, следует ли вытаскивать его наконечник прямо или с нажимом вверх, держа лезвие вертикально, чтобы выпотрошить кишки?
Кровь прилила к лицу Александра, его голос дрожал и срывался.
– Не хочешь ли прекратить вопросы, мальчик? Такой урок – не слишком тяжел для тебя? Отвечай кратко: ты можешь представить себе мир без войн? Можешь представить милосердие во враге? Опиши, что стало бы с Лакедемоном без войск, без воинов для его защиты. Что лучше: победа или поражение? Править или чтобы тобой правили? Сделать жену врага вдовой или оставить вдовой свою жену? Что является высшей добродетелью мужчины? Почему? Кем во всем городе ты восхищаешься больше всего? Почему? Определи слово «милосердие». Определи слово «сострадание». Это добродетели мира или войны? Мужчины или женщины? Добродетели ли это вообще?
Из Равных, боронивших Александра в тот вечер, Полиник, на первый взгляд, не казался самым безжалостным, самым суровым. Он не вел
аросис, и его вопросы не были явно жестокими и злобными. Он просто не давал остановить допрос. В тоне других мужчин, как бы безжалостно они ни налетали на Александра, на самом дне, в основании, оставалось невысказанное участие. Александр был своим по крови, он был одним из них. Все, что они делали сегодня и в другие дни, делалось не для того, чтобы сломить его дух или сокрушить его, как раба, а чтобы сделать его сильнее, закалить его волю и сделать юношу более достойным звания воина. Чтобы он, как они сами, занял свое место среди спартиатов и Равных.
Полиник действовал иначе. В его бороновании чувствовалось что-то личное. Он ненавидел мальчика, хотя невозможно угадать за что. Смотреть на допрос, а тем более, наверное, терпеть его было еще мучительнее оттого, что Полиник обладал необычайной красотой.
Лицом и телосложением молодой Всадник был безупречен как бог. В
Гимнасионе, обнаженный, даже рядом с десятками красивых юношей и воинов, развитых упражнениями для совершенствования тела, Полиник выделялся, он не имел себе равных, он превосходил всех остальных симметрией формы и безупречностью физического сложения. Одетый в белое для Собрания, он сверкал, как Адонис. А в доспехах, с начищенным бронзовым щитом, в алом плаще на плечах и в надвинутом до бровей всадническом шлеме с конским хвостом на гребне, он сиял еще ослепительнее, бесподобный, как Ахилл.
Даже самые зачерствевшие Равные, упражнявшиеся в овале для кулачного боя или в борцовских ямах, бросали свои занятия и подходили посмотреть на упражнения Полиника на Большом круге во время подготовки к Играм в Олимпии, или в Дельфах, или в Немее, увидеть его в пастельном вечернем свете, когда он и другие бегуны заканчивали свой труд на дистанции и под наблюдением наставников надевали соревновательные доспехи для последнего забега в вооружении.
С Полиником регулярно тренировались четверо бегунов: два брата, Малиней и Горгон, оба победители Немейских игр в беге на короткую дистанцию, Всадник Дорион, обгонявший на шестидесяти метрах скаковую лошадь, и кулачный боец
эномотарх Теламоний из
лоха Дикой Оливы.
Все пятеро занимали свои места, и наставник хлопал в ладоши, давая сигнал. Шагов шестьдесят, иногда сто, эти отборные бегуны держались плотной группой рвущейся вперед бронзы и работающей под весом доспехов плоти, и на одно биение сердца наблюдавшим за ними Равным казалось: может быть, на этот раз, в этот единственный раз кто-нибудь выиграет у Полиника. Потом, когда ускоряющая мощь бегунов начинала разрывать узы ноши, впереди появлялся раскачивающийся щит Полиника – пятнадцать
мин дуба и бронзы, поддерживаемые бьющейся плотью и сухожилиями его левого предплечья; виднелось сияние его шлема, потом появлялись поножи, летящие, как крылатые сандалии самого Гермеса, а потом, с силой и мощью столь величественной, что останавливалось сердце, Полиник, как из катапульты, отрывался от группы, кипя такой резвостью, что казался обнажённым, даже крылатым, и не отягощенным весом на руке и плечах. Он проносился вокруг поворотного столба. В промежуток между ним и его преследователями врывался дневной свет. Полиник выбегал из поворота к финишу. Оставалось всего восемьсот шагов, и в душе он уже не соревновался с более слабыми товарищами, этими идущими пешком смертными, любой из которых в другом городе стал бы объектом восхищения, но здесь, против этого безупречного бегуна, им было суждено глотать пыль из-под его ног и радоваться хотя бы этому. Это был Полиник. Никто не мог сравниться с ним. В чертах его лица и телосложении, в каждой его поре сквозили такие достоинства, какие боги допускают соединиться в одном смертном лишь раз в поколение.
Александр тоже был красив. Даже со сломанным носом (подарок от Полиника) в своей физической безупречности он приближался к этому совершенному бегуну. Возможно, это каким-то образом и лежало в основе той злобы, которую взрослый мужчина питал к юноше. Он, Александр, кому больше удовольствия доставлял хор, а не атлетическое поле, был недостоин этого дара красоты; этот дар в нем не отражал мужского достоинства,
андреи, которое в Полинике было выражено так явно.
Лично я подозревал, что враждебность бегуна еще больше воспламенялась той благосклонностью, которую к Александру проявлял Диэнек. Потому что из всех мужчин в городе, с которыми Полиник состязался в добродетелях и превосходстве, больше всего он не терпел моего хозяина. Не столько за почести, получаемые Диэнеком от Равных за доблесть,– поскольку Полиник, как и мой хозяин, награждался за отвагу дважды, а был на десять или двенадцать лет младше. Нет. Другое. В характере Диэнека была еще какая-то, менее очевидная черта, за которую горожане воздавали ему честь, признавая его достоинство инстинктивно, без понуждения и церемоний. Полиник видел это по тому, как мальчики и девочки шутили с Диэнеком, когда тот во время полуденного перерыва проходил мимо их сферопедии – поля для игры в мяч. Полиник замечал это в поклоне или улыбке благородных дам и их служанок у родников или проходящей через площадь старухи. Даже илоты относились к моему хозяину с теплотой и уважением, в чем отказывали Полинику, несмотря на все горы славы, достававшиеся ему. И это вызывало в нем злобу. Озадачивало. Ведь он, Полиник, произвел на свет двух сыновей, в то время как у Диэнека рождались только девочки – четыре дочери, которые, если Арете не удастся родить сына, прекратят его род. А энергичные и шустрые дети Полиника в будущем станут мужчинами и воинами. И еще больше раздражало Полиника то, что Диэнек принимал уважение сограждан так легко и с такой самоиронией.
Потому что бегун не видел в Диэнеке ни красоты тела, ни резвости ног. Вместо этого он замечал свойства души, силу самообладания, которых сам он, при всех дарах, щедро обрушенных на него богами, не мог назвать своими. Мужество Полиника было мужеством льва или орла, чем-то в крови и в мозге костей, оно возникало само по себе, без мысли, и упивалось своим инстинктивным превосходством.
Мужество же Диэнека было иным. Это было достоинство ЧЕЛОВЕКА, способного к ошибкам СМЕРТНОГО, который выводит отвагу из понимания своего сердца силой какой-то внутренней целостности, неизвестной Полинику.
И потому он ненавидел Александра. 3а это он сломал мальчику нос в тот вечер на восьминочнике. Теперь Полиник старался сломать нечто большее. 3десь, в трапезной, он хотел сломать его самого и увидеть, как он сломается. – Ты кажешься несчастным, дружок. Картина будущих битв как будто бы не сулит тебе радости?
Полиник велел Александру перечислить радости войны, которые мальчик перечислил наизусть, говоря об удовлетворении от перенесенных вместе трудностей, о триумфе над неудачами, о духе товарищества и филадельфии – любви к товарищам по оружию.
Полиник нахмурился:
– Ты чувствуешь радость, когда поешь, юноша?
– Да, господин.
– А когда флиртуешь с этой растрепой Агатой?
– Да, господин.
– Тогда представь ожидающую тебя радость, когда ударяешься о вражеский строй, щит в щит с врагом, кипящим желанием убить тебя, а вместо этого ты убиваешь его. Ты можешь представить этот экстаз, ты, сортирный червяк?
– Я пытаюсь, господин.
– Позволь мне помочь тебе. 3акрой глаза и нарисуй себе эту картину. Делай, что говорят!
Полиник прекрасно понимал, какую муку причиняет Диэнеку, который сохранял видимое спокойствие на своем деревянном ложе всего через два места от самого Полиника.
– Вонзить копье, все острие, в кишки человека – это вроде совокупления, только еще лучше. Ведь ты любишь трахаться,правда?
– Я еще не знаю, господин.
– Не придуривайся со мной, не чирикай, как воробей. Александр, к этому времени простоявший на ногах уже целый час, крепился изо всех сил. Он отвечал на вопросы своего мучителя, застыв по стойке «смирно», опустив глаза в землю, в душе готовый вытерпеть что угодно.
– Убийство напоминает траханье, юноша, только ты не даешь жизнь, а отбираешь ее. Переживаешь экстаз проникновения внутрь – твой наконечник входит во вражеское брюхо, а за ним и древко. Ты видишь, как глаза противника закатываются под самый шлем. Ты ощущаешь, как колени под ним подгибаются и весь вес его обмякшей плоти тянет твое копье вниз. Представил?
– Да, господин.
– Твой член напрягся? – Нет, господин.
– Что? Ты держишь копье в кишках человека и твой член не затвердел? Ты что, женщина?
Тут Равные в трапезной постучали костяшками пальцев по дереву – знак, что Полиник в своем поучении зашел слишком далеко. Но бегун не обратил на это внимания.
– Теперь представим вместе, юноша. Ты чувствуешь, как вражеское сердце бьется о твое острие, и ты пропарываешь его, а вытаскивая, ты поворачиваешь свое копье. Наслаждение поднимается по твоему древку, через ладонь, по руке, в самое сердце. Ты почувствовал?
– Нет, господин.
– В этот момент ты чувствуешь себя Богом, осуществляя право, пережить которое могут только Бог и воин в бою: право нести смерть, освобождать душу другого человека и посылать ее в подземное царство. Тебе хочется насладиться этим – вкрутить острие поглубже и вытащить сердце и кишки на наконечнике твоего копья,– но ты не можешь. Ответь мне, почему?
– Потому что я должен двигаться вперед и убить следующего врага.
– Тебе хочется заплакать? – Нет, господин.
– Что ты будешь делать, когда придут персы? – Буду убивать их, господин.
– А что, если ты будешь стоять в боевом строю справа от меня? Твой щит прикроет меня?
– Да, господин.
– А если я пойду вперед в тени твоего щита? Ты поднимешь его выше и понесешь передо мной?
– Да, господин.
– Ты убьешь своего противника?
– Убью.
– И следующего?
– Да.
– Я тебе не верю.
3десь Равные застучали по столу сильнее.
– Это уже не обучение, Полиник,– сказал Диэнек. Это злоба.
– Вот как? – ответил бегун, не снизойдя посмотреть на своего соперника. – Спросим сам ее объект. С тебя хватит, певчий комок дерьма?
– Нет, господин. Мальчик просит Равного продолжать. Диэнек встал между ними. Нежно, с сочувствием, он обратился к юноше, своему подопечному:
– 3ачем ты говоришь правду, Александр? Ты мог бы солгать, как все другие юноши, и поклясться, что получил удовольствие от зрелища битвы, что наслаждался зрелищем отрубленных конечностей и видом людей, искалеченных и убитых в пасти войны.
– Я думал об этом, господин. Но все увидели бы, что я лгу.
– Ты прав, клянусь Гераклом! Мы бы увидели,– подтвердил Полиник. Услышав злобу в своем голосе, он быстро взял себя в руки.– Однако из уважения к моему досточтимому товарищу,– здесь он отвесил насмешливо-учтивый поклон Диэнеку,– я задам следующий вопрос не этому ребенку, а всем сотрапезникам сразу.– Он помолчал, потом указал на юношу.– Кто в сражении встанет в строю справа от этой женщины?
– Я, – без колебания ответил Диэнек.
Полиник фыркнул:
– Твой ментор стремится прикрыть тебя, педарион. В упоении своей доблестью он вообразил, что может сражаться за двоих! Это безрассудство. Город не может рисковать потерей такого доблестного воина лишь из-за того, что он положил глаз на твое девчачье личико.
– Хватит, друг мой,– раздался голос Медона, старшего на трапезе, и Равные повторили это дружным стуком г пальцев по столу.
Полиник улыбнулся:
– Я согласен с вашим решением, благородные мужи и старейшины. Пожалуйста, извините меня за излишнее рвение. Я старался лишь помочь нашему юному товарищу отчасти проникнуть в природу реальности, в состояние мужчины, каким его сотворили боги. Могу я закончить свой урок?
– Покороче,– предупредил Медон.
Полиник снова повернулся к Александру. Когда он заговорил, его голос звучал без всякой злобы; во всяком случае, он казался не чужд чего-то вроде доброты и даже, как ни нелепо это звучит, сожаления.
– Человечество, какое оно есть,– проговорил Полиник,– состоит из чирьев и язв. Посмотри на любую страну, кроме Лакедемона. Мужчины слабы, жадны, трусливы, похотливы, поражены всевозможными пороками и грехами. Каждый готов солгать, украсть, обмануть, убить, переплавить сами статуи богов и отчеканить из этого золота деньги, чтобы потратить на шлюх. Таков мужчина. Это его натура, как утверждают поэты. К счастью, боги в своем милосердии создали противоядие против присущей нашей породе испорченности. Этот дар богов, друг мой, называется война. Не мир, а война порождает добродетели. Не мир, а война искореняет пороки. Война и подготовка к войне вызывают в мужчине все достойное и благородное. Она объединяет его с братьями и связывает их всех самоотверженной любовью, искореняя в горниле необходимости все низкое и недостойное. Там, в священных жерновах убийства, самый подлый может искать и найти ту часть себя, скрытую под разложившейся плотью, которая сияет и сверкает, которая добродетельна, которая достойна чести перед богами. Не презирай войну, мой юный друг, не обманывай себя, не говори, что милосердие и сострадание – это для мужской доблести более высокие достоинства, чем
андрея.– 3акончив, Полиник повернулся к Медону и старейшинам.– Прошу прощения за многословную велеречивость.
Боронование закончилось, Равные разошлись. На улице, под дубами, Диэнек разыскал Полиника и обратился к нему по хвалебному имени Каллистос, что можно перевести как « гармонично прекрасный» или «совершенная симметрия», хотя сам тон превратил это наименование в снисходительное «хорошенький мальчик» или «небесное личико».
– Почему ты так ненавидишь этого юношу? – спросил Диэнек.
Бегун ответил без колебаний:
– Потому что он не любит славу.
– А любовь к славе – величайшее достоинство мужчины?
– Воина.
– И скаковой лошади, и гончей собаки.
– Это достоинство богов, которому они велели подражать.
Другие в
сисситии могли слышать их разговор, хотя и прикидывались, что не слушают, поскольку, по законам Ликурга, что бы ни обсуждалось в этих стенах, ничто не могло выйти за их пределы. Диэнек, тоже это понимая, совладал с собой и повернулся к олимпионику Полинику с выражением иронического удивления:
– Желаю тебе, Каллистос, пережить столько же сражений наяву, сколько ты уже испытал в воображении. Возможно, тогда тебе хватит человеческой скромности больше не выставлять себя полубогом, как сейчас.
– Попридержи свою заботу обо мне, Диэнек, оставь ее для своего юного друга. Он больше нуждается в ней.
Наступил час, когда трапезные вдоль Амиклской дороги выпустили своих посетителей. Люди старше тридцати отправились по домам, к женам, а кто помоложе, из первых пяти призывных возрастов, отправились с оружием в портики публичных учреждений, чтобы нести там дозор или поспать, завернувшись в свои плащи. Диэнек воспользовался этим моментом, чтобы в сторонке поговорить с Александром.
Он положил руку юноше на плечо, и они вдвоем медленно пошли под темные дубы.
– Ты знаешь,– сказал Диэнек,– что в бою Полиник отдал бы за тебя жизнь. Если бы ты упал раненый, его щит прикрыл бы тебя, а его копье защитило. А если бы тебя нашел смертельный удар, Полиник бы без колебаний бросился в гущу сражения и до последнего вздоха бился за твое тело, чтобы не дать врагу снять твои доспехи. Его меч был бы безжалостен, Александр, но ты сам теперь видел войну и знаешь, что она в сто раз безжалостнее Сегодня вечером это была шалость. Практика. Приготовь свою душу выносить подобное снова и снова, пока это не превратится для тебя в ничто, пока не сможешь беззаботно смеяться Полинику в лицо в ответ на его оскорбления. Помни, что юноши Лакедемона сотни лет переносят такие боронования. Так мы тратим слезы, чтобы потом не пролить кровь. Сегодня вечером Полиник не стремился причинить тебе вреда. Он хотел научить тебя той душевной дисциплине, которая блокирует наш страх когда звучат трубы и обозначают ритм боевые свирели. Помни, что я говорил тебе про дом со множеством комнат. Есть комнаты, в которые мы не должны входить. Гнев. Страх. Любая страсть, ведущая нас к "одержимости", которая губит людей на войне. Привычка – победитель. Когда приучаешь ум думать так, и только так, когда не позволяешь ему думать по-другому, это порождает великую силу в бою.
Они остановились под дубами и сели.
– Я рассказывал тебе про гусыню, что была в
клере у моего отца? Эта гусыня завела привычку, одним богам известно почему, прежде чем плюхнуться в воду вместе со своими братьями и сестрами, три раза поклевать определенный клочок дерна. Мальчишкой я дивился на это. Гусыня делала так, каждый раз. Обязательно. Однажды мне пришло в голову помешать ей. Просто чтобы посмотреть, что она сделает. Я занял позицию на том самом клочке дерна – мне было тогда лет пять, не больше,– и не подпускал туда эту гусыню. Она взбесилась. Набросилась на меня и стала бить крыльями, клевать меня до крови. И я позорно, как крыса, бежал. А гусыня сразу успокоилась. Она три раза поклевала свой клочок дерна и соскользнула в воду, довольная, как только можно Привычка – могучий союзник, мой юный друг. Привычка к страху и к ярости или привычка к самообладанию и мужеству.
Он тепло похлопал мальчика по плечу, и оба встали.
– А теперь пошли. Поспим. Обещаю тебе: прежде чем ты снова увидишь сражение, мы вооружим тебя всеми нужными привычками.
Глава тринадцатая
Когда молодежь разошлась, Диэнек со своим оруженосцем Самоубийцей сошел с дороги и присоединился к компании других командиров, собиравшихся на
экклесию (народное собрание в Спарте) посвященную организации грядущих погребальных игр. Там, перед трапезной, к Диэнеку подбежал мальчик-илот с донесением. Я уже собирался было отправиться вместе с Александром в открытые портики вокруг площади Свободы, чтобы занять свою койку на ночь, но тут до меня донесся резкий свист.
К моему удивлению, это оказался Диэнек. Я быстро подошел к нему, почтительно встав с левой стороны – « стороны щита».
– Ты знаешь, где находится мой дом? – спросил спартиат. Это были первые его слова, обращенные непосредственно ко мне. Я ответил, что знаю.– Иди туда. Этот мальчик проводит тебя.
Диэнек больше ничего не сказал, а повернулся и с другими Равными направился к Собранию. Не имея ни малейшего представления о том, что от меня требуется, я спросил мальчика: нет ли здесь ошибки и уверен ли он, что я именно тот человек, кто требуется?
– Да, тот. Все в порядке, и нам лучше заставить гравий лететь из-под ног.
Городской дом семьи Диэнека стоял через два переулка от Эвентидской дороги, в западном конце деревни Питана Он не примыкал к другим жилищам, как многие в том квартале, а обособился на краю рощи, под древними дубами и оливами. Когда-то в прошлом он сам был усадьбой и еще сохранял неприкрашенное, практическое обаяние сельского
клера. Сам дом был крайне непритязательный, чуть больше простой хижины, менее внушительный, чем даже дом моего отца в Астаке, хотя двор и участок, приютившиеся в роще мирт и гиацинтов, казались прибежищем уюта и очарования. Дом стоял в конце ряда увитых цветами проходов, каждый из которых все глубже затягивал в пространство безмятежности и уединения. Я шел мимо хижин других Равных, видел их тлеющие очаги в вечерней прохладе, слышал, как звенит детский смех, как весело тявкают из-за основательных стен собаки. Сам дом и его окружение казались бесконечно далекими от помещений для упражнений и от войны и представлял собой бесконечный контраст с ними, что как нельзя лучше способствовало отдыху.
Старшая дочь Диэнека Элирия, которой в то время шел двенадцатый год, пропустила меня в ворота. Я заметил низкие белые стены вокруг безукоризненно выметенного дворика, мощенного простой плиткой и украшенного цветами в глиняных горшках на пороге. Вдоль простых тесаных стропил беседки цвел жасмин, фасад украшали глицинии и олеандр. Вдоль северной стены по узкому, не шире пяди, каменному стоку журчала вода. У плетеной садовой скамейки в тени ждала незнакомая служанка.
Меня направили к каменной чаше и велели омыть руки и ноги. На перекладине висели чистые льняные тряпки. Я вытерся и аккуратно повесил их на прежнее место. Мое сердце колотилось, хотя даже ради спасения собственной жизни я бы не мог объяснить отчего. Элирия провела меня внутрь, в зал с очагом, комнату уединения, отделенную стеной от спальни Диэнека и Ареты. Дом, собственно, и состоял из этих двух помещений.
Все четыре дочери Диэнека находились дома, в том числе и малышка, которая только начала ходить. К Элирии присоединилась вторая дочь Диэнека – Алекса, и обе, сев на пол, начали чесать шерсть, словно это было обычное занятие для середины ночи. 3а девушками надзирала госпожа Арета, сидевшая с ребенком на руках на низком табурете у очага.
Я сразу заметил, однако, что слушать мне предстоит не ее. Рядом с женой Диэнека, ближе к середине комнаты, сидела госпожа Паралея, мать Александра, жена
полемарха Олимпия.
Эта дама без излишних церемоний начала расспрашивать меня про боронование ее сына на трапезе, после которого еще не прошло и получаса. Сам факт, что она узнала об этом событии, да еще так скоро, уже вызывал удивление.
Что-то в ее глазах предупредило меня, что нужно тщательно выбирать слова.
Госпожа Паралея заявила, что прекрасно осведомлена о запрете разглашать все услышанное в стенах сисситии и уважает этот запрет. Тем не менее я бы мог, не нарушая святости закона, снизойти к ней, матери. Вполне понятно, что мать заботится о благе и будущем своего сына. Я мог бы намекнуть ей – если не о точных словах, прозвучавших во время упомянутого события, то хотя бы об их тоне и духе.
В таком же намекающем тоне, в каком Равные на
сисситии допрашивали Александра, она спросила, кто управляет городом. Цари и эфоры, без запинки ответил я, и, конечно, 3аконы. Госпожа улыбнулась и на мгновение оглянулась на Арету.
– Да,– проговорила она,– конечно, это должно быть так.
Так она дала мне понять, что всем заправляют женщины и, если я не хочу снова безвылазно оказаться в навозных кучах на ферме, мне следует начать выдавливать из себя кое-какие сведения. Через десять минут она знала все. Я пел, как птичка.
Ей бы хотелось, начала госпожа Паралея, узнать обо всем, что делал ее сын после того, как пренебрег ее пожеланиями в роще Близнецов и отправился вслед войску в Антирион. Она допрашивала меня, как шпиона. Госпожа Арета не вмешивалась. Ее старшие дочери не поднимали глаз ни и на меня, ни на госпожу Паралею и все же, сохраняя скромное молчание, ловили каждое слово. Так их учили. Сегодня они получали урок, как допрашивать слугу. Как это делает госпожа. Каким тоном. Какие вопросы она задает, когда ее голос возвышается до намека на угрозу, а когда затихает до более доверительного, вызывающего на откровенность тона.
Какой паек Александр и я взяли с собой? Какое оружие? Когда у нас кончилась провизия, как мы добывали новую? Встречали ли мы по пути чужих? Как держался ее сын? Как держались встречные путники? Оказывали ли они ему уважение, достойное спартанца? Вынуждал ли их к этому ее сын своими манерами?
Госпожа поглощала мои ответы, ничем не выдавая своего отношения, хотя в некоторые моменты было ясно, что она не одобряет поведение сына. Лишь однажды она позволила неподдельному гневу проявиться в своем тоне – когда мне пришлось сообщить, что Александр не узнал имени лодочника, который перевозил нас, а потом предал. Голос госпожи задрожал. Что случилось с мальчиком? Чему он учился все эти годы за столом отца и на общих трапезах? Разве он не понял, что это пресмыкающееся, этого рыбака-лодочника
следует наказать, если нужно – казнить; что надлежит показать этим мерзавцам, что бывает за вероломный обман сына полноправного лакедемонянина? Или, если так диктует благоразумие, этого лодочника можно было бы использовать в своих целях. Если начнется война с персом этот подлец, как осведомитель, мог бы оказать неоценимую услугу войсковой разведке. Даже если бы он попытался вести двойную игру, это можно было бы заметить и добыть ценные сведения. Почему Александр не узнал его имя?
– Твой слуга не знает этого, госпожа. Возможно, твой сын узнал его имя, а его слуга не слышал этого.
– Называй себя «я»,– прикрикнула на меня Паралея.– Ты не раб, так и не говори по-рабски.
– Хорошо, госпожа.
– Мальчику нужно промочить горло, мама,– послышался смешок девушки Элирии.– Только посмотрите на него. Если его лицо хоть чуть-чуть еще покраснеет, он лопнет.
Пристрастный допрос продолжался еще час. Сидеть на этом раскаленном табурете было неудобно; к тому же меня страшно смущал внешний вид госпожи Паралеи, которая жутко напоминала своего сына. Как и он, она была красива, и, как у него, ее красота имела неприкрашенную, по-спартански сдержанную форму.
Жены и девушки в моем родном Астаке, да и в любом другом городе Эллады, обычно пользовались косметикой и подкрашивали лицо. Эти дамы прекрасно понимали, какой эффект производит искусственный блеск кудрей или розовый цвет губ на любого мужчину, попавшего в зону действия их чар.
Ничего подобного не входило в планы госпожи Паралеи. Ее
пеплос был в спартанском стиле разрезан сбоку, открывая голую ногу до бедра. В любом другом городе это сочли бы скандально непристойным. Но здесь, в Лакедемоне, никто не обращал на это ни малейшего внимания. Это нога у нас, женщин, как и у мужчин, есть ноги. Для спартанских мужчин было немыслимо с вожделением и похотью смотреть на госпожу в таком одеянии, Они видели обнаженными своих матерей, сестер и дочерей с тех пор, как открыли глаза, и на женских атлетических состязаниях, и на праздниках, и во время шествий женщин и девушек.
И все же обе эти дамы, и Паралея, и Арета, не оставили без внимания, какое впечатление производил их личный магнетизм на вытянувшегося перед ними мальчишку-слугу. В конце концов, разве сама Елена была не из Спарты? Жена Менелая, увезенная Парисом в Трою.
Что причиной безмерных страданий
стала для ахеян и троянцев,
Ради чьей красоты несравненной
Много храбрых ахейцев погибло
В Илионе, вдали от отчизны,
Спартанские женщины превосходили красотой всех остальных в Элладе, и не последнее место в их очаровании занимало то обстоятельство, что они не выпячивали свою красоту. Их богиня – не Афродита, а Артемида-Охотница. Посмотри на прелесть наших волос, словно говорит их манера они отражают свет лампады не искусством косметических средств, а блеском здоровья и глянцем целомудрия: Загляни нам в глаза, которые приковывают к себе мужские, – они не потупляются в притворной скромности и не трепещут накладными ресницами, как у коринфских шлюх. Мы натираем ноги воском и миртом не в будуаре, а под солнцем, во время состязаний и на Круге.
Они были самками-производительницами, эти дамы, жены и матери, чьим главным призванием было – рожать мальчиков, которые вырастут воинами и героями, защитниками города. Спартанские женщины были племенными кобылами. Избалованные девицы других городов могли смеяться над ними, но если спартанки и были кобылами, то самой лучшей породы. Атлетический пыл и решительность, которые давала им
гинекагогия, система женских тренировок, являлись мощной силой, и сами они прекрасно это сознавали.
Теперь, когда я стоял перед этими женщинами, мои мысли, несмотря на все мои усилия, рвались в прошлое, к Диомахе и матери. Я вспоминал мелькание сильных и стройных голых ног моей двоюродной сестры, когда мы, вслед за собаками, по каменистому склону гнались за каким-нибудь зайцем. Я видел гладкую глянцевую кожу ее рук, когда она натягивала лук, ее прищуренные глаза и прилив юности и свободы, которые окрашивали кожу ее лица, когда она улыбалась. Я снова увидел свою мать, которая умерла в двадцать шесть лет и запомнилась мне своей непревзойденной неясностью и благородством. Эти мысли были той самой комнатой в доме моей души, о которой говорил Диэнек,– комнатой, в которую я поклялся больше никогда не заходить.
Но теперь, оказавшись в настоящей комнате этого настоящего дома, наполненной женскими шорохами и ароматами, перед женственным сиянием этих жен и матерей, дочерей и сестер, всех шести, когда столько женского сконцентрировалось в столь малом пространстве, я невольно перенесся назад. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы не выдать своих воспоминаний и связно отвечать на вопросы госпожи. Наконец ночной допрос вроде бы стал приближаться к завершению.
– А теперь ответь на последний вопрос. Говори откровенно. Если соврешь, я увижу. Обладает ли мой сын мужеством? Оцени его
андрею, его мужскую доблесть, как юноши, который скоро должен занять свое место среди воинов.
Не требовалось большого ума, чтобы понять, по какому тончайшему льду мне придется пройти. Как можно ответить на подобный вопрос? Я выпрямился и обратился к госпоже:
– В учебных группах
агоге тысяча четыреста юношей. Только один проявил безрассудную смелость отправиться вслед войску – зная, что идет против желания своей матери. Кроме того, он знал, какое наказание ждет его по возвращении.
Госпожа задумалась.
– Очень дипломатично, но ответ хорош. Я его принимаю.
Она встала и поблагодарила госпожу Арету за обеспеченную ею конфиденциальность. Мне было велено подождать во дворе. Там с глупой ухмылкой все еще стояла служанка госпожи Паралеи. Несомненно, она все подслушала и еще до восхода солнца разнесет по всей долине Эврота. Через мгновение появилась сама госпожа Паралея и, не удостоив меня ни взглядом, ни словом, в сопровождении служанки направилась без факела по тёмному переулку.
– Ты достаточно взрослый, чтобы выпить вина? – из дверей обратилась ко мне госпожа Арета, сделав знак снова войти.
Все четыре дочери уже спали. Госпожа сама приготовила мне вино, добавив шесть частей воды, как для мальчика. Я с благодарностью выпил. Очевидно, ночь расспросов еще не кончилась.
Госпожа предложила мне сесть, а себе оставила место хозяйки – у очага. Положив передо мной на блюде ломоть
альфиты – ячменного хлеба, она принесла немного оливкового масла, сыра и лука.
– Терпение! Эта ночь среди женщин скоро закончится. И ты вернешься назад, к мужчинам, среди которых явно чувствуешь себя лучше.
– Я не смущаюсь, госпожа. Правда. Для меня облегчение – на час оказаться вдали от казарменной жизни, даже если ради этого приходится босиком плясать на раскаленной сковороде.
Госпожа улыбнулась, но, очевидно, ее ум занимала что то более серьезное.
Она велела смотреть ей в глаза.
– Ты когда-нибудь слышал такое имя – Идотихид? Я слышал.
– Это спартиат, погибший при Мантинее. Я видел его могилу на Амиклской дороге, перед трапезной Крылатой Нике.
– Что еще тебе известно об этом человеке? – спросила госпожа.
Я что-то пробормотал.
– Что еще? – не отставала она.
– Говорят, что Дектон, илот по прозвищу Петух, его незаконнорожденный сын. Его мать, мессенийка, умерла при родах.
– И ты веришь этому? – Верю, госпожа.
– Почему?
Я сам себя загнал в угол и видел, что госпожа заметила это.
– Потому,– ответила она за меня,– что этот Петух так ненавидит спартанцев?
Меня так сковало страхом от этих ее слов, что я долго не мог обрести язык.
– Ты заметил,– продолжала госпожа, к моему удивлению не выражая ни возмущения, ни гнева,– что среди рабов нижайшие словно бы несут свой жребий без особого огорчения, в то время как самые благородные, почти свободные, злятся особенно сильно? Как будто чем больше слуга чувствует себя достойным лучшей участи, пусть даже не имея средств достичь ее, тем мучительнее для него переживается зависимость.
Таков и был Петух. Я никогда не задумывался об этом таким образом, а теперь, когда эту мысль выразила госпожа, я понял, что она права.
– Твой друг Петух слишком много болтает. А что недоговаривает его язык, то слишком явно выражают его манеры.– Она процитировала, практически дословно, несколько бунтарских высказываний Дектона, которые, мне казалось, слышал я один по пути обратно из Антириона.
Я потерял дар речи и почувствовал, как меня прошиб пот. А лицо госпожи Ареты по-прежнему ничего не выражало.
– Ты знаешь, что такое
криптея? – спросила она. Я знал.
– Это тайное сообщество у Равных. Никто не знает его членов, только известно, что это самые молодые и самые сильные и они творят свои дела по ночам.
– И что это за дела?
– Они делают так, что люди исчезают.
Говоря «люди», я имел в виду илотов. Илотов-изменников.
– А теперь ответь, но сначала подумай.– Госпожа Арета сделала паузу, чтобы усилить значимость вопроса, который собиралась задать.– Если бы ты был членом криптеи и узнал то, что я тебе только что сказала про этого илота, Петуха, – что он вел предательские по отношению к городу разговоры, а потом еще выразил намерение предпринять соответствующие действия,– что бы ты сделал?
Ответ мог быть лишь один.
– Если бы я был членом
криптеи, моим долгом было бы убить его.
Госпожа выслушала это, и ее лицо не выразило ничего. – Тогда ответь: на своем месте, на месте друга этого юноши-илота, Петуха, что бы ты сделал?
Я промямлил что-то насчёт смягчающих обстоятельств: что, мол, Петух часто болтает сгоряча, не думая, что обычно его слова – пустые угрозы, и все это знают.
Госпожа обернулась в тень. – Этот юноша лжет?
– Да, мама!
Я в страхе повернулся. Обе старшие дочери и не думали спать, а ловили каждое слово.
– Я отвечу за тебя сама, молодой человек,– сказала госпожа, выручая меня из затруднительного положения. -Думаю, вот что ты бы сделал. Ты бы предупредил этого парнишку, Петуха, чтобы тот больше не говорил подобных вещей в твоем присутствии и не предпринимал никаких действий, ни малейших, а то ты сам с ним расправишься.
Я был в полном замешательстве. Госпожа улыбнулась.
–Ты плохой лжец. Это не входит в число твоих талантов. И я этим восхищаюсь. Но ты ступил на опасную почву. Спарта может быть величайшим городом в Элладе, но это все-таки маленький город. Здесь мышка не успеет чихнуть, как каждая кошка говорит ей: «Будь здорова!» Слуги и илоты все слышат, и их языки за сладкий пирожок разболтают что угодно.
Я задумался над этим.
– А мой – за чашу вина? – спросил я наконец.
– Мальчишка тебе дерзит, мама! – донесся голос девятилетней Алексы.– Тебе следует его высечь!
К моему облегчению, госпожа Арета смотрела на меня в свете лампы без гнева и негодования, а просто спокойно, словно бы изучая меня.
– Мальчишка твоего положения должен испытывать страх перед женой спартиата такого ранга, в каком мой муж. Скажи: почему ты меня не боишься?
До этого момента я и сам не осознавал, что действительно не боюсь.
– Я не уверен, госпожа. Возможно, потому, что ты мне кое-кого напоминаешь.
Несколько мгновений госпожа ничего не говорила, но продолжала смотреть на меня тем же напряженным испытующим взглядом.
– Расскажи мне о ней,– приказала она.
– О ком?
– О своей матери.
Я снова покраснел. Я весь съёжился, оттого что госпожа чудесным образом угадывала, что у меня на сердце, прежде чем я успевал ей ответить.
– Давай выпей еще. Не надо передо мной изображать упрямца.
Какого черта! Я выпил. Это помогло. Я вкратце рассказал госпоже про Астак, про его разорение, про убийство моей матери и отца подло подкравшимися ночью аргосцами.
– Аргосцы всегда были трусами,– заметила Арета, презрительно фыркнув, и это выказанное ею презрение к аргосцам вызвало во мне прилив симпатии к ней даже больше, чем она сама предполагала.
Очевидно, моя жалкая история еще раньше дошла до ее длинных ушей, но она слушала внимательно, словно сопереживая услышанному.
– У тебя была несчастная жизнь, Ксео,– проговорила она, впервые назвав меня по имени. К моему удивлению, это глубоко меня тронуло, так что пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своих чувств.
Я призвал все самообладание, чтобы говорить правильно, на грамотном греческом языке, как и полагается свободнорожденному, и держался почтительно не только по отношению к госпоже, но и к своей стране, к своему роду.
– И почему же,– спросила госпожа Арета,– мальчишка без родного города проявляет такую верность к чужой стране, к Лакедемону, гражданином которого ты не являешься и никогда не будешь?
Я знал ответ, но не мог судить, насколько можно доверять этой женщине. И я ответил двусмысленно, сославшись на Бруксия:
– Мой воспитатель учил меня, что у юноши должен быть свой город, иначе он не сможет вырасти настоящим мужчиной. Поскольку у меня больше не было своего города, я чувствовал свободу выбирать, какой мне нравится.
Это была непривычная точка зрения, но я заметил, что госпожа ее одобрила.
– Почему же тогда ты не выбрал богатый город, открывающий большие возможности? Фивы, или Коринф, или Афины? Здесь, в Спарте, ты имеешь лишь черствый хлеб да высеченную спину.
Я ответил поговоркой, которую мне и Диомахе когда-то процитировал Бруксий: что другие города творят памятники и поэзию, а Спарта делает мужчин.
– Это и правда так? – спросила госпожа Арета.– По твоему чистосердечному суждению, теперь, когда ты получил возможность изучить наш город, как все лучшее, так и все худшее в нем?
– Это так, госпожа.
К моему удивлению, эти мои слова как будто бы глубоко ее тронули. Она отвела глаза и несколько раз моргнула. Ее голос, когда она снова заговорила, слегка дрожал от нахлынувших чувств.
– То, что ты слышал о спартиате Идотихиде,– правда. Он был отцом твоего друга Петуха. И не только. Он был моим братом.
Она заметила мое удивление.
– Ты не знал этого?
– Не знал, госпожа.
Она совладала со своим чувством, как я теперь понял, с печалью, которая угрожала вывести ее из равновесия.
– Теперь ты видишь,– сказала госпожа Арета, принужденно улыбаясь,– что этот юноша Петух – в некотором роде мне племянник. А я – его тетя.
Я отпил еще вина. Госпожа улыбнулась.
– Можно мне спросить, почему семья госпожи не взяла Петуха на воспитание, чтобы в будущем сделать его мофаксом?
Так в Лакедемоне называется особая категория людей, «сводные братья», доступная в основном для незаконнорожденных сыновей спартиатов.
Мофаксы, несмотря на свое низкое рождение, могли получать воспитание и образование в
агоге. Они могли упражняться вместе с сыновьями Равных. Могли даже, если проявят достаточно достоинств и мужества в бою, стать гражданами.
– Я не раз предлагала это твоему другу Петуху,– ответила госпожа. – Он категорически отказывался. Заметив на моем лице недоверие, она добавила:
– Почтительно. Очень почтительно и вежливо. Но решительно и непреклонно.
Госпожа Арета на мгновение задумалась.
– Существует причудливость ума, которая встречается у рабов, особенно у тех, кто происходит из покоренных народов, таких, как этот мальчишка Петух: ведь его мать – мессенийка. Самолюбивые мессенийцы часто подчеркивают свой низкий род – возможно, из злобы или чтобы не показалось, будто бы они заискивают перед высшими, стремясь слиться с ними.
Петух действительно считал себя мессенийцем и яростно это отстаивал.
– Я говорю тебе, дружок, ради тебя же самого, как и ради моего племянника:
криптея знает. Они следят за ним с пятилетнего возраста. И за тобой – тоже. Ты хорошо говоришь, обладаешь мужеством и находчивостью. Все это не осталось незамеченным. И скажу тебе кое-что еще. В
криптее есть человек, не совсем тебе незнакомый. Это начальник Всадников Полиник. Он без колебания перережет горло предателю-илоту, и я думаю, что твой друг Петух не убежит от олимпийского победителя.
Теперь уже всех девочек сморил сон. Стены дома охватила тревожная тишина.
– Грядет война с персом,– сказала госпожа. Городу дорог каждый воин. Греции дорог каждый воин. Но также важно, и все согласны с этим, что грядущая война станет величайшей в истории и она предоставит великолепную арену для достижения величия. Поле, где мужчина своими поступками сможет проявить благородство, которого был лишен по рождению.
Глаза госпожи встретились с моими и больше от них не отрывались.
– Я хочу, чтобы этот мальчишка Петух был жив, когда начнется война. Я хочу, чтобы ты защитил его: Если твои уши выявят малейший намек на опасность, тишайший слушок, ты должен немедленно явиться ко мне. Ты сделаешь это?
Я пообещал сделать все, что смогу.
– Поклянись..
Я поклялся всеми богами.
Это казалось нелепо. Как мог я противостоять
криптее или и какой-либо другой силе, стремящейся,убить Петуха? И все же мое мальчишеское обещание каким-то образом успокоило госпожу. Она долго рассматривала мое лицо.
– Скажи мне, Ксео, – тихо проговорила госпожа Арета,– ты когда-нибудь просишь… ты когда-нибудь просил что-нибудь только для себя?
Я ответил, что не понимаю вопроса госпожи.
– Я велю тебе сделать одну вещь. Ты сделаешь?
Я поклялся, что сделаю.
– Я велю тебе однажды сделать что-то только для себя самого, а не служить кому-то. Ты поймешь, когда настанет такой момент. Обещай мне. Обещай вслух.
– Обещаю, госпожа.
Она встала со спящим ребенком на руках, подошла к колыбели между кроватями других девочек, положила малышку и накрыла мягкими пеленками. Это был знак для меня, что пора уходить. Когда госпожа встала, я уже стоял, как велели правила почтительности.
– Могу я задать один вопрос, прежде чем уйду, госпожа?
Ее глаза блеснули, дразня:
– Дай мне угадать. Твой вопрос о какой-то девушке`? – Нет, госпожа.
Я уже пожалел о своем порыве. Мой вопрос был невозможным, абсурдным. Ни один смертный не мог на него ответить.
Однако это вызвало у госпожи любопытство, и она велела продолжать.
– Вопрос о друге,– сказал я.– Я не могу ответить на него сам, я слишком молод и слишком мало знаю мир. Возможно, ты, госпожа, с твоей мудростью, сможешь ответить. Но обещай не смеяться и не обижаться.
Она согласилась.
– И не передавать его никому, даже твоему мужу.
Она пообещала.
Я набрал в грудь воздуха и ринулся вперед.
– Этот друг… Он верит, что однажды в детстве, когда он был один, на грани смерти, с ним разговаривал Бог. Я медленно поднял голову, выискивая какой-либо признак презрения или негодования. К моему облегчению, госпожа не выразила ни того, ни другого.
– Этот юноша… мой друг… он хочет знать, возможно ли такое. Мог… могло ли божество снизойти до разговора с мальчиком без города и без положения, с ребенком без гроша за душой, не имевшим никакого дара, который он мог бы принести в жертву, и даже не знавшим слов молитвы? Или мой друг плодил фантомы, выдумывал пустые видения от собственного одиночества и отчаяния?
Госпожа спросила, кто именно из богов говорил с моим другом.
– Бог-лучник. Стреловержец Аполлон.
Я съежился. Конечно, госпожа с презрением посмеется над таким дерзким предположением. Мне не следовало и разевать свой поганый рот.
Но она не посмеялась над моим вопросом и как будто бы не сочла его нечестивым.
– Ты и сам вроде бы лучник, насколько я понимаю, и весьма искусный для своих лет. У тебя забрали лук, верно? Его отобрали, когда ты только появился в Лакедемоне? Госпожа заявила, что, несомненно, сама Тихе – богиня удачи – привела меня к ее очагу в эту ночь, поскольку земные богини изобилуют здесь, они совсем рядом. Она чувствует их близость. Мужчины живут своим умом, сказала госпожа, а женщины – своей кровью, которая приливает и убывает, как фазы луны.
– Я не жрица. Я могу ответить лишь от женского сердца, которое интуитивно чувствует и различает правду внутри.
Я ответил, что именно этого и хочу.
– Скажи своему другу так,– ответила госпожа,– что все виденное им – правда. Он действительно видел Бога.
Из глаз у меня вдруг хлынули слезы. Меня неожиданно переполнили чувства. 3акрыв лицо руками, я зарыдал, омертвев от такой потери самообладания и удивляясь силе неизвестно откуда взявшейся страсти. Я уткнулся лицом в ладони и захлёбывался, как ребенок. Госпожа подошла ко мне и ласково обняла, гладя по плечу, как мать.
Через несколько мгновений я овладел собой и попросил прощения за свое постыдное поведение. Но госпожа не слушала. Она объявила, что этот прилив чувств был священным, он был вдохновлен небесами и в нем не следует раскаиваться и извиняться за него не следует тоже. Она встала в дверном проеме. Через открытую дверь падал свет звезд, и слышалось журчание фонтана во дворе.
– Мне бы хотелось узнать твою мать,– сказала госпожа Арета, ласково глядя на меня.– Возможно, она и я когда-нибудь встретимся – там, за рекой. И тогда мы поговорим о ее сыне и о той доле несчастий, что боги послали ему.
На прощание она коснулась моего плеча.
– Ступай и скажи своему другу так: он может снова приходить со своими вопросами, если захочет. Но в следующий раз он должен прийти сам. Мне хочется взглянуть в лицо мальчику, который сидел и болтал с Сыном 3евса.
Глава четырнадцатая
На следующий вечер Александр и я огребли свою порку за Антирион. Поркой Александра руководил его же отец, Олимпий, в присутствии Равных своей
сисситии. Меня без церемоний секли в поле илоты-землекопы. Потом в темноте Петух помог мне спуститься к Эвроту, в рощу, прозванную Наковальней, чтобы омыть и перевязать исполосованную спину. Это место было посвящено Деметре Полевой, и обычай выделил его мессенийским илотам. Когда-то там располагалась кузница, откуда взялось и имя.
К моему облегчению, Петух не обличал меня, как обычно, за рабскую жизнь, а ограничил свои диатрибы наблюдением, что Александра выпороли, как мальчишку, а меня – как собаку. Он был добр ко мне, а что важнее – умел промывать и перевязывать те особые раны, что оставляет сучковатая розга на голой спине.
Сначала вода, и в большом количестве, я по шею погрузился в ледяной поток. Петух поддерживал меня сзади, просунув руки мне под мышки, поскольку шок от ледяной воды на обнаженных рубцах редко кого оставлял в чувствах. Холод быстро притупляет боль, и потому примочки из отвара крапивы и нессова корня можно вытерпеть. Это останавливает кровь и помогает быстрому заживлению ран. Перевязка шерстяной или льняной тканью на этом этапе была бы невыносима, как осторожно ни бинтуй. Но голая ладонь друга, приложенная сначала слегка, а потом плотно к трепещущей плоти, приносит облегчение, близкое к экстазу. Петух перенес на своем недолгом веку немало порок и потому хорошо знал, чем можно помочь.
Через пять минут я сумел встать. Через пятнадцать моя кожа смогла соприкоснуться с мягким белым торфяным мхом, который Петух прижал к кровоточащей плоти, чтобы облегчить боль и высосать яд.
– Боги, живого места не осталось,– заметил Петух. Ты еще месяц не будешь горбиться под щитом этого гимнопевца.
Он все еще отпускал ядовитые обличения по адресу моего молодого хозяина, когда с берега над нами донесся какой-то шорох. Мы оба обернулись, ожидая чего угодно.
Это оказался Александр. Он вышел под платаны, его плащ был задран, оставляя взлохмаченную спину голой. Мы с Петухом замерли. Александр мог заработать новую порку, если бы в этот час его застали здесь – вместе с нами.
– Вот,– сказал он, съезжая к нам по склону.– Я залез в ящик лекаря.
Это была мазь из мирры. Щепотка, завернутая в зеленые рябиновые листья. Он шагнул к нам в речку.
– Что это ты приложил к его спине? – спросил Александр у Петуха, который в полном изумлении отступил в сторону.
Мирру Равные прикладывали к полученным в бою ранам, когда могли достать ее, что случалось крайне редко. Они бы забили Александра до полусмерти, если бы узнали, что он стащил эту драгоценную щепотку.
– Помажь этим, когда снимешь мох,– велел он Петуху,– а к рассвету хорошенько смой. Если кто-нибудь унюхает, от наших спин мало что останется.
Александр вложил свернутые листья Петуху в руки.
–Я должен вернуться до переклички,– сказал он и через мгновение уже растворился в темноте на берегу, послышались лишь его удаляющиеся шаги, когда он бежал обратно к ночлегу юношей вокруг Площади.
– Ну-ка, наклонись ко мне и поддержи меня, а то я лишусь чувств,– сказал Петух, качая головой.– у этого маленького шалопая духу больше, чем я думал.
На рассвете, когда мы построились на жертвоприношение, Самоубийца, скиф-оруженосец Диэнека, вызвал нас с Петухом из строя. Мы побелели от страха, что-то за нами подсмотрел, и теперь, несомненно, нам мало не покажется.
– Вы, маленькие комочки дерьма, похоже, плывете под счастливой звездой,– только и сказал Самоубийца.
Он отвел нас за строй. Там, в предрассветных сумерках, один, молча, стоял Диэнек. Мы заняли почтительные места слева, и со стороны щита я от него. Зазвучали свирели, и строй двинулся прочь. Диэнек сделал знак, чтобы Петух и я остались.
– Я наводил справки о тебе,– обратился ко мне Диэнек. Это были его первые прямые слова ко мне, не считая приказа две ночи назад следовать за слугой к нему домой. Илоты сообщили, что для полевых работ ты не годишься. Я наблюдал за тобой на жертвенных упражнениях – ты даже не можешь перерезать горло козе, как положено. А по твоему поведению с Александром ясно, что ты подчинишься любому приказу, самому безумному и абсурдному.– Он сделал мне знак повернуться, чтобы осмотреть мою спину. Кажется, твой единственный талант – быстро залечивать раны.
Он нагнулся, понюхал мою спину и пробормотал:
– Если бы не знал, я бы поклялся, что эти рубцы смазали миррой.
Самоубийца пинком повернул меня обратно, лицом к Диэнеку.
– Ты оказываешь нехорошее влияние на Александра, обратился ко мне Равный.– Мальчишке не нужен другой мальчишка, и уж определенно не такой искатель неприятностей, как ты. Ему нужен взрослый мужчина, кто-нибудь достаточно авторитетный, чтобы остановить его, когда ему в голову взбредет какое-нибудь новое сумасбродство вроде похода вслед за войском. Поэтому я вверяю его своему человеку.– Он кивнул на Самоубийцу.– А ты больше не служишь у Александра.
О боги! Обратно в навоз!.. Диэнек повернулся к Петуху:
– И ты – тоже. Сын героя-спартиата, а не можешь даже принести жертвенного петуха, не задушив его в руках. Ты жалок. Твой рот распущеннее, чем коринфская задница, и ведет предательские речи каждый раз, когда ты его разеваешь. Я бы сделал тебе любезность, перерезав твою глотку, чтобы не беспокоить криптею.
Он напомнил Петуху про оруженосца Олимпия Мериона, так благородно павшего на прошлой неделе под Антирионом. Никто из нас не мог взять в толк, к чему он клонит.
– Олимпию за пятьдесят, он обладает большим благоразумием и осмотрительностью. Его новый оруженосец должен уравновесить это своей молодостью. Новым оруженосцем должен стать кто-то зеленый, сильный и безрассудный.– Диэнек с насмешливым презрением посмотрел на Петуха.– Одни боги знают, какое безумие обуяло его, но Олимпий выбрал тебя. Ты займешь место Мериона. Будешь служить Олимпию. Иди представься Олимпию сейчас же. Теперь ты его первый оруженосец.
Я видел, как хлопает глазами Петух. Несомненно, это шутка.
– Это не шутка,– сказал Диэнек,– и тебе лучше не превращать это в шутку. Ты будешь ходить по пятам за человеком, который лучше половины Равных во всей море. Только поморщись, и я лично зажарю тебя на вертеле.
– Я не морщусь, господин.
Диэнек смотрел на него несколько долгих, нелегких секунд.
– 3аткнись и уматывай отсюда.
Петух бегом бросился за строем. Признаюсь, я до тошноты завидовал ему. Первый оруженосец Равного, да еще
птолемарха и товарища царя по шатру. Я возненавидел Петуха за его тупое, слепое везение.
А слепое ли это везение? Когда я обернулся, онемев от зависти, в уме у меня промелькнул образ госпожи Ареты. 3а всем этим стояла она. Мне стало еще хуже, и я горько сожалел, что признался ей в явлении мне Стреловержца Аполлона.
– Дай-ка посмотреть на твою спину,– велел Диэнек.
Я снова повернулся, и он одобрительно присвистнул. – Клянусь Зевсом, если бы полосование спин включили в Олимпийские игры, ты бы был фаворитом.
Диэнек развернул меня к себе лицом, и я вытянулся перед ним. Он задумчиво посмотрел на меня, и его взгляд словно проникал сквозь меня до самого позвоночника.
– Требования к хорошему боевому оруженосцу довольно просты. Он должен быть туп, как мул, бесчувствен, как столб, и послушен, как дурак. Я заявляю, что в этих качествах ты, Ксеон из Астака, безупречен.
Самоубийца мрачно хмыкнул и что-то вытащил из колчана у себя на спине.
– Ну-ка, посмотри,– велел Диэнек. Я поднял глаза.
В руке у скифа был лук. Мой лук. Диэнек велел мне взять его.
– Ты еще недостаточно силен, чтобы быть моим первым оруженосцем, но если будешь думать головой, а не задницей, то сможешь стать каким-никаким вторым.
Самоубийца вложил мне в руку лук – большой лук, оружие фессалийского конника, который у меня отобрали, когда мне было двенадцать и я впервые оказался в пределах Лакедемона.
Я не смог сдержать дрожь в руках. Я почувствовал теплую ясеневую дугу, и из ладони по всей моей руке до плеча протек живой ток.
– Соберешь мой паек, постель и медицинский набор, велел мне Диэнек.– Будешь готовить пищу для других оруженосцев и охотиться для меня во время учений в Лакедемоне и в походе за его пределами. Согласен?
– Да, господин.
– Можешь охотиться на зайцев для себя, но не щеголяй своей удачей.
– Не буду, господин.
Он посмотрел на меня с тем же насмешливым удивлением, которое я раньше видел на его лице издали и которое еще много раз мне предстояло увидеть вблизи.
– Кто знает,– сказал мой новый хозяин,– если повезет, ты сможешь даже издали выстрелить по врагу.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
АРЕТА
Глава пятнадцатая
В следующие пять лет лакедемонское войско двадцать один раз отправлялось в поход, и всегда против других греческих городов. Тот заряд воинственности, что Леонид приобрел после Антириона, чтобы сфокусироваться на персе, теперь нашел выход в необходимости направить силы на более непосредственные цели – на те города Эллады, которые вероломно склонялись к предательству, заключая союз с захватчиками, чтобы спасти свои собственные шкуры.
Это были могущественные Фивы, чьи изгнанные аристократы непрестанно плели заговоры при Персидском дворе, стараясь вернуть себе господство в своей же стране, продав ее врагу.
Это был завистливый Аргос, злейший и ближайший соперник Спарты, чью знать открыто обхаживали агенты Великого Царя. Македония под властью Александра (Понятно, речь идет не об Александре 3 Великом, а об Александре I) давно выражала знаки покорности Персии. Афины изгнали аристократов, которые теперь тоже обосновались в персидских чертогах, замышляя восстановление собственной власти под крылом у персов.
Сама Спарта тоже не была свободна от предательства. Ее изгнанный царь Демарат проводил свое изгнание среди сикофантов, окружавших Великого Царя. Чего же еще мог желать Демарат, кроме возвращения к власти в Лакедемоне в качестве сатрапа и ставленника Владыки Востока?
На третий год после Антириона Дарий Персидский умер. Когда весть об этом достигла Греции, в свободных городах вновь зажглась надежда. Возможно, теперь перс отменит свои военные приготовления. Со смертью царя не рассеется ли войско Великой Державы? Не забудет ли перс свою клятву покорить Элладу?
И тогда на трон взошел ты, Великий Царь.
Вражеское войско не рассеялось.
Вражеский флот не пришел в упадок.
Вместо этого военные приготовления в Великой Державе удвоились. В груди Великого Царя разгорелось рвение только что коронованного принца. Ксеркса, сына Дария, история не поставит ниже его отца или других блестящих предков – Камбиса и Кира Великого. К ним, завоевателям и поработителям Азии, в своей славе присоединится и Ксеркс, их отпрыск, который теперь к списку провинций Великой Державы добавит Грецию и Европу.
В Грецию, подобно подкопу, проникал фобос. Тихим утром, понюхав пыль из этого туннеля, можно было ощутить, как с неслышным шорохом он шаг за шагом распространялся, пока все спали. Из всех могущественных греческих городов только Спарта, Афины и Коринф сохранили твердость. Они направляли посольство за посольством в колеблющиеся полисы, стремясь присоединить их к союзу. Мой хозяин за один сезон участвовал в пяти заморских миссиях. Я блевал за борт стольких кораблей, что уже не могу отличить одну посудину от другой.
Куда бы ни прибывали эти посольства, везде их опережал
фобос. Страх лишал людей рассудка. Многие продавали все свое имущество; другие, более беззаботные, покупали.
– Пусть Ксеркс прибережет свой меч и вместо этого пошлет свой кошелек,– с отвращением заметил мой хозяин после очередного неудачного посольства.– Греки передавят друг друга, стремясь посмотреть, кто первым продаст свою свободу.
Во время всех этих поездок часть моего сознания неустанно прислушивалась в ожидании каких-нибудь сведений о моей двоюродной сестре. Три раза в течение моего семнадцатого года жизни служба приводила меня в Афины, и каждый раз я пытался отыскать дом той благородной дамы, которую мы с Диомахой встретили в то утро у Трех Дорог, когда эта добрая госпожа велела Дио найти ее поместье и поступить к ней на службу. В конце концов мне удалось разыскать квартал и улицу, но дом я так и не нашел.
Однажды в зале Афинской Академии появилась прелестная молодая женщина лет двадцати, хозяйка приема, какое-то мгновение я был уверен, что это Диомаха. Мое сердце заколотилось так неистово, что мне пришлось опуститься на одно колено от страха упасть в обморок. Но это казалась не она. Не ею оказалась и другая молодая госпожа, которую я мельком увидел через год на Наксосе, когда она несла воду из родника. Не ею оказалась и жена врача, встреченная мною под аркадой в Гистиэе еще через шесть месяцев.
В один палящий летний вечер за два года до сражения у Ворот корабль с посольством моего хозяина ненадолго зашел в афинский порт Фалерон. Наша миссия закончилась, и у нас оставалось два часа до возвращения прилива. Мне было дозволено отлучиться, и наконец я нашел дом семейства той госпожи, что мы встретили у Трех Дорог. Место было заброшено.
Фобос погнал все семейство в их владения в Япигии – во всяком случае, так мне сказали в слонявшемся неподалеку отряде скифских лучников, этих головорезов, нанятых афинянами для поддержания порядка в городе. Да, эти скоты запомнили Диомаху. Как можно ее забыть? Они приняли меня за еще одного ухажера и разговаривали со мной на грубом уличном жаргоне.
– Птичка упорхнула,– сказал один.– Слишком уж дикая для клетки.
Другой заявил, что после встречал ее – на рынке вместе с мужем, афинским гражданином, служившим на флоте. – Глупая сука,– рассмеялся он.– Связаться с любителем соли, когда могла бы получить меня!
Вернувшись в Лакедемон, я решил выкорчевать из сердца эту дурацкую тоску, как крестьянин выжигает упрямый пень. Я сказал Петуху, что мне пора найти невесту, и он подыскал – свою двоюродную сестру Ферею, дочь сестры его матери. Мне было восемнадцать, ей – пятнадцать, когда мы соединились по мессенийскому обряду, как заведено у илотов. Через десять месяцев она родила мне сына, а потом еще дочь, когда я был в походе.
Став мужем, я дал себе клятву больше не думать о своей двоюродной сестре. Вырву с корнем свои нечестивые мысли и больше не буду жить фантазиями.
Годы пролетели быстро. Александр закончил свое обучение в
агоге, ему вручили боевой щит, и он занял свое место среди Равных в войске. И взял в жены девушку Агату, как и обещал. Она родила ему двойню – мальчика и девочку, когда ему еще не исполнилось и двадцати.
Полиник второй раз был увенчан на Олимпийских играх, снова за бег в вооружении. Его жена Алтея родила ему третьего сына.
Госпожа Арета больше не подарила Диэнеку детей. После четырех дочек она больше не могла рожать, так и не произведя на свет наследника.
Жена Петуха Гармония родила второго ребенка, мальчика, которому дали имя Мессений. Госпожа Арета присутствовала при его рождении. Она привела собственную повитуху и собственноручно помогала при родах. Я нес факел, сопровождая ее домой. Госпожа ничего не говорила – так разрывалась она между радостью о том, что засвидетельствовала наконец в собственном роду рождение мальчика, защитника Лакедемона, и печалью. Этот мальчик, отпрыск Петуха незаконнорожденного сына ее брата, из-за крамольной дерзости Петуха и выбранного им для сына имени столкнется со многими опасностями на жизненном пути, прежде чем станет мужчиной.
Персидские полчища уже были в Европе. Построив мост через Геллеспонт, они заняли всю Фракию. А греческие союзники продолжали пререкаться. Войско из десяти тысяч гоплитов под командованием спартанца Эванета направилось к Темпе, в Фессалию, чтобы воспрепятствовать вторжению на самой северной границе Греции. Но когда войско прибыло на место, позиция оказалась негодной для обороны. Ее можно было обойти по суше через Гоннский проход, а по морю – через Авлис. Со стыдом и унынием десятитысячное войско отступило, и его воины разошлись по родным городам.
В Греческом Совете всех охватил паралич отчаяния. Покинутая Фессалия отошла к персу, добавив к силам противника свою несравненную конницу. Фивы колебались, готовые признать власть Великого Царя. Аргос занял выжидательную позицию. Появилось множество дурных знамений и примет. Оракул Аполлона в Дельфах посоветовал афинянам: «Летите на край земли», в то время как спартанский Совет старейшин, печально знаменитый своей медлительностью, колебался и терял время. Где-то нужно было держать оборону. Но где?
В конце концов спартанские женщины вернули спартанцев к жизни и заставили действовать. Произошло это примерно так.
Последний из трех свободных городов наводнили беженцы, среди них было много молодых женщин с грудными младенцами. Молодые матери бежали в Лакедемон; островитяне и их родственники спасались от персидского вторжения через Эгейское море. Эти женщины воспламенили в слушателях ненависть к врагу своими рассказами о творимых им зверствах. Беженки рассказывали, как на Хиосе, Лесбосе и Тенедосе враги построились цепью на берегу и пошли по всему острову, прочесывая каждый закоулок, вылавливая мальчиков и сгоняя самых красивых вместе, чтобы кастрировать и сделать евнухами; как убивали они мужчин и насиловали женщин, как угоняли их, чтобы продать в рабство на чужбине. Эти персидские герои разбивали детские головки об стену, разбрызгивая мозги по мостовой.
Спартанские жены с ледяным гневом слушали эти рассказы, прижимая к груди собственных детей. Персидские орды уже шли через Фракию и Македонию. Детоубийцы стояли на пороге Греции – а где же была тогда Спарта со своими воинами-защитниками? Воины, не пролив ни капли крови, разбрелись по домам после дурацкого похода к Темпе.
Я никогда не видел город в таком состоянии, как после этой катастрофы. Герои, награжденные за доблесть, попрятались, со стыдом потупив глаза, а женщины презрительно шпыняли их и держались с ними холодно и пренебрежительно. Как могло случиться то, что произошло у Темпе? Любое сражение, пусть даже проигранное, было предпочтительнее, чем вообще никакого Собрать такое великолепное войско, украсить венками в честь богов, пройти такой путь – и не пролить крови, ни капли! Это не просто позор, объявили жены, это святотатство.
Женское презрение задело спартанцев. Делегации жен и матерей являлись к эфорам, настаивая, чтобы в следующий раз их самих послали навстречу врагу, со шпильками и прялками, и уж, конечно, спартанские женщины не опозорятся так скандально и сделают не меньше, чем эти хваленые десять тысяч воинов.
На воинских трапезах настроение было еще более критическим. Сколько еще будет колебаться Совет Союза? Сколько еще будут медлить эфоры?
Я живо вспоминаю то утро, когда наконец пришло воззвание.
Лох Геракла в тот день проводил учения в пересохшем русле реки, прозванном Коридором, – в обжигающей воронке между песчаными склонами к северу от деревни Лимны. Воины отрабатывали ближний бой – двое против одного и трое против двоих,– когда известный старейшина по имени Харилай, бывший раньше эфором и жрецом Аполлона, но теперь действовавший в основном как старший советник и эмиссар, появился на гребне склона и отозвал в сторону
полемарха Деркилида, командовавшего лохом. Старику уже перевалило за семьдесят, в былые годы он потерял в бою ногу ниже колена. Уже одно то, что он приковылял со своим посохом в такую даль от города, могло означать, что случилось нечто серьезное.
Патриарх и
полемарх поговорили наедине. Учения продолжались. Никто не смотрел наверх, но все понимали: ВОТ ОНО.
Воины Диэнека получили сообщение от Латерида, начальника соседней
эномотии, который пустил весть по линии:
– Ворота, ребята. Горячие Ворота. Фермопилы.
Никакого собрания не созывалось. Ко всеобщему удивлению,
лоху дали отдых. Воинам дали отпуск на целый день.
Такой праздник на моей памяти устраивался лишь с дюжину раз, и неизменно Равные радостно бросались по домам Но на этот раз никто не шелохнулся. Весь
лох стоял, словно пригвождённый к земле, в знойной тесноте пересохшего русла, и гудел, как улей.
Сообщение было такое.
Четыре
моры, пять тысяч воинов, отправляются к Фермопилам. Колонна, усиленная
периэками, оруженосцами и вооруженными илотами, по два илота на воина, выступает, как только истекает Карнея – праздник Аполлона, запрещающий брать оружие. Через две с половиной недели.
Силы общей численностью до двадцати тысяч человек, вдвое больше, чем при Темпе, сконцентрируются в проходе.
Еще от тридцати до пятидесяти тысяч союзной пехоты будет мобилизовано в тылу этих первоначальных сил, в то время
как главные силы союзного флота, сто двадцать боевых кораблей, блокируют Эврипский пролив у Артемизия и Андроса, защищая войско у Ворот от удара во фланг с моря.
Массовый призыв был неизбежен. И Диэнек, и остальные понимали это.
Мой хозяин отправился назад в город в сопровождении Александра, теперь уже полноправного рядового эномотии, его товарища Биаса, Черного Льва и трех оруженосцев. Пройдя треть пути, мы догнали старейшину Харилая, ковылявшего домой с мучительной медлительностью. Старика поддерживал его спутник Сфенисф, такой же древний. Черный Лев вел в поводу обозного осла; он настаивал, чтобы старик ехал верхом. Харилай отказался, но велел занять это место своему слуге.
– Дадите нам выбраться из дерьма, дед? – обратился Диэнек к государственному мужу. Как истинный воин, он желал услышать правду.
– Я передаю лишь то, что велено, Диэнек.
– Ворота не вместят пятьдесят тысяч. Они не вместят и пяти.
Старик скривился, отчего его лицо все покрылось морщинами.
– Вижу, ты мнишь себя полководцем выше Леонида.
Но факт был очевиден даже оруженосцам. Персидское войско стояло теперь в Фессалии. Это днях в десяти пути от Ворот? Или меньше? Через две с половиной недели миллионы вражеских воинов пройдут теснину и еще стадиев семьсот. Они окажутся на пороге нашего дома.
– Сколько человек в передовом отряде? – спросил старейшину Черный Лев.
Он имел в виду передовые части спартанцев, которые, как всегда перед мобилизацией, сразу будут направлены к Фермопилам, чтобы занять проход, пока туда не подошли персы и прежде чем выступят главные силы союзного войска.
– Узнаешь завтра от Леонида,– ответил старик, но, видя обеспокоенность младшего, смягчился: – Триста. Только Равные. Только отцы.
У моего хозяина была привычка плотно стискивать:зубы; так он сжимал их, когда был ранен в бою и не хотел, чтобы товарищи поняли, как ему плохо. И вот теперь он стиснул зубы.
«Только отцы» – это означало: только отцы живых сыновей.
Такое делалось для того, чтобы, если воин погибнет, его род не прервался.
Отряд «только отцов» был отрядом самоубийц.
Сила, которую посылали стоять насмерть.
Моими обычными обязанностями по возвращении с учений было почистить и уложить хозяйское облачение и вместе со слугами трапезной проследить за приготовлением ужина. Но в тот день Диэнек попросил у Черного Льва, чтобы его оруженосец поработал за двоих. Мне же он приказал отправляться вперед, бегом, к нему домой. Мне поручалось сообщить госпоже Арете, что
лох на день отпустили по домам и что скоро ее муж придет. Мне поручалось от его имени передать ей приглашение: не составит и она с дочерьми ему компанию на прогулке по холмам?
Я побежал вперед, доставил сообщение, и меня отпустили. Однако какой-то импульс заставил меня задержаться.
С холма над хижиной моего хозяина я видел, как его дочери выскочили из ворот и с нетерпением бросились поприветствовать отца на дороге. Арета приготовила корзину с фруктами, сыром и хлебом. Все были босы, в больших мягких шляпах.
Я видел, как мой хозяин отвел жену под дубы, и там они вдвоем недолго о чем-то говорили. Что-то из сказанного им вызвало у нее слезы, и она обеими руками страстно обняла мужа за шею. Диэнек сначала как будто сопротивлялся, но через мгновение уступил и нежно прижал жену к себе.
Девочки шумели – им не терпелось идти дальше. Под ногами визжали два щенка. Диэнек и Арета разорвали объятия. Я видел, как мой хозяин поднял свою младшую, Элландру, и посадил ее себе на плечи. Потом, когда они двинулись в путь, он взял за руку вторую девочку, Алексу. Жизнерадостные девочки веселились, а Диэнек с Аретой были грустны.
Никакие главные силы не будут посланы в Фермопилы, это лишь сказка для толпы.
Будут посланы только триста – с приказом стоять насмерть.
Диэнека среди них не будет, у него не было сына.
Его не могли выбрать.
Глава шестнадцатая
Теперь я должен рассказать про вооруженное столкновение, случившееся за несколько лет до того. Его последствия оказали сильное влияние на нынешнюю жизнь Диэнека, Александра, Ареты и прочих героев моего рассказа. Это случилось при Энофите, в походе против фиванцев, через год после Антириона.
Я имею в виду необычайный героизм, проявленный в том бою моим товарищем, Петухом. Как и мне в то время, ему было всего пятнадцать, и первым оруженосцем Олимпия, отца Александра, он, совсем еще зеленый, не прослужил и двенадцати месяцев.
Два войска столкнулись. Моры Менелая, Полия и
лох Дикой Оливы сошлись в яростной борьбе с левым флангом фиванцев, которые выстроили двадцать рядов в глубину вместо обычных восьми и теперь с ужасным упорством удерживали позицию. Положение ухудшалось еще и тем, что строй противника примерно на стадий выходил за спартанский правый край, и этот излишек начал заворачивать внутрь и наступать, заходя Менелаю во фланг. В это время вражеский правый фланг, понеся самые серьезные потери, сломал строй и бросился на еще сплоченные ряды своего тыла. Вражеский правый край в панике рухнул, в то время как левый наступал.
Среди этой сутолоки Олимпий был тяжело ранен, получив в сгиб ступни удар нижним шипом на комле вражеского копья. Это произошло, как я уже сказал, в момент величайшей сумятицы на поле боя, когда правый фланг противника рухнул и спартанцы бросились в преследование, в то время как левый фланг врагов шел в атаку, поддержанный многочисленной конницей, рванувшейся, не встречая сопротивления, в образовавшуюся брешь.
Олимпий оказался один в открытой «зоне добивания» позади катящейся вперед битвы. Раненая нога сделала его калекой, в то время как шлем с поперечным гребнем неодолимо привлекал героев из вражеской конницы.
К нему устремились трое фиванских всадников.
Петух, безоружный и без доспехов, бросился очертя голову в гущу битвы, по пути прихватив воткнутое в землю копье. Метнувшись к Олимпию, он не только прикрыл хозяина щитом от вражеских дротиков, но и сам одной рукой разил противников, ранив и свалив копьем на землю двоих и проломив голову третьему его же шлемом, который в безумии голыми руками сорвал у противника с головы. Петуху даже удалось поймать лучшую из трех вражеских лошадей – великолепного боевого скакуна, с помощью которого он вывез потом Олимпия с поля боя.
Когда войско вернулось из похода, весь город говорил о подвиге Петуха. Равные долго обсуждали открывавшиеся перед ним перспективы. Что делать с этим мальчишкой? Все вспомнили, что его матерью была мессенийская илотка, а отцом – спартиат Идотихид, брат Ареты, герой, павший в битве при Мантинее, когда Петуху было два года.
У спартанцев, как я уже отмечал, имелась категория молодых воинов, класс «сводных братьев», называемый
мофаксами. Бастардов вроде Петуха и даже законнорожденных сыновей Равных, по несчастью или по бедности лишившихся гражданства, могли, если сочтут достойными, выдернуть из их стесненных обстоятельств и повысить до этого статуса.
Такую честь предложили Петуху.
Он отказался.
Его доводом было то, что ему уже пятнадцать лет. Для него эта честь запоздала. Он предпочитает и дальше служить оруженосцем.
Этот отказ от великодушного предложения разгневал Равных из
сисситии Олимпия и вызвал негодование во всем городе – негодование, какое только может вызвать дело илота. Делались даже заявления, что этот неблагодарный своевольник давно известен своими мятежными настроениями. Он принадлежит к нередкому среди рабов типу гордецов и упрямцев. Считает себя мессенийцем. Его надо или уничтожить вместе со всей его семьей, или затоптать за несомненную измену спартанскому делу.
В тот раз Петух избежал смерти от рук
криптеи в большей степени благодаря своей молодости и заступничеству Олимпия, который наедине поговорил с Равными. Дело притихло, однако через какое-то время разгорелось вновь. В последующих походах Петух снова и снова оказывался самым смелым и отважным из всех молодых оруженосцев, превзойдя в войске всех, кроме Самоубийцы, Циклопа, главного претендента на олимпийскую победу в пентатлоне Пафея и оруженосца Полиника – Аканфа.
И вот персы стояли на пороге Греции. Теперь отбирали трехсот для посылки к Фермопилам. Самым заметным среди них был Олимпий с оруженосцем Петухом за спиной. Можно ли доверять этому склонному к измене юнцу? С клинком в руке да еще на пядь шире
полемарха в плечах?
В этот отчаянный час Спарта меньше всего нуждалась в домашних неприятностях с илотами. Город бы не вынес бунта, даже неудачного. Двадцатилетний Петух к тому времени приобрел популярность среди мессенийских рабочих, земледельцев и виноградарей. Для них он был героем – юноша, который мог воспользоваться своим мужеством в бою как пропуском на свободу. Он мог бы носить спартанский алый плащ и распоряжаться своими низкородными братьями, но оказался выше этого. Он называл себя мессенийцем, чего не забывали его товарищи. Кто знает, сколько из них хотели бы подражать ему? Сколько жизненно необходимых городу ремесленников и подмастерий, оружейников и носильщиков, оруженосцев и доставщиков провизии? Говорят, что нет худа без добра и в любом несчастье кто-то найдет свою выгоду, но для илотов персидское нашествие могло оказаться самым лучшим вариантом. Ведь для них оно означало бы освобождение. Сохранят ли они верность? Как ворота могучей крепости, поворачивающиеся на одной закаленной петле, чувства многих мессенийцев сфокусировались на Петухе в готовности воспринять его сигнал.
Стояла ночь накануне объявления списка Трехсот. Петуха вызвали предстать на сисситии Беллерофона, где старшим был Олимпий. Там, официально и доброжелательно, ему еще раз предложили честь надеть спартанский алый плащ.
И снова он пренебрег предложением.
В тот час я специально слонялся перед трапезной Беллерофона, чтобы увидеть, как обернется дело. Не требовалось большого воображения, чтобы по донесшемуся изнутри гулу негодования и скорому молчаливому уходу Петуха понять всю серьезность создавшейся ситуации и ее опасность. Поручение хозяина задержало меня почти на час, но в конце концов мне удалось вырваться.
Рядом с Малым кругом, где стоит будка участников соревнований, есть роща с пересохшим ручьем, разделяющимся на три рукава. Там Петух, я и другие юноши обычно встречались и даже приводили девушек. Если тебя обнаружат, можно легко шмыгнуть в темноту по одному из трех русел. Я знал, что найду Петуха там,– и нашел. К моему удивлению, с ним был Александр. Они спорили. Через несколько мгновений я понял, что это спор между предлагающим дружбу и тем, кто ее отвергает. Поразительно: Александр искал дружбы Петуха. Если бы его застали тут сразу после посвящения в воины, у него были бы сокрушительные неприятности. Когда я несся в тени пересохшего ручья, Александр упрекал Петуха и называл дураком.
– Теперь тебя убьют, как ты не понимаешь?
– Плевать! Плевал я на них на всех.
– Прекратите! – Выскочив из темноты, я встал между ними. Я повторил то, что все мы трое и так знали: что популярность Петуха среди простого люда не позволяет ему действовать самостоятельно, что он должен учитывать последствия для своей жены, сына и дочери, своей семьи. А теперь он погубил себя и их вместе с собой. Криптея прикончит его этой же ночью, и Полиник будет этому очень рад.
– Он не поймает меня, если меня здесь не будет. Петух решил бежать этой же ночью в храм Посейдонаса Тенаре, где илот мог получить убежище.
Он хотел взять меня с собой. Я сказал, что он сошел с ума.
– О чем ты думал, когда отказался от их предложения? Тебе предлагали честь.
– Плевал я на их честь! Теперь за мной охотится
криптея – в темноте, исподтишка, как трусы. Это и есть их хваленая честь?
Я сказал, что его рабская гордость дала ему пропуск в подземное Царство мертвых.
– Заткнитесь, оба!
Александр велел Петуху отправляться в свою скорлупу – так спартанцы называют убогие хижины илотов.
– Если собираешься бежать – беги сейчас!
Мы бросились прочь по темному руслу ручья. Гармония уже запеленала обоих детей Петуха, дочь и сына. В дымной тесноте илотской скорлупы Александр пихнул в руку Петуха горсть эгинских оболов – все, что у него было, чтобы хоть как-то помочь в пути.
Этот жест тронул Петуха, и он не мог вымолвить ни слова.
– 3наю, ты меня не уважаешь,– сказал Александр. Считаешь, что превосходишь меня во владении оружием, в силе и отваге. Что же, это так. Боги свидетели – я старался всеми фибрами своего существа, и все же я и вполовину не стою тебя как боец. Ты должен быть на моем месте, а я – на твоем. Только по слепой несправедливости богов ты раб, а я свободный.
Эти слова совершенно обезоружили Петуха. Можно было заметить, что воинственность в его глазах поугасла, а его гордая заносчивость поубавилась и притихла.
– В тебе больше отваги, чем когда-либо будет у меня, ответил бастард,– потому что ты рождаешь ее из нежного сердца, в то время как в меня боги вдавливали ее, пиная и колотя с самой колыбели. И тебе делает честь твоя откровенность. Ты прав: я презирал тебя. До этого момента.
Тут Петух взглянул на меня, и я увидел замешательство в его взгляде. Он был тронут прямотой Александра, и она склоняла его сердце остаться и даже согласиться на предложение. Однако усилием воли он стряхнул чары. – Но ты не заставишь меня изменить решение, Александр. Пусть придет перс. Пусть он перемелет в пыль весь Лакедемон. Я спляшу на его могиле.
Мы услышали, как у Гармонии перехватило дыхание. Снаружи пылали факелы. Хижину окружили тени. Кто-то сорвал занавес из одеяла. В дверном проеме высился Полиник в доспехах, а за спиной у него маячили четверо убийц из
криптеи. Они были молоды, атлетически сложены, почти как олимпионик, и безжалостны, как железо.
Спартанцы ворвались и веревкой связали Петуха. Мальчик на руках у матери заплакал. Бедной Гармонии едва исполнилось семнадцать лет, она дрожала и кричала, в страхе прижимая дочь к себе. Полиник презрительно наблюдал.
Его взгляд перебежал с Петуха, его жены и детей на меня, потом с пренебрежением – на Александра.
– Я мог догадаться, что увижу тебя здесь.
– А я – тебя,– ответил юноша.
На его лице была написана откровенная ненависть к
криптее.
Полиник отнесся к Александру и его чувствам с еле сдерживаемой яростью.
– Твое присутствие здесь, в этих стенах, уже само по себе является изменой. Ты это знаешь, и эти – тоже. Только из уважения к твоему отцу я говорю на этот раз: уходи. Уходи немедленно, и больше я ничего не скажу. На рассвете четырех илотов не досчитаются.
– Я не уйду,– ответил Александр. Петух плюнул.
– Убей нас всех! – потребовал он у Полиника.– Покажите нам спартанскую доблесть, вы, трусы, что прячутся по ночам.
Удар кулака по зубам заставил его замолчать.
Я видел, как схватили Александра, и почувствовал, как хватают меня. Ремни стянули мне запястья, льняной кляп заткнул глотку.
Криптеи схватили и Гармонию с детьми.
– Выводи всех,– приказал Полиник.
Глава семнадцатая
На склоне за трапезной Девкалиона есть роща, где обычно охотники натаскивают собак, прежде чем идти на охоту. Там через несколько минут собрался самосуд.
Место это зловещее. Под дубами тянутся грубые клетки, а под навесами кормушек висят сетки для дичи и охотничье снаряжение. Кухни для трапез хранят свои мясницкие орудия в нескольких пристройках под двойным запором. 3а внутренней дверью висят топоры и ножи – для потрошения, для разделки, для разрубания костей. Вдоль стены тянется почерневшая от крови разделочная доска для дичи и домашней птицы, где отрубают птичьи головы и бросают в грязь, на драку собакам. До половины голени поднимается слой перьев, на который польется кровь следующей неудачливой птицы, вытянувшей шею под резаком. Надо всем этим вдоль прохода стоят мясницкие чурбаки с тяжелыми железными крюками, чтобы подвешивать и потрошить дичь и выпускать из нее кровь.
Было предрешено, что Петух должен умереть и его маленький сын вместе с ним. Под вопросом оставалась судьба Александра. Его предательство, если объявить о нем в городе, могло в этот полный опасности час иметь печальные последствия не только для него самого, но и для репутации всего рода, его жены Агаты, матери Паралеи, отца полемарха Олимпия и, не меньше других, его ментора Диэнека. Олимпий и Диэнек теперь заняли свое место в тени вместе с остальными шестнадцатью Равными из сисситии Девкалиона. Жена Петуха беззвучно плакала, рядом плакала ее дочь, на руках приглушенно кричал маленький сын. Петух, связанный, стоял на коленях в сухой июльской пыли.
Полиник нетерпеливо ходил туда-сюда, дожидаясь решения.
– Можно сказать? – прохрипел Петух сдавленным голосом: его чуть не задушили, пока тащили на последний суд.
– Что хочет сказать этот мерзавец? – осведомился Полиник.
Петух указал на Александра:
– Этот человек, которого твои убийцы думают, что «поймали».., им бы следовало объявить его героем. Это он поймал меня, он и Ксеон. 3а тем они и пришли в мою скорлупу – чтобы арестовать меня и отдать под суд.
– Конечно,– с сарказмом ответил Полиник.– Потому они и связали тебя так крепко.
– Это правда, сын? – обратился к Александру Олимпий. – Ты действительно взял под стражу молодого Петуха?
– Нет, отец. Это не так.
Все знали, что «суд» продлится недолго. Юноши из агоге, сторожившие город ночью, неизбежно обнаружат его, даже здесь, в сумерках, тем более что в военное время их патрули удвоились. У собрания оставалось пять минут, не больше.
После двух коротких реплик выяснилось, что Александр в одиннадцатом часу пытался убедить Петуха взять обратно свой отказ и принять оказанную ему городом честь. Ему это не удалось, но тем не менее он не предпринял против илота никаких действий.
Это явная и недвусмысленная измена, объявил Полиник. И все же сам он лично не хотел бы позора для сына Олимпия и даже для меня, оруженосца Диэнека. Пусть все здесь и закончится.
– Удалитесь, благородные мужи. Оставьте этого илота и его сопляка мне.
Тогда заговорил Диэнек. Он выразил благодарность Полинику за милосердное предложение. Однако в предложении Всадника остается скользкий аспект полуоправдания. Давайте оставим это так, но полностью очистим имя Александра. Нельзя ли ему, попросил Диэнек, сказать несколько слов в пользу этого молодого человека?
Старший по
сисситии Медон согласился, и Равные при соединились к нему. Диэнек сказал:
– Все вы, благородные мужи, знаете мои чувства к Александру. Всем вам известно, что я обучал и воспитывал его с самого детства. Он мне как сын, он мой друг. Но я защищаю его не из этих моих чувств. Лучше, друзья, обдумайте следующее. В эту ночь Александр пытался сделать то же самое, что и его отец после Энофиты, то есть неофициально, доводами и убеждениями, из дружеских чувств повлиять на этого юношу Дектона, прозванного Петухом. Чтобы смягчить злобу, питаемую им к спартанцам, которые, по его мнению, поработили его народ, и склонить к великому делу Лакедемона. В своих попытках Александр ни этой ночью, ни когда-либо не стремился добиться выгоды для себя. Что хорошего могло выйти из облачения этого предателя в алый спартанский плащ? Александр пекся лишь о родном городе, стремясь направить на благо Спарты явное мужество этого молодого человека, незаконнорождённого сына героя-спартиата – моего шурина Идотихида. По сути дела, вместе с Александром вы можете обвинить и меня, так как я не раз вел себя с этим юношей, Петухом, как со своим незаконнорожденным племянником.
– Да,– быстро вставил Полиник,– в шутку и в насмешку.
– Мы не шутим здесь сегодня, Полиник.
Послышался шорох листвы, и вдруг, к изумлению всех собравшихся, на бойне показалась госпожа Арета. Я заметил пару амбарных мальчишек, шмыгнувших в темноту. Ясно, эти шпионы видели всю сцену в скорлупе у Петуха и тут же побежали доложить госпоже.
Теперь вперед вышла она сама – в простом пеплосе, с распущенными волосами, несомненно, только что оторванная от вечерней колыбельной. Равные расступились перед ней, растерявшись от неожиданности.
– Что это? – презрительно спросила она.– Смертный суд под дубами? Какой достойный вердикт выносите вы сегодня, храбрые воины? Убить девушку или перерезать горло ребенку?
Диэнек, как и прочие, хотел утихомирить ее разглагольствованиями о том, что, мол, женщине нечего тут делать, чтобы она немедля удалилась и что они ничего не станут слушать. Арета, однако, не обратила на эти слова ни малейшего внимания, а без колебаний подошла к молодой Гармонии, схватила сына Петуха и прижала к себе.
– Вы говорите, мне тут нечего делать. Напротив,– объявила она Равным,– я могу предложить самую уместную помощь. Видите? Я могу задрать подбородок этого малыша, чтобы было легче его зарезать. Кто из вас, сыны Геракла, будет резать ему горло? Ты, Полиник? Или ты, мой муж?
Последовали новые возмущенные возгласы. Мужчины настаивали, чтобы женщина ушла. Диэнек тоже выразил это желание в самых сильных выражениях. Но Арета не шелохнулась.
– Если бы ставкой была только жизнь этого молодого человека, – она указала на Петуха,– я бы послушалась мужа и вас, Равные, без колебаний. Но кого еще вы, герои, приговариваете к смерти? Его единокровных братьев? Дядек, двоюродных братьев, их жен и детей, всех невинных и все имущество, в котором город отчаянно нуждается в этот час опасности?
Опять послышалось, что эти вопросы, мол, не касаются женщины.
Кулачный боец Актеон прямо обратился к ней:
– Как бы мы ни уважали тебя, госпожа, мы не можем не видеть, что ты стремишься лишь защитить род своего досточтимого брата,– он указал на вопящего младенца, пусть даже этот род представлен обычными ублюдками.
– Мой брат уже достиг неувядаемой славы,– с жаром ответила госпожа,– и этого более чем достаточно, чтобы вам ответить. Нет, я просто ищу справедливости. Ребенок, которого вы готовы убить, вовсе не отпрыск этого мальчишки Петуха.
Данное заявление показалось в высшей степени абсурдным.
– А чей же он? – нетерпеливо спросил Актеон.
Госпожа на мгновение заколебалась и ответила: – Моего мужа.
Эти слова были встречены недоверчивым фырканьем:
– Правда – это бессмертная богиня, госпожа,– сурово проговорил Медон, старший по сисситии.– Нужно набраться мудрости и дважды подумать, прежде чем позорить ее.
– Если не верите, спросите мать ребенка.
Равные отнеслись к возмутительным заявлениям госпожи с явным недоверием. Тем не менее все взгляды обратились к бедной молодой женщине, Гармонии.
– Это мой ребенок,– страстно вмешался Петух,– и больше ничей.
– Пусть скажет мать,– оборвала его Арета и обратилась к Гармонии: – Чей это сын?
Несчастная девушка испуганно забормотала что-то. Арета держала младенца перед Равными.
– Пусть все видят: ребенок хорошо сложен, крепок членами и голосом, в нем таится живость, ведущая к силе в юности и к доблести в зрелости. Она повернулась к девушке.
– Скажи этим людям. Мой муж ложился с тобой? Этот ребенок его?
Нет… да… я не…
– Говори!
– Госпожа, ты запугиваешь девушку. – Говори!
– Он от твоего мужа,– пробормотала девушка и разразилась рыданиями.
– Она лжет! – крикнул Петух, за что тут же получил жестокий удар; из разбитого носа хлынула кровь.
– Конечно, она не призналась бы тебе, своему мужу, обратилась госпожа к Петуху.– Ни одна женщина не призналась бы. Но это не меняет дела.
Полиник указал на Петуха.
– Единственный раз в жизни этот негодяй говорит правду. Он родил этого щенка!
Полиника яростно поддержали остальные. Медон обратился к Арете:
– Я бы лучше пошел с голыми руками против львицы в ее логово, чем столкнуться с твоим гневом, госпожа. Я не могу не одобрить твоих мотивов. Как жена и мать, ты стремишься спасти жизнь невинному. Тем не менее мы знаем твоего мужа с тех самых пор, как сам он был таким же младенцем. Никто в городе не превзойдет его честью и верностью Мы не раз были с ним в походах, когда он имел возможность, богатую и соблазнительную возможность проявить неверность. И ни разу он не поколебался.
Все страстно подтвердили его слова.
– Тогда спросите его,– потребовала Арета.
– Мы не будем этого делать,– ответил Медон.– Даже ставить под вопрос его честь было бы постыдно.
Равные сплоченно, как фаланга, повернулись к Арете. Но, вовсе не оробев, она дерзко, спокойным и властным тоном, встретила строй воинов.
– Я скажу вам, что вы сделаете,– заявила Арета, подступив к Медону, старшему по
сисситии.– Вы признаете этого мальчика отпрыском моего мужа. Ты, Олимпий, и ты, Медон, и ты, Полиник, поручитесь за него и зачислите его в агоге. Вы заплатите за него налоги. Он получит приличное имя, и это имя будет Идотихид.
Для Равных это было слишком. Заговорил кулачный боец Актеон:
– Ты бесчестишь своего мужа и память своего брата одним таким предложением, госпожа.
– А если бы ребенок был действительно его, мой довод нашел бы отклик?
– Но это ребенок не твоего мужа! – А если бы был?
Медон оборвал ее:
– Госпожа прекрасно знает, что если мужчина, как этот юноша по кличке Петух, будет признан виновным и казнен, его отпрыскам мужского пола не будет дозволено жить, поскольку они, если когда-либо достигнут зрелости, начнут искать мести. Так гласит не только закон Ликурга. Подобные законы существуют во всех городах Эллады.
– Если такова ваша вера, перережьте младенцу горло прямо сейчас.
Арета встала перед Полиником. Прежде чем бегун успел как-то отреагировать, она выхватила
ксифос у него с бедра, а потом сунула оружие в руку Полинику и подняла перед ним младенца, подставив его горло под остро наточенное лезвие.
– Чтите закон, сыны Геракла! Но делайте это при свете солнца, чтобы все видели, а не в темноте, которую столь любит
криптея.
Полиник замер. Он пытался отвести лезвие, но рука госпожи не отпускала.
– Не можешь? – прошипела Арета.– Давай помогу. Вот сюда, я погружу его вместе с тобой…
Дюжина голосов взмолилась не делать этого. Гармония неудержимо рыдала. По-прежнему связанный Петух смотрел, не отрываясь, парализованный ужасом.
В глазах госпожи сверкала такая свирепость, какая, должно быть, наполняла саму Медею, когда та заносила гибельную сталь над собственными детьми.
– Спросите моего мужа, его ли это ребенок,– снова потребовала Арета.– Спросите его!
Равные сдались. А что им оставалось? Все глаза теперь обратились к Диэнеку, не столько требуя ответа на это смехотворное обвинение, сколько просто потому, что все были смущены безрассудной смелостью госпожи и не знали, что делать.
– Скажи им, муж мой,– тихо проговорила Арета. Скажи перед богами – это твой ребенок?
Она отпустила меч и поднесла младенца к мужу.
Равные знали, что заявление госпожи не может быть правдой. И тем не менее, если Диэнек засвидетельствует свое отцовство и поклянется, как требует Арета, все должны будут признать это, и город тоже, иначе его священная честь будет утрачена. Диэнек долго смотрел в глаза жены, которые уставились на него, по верному замечанию Медона, как глаза львицы.
– Клянусь всеми богами,– поклялся Диэнек,– ребенок мой.
Аретины глаза наполнились слезами, которые она мгновенно подавила.
Равные пробормотали что-то про осквернение клятвы.
– Подумай, что ты говоришь, Диэнек,– сказал Медон. Ты позоришь свою жену и себя, поклявшись в этой лжи.
– Я подумал, друг мой,– ответил Диэнек.
И повторно объявил: да, ребенок – его.
– Тогда возьми его,– распорядилась Арета, сделав последний шаг к мужу и нежно уложив ребенка в его руки. Диэнек взял сверток, словно ему протянули змеиный выводок.
Он снова посмотрел в лицо жены и долго не отводил глаз, а потом перевел взгляд на Равных:
– Кто из вас, друзья и товарищи, поручится за моего сына и внесет в список граждан перед эфорами?
Никто не смотрел на него. Их собрат по оружию принес страшную клятву. Если поклянутся и они в поддержку его клятвопреступления, не замараются ли и они тоже?
– Пусть поручительство за ребенка будет моей привилегией, – проговорил Медон.– Мы представим его эфорам завтра. Согласно желанию госпожи, имя его будет Идотихид, как звали ее брата.
Петух смотрел на собравшихся с бессильной яростью.
– Тогда все улажено,– сказала Арета.– Ребенок будет воспитываться его матерью в стенах дома моего мужа. В возрасте семи лет его отдадут в воспитание как
мофакса, и он будет обучаться, как все другие отпрыски граждан. Если он проявит достойную доблесть и дисциплину, то, когда повзрослеет, будет посвящен и займет свое место воина-защитника Лакедемона.
– Да будет так,– согласился Медон. Другие члены
сисситии, хотя и неохотно, тоже согласились.
Но дело еще не кончилось.
– А вот этот,– сказал Полиник, указывая на Петуха, этот умрет.
Бойцы
криптеи поставили Петуха на ноги. Никто из Равных не поднял руки в его защиту. Убийцы поволокли пленника в темноту. Через пять минут он умрет. И его тело никогда не найдут.
– Можно сказать?
Это был голос Александра. Он все же решил помешать палачам.
– Можно мне обратиться к Равным
сисситии? Медон, как старший, кивнул.
Александр указал на Петуха:
– Есть другой способ разделаться с изменником, и этот способ, я думаю, может принести городу большую пользу, чем поспешная казнь. Подумайте: многие илоты чтят этого человека. Такая смерть сделает его в их глазах мучеником. Тех, кто звал его другом, возможно, казнь и устрашит – на какое-то время, но потом, на поле боя против персов, их гнев может найти другой выход. Они могут предать нас в минуту опасности или причинить вред нашим воинам, когда те окажутся наиболее уязвимы.
Полиник злобно прервал его:
– Зачем ты защищаешь этого мерзавца, сын Олимпия?
– Он мне никто,– ответил Александр.– Ты знаешь: он презирает меня и считает себя храбрее меня. И в этом он, несомненно, прав.
Равных смутила эта искренность, столь открыто выраженная молодым человеком. Александр продолжил:
– Вот что я предлагаю: пусть этот илот живет, но пусть уйдет к персам. Отведите его к границе и отпустите. Ничто не может устроить его больше в его бунтарских помыслах – он с радостью ухватится за возможность навредить тем, кого ненавидит. Враг примет беглого раба. Он сообщит им ценные сведения, какие захочет, о спартанцах, а они смогут даже вооружить его и позволить пойти под своими: знаменами против нас. Но что бы он ни сказал, это не может повредить нашему делу, так как среди придворных Ксеркса уже находится Демарат, а кто может больше рассказать о лакедемонянах, чем их собственный бывший царь? Изгнание этого юноши не причинит нам вреда, но выполнит нечто неоценимое: не даст его товарищам среди нас считать его мучеником и героем. Они увидят его таким, какой он есть,– неблагодарным илотом, которому дали шанс надеть алый плащ Лакедемона, а он из заносчивости и тщеславия отверг представившуюся возможность. Отпусти его, Полиник, и обещаю: если боги даруют этому негодяю встретиться с нами на поле боя, тебе не придется убивать его, потому что я сам это сделаю.
Александр закончил и отступил назад. Я взглянул на Олимпия – его глаза блестели гордостью за то, что сын так сжато и выразительно сформулировал свое предложение.
Полемарх обратился к Полинику:
– Проследи за этим.
Криптеи поволокли Петуха прочь.
Медон закрыл собрание, велев Равным разойтись по своим домам и жилищам и не разглашать ничего из происшедшего здесь до завтра, пока в должный час они не предстанут перед эфорами. Он сурово упрекнул госпожу Арету, сказав казав, что этим вечером она сильно испытывала терпение богов. У Ареты тряслись руки и ноги, как это бывает у воинов после битвы, и она без возражений приняла упрек старейшины. Когда госпожа повернулась, чтобы идти домой, колени у нее подогнулись. Она покачнулась, теряя сознание, и стоявшему рядом мужу пришлось подхватить ее.
Диэнек обернул жене плечи своим плащом. Я видел, как он заботился о ней, пока она силилась вернуть себе самообладание. Часть его души все еще горела гневом за то, что жена вынудила его сделать этим вечером. Но другая часть преклонялась перед ней за ее сострадание и отвагу – и даже, если подобное слово здесь уместно, за ее воинское искусство.
Подняв глаза, госпожа увидела, что муж смотрит на нее, и улыбнулась ему в ответ.
– Какие бы подвиги ты ни совершил в прошлом или в будущем, муж мой, ничто не превзойдет того, что ты совершил сегодня.
Диэнек, казалось, не был до конца убежден в этом. – Надеюсь,– сказал он.
Равные уже разошлись, оставив под дубами Диэнека с младенцем на руках. Спартиат уже собрался вернуть его матери.
– Дай-ка взглянуть на этот сверточек,– проговорил Медон.
В свете звезд старейшина подошел к моему хозяину, взял ребенка и осторожно передал его Гармонии. Медон испытал маленького человечка, протянув ему покрытый рубцами палец, который мальчик обхватил своим сильным кулачком и с веселым задором дернул. Старейшина одобрительно кивнул. Он погладил малыша по головке, а потом удовлетворенно повернулся к госпоже Арете и ее мужу:
– Теперь у тебя есть сын, Диэнек. Теперь тебя можно выбрать.
Мой хозяин вопрошающе посмотрел на старейшину, не понимая.
– В число Трехсот,– сказал Медон: – Для Фермопил.
КНИГА ПЯТАЯ
ПОЛИНИК
Глава восемнадцатая
Великий Царь с великим интересом прочел эти слова грека Ксеона, которые я, Его историк, представил Ему в переписанном виде. К этому времени персидское войско продвинулось глубоко в Аттику и встало лагерем у перекрестка, который эллины называют Три Дороги, в двух часах ходьбы от Афин. 3десь Великий Царь принес жертву богу Ахуре Мазде и раздал награды за отвагу наиболее отличившимся воинам в войске Державы. Несколько дней уже Великий Царь не вызывал пред Свои очи пленника Ксеона, чтобы лично слушать продолжение его рассказа, так поглощен был Он мириадами дел наступающего войска и флота. И все же Великий Царь не упускал возможности в Свои свободные часы следить за повествованием, которое Его историк ежедневно представлял Ему.
В предыдущие несколько ночей Великий Царь чувствовал Себя не очень хорошо. Его сон был тревожен, и к Нему вызывали Царского лекаря. Отдохновение Великого Царя нарушали странные сны, содержанием которых Он не делился ни с кем, кроме магов и круга самых доверенных Своих советников: полководца Гидарна, начальника Бессмертных и победителя при Фермопилах; Мардония, командующего сухопутными войсками Великого Царя; Демарата, изгнанного спартанского царя, а ныне почетного гостя; и воительницы Артемизии, царицы Галикарнаса, чью мудрость в советах Великий Царь ценил выше всех остальных.
3лой дух этих тревожных снов, признался Великий Царь, появлялся в виде Его собственных угрызений совести за надругательство над телом царя Леонида после победы при Фермопилах.
Полководец Мардоний умолял Великого Царя вспомнить, что Он тщательно соблюл все священные ритуалы, предписанные для умилостивления неотвязных духов кровной вины, если таковые были вовлечены в событие. Разве Великий Царь не приказал казнить всех приближенных, участвовавших в этом деле, включая Своего собственного сына, принца Реодона? Что же еще? И тем не менее, несмотря на все это, объявил Великий Царь, царский сон остается беспокойным и нездоровым. Великий Царь задумчивым тоном выразил предположение, что Он, возможно в вызванных трансом видениях, мог Сам лично познакомиться с тенью этого человека, Леонида, и разделить с ним чашу вина.
Последовало молчание немалой продолжительности.
– Это лихорадка,– наконец осмелился выговорить начальник Гидарн,– она притупила остроту мыслей Великого Царя и ставит под угрозу их проницательность. Я умоляю Великого Царя не говорить больше таким образом.
– Да, да, ты прав, мой друг,– ответил Великий Царь. Ты прав, как всегда.
Военачальники искусно перевели внимание Царя на военные и дипломатические материи. Были представлены доклады. Передовые части персидской пехоты и конницы общей численностью в пятьдесят тысяч вошли в Афины и овладели городом. Афинское население в полном составе покинуло город, взяв с собой лишь то, что могло унести с собой, и бежало через пролив в Трезен и на остров Саламин, где теперь и пребывает в положении беженцев, ютясь вокруг костров на склонах холмов и оплакивая свою судьбу.
Сам город не оказал никакого сопротивления. Разве что небольшая шайка фанатиков заняла Верхний Город, Акрополь, вокруг которого в древние времена был выстроен деревянный частокол. Эти отчаянные защитники укрепились в том месте, будто бы вверив свою судьбу оракулу Аполлона, который несколькими неделями ранее возвестил: «Только деревянная стена не подведет вас».
Лучники Великого Царя легко уничтожили этих жалких вояк, перестреляв всех издалека. С пророчеством покончено, объявил Мардоний. В Афинском Акрополе теперь горят лагерные костры Державы. 3автра Великий Царь Сам въедет в город. Было решено: все храмы и святилища эллинских богов срыть, а город сжечь. Один из начальников разведки доложил, что дым и пламя будут видны через пролив афинскому населению, съёжившемуся от страха на козьих пастбищах острова Саламин.
– У них будут места в первом ряду,– с улыбкой сказал молодой военачальник,– чтобы посмотреть, как исчезает их вселенная.
Час был уже поздний, и Великий Царь проявил признаки усталости. Наблюдающий маг предположил, что вечернюю аудиенцию можно благополучно завершить. Все встали с лож, простерлись пред Великим Царем и вышли, задержались лишь Мардоний и Артемизия, которым Великий Царь сделал еле заметный знак остаться. Он также дал понять что Его историк будет присутствовать тоже, чтобы вести записи. Очевидно, что-то нарушало спокойствие Великого Царя.
Теперь, оставшись в Своем шатре наедине с двумя ближайшими наперсниками, Он заговорил о своем сновидении:
– Я был на поле боя, которое словно простиралось до бесконечности, и повсюду, насколько хватало глаз, лежали тела убитых. Воздух наполняли победные крики; воины и военачальники похвалялись в торжестве своем. И вдруг я заметил тело Леонида, обезглавленное, и голова его торчала на пике, как мы сделали при Фермопилах, а само тело было прибито, как трофей, к одинокому засохшему дереву посреди. равнины. И меня охватили печаль и стыд. Я бросился к дереву, крича слугам моим, чтобы они сняли спартанца. Во сне казалось, что, если только я приставлю голову царя обратно к телу, все будет хорошо. Он оживет и даже подружится со мной; чего я так желал. Я подошел к пике, на которой возвышалась отрубленная голова…
– И голова оказалась собственной головой Великого Царя,– вмешалась Артемизия.
– Неужели мой сон так ясен?,– удивился Великий Царь.
– Он бессмыслен и не означает ничего,– страстно воскликнула воительница и продолжила говорить о сновидении в намеренно легкомысленном тоне, чтобы поскорее убедить Великого Царя выбросить его из головы: – Он означает лишь, что Великий Царь, будучи царем, познал смертность всех царей, в том числе и Себя. Это мудрость, как выразился Сам Великий Кир, когда сохранил жизнь Крезу Лидийскому.
Великий Царь задумался над словами Артемизии. Ему хотелось, чтобы они убедили Его, но, очевидно, им совсем не удалось успокоить Его тревогу.
– Победа осталась за тобой, Великий Царь, и ничто не может отобрать ее у тебя,– заговорил полководец Мардоний.– 3автра мы сожжем Афины – и таким образом достигнем той цели, к которой шел Твой отец Дарий. Разве не это было и Твоей целью? Разве не ради этого Ты собрал великое войско и флот, так долго трудился и сражался и преодолел столько препятствий? Радуйся, Владыка! Вся Греция лежит простершись ниц пред Тобой! Ты разбил спартанцев и убил их царя. Афинян Ты гнал перед собой, как скот, заставив их покинуть храмы своих богов и все свои земли и имущество. Ты торжествуешь, Владыка, наступив подошвой Своей туфли на горло Греции.
Так полна победа Великого Царя, объявил Мардоний, что Царственной Особе не следует ни на час задерживаться в этих нечестивых пределах на краю земли.
– Оставь эту грязную землю мне, Великий Царь, а сам садись на корабль и отправляйся в Сузы – завтра же! Насладись преклонением, выслушай хвалу за Свои подвиги, удели внимание более насущным делам Державы, которыми из-за этой возни в Элладе Ты слишком долго пренебрегал. Я покончу с этим за Тебя. Все, что делают Твои войска Твоим именем, делается Тобой…
– А как же Пелопоннес? – вмешалась Артемизия, напоминая про полуостров на юге Греции, который один из всей страны остался непокоренным.– Что ты сделаешь с ним, Мардоний?
– Пелопоннес – это козье пастбище,– ответил полководец. – Пустыня, покрытая камнями и овечьим навозом, где нет ни богатств, ни добычи, ни одного порта с гаванью больше, чем на дюжину мусорных барж. Пелопоннес – это ничто, и там нет ничего нужного для Великого Царя.
– Кроме Спарты.
– Спарты? – высокомерно и не без раздражения ответил Мардоний.– Спарта – это деревня. Все это вонючее местечко уместится в саду для прогулок Великого Царя в Персеполисе, и еще останется место. Это просто кучка камней. Там нет ни храмов, ни сколько-нибудь значительных сокровищ, ни золота – это набитый луком хлев, а почва там такая тощая, что плодородный слой можно продавить ногой.
– Но там есть спартанцы,– сказала госпожа Артемизия.
– Которых мы разбили,– ответил Мардоний,– их повелителя убили воины Великого Царя.
– Мы убили их три сотни,– возразила Артемизия, и для этого нам потребовалось два миллиона воинов.
Эти слова разожгли такую ярость в Мардонии, что казалось, он сейчас вскочит со своего ложа и сцепится с Артемизией.
– Друзья мои; друзья мои! – Умиротворяющий. тон Великого Царя заставил их подавить кратковременную вспышку.– Мы здесь, чтобы держать совет, а не скандалить друг с другом, как дети.
Но в госпоже еще не улегся пыл:
– Что у тебя меж ног, Мардоний? Репа? Ты говоришь, какчеловек, у которого яйца с горошину.
Она обращалась напрямую к Мардонию, сдерживая злобу и выговаривая слова ясно и отчетливо:
– Воины Великого Царя еще даже толком не видели спартанского войска, не говоря уж о том, чтобы разгромить его или хотя бы столкнуться с ним. Их силы на Пелопоннесе остаются нетронутыми и, несомненно, пребывают в полной готовности. Им не терпится вступить в бой! Да, мы убили спартанского царя. Но у них, как ты сам знаешь, два царя, и теперь правят Леотихид и сын Леонида, малолетний Плистарх. Его дядя и регент Павсаний, который возглавит войско, я знаю, ни на йоту не уступит Леониду ни в мужестве, ни в дальновидности. Так что потеря царя ничего для спартанцев не значит, она только укрепила их решимость и вдохновила на еще большие чудеса доблести. Любому теперь хочется превзойти его славой. А теперь подумай об их числе. Одни полноправные спартиаты составят восемь тысяч гоплитов. Добавь благородных мужей и периэков – и число увеличится впятеро. Вооружи их илотов – а они определенно сделают это! – и сумма увеличится еще на сорок тысяч. К этому вареву добавь коринфян, тегейцев, элейцев, мантинейцев, платейцев, мегарцев и аргосцев, которые тоже вступят в союз, если еще не сделали этого, не говоря уж об афинянах,которых мы приперли к стене и чьи сердца горят бесстрашием отчаяния.
– Афиняне – это зола,– прервал ее Мардоний,– в которую превратится их город еще до восхода солнца. Великий Царь, похоже, раздвоился, разрываясь между благоразумием Своего полководца и страстью воительницы. Он обратился к Артемизии:
– Скажи мне, царица, прав ли Мардоний? Следует ли мне воссесть на подушки и отплыть домой?
– Ничто не может сравниться с таким позором, Великий Царь,– без колебаний ответила госпожа,– и ничто более не умалит твоего величия.
Она вскочила на ноги и теперь говорила, расхаживая перед Великим Царем под изогнутым полотном его шатра.
– Мардоний перечислил названия эллинских городов, изъявивших свою покорность, и их, я признаю, не так мало. Но цвет Эллады остался не ощипан. Мы едва расквасили нос спартанцам, а афиняне, хотя мы и выгнали их с их земель, все еще остаются полисом, и полисом грозным. Их флот, самый великий и не знающий себе равных в Элладе, составляют двести боевых кораблей, и на каждом – первоклассный экипаж из афинских граждан. Они могут перевезти афинян в любую точку мира, где те сумеют оставаться той же могучей угрозой Великому Царю, как прежде. Мы не истощили их живую силу. Их гоплиты остаются нетронутыми, их предводители пользуются уважением и поддержкой в городе. Мы обманываем себя, недооценивая этих воинов. Великий Царь может не знать их, но я-то знаю! Фемистокл, Аристид, Ксантипп, сын Арифона, – они уже доказали свое величие, но горят желанием заслужить еще большее. Что касается бедности Греции, о которой говорил Мардоний, тут я не могу ему возразить. На этих неплодородных берегах нет ни золота, ни драгоценностей, ни богатых земель, ни тучных стад. Но разве мы пришли для того, чтобы грабить? Разве для этого Великий Царь собрал и привел войско, величайшее из всех, какие видел свет? Нет! Великий Царь пришел поставить этих греков на колени, заставить их предложить ему землю и воду, а последние непокорные города отказались сделать это! И по-прежнему отказываются. Выбрось из головы Твой сан, Великий Царь. Он вызван усталостью. Это ложный. сон, иллюзия. Пусть греки опускаются до суеверий, а мы должны быть воинами и полководцами, мы должны пользоваться оракулами и предзнаменованиями, когда они отвечают нашим целям, и отвергать их во всех остальных случаях. Подумай о предсказании, полученном спартанцами, предсказании, которое знает вся Эллада! Вся Эллада! знает, что о нем известно нам. «Или Спарта потеряет в битве царя, а такой беды со спартанцами, не случалось шестьсот лет, или падет сам город». Что ж, они потеряли своего царя. И что заключат из этого их прорицатели, Великий Царь? Ясно, что город не падет. Если теперь ты уйдешь, Владыка, греки скажут, что ты испугался сна и оракула.
Она выпрямилась перед Великим Царем и обратила свои слова непосредственно к Нему:
– Вопреки тому, что говорит наш друг Мардоний, Великий Царь еще не объявил о своей победе. Она висит перед Ним, как спелый плод, ждущий, чтобы его сорвали. Если теперь Великий Царь отправится отдыхать в роскошь дворцов и предоставит сорвать этот плод кому-то другому – даже тому, кому Он оказывает всяческое благоволение,– слава победы Его Величества поблекнет и будет запятнана. Победу нельзя просто объявить, ее надо одержать. И одержать ее нужно лично, если мне позволено так выразиться. Тогда, и только тогда, Великий Царь сможет с почетом сесть на корабль и вернуться домой.
Царица-воительница закончила и снова возлегла на свое ложе. Мардоний ничего не возразил. Великий Царь переводил взгляд с одного на другую.
– Похоже, мои женщины стали мужчинами, а мужчины – женщинами.
Великий Царь проговорил это без злобы и без неодобрения. Он простер Свою десницу и с чувством положил ее на плечо Своего друга и родственника Мардония, словно убеждая полководца, что Его доверие к нему остается прежним и неколебимым.
Потом Великий Царь величественно выпрямился.
– 3автра,– провозгласил Он,– мы сожжем до основания Афины, а после этого пойдем на Пелопоннес, чтобы не оставить камня на камне в Спарте. Мы не остановимся, пока не перемелем их в пыль – навсегда.
Глава девятнадцатая
В ту ночь Великий Царь не спал. Он приказал привести к нему грека Ксеона, намереваясь, несмотря на поздний час, лично допросить этого человека. Ему требовались новые сведения о спартанцах, которые теперь даже больше, чем афиняне, стали источником волнения Великого Царя и не выходили у Него из ума. Воительница Артемизия вместе с Мардонием была отпущена и в настоящий момент готовилась к отбытию, но, услышав приказания Великого Царя, она вернулась и обеспокоено заговорила:
– Государь, прошу – ради войска и тех, кто любит тебя,– умоляю поберечь Свою Царственную Особу! Хоть и божествен может быть Твой дух, но он содержится в бренном сосуде. Поспи. Не мучь себя этими заботами, которые в действительности не более чем призраки.
Полководец Мардоний страстно поддержал эти слова:
– 3ачем огорчать себя, Владыка, рассказом раба? Что может дать история про неприметных военачальников и их домашние распри для решающих событий, возложенных теперь на нас? Не беспокойся больше об этиххитросплетениях дикаря, который ненавидит Тебя и Персию всеми фибрами своего существа! Все равно вся его история – ложь. Таково, по крайней мере, мое мнение.
Великий Царь улыбнулся этим словам Своего полководца.
– Напротив, друг мой, я верю, что рассказ этого человека правдив во всех отношениях и, хотя ты, возможно, еще не признаешь этого, имеет теснейшую связь с вопросами, с которыми мы теперь столкнулись.
Великий Царь указал на Свой походный трон, стоявший, озаряемый светильниками, под сводом шатра.
– Ты видишь это кресло, друг мой? Ни один смертный не может быть более одинок и более оторван от всех, чем Тот, кто сидит на нем. Ты не можешь понять этого, Мардоний. И никто не может – из тех, кто не сидел там. Подумай: кому из приходящих к Нему царь может довериться? Кто входит к Нему без какого-то тайного желания, страсти, печали или требования, которые он скрывает со всей хитростью и коварством? Кто скажет перед Царем правду? Люди обращаются к Нему или в страхе за то, что Он может отнять, или в жадности к тому, что Он может пожаловать. Никто не приходит к Нему, кроме просителей. О том, что у Него на сердце, льстец не скажет вслух, но скроет это под плащом лицемерия. Каждый голос клянется в верности, каждое сердце выказывает любовь, и Царственный Слушатель должен все прощупывать и пробовать на зуб, как торговец на базаре, выискивая тончайшие признаки предательства и обмана. Как оно утомляет! Собственные царские жены шепчут ему нежные слова в темноте Его спальни. А любят ли они Его? Откуда Ему знать это, когда он видит, как истинную страсть они тратят на заговоры и интриги в пользу своих детей или в каких-то собственных тайных целях. Никто не говорит Царю всей правды, даже Его собственный брат – и даже ты, мой друг и родственник.
Мардоний поспешил опровергнуть это, но Великий Царь с улыбкой прервал его:
– Из всех, кто приходит ко мне, лишь один человек, я полагаю, говорит без какого-либо желания извлечь из этого выгоду. Это тот грек. Ты не понимаешь его, Мардоний. Его сердце жаждет лишь одного: воссоединиться с братьями по оружию в подземном царстве. Даже его страсть рассказать свою историю вторична: это обязанность, возложенная на него одним из его богов, и она для него – бремя и проклятие. Ему ничего не нужно от меня. Нет, друг мой, слова грека не огорчают и не беспокоят меня. Для меня они радость. Отдохновение.
Встав, Великий Царь двинулся мимо стоящих на страже Бессмертных, чтобы посмотреть на горящиё снаружи костры.
– Хочу взглянуть на перепутье, где мы сейчас встали лагерем, на это место, которое эллины называют Тремя Дорогами. Для нас оно ничто – просто грязь под ногами. И тем не менее разве этот жалкий пятачок не несет в себе смысла и даже очарования, если вспомнить рассказ пленника о том, как он ребенком расстался здесь с девушкой Диомахой, своей двоюродной сестрой, которую так любил?
Артемизия переглянулась с Мардонием.
– Великий Царь поддался чувствительности,– обратилась к Царю госпожа,– это лишено смысла.
В это мгновение занавес у входа в шатер распахнулся, и страж испросил позволения войти. Внесли грека, по-прежнему на носилках, с завязанными глазами. Впереди шагали двое Бессмертных, подчиненных Оронта, а сзади шел он сам.
– Дай нам посмотреть на лицо этого человека,– велел Великий Царь,– и пусть его глаза посмотрят в наши.
Оронт повиновался. Повязку сняли.
Пленник Ксеон несколько раз моргнул в свете ламп и впервые взглянул на Великого Царя. И таким поразительным было выражение на лице этого человека, что Оронт гневно прикрикнул на пленника и потребовал ответить, какая наглость обуяла его, что он позволяет себе столь дерзко взирать на Царственную Особу.
– Я и раньше смотрел на лицо Великого Царя,– ответил грек.
– Поверх битвы, как и все враги.
– Нет, военачальник. 3десь, в его шатре. В ночь пятого дня.
– Ты лжешь! – гневно вскричал Оронт. Потому что в предпоследний день сражения при Горячих Воротах в самом деле была допущена оплошность, на которую ссылался пленник: тогда в результате ночного рейда горстка спартанских воинов оказалась на расстоянии броска копья от Царственного Присутствия, пока сбежавшиеся на защиту Великого Царя Бессмертные и египетская пехота не отогнали их прочь.
– Я был здесь,– спокойно проговорил грек,– и мой череп был бы расколот пополам топором, что метнул в меня какой-то вельможа, если бы он не попал в стойку шатра и не застрял там.
При этих словах вся кровь отхлынула от лица Мардония. У западного входа в шатер, именно там, где прорвались спартанцы, до сих пор торчал топор, засевший так глубоко в кедровой древесине, что его было не вытащить, не расколов шест, и потому плотники оставили топор на месте. Они только отпилили топорище, а шест укрепили и обвязали веревкой.
Взгляд эллина уставился прямо на Мардония.
– Топор метнул этот господин. Его я тоже помню.
Лицо полководца на мгновение омертвело, выдав правдивость сказанных слов.
– Его меч,– продолжал грек,– перерубил запястье одного спартанского воина, замахнувшегося копьем, чтобы, метнуть его в Великого Царя.
Великий Царь спросил Мардония, действительно ли это правда. Полководец подтвердил, что в самом деле нанес такую рану нападавшему спартанцу, одному среди множества других.
– Тем воином,– сказал Ксеон,– был Александр, сын Олимпия, о котором я рассказывал.
– Тот мальчик, что отправился вслед спартанскому войску? Который переплыл залив перед Антирионом?
– Да, только уже взрослый,– подтвердил грек.– Воинами, что увели его из этого шатра, прикрывая своими щитами, были Полиник и мой хозяин Диэнек.
Все на какое-то время замолкли, усваивая услышанное. Потом Великий Царь проговорил:
– Они действительно были теми людьми, что проникли сюда, в этот шатер?
– Они и еще другие, Владыка. Как видел сам Великий Царь.
Полководец Мардоний не желал верить. Он впал в ярость. Он обвинил пленника во лжи, в том, что тот сочинил свою историю по обрывкам, которые он подслушал у обслуживавших его поваров и медиков. Пленник же почтительно, но страстно отверг обвинение.
Оронт, начальник стражи и подчиненный Мардония, объявил, что грек никак не мог узнать об этих событиях от поваров и медиков, согласно предположению полководца. Он, Оронт, лично следил за изоляцией пленника. Никому, даже людям из продовольственной службы и подчиненным Царского лекаря, не позволялось находиться наедине с этим человеком, пусть даже одно мгновение, без непосредственного надзора Бессмертных Великого Царя, а они, как всем известно, не имеют себе равных в скрупулезности и исполнительности.
– 3начит, он узнал эту историю по слухам в сражении,– настаивал Мардоний,– от спартанских бойцов, которые действительно прорвали охрану Великого Царя.
Все внимание теперь переметнулось на пленника Ксеона, которого совершенно не трогали все эти обвинения, что грозили ему смертью на месте: Он смотрел на Мардония ровным взором и обратился к нему без малейшего страха:
– Я мог бы узнать эти сведения, господин, именно так, как ты предполагаешь. Но как же я сумел опознать именно в тебе человека, метнувшего топор?
Великий Царь подошел к месту, где застрял топор, и кинжалом перерезал обмотанную веревку, чтобы рассмотреть оружие. На стали топора Великий Царь различил двухголового грифона – клеймо Эфеса. Этот корпус оружейников обладал привилегией снабжать клинками и копьями Мардония и его военачальников.
– А теперь скажи, что рука божества не имеет к этому отношения! – обратился Великий Царь к полководцу.
Великий Царь объявил, что Он и Его советники уже услышали много поучительного и неожиданного из рассказа пленника.
– А насколько больше мы еще можем узнать?
Радушным жестом Великий Царь велел придвинуть этого человека, Ксеона, поближе к Себе и позволить ему, все еще тяжело больному, прислониться к чему-нибудь.
– Пожалуйста, друг мой, продолжи свой рассказ. Рассказывай, как хочешь, в каком порядке велит тебе твой Бог.
Глава двадцатая
За последние девять лет я раз пятьдесят наблюдал, как войско строится на равнине под Афиной Медного Дома, готовясь к тому или иному походу. На этот раз войско, направляемое к Горячим Воротам, было самым незначительным из всех виденных мною. Не призыв двух третей, как перед Энофитой, когда около шести тысяч воинов, оруженосцев и вспомогательных войск заполнили равнину, не половинный призыв, четыре с половиной тысячи, как перед Ахиллеоном, даже не две
моры, почти две с половиной тысячи, когда Леонид вел войско на Антирион, а мы с Александром, еще мальчишками, отправились вслед.
Триста.
Ничтожное число, гремящее на равнине, как горошины в горшке. В авангарде вдоль дороги стояли всего три дюжины вьючных животных. Было всего восемь крытых возов, а стадо жертвенных животных гнали лишь двое мальчишек-пастушков. Обоз уже отправился в шестидневный путь. Ожидалось, что по пути спартанцев будут снабжать провизией союзные города, поскольку гонцы из Спарты собирали людей для пополнения войска, чтобы довести его общую численность до четырех тысяч.
На прощальном жертвоприношении, выполненном Леонидом как верховным жрецом, царила торжественная тишина. Ему прислуживали Олимпий и Мегистий – фиванский прорицатель, пришедший с сыном в Лакедемон по своей воле, ибо он любил не один лишь свой родной город, но всю Элладу. Он желал внести безвозмездный вклад в общую победу своим искусством прорицания.
Все войско, все двенадцать подразделений, без оружия из-за карнейского запрета, но в своих алых плащах, вышли посмотреть, как Триста отправятся в поход. До окончания жертвоприношения каждый воин из Трехсот стоял с венком на голове, с
ксифосом и щитом, в алом плаще на плечах, а оруженосец рядом держал копье. Как я уже сказал, был месяц карней – новый год по греческому календарю начинается в середине лета. Каждый мужчина должен был получить на год новый плащ вместо потертого старого, изношенного за четыре сезона. Но Леонид приказал для Трехсот отменить выдачу. Он сказал, что для города слишком расточительно снабжать новой одеждой людей, которые проносят ее лишь краткий срок.
Как и предсказывал Медон, Диэнек попал в число Трехсот. И сам Медон тоже. В свои пятьдесят шесть он оказался четвертым по возрасту – после самого Леонида, которому уже перевалило за шестьдесят, Олимпия и предсказателя Мегистия. Диэнека поставили во главе эномотии из
лоха Геракла. Так же были избраны олимпийские победители – братья Алфей и Марон. Они должны были войти в
эномотию, представлявшую мору Олеастера, из
лоха Дикой Оливы, которая становилась справа от Всадников, в середине строя. Они сражались как
диасы, это была пара из пентатиета и борца, которая возвышалась над полем битвы несокрушимой башней. Их включение в число Трехсот очень воодушевило всех. Попал в избранники и посол Аристодем. Но самым неожиданным и нелогичным было включение в войско Александра.
Двадцатилетний, он оказался самым молодым рядовым воином и одним из дюжины, включая Аристона, его товарища по
агоге (тоже из «переломанных носов» Полиника), кто не имел боевого опыта. В Лакедемоне есть поговорка: «Тростник за дубиной». Она означает, что цепь становится крепче, если в ней имеется ненадежное звено. Как уязвимое сухожилие, которое заставляет борца удваивать ловкость и хитрость, как врожденное пришепетывание, которое заставляет оратора до блеска оттачивать речь. Эти Триста, чувствовал Леонид, будут сражаться лучше всего не как толпа отдельных победителей, а как миниатюрное войско, состоящее из молодых и старых, зеленых и зрелых. Александру надлежало поступить в
эномотию из
лоха Геракла под начало Диэнека. Ему и его ментору предстояло сражаться как
диасы.
Олимпий и Александр оказались единственными отцом и сыном в числе Трехсот. Продолжать род оставался маленький сын Александра, также названный Олимпием. Было мучительно смотреть на девятнадцатилетнюю Агату, молодую жену Александра, когда она стояла на Выходной улице с младенцем на руках. Мать Александра Паралея, которая столь мастерски допрашивала меня после Антериона, была рядом с девушкой под сенью той самой миртовой рощи, из которой Александр и я в ту ночь, несколько лет назад, отправились вслед за войском.
Слова прощания говорились на ходу, когда строй торжественно маршировал мимо нагромождения камней, называемого Крепостью, рядом с гробницей героев Лелекса и Амфиарея, к повороту дороги у Беговой дорожки, над которой группками собрались мальчишки у Аксиопена, храма Афины Справедливо Мстящей, Афины Око-за-Око. Я смотрел, как Полиник прощается со своими тремя парнями,старшие, одиннадцатилетний и девятилетний, уже ходили в
агоге. Они выпрямились в своих черных плащах с печальным достоинством; каждый дал бы отрубить себе правую руку за возможность пойти сейчас с отцом.
Диэнек остановился перед Аретой на обочине дороги, прилегающей к Эллениону, чьи портики стояли разукрашенные лавром с желто-голубыми лентами в честь Карнеи; она держала на руках мальчика – сына Петуха, названного Идотихидом. Мой хозяин обнял по очереди всех своих дочерей. Двух младших он взял на руки и поцеловал, а Арету обнял и прижался щекой к ее шее, чтобы в последний раз ощутить запах ее волос.
3а два дня до этого трогательного момента госпожа тайно вызвала меня, как всегда перед походом. Есть такой спартанский обычай: на неделе перед отправлением в поход Равные проводят один день не в учениях или подготовке, а отдыхая в клерах, в своих сельских поместьях. По законам Ликурга каждый спартанец имеет поместье, с которого получает продукты, чтобы обеспечивать себе и своей семье существование, достойное гражданина и Равного. Эти «дни в поместье», как их обычно называют, составляют местную традицию, происходящую, надо полагать, из естественного желания воина перед битвой вновь посетить места счастливых дней своего детства и в некотором смысле попрощаться с ними. Есть также более практическая цель (по крайней мере, была в прежние дни) – лично собрать снаряжение и провизию из хранилищ своего клера. День в поместьё – это праздник и один из редких случаев, когда Равный и те, кто работает на его земле, могут по-товарищески собраться вместе и с беспечным сердцем набить животы. Как бы то ни было, туда мы и направились за несколько дней до выступления к Горячим Воротам – в поместье под названием Дафнион.
В поместье трудились две семьи мессенианских илотов, всего двадцать три человека, включая двух бабушек-близнецов, настолько старых, что они и имена свои путали. Моя жена и дети тоже работали в поместье.
Обильно накрытые столы стояли в саду под деревьями. Гостям, владельцам соседних поместий, и илотам, работающим на земле хозяина, прислуживали сам Диэнек и госпожа Арета с дочерьми. Раздавались подарки, улаживались старые споры. Молодежь клера спрашивала у Диэнека разрешения на свадьбы.
К тому времени, когда праздник был окончен и все насытились и утолили жажду, у ног Диэнека лежало больше фруктов, амфор с вином, караваев хлеба и головок сыра, чем ему понадобилось бы в сотне битв. Поблагодарив собравшихся, Диэнек уединился со старейшинами работников поместья, чтобы решить оставшиеся в клере дела перед выступлением в поход.
Пока мужчины обсуждали свои проблемы, госпожа Арета сделала мне знак присоединиться к ней. Мы уединились на кухне поместья. Это было уютное место, согреваемое заходящим светилом. Через открытую дверь был виден освещенный лучами солнца двор.
Малыш Идотихид, сын Петуха, играл во дворе с двумя другими голыми малышами, среди которых был и мой сын Скамандрид. На мгновение глаза госпожи – мне показалось, с печалью – остановились на неугомонной ребятне.
– Боги на шаг опережают нас, не правда ли, Ксео?
Впервые я услышал из ее уст намек на подтверждение того, о чем ни у кого не хватало мужества спросить ее: действительно ли госпожа не предвидела всех последствий своего поступка в ту ночь, когда спасла жизнь ребенку?
Как всегда, госпожа выложила предметы из походного набора мужа, которые должна обеспечить жена: медицинские принадлежности, завернутые в толстую воловью шкуру, которая, сложенная вдвое, накладывается на перелом или привязывается прямо к телу, как затычка на рану. Три кривые иглы из египетского золота, которые спартанцы зовут «рыболовными крючками», с катушкой скрученных хирургических ниток и стальной ланцет, чтобы заниматься портновским искусством на живом теле. Компрессы из беленого полотна, кожаные жгуты, медные зажимы, остро отточенные пинцеты, чтобы удалять наконечники стрел или, чаще, осколки и обломки, которые летят во все стороны при ударе сталью по железу или железом по бронзе.
Потом деньги. Эгинские оболы – воинам запрещалось брать какие-либо деньги, но, чудесным образом обнаруженные в мешке оруженосца, они могли очень пригодиться на попутном рынке и у воза маркитанта, чтобы купить что-нибудь забытое из необходимого или какое-либо средство для поднятия духа.
И наконец, кое-что сугубо личное – памятные вещицы и амулеты, предметы суеверий, тайные талисманы любви. Детская фигурка из цветного воска, ленточка из волос дочери, янтарный амулет, вырезанный неумелой детской рукой. Госпожа вверила мне мешочек сластей и безделушек, кунжутные лепешки и сушеные фиги.
– Можешь украсть свою долю,– с улыбкой сказала она,– но оставь что-нибудь и моему мужу.
Мне всегда что-нибудь доставалось. На этот раз – мешочек афинских монет, всего двадцать тетрадрахм, почти трехмесячный заработок искусного гребца или гоплита в афинском войске. Меня удивило, что у госпожи нашлась такая сумма, и ошеломила столь необычная щедрость. Эти «совы», как их звали за изображение на лицевой стороне, имели хождение только в Афинах и больше нигде в Греции.
– Когда ты сопровождал моего мужа в посольстве в Афины в прошлом месяце,– нарушила госпожа молчание,– нашел ли ты возможность зайти к своей двоюродной сестре? Диомаха. Ведь так ее зовут?
Я заходил к ней, и госпожа знала это. Мое давнее желание наконец исполнилось. Диэнек сам послал меня с этим заданием. Теперь я уловил намек на то, что и госпожа приложила к этому руку. Я прямо спросил, не она ли, госпожа Арета, все это устроила.
– Нам, лакедемонским женам, запрещено носить богатые платья и драгоценности, красить лица. И было бы совершенно бессердечно, не правда ли, запретить нам вдобавок эти маленькие невинные интриги?
Она улыбнулась, ожидая моего ответа.
– Ну? – спросила она.
– Вы о чем?
3а забором поместья моя жена Ферея сплетничала с другими местными женщинами. Я поежился..
– Моя двоюродная сестра – замужняя женщина, госпожа. А сам я женат.
В глазах госпожи сверкнули озорные искорки.
– Ты бы оказался отнюдь не первым мужем, привязанным любовными узами к кому-то еще, кроме собственной жены. А она – не стала бы первой такой женой.
Внезапно шутливость ушла из ее глаз. Лицо госпожи стало серьезным, и на него опустилась как будто тень печали.
– Такую же шутку боги сыграли с моим мужем и мной.– Она встала.– Пошли, прогуляемся.
Госпожа босиком поднялась по склону в тенистый уголок под дубами. В какой стране, кроме Лакедемона, подошвы знатной дамы так грубы и мозолисты, что могут ступать по дубовым листьям, не чувствуя их жестких колючек?
– Тебе известно, Ксео, что до того, как выйти за нынешнего мужа, я была женой его брата.
Да, я знал это – от самого Диэнека.
– Его звали Ятрокл. Я знаю, ты слышал эту историю. Он погиб при Пеллене, пал смертью храбрых в возрасте тридцати одного года. Это был благороднейший человек, Всадник и победитель на Олимпийских играх: Боги одарили его доблестью и красотой – так же как Полиника. Ятрокл добивался меня страстно, с таким напором, что звал меня из отцовского дома, еще когда я была девочкой. Спартанцам известно все это. Но теперь я расскажу тебе кое-что, неизвестное никому, кроме моего мужа.
Госпожа подошла к низкому дубовому пню – естественной скамье в тенистой роще. Она села и сделала мне знак сесть рядом.
– Вон там,– сказала она, указывая на открытое место между двумя постройками и тропинку, ведущую к мёсту молотьбы.– Как раз там, где тропинка поворачивает, я впервые и увидела Диэнека. Это случилось в такой же день в поместье, как сегодня. По случаю первого похода Ятрокла. Ему было двадцать. Отец привел сюда из нашего
клера меня, моего брата и сестер с фруктами в подарок и с годовалой козочкой. Когда я пришла, держась за отцовскую руку, на этот бугорок, где мы сейчас сидим, вон там, как и сегодня, играли крестьянские дети.
Госпожа выпрямилась и взглянула мне в глаза, словно проверяя, что я слушаю со вниманием и пониманием.
– Диэнека я впервые увидела со спины. Лишь его голые плечи и затылок. И мгновенно поняла, что его, и только его, я буду любить всю свою жизнь.
Ее голос стал серьезным в почтении перед этой тайной, перед явлением Эроса и непостижимым велением сердца.
– Помню, как я ждала, когда он обернется, чтобы я могла увидеть его лицо. Это было так странно! В некотором роде это напоминало встречу с суженым, когда с трепещущим сердцем ждешь – каким окажется лицо, которое суждено полюбить. Наконец он повернулся. Он боролся с другим юношей. Даже тогда, Ксео, Диэнек был не очень красив. Не верилось, что он брат своего брата. Но в моих глазах он казался
эвдейдестатос, душой красоты. Боги не могли создать лицо более открытое, которое сильнее тронуло бы мое сердце. Ему тогда было тринадцать. Мне – девять.
Госпожа ненадолго умолкла, задумчиво глядя на то место, о котором говорила. Случай так и не представился, заявила она, и сквозь всю свою юность она пронесла мечту поговорить с Диэнеком наедине. Она часто следила за ним на беговых дорожках и на упражнениях в
агоге. Но никогда не делилась этим. Ни с кем. Девушка даже не представляла, знает ли он ее хоть по имени.
Однако она знала, что его брат выбрал ее и говорил об этом со старшими в ее семье.
– Я заплакала, когда отец сказал, что меня отдают за Ятрокла. Я кляла себя за свою бессердечность и неблагодарность. Чего еще может просить девушка, когда ее отдают за благородного доблестного мужа? Но я не могла совладать со своим сердцем. Я любила брата этого человека, брата этого прекрасного доблестного мужа. Когда Ятрокл погиб, я была безутешна. Но причина моего горя была не та, что думали все. Я боялась, что этой смертью боги ответили на эгоистичные молитвы моего сердца. Я ожидала, что Диэнек выберет для меня нового мужа, как велел ему закон, а когда он так и не сделал этого, я бесстыдно пошла к нему в пыльную палестру и сама вынудила его взять меня в жены. Мой муж принял мою любовь и ответил на нее всем сердцем над еще теплыми костями своего брата.
Счастье между нами, наш тайный восторг на брачном ложе были такими острыми, что сама эта любовь стала для нас проклятием. Я смогла искупить свою вину – это нетрудно для женщины, когда она чувствует, как внутри растет новая жизнь, посеянная мужем. Но когда родились наши дети и все оказались девочками, четыре дочери, а я потеряла способность к зачатию, я почувствовала, что это проклятие богов за нашу страсть. Мой муж чувствует это тоже.
Госпожа помолчала и снова взглянула на склон. Мальчишки, в том числе и мой сын и маленький Идотихид, выбежали со двора и теперь беззаботно играли прямо под тем местом, где мы сидели.
– А потом наступил день призыва для Фермопил. Наконец, подумалось мне, я постигла всю изощренность замысла богов. Моего мужа не могут призвать, потому что у него нет сына. Ему откажут в этой величайшей чести. Но в глубине сердца мне не было до этого дела. Существенно было лишь одно – что он останется жить. Возможно, всего лишь еще одну неделю или месяц – до следующей битвы.
Но все же останется жить. Я буду по-прежнему с ним. Он по-прежнему будет мой.
Теперь сам Диэнек, закончив свои дела в доме, появился на площадке внизу. Веселясь, он присоединился к резвящимся ребятишкам, которые уже подчинялись своим врожденным воинственным инстинктам.
– Боги заставляют нас любить не тех, кого должно, заключила госпожа,– и мстят тем, кого любим. Они убивают тех, кто должен жить, и спасают тех, кто должен умереть. Они одной рукой дают, а другой отнимают, ответственные только перед своими непостижимыми законами.
3аметив смотрящую на него сверху Арету, Диэнек поднял маленького Идотихида и заставил его помахать ручкой. Арета махнула в ответ.
– Повинуясь слепому импульсу,– сказала она мне,– я спасла жизнь этому мальчику, сыну незаконнорожденого сына моего брата, и тем самым погубила жизнь мужа.
Она проговорила эти слова так тихо и с такой печалью, что у меня сжало горло и защипало глаза.
– Жены из других городов дивятся на женщин Лакедемона,– сказала госпожа.– Как могут, спрашивают они, эти спартанские жены стоять прямо, не мигая, когда изувеченные тела их мужей приносят домой, чтобы похоронить, или, еще хуже, закапывают в чужую землю и ничего, кроме холодных воспоминаний, не остается их сердцу? Те женщины думают, что мы сделаны из более твердого материала, чем они сами. А я скажу тебе правду, Ксео: из того же самого. Неужели они думают, что мы любим своих мужей меньше, а наши сердца сделаны из камня и стали? Неужели они вообразили, что наше горе меньше, поскольку мы подавляем его в груди?
Она моргнула сухими глазами, потом посмотрела на меня.
– И с тобой тоже боги играют свои шутки, Ксео. Но, может быть, еще не поздно подправить катящиеся игральные кости. Вот зачем я дала тебе ту горстку «сов».
Я уже понял замысел ее сердца.
– Ты не спартанец. Зачем связывать себя жестокими законами Спарты? Разве боги недостаточно уже украли у тебя?
Я попросил ее больше не говорить об этом.
– Эта девушка, которую ты любишь,– я бы могла привезти ее сюда. Только попроси.
– Нет! Пожалуйста.
– Тогда сбеги. Сегодня же вечером. Дай деру. Я сразу же ответил, что не могу.
– Мой муж найдет другого оруженосца. Пусть другой умрет вместо тебя.
– Прошу тебя, госпожа. Это было бы бесчестно. Ощутив, как горит моя щека, я понял, что госпожа ударила меня.
– Бесчестно? – Она произнесла это слово с отвращением и презрением.
Внизу к мальчишкам и Диэнеку присоединились другие крестьянские дети. Началась игра в мяч. Дети кричали в агоне, азарте соперничества, и их голоса весело летели к нам вверх по склону.
Могло вызывать одну только благодарность то, что госпожа так благородно донесла до меня из самого сердца, желание даровать мне милосердие, в котором, она чувствовала, мойры – богини судьбы – самой ей отказали. Даровать мне и той, кого я любил, случай ускользнуть из тяжких уз предопределенности, наложенных, как она ощущала, на нее саму и ее мужа.
Но я не мог предложить ей ничего, кроме того, что она уже знала. Я не мог уйти.
– И все равно, боги уже будут ждать меня там. Как всегда, на шаг впереди.
Я видел, как напряглись ее плечи, как ее воля подчинила благородный, но неосуществимый импульс сердца.
– Твоя двоюродная сестра узнает, где лежит твое тело и с какой честью ты погиб. Клянусь Еленой и Близнецами.
Госпожа встала со своей скамьи под дубами. Разговор закончился. Она снова была спартанкой.
И вот теперь, когда мы выступали в поход, я заметил на ее лице ту же суровую маску. Госпожа высвободилась из объятий мужа и собрала вокруг себя детей. Она вновь обрела прежнюю осанку, прямую и торжественную, как и другие спартанские жены, стоявшие под дубами.
Я видел, как Леонид обнял свою жену Горго, «Яркие Очи», своих дочерей и сына Плистарха, которому когда-нибудь предстояло занять его место царя.
Моя жена Ферея крепко обняла меня. Она терлась об меня всем телом под своим белым мессенийским платьем, держа за руки наших детей. Да, она недолго будет оставаться без мужа.
– Подожди хотя бы, пока я скроюсь из виду,– пошутил я и обнял детей, которых едва знал. Их мать была хорошей женщиной, и я жалел, что не могу любить ее так, как она заслуживала.
Последнее жертвоприношение было закончено, получены и записаны знамения. Триста построились – каждый Равный со своим оруженосцем – в длинной тени отдаленных гор, на виду у всего войска, собравшегося на левой («щитовой») стороне холма. Леонид, в венке, как и все, занял свое место перед воинами, рядом с каменным алтарем. Весь остальной город, старики и мальчишки, жены и матери, илоты и ремесленники, собрались на правой («копьевой») стороне. Еще не рассвело, солнце еще не показалось из-за горного гребня Парнона.
– Смерть приблизилась к нам вплотную,– произнес царь.– Вы чувствуете ее, братья? Я чувствую. Я человек и боюсь ее. Я думаю, как укрепить сердце к тому мгновению, когда я взгляну ей в лицо.
Леонид начал свою речь тихо, но его голос отчетливо разносился в предрассветной тиши, слышный всем.
– Сказать вам, где я нахожу эту силу, друзья? В глазах наших сынов что в алых одеждах стоят перед нами. И на лицах их товарищей, которые пойдут в последующую битву. Но более всего мое сердце находит мужества при взгляде на них – на наших женщин, что без слез смотрят, как мы уходим.
Он сделал жест в сторону собравшихся спартанских знатных дам, среди которых выделялись две пожилые, Пирро и Алкмена, и назвал их поименно:
– Сколько раз эти две женщины стояли здесь, в холодной тени Парнона, и смотрели на своих любимых, уходящих на войну? Пирро, ты видела, как войска наших дедов и отцов отправлялись на Афетаид, чтобы никогда не вернуться. Алкмена, твои глаза без слез смотрели, как муж и братья ушли навстречу смерти. Теперь ты снова стоишь тут, вместе с немалым числом других, родивших столько же и еще больше, и смотришь, как сыновья и внуки отправляются в Царство мертвых.
Это была правда. Сын Пирро Дорион стоял теперь в венке среди Всадников; внуками Алкмены были победители Олимпиады Алфей и Марон.
– Мужская боль легко появляется и быстро проходит. Наши раны – телесные, и они ничтожны. Раны женщин – раны сердечные, это нескончаемая печаль, переносить которую гораздо горше.
Леонид указал на жен и матерей, собравшихся на еще темных склонах.
– Учитесь у них, братья, учитесь терпеть муки, как терпят они их при рождении детей. Усвойте их урок: за все хорошее в жизни надо платить. А самое сладкое в жизни – это свобода. Ее мы избрали, и за нее мы платим. Мы связаны законами Ликурга, а это суровые законы. Они учат нас презирать жизнь в неге, которую наши богатые земли могли бы нам обеспечить, пожелай мы этого. Однако мы поступаем в академию дисциплины и самопожертвования. Ведомые этими законами, наши предки в двадцати поколениях вдыхали благословенный воздух свободы и строго платили по счету, когда им предъявляли этот счет. Мы, их сыновья, не можем сделать меньше.
Каждому воину оруженосец подал чашу вина, каждому – собственный ритуальный кубок, врученный воину в день посвящения в Равные и используемый только в самых торжественных церемониях. Леонид поднял свой и с молитвой 3евсу-Вседержателю, Елене и Близнецам совершил возлияние.
– Уже шесть веков, как говорят поэты, ни одна спартанская женщина не видит дыма вражеских костров.
Подняв обе руки вверх, Леонид выпрямился и поднял лицо к небу:
– 3евсом и Эросом, Афиной-Покровительницей и Артемидой Справедливой, Музами и всеми богами и героями, защищавшими Лакедемон, и кровью собственной плоти клянусь, что наши жены и дочери, наши сестры и матери не увидят этих костров и теперь.
Он выпил, а за ним выпили и все мужчины.
Глава двадцать первая
Великий Царь хорошо знает топографию подходов, ему ведома паутина ущелий и сжатая карта поля боя, где его войска вступили в бой со спартанцами у Горячих Ворот. Я пропущу это описание, а вместо того расскажу о составе греческих сил и о том состоянии разброда и беспорядка, что царили на месте назначения, когда они прибыли туда, чтобы защищать проход.
Когда Триста – теперь усиленные пятью сотнями тяжелой пехоты из Тегея и таким же числом воинов из Мантинеи – вместе с двумя тысячами, набранными в Орхомене и остальной Аркадии, Коринфе, Флиунте и Микенах, плюс семьсот из Феспии и четыреста из Фив – прибыли в Опунтскую Локриду, что в девяноста стадиях от Горячих Ворот, чтобы соединиться с тысячей гоплитов из Фокиды и Локриды, они обнаружили там совершенное безлюдье.
Осталось лишь несколько мальчишек и молодых мужчин. Они занимались тем, что грабили покинутые дома соседей и присваивали запасы вина, обнаруженные в тайниках своих соотечественников. 3авидев спартанцев, они дали стрекача, но разведчики догнали их. Войско и локрийские жители, доложили прыщавые мародеры, ушли в горы, а местные вожди бежали на север, к персам, со всей скоростью, на какую способны их хилые ноги. По сути дела, заявили мальчишки, локрийские предводители уже сдались.
Леонид был вне себя. Однако в результате поспешного и решительно грубого допроса этих сельских грабителей выяснилось, что местные жители неправильно поняли день сбора. Дело в том, что месяц, называемый в Спарте карнеем, в Локриде назывался леминдеоном. Кроме того, его начало отсчитывается назад от полнолуния, а не вперед от новолуния. Локрийцы ожидали спартанцев на два дня раньше и, когда те не пришли, решили, что спартанцы их бросили. Локрийцы бросились бежать, разнося в их адрес проклятья. Шквал слухов быстро донес злословье локрийцев до окрестностей Фокиды, где расположены сами Ворота. Тамошние обитатели, фокийцы, и без того уже были перепуганы. Опасаясь, что их захватят, они удрали тоже.
Во время похода на север колонна союзников встречала местные племена и сельских беженцев, стремящихся на юг. Потрепанные роды бежали от наступавших персов, неся свои жалкие пожитки в заплечных мешках, сделанных из покрывал или плащей. Рваные узлы с барахлом стояли у их на головах, как сосуды с водой. 3емлепашцы с ввалившимися щеками катили тачки, груженные мебелью, а чаще – детьми, чьи ноги стерлись от ходьбы, или закутанными в одеяла стариками, не способными идти от дряхлости. У некоторых имелись воловьи упряжки и навьюченные ослы. Под ногами толклись домашние животные и скотина. Тощие собаки выпрашивали подачки, а скорбного вида свиньи, которых пинками гнали вперед, как будто понимали, что через день-два попадут кому-нибудь на ужин. Среди беженцев преобладали женщины. Они еле тащились, босые, повесив обувь на шею, чтобы сберечь подметки.
3аметив приближающуюся колонну союзников, женщины испуганно освобождали дорогу. Они карабкались на горные склоны, прижимая к себе детей и роняя на бегу пожитки. Всегда наступал момент, когда до них доходило, что воины на марше – их соотечественники. Тогда охватившая их сердца перемена доводила их чуть ли не до экстаза. Женщины скатывались вниз с труднодоступных склонов, жались поближе к колонне, некоторые немели от изумления, другие со слезами отворачивали запыленные лица. Престарелые бабушки, толкаясь, бросались целовать руки молодых воинов, матери семейств кидались им на шею и обнимали в эти одновременно уместные и неуместные моменты. «Вы спартанцы?» – спрашивали они почерневших на солнце воинов, тегейцев и микенцев, коринфян, фиванцев, флиунтцев и аркадцев, и многие лгали, называя себя спартанцами. Когда женщины слышали, что колонну возглавляет сам Леонид, многие отказывались верить – так привыкли они, что их вечно предают и бросают. Когда им показывали спартанского царя и Всадников вокруг него, многие не могли вынести огромного чувства облегчения. Женщины прятали лицо в ладонях и оседали на дорогу..
От таких сцен – по восемь, десять, двенадцать раз на
день – сердца союзников охватывала мрачная решимость. Нужно было вовсю торопиться, защитники должны любой ценой добраться до прохода и укрепить его, прежде чем туда войдет враг. Все невольно ускоряли шаг. Вскоре колонна стала обгонять обоз, поэтому возы и вьючные ослы были брошены и пехотинцы перевалили все необходимое себе на спину.
Что касается меня, я разулся и свернул свой плащ в скатку; щит хозяина я нес за внутреннюю скобу вместе с поножами и нагрудником, весившими более пятидесяти мин, плюс постель для нас обоих и полевой набор, мое собственное оружие, три колчана стрел с железными наконечниками, завернутые в промасленную козлиную шкуру, и всякие другие необходимые принадлежности: «рыболовные крючки» и нитки, мешочки с целебными травами, чемерицей и наперстянкой, эвфорбией и кислицей, майораном и сосновой смолой; зажимы для артерий, жгуты для рук, холщовые компрессы, бронзовые «собачки», чтобы нагревать и засовывать в проникающие раны, прижигая ткани; «утюжки» чтобы делать то же с поверхностными рваными ранами; мыло, стельки, кротовьи шкурки, швейный набор; еще поварская утварь – вертел, горшок, ручная мельница, кремень и палочки для добывания огня; мелкий песок и масло для чистки бронзы, промасленное полотнище от дождя, кирка-лопата, названная за свою форму
гиссакс – солдатский грубый термин, означающий женское отверстие. Это вдобавок к пайку – немолотый ячмень, лук и сыр, чеснок, фиги, копченая козлятина; плюс деньги, амулеты, талисманы.
Сам мой хозяин нес запасную раму для щита с двойными бронзовыми пластинами, мою и свою обувь с ремнями, заклепки и набор инструментов, свой кожаный боевой пояс, два ясеневых и два кизиловых копья с запасными железными наконечниками, шлем и три
ксифоса – один на бедре, а два других привязанные к тяжелому заплечному мешку, набитому продовольствием и немолотым зерном, двумя мехами с вином и одним с водой, плюс «сладкий мешок» со сладкими лепешками, приготовленными Аретой и дочерьми, завернутыми в промасленное полотно, чтобы не проникал луковый запах из мешка. По всей колонне, впереди и сзади, попарно шагали оруженосец и воин, неся между собой груз от ста пятидесяти до ста шестидесяти мин.
К колонне примкнул не занесённый в список доброволец – чалая охотничья собака по кличке Стикс, принадлежавшая Перинфу, разведчику-скириту, на которого пал «царский выбор» Леонида. Собака следовала за хозяином с гор до Спарты и теперь, не имея дома, куда возвратиться, продолжала служить ему. В течение часа с небольшим она деловито патрулировала по всей длине колонны, запоминая по нюху положение каждого воина на марше, потом возвращалась к своему хозяину-скириту, которого теперь прозвали Собакой, и там продолжала неутомимо трусить у его ног. Не оставалось никаких сомнений, что, по мнению собаки, все эти люди принадлежали ей. Она пасла нас, как заметил Диэнек, и проделывала огромную работу.
С каждым стадием окрестности становились беднее и безлюднее. Все жители ушли. Под конец, в Фокиде, уже неподалеку от Ворот, колонна вошла в совершенно пустые, брошенные жителями места. Леонид послал гонцов в горные крепости, куда отступили местные войска, чтобы сообщить от имени Эллинского Совета, что союзники вступили в данный район с намерением защищать страны фокийцев и локрийцев независимо от того, покажут те нос из своих крепостей или нет. Царское послание не было написано на обычном свитке для военных донесений, но спешно нацарапано на холщовой обертке, обычно используемой для приглашений семьи и друзей на танцы. Последнее предложение гласило: «Приходите какие есть».
После полудня через шесть дней после выхода из Лакедемона союзники достигли деревни Альпены, а еще через полчаса подошли к самим Фермопилам. В отличие от окружающей Фермопилы сельской местности, поле сражения – будущее поле сражения – оказалось далеко не безлюдным. Множество обитателей Альпен и Антелы, северной деревни, стоящей на ручье под названием Феникс, поставили здесь временные торговые палатки. Кто-то пек ячменные и пшеничные лепешки. Один предприимчивый умник открыл винную лавку. Две не менее предприимчивые шлюхи даже соорудили в заброшенной купальне бордель на две койки. Он моментально стал известен как Святилище Афродиты Падшей или «две дыры», в зависимости от того, кто спрашивал дорогу туда и кто давал совет, предлагая провести.
Персы, по донесениям разведчиков, еще не добрались до Трахина – ни по суше, ни по морю. Равнину к северу еще не покрывали вражеские шатры. Флот Персидской державы, как докладывали, вышел из Фермы, что в Македонии, то ли день, то ли два назад. Тысячи их боевых кораблей, вероятно, двигались вдоль побережья Магнезии, и передовые отряды рассчитывали через двадцать четыре часа достичь места высадки в Афетах, что в шестидесяти двух стадиях севернее Фермопил.
Наземные войска противника выступили из Фермы десятью днями раньше, их колонны продвигаются, сообщали беженцы, по прибрежным и удаленным от моря дорогам и по пути вырубают леса. Передовые части наземного войска ожидаются в то же время, что и флот.
Теперь Леонид проявил активность.
Прежде чем вражеские лагеря показались в виду, царь направил в окрестности Трахина, непосредственно к северу от Ворот, отряды легких всадников. Им следовало сжечь на полях все до единого колоска и захватить или разогнать всю скотину, которая могла бы пойти в пищу неприятелю,– вплоть до кошек и ежей.
Вслед за всадниками были высланы отряды для рекогносцировки от каждой боевой части союзников с приказом продвинуться как можно севернее, до пологих пляжей, удобных для высадки персов. Этим отрядам надлежало снять карту местности, обращая особое внимание на дороги и тропы, доступные для персов по пути к Теснине. Хотя у союзных войск не было конницы, Леонид позаботился включить в этот отряд опытных конников: даже пешие, они могли лучшим образом оценить возможности вражеской конницы. Сможет ли Ксеркс провести по тропам коней? Как много? Как быстро? Какие меры лучше всего принять союзникам в этом случае?
В дальнейшем разведывательным отрядам надлежало задерживать и доставлять местных жителей, чьи топографические знания могли помочь союзникам. Леонид хотел знать каждую пядь местности у северных подходов и, горько вспоминая Темпе, желал составить основательное суждение о горных проходах на юге и западе, тщательно исследуя всякую скрытую тропу, по которой можно было бы обойти греческую позицию и зайти ей в тыл.
В это время случилось происшествие, которое чуть не сломило волю союзников. Один фиванский пехотинец случайно наступил на змеиное гнездо с только что родившимися змеёнышами и получил в голую лодыжку порцию яда от полудюжины маленьких гадов, чьих укусов, как известно охотникам, нужно бояться больше, чем укусов взрослых змей, поскольку гаденыши не научились дозировать яд и пускают его в рану по полной мере. Через час фиванец умер в страшных мучениях, несмотря на то, что лекари выпустили из него почти всю кровь.
Пока фиванец еще корчился в агонии, вызвали прорицателя Мегистия. Остатки войска, посланного Леонидом оценить длину и состояние стоявшей поперек Ворот древней Фокийской стены, задержали свои работы и застыли в ужасе. Жизнь укушенного змеей медленно и мучительно убывала, и это зрелище, казалось, олицетворяло чувства всех окружающих.
И наконец сын Мегистия догадался спросить имя фиванца.
Как сообщили его товарищи, укушенного звали Перс.
И моментально мрак, порождённый знамением, рассеялся, поскольку Мегистий объяснил значение, которое не могло быть яснее: этот человек, имевший несчастье получить от матери такое имя, олицетворял собою врага, который, вторгшись в Грецию, наступил на змеиное потомство. Как ни неопытны и разобщены были змеиные дети, но своими зубами сумели впрыснуть яд в кровь врага и свалить его.
Уже пала ночь, когда отмеченный
мойрами человек испустил дух. Леонид велел воинам немедленно его похоронить со всеми почестями, а затем направил их руки к другой работе. Приказано было явиться всем каменщикам из числа союзников, независимо от подразделения. Из обоза собрали все долота, кирки и ваги и еще прислали из деревни Альпены и окрестностей. Каменщики отправились по тропе к Трахину с приказом насколько возможно повредить тропу, а также высечь на камнях на самом видном месте следующую надпись:
Греки, призванные на службу Ксерксом! Если по принуждению вам придется сражаться с нами, вашими братьями, сражайтесь плохо.
Одновременно начались работы по восстановлению древней Фокийской стены, перегораживающей Теснину. Когда союзники пришли, укрепление представляло собой груду обломков. Леонид приказал возвести настоящую крепостную стену.
Произошла забавная сцена, когда строители из союзного ополчения собрались на торжественный совет, чтобы осмотреть место и предложить архитектурные варианты. Чтобы осветить Теснину, принесли факелы, на земле набросали эскизы. Один из коринфских военачальников создал настоящий чертеж в правильном масштабе. Теперь начальники начали спорить. Стену нужно построить прямо в Теснине, чтобы ее перегородить. Нет, предлагали другие, лучше ее отнести на два плетра назад, создав «треугольник смерти» между скалами и крепостной стеной. Третий начальник убеждал отодвинуть стену вдвое дальше, чтобы освободить союзной пехоте пространство для сосредоточения и маневра. Тем временем рядом слонялись воины, налево и направо раздавая мудрые советы и пожелания, как это любят эллины.
Леонид же просто взял камень, подошел к первому попавшемуся месту и там его положил. Потом взял второй и положил рядом с первым. Остальные тупо смотрели, как их главнокомандующий, которому было далеко за шестьдесят, наклонился за третьим камнем. Кто-то рявкнул: «Сколько еще вы, идиоты, собираетесь стоять тут, разинув рот? Подождёте до утра, пока ваш царь не построит стену сам?»
С веселым шумом воины взялись за работу. Но и Леонид, увидев, сколько рук пришло ему на помощь, не прекращал своих усилий, а продолжал вместе со всеми громоздить камни, возводя настоящую крепость.
– Ничего замысловатого, братья,– проинструктировал он строителей.– Ведь каменная стена будет прикрывать не Элладу, а человеческую стену.
Царь разделся и трудился вместе с воинами, не уклоняясь ни от какой работы и останавливаясь лишь для того, чтобы обратиться по имени к знакомым да запомнить имена и даже прозвища других, кого еще не знал. Дружески похлопать по спине новых соратников. Он всегда так поступал – таким он был и в сражениях. Было удивительно, с какой быстротой задушевные слова, обращенные к одному или двоим, передавались по цепочке от воина к воину, наполняя мужеством все сердца.
Уже заканчивалась первая стража.
– Приведите ко мне этого злодея.
С этими словами Леонид призвал местного разбойника, который по пути примкнул к колонне и за плату предложил свои услуги в рекогносцировке. Двое скиритов вывели этого человека вперед. К своему удивлению, я узнал его.
Это был мой земляк по прозвищу Сферей – «Игрок в мяч», дикий мальчишка, ушедший в горы после разрушения нашего родного города и потом пинавший набитый травой человеческий череп в знак своего главенства над прочими изгоями. Теперь, когда этот головорез приблизился к отсветам царского костра, я увидел, что это уже не юноша с гладкими щеками, а бородатый, покрытый шрамами мужчина.
Я подошел к нему, и он тоже узнал меня. Разбойник был в восторге от возобновления нашего знакомства и дивился судьбе, которая привела нас, двоих сирот, пострадавших от огня и меча, сюда, в самый центр угрожавшей Элладе опасности.
Сферей кипел радостью, предвкушая войну. Ему предстояло блуждать по ее окраинам и грабить сломленных и побежденных. Война сулила ему большую выгоду. Было ясно без слов, что он считает меня болваном,– ведь я избрал для себя службу, не приносящую ни малейшей выгоды.
– А что стало с той аппетитной струйкой пара, с которой вы обычно шлялись? – спросил он меня.– Как ее звали, твою двоюродную сестру?
Слово в «пар» в моем городе служило для непристойного обозначения девушки в прекрасном и нежном возрасте.
– Она умерла,– соврал я,– и ты тоже умрешь, если еще произнесешь хоть слово.
– Полегче, земляк! Притормози. Я же просто треплюсь.
Царские стражники увели от меня разбойника, не дав нам договорить. Леониду требовался смельчак, чьи подошвы умели цепляться за каждую щель на козьих тропах, какой-нибудь храбрец, чтобы вскарабкаться на высоченный отвесный склон Каллидрома, нависавший над Тесниной. Царь хотел узнать, что находится на вершине и насколько опасно туда подниматься. Когда враг займет Трахинскую равнину и северные подходы, смогут ли союзники забросить отряд – или хотя бы одного человека – через плечо горы в тыл противника?
Сферей с энтузиазмом взялся за столь рискованное предприятие.
– Я пойду с ним,– сказал скирит Собака, сам горец. Что угодно, только не строить эту жалкую стену.
Леонид с готовностью принял его предложение. Он велел своему казначею вознаградить разбойника достаточно щедро, чтобы тот пошел, но не чересчур, дабы он вернулся.
Около полуночи начали спускаться с гор фокийцы и опунтские локрийцы. Леонид тепло приветствовал новых союзников. Он ни словом не упомянул об их. недавнем бегстве, а вместо этого сразу же проводил их в выделенную для них часть лагеря, где их ждала похлебка и свежеиспеченный хлеб.
На севере, на побережье, разразилась страшная буря; издали раздавались яростные раскаты грома. Хотя над Воротами небо оставалось ясным и сверкали звезды, воины поеживались. Они устали. Шесть дней похода с тяжёлой ношей поубавили у них живости, в их сердца начали прокрадываться невысказанные страхи и невидимые демоны. А только что прибывшие фокийцы и локрийцы не могли помешать им ясно видеть, как незначительна, если не сказать – самоубийственно мала, численность войска, которое намеревалось сдержать мириады вражеских полчищ.
Местные торговцы и даже шлюхи исчезли, как крысы, попрятавшиеся в свои норы перед землетрясением. Среди слонявшихся вокруг местных жителей был человек, моряк с торгового судна, утверждавший, что много лет плавал из Сидона в Тир. Мне случилось встретить его у костра аркадцев, когда этот человек раздувал пламя страха. Дескать, он собственными глазами видел персидский флот и может рассказать следующее:
– В прошлом году я вел из Митилены галеру с зерном, и нас захватили финикийцы, их корабли составляют часть флота Великого Царя. Они конфисковали наш груз. Нам пришлось проследовать под их конвоем и разгрузиться в одном из их складов на реке Стримоне, на Фракийском побережье. То, что я там увидел, чуть не лишило меня чувств.
К кругу стали присоединяться другие, все серьезно слушали.
– Склад был огромный, как город. Издали можно было подумать, что это гряда холмов. Но вблизи холмы оказались солониной, она хранилась в амфорах с рассолом, сложенных пирамидами до небес. Я увидел оружие, братья. Стеллажи с оружием, десятки тысяч. 3ерно и масло, шатры с хлебом – они были размером со стадион. Всевозможное военное имущество, какое только можно вообразить. Ядра для пращей. Свинцовые ядра, сложенные в фут высотой, покрывали целый акр. Корыта с овсом для царских коней протянулись на несколько стадиев. И в середине всего возвышалась покрытая промасленной дерюгой пирамида, огромная, как гора. Что такое могло быть под ней? Я спросил начальника морской пехоты, сторожившего нас. «Пошли,– сказал он, я покажу тебе». Угадайте, друзья мои, что же там возвышалось, сложенное до небес под дерюгой? Папирусы,– объявил моряк.
Никто из аркадцев не понял его многозначительности.
– Папирусы! – повторил фракиец, словно стараясь вбить всю значимость этого слова под толстые черепа слушателей. – Папирусы для записей, чтобы вести учет. Учитывать людей. Лошадей. Оружие. Зерно. Приказы войскам и другие распоряжения, папирусы для донесений и реквизиций, для списков личного состава и депеш, военных судов и наград за доблесть. Папирусы, чтобы отслеживать все, что Великий Царь берет в поход, и все добро, что он планирует награбить. Папирусы, чтобы инвентаризировать сожженные страны и разоренные города, захваченных пленных, закованных в цепи рабов…
В этот момент к собравшимся случайно подошел мой хозяин. Он сразу заметил страх на лицах слушателей и, ни и слова не говоря, протолкался к огню. Увидев среди слушателей военачальника-спартиата, моряк удвоил свой пыл. Ему нравился поток страха, порождаемый его рассказом.
– Но я еще не рассказал самого страшного, братья, продолжил фракиец.– В тот самый день, когда наши тюремщики вели нас на ужин, мы проходили мимо стрелявших их в цель персидских лучников. Сами олимпийские боги не могли бы собрать таких полчищ! Клянусь вам, друзья,, так многочисленны были стрелки, что, когда одновременно выстрелили, туча стрел заслонила солнце!
Глаза сплетника радостно загорелись. Он повернулся к моему хозяину, словно желая удостовериться, что его рассказ разжёг пламя страха даже в спартанце. К его разочарованию, Диэнек смотрел на него с холодной, почти скучающей отрешенностью.
– Хорошо,– только и сказал мой хозяин.– 3начит, мы будем сражаться в тени.
В середине второй стражи поднялась первая паника. Я еще не спал, прикрываясь щитом хозяина от собиравшегося дождя, когда услышал шорох двигающихся тел, перемежающийся человеческими голосами. Звуки охваченного тревогой лагеря совершенно не такие, как звуки спокойного. Диэнек моментально очнулся от крепкого сна, словно пастушья овчарка, услышавшая беспокойство в стаде, и проворчал:
– Сучья мать! Начинается.
В лагерь вернулся первый отряд разведчиков. Они увидели огни, факелы персидских конных передовых отрядов, и тихо отступили, пока персы их не отрезали. С уступа горы уже отчетливо видно врага, доложили они, перс не более чем в десяти стадиях отсюда по тропе. Некоторые передовые посты тоже совершили вылазки по собственной инициативе и теперь, вернувшись в лагерь, подтвердили донесение.
3а плечом Каллидрома, на раскинувшейся Трахинской равнине, прибывали наступающие части персидского войска.
Глава двадцать вторая
Недолго понаблюдав за вражескими передовыми частями, Леонид поднял все войско, готовясь к бою. Он приказал союзникам построиться в сомкнутые ряды и быть готовыми к выступлению. Остаток той ночи и весь следующий день ушли на то, чтобы всерьез опустошить Трахинскую равнину и прилегающие горные склоны, проникающие вдоль берега на север до самого Сперхея, а в глубь суши – до крепости и Трахинских скал. По всей равнине были разожжены сторожевые огни и не маленькие костерки для жаренья кроликов, как обычно, а ревущие костры, чтобы создать иллюзию большого количества воинов. Союзные части выкрикивали в темноте оскорбления и проклятия друг другу, стараясь казаться пободрее и поувереннее. К утру равнину от края до края заволокло дымом и морским туманом – именно так, как и хотел Леонид. Я был в одном из четырех последних отрядов, поддерживавших костры. И вот над заливом замаячил сумрачный рассвет. Мы могли видеть персов – верховые разведывательные дозоры и лучников на быстроходных судах у противоположного берега Сперхея. Мы стали орать им оскорбления, они ответили нам тем же.
Прошел день, и еще один. Теперь стали подтягиваться части основных вражеских сил. Противник начал заполнять равнину. Разведчики видели, как персидские военачальники назначали лучшие места для установки шатров Великого Царя и его приближенных, как отводили лучшие пастбища для лошадей Его Величества.
Персам было известно о том, что греки здесь, как и греки знали об их присутствии.
В ту ночь Леонид вызвал моего хозяина и других командиров на небольшой холмик за Фокийской стеной, где спартанский царь расположил свой командный пункт. 3десь Леонид обратился с речью к спартанцам. Тем временем начали прибывать военачальники из других союзных городов, также вызванные на совет. По времени все получилось так, как задумал царь. Он хотел, чтобы начальники союзников подслушали слова, якобы предназначенные только для спартанцев.
– Братья и товарищи,– обратился Леонид к собравшимся вокруг него лакедемонянам,– похоже, что все наше внушительное представление не убедило перса благоразумно собрать свое барахло и вернуться домой. Кажется, все-таки придется нам с ним сразиться. Так вот, послушайте, чего я хочу от каждого из вас. Вы – избранники Эллады, воины и военачальники государства Лакедемон, избранного Истмийским Советом нанести первый удар в защиту нашей родины. Помните, что наши союзники возьмут с вас пример. Если вы выкажете страх, они испугаются вдвойне. Если вы проявите мужество, они ответят тем же. Мы должны вести себя так же, как и во всех прочих походах. С одной стороны, никаких чрезвычайных предосторожностей, а с другой – никакого безрассудства. Главное – мелочи. Поддерживайте обычный распорядок боевой подготовки своих воинов. Не пропускайте жертвоприношений богам. Продолжайте гимнастические занятия и упражнения с оружием. Как всегда, находите время для ухода за волосами. Найдите время для любой мелочи.
Союзные военачальники уже собрались к костру совета и заняли места среди ранее собравшихся спартанцев. Леонид продолжал говорить как будто для своих, но в то же время в присутствии новых ушей.
– Помните, что наши союзники не посвящали всю свою жизнь подготовке к войне, как это делали мы. Они – крестьяне и торговцы, воины гражданского ополчения. Тем не менее они не чужды доблести – иначе их бы здесь не было. Для фокийцев и опунтских локрийцев это – родная земля, они сражаются за свои дома и семьи. Что касается фиванцев и коринфян, тегейцев, орхоменцев и аркадцев, флиунтцев, феспийцев, мантинейцев и жителей Микен, они, по-моему, проявили еще более благородную
андрею, поскольку добровольно пришли защищать не собственные очаги, а всю Грецию.
Он пригласил вновь прибывших подойти поближе.
– Добро пожаловать, братья. Поскольку я нахожусь среди союзников, я повторю то, что сказал своим воинам.
Военачальники угрюмо усмехнулись.
– Я говорил спартанцам,– продолжал Леонид,– то же что говорю теперь вам. Вы – командиры, ваши воины будут смотреть на вас и действовать так же как вы. Весь день находитесь среди своих братьев-воинов. Пусть они видят вас и понимают, что вы не боитесь. Если нужно что-то сделать, первыми беритесь за работу, и воины последуют за вами. Некоторые из вас, я вижу, поставили шатры. Немедленно снимите. Все мы будем спать, как и я, под открытым небом. Пусть ваши люди все время будут чем-нибудь заняты. Если у них нет работы, придумайте ее. Когда у воинов есть время поболтать языками, их разговоры заканчиваются страхом. А действия, со своей стороны, вызывают желание действовать и дальше. Все время соблюдайте походную дисциплину. Не давайте никому справлять естественные надобности без копья и щита на боку. Помните, что самое грозное оружие перса – его конница и множество лучников и пращников но здешняя местность делает их бессильными.
Вот почему мы избрали это место. Враг не может ввести в Теснину больше двенадцати воинов в ряд, и не больше тысячи может собраться у Стены. Нас четыре тысячи. Так что мы превосходим их числом вчетверо.
Это вызвало первый искренний смех. Леонид старался внушить мужество не только своими словами, но и спокойной манерой произносить их. Война – это работа, а не таинство. Царь ограничил свои инструкции практическими предписаниями. Он не старался установить приподнятое состояние духа, которое, он знал, все равно улетучится, как только командиры разойдутся от ободряющего света царского костра.
– Следите за собой, благородные мужи. Держите волосы, руки и ноги в чистоте. Ешьте, если даже приходится давиться. Спите или хотя бы притворяйтесь, что спите. Не давайте подчинённым видеть вашего беспокойства. Если пришли плохие вести, сначала доложите непосредственному начальству и не торопитесь делиться этим с простыми воинами. Велите своим оруженосцам отполировать каждый
аспис до безупречного блеска. Я хочу, чтобы щиты сверкали как зеркало, чтобы один их вид вселял страх во врага. Оставьте своим воинам время наточить копья, поскольку тот, кто точит сталь, укрепляет свое мужество. Что касается вашего вполне понятного беспокойства относительно ближайших часов, скажите своим воинам так: я не ожидаю никаких боевых действий ни в эту ночь, ни завтра, ни даже послезавтра. Персу нужно время расположить свои войска. Чем большими мириадами людей он обременен, тем больше времени уйдет на это. Ему придется дождаться прибытия своего флота Мест высадки на этом негостеприимном берегу немного, и они малы. Персу понадобится несколько дней, чтобы на рейде поставить на якорь тысячи своих боевых транспортных кораблей. Наш флот, как вы знаете, занял пролив у Артемизия. Чтобы пробиться, врагу придется выдержать полномасштабное сражение, и подготовка к нему займет еще больше времени. Что касается нападения на нас в проходе, враг еще должен разведать наши позиции и обдумать, как лучше всего атаковать их. Без сомнения, сначала он пошлет своих переговорщиков, стараясь дипломатией достичь того, чего не решается добиться ценой крови. Это не должно вас беспокоить, поскольку все вражеские угрозы я знаю наперед.– Тут Леонид нагнулся и поднял с земли камень размером в три кулака.– Поверьте мне, друзья, если Ксеркс обратится ко мне, то он может с таким же успехом говорить с этим булыжником.
Он плюнул на камень и отшвырнул его в темноту.
– И еще. Вы все слышали про оракул, объявивший, что или Спарта потеряет в бою царя, или сам город будет уничтожен. Я вопросил знамения, и светозарный бог ответил, что я и есть тот самый царь и это место станет моей могилой. Будьте уверены, однако, что это знание ни в коей мере не сделает меня безрассудным в отношении чужих жизней. Клянусь вам всеми богами и душами моих детей: я сделаю все, что в моих силах. 3ащищая проход, я сохраню вас и ваших людей, сколько смогу. И последнее, братья и союзники. В том месте, где сражение будет наиболее кровавым, знайте: лакедемоняне окажутся в первых рядах. Но прежде всего донесите до ваших людей: пусть они ни на йоту не уступают в доблести спартанцам и даже стремятся превзойти их. Помните, в военном деле владение оружием значит немного. Все решает мужество, а на него у нас, спартанцев, нет монополии. Когда поведете своих воинов за собой, помните об этом, и все будет хорошо.
Глава двадцать третья
Мой хозяин дал мне наказ, чтобы во все время похода я будил его за два часа до рассвета – на час раньше всех воинов из его
эномотии. Он хотел, чтобы они не видели его лежащим на земле, но всегда, проснувшись, заставали своего эномотарха на ногах и при оружии.
В ту ночь Диэнек спал еще меньше, чем обычно. Я услышал, как он заворочался, и от этого проснулся.
– Лежи спокойно,– приказал он и рукой прижал меня к земле.– Еще не прошла вторая стража.
Он спал, не снимая своего боевого пояса, и теперь, постанывая от боли в суставах, встал на ноги и надел шлем. Диэнек взял копье и щит. Прихрамывая на покалеченную ногу, он направился к месту ночлега Леонида среди Всадников, где царь не спал и, возможно нуждался в собеседнике.
Лагерь дремал, зажатый на своем пятачке. Над ущельем в холодном не по сезону воздухе, сыром от близости моря и еще более свежем от недавнего шторма, повисла растущая луна. Ясно слышался шум прибоя, бьющего об основание скал. Я взглянул на Александра, положившего голову на свой щит рядом с храпящим Самоубийцей. Вокруг догорали сторожевые огни; на другом конце лагеря замерли спящие воины в мешковатых плащах и ночных шапках. Сейчас они напоминали скорее мешки со старым бельем, чем людей.
По направлению к Средним воротам виднелись купальни у минеральных источников. Там возвышались аккуратные деревянные строения из неструганых досок. Их каменные пороги за века отполировали ноги бесконечной череды купальщиков и летних посетителей. Утоптанные тропинки петляли меж дубов, освещенные оливковыми факелами у источников. Под каждым факелом висела дощечка из обожженного дерева с вырезанным стихотворным отрывком. Я припоминаю один:
Как при рождении душа
вступает в жидкость тела,
так в эти воды ты теперь вступи
и плоть с душою слей
в божественном, небесном единенье.
Мне вспомнилось, что мой хозяин однажды сказал про поле боя. Это было при Тритеях, когда наше войско сошлось с ахейцами на поле проросшего ячменя. Решительная схватка состоялась напротив храма, в который в мирное время родственники приводили душевнобольных и одержимых, чтобы помолиться и принести жертву Деметре Милосердной и Персефоне. «Никогда ни один землемер не выбирал место для сражений. На земле надо сеять хлеб, возводить храмы. По иронии судьбы это не всегда так».
И все же в гористой, суровой Элладе есть места, гостеприимные к войне: Энофита, Танагра, Коронея, Марафон, Херонея, Левктры – это равнины и теснины, где на протяжении многих поколений сталкивались войска.
И проход у Горячих Ворот тоже был одним из таких мест. 3десь, в этих обрывистых ущельях, противоборствующие силы упирались в землю, как Язон и Геракл. 3десь сражались горные племена, дикие народы и морские пираты, кочевые орды, варвары и захватчики с севера и запада.
Приливы войны и мира чередовались здесь веками – купальщики и воины приходили одни за целебной водой, другие – за кровью.
Крепостная стена была уже достроена. Один ее край упирался в широкую скалу, вздымая свою мощную башню вровень с каменным утесом, другой отходил под углом по склону к скалам в море. Стена выглядела неплохо. Толщина ее у основания составляла два копья, а высота – два человеческих роста. Ее обращенный к врагу фасад был не отвесным, как городская стена, а с уклоном до высоты ворот для вылазок, откуда последние четыре локтя поднимались вертикально, как у крепости. Это было сделано для того, чтобы воины союзников могли при необходимости быстро отступить назад, в укрытие, а не оказаться прижатыми и приколотыми к собственной стене.
Задняя сторона имела ступени. Там защитники могли подняться к гребню, где был устроен деревянный частокол, обшитый шкурами. Дозорные, стоя у частокола, могли не опасаться, что вражеские стрелы с зажжённой паклей подожгут его. Кладка была неровной, но крепкой. Через определенные промежутки возвышались башни, усиленные справа, слева и посередине редутами, а сзади еще одной стеной. Эти опорные пункты были построены высотой с основную стену, а сверху еще навалены тяжелые камни на человеческий рост. Эти незакрепленные камни можно было при необходимости скатить вниз, в проходы располагавшихся ниже ворот. Наверху я видел часовых, а у редутов в полной
паноплии стояли три готовых
эномотии, две аркадские и одна спартанская.
Леонид действительно не спал. Его длинные стального цвета волосы четко выделялись рядом с костром военачальников. Диэнек находился там, среди других командиров. Я различил Дифирамба, начальника феспийцев, Леонтиада, предводителя фиванцев, Полиника, братьев Алфея и Марона и нескольких других спартанских Всадников.
Небо начало светлеть, и я заметил, что возле меня движутся какие-то силуэты. Александр и Аристон тоже проснулись и теперь поднялись рядом со мной. Эти молодые воины, как и я сам, не могли отвести глаз от окружавших царя военачальников и олимпиоников. Все понимали, что ветераны будут держаться с честью.
– Что будем делать? – Александр выразил словами общую тревогу, которая, невысказанная, таилась в юных сердцах.– Найдем ли мы ответ на вопрос Диэнека? Найдем в себе «противоположность страха»?
3а три дня до выступления из Спарты мой хозяин собрал воинов и оруженосцев своей
эномотии и за свой счет организовал охоту. Он сделал это, чтобы попрощаться – не друг с другом, а с холмами родной страны. Никто ни словом не обмолвился о Воротах или грядущих испытаниях. Это был великолепный праздник, и боги послали нам несколько прекрасных подарков, в том числе славного кабана, которого завалили Самоубийца и Аристон при помощи дротика и рогатины.
В сумерках охотники, которых собралось больше дюжины, плюс двойное число оруженосцев и илотов, служивших загонщиками, в приподнятом настроении уселись вокруг нескольких костров, разожжённых на склоне холма над Ферой. И
фобос тоже сел вместе с нами. Пока другие охотники веселились вокруг своих костров, развлекаясь выдумками об охоте и грубоватыми шутками, Диэнек освободил Александру и Аристону место рядом с собой. Я понял тонкий замысел моего хозяина. Он собирался поговорить о страхе, поскольку понял, что эти еще не вкусившие крови юноши, несмотря на свое молчание или, возможно, благодаря этому молчанию, начали в глубине души настраиваться на грядущие испытания.
– Всю мою жизнь, – начал Диэнек,– меня преследовал один вопрос: что является противоположностью страху?
Ниже по склону уже поджарилось мясо кабана, и нетерпеливые руки делили его на порции. Самоубийца принес чаши Диэнеку, Александру и Аристону и отдельно – себе, Аристонову оруженосцу Демаду и мне. Он сел на землю напротив Диэнека рядом с двумя собаками, которые принюхивались к объедкам. Собаки считали Самоубийцу простофилей, от которого им всегда что-нибудь да перепадет.
– Назвать это
афобией, бесстрашием, не имеет смысла. Это просто название, тезис, выраженный антитезисом. Назвать противоположность страха бесстрашием – значит не сказать ничего. Я хочу узнать его истинную противоположность, подобно тому, как день является противоположностью ночи, а небо – противоположностью земли.
– Противоположность, выраженную позитивно,– рискнул вставить Аристон.
– Именно! – Диэнек одобрительно поймал взгляд молодого человека и помолчал, изучая выражение на лицах обоих юношей. Будут ли они слушать? 3аботит ли их это? Вникают ли они в этот предмет искренне, как он сам? – Каким образом некоторые воины побеждают страх смерти, самый первобытный из страхов, который живет в самой нашей крови, как и во всем живом – и в зверях, и в людях? – Он указал на собак, что вились рядом с Самоубийцей.– Собаки в своре находят мужество броситься на льва. Каждая собака знает свое место. Она боится собаку выше себя по положению и внушает страх собаке ниже себя. Страх побеждает страх. Так же делают и спартанцы, противопоставляя страху смерти другой – страх бесчестья. Страх быть исключенным из своры.
Самоубийца улучил момент и швырнул несколько кусков собакам. Те яростно подхватили их с земли, и сильнейшая завладела львиной долей.
Диэнек мрачно улыбнулся:
– Но мужество ли это? Не остается ли действие из страха бесчестья таким же постыдным – ведь, по сути, это действие из страха?
Александр спросил, чего Диэнек доискивается.
– Чего-то более благородного. Я хочу отыскать какую-нибудь более высокую форму этой тайны. Чистую. Непогрешимую.
Он заявил, что во всех других вопросах можно обратиться за мудростью к богам.
– Но только не в вопросах мужества. Чему могут научить смертных бессмертные? Они не могут умереть. Их душа не заключена, как наша, в мастерскую страха.– Он указал на свое тело.
Диэнек снова взглянул на Самоубийцу, потом опять перевел взгляд на Александра, Аристона и меня.
– Вам, молодым, представляется, что мы, ветераны, с нашим большим опытом войны, преодолели страх. Но мы чувствуем его так же остро, как и вы. И даже более остро, так как теснее знакомы с ним. Страх живет в нас двадцать четыре часа в сутки, он поселился в наших жилах и костях. Правда, друг мой?
Самоубийца в ответ мрачно усмехнулся.
– Мы кое-как в последний момент сшиваем наше мужество из всяких клочков и обрывков. Главное, высокое собирается нами из низких чувств. Из страха опозорить свой город, царя, героев в нашем роду. Из страха проявить себя недостойно по отношению к женам и детям, братьям, товарищам по оружию. Я знаю все хитрости дыхания и песен, я изучил груды
тетратезисов, учений о фобологии. Я знаю, как войти в контакт с противником, как убедить самого себя, что его страх сильнее моего. Возможно, так оно и есть. Я использую заботу о подчиненных мне воинах и стараюсь потерять свой собственный страх за заботой об их выживании. Но страх-то никуда не девается! Самое большее, на что я способен,– это действовать, невзирая на него. Но это – не то. Не то мужество, о котором я говорю. И говорю я не о звериной ярости и не о порожденном паникой самосохранении. Это все
каталепсис – одержимость. Ею и крыса, загнанная в угол, обладает в не меньшей степени, чем человек.
Диэнек заметил, что некоторые из тех, кто старается преодолеть страх смерти, часто молятся, чтобы вместе с телом не погибла душа.
– По-моему, это бессмыслица. Принятие желаемого за действительное. Другие – в основном, варвары – говорят, что после смерти мы попадаем в рай. Я спрашиваю их всех: если вы действительно верите в это, почему бы вам не покончить с собой и не приблизить столь счастливый миг? Ахилл, по словам Гомера, обладал истинной
андреей. Но так ли это? Сын бессмертной матери, в младенчестве погруженный в воды Стикса, знающий о неуязвимости своей плоти – за исключением одной лишь пятки? Знай все мы такое о себе, трусы среди нас встречались бы реже, чем перья у рыб.
Александр спросил, найдется ли в городе хоть кто-то, обладающий, по мнению Диэнека, истинной
андреей.
– Во всем Лакедемоне ближе всех к ней наш друг Полиник. Но даже его доблесть я не считаю удовлетворительной. Он сражается не из страха перед бесчестьем, а из жадности к славе. Это может быть благородно или, по крайней мере, не низко, но это ли истинная
андрея?
Аристон спросил, существует ли оно вообще, это высшее мужество.
– Это не выдумка,– убежденно ответил Диэнек.– Я видел его. Иногда мой брат Ятрокл обладал им. Когда я заметил в нем это достоинство, то замер в благоговении. Мужество гордо лучилось из него, словно свет. В те часы он сражался не как человек, а как бог. Иногда таким мужеством обладает Леонид. Олимпий – нет. Я – нет. Никто из нас, сидящих здесь, им не обладает.– Он улыбнулся. -3наете, в ком из тех, кого я знал, было больше всего этой чистой формы мужества?
Никто из сидевших у костра не ответил.
– Это моя жена,– проговорил Диэнек. Он повернулся к Александру.– И твоя мать, госпожа Паралея.– Он снова улыбнулся.– 3десь таится разгадка. Основание этой высшей доблести, подозреваю, лежит в женском начале. Сами по себе слова для обозначения мужества,
андрея и
афобия, женского рода, в то время как
фобос и
тромос, страх, мужского. Возможно, бог, которого мы ищем, вовсе не бог, а богиня. Не знаю.
Было заметно, что Диэнеку нравится говорить об этом. Он поблагодарил слушателей.
– У спартанцев не хватает терпения для таких отвлеченных изысканий. Помню, однажды в походе, в тот день, когда мой брат сражался, подобный богам, я спросил его об этом. Мне безумно хотелось узнать, что он ощущал в те моменты, какова внутренняя сущность этих переживаний? Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего: «Поменьше философии, Диэнек, и побольше отваги».– Диэнек рассмеялся. – Ну, хватит об этом.
Мой хозяин отвернулся, словно закрывая обсуждение, но какой-то импульс заставил его снова взглянуть на Аристона. На лице того застыло то самое выражение, какое бывает у мальчика, не решающегося заговорить в присутствии старших.
– Ну же, скажи! – подбодрил его Диэнек.
– Я подумал о мужестве женщин. Наверное, оно отличается от мужества мужчин.
Юноша колебался. Возможно, его лицо само говорило за себя – в нем чувствовалась неловкость, словно он стыдился своей нескромности, считая себя недостойным рассуждать о предметах, в которых не имел никакого опыта.
Тем не менее Диэнек поощрил его продолжать:
– Отличается? Чем же?
Аристон посмотрел на Александра, который усмешкой усилил решимость друга, и, набрав в грудь воздуха, начал:
– Велико мужество мужчины, отдающего жизнь за свою страну, но в нем нет ничего чрезвычайного. Разве это не в мужской природе, как среди зверей, так и среди людей, драться и воевать? Ведь для этого мы и рождены, это у нас в крови. Посмотрите на любого мальчишку. Еще даже не научившись говорить, он тянется, повинуясь инстинкту, к дубине и мечу – в то время как его сестры неосознанно остерегаются этих орудий войны и прижимают к груди котенка или куклу. Что естественнее для всякого мужчины, чем воевать, а для женщины – чем любить? Разве это не веление материнской крови – давать жизнь и вскармливать молоком, заботиться прежде всего о порождениях собственного лона, о детях, которых рожают в муках? Мы знаем, что львица или волчица без колебания отдает жизнь за своих львят или волчат. И женщина поступает так же. А теперь обдумайте, друзья, что мы называем женским мужеством. Что может быть противнее женской природе, материнству, чем стоять бесстрастно и недвижимо, когда ее сыновья идут умирать? Разве не должна каждая жилка материнской плоти вопить в муках от оскорбления при виде такого насилия над природой? Разве не должно ее сердце разрываться, разве не жаждет она выкрикнуть в страсти своей: «Нет! Только не мой сын! Спасите его!» Но женщина из какого-то неведомого нам источника призывает волю, способную подавить собственное глубочайшее естество, и, я полагаю, потому-то мы в трепете и замираем перед нашими матерями, сестрами и женами. По-моему, это и есть, Диэнек, сущность женского мужества, и поэтому, как ты и предположил, оно превосходит мужество мужчин.
Мой хозяин с одобрением воспринял эти наблюдения. Однако Александр, сидящий рядом, заерзал на месте. Было очевидно, что юноша не удовлетворен.
– Все сказанное тобой верно, Аристон. Мне никогда не приходили в голову такие мысли. И все же должен кое-что добавить. Если победа женщины над своим естеством заключается лишь в том, чтобы с сухими глазами смотреть, как ее сыновья идут на смерть, это не просто противоестественно, но бесчеловечно, нелепо и даже чудовищно. А поднимает это поведение на высоту истинного благородства, я полагаю, то обстоятельство, что делается это по более высокой и бескорыстной причине. Эти женщины, перед которыми мы преклоняемся, приносят жизни
сыновей в жертву своей стране, своему народу, чтобы государство могло выжить, даже если их дорогие дети погибнут. Как мать, историю которой мы слышали с детства, потеряв пятерых сыновей, погибших в одной битве, спрашивала лишь о том: «Победили ли мы?» – и, когда ей сказали, что да, вернулась домой без слез, сказав лишь: «Тогда я счастлива». Разве не это свойство благородного сердца – ставить целое выше части – больше всего трогает нас в женской жертвенности?
– Такая мудрость в устах младенцев! – рассмеялся Диэнек и с чувством похлопал обоих юношей по плечам. Но вы все же не ответили на мой вопрос. Что же является противоположностью страху? Я расскажу вам одну историю, мои юные друзья, но не здесь и не сейчас. Вы услышите ее у Ворот. Историю про нашего царя Леонида и про секрет, что он доверил матери Александра Паралее. Этот рассказ продвинет наше исследование мужества – а заодно поведает, каким образом Леонид выбрал из всех лакедемонян тех, кого включил в Триста. Но сейчас мы должны закрыть наш философский кружок, а то спартанцы, подслушав, скажут, что мы обабились. И будут правы!
Теперь, в лагере у Ворот, мы, трое юношей, видели, как наш командир при первом проблеске рассвета отправился на царский совет, а когда вернулся к своей
эномотии, то снял плащ и призвал воинов заняться гимнастикой.
– Подъем! – Аристон вскочил, прервав наши с Александром размышления.– Противоположность страху – это работа.
Едва начались упражнения с оружием, как резкий свист у стены привел всех в состояние боевой готовности.
У входа в Теснину показался вражеский вестник. Этот посланец остановился в отдалении и по-гречески выкрикнул имя отца Александра –
полемарха Олимпия.
Потом вестник двинулся вперед в сопровождении единственного вражеского воина и мальчика и стал вызывать по имени других спартиатов – Аристодема, Полиника и Диэнека.
Дозорный сразу же позвал этих четверых. Его и остальных слышавших выкрики посланца удивила конкретность вражеского выбора, и им было трудно удержаться от любопытства.
Солнце уже полностью поднялось над горизонтом, и на стене собрались десятки гоплитов. Персидское посольство подошло поближе. Диэнек сразу узнал его главу – это был египтянин Птаммитех, командир, с которым они встречались и обменивались подарками четыре года назад в Родосе. Мальчик оказался его сыном. Он свободно говорил по-гречески на аттическом диалекте и служил переводчиком.
3накомство возобновили очень тепло, со множеством похлопываний по спине и рукопожатий. Спартанцы выразили удивление, увидев египтянина на суше – ведь он был бойцом на море. Птаммитех ответил, что только он сам со своим отрядом получил задание действовать совместно с наземным войском. Верховное командование снизошло к его личной просьбе, преследовавшей определенную цель – стать неофициальным переговорщиком со спартанцами, знакомство с которыми он вспоминал с такой теплотой и о чьем благополучии пекся от души.
Вокруг посланника стопилось больше сотни человек. Египтянин возвышался над всеми, он был на полголовы выше самого высокого из эллинов, а его тиара из накрахмаленного полотна еще добавляла росту. Как всегда, на его лице сверкала ослепительная улыбка. Птаммитех объявил, что принес послание от самого Ксеркса и ему велено передать ее только спартанцам.
Олимпий, бывший старшим в посольстве на Родос, теперь опять занял то же положение в переговорах. Он сообщил египтянину, что ни о каких сепаратных договоренностях со Спартой не может быть и речи. Договоренность может быть лишь со всеми греками, и никак иначе.
Настроение египтянина ничуть не испортилось. В это время прямо перед стеной упражнялись со щитами главные силы спартанцев во главе с Алфеем и Мароном, которые инструктировали две
эномотии феспийцев. Птаммитех понаблюдал за братьями, и они произвели на него сильное впечатление.
– Тогда я изменю свою просьбу,– улыбаясь, сказал он Олимпию.– Если ты, господин, отведешь меня к вашему царю Леониду, я передам ему мое послание как командующему всеми союзными войсками эллинов.
Моему хозяину явно нравился этот представительный египтянин, и он был рад увидеть его снова.
– Все еще носишь стальные подштанники? – спросил он через переводчика.
Птаммитех расхохотался и, к удивлению собравшихся, показал свое нижнее белье из белого нильского полотна. А потом, на время отбросив официальную роль посла, дружески заговорил с моим хозяином.
– Я молюсь, чтобы кольчуги никогда не понадобились нам, братья.– Египтянин обвел рукой лагерь, Теснину и море, словно охватив рукой оборону в целом.– Кто знает, как все может обернуться? Может – как это случилось с вашими Десятью Тысячами при Темпе! Но говоря по-дружески лишь с вами четырьмя, я бы посоветовал вам вот что: не дайте вашей жажде славы и упоению оружием заслонить от вас реальность. Подумайте здраво, какие силы вам противостоят. Здесь вас ожидает лишь смерть. У защитников Фермопил нет никакой надежды выстоять перед той огромной силой, что послал на вас Великий Царь. Вы не продержитесь и одного дня. И даже все войска Эллады не одержат верх над персами в грядущих сражениях. Конечно, вы сами понимаете это, как и ваш царь.– Он помолчал, давая сыну возможность перевести и читая реакцию на лицах спартанцев.– Я умоляю вас внять совету, друзья, совету от чистого сердца, совету человека, который питает и самое глубокое уважение к вам лично и к вашему городу с его совершенно заслуженной славой. Смиритесь с неизбежным и признайте над собой власть сильнейшего – вам будут оказаны честь и уважение.
– 3десь можешь остановиться, дружок,– прервал египтянина Аристодем.
Полиник воспринял это с большим жаром:
– Если это все, с чем ты пришел к нам, братец, заткни это себе меж ягодиц.
Эти резкие слова не поубавили дружелюбия египтянина. – Можете положиться на мое слово и тем самым на слово Великого Царя: если спартанцы сейчас сдадутся и сложат оружие, никто не займет более почетного места под знаменем Великого Царя. Ни одна персидская нога не ступит на землю Лакедемона – ни теперь, ни вовеки, Великий Царь клянется в этом. Вашей стране будет дарована власть над всей Грецией. Ваши подразделения займут место в первых рядах войска Великого Царя и воспримут всю удачу и славу, что сулит такое видное положение. Вам следует лишь высказать свои пожелания. Великий Царь исполнит их и осыплет своих новых друзей дарами, которые своей щедростью и великолепием превзойдут ваше воображение. Так оно и будет, я хорошо знаю сердце Великого Царя.
При этих словах наши союзники перестали дышать. Их глаза в страхе уставились на спартанцев. Если предложение египтянина было искренним – а не было никакой причины считать его иным,– для Лакедемона оно означало спасение. Требовалось лишь отказаться от общеэллинского дела. Что сейчас ответят эти спартанцы? Немедленно отведут посла к своему царю? А слово Леонида – закон, так значительно его положение среди Равных и эфоров.
Судьба Эллады вдруг заколебалась на краю пропасти. Союзники стояли, пригвождённые к месту, затаив дыхание в ожидании ответа четырех лакедемонских воинов.
– Мне кажется,– обратился Олимпий к египтянину, не поколебавшись ни мгновения,– что, если Великий Царь действительно хочет сделать спартанцев своими друзьями, он найдет от них гораздо больше пользы, если они останутся с оружием в руках.
– Более того, опыт учит нас,– добавил Аристодем, что честь и слава – блага, которые нельзя даровать росчерком пера. Их берут копьем.
В этот момент я пристально посмотрел на лица союзников у многих на глазах выступили слезы, другие как будто бы с облегчением выпрямили колени, уже готовые подогнуться. Египтянин, очевидно, тоже заметил это. Он улыбнулся снисходительно и терпеливо, ничуть не смущенный.
– Господа, господа. Я смущаю вас вещами, которые еще можно и нужно обсудить, не здесь, не на рыночной площади, так сказать, а в узком кругу, в присутствии вашего царя. Пожалуйста, если не возражаете, отведите меня к нему.
– Он скажет то же самое, братец, – заявил Диэнек.
– Но в гораздо более грубых выражениях,– вставил какой-то спартанец из толпы.
Птаммитех подождал, пока уляжется смех.
– В таком случае, можно мне услышать ответ из уст самого царя?
– Он нас выпорет, Птаммитех,– с улыбкой вставил Диэнек.
– Сдерет шкуру у них со спины,– сказал тот же спартанец, что вмешался мгновение назад,– за одно лишь предложение такого бесчестья.
Глаза египтянина метнулись на него и увидели пожилого спартанца в домотканом плаще. Этот спартанец пробился во второй ряд и стоял за плечом Аристодема. На мгновение Птаммитеха ошеломил этот старик, который явно нес груз более шестидесяти лет и тем не менее в одеянии гоплита стоял среди других, более молодых воинов.
– Пожалуйста, друзья мои,– продолжил египтянин, не отвечайте под влиянием гордости или минутной страсти а позвольте мне развернуть перед вашим царем более широкие перспективы такого решения. Позвольте обрисовать дальнейшие замыслы Великого Царя. Греция – это лишь начальный плацдарм. Великий Царь уже правит всей Азией, и теперь его цель – Европа. Из Эллады войско Великого Царя двинется на завоевание Сикелии и Италии, оттуда – в Гельвецию, Галлию, Иберию (Птаммитех перечисляет римские названия областей, о которых ни персы, ни греки не знали). Если вы будете на нашей стороне, какая сила устоит против нас? Мы победоносно пройдем до самих Геркулесовых Столбов и еще дальше, до самых стен Океана! Пожалуйста, братья, обдумайте ваш выбор. Гордо встать здесь во всеоружии, чтобы вас самих сокрушили, вашу страну опустошили, ваших жен и детей обратили в рабство, а славу Лакедемона, если не сказать – само его существование, навсегда стерли с лица земли! Выберите, как я предлагаю, более скромный путь. Следуйте за неодолимым приливом истории. 3емли, которыми вы правите теперь, покажутся ничем рядом с владениями Великого Царя, которые он пожалует вам. Присоединяйтесь к нам, братья! Вместе завоюем весь мир! Ксеркс, сын Дария, клянется: ни одна нация или войско не превзойдет вас честью под знаменами Великого Царя! А если, мои спартанские друзья, вам кажется бесчестным бросить ваших братьев-эллинов, Царь Ксеркс простирает свое предложение дальше, на всех греков. Всем союзникам-эллинам он предоставит свободу и поставит рядом с вами, и среди остальных любимых подданных почетом они уступят лишь вам самим.
Ни Олимпий, ни Аристодем, ни Диэнек, ни Полиник не подали голоса в ответ. Египтянин увидел, что они уступают слово старику в домотканом плаще.
– Среди спартанцев каждый имеет право голоса, не только эти послы, поскольку все мы считаемся Равными – равными перед законом.– Старик шагнул вперед.– Могу я, господин, взять на себя вольность предложить вариант, который, я уверен, найдет одобрение не одних лакедемонян, но и всех греческих союзников?
– Да, пожалуйста, – ответил египтянин. Все глаза скрестились на ветеране.
– Пусть Ксеркс сдастся нам,– предложил он.– Мы не уступим ему в великодушии, поставим его войска в первых рядах среди наших союзников и окажем ему все почести, которыми он так щедро осыпал нас.
Египтянин взорвался хохотом:
– Прошу вас, друзья мои! Мы зря теряем драгоценное время. – Не удержавшись от нетерпеливого жеста, он отвернулся от старика и снова повторил свою настоятельную просьбу Олимпию: – Отведи меня к вашему царю!
– Это бесполезно, друг,– ответил Полиник.
– Царь – старый сварливый пень,– добавил Диэнек.
– В самом деле,– вмешался старик.– Это неуравновешенный и вспыльчивый тип, еле грамотный, и, говорят, к полудню он обычно уже навеселе.
На лице египтянина расползлась широкая улыбка. Он посмотрел на моего хозяина, потом на Олимпия.
– Понятно,– сказал Птаммитех.
И снова повернулся к старику, который, как теперь он понял, был не кем иным, как самим царем Леонидом.
– Что ж, почтенный,– прямо обратился египтянин к спартанскому царю, почтительно склонив голову,– поскольку моему желанию поговорить лично с Леонидом, похоже, не суждено сбыться, из почтения к седине, что я вижу в твоей бороде, и многим рубцам, что мои глаза усмотрели на твоем теле, возможно, ты сам, господин, вместо вашего царя примешь этот дар от Ксеркса, сына Дария.
Он достал из мешка двуручный золотой кубок великолепной работы, инкрустированный драгоценными камнями и, и объявил, что выгравированное изображение посвящено Амфиктионии, покровительствующей Фермопилам, равно как Гераклу и Гиллу, его сыну, от которого ведут свой род спартанцы и сам Леонид. Кубок был так тяжёл, что египтянину пришлось держать его двумя руками.
– Если я приму этот щедрый подарок,– обратился к Птаммитеху Леонид,– он пойдет в военную сокровищницу союзников.
– Как тебе будет угодно,– поклонился египтянин.
– Тогда передай своему Царю благодарность от всех эллинов. И скажи, что мое предложение остается в силе, если боги даруют ему мудрость принять его.
Птаммитех передал кубок Аристодему, который принял его от имени царя. Прошло несколько мгновений. В это время Птаммитех впервые встретился глазами с Олимпием, а потом пристально уставился на моего хозяина. Взгляд египтянина заволокло торжественным спокойствием, граничащим с печалью. Очевидно, он осознал неизбежность того, чего с таким состраданием и заботой хотел избежать – Если попадете в плен,– обратился Птаммитех к спартанцам,– назовите мое имя. Я приложу все усилия, чтобы спасти вас.
– Это ты назови наши имена, брат, когда попадешь в плен,– ответил Полиник, напряжённый, как сталь. Египтянин отшатнулся, уязвленный. К нему быстро подошел Диэнек и тепло сжал руку.
– До встречи,– сказал он.
– До встречи,– повторил Птаммитех.
КНИГА ШЕСТАЯ
ДИЭНЕК
Глава двадцать четвертая
Они носили штаны.
Пурпурные шаровары, расширявшиеся ниже колена и до половины прикрывавшие сапоги из замши или какой-то другой дорогой кожи. Из-под кольчуги с металлическими пластинами, покрывавшими их, как рыбья чешуя, виднелись вышитые рубахи с рукавами. Их шлемы из кованого железа, не скрывавшие лиц и с блестящим оперением, возвышались, как купола. Они румянили щеки и носили украшения в ушах и на шее. Они напоминали женщин, и все же их одеяния, неправдоподобные и причудливые для эллинских глаз, вызывали не презрение, а страх. Возникало ощущение, будто ты встретился с людьми из подземного мира, из какой-то немыслимой страны, расположенной по ту сторону Океана, где верх был внизу, а ночь наступала днем. Знали ли они нечто неведомое грекам? Имеют ли их легкие щиты, казавшиеся такими хрупкими по сравнению с массивными эллинскими
асписами из дуба и бронзы, закрывавшими воина от плеча до колена, каким-то нечестивым путем преимущество перед греческими? Их копья были не из толстого ясеня и кизила, как греческие, а легче, тоньше, почти как метательные дротики. Как же они разят ими? Метают сверху или бьют из-под руки?
Это были мидийцы, передовые части войска, которым выпало первыми атаковать союзников, хотя тогда никто из защитников прохода еще не знал этого наверняка. Греки не различали в строю персов, мидийцев, ассирийцев, вавилонян, арабов, фригийцев, карийцев, армян, киссийцев, каппадокийцев, пафлагонцев, бактрийцев и прочих представителей ста азиатских народов, за исключением ионических эллинов и лидийцев, индусов, эфиопов и египтян, которые стояли в своих особенных доспехах и со своим оружием. 3дравый смысл и разумная стратегия говорили, что честь пролить первую кровь военачальники Великой Державы даруют какому-то одному народу среди своих соединенных сил. И в то же время, как догадались греки, при первом столкновении рассудительный военачальник не пошлет в бой цвет своего войска – в теперешнем случае это были Десять Тысяч, персидская гвардия, известная как Бессмертные,– нет, разумный военачальник придержит свои элитные части в резерве на непредвиденный случай.
По сути, ту же самую стратегию применили и Леонид с военачальниками союзников. Они держали спартанцев сзади, после многих споров и обсуждений предоставив честь первой крови воинам из Феспий. Те выдвинулись на передовую позицию, и теперь, утром пятого дня, они выстроились в боевой порядок шириной в шестьдесят четыре щита на «танцевальной площадке», образованной спереди оконечностью Теснины, с одного бока стеной гор, с другого – обрывающимися в море отвесными скалами, а с тыла – Фокийской стеной.
Таким образом, поле сражения представляло собой тупоугольный треугольник, самая длинная сторона которого располагалась на юге и подпиралась стеной гор. На этой стороне феспийцы выстроились глубиной в восемнадцать шеренг. На противоположной стороне, вдоль обрыва у моря, глубина строя составляла десять щитов. Это феспийское войско насчитывало около семисот человек.
Сразу же позади, на стене, стояли спартанцы, флиунтцы и микенцы числом шестьсот человек. Позади за стеной выстроились воины всех союзных городов в полной
паноплии.
Прошло два часа с тех пор, как в полумиле по Трахинской дороге враг впервые показался на глаза, но потом никакого движения не наблюдалось. Утро выдалось жаркое. Дорога расширялась и образовывала открытое место размером с агору небольшого города. Сразу после рассвета дозорные заметили, как там начали скапливаться мидийцы. Их число доходило до четырех тысяч. Однако это был лишь тот враг, которого можно было увидеть. Горы скрывали другие части, подходящие и строящиеся в боевые порядки. Доносились сигналы вражеских трубачей и команды военачальников, собирающих за горой новые и новые войска. Сколько еще тысяч скрывались от наблюдателей?
Проползло четверть часа. Мидийцы продолжали выстраиваться но пока не наступали. Эллины-дозорные начали выкрикивать им оскорбления. Позади, в Теснине, жара и другие потребности начали сказываться на раздраженных, нетерпеливых греках. Не имело смысла и дальше потеть под полным грузом оружия и доспехов.
– Снять, чтобы быстро снова взять! – крикнул своим землякам Дифирамб, феспийский военачальник.
Оруженосцы и слуги бросились между рядами вперед, чтобы помочь каждый своему господину освободиться от нагрудных лат и шлема. Пояса распустили. Щиты уже были на земле, прислоненные к колену. Промокшие от пота войлочные подшлемники выжимали, как банные простыни. Колья были воткнуты нижним концом в твердую землю и теперь напоминали лес с железными верхушками. Воинам разрешили опуститься на колени. Вокруг сновали оруженосцы с мехами с водой, заправляя иссушенных бойцов, как амфоры. Можно было спокойно биться об заклад, что многие мехи содержали более живительную влагу, чем та, что зачерпывают из родника.
Пауза тянулась и тянулась, и чувство нереальности делалось все тяжелее. Возможно, это опять ложная тревога, как и в предыдущие четыре дня? Нападут наконец персы или нет?
– Хватит дремать! – рявкнул какой-то командир.
Опаленные солнцем воины мутным взором продолжали смотреть на Леонида и прочих военачальников, стоявших на стене. О чем они говорят? Какой приказ собираются отдать?
Даже в Диэнеке нарастало нетерпение.
– Почему на войне нельзя поспать, когда хочется, и не получается не спать, когда нужно?
Он вышел вперед, чтобы обратиться с ободряющим словом к своей
эномотии, когда из передовых рядов донесся такой крик, что Диэнек замер на полуслове. Все глаза обратились наверх.
Теперь греки увидели, чем вызвана задержка.
Там, на высоте в несколько сотен локтей, на вершине холма, группа персидских слуг в сопровождении сотни Бессмертных устанавливали платформу, а на ней трон.
– Сучьи дети! – усмехнулся Диэнек.– Да это же сам Пурпурный Хрен!
В вышине над войсками какой-то человек возрастом приблизительно от тридцати до сорока в пурпурных одеяниях с золотой бахромой взошел на платформу и воссел на трон. До него было локтей шестьсот, но даже с этого расстояния было невозможно не заметить необыкновенную красоту монарха и величавость его осанки, а также крайнюю самоуверенность его манер. Он напоминал человека, пришедшего посмотреть на зрелище – приятное увеселительное представление, результат которого предрешен, но которое тем не менее сулит определенное развлечение. 3ритель занял свое место. Слуги поправили над ним зонтик от солнца. Мы видели рядом с ним стол с прохладительными напитками, а слева несколько конторок с сидящими рядом писцами.
Стоящие внизу греки показывали царю непристойные жесты, и из четырех тысяч глоток вырвались оскорбительные крики.
В ответ на это глумление Великий Царь с достоинством поднялся и изящно и не без юмора сделал признательный жест за внимание к его персоне. Он церемонно поклонился. Хотя расстояние было слишком велико, чтобы утверждать наверняка, но показалось, будто он улыбается. Царь отдал салют собственным военачальникам и величественно уселся на трон.
Мое место было на стене, тридцатым от упиравшегося в гору левого фланга. Как и все феспийцы, что стояли перед стеной, как все лакедемоняне, микенцы и флиунтцы, которые были на стене, я увидел вражеских военачальников, двинувшихся вперед под звуки труб во главе сомкнутых рядов пехоты. Клянусь Гераклом, они выглядели внушительно! Шесть военачальников во главе своих полков – и каждый следующий казался выше и благороднее предыдущего. Позже мы узнали, что это был не просто цвет персидской знати. Их ряды были усилены сыновьями и братьями тек, кто десять лет назад погиб от рук греков при Марафоне. Но от чего холодела в жилах кровь – так это от их манер. Они держались с блеском, смело до высокомерия. Они не сомневались, что сейчас просто сметут защитников прохода. Позади, у них в лагере, уже жарилось мясо им на обед. Они сравняют нас с землей, даже не вспотев, после чего вернутся и, не торопясь, пообедают.
Я взглянул на Александра – его лоб блестел от пота, побелевший, как саван; дыхание вырывалось сдавленными хрипами. Мой хозяин стоял рядом с ним, на шаг впереди. Внимание Диэнека было приковано к мидийцам, чьи сомкнутые ряды уже заполняли Теснину и простирались по дороге бесконечно, насколько хватало глаз. Но никакие эмоции не затуманивали его рассудка. Диэнек профессионально оценивал их, хладнокровно осматривая вооружение и выправку воинов, ровные ряды, интервалы между бойцами. Это были такие же смертные, как мы сами. Были ли они так же, как и мы, потрясены стоявшей перед ними силой? Леонид неоднократно повторял, чтобы феспийцы начистили свои щиты, шлемы и поножи до зеркального блеска, и теперь их доспехи сверкали. Над верхним краем обитых бронзой
асписов ярко горел шлем с высоким гребнем, украшенным конским волосом. Плюмаж подрагивал и колыхался на ветерке, и это не только создавало впечатление ошеломительной высоты и мощи воина, но оказывало устрашающий эффект, который не передать словами,– чтобы понять, это надо увидеть.
Но по-моему, самым страшным было бессмысленное выражение греческих шлемов с бронзовыми предличниками толщиной в палец, горящими начищенными пластинами и жуткими глазными прорезями. Шлемы закрывали все лицо и вызывали у врага чувство, что он столкнулся не с такими же существами из плоти и крови, как он сам, а со смертоносными неуязвимыми машинами, безжалостными и неутомимыми. Не прошло и двух часов с тех пор, как мы с Александром смеялись, когда он водрузил шлем на свой войлочный подшлемник; таким милым и юным он казался в то мгновение, когда сдвинул шлем на затылок и показал свое молодое и красивое, почти как у девушки, лицо. Потом одним непринужденным движением правая рука затянула ремень под подбородком и опустила на лицо маску. Мгновенно все человеческое в нем исчезло, и нежные выразительные глаза превратились в лютые невидящие бездонные глазницы на бронзе. Какое-либо выражение мгновенно стерлось, замененное бессмысленной маской убийцы.
– Сними снова,– крикнул я,– ты меня до смерти напугал!
Это была вовсе не шутка.
А теперь Диэнек оценивал, какой эффект эллинское вооружение оказывает на врага. Глаза моего хозяина внимательно осматривали вражеские ряды, и можно было разглядеть, что кое у кого из наступавших штаны спереди потемнели от мочи. Теперь мидийцы выстроились в боевой порядок. Каждый ряд нашел свою позицию, командиры заняли свое место.
Прошло еще несколько бесконечных мгновений. Утомление сменилось страхом. Нервы напряглись, кровь колотила по ушам, руки онемели, все члены омертвели. Тело словно утроилось в весе и похолодело, как камень. Каждый слышал свой голос, взывающий к богам, и не мог понять, то ли молитвы звучат в голове, то ли позорно произносятся вслух.
Трон Великого Царя находился слишком высоко на горе, и оттуда было не рассмотреть, что произошло потом, какой знак богов непосредственно предшествовал столкновению. А дело было так. Внезапно из скал выскочил заяц и метнулся прямо меж двух войск, не более чем в тридцати футах от феспийского начальника Ксенократида, который стоял в самом авангарде своих войск между другими военачальниками, Дифирамбом и Протокреоном. Все они были в венках, шлемы сдвинуты на затылок. При виде бегущей добычи чалая сука Стикс, которая до того уже яростно лаяла, вырвалась с правого фланга греческого строя и стрелой вылетела на открытое место. Это было бы смешно, если бы все эллинские глаза не восприняли это как небесное знамение и не затаили дыхание в ожидании исхода.
Гимн Артемиде, который пели воины, замер на полуслове. Заяц бросился прямо к первым рядам мидийцев, захваченная азартом погони Стикс преследовала его по пятам. Оба казались визжащими комками звериной плоти, и облачка пыли из-под их мелькающих лап повисли в неподвижном воздухе вдоль всего пути, где их распластанные тела касались земли. 3аяц бросился прямо в гущу мидийцев, но затем в панике попытался круто свернуть и закувыркался по земле. Стикс молнией настигла его, и казалось, собачьи челюсти вот-вот разорвут добычу пополам, но, ко всеобщему удивлению, заяц вырвался невредимый и в мгновение ока вновь набрал полную скорость.
Погоня продолжалась зигзагами, и за долю мгновения заяц трижды пересекал
оуденос хорион – ничейную землю между войсками. 3айцы всегда бегут в гору: их передние лапы короче задних,– и теперь резвый бегун метнулся к крутому горному склону, стремясь спастись там. Но склон был слишком отвесный, ноги беглеца не удержались, и он упал вниз. Через мгновение его обмякшее тело безжизненно свисало из пасти Стикс.
Радостный вопль вырвался из глоток четырех тысяч греков – определенно, это было знамение победы, ответ на гимн, который им пришлось прервать. Но теперь из мидийских рядов вышли два лучника. Когда Стикс повернулась, ища хозяина, чтобы показать ему свою добычу, две тростниковые стрелы, одновременно пущенные не более чем с двадцати шагов, вонзились в собачий бок и горло, и собака закувыркалась в пыли.
Скириты издали горестный крик, они все привыкли к этой собаке. Несколько мгновений она дергалась и извивалась в мучениях, насмерть пронзенная вражескими стрелами. Мы слышали, как вражеский военачальник отдал на своем языке какой-то приказ. И тут же тысяча мидийских лучников подняли луки.
– Они стреляют сюда! – крикнул кто-то со стены, и эллины тут же подняли щиты.
Этот звук – звук разрываемой ветром ткани,– издали взметнувшиеся в воздух стрелы, и эти стрелы запели, неся вперед строенные бронзовые наконечники.
Пока стрелы чертили дугу в вышине, феспийский начальник Ксенократид воспользовался моментом.
– 3евс-Громовержец и Победа! – крикнул он, сорвав с головы венок и рывком натянув шлем, который закрыл ему все лицо, оставив лишь прорези для глаз. Все эллины мгновенно последовали его примеру. Тысяча стрел обрушилась на них смертоносным ливнем. Проревел
сальпинкс.
– Феспии!
Со стены, где я стоял, казалось, что феспийцы находятся от врага на расстоянии двух ударов сердца. Их передние ряды ударили врага не с тем громом бронзы по бронзе, который знаком эллинам по сражениям между собой, а с почти тошнотворным хрустом, словно десять тысяч охапок виноградных лоз переломились в кулаках виноградаря, когда металлическая поверхность греческих щитов столкнулась с плетеными щитами налетевших мидийцев. Враг поколебался и зашатался. Феспийские копья поднимались и опускались. Через мгновение все поле брани скрылось в смерче поднятой пыли.
Спартанцы на стене оставались недвижимы, пока ряды сражающихся, как мехи, сжимались у них на глазах. Первые три ряда феспийцев сжались, превратились в один при столкновении с врагом; теперь уже последующие ряды – четвертый, пятый, шестой, седьмой и далее, между которыми при движении возник интервал, устремлялись вперед, волна за волной налетали на передние, и каждый воин поднял щит и держал его прямо, насколько позволяли ослабшие с от страха руки, толкая им в спину товарища, налегая левым плечом под верхний край щита и упираясь подошвами и пальцами ног в землю, чтобы вложить в давление всю силу. От одного вида этого останавливалось сердце, а феспийские воины выкрикивали призывы к богам, к душам детей, к матерям, ко всему возвышенному или абсурдному, что только могли призвать на помощь себе, и, забыв про собственную жизнь, с невероятным мужеством бросались в убийственную давку.
Позади, как муравьи на сковородке, приплясывали феспийские оруженосцы, без строя и без оружия; некоторые пятились в страхе, другие бросались вперед, крича друг на друга, призывая не подводить воинов, которым служат. По этим вспомогательным войскам была выпущена вторая, а затем и третья туча стрел. Тысячи вражеских стрелков выстроились в тылу копьеносцев и стреляли навесом поверх плюмажей своих товарищей. Бронзовые наконечники втыкались в землю неровным, но ощутимым валом, как морской прибой. Можно было видеть, как этот смертоносный занавес отступает по мере того, как за спинами своих копьеносцев отступали лучники, сохраняя дистанцию, чтобы сконцентрировать залп на массе атакующих греков, а не стрелять попусту поверх их голов. Один феспийский оруженосец безрассудно метнулся вперед к линии брани, и бронзовый наконечник пригвоздил к земле его ногу. Феспиец запрыгал прочь, завывая от боли и обзывая себя идиотом.
– Вперед, к Львиному камню!
С этим криком Леонид покинул свою позицию на стене и ринулся вниз по каменному склону, построенному специально с уклоном. Он выбежал на площадку перед спартанцами, микенцами и флиунтцами, которые последовали за ним, когда «зона обстрела» вражеских бронзовых стрел отступила под неистовым напором феспийцев. Те сохраняли ровные ряды, как делали это десятки раз в предыдущие четыре дня, когда отрабатывали маневры на подготовленных позициях на площадке перед стеной.
Вдоль горного склона слева от места сражения над облаками пыли возвышались три камня, каждый в два человеческих роста. Именно их избрали вехами.
Ящеричный камень, названный так в честь одного бесстрашного представителя этой породы, который невозмутимо грелся сверху, находился в наибольшем удалении от Фокийской стены, ближе всего к Теснине – локтях в семидесяти от действительного входа в ущелье. Решено было позволить врагу продвинуться до этой линии. Согласно расчетам, между этой вехой и Проходом может уместиться тысяча врагов в плотном строю. Тысяча, сказал Леонид, будет приглашена на танец. Там, у Ящеричного камня, с ними следует вступить в бой и остановить их.
Коронный камень, второй из трех, на пятьдесят локтей ближе Ящеричного, определял линию, к которой должны будут подходить отряды подкрепления непосредственно перед вступлением в бой.
Львиный камень, самый ближний из трех, стоявший прямо перед Стеной, отмечал рубеж ожидания и место для разгона. Туда должны будут подходить отряды подкрепления, оставляя между собой и задними рядами уже сражающихся достаточно пространства для маневра. При необходимости бойцы могли отступить и восстановить строй, один фланг мог поддержать другой, а раненые получали возможность покинуть поле боя.
И вот теперь спартанцы, микенцы и флиунтцы должны были занять позиции у воображаемых линий, проходящих мимо этих веховых камней.
– Выровнять строй! – проревел
полемарх Олимпий. Тесней ряды!
Презирая дождь стрел, он расхаживал перед фронтом и выкрикивал приказы своим
эномотархам, которые повторяли его слова воинам.
Леонид, выйдя вперед дальше Олимпия, наблюдал за ходом боя, который почти поглотили клубы пыли, поднятые у Теснины. Шум нарастал. Стук мечей и копий по щитам, колокольный звон бронзовых куполообразных шлемов, крики воинов, резкий треск ломающихся копий – все это многократно повторялось эхом между горным склоном и Тесниной, словно в
театроне смерти, окруженном амфитеатром. Леонид, все еще в венке, со сдвинутым назад шлемом, обернулся и сделал знак
полемарху.
– Опустить щиты! – проревел Олимпий.
Асписы по всему строю спартанцев опустились на землю, прислоненные верхним краем к бедру воинов, однако рукоятка и ремень оставались под рукой наготове. Шлемы у всех были сдвинуты на затылок, лица открыты. Рядом с Диэнеком, как блоха, прыгал его командир восьмерки Биас:
– Вот оно, вот она, вот оно!
– Спокойно.– Диэнек вышел вперед, чтобы воины видели его.– Опустите свои сырные тарелочки.
В третьем ряду Аристон, совершенно вне себя от волнения, по-прежнему сжимал рукоять щита, не опуская его. Диэнек протолкался к нему и с размаху ударил по его щиту копьем плашмя.
– Рисуешься?
Юноша отшатнулся, моргая, как мальчик, очнувшийся от кошмара. Было видно, что он не может взять в толк, кто такой Диэнек и чего ему надо. Потом, вздрогнув, он пришел в себя, поставил щит на землю и прислонил к колену.
Диэнек стал ходить вдоль строя.
– Всем смотреть на меня! На меня, братья! – у воинов пересохло во рту, язык стал, как ремень, а Диэнек жестким гортанным голосом хрипло лаял на них: – Смотреть на меня, не смотреть на бой!
Воины оторвали глаза от приливов и отливов смертоубийства, происходившего на «танцевальной площадке». Диэнек стоял перед строем спиной к врагу.
– О том, что там происходит, слепой может сказать по одному звуку.– Голос Диэнека слышался четко, несмотря на шум сражения, доносящийся из Теснины.– Вражеские щиты слишком малы и слишком легки. Их воины не могут себя защитить. Феспийцы их одолевают.– Взгляды всех снова обратились к сражению. – Смотреть на меня! Проклятье, да смотрите же на меня! Враг еще не сломлен. Они чувствуют на себе взгляд своего Царя. Они падают, как снопы, но мужество еще не оставило их. Я сказал, смотреть на меня! На поле убийства вы сейчас видите шлемы наших союзников, они возвышаются над битвой, как будто феспийцы взбираются на стену. Так оно и есть. На стену из вражеских тел.
И это действительно было так. Было отчетливо видно, как воины волной накатывают наверх, поднимаясь над кипящей бойней.
– Феспийцам осталось еще несколько минут. Они изнемогли от убийства. Это охота на куропаток. Рыба в неводе. Слушать меня! Когда придет наш черед, враг будет готов рухнуть. Я уже слышу, как он ломается. Помните: мы входим в бой лишь ненадолго. Вошли – и вышли. Никто не погибает. Никакого геройства. Вошли, убили сколько можно и по звуку трубы отходим.
Позади спартанцев, на стене, заполненной третьей волной тегейцев и опунтских локрийцев, всего числом тысяча двести, сквозь шум битвы прорезался звук сальпинкса. Леонид поднял копье и надел шлем. Было видно, как Полиник и Всадники двинулись вперед и окружили его. Феспийцы закончили свою смену.
– Надвинуть шляпы! – проревел Диэнек.– Поднять тарелочки!
Спартанцы выступили всем фронтом, глубиной восемь шеренг, с двойным интервалом, позволяя задним рядам феспийцев просочиться между колоннами, один за другим, ряд за рядом. Никакого порядка не соблюдалось, феспийцы валились с ног от усталости, и лакедемоняне просто перешагивали через них. Когда спартанские
промбхи, воины переднего ряда, оказались в трех рядах от фронта сражения, их копья стали разить врага над плечами союзников. Многие феспийцы падали и давали себя топтать; товарищи оттаскивали их за ноги, когда ряд наступающих воинов проходил через них.
Все, что сказал Диэнек, оказалось правдой. Мидийские щиты были не просто слишком легкими и маленькими – недостаток массы не позволял противостоять эллинским широким и тяжелым выпуклым
асписам. Щиты вражеской пехоты соскальзывали с чашеобразных щитов греков, открывая для удара шею или бедро, горло или пах противника. Спартанцы снова и снова кололи из-под руки копьями в лицо и в горло врагу. Вооружение мидийцев подходило для мелких стычек, для схваток на равнине. Это было вооружение легкой пехоты, чья задача – действовать быстро, разя на расстоянии. Тесно сомкнутая фаланга греков означала для них смерть.
И все же они не сдавались. От их отваги захватывало дух – это было безрассудство на грани безумия. Сражение превратилось в незатейливую бойню. Мидийцы подставляли спартанцам тела, словно плоть была их оружием. Через несколько минут спартанцы изнемогли. Изнемогли просто от убийств. Просто от того, что одна рука разила копьем, а другая держала щит, от колотящейся в венах крови, от бьющегося в груди сердца. 3емля уже была не усеяна вражескими телами – она была сплошь покрыта ими. В несколько слоев. Груды тел.
По пятам за спартанцами следовали их оруженосцы. Они даже и не думали о том, чтобы разить врага своим метательным оружием, – оно потеряло всякий смысл. Они оттаскивали растоптанные вражеские трупы, чтобы по земле могли ступать греческие воины. Я увидел, как Демад, Аристонов оруженосец, за пятнадцать секунд перерезал глотки троим раненым и швырнул их трупы назад, в кучу корчащихся и стонущих мидийцев.
В первых рядах мидийцев порядок расстроился. Начальники выкрикивали приказы, но в шуме их не было слышно. Ошеломлённые давкой, люди не могли следовать никаким указаниям. И все же побеждённые не поддались панике. В отчаянии они отбросили луки, копья и щиты и голыми руками вцеплялись в оружие спартанцев. Они хватались за копья, висли на них и старались вырвать из рук спартанцев. Другие бросались всем весом на лакедемонские щиты, цеплялись за верхний край и тянули чашу
асписа вниз, после чего впивались во врага пальцами и ногтями.
Теперь сражение в первых рядах перешло в рукопашные схватки один на один. Правильные ряды смешались, ни о каком построении не было уже и речи. Спартанцы сблизились с врагом грудь в грудь и со смертельной эффективностью работали своими короткими мечами-
ксифосами: воткнул – вынул, воткнул – вынул. Я увидел Александра – без щита, он вонзил
ксифос прямо в лицо мидийцу, чьи руки вцепились Александру в пах.
Лакедемоняне средних рядов врезались в этот бедлам с незапятнанными копьями и щитами. Но мидийцы казались неиссякаемыми; подкрепления все шли и шли к ним. Над столпотворением битвы можно было видеть, как следующая тысяча воинов марширует в Теснину, заливая ее, словно наводнение. И еще мириады остаются сзади, а за ними – еще и еще… Несмотря на катастрофическое число потерь, бесконечный прилив воинов начал приносить врагу пользу. Сама масса их полчищ стала ломать спартанский строй. Единственное, что не позволило врагу смять эллинов, – это невозможность для войск проходить через Теснину достаточно быстро, а также стена из мидийских тел, что преграждала открытое пространство, точно оползень.
Спартанцы сражались из-за этой стены плоти, как из-за каменного укрепления. Враг роем накатывался на этот вал. Теперь мы из тыла видели нападавших: они превратились в мишени. Дважды Самоубийца метал дротики прямо из-за плеча Александра в мидийцев, бросавшихся на юношу с холма из трупов. Тела были везде, куда ни ступи. Я считал, что залез на камень, и вдруг почувствовал, что он корчится и извивается подо мной. Это был живой мидиец. Он рубанул меня обломком своей
махеры – кривого меча – и рассек мне икру на ладонь. Я завыл от страха и опрокинулся в мешанину других окровавленных рук и ног. Враг вцепился в меня зубами. Он впился мне в руку, словно стремясь вырвать ее из сустава. Я ударил его по лицу луком, который по-прежнему сжимал в руке. И вдруг чья-то нога тяжело наступила мне на спину. С отвратительным чавканьем опустился боевой топор, и череп врага раскололся, как дыня.
– Что ты там ищешь? – проревел чей-то голос.
Это был Акант, оруженосец Полиника, забрызганный кровью и оскалившийся, как безумец.
Враги хлынули через стену тел. Встав на ноги, я не смог разглядеть Диэнека и не мог сказать, где какая
эномотия и где мне следует находиться. Я не представлял, сколько времени мы уже сражаемся. К спине у меня было привязано два запасных копья; их наконечники скрывались под кожаными чехлами так что, если бы я случайно споткнулся, они бы не причинили вреда моим товарищам. Все прочие оруженосцы имели такую же ношу.
Впереди слышалось, как трещат древки мидийских копий, ломаясь при ударе о спартанскую бронзу. Спартанские длинные копья издавали другой звук, не такой, как более короткие и легкие копья противника. Нескончаемый наплыв мидийцев работал против лакедемонян – не из-за недостатка у них доблести, а просто вследствие ошеломительного количества людских масс, которые враг бросал в зубы ненасытного сражения. Я отчаянно стремился отыскать Диэнека и отдать ему запасные копья. Вокруг царил хаос. Я слышал, как ломается строй справа и слева, и видел, как спартанцы в задних рядах пятятся под напором мидийских колонн. Мне следовало забыть про хозяина и служить тем, кому могу.
Я метнулся туда, где строй был самым слабым, всего три шеренги глубиной; он начинал прогибаться дугой, какая обычно предшествует полному прорыву. Один спартанец упал навзничь среди жертв побоища; я видел, как какой-то мидиец начисто отсек ему голову ударом кривого меча. Отделенная от туловища голова вместе со шлемом покатилась в пыль, разбрызгивая костный мозг и жутко обнажив сероватые кости позвоночника. Шлем и голова исчезли в лесу поножей, обутых и босых ног. Убийца издал торжествующий крик, подняв к небу клинок, но не прошло и мгновения, как воин в малиновых доспехах так глубоко вонзил копье ему в кишки, что убийственная сталь вышла из спины. Я видел, как другой мидиец упал просто от страха. Спартанец не мог вытащить копье обратно и выломал
его, наступив ногой на брюхо еще живого врага. Древко сломалось пополам. Я не знал, кто этот герой, и так никогда и не узнал.
– Копье! – услышал я его рев.
Жуткие глазницы его шлема обратились назад за спасением, за запасным копьем, в поисках кого-нибудь, кто протянет новое оружие. Я выдернул оба копья из-за спины и швырнул в руки неизвестного воина. Острием назад. Он схватил одно и, развернувшись, обеими руками вонзил его нижний конец в горло другого мидийца.
Ремень его щита был перерезан или оборвался изнутри, и сам
аспис упал в грязь. Не было места, чтобы нагнуться и подобрать его. Двое мидийцев бросились на спартанца с копьями наперевес, но тут же были перехвачены массивной чашей щита в руке его товарища, который успел защитить соратника. Оба вражеских копья переломились при ударе наконечников о бронзу и дуб выпуклого
асписа.
По инерции мидийцы пронеслись вперед, упали на землю и оказались под ногами у первого спартанца. Он вонзил свой
ксифос в живот первому мидийцу, потом занес его и с убийственным воплем рубанул по глазам второму мидийцу. Тот в ужасе схватился за лицо, меж сжатых скрюченных пальцев хлынула кровь, а спартанец схватил обеими руками свой упавший щит и нижним краем, как сечкой, ударил врага по шее с такой силой, что чуть его не обезглавил.
– Пере-строиться! Пере-строиться! – услышал я крик кого-то из командиров.
Кто-то сзади оттолкнул меня в сторону. Спустя миг другой спартанец, из другой
эномотии, ринулся вперед, усиливая тонкую, как мембрана, линию строя, которая колебалась на грани прорыва. Это был бой «в свалке». От вида проявляемой в нем отваги захватывало сердце. Еще мгновение назад ситуация грозила обернуться катастрофой – но вот в нужное место поступили подкрепления, и тотчас вновь возвращаются порядок и дисциплина. Каждый, оказавшись впереди, в каком бы ряду строя ни стоял раньше, принимал на себя роль командира. Эти сомкнутые ряды и отполированные щиты одним движением бронзовой стеной вздымались перед смешавшейся массой, давая оказавшимся в тылу драгоценные секунды, чтобы перестроиться и вновь вступить в бой, заняв позицию во втором, третьем, четвертом ряду.
Ничто так не воспламеняет мужество в сердце воина, как те моменты, когда он с товарищами оказывается на грани смерти, на волоске от разгрома и уничтожения – и присутствие духа не позволяет поддаться панике, запрещает отдаться во власть отчаяния, но вместо этого заставляет выполнять обычные действия, повинуясь приказу. Мужество, идущее изнутри, но являющееся следствием железной дисциплины и хорошего обучения. Именно это Диэнек всегда объявлял высшим достоинством воина. Выполнять обычное в необычных обстоятельствах. И совершать это не в одиночку, как Ахилл или герой прежних времен, нет, действовать как часть целого. В мгновения хаоса чувствовать рядом с собой братьев по оружию, товарищей, которых даже не знаешь по имени, с которыми никогда вместе не учился военному делу, но которые заполняют пространство рядом с тобой сейчас – со стороны щита и со стороны копья, спереди и с тыла. Увидеть, что товарищи сплачиваются, как один,– не в безумной и неистовой одержимости, а в полном порядке, невозмутимо. Понять, что каждый знает свою роль в битве и справляется с ней. Строй, где каждый берет силы у своих соседей и одаряет ими других. В такие моменты воин возвышается словно бы божественной рукой. Он не может сказать, куда девается его существо, где находятся сейчас души стоящих рядом. В этот момент фаланга приобретает такую монолитную общность, где каждая частица интуитивно понимает все остальные. Строй действует не просто как механизм, как машина войны, а на более высоком уровне – как единый организм, как зверь с общим сердцем и общим током крови.
Град вражеских стрел падал на спартанский строй. Со своего места сразу же за последним рядом спартанцев я видел, что ноги воинов, сначала беспорядочно топтавшиеся в поисках опоры на раскисшей от крови земле, теперь двигаются слаженно, в безжалостном ритме, словно перемалывая врага. Сквозь гром бронзы и крики ярости пробивались визжащие звуки флейт, задавая такт, который отчасти был музыкой, а отчасти – биением сердца. Левая нога – со стороны щита – с усилием шагала вперед, носком на врага; потом правая – со стороны копья – под прямым углом, зарываясь в грязь; шаг заканчивался, когда воин находил опору и твердо вставал на подошву. Тогда всей силой своих мышц и жил воин налегал левым плечом на внутреннюю часть щита, широкой внешней поверхностью упертого в спину идущего впереди. Казалось, гребцы наваливаются на одно весло и единый толчок продвигает корабль фаланги вперед, против прилива врагов.
Впереди длинные копья спартанцев разили врага, сверху вниз, сверху вниз; каждый воин правой рукой выбрасывал копье вперед поверх края щита, в лицо врагу, в горло и плечи. 3вук щита по щиту больше не был хрустом и стуком первоначального столкновения. Он стал глубже и страшнее, напоминая металлический перемалывающий механизм, жернова убийственной мельницы. И никаких криков, ни от спартанцев, ни от мидийцев, больше не раздавалось; голоса больше не сливались в едином хоре ярости и страха. Легкие работали только на дыхание, грудь вздымалась подобно кузнечным мехам, пот ручьями стекал на землю, а из горла сошедшихся тысяч вырывались хрипы, которые больше всего напоминали те звуки, что издают рабочие в каменоломне, когда они, запряженные попарно в волокуши, кряхтя, силятся сдвинуть огромный камень по сопротивляющейся земле.
Война – это работа, всегда учил Диэнек, стараясь сорвать с нее покров таинственности. Мидийцы при всей своей отваге, огромной численности и несомненном умении воевать на открытой местности – этого хватило, чтобы захватить всю Азию,– оказались новичками в этом сражении с эллинской тяжелой пехотой. Их колонны не были обучены надежно держать строй и давить в унисон, они не проводили бесконечных учений, как спартанцы, чтобы удерживать линию и интервал, прикрывая друг друга. В смертельном деле мидийцы превратились в толпу. Они наталкивались на лакедемонян, как бараны, бегущие от огня на площадку для выгула, без взаимодействия, питаемые одним лишь мужеством, которое, при всем своем величии, не могло противостоять обрушившейся на них дисциплинированной и согласованной атаке.
Несчастным мидийцам в первых рядах было некуда деваться. Они оказались зажаты между толпой напирающих сзади собственных товарищей и разящими спереди спартанскими копьями. Воины задыхались от давки. Их сердца не выдерживали. Я мельком увидел Алфея и Марона; как пара волов в одном ярме, братья плечом к плечу образовали закаленное острие наконечника глубиной в двенадцать рядов, врезавшееся в мидийский строй и расколовшее его в пятидесяти шагах от горного склона. Справа от близнецов Всадники во главе с Леонидом ворвались в брешь, обошли вражеский строй с фланга и теперь яростно давили на незащищенный правый бок противника. Оставалось только молиться за сынов Великой Державы, пытавшихся устоять против таких, как Полиник и Дорион, Терклей и Патрокл, Николай и двое Агизов, все это были несравненные атлеты в расцвете сил, сражавшиеся рядом со своим царем и безумно жаждавшие добиться славы, которая маячила перед ними совсем близко – только протяни руку.
Что касается меня, признаюсь, ужас чуть не одолел меня. Хотя я нагрузил на себя двойной запас – два колчана, двадцать четыре стрелы с железными наконечниками, стрельба была слишком лютой и яростной. Я стрелял между шлемами воинов, бил в упор по вражеским лицам и шеям. Это было не искусство, а прямое убийство. Я вытаскивал стрелы из кишок еще живых, чтобы вновь загрузить и пополнить свои иссякшие запасы. Ясеневые стрелы соскальзывали с тетивы, осклизшие от крови и плоти, с наконечников капала темная влага еще до того, как они вылетали из лука. Объятые ужасом, мои глаза невольно зажмуривались, и мне приходилось двумя руками продирать их, чтобы видеть. Не сошел ли я с ума?
Я чувствовал отчаянную потребность отыскать Диэнека, занять свое место рядом с ним, чтобы прикрыть его, но часть ума, еще сохранившая ясность, велела мне оставаться на месте и приносить пользу здесь.
В тесноте фаланги каждый почувствовал перемену, когда неистовый напор отхлынул, как волна, а на смену ему пришел ровный ритм убийственного военного труда, выработанный многолетними упражнениями. Чувство уходящего страха и вернувшегося самообладания было успокаивающим. Кто скажет, какой неописуемой вибрацией приливный вал сражения передается по сомкнутым рядам? Каким-то образом воины почувствовали, что спартанский левый фланг у склона горы прорвал строй мидийцев. Торжествующий шум пронесся буквально как шторм. Подхваченный глотками лакедемонян, он многократно отдавался эхом. И враг тоже понял это. Мидийцы всем нутром ощутили, как обрушились их порядки.
Наконец я разыскал своего хозяина. Крича от радости, я различил его шлем с поперечным гребнем в самом переднем ряду. Диэнек давил на скопление мидийских копейщиков, которые уже не наступали, а в страхе пятились назад, бросая щиты и напирая на задние ряды. Я бросился к нему через открытое пространство в тылу спартанского строя – перемалывающего, вгрызающегося, наступающего. Этот клочок в тылу представлял собой единственный коридор спокойствия на всем поле боя, в промежутке между рукопашным побоищем и «зоной поражения» мидийских лучников, которые пускали стрелы из тыла поверх столкнувшихся войск в сторону эллинских формирований, ожидающих своего часа в резерве.
В этот закуток отползали мидийские раненые, объятые страхом, притворившиеся мертвыми и изнеможенные. Повсюду можно было видеть мидийцев – они валялись мертвые и умирающие, растоптанные и измятые, изувеченные и изрубленные. Я видел, как какой-то мидиец с великолепной бородой бессмысленно сидит на земле, держа в руках свои кишки. Когда я проходил мимо, упавшая сверху стрела кого-то из его же соратников пригвоздила к земле его бедро. Его глаза с жалким выражением встретили мой взгляд, и, сам не зная зачем, я оттащил его на полдюжины шагов и уложил на иллюзорном островке безопасности.
Я оглянулся. Тегейцы и опунтские локрийцы, наши союзники, чей черед идти в бой был после нашего, опустились на колени в строю, выстроившись вдоль линии под Львиным камнем и составив щиты, чтобы отражать град вражеских стрел. 3емля перед ними была утыкана стрелами так густо, как на ежовой спине. Частокол на стене пылал, подожженный сотнями стрел с кусками горящей пакли.
Мидийские копейщики дрогнули. Как детские кегли, их плотные колонны опрокинулись назад, воины падали, и об них спотыкались другие, когда передние пытались бежать и устраивали неразбериху в порядках стоящих сзади. Земля перед наступающими спартанцами превратилась в море отрубленных конечностей и искалеченных туловищ, в бесконечное кишение ног в штанах и животов, спин людей, карабкающихся через своих упавших товарищей, в то время как другие корчились и кричали на своем языке, протягивая руки и моля о пощаде.
Побоище превзошло возможности человеческой души. Не было сил переносить его. Я видел, как Олимпий метнулся назад, ступая не по земле, а по ковру тел раненых и уже мертвых врагов. Его оруженосец Абатт, бывший все время рядом с ним, работал древком копья, как лодочник шестом, мимоходом опуская нижний шип в живот еще живых мидийцев. Олимпий продвинулся на открытое место, откуда его ясно могли разглядеть резервы союзников у Стены. Снял шлем, чтобы военачальники увидели его лицо, и трижды взмахнул копьем, держа его горизонтально:
– Вперед! Вперед!
С криком, от которого свертывалась в жилах кровь, они бросились вперед.
Я видел, как Олимпий с непокрытой головой остановился и посмотрел на покрытое телами врагов поле; он был поражен масштабом побоища. Потом снова надел шлем, и его лицо скрылось под окровавленной бронзой. Подозвав оруженосца, он зашагал обратно в сечу.
В тылу у обращенных в бегство копьеносцев стояли их собратья, мидийские лучники. Они стояли ровными рядами, двадцать шеренг, каждый скрывался за плетеным щитом в рост высотой, подпертым железной пикой. Эту стену лучников отделяло от спартанцев пятьдесят шагов ничейной земли. Теперь лучники стали стрелять прямо в своих же копейщиков, последних, кто сохранил отвагу, еще способных сцепиться с наступавшими лакедемонянами. Мидийцы стреляли в спину своим же.
Им было не жаль убить даже десяток своих ради возможности поразить одного спартанца.
Из всех моментов высочайшей доблести, проявленной за весь этот долгий страшный день, увиденное сейчас стоящими на Стене превзошло все. И никто не мог сравнить это с чем-либо уже виденным под небесами. Когда спартанцы обратили в бегство последних мидийских копейщиков, их передние ряды вышли на открытое место и оказались почти что под настильным огнем мидийских лучников. Сам Леонид, в свои немолодые годы перенесший смертельное побоище, одно физическое напряжение которого могло превысить возможности самого крепкого воина в расцвете сил, призвав сталь своего характера, вышел в передние ряды и велел выровнять строй и продолжать наступление. Этот приказ лакедемоняне выполнили если и не с той точностью, как проделывали на учебном плацу, но проявив дисциплину, невообразимую в данных обстоятельствах. Не успели мидийцы выпустить второй залп, как перед лицом у них оказался строй щитов с лакедемонским знаком лямбды под страшным слоем из грязи, ошметков плоти и крови, которая потоком стекала по бронзе и капала со свисавших из-под
асписов передников из воловьей шкуры, защищавших ноги воинов выше колена именно от такого обстрела, под какой они теперь попали. Тяжелые бронзовые поножи закрывали икры; над верхним краем щита виднелся лишь бронзовый купол шлема с прорезями для глаз, а сверху колыхался плюмаж из конского волоса.
На мидийских стрелков надвигалась бронзово-малиновая стена. Тростниковые стрелы со смертоносной быстротой вонзались в спартанские ряды. Охваченные страхом лучники всегда стреляют высоко, и было слышно, как стрелы свистят над головами спартанцев и врываются в лес копий, которые воины несли вертикально. Потом стрелы кувыркались и падали в бронзовые ряды. Бронзовые наконечники отскакивали от бронзовых щитов, иногда их яростный стук сопровождался жутким чавканьем,– это случалось, когда выстрел пробивал металл и дуб и наконечник входил в щит, как гвоздь в доску.
Сам я плечом и всем своим весом уперся в спину Медона, старшего по
сисситии Девкалиона, чье почетное место находилось в самом тылу первой колонны
эномотии Диэнека. Непосредственно за строем, под его защитой, пригнулись дудочники без оружия и доспехов, как можно ближе к воинам заднего ряда, разве что не наступая им на пятки. Им хватало духу издавать резкий ритм
авлоса. Плотно сомкнутые ряды наступали не с площадной бранью и шумом, как дикари, а в гробовом молчании, трезво, почти величаво, со смертельной неторопливостью, под пронзительные звуки флейт. Дистанция между противоборствующими сторонами с пятидесяти шагов сократилась до тридцати. Интенсивность мидийского огня удвоилась. Уже слышались команды вражеских военачальников, и чувствовалось, как вибрирует сам воздух, когда вражеские ряды выпускали свои стрелы со все более яростной частотой.
И одна-то стрела, просвистев у уха, может превратить колени в студень. Конический наконечник словно бы злобно визжит, древко безмолвно доставляет свой смертоносный груз, а потом оперение тихо шепчет на ухо свое ужасное намерение. Сотня стрел производит другой звук. Воздух как будто сгущается, становится плотным, жгучим и вибрирует, как твердое тело. Воины чувствуют себя в коридоре живого металла, реальность сжимается до зоны убийства, в которой чувствуешь себя пленником. Неба не видно, и даже не вспомнить, какое оно.
А навстречу спартанцам летели тысячи стрел. 3вук был непрерывным, как стена – сплошная стена до самого неба. Твердая, как скала, непроницаемая. И она пела свою смертельную песнь. Когда стрелы запускаются не в небо по дугообразной траектории, чтобы поразить цель за счет скорости своего падения, а в упор, напрямую с тетивы стрелка, так что они летят прямо, ровно, выпущенные с такой скоростью и с такого близкого расстояния, что лучнику не требуется даже утруждать себя расчетом, насколько стрела сместится вниз при подлете к цели,– это ливень металла, адский огонь (анахронизм: у древних греков не было представления об адском огне).
И под таким обстрелом спартанцы двигались вперед. Позже им скажут наблюдавшие со стены союзники, что в то мгновение, когда спартанские копья одновременно изменили свое вертикальное положение на горизонтальное, изготовившись к атаке, и сомкнутая фаланга ускорила шаг, надвигаясь на противника,– в это мгновение взиравший сверху Великий Царь вскочил на ноги в страхе за свое войско.
Спартанцы умели атаковать плетень. Они практиковались в этом под дубами на Отонском поле во время бесконечных тренировок, когда мы, оруженосцы и илоты, занимали позицию с учебными щитами, упершись пятками и собрав все силы в ожидании массированного удара их атаки. Спартанцы знали, что копья бесполезны против плетеных прутьев,– копье пробивает их и застревает так, что уже не вытащишь. Так же бесполезен колющий или рубящий удар
ксифоса, который отскакивает от плетня, как от железа. Вражеский строй нужно ударить, ошеломить, смять, опрокинуть. Нужно бить так крепко, с такой собранной силой, чтобы передние ряды рухнули и свалились, один ряд обрушился на другой, как посудные полки при землетрясении.
Именно так все и произошло. Мидийские стрелки стояли не сомкнутым строем, где задние ряды подпирают передние против атакующего удара; они стояли разрозненно, каждый сам по себе, ряд за рядом, смещенные относительно друг друга, чтобы лучники сзади могли стрелять в промежутки между воинами в переднем ряду и сменяться, проходя сквозь строй в тыл.
Между их шеренгами был интервал, необходимость которого диктовалась особенностями стрельбы из лука. Результат оказался именно таким, как и предполагали лакедемоняне: передний ряд врагов рухнул при первом же ударе. высокие, в рост человека, плетеные щиты словно захлопнулись внутрь, подпирающие их пики вылетели из земли, как палаточные колышки при урагане. Стрелков первого ряда буквально сшибло с ног, и стена их щитов рухнула на них, как крепостные редуты под ударом тарана. Спартанцы прошли через них, и точно так же через второй ряд, и через третий. Толпа стрелков из средних рядов, понуждаемая начальниками, отчаянно старалась упереться и устоять. В бою грудь в грудь со спартанскими отборными частями их луки оказались совершенно бесполезными. Мидийцы отбрасывали их и брались за висевшие на поясе кривые мечи. Я видел, как целый ряд без щитов, с мечами в руке неистово рубится со спартанской фалангой. Личное мужество мидийцев не вызывало сомнений, но их легкие клинки казались безобидными игрушками против массивной стены спартанских щитов и доспехов – с таким же успехом они могли защищаться камышинками или травяными былинками.
В тот вечер мы узнали от эллинов-дезертиров, в сутолоке перебежавших к нам, что тыловые ряды врага – в тридцати – сорока шеренгах от фронта – получили такой толчок от стоящих впереди, что через Трахинскую дорогу начали падать в море. Очевидно, смятение выплеснулось за Теснину, где тыловые части бросило на отвесный горный склон, под которым в восьмидесяти футах зиял залив. С обрыва, как донесли перебежчики, несчастные копьеносцы и лучники падали десятками, цепляясь за впередистоящих и увлекая их за собой. Великий Царь, как слышали, был вынужден взирать на это, поскольку его возвышение находилось как раз над этим местом. И здесь уже второй раз, как доложили наблюдатели, Великий Царь вскочил на ноги в страхе за своих воинов.
Земля непосредственно в тылу наступающих спартанцев, как и ожидалось, была усеяна растоптанными телами убитых и раненых врагов: Но было и кое-что новое. Мидийцы, опрокинувшиеся так быстро и в таком существенном количестве, пережив первое потрясение, теперь встали и попытались построиться. Они тут же подверглись атаке сомкнутого строя союзников, шедших на подмогу и на смену спартанцам. Последовала новая резня, когда тегейцы и опунтские локрийцы набросились на этот еще не поспевший урожай.
Тегея примыкает непосредственно к территории Лакедемона. Веками спартанцы и тегейцы сражались друг с другом на приграничных равнинах, но последние три поколения стали союзниками и товарищами. Из всех пелопоннесцев, если не считать спартанцев, тегейцы были самыми яростными и умелыми воинами.
Что касается опунтских локрийцев, они сражались за свою страну, за свои дома и храмы, поля и святилища, лежавшие всего в часе ходьбы от Горячих Ворот. Они знали, что в лексиконе захватчиков нет слова «пощада», – значит, не найдется и в их собственном.
Я оттаскивал раненого Всадника – Дориона, друга Полиника – в безопасное место на краю поля, когда моя нога поскользнулась в ручье глубиной по лодыжку. Два раза я пытался встать и два раза падал. Я выругался. Что еще за родник вдруг возник на склоне горы, когда раньше тут ничего не было? Я взглянул под ноги: обе мои ноги покрывал поток крови, текущий по выемке в земле, как по стоку скотобойни.
Мидийцы рухнули. На смену изнеможенным спартанцам пришли тегейцы и опунтские локрийцы, продолжив атаку на опрокинутого врага. Теперь пришел черед союзников.
– Крушите их, ребята! – крикнул один из спартанцев, когда из тыла и с обоих флангов хлынул вал союзников в десять рядов и сомкнулся в фалангу перед бойцами Спарты, которые наконец отошли назад и с дрожащими от усталости руками и коленями попадали друг на друга и прямо на землю.
Тут-то я и отыскал своего хозяина. Он стоял на одном колене, изнеможенный, сжимая обеими руками свое сломанное копье без наконечника, воткнутое нижним концом в землю. Диэнек повис на нем, как сломанная марионетка на вешалке. Шлем своим весом склонил его голову к земле, у Диэнека не хватало сил ни поднять его, ни снять. Рядом рухнул на четвереньки Александр, с размаху упершись головой в землю, так что гребень шлема вошел в грунт. Его грудная клетка работала, как у собаки, а из-под бронзовых нащечных пластин капала вспененная слюна, смешанная со слизью и кровью.
Сюда приходили тегейцы, атаковавшие вслед за нами. Отсюда они ушли, гоня перед собой врага.
Впервые за этот казавшийся бесконечным промежуток времени чувство неминуемой гибели рассеялось. Лакедемоняне попадали на землю там, где стояли,– сначала на колени, потом на четвереньки, потом просто растянулись на земле, кто на боку, кто на спине. Глаза бессмысленно, ничего не видя, уставились в пространство. Никому не хватало сил говорить. Оружие опустилось под собственным весом, по-прежнему зажатое в кулаках с такой судорожной силой, что воля не могла заставить мускулы расслабиться и отпустить его. Щиты позорно попадали на землю чашей вниз, а люди повалились ничком поверх, не в силах даже повернуть лицо в сторону, чтобы было легче дышать.
Александр выплюнул пригоршню зубов. Когда он нашел в себе силы кое-как стянуть шлем, его волосы вывалились свалявшимся клубком, спутанной массой соленого пота и запекшейся крови. Глаза глядели мертво, как каменные. Он обрушился, как ребенок, лицом в колени моему хозяину и заплакал без слез, поскольку все его изможденное существо не имело влаги на слезы.
Подошел Самоубийца с простреленными обоими плечами, но не помнящий себя от радости. Он встал над упавшими рядами воинов – бесстрашный, вглядываясь туда, где союзники сошлись с последними мидийцами и рубили их в куски с таким страшным шумом, что казалось, побоище идет не в ста, а в десяти шагах от нас.
Я видел глаза моего хозяина – черные дыры за прорезями шлема. Его рука слабо потянулась к пустому чехлу от копья у меня на спине.
– Что случилось с моими копьями? – прохрипело его горло.
– Я их отдал.
Прошло некоторое время, прежде чем он вновь набрал дыхания.
– Надеюсь, нашим.
Я помог ему снять шлем. Для этого потребовалось несколько минут – так разбухли от пота и крови войлочный подшлемник и спутанная, слежавшаяся масса волос. Пришли водоносы. Ни у кого из воинов не хватило сил даже подставить руки, и жидкость просто плескали на тряпки и рубахи, которые люди прижимали к губам и сосали. Диэнек отбросил с лица спутанные волосы. Левого глаза у него не было. Рассеченный, он вытек, оставив отвратительный окровавленный комок.
– 3наю,– сказал Диэнек.
Теперь я увидел тяжело дышащих в землю Аристомена, Биаса и других из его
эномотии, Черного Льва и Леона Ослиный Член. Их руки и ноги были иссечены, покрыты бесчисленными резаными ранами и блестели от грязи и крови. Они и прочие израненные из других подразделений сгрудились друг на друге, как барельеф на стене храма.
Я опустился на колени рядом с хозяином и прижал смоченную тряпку к месту, где раньше был глаз. Материя впитала жидкость, как губка.
Впереди, где враг беспорядочно бежал, временные победители могли видеть Полиника. В одиночестве он стоял на ногах, протянув меч в сторону бегущего врага. Сорвав с головы шлем, разбрызгивая кровь и пот, Полиник, торжествуя, швырнул его об землю.
– Не сегодня, сыновья шлюхи! – проревел он вслед бегущему врагу.– Не сегодня!
Глава двадцать пятая
Не могу утверждать определенно, сколько раз в тот первый день каждый из греческих союзников занимал свое место на треугольнике, ограниченном Тесниной и склоном горы, морскими скалами и Фокийской стеной. Могу лишь убежденно заявить, что мой хозяин сменил четыре щита, у двух из которых от непрестанных ударов раскололась дубовая основа, у третьего разбилась бронзовая оковка, а у четвертого вырвали ремень и рукоять. Найти замену было нетрудно, стоило лишь нагнуться – столько всякого оружия валялось на поле рядом с мертвыми или умирающими.
Из шестнадцати человек в
эномотии моего хозяина в первый день погибли Лампит, Соэбиад, Телемон, Сфленелаид и Аристон, а Никандр, Мирон, Хариллон и Биас были тяжело ранены.
Аристон пал во время четвертого, последнего, штурма, сражаясь против Бессмертных Великого Царя. Это был юноша двадцати одного года, один из Полиниковых «сломанных носов», чью сестру Агату выдали за Александра.
Тело Аристона нашли около полуночи у крутого горного склона. Его оруженосец Демад распластался сверху, все еще стараясь прикрыть щитом своего хозяина. Подбородки,у обоих были расколоты ударами
сагариса – боевого топора. Из груди Демада чуть ниже левого соска торчало сломанное древко вражеского копья. Хотя на теле Аристона имелось более двадцати ран, умер он от удара по голове, очевидно нанесенного булавой или боевым молотом, который пробил шлем и череп прямо над глазами.
Метки погибших обычно собирал и раздавал главный боевой жрец – в данном случае отец Александра,
полемарх Олимпий. Однако он сам погиб от персидской стрелы за час до темноты, непосредственно перед последним столкновением с Бессмертными. Олимпий со своими людьми нашел убежище на стене, под прикрытием частокола, готовясь к отражению последнего штурма в тот день. Все происходящее он записывал в свой дневник.
Полемарх думал, что несгоревшие бревна частокола защитят его, и снял шлем и латы. Но стрела, ведомая каким-то извращенным роком, прошла через единственное доступное для нее отверстие не шире ладони и поразила Олимпия в шейный позвонок, перебив спинной мозг. Он умер через несколько минут на руках у своего сына, не приходя в сознание.
Таким образом Александр в один день потерял отца и шурина.
Среди спартанцев в первый день наибольшие потери понесли Всадники. Из тридцати семнадцать были или убиты, или так изранены, что больше не могли сражаться. Леонид получил шесть ран, но всегда самостоятельно выходил на поле боя. Удивительным образом Полиник, сражавшийся весь день в первых рядах в самых кровавых столкновениях, получил лишь несколько случайных порезов и царапин, многие из которых, несомненно, были ненароком нанесены собственным оружием или оружием товарищей. Однако он сильно растянул оба подколенных сухожилия и потянул левое плечо – просто от перенапряжения и чрезмерных требований к своему телу в моменты крайней необходимости. Его оруженосцу Аканту не повезло, как и Олимпию, он погиб, защищая Полиника, всего за несколько минут до прекращения дневного побоища.
Вторая атака началась в полдень. Это были горные бойцы из Киссии. Никто из союзников не имел. представления, где находится это проклятое место, но где бы ни располагалось, оно рождало мужчин страшной отваги. Киссия, как позже узнали союзники,– это страна суровых и враждебных гор недалеко от Вавилона, полная ущелий и пропастей. Этих бойцов, сынов пропастей и скал, вовсе не напугала отвесная скала Каллидрома. Они бегом преодолели это препятствие, взобравшись по переднему склону и скатывая камни без разбору на свои собственные войска и войска греческих союзников. Сам я не мог непосредственно видеть это сражение, поскольку в то время стоял за Стеной, поглощенный ранами своего хозяина и ранами других воинов из его
эномотии, обеспечивая их надобности. Но я все слышал. 3вук был такой, будто рушилась гора. Из спартанского лагеря в ста футах позади Стены, оттуда, где находились Диэнек и Александр, мы видели готовые к бою
эномотии. В нынешней смене это были мантинейцы и аркадцы. Они взбирались на Стену и оттуда метали дротики, копья и даже выломанные камни в атакующих, которые в упоении близкой победы издавали леденящий кровь крик,– для меня он звучал как просто «Элелелелелеле!».
В тот вечер мы узнали, что первую киссийскую атаку фиванцы отбили. Эти фиванские воины занимали правый фланг союзных войск, вдоль морских скал. Их начальнику Леонтиаду и сражавшимся рядом с ним отборным бойцам удалось пробить брешь в толпе врагов примерно в двадцати шагах от скал. Фиванцы устремились в эту брешь и начали прижимать к скалам отсеченные ряды противника, щитов двадцать шириной. И снова давление греческого оружия оказалось неодолимым. Враги справа были оттеснены назад собственными отступающими товарищами. Они опрокидывались в море, как раньше мидийцы, хватаясь за штаны, перевязи и лодыжки своих соратников и утаскивая их за собой. Масштаб и быстрота побоища, несомненно, впечатляли. Погибающие, кувыркаясь, пролетали сто восемьдесят футов, чтобы разбиться о скалы. Те, кто избегал этого, тонули в море под тяжестью доспехов. Даже с нашего места мы ясно слышали крики падавших людей.
Третьим народом, избранным Ксерксом для нападения на греческих союзников, были саки. Они собрались перед Тесниной где-то в середине дня. Это были горцы и жители равнин, воины восточной державы, самые храбрые из всех, с кем сталкивались союзники. Они сражались боевыми топорами, и какое-то время греки несли от них самые серьезные потери. И все же под конец их собственное мужество подвело саков. Они не сломились и не поддались панике; они просто подходили – волна за волной, хватаясь за тела павших товарищей, и сами подставляли себя под разящие удары греческих щитов и копий.
Сначала против саков выстроились микенцы, коринфяне и флиунтцы, а спартанцы, тегейцы и феспийцы оставались в резерве. Последних бросили в бой почти разом, когда микенцы и коринфяне выдохлись, истомленные жерновами убийства, и оказались не в силах продолжать резню. Резервы тоже в свой черед изнемогли, и их пришлось подкрепить третьей сменой– орхоменийцами и другими аркадцами. Эти последние сами еще еле отошли от предыдущей сечи и едва успели погрызть сухарей и выпить по глотку вина.
К тому времени, когда саки дрогнули, солнце уже поднялось высоко над горами. «Танцевальная площадка» оказалась вся в тени и напоминала поле, перепаханное какими-то чудовищными быками. Ни пяди не осталось нетронутой. Твердая, как скала, земля, политая кровью, мочой и жуткой жидкостью, что течет из распоротых кишок, местами оказалась размешана на глубину до середины голени.
3а проходом, примыкающим к лакедемонскому лагерю, есть источник, посвященный Персефоне. В то утро, сразу после отражения мидийской атаки, там повалились в изнеможении спартанцы и феспийцы. Тогда это был первый миг, когда нас охватило ощущение, что мы спасены. Пусть все понимали кратковременность этого мига – весь лагерь союзников залила вспышка высочайшей радости. Воины в
паноплиях глядели друг на друга и гремели щитами, сталкивая их просто от радости, как мальчишки, которых веселит звон бронзы. Я видел, как два воина-аркадца тузили друг друга кулаками по покрытым воловьей кожей плечам, и слезы радости заливали их лица. Другие с гиканьем плясали. Один из флиунтцев схватился обеими руками за угол редута и как безумный бился головой в шлеме о камень – бом! бом! бом! Другие, как купающиеся в песке лошади, катались по земле – радость так переполняла их, что они не могли дать ей другого выхода.
Одновременно по лагерю прокатилась и вторая волна эмоций. Это было благочестие. Воины обнимались и плакали от благоговения перед богами. Из пылких сердец рвались благодарственные молитвы, и никто не стыдился произносить их вслух. На всем пространстве лагеря виделись группы воинов, опустившихся на колени и взывающих к богам кружки из дюжины человек, молитвенно сложивших руки, тройки и четверки, обнявшиеся за плечи, пары, опустившиеся на колени друг против друга, и просто одиночки, молящиеся на земле.
Теперь, после семи часов побоища, весь этот праздник благочестия исчез. Воины пустыми глазами смотрели на перепаханную равнину – на засеянную смертью пашню с проросшими тут и там мертвыми телами и щитами, переломанными доспехами и разбитым оружием,– и душа не могла охватить эту страшную картину, чувства отказывались ее воспринять. Стонали и кричали бесчисленные раненые, корчась среди груд отрубленных конечностей и обрубков тел, так перепутанных, что невозможно было различить отдельного человека, а все вместе это напоминало какого-то горгонообразного зверя с десятью тысячами искалеченных щупалец, какое-то жуткое чудовище, порождённое разверзшейся землёй и теперь впитывающееся струйками и каплями обратно в эти хтонические щели, давшие ему жизнь. На переднем склоне горы скала окрасилась алым до высоты колена.
Лица союзников к этому времени превратились в одинаковые маски смерти. Бессмысленные глаза смотрели из впалых глазниц, словно некая высшая сила погасла в них, как лампа, и на смену ей пришла неописуемая усталость – пустой густой взор самого подземного царства.
Александр казался пятидесятилетним. В зеркале его глаз я увидел собственное лицо и не узнал его.
Гнев на врага возрос, как никогда раньше. Это была не злоба – скорее, отказ думать о пощаде. Началась власть дикости. Акты варварства, до того казавшиеся немыслимыми, теперь принимались безоговорочно. Театр войны, смрад и вид резни подобного масштаба так притупили чувства ужасом, что ум онемел и отупел. С извращенной изобретательностью он искал этих чувств и старался усилить их.
Все знали, что следующая атака будет на сегодня последней, что занавес ночи отложит побоище до завтра. Было также ясно, что силы, которые враг выведет на этот раз, будут лучшими. Это будут сливки, припасенные на тот час, когда эллины изнемогли и представляется наилучшая возможность смять их. Леонид, который не спал уже более сорока часов, все еще ходил вдоль рядов защитников, собирая вокруг себя боевые части союзников и обращаясь к ним по отдельности:
– Помните, братья, последний бой решает все. Все, чего мы добились до сих пор, будет потеряно, если мы не одолеем врага сейчас, под конец. Сражайтесь же так, как еще не сражались.
В перерывах между тремя первыми атаками все воины, готовясь к следующему столкновению, старались начисто отмыть лицевую часть своих щитов и свои шлемы, чтобы обратить на врага страшную в своем блеске поверхность бронзы. Однако с течением времени, после новых и новых убийств, этот ритуал все чаще стал нарушаться, почтение к нему пошло на убыль, поскольку каждая выпуклость и вмятина на щите оказывалась инкрустирована кровью и грязью, слизью и экскрементами, ошметками плоти, волосами и сукровицей. Кроме того, люди слишком устали, и им уже было все равно. Тогда Дифирамб, начальник феспийцев, постарался выдать необходимость за достоинство. Он приказал воинам прекратить чистку щитов, а вместо этого как можно сильнее измазать щиты и доспехи кровью.
Дифирамб, по роду занятий архитектор, а вовсе не профессиональный воин, уже прославился в этот день таким выдающимся мужеством, что все единодушно сочли его достойным приза за отвагу. Его доблесть вознесла его выше всех после Леонида. И теперь Дифирамб, встав на открытом месте, на глазах у всех воинов начал мазать свой щит, и так уже почти черный от запекшейся крови, кишок и сочащихся влагой кусков плоти. Союзники – феспийцы, тегейцы и мантинейцы – последовали этому отвратительному примеру. Только спартанцы воздержались – не столько из деликатности и приличия, а просто повинуясь своим походным законам, предписывающим всегда придерживаться обычной дисциплины и правил обращения с оружием.
Дифирамб приказал оруженосцам и слугам занять свои места и воздерживаться от выхода вперед, где лежали вражеские тела. Вместо этого он послал туда собственных воинов с приказом сложить трупы самым жутким образом, чтобы внушить как можно больше ужаса следующей волне наступающих врагов, чьи походные трубы уже доносились из-за Теснины.
– Братья и союзники, мои прекрасные псы из подземного царства! – обратился он к воинам, расхаживая с непокрытой головой перед строем, и его голос мощно доносился даже до стоявших на Стене.– Следующая волна будет на сегодня последней. Соберитесь с духом для последнего усилия. Враг считает, что мы изнемогли, и предвкушает, как его свежие, отдохнувшие войска перережут нас и отправят в Тартар. Он не знает, что мы уже там. Мы вошли туда несколько часов назад.– Он сделал жест в сторону Теснины и жуткого ковра, покрывавшего там землю. Мы уже в Тартаре. Это наш дом!
Из строя донесся радостный шум, перекрываемый грубыми криками, улюлюканьем и ужасающим хохотом.
– Помните, ребята,– еще громче разнесся голос Дифирамба,– что следующая волна этих азиатских говнюков нас еще не видела! Представьте, что им известно. Они лишь: знают, что три их самых могучих народа выступили на нас с яйцами, а вернулись без яиц. И говорю вам: эти свежие войска не такие уж свежие. Они весь день сидели на своих задницах, наблюдая, как их союзников несут и волокут отсюда, изрубленных нами на куски. Поверьте мне, их воображение не сидело сложа руки. Каждый представил, как его собственная голова катится, слетев с плеч, как его кишки волочатся по грязи, а член и яйца болтаются на греческом копье! Это не мы изнемогли, а они!
Новые крики и возбуждение прокатились по строю союзников. Феспийцы в поле продолжали свою мясницкую работу. Я посмотрел на Диэнека, который взирал на все это с мрачной гримасой на лице.
– Клянусь богами,– проговорил он,– это становится отвратительным.
Мы видели, как спартанские Всадники во главе с Полиником и Дорионом занимают свои места вокруг Леонида, перед строем. Но с самого передового поста бегом возвращался дозорный. Это был Собака, спартанский скирит. Он бросился прямо к Леониду и что-то доложил ему. Новость быстро распространилась по рядам: следующей волной будет личная гвардия Великого Царя – Бессмертные. Греки знали, что эти части составлены из отобранных самим Великим Царем лучших воинов, цвета персидской знати, принцев, с рождения учившихся «обращаться с луком и говорить правду».
Кроме того, их было десять тысяч, в то время как способных к бою греков не насчитывалось и трех тысяч. Все знали, что Бессмертные получили свое имя из-за персидского обычая заменять всех убитых или уволенных по старости воинов, чтобы численность личной гвардии Ксеркса всегда оставалась десять тысяч.
Эта-то элитная часть теперь и показалась в горловине Теснины. На них были не шлемы, а тиары – мягкие войлочные шапки со сверкающим как золото металлическим ободом наверху. Эти полушлемы не прикрывали ушей, шеи и челюсти и оставляли лицо и горло совершенно открытыми. В ушах у воинов были серьги, лица у некоторых были раскрашены тушью для век и румянами, как у женщин. Тем не менее это были великолепные красавцы, отобранные, как знали все эллины, не только по доблести и знатности рода, но также по росту и красоте. И каждый следующий казался удалее предыдущего. Из-под безрукавных кольчуг с пластинами в виде рыбьей чешуи виднелись рукава пурпурных шелковых рубах с алой каймой, а штаны прикрывали замшевые сапоги с голенищами до середины икры. Их вооружение составляли лук, кривой меч на поясе и короткая персидская пика, а щиты, так же как мидийские и киссийские, были плетеные и прикрывали тело от плеч до паха. Однако самым удивительным было количество золота – брошей и браслетов, амулетов и прочих украшений на каждом из Бессмертных. Их начальник Гидарн, выдвинувшийся вперед, был единственным вражеским всадником, которого до, сих пор увидели греки. Его тиара возвышалась, как монаршья корона, а глаза сверкали алмазами из-под накрашенных век. Его конь заартачился, отказываясь ступать по жуткому ковру трупов. Вражеские ряды подтягивались на площадку перед Тесниной. Их дисциплина была безупречна. Сами они были безукоризненны.
Леонид вышел вперед, чтобы обратиться к грекам. Он подтвердил то, о чем эллинские воины и так догадались: что показавшиеся вдали вражеские части – действительно Бессмертные, личная гвардия Ксеркса, и что их число, оцененное на глаз,– десять тысяч.
– Враг думает,– звучно разнесся голос Леонида,– что перспектива сразиться с отборными бойцами из Азии устрашит нас! Но клянусь вам, эта битва окажется без пыли!
Царь употребил греческое слово
аконити, которое обычно применяется в борьбе, кулачном бое и панкратионе. Когда победитель поверг противника так быстро, что схватка даже не подняла пыли на арене, говорят, что он выиграл
аконити, «без пыли».
– Послушайте меня дальше,– продолжал Леонид, и я скажу вам почему. Войска, что Ксеркс бросил на нас теперь,– первые из его воинов истинно персидской крови. Их начальники – родственники самого
Великого Царя. Он послал сюда своих родных и двоюродных братьев, дядей и любимых, воинов из своего рода, чьи жизни для него бесценны. Видите его наверху, на своем троне? Народы, что он посылал на нас до сих пор, были всего лишь его рабами, копейным мясом для деспота, который разбрасывается их жизнями, не считая. А эти,– Леонид обвел рукой пространство, где теперь собрались Бессмертные во главе с Гидарном,– эти представляют собой сокровище. Этих он любит. Потерю их он ощутит, как копье в собственных кишках. Помните, эта битва при Горячих Воротах – не та, ради которой и Ксеркс пришел сюда. Он предчувствует множество других важных сражений в глубине Эллады против наших главных сил. Для тех столкновений он хочет сберечь цвет своего войска – воинов, которых вы видите сейчас перед собой. Он побережёт их жизни сегодня, обещаю вам это. Их десять тысяч, а нас – четыре. Но убийство каждого воина будет жалить Великого Царя, как потеря целого войска. Эти воины для него – как золото для скупца, которое он копит и лелеет пуще всех прочих своих сокровищ. Убейте тысячу, и остальные дрогнут. Одну тысячу – и хозяин отведет остальных назад. Сделаете это для меня, ребята? Можете вы, четыре тысячи, убить тысячу? Можете подарить мне эту тысячу?
Глава двадцать шестая
Великий Царь может сам судить о точности предсказания Леонида. Темнота застала Бессмертных в беспорядочном отступлении по приказу Великого Царя, как и предрекал Леонид. Они бросили своих раненых и умирающих на
орхестре, «танцевальной площадке» у Теснины.
Незадолго перед полуночью ливень промочил весь лагерь, залив немногочисленные костры, для поддержания которых не было людей,– все оруженосцы, прислуга и помощники потребовались для ухода за ранеными и покалеченными. Со склона Каллидрома сходили оползни, заливая лагерь реками грязи и камней. По всему этому мокрому пространству валялись груды отрубленных конечностей и мертвых тел, многие еще в доспехах, а забытье живых было столь глубоко, что их стало не отличить от убитых. Все промокло и покрылось грязью.
Перевязочные материалы для раненых давно иссякли, палатки купальщиков, реквизированные разведчиками-скиритами под убежище, нашли новое применение – их холстина пошла на компрессы для ран. 3апах крови и смерти поднимался с таким осязаемым ужасом, что обозные ослы ревели всю ночь, не в силах успокоиться.
Был еще один, третий, внештатный боец, еще один доброволец кроме Сферея и чалой собаки по кличке Стикс. Это был
эмпор, милетский торговец и ремесленник по имени Элефантин, на чью сломанную повозку союзническая колонна наткнулась во время перехода через Дориду за день до прибытия к Воротам. Этот человек, несмотря на свои неудачи в пути, сохранял самое веселое расположение духа и делил свой обед, состоящий из одних зеленых яблок, со своим хромым ослом. На передке его повозки возвышался написанный от руки плакат, в котором говорилось о радушии Элефантина и желании услужить покупателю. Ремесленник намеревался объявить: «Лучшие услуги только для тебя, мой друг». Однако рисовальщик перепутал несколько букв в словах, и вместо «друг» – «
филос» – его рука начертала «
фимос» – этим словом дорийцы пользуются для обозначения крайней плоти на мужском половом члене. И потому лозунг на повозке провозглашал примерно следующее: «Лучшие услуги только для тебя, моя крайняя плоть».
Такая блестящая поэзия мгновенно принесла Элефантину славу. Несколько оруженосцев отделились от колонны, чтобы помочь ему, и за эту любезность торговец выразил им свою глубочайшую благодарность.
– И куда же, если можно спросить, направляется это великолепное войско?
– Умирать за Элладу,– ответил кто-то. – Как восхитительно!
К полуночи ремесленник появился в лагере, проследовав за колонной всю дорогу до Ворот. Его встретили с энтузиазмом. Его специальность имела отношение к металлу, и в этом, как он сам заявил, ему нет равных. Он десятки лет затачивал крестьянские косы и домашние ножи и топоры. Он знал, как выправить самую искорёженную лопату, и клялся, что готов послужить на пользу войску – просто из благодарности за доброту, проявленную к нему по дороге.
Этот человек употреблял одно выражение, которым приправлял беседу, когда хотел что-то выделить.
– Тут очнись! – говорил он, но с его ионийским акцентом получалось «Тут очись».
Эту фразу сразу же и с крайним весельем подхватило все войско.
– Снова сыр с луком, тут очись!
– Муштровка дважды в день, тут очись!
Один из двух Леонов из
эномотии Диэнека, Ослиный Член, на следующее утро орал на торговца, демонстрируя перед его заспанными глазами чудовищную эрекцию:
– Это называется
фимос, тут очись!
Ремесленник стал для войска чем-то вроде талисмана. Его с радостью встречали у каждого костра, его компанию любили и молодежь, и ветераны, он прослыл хорошим рассказчиком и славным малым, шутником и доброжелательным товарищем.
Теперь, после побоища первого дня, торговец сам себя назначил еще и внештатным утешителем и исповедником для молодых воинов, с которыми за последние дни сблизился теснее, чем с сыновьями. Всю ночь он провел среди раненых, принося им вино, воду и утешение. Свою обычную живость он умудрился удвоить и развлекал калек грубоватыми повествованиями о своих путешествиях и злоключениях, о том, как соблазнял домохозяек, о том, как его грабили и били на дороге. Он, подобно другим, вооружился брошенным оружием и на следующий день собирался встать в строй на место павших. Многие оруженосцы тоже сами без принуждения становились в строй.
Всю ночь гудели кузнечные горны, непрерывно стучали кузнечные молоты, чиня копья и клинки, обивая бронзой щиты, в то время как плотники и столяры выстругивали новые древки для копий и дубовые основы для щитов.
Союзники готовили пищу, топя костры вражескими стрелами и сломанными щитами. Жители деревни Альпены, что днем раньше торговали разными вещами, теперь, увидев самопожертвование защитников, приносили продукты просто так и спешили со своими тележками и тачками за новыми.
Где были подкрепления? Идут ли они на помощь вообще? Леонид, чувствуя озабоченность войска, воздерживался от собраний и военных советов, а вместо этого ходил среди воинов, выполняя работу низших командиров. Он послал в города новых гонцов с новыми просьбами о помощи. Было замечено, что в гонцы он выбирает самых молодых воинов. За резвость ног – или царь хотел сберечь тех, чьи лучшие годы оставались впереди?
Теперь мысли каждого воина обратились к своей семье, к оставшимся дома любимым. Дрожащие от изнеможения люди писали письма женам и детям, матерям и отцам. Многие эти послания представляли собой просто каракули на клочке ткани или кожи, глиняном черепке или обломке доски. В письмах содержались пожелания и заветы, последние слова прощания. Я видел сумку одного гонца, готового к отбытию,– там была мешанина папирусных свитков, восковых табличек, черепков и даже выдранных из подшлемников обрывков войлока. Многие воины просто посылали амулеты, которые их любимые должны были узнать, талисманы, висевшие на внутренней стороне щита, счастливые монетки с просверленным отверстием, чтобы носить на шее. На некоторых виднелись надписи – «Любимой Амариде, в Делии из Феагона, с любовью». На других не было никаких имен. Возможно, гонцы знали адреса сами и могли доставить послание и без подписи. Если же нет, то содержимое мешка будет выставлено на публичной площади, агоре, возможно перед храмом покровительницы города. Там встревоженные семьи соберутся в надежде и беспокойстве, ожидая своей очереди рассмотреть драгоценный груз, чая получить послание, со словами или без слов, от тех, кого любили и кого боялись следующий раз,увидеть лишь мертвыми.
Прибыли два посланника от союзного флота – на афинской галере, которая курсировала между морскими силами и наземным войском. Союзники в этот день встретили персидский флот, но серьезного сражения не состоялось. Наши корабли должны были удерживать пролив, иначе Ксеркс сможет высадить войска в тылу у защитников и отрезать их от основных сил; а наземные войска должны были удерживать проход, иначе персы смогут продвинуться по суше до Эврипского пролива и блокировать флот. Пока что и флот, и сухопутное войско удерживали свои позиции.
Подошел Полиник и сел на несколько минут у костра, вокруг которого собрались остатки нашей
эномотии. Он заметил известного гимнаста, учителя атлетов по имени Милон, которого знал по Олимпийским играм. Этот человек перебинтовал Полинику сухожилия и дал ему
фармакон, чтобы приглушить боль.
– Тебе хватило славы? – спросил Всадника Диэнек. Полиник ответил неимоверным по мрачности взглядом.
– Сядь,– сказал мой хозяин, указывая на сухое место рядом с собой.
Полиник с благодарностью сел. Вокруг, как мертвецы, дремали воины, положив головы друг на друга и на свои покрытые запёкшейся кровью щиты. Прямо напортив Полиника бессмысленно уставился в огонь Александр. У него была сломана челюсть, и вся правая половина лица блестела лиловым; кость была перетянута ремнем.
– Дай-ка посмотреть на тебя,– сказал Полиник. В мешке учителя гимнастики он обнаружил вощеный шарик из эйфорбии и янтаря, который называли «обедом кулачного бойца», – такие использовали кулачные бойцы между схватками, чтобы зафиксировать сломанные кости и зубы. Этот шарик и размял Полиник. Он повернулся к учителю:
– Лучше сделай ты, Милон.– Полиник взял Александра за правую руку.– Держи. Сожми так, чтобы мои пальцы хрустнули.
Учитель из собственного рта влил в рот Александру неразбавленного вина, чтобы очистить от свернувшейся крови, потом пальцами извлек фантастический комок слюны, слизи и мокроты. Я держал Александру голову, рукой он сжимал пальцы Полиника. Диэнек смотрел, как учитель вставил вязкий янтарный комок Александру меж челюстей, потом плотно закрепил на нем раздробленные кости.
– Медленно считай,– велел он пациенту.– Когда дойдешь до пятидесяти, челюсть будет как новая.
Александр отпустил руку Всадника. Полиник печально смотрел на него.
– Прости меня, Александр. – 3а что?
– Что сломал тебе нос.
Александр хотел рассмеяться, но из-за сломанной челюсти лицо лишь исказила гримаса.
– Теперь это лучшее, что осталось у тебя на лице. Александр снова сморщился.
– Я сожалею о твоем отце,– проговорил Полиник. И об Аристоне.
Он встал, чтобы перейти к другому костру, но, взглянув на моего хозяина, опять перевел взгляд на Александра. – Я должен тебе кое-что сказать. Когда Леонид избрал тебя в число Трехсот, я пошел к нему и с глазу на глаз изо всех сил старался отговорить от этого решения. Я думал, ты не будешь сражаться.
– 3наю,– просипел Александр сквозь сжатые челюсти. Полиник какое-то время рассматривал его, потом проговорил:
– Я ошибался.
И пошел прочь.
Пришли новые приказы. Нужно было послать наряды —,убрать трупы с ничейной полосы. В числе посланных был и Самоубийца. Оба его простреленных плеча не могли двигаться, и Александр настоял, чтобы пойти вместо него.
– Теперь, узнав о смерти моего отца и Аристона,– обратился он к Диэнеку, который, как
эномотарх, мог запретить ему идти в наряд,– Леонид постарается уберечь меня ради моей семьи и пошлет меня домой с каким-нибудь заданием или донесением. А я не хочу выказывать ему неуважения своим отказом.
Никогда я не видел такой печали, как тогда на лице моего хозяина. В свете костра он указал на промокшую землю рядом с собой.
– Я наблюдал за этими мелкими тварями.
Там, в грязи, вовсю шла война между муравьями.
– Посмотри на этих доблестных воинов,– указал Диэнек на густые отряды насекомых, с неимоверной отвагой сцепившихся на куче своих же павших товарищей, сражаясь за высохший труп жука. – Вот этот будет Ахиллом. А вот, смотри,– это, должно быть, Гектор. Наша храбрость – ничто по сравнению с этими героями. Видишь? Они даже выносят тела своих товарищей с поля боя, как и мы.
Его голос звучал глухо от отвращения, и от него разило иронией.
– Думаешь, боги смотрят на нас сверху так же, как мы на этих насекомых? Бессмертные скорбят о нашей смерти так же, как мы скорбим о смерти этих муравьев?
– Поспи, Диэнек,– мягко проговорил Александр. – Да, это мне и нужно. Хороший отдых.
Он обратил уцелевший глаз на Александра. 3а редутами стены вторая смена часовых получала инструкции, готовясь сменить первую.
– Твой отец был моим ментором, Александр. В ночь, когда ты родился, я нес чашу. Помню, Олимпий показал тебя старейшинам, чтобы те испытали, достаточно ли ты крепок, чтобы позволить тебе жить. Судья окунул тебя в вино, и ты завопил своим сильным младенческим голоском и затряс в воздухе сжатыми кулачками. «Отдай мальчика Диэнеку,– велел твой отец Паралее, а мне сказал: – Мой сын будет твоим подопечным. Ты будешь учить его, как я учил тебя».
Диэнек воткнул в грязь свой
ксифос, положив конец муравьиной Илиаде.
– А теперь всем спать! – рявкнул он уцелевшим воинам своей
эномотии, а сам, несмотря на протестующие напоминания о том, что ему тоже необходимо вздремнуть, встал и в одиночестве пошагал на командный пункт Леонида, где царь и другие военачальники еще стояли на своих местах, обсуждая действия на следующий день.
Я видел, как подгибалась при ходьбе нога Диэнека – не давно раненная, а другая. Он скрыл от своих подчиненных еще одну рану, судя по походке, глубокую и серьезную. Я тут же встал и поспешил ему на помощь.
Глава двадцать седьмая
Тот источник, названный скиллийским и посвященный Деметре и Персефоне, бил из самого подножия Каллидрома сразу позади командного поста Леонида. Мой хозяин поковылял туда, и я поспешил его догнать. Никакая ругань, никакие приказы не остановили меня. Я обхватил его рукой свою шею и принял плечом весь его вес.
– Я принесу воды,– сказал я.
Вокруг источника собралась горстка возбужденных воинов, и среди них прорицатель Мегистий. Что-то тут было не так, и я подошел ближе. Этот источник, известный своей переменчивостью и бьющий то холодной, то горячей водой, с самого нашего появления сочился скудной струйкой воды, но воды вкусной и холодной,– благословение богинь жаждущим воинам. Теперь же из него внезапно хлынула горячая и вонючая струя. Словно серная блевотина вырвалась из подземного мира. Воины затрепетали от такого чуда. Слышались молитвы Деметре и Коре-Персефоне. Я попросил у Всадника Дориона, чтобы тот налил полшлема воды из своего меха, и вернулся к своему хозяину, решив ни о чем не упоминать ему.
– Источник пропах серой, верно?
– Это предвещает смерть врагов, не нашу, господин.
– Ты так же набит дерьмом, как жрецы.
Теперь я видел, что он в порядке.
– Союзникам нужно привлечь на свою сторону твою двоюродную сестру,– заметил он, морщась от боли и усаживаясь на землю,– чтобы вступилась за них перед богиней.
Диэнек имел в виду Диомаху.
– Садись,– сказал он,– вот сюда, рядом.
Впервые при мне хозяин вслух упомянул о Диомахе, раньше он ничем не выдавал, что слышал о ее существовании. Впрочем, хотя в эти годы я никогда не думал обременять его подробностями своей жизни, но знал, что ему все известно,– от Александра и госпожи Ареты.
– Мне всегда было жаль эту богиню – Персефону, объявил мой хозяин.– Шесть месяцев в году она правит подземным миром как супруга Аида. И все же ее царствование лишено радости. Она сидит на своем троне, как пленница, за свою красоту похищенная владыкой подземного царства, который по принуждению Зевса отпускает свою царицу лишь на полгода, и тогда она возвращается к нам, принося весну и возрождение земли. Ты когда-нибудь рассматривал ее статую, Ксео? Она кажется мрачной даже в разгар сбора урожая. Вспоминает ли она, как и мы, условия своего приговора – снова безвременно возвратиться под землю? Это печалит Персефону. Единственная из бессмертных, Кора вынуждена метаться от смерти к жизни и обратно, знакомая с обеими сторонами монеты. Ничего удивительного, что этот родник, чьи две струи – это небеса и подземный мир, посвящен ей.
Я уже устроился на земле рядом с хозяином, и он торжественно посмотрел на меня.
– Тебе не кажется,– спросил он,– что для нас с тобой уже поздно таить друг от друга какие-то секреты?
Я согласился, что пришел такой час.
– И все же ты таишь от меня один секрет.
Я видел: он хочет, чтобы я рассказал об Афинах и о том вечере, когда я наконец – благодаря его вмешательству – снова встретился со своей двоюродной сестрой. С тех пор не прошло и месяца.
– Почему ты не убежал? – спросил меня Диэнек. Ты знаешь, я хотел, чтобы ты сбежал.
– Я пытался. Но она не дала мне.
Я знал, что хозяин не будет вынуждать меня к разговору. Ему никогда не приходило в голову давить на меня, когда его присутствие вызывало неловкость. И все же инстинкт подсказал мне, что пришло время нарушить молчание. В худшем случае мой рассказ отвлечет его от ужасного дня, а в лучшем – возможно, обратит его мысли к более подходящим образам.
– Рассказать о той ночи в Афинах, господин? – Только если хочешь.
Это случилось во время посольства, напомнил ему я. Он, Полиник и Аристодем пешком отправились тогда из Спарты, без эскорта, в сопровождении только своих оруженосцев. Посольство одолело это расстояние за четыре дня и еще на четыре остановилось в городе Афины в доме
проксеноса Сления, сына Алкибиада. Миссией посольства было оговорить последние подробности взаимодействия сухопутных и морских сил при Фермопилах и у Артемизия. Нужно было договориться о точном времени прибытия войска и флота, о способах связи между ними, о шифрах, паролях и прочем в таком роде. Невысказанным, но не менее важным оставалось желание спартанцев и афинян присматривать друг за другом, следить за тем, чтобы и те и другие в назначенное время оказались на своих местах.
В вечер третьего дня в доме видного афинянина Ксантиппа состоялся прием в честь посольства. Я любил присутствовать на таких мероприятиях, где споры и рассуждения всегда были вдохновенными, а часто – и просто блестящими. К моему великому разочарованию, перед началом меня вызвал мой хозяин и сообщил о предстоящем важном поручении.
– Мне очень жаль, что ты пропустишь прием,– сказал он и вложил мне в руку запечатанное письмо с инструкцией доставить его лично в указанный дом в порту Фалерон.
Снаружи меня ждал мальчик-слуга, чтобы провести по ночным улицам. Никаких подробностей, кроме адреса, он мне не сообщил. Я предположил, что в письме содержится какое-то чрезвычайное сообщение, связанное с флотом, и потому взял с собой оружие.
Мне потребовалась целая стража, чтобы пробраться по лабиринту кварталов и дворов, составлявших городскую застройку Афин. Повсюду собирались вооруженные воины, моряки и плывущие на кораблях пехотинцы, в сопровождении вооруженного эскорта двигались повозки с провизией для флота. Эскадры под командованием Фемистокла готовились к отправлению в Скиафос и Артемизий. Одновременно сотни семей паковали свое имущество и покидали город. Так же многочисленны были военные корабли, рядами маячившие по другую сторону бухты, а их ряды затенялись судами торговцев, паромами, одномачтовыми рыбацкими посудинами, прогулочными лодками, увозящими горожан в Трезен и на Саламин. Некоторые семьи бежали аж в Италию. Когда я и мальчик-слуга приблизились к порту Фалерон, улицы заполняло столько факелов, что там было светло как днем.
По мере приближения к гавани переулки становились все более кривыми. Ноздри забивал запах тины, по канавам текли помои, приправленные вонючими рыбьими кишками, луковой шелухой и чесноком. Никогда в жизни не видел я столько кошек. Кабаки и сомнительные дома стояли вдоль улиц, столь узких, что очищающие лучи дневного света наверняка никогда не проникали на дно этих оврагов, чтобы высушить грязь и мерзость ночной торговли пороком. Когда мы с мальчиком проходили мимо, нас нагло зазывали шлюхи, рекламируя свой товар в грубых, но добродушных выражениях.
Человека, к которому мы несли письмо, звали Террентаем. Я спросил своего спутника, имеет ли он представление, кто это такой и какое заведение содержит, но мальчик ответил, что ему сообщили лишь название дома и больше ничего.
Наконец мы нашли нужный дом – строение на трех уступах, называемое Сковородкой, с вещевым складом и постоялым двором, который располагался вровень с улицей. Войдя внутрь, я спросил Террентая. Он отбыл вместе с флотом, ответил трактирщик. Я спросил насчет его корабля. Каким кораблем он командует? Этот вопрос вызвал всеобщее веселье. "Он заведует ясенем",– заявил один подвыпивший моряк, подразумевая, что под началом Террентая находится лишь одно весло, которым он гребет. Дальнейшие расспросы не принесли никаких сведений.
– В таком случае, господин,– обратился ко мне мальчик,– нам велено отдать письмо его жене.
Я отверг это предложение как абсурдное.
– Нет, господин,– убежденно настаивал он,– так сказал мне сам твой хозяин. Нам следует передать письмо в руки его супруги по имени Диомаха.
Не слишком долго размышляя, я понял, что за этим кроется рука – если не сказать длинные руки – госпожи Ареты. Как умудрилась она из далекого Лакедемона выследить Диомаху и найти ее дом? В таком большом городе, как Афины, должно жить под сотню Диомах. Несомненно, Арета держала в тайне свои намерения, предвидя, что, заранее извещенный о них, я найду повод уклониться от обязанности. И в этом она была, конечно, права.
Во всяком случае, моей двоюродной сестры, как выяснилось, дома не было и никто из моряков не мог сказать, куда она делась. Тогда мой проводник, смышленый малый, просто шагнул в переулок и стал кричать ее имя. Через мгновение из завешенных стираным бельем окон высунулось с полдюжины седеющих голов местных дам, и нам сообщили и название портового храма, и как его найти.
– Она там, мальчик. Просто иди вдоль берега.
Мой проводник снова пустился вперед. Мы пересекли еще несколько вонючих портовых улиц. Повсюду кишели местные жители, готовые смыться из города. Мальчик сообщил мне, что многие храмы в этом квартале служат скорее не святилищами богов, а убежищем для изгоев и безденежных, а особенно, сказал он, для жен, «не получающих внимания» от своих мужей, то есть считающихся негодными, упрямыми или даже невменяемыми. Мальчик устремился вперед в самом веселом расположении духа. Для него это было необычайное приключение.
Наконец мы очутились перед храмом. Это был самый обыкновенный дом, построенный на удивительно удобном склоне в двух кварталах от воды. Возможно, в прежние времена он принадлежал какому-нибудь средней руки торговцу или ремесленнику. В огороженном дворике, не видном с улицы, приютилось несколько олив. Я постучал в ворота. Через какое-то время откликнулась жрица, если таким возвышенным словом можно назвать пятидесятилетнюю домохозяйку в хламиде и с завешенным покрывалом лицом. Она сообщила нам, что это святилище Деметры и находящейся под покровительством мужа Коры, Персефоны Окутанной. Никому, кроме женщин, входить сюда не позволяется. Лицо за покрывалом было явно напуганным, и жрицу нельзя было упрекнуть за это – улицы кишели сутенерами и ворами. Она не позволила нам войти. Все средства оказались бессильны: женщина не подтвердила, что моя двоюродная сестра действительно находится в храме, как и не согласилась забрать у нас письмо. И снова мой проводник взял быка за рога. Он открыл рот и во всю глотку принялся звать Диомаху.
Наконец нас, меня и мальчика, пустили на задний двор. Дом во дворе оказался гораздо вместительнее и куда приветливее, чем казался с улицы: Нам не позволили войти внутрь, а провели вокруг. Дама, наша проводница, подтвердила, что среди новообращенных действительно есть госпожа по имени Диомаха. В настоящее время она, как и прочие, находится в святилище и выполняет свои обязанности на кухне. Однако с разрешения старшей по убежищу нам можно поговорить с ней в течение нескольких минут. Моему мальчику-проводнику было предложено подкрепить силы, и дама увела его покормить.
Я в одиночестве стоял во дворе, когда вошла моя двоюродная сестра. Ее дети, обе девочки, одна лет пяти, а другая на год или два старше, испуганно вцепились в ее платье. Они не шагнули вперед, когда я встал на колени и протянул им руку.
– Прости их,– сказала Диомаха.– Они стесняются мужчин.
Дама увела девочек в дом, наконец оставив меня наедине с Диомахой.
Сколько раз в воображении я проигрывал этот момент! В этом выдуманном сценарии моя двоюродная сестра оставалась молодой и прекрасной, я бежал к ней, чтобы обнять, а она бежала ко мне. Ничего подобного не случилось. Диомаха шагнула под свет лампы, облаченная в черное, и нас разделяла вся ширина двора. Я был потрясен ее видом. Ее лицо и волосы были не прикрыты. Она была коротко подстрижена. Ей было не более двадцати четырех лет, но выглядела она на сорок, и казалось, что эти сорок лет ей дались нелегко.
– Неужели это ты, братец? – спросила она тем же дразнящим голосом, каким говорила со времен нашего детства. – Вот ты и мужчина, которым тебе так не терпелось стать.
Легкость ее тона только усугубила охватившее мое сердце отчаяние. Картина, так долго стоявшая у меня перед глазами, изображала ее в цвете юности, женственной и сильной, как в то утро, когда мы расстались у Трех Дорог. Какие страшные тяготы обрушились на нее за эти годы? Я думал о наводненных шлюхами улицах, о грубых моряках, о низости этих забитых отбросами переулков. Охваченный печалью и жалостью, я опустился на скамейку у стены.
– Мне не следовало расставаться с тобой,– сказал я. Я всей душой понимал это.– Это я виноват, что все так вышло, что меня не было рядом, когда нужно было защитить тебя.
Я не запомнил ни слова из того, о чем мы говорили следующие несколько минут. Помню, что моя сестра придвинулась ко мне на скамейке. Она не обняла меня, а лишь нежно и мягко коснулась моего плеча.
– Помнишь то утро, Клео, когда мы отправились на рынок с Ковыляхой и с твоей горсткой куропаточьих яиц? – Ее губы сложились в грустную улыбку.– В тот день боги направили нас по назначенному ими пути. По пути, свернуть с которого ни у тебя, ни у меня с тех пор не было возможности.
Она спросила, не выпью ли я вина. Принесла чашу. Я вспомнил про принесенное мною письмо. Когда я снял обертку, оказалось, что оно адресовано Диомахе, а не ее мужу. Она вскрыла и прочла. Письмо было написано рукой госпожи Ареты. 3акончив, Диомаха не показала его мне, а, ничего не сказав, спрятала под одежду.
Мои глаза уже привыкали к свету лампы, горевшей во дворе, и я рассмотрел лицо двоюродной сестры. Она была по-прежнему красива, но другой красотой – печальной и суровой. Теперь я понял, что старость в ее глазах, сначала потрясшая и оттолкнувшая меня, на самом деле являлась сочувствием и даже мудростью. Ее молчание было наполнено смыслом, как у госпожи Ареты,– в спартанской манере, более спартанской, чем у самих спартанцев. Я был ошеломлен. Она вызывала у меня чувство преклонения. Диомаха напоминала богиню, которой служила,– девушку, безвременно унесенную темными силами в подземный мир, и теперь, восставшая оттуда по какому-то соглашению с безжалостными богами, она несла в глазах ту первобытную, глубинную женскую мудрость, одновременно человеческую и бесчеловечную, личную и безличную. Мое сердце переполнила любовь к ней. И все же, в пяди от моих объятий, она казалась величественной, как бессмертные, и такой же непостижимой и недостижимой.
– Слышишь город вокруг? – спросила Диомаха. 3а каменной оградой ясно слышался шум бегущих людей и повозок с их скарбом.– Напоминает Астак, правда? Возможно, через несколько недель этот могучий город будет сожжен и стерт с лица земли, как и наш в тот день.
Я попросил рассказать, как она живет. Правду. Она рассмеялась.
– Я изменилась, да? Не похожа на приманку для женихов, за которую ты всегда меня принимал. Я тогда тоже была дурочкой, мне рисовались такие высокие перспективы! Но этот мир не для женщин, братец. Никогда таким не был и никогда не будет.
С моих губ сорвалось страстное проклятие. Она должна пойти со мной. Сейчас же. В горы, куда мы однажды убежали и где были когда-то счастливы. Я буду ей мужем. А она станет мне женой. И больше никогда никто ее не обидит.
– Мой милый братец,– с нежным смирением проговорила Диомаха,– у меня есть муж.– Она указала на письмо. – А у тебя есть жена.
Ее кажущаяся покорность судьбе разозлила меня. Что это за муж, который бросил жену? Что это за жена, если ее взяли не по любви? Боги требуют от нас действий и употребления своей свободной воли! Это благочестиво – не сгибаться под ярмом необходимости, как тупая скотина!
– Так говорит бог Аполлон,– улыбнулась моя двоюродная сестра и снова с нежным чувством прикоснулась ко мне.
Она спросила, можно ли рассказать мне одну историю. Буду ли я слушать? Эту историю она никогда никому не доверяла, кроме своих сестер в святилище и нашего любимого друга Бруксия. У нас осталось несколько минут. Мне следует набраться терпения и внимания.
– Помнишь тот день, когда аргосцы обесчестили меня? Ты знал, что я убила плод этого насилия. Сделала выкидыш. Но ты не знаешь, что однажды ночью у меня началось кровотечение и я чуть не умерла. Пока ты спал, Бруксий спас меня. Я дала ему клятву никогда тебе не рассказывать.
Она смотрела на меня тем же самоуглубленным взглядом, какой я видел у госпожи Ареты,– с выражением, порожденным женской мудростью, которая видит истину напрямую, через кровь, не замутняя ее грубой способностью рассуждать.
– Как и ты, братец, тогда я возненавидела жизнь. Мне хотелось умереть, и я чуть не умерла. В ту ночь в лихорадочном сне, когда я ощущала, как кровь вытекает из меня, словно масло из опрокинутой лампы, мне явилось видение. Надо мною стояла богиня, укутанная, с закрытым лицом. Я видела одни лишь глаза, но ее присутствие было так живо, что я не сомневалась в ее реальности. Она была реальнее, чем сама реальность, как будто сама жизнь была лишь сном, а этот сон являлся глубочайшей сутью жизни. Богиня не произнесла ни слова, а только смотрела на меня взглядом высочайшей мудрости и сострадания. Моей душе мучительно хотелось рассмотреть ее лицо. Эта потребность поглотила меня, и я взмолилась словами, которые были не словами, а жгучей мольбой сердца, снять покрывало и дать мне увидеть ее. Я понимала, что увиденное мною повлечет за собой величайшие последствия. Меня охватил ужас, и в то же время я затрепетала от ожидания. Богиня откинула покрывало и уронила его на пол. Поймешь ли ты меня, Ксео, если я скажу, что увиденное мною лицо под покрывалом было ни больше ни меньше как сама реальность, существующая под плотским миром? Это высшее, благородное воплощение, знакомое богам, но которое нам, смертным, дано увидеть лишь мельком в видениях и порывах чувств. Ее лицо представляло собой красоту за пределами красоты. Воплощение истины в красоте. И эта красота была человеческой. Такой человечной, что мое сердце чуть не разорвалось от любви, почтения и благоговения. Без слов я поняла, что одна эта красота и есть реальность, которую я теперь осознала,– эта красота, а не тот мир, что мы видим под солнцем. И еще: что она всегда рядом с нами, ежечасно. Просто наши глаза слепы и не видят ее. Я поняла, что наша роль смертных – здесь, по эту темную и горестную сторону Покрывала,– воплотить те качества, которые восходят с другой стороны и которые одинаковы по обе стороны, непрерывны, вечны и божественны. Понимаешь, Ксео? Мужество, самоотверженность, сострадание и любовь.
Диомаха отодвинулась от меня и рассмеялась:
– Думаешь, я рехнулась, правда? Помешалась на религии. По-женски.
Я так не думал. Я вкратце рассказал ей о своем мимолетном взгляде за покрывало в ту ночь в заснеженном лесу. Диомаха серьезно восприняла мои слова.
– Ты забывал свое видение, Ксео? Я свое забывала. 3десь, в городе, я жила низменной жизнью. Пока однажды богиня не привела меня в эти стены.
Она указала на скромных размеров, но великолепную статую в нише дворика. Я взглянул. Это была бронзовая Персефона Окутанная.
– Это богиня, тайне которой я служу,– объявила Диомаха.– Она проходит жизнь до смерти и возвращается вновь. Кора спасла меня так же, как тебя защитил богстреловержец.
Она положила руки поверх моих и заставила меня посмотреть ей в глаза.
– Так что сам видишь, Ксео: ничто не прошло зря. Ты думаешь, что тебе не удалось защитить меня. Но все, что ты делал, защищало меня. Как и теперь ты меня защищаешь.
Она порылась в складках платья и достала письмо, написанное рукой госпожи Ареты.
– Знаешь, что это? Обещание, что твою смерть почтят, как мы с тобой почтили Бруксия и как мы все трое старались почтить наших родителей.
Из кухни снова показалась домохозяйка. Диомахины дети дожидались внутри; мой мальчик-проводник закончил обед и стоял в нетерпении, когда мы отправимся назад. Диомаха встала и протянула мне руки. Свет лампы падал на нее, и в его нежном сиянии ее лицо казалось теперь прекрасным, каким и представлялось в моих исполненных любви глазах все эти короткие годы, что тянулись так долго. Я тоже встал и обнял ее. Диомаха накрыла свои коротко остриженные волосы и накинула на лицо покрывало.
– Давай не будем жалеть друг друга,– проговорила моя двоюродная сестра на прощанье.– Мы там, где нам должно быть, и будем делать то, что должно делать.
Глава двадцать восьмая
3а два часа до рассвета меня растолкал Самоубийца.
– Смотри, что вползло через горловину. Он показал на бугор позади лагеря аркадцев, где у сторожевых костров допрашивали перебежчиков из персидского войска. Я прищурился, но не мог разглядеть.
– Смотри, смотри,– повторил он.– Это твой приятель-бунтовщик Петух. Он спрашивает про тебя.
Мы вместе с Александром отправились туда. Да, это был Петух. Он прошел через персидские ряды с группой других дезертиров. Скириты привязали его, голого, к столбу. Они пытали его, и он попросил на минуту оставить его наедине со мной, прежде чем ему перережут горло.
Вокруг просыпался лагерь. Половина войска уже заняла позиции, вторая еще надевала доспехи. С Трахинской дороги доносились звуки вражеских труб, строящих войска для второго дня. Мы нашли Петуха рядом с двумя мидийскими информаторами, которые уже столько рассказали, что им даже дали позавтракать. В отличие от Петуха. С ним скириты так поработали, что он не мог сидеть прямо и сполз по столбу, у которого ему должны были перерезать горло. – Это ты, Ксео? – Он прищурил глаза, заплывшие, как у кулачного бойца.
– Я привел Александра.
Нам удалось влить в горло Петуха несколько капель вина.
– Я сожалею о твоем отце,– были первые слова, обращенные пленником к Александру. Петух шесть лет служил оруженосцем у Олимпия и спас ему жизнь при Энофите, когда на того набросилась фиванская конница.– Это был благороднейший человек в городе, благороднее всех, включая и Леонида.
– Как нам помочь тебе? – спросил Александр. Петух сначала захотел узнать, кто еще остался жив. Я сказал ему про Диэнека, Полиника и некоторых других, а также перечислил тех погибших, кого он знал.
– И ты тоже жив, Ксео? – Лицо Петуха исказилось усмешкой.– Твой приятель Аполлон, должно быть, приберег тебя для чего-то особенного.
У него была ко мне простая просьба – позаботиться, чтобы его жене доставили древнюю монету его родной страны Мессении. Этот потертый обол, сказал нам Петух, он тайно носил с собой всю жизнь. Теперь монета оказалась на моем попечении, и я поклялся отослать ее со следующим же гонцом. Петух благодарно сжал мне руку и, на всякий случай понизив голос, привлек к себе меня и Александра.
– Слушайте внимательно. Я для того и пришел, чтобы сказать это вам.
Петух проговорил свое сообщение очень быстро. Эллинам, защищающим проход, остался день, не больше. Уже сейчас Великий Царь пообещал богатства целой провинции тому, кто покажет путь по горам в обход Горячих Ворот, чтобы окружить их.
– Боги не создали такой скалы, на которую не могли бы взобраться люди – особенно движимые жаждой золота и славы. Персы найдут обходной путь, чтобы зайти вам в тыл, а даже если не найдут, не сегодня-завтра их флот прорвет афинское прикрытие на море. Из Спарты никаких подкреплений не подойдет. Эфоры знают, что их тоже окружат. И Леонид не вернется, как и все вы, живые или мертвые.
– Ты принял побои, только чтобы сообщить нам это? – Послушайте меня. Когда я пошел к персам, то сказал им, что я илот, только что из Спарты. Меня допрашивал личный слуга царя. Я был там, в двух шагах от шатра Ксеркса. Я знаю, где спит Великий Царь и как провести людей прямо к его порогу.
Александр громко расхохотался:
– Ты предлагаешь напасть на него в его шатре?
– Когда умирает голова, умирает и вся змея. Обратите внимание: царский шатер стоит прямо под скалами на равнине у реки, выше всех по течению, так что его кони могут пить незамутненную остальными воду. Из горловины течет горный ручей, и персы считают его непроходимым. Там стоит меньше сотни человек. Полдюжины воинов могут пробраться туда в темноте и, возможно, даже выбраться обратно.
– Да. Мы захлопаем крыльями и улетим.
Теперь уже весь лагерь проснулся. Спартанцы сосредоточили войска, если можно так сказать о столь незначительных силах, у Стены. Петух сказал нам, что уже предлагал провести воинов в рейд на персидский лагерь в обмен на освобождение его жены и детей в Лакедемоне. 3а это скириты и избили его – они сочли его предложение хитростью, чтобы заманить храбрецов в руки врага на пытки и все самое худшее.
– Они даже не передали мои слова своим старшим! Прошу вас, сообщите кому-нибудь из военачальников. Это может получиться даже без меня. Клянусь всеми богами! Я рассмеялся над этим переродившимся Петухом:
– Похоже, вместе с патриотизмом ты обрел благочестие.
Скириты резко окликнули нас. Им хотелось покончить с Петухом и поскорее облачиться в доспехи. Двое разведчиков рывком подняли его на ноги и швырнули к столбу, когда позади лагеря раздался шум. Мы все обернулись туда.
За ночь сорок фиванцев сбежали. Полдюжины дезертиров убили часовые, но остальные благополучно миновали их. Кроме троих, которых только сейчас обнаружили. Они пытались спрятаться в кучах трупов.
Теперь отряд феспийских часовых приволок эту несчастную троицу и бросил за Стеной среди готовящегося к сражению войска. В воздухе пахло кровью. Феспиец Дифирамб подошел и взял главную роль на себя.
– Каково будет наказание для этих? – крикнул он окружавшей толпе.
В это время, привлеченный шумом, позади Александра появился Диэнек. Я улучил момент, чтобы замолвить слово за Петуха, но мой хозяин не ответил: его внимание захватила развернувшаяся перед ним сцена.
Из толпы воинов раздалось несколько требований смертной казни. На перепуганных беглецов посыпались удары, и это заставило самого Дифирамба с мечом в руке вмешаться и отогнать людей.
– Союзники спятили,– с ужасом заметил Александр. Опять.
Диэнек продолжал холодно смотреть.
– Второй раз я не стану свидетелем этого.
Раздвигая толпу, он вышел вперед и встал рядом с феспийцем Дифирамбом.
– Эти псы не заслуживают пощады! – Диэнек стоял над связанными пленниками с повязками на глазах.– Они должны принять самую лютую муку, какую только можно представить, чтобы никто другой не соблазнился подражать их трусости.
В толпе раздались одобрительные крики. Диэнек поднял руку, успокаивая волнение.
– Вы знаете меня. Согласитесь ли вы с тем наказанием, которое я предложу?
Сотни голосов закричали «да»
– Без возражений? Без придирок?
Все поклялись принять приговор Диэнека.
С пригорка за стеной за происходящим наблюдали Леонид и Всадники, включая Полиника, Алфея и Марона. Все звуки смолкли, шумел только ветер. Диэнек шагнул к стоящим на коленях пленникам и сорвал с их глаз повязки. Мечом он перерезал веревки.
Со всех сторон раздался возмущенный рев. Дезертирство перед лицом врага заслуживало кары смертью. Сколько еще человек сбежит, увидев, что эти предатели уходят живыми? Все войско разбежится!
Дифирамб, единственный среди союзников, как будто бы разгадал тонкий замысел Диэнека. Он встал рядом со спартанцем и, подняв меч, призвал всех к тишине, чтобы Диэнек мог сказать.
– Я презираю тот приступ самосохранения, что нынче ночью лишил мужества этих трусов,– обратился Диэнек к толпе союзников,– но еще больше я ненавижу ту страсть, которая теперь свела с ума вас, мои товарищи.
Он указал на стоящих на коленях пленников.
– Эти люди, которых вы сегодня назвали трусами, вчера плечом к плечу сражались вместе с вами! И возможно, с еще большей доблестью, чем вы.
– Сомневаюсь! – раздался крик, а за ним на беглецов обрушились волны презрительных выкриков. Требовали крови предателей.
Диэнек подождал, когда шум уляжется.
– У нас в Лакедемоне есть слово для такого состояния духа, что охватило вас сейчас, братья. Мы называем его « одержимостью». Оно обозначает подчинение страху или злобе, которое разрушает дисциплинированное войско и превращает его в толпу.
Он отступил назад и мечом указал на сидящих на земле пленников.
– Да, вчера ночью эти люди сбежали. А что делали вы? Я скажу. Все вы лежали без сна. И каковы были сокровенные мольбы вашего сердца? Те же самые.– Клинок его
ксифоса указал на жалких бедняг, что корчились у его ног.– Как и они, вы тосковали по женам и детям. Как и они, вы горели желанием спасти свою шкуру. Как и они, вы строили планы, как бы вам сбежать и остаться в живых!
Раздались было протестующие вопли, но они заглохли перед яростным взглядом Диэнека. Казалось, он был воплощением чистейшей правды.
– Меня тоже посещали подобные мысли. Всю ночь я мечтал о побеге. Как и все военачальники, и все лакедемоняне, включая Леонида.
На толпу снизошло отрезвление, все затихли.
– Да! – раздался чей-то голос.– Но мы не сделали этого!
Снова поднялся согласный ропот.
– Верно,– тихо проговорил Диэнек, и теперь его взгляд обратился не к войску, а, твердый как кремень, уставился на тройку пойманных.– Мы не сделали этого.
Какой-то момент он безжалостно рассматривал беглецов, потом
отступил, чтобы все войско могло видеть их, связанных и безоружных среди вооруженных воинов.
– Пусть эти люди доживут свой век, проклятые сознанием сделанного ими. Пусть они просыпаются каждое утро с этим позором и засыпают каждой ночью с этим бесчестьем. Это и будет их смертным приговором – угасание живьем, которое куда тяжелее, чем тот пустяк, что встретим мы, прежде чем завтра взойдет солнце.
Он отошел за спину преступников, к краю толпы, откуда открывался путь к безопасности.
– Освободить проход!
Беглецы взмолились. Первый, безбородый юноша, едва переваливший за двадцать, заявил, что его бедное хозяйство находится менее чем в половине недели ходьбы и он боялся за свою молодую жену и малолетнюю дочку, за своих немощных отца и мать. Темнота лишила его мужества, признался он, но теперь он раскаивается. Сцепив в мольбе руки, он обратил взор к Диэнеку и феспийцу. Прошу вас, мое преступление было мгновенной слабостью! Это мгновение прошло. Сегодня я буду сражаться, и никто не упрекнет меня в недостатке мужества.
Теперь заговорили остальные двое, оба зрелые мужчины на пятом десятке; они давали самые страшные клятвы, что тоже будут сражаться с честью.
Диэнек возвышался над ними.
– Освободить проход!
Толпа расступилась, образуя коридор, по которому трое могли безопасно покинуть лагерь.
– Кто-нибудь еще? – вызывающе прогремел голос Дифирамба.– Кто еще хочет прогуляться? Пусть воспользуется черным ходом или отныне навсегда заткнется.
Несомненно, ни одно зрелище под небесами не могло быть более мрачным и позорным – так жалко выглядели несчастные. Сутулясь, они проходили по коридору позора сквозь строй молчащих соратников.
Я посмотрел на лица воинов. Своекорыстная злоба, якобы праведно требующая крови, покинула их. Теперь на прояснившихся лицах запечатлелся безжалостный стыд. Дешевая и лицемерная ярость, искавшая выхода на беглецах, теперь, вмешательством Диэнека, обратилась внутрь. И эта ярость, разожжённая в тайном горниле сердца каждого воина, теперь затвердела и превратилась в решимость повергнуть малодушных такому наказанию, что самая смерть показалась бы рядом с ней пустяком.
Диэнек повернулся и направился на пригорок. Когда он проходил мимо меня и Александра, его перехватил один скирит и двумя руками пожал ему руку.
– Блестяще, Диэнек! Ты пристыдил все войско. Теперь никто не посмеет двинуться из этой грязи.
На лице моего хозяина не было и тени удовлетворения. Теперь оно помрачнело, как маска скорби. Он оглянулся на троих подлецов, жалко уносящих свои жизни.
– Эти несчастные ублюдки вчера весь день держали строй, когда приходил их черед. Мне жаль их от всего сердца.
Преступники уже почти прошли сквозь строй своего позора. Тот из них, что унижался бесстыднее других, обернулся и крикнул войску:
– Дураки! Вы все умрете! Плевал я на вас, и будьте вы прокляты!
Под осуждающий гогот он скрылся за холмом, а за ним вприпрыжку и его товарищи, оглядываясь через плечо, как шавки.
Леонид отдал приказ полемарху Деркилиду, который передал его старшему над дозором: отныне в тылу часовых не ставить и не принимать никаких мер по предотвращению дезертирства.
С шумом воины разошлись по своим местам.
Диэнек уже дошел до места, где держали военнопленных и где его ждали Александр, я и Петух. Начальником скиритов был человек по имени Лахид, брат разведчика по прозвищу Собака.
– Отдай этого негодяя мне, друг! – Усталым жестом Диэнек указал на Петуха.– Этот ублюдок – мой племянник. Я сам перережу ему горло.
Глава двадцать девятая
Великий Царь гораздо лучше меня знает все подробности той интриги, в результате которой защитники прохода оказались окончательно преданы. Предателем был фракиец, пришедший сообщить военачальникам Великого Царя о существовании горной тропы в обход Горячих Ворот. Ведомо ему и о том, какое вознаграждение было выплачено из персидской сокровищницы этому преступнику.
Греки получали некоторые намеки об этом злополучном событии – сначала из знамений, замеченных в то утро перед вторым днем сражения, потом в течение всего дня сведения подкреплялись слухами и донесениями перебежчиков, а в конце концов, к вечеру шестого дня нахождения союзников в Фермопильском проходе, подозрения подтвердило свидетельство очевидца.
Во время первой смены часовых, примерно через два часа после прекращения дневной брани, сквозь греческие ряды прошел один персидский вельможа. Он назвал себя Тиррастиадом Кимским, начальником тысячи государственного призыва. Этот принц был самым высоким, красивым и великолепно наряженным врагом из всех, кто до сих пор перешел на нашу сторону. Он обратился к собранию на безупречном греческом языке и сказал, что его женой была Елена из Галикарнаса и что это обстоятельство и веление чести заставили его перейти на сторону союзников. Он сообщил спартанскому царю, что сам находился перед шатром Ксеркса в тот самый вечер, когда предатель, чье имя я знаю, но ни здесь, ни где-либо не стану повторять, пришел потребовать обещанную Великим Царем награду и предложил свои услуги, обещая провести персидские силы по тайной тропе.
Благородный Тиррастиад рассказал, что лично видел, как Великий Царь отдал персидским отрядам приказ пройти по ней и занять позиции в тылу союзников. Бессмертные, чьи потери были возмещены и чье число опять составляло десять тысяч, выступили с заходом солнца под командованием Гидарна. В этот самый момент они находятся на марше, ведомые предателем, а к рассвету должны занять позиции в нашем тылу, готовые к атаке.
Великий Царь, осведомленный о катастрофических для греков последствиях этого предательства, может удивиться реакции греческого собрания на своевременное и счастливое предупреждение благородного Тиррастиада.
Они ему не поверили.
Решили, что это хитрость.
Столь неразумную реакцию, столь удивительное стремление обмануть самих себя можно понять, лишь учитывая, что сердца союзников к тому времени охватил сопутствующий подобной битве восторг, невыразимое презрение к смерти.
Первый день сражения дал примеры необычайной доблести и героизма.
Второй начал плодить чудеса.
Самым удивительным был сам факт, что мы выжили. Сколько раз в течение предыдущих сорока восьми часов бойни каждый из нас переживал мгновение собственной гибели – и все же оставался жить. Сколько раз неисчислимые массы врагов с неудержимой мощью и отвагой обрушивались на союзников – и все же строй держался.
Три раза в тот второй день ряды защитников прохода колебались на грани, готовые рухнуть. Великий Царь видел тот момент – сразу после захода солнца,– когда противник прорвался к самой Стене и мириады воинов Державы с победным криком полезли на нее. И все-таки каким-то образом Стена устояла и проход удалось удержать.
В течение всего дня, этого второго дня сражения, два флота сражались у Скиафоса, зеркально отражая сухопутные войска у Ворот. Под утесами Артемизия моряки направляли бронзовые тараны в деревянные борта, а их братья бились металлом о металл на суше. 3ащитники прохода видели на горизонте дымные пятна горящих кораблей, а ближе к берегу – обломки бимсов и рангоута, разбитые в щепки весла и тела моряков, плывшие лицом вниз в прибрежном течении. Казалось, не греки и персы схватились в единоборстве – нет! Обе стороны как будто заключили какой-то извращенный союз, цель которого заключалась в совместной окраске почвы в темно-красный цвет. Сами небеса в тот день казались не населенным богами царством, которое придавало осмысленность происходящему внизу, а безобразной синевато-серой рожей, безразличной и не знающей сострадания.
Горная стена Каллидрома, нависавшая над резней, своим каменным безмолвным лицом без черт словно воплощала эту утрату сострадания. Все летавшие в воздухе существа исчезли. Ни на земле, ни в расщелинах скал не осталось ни малейшего признака зелени.
Сострадание имела лишь сама грязь. Только зловонный суп под ногами воинов давал передышку и оказывал поддержку. Ноги воинов размесили землю в жидкую похлебку по лодыжку глубиной, потом углубили жижу по голень; после люди проваливались по колено и сражались так. Пальцы хватались за почерневшую от крови жижу, ноги упирались в нее, ища опору, зубы умирающих кусали ее, словно люди челюстями копали себе могилу. Крестьяне, чьи руки раньше с удовольствием брали темные комья родных полей, чьи пальцы перетирали богатую почву, питающую урожай, теперь ползли на брюхе по этой суровой земле, хватались за нее обрубками переломанных пальцев и бесстыдно корчились, стараясь закопаться в эту земную мантию, чтобы защитить спину от безжалостного металла.
Греки любили борьбу в эллинских палестрах. С тех пор как дети научились стоять, они валяли друг друга по земле, запыленные в песчаных ямах или покрытые грязью в лужах. Теперь эллины боролись там, где по канавам текла не вода, а кровь, где наградой была смерть, а судья пропускал мимо ушей все призывы остановиться или прервать поединок. Снова и снова можно было видеть в тот второй день сражения одну и ту же картину: эллинский воин сражался два часа подряд, отходил на десять минут, чтобы выпить лишь пригоршню воды, после чего возвращался в бойню. Снова и снова можно было видеть, как кто-то получает удар, вгоняющий зубы в челюсть или раскалывающий кости плеча, но остается на ногах.
На второй день я видел, как Алфей и Марон расправились с шестью врагами так быстро, что последние двое умерли еще до того, как первая пара успела упасть на землю. Скольких братья убили в тот день? Пятьдесят? Сто? Они убивали больше и быстрее, чем мог какой-нибудь Ахилл посреди врагов, и дело было не только в их силе и сноровке, а в том, что эти двое сражались единым сердцем.
Весь день лучшие войска Великого Царя подходили волна за волной, непрерывно, так что было не различить разные народы и разные части.
Смена сил, которую союзники производили в первый день сражения, оказалась невозможной. Воины по собственной воле отказывались отойти в тыл. Оруженосцы и слуги брали оружие павших хозяев и занимали опустевшее место в строю.
У людей уже не хватало дыхания, чтобы подбодрить друг друга. Сердца воинов больше не наполнялись торжеством, никто не хвастал подвигами. Теперь в мгновения передышки они просто падали, отупевшие и онемевшие, в кучи других таких же бесчувственных тел. Под прикрытием Стены в каждом углублении песчаного грунта виднелись горстки воинов, разбитых изнеможением. Они лежали там, где упали, в неподвижных позах, выражающих крайнюю усталость и горе. Никто не разговаривал и не шевелился. Только глаза у всех, не видя, уставились в невыразимое царство ужаса – у каждого свое.
Существование превратилось в туннель, чьи стены представляли собой смерть, а внутри не нашлось бы ни надежды, ни спасения. Неба больше не осталось, как не осталось ни солнца, ни звезд. Одна лишь земля, на каждом шагу готовая принять вывалившиеся кишки и раздробленные кости идущего по ней, впитать его кровь, его жизнь. 3емля была в ушах, под ногтями и меж ягодицами. Она покрывала пропотевшие и просолившиеся волосы. Люди отхаркивали землю из легких и высмаркивали из носа.
У воинов есть один секрет, такой сокровенный, что никто не смеет высказать его вслух,– разве что товарищам, которые через испытание оружием стали им ближе братьев. Это знание сотни проявлений собственной трусости. Никем не замеченных мелочей. Товарищ упал и позвал на помощь, а я прошел мимо, счел свою шкуру дороже. Это мое преступление, в котором я обвинил себя перед трибуналом своего сердца и признал виновным.
Все, что нужно человеку,– это жить. Жить прежде всего: вцепиться в дыхание. Выжить.
И даже этот самый основной из инстинктов, инстинкт самосохранения, даже эта растворенная в крови необходимость, разделяемая под небом всеми, как зверьми, так и людьми,– даже это могут преодолеть усталость и чрезвычайный ужас. В сердце проникает некая форма мужества, и это не истинное мужество, а отчаяние, и даже не отчаяние, но самозабвение. На этот второй день люди превзошли себя. Подвиги, чудеса отваги сыпались дождем, а те, кто их совершал, даже не могли с уверенностью сказать, что именно они совершили их.
Я видел, как один флиунтский оруженосец, простой мальчишка, надел доспехи своего хозяина и ринулся в гущу сражения. Не успел он нанести и одного удара, как персидский дротик раздробил ему челюсть, пройдя сквозь кость. Один из товарищей поспешил к нему, чтобы перевязать бьющую кровью рану и отвести раненого в безопасное место, но юноша ударил спасителя плашмя мечом, оперся на копье, как на костыль, потом опустился на колени прямо посреди сражения, но продолжал рубить врага с земли, где и умер.
Другие оруженосцы и слуги брали железные колья и, босые, без доспехов, влезали по отвесному склону над Тесниной. Они вбивали колья в трещины, чтобы закрепиться, и с этих открытых насестов бросали камни и обломки скалы на голову врагу. Персидские лучники превращали этих мальчишек в подушечки для иголок, их тела свешивались с крюков, распятые, или кувыркались с высоты на кипящее внизу побоище.
Торговец Элефантин бросился на открытое место, чтобы спасти одного из этих мальчишек, еще живого, повисшего на выступе в тылу сражения. Персидская стрела порвала старику горло, и он упал так быстро, что казалось, сразу исчез под землей. Над его телом закипело яростное сражение. Почему? Он был не царь и не военачальник, а всего лишь чудак, который занимался ранами молодых воинов и смешил их своим «тут очись!».
Уже почти настала ночь. Эллины шатались от ран и усталости, а персы посылали в бойню все новые и новые отборные части. Одних хлыстами гнали в бой начальники, другие сами с жаром увлекали за собой товарищей вперед, на греков.
Помнит ли Великий Царь? Над морем пронесся неистовый шквал, и ливень встал стеной. К этому времени оружие у союзников было уже по большей части иззубрено и переломано. На дюжину воинов приходилось одно целое копье, ни у кого не осталось своего щита – он давно был разбит,– воины прикрывались восьмым или десятым по счету, подобранным с земли. Даже спартанские короткие мечи-
ксифосы разбились от множества ударов. Стальные клинки еще держались, но рукояти ломались. Воины сражались стальными клинками, воткнув их в расщепленный обломок верхней или нижней части копья.
Вражеское войско прорубилось вперед, не дойдя до Стены всего дюжину шагов. Перед укреплением оставались только спартанцы и феспийцы. Мириады врагов все тянулись через Теснину, они заполнили уже весь треугольник перед Стеной.
Спартанцы опрокинулись. Я оказался на Стене позади Александра и одного за другим вытягивал людей наверх, в то время как союзники обрушили вниз град дротиков, копий и камней. На напирающего врага бросали даже шлемы и щиты.
Греки дрогнули и заколебались. Беспорядочной массой они откатились на пятьдесят, на сто футов за Стену. Даже спартанцы в беспорядке отступили. Мой хозяин, Полиник, Алфей и Марон – все покачивались и едва держались на ногах.
Враг вырывал камни из фасада Стены. Наши противники всем своим множеством нахлынули на покинутые руины, они съезжали по пологим ступеням за стеной на открытое место, туда, где стоял лагерь союзников. До полного разгрома оставалось лишь несколько мгновений, когда по необъяснимой причине враги, держа победу уже на ладони, в страхе попятились и не нашли в себе мужества добить нас.
Они отступили, охваченные беспричинным, неясным страхом.
Уму непостижимо, какая сила лишила мужества их сердца и похитила их отвагу. Возможно, воины Великой Державы не могли поверить в неминуемость своего триумфа. Возможно, они слишком долго сражались перед Стеной и теперь их чувства не могли вместить, что они действительно взяли ее.
Как бы то ни было, вражеский напор ослаб. И над полем воцарилось неземное спокойствие.
Внезапно с небес сквозь эфир прогремел рев божественной мощности. Волосы на голове у меня встали дыбом. Я обернулся к Александру – он тоже замер, как вкопанный, подобно всем остальным на поле боя.
В утес Каллидрома ударила молния сверхъестественной силы. Раскатился мощный гром, и мы увидели выломанные из скалы огромные камни. В воздухе запахло дымом и серой. Неземной вопль пригвоздил всех к земле страхом. Всех, кроме Леонида, который с поднятым копьем вышел вперед.
– 3евс-Спаситель! – раздался, перекрывая гром, голос царя.– Эллада и свобода!
Запев
пэан, он ринулся вперед на врага. Новое мужество наполнило сердца союзников, и они бросились вслед за царем. При этом небесном знамении враги, спотыкаясь, в панике побежали назад, за Стену. Я снова оказался на ее скользких выщербленных камнях и теперь пускал стрелу за стрелой в толпу персов и бактрийцев, мидийцев и иллирийцев, лидийцев и египтян, бегущих внизу.
Весь ужас последовавшей резни Великий Царь мог видеть собственными глазами. Когда передние ряды персов в страхе побежали, хлысты идущих сзади погнали подкрепления вперед. Как две волны – одна наплывающая на берег, другая отходящая в море по береговому склону, столкнувшись, уничтожают друг друга в пене и брызгах, так сшиблись и закружились войска Великой Державы, обратив против самих себя силы тысяч воинов, попавших в струи этого водоворота.
Еще раньше Леонид чувствовал необходимость построить вторую стену – стену из персидских тел. Именно это теперь и произошло. Враги погибали в таком количестве, что нога не могла ступить на грунт. Она ступала на тела. На тела, лежащие поверх других тел.
Эллины видели, как враги, попав под хлысты напирающих сзади, в кровавом безумии стали копьями и мечами пробивать себе дорогу через своих же, стремясь спастись во что бы то ни стало. Десятки и сотни их опрокинулись в море. Я видел, как передние ряды спартанцев взбирались по стене из персидских тел и их товарищам приходилось подталкивать их.
Внезапно груды трупов не выдержали. Начался сход лавины. В Теснине союзники попятились назад. А оползень мертвых тел набирал силу, повинуясь тяжести собственного веса, и с нарастающим напором покатился на персов, на Трахинскую дорогу. И так фантастично было это зрелище, что воины-эллины замерли на месте и, охваченные трепетом, наблюдали, как гибнут в бессчетном количестве враги, поглощаемые этой чудовищной лавиной, как оказываются погребенными под ней.
Теперь, на ночном совете союзников, это чудо вспомнили и истолковали как свидетельство вмешательства богов. Благородный Тиррастиад стоял перед Леонидом, перед собранием греков, с явным сочувствием и чистосердечной доброжелательностью убеждая их отступить, отойти, убраться. Вельможа повторил свое сообщение о десяти тысячах Бессмертных, в эти часы идущих по горной тропе, чтобы окружить союзников. Менее тысячи греков сохраняли способность сопротивляться. Что можно противопоставить десятикратно превосходящему противнику в незащищенном тылу, когда тысячекратно превосходящие силы нападут с фронта?
И все же последнее чудо породило такое упоение, что греки просто не слушали предостережений и ничего не принимали в расчет. 3десь собрались скептики и агностики, те, кто признавался в своем сомнении и даже презрении к богам,– и эти же самые люди теперь клялись, что небесная молния и сопровождавший ее неземной рокот были не чем иным, как воинственным кличем самого 3евса.
Более ободряющие вести пришли от флота. В предыдущую ночь разыгрался шторм, нехарактерный для этого времени года. Он разбил двести вражеских кораблей на дальнем побережье Эвбеи. Пятая часть флота Великого Царя, восторженно докладывал капитан афинской галеры Габроник, погибла вместе с экипажами – он видел крушение собственными глазами. Разве это не благодеяние богов эллинам?
Вперед вышел Леонтиад, начальник фиванцев, и еще более распалил расстройство умов. Разве какая-то человеческая сила, спросил он, может устоять перед гневом богов?
– Держите в уме, братья и соратники, что девять десятых персидского войска – это покоренные народы, посланные против собственной воли, под угрозой оружия. Разве Ксеркс удержит их в строю? Сумеет погнать их вперед кнутом, подобно скотине? Поверьте мне, персидские союзники дрогнули. Недовольство и ропот, как чума, расползаются по их лагерю, там зреют измена и мятеж, они страшатся еще одного разгрома? Если мы продержимся завтра, братья, положение Ксеркса заставит его попытать счастья на море. Колебатель земли Посейдон уже сбил однажды персидскую спесь. Возможно, этот бог сумеет умерить честолюбие перса и второй раз.
Греки, распаленные страстью фиванского военачальника, набросились на Тиррастиада Кимейского с гневными речами и клялись, что теперь не они находятся в опасности, а сам Ксеркс, который глупой самонадеянностью вызывает на свою голову гнев богов.
Мне не требовалось смотреть на моего хозяина, чтобы прочесть его сердце. Это расстройство ума союзников являлось
каталепсисом – одержимостью, безумием. Конечно же, понимали это и сами ораторы, понимали, даже изрыгая свою порождённую горем и страхом ярость на удобную цель – кимейского вельможу.
Леонид распустил собрание, велев уделить максимум внимания починке оружия. Он отправил афинского капитана Габроника обратно на море с приказом сообщить флотоводцам Эврибиаду и Фемистоклу обо всем, что тот слышал и видел сегодня ночью.
Греки разошлись. У костра командующего остались одни спартанцы и благородный Тиррастиад.
– Очень впечатляющее испытание веры, господин мой, спустя недолгое время проговорил принц.– Такие благочестивые речи не могут не поддержать мужество в ваших воинах. На час. Пока темнота и усталость не сотрут страсть данного момента, а страх за себя и свою семью снова не заговорит в их сердцах.
Вельможа убедительно повторил свое сообщение о горной тропе и десяти тысячах Бессмертных. Он объявил, что если рука богов и присутствовала в событиях нынешнего дня, то это была не их благосклонность, имевшая целью спасти эллинских защитников, а их извращенная и непостижимая воля, стремившаяся лишить эллинов разума. Конечно, такой проницательный военачальник, как Леонид, видит это не менее ясно, чем следы других случайных ударов молний, что десятилетиями и веками во время прибережных гроз попадали в этот высокий, самый заметный на побережье утес.
Тиррастиад снова стал убеждать Леонида и военачальников поверить его сообщению. Пусть демос на собрании предпочел не поверить ему. Его могли обвинить в соглядатайстве и даже казнить. Ведь разум народа может ночью затуманиться, а к утру обрести должное видение ситуации. Однако царь и командующий не имеют права позволить себе подобной роскоши.
– Скажи,– настаивал перс,– что я участник интриги. Поверь, что меня послал Ксеркс. Скажи, что мое намерение соответствует его интересам – обманом и хитростью заставить тебя освободить проход. Скажи так и сам поверь во все это. И все равно мое сообщение останется правдивым. Бессмертные идут. Они появятся к утру, все десять тысяч, они появятся в тылу союзников.
Вельможа шагнул вперед и встал перед спартанским царем, чтобы страстно обратиться к нему лично:
– Эта битва при Горячих Воротах – не решающая, мой господин. Решающее сражение состоится позже, в глубине Греции,– возможно, у стен Афин, возможно, на Истме, возможно, на Пелопоннесе, под самой Спартой. Тебе это известно. Любой военачальник, знающий местность, понимает это. Твоя страна нуждается в тебе, господин. Ты – душа ее войска. Ты можешь сказать, что лакедемонские цари никогда не отступают. Но отвага должна согласоваться с мудростью – иначе она становится безрассудством. Подумай о том, что ты со своими воинами уже свершил у Горячих Ворот. Добытая тобою за эти шесть дней слава будет жить вечно. Вы прибыли сюда, построили Стену и двое суток сражались. Не ищи смерти ради смерти или во имя исполнения пустого пророчества. Останься жить, господин, и сразись в другой день. В другой день, когда за тобой будет все твое войско. В другой день, когда сможешь одержать победу – решающую победу.
Перс указал на собравшихся у костра военачальников – на
полемарха Деркилида, на Всадников Полиника и Дориона, на
эномотархов и воинов, на Алфея и Марона и на моего хозяина.
– Прошу тебя, господин. Сохрани их, цвет Лакедемона, чтобы они отдали свои жизни в другой день. И сохрани себя самого для этого часа. Ты доказал свою отвагу, господин. А теперь, умоляю тебя, прояви свою мудрость. Отступи. Уйди сам и уведи своих воинов, пока еще можешь.
КНИГА СЕДЬМАЯ
Глава тридцатая
Отряд для налета на шатер Великого Царя состоял из одиннадцати человек. Леонид отказался рисковать большим числом. Он жалел даже одиннадцать из ста восьми воинов, оставшихся от Трехсот, кто еще мог сражаться.
Старшим он назначил Диэнека – самого опытного из начальников малых подразделений. Всадников Полиника и Дориона включили в отряд за их быстроту и отвагу, а Александра, несмотря на возражения Леонида, который старался сберечь его,– чтобы сражался бок о бок с моим хозяином как
диас. Шли скириты Собака и Лахид. Они были горцами и умели карабкаться по отвесным скалам. Разбойник Сферей должен был стать проводником на каменную стену Каллидрома, а Петуху следовало провести отряд по вражескому лагерю. Самоубийце и мне надлежало усиливать мощь отряда дротиками и луком.
Еще одним спартиатом был Теламоний, кулачный боец из
лоха Дикой Оливы. После Полиника и Дориона он был самым быстроногим из Трехсот. Кроме того, он единственный из всех в отряде не был ранен.
Принятию плана способствовал феспиец Дифирамб. Он и сам замышлял подобное, без Петуха, которого мой хозяин в конце концов не казнил, а вместо этого оставил в лагере на весь второй день и приказал ему ухаживать за ранеными, чинить и заменять оружие. Дифирамб с пылом уговаривал Леонида согласиться на вылазку и теперь, раздосадованный, что его самого не включили в отряд, вышел нас проводить и пожелать удачи.
На лагерь опустился ночной холод. Как и предсказывал Тиррастиад, теперь союзников обуял страх. Жалкий слушок мог вселить ужас, а незначительное знамение – вызвать панику. Дифирамб понимал душу ополченцев. Им требовалась какая-то перспектива, чтобы на нее возложить свои надежды в эту ночь, какое-то ожидание, чтобы продержаться до утра. Удастся вылазка или нет – это не столь важно. Нужно просто послать людей. И если боги в самом деле на нашей стороне, что ж… Дифирамб усмехнулся и на прощанье сжал руку моему хозяину.
Диэнек разделил отряд на две группы: одна из пяти человек под командованием Полиника, другая, из шести, под его собственным. Каждой предстояло самостоятельно взобраться на скалу, пройти через Каллидром и встретиться под Трахинскими скалами. Это увеличивало вероятность, что хоть одна группа дойдет до цели, если другая попадет в засаду.
Когда все вооружились и были готовы выступить, то предстали перед Леонидом. Царь поговорил с нами сам. Никого из военачальников при этом разговоре не было – ни союзнических, ни даже спартанских. Поднялся холодный ветер. В небе над Эвбеей загромыхало. Над головой грозно темнели горы; сквозь клочья изорванного ветром тумана проглядывала луна, отчасти закутанная в саван облаков.
Леонид предложил уходящим воинам вино из личного запаса и налил его в собственную простую чашу. Он обратился к каждому, включая оруженосцев, не по имени, а по прозвищу. К Дориону он обратился «3айчишка», как того звали в детстве. Дектона назвал не Петухом, а Кочетком и погладил по плечу.
– Я подготовил документы о твоем освобождении, сообщил царь илоту.– Сегодня ночью они будут в мешке,у курьера. Они дадут полноправие тебе и твоей семье и освободят твоего малолетнего сына.
Имелся в виду младенец, которому спасла жизнь госпожа Арета перед
криптеей в ту ночь,– ребенок, который по лакедемонским законам сделал Диэнека отцом живого сына и таким образом позволил включить моего хозяина в число Трехсот.
Младенец, чья жизнь принесла смерть Диэнеку, а через него также Александру и Самоубийце. И мне.
– Если хочешь,– в свете рвущегося на ветру костра Леонид посмотрел Петуху в глаза,– можешь заменить имя Идотихид, которым теперь зовут ребенка. Это спартанское имя, а мы знаем, что ты не очень-то жалуешь наше племя.
Идотихидом, как Великий Царь, может быть, помнит, звали отца Петуха, Аретиного брата, погибшего в бою много лет назад. В ту ночь на мясницком дворе позади трапезной госпожа настояла, чтобы младенцу дали это имя.
– Ты волен дать своему сыну мессенийское имя,– продолжал Леонид,– но только назови его сейчас, прежде чем я запечатаю и отправлю свиток.
На наших работах и нарядах в Лакедемоне я много раз видел, как Петуха пороли. Но никогда прежде я не видел, чтобы его глаза наполнились слезами.
– Меня гложет стыд, господин,– сказал он Леониду, за то, что я добился этой милости вымогательством. Петух выпрямился перед царем и объявил, что имя Идотихид – благородное имя и его сын с гордостью будет носить его.
Царь кивнул и по-отечески тепло положил руку Дектону на плечо.
– Возвращайся живым в эту ночь, Кочеток. А утром я отошлю тебя в безопасное место.
Прежде чем группа Диэнека взобралась на несколько стадиев над Альпенами, начали падать крупные капли дождя. Пологий склон горы состоял из известняка, и, когда на нее обрушился ливень, по поверхности поползла жижа.
Сферей на последнем подъеме вышел вперед, но вскоре стало ясно, что в темноте он сбился с пути. Мы сошли с главной тропы и оказались в запутанной сети козьих троп, испещрявших крутой склон. Воины на ощупь брели во мраке. По очереди каждый занимал место впереди, отдав щит и оружие другим. Ни на ком не было шлема, только войлочные подшлемники. Они промокли и набухли, и, поскольку полей у подшлемников не было, глаза заливало каскадами воды. Мы карабкались как могли, мы распластались на склоне, вытянувшись от пальцев ног до кончиков пальцев рук и прижимаясь щекой к скользкой поверхности. В темноте нас хлестали ледяные потоки дождя и убийственные потоки грязи и камней, катящихся с вершины.
Мою раненую ногу жгло, словно сквозь нее просунули раскаленную кочергу, которая плавилась в ране. Каждое усилие вызывало такую боль, что я чуть не терял сознание. Диэнек двигался с еще большим трудом. Его старая рана, полученная еще при Ахиллеоне, не давала ему поднять левую руку выше плеча; правая ступня не сгибалась. В довершение глазница выбитого глаза снова начала кровоточить, дождевая вода смешивалась с темной кровью и текла по бороде на кожаный боевой пояс. Диэнек покосился на Самоубийцу, который с простреленными обоими плечами полз, как змея, прижимая руки к бокам и извиваясь всем телом, по покрытому грязью, ненадежному склону.
– Клянусь богами,– пробормотал мой хозяин,– ну и видок у нас!
До первого гребня группа добралась через час. Теперь мы были над туманом, дождь прекратился, и ночь разом стала ясной, ветреной и холодной. В тысяче футов под нами бушевало море, покрытое толщей густого тумана, чьи ватные гребни сияли под луной ослепительной белизной. До полнолуния оставалась лишь одна ночь. Вдруг Сферей сделал знак замереть, и все притаились, упав на землю. Разбойник указал рукой куда-то через пропасть.
На противоположном хребте в двух стадиях от нас можно было различить трон Великого Царя, тот самый, с которого он два дня наблюдал за сражением. Слуги разбирали платформу и навес.
– Они собирают вещи. 3ачем?
– Возможно, им хватило. Уходят домой.
Группа быстро скользнула с вершины в затененную расселину, где нас не было видно. Все насквозь промокли. Я выжал повязку на глазу моего хозяина и снова вернул ее на место.
– Похоже, с кровью вытекают и мои мозги,– сказал он. – Не могу придумать другого объяснения, зачем я отправился на это долбаное задание.
Он велел всем выпить еще вина, чтобы согреться и заглушить боль от ран. Самоубийца продолжал вглядываться в противоположный склон, где слуги разбирали театральную ложу своего господина.
– Ксеркс думает, что завтра конец. Бьюсь об заклад: на рассвете мы увидим его в Теснине – на коне, предвкушающего близкий триумф.
Горная седловина была широкой и ровной. Во главе со Сфереем мы целый. час быстро шли звериными тропами, что петляли среди зарослей сумаха и кипрея. Теперь тропа ушла от моря, и оно скрылось из виду. Мы пересекли еще две гряды, потом наткнулись на горный ручей, один из множества впадавших в Асоп. По крайней мере, так предположил наш проводник. Диэнек коснулся моего плеча и показал на вершину на севере:
– Это Оита. Там умер Геракл.
– Думаешь, он поможет нам сегодня ночью?
Мы дошли до лесистого склона, где приходилось, карабкаться рука об руку. Вдруг из зарослей наверху раздался быстрый треск. Что-то невидимое метнулось вперед. Все руки схватились за оружие.
– Люди?
Шум наверху быстро удалялся. – Олени. Спустя миг животные находились всего в сотне футов от нас. Тишина. Только ветер рвал вершины деревьев над нами.
Почему-то эта случайная встреча сильно всех ободрила. Александр устремился в чащу. В оленьем убежище, где бок о бок лежало стадо, земля была сухой и утоптанной. – Пощупайте траву. Она еще теплая. Сферей приготовился помочиться.
– Не надо,– слегка толкнул его Александр.– А то олени никогда не вернутся на это лежбище.
– А тебе-то что?
– Мочись ниже по склону,– приказал Диэнек.
Как ни странно это звучит, эти уютные заросли напомнили домашний очаг, пристанище. Чувствовался олений запах, особый аромат их шкур. Никто из нас не говорил, но каждый, я готов поспорить, думал об одном: как хорошо было бы прямо сейчас улечься здесь, как олени, и закрыть глаза. Позволить всем страхам покинуть тело. Хотя бы на мгновение забыть обо всех ужасах.
– Здесь хорошая охота,– заметил я.– Мы шли по кабаньей тропе. Бьюсь об заклад, здесь водятся медведи и даже львы.
Диэнек быстро взглянул на Александра:
– Мы здесь еще поохотимся. Этой осенью. Что скажешь?
Изувеченное лицо юноши сложилось в усмешку.
– Возьмем тебя с собой, Петух,– предложил Диэнек. Проведем здесь недельку и сделаем так, чтобы она запомнилась. Никаких лошадей и загонщиков, лишь по две собаки на каждого. Поохотимся недельку и вернемся в львиных шкурах, как Геракл. Пригласим и нашего милого друга Полиника.
Петух посмотрел на Диэнека, как на сумасшедшего. Потом на его лице появилась робкая улыбка.
– Значит, договорились,– сказал мой хозяин.– Нынче же осенью.
3а следующим гребнем мы пошли вниз по ручью. Вода громко журчала, и мы шли беспечно. И вдруг неизвестно откуда донесся голос. Все замерли.
Петух пробрался вперед. Мы стояли цепочкой, один за другим – наихудшее построение для боя.
– Они говорят по-персидски? – прошептал Александр, напрягая слух.
Голоса внезапно смолкли.
Нас услышали.
Я видел, как Самоубийца бесшумно достал из колчана две «штопальные иглы». Диэнек, Александр и в двух шагах впереди меня за спиной две е штопальные Петух сжали копья, Сферей приготовился метнуть топор. – Эй, говнюки, это вы?
Из темноты вышел скирит Собака с мечом в одной руке и кинжалом в другой.
– Клянусь богами, вы нас напугали. Мы чуть не обделались!
Это была группа Полиника, которая остановилась, чтобы погрызть сухарей.
– Это что, семейная вылазка на природу? – Диэнек соскользнул к ним. Мы все с облегчением похлопали друзей по плечу. Полиник доложил, что его группа прошла по нижней тропе, быстро и легко. Они уже четверть часа сидят на этой полянке.
– Спускайтесь,– Всадник поманил за собой моего хозяина.– Посмотрите-ка на это.
Мы все последовали за ним. На другом берегу ручья, в десяти футах выше по склону, протянулась тропа, достаточно широкая, чтобы рядом прошли два человека. Даже в глубоких тенях теснины можно было различить истоптанную землю.
– Это горная тропа, по которой прошли Бессмертные. Диэнек опустился на колени, чтобы пощупать землю. Она была истоптана совсем недавно, прошло не более двух часов. Можно было заметить, как подошвы Десяти Тысяч вдавливались в склон на подъеме и скользили вниз на спуске.
Диэнек отобрал одного из воинов Полиника, кулачного бойца Теламония, чтобы тот вернулся обратно по пути, которым прошла их группа, и все доложил Леониду. Теламоний застонал от досады.
– Никаких возражений, – оборвал его Диэнек.– Ты самый быстроногий из знающих эту дорогу. Придется идти тебе.
Кулачный боец бегом пустился в путь.
В группе Полиника недоставало еще одного бойца.
– Где Дорион?
– Ниже по тропе. Разнюхивает.
Вскоре Всадник, чья сестра Алфея была женой Полиника, выпрыгнул откуда-то снизу. Он был
гимнос – раздетый для скорости.
– Ну что? – весело приветствовал его Полиник. – Вынюхал что-нибудь?
Всадник осклабился и сдернул с ветки свой плащ. Примерно через два стадия, доложил он, тропа заканчивается. Все деревья там срублены, вероятно, прошлым вечером – сразу после того, как персы разузнали про тропу. Несомненно, прежде чем выступить в поход, Бессмертные выдвинулись сюда, на недавно расчищенный участок.
– И что там теперь?
– Конница. Сотни три, может быть, четыре.
По донесению Всадника, это были фессалийцы. Греки, чьи земли захватил враг.
– Они храпят, как крестьяне. Туман густой. Все звуки заглушаются, как под плащами, в которые закутались часовые.
– Мы сможем пройти в обход? Дорион кивнул.
– Там везде хвоя. Ковер из сухих иголок. Можно бежать во всю прыть, не издавая ни звука.
Диэнек показал на поляну, где стоял отряд.
– Это будет наше место сбора. Соберемся здесь после. Отсюда поведешь нас назад, Дорион, по тому пути, которым пришли вы,– по короткому.
Диэнек велел Петуху еще раз кратко разъяснить обеим группам расположение вражеского лагеря на тот случай, если с ним самим по пути вниз что-то случится. Разделили остатки вина. Когда мех перешел из рук Полиника к Петуху, илот воспользовался этим мгновением близости перед боем.
– Скажи мне правду. Ты бы с
криптеей убил моего сына в ту ночь?
– Я еще убью его,– ответил бегун,– если ты сегодня ночью сдашь нас.
– В таком случае,– сказал илот,– я с еще большей радостью предвкушаю твою смерть.
Сферею было пора уходить. Он согласился провести группу досюда, но не дальше. Ко всеобщему удивлению, изгой словно разрывался на части.
– Послушайте,– сказал он, запинаясь,– я хочу пойти с вами, вы хорошие люди, я восхищаюсь вами. Но совесть не позволяет мне отказаться от вознаграждения.
Это вызвало всеобщее веселье.
– Твои угрызения совести тяжелы, изгой,– заметил Диэнек.
– Ты хочешь вознаграждения? – Полиник сжал его гениталии.– Я сохраню тебе вот это.
Один лишь Сферей не рассмеялся.
– Будь ты проклят,– пробормотал он скорее себе, чем остальным. И, продолжая ругаться и ворчать, занял место в колонне. Он остался.
Отряд больше не делился на группы, теперь ему предстояло двигаться командами по пять человек. Сферей присоединился к четверке Полиника, заменив Теламония. Пятерки без приключений призраками проскользнули мимо дремлющих фессалийцев. Присутствие этой греческой конницы было большой удачей. Путь назад, если таковой случится, неизбежно будет беспорядочным. Немалое преимущество – иметь в темноте такую заметную веху, как несколько десятков футов вырубленного леса. Фессалийские кони начнут биться, создадут сумятицу, а если отряду придется под обстрелом бежать через лагерь и кричать друг другу по-гречески, то это не выдаст нас среди говорящих по-гречески фессалийцев.
Еще через полчаса мы вышли на край леса прямо над стенами Трахина. Внизу, под стенами города, шумел Асоп. Он бурлил оглушительно, и из горловины канала вырывался холодный резкий ветер.
Теперь мы увидели вражеский лагерь.
Несомненно, ни один вид под небесами, даже осажденная Троя, даже сама война богов с титанами, не могли сравниться по масштабу с тем зрелищем, что раскинулось перед нашими глазами.
Сколько мог охватить взор, вся равнина и еще далеко за пределами видимости, за Трахинскими скалами,– все светилось увеличенными туманом вражескими кострами.
– Да, много вещей им собирать.
Диэнек поманил к себе Петуха. Илот повторил ему все, что запомнил.
Кони Ксеркса пьют выше всех по течению. Реки для персов священны, и их надо оберегать от скверны. Всю верхнюю часть долины оставили под пастбище. Шатер Великого Царя, клялся Петух, стоит в начале равнины на расстоянии полета стрелы от реки.
Отряд устремился вниз, прямо под городские стены, и вошел в быструю воду. Эврот в Лакедемоне течет с гор, и даже летом от его вод немеют ноги. Асоп же оказался еще хуже. Ноги заледенели моментально. Он был таким холодным, что мы испугались за свою жизнь,– если придется выбираться и бежать, то ноги могут не послушаться.
К счастью, через несколько стадиев река стала мельче. Мы свернули в узлы свои плащи, положили на повернутые чашей вниз щиты и стали толкать их перед собой. Враг построил молы для ослабления течения, чтобы коням и людям было легче пить. На молах стояли заставы, но видимость в туман и ветер была такая плохая, час был таким поздним, а часовые – такими самоуверенными, что мы смогли проскользнуть мимо, нырнули в водослив и выбрались из воды в тени берега.
Вышла луна. Петух не мог различить шатер Великого Царя.
– Он был здесь, клянусь! – Он указал на возвышенность, где не виднелось ничего, кроме хлопающих на ветру палаток конюхов да солдат оцепления, которые стояли между ними и жалко ежились рядом с лошадьми.– Наверное, его перенесли: Диэнек обнажил меч и собрался перерезать Петуху горло, как предателю. Петух клялся всеми богами, каких мог вспомнить, что он не лгал.
– В темноте все выглядит иначе,– предположил он, заикаясь.
Его выручил Полиник.
– Я верю ему, Диэнек. При такой тупости как все не перепутать?
Мы стали красться дальше – по горло в ледяном потоке, который холодил мозг наших костей. Диэнек ногой запутался в придонных водорослях, и ему пришлось
ксифосом обрубить их, чтобы освободиться. Он фыркнул.
Я спросил, что его рассмешило.
– Я просто задумался, можно ли оказаться в более жалком положении.– Он мрачно усмехнулся.–
Пожалуй, разве что если какая-нибудь речная змея заберется мне в задницу и выведет там пяток змеенышей…
Вдруг рука Петуха толкнула моего хозяина в плечо.
В сотне шагов впереди виднелся еще один мол и водослив. На песчаном берегу стояло три ряда шатров, и от них вверх по склону змеилась освещенная лампами дорожка мимо загона для лошадей, где держали дюжину покрытых попонами боевых коней, таких великолепных, что каждый, наверное, стоил годового дохода какого-нибудь небольшого города.
Прямо над загоном возвышалась дубовая роща, освещенная железными светильниками, раскачивающимися на ветру, а позади, за линией египетских пехотинцев, виднелся шатер с царскими флагами, такой просторный, что в нем могло уместиться целое войско.
– Вот,– указал Петух.– Это шатер Ксеркса.
Глава тридцать первая
Мысли воина непосредственно перед боем, как часто замечал мой хозяин (всегда называвший себя исследователем страха), следуют неизменным путем. Всегда возникает пауза, часто всего на один удар сердца, когда перед внутренним взором открывается следующее тройственное видение, обычно в одном и том же порядке: сначала в глубине сердца возникают лица любимых, которые не разделяют с воином непосредственную опасность,– жены и матери, детей, особенно если это дочери, особенно если совсем юные. Лица тех, кто останется под солнцем и сохранит в своем сердце память о нем, воин видит с нежностью и сочувствием. Им он посылает свою любовь и прощальные слова.
Потом перед внутренним взором встают тени тех, кто уже пересек реку, кто ждет на дальнем берегу смерти. Для моего хозяина это были его брат Ятрокл, отец и мать, брат Ареты Идотихид. Их молчаливые образы тоже приветствует сердце воина, призывает их на помощь, а потом отпускает.
И под конец выступают боги – те, которые, по ощущениям воина, были наиболее благосклонны к нему. И в их руки он вверяет свою душу, если может.
Только выполнив этот тройной долг признательности, воин обращается к действительности и поворачивается, словно очнувшись ото сна, к стоящим рядом, к тем, кто вместе с ним пойдет на смертельное испытание. Здесь, как часто замечал Диэнек, и сказывается наибольшее преимущество спартанцев перед своими противниками. Под каким вражеским знаменем отыщутся такие мужи, как Леонид, Алфей, Марон или находящиеся здесь, в этой грязи, Дорион, Полиник и сам мой хозяин Диэнек? Тех, кто вместе с ним взойдет на лодку паромщика, воин в сердце своем обнимает с нежностью, превосходящей всякую другую, дарованную богами смертным, за исключением разве что материнской нежности к своему младенцу. Им он вверяет все, а они вверяют все – ему.
Мой взгляд обратился на Диэнека, присевшего на корточки на речном берегу. Он был без шлема, в своем алом плаще, который в темноте казался черным. Правой рукой потирая сустав негнущейся ноги, Диэнек сжатыми фразами проинструктировал воинов, которым под его командованием предстояло сейчас пойти в бой. Рядом Александр набрал с берега пригоршню песку и тер им древко своего копья, чтобы было удобнее держать. Полиник, ругаясь, продел руку в отсыревшую лямку щита, ища точку равновесия и удобный захват рукояти. Собака и Лахид, Сферей, Петух и Дорион также завершали свои приготовления. Я посмотрел на Самоубийцу. Как врач перебирает инструменты, он быстро сортировал свои «штопальные иглы», выбирая три – одну для метания, две для свободной руки,– вес и балансировка которых сулили наивернейший бросок. Пригнувшись, я приблизился к скифу, в паре с которым мне предстояло идти в атаку.
– Встретимся на переправе,– сказал он и потянул меня за собой на фланг, с которого нам предстояло нападать.
Неужели его лицо – последнее, что мне суждено увидеть? Этот скиф был моим ментором и учителем с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать. Он учил меня прикрытию и интервалу, равнению и безопасной зоне, показывал, как обрабатывать проникающую рану, как накладывать шину на сломанную ключицу, как повалить коня, как выносить с поля боя раненого на его плаще. Этот человек со своей ловкостью и бесстрашием мог наняться в любое войско в мире. К персам, если бы захотел. Его бы назначили сотником, он бы пользовался почетом и славой, у него было бы много женщин и богатств. Но он предпочел остаться в суровой лакедемонской академии, на службе без всякого жалованья.
Я подумал о торговце Элефантине. Самоубийца больше всех привязался к этому веселому, полному кипучей энергии человеку, и эти двое быстро сдружились. Вечером накануне первого сражения, когда
эномотия моего хозяина готовилась к ужину, рядом показался Элефантин. Он распродал весь свой товар, обменял повозку и осла и даже продал собственный плащ и обувь. В ту ночь он ходил вокруг с корзиной груш и сушеных фруктов и угощал сидящих за ужином воинов. Мой хозяин часто за ужином устраивал жертвоприношение – ничего существенного, всего лишь корку ячменного хлеба и возлияние. Он не молился вслух, а только возносил от всего сердца несколько беззвучных слов богам. Он никогда не рассказывал, о чем молится, но кое-что я мог прочесть по его губам и услышать обрывки бормотания. Он молился за Арету и своих дочерей.
– Юноши должны бы проявлять такую набожность,– заметил торговец,– а не вы, безобразные ветераны!
Диэнек тепло встретил
эмпора.
–Ты хотел сказать «седовласые», мой друг. – Я хотел сказать «безобразные», тут очись!
Диэнек пригласил его присесть. Биас был тогда еще жив, и он пошутил насчет непредусмотрительности торговца. Как же теперь тот выберется отсюда без осла и повозки?
Элефантин ничего не ответил.
– Наш друг не будет выбираться,– тихо проговорил Диэнек, уставившись в землю.
Пришли Александр и Аристон с зайцем, которого выменяли у мальчишек из деревни Альпены. Старик улыбнулся дружескому поддразниванию, которым товарищи встретили их добычу. Это был « зимний заяц», такой тощий, что не хватило бы и на двоих, не говоря уж о шестнадцати. Торговец посмотрел на моего хозяина:
– Если посмотреть на вас, ветеранов с сединой в бороде, то представляется поистине правильным, что вы остаетесь здесь, у Ворот. Но не эти юноши.– Он указал на Александра и Аристона, но своим жестом охватил и меня, и других оруженосцев, которым едва исполнилось двадцать. Как же я могу уйти, когда эти дети остаются? 3авидую твоим товарищам,– продолжал торговец, когда чувства отпустили его горло. – Всю жизнь я искал того, чем вы обладаете с рождения,– принадлежать великому городу. Его покрытая рубцами рука – рука кузнеца – указала на костры, разгорающиеся по всему лагерю, и воинов, молодых и старых, рассаживавшихся у огня.– Вот это будет моим великим городом. Я буду его судьей и лекарем, отцом его сирот и городским дурачком.
Он раздал груши и двинулся дальше. Послышался вызванный им смех у другого костра, а потом у следующего.
Тогда союзники уже четыре дня стояли у Ворот. Они видели неисчислимое множество персов в море и на суше и прекрасно понимали предстоящие неодолимые тяготы. И все же, я чувствовал, до этого момента по крайней мере
эномотия моего хозяина не ощущала всей реальности грозящей Элладе опасности и неминуемости гибели защитников. 3ашедшее солнце принесло глубокое отрезвление. Долгое время никто ничего не говорил. Александр сдирал с зайца шкуру, я на ручной мельнице молол ячмень, Медон устраивал в земле печь, Черный Лев рубил лук. Биас прислонился к дубовому пню, приготовленному на дрова; слева от него сидел Леон Ослиный Член. Когда Самоубийца заговорил, все вздрогнули.
– В моей стране есть богиня по имени На'ан,– прервал молчание скиф.– Моя мать была ее жрицей, если так возвышенно можно назвать невежественную женщину, которая всю жизнь провела на задке повозки. Мне напомнил ее наш друг торговец и его арба, которую он звал своим домом.
Это была самая длинная речь, которую я да и все остальные слышали от Самоубийцы. Все ожидали, что на этом она и закончилась. Но, ко всеобщему удивлению, скиф продолжил.
Его жрица-мать учила его, как сказал Самоубийца, что все под солнцем нереально. 3емля и сущее на ней – всего лишь маска, материальное воплощение более тонкой и глубокой реальности, кроющейся прямо под ней и невидимой для чувств смертных. Все, что мы зовем реальностью, держится на этом тонком фундаменте. Он лежит в основе всего, неразрушимый и незаметный за отгораживающим его занавесом.
– Религия моей матери учит, что реальны лишь те вещи, которые неощутимы для наших чувств. Душа. Материнская любовь. Мужество. Они ближе к Богу, говорила она, потому что только они одинаковы по обе стороны смерти, перед покрывалом и за ним. Впервые придя в Лакедемон и увидев фалангу,– продолжал Самоубийца,– я подумал, что это самая нелепая форма ведения войны, какая только возможна. У меня на родине сражаются верхом. Для меня это был единственный способ воевать, великий и славный, зрелище, берущее за душу. Фаланга показалась мне шуткой. Но я восхитился воинами, их доблестью, которой они столь очевидно превосходили все другие виденные мною народы. Да, фаланга явилась для меня загадкой.
Поверх костра я взглянул на Диэнека, пытаясь понять, слышал ли он от Самоубийцы подобные мысли раньше. Но по лицу моего хозяина было заметно, что он весь поглощен вниманием. Очевидно, откровение Самоубийцы было для него внове, так же как и для остальных.
– Помнишь, Диэнек, как мы сражались с фиванцами при Эрифре? Когда их строй рухнул и они побежали? Тогда я впервые увидел разгром, и он меня потряс. Может ли быть более низкое, более позорное зрелище под солнцем, чем фаланга, от страха сломавшая строй? Стыдно быть смертным и видеть такое даже среди врагов. Это нарушает высшие законы богов.– Лицо Самоубийцы, исказившееся презрением, теперь оживилось.– Ах, но противоположность тому – когда воины держат строй! Что может быть величественнее, благороднее? Однажды ночью во сне я шел в фаланге. Мы шагали по равнине навстречу врагу. Мое сердце сжал страх. Вокруг шагали мои товарищи-воины – впереди, сзади, со всех сторон. И все это был я. Я старый, я молодой. Я испугался еще больше, я словно разрывался на куски. Потом все запели. Все другие «я» – и я сам. И когда все голоса слились в согласии, страх покинул мое сердце. Я проснулся со спокойным дыханием и понял, что этот сон послали мне боги. Тогда я понял, что это и есть клей, делающий фалангу великой. Невидимый клей, связывающий ее воедино. Я понял, что вся эта муштровка и дисциплина, которые вы, спартанцы, так любите вдалбливать друг другу в череп, на самом деле нужны не для того, чтобы привить молодым воинам сноровку или обучить их искусству, а лишь ради того, чтобы создать этот клей.
Медон рассмеялся:
– А какой клей растворил ты, Самоубийца, что наконец позволил своим челюстям так не по-скифски невоздержанно хлопать?
Самоубийца ухмыльнулся через костер. Говорили, что Медон и дал скифу такое прозвище, когда тот, совершив убийство в своей стране, бежал в Спарту, где снова и снова просил смерти для себя.
– Когда я впервые пришел в Лакедемон и меня прозвали Самоубийцей, я возненавидел это прозвище. Но со временем я понял всю его мудрость, пусть и непреднамеренную. Что может быть благороднее, чем убить себя? Не буквально. Не клинком в брюхо. А затушить в себе эгоизм, убить ту часть себя, которая думает лишь о самосохранении, о спасении собственной шкуры. В этом я и увидел в вас, спартанцах, победу над собой. Это и есть тот клей. Это заставило меня остаться, чтобы научиться тому же. Когда воин сражается не за себя, а за своих братьев, когда он со всей страстью стремится не к славе, не к сохранению собственной жизни, когда он жаждет отдать все свое существо за других, за своих товарищей, не разлучаться с ними, не оказаться недостойным их – тогда его сердце поистине наполняется презрением к смерти. Этим он выходит за границы себя самого, и его действия достигают высшей реальности. Вот почему истинный воин не может говорить о битве ни с кем, кроме своих братьев, бывших там вместе с ним. Эта истина слишком сокровенна, слишком священна для обыденных слов. Я сам никогда бы и нигде не произнес такую речь, а только здесь и сейчас, с вами.
Черный Лев внимательно слушал.
– Все сказанное тобой верно, Самоубийца, если позволишь мне так тебя называть. Но не все невидимое благородно. Низкие чувства тоже невидимы. Страх, и жадность, и похоть. Что ты скажешь о них?
– Да,– признал Самоубийца,– но разве они и не чувствуются низкими? Они смердят до небес, от них становится тошно на сердце. Благородные невидимые чувства ощущаются иначе. Они подобны музыке, в которой чем выше ноты, тем они чище. И это еще одна вещь, сбившая меня с толку, когда я пришел в Лакедемон. Ваша музыка. Сколько ее было, и не только воинственные песни и
пэаны, которые вы поете, когда идете на врага, но и музыка, звучащая во время танцев и в хорах, на праздниках и жертвоприношениях. Почему эти воины, воины до мозга костей, так почитают музыку и в то же время запрещают театры и отвергают всякое искусство? Наверное, они чувствуют сходство музыки и добродетели. Просто добродетели вибрируют на более высокой, более благородной ноте.
Он повернулся к Александру.
– Вот почему Леонид выбрал тебя в число Трехсот, мой юный хозяин, хотя и знал, что никогда раньше ты не стоял под боевыми трубами. Он верит, что ты споешь здесь, у Ворот, в самом возвышенном регистре, не этим,– он указал на горло,– а этим,– и его рука коснулась сердца.
Самоубийца встал, неожиданно неуклюже и сконфуженно. Все вокруг костра смотрели на него задумчиво и с уважением. Диэнек нарушил молчание смехом:
– Да ты философ, Самоубийца!
Скиф в ответ усмехнулся.
– Да,– кивнул он,– очись тут!
Появился посланец, вызывая Диэнека к Леониду. Мой хозяин сделал знак, чтобы я следовал с ним. Что-то в нем переменилось, я чувствовал это, когда мы шли среди путаницы тропинок, испещрявших лагерь союзников.
– Помнишь ту ночь, Ксео, когда мы сидели с Аристоном и Александром, рассуждая о страхе и его противоположности?
Я сказал, что помню.
– Так вот, я нашел ответ на свой вопрос. И дали его мне наши друзья – торговец и скиф.
Его взгляд охватил лагерные костры, союзные войска и их командиров, которые, как и мы, со всех сторон тянулись к царскому костру, готовые откликнуться на его нужды и получить его указания.
– Противоположность страха – это любовь,– сказал Диэнек.
Глава тридцать вторая
С запада, с тыла, шатер Великого Царя охраняли двое часовых. Диэнек избрал для атаки эту сторону, потому что она была самой темной и неприметной и этот бок был открыт ветру. Из всех обрывочных образов, что остались у меня от этой схватки, занявшей не более пятидесяти ударов сердца, самым ярким был первый часовой, египетский пехотинец с позолоченным копьем и шлемом, украшенным серебряными крыльями грифа. Эти воины, как известно Великому Царю, носят в качестве почетного знака яркие шерстяные шарфы, у каждого подразделения свой цвет. У них в обычае на посту повязывать их крест-накрест на груди и оборачивать ими пояс. В ту ночь часовой закутал шарфом нос и рот от ветра и колючей пыли. Он также закутал уши и лоб, оставив лишь узкую щель для глаз. Свой длинный, во весь рост, плетеный щит он держал перед собой, борясь на ветру с его неуклюжей массой. Не требовалось богатого воображения, чтобы представить, как ему тоскливо и одиноко на холоде рядом с единственным факелом, гудящим на ветру.
Самоубийца незамеченным подкрался к этому парню, он прополз на животе мимо застегнутых шатров конюхов Великого Царя и громко хлопающих холщовых загородок, защищавших от ветра коней. Я был на шаг позади и видел, как скиф прошептал два слова молитвы: «Отправь его», то есть врага к его диким богам.
Часовой взглянул в нашу сторону и лишь успел заметить, как из темноты прямо на него бросилась фигура скифа, сжимая в левом кулаке два дротика. Бронзовый смертоносный наконечник третьего изготовился к броску, заняв положение у правого уха. Наверное, зрелище было столь нелепо и неожиданно, что страж даже не успел встревожиться. Правой рукой он беззаботно поправил прикрывающий глаза шарф и как будто бы что-то пробормотал про себя, вынужденный хоть как-то отреагировать на это внезапное и необычное явление.
Первый дротик Самоубийцы с такой силой вошел в кадык египтянина, что наконечник пробил шею и темно-красное древко на пол-локтя вышло из позвоночника. Часовой как скала рухнул на землю. Через мгновение Самоубийца был на нем и рывком выдрал свою «штопальную иглу», так что на ней осталась половина дыхательных путей.
Второй часовой в пяти шагах слева от первого лишь растерянно обернулся, явно не веря своим чувствам, когда сзади на него набросился Полиник и с размаху обрушил на открытый правый бок такой сокрушительный удар своим щитом, что часовой отлетел в сторону. Дыхание у него перехватило, и он навзничь упал в грязь, где копье Полиника проткнуло его грудь. 3а шумом ветра было слышно, как хрустнули кости.
Мы бросились к шатру. Александр клинком наискось распорол беленое полотно. Диэнек, Дорион, Полиник, Лахид, а за ними Александр, Собака, Петух и Сферей ворвались внутрь. Нас увидели. Часовые с обеих сторон тревожно закричали. Однако все произошло так быстро, что стража поначалу не поверила собственным глазам. Очевидно, у них был приказ не покидать своих постов, и почти все они так и сделали. Двое ближайших нерешительно и осторожно направились к Самоубийце и ко мне (мы единственные еще оставались снаружи). Одна стрела лежала у меня на тетиве, еще три я сжимал в левой руке. Я собрался стрелять.
– Стой! – сквозь ветер крикнул мне в ухо Самоубийца.– Улыбнись им.
Я подумал, что он рехнулся. Но вот что он сделал. Дружески жестикулируя и обращаясь к часовым на своем языке, скиф начал представление, как будто это было просто какое-то упражнение, которое эти часовые могли пропустить во время получения инструкций. Его выходка задержала их по крайней мере на два мгновения. Потом еще дюжина пехотинцев с шумом высыпала перед шатром, Мы повернулись и нырнули внутрь.
Там царила кромешная тьма и было полно вопящих женщин. Наших нигде не было видно. У противоположной стены мелькнул свет. Это оказался Собака. у одной его ноги лежала голая женщина, впившись зубами ему в икру. Свет лампы из соседнего помещения упал на клинок скирита, когда он прорубил хрящи ее шейных позвонков. Собака обвел рукой комнату:
– Поджечь!
Мы находились в чем-то вроде гарема с наложницами. Во всем шатре было, наверное, два десятка комнат. Кто определит, которая из них царская? Я бросился к единственной горящей лампе и сунул ее в шкафчик с женским бельем. Через мгновение весь бордель пылал.
3а спиной у нас посреди визжащих шлюх появились пехотинцы. Мы бросились вслед за Собакой по проходу. Очевидно, мы находились в задней части шатра. Следующая комната, по-видимому, принадлежала евнухам. Я видел, как Диэнек и Александр, щит к щиту, прорвались мимо пары титанов с наголо выбритыми черепами, даже не задержавшись, чтобы ударить, а просто опрокинув их. Одному из них взмахом своего
ксифоса выпустил кишки Петух, а другого рубанул топором Сферей. Полиник, Дорион и Лахид выскочили из какой-то спальни, с их копий капала кровь.
– Долбанные жрецы! – с досадой крикнул Дорион.
3а ним, шатаясь, вышел какой-то маг с пропоротым животом и упал.
Дорион и Полиник сражались во главе отряда, когда нападающие добрались до комнаты Великого Царя. Помещение было просторное, широкое, как амбар, и утыкано столькими стойками из черного дерева и кедра, что напоминало лес. Его свод освещали лампы и факелы, и было светло как в полдень. Персидские министры не спали и собрались на совет. Возможно, они рано встали, а может быть, еще не ложились. Я свернул за угол этого помещения, когда Диэнек, Александр, Собака и Лахид догнали Полиника и Дориона и выстроились щит к щиту для атаки. Мы видели военачальников и министров Великого Царя. Они сидели в пятнадцати шагах от нас на полу – не земляном, а застеленном досками, твердыми и ровными, как в храме. Поверх досок лежали толстые ковры, которые поглощали любые звуки.
Было невозможно определить, кто из персов сам Великий Царь,– все облачены в великолепные наряды, все поражали своим ростом и внушительным видом. Их было с дюжину, считая писцов, стражников и слуг, и все вооружены. Очевидно, они узнали о нападении всего несколько мгновений назад и теперь сжимали в руках кривые мечи, луки и топоры, хотя, судя по выражению их лиц, еще не верили своим глазам. Без лишних слов спартанцы бросились на них.
И тут мы заметили птиц. Десятки птиц экзотической породы, вероятно привезенных из Персии для развлечения Великого Царя, теперь взлетели и бились о ноги наступавших спартанцев. Не знаю, кто – возможно, кто-то из спартанцев в переполохе, а может быть, какой-то сообразительный персидский слуга – сломал или раздавил несколько стоящих в ряд клеток, но внезапно в разгар атаки пространство заполнили сотни кричащих гарпий. Они заметались, голося на всевозможные лады, заверещали и своим гомоном и хлопаньем крыльев устроили полное сумасшествие.
Эти птицы и спасли жизнь Великого Царя. Они – и стойки, подпиравшие свод шатра, как сотни колонн в храме. Неожиданность замедлила атаку ровно настолько, чтобы подоспевшие пехотинцы и стражники из числа Бессмертных заслонили Великого Царя своими телами.
Персы в шатре сражались точно так же, как их товарищи в проходе и в Теснине. Они привыкли к метательному оружию – дротикам, копьям и стрелам – и искали пространства, чтобы пустить их в ход. Спартанцы же были обучены ближнему бою с врагом. Прежде чем кто-либо успел вдохнуть, сомкнутые щиты лакедемонян были утыканы стрелами и наконечниками дротиков. Спустя еще миг их бронзовая поверхность ударила в сгрудившуюся массу врага. На мгновение показалось, что персов сейчас просто растопчут. Я видел, как Полиник с размаху вонзил копье в лицо какого-то вельможи, потом выдернул окровавленный наконечник и воткнул в грудь другого. Диэнек с Александром расправились с троими так быстро, что глаз еле успел уловить. Сферей как безумный врубился своим топором прямо в горстку кричащих жрецов и секретарей, которые растянулись на полу.
Слуги Великого Царя жертвовали собой с ошеломительной отвагой. Двое прямо передо мной, юноши с еще не пробившейся бородой, разом рванули ковер на полу, толстый, как зимняя шуба пастуха. Используя его как щит, они бросились на Петуха с Дорионом. Если бы было время посмеяться, вид разгневанного Петуха, с досадой вонзавшего свой
ксифос в этот ковер, вызвал бы шквал смеха. Первому слуге он разорвал горло голыми руками, а второму проломил череп еще горящей лампой.
Что касается меня, я выпустил все четыре стрелы, что держал в левой руке, с такой бешеной скоростью, что не успел и глазом моргнуть, как уже нащупывал колчан. Не было времени даже проследить, куда летят стрелы и попадают ли в цель. Я сжал новый пучок стрел в колчане за плечом, когда, подняв глаза, увидел, как прямо мне в лоб, вращаясь, летит отполированная сталь брошенного боевого топора. Я инстинктивно согнул ноги. Казалось, прошла вечность, прежде чем сила тяжести увлекла меня вниз. Топор был так близко, что я слышал, как он рассекает воздух, и видел прикрепленные к рукояти пурпурные страусовые перья и отчеканенных на стали двухголовых грифонов. Убийственное лезвие находилось уже в половине локтя от моей переносицы, когда смертоносный полет прервала кедровая стойка, которую я даже не заметил. Топор на ладонь вошел в дерево. На полмгновения я увидел лицо человека, метнувшего его, а потом стена шатра распахнулась.
Внутрь хлынули египетские пехотинцы, за первыми двадцатью следовали еще двадцать. Теперь вся сторона открылась для ветра. Повсюду порхали эти сумасшедшие птицы. Собака упал, ему пропорол кишки двуручный топор. Дориону пронзила горло стрела, и он отшатнулся назад, блюя кровью. Диэнека ранили, и он отступил к Самоубийце. Впереди оставались лишь Александр, Полиник, Лахид, Сферей и Петух. Я видел, как изгой пошатнулся. Полиника и Петуха окружили нахлынувшие египтяне.
Александр остался один. Он выделил фигуру Великого Царя или какого-то вельможи, которого принял за царя, и занес над правым ухом руку с копьем, готовясь перебросить его через стену вражеских защитников. Я видел, как он оперся на правую ногу, собирая для броска все силы. Когда его плечо двинулось вперед, один персидский вельможа – как я узнал позже, это был полководец Мардоний – нанес своим кривым мечом такой сильный и точный удар, что отрубил Александру руку у запястья.
В моменты высочайшего напряжения время как будто замедляется, позволяя мгновение за мгновением замечать все, что разворачивается перед глазами. Я видел, как рука Александра, все еще сжимавшая копье, на мгновение зависла в воздухе и стала стремительно падать, по-прежнему обхватив древко. Правое предплечье и плечо продолжали движение вперед со всей силой, а из обрубка руки хлынула яркая кровь. Какой-то миг Александр не понимал, что случилось. 3амешательство и неверие заполнили его глаза, он не мог уяснить, почему копье не полетело вперед. На его щит обрушился удар боевого топора, и Александр упал на колени. Я находился слишком близко, чтобы помочь ему своим луком, и нагнулся, чтобы подобрать его копье, в надежде метнуть в персидского вельможу, прежде чем тот успеет снести моему другу голову.
Но меня опередил Диэнек – огромная бронзовая чаша его щита прикрыла Александра.
– Отходим! – проревел он, перекрывая шум, и рывком поставил Александра на ноги. Так крестьянин выхватывает ягненка из потока.
Мы оказались снаружи, на ветру.
Я увидел, как Диэнек в двух локтях от меня выкрикнул какой-то приказ, но не расслышал ни слова. Рядом с ним стоял Александр, и Диэнек указывал на склон горы за стенами города.. По реке мы бежать не могли, не было времени.
– Прикрой их! – крикнул мне в ухо Самоубийца.
Я заметил, как мимо меня проскользнули фигуры в алых плащах, но не мог сказать, кто это. Двоих несли. Из шатра, качаясь, вышел смертельно раненный Дорион, его роем окружали египтяне. Самоубийца с такой скоростью метнул в первых троих «штопальные иглы», что показалось, будто у каждого, как по волшебству, из живота вырос дротик. Я тоже стрелял. Я видел, как какой-то пехотинец срубил Дориону голову. Позади него из шатра вынырнул Сферей и погрузил топор в спину египтянина, а потом и сам упал под ударами пик и мечей. У меня кончились стрелы. У Самоубийцы тоже Он бросился на врага с голыми руками, но я схватил его за пояс и оттащил назад. Он кричал. Дорион, Собака и Сферей были уже мертвы, а мы еще могли понадобиться живым.
Глава тридцать третья
Сразу к востоку от шатра находились только тщательно охраняемые кони из личного табуна Великого Царя и палатки конюхов, Мы побежали через огороженный выгул. Полотняные перегородки делили его на квадраты. Это напоминало бег среди сохнущего белья в густонасёленном городском квартале. Когда мы с Самоубийцей, еле дыша, с колотящейся в висках кровью, среди оглушенных ветром коней догнали наших товарищей, Петух, двигавшийся в арьергарде отряда, жестами велел нам сбавить бег и остановиться, Идти шагом.
На открытом месте показались какие-то люди. К нам сотнями подходили вооруженные воины. Но они, по милости богов, не поднялись по тревоге из-за нападения на царский шатер – и даже не догадывались о ночном налете. Они просто встали по сигналу побудки, еще не совсем проснулись и ворчали в темноте и на ветру, готовясь к возобновлению сражения. Тревожные крики египтян из шатра рассыпались в зубах сильного ветра, а их пешая погоня сбилась со следа в темноте среди миллиардов войска.
Побег из персидского лагеря сопровождался чувством почти запредельно искажённой реальности, полного абсурда. Отряд удачно выскользнул из лагеря. Мы отнюдь не неслись со всех ног, но хромали и едва ковыляли. Мы выходили на открытые места, вовсе не стараясь скрываться от врага, а, по сути дела, наоборот, подходя к врагам и даже навязываясь их обществу. Ирония состояла в том, что мы сами поднимали тревогу – мы шли без шлемов, окровавленные, со щитами, на которых была стерта лакедемонская лямбда, и несли на плечах тяжело раненного Александра и уже мертвого Лахида. Для всех наш отряд выглядел потрепанным патрулем. Диэнек говорил на беотийском диалекте, а Самоубийца на скифском наречии обращался к персидским командирам, когда мы проходили через их части, и, широко употребляя слово «мятеж», не свирепо, но устало показывал за спину, на шатер Великого Царя.
Всем, казалось, было наплевать. Подавляющее большинство войска, как выяснилось, составляли недовольные призывники из народов, вынужденных против своей воли посылать людей Великому Царю. Теперь, на сыром и ветреном рассвете, они думали только о том, как бы согреться, набить брюхо и пережить наступающий день.
Отряд трахинских конников, пытавшихся развести огонь для завтрака, ненароком даже оказал помощь Александру. Они приняли нас за фиванцев, за ту их часть, что пошла на службу персам и теперь в свой черед обеспечивала безопасность лагеря по внутреннему периметру. Конники дали нам огня, воды и перевязочных материалов, в то время как Самоубийца умелыми руками – увереннее, чем настоящий врач,– зажал кровоточащую артерию медной «собачкой». Александр уже был в глубоком шоке.
– Я умираю? – спросил он Диэнека печальным, отрешенным, таким детским голосом, словно бы не своим, а принадлежащим кому-то стоящему у него за спиной.
– Ты умрешь, когда я разрешу,– мягко ответил Диэнек.
Несмотря на зажим, пережавший артерию, кровь толчками выходила из обрубка Александровой руки. Она текла из перерубленных вен и сотен сосудов и капилляров в мягких тканях. Раскаленным на костре
ксифосом Самоубийца прижег рану и перевязал культю, наложив жгут пониже бицепса. В темноте и сутолоке никто, даже сам Александр, не заметил колотой раны под вторым ребром и внутреннего кровотечения в низу легкого.
Сам Диэнек получил рану в свою уже покалеченную ногу с раздробленной голенью и тоже потерял немалое количество крови. У него не оставалось сил нести Александра, и его сменил Полиник. Перебросив Александра через правое плечо,– раненый по-прежнему оставался в сознании – он расслабил ремень его щита, чтобы перекинуть для защиты на спину.
Самоубийца рухнул на полпути к вершине холма перед городской стеной. В шатре его стрелой ранило в пах, а он даже не заметил этого. Я взял его, а Петух нес тело Лахида. Нога Диэнека не слушалась, его самого нужно было тащить. В свете звезд я видел в его глазах отчаяние.
Мы все ощущали стыд, потому что оставили врагу тела Дориона и Собаки – и даже изгоя. Стыд подхлестывал нас, как плеть, заставляя взбираться выше и выше по безжалостно крутому склону.
Мы миновали городские стены и приблизились к поваленным деревьям, где стоял отряд фессалийской конницы. Фессалийцы уже не спали и были при оружии, готовые выступить для дневного боя. Через несколько минут мы добрались до рощи, где раньше спугнули дремавших оленей.
Нас окликнул дорийский голос. Это был кулачный боец Теламоний, один из нашего отряда, которого Диэнек послал назад к Леониду с сообщением о горной тропе и Десяти Тысячах. Он вернулся с подмогой – тремя спартанскими оруженосцами и полудюжиной феспийцев. Мы упали. – На пути назад мы укрепили веревки,– сообщил Диэнеку Теламоний.– Карабкаться будет легче.
– А что с персидскими Бессмертными? С Десятью Тысячами?
– Когда мы вернулись, не было никаких следов. Но Леонид отослал союзников. Они отходят – все, кроме спартанцев.
Полиник осторожно положил Александра на густую траву в роще. 3десь еще пахло оленями. Диэнек прислушивался к дыханию Александра, потом я увидел, как он приложил ухо к его груди.
– Заткнитесь! – крикнул мой хозяин остальным.– 3аткните свои глотки!
Он плотнее прижал ухо к груди Александра. Так отчаянно стараясь услышать сердце своего воспитанника, не слышал ли Диэнек стук собственного сердца, вовсю колотящегося в груди? Прошло несколько мгновений. Наконец он выпрямился и сел. Его спина, казалось, ощутила на себе тяжесть всех полученных за долгие годы ран, бремя всех виденных смертей.
Подложив руку под шею, он нежно приподнял голову юноши. И такой горестный крик вырвался из груди моего хозяина, какого я никогда не слышал. Его спина согнулась, плечи затряслись. Он обхватил обескровленное тело Александра. Руки юноши повисли, как у куклы. Рядом на колени опустился Полиник. Он накинул на плечи Диэнеку плащ и обнял его, пока тот плакал.
Никогда, даже в самом жестоком бою, я не видел, чтобы Диэнек утратил самообладание. Он всегда неколебимо сдерживал свои сердечные порывы. Теперь же мы видели, как он призывает все свои силы, чтобы вернуть себе суровость спартиата и командира. Он схватил ртом воздух с глубоким, как смертный хрип, вздохом,– звук, с которым жизнь покидает грудь умершего. Мой хозяин опустил безжизненное тело Александра и осторожно уложил на алый плащ. Правую руку он положил на то, что осталось от юноши, бывшего его подопечным и воспитанником с того самого утра, когда тот родился.
– Ты забыл про нашу охоту, Александр.
Эос, бледная заря, уже вынесла свой свет на пустынное, без облачка, небо, и можно было разглядеть звериные тропы и оленьи следы. Глаз начал различать дикие, прорытые ручьями склоны, столь схожие с Ферами на Тайгете, дубовые рощи и тенистые тропы, которые определенно изобиловали оленями и кабанами. Возможно, там водились и львы.
– А какую великолепную охоту мы бы устроили здесь этой осенью!
Глава тридцать четвертая
Предыдущие страницы были последними, доставленными Великому Царю до сожжения Афин.
В то время, за два часа до восхода, примерно через шесть недель после победы при Фермопилах, войско Великой Державы выстроилось у восточной стены города Афины. Пожарная бригада в сто двадцать тысяч человек (Как уже упоминалось, автор, следуя Геродоту, значительно завышает численность персидских войск), построившись с интервалом в две вытянутые руки, выдвинулась к столице Аттики и предала огню все храмы, святилища и общественные здания, гимнасии, жилые дома, ремесленные мастерские, школы и складские помещения.
В это время этому человеку, Ксеону, который до тех пор быстро оправлялся от ран, полученных в сражении при Горячих Воротах, опять стало хуже. Очевидно, вид пылающих Афин глубоко повлиял на него. Снова и снова он лихорадочно спрашивал о судьбе Фалерона, где, по его словам, находился храм Персефоны Окутанной, в котором нашла убежище его двоюродная сестра, женщина по имени Диомаха. Никто не мог ничего сказать о судьбе этого пригорода. Пленнику становилось все хуже, и вызвали Царского лекаря. Определенно несколько проникающих ран в области груди снова открылись, и началось сильное внутреннее кровотечение.
В это время Великий Царь оставался недоступен, он находился с флотом, который готовился к неминуемому сражению с морскими силами эллинов, которые должны были появиться на рассвете. Утренней битве, с нетерпением ожидаемой флотоводцами Великого Царя, предстояло подавить всяческое сопротивление врага на море и оставить Пелопоннес беззащитным перед последним, решающим наступлением сухопутных и морских сил Великого Царя. После этого вся Греция будет покорена.
Я, историк Великого Царя, в это время получил приказ, предписывающий мне подготовить места для писцов, которые рядом с Великим Царем будут наблюдать за морским сражением и по ходу боя описывать действия воинов Великой Державы, которые заслужат отличие. Однако прежде чем заняться этим делом, я сумел провести большую часть вечера у раненого грека. Ночь с каждым часом становилась все более зловещей. Над равниной вздымался густой черный дым, а пламя в Акрополе, в торговых и жилых кварталах освещало небо, как днем. Вдобавок берег потряс неистовый толчок, обрушив многочисленные строения и даже часть городских стен. Атмосфера была грозовой, словно небеса и земля, как и люди, надевали воинские доспехи, готовясь к войне.
Все время этот человек, Ксеон, оставался спокоен и в ясной памяти. 3апрошенные Оронтом сведения достигли лекарских шатров; жрицы Персефоны, предположительно и двоюродная сестра пленного Ксеона в их числе, через залив переправились в Трезен. Казалось, это глубоко успокоило грека. Он словно знал, что не переживет эту ночь, и беспокоился теперь лишь о том, что смерть раньше времени оборвет его повествование. По его словам, он хотел, чтобы в оставшиеся часы под его диктовку записали как можно больше из заключительных часов сражения у Ворот.
Верхний край солнечного диска только прорвал горизонт, когда отряд начал спускаться с последнего скалистого склона над лагерем эллинов. Тела Александра и Лахида спустили на веревке вместе с Самоубийцей, чья рана в паху не позволяла ему двигаться. Диэнеку тоже потребовалась веревка. Мы цеплялись руками за скалу. Через плечо я видел копошащихся внизу людей – аркадцев, орхоменцев и микенцев. На мгновение мне показалось, что спартанцы тоже уходят вместе с ними. Могло ли случиться, что Леонид, поняв всю бесполезность сопротивления, отдал приказ отойти всем? Потом мои глаза невольно обратились к человеку, спускавшемуся рядом, и встретили взгляд Полиника. Он прочел на моем лице желание спастись. И только усмехнулся.
У основания Фокийской стены спартанцы – их едва насчитывалась сотня Равных, еще способных сражаться, уже выполняли утреннюю гимнастику и облачались в доспехи. Они расчесывали свои длинные волосы, готовясь к смерти.
Мы похоронили Александра и Лахида на спартанском участке у 3ападных Ворот. Нагрудники и шлемы обоих отложили, чтобы использовать, а их щиты Петух и я оставили среди прочего оружия в лагере. В мешке Александра не нашлось никакой монетки для паромщика, у меня и моего хозяина – тоже. Как-то так вышло, что он все потерял, в том числе и кошелек, что госпожа Арета положила в мой неприкосновенный запас в тот последний вечер в лакедемонском поместье.
– Вот,– предложил Полиник.
Он протянул все еще завернутую в промасленное полотно монетку, которую его жена начистила для него,– серебряную тетрадрахму, отчеканенную гражданами Элеи в честь Полиника, чтобы увековечить его вторую победу на Олимпийских играх. На одной стороне было выбито изображение Зевса Громовержца с крылатой Никой на правом плече, а на обратной – изогнутая полумесяцем оливковая ветвь вокруг палицы и львиной шкуры Геракла в честь Спарты и Лакедемона.
Полиник сам положил монету на надлежащее место. Ему пришлось пришлось разжать челюсти Александра со стороны, противоположной «обеду кулачного бойца» из янтаря и эвфорбии, которые зафиксировали раздробленные кости. Диэнек прочел молитву за павших. Он и Полиник опустили тело в алом плаще в неглубокую могилу. Не потребовалось почти никакого времени, чтобы забросать ее землей. Оба спартанца выпрямились.
– Он был лучше нас всех,– сказал Полиник.
С западных вершин спешили дозорные. Они заметили Десять Тысяч, которые завершили свой ночной поход и теперь стояли в пятидесяти стадиях в тылу эллинов. Они уже разгромили фокийских защитников на вершине. Греки у Ворот, по-видимому, имели часа три до того момента, когда Бессмертные завершат спуск и приготовятся к атаке.
Другие гонцы прибыли со стороны Трахина. Наблюдательный трон Великого Царя, как видел ночью наш отряд, был разобран. Ксеркс на своей царской колеснице шел в наступление – самолично со свежими войсками за спиной атаковать эллинов с фронта.
Участок захоронения находился на значительном расстоянии, более тысячи шагов от места построения спартанцев у Стены. Когда мой хозяин и Полиник вернулись, мимо прошагал отряд союзников, отступая в безопасное место. Держа слово, Леонид отпустил их – всех, кроме спартанцев.
Мы смотрели, как союзники проходят мимо. Первыми оказались мантинейцы – они брели, сгорбившись, словно а их коленях и бедрах не осталось сил. Никто ничего не говорил. Все были так перепачканы, что казались сделанными из грязи. Песок забил все поры и впадины на теле, даже глазницы, а в углах ртов собралась клейкая слюна. Их зубы были черны, они плевались, и на землю падали темные плевки. Некоторые сдвинули шлемы назад, и теперь те били по плечам, а черепа представлялись удобными болванками для горшков. Большинство повесили свои шлемы лицом вперед на надетые через плечо скатки плащей. Хотя на рассвете было еще прохладно, воины тащились все в поту. Я никогда не видел настолько изнеможенные войска.
Следующими шли коринфяне, потом тегейцы и опунтские локрийцы, флиунтцы и орхоменцы, а рядом с ними аркадцы и остатки микенцев. От первоначальных восьмидесяти гоплитов из Микен, способных передвигаться, осталось всего одиннадцать, и еще две дюжины распростерлись на носилках или были привязаны к волокушам за лошадьми. Люди и животные опирались друг на друга. Кто-то не соображал, кто он и где находится, из-за сотрясения мозга или проломленного черепа; другие вовсе утратили чувства и онемели от ужаса и напряжения последних шести дней. Почти каждый был многократно ранен, в основном в ноги и голову, многие потеряли зрение и брели возле своих товарищей, ухватившись за их локоть, или тащились рядом с вьючными животными, держась за конец привязанной к тюкам веревки.
3а вереницей раненых ступали уцелевшие, неся себя без стыда и чувства вины, но с тем молчаливым благоговением и благодарностью, о которой говорил Леонид на собрании после сражения при Антирионе. То, что эти воины еще могли дышать, было не их собственной заслугой, и они понимали это. Они оказались не более отважными, чем павшие; им просто повезло. Это понимание с поэтическим красноречием выражалось в усталости, начертанной на их лицах.
– Надеюсь, мы выглядим не так паршиво, как вы, пробурчал Диэнек проходящему мимо флиунтскому командиру.
– Хуже, братцы.
Кто-то поджег купальни и загородки вокруг источников. Воздух был неподвижен, и сырое дерево горело едко и тускло. Дым и смрад от этого пламени добавил к печальному зрелищу свои безрадостные краски. Колонна воинов выходила из дыма и снова заходила в него. Люди бросали в огонь обрывки своих опустошённых мешков, окровавленные
плащи и хитоны, использованные мешки и прочее тряпье – все, что могло гореть. Казалось, отходящие союзники не хотят оставить врагу ни клочка. Они облегчали свой груз и шли дальше.
Проходя мимо, люди протягивали руки к спартанцам, желая прикоснуться к ним. Один коринфский воин отдал Полинику свое копье. Другой протянул Диэнеку свой меч. – Устройте им баню, братцы.
Проходя мимо источника, мы наткнулись на Петуха. Он тоже уходил. Диэнек догнал его и остановил, чтобы пожать руку. Никакого стыда не отразилось на лице Петуха. Очевидно, он чувствовал, что выполнил свой долг с лихвой, и свобода, дарованная ему Леонидом, была в его глазах тем правом, в котором всю жизнь ему отказывали и которое теперь, с большим запозданием, он честно и достойно отвоевал. Отвоевал собственными руками. Петух сжал руку Диэнека и пообещал по возвращении в Лакедемон поговорить с Агатой и Паралеей. Он сообщит им, с какой доблестью сражались Александр и Олимпий и с какой честью они пали. Он сообщит обо всем также и госпоже Арете.
– Если можно,– попросил Петух,– я бы хотел воздать честь Александру, прежде чем уйду.
Диэнек поблагодарил его и рассказал, где находится могила. К моему удивлению, Полиник тоже протянул Петуху руку.
– Боги любят ублюдков,– молвил он.
Петух сообщил нам, что Леонид с почетом даровал свободу всем илотам в войске. Мы увидели дюжину их, идущих среди тегейских воинов.
– Леонид также освободил оруженосцев,– объявил Петух,– и всех иностранцев, служивших в войске.– Он обратился к моему хозяину: – Это также касается Самоубийцы и Ксео.
А позади Петуха все шли и шли, уходя, союзники.
– Ты удержишь его здесь, Диэнек? – спросил Петух.
Он имел в виду меня.
Мой хозяин, не глядя в мою сторону, ответил Петуху:
– Я никогда не принуждал Ксео. Не принуждаю и теперь.
Он замолчал и повернулся ко мне. Солнце полностью взошло. На востоке, у Стены, послышались трубы.
– Один из нас,– сказал Диэнек,– должен выкарабкаться из этой дыры живым.
Он приказал мне уйти вместе с Петухом.
Я отказался.
– У тебя жена и дети! – Петух схватил меня за плечи и страстно указал в сторону Диэнека и Полиника.– Это их город, не твой. Ты им ничего не должен.
Я сказал ему, что принял решение много лет назад.
– Видишь? – обратился Диэнек к Петуху, указывая на меня.– Он никогда не обладал здравым смыслом.
Позади, на Стене, мы увидели Дифирамба. Его феспийцы отвергли приказ Леонида. Все до единого они с презрением отказались отступить и настояли на своем праве остаться вместе со спартанцами и умереть вместе с ними. Феспийцев осталось около двухсот. И ни один из их оруженосцев тоже не ушел. Целых восемьдесят из освобожденных спартанских оруженосцев и илотов решили остаться. Предсказатель Мегистий также пренебрег своим правом уйти. Из первоначальных Трехсот Равных ушли только двое. Этими двумя были Аристодем, бывший посол в Афины и на Родос, и Эврит, победитель по борьбе. Оба от воспаления глаз ничего не могли видеть, и их переправили в Альпены.
Каталогос – список личного состава – уцелевших, вышедших к Стене, составлял чуть более пятисот.
Что касается Самоубийцы, то мой хозяин, прежде чем отправиться хоронить Александра, велел ему оставаться у Стены на носилках. Очевидно, Диэнек предвидел освобождение оруженосцев и приказал отнести Самоубийцу от колонны в безопасное место. Теперь скиф стоял на ногах и мерзко скалился навстречу вернувшемуся хозяину. Он облачился в металлический боевой пояс и нагрудник, опоясав бедра полотном и кожаными ремнями, снятыми с вьючных лошадей.
– Я не могу срать,– проговорил он,– но, клянусь демонами преисподней, я еще могу сражаться.
Весь следующий час войска перестраивались. Строй должен иметь достаточную глубину и ширину. Кроме того, предстояло составить отряды и назначить командиров. У спартанцев оруженосцы и илоты просто влились в
эномотии Равных, которым они служили. Больше им не сражаться во вспомогательных войсках, теперь они, закованные в бронзу, встанут в фалангу. Недостатка в доспехах не было, недоставало лишь оружия – так много его поломалось и иззубрилось. Сложили две кучи запасных мечей и копий – одну у Стены, а вторую на стадий дальше, на полпути к маленькому частично укрепленному холмику, самому естественному месту для осажденных сил, чтобы сообща держаться до конца. Кучи получились небольшие – лишь воткнутые клинком в землю мечи да втиснутые рядом копья шипом вниз.
Леонид созвал всех. Собрались без большого шума – так мало воинов оставалось. Сам лагерь показался вдруг шире и вместительнее. Что касается «танцевальной площадки» перед Стеной, ее песчаный грунт все еще покрывали тысячи персидских трупов, которые враг оставил гнить на поле боя. Пережившие ночь раненые теперь стонали из последних сил, прося помощи и воды, а многие умоляли о милосердном последнем ударе. Для эллинов перспектива вновь биться на этой ниве подземного царства казалась немыслимой, человеческий разум был не в силах вынести этого.
Таково было и решение Леонида. Военачальники между собой пришли к согласию, и царь сообщил воинам, что они больше не будут сражаться вылазками из-за Стены, как в предыдущие два дня, а вместо этого оставят ее камни за спиной и выступят сомкнутым строем в самую широкую часть прохода, чтобы встретить врага там – десятки союзников против мириадов Великой Державы. Царь хотел, чтобы каждый как можно дороже продал свою жизнь.
Как только был принят порядок будущего боя, из-за Теснины раздалась труба вражеского вестника. Под флагом парламентеров четверо персидских всадников в самых пышных доспехах двинулись по ковру побоища, направляясь прямо к Стене. Леонид был ранен в обе ноги и еле ковылял. С мучительным усилием он взобрался на укрепление, с ним поднялись и войска. Все силы, что оставались на Стене, глядели вниз, на всадников.
Посланником был Птаммитех, египетский пехотинец. На этот раз его молодой сын не сопровождал его в качестве переводчика, эту функцию выполнял какой-то перс. Оба их коня и два коня вестников шарахались от трупов, лежавших под ногами. Прежде чем Птаммитех начал свою речь, Леонид прервал его.
– Ответ будет – «нет»! – крикнул он со стены.
– Вы еще не слышали предложения.
– Плевать мне на твои предложения! – с усмешкой крикнул Леонид.– Да и на тебя тоже!
Египтянин рассмеялся, как всегда, ослепительно сверкнув зубами, и натянул поводья своего шарахнувшегося в сторону коня.
– Ксерксу не нужны ваши жизни! – крикнул он. -Только ваше оружие.
Теперь рассмеялся Леонид:
– Скажи ему: пусть придет и возьмет.
Повернувшись, царь прекратил разговор. Несмотря на израненные ноги, он отказался от помощи, самостоятельно спустился со Стены и свистом созвал собрание. С вершины камней спартанцы и феспийцы смотрели, как персидские посланники натягивают поводья своих коней и удаляются.
Трехглавая мышца левой руки Леонида была перерублена, и в этот день ему предстояло сражаться, привязав щит ремнем к плечу. Тем не менее настроение спартанского царя можно было назвать веселым. Его глаза блестели, а голос звучал легко, в нем слышались сила и власть.
– 3ачем мы остались здесь? Нужно быть не в своем уме, чтобы не задавать этот вопрос. Ради славы? Если бы только ради нее, поверьте мне, братья, я бы первый повернул задницу к врагу и во всю прыть поскакал с этого холма.
Эти царские слова были встречены смехом. Леонид дал шуму улечься и поднял здоровую руку, призывая к тишине.
– Если бы мы сегодня ушли от Ворот, братья, какие бы чудеса отваги мы ни совершили до сих пор, эту битву все восприняли бы как поражение. Поражение, которое подтвердило бы всей Греции то, в чем враг так старался ее,убедить: что сопротивляться персидским полчищам бесполезно. Если бы мы сегодня спасли свою шкуру, греческие города у нас за спиной начали бы сдаваться один за другим, пока перед персом не пала бы вся Эллада. Воины внимательно слушали, понимая, что суждения царя точно отражают истинное положение вещей.
– Но, пав с честью в битве с этим подавляющим численным превосходством войском, мы превратим поражение в победу. Своей смертью мы посеем мужество в сердцах наших союзников и братьев. Это не мы, а они в конце концов выкуют победу. А мы должны выполнить то, в чем поклялись, когда обнимали жен и детей, отправляясь в поход,– стоять насмерть и погибнуть.
В животе у царя громко заурчало от голода. Из передних рядов собравшихся до самого тыла прокатился хохот. Леонид, ухмыльнувшись, направился к оруженосцам, которые выпекали хлеб, убеждая их поторопиться.
– Наши братья-союзники сейчас на пути домой.– Царь махнул рукой в направлении дороги, что вела в Южную Грецию.– Мы должны прикрыть их отход, иначе вражеская конница беспрепятственно промчится через эти ворота и догонит наших товарищей, пока те не прошли и сотни стадиев. Если мы продержимся несколько часов, наши братья будут в безопасности.
Он спросил, не хочет ли еще кто-то что-нибудь сказать. Вперед вышел Алфей:
– Я тоже проголодался, поэтому буду краток.
Он смущенно отступил, не привыкший к роли оратора. Впервые я заметил, что среди собравшихся нет его брата Марона. Этот герой ночью умер от полученных накануне ран.
Алфей говорил быстро. Обделенный ораторским даром, он был щедро одарен искренностью сердца.
– Лишь в одном боги позволили смертным превзойти себя. Человек может отдать то, чего не могут отдать боги, -свою жизнь. Свою я с радостью отдам за вас, друзья. Вы заменили мне брата, которого больше нет.
Он резко повернулся и снова растворился в рядах собравшихся.
Воины стали звать Дифирамба. Феспиец вышел вперед, держась, по обыкновению, грубовато. Он махнул рукой в сторону прохода за Тесниной, куда подошли передовые части персов. Враги уже начали распределять участки для наступления.
– Просто идите туда,– объявил он,– и повеселитесь! Собрание прорезал мрачный смех. Выступило еще несколько феспийцев. Они говорили еще короче спартанцев. Когда они закончили, вперед вышел Полиник.
– Человеку, воспитанному по законам Ликурга, нетрудно отдать жизнь за свою страну. Для меня и этих спартанцев, каждый из которых имеет живых сыновей и с детских лет знает, что таков будет его конец,– это просто акт исполнения воли богов.
Он торжественно повернулся к феспийцам, освобожденным оруженосцам и илотам.
– Но для вас, братья и друзья… для вас, кого нынешний день увидит погибшими навеки…
Голос бегуна прервался и затих. Он закашлялся и высморкался, вместо того чтобы вытереть слезы, которым отказывался дать выход. И еще долго потом олимпионик не мог продолжить речь. Полиник потянулся к своему щиту, ему его передали, и Всадник поднял его, чтобы показать всем.
– Этот
аспис принадлежал моему отцу, а до него – его отцу. Я поклялся перед богами умереть, прежде чем кто-то другой заберет его у меня.
Полиник подошел к рядам феспийцев, к одному неприметному воину. И вложил щит ему в руки.
Тот взял его, глубоко тронутый, и подарил Полинику свой. 3а этим последовал другой обмен, потом еще один, и еще двадцать, и тридцать щитов перешли из рук в руки. Другие обменивались доспехами и шлемами с освобожденными оруженосцами и илотами. Черные феспийские плащи и алые лакедемонские так перемешались, что два народа уже было не различить.
Воины стали звать Диэнека. Им хотелось какого-нибудь мудрого изречения, остроты, чего-нибудь краткого и лаконичного, чем он славился. Диэнек упирался. Понятно, ему не хотелось говорить.
– Братья, я не царь и не полководец. Я никогда не командовал чем-либо больше эномотии. Поэтому я скажу вам сейчас то же, что сказал бы собственным воинам. Я знаю страх, таящийся в каждом сердце. Не страх смерти, а того хуже, страх нерешительности и неудачи, страх проявить себя недостойно в этот последний час.
Его слова достигли цели – это можно было ясно прочесть на лицах внимающих воинов.
– Вот что сделайте, друзья. 3абудьте свою страну. 3абудьте своего царя. 3абудьте жену, и детей, и свободу. 3абудьте все идеи, пусть даже самые благородные, за которые вы якобы пришли биться сегодня. Действуйте во имя одного: сражайтесь за человека, стоящего рядом. Он – это всё, и всё заключено в нем. Вот и все, что я знаю. Вот и все, что могу вам сказать.
Диэнек закончил и вернулся на свое место. Сзади послышался шум, он пронесся по всем рядам. Вперед вышел спартанец Эврит. Это был тот самый человек, что потерял в бою зрение и был отправлен в деревню Альпены вместе с послом Аристодемом. Теперь Эврит вернулся – незрячий, но с оружием и в доспехах. Его вел его оруженосец. Ничего не сказав, спартанец протиснулся в пространство между рядами.
Воины, и так воспрянувшие мужеством, теперь ощутили новый прилив, и оно удвоилось.
Вперед вышел Леонид и снова взял
скептрон командования. Он предложил феспийским командирам использовать эти последние мгновения, чтобы пообщаться со своими земляками, пока сам он поговорит наедине со спартанцами.
Воины двух городов разделились. Равных и свободных граждан Лакедемона осталось всего чуть более двухсот. Они собрались вокруг своего царя. Все знали, что Леонид не станет призывать к чему-то высокому – к свободе, законам или спасению Эллады от ярма тирана.
Вместо этого он в немногих ясных словах стал говорить о долине Эврота, о Парноне, Тайгете и пяти поселках без крепостных стен, которые составляли полис и содружество, называемые в мире Спартой. Через тысячу лет, сказал Леонид, через две, через три тысячи люди сотен еще не родившихся поколений, возможно, по каким-то своим делам будут приезжать в нашу страну.
– Они приедут, и, может быть, это будут заморские ученые или путешественники, движимые любопытством. Они захотят узнать, кто жил в этой стране раньше. Они осмотрят нашу равнину и пощупают камни нашего города. Что они узнают о нас? Их лопаты не откопают ни великолепных дворцов, ни храмов. Их кирки не откроют ни бессмертной архитектуры, ни шедевров искусства. Что же останется от спартанцев? Не мраморные или бронзовые памятники, а то, что мы делаем сегодня.
Из-за Теснины раздались звуки вражеских труб. Уже был ясно виден авангард персов, колесницы и вооруженный эскорт их царя.
– А теперь хорошо позавтракайте, друзья мои, потому что обедать все мы будем в подземном царстве.
КНИГА ВОСЬМАЯ
ФЕРМОПИЛЫ
Глава тридцать пятая
Великий Царь собственными глазами видел вблизи великую доблесть, проявленную спартанцами, феспийцами и их оруженосцами и слугами в то последнее утро. Нет нужды перечислять ему все события той битвы. Я расскажу лишь о тех примерах, которые могли ускользнуть от внимания Великого Царя. Возможно, это прольет, согласно желанию Его Величества, свет на характер эллинов, которых он называл при Фермопилах своими врагами.
Самым выдающимся из всех и, бесспорно, превосходящим всех можно назвать лишь одного человека – спартанского царя Леонида. Как известно Великому Царю, главные силы персидского войска, выдвинувшиеся в предыдущие два дня по тропе из Трахина, не начинали атаки еще долго после полного восхода солнца. Час сражения настал ближе к полудню, хотя Десять Тысяч Бессмертных еще не появились в тылу греков. Леонид настолько презирал смерть, что все это время спал. Может быть, точнее сказать, он дремал – в такой беззаботной позе царь растянулся на земле, расстелив свой плащ, заложив ногу на ногу и сложив руки на груди, глаза накрыв соломенной шляпой, а голову беспечно примостив на чаше своего щита. Его можно было принять за мальчика, пасущего коз в сонной летней долине.
Из чего состоит природа царского сана? Что представляют собой его качества? Какие свойства этот сан придает тому, кто становится царем?
Помнит ли Великий Царь тот момент на склоне за Тесниной после того, как Леонид упал, пронзенный полудюжиной копий, лишенный зрения шлемом, проломившимся под ударом боевого топора? Его левая рука с привязанным к плечу разбитым щитом оказалась бесполезна, когда он в конце концов упал под напором врага. Помнит ли Великий Царь тот взрыв внутри убийственной давки, когда отряд спартанцев бросился прямо в пасть торжествующих врагов и отбросил их назад, чтобы отобрать тело своего царя? Я говорю не про первый раз. И не про второй, и не про третий. Про четвертый, когда спартанцев – и Равных, и Всадников, и недавно получивших свободу – осталось меньше сотни и они столкнулись со сплоченными тысячами врагов.
Я скажу Великому Царю, что такое царь. Царь – тот, кто не остается в своем шатре, когда его воины проливают кровь и гибнут на поле боя. Царь – тот, кто не обедает, когда его воины идут голодными, не спит, когда они несут дозор на стене. Царь – тот, кто не добивается преданности воинов с помощью страха и не покупает ее за золото. Он заслуживает их любовь потом на своей спине и страданиями, что переносит ради них. Самую тяжелую ношу царь поднимает первым и кладет последним. Царь не требует службы от тех, кого ведет за собой, он сам служит им. Он им служит, а не они – ему.
В последние мгновения перед началом сражения, когда ряды персов, и мидийцев, и саков, бактрийцев и иллирийцев, египтян и македонцев настолько приблизились к защитникам, что можно было различить их лица, Леонид прошел перед первыми рядами спартанцев и феспийцев и лично поговорил с каждым командиром. Когда он остановился рядом с Диэнеком, я стоял поблизости и слышал его слова.
– Ненавидишь их, Диэнек? – спросил царь товарищеским тоном, не спеша, как будто беседуя, и указал на персидских военачальников, различимых за
оуденос хорион – ничейной полосой.
Диэнек без колебаний ответил:
– Нет. Я вижу лица, отмеченные благородством. Многих из них, я думаю, можно было бы поприветствовать аплодисментами и смехом за любым дружеским столом.
Леонид явно одобрил ответ моего хозяина. Однако глаза его словно бы омрачились печалью.
– Мне жаль их,– признался он, указывая на доблестных врагов, стоявших так близко.– Ведь что бы не отдали самые отважные из них, чтобы стоять сейчас среди нас?
Вот это – царь. Он не тратит свое состояние, чтобы поработить людей. Напротив, его поведение и личный пример делают их свободными. Великий Царь может спросить, как спрашивали Петух и госпожа Арета, зачем такому, как я, чье положение лишь с большим преувеличением можно высокопарно назвать «службой», а точнее было бы именовать и рабством», зачем человеку в таких условиях умирать – за чужих людей, за чужую страну? Ответ таков: они не были мне чужими, Я бы с радостью отдал жизнь, и стократно отдал бы ее снова – за Леонида, Диэнека и Александра, и Полиника, и Петуха, и Самоубийцу, за Арету и Диомаху, Бруксия и моих собственных мать и отца, за мою жену и детей. Я и все остальные никогда не были свободнее, чем в те часы, когда мы добровольно подчинились тем суровым законам, что отбирают жизнь и снова возвращают ее.
Все события состоявшегося сражения я считаю ничем, потому что сражение в его глубочайшем смысле закончилось еще до того, как началось. Я прислонился к Стене и спал сидя, следуя примеру Леонида, пока все мы ждали час, и еще час, и еще час, когда войско Великого Царя придет в движение.
В дреме я снова оказался на холмах над городом моего детства. Я был уже не мальчиком, а взрослым. Там же была моя двоюродная сестра, но она по-прежнему оставалась девочкой, и наши собаки, Удача и Счастье, выглядели в точности так же, какими были в дни после разорения Астака. Диомаха погналась за зайцем и с необычайной ловкостью карабкалась, босая, на склон, который словно бы вздымался до небес. Наверху ждал Бруксий, а с ним – мои мать и отец. Впрочем, я понимал, что не могу их видеть. Я тоже побежал, стремясь со своей взрослой силой обогнать Диомаху. Но не смог. Как быстро я ни взбирался, она оставалась недосягаемой, все время впереди, весело окликая меня и дразня.
Я вздрогнул и проснулся. Менее чем в полете стрелы от меня стояли персы.
Леонид решительно встал на ноги. Диэнек, как всегда, занял позицию перед своей
эномотией, которая построилась в три шеренги по семь щитов, шире и тоньше, чем в предыдущие дни. Мое место было третье во второй колонне. Впервые в жизни я оказался без лука, а сжимал в правой руке тяжелое древко копья, которое до меня принадлежало Дориону. На моей левой руке был дубовый с бронзовой оковкой
аспис, принадлежавший раньше Александру. Шлем у меня на голове принадлежал раньше Лахиду, а шапочка под ним – оруженосцу Аристона Демаду.
– Смотреть на меня! – пролаял Диэнек, и воины, как всегда, оторвали взгляд от врага, который выдвинулся так близко, что мы уже видели глаза воинов под ресницами и просветы между их зубами. Врагов было несметное множество. Мои легкие с шумом втянули воздух, кровь билась в висках. Я чувствовал пульс в сосудах глаз. Мои руки и ноги окаменели, я их не ощущал. Я молился всеми фибрами души, просто чтобы набраться мужества и не упасть. Слева от меня стоял Самоубийца. Впереди – Диэнек.
И наконец начался бой, который был похож на приливную волну, ведомую лишь бурными капризами богов. Эта волна то вздымалась, то опадала, ожидая, когда фантазия Бессмертных велит ей затихнуть. Время исчезло. Стихии слились. Помню один всплеск, бросивший спартанцев вперед, когда они погнали врагов десятками в море, и другой, который откинул фалангу назад, как лодки, борт к борту гонимые неодолимым штормом. Помню, как мои ноги, изо всех сил упертые в землю, заскользили в крови и моче, как будто я катился с ледяной горы, обернув подошвы овечьей шкурой. Под напором врага меня повлекло назад.
Я видел, как Алфей, одной рукой ухватившись за персидскую колесницу, убил военачальника, возницу и двоих телохранителей, стоявших по бокам. Когда он упал с пронзенным персидской стрелой горлом, Диэнек оттащил его назад. Но Алфей встал и продолжал сражаться. Я видел, как Полиник и Деркилид вынесли тело Леонида, схватившись безоружными руками за верхние края разбитого царского металлического пояса и колотя врага щитами. Спартанцы восстановили строй и стали давить на противника, их опрокинули и смяли, но они снова восстановили строй. Я убил одного египтянина шипом на нижнем конце моего сломанного копья, когда он воткнул свое мне в кишки. Спустя мгновение я упал под ударом боевого топора, переполз через труп какого-то спартанца и только тут узнал под прорубленным шлемом рассеченное лицо Алфея.
Самоубийца вытащил меня из кучи тел. Наконец показались и Десять Тысяч Бессмертных, они наступали в безупречном боевом порядке, завершая свой маневр. Все, что осталось от спартанцев и феспийцев, опрокинулось с равнины в Теснину и просочилось сквозь ворота в Стене к последнему оплоту на пригорке.
Союзников осталось так мало и их оружие было так изломано, что персы дерзнули пустить в атаку конницу, как при добивании бегущего противника. Самоубийца упал. Его правая ступня была отрублена.
– Подсади меня себе на спину! – велел он.
Без лишних слов я понял, что это означало. Я слышал, как стрелы и дротики впивались в его плоть, защищавшую меня.
Я увидел, что Диэнек еще жив. Он отбросил сломанный
ксифос и искал в грязи другой. Мимо меня промелькнул Полиник, он тащил за собой хромающего Теламония. Половина лица бегуна была срублена, и на обнаженные кости скулы хлестала кровь.
– Куча! – кричал он, имея в виду резервное хранилище оружия, которое Леонид приказал устроить за Стеной.
Я чувствовал, как ткани моего живота рвутся и начинают вываливаться кишки. Самоубийца безжизненно повис у меня на спине. Я повернулся назад, к Теснине. Тысячи персидских и мидийских лучников пускали тучи бронзовых стрел вслед отступавшим спартанцам и феспийцам. Тех, кто добрался до кучи оружия, трепало, как флажки на ураганном ветре.
3ащитники прохода взобрались на пригорок, где был подготовлен последний запас оружия. Их осталось не больше шестидесяти. Деркилид, как это ни удивительно, нераненый, построил уцелевших в круг. Я нашел ремешок и перетянул им рану, чтобы не вываливались кишки. На мгновение меня поразила невозможная красота наступившего дня. На этот раз никакая дымка не затеняла проход, можно было различить каждый камешек на противоположных холмах и проследить одну за другой звериные тропы на склонах.
Я увидел, что Диэнек закачался от удара топором, но у меня не было сил приблизиться к нему. Мидийцы и персы, бактрийцы и саки уже не просто текли через Стену, а, как безумные, расхватывали ее камень за камнем. Я видел лошадей по ту сторону Стены. Вражеским командирам уже не требовались хлысты, чтобы гнать своих людей вперед. По разбитым камням Стены прогремели копытами всадники Великого Царя, а за ними грохотали чванливые колесницы его полководцев.
Бессмертные уже окружили пригорок и, не целясь, засыпали стрелами спартанцев и феспийцев, пригнувшихся под ненадёжным прикрытием своих разбитых и продырявленных щитов. Деркилид возглавил атаку на персов. Я видел, как он упал; повалился и сражавшийся рядом с ним Диэнек. Насколько я видел, ни у того, ни у другого не было ни щитов, ни какого-либо оружия. Они ринулись вниз не как гомеровские герои, шумно гремя своими панцирями, а как командиры, завершающие свою последнюю и самую грязную работу.
Враги стояли, неуязвимые за мощным заслоном своих стрел, но спартанцы каким-то образом добрались до них. Они сражались без щитов, одними мечами, а потом – голыми руками и зубами. Полиник бросился на какого-то военачальника. Бегун сохранил свои ноги. Он так быстро пересек пространство у подножия пригорка, что его руки успели вцепиться врагу в горло, прежде чем шквал персидских стрел разорвал в клочки его спину.
Последними несколькими дюжинами на пригорке теперь командовал Дифирамб. Его руки, утыканные стрелами, повисли вдоль туловища, а он пытался выстроить боевой порядок для последней атаки, но колесницы и персидская конница врезались в спартанский строй. Одна охваченная огнем колесница переехала мне ноги. Перед полностью окруженными на пригорке греками Бессмертные построили своих лучников. Их стрелы разили последних – безоружных и израненных – воинов. Из тыла другие лучники пускали залпы через головы своих товарищей. Спины и животы эллинов щетинились оперенными древками стрел, и изорванные в клочья воины распластались бронзово-алыми штабелями.
Ухо различало крикливые приказы Великого Царя – так близко расположился он в своей колеснице. Призывал ли он прекратить стрельбу, чтобы захватить последних защитников живьем? Кричал ли на египетских пехотинцев под командованием Птаммитеха, которые пренебрегли монаршим повелением и поспешили одарить спартанцев и феспийцев последним смертельным благодеянием? Это было невозможно понять в сутолоке. Египетские пехотинцы расступились. Ярость персидских лучников удвоилась, бесчисленными стрелами они старались погасить жизнь последних упрямых врагов, которые заставили их так дорого заплатить за этот ничтожный клочок грязной земли.
Случается, что гроза с градом приходит с гор в неурочное время года и обрушивает с небес свою ледяную дробь на только что пробившиеся крестьянские всходы. Так мириады персидских стрел обрушились на спартанцев и феспийцев. Крестьянин тревожно стоит в дверном проеме, слушая стук по крыше и глядя, как куски льда отскакивают от мощенной камнем дорожки. Как там всходы ячменя? 3десь и там виднеются отдельные чудом уцелевшие ростки, они еще поднимают голову. Но крестьянин знает, что это милосердие ненадолго. И отворачивается, покоряясь воле капризных богов, а снаружи под ударами бури ломается и падает последний колосок.
Глава тридцать шестая
Так закончили свою жизнь Леонид и защитники Фермопильского прохода, по рассказу грека Ксеона, записанному историком Великого Царя Гобартом, сыном Артабаза, и законченному в четвертый день месяца арахсамну на пятый год после Восшествия Великого Царя на трон.
Эта дата, по горькой иронии Ахуры-Мазды, совпала с тем днем, когда морские силы Персидской Державы потерпели сокрушительное поражение от эллинского флота в Саламинском проливе близ Афин. Эта катастрофа унесла бесчисленное множество жизней доблестных сынов Востока, а ее последствия привели к неудаче всей кампании.
То, что оракул Аполлона ранее возвестил афинянам, объявив:
«Только деревянная стена не подведет вас»,
оказалось роковой правдой. Стена, защитившая Элладу, оказалась не деревянным частоколом Афинского Акрополя, так быстро захваченного силами Великого Царя, а стеной корабельных бортов, которые нанесли смертельный удар притязаниям Великого Царя. Величие бедствия заглушило рассуждения
пленника Ксеона и само его повествование. В хаосе поражения все заботы о пленном греке были забыты. Все врачи службы Царского лекаря поспешили на берег напротив Саламина, чтобы оказать помощь раненым из персидской армады, выброшенным на берег среди обуглившихся и разбитых обломков своих боевых кораблей.
Когда темнота положила конец побоищу, огромный страх охватил лагерь Великой Державы. Страх перед гневом Великого Царя. Согласно моим заметкам, столько придворных было подвергнуто мечу, что чиновники из Службы историка умоляли уволить их от записи всех имен.
Страх охватил шатер Великого Царя. Он усилился не только великим толчком, сотрясшим город в час захода солнца, но также безумным видом военного лагеря, стоящего внутри разрушенных и еще дымящихся Афин. Посреди второй стражи полководец Мардоний закрылся в палатах Великого Царя и запретил входить кому-либо еще. Историк Великого Царя сумел получить лишь самые скудные инструкции по ведению ежедневных записей. Получив приказ уйти, я запоздало спросил, не будет ли распоряжений касательно грека Ксеона.
– Убей его,– без колебаний ответил полководец Мардоний,– и сожги все листы того сборника лжи, записывать которую было глупостью с самого начала. Одно упоминание о нем в такой час вызовет у Великого Царя лишь новый приступ гнева.
Несколько часов меня занимало исполнение других обязанностей. Покончив с ними, я стал разыскивать Оронта, командира Бессмертных. Его обязанностью было выполнить это указание Мардония. Я нашел его на берегу моря. Он, очевидно, пребывал в состоянии полного опустошения, отягощенный печалью поражения: Тяжело полководцу, который ничем не может помочь своим воинам и которому остается одно – вытаскивать их тела из воды. Однако Оронт собрался с духом и направил свое внимание на насущные дела.
– Если ты хочешь утром найти свою голову на плечах,– сказал командир Бессмертных, когда я сообщил ему о приказе полководца,– сделай вид, что не видел Мардония и не слышал его слов.
Я возразил, что приказ исходил от имени Великого Царя. Такой приказ оставлять без внимания.
– Нельзя, вот как? Интересно, что скажет этот полководец завтра или через месяц, когда его приказание будет выполнено, а Великий Царь пошлет за тобой и по желает видеть того грека и записи? Я скажу тебе, что произойдет,– продолжал Оронт.– Даже теперь в палатах Великого Царя Его советники и министры настаивают, чтобы Царственная Особа удалилась из Греции, чтобы Он на корабле отплыл в Азию. И на этот раз, я думаю, Он проявит большую осмотрительность.
Оронт выразил уверенность, что Великий Царь прикажет основным силам оставаться в Элладе под командованием Мардония, чтобы тот завершил завоевание Греции от Его имени. После того как эта задача будет выполнена, Великий Царь объявит о Своей победе, и в блеске того триумфа сегодняшний разгром будет забыт.
– Тогда в наслаждении победы,– продолжал Оронт, Великий Царь потребует записи рассказов этого грека Ксеона – на сладкое к победному пиру. Если мы с тобой явимся перед Его Величеством с пустыми руками – кто из нас укажет пальцем на Мардония и кто поверит нашим уверениям в собственной невиновности?
Я спросил командира Бессмертных, что же нам делать.
Сердце Оронта разрывалось. Память подсказывала, что он под началом Гидарна возглавлял Бессмертных в ночном походе у Фермопил и проявил необычайную доблесть при последнем утреннем штурме, сойдясь со спартанцами в рукопашной. Выпущенные Оронтом стрелы были среди тех, что убили последних защитников, и, возможно, именно он сразил тех самых людей, о которых говорил пленный Ксеон.
Оронт помнил об этом, и это знание лишь усиливало его нежелание причинять вред пленнику. В греке Ксеоне он, очевидно, признал сотоварища-воина и даже, теперь это можно утверждать,– друга.
Несмотря на все эти противоречивые чувства, Оронт призвал себя к порядку. Он приказал двоим из Бессмертных удалить грека из шатра Царского лекаря и положить в служебный шатер Бессмертных. Спустя несколько часов, заполненных другими делами, он и я пришли на это новое место. Мы вошли вместе. Этот человек, Ксеон, находился в сознании и сидел на своих носилках, хотя выглядел осунувшимся и ослабшим.
Он, очевидно; догадался о цели нашего прихода и как будто обрадовался.
– Подходите,– проговорил грек, прежде чем я и Оронт успели огласить нашу миссию.– Чем я могу помочь вам? Для свершения казни не понадобится клинок,– объявил он.– Полагаю, прикосновения перышком будет достаточно, чтобы выполнить вашу работу.
Оронт спросил у грека Ксеона, понимает ли тот все значение морской победы, что в этот день одержали его земляки. Пленник подтвердил – понимает. Однако он выразил мнение, что война еще далека от завершения. Исход ее все еще очень сомнителен.
Оронт признался в своей крайней неохоте выполнять приговор и заявил, что в свете настоящего беспорядка будет совсем нетрудно вынести раненого из лагеря незамеченным. Остались ли у него, спросил Оронт, друзья или соотечественники в Аттике, к которым можно его доставить?
Пленник улыбнулся.
– Ваше войско отлично поработало, чтобы удалить таковых,– ответил он.– И кроме того, Великому Царю понадобятся все Его воины, чтобы вынести отсюда более важные вещи.
И все же Оронт искал всякого повода отложить время казни.
– Раз уж ты ничего не просишь у нас,– сказал он пленнику,– могу ли я в таком случае обратиться к тебе с просьбой?
Грек ответил, что с радостью исполнит все, что еще осталось в его силах.
– Ты обманул нас,– со смущенным видом объявил Оронт,– лишив истории, которую твой хозяин, спартанец Диэнек, по твоим же словам, обещал рассказать, когда, они с Александром и Аристоном обсуждали предмет страха. Помнишь? Он прервал беседу юношей, пообещав, что, когда они придут к Горячим Воротам, он расскажет им о Леониде и госпоже Паралее, поведает, что такое мужество и каким критерием пользовался спартанский царь при выборе Трехсот. Или Диэнеку так и не удалось рассказать об этом?
Да, подтвердил пленник Ксеон, его хозяин нашел возможность и поделился своим рассказом. Однако теперь, когда приказ Великого Царя записывать его историю больше недействителен, пусть командир Бессмертных ответит: на самом ли деле ему хочется узнать продолжение?
– Мы, кого ты считаешь врагами, тоже люди из плоти и крови,– ответил Оронт,– и наши сердца не менее способны на преданность, чем твое. Неужели тебя не поразило, что мы – историк Великого Царя и я, его полководец, пришли сюда, чтобы позаботиться о тебе не только как о пленнике, который сообщает ценные сведения о битве, но как о человеке и даже о друге?
И Оронт попросил как о милости поведать окончание истории. Он сказал, что с живым интересом и сочувствием следил за предшествующими частями повествования. Теперь же, когда конец близок, не расскажет ли грек и последнюю часть?
– Что хотел спартанский царь сказать о женском мужестве и как Диэнек пересказал это своим молодым друзьям?
Этот человек, Ксеон, с усилием оперся на локоть и, с нашей помощью, уселся. Собрав все силы, он набрал в грудь воздуха и начал:
Я поделюсь с вами этой историей, друзья мои. Я передам ее так, как мой хозяин передавал ее мне, Александру и Аристону у Горячих Ворот,– не от себя лично, а со слов госпожи Паралеи, матери Александра, которая рассказала ее Диэнеку и госпоже Арете всего через несколько часов после того, как эта история случилась.
Госпожа Паралея рассказала об этом за три или четыре дня до нашего выхода из Лакедемона в поход к Горячим Воротам, вечером. Для этого госпожа Паралея отправилась лично в дом Диэнека и Ареты и взяла с собой несколько других женщин. Все они были матерями и женами воинов, включенных в число Трехсот. Никто из этих женщин не знал, что хочет сказать госпожа. Мой хозяин нашел повод уйти, чтобы гостьи могли посекретничать, однако Паралея попросила его остаться. Ему тоже следует услышать это, сказала она. Женщины расселись вокруг нее, и она начала:
«То, что я расскажу вам сейчас, Диэнек, ты не должен рассказывать моему сыну. По крайней мере, пока вы не придете к Горячим Воротам и пока не наступит подходящий момент. Этот момент может наступить, если такова будет воля богов, в час твоей или его смерти. Ты поймешь, когда он придет. А теперь слушайте внимательно. В то утро меня вызвал к себе царь. Я сразу же явилась во двор перед его домом. Пришла я рановато – Леонид еще не вернулся, он был занят организацией похода. Его царица Горго, однако, ожидала меня на скамейке в тени платана – очевидно, с умыслом. Она подозвала меня и предложила сесть. Мы были одни, без слуг и свиты.
«Ты гадаешь, Паралея,– начала Горго,– зачем мой муж послал за тобой. Я скажу тебе. Он хочет обратиться к твоему сердцу. Ему кажется, ты чувствуешь несправедливость его выбора, причинившего тебе двойное горе. Он прекрасно понимает, что, включив в число Трехсот Олимпия и Александра, обоих, он ограбил тебя дважды, лишая и сына, и мужа и оставляя лишь младенца для продолжения твоего рода. Он поговорит с тобой об этом, когда вернется. Но сначала я должна поговорить с тобой начистоту, как женщина с женщиной».
Очень еще молода наша царица, высока и прелестна, но тень дерева придавала ей печальный вид.
«Когда-то я была дочерью царя, а теперь я жена другого царя,– сказала Горго.– Женщины завидуют моему положению, но немногие понимают, как тяжелы мои обязанности. Царица не может быть просто женщиной, как другие. Она не может иметь просто мужа и детей – для себя одной, как другие жены и матери. Ее муж и сыновья живут, чтобы служить стране. Царица служит им, сердцу своих сограждан, а не себе и не своей семье. А теперь и ты, Паралея, призвана в это суровое сообщество. Ты должна занять свое место рядом со мной в этом горестном строю. Таково женское испытание и таково женское торжество, назначенные богами,– терпеть боль, превозмогать горе, идти под ярмом печали и таким образом придавать мужества другим».
От этих слов царицы, признаюсь тебе, Диэнек, и вам, женщины, мои руки так затряслись, что я испугалась, как бы не утратить власти над ними. Не только от предвидения беды, но также и от гнева, слепой горькой злобы на Леонида, на то бессердечие, с которым он влил двойную долю печали в мою чашу. «Почему я?» – в злобе кричало мое сердце. Но вот во дворе послышался звук открывающихся ворот, и через мгновение вошел сам Леонид. Он только что вернулся от войск и теперь нес в руке запыленную обувь. 3астав жену и меня за доверительной беседой, он сразу догадался о предмете нашего разговора.
Извинившись за опоздание, царь сел, поблагодарил меня за пунктуальность и спросил о моем больном отце и других родственниках. Он имел тысячу других забот о войске и государстве; он понимал неминуемость собственной гибели, знал, что расстается навек с любимой женой и детьми. И все же он сел на скамейку и, прогнав из головы все прочие мысли, с сосредоточенным вниманием обратился ко мне одной.
«Ты ненавидишь меня, госпожа? – таковы были его первые слова.– На твоем месте, я бы ненавидел. Мои руки сейчас тряслись бы от неумолимой злобы.– Он освободил место рядом с собой на скамейке.– Сядь сюда, дочка. Сядь рядом».
Я подчинилась. Госпожа Горго слегка подвинулась. Я ощутила запах царского пота и теплоту его тела, как в детстве ощущала их рядом с отцом, когда он звал меня на свой совет. И снова сердце мое переполнилось печалью и злобой, угрожая выйти из повиновения. Чтобы подавить эти чувства, мне пришлось собрать все мои силы.
«Город размышляет и гадает,– снова заговорил Леонид,– почему я выбрал в число Трехсот именно этих. 3а их личную воинскую доблесть? Как могло получиться, что наряду с олимпийскими победителями, вроде Полиника, Диэнека, Алфея и Марона, я также назвал не изведавших крови юношей, таких, как Аристон и Александр? Возможно, предположили горожане, я предугадал какую-то тонкую мистическую силу в этом уникальном соединении людей. Возможно, меня подкупили или я отплачиваю кому-то за услугу. Я никогда не скажу городу, почему я выбрал именно этих триста. И никогда не скажу самим Тремстам. Но скажу сейчас тебе. Я отобрал их не за их личную доблесть, а за доблесть их женщин».
При этих словах царя из моей груди вырвался крик, поскольку я заранее поняла, что он скажет дальше. И тут я ощутила у себя на плече его руку.
«Для Греции настал самый грозный час. Если она спасется, это случится не у Ворот, а позже, в еще грядущих битвах, морских и наземных. Тогда Греция, если такова будет воля богов, защитит себя. Вы понимаете это, женщины? Ладно. Теперь слушайте. Когда битва закончится, когда Триста погибнут, тогда вся Греция обратит свой взор на спартанцев, чтобы посмотреть, как они перенесли это. Но кто же, кто будут эти спартанцы, на кого станут смотреть все прочие эллины? На вас. На вас и других жен и матерей, сестер и дочерей павших. Если они заметят, что ваши сердца разрываются, что вы сломлены горем, то и остальные тоже не выдержат. И Греция не выстоит, она рухнет вместе с ними. Но если вы перенесете горе с сухими глазами, если вы не только переживете свою утрату, но с презрением обуздаете горе во всей его тяжести и воспримете его как честь,– тогда Спарта устоит. И за нею устоит вся Эллада. Почему я избрал тебя, госпожа, для этого самого тяжелого испытания, тебя и твоих сестер из числа Трехсот? Потому что ты можешь справиться с ним».
С моих губ сорвались слова упрека царю: «И такова твоя награда за женскую добродетель, Леонид? Быть наказанной вдвойне и нести двойное
горе?»
В это мгновение госпожа Горго придвинулась ко мне с утешением. Но Леонид отстранил ее. По-прежнему удерживая мое плечо теплой рукой, он ответил:
«Моя жена потянулась к тебе, чтобы прикосновением разделить с тобой бремя, которое сама она без жалоб несет всю жизнь. Ей никогда не разрешалось быть просто женой Леонида, ей всегда приходилось быть женой Лакедемона. Теперь это и твоя доля, госпожа. Отныне тебе не быть женой Олимпия или матерью Александра, ты должна служить женой и матерью нации. Ты и твои сестры по Тремстам теперь матери всей Греции и самой свободы. Это суровый долг, Паралея, к которому я призвал собственную любимую жену, мать моих детей, а теперь призвал и тебя. Скажи мне, госпожа: я не прав?»
При этих словах царя самообладание покинуло мое сердце. Я разрыдалась. Леонид ласково прижал меня к себе, и я зарылась лицом ему в грудь, как девочка отцу, и рыдала, рыдала, не в силах остановиться. Царь крепко держал меня, но его объятия не были суровыми, в них чувствовалась нежность и утешение.
Как во время лесного пожара, когда огонь опустошил весь склон и сам себя сжег, так перегорел и мой прилив горя. На меня снизошел покой, словно дар, который я черпала не только от этой сжимавшей меня сильной руки, но из какого-то более глубокого источника, несказанного и чудесного. В мои колени вернулись силы, а в сердце – мужество. Я встала перед царем и вытерла глаза. И обратилась к нему, словно бы не по собственной воле, но побуждаемая какой-то невидимой богиней, чью природу и происхождение я не могу назвать:
«Это были последние слезы, господин мой, которые солнце увидит от меня».
Глава тридцать седьмая
Таковы были последние слова, произнесенные пленником Ксеоном. Его голос затух, и признаки жизни быстро исчезли. Спустя несколько мгновений он лежал недвижимый и похолодевший. Его бог использовал его до конца и вернул наконец в то состояние, к которому сам он так стремился,– Феб-Стреловержец вновь соединил Ксеона с его товарищами в подземном царстве.
Прямо мимо шатра Оронта, гремя доспехами с шумом покидали город боевые части Великого Царя. Оронт приказал вынести тело этого человека, Ксеона, на носилках из шатра. Повсюду царил хаос. Оронт задержался, занятый своими делами; необходимость уходить с каждым мгновением делалась все настоятельнее.
Великий Царь помнит состояние полного разброда, царившее в то утро. Многочисленные бандиты и негодяи, отбросы афинского общества, рыскали по улицам, подобно хищникам. Теперь они обнаглели до того, что даже стали проникать на окраины лагеря Великого Царя. Эти подонки хватали все, на что могли наложить лапу. Когда наш отряд вышел на мощенную булыжником улицу, прозванную афинянами Священной Дорогой, младшие чины стражи Великого Царя вели мимо шайку этих проходимцев.
К моему удивлению, Оронт, поприветствовав блюстителей порядка, приказал им освободить преступников под его ответственность, а самим убираться. 3лодеев было трое, и они находились в самом хамском расположении духа, какое только можно представить. Выстроившись перед Оронтом и другими командирами Бессмертных, они явно ожидали, что их казнят на месте. Мне было велено переводить.
Оронт спросил у этого отребья, афиняне ли они. Не граждане, ответили те, но живущие в городе. Оронт указал на тряпку, в которую было завернуто тело человека по имени Ксеон.
– Вам известно, что это за одежда?
Старший из негодяев, которому не было и двадцати, ответил, что это алый лакедемонский плащ, какие носят лишь спартанские воины. Очевидно, никто из этих мародеров не мог себе объяснить, откуда здесь, в распоряжении персидских врагов, взялось тело этого человека, эллина.
Оронт стал допрашивать мерзавцев дальше. 3нают ли они в морском пригороде Фалероне место, известное как святилище Персефоны Окутанной?
Головорезы ответили утвердительно.
К моему еще большему удивлению, а также к удивлению остальных командиров, Оронт достал из кошелька три золотых дарика – каждый составлял месячное жалованье пехотинца – и протянул это богатство подонкам.
– Отнесите тело этого человека в тот храм и оставайтесь там, пока не вернутся жрицы. Они поймут, что с ним делать.
Тут один из командиров Бессмертных разразился протестом:
– Господин, посмотри же на этих негодяев! Настоящие свиньи! Вложи золото им в руку, и они сбросят человека вместе с носилками в ближайшую канаву.
Для споров не оставалось времени. Оронту, мне и командирам следовало поспешить на свои места. Оронт задержался на кратчайшее мгновение и повнимательнее рассмотрел лица трех мошенников.
– Вы любите свою страну? – спросил он. Вызывающее выражение на лице подонков ответило за них.
Оронт указал на тело, распростертое на носилках. – Этот человек своей жизнью защитил ее. Несите его с честью.
Там мы его и оставили, тело спартанца Ксеона, и вскоре нас унесло неудержимым потоком отступления.
Глава тридцать восьмая
В отношении того человека и рукописи осталось добавить лишь два последних замечания, что наконец приведет его историю к завершению. Как и предсказывал Оронт, Великий Царь отбыл на корабле в Азию, оставив в Греции под командованием Мардония лучшие части своего войска, около трехсот тысяч, в том числе и самого Оронта с Десятью Тысячами Бессмертных. Им было приказано перезимовать в Фессалии и продолжить боевые действия, когда время повернет к весне. С наступлением весны, поклялся Мардоний, неодолимая сила войск Великого Царя раз и навсегда приведет к повиновению всю Элладу. Я тоже остался в расположении войска – исполнять должность историка.
Наконец весной сухопутные войска Великого Царя встретились с эллинами в сражении на равнине близ греческого города Платеи, на северо-западе от Афин, в дне ходьбы оттуда.
Против трехсот тысяч персов, мидийцев, бактрийцев, индусов, саков и эллинов призванных под знамена Великого Царя, выступили сто тысяч свободных греков. Это были их главные силы, в которые вошло все спартанское войско – пять тысяч Равных и лакедемонские периэки, вооруженные оруженосцы и илоты общим числом до семидесяти пяти тысяч. На фланге выступило тяжеловооруженное пешее ополчение пелопоннесских союзников Спарты – тегейцев..В силы общеэллинского войска также влились менее многочисленные отряды из дюжины других греческих городов, самый выдающийся из которых составили афиняне – до восьми тысяч.
Не стоит пересказывать подробности разгрома – так печально известны они Великому Царю; не стоит также упоминать подробности страшных потерь цвета Державы от голода и болезней во время долгого отступления в Азию. Достаточно сказать, что все предсказанное человеком по имени Ксеон сбылось. Наши воины снова увидели ряд букв «лямбда» на лакедемонских щитах, но на этот раз ряд составляли не пятьдесят или шестьдесят щитов, как в ущелье у Горячих Ворот, а десять тысяч в ряд и восемь вглубь. Неколебимый вал бронзы и алых плащей, как и описывал Ксеон. И снова мужество персидских воинов не устояло против доблести и великолепной дисциплины лакедемонских бойцов. По моему мнению, никакое войско под небесами, как бы многочисленно оно ни было, не могло противостоять их атаке в тот день.
Когда побоище уже завершалось, место историка за персидским частоколом захватили две сотни илотов. По приказу спартанского главнокомандующего Павсания они не брали пленных и начали беспощадно резать всех уроженцев Азии, кто попадал им под руку. В этом критическом положении я бросился вперед и стал кричать по-гречески, умоляя захватчиков пощадить наших людей.
Однако греки хранили такой страх перед многочисленностью Востока, даже смятого и разбитого, что никто не прислушался и не остановился. Набросились и на меня и над моим горлом занесли клинок. Вдохновленный, наверное, богом Ахурой-Маздой, а может быть, одним только ужасом, я стал по памяти выкрикивать имена спартанцев, о которых говорил человек по имени Ксеон. Леонид. Диэнек. Александр. Полиник. Петух. И вдруг воины-илоты убрали свои мечи.
Резня прекратилась.
Появившиеся командиры-спартиаты восстановили порядок в толпе вооруженных илотов. Меня поволокли вперед, связали руки и швырнули на землю перед одним спартанцем, великолепного вида воином. Его плоть еще дымилась от крови и пламени побоища. Илоты сообщили ему имена, которые я выкрикивал. Воин навис над моей согбенной, коленопреклоненной фигурой и сурово посмотрел на меня.
– 3наешь, кто я? – спросил он. Я ответил, что не знаю.
– Я Дектон, сын Идотихида. Это мое имя ты назвал, когда крикнул «Петух».
3десь справедливость вынуждает меня заявить, что скромное описание Петуха пленником Ксеоном ни в коей мере не отразила истинной внешности этого человека. Стоявший надо мной воин представлял собою великолепный образец мужчины в расцвете молодости и силы. Высоченный и статный, он обладал огромным человеческим обаянием, а благородство его черт говорило о высоком происхождении. Просто диво, что он происходил из самых низов.
Теперь я стоял на коленях, отданный во власть этого человека, и умолял его о пощаде. Я рассказал ему о Ксеоне, чудесно спасшемся после сражения при Фермопилах, о его возвращении к жизни трудами службы Царского лекаря и о его рассказе, благодаря которому я, записывающий его, узнал имена спартанцев, которые выкрикивал.
Вокруг моей коленопреклоненной фигуры уже собралось с дюжину других спартиатов. Все они как один с презрением поносили не виденную ими рукопись и назвали меня лжецом.
– Какую выдумку о персидском героизме ты состряпал из своих фантазий, писец? – спросил один из них. Сплел ковер лжи, чтобы польстить своему царю?
Другие заявили, что хорошо знали человека по имени Ксеон, оруженосца Диэнека. Как я посмел упоминать его имя и имя его благородного хозяина в подлой попытке спасти собственную шкуру?
Все это время Дектон по прозвищу Петух молчал. Когда ярость остальных иссякла сама по себе, он со спартанской краткостью задал мне лишь один вопрос: где последний раз видели человека по имени Ксеон?
– Его тело персидский командир Оронт с почетом отправил в афинский храм, называемый эллинами храмом Персефоны Окутанной.
Тут спартанец Дектон милосердно поднял руку: – Этот чужак говорит правду.
Он подтвердил, что прах его товарища Ксеона доставила в Спарту жрица того самого храма за несколько месяцев до нынешнего сражения.
Когда я услышал это, сила покинула мои колени. Я осел на землю. Итак, все кончено – мысль о нашем крушении подкосила меня. Какая ирония богов! Теперь я стою на коленях перед спартанцами, побежденный и покоренный, как некогда стоял тот человек, Ксеон, перед персидскими воинами.
Полководец Мардоний погиб в сражении при Платеях, погиб и Оронт.
Но спартанцы поверили мне, и моя жизнь была спасена. Почти месяц меня держали при Платеях под охраной эллинских союзников, обращались со мной предупредительно и вежливо, а потом послали в качестве пленного переводчика в Союзный Совет.
В конечном счете, рассказ пленника Ксеона сохранил мне жизнь.
Хочу сказать еще несколько слов о сражении. Великий Царь, может быть, помнит имя Аристодем. Человек по имени Ксеон несколько раз упоминал этого спартанского командира как посла, а потом – в числе Трехсот у Горячих Ворот. Среди Равных уцелел лишь он один. Он почти не видел, и его отправили в тыл.
По возвращении Аристодема живым в Спарту ему пришлось немало вытерпеть от своих сограждан за трусость. С ним обращались, как с трезанте – «убоявшимся». Теперь, при Платеях, перед ним открылась возможность реабилитировать себя, и он проявил выдающийся героизм, превзойдя всех на поле боя, словно стремился навсегда искоренить свой прошлый позор.
Спартанцы, однако, с презрением отказали Аристодему в награде за отвагу и отличили троих других воинов – Посидония, Филокиона и Амомфарета. Военачальники сочли героизм Аристодема безрассудным и ложным, когда он, охваченный кровавым безумием, сражался впереди строя. Он слишком очевидно искал смерти на глазах у товарищей, желая искупить свой позор. А отвагу Посидония, Филокиона и Амомфарета они сочли наивысшей – отвагой воинов, которые хотят остаться в живых и тем не менее сражаются великолепно.
Возвращаюсь к моей собственной судьбе. Меня продержали в Афинах два лета. Я служил по мере сил переводчиком и писцом, что позволило мне стать непосредственным свидетелем имевших место необычайных и беспрецедентных преобразований.
Разрушенный город восстал из пепла. С удивительной быстротой были вновь отстроены стены и порт, здания собраний и торговые дома, суды и правительственные учреждения, и жилые дома, и лавки, и рынки, и ремесленные мастерские. Теперь иной пожар пожирал всю Элладу и, в частности, город Афины – огонь дерзости и самоуверенности. Казалось, сама рука небес возложила благословение на плечи каждого, навеки изгнав из людей робость и нерешительность: В одночасье греки захватили подмостки судьбы. Они разбили самое могучее войско, какое когда-либо существовало под небесами. Неужели какое-то меньшее предприятие теперь устрашит их? На что они решатся теперь?
Афинский флот прогнал корабли Великого Царя обратно в Азию, очистив Эгейское море. Торговля расцвела. Сокровища и торговцы со всего мира наводнили Афины.
И это грандиозное возрождение затмило для простолюдинов саму великую победу. Оптимизм и предприимчивость зажгли всех и каждого верой в себя и своих удачливых богов. Каждый гражданин-воин, кто перенес испытание битвой в фаланге или тянул весло под обстрелом в море, теперь считал, что заслужил полного участия во всех городских делах и права обсуждать их.
Особая эллинская форма правления, названная демократией, правлением народа, пустила глубокие корни, вскормленная кровью войны. Теперь, с победой, росток рванулся вверх и распустился пышным цветком. В Собрании и в судах, на рыночной площади и в правительственных учреждениях простолюдины решительно и самоуверенно проталкивались вперед.
Для греков победа стала доказательством мощи и величия их богов. Эти божества, которые в нашем, более цивилизованном, понимании кажутся тщеславными, одержимыми страстью, чудаковатыми и столь подверженными слабостям и недостаткам, что и не достойны называться божествами, для греков воплощали их веру в нечто более великое, чем человеческое, по масштабу и все же глубоко человечное по духу и сути. Греческие скульптуры и атлетические праздники прославляли человеческое тело, их литература и музыка – человеческие страсти, их беседы и философия – человеческий разум.
В приливе торжества расцвели искусства. Не было ни одного дома, даже самого скромного, который восстал бы из пепла без какой-либо росписи на потолке, статуи или памятника, прославляющих богов и доблесть эллинского оружия. Процветали театры. Трагедии Эсхила и Фриниха привлекали толпы зрителей в стены театрона, где благородные и простолюдины, граждане и иноземцы занимали места в восторженном ожидании и часто переносили этот восторг на творения, чьи достоинства, по утверждению греков, переживут вечность.
Осенью на второй год моего пленения меня вместе с множеством других чиновников Державы за выплаченный Великим Царем выкуп отправили на родину, и я вернулся в Азию.
Вновь поступив на службу Великого Царя, я приступил к своим обязанностям по летописанию дел Державы. Случай, а возможно рука бога Ахуры-Мазды, к следующему лету привел меня в портовый город Сидон, и там меня назначили помогать при допросах одного эгинского судовладельца, грека, чью галеру шторм занес в Египет. Там ее захватили финикийские военные корабли из флота Великого Царя. Изучая бортовой журнал, я наткнулся на запись, упоминавшую о плавании прошлым летом из Эпидаврской Лимеры, лакедемонского порта, в Фермопилы.
По моему настоянию чиновники Великого Царя заострили допрос на этом. пункте. Эгинский капитан заявил, что его судно было среди прочих, нанятых для перевозки группы спартанских военачальников и послов на празднование в честь памяти Трехсот.
Также, по утверждению капитана, на борту были спартанские женщины, жены и родственницы погибших.
Общаться с этими благородными женщинами, сообщил капитан, ни ему самому, ни его людям дозволено не было. Я усиленно спрашивал его, но не смог убедиться ни прямо, ни косвенно, были ли среди этих женщин госпожа Арета и госпожа Паралея.
Эгинский судовладелец утверждал, что высадил пассажиров в устье Сперхея, у восточной оконечности той самой равнины, где некогда стояло лагерем войско Великого Царя. Там они высадились и остаток пути прошли пешком.
Несколькими месяцами ранее, доложил капитан, местные жители нашли три тела греческих воинов у верхнего края Феспийской равнины, на том самом пастбище, где располагался шатер Великого Царя. Эти останки были с почтением сохранены гражданами Трахина и теперь с почетом возвращены лакедемонянам.
Хотя в таких вопросах всегда трудно утверждать определенно, здравый смысл говорит, что эта были не иначе как тела Всадника Дориона, скирита Собаки и изгоя, известного под прозвищем Сферей, которые той ночью принимали участие в налете на шатер Великого Царя.
Эгинское судно везло прах еще одного лакедемонского воина, в свое время возвращенный из Афин. О том чьи это были останки, капитан не смог сообщить никаких сведений. Однако мое сердце склонно предположить, что это мог быть прах нашего рассказчика. Я стал расспрашивать капитана подробнее.
У самых Горячих Ворот, заявил он, эти тела и урна с прахом были погребены в могильном холме на лакедемонском участке, расположенном на пригорке прямо над морем. Подробные расспросы капитана насчет топографии того места позволили мне заключить с определённой уверенностью, что это тот самый пригорок, на котором погибли последние защитники Фермопил.
На поминовении не было никаких атлетических игр. Состоялось лишь простое торжественное воспевание 3евса-Спасителя, Аполлона, Эроса и Муз. По словам капитана, все закончилось менее, чем через час.
Понятно, что местность интересовала капитана больше с точки зрения безопасности судна, чем из-за произошедших там сражений. Однако, по его словам, его поразила одно незабываемое событие. Одна из спартанских женщин держалась среди остальных особняком и предпочла задержаться в одиночестве на месте сражения, когда ее сестры уже начали готовиться к отправлению домой. Эта госпожа так припозднилась, что капитану пришлось послать одного из своих моряков позвать ее.
Я стал горячо расспрашивать его об имени этой женщины, но капитан, что и неудивительно, не осведомлялся об этом. Я продолжал расспросы, выясняя, как она выглядела. Возможно, внешность помогла бы мне определить, о ком шла речь. Капитан утверждал; что в ней не было ничего особенного.
– А лицо? – продолжал настаивать я.– Была она молодой или старой? Сколько лет было ей с виду?
– Не могу сказать,– ответил он. – Почему же?
– Ее лицо было закрыто,– пояснил судовладелец. -Я видел лишь затененные покрывалом глаза.
Я продолжил расспросы о самих памятниках, о камнях и надписях на них. Капитан рассказал то немногое, что запало ему в память. На камне над могилой спартанцев вспомнил он, были начертаны стихи поэта Симонида, который сам в тот день присутствовал на поминовении.
– Ты запомнил эпитафию? – спросил я.– Или стихи были слишком длинные, чтобы удержать в памяти?
– Вовсе нет,– ответил капитан.– Строки были составлены в спартанском стиле. Короткие. Ничего лишнего.
По его оценке, они были столь скупы, что даже такая ненадежная память, как его, без труда сохранила их.
О xein angellein Lakedaimoniois hoti tede
keimetha tois keinon rhemasi peithomenoi.
Эти стихи, насколько сумел, я выразил так:
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
Мария Раттацци
Осада Иерусалима
I
Трирема «Артемида» вышла из Родосского порта ранней весной 70-го года. Был вечер. Море было тихо, почти неподвижно. Ветер едва шевелил двумя большими кормовыми парусами, и волны слабо шумели под разрезавшим их носом судна. Солнце, скрывшееся в волнах, оставило на горизонте пеструю кучу розовых и красных облаков; но наступившие вскоре сумерки стерли с них яркие краски и небо сделалось белесоватым на западе, светло-голубым в зените и серым на востоке. Во время непродолжительных сумерек тысячи звезд покрыли небосклон. Морской горизонт, слегка подернутый туманом, сливался с ним по всей громадной окружности за исключением небольшого отрезка позади галеры, где на светло-голубом фоне неба чернели прибрежные горы Родоса.
Находившиеся на "Артемиде" люди, хотя и привычные к чудной картине, представляемой по вечерам небом в этих широтах, высыпали на палубу, очарованные и восхищенные, и видели в этом счастливое предзнаменование для путешествия.
Отплыв из Бриндизи в Цезарею с грузом для Восточной армии, "Артемида" представляла собою целый мирок. Кроме 120 гребцов и матросов, латинян и сицилийцев, на ней были греки, с материка и с островов, финикияне, египтяне, эфиопы, которых она захватывала в различных портах, к которым приставала, римские легионеры, германские, галльские и батавские союзники, отправлявшиеся на присоединение к армии Тита с многочисленными женщинами и рабами.
Здесь можно было услышать всевозможные наречия, встретить всевозможные костюмы, начиная от желтого "сагума" галла до белого бурнуса араба. Финикийские купцы, сидя с подобранными под себя ногами, молчали и имели сосредоточенный вид. Греки кричали, жестикулировали, рассказывали разные истории. Несколько певцов, потомков древних рапсодов, взятых на борт галеры на островах Архипелага, собирались играть на цитре. Германские солдаты собирались играть в кости. Женщины, завернувшись в плащи, растянулись на войлочных одеялах или на кипах одежды. Рабы спали на скамейках, на тюках, на сложенных парусах или на свернутых канатах. Палуба была завалена товарами, мешками, шкурами зверей, всякого рода оружием, а также различными снастями и такелажем – парусами, веслами, канатами, реями.
Среди групп, образовавшихся на палубе "Артемиды", была одна чудесная семья, глава которой, Измаил-Иосиф, был дядей Иосифа Флавия, летописца осады Иерусалима. Вместе с ним ехала его внучка Ревекка и двое слуг.
Лицо Измаила бросалось в глаза своей длинной седой патриаршей бородой и выражением лукавства и напускного добродушия, граничившего с вульгарностью. Его внучка Ревекка была поразительно красива. Ее большие, темно-синие глаза блестели каким-то диким блеском, великолепные черные брови еще более усиливали их выражение. Яркий румянец, роскошные черные волосы, выбивавшиеся из-под покрывавшего ее голову красного шелкового тюрбана, высокий, хотя и вполне женственный лоб, большой, но тем не менее красивый рот, обворожительная улыбка, чувственные розовые губы, великолепная грудь, очертания которой обрисовывались из-под складок широкой одежды, словом, все в молодой женщине было пре красно.
Одета она была в холщовый хитон, затянутый вокруг талии поясом из красной тирской кожи, а поверх его был накинут дорожный плащ, нечто вроде бурнуса, буро-красного цвета, яркий отблеск которого красиво гармонировал с темным блеском ее глаз.
Измаил-Иосиф и семейство его сели на судно в Родоссе. Как только Ревекка появилась на палубе "Артемиды", она обратила на себя всеобщее внимание. Один из офицеров воскликнул, обращаясь к одному из своих товарищей:
– Это богиня Астарта, вышедшая из пучины морской! Клянусь богами, я никогда не видел ничего подобного!
Произнесший эти слова был трибун галльского отряда Максим Галл. Отец его получил право римского гражданства во время войны Германика против варваров. Лишившись его еще в детстве, Максим Галл пошел по его стопами, будучи еще молодым человеком, обратил на себя внимание Веспасиана, которого он сопровождал в его походах в Германию, Британию и, позднее, в Африку. Желая довершить военное образование своего сына Тита, будущий римский император назначил его воспитателем Максима Галла. Веспасиану было известно, что Галл, очутившись, подобно ему самому, с самой ранней молодости в среде, представлявшей немало соблазнов для всякого, не обладающего достаточно твердым характером человека, сумел сохранить твердость души, благоразумие и осторожность.
Теперь Галл возвращался из Рима, куда Веспасиан посылал его с важным поручением. Возвращение его было ускорено событиями, готовившимися в Иудее. Тит написал ему, что нуждается в его советах для успешного ведения осадных работ. Во всей Восточной армии не было никого, кто был бы лучше знаком с использованием метательных орудий, как Максим Галл. Во время плавания он обдумывал предстоящую осаду. Но, как только Ревекка появилась на палубе судна, мысли его всецело перенеслись на молодую иудейку. Он стал допытываться у всех, что известно об этой девушке и о ее семействе? Иосиф Флавий был ему немного знаком, он не раз видел его в римском лагере и за столом у Тита. Узнав, что Флавий – родственник прекрасной девушки, он решил познакомиться с Измаилом.
Ревекка сидела на палубе, Измаил, укутавшись в свой белый плащ, прохаживался рядом с ней.
– Измаил-Иосиф, – обратился к нему Галл, останавливаясь перед ним, – я только что узнал, кто ты такой. Я хорошо знаком с Иосифом Флавием. Я люблю и уважаю его. Он друг римлян и отличается как умом, так и красноречием. Ты можешь располагать мною как мой друг.
– Благодарю тебя, господин, но скажи мне, кто ты, для того, чтобы я мог называть тебя по имени.
– Мое имя – Максим Галл. Оно, быть может, не безызвестно тебе…
Услыхав имя Максима Галла, Ревекка, остававшаяся до сих пор неподвижной, вскинула глаза на собеседника своего деда.
– Да, конечно, имя твое известно мне, – ответил Измаил. Я не раз слышал его от Иосифа Флавия. Не правда ли, Ревекка?
Ревекка утвердительно кивнула головою, но ничего не сказала.
Измаил-Иосиф принадлежал к партии саддукеев и, подобно Иосифу Флавию, принял сторону римлян. Не отличаясь возвышенностью чувств, не зная иных побуждений, кроме своей личной выгоды, иной страсти, кроме любви к богатству, льстивый и угодливый с сильными, он не признавал иного бога, кроме бога силы. Всякий римлянин был для него высшим существом. Поэтому он считал за особое счастие представившуюся ему возможность наслаждаться беседой с таким высокопоставленным лицом, как Максим Галл.
– Мне довелось, – говорил он между прочим, – беседовать с Титом. Я как будто и теперь вижу его перед собой, напоминающего Геркулеса Родосского, с его мужественным лицом.
– А душа его еще прекраснее; Рим это когда-нибудь узнает, – добавил Галл убежденным тоном.
– Мне кажется, что между твоим лицом и лицом Тита есть много общего. У Веспасиана совершенно иной тип, чем у Цезарей. Он, должно быть, не римского происхождения.
– Твое замечание делает честь твоей проницательности, Измаил, – ответил Галл, улыбаясь. – Семейство Флавия Веспасиана родом из Цисальпинской области, которая когда-то была населена галлами, моими предками.
– В тот день, когда я имел счастие всматриваться в его черты, подле меня стоял один из тех халдейских астрологов, которые умеют предсказывать будущее подобно пророкам моей родины. Это было в царствование Нерона. "Видишь, ли ты этого молодого человека? – спросил он меня, указывая на Тита. – Его ожидает блестящая будущность. Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу, Измаил: судьба предназначила ему быть римским императором". – Я на другой же день рассказал об этом внучке. Не правда ли, Ревекка?
Слова о предстоящей гибели отечества, произнесенные таким равнодушным тоном, поразили ее. Измаил смутился и отвернулся в сторону; он увидел приближение бури лишь после того, как вызвал ее.
Галл, поняв то, что происходило в сердце Ревекки, поспешил сказать примирительно:
– Твой дед и твой отец иначе понимают потребности времени, и всякий удивляется их мудрости.
– Мне не пристало осуждать их в твоем присутствии.
– Ты горда и великодушна, Ревекка!
– Я всего лишь желаю остаться верной религии моей матери.
В числе свидетелей этой сцены был один человек, на которого Максим Галл не обратил внимания. Это был слуга Измаила и Ревекки, Эфраим бен Адир.
Эфраим бен Адир был молодой араб, который год тому назад поступил на службу к Измаилу-Иосифу. Ему было лет двадцать, и душа его принадлежала Ревекке. То, что он ощущал к повелительнице своей, не было чувством раба по отношению к своему господину: это было преклонение фанатика перед своим Богом.
Ревекке было известно то чувство, которое она внушила ему, и временами это пугало ее. Однако у нее не хватало решимости прогнать своего молчаливого обожателя.
Для Эфраима не проходили незамеченными ни одна из ее радостей, ни одна из ее печалей. Все чувства, волновавшие его госпожу, отзывались в душе верного слуги. Когда Измаил напомнил о предсказании халдейского астролога, он заметил негодование Ревекки. Когда Ревекка спустилась в каюту, чтобы отдохнуть, Эфраим не спускал глаз с Измаила и Галла и прислушивался к их разговору.
На следующее утро, как только Ревекка показалась на палубе, он сказал ей:
– Ревекка, хозяин решил, что ты не возвратишься в Иерусалим. Он просил римлянина содействовать ему в том.
– Хорошо, Эфраим. Все будет так, как то угодно Богу.
Через несколько дней показались берега Палестины.
Все высыпали на палубу, любуясь амфитеатром Цезареи и видом Иудейских гор. Галл, Измаил и Ревекка тоже поднялись на палубу. Ревекка устремила свой взгляд на берег. Галл угадал мысли, которые волновали ее; он приблизился и поклонился ей.
– Твой дед, – сказал он, – сообщил мне, что ты отправляешься в Иудею с намерением войти в Иерусалим и что ты желаешь разделить со своими согражданами лишения осады. Хотя это намерение благородно и великодушно, но Измаил слишком тебя любит, чтобы позволить тебе осуществить его.
Ревекка, выслушав его, побледнела и произнесла твердым и спокойным голосом, бросив презрительный взгляд на Измаила:
– Мой дед поступил нехорошо, сообщив чужому то, что должно было оставаться в семье. Я не могу гневаться на тебя, так как ты, очевидно, повинуешься лишь доброму чувству. Я даже благодарна тебе за твой совет. Но решение мое будет неизменно.
– Твой дед просто любит тебя и не желает, чтобы ты шла на верную смерть.
– Смерти боятся трусы, Максим Галл; я же боюсь только одного: как бы не разгневать Господа Бога и не оказаться недостойной памяти моей матери. Если Иерусалиму суждено пасть, я желаю быть погребенной под его развалинами. Предсказания должны исполниться; ведь не потекут же волны Кедрона обратно к своим источникам.
– Я надеюсь, – сказал Галл, – что ты еще подумаешь о тех опасностях, которым ты подвергла бы себя, если бы вздумала настаивать на осуществлении своего плана. Поверь, наступит день, когда ты раскаешься в том, что ты намерена теперь делать.
– Раскаиваются только в дурных поступках: а разве может считаться дурным поступком желание присоединиться к своим друзьям в минуту опасности, разделить их славу, пасть или победить вместе с ними? Наконец, меня влечет в Иерусалим сила, известная моему деду и которой я тщетно старалась бы противиться; моя мать, умирая, предсказала мне, что судьба моя будет связана с судьбой храма нашего Бога.
Корабль приближался к Цезарее. Уже можно было различить желтые береговые скалы, обрамленные темным кустарником, далеко выступавшие в море.
– Итак, твое решение непоколебимо? – спросил Галл.
– Так же непоколебимо, как и те священные горы, там вдали.
– Но подумала ли ты о препятствиях, которые тебе придется преодолеть? Ведь это нелегкое дело – проникнуть в осажденный город.
– Я надеюсь, что слабой женщине не запретят взглянуть в последний раз на храм своих предков. Я сошлюсь, в случае надобности, на расположение моего деда к римлянам.
– Но есть законы, которые сильнее, чем всякая дружба и расположение.
Ревекка взглянула на Галла и сказала ему, улыбаясь.
– Ты не всегда верно угадываешь будущее, Максим Галл. Кто знает, не ты ли сам раскроешь передо мной ворота которые, как ты теперь уверяешь, закрыты для меня.
Несколько часов спустя корабль пристал к Цезарее. Измаил, Ревекка и их слуги остановились в доме одного из своих знакомых.
Рано утром на следующий день Ревекка позвала к себе Эфраима бен Адира и сказала ему:
– Ты немедленно отправишься в Иерусалим. Мне самой еще нельзя ехать туда: за мною следят. Ты отдашь это письмо Симону бен Гиоре. Письмо мое ты непременно должен отдать Симону лично. Чувствуешь ли ты себя в силах проникнуть в город и исполнить мое поручение?
– Я ничего не боюсь; твое поручение будет исполнено.
II
Изам, царь Набазеев, идумейского племени, жившего по соседству с Иерусалимом, женился на Деборе, дочери Измаила-Иосифа. От этого брака родилась Ревекка. Хотя Изам и принадлежал к семейству Ирода и был связан давнишней дружбой с Береникой, однако он был самым ярым врагом римлян. Жена его, вопреки привязанности отца своего Измаила к иноплеменникам, вполне разделяла взгляды своего мужа и сумела передать их своей дочери воспитание которой она поручила Иоанану Боэнергу, одному из самых энергичных сторонников независимости Иудеи.
Измаил-Иосиф, обожавший свою внучку, желая устранить влияние на нее семьи, счел нужным ознакомить ее с греческой и римской культурой. Он отвез ее на некоторое время к Беренике, а затем совершил вместе с ней путешествие в столицу Римской империи. Но тем не менее он не достиг своей цели. Ревекка возвращалась из Рима на родину с еще более глубокой ненавистью к римлянам и с еще более пламенной любовью к своему отечеству. Как только она узнала об осаде Иерусалима, у нее возникло только одно желание – вернуться в священный город.
Любовь Ревекки к Симону возникла не более года назад, хотя знакомы они были уже давно. Ее мать, Дебора, как и сын Гиоры, была родом из Геразы, и ее семейство давно уже находилось в дружеских и даже родственных отношениях с семейством Бен Адира. Года три тому назад Ревекка долгое время гостила в Геразе, куда ее привлекли воспоминания детства и одна, дорогая ей, могила. Там она беспрерывно слышала имя Симона, которое произносилось не иначе, как с величайшим почтением, и Ревекка вполне разделяла это уважение. Еще будучи молодым человеком, он примкнул к тем, кто боролся против римлян. Ведя жизнь, полную приключений и опасностей, вынужденный скрываться в пещерах, преследуемый римлянами и теми из иудеев, которые признавали их господство, он сумел мало-помалу стать одним из вождей и привлечь на свою сторону всю Идумею, собрать целую армию, сначала в 20, а затем и в 40 тысяч человек, взять несколько больших городов, в том числе старинный и богатый город Хеврон. В то время, когда Веспасиан был провозглашен императором, Симон пользовался уже такой громкой славой, что его призвали в Иерусалим, чтобы вручить ему власть, или по крайней мере дозволили ему завладеть ею.
Ревекка в первый раз увидела Симона за несколько недель до вступления его в Иерусалим. Он был ранен в сражении против Цереазиса, под стенами Хеврона. Будучи доставлен в Махерон, один из городов, державшихся еще против римлян, он встретил самый заботливый уход в доме бабушки Ревекки. Молодая девушка видела его ежедневно и ухаживала за ним вместе с другими членами семейства. Чувства сострадания и благоговения к нему не замедлили перейти в чувство любви.
Город Махрон был построен на высокой горе, окруженной отвесными утесами и глубокими оврагами. На запад тянулась зеленой лентой на расстояние более шестидесяти стадий узкая долина, упиравшаяся в Мертвое море. К северу и югу тянулись длинные и узкие ущелья, терявшиеся в необозримом горизонте Иудейской равнины, а на восток извивающиеся излучины узкой долины вели к остроконечной горе Навав, принадлежавшей к цепи аравийских гор.
В Махероне находился дворец, выстроенный по повелению Ирода Великого. Рядом с городом были горячие источники, отличавшиеся необыкновенной целебностью своих вод. Холодные источники были не менее целебны, чем горячие. В одном месте над пещерой, находившейся вровень с землей, выдавались, точно две большие каменные женские груди, два выступа, из которых текли две струи воды – одна холодная, другая горячая; смешиваясь, воды этих источников составляли приятные и целебные ванны.
Безопасность Махерона, считавшегося неприступным, и целебное свойство его вод были главными причинами, привлекшими сюда Симона после сражения при Цереазисе. Кроме того, у него было здесь много сторонников. В первый раз, когда он увидел Ревекку, он был поражен ее красотой. Но гораздо более сильное впечатление произвели на него возвышенность ее характера и общность взглядов и мыслей. Они ежедневно беседовали о своих печалях и надеждах; молодая девушка подействовала скорее на ум, чем на сердце Симона. Однако мало-помалу и другое чувство стало овладевать Симоном; образ его первой жены стал постепенно изглаживаться из его памяти, и он почувствовал, что душа его раскрывается для новой страсти.
Выздоровление Симона успешно подвигалось вперед; он собирался покинуть Махерон с тем, чтоб условиться со своими единомышленниками относительно нового плана восстания. За несколько дней до его отъезда Ревекка отправилась со своей служанкой Диной погулять в северную долину. Она встретила там Симона.
– Ты завтра уезжаешь? – робко спросила Ревекка Симона.
– Да, это необходимо. Друзья наши готовятся к новой и решительной борьбе.
– Я желала бы сражаться рядом с тобой, Симон: женщина не должна разлучаться с тем, кого любит. Но все равно, так как нам приходится расставаться, то я постараюсь служить тебе и издалека. А по окончании войны мы встретимся, безразлично от того, будут ли усилия твои сопровождаться успехом или нет.
– По окончании войны нам можно будет послушаться голоса наших сердец. Ты, Ревекка, красивее, чем знамена и флаги Соломона.
– Дед мой желает увезти меня в Рим; мне казалось, что я могу принести пользу Иерусалиму и сыну Гиоры, ознакомившись поближе с нашим неприятелем; я колебалась предпринять, ли мне это путешествие. Ныне, когда сердце мое отдано тебе и когда ум мой должен останавливаться только на мыслях, достойных того, кому оно отдано, моим сомнениям нет уже места. Кто знает, быть может, для того, чтобы с успехом бороться против римлян, небесполезно будет увидать их поближе. Я увезу с собою воспоминание о тебе, как клятву в вечной ненависти к ним. Я буду лелеять его, как надежду, оно будет для меня днем освежающей сенью, ночью – живительной росой. Мой дед ненавидит тебя; я постараюсь превратить его ненависть в любовь. А если это мне и не удастся, то все же мы на всю жизнь будем принадлежать друг другу.
Когда она уезжала из Иудеи, чтобы сопровождать своего деда в его путешествии по Греции и по Италии, ей ни на одну минуту не приходила в голову мысль, что он может забыть или обмануть ее.
То, что она увидела вдали от Иерусалима, ни в чем не изменило ее чувств, не ослабило их силы. Ей казалось, что она видела одни только призраки, одни только гробницы во всех городах, которые посетила; нигде она не находила того, что она считала самыми существенными свойствами человека: энергии, веры и любви к свободе. Сравнивая Симона со всеми другими виденными ею мужчинами, она могла бы лишь тем более веровать в него, если бы только малейшее сомнение в нем могло прокрасться в ее душу. Впрочем, в душе ее только и могло находить место то, что она так сильно чувствовала, а именно: любовь к Иерусалиму и та сильная и непоколебимая страсть, которая освящена Богом.
Поэтому она возвращалась из своего путешествия полная счастья и веры. Возобновление борьбы, которое, как она знала, было неизбежно, являлось, правда, темным облаком на ясной лазури ее горизонта, но это облако не касалось ее любви, которая продолжала сиять в ее сердце чистым сиянием. Ее патриотические надежды могли не сбыться, но надежда, подсказываемая ей ее любовью, не могла обмануть ее. Если "он" не достигнет своей цели, если "он" погибнет, то это может случиться только под развалинами Иерусалимского храма. А какой интерес представляла бы для нее после того жизнь? Какое она имела бы право на существование. "Он" и Иерусалим слились в ее уме в одно целое, вполне отождествились. Симон не мог бы пережить падения Иерусалима; она не могла бы пережить Симона: таким образом, он и Иерусалим являлись двумя конечными точками ее судьбы.
III
Эфраим Бен Адир, покидая Цезарийский порт, видел, что город переполнен войсками; очевидно было, что они предназначались для отправления под стены Иерусалима и что они составляют только часть войск, уже отправленных вперед. Это заставило его задуматься. Если бы он поехал по большой дороге, ведущей в Иерусалим, то он рисковал быть задержанным на каждом шагу, или же вынужден был бы совершать длинные обходы, которые замедляли бы его путешествие; он мало был знаком с этой частью Иудеи, но ему отлично была знакома дорога из Яффы в Иерусалим; здесь не было ни одного кустика, ни одной лужайки, которая бы не была ему известна. Поэтому, расставшись с Ревеккой, которой он сообщил свой план и которая его вполне одобрила, он отправился в гавань, сел на попутную лодку и высадился несколько часов спустя в Яффе; а к вечеру того же дня он уже был на дороге из Яффы в Иерусалим, проходящей через богатую Сартскую долину.
В окрестностях Яффы было множество прекрасных садов, наполненных гранатными, фиговыми, лимонными деревьями и яблонями в полном цвету. Ближе к морю белый и красноватый песок был покрыт мастиковыми деревьями, пальмами, смоковницами; дальше, по мере возвышение почвы террасами, встречались оливковые деревья, белый клен, дерево, щелкунец. Над всем этим сияло чистое, лазуревое небо. Всем этим красотам
природы недоставало только людей, которые бы любовались ими. По случаю праздника Пасхи почти все жители этих мест отправились в Иерусалим, а так как там возобновилась осада, то они не имели возможности вернуться домой.
Но Бен Адира не пугало отсутствие людей в местности, которую он прежде знавал столь населенной. Только когда он оставил долину позади и углубился в горы, суровый вид которых живее напоминает человеку его одиночество, он почувствовал какое-то смутное беспокойство, он надеялся найти в Вифлееме, где ему прежде случалось жить, помощников для своего предприятия, и теперь предвидел, что это ожидание его не сбудется.
Действительно, в Вифлееме он нашел ту же пустоту, как и в других местностях, через которые он проходил. Печальные предчувствия овладели Бен Адиром. Сначала он разыскал дом, в котором когда-то жил, он оказался запертым, и сквозь окна его Бен Адир увидел, что дом был совершенно пуст. Он обошел весь город, стучась в каждую дверь, нигде не было и следа присутствия человека Уже приближалась ночь, и он умирал от голода, так как взятые им с собой в дорогу съестные припасы истощились; а ему не удалось даже найти ни одной сушеной винной ягоды в этом городе, где когда-то царили богатство и веселье.
– Нужно идти в Дта-эль-Нотур, – сказал сам себе Бен Адир, – быть может, я застану там Бен Актура. Если же и он бежал, то мне не на кого более рассчитывать.
Дта-эл-Натур, или Селение Пастухов, была деревня в окрестностях Вифлеема, куда часто приходили молодые арабы, чтобы наниматься в пастухи, поэтому деревня эта и получила арабское имя. Он направился в Селение Пастухов, идя по гребню гор, покрытых виноградниками, оливковыми деревьями и кунжутными кустами.
Он не раз останавливался, прислушиваясь к разнообразным звукам, наполнявшим воздух, и стараясь различить в них хоть что-либо, что походило бы на человеческий голос; но он ничего не слышал, кроме пения птиц и воя шакала. Придя в деревню, он прежде всего постучался в дверь той хижины, в которой когда-то жил Бен Атур. Но никакого ответа не последовало; в Дта-Атуре царило то же безмолвие, как и в Вифлееме: и отсюда бежали все обитатели.
Посланец Ревекки был человек терпеливый и энергичный, пылкий и страстный: чувство страха было совершенно незнакомо ему. Одиночество и темнота хотя и не пугали его, но были ему неприятны, и его воображению стали представляться мрачные видения. Выйдя из Селения Пастухов, он перешел через Кедронский ручей, броды которого были ему хорошо известны, и, утолив жажду, повернул направо, на восток.
Луна взошла, и при бледном свете ее все казалось ему еще более печальным и пустынным. Серые очертания гор обрисовывались на бледно-голубом небе. В промежутке между двумя горами он увидел Иерусалим, и вид священного города, города, обожаемого Ревеккой, придал ему на минуту бодрости. Но каким образом пробраться в него? Наиболее свободный доступ в город был влево от него, с западной стороны; но он узнал в Яффе, что у подножия Гинномовой горы, к западу от нового города, был расположен римский лагерь. Поэтому он решил проникнуть в город с правой стороны, пробравшись по одному из трех глубоких оврагов, защищающих его. Ему была знакома тропинка, проходившая у подножия храма, ведшая к Сионской горе и оканчивавшаяся у Овчих ворот; это был единственный путь, по которому он мог надеяться проникнуть в город. Но ему нужно было огибать гору Соблазна, чтоб добраться до горы Елеонской и до Иосафатовой долины, снова перейти через поток Кедронский, который в этом месте имел очень быстрое течение и был небезопасен для перехода в брод, если перекинутый через него мост был разрушен. Он миновал уже гору Соблазна, прошел мимо колодца Неэмии и мимо Силоамской купели, которую он оставил влево от себя, и дошел до Вианских ворот. Была уже глубокая ночь; Бен Адир едва держался на ногах от усталости, пройдя Вианию, он опустился на землю. Вдруг ему показалось, что донеслись человеческие голоса; он приподнялся и стал прислушиваться. Голоса на минуту замолкли, и до слуха Бен Адира не долетало ничего, кроме крика ночных птиц, укрывшихся в покинутых жителями хижинах Виании; но вскоре прежние звуки снова раздались, и теперь не было уже сомнения – это были человеческие голоса.
Бен Адир почувствовал, как к нему возвращаются его силы. По мере того как он продвигался вперед, звуки становились все более и более явственными. Он различил медленный и торжественный напев, свойственный духовному или надгробному пению. Теперь он мог уже в точности определить место, откуда они исходили, и расстояние, отделявшее его от этого места.
После нескольких минут ходьбы он заметил в густом кустарнике, отделявшем тропинку от довольно большого пустыря, расстилавшегося около дороги, небольшую прогалину, в которую он и пролез, и тотчас же он увидел перед собою другую тропинку, углублявшуюся в пустырь. Тропинка эта поворачивала вправо: она была чрезвычайно узка, камениста и неудобна для ходьбы; даже шакал с трудом мог бы пробраться по ней. Бен Адир последовал по ней, не сомневаясь в том, что тропинка эта ведет к жилью незнакомца.
Наконец он достиг рва оврага и очутился перед углублением, похожим на отверстие заброшенной каменоломни. В это время голос, молчавший почти все время, пока Бен Адир спускался в овраг, раздался снова. Он выходил из углубления, и на этот раз Бен Адир ясно различил громко и внятно произнесенные слова:
– Горе Иерусалиму! Горе храму! Горе городу! Горе всему народу!
Бен Адир успокоился: он знал, что находится вблизи друга, и никто лучше Зеведея – так звали пророка – не мог служить его планам. Ему было известно, что Зеведей – добрый патриот и что имя Симона бен Гиоры послужит хорошей для него рекомендацией.
Он остановился в нескольких шагах от входа в пещеру, служившей обиталищем пророку. Он собирался было войти, но Зеведей снова заговорил, и Бен Адир не мог устоять перед желанием послушать, что будет вещать Божий человек.
– Да! – говорил Зеведей. – Я не перестану до последнего дня испускать мой жалобный вопль: "Горе Иерусалиму!" Он замрет в моем горле только с последним моим дыханием, в тот день, когда язык мой сделается холоден и неподвижен. Не Ты ли велел мне это, Господи, в один вечер, когда голос мой возносился к Тебе, и разве Ты не Всемогущ, Ты, которому повинуются земля и небеса, Который двигает горами, Который одним дуновением Твоим можешь снести их, как мелкие песчинки? Ты потрясаешь твердью земною и Ты в состоянии поколебать столпы мира. Ты приказываешь солнцу – и солнце останавливается, и звезды не высыпают по ночам на твердь небесную. Перед Тобою весь мир – ничто иное, как песчинка, склоняющая весы, как капля росы, падающая по утрам на полевую былинку. И зачем, о Иерусалим, ты забыл слово Божие! Доколе ты будешь продолжать неправедный суд! Ты не сумел быть справедливым к сироте и бедняку, к угнетенному и к несчастному и этим ты навлек на себя всеобщее осуждение; ты не захотел слушать гласа Божьего, ты всегда шествовал в потемках, и вот почему стены твои колеблятся в своих основах [
Псалмы 138 и 81. – «Притчи Соломоновы»].
В это мгновение голос пророка прервал нежный женский голос.
– Зеведей, – произнес этот голос, – тебе нужно отдохнуть. Бог отцов наших не требует от тебя утомления, превышающего твои силы и которое сократит дни твои.
– Нет, я не могу молчать, – ответил пророк, – ибо я слышал трубный звук, до меня донеслись воинские клики [
Псалом 94]. Иегова дал мне дар слова, Он научил меня, и я должен вещать: каждое утро Он будит меня и заставляет меня выслушивать его с покорностью. Тогда в меня входит частица Его мудрости и я не бегу от возлагаемого Им на меня поручения. Я подставил спину мою ударам и ланиты мои пощечинам, и когда мне плевали в лицо, я не отворачивался.
– Зеведей, я рассержусь, если ты не станешь слушаться моих просьб Господь повелел: "не убей", а ты убиваешь дочь своего брата!
Эти последние слова, казалось, подействовали на пророка. Он замолчал. И затем сказал молодой женщине нежным голосом, который составлял поразительный контраст с его недавним возбужденным тоном.
– Не сердись, дитя мое, я этого не желаю, ибо твоя мать закидала бы меня каменьями, если бы я не возвратил ей неприкосновенным сокровище, которое она вручила мне. А что сказал бы Симон, сын Гиоры? Отдохни же немного, Эсфирь, а я займусь приготовлением пасхального агнца, а затем прилягу, прежде чем отправиться для исполнения моего проклятого поручения.
Бен Адир постоял еще несколько минут в надежде, что разговор между дядей и племянницей, во время которого упомянуто было имя Симона, продолжиться, но там замолчали, и поэтому он тихими шагами подошел к отверстию пещеры, закрытому решеткой, окруженной кустарником.
Зеведей был старик высокого роста, несколько сутуловатый, но крепкого телосложения. Седая, всклоченная борода ниспадала на его грудь. На нем надет был балахон из темного полотна, подпоясанный простой веревкой. Обнаженная лысая голова его была посыпана пеплом. Когда Бен Адир вошел в пещеру, старик стоял, точно проповедник, собирающийся с мыслями после изречения божественного слова.
В одном из углов пещеры был разведен костер, на котором жарился ягненок. Это очень удивило Бен Адира.
– Кто ты, неожиданный гость? – спросил пророк, заметив Бен Адира.
– Я друг Симона бен Гиоры, – ответил Эфраим.
Зеведей окинул молодого человек с ног до головы подозрительным взглядом.
– Ты говоришь, что ты друг Симона бен Гиоры? Чем ты можешь доказать это?
– Ничем, – ответил Бен Адир твердым голосом, – а тем не менее я говорю правду.
– Если ты друг Симона, ты должен знать его. Скажи же мне, кто он таков, чем он занимается?
– Симон, сын Гиоры, – начальник защитников священного города. Он мститель Бога живого и столп Его храма.
– Хрупкий столп! – воскликнул пророк и снова заголосил: – Горе Иерусалиму! Горе его храму! Горе его народу!
Он помолчал немного, затем продолжал более мягким голосом:
– Нет ли на лице Симона бен Гиоры какой-либо приметы, которая отличала бы его от других смертных?
– Этого я не знаю, потому что никогда не видел его.
– Ты никогда не видел его, а называешь себя его другом!
– Я такой же друг ему, как и тебе, просто потому, что он любит священный город и защищает его.
– Увы! Он защищает его против самого Господа Бога, который осудил его на погибель. Горе Иерусалиму! Впрочем, не он вызвал на греховный город проклятия Всевышнего, и поэтому проклятие это не должно падать ни на его голову, ни на головы его друзей.
Пророк замолчал, устремив на Бен Адира пристальный взгляд. Затем сказал более ласковым голосом:
– Да, Симон бен Гиора внушает доверие, и друзья его имеют право на нашу дружбу. Но почему же ты на мой вопрос ответил именно тем, что назвал его имя?
– Потому что одно лицо, к которому я питаю полнейшее доверие, сказало мне, что его имя послужит мне рекомендацией при встрече со всеми, кто любит Иерусалим, а я знаю, что пророк Зеведей любит Божий град и не отвергнет тех, которые одушевлены тою же любовью, каким бы образом эта любовь ни проявлялась.
– А кто та особа, которая внушила тебе эту уверенность?
– Этого я не могу сказать.
Пророк нахмурил брови и задумался.
В эту минуту женщина, лежавшая на циновке в углу пещеры, поднялась со своего ложа. Молчание пророка встревожило ее, и она боялась, как бы тот не прогнал незнакомца, который сумел привлечь ее к себе одним только именем Симона бен Гиоры. Она подошла к Бен Адиру и произнесла голосом, сладким, как надежда:
– Добро пожаловать, молодой незнакомец; моему дяде Зеведею хорошо известны законы гостеприимства.
Потому ли, что вмешательство Эсфири рассеяло сомнения пророка, потому ли, что благоприятного впечатления, произведенного с первого раза Бен Адиром, оказалось достаточно для того, чтобы напомнить ему о законах гостеприимства, но только после слов Эсфири он, в свою очередь, сказал:
– Ты мудр не по летам, молодой человек. Ты дельно говорил, но я должен сказать тебе, что ты не понял моего вопроса, когда я спросил тебя, почему ты упомянул в разговоре со мною имя Симона бен Гиоры. Я желал только знать, в каком смысле мне понять твою ссылку на него. Сердце человеческое – глубокая пропасть, ее никто не измерил, и человек, не умеющий поступать осторожно, похож на город, который не возвел стен. Старца украшает опытность; но тот, кто заткнет уши для того, чтобы не слышать просьбы убогого, тоже будет молить и не будет услышан. Я не могу ставить тебе в упрек то, что ты хранишь вверенную тебе тайну. Однако не можешь ли ты мне сказать, для чего тебе нужно видеть Симона, сына Гиорова?
– Я должен передать ему важное поручение; если мне не удастся попасть в Иерусалим, я не в состоянии буду исполнить этого поручения, и мне было бы крайне досадно что я понапрасну совершил такое длинное и трудное путешествие. Но Господь привел меня к твоему жилищу; значит, Он желает, чтобы ты служил мне путеводителем.
– Кстати сказанное слово – то же самое, что золотое яблоко и серебряный сосуд, – сказал пророк мягким голосом. – Ты нравишься мне; в тебе мудрость змея соединяется с мужеством льва. Ты не убоялся опасностей, для того чтоб исполнить желание близкого тебе человека, и ты сумел избежать их. Поэтому, как сказала дочь моего брата, будь желанным гостем в жилище пророка и смело рассчитывай на его содействие. Если тебе не удастся попасть в Иерусалим, то в этом виноват будет не Зеведей. Но уже поздно. Садись, по лицу твоему видно, как ты устал. Раздели с нами нашу скромную трапезу. Бог послал мне на Пасху ягненка. Он никогда не забывает своих верных слуг. Кто же, как не Он, поставил в кустарнике овна, который был принесен Авраамом в жертву вместо сына его Исаака!
Пещера, служившая жилищем Зеведею, представляла собою естественное углубление, которое, по всей вероятности, служило гробницей какого-то святого, разрушенной временем. Оно имело сажени две в ширину и сажени три в глубину. Стены и потолок пещеры были в трещинах. Вправо от входа видно было нечто вроде подземного хода, по которому теперь с трудом можно было пробраться ползком. Две грубые скамьи, поднос из кедрового дерева, кувшин воды и несколько стручьев гороху – вот все, что было в пещере. Светильник, поставленный на высокий камень подле костра, освещал ее слабым и тусклым светом.
Трапеза продолжалась недолго, Зеведей первый поднялся со своего места.
– Нам нужно торопиться, – сказал он, – в первом часу мы должны быть у Овчих врат.
Он приблизился к очагу, взял из него несколько пригоршней золы, посыпал ею свою голову и свою седую бороду и захватил из угла толстую палку, похожую на пастушеский посох.
– Ну, прощай, Эсфирь, – сказал он, – я принесу тебе известия о твоей матери и о Симон бен Гиоре. Отдохни хорошенько; ты устала. Когда мы выйдем, завали за нами входное отверстие и помолись за нас Господу Богу. Горе Иерусалиму и его народу!
Затем он пошел вместе с Бен Адиром по узкой и крутой тропинке, по которой тот недавно спустился. Он шел впереди, и оба они хранили глубокое молчание.
Для того, чтобы достигнуть из Вифании до Овечих ворот, через которые Зеведей хотел войти в Иерусалим, нужно было пройти через селение Веррагу, пересечь долину Иосафатову, подняться на Элеонскую гору и перейти через Кедрон. Пророк совершал этот путь ежедневно, и потому он ему был известен в мельчайших подробностях. Несмотря на свой преклонный возраст, он шел впереди быстрой поступью. Бен Адир, подкрепивший свои силы и одушевляемый надеждой вскоре добраться до цели своего путешествия, не отставал от него. Вскоре они дошли до Елеонской горы; здесь они остановились на несколько минут, чтобы перевести дух, перед ними раскинулся священный город.
В ту самую минуту, когда они достигли вершины Елеонской горы, солнце взошло из-за Аравийских гор и осветило своими лучами Мертвое море. Башни, укрепления, дворцы города осветились золотистым светом, а далее, за городом, можно было различить палатки римского лагеря. Пророк стоял неподвижно, с опущенной головой, вытянув правую руку, опираясь левою на свой посох, слезы текли по щекам его. Вдруг он выпрямился.
– Горе Иерусалиму! – воскликнул он громовым голосом, и эхо разнесло эти слова по горам и долам, точно трубный звук.
Бен Адир испугался. Он видел вдали римские палатки и боялся, как бы римляне, услышав этот крик, не схватили их.
Зеведей отгадал его мысли и сказал:
– Не бойся, я друг римлян. Доступ в Иерусалим закрыт для всех, кроме меня!
Вскоре они дошли до Овчих ворот, в которые Зеведей трижды стукнул своим посохом. Какой-то вооруженный человек показался на стене и, узнав пророка, тотчас же спустился, отворил тяжелые ворота из кедрового дерева и впустил старика и его спутника.
– Ты сегодня что-то поздно, Зеведей, – обратился он к пророку. – Уж не встретился ли ты по дороге с римлянами?
– Нет, римляне еще в своих палатках, спят, напившись вина, похищенного из погребов Израиля.
Пока Зеведей говорил, часовой подозрительно оглядывал Бен Адира.
– А это кто такой? – спросил он.
– Тебе нечего так внимательно его рассматривать: он пустил корни среди избранного народа, и тебе нет дела до того, откуда он родом. Я могу лишь сказать тебе, что он прислан сюда к Симону бен Гиоре с важным поручением от одного из наших друзей.
– Если он прибыл к Симону без оружия и с важной вестью, то ворота Иерусалима откроются перед ним, – сказал часовой.
Затем они были впущены в город. Бен Адир, поклонившись в знак благодарности часовому, повернулся было в сторону пророка, чтобы поблагодарить и его, но тот уже куда-то исчез.
IV
В этот день, когда Бен Адир вошел в город, в среде партии сопротивления должен был произойти решительный переворот. Если бы Бен Адир был ближе знаком с положением дел, то он по одному виду улиц догадался бы о том, что готовится что-то необычайное. Для того, чтобы попасть от Овчих врат в ту часть нижнего города, в которой жил Симон, ему пришлось пройти через довольно большой пустырь, отделявший место расположения войск Иоанна и Симона, и по множеству узких и извилистых переулков, шедших от самой ограды храма. Хотя был еще очень ранний час, однако мужчины, женщины и даже дети высыпали на улицы и всюду заметно было возбуждение. По случаи праздника Пасхи население Иерусалима более чем устроилось. Все иногородные не могли разместиться по домам, и потому везде виднелись тысячи палаток, сделанных из холста или из овечьих шкур.
Провожатый Бен Адира, проходя мимо групп разговаривающих о чем-то людей, неоднократно останавливался; его расспрашивали. Иногда и он осведомлялся о ходивших по городу слухах. Посланный Ревекки, убежденный в том, что все происходящее в Иерусалиме должно интересовать его госпожу, жадно присматривался и прислушивался ко всему, что его окружало. Таким образом он узнал, что между защитниками города не было согласия, что образовались уже три партии, что во главе одной стоял Симон бен Гиора, во главе другой – Иоанн Гишала, а во главе третьей – Элеазар, сын Симона, что последний занимал внутреннюю ограду храма, Иоанн – внешнюю, а Симон верхний город и значительную часть нижнего.
В то время как они проходили мимо группы вооруженных людей, сидевших на земле у входа в большую палатку, они вдруг услышали чей-то голос.
– Да, да, он изменяет нам, – сказал один из сидевших.
Силас – так звали проводника Бен Адира – остановился.
– Кто изменяет? – спросил он того, кто произнес эти зловещие слова.
– А, это ты, Силас! Но как же ты можешь спрашивать меня, кто изменяет? Кто же способен на такое преступление, кроме Элеазара, сына Симонова. Если Иоанн Гишала и Симон бен Гиора не соединятся против него – несдобровать священному городу, и мы сделаемся добычей воронов.
– Катлас прав, – вставил свое слово другой. – Элеазар принадлежит к партии первосвященника, а тот вместо того, чтобы явиться первым защитником священного храма, отрекся от своей веры и желает отдаться в рабство. Я его прежде хорошо знал. Элеазара, равно как и его наперстника Захария бен Анфикана, который так же, как и он, из священнического рода. Они оба – волки, забравшиеся в овчарню. Нужно истребить их, если мы сами не желаем умереть.
– Однако Элеазар показал себя с хорошей стороны, – заметил Силас. – Он принес нам большую пользу в первую нашу вылазку против римлян; он столько же благоразумен, как и храбр; у него голова и рука на месте. Ведь это он посоветовал нам держаться сначала в засаде, дать Титу дойти до Псефимонской башни и затем выйти из ворот напротив Еленинской гробницы, около Бабьей башни, с тем чтобы напасть на него с фланга и отрезать его кавалерию. И вы знаете, что его план удался: Тит с небольшой свитой оказался отрезанным от главных своих сил и чуть-чуть не попался в наши руки.
– Да и лев храбр, – ответил тот, которого назвали Катласом, – а все же он животное коварное. Элеазар пристал к нам только для того, чтобы занять первое место; ныне же, обманувшись в своих честолюбивых надеждах, он идет на попятную и уже не подставит свою шкуру римлянам, ручаюсь вам в том: он из породы Иосифов и Ананиев. Дрожжи честолюбия и зависти заставили подняться в его душе тесту измены…
– Если только эти дрожжи не текут из-под пресса, – вставил свое слово один из воинов.
– Ах да, я и забыл тебя спросить, – сказал Катлас, – расскажи-ка нам, Захарий, что тебе известно об этом человеке, которого ты однажды посетил в его берлоге.
– Верно сказано, Катлас, именно берлога, – произнес Захарий, вставая и приближаясь к Силасу. – Симон бен Гиора послал меня с каким-то поручением к этому дикому зверю; я и застал его в его пещере; вокруг него лежали пустые кувшины из-под вина. Когда я вошел, Элеазар лишь с трудом поднялся с кедрового стула, на котором он сидел согнувшись; в руках он держал большую чашу, которую выпил залпом. Некоторые из его друзей, сидевшие вокруг него, последовали его примеру.
– И эти негодяи пьют жертвенное вино, – заметил Катлас. – Для чего же он торопился немедленно по прибытии своем в Иерусалим занять внутренний храм, если не для того, чтобы наложить руку на жертвоприношения.
– То, что я видел, нисколько не опровергает установившуюся за ним репутацию пьяницы, – продолжал Захарий, – и каких же только гнусностей он не совершил, прежде чем присоединить свои силы к нашим! Так, видели, что он поджигал дома, и притом не во время вылазок против римлян, а во время нападений своих на Симона и несмотря на то, что дома эти были переполнены хлебом и другими съестными припасами. Таким образом он уничтожил то, что было приготовлено на время осады и что дало бы нам возможность продлить сопротивление и, быть может, заставить неприятеля снять ее. Поговаривают об измене его, и, по-видимому, не без основания…
– Это так же ясно, как ясна вода из Силоамской купели, – сказал Катлас. – Чтобы в этом сомневаться, нужно бы иметь глаза, для того чтобы не видеть, и уши, для того чтобы не слышать. Он, очевидно, желает передаться римлянам.
Какая-то старуха, лежавшая до сих пор на земле, укутанная во что-то черное, услышав эти слова, вскочила на ноги и воскликнула:
– Кто говорит о сдаче римлянам! Кто осмеливается произносить такие слова! Разве храмы уже разрушены? Разве Силоамский источник иссяк? Разве родные матери пожрали своих детей?
Раздался другой женский голос, настолько же робкий и нежный, насколько первый был резок и горделив.
– Матушка, – произнес этот голос, – не вмешивайся в рассуждения мужчин. Их дело разобрать, достаточно ли мы уже настрадались, или нет; тебе не пристало подзадоривать их. Наш слух и без того днем и ночью только и поражают, что клики сражающихся, стоны раненых, вопли умирающих; глаза наши и без того ничего не видят, кроме ран, крови, непохороненных трупов, бледных и изможденных лиц, груд наваленных друг на друга тел, которых топчут ногами, которых наваливают на укрепления и которые служат укрытием сражающимся…
– Замолчи, несчастная! Что тебе, жалкой рабыне, хочется и детей твоих видеть рабами? Если их ожидает такая участь, то пусть они лучше возвратятся к тому ничто, из которого они только что вышли.
– Молчите, женщины! – закричал Катлас, который был мужем одной из них и сыном другой. – А ты, Силас, если увидишь Симона бен Гиору, не забудь сказать ему, что он может рассчитывать на нас и что слезы наших женщин не ослабят нашего мужества.
Слово "измена" переходило из уст в уста. Бен Адир заметил даже, что оно стало произноситься все чаще и чаще по мере того, как они приближались к ставке Бен Гиоры.
Предводитель "непримиримых" занимал со своими войсками большую часть Иерусалима: верхний город, большую стену, господствовавшую над Кедронской долиной, часть старой стены, тянувшейся от Силоамской купели до дворца Монобаза, царя Абухбенов, а также часть нижнего города до дворца Елены, матери Монобаза. Здесь же был и дом Симона, который частью был похож на дворец, частью на цитадель. Цитадель эта была построена на отвесной скале 60 футов вышины, что делало ее недоступной со всех сторон. Скала была облицована белым мрамором, столь гладким и скользким, что по нему нельзя было ни подняться, ни спуститься. Главная башня была окружена стеной, имевшей 80 футов в окружности. По четырем углам стояли четыре другие башни, образуя собою четырехугольник; три из них имели по 80 футов высоты, а четвертая – 120; эта последняя господствовала над горой и двумя долинами уходившими на восток.
Внутренность жилища вполне соответствовала обстановке дворца. Тут были роскошные покои с многочисленными ваннами, с помещениями для женщин, в которых роскошь, заимствованная у римлян, соединялась с роскошью Востока. Здесь когда-то жили и цари Иудеи, и римские губернаторы; здесь было достаточно места для довольно значительного гарнизона.
Для того чтобы добраться до жилища Симона, Бен Адиру и его спутнику пришлось пройти почти сквозь целую армию. Под начальством Симона было более 15 000 человек регулярного войска, и жители Иерусалима и Иудеи, которых он разделил на небольшие отряды в 200 человек каждый, и, кроме того, 5000 идумеян, главными начальниками которых были Солфа бен Иаков и Катлас бен Симон. Вокруг дворца Симона раскинуты были шатры из овечьих или верблюжьих шкур, а пятьдесят палаток из полосатого холста были заняты предводителями. Лагерь этот раскинут был на большом пространстве и спускался по отлогим склонам горы до Тиропейской долины, отделявшей верхний город от нижнего. К шестам, воткнутым в землю около палаток, привязаны были лошади идумеян; рядом с лошадьми лежали на земле верблюды, которым предназначено было вскоре служить пищей для их хозяев. Воины, стоявшие неподвижно с мечами у бедер и с луками и стрелами у ног своих, по-видимому, ждали какой-то команды начальников. Во всем лагере царило мрачное молчание; не было слышно ничего, кроме шагов бдительных часовых, расставленных вокруг лагеря.
Силас был хорошо известен в рядах "ревнителей", к числу которых он принадлежал; всем было известно, что он пользуется доверием Симона. Поэтому его и Бен Адира всюду беспрепятственно пропускали; разве только бросали любопытный взгляд на его спутника. Они прошли через весь лагерь и вскоре были допущены к Симону бен Гиора В ту минуту, когда посланный Ревекки, пройдя по многим и длинным коридорам, входил в сопровождении Силаса в комнату, где был Симон, тот сидел возле мраморного стола, покрытого свертками папируса. Симон казался погруженным в глубокую задумчивость.
Увидев вошедших, он встал и пошел навстречу Силасу, не обращая внимания на Бен Адира.
– Ну, нет ли чего новенького, Силас?
– Да вот, все говорят, что Элеазар готовит измену.
Симон стоял, скрестив руки на блестящих латах. Слова Силаса, казалось, не удивили его.
– Так ты говоришь, что все уверены в измене Элеазара? – сказал он. – Хорошо, допустим, ну а каково же твое мнение, Силас?
– Душа человеческая – потемки, – ответил Силас уверенным голосом, – я не могу читать в душе Элеазара, но я сужу по внешним признакам и невольно пугаюсь. Общий голос обвиняет его, а глас народа – глас Божий. К тому же и прошлое Элеазара таково, что оно вполне оправдывает подозрения. Все признаки, даже в глазах наименее предубежденных людей, говорят против него.
– Но ведь признаки эти могут быть обманчивыми.
– Все же благоразумие заставляет нас принимать их в соображение. Человеку, руководствующемуся благоразумием, приходится часто идти по неудобному и каменистому пути, но все же оно не приведет его к пропасти. Конечно, не мне пристало давать тебе, Симону, советы и напоминать о необходимости быть бдительным и мудрым. Я сказал достаточно, остальное – твое дело.
– Нет, продолжай, Силас, и выскажи мне все, что ты думаешь. Пути праведника верны, а ты – праведник. Слово мудреца может служить поощрением, а ты пользуешься славой мудреца.
– Хорошо, я продолжу… Кому неизвестно, как поступал Элеазар за последнее время? Он всячески добивался верховной власти, он не переставал твердить, что отданная под его начальство армия будет лучшим щитом и мечом Израиля. А теперь он говорит, что дальнейшее сопротивление немыслимо, что оно было бы верхом безумия. Если он не верит в возможность сопротивления, почему же он не отказывается от начальствования? К тому же известно, что именно он велел сжечь запасы. Этого одного было бы достаточно для того, чтобы доказать его преступные замыслы… Мудрец сказал, – продолжал Силас, – "не давай сильным мира сего вина, дабы они не забыли справедливости и интересов бедных". А между тем жизнь Элеазара – беспрерывная оргия; он не приходит в совет иначе, как отуманенный винными парами. Кто же виноват в наших бедствиях? Тот, кто проводит время в пьянстве, а ведь вино – это жалящая змея; оно, подобно змеиному яду, проникает в кровь и отравляет мозг. Чего ждать от того, мысли которого ежедневно тонут в опьяняющей его жидкости? Прежде чем Иоанн из Гишалы переменился, сошедшись с тобою, какое зрелище представляло его войско? Воины его наряжались, причесывались, румянились, точно женщины, и не только старались подражать в своих прическах бесстыдству суетного пола, но даже превосходили их. Их можно было видеть расхаживавшими по нашим улицам медленной и жеманной походкой. Они одеты были в тирский пурпур, а на головах у них были венки из Иерихонских роз. Не верь кутилам, которые говорят: "Давай пить, наряжаться, срывать цветы нашей молодости и увенчивать чело наше розанами прежде, нежели они завянут!" От таких людей прока не будет, они неспособны ни на что великое. Не надушенным рукам сломить тирана, не им завоевать и сохранить за собою обетованную землю!
Симон слушал его молча.
– Благодарю тебя, – сказал он наконец, вставая, – ты – добрый советник. Я поразмыслю о том, что ты сказал мне, и постараюсь воспользоваться этим. Мы раздавим голову змее. Но скажи мне, кто этот молодой человек, с которым ты пришел? Без сомнения, это друг, иначе ты не говорил бы так откровенно в его присутствии?
– Я, собственно, не знаю, кто он такой. Его привел ко мне Зеведей. Он сам объяснит тебе все.
– Ну, говори, – сказал Симон, обращаясь к Бен Адиру, – кто ты такой и кто тебя послал?
– Ты узнаешь это, прочитав письмо, – ответил Бен Адир и, подойдя к Симону, вынул из-за пояса письмо Ревекки.
Между тем как Симон читал письмо, Бен Адир наблюдал за ним с тем любопытным и страстным вниманием, с которым он относился ко всему, что касалось его госпожи. Сначала ему показалось, будто какое-то легкое облачко прошло по лицу Гиоры, но затем по губам его скользнула легкая улыбка.
Окончив чтение, Симон оставался несколько мгновений погруженным в задумчивость, затем, взглянув на Бен Адира, ласково сказал:
– Ты, молодой человек, достойный и храбрый юноша. Та, которая послала тебя, хорошо знала, кому довериться. Ты вполне достоин того, чтобы содействовать великому делу, которому она посвятила себя.
Бен Адир поклонился, польщенный похвалой.
Симон встал, надел на голову шлем и собрался уходить.
– Что же мне сказать госпоже моей в ответ на ее письмо? – спросил Бен Адир.
– Пойдем с нами, ты просто расскажешь ей то, что сам увидишь и услышишь. Неприятель обложил город; дороги небезопасны. Счастье не всегда благоприятствует самоотверженным людям, и поэтому наши тайны будут лучше сохранены в твоей памяти, чем в твоем поясе, несмотря на всю твою ловкость и все твое мужество.
И с этими словами он стал спускаться с высеченных в утесе ступенек и в сопровождении Силаса и Бен Адира, направился к храму, где его ждал Иоанн Гишала.
V
Между той частью города, которую занимал Иоанн Гишала, и той, в которой расположился со своими войсками Симон, лежал обширный пустырь. Здесь неоднократно происходили ожесточенные схватки партий до тех пор, пока под влиянием Бен Гиоры они не убедились в необходимости соединить все свои силы против римлян; но следы происходивших здесь стычек еще сохранились. Земля здесь была усеяна обломками разного рода оружия. Небольшие холмы указывали на те места, где были похоронены мертвые; кое-где еще виднелись человеческие кости. Римский амфитеатр и школа саддукеев, расположенные невдалеке от храма и служившие укреплениями Иоанну Гишале или Элеазару в дни боя, были почти совершенно разрушены; кое-где стены этих зданий были в копоти. Кругом валялись обгорелые бревна, разбитые колонны.
Это пространство являлось нейтральной почвой. Здесь собирались вожди – Симон, Иоанн и Элеазар, когда им нужно было о чем-либо посоветоваться между собой. Несмотря на сближение, последовавшее между ними, они нашли нужным сохранить ту позицию, которую они занимали до прибытия римлян; да и между войсками их сохранилась еще известная обособленность; идумяне Симона ненавидели галлилеян Иоанна. Симон пользовался авторитетом среди своих войск, и он был вполне уверен в их повиновении; но что касается Иоанна, то скорее он слушался своих подчиненных, чем приказывал им. Впрочем, его сдержанность и осторожность заслуживали похвалы, ибо достаточно было бы одной искры, чтобы произвести всеобщий пожар. Что касается Элеазара, то не одни только соображения благоразумия заставили его настаивать на том, чтоб именно ему предоставлена была защита храма: им руководили в этом случае иные, далеко не похвальные побуждения, которые и не замедлили обнаружиться.
Посреди площади возвышался громадный шатер, обтянутый белым и красным холстом и прикрепленный толстыми канатами к дубам Иорданской долины. Над ним возвышался купол из красного сукна; на том конце его, который был обращен к храму, был выстроен помост, покрытый темным сукном и уставленный скамейками; на противоположном конце два громадных кедровых бревна, врытые в землю, к которым был привешан в виде занавеса большой разноцветный ковер, заменяли собою дверь. Для того чтобы не допускать к шатру зевак и любопытных, был протянут вокруг него канат; вообще же гражданам не возбранялось присутствовать при совещаниях совета под тем лишь условием, чтоб они не мешали. Ограда и сам шатер были убраны черными флагами, и вообще вся серьезная и даже несколько мрачная обстановка как нельзя более соответствовала обстоятельствам.
Было условлено, что каждого из трех предводителей будут сопровождать в заседание совета пятьдесят лиц, но что только предводители будут вооружены, так как опасались, что в пылу спора могли произойти ссоры, которые вызвали бы вооруженное столкновение партий; совет состоял, кроме трех предводителей войска, из членов синедриона, представителей синагог и наиболее популярных должностных лиц, пользовавшихся расположением народа. Члены совета заняли свои места: предводители войска посреди помоста, старейшины по сторонам. Многочисленная толпа, сосредоточенная и внимательная, стояла вокруг ограды.
Бен Адир вошел вместе с Силасом. Ему разрешено было войти за ограду в качестве вестника, прибывшего с важным поручением. Он с уважением смотрел на собрание и пожелал узнать имена всех. Силас показал ему наиболее известных людей, составлявших вместе с Элеазаром, Симоном и Иоанном верховный совет.
В наружности Иоанна Гишалы не было ничего такого, что оправдывало бы установившуюся за ним еще до осады Иерусалима репутацию храброго и опытного полководца. Невысокого роста, курносый, с плоским лицом, с мутными глазами, он походил скорее на переодетого левита, чем на воина. Однако он был храбр до отчаянности: тысячу раз видели его хладнокровно кидающимся в самую гущу битвы. Он любил славу – и в этом заключалась тайна его храбрости; он готов был бы выступить один против целой армии. Он сражался только для того, чтобы впоследствии иметь случай сказать, как он сражался. Вся его душа была на устах его. Ионафан довольно верно отзывался о нем, что у него были золотые уста и свинцовый меч.
Когда к Иерусалиму подступали римляне, народу показалось, что он нашел в Иоанне нового Иуду Маккавея, нового спасителя Израиля; но сами события не замедлили опровергнуть это странное заблуждение: Иоанн Гишала походил на Маккавеев разве только благочестием своим, да и благочестие это было не искренне: все оно исчерпывалось внешнею обрядностью; в этом отношении он был настоящий фарисей. Охотнее всего он находился в обществе левитов-снотолкователей. Он составил и спрятал в верное место какой-то необыкновенный план защиты в полной уверенности, что весь успех плана зависит от того, где тот хранится. Он был до того суеверен, что ни за что не решился бы ни на малейшую стычку в тяжелый день; он самым внимательным образом наблюдал за тем, чтобы каждое утро вставать непременно на правую ногу, и он счел бы себя навсегда погибшим, если бы ему когда-нибудь пришлось встать на левую.
Другой вождь, Элеазар бен Симон, хотя и происходивший из касты священников, был, в сущности, не что иное, как искатель приключений, человек совершенно беспринципный, поклонявшийся только одному богу – жажде наслаждений. Как человек честолюбивый и жадный, он добивался власти только для того, чтобы умножить источник для веселой жизни. Как только счастье начало ему улыбаться, он сказал сам себе: "Весь обширный мир Божий, со всеми его наслаждениями, будет мой!" Дни свои он рано стал проводить в оргиях, а ночи – в самом утонченном разврате. У него был целый гарем, не хуже Соломонова, и он со снисходительным сожалением относился к Давиду, сумевшему отбить только одну жену. Его лысая голова, его плоское и некрасивое лицо, его тусклый и безжизненный взор ясно свидетельствовали о пороках, гнездившихся в душе его. Ему нельзя было отказать в храбрости, и в первых битвах с Веспасианом он даже стяжал репутацию искусного полководца, но ум его, как и душа, не имел в себе ничего возвышенного; он был мелочен по природе, мелочно-храбр, мелочно-хитер, мелочно-умен; если бы у иудеев существовал обычай носить эмблемы, то он с полным правом мог бы нарисовать на своем знамени изображение шакала. Он был обязан возвышением своим гораздо более хитрости, чем смелости, но хитрость же впоследствии и погубила его; он был женолюбив и не замедлил попасть в ловушку, расставленную ему женщиной.
Вождь зекенимов, призванный народом в совет обороны, назывался Зоробабелем бен Анания. Вся его сила заключалась в его красноречии. Оно стяжало ему громкую репутацию во время управления внука Ирода Великого Агриппы, и оно же заставило не раз трепетать алчных и кровожадных проконсулов, которых Рим посылал в Иерусалим: Пиалиса, Перса, Гора, Альбина. Его львиная голова, обрамленная густыми седыми волосами и длинной белой бородой, его вздернутые презрительно губы, его голос, то звучный, как труба, то мелодичный, как цитра, его спокойное, но мужественное и твердое в самых бурных народных собраниях поведение, – все это отвело ему почетное место в глазах народа. Греки, жившие в Иерусалиме, любили слушать его, и им казалось, что устами его говорит их излюбленный оратор Демосфен. Когда вспыхнуло последнее восстание – чему он немало содействовал своим могучим словом, – народ возложил на него большие надежды. И хотя действительно ум его был равен его красноречию, однако он не оправдал возлагавшихся на него надежд. В первое время осады он обращался к жителям города с громкими героическим фразами, которые возбуждали их мужество; но этим все и ограничилось: внутреннее пламя в нем вскоре потухло, даже голос его как будто спал, и душа его, вместо того, чтобы, по мере возрастания опасности, становиться все более и более возвышенной, напротив, как будто измельчала. Он не был счастлив, он много выстрадал, ему изменяли; он вдруг утратил веру в самого себя. Но тем не менее личность его остается одной из самых крупных и самых неверно понятых личностей этой эпохи.
Над ним тяготели два гибельных влияния, которые оба увлекали его в одном и том же направлении: влияние Матафии бен Мардохея и Филона бен Эздры.
Матафия обязан был своей популярностью тому посту, который он занимал, и скорее уму своему, чем красноречию, хотя он и причислялся к выдающимся ораторам. Он говорил красно, умно и не без огонька, но в то же время несколько напыщенно; в его речи было более блеска, чем души. Будучи воспитан в школе саддукеев, он весь был пропитан духом этой секты и ее, в сущности, безнравственным учением. Счастье представлялось ему конечною целью жизни, и к этой-то цели он и стремился в погоне за славой. Толстый, широкоплечий, пышущий здоровьем, с лицом, блестящим, как сардоникс, вечно сияющий, как молодой супруг, входящий в комнату новобрачной, он как будто так и хотел сказать: "Я – полевой цветок, я – лилия долины, я – елей благоуханный, вылитый на голову первосвященника и стекающий на его бороду и на его одежду, я – Хермонская роса, опускающаяся на священную долину, на Сион, куда Господь поместил вечное блаженство" [
Песнь песней]. Он был убежден, что предназначен к чему-то великому; ангел Господен, явившийся к Гедеону и сказавший ему: «Иди, тебе суждено избавить Израиль», – являлся и ему, по крайней мере во сне. Когда на него находило вдохновение, он готов был поставить на кон свою жизнь, подобно Зевулону, взойти на холм, подобно Нафтали, и восстать, подобно Деборе, матери Израиля. Он вступил в совет обороны только для того, чтобы быть в нем представителем партии саддукеев, голос которых, по его убеждению, был гласом народным. Ионафан говорил о нем: «Матафия, все равно будет ли он победителем или побежденным, все равно сумеет извлечь для себя пользу; он готовит себе великолепный пестрый плащ и уже выбрал себе ленты для того, чтобы украсить свою голову».
Рядом с ним стоял и Филон бен Эздра, пользовавшийся также большим влиянием благодаря гибкости
своего ума. Он пользовался, и не без основания, репутацией талантливого и ученого человека; он обладал всеми кладезями мудрости, ознакомился со всеми источниками светской науки. Он был прекрасно знаком с историей Греции и Рима; мудрецы этих народов завещали ему свои сокровища, и он, как хороший оратор, охотно расточал их мудрость перед жадно слушавшей его толпой; никто из партии "ревнителей" не умел говорить красноречивее его о Боге и о свободе. Но это был маяк, зажженный для того, чтобы, смотря по обстоятельствам, или светить другим, или вводить их в заблуждение. По убеждениям своим он был "ревнитель", по образу жизни – фарисей. Публично он говорил: "Лучше пойти в дом печали, чем в дом пиршеств и радости", – а между тем он не пропускал ни одного роскошного пира, он любил блеск и мишуру. Филон в молодости, в минуты увлечения, совершал честные поступки; гордость помешала ему впоследствии совершать поступки бесчестные. Жизнь; его походила на поэму, и первая его песнь, благородная и гармоничная, задала тон и остальным песням: он из гордости остался верен хорошему началу своей жизни, но при обыденном течении жизни, будничной и мелочной, низменные стороны души стали преобладать, возвышенные взгляды все понижались. Мудрость стала проявляться только проблесками, проповедник обнаруживался только минутами. Но странный это был проповедник: голос его дрожал от слез, а сам он оставался холоден; он высказывал возвышенные вещи, которые, однако, никого не возвышали; он произносил горячие фразы, которые, однако, никого не грели. Объездив весь мир, он не видел никого, кроме самого себя, видев все, что творится на белом свете, и найдя, что все – суета сует и всяческая суета, он сделал исключение только для самого себя и воздвиг на развалинах дворец для своей горделивой личности.
Эти три человека, друзья Флавия, отказались, правда, позже, чем он, от сопротивления римлянам, но тем не менее они во многом были похожи на него и преследовали, в сущности, одинаковые с ним цели; они оставались на своем опасном посту, только будучи связаны обстоятельствами прошлой своей жизни. Но тот, кто сумел бы заглянуть поглубже в их душу, легко заметил бы в ней зародыши слабости и желания стяжать славу без жертв. В заседаниях совета они почти всегда склонялись на сторону Иоанна Гишалы и Элеазара, не будучи, однако, способны на измену, как последний, и менее убежденные в конечном торжестве своего дела, чем первый. Популярность их уравновешивала популярность более смелых и убежденных партии "непримиримых", таких как Симон бен Гиора.
Среди "непримиримых" особенно выделялся старик Иоазар бен Матис. Основательное его знакомство с Пятикнижием Моисея, его гуманность и благотворительность были известны всему городу. Пристав в решительную минуту к партии "ревнителей", он благодаря своим нравственным качествам и своему красноречию не замедлил занять в ней выдающееся место. Преклонный возраст его несколько ослабил силу его воли, но намерения его всегда были честны, и всегда достаточно было одного слова Симона, чтобы снова придать ему решимости и твердости в те минуты, когда он начинал колебаться. Бог дал ему мудрость и красноречие, и он не скрыл этих даров Божиих под спудом. Он избрал себе девизом мудрое изречение Соломоново: "На свете немало золота, несчетное число жемчужин, но драгоценнее всего этого – уста мудреца". Природа создала его далеко не красавцем; но, когда он говорил, всякому невольно вспоминались следующие слова библейского мыслителя: "Не хвалите этого за его красоту, не презирайте того за его некрасивость: пчела – ничтожное насекомое, а мед ее сладок". Слово его напоминало собою звуки, извлекаемые из золотой арфы Давида; изречения его напоминали собою изречения Самуила и Соломона.
Рядом с ними был Ионафан бен Гамлиель, по прозванию стрелец. Он происходил от одного из древнейших родов Израиля; предки его отличались в войнах против египтян, ассириян и персов. Хотя он и происходил из священнической семьи, однако присоединился к партии "ревнителей" и стал служить делу свободы и независимости своего народа с беззаветной храбростью и с блестящим умом, каждая искра которого жгла и клеймила. Он не переставал направлять стрелы своего остроумия против скупости Веспасиана и против любовных похождений Тита и Береники. Он, подобно древним пророкам, собирал народ на улицах, на площадях, у колодцев, на горах и на пригорках и начинал пробирать своих недругов, изобличать и бичевать их, возбуждая восторг и негодование своих слушателей. Он не щадил пороков и преступлений; он срывал маски с лиц фарисеев и разоблачал их притворную добродетель; не менее доставалось от него и саддукеям. Он иронически относился к праздникам и субботам, к постам и различным торжествам, в которых внешний блеск совершенно вытеснил внутреннее содержание; он зло смеялся над лицемерами, старавшимися на улицах и в синагогах выставлять напоказ свое мнимое благочестие. Он отлично умел выставить несоответствие слов с делом, поднять на смех лжемудрецов и святош. Ирония в устах его была острее меча, разрушительнее метательного снаряда. Высокий, худощавый, лысый, бледный, с блестящим, как будто несколько воспаленным взором, он по наружности походил на аскета, высохшего в пустыне. Однако образ жизни его ни в чем не напоминал собою образ жизни древних пророков; он и не думал питаться акридами, пить только ключевую воду; он постоянно вел образ жизни, соответствовавший его высокому положению в обществе; но согревавший его внутренний огонь все очистил, и народ многое простил ему, потому что он много любил.
Флавий говорит, что у партии "ревнителей" не было недостатка в шпионах, без которых, впрочем, и трудно было бы обойтись в военное время: когда человек сделался врагом других людей и волком глядит на своих ближних, то он неизбежно должен соединять силу с хитростью. Начальником над ними был Силас бен Силас. С первого взгляда нельзя было заметить у Силаса тех качеств, которые необходимы для этой должности; вся его фигура изобличала скорее силу, чем хитрость. Небольшого роста, широкоплечий, плотный, он представлял собой как будто самую заурядную личность. Но пристальный взгляд его черных, впалых глаз пронизывал точно меч, его отрывистый, резкий и твердый голос, его сжатые тонкие губы, его невозмутимо-спокойное лицо, принимавшее в минуты опасности ироническое выражение, выдавали в нем человека недюжинного, одаренного твердой волей. Он имел способность легко распутывать самые запутанные интриги, искусно ставить ловушки своим врагам и побивать их собственным их оружием. У него не было недостатка в врагах, чему много содействовала резкость его манер: видя его постоянно мрачным, сосредоточенным, нелюдимым, посторонние невольно думали, что он преисполнен злобы; только проницательный человек мог бы разглядеть под этой обманчивой поверхностью яркое пламя глубокой веры; на ней сосредоточены были все его привязанности и все его страсти. Он был безусловно предан Симону, видя в нем человека действительно сильного и единственный источник спасения.
Асмоней, человек смелый, красивый, привлекал и останавливал на себе с первого взгляда всеобщее внимание и расположение. Природа одарила его гибким, блестящим умом и всевозможными талантами. Скульптор, музыкант, поэт, он в состоянии был бы обратить на себя внимание и в мирные времена. Находчивый, решительный, не зная усталости, он посвятил все эти драгоценные качества на служение святому делу, и, хотя в нем и не особенно было развито чувство дисциплины, он, однако, был всецело и слепо предан Бен Гиоре.
Ардель, ближайшее доверенное лицо Симона, казалось, не был создан природой для той роли, которую ему пришлось играть возле его друга; он скорее был мыслитель, чем деятель; его можно было принять за эссеянина, случайно попавшего в военный стан. Человек еще молодой, лет под тридцать, белокурый, с голубыми глазами, с правильными и чистыми чертами лица, которое любой художник с удовольствием взял бы моделью для изображения молодого бога, он обладал таким красноречием и такою убедительностью слова, что, несмотря на его молодость, пользовался величайшим авторитетом в военном совете. Обязан он был ему своим здравым и трезвым умом, широте взглядов. Он был умен не по летам, и страсти не помешали правильному развитию его счастливой, богато одаренной натуры; он вырос точно ливанский кедр, которого скалы все время защищали от влияния ветров и бурь. Будучи воспитан в школе саддукеев, он, однако, с ранних лет сумел выйти за пределы, обведенные вокруг него софистической наукой, и почерпнул мудрость в греческой философии. Это обстоятельство, а равно и основательное знакомство его с духом Моисеева учения, немало содействовало широкому и правильному развитию его души и ума. Великие мысли, обретенные Моисеем в пустыне и выраженные в его Пятикнижии, осветились в его уме еще и блестящими лучами греческой философии. Он пристал к партии "ревнителей" потому, что видел в них смелых борцов за те истины, от торжества которых, по его глубокому убеждению, зависели судьбы человечества.
Все эти лица вошли в шатер, Симон, Иоанн Гишала и Элеазар прибыли в сопровождении своих ближайших помощников.
Распространился слух, что заседание это созвано было для того, чтобы судить некоторых людей, обвинявшихся в намерении выдать Иерусалим римлянам и давно уже заключенных в темницах. Ввиду этого слуха наплыв любопытных был громаден, и в толпе преобладало убеждение, что виновные должны подвергнуться примерному наказанию. Под влиянием этого впечатления вокруг шатра еще до прибытия верховного совета замечалось сильное волнение и слышались громкие разговоры. Женщины подливали еще более масла в пылавший и без того уже ярким пламенем очаг ненависти и мести, который разгорелся из-за слухов об измене. Одна из них остановила Ионафана, пробиравшегося сквозь толпу, и сказала:
– Ты-то исполнишь свой долг, я в этом уверена. Ты забудешь, что виновные – царского рода.
– Все равны перед законом, – сказал Ионафан, наклонив голову.
– И перед Господом Богом, – добавила женщина.
– А разве это не все равно? – произнес он с лукавой улыбкой.
– Ну, что там еще! – воскликнул Матиас. – Молчите, женщины!
Молодая женщина кинула на Матиаса сердитый и раздраженный взгляд и сказала:
– А почему бы женщинам не иметь такого же права говорить?
– Они получат это право, когда научатся сражаться, – ответил Матиас.
– Да ведь они вдохновляют мужчин на борьбу, – вмешалась в разговор другая женщина, – для тебя, Матиас, ведь это не новость; ведь ты же сын Елизаветы.
– Ладно, ладно, – ответил Матиас более мягким голосом, – но дело теперь не в этом, а в том, что все должны замолчать. Вот уже встает Иоанн Гишала и судей сейчас пригласят произнести свой приговор.
В заседаниях совета по очереди председательствовали главные военачальники; в этот день председательствовал Иоанн Гишала. Он взглянул на толпу ласковым взглядом, в котором замечалось, однако, некоторое волнение, так как ему известно было, что народ желает строго наказать виновных, сам же он скорее склонялся к более мягким мерам.
– Нам предстоит обсудить, – начал он, – как поступить с заключенными Антипатом, Зевией, Софией и их сообщниками, обвиняемыми в намерении впустить римлян в Иерусалим. Обвиняемым следует предоставить все средства к защите, – продолжал он, возвышая голос, – а доверие народа – лучшая награда для судей.
Водворилось глубокое молчание. Иоанн сел, а со своего места поднялся Элеазар.
– Не лучше ли было бы, – сказал он, – подождать окончания войны, чтобы затем уже решить участь обвиняемых? Умы тогда успокоятся, и нам можно будет внимательнее прислушаться к голосу нашей совести. Страсть – плохой советник в подобного рода делах.
Удар грома, внезапно разразившийся бы среди безоблачного неба над Елеонской горой, менее поразил бы толпу, чем эти слова. В глазах большинства Элеазар моментально превратился из судьи в сообщника; у всех явилась мысль, что он обещал римлянам спасти обвиняемых, так как всякое другое объяснение казалось немыслимым. Все с нетерпением стали ждать, чем кончится все это дело; все устремили вопрошающие и встревоженные взгляды на лица судей.
Судей неожиданное предложение Элеазара поразило, по-видимому, не менее сильно, чем толпу, хотя и не всех одинаковым образом. Иоанн Гишала, Зоробабель, Матиас и Филон, казалось, были не прочь присоединиться к предложению Элеазара. Они плохо верили в успех обороны и желали на всякий случай сохранить за собою поддержку саддукеев. Однако ввиду весьма недвусмысленного настроения толпы они не решались прямо высказать свое мнение. Иоазар также склонялся на их сторону; хотя он и не сомневался в виновности обвиняемых, но он считал необходимым соблюдение формальностей процесса. Остальные члены совета лишь с трудом сдерживали свое негодование.
Еще прежде, чем улеглось волнение, вызванное предложением Элиазара, и восстановилась тишина, Силас, наклонившись к Симону, шепнул ему на ухо: "Я бы хотел кое-что сказать".
Но Иоазар, услышав эти слова, сказал: "Не лучше ли выслушать прежде всего Ионафана? Подсудимые – царского рода, а так как Ионафан тоже царского рода, то исходящее от него обвинение имело бы более веса".
Ионафан встал и заговорил:
– Не время пускаться в длинные рассуждения теперь, когда римляне устанавливают свои метательные машины, для того чтобы разрушить город и храм наш. Я поэтому ограничусь только одним вопросом: желаем ли мы защищать Иерусалим или нет? Желаем ли мы обороняться серьезно или же только делать вид, будто обороняемся?
Толпа принялась неистово хлопать. Члены совета, наиболее склонные к умеренности и уступчивости, не решились пойти против общего мнения ввиду недвусмысленного настроения толпы и хранили молчание. Один только Элеазар отважился стоять на своем. Он поднялся с места и сказал, окинув толпу злобным взглядом:
– Наш молодой стрелец неверно понял мою мысль: вопрос идет вовсе не о том, должны мы или не должны обороняться; вопрос этот уже решен, ибо мы обороняемся. Теперь же вопрос заключается только в том, следует ли судить обвиняемых теперь, когда страсти возбуждены, когда мы легко можем совершить несправедливость, или же лучше подождать более спокойных, более удобных для правосудия времен. Вот в чем весь вопрос.
– Когда нам угрожает серьезная опасность, – возразил Ионафан, – умеренность легко может стать обоюдоострым мечом; она может уподобиться развратной женщине, сердце которой – силок, а руки – цепи; она может повести к тому, что сам охотник запутается в расставляемых им сетях. Что же касается слов Элеазара, то я на них могу возразить только одно: так как все согласны с тем, что мы защищаемся и должны защищаться, то мы обязаны доказать это наше намерение поступками, которые не давали бы никому права сомневаться в нашей решимости, которые положили бы предел всяким колебаниям, всякой слабости. А одним из этих поступков, и притом весьма убедительным, будет то, что мы накажем тех, кто не только не сражался вместе с нами, но даже желал покрыть нас вечным позором, впустив римлян в наш священный город. Здесь говорят о справедливости; но первое условие справедливости – это наказать измену, раздавить голову ядовитой змее…
Слова эти были встречены криками одобрения. Однако Элеазар все еще не сдавался. Он опять поднялся со своего места и воскликнул громко:
– А я все-таки остаюсь при своем мнении: справедливость – лучшее средство к защите, чем меч; опираясь на меч, легко можно поранить самого себя.
Толпа заволновалась еще больше. Симон решил, что теперь наступило время сказать свое слово. Как только Элеазар сел, он поднялся со своего места. Протянув руку к храму и как бы призывая божество, он воскликнул:
– Не станем умалять слово справедливость! Не станем призывать его в пользу тех, которые желали бы упразднить самое это понятие! Ради чего же мы сражаемся, спрашиваю я вас, если не ради защиты того места, в котором она нашла последнее себе убежище. Не следует забывать того, что, защищая нашу свободу, мы защищаем ее для других народов, что мы спасаем завет, священный завет, в котором заключены права народов, самые драгоценные сокровища рода людского. Если мы будем побеждены, мы, быть может, будем иметь возможность, подобно Давиду, изгнанному неприятелем, перейти через Кедронский поток, подняться с плачем на Елеонскую гору и направиться в пустыню; но можно ли будет нам унести с собой нашу святыню? Да и пустыни-то теперь нет; римлянин всюду распространил свою власть и свою тиранию. Элеазар, по-видимому, не отдает себе отчета о призвании избранного народа, о святыне, хранение которой нам поручено и которую мы должны защищать до самой смерти. Он не в состоянии понять одушевляющих нас чувств. Ведь должен же быть на земле маяк, с которого светила бы истина! Ведь должна же справедливость иметь верное и неприкосновенное убежище!
В этом месте речь Симона была прервана оглушительными рукоплесканиями толпы. Когда снова водворилось молчание, Симон продолжал:
– Быть может, скажут, что мы беремся за непосильное дело? Пусть так! Но поражение не будет постыдным, если мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предупредить его; прах наших руин станет плодородным, если мы польем его нашей кровью: он разнесется по всем странам и посеет всюду семена справедливости и истины!
Вновь раздался взрыв рукоплесканий. Симон продолжал, глядя на побледневшего Элеазара.
– Из всего этого следует, что нам нужно поступить так, как советует Ионафан. Щадить изменников – значит становиться их сообщниками, и я объявлю изменником всякого, кто выскажется за отсрочку возмездия. Мы жаждем справедливости, потому что мы жаждем истины. Не следует допускать никаких сделок, никаких полумер: тот, кто не с нами – против нас, кто не за храм – против храма! Святилищу нашему угрожает пожар, и священные камни уже лижет пламя. Неужели же мы не признаем изменником и нечестивцем того, кто не только отказывается содействовать тушению пожара, но кто еще указывает дорогу поджигателям? Обратим же против них самих зажженный факел и сожжем его пламенем их преступные головы!
Симон сел при громких, одобрительных криках всего собрания. Элеазар воскликнул дрожавшим от гнева и волнения голосом:
– Я не изменник, но тем не менее я стою за отсрочку суда!
Слова Элеазара и надменный тон, которым он произнес их, вызвали сильный шум, который Иоанн Гишала тщетно старался прекратить. Элеазар, видя, что к нему относятся с недоверием, вздумал позлить возбужденную толпу. Он поднялся, крики усилились. Тогда его смелость превратилась в наглость и он произнес с презрительной улыбкой:
– Что же, быть может, кто-либо из присутствующих настолько смел, что сомневается в моих словах!
Он произнес эти слова так громко, что перекричал толпу, и все вдруг замолчали. Потом в тишине раздался голос:
– Да, Элеазар бен Симон, здесь есть тот, кто сомневается в твоих словах!
– Кто это там говорит? – спросил Иоанн Гишала.
– Это я, Елизавета, мать Матафеи, – ответила Елизавета, пробираясь сквозь толпу. Все это случилось так быстро, что Иоанн даже не успел остановить ее. Взгляды всех присутствующих обратились на Елизавету.
Старуха была укутана с ног до головы в широкое синее покрывало. На плечи ее был накинут длинный черный хитон, волочившийся позади нее по земле; из-под него высовывалась красная, морщинистая рука, а черные с проседью космы, выбившись из-под покрывала, падали на лоб. Она остановилась перед членами совета, медленно обвела их глазами и наконец остановила свой взгляд на Элеазаре и стала пристально смотреть ему в глаза.
Элеазар побледнел. Он невольно смутился, стараясь, однако, сохранить спокойствие.
– Я не знаю этой женщины, – сказал он, стараясь придать своему голосу презрительный оттенок.
– Да, но я тебя знаю, я, – произнесла Елизавета громким, твердым голосом, – тебе не удастся запугать меня твоими пренебрежительными гримасами, Элеазар бен Симон, любовник Марии Рамо!
Элеазар вздрогнул, однако промолчал.
– Я тебя знаю, говорю я, – продолжала Елизавета, – и я докажу тебе это. Если ты желаешь, я сейчас расскажу тебе, как ты провел последнюю ночь.
Елизавета оглянулась на толпу с улыбкой, как бы ища ее одобрения, затем произнесла, приблизившись к Элеазару:
– Мария Рамо вошла в храм вчера ранним вечером и вышла из него только сегодня на рассвете. А ведь она красавица – Мария! На щеках ее цветут иерихонские розы, а тело ее благоухает всеми аравийскими бальзамами.
– А мне что за дело до этого? – спросил Элеазар, стараясь сохранить хладнокровие.
– Постой, постой, – продолжала Елизавета, – и слушай меня, внимательнее, Элеазар. Так вот, вчера вечером она говорила тебе: "Неужели ты, Элеазар, потомок первосвященников, намерен продолжать эту разбойничью жизнь, достойную какого-нибудь головореза? Это хорошо для какого-нибудь Иоанна Гишалы или Симона бен Гиоры, родившихся на большой дороге. Ведь Иерусалиму не устоять; только безумец может воображать, будто нам удастся восторжествовать над римлянами; ведь Тит еще храбрее и искуснее отца своего, Веспасиана. Для чего же идти против рожна? На это способен только глупец, а не мудрец. Ты неравнодушен к сладостям жизни и к почестям: римляне дадут тебе все, чего ты только пожелаешь. Они и теперь уже ценят твой ум; они еще более оценят твое благоразумие. Ты любишь роскошь – ты будешь покрыт пурпуром не хуже любого сатрапа; ты неравнодушен к наслаждениям жизни – ты будешь иметь достаточно золота, чтобы купить самых красивых женщин, самых блестящих блудниц Коринфа и Александрии. Ты будешь наслаждаться в прохладных залах, при звуке арф, увенчанный цветами, возлежа на тирских коврах с женщинами, более красивыми, чем я, более соблазнительными, чем Береника! Ты не менее храбр, чем Тит: почему же тебе не быть столь же счастливым, как он? Произнеси только одно слово. Тит протягивает тебе руку; он предлагает тебе скипетр и трон; ты можешь стать вторым Иродом Великим. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя выбросили на съедение коршунам? Пускай это будет уделом какого-нибудь Симона бен Гиоры, Иоанна Гишалы, безвестных и глупых случайных людей, которым на роду написано окончить свою жизнь пригвожденными к кресту". – Так вот, Элеазар, что говорила тебе Мария Рамо. А вот что ты ей ответил: – "Я люблю тебя, Мария Рамо; нет ничего на свете, чего я бы ни совершил ради тебя; к тому же уже давно жизнь мне в тягость и я возненавидел людей, с которыми мне приходится иметь дело. Я готов войти в соглашение с Титом, но только под тем условием, чтобы он пощадил бы моих соотечественников и не посягал бы на их предрассудки; на этом я настаиваю, хотя для меня на свете существует только одно божество – моя несравненная красавица Мария Рамо. А дело может устроиться весьма просто; пусть только отдадут мне управление Иудеей и сделают меня верховным жрецом Иерусалимского храма. На этих условиях я буду соблюдать интересы римлян и вместе с тем интересы моих сограждан".
Елизавета замолчала на минуту, как бы для того, чтобы дать выпущенной ею стреле время вонзиться в сердце ее жертвы; затем продолжала, обращаясь к Элеазару:
– Ты видишь, Элеазар, что я знаю тебя и, быть может, даже больше, чем бы ты хотел. Да, ты человек ловкий и коварный, это всем известно, но ты борешься против Бога, Элеазар, а Бог мудрее тебя: Он сумеет найти орудия, необходимые Ему для Его целей. Это я, недостойная, привела Марию в храм; я же ее встретила, когда она вышла оттуда. Мария отдалась тебе по моему приказанию; она любит сына моего сильнее, чем ты ее любишь; она ради него готова была бы поджечь храм. Я сказала все, что хотела сказать…
Элеазар, не побледнев, выслушал слова старухи; однако, чувствуя, что все взоры обращены на него, он смутился и крикнул: "Ты лжешь, ты лжешь от первого слова до последнего!"
Елизавета, пожав плечами, взглянула на него презрительно, затем, выпрямившись, она обратилась к толпе:
– Он говорит, что я лгу! Ну, так если я лгу, так я лгу не ради него одного! Пусть весь народ узнает, что я сказала, и рассудит, на чьей стороне правда! А если бы даже народ поколебался в своем решении, то у меня есть и свидетель.
Мария Рамо громко повторила то, что говорила вчера Элеазару. Пока она говорила, мертвое молчание царило в собрании; а затем поднялся невообразимый шум. Все члены совета поднялись со своих мест, устремив на изменника негодующие взгляды. Элеазар незаметно приблизился к своему конвою. Офицеры этого конвоя вопреки соглашению остались при оружии, спрятанном под плащами. Теперь они поспешили обнажить его. Увидев это, толпа разразилась криками негодования. Некоторые из присутствующих, у которых было оружие, не могли сдержать своего негодования и закричали Симону, что они готовы наказать изменника.
Симон пользовался громаднейшим авторитетом среди населения. Его любили за его мужество, за его красноречие, за его преданность святому делу. Слово его было приказанием: одного жеста было достаточно, чтобы заставить всех преклониться перед его волей.
Измена Элеазара была очевидна. Народ жаждал мести; он готов был бы сейчас расправиться с преступником.
– Долой его! – раздалось со всех сторон. Толпа собиралась уже кинуться на Элеазара и на его свиту. Но тут Симон крикнул повелительно:
– Прочь оружие! Изменники будут наказаны, как бы они ни были могущественны и высокопоставлены! Те, которых вы облекли вашим доверием, неукоснительно исполнят свой долг. Но если они должны исполнить долг свой по отношению к вам, то они обязаны исполнить его по отношению к самим себе. Мы условились между собою, что все члены верховного совета будут пользоваться неприкосновенностью, и мы не нарушим этого условия. Элеазар находится здесь на нейтральной почве, и поэтому мы не можем допустить никакого насилия над ним. Но он не избегнет мщения. Положитесь в этом на Иоанна Гишалу и на Симона бен Гиору. Что же касается пленников, которых он хотел спасти, то не пройдет и дня, как они получат возмездие за свои преступления.
Эти слова произвели желаемое действие. Буря улеглась, и Элеазар смог беспрепятственно удалиться. По приказанию Симона толпа разошлась.
Бен Адир следил за всеми подробностями произошедшего с живейшим интересом; особенно поразили его Елизавета и ловкость, с которою она выследила Элеазара. Воображение рисовало ему тысячи приключений и опасностей, и он подумал, что ему не найти лучшего союзника, если ему когда-либо суждено будет возвратиться в Иерусалим, чем эта старуха. Он тут же решил, что ему следует ближе сойтись с ней. Он тотчас же сообщил о своем плане Силасу, который повел его к Симону.
– Господин, – сказал ему Бен Адир, – я собираюсь отправиться обратно. Могу ли я задать тебе несколько вопросов, несмотря на важность момента и обстоятельств?
– Говори, – ответил ему Симон, – ты друг и посланец друга.
– Не следует ли мне рассказать внучке Измаила все, что я видел и о чем я слышал?
– Да, и скажи ей еще, чтобы она не забывала о Юдифи и что дело ее должно совершиться не в Иерусалиме.
– Я желал бы предложить тебе еще один вопрос, господин: можно ли положиться на Елизавету?
– Вполне. Но на что тебе это?
– Нам с госпожой моей, быть может, понадобятся посредники для того, чтобы пробраться к тебе. Елизавета, видно, умнее Зеведея, и она могла бы оказаться очень полезной.
– Ты мудр, Бен Адир, – сказал ему Симон, не сумевший прочитать всего, что происходило в душе молодого араба. – Да, Елизавета может оказаться нам полезной. Мы сейчас поговорим обо всем этом с Асмонеем бен Элионеем.
И, подозвав к себе Асмонея, он сказал ему:
– Познакомь этого молодого человека с Елизаветой, матерью Матафии. Бен Адир вполне предан Ревекке, дочери царя Изаты. В настоящее время она находится в лагере римлян. Он может служить нам посредником.
Когда Симон возвращался из военного совета, он увидел Зеведея, Симон отвел его в сторону и спросил:
– Как здоровье Эсфири?
– Она скучает.
– Ей нельзя дольше оставаться там, где она теперь; ей следует или отправиться в Иерихон, или перебраться в Иерусалим. По прошествии нескольких дней окружение города римлянами будет закончено. Будь же благоразумен, Зеведей. Смотри, чтобы завтра ее уже не было в пещере.
Бен Адир, слышавший этот разговор, стал думать о том, каковы могли бы быть причины, заставлявшие Симона интересоваться племянницей пророка, и решил разузнать об этом. Однако он изнемогал от усталости. Когда Асмоней привел его к Елизавете, он тотчас же бросился на циновку и проспал глубоким сном до следующего утра. Поутру за ним пришел Зеведей и они направились к Овчим воротам. Проходя мимо ограды храма, они заметили несколько крестов, на которых были распяты какие-то люди. Среди распятых был и Элеазар.
– Что же случилось ночью? – спросил он у Зеведея.
– Казнили пленников, а вместе с ними задушили и коршуна, – ответил тот.
VI
Ревекка возвратилась в Иудею для того, чтобы видеть Иерусалим; кроме того, она надеялась, что, быть может, ей удастся принести какую-нибудь пользу священному городу. Она желала также увидеться с Симоном, воспоминание о котором ее не покидало и любовь к которому сливалась в ее сердце с любовью к Иерусалиму. Но сила ее страсти, как она ни была значительна, не лишала ее рассудительности. Возражения, которые высказал ей Максим Галл по поводу ее желания прибыть в осажденный город, произвели на нее некоторое впечатление. Не отказываясь от своих планов, она решила, однако, что ей следует выждать благоприятного случая. Поэтому-то она и послала Бен Адира в Иерусалим и последовала, без всяких возражений, за своим дедом в лагерь Тита.
Лагерь римского полководца был разбит в семи стадиях от Иерусалима; но, несмотря на то, что осадные работы уже начались и что он старался ускорить их, Тит проводил большую часть времени в замке Береники, в окрестностях Иерихона. Туда же отправился и Измаил-Иосиф, присоединившись к свите Максима Галла, и там Ревекка была представлена прекрасной царевне.
Береника встретила Ревекку приветливо, чему немало способствовало уважение, которым пользовался у римлян ее дед, а также покровительство Галла, а красота молодой девушки окончательно расположила в ее пользу царевну. Нужно заметить, что хотя Ревекка была не менее красива, чем Береника, однако царевна относилась к ней без всякого чувства ревности: она хорошо знала вкусы Тита, которого не привлекала молодая и строгая красота; к тому же она была слишком уверена в своей власти над ним. Вскоре между обеими женщинами установилась самая тесная дружба, к великой радости Ревекки, которая очень скоро поняла, какую ей можно будет извлечь из этого пользу. Она была уверена в доверии к себе Береники, которая, в свою очередь, пользовалась полнейшим доверием Тита; она могла бы, если бы только захотела, приобрести также полное доверие Максима Галла, который также, будучи самым близким другом и самым доверенным лицом римского полководца, мог отлично знать, что тот собирается предпринимать. Она сразу угадала страсть, которую она успела внушить другу Тита, и по достоинству оценила ту пользу, которую ей можно будет извлечь из этого обстоятельства. Стоило только поддерживать ее, не заходя слишком далеко, и подавать время от времени некоторую надежду, не компрометируя себя.
Гордая и честная от природы, Ревекка, правда, не могла сразу помириться с той ролью, которую ей приходилось играть; она не была создана для того, чтоб обманывать; она сознавала все, что было для нее унизительного в этом подделывании к женщине, которую в душе считала развратницей и – что еще хуже – способной изменить родине. Она решилась играть эту роль только после продолжительной внутренней борьбы. Еще тяжелее ей было обманывать человека, которого она уважала. Но, говорила она себе, Юдифь, для того чтобы спасти свою страну, принесла большие жертвы, чем собираюсь принести я; а между тем Юдифь прославляют в священном писании: ведь сам первосвященник вместе со старейшинами Иерусалима отправился в Бетулию, чтобы благодарить ее за убийство Олоферна и чтобы объявить ей, что она – слава Иерусалима, украшение Израиля и что имя ее будет благословляться во веки веков. Пример ее – это маяк, поставленный Иеговой для того, чтобы светить дочерям Израиля и указывать им тот путь, по которому они должны следовать.
Замок, в который прибыл Галл вместе с Измаилом-Иосифом и его внучкой, находился по соседству с Иерихоном.
Продолговатая Сале-Гадольская долина, в которой построен Иерихон, граничит к северу со снежными вершинами Енона, а к востоку – с холмистой возвышенностью Гавлониды и Переи, бесплодной, голой, сожженной жгучими солнечными лучами. Река Иордан протекает по ней почти по прямой линии, с севера на юг, выходя из Генесаретского озера и впадая в Мертвое море.
Между Иерихоном и Мертвым морем возвышался пологий холм, который Береника выбрала для того, чтобы выстроить дворец, где она принимала своего любовника. Дворец этот, в сущности, представлял собой не что иное, как богатую римскую виллу, построенную по типу самых красивых загородных дворцов Италии. Она изобиловала галереями, портиками, купальнями; при ней был ипподром, сады, разбитые с величайшим искусством и украшенные цветами и редкими деревьями, длинные колоннады, изящные аркады, балконы со сводчатыми навесами, гроты, фонтаны, водопроводы; особенно много было воды, поддерживавшей приятную прохладу и придававшей свежесть растительности. Всюду в садах протекали журчащие ручейки, были вырыты красивые и чистые пруды, устроены каскады; вода текла и из мрамора, и из бронзы, среди деревьев и в зелени лужаек, по склонам холма и в отдаленнейших уголках сада.
Береника, внучка Ирода Великого, племянница Агриппы, вдова последнего царя иудейского, была чрезвычайно богата. Честолюбие и любовь заставили ее потратить значительную часть своих богатств на то, чтоб очаровать человека, которого она любила и с которым она надеялась разделить со временем власть над миром.
С особенным блеском проявились вкус и воображение очаровательной Береники в убранстве громадной галереи, в которой она устраивала свои пиры и празднества. Там, между широкими колоннадами и высокими арками, блестевшими позолотой, тянулся стройной чередой ряд красивых статуй, а стены были увешаны картинами. При этом всюду сквозила одна и та же мысль: картины и статуи изображали Амура. Береника постаралась собрать самых известных героев и героинь той страсти, которую она внушила и которую во что бы то ни стало желала поддерживать, – статуи женщин, знаменитых своей красотой и той властью, которою они обладали над мужчинами: Семирамиды, Клеопатры, Аспазии, Фрины, Лаисы, Ловии, Мессалины, Поппеи. Царевна поместила в эту коллекцию и себя, и своего любовника в блестящих, чеканных латах, он занимал место рядом с Аполлоном, Геркулесом, Адонисом, Парисом, Тезеем и Мелеагром. Фавны, сатиры, центавры, нимфы, дриады стояли кругом, как бы обрамляя это сборище красивых женщин и мужчин. Большая статуя Веспасиана из белого мрамора, поставленная на высокий пьедестал, возвышалась в центре и, казалось, господствовала над всем и простирала на все лучезарный блеск своего царственного величия.
Дворец этот был всего в нескольких часах пути от Иерусалима. Тит велел провести туда из римского лагеря дорогу и приезжал сюда почти каждый вечер.
В Беренике восточная царевна слилась с греческой куртизанкой. Она переходила с поразительной быстротой от вызывающего кокетства гетеры к холодному величию женщины царского рода, и лицо ее принимало, по ее желанию, любое выражение. Оно было смугло, с тем синеватым и темным отливом, который часто встречается у восточных женщин, с аквамаринового цвета глазами, напоминавшими разрезом своим глаза Минервы Фидия. Она обладала способностью придавать им выражение то задумчивой меланхолии, то жгучей страсти. Ее длинные шелковистые волосы, то зачесанные кверху по всем правилам греческого искусства, то распущенные с кажущеюся небрежностью, за которой скрывалась, однако, тонкая расчетливость, придавали еще больше прелести ее лицу.
Со времени Ирода Великого в высших слоях иудейского общества водворились римские нравы. Береника вполне усвоила их; они были ей тем более по душе, что она привыкла считать себя будущей римской императрицей. Однако в ней проявлялись и восточные наклонности, которые влекли ее, точно чудодейственной силой, к величественной роскоши и к утонченным наслаждениям. Широкий ассирийский плащ, пояс с бахромой, головной убор, блестевший драгоценными каменьями, заменяли собою нарядные греческие или римские уборы. Роскошь и своеобразие этого костюма давали широким простор проявления ее богатой фантазии: она украшала свою одежду всевозможными цветами, зеленые изумруды, красные рубины, белые жемчужины перемешивались в вышивках в тысячах разнообразных узоров и сливали свой блеск. Широкие ленты, ниспадавшие с ее головного убора, похожи были на огненных змей. Ее уши, руки, пальцы, шея и грудь блестели украшениями из золота и из драгоценных камней.
Она не любила того великолепия, которое выдвигало на первый план царицу, отодвигая женщину; она предпочитала в этом отношении изящную и чувственную простоту эллинов. Но Титу это великолепие нравилось, потому что напоминало ему великолепие Рима. Поэтому, для того чтобы быть ему приятной, а быть может, желая подражать Клеопатре, могущество которой надеялась когда-нибудь превзойти, она появлялась перед Титом среди самой роскошной обстановки восточного характера и старалась среди великолепных задаваемых ею праздников разыгрывать роль будущей владычицы мира.
Честолюбивая царевна, предчувствуя судьбу своего народа, предсказанную пророками, и поняв, как важно будет для нее расположение Тита, решила привязать его к себе как можно крепче.
Бен Адир решил, что с его стороны будет благоразумнее всего, для того чтобы поскорее добраться до своей госпожи, отправиться в лагерь римлян и объявить там, кто он такой. Он был вполне уверен в том, что, назвав имена Максима Галла и Иосифа Флавия, он не встретит ни малейшего препятствия.
Расставшись с Зеведеем и зная, что лагерь Тита расположен в нескольких стадиях от городских укреплений, на восточном склоне Масличной горы, он решил подойти к первому римскому отряду, который встретит. Его тотчас же отвели во дворец Береники, где он увиделся с Ревеккой и рассказал ей обо всем, что он видел.
– Они там бедствуют, страдают, а мы здесь проводим время в удовольствиях и в пиршествах! – вырвалось из уст Ревекки, когда она выслушала его рассказ. Бен Адир смотрел на нее с благоговением.
– Да, – вздохнула она, – и я сама вынуждена принимать участие в них. Мне приходится убирать чело мое розами, в то время, как они, мои братья, истинные сыны Израиля, посыпают главы свои пеплом!
В этот день в замке Береники устраивалось большое празднество, и Ревекка, по настоянию царевны, должна была присутствовать на нем.
VII
В числе гостей Береники был и Тит, прибывший в сопровождении Максима Галла и нескольких военных трибунов, приехавших как раз в этот день из Рима. Отец Ревекки явился в сопровождении своего племянника Иосифа Флавия и встретил здесь множество самых известных левитских и саддукейских фамилий Иудеи. Был подан великолепный ужин, во время которого играла великолепная музыка. Потом появились танцовщицы. Одна из них, высокого роста, с пепельного цвета волосами, распущенными по плечам, с черными глазами, обведенными великолепными дугами бровей, с длинными и тонкими ногами, подобными ногам Дианы-охотницы, со стройным и гибким, как у змеи, туловищем, особенно очаровала всех. Она была окутана легкой, прозрачной шелковой материей; с ушей ее свешивались большие серьги, а вокруг щиколоток были нанизаны маленькие бубенчики. Три-четыре человека ударяли в кимвалы и в тамбурины в такт ее движениям. Сначала звуки были тихи и мелодичны, но затем они становились все быстрее и быстрее. Точно так же и пляска была вначале плавна и медленна, но мало-помалу она оживлялась и доходила, наконец, до неистовой страстности. Пляски танцовщиц вызывали взрывы рукоплесканий.
Празднество приближалось к концу; но Береника приготовила гостям сюрприз. Когда танцовщицы удалились, она наклонилась к Титу и сказала:
– Так как я устроила для тебя праздник, то завершат его танцы и пение моих соотечественников. Говорю не хвастаясь. Это настолько же выше того, что ты только что видел и слышал, насколько ты, мой властелин, выше всех других воинов мира. Перед тобой предстанут две настоящие волшебницы.
– И кто же эти волшебницы? – спросил Тит, улыбнувшись.
– Мария Рамо и Ревекка, внучка Измаила Иосифа.
– Неужели тебе удалось убедить неприступную и строгую Ревекку выступить?
– У нас танцы считаются делом серьезным, мой дорогой.
Первой появилась Мария Рамо. Не даром Береника назвала ее волшебницей. Все, что в состоянии подействовать на воображение и очаровать его, соединилось в гетере, которой Тит воспользовался для того, чтобы соблазнить Элеазара. Она принадлежала к числу тех женщин, которых называли "огненными". Черты и выражение ее лица, ее улыбка, ее глаза, формы ее тела, ее жесты, позы, малейшие ее движения дышали сладострастием. Большие, продолговатые, с золотым отливом глаза, густые, черные, дугою изогнутые брови, выведенные точно кистью, ее талия, осиная талия, ее грациозные движения, ее мантия из легкой алой материи, застегнутая на плечах золотыми застежками, – все это было в ней в высшей степени гармонично и придавало ей вид жрицы Астарты. На поясе ее висела цитра, украшенная драгоценными каменьями.
Когда она появилась, отовсюду раздался шепот одобрения. Дойдя до середины залы, она скинула с себя быстрым, нетерпеливым движением плащ и предстала перед зрителями словно молодая и свежая утренняя заря, только что скинувшая с себя ночные покровы. Мария Рамо поклонилась Титу и Беренике, медленно обвела вокруг себя глазами и улыбнулась. Затем она начала танцевать. Каждое ее движение дышало сладострастием. Она запела, и каждое ее слово было огненным поцелуем, горящей головней, падавшей на головы очарованных зрителей: "Любите, любите, дочери Иудеи! – пела она. – Подставляйте ваши губы поцелуям мужчин! Нигде солнце не освещало, нигде оно не заставляло распускаться более жгучей любви. Небесная роса оплодотворяет ее, вифлеемские вина распаляют ее, густая лоза на холмах, развесистые смоковницы в долинах, старые кедры Ливана осеняют ее своею тенью. Любите, любите,
дочери Иудеи! У нас, в наших садах, в которых растут фиговые деревья, пальмы, масличные деревья, яблони, прежде всего расцветал запретный плод. Белокурая Ева первая отведала его, и она приглашает дочерей своих нагнуть ветви древа жизни и угостить этим чудесным плодом детей Адама. Любите, любите, дочери Иудеи! Все славные дела Израиля – не что иное, как лучи, исходящие из светила нашей любви. Соломон обязан своим венцом мудреца числу своих наложниц и самой лучшей песнью своей – Суламифи. Кто знал бы о Самсоне, если бы не было Далилы, окутавшей этого сильного человека своими золотистыми волосами, точно сетью, и привлекшей его в благоухающий рай? Мы прославляем Эсфирь, подчинившую своему господству великого царя, и гордую Юдифь, которая опьянила собой Олоферна и сама упилась его кровью. Не будем же выродившимися дочерьми могущественных матерей наших! Любите, любите, дочери Иудеи! Мрачный пророк взывает к нам из пустыни гор: "За то, что дочери Сиона расхаживали с открытою грудью, делая знаки глазами, за то, что они семенили ногами, стуча своими сандалиями, Господь сделает их лысыми и лишит их всяких украшений". Тщетны твои угрозы, пророк! Мы от того не сделаемся менее красивы, если опояшем себя фиговыми листьями. Любите, любите, дочери Иудеи! Пусть согбенные от бремени лет старцы простираются в прах и хранят молчание пусть они посыпают пеплом свои поседелые головы и покрывают свои дряблые члены власяницей! Мы же будем омывать в прозрачных водах Генесаретского озера наши молодые тела, мы будем играть нашими красивыми полными руками на лютнях; пусть Терихон украшает головы наши розанами, пусть Аравия разливает все свои благоухания на наши молодые тела, трепещущие от радости и от сладострастия. Любите, любите, дочери Иудеи! Сохнет лист и вянет цветок; туман рассеивается под солнечными лучами, наши ноздри жадно вдыхают в себя благоухание жизни, убегающая тень, скользящий по волнам корабль, птица разрезающая своими крыльями воздух, стрела, сильной рукой направленная в цель, – вот что такое человек. Итак, проходите, прекрасные дочери Иудеи! Спешите вдыхать в себя легкие, опьяняющие благоухания; срывайте скоропреходящие цветы вашей юности; венчайте свою голову розами, прежде чем они успели отцвесть. Любите, любите, дочери Иудеи! Кто же те безумцы, которые желают сделать из Иерусалима долину слез, город бога битв? Царство Иуды – царство красоты и удовольствий. Бог провозгласил Соломона самым мудрым из царей только за то, что Соломон – тот из царей, который наиболее любил. Любите же, любите, дочери Иудеи!"
Мария Рамо закончила петь, и все долго хлопали ей.
Береника сделала знак Ревекке, которая среди всеобщего шума поднялась со своего места. Когда рукоплескания умолкли, она медленно вышла на середину. Она была одета в белое, с большими складками, платье скромного покроя, без пояса, с накинутой на него алой мантией. Ее роскошные волосы, собранные в две густые косы, придавали ее фигуре еще большее величие. В волосах ее не было ни одного цветка, в ушах и на шее – ни малейшего украшения Ревекка обещала Беренике спеть брачную песнь и приготовилась исполнить соответствующее место из "Песни Песней". Но пение Марии Рамо заставило ее изменить свое намерение, когда она увидела, что последняя строфа песни Марии вызвала улыбку на устах деда Реввеки.
Она решила спеть гимн Деборы, несколько изменив его: "Нет, не могу молчать, – пела она. – Я услышала трубный звук, я услышала боевые крики. Иегова наполняет меня дыханием своим; Он прикоснулся ко мне искрой расплавленного в горниле металла. Я лежала ничком, а Он возглаголил с высот Сиона: "Встань и услышь мои слова. Война подступила к стенам их города за то, что они избрали себе новых богов. Но мое сердце болит от этого. Показались копья и щиты, сбежались наконец воины. Мужайся, Дебора! Проснись и спой воинственную песнь". Нимврод молвил в своей гордыне: "Я поднимусь превыше облака ходячего и установлю престол свой над звездами". Господь поднялся, и Нимврод сделался пленником смерти. Как он спокоен теперь, великий охотник перед Господом! Иегова сломает скипетр грешников и палку тиранов. Ибо народ Его выступил вместе с ним против сильных. Первым пришел Эфраим затем – Вениамин, Забулон и Изахар. А ты что там делаешь, Рувим, среди своих плетней и виноградников? Неужели ты находишь теперь время прислушиваться к блеянию твоих овец и жечь сухие виноградные лозы? Цари выстроились в боевой порядок; они бились близ Танаха, близ Магедского источника. Но за нас сражались светила небесные и они с высот своих поразили своими стрелами Сисру, и Кишонский поток, поток отцов наших, унес своим течением трупы их. Дуновение Всевышнего сломало сильного. Дочери Израиля не только красивы, но и храбры. Иоиль, жена Хабера, подала молока Сисру, просившего у нее воды; но затем она взяла в левую руку гвоздь, а в правую молоток и метко вколотила гвоздь в голову Сисры, и последний упал мертвым. Юдифь заключила в свои объятия Олоферна, но ее рука задушила проклятого, и та же рука, которая ласкала его курчавые волосы, отрубила голову от окровавленного туловища. Жены Израиля красивы. Солнце позолотило цвет их лица самыми яркими лучами своими. Глаза их то кротки и ласкающи, как глаза вифлеемской газели, то свирепы и страшны, как глаза ассирийского барса; но груди их полны благородного молока, в недрах своих они носят будущих мстителей своим врагам. "Итак, радуйся, знойная пустыня, ликуй, бесплодная страна, ибо ты снова зацветешь, как лилия во влажной долине…""
Пропев последние слова песни, Ревекка выронила цитру, и слезы горечи потекли из ее глаз. Но, окинув взором собрание, она поняла, что ее пение смутило многих и что ей нужно постараться поскорее изгладить произведенное им впечатление.
Когда Береника приблизилась к ней с намерением упрекнуть ее, она опередила ее и спросила, с улыбкой:
– Не правда ли, прекрасная царевна, что я рождена для того, чтобы быть великой актрисой?
– Ты действительно замечательная актриса, милая моя Ревекка, – сказала обезоруженная Береника.
– Я брала уроки в Афинах, – скромно ответила Ревекка, опустив глаза.
– Но, заимствовав у греков искусство, ты присоединила к нему свой талант и свой природный дар импровизации, – сказала Береника с улыбкой.
– Импровизация – дело случая, – сказала Ревекка. – Что же касается таланта, то я никогда не верила моему деду, когда он уверял, что у меня есть талант.
– Ты, кажется, говорила мне, что ты хочешь пропеть нам любовную песнь? Мы ждали Суламифь, а встретили Дебору…
– Всякая любовная песнь после той, которую пропела Мария Рамо, показалась бы слишком пресной; нужно было спеть что-либо совершенно иное. Ведь разнообразие не вредит наслаждениям! По крайней мере так меня учили в Афинах. А теперь я готова исполнить мое обещание. Я пропою одну из песней Соломона…
– Если ты не устала…
– Усталость исходит только из сердца, а Музы – дочери Памяти: этому тоже учили меня в Афинах.
Береника, возвратившись к Титу, передала ему содержание своего разговора с Ревеккой и прибавила:
– Ревекка – артистка в полном смысле слова, и она повинуется только велениям муз. Ты сейчас услышишь "Песнь Песней". Она уже пела ее однажды. Тебе покажется, что ты услышишь соловья…
– Или лань в лесу, – сказал Тит, улыбаясь. – Но, клянусь Зевсом, эта Ревекка – престранное существо. То ее глаза сверкают, как у дикого зверя, то они томны и нежны, как у голубки. Я чуть не испугался, когда она запела песнь Деборы.
– А теперь ты придешь в восторг, мой возлюбленный. Но слушай! Вот она берет свою цитру.
К Ревекке возвратилось все ее хладнокровие; она поняла, что необходимо во что бы то ни стало изгладить впечатление, произведенное ею. Сильно ударив по струнам, она запела:
Сплю, но сердце мое чуткое не спит…
За дверями голос милого звучит:
– "Отвори, моя невеста, отвори!
Догорело пламя алое зори;
Над лугами над шелковыми
Бродит белая роса
И слезинками перловыми
Мне смочила волоса;
Сходит с неба ночь прохладная —
Отвори мне, ненаглядная!"
– "Я одежды легкотканые сняла,
Я омыла мои ноги и легла,
Я на ложе цепенею и горю —
Как я встану, как я двери отворю?"
Милый в дверь мою кедровую
Стукнул смелою рукой:
Всколыхнуло грудь пуховую
Перекатною волной,
И, полна желанья знойного,
Встала с ложа я покойного.
С смуглых плеч моих покров ночной скользит;
Жжет нога моя холодный мрамор плит;
С черных кос моих струится аромат;
На руках запястья ценные бренчат.
Отперла я дверь докучную:
Статный юноша вошел
И со мною сладкозвучную
Потихоньку речь повел —
И слилась я с речью нежною
Всей душой моей мятежною [Перевод Л. А. Мея.].
Ревекка спела прекрасную песнь Соломона с неподражаемой силой, не как актриса, а как любящая женщина. Ее страстная натура вполне сказалась в этой песне: все влечения ее сердца, все упоения страсти вылились из ее уст. Когда она закончила, восторгу слушателей не было предела.
По сигналу, поданному Титом и Береникой, зала огласилась рукоплесканиями.
VIII
Береника пожелала поздравить Ревекку с громадным успехом, который та имела накануне, и после обеда отправилась к ней. Между царевной и Титом возник небольшой спор по поводу Ревекки. Речь шла о том, сказался ли голос сердца в сделанном Ревеккой выборе из «Песни Песней» Соломона, и в голосе, в искренне-страстном тоне, которым она пропела свою песнь, не руководила ли в данном случае женщина артисткой. Тит утверждал, что, как в первой из пропетых песен, так и во второй, в Ревекке сказалась только артистка; Береника же утверждала обратное. «Если песнь Деборы, – говорила она, – можно пропеть без участия сердца, то того нельзя сказать относительно песни Суламифи. Только любящая женщина может пропеть ее так, как пропела Ревекка. Впрочем, я выясню это. Я дружна с Ревеккой и сумею выведать у нее эту тайну».
Ревекка жила в отдельном доме, расположенном в громадном саду. Она лежала на широких мягких коврах, когда к ней вошла царевна. Она была бледна и лицо ее носило на себе следы утомления. При появлении царевны Ревекка поднялась с лихорадочной поспешностью, вовсе ей не свойственной. Береника обратила внимание и на это. Береника воскликнула с непритворным участием, схватив горячие руки девушки:
– Ты плохо чувствуешь себя, дитя мое; удовольствие, которое ты нам доставила, все же не мешает мне сожалеть о том, что я вчера упросила тебя петь. Ты бледна, как мертвец… нет, что я говорю, это сравнение не пристало к тебе… ты бледна, как белая лилия в Кедронской долине, только что смоченная дождем.
– Я вчера немного взволновалась, – ответила Ревекка, улыбаясь, – если дождь, как ты так благосклонно выразилась, смочил лилию, то он не промочил ее насквозь; но если бы даже он совсем прибил ее к земле, то живительные лучи твоих похвал не замедлили бы заставить ее подняться. Мне даже кажется, что скорее на меня подействовала снисходительность твоя и Тита, чем усталость. Эхо ваших рукоплесканий всю ночь отзывалось в ушах моих; сладкий голос, прекрасная царевна, беспрерывно звучал в них, и он-то и не давал мне сомкнуть глаз.
– Я буду очень рада, если это так, и мне доставляет удовольствие это твое объяснение. Только совершенно напрасно ты употребила это слово снисходительность: рукоплесканиями нашими руководила справедливость. Ты пела так, как может петь только муза Аттики или восхваляемый поэтами соловей; а что касается пляски твоей, то самые знаменитые танцовщицы Индии и Египта недостойны развязать ремень у сандалий твоих. Если бы Соломон мог воскреснуть, то он, наверное, распростерся бы у ног твоих: ты еще более украсила его и без того уже прекрасную любовную песнь, и прибавила новый цветок к его благоухающему букету.
Ревекка покраснела, выслушивая эти похвалы, но ничего не ответила. Ей не нравился льстивый тон, царствовавший при дворе Береники. Береника перешла к главной цели своего посещения.
– Я заставила тебя покраснеть, – сказала она с сожалением, – я знаю, что ты любишь более укоры, чем похвалы. Знаешь ли ты, Ревекка, что ты в этом отношении совершенно не похожа на других людей.
– Нет, я этого не знала, – смеясь, ответила Ревекка, – и, быть может, ты и права; но совершенно верно то, что я до того не люблю похвал, что иной действительно может, пожалуй, подумать, будто мне больше нравятся упреки. Для тебя я, однако, делаю исключение: с твоей стороны мне все нравится, как похвалы, так и упреки.
– Ну и отлично! Это дает мне возможность не стесняться; ибо я должна сделать тебе упрек, мой прекрасный и скрытный друг.
– Упрек? Неужели! Клянусь Юпитером, – как имеет обыкновение говорить отец мой, с тех пор как он отрекся от своей веры, – тем лучше; я предпочитаю уксус меду, но так как преступление это не предумышленное, то оно, без сомнения, будет вскоре прощено мне.
– Не предумышленное? Да нет же, ведь у тебя есть тайны, а ты заставляешь меня отгадывать их.
– У кого нет своих тайн? – сказала Ревекка. – Сердце женщины, как сказал один из наших пророков, есть не что иное, как темная бездна.
– Значит, ты сознаешься и все же утверждаешь, что ты не виновата?
Ревекка, не понимая, к чему клонит царевна, невольно почувствовала некоторое беспокойство, несмотря на то, что тон, которым говорила Береника, и выражение лица ее не имели в себе ничего тревожного. Однако она старалась овладеть собой и только легкая краска покрыла ее щеки.
– Ну что, ты сдаешься наконец! И прекрасно! Это примиряет меня с тобой. Да, моя прекрасная Муза, мне известно, какой гений вдохновляет тебя. И с чего бы тебе отрекаться от этого? У нас, женщин, талант является не из головы, а из сердца, и от этого он не становится меньшим; человек нисколько не теряет в цене, оттого, что прошел через это горнило. Да, вчера вечером ты выдала себя: в твоем сердце живут две страсти. Я спешу заявить тебе, что я извиняю одну из них ради другой. Одна из них пройдет, ибо другая пожрет ее, как огонь пожирает солому; это повторение все той же притчи Иосифа о семи худых и семи тучных коровах. Но если ты желаешь, чтобы прощение было полное, то и признание должно быть полное. Ты любишь, ибо только одна любовь способна произвести то чудо, которое ты произвела вчера вечером.
Ревекка опустила глаза, как стыдливая молодая девушка, тайну которой разгадали, и не произнесла ни слова. Береника, радуясь своей догадливости, продолжала, смеясь:
– Я отлично знала, что я права; мужчины ничего не понимают в подобного рода вещах. Они видят только канат и не видят тонкой нитки, и поэтому-то так часто и ошибаются. Что бы ни говорил Тит, несомненно, что нужно любить, для того чтобы петь так, как ты пела вчера; есть такие чудеса, которых не может сотворить никакой талант без содействия сердца. Многое недоступно женщине, если в дело не вмешается любовь к мужчине.
Ревекка чувствовала по голосу царевны, по ее веселости и игривости, что она может быть спокойна за свою тайну. Однако, желая доиграть роль свою до конца, она, краснея, продолжала держать глаза опущенными.
– Зачем же краснеть, Ревекка, и опускать глаза? Ты любишь! Что ж в этом дурного? Мы ведь и живем-то, собственно, для того, чтобы любить. Если Господь Бог насадил дерево познания в земном раю, то сделал это, конечно, для того, чтобы наши руки срывали с него плод и подносили его мужчинам. Не далее, как вчера, это нам объяснила в своей песне Мария Рамо, и она была права.
Я даже думала бы о тебе дурно, если бы ты в состоянии была вечно лежать под сенью сочного дерева и никогда не испытывала бы искушения протянуть к нему руку. Нет, ты любишь, я в том уверена, в этих вещах я никогда не ошибаюсь. К чему же скрывать это от меня? Ведь я люблю тебя, и к тому же я могу оказаться полезной. Ведь должны же мы помогать друг другу. Поэтому ты должна во всем сознаться мне, и сознаться с полной откровенностью; только полнейшая искренность может изгладить вину, которую ты совершила относительно меня своей скрытностью. И, для того чтобы начать с самого начала, ты назовешь мне имя жениха твоей Суламифи.
Вопрос этот не только смутил Ревекку, но и был для нее настоящей пыткой. Она не могла сказать царевне, что та ошибается, так как этим только совершенно обидела бы ее, в то же время не убедив ее, и лишилась бы доверия, которое с таким трудом успела приобрести. Но она могла назвать имя того, кого любила, так как имя Симона бен Гиоры на всех наводило ужас, и царевна, без сомнения, испугалась бы, услышав его.
Береника была женщина слишком проницательная, для того чтобы не заметить ее смущения; но она приписала ее девической робости.
– Ты молчишь! Вот что значит иметь всего двадцать лет от роду и быть знакомой с земным раем только по Моисеевым книгам! Итак, мне приходится отгадывать! Хорошо, попробуем. Максим Галл, моя прекрасная притворщица, не менее притворщик, чем ты, но он не так хитер. Эти люди, посвятившие себя войне, сильны только на поле битвы, а этот еще воображает себя политиком! В то время, когда ты пела, я заметила, как смотрел на тебя Максим Галл. Для меня сразу же стало ясно, что он любит тебя; я готова биться об этом об заклад любовью Тита против вифлеемской винной ягоды. Не он ли нашел тот путь, который ведет к виноградникам Суламифи?
Положение Ревекки становилось все более и более затруднительным: разубеждать Беренику было небезопасно; сказать, что она любит Галла, было для нее противно, и в то же время она не могла рисковать делом, которому служила.
– Любовь, как и дух, – сказала она со стыдливой улыбкой, – дует всюду, куда захочет. Люблю ли я Галла? Право, я сама не знаю этого. Но одно я могу сказать определенно – это то, что я вполне признаю его заслуги и что я не могла бы остаться равнодушной к чувству которое испытывал бы ко мне такой человек, если только он действительно испытывал бы его.
Береника увидела в этих словах полное признание и поцеловала Ревекку.
– Ты прекрасна, как Иродов дворец, – сказала она, – ты такая женщина, каких я люблю. Ты умеешь соединить любовь с честолюбием. Максим Галл через несколько дней будет назначен правителем Иудеи, и ты, если захочешь, можешь сделаться правительницей Иерусалима, где ты можешь возобновить великолепие Ирода Великого. Тебе будет принадлежать слава исцеления ран, нанесенных городу войной… Эта мысль преисполняет меня радостью, и она осуществится, так как я люблю тебя, а Тит любит меня.
Царевна встала, а Ревекка удержала ее.
– Умоляю тебя, прекрасная царевна, – сказала она, – оставим пока это между нами. Не говори никому об этом, даже великому и добросердечному Титу.
– Я ни в чем не могу отказать тебе. Твои тайны останутся между нами, как и мои. Ты будешь сообщать мне свои, я буду передавать тебе свои, ибо я знаю, что ты любопытна. Ты научишь меня искусству завоевывать сердца; я же научу тебя завоевывать города в ожидании того времени, когда уроки в этом искусстве будет давать тебе Галл.
Весь этот разговор был мучением для Ревекки. Все ее самые сокровенные, самые дорогие чувства были задеты: ей пришлось сделать усилие над своим сердцем, над своей гордостью. Она умела скрывать и притворяться, но каждый раз ей нужно было делать для этого над собой усилия, и это причиняло ей невыразимые страдания. Когда Береника вышла от нее, она снова бросилась на ковер, рыдая, в полном изнеможении.
Береникой, когда она рисовала перед Ревеккой блестящую перспективу, которая открылась бы перед ней в случае союза с Галлом, отнюдь не руководила только дружба. Хотя мысль эта и возникла у нее внезапно, тем не менее она была вызвана политическими соображениями. Она не сомневалась в успехе осады Иерусалима; не сомневалась в том, что развязка близка, и думала уже о том, чтобы обеспечить за собой возможно большее влияние при новом правлении. Как только мысль о браке между Галлом и Ревеккой возникла в ее уме, она показалась ей отличной находкой для осуществления своих планов: Тит управлял бы через Галла, а она – через Ревекку. Все это показалось ей так просто и так удобно, что она не могла устоять против искушения тотчас же не сообщить свой план Галлу, а для этого ей пришлось рассказать ему о своем разговоре с Ревеккой и передать то, что она обещала хранить в тайне. Правда, сообщая ему все это, она просила его молчать. Но при том настроении, в котором он находился в то время, это оказалось почти невозможным: он и без того уже был опьянен, а тут он хлебнул еще и этого крепкого вина, и он окончательно охмелел. Ревекка снова появилась перед ним в том ярком ореоле, которым воображение его окружило ее еще на "Артемиде".
Мария Рамо осталась в замке Береники, к которому многое ее привязывало. Галлу известна была ее история и та роль, которую она сыграла в казни Элеазара. Ему известно было также и то, что она являлась орудием политики, проводимой Титом и Береникой. Прогуливаясь по саду, он встретил красивую куртизанку, которую не видел со вчерашнего дня: она сидела под тенью смоковницы, перед статуей Венеры. При виде ее образ Ревекки в роли Суламифи снова предстал перед его глазами. Ревекка в его воображении вдруг опустилась до уровня Марии. Он понял, что его поведение во время песни Ревекки не осталось незамеченным.
– Ты ошибаешься, Мария, – сказал он, – если принимаешь мои похвалы не за чистую монету; я уроженец такой страны, в которой мужчины привыкли говорить с женщинами так же, как с царями, а царям они говорят правду.
– Значит, тебе кажется, Максим Галл, что прекрасная Ревекка не стоит похвал, которые расточаются ей отовсюду?
– Этого я не говорю, и эти слова могут послужить для тебя доказательством моей искренности. Вы обе были превыше всякой похвалы. Любовь нашла и в Ревекке, и в Марии достойных выразительниц. Но только вы обе выразили ее различным образом. Лилия и роза различаются между собою и цветом, и запахом; однако кто же стал бы утверждать, что одна из них менее совершенна, чем другая. Нет, можно восхищаться одной, не унижая другой; предметы восхищения различны, но чувства одинаково сильны.
Мария была польщена тем, что ее сравнили с Ревеккой.
– Вот такие откровенные и в то же время любезные речи нравятся мне, – сказала она, улыбаясь. Ты совершенно прав, Галл, имея такое высокое мнение о Ревекке, и мне особенно приятно то, что ты высказываешь это в ее отсутствие. Ревекка – замечательная актриса. И это, право, тем более удивительно, что она нигде не училась великому искусству нравиться мужчинам.
Галл уселся возле куртизанки. Находя, что этого вступления вполне достаточно, он решил прямо приступить к делу.
– Я тебя встретил очень кстати, – сказал он. – Ты девушка умная, и я хотел бы разрешить спор, который только что произошел у нас с Береникой. Речь шла о любви и об искусстве. Я утверждал, что для того, чтоб исполнить роль влюбленной невесты, или, вернее сказать, молодой супруги, опьяненной первой любовью, необходимо предварительно испытать те чувства, которые выражаешь. Поэтому я утверждал, что Ревекка не только любила и чувствовала себя любимой, но что она любила именно так, как Суламифь, и что, говоря языком Соломона, охраняя виноградники, которые были вверены ее охране, она не сумела сохранить своего собственного виноградника. Береника, напротив, утверждала, что мое предположение ни на чем не основано, что талант может обойтись и без опыта, что силой воображения можно поставить себя во всевозможные положения. Так, например, говорила она, нет необходимости быть самому отцеубийцей, чтобы прекрасно изобразить роль Ореста…
– Царевна умна, – сказала Мария, – и мне очень нравятся ее сравнения; и так как она обладает к тому же еще и громадным опытом, то я склонна думать, что она права. Береника сказала Галлу: "Для того чтоб исполнить так, как это сделала Ревекка, роль невесты, опьяненной счастием, необходимо, чтобы она носила в душе образ любимого человека". Но в сердце Галла вдруг закралось сомнение. Действительно ли именно он, Галл, внушил ей эту страсть?
– Да, она любит, – говорил он сам себе, – это несомненно, но только любит она не меня; она обманывает Беренику и желает провести нас обоих. Я узнаю, кого она любит, – и горе этому человеку!
Как только эта мысль овладела Галлом, она крепко засела в его голове, и он уже не мог отделаться от нее. Встреча с Марией Рамо показалась ему неожиданной удачей. Она знала весь Иерусалим; она принадлежала к такому миру, в который стекались все тайны города. К тому же она знала Ревекку и ее семейство. Одного слова ее, быть может, было бы достаточно для того, чтобы доказать ошибку Береники и чтоб открыть ему самому, что счастие его покоится на весьма хрупком основании.
С этими мыслями он подошел к куртизанке.
– Мария, – сказал он ей со свойственной римлянам любезностью, – я благодарю богов, позволивших встретить тебя. Вчера мне помешали выразить тебе все то восхищение, которого ты заслуживаешь. Если мне дозволено будет употребить цветистый язык твоей прекрасной страны, то я скажу, что ты настолько же выше всех других женщин, насколько кедр ливанский выше зверобоя, растущего в долинах. Мне приходилось много путешествовать; я видел танцовщиц в Риме, Коринфе, Афинах и Александрии; но нигде в целом мире мне не приходилось видеть таланта, равного твоему…
– Хотя я и знаю, что ты льстишь, Максим Галл, однако твои речи радуют меня: даже если в твоих словах была бы даже хотя бы только половина правды. Такие ценители, как ты, редки. Но если ты позволишь мне, в свою очередь, говорить с полной откровенностью, то я скажу тебе, что твои похвалы были бы более уместны, если бы они были обращены к Ревекке, внучке Измаила-Иосифа.
Мария Рамо произнесла эти слова с улыбкой, однако не без скрытой иронии. Наше воображение, в особенности если к нему на помощь придет сердце, получает иногда удивительную проницательность.
Галл почувствовал облегчение; ему показалось, что с его груди сняли тяжесть.
– Итак, ты думаешь, – сказал он, улыбаясь, – что было бы слишком смело на основании превосходного исполнения внучкой Измаила роли Суламифи сделать заключение относительно ее целомудренности.
– Без сомнения, – ответила куртизанка, – да вот хотя бы и я могла разыграть перед тобой роль римской матроны.
– Ну так что ж? – спросил он. – Так ты вывела бы заключение, что она никогда не любила?
– Это уж менее всего. При ее годах и при том оттенке страсти, который сказался в ее игре, я не решилась бы утверждать, что сердце ее до сих пор не заговорило. Я и без того ей удивляюсь, а если бы это было так, то я удивилась бы еще больше.
– Значит, ты думаешь, что она любит или любила кого-нибудь?
– Я ничего не думаю, – смеясь ответила Мария, – по той простой причине, что для меня это все равно.
– И для меня также, – сказал Галл, – я только стараюсь собрать авторитетные мнения для того, чтоб опровергнуть уверения Береники. И к тому же мне интересно выслушать твое мнение по этим вопросам.
– А нельзя ли узнать, почему?
– Потому, что ты красива и слова твои сладки, как поцелуи. Итак, ты полагаешь, что она в настоящее время любит кого-нибудь?
– Кто? – спросила Мария, ожидавшая, очевидно, совершенно иного вопроса.
– Да Ревекка.
– Ревекка? Любит ли она кого-нибудь в настоящее время, этого я, клянусь Иеговой, не знаю, но любила ли она когда-нибудь вообще – это совершенно иной вопрос, и я в этом убеждена, как будто видела это своими собственными глазами. Мы живем в такой стране, где когда-то был рай земной; мы родились под древом соблазна, и все виноградники кишат змеями. Что же касается Ревекки, то я не берусь ничего утверждать. Мне только помнится, что в прошлом году я слышала в Иерусалиме, что сердце ее принадлежит человеку, о котором дед ее и слышать не хотел. Этим объяснилось бы многое, а именно: каким образом она, будучи девушкой, могла с такой правдивостью исполнить роль Суламифи. Неудовлетворенная любовь все угадывает и на все способна; для нее нет тайны, которой она, при желании, не могла бы разгадать. И к тому же все неизведанное и неиспытанное представляет для нас особую притягательную силу; доказательство тому наша праматерь Ева. По крайней мере что касается меня, то у меня почти всегда является желание обнять именно то, что далеко. Мы, женщины, уж так созданы, и Ревекка в этом отношении, конечно, не составляет исключения. Мы все вылиты по одной форме.
– Значит, ты полагаешь, что предмет ее любви далеко? – спросил Галл.
– Да, насколько позволительно делать предположения; ибо мы, Галл, делаем здесь лишь одни предположения.
IX
При всяких проявлениях страсти, будь то любовь или честолюбие, бывают мгновения, когда душа уже не принадлежит сама себе, когда река, под воздействием урагана, разливается, когда воля и разум становятся бессильными, будучи затоплены страстью. Пока Максим Галл видел в Ревекке лишь чистую, гордую и молодую девушку, она представлялась ему каким-то божеством, и он едва мог возноситься до нее своими помыслами. Но теперь, после разговора с Марией, в голове Галла крепко засела мысль, что Ревекка любит, и что тот, кого она любит, – не он. И кто же тот человек, которому она отдала любовь свою? Какой-нибудь презренный иудей! И это с таким-то гордым лицом с таким чистым и смелым взглядом! Кто знает, не опустилась ли она даже до того, что удостоила своей любви кого-нибудь из тех разбойников, которые бесчинствуют в Иерусалиме?
В то время, когда Галл терзался, стараясь разгадать мучившую его загадку, в нескольких шагах от него прошел Бен Адир, направлявшийся вместе с Измаилом в занимаемый Ревеккой дом. Ревнивому Галлу в эту минуту показалось, что он угадал тайну Ревекки. При виде молодого араба ему вдруг припомнилось, что во время происходившего накануне представления он случайно заметил, что молодой человек со страстью смотрел на Ревекку. "Быть может она любит именно этого раба, – подумал он, – он молод, красив, он постоянно находится при ней, он исполняет все ее желания. Разве не было примеров тому, что высокопоставленные женщины безумно влюблялись в рабов, даже в евнухов".
Бен Адир, проходя мимо, низко поклонился ему с робким видом; Измаил же улыбнулся ему, обратившись с несколькими приветливыми словами. Галл, вдруг устыдившись только что пришедших ему в голову мыслей, подумал: "Однако не безумец ли я? Нет, мне пора уезжать из этих мест!"
Несколько часов спустя Галл отправился в римский лагерь, присутствие его среди войска было необходимо. Однако его продолжали преследовать все те же, зародившиеся в замке Береники, мысли.
Несколько дней спустя он снова вернулся. Он сгорал нетерпением снова увидеть Ревекку. Вихрь обуявшей его страсти уносил этого сильного человека, как легкую соломинку. У него появилось непреодолимое желание выяснить свое положение.
– Если Береника права, – говорил он сам себе, – я завтра же женюсь на Ревекке. Но если права Мария Рамо, то горе ей!
Стоял конец мая. Небо было безоблачно, и прекрасное солнце Иудеи заливало все своим блеском; воздух был тепел, прозрачен и насыщен благоуханиями; голуби ворковали в густой листве или стаями перелетали с дерева на дерево. Легкий ветерок поднимал слабую зыбь на чистых прудах сада, в которые смотрелись статуи.
На следующее утро после возвращения в замок Береники Галл прогуливался по саду. Он думал о Ревекке. Чувство, заставившее его покинуть лагерь, не давало ему покоя, и при каждом своем шаге он ощущал в сердце жгучую боль.
– С этим нужно покончить, – сказал он сам себе. – Положение это недостойно меня! Я должен знать, следует ли мне любить или ненавидеть!
На самой возвышенной точке холма, недалеко от дома, в котором обитали Ревекка и ее отец, стояла высокая башня, с которой открывался вид на Иордан и на Мертвое море и даже виден был Иерусалим. На этой башне по ночам разводили огонь, и она являлась маяком, с которого подавались сигналы в лагерь Тита. Но днем на башне никого не было, и Ревекка любила сидеть на ее вершине. Она видела отсюда свой возлюбленный город. Здесь она часто проводила по несколько часов, погруженная в глубокую задумчивость, в воспоминания.
Галл отправился в дом Измаила и изъявил желание повидаться с Ревеккой. Ему сказали, что она вышла вместе со своим дедом и что они направились к маяку Тита, так называлась башня. Он расспросил, как пройти к башне, и направился туда. Едва прошел он несколько шагов, как увидел Измаила, шедшего вместе с Иосифом Флавием в сторону Иерихона. Он заключил из этого, что Ревекка осталась одна, и ускорил шаг. Но, когда он приблизился к подножию башни, когда наступил решительный момент, он стал колебаться. Этот человек, тысячу раз показавший свою храбрость на поле сражения, дрожал, как лань. Он стал подниматься, пошатываясь, как бы ступая в потемках. Его вела к Ревекке скорее любовь, чем собственная воля.
Девушка задумчиво смотрела в сторону Иерусалима. Она была одета в белое платье, мантия такого же цвета спускалась вдоль ее гибкого стана. Она так была поглощена своими мыслями, что не слышала шагов поднимавшегося по лестнице Галла. Она обратила на них внимание лишь тогда, когда он подошел к ней. Обернувшись, она улыбнулась ему. В ее улыбке было столько прелести, что Галл забыл о словах Марии Рамо, он в эту минуту помнил только слова Береники.
Ревекка догадалась о том, что происходило в его сердце. Она сказала сама себе, что он, без сомнения, пришел с тем, чтобы объясниться ей в любви, что Береника выдала ее. Она предвидела объяснение и желала предотвратить его. Но присутствие духа покинуло ее.
– Увидев тебя здесь, Галл, – сказала она, – мне пришло на ум, что между характером мужчины и характером женщины существует громадная разница: я пришла сюда, чтобы любоваться красотой неба и земли; ты же, без всякого сомнения, пришел с тем, чтобы думать о войне.
– Ты ошибаешься, Ревекка: я пришел сюда с мыслями о любви.
– Увы! – сказала она. – Теперь, к сожалению, не такое время, когда подобные мысли могли бы приходить на ум: они заглушаются среди шума оружия.
– Но в таком случае зачем же вчера вечером ты представила нам целую картину любви? Можно было бы подумать, что ты сама горишь тем пламенем, которое одно присутствие твое зажигает в сердцах человеческих.
Ревекка покраснела, но быстро овладела собой. Она ответила совершенно спокойно:
– Я желала доставить удовольствие Беренике, а раз я решила что-нибудь сделать, я уже не могу делать этого кое-как. Неужели можно упрекать актрису за то, что она пробуждает чувства, переполняющие душу сладостями жизни?
– Да, но бывают такие вольности, которые хуже преступлений. Они открывают перед всеми самые сокровенные тайны.
– У нас не запрещается петь любовные песни. Я одинаково равнодушно пела и о любви, и о войне.
– Неправда, Ревекка, – сказал Галл, которого ее слова начали раздражать, – ты неравнодушна ни к той, ни к другой. Ты любишь! Нельзя так выразить любовь, если не чувствуешь ее.
Галл произнес эти слова резким, надменным тоном. Ревекка, догадавшись о намерениях Галла, хотела быть спокойной и терпеливой. Однако она почувствовала, что терпение ее начинает иссякать.
– Ну так что же! – сказала она. – Разве я не властна любить или ненавидеть кого хочу? Я никому не обязана отдавать отчет в моих чувствах. Я этого не дозволяю и тем, с кем связана узами крови. Жизнь моя протекла вдали от тебя. С какой стати я предоставила бы тебе такое право, в котором я отказываю даже деду моему? Нас не связывают решительно никакие узы.
– Ты ошибаешься, Ревекка, и ты сама отлично знаешь это. Ты знаешь, что с первого же дня, в который я тебя увидел, я полюбил тебя, я отдал тебе всю мою душу, я весь отдался тебе беззаветно. Да, ты знаешь, что жизнь моя принадлежит тебе, что сердце мое стремится к тому, чтобы соединиться с твоим и что на свете нет ничего такого, на что бы я не решился, лишь бы обладать тобою. Ты догадалась об этом с первого же дня, с первого же взгляда, который ты бросила на меня, ты измерила силу и глубину моей страсти. Ты знаешь, что если бы я мог располагать империей, подобно Антонию, то я готов был бы положить ее к твоим ногам, как он положил свою империю к ногам Клеопатры. И если бы ты только пожелала того, то я завоевал бы целую империю, для того чтобы предложить тебе разделить со мною власть над нею. Я стяжал славу, – я пожертвую ею ради тебя; я люблю Тита, – я изменил бы ему, если бы ты того пожелала.
Ревекка слушала его не то чтобы равнодушно, но без смущения, до тех пор, пока он не упомянул о том, что готов был бы изменить Титу. В ее уме промелькнула мысль, что неплохо было бы сделать из ближайшего помощника Тита орудие для спасения Иерусалима. Перед ней предстала было Юдифь, но мысли ее тотчас же перенеслись в Иерусалим; ей показалось, будто она видит на стенах священного города Симона бен Гиору, и она сама испугалась своей недавней мысли. Оправившись от впечатления, произведенного на нее этим видением, она постаралась избежать прямого ответа на пламенное объяснение Галла и спокойно сказала ему:
– Все то, что ты только что сказал мне, может только льстить моей гордости; да и кто в самом деле мог бы не гордиться любовью такого человека, как ты? Но я считаю своим долгом сказать тебе, что всякая мысль о любви недоступна моему сердцу с тех пор, как мое отечество повержено в несчастие. Пусть оно сперва будет спасено, а затем уже я дам волю моим чувствам.
Ревекка, несмотря на все свое спокойствие и свое самообладание, не заметила, однако же, явного противоречия, заключавшегося между этим заявлением и тем, что она говорила вначале, когда она, оправдывая свое равнодушие к нему, уверяла его, что ей одинаково чужды и патриотические, и любовные помыслы. Галл, с той проницательностью страсти, от которой не ускользает ничего, что могло бы послужить ей на пользу, заметил это противоречие и поспешил ухватиться за него.
– Видишь ли, Ревекка, ты говоришь только устами, а не сердцем. Ты думаешь о войне: сейчас ты в этом призналась, а несколько минут тому назад ты отрицала это; и в то же время ты думаешь и о любви. Да, ты любишь, ибо ты лжешь. Ты ничем не лучше других, ты, которую я ставил в моем сердце выше существ бессмертных; и ты тоже пропитана ядом. Ты, столь красивая и гордая, столь возвышенная духом, ты ничем не отличаешься от остальных женщин. У тебя даже не хватило мужества сказать несчастному, который любит тебя, который готов отдать за тебя свою жизнь, любишь ли ты его!
– Я сказала тебе, Галл, что я не ненавижу тебя. Слово мое столь же чисто и прозрачно, как и вода этих фонтанов, плеск которых достигает нашего слуха, как и тот золотой свет, который обливает нас, оно столь же истинно, как и наши священные книги. Я не могу ненавидеть человека, который не питает ко мне никакого иного чувства, кроме любви.
В памяти Галла снова всплыли слова Береники. Признание Ревекки, исключавшее ненависть, не исключавшее, однако же, любви, он принял за признание робкого сердца, которое не решается сделать полного признания, но которое выдает себя, однако, своей робостью. В его глазах блеснул луч надежды, взгляд его смягчился, и он воскликнул с такой искренностью, которая не могла не тронуть Ревекку:
– О, скажи мне, что ты любишь меня, Ревекка! При том мучительном состоянии, в котором я нахожусь, для меня недостаточно знать, что ты не ненавидишь меня. Я желаю быть уверенным в твоей любви: сомнение, как змея, гложет мое сердце, и этому должен быть положен конец. Да наконец разве я не могу умереть завтра же? Я желаю быть счастливым по крайней мере один раз, я буду счастлив, если ты скажешь то, о чем я прошу тебя всеми силами моей души. Я предпочитаю умереть сейчас же, выслушав твой ответ, чем жить вечно без божественного признания, которое я молю у тебя.
– Не настаивай, Галл, и давай прекратим разговор, который я не могла бы продолжать, не краснея.
Слова эти были произнесены голосом тихим, но нежным. Ревекка встала и сделала несколько шагов к лестнице. Кровь прилила к голове Галла, он кинулся к Ревекке в ярости, точно безумный, опьяневший от бешенства и от любви, с протянутыми вперед руками, с дрожащими губами.
– Ты не выйдешь отсюда, – произнес он глухим голосом, – не сказав мне того, что я желаю знать.
Этот тон не испугал Ревекку; она решила не отнимать у Галла всякую надежду в интересах своего дела, но не желала заходить слишком далеко.
– Ты просто безумствуешь, – сказала она ровным голосом, – ты ошибаешься, если воображаешь, что можешь силой заставить меня сказать то, о чем я решила умолчать. Не удерживай меня здесь; я не ненавидела тебя, когда ты пришел сюда; но я почувствовала бы к тебе презрение, если бы ты вздумал упорствовать, а от презрения до ненависти – только один шаг.
Но Галл уже не в состоянии был спокойно слушать ее. В этой женщине, ради которой он готов был принести в жертву все за одно только слово ее любви, перед которой он готов был преклониться, повергнуться в прах, как перед божеством, если бы это слово сорвалось с ее уст, – в этой женщине он теперь видел только упрямую и капризную куртизанку, злоупотреблявшую красотой своей и которую можно было разбить, как игрушку. Красота эта еще никогда не являлась в таком блеске.
Ревекка стояла на залитой светом площадке со сверкавшими от волнения и гнева глазами; щеки ее пылали, губы дрожали, мантия ее откинулась назад. Галл совершенно опьянел от страсти и от гнева; он кинулся к ней, обхватил ее своими сильными руками и судорожно поцеловал ее в полуоткрытые губы. Ревекка рванулась, стараясь освободиться из его объятий.
– Галл, – воскликнула она дрожащим голосом, – ты не достоин даже сострадания! Я ненавижу и презираю тебя!
– А-а! Ты ненавидишь меня! Наконец-то мне удалось заставить тебя высказаться! Хорошо! Хотя ты и ненавидишь меня, но я тебя люблю и добьюсь того, чего я желаю. Если ты не хочешь стать женой моей, я сделаю из тебя мою наложницу!
Он отстегнул свой меч; затем запер дверь и снова кинулся на Ревекку. Она бросилась к краю башни, твердо решив скорее умереть, чем отдаться обезумевшему от страсти римлянину.
Галл приблизился к ней, тяжело дыша, и схватил за кисти рук.
– Еще не поздно! – воскликнул он. – Скажи мне, что ты готова стать моей женой, и я отпущу тебя.
– Я никогда не выйду, – спокойно произнесла Ревекка, которой опасность возвратила хладнокровие, – замуж за человека, способного на то, что ты замышляешь. Нас и без того разделяла бездна, а ты еще более расширил ее. Ревекка никогда не выйдет за
человека, которого презирает.
Галл снова попытался привлечь ее к себе. Ревекка смогла вырваться и подскочить к самому краю. Только один шаг отделял ее от бездны.
– Если ты сделаешь еще хотя бы один шаг, я убью себя! – воскликнула она.
Галл остановился. Его опьянение моментально исчезло. Дикий характер его страсти исчез. Удивление, внушенное ему ее мужеством, возвратили в его глазах молодой девушке все ее обаяние.
– Остановись, Ревекка! – воскликнул он. – Я был безумцем, но безумие мое прошло и теперь осталась одна только любовь. Не бойся, ты находишься под покровительством моей любви.
– Как я могу положиться на слово человека, – сказала она, – который не уважает ни законов гостеприимства, ни дружбы? Разве не ты назвался другом моего деда? Разве не ты привез нас под этот гостеприимный кров? А между тем ты не постыдился угрожать моей жизни и моей чести!
– Не упрекай меня, Ревекка! Клянусь тебе всем, что только есть священного для человека, клянусь тебе воспоминанием о моей родине, теми высокими горами, среди которых я родился, клянусь тебе богами моих предков, что я не нанесу тебе оскорбления.
– Я не желала бы лишиться дружбы твоей, Галл, и поэтому прежде, чем уйти, я хочу, чтобы ты поклялся мне не только в том, что ты не нанесешь мне никакого оскорбления, – я и без того сумела бы избежать его, – но что до окончания войны уста твои никогда не раскроются для того, чтобы говорить мне о любви. Не думай, Галл, чтобы я когда-либо забыла о Иерусалиме; до тех пор, пока священный город будет находиться в опасности, сердце мое не в состоянии будет радоваться и мысли мои по необходимости должны быть печальны.
– Значит, ты позволяешь мне надеяться? – спросил Галл.
– Надежда – всеобщее достояние; всякий имеет право дышать тем же воздухом, каким мы дышим. Но только не предавайся иллюзиям. Нас отделяют друг от друга тысячи препятствий: ты – римлянин, ты враг моего отечества и ты угрожаешь его существованию.
Слова эти не отнимали, однако, у Галла надежду.
– Значит, ты меня не ненавидишь? – спросил он.
– Нет! Еще несколько минут тому назад я ненавидела и презирала тебя, но в настоящую минуту я испытываю только чувство жалости к тебе. Какой же ты был безумец, если вообразил себе, что в наших сердцах любовь может зародиться в один день! Мы желаем, чтобы нас завоевали, как укрепленные города.
– Прости, Ревекка, но, право, же, я не настолько виноват, как тебе кажется. Да и к тому же, если я виноват, то виноват не я один. Твоя поразительная красота, слова Бериники, ложь Марии Рамо…
– Береника говорила с тобой обо мне! Но на кого же после того положиться, если даже царевны выдают тайны своих друзей! Что касается Марии Рамо и того, что она могла сказать тебе, то я краснею при одной мысли о том, что ты расспрашивал ее обо мне, и я даже не желаю слышать того, что она могла бы ответить…
Ревекка произнесла эти слова с выражением такого отвращения, что если бы у Галла оставалось еще хотя бы малейшее сомнение в ее непорочности, то это сомнение должно было окончательно исчезнуть.
Вдруг раздался звук трубы: это был сигнал к отъезду в лагерь, куда Галл должен был провожать Тита.
– Я совсем было забыл о моем долге, – сказал он, – это одно могло бы доказать тебе всю безграничность моей страсти, Ревекка. Мне придется пробыть несколько дней под стенами Иерусалима. Если бы ты знала, какие мучения причиняет мне эта ужасная война…
Ей показалось, что теперь ей представлялся удобный случай узнать о том, что происходит в Иерусалиме, надеясь узнать, что замышляется против священного города. Поэтому она принялась расспрашивать Галла о планах римлян.
Расставшись с Галлом, Ревекка стала думать, как ей передать Симону добытые ею сведения. Вдруг она увидела Бен Адира, шедшего ей навстречу.
– Ревекка, – сказал он ей, – меня послала к тебе Дина, она говорит, что одна из женщин, сопровождавших Марию Рамо, желает переговорить с тобой.
– Какая женщина? – спросила Ревекка не без удивления, не будучи в состоянии представить себе, что могло бы быть общего между ней и служанкой куртизанки.
– Дина не назвала мне имени этой женщины, – ответил Бен Адир, – но, по-видимому, она хочет сообщить тебе важные новости.
X
Женщина, о которой сказали Ревекке, была та самая Елизавета, мать Матафии, которую Бен Адир встретил в Иерусалиме, та самая, которая привела в храм Марию Рамо и обнаружила перед собравшимся народом измену Элеазара. Когда Бен Адир, узнавший ее, назвал ее по имени, Ревекка обрадовалась.
– Ты находишься у друзей, – сказала Ревекка, беря ее за руку. – Бен Адир много говорил мне о тебе, и я знаю, каким уважением Елизавета пользуется со стороны Бен Гиоры. Без сомнения, он послал тебя сюда?
– У меня действительно есть поручение к дочери шейха Илата, – ответила Елизавета, вынимая из-за пазухи письмо.
Симон извещал Ревекку, что она может вполне положиться на женщину, которая передает ей это письмо. Ревекке хотелось бы найти нечто другое в письме любимого ею человека; она нашла это письмо сухим и холодным, и сердце ее болезненно сжалось, ею овладело какое-то предчувствие, но она сделала над собою усилие, овладела собой. Она подвела Елизавету к дивану, усадила ее на него и сама села рядом.
Елизавета заговорила первой.
– Прежде, чем сообщить тебе истинную цель моего прибытия, – сказала она, – я должна рассказать, что случилось в Иерусалиме после того, как оттуда пришел Бен Адир.
– Мне уже известно кое-что о военных действиях, – перебила ее Ревекка, которой хотелось поскорее узнать, что сообщает ей Симон, и надеясь услышать что-нибудь, что касалось бы ее лично. – Я пользуюсь полным доверием Береники и Галла; мне даже известно не только то, что уже случилось, но и то, что замышляется в ближайшее время, и перед твоим отъездом я передам тебе все, что мне известно, для того, чтобы ты могла сообщить это Симону. Ну а теперь говори.
– Тебе, вероятно, известно, что с первых же дней появления Тита под стенами нашего города предместья были совершенно разрушены. Деревья были срублены. В течение нескольких дней и ночей на нас, на наши дома, на наш храм метали громадные камни. Затем наступила очередь таранов, которые со стороны Хлебных ворот, Царских гробниц и Масличной горы не переставали громить наши укрепления со страшным шумом и грохотом. Нам порою казалось, что земля дрожит и что Масличная гора вот-вот обрушится. Воины наши делают все, чтобы защищать священные стены, чтобы мешать осаждающим возводить свои сооружения, чтобы разрушать их, чтобы спастись от их метательных снарядов. Я слышала, что ты пела воинственную песню Деборы. То же самое пламя горит и в груди всех истинных иудеев в Иерусалиме. Все они, подобно Зевулону, с презрением относятся к смерти, все, подобно Нафтали и Вениамину, поднимаются на укрепления, кидаются вперед с той же неустрашимостью, и земля дрожит перед лицом их, и стены колеблются под их ногами. Священный гимн звучит во всех сердцах и одинаково воодушевляет всех. Галл, быть может, уже сообщил тебе, что однажды Симон, выйдя из ворот Гиппиковой башни, разрушил все возведенные римлянами осадные машины и добрался до самого их лагеря и что в ту же ночь одна из трех башен в 50 локтей вышины, построенных Титом для того, чтобы господствовать над нашими укреплениями, обрушилась под нашими ударами. После двухнедельной ожесточенной борьбы "Никон", самое большое из стенобитных орудий римлян, приблизилось, однако, на довольно близкое расстояние к городской стене, и была пробита брешь, вследствие чего стала открытой вся северная часть города. Тотчас же римляне обратили свои усилия против второй стены, но здесь они встретили сильное сопротивление. В течение четырех дней между обеими сторонами шла упорная борьба: Иоанн со своими войсками держался в форте Антония и в портике храма, занимая всю северную часть города до гробницы Александра; Симон защищал местность от гробницы первосвященника Иоанна до Водопроводных ворот. Кровь лилась ручьями, как волны Кедрона, сталкивающиеся и разбегающиеся в разные стороны с глухим шумом. Неприятелю удалось удержаться во второй стене, теперь готовится нападение на третью стену.
Ревекка, слушавшая ее с тревожным волнением, хотя ей в общих чертах уже известны были все новости, прервала Елизавету и попросила рассказать о настроении горожан.
– Твоя высокая и благородная душа, Ревекка, сама должна подсказать тебе ответ на этот вопрос: для людей храбрых неудачи являются лишь новым стимулом. Храм может быть разрушен, но он не будет сдан. Если виноградник должен быть взрыт и виноград брошен в чан Божьего гнева, как говорит пророк Зеведей, то мы, если понадобится, смешаем нашу кровь с вином… Жизнь ничто без свободы ума и сердца, а римляне всюду вносят рабство. Если бы только ты могла послушать все, что нам иногда говорит об этом Симон бен Гиора!..
Елизавета замолчала; ей как будто стоило некоторых усилий продолжать. Ревекка заметила ее колебание и спросила:
– Елизавета, неужели ты боишься быть со мною вполне откровенной? Быть может, дело идет об отце моем и о моей бабушке, оставшихся в Иерусалиме? Мы должны походить на камень, брошенный в цель: нам нечего смотреть на то, что находится на пути этого камня…
– Иосиф Флавий интригует, – тихо сказала она, опасаясь, чтобы слова, не дошли до слуха Бен Адира; хотя она знала, что на него можно положиться, он действует сообща с первосвященником Матвеем. Их обоих поддерживает все, что осталось в городе из партии саддукеев и фарисеев. Правда, они еще не решаются открыто выступать в совете со своими гнусными мнениями: но они втихомолку стараются поколебать мужество граждан, ослабить сопротивление…
– Неужели это правда? – воскликнула Ревекка.
– Увы, к сожалению, все это слишком печальная правда! Но дело в том, что доказательств мы не имеем и мы рассчитываем на тебя. Необходимо, чтобы ты во что бы то ни стало добыла их от самого Иосифа Флавия.
– Иосиф – человек ловкий; его нелегко повести туда, куда он не желает идти. Он чует ловушку даже еще раньше, чем она поставлена.
– Мне лучше, чем кому-либо, известна его ловкость, его осторожность, его предусмотрительность. Змея пустынь не может быть лукавее, а дикая серна не может быть ловчее его; он чует издали врага не хуже любого ворона. Но орел из выси небес разглядел змею, иерихонский пес напал на след серны, коршун уже наметил ворона. Симон соединяет мужество льва с мудростью змея. Вот что он придумал: что ты, Ревекка, сказала бы о том, если бы оказалось возможным склонить Иосифа к какому-нибудь решению, которое можно бы было обратить против Матвея, под тем условием, понятно, чтоб об этом решении можно было возвестить заранее и представить его результатом соглашения между ними? В случае удачи сообщничество и заговор обоих участников мог бы считаться доказанным. А последствия нетрудно понять: раздраженный народ не стал бы сомневаться в столь ясно обнаруженной измене, а положение благомыслящей части совета, колеблющейся ныне из страха смерти, было бы упрочено; она не стала бы рисковать, возбуждая народную ярость, и сторонники мира уже не могли бы более рассчитывать на нее.
– Я понимаю, – сказала Ревекка, внимательно слушавшая Елизавету. – Народу нужно будет сказать: первосвященник Матвей и Иосиф Флавий держат сторону римлян; они сговорились между собой. Потом Иосиф выступит с мирными предложениями от имени Тита. Понятно, что если несколько дней спустя Иосиф действительно сделает то, о чем было возвещено уже за несколько дней перед тем, то не будет подлежать ни малейшему сомнению, что он действует сообща с Матвеем; последний явится изменником, будут требовать его смерти, и он по меньшей мере будет свергнут; падение же его напугает тех, которые стоят за мир, а умеренная часть совета сделается осторожнее и не посмеет настаивать на заключении мира. Из всего этого вытекает то, что нужно убедить Иосифа, чтоб он отправился в Иерусалим и сделал от имени римлян мирные предложения.
– Именно так! – воскликнула Елизавета, обрадованная тем, что ее так хорошо поняли.
Ревекка только не могла понять, каким образом Матвей, бывший другом Симона, мог отречься от него? Да и основаны ли возводимые против него обвинения на достаточно веских доказательствах? Она попросила у Елизаветы разъяснений.
– Да, – ответила Елизавета, – действительно Матвей был другом Симона, и он даже призвал его в Иерусалим, но потом отношения их изменились. Бывают такие люди, вера и мужество которых исчезают перед призраком смерти. Матвей принадлежит к их числу, и он еще более виновен, потому что имеет право говорить от имени Иеговы. Таково по крайней мере мнение Симона, который не придерживается того правила, что дружбу следует ставить выше долга. Что касается доказательств, Ревекка, то его измена не может подлежать сомнению; о ней сообщил нам отец твой, который, в свою очередь, узнал это от твоей матери.
– Хорошо, – сказала Ревекка, удовлетворенная этими объяснениями, – но я должна предупредить тебя, что Флавий, хотя и приходится мне дядей, не любит меня и не доверяет мне. С тех пор, как я живу здесь, у Береники, у которой я осталась, чтобы успешнее служить делу Иеговы и Симона, он следит за мной. Он уже не доверяет мне. Каким же образом мне внушить к себе доверие? Сказать, что в сердце моем наконец одержало верх чувство жалости, что я не могу долее видеть без ужаса страдания народа Божьего? Он мне не поверит; я и теперь уже вижу на его тонких губах насмешливую улыбку. Я опасаюсь даже, что мое обращение к нему может оказаться не только бесполезным, но даже опасным. Он, без сомнения, постарается сам себе объяснить истинные его причины и заподозрит западню.
– Все равно, Ревекка, нужно, чтобы ты сделала эту попытку. Если ты потерпишь неудачу, то мы вместе с тобой постараемся придумать что-нибудь другое. Я даже откровенно скажу тебе, что не столько важно, чтобы ты успела обойти Иосифа, сколько то, чтобы мне удалось переговорить с ним, причем ты должна только присутствовать при нашей беседе. Это, впрочем, требует некоторых разъяснений… Того, что я тебе сейчас скажу, Ревекка, никто не слышал из моих уст. Я делаю это только потому, что доверяю тебе. Но сердце сердцу весть подает, и никто не может быть более тебя достоин дружбы Елизаветы, ибо ты не страшишься никаких опасностей, лишь бы только служить святому делу. Итак, знай, что Иосиф Флавий не всегда был другом римлян. Он даже боролся против них до взятия Иотапаты. Как подумаешь, дитя мое, насколько люди могут изменяться! После падения Иотапаты, спасаясь от римлян, он спрятался в пещере, где пробыл несколько дней. Он утверждает, будто в этом убежище его обнаружила женщина, которая выдала его римлянам. Да, это верно! Но он умалчивает о том, что женщина же спасла его от врагов и отыскала ему убежище, что у этой женщины была дочь, которую несколько времени спустя он же соблазнил и обманул, и что если потом он и был выдан, то был выдан не этой женщиной и не дочерью ее, а соперницей соблазненной и обманутой дочери, которая отомстила за измену изменой же. Вот вся истина, из которой он рассказал только частицу, как ты сама теперь можешь убедиться в этом, Ревекка. Ну, так знай же, дитя мое, что женщина, которая спасла его, – это была я; молодая девушка, которую он обманул, – это моя дочь, что он нарушил и законы благодарности, и законы гостеприимства; он даже нарушил, быть может, нечто еще более священное, – он разорвал узы, связывающие людей, преследующих одно общее дело, ибо он знал, что мы обе, дочь моя и я, поклялись в вечной ненависти к римлянам, что враги их были нашими друзьями и что он, в то время самый непримиримый враг их, являлся в глазах наших в ореоле Маккавеев, Давида, Саула. Ведь он, подобно этим героям, с честью и славой боролся против преследователей евреев. Правда, уже вскоре он сам постарался порвать эти узы и совершил еще более гнусный поступок… Я до сих пор хранила в тайне этот его позорный поступок, Ревекка, из чувства уважения не к нему, а к тебе, к твоей матери, к твоему благородному отцу, наконец. Но ныне всякие соображения должны быть отброшены в сторону, если он не исполнит того, что мы от него требуем. Я надеюсь склонить его к этому, ибо он чувствителен к общественному мнению, и в особенности к мнению римлян и Береники. Он желает, чтобы его считали честным и справедливым человеком. Уже в течение целых двадцати лет он хлопочет о том, чтобы составить себе такую репутацию, ну, так если он откажется оказать Иерусалиму ту услугу, которой мы от него потребуем, то я сорву с него его фарисейскую маску, я растопчу ногами его венец. Полагаешь ли ты, что ввиду моей угрозы открыть все Беренике, Титу, Иерусалиму, изобличить его в измене и в подлости он в состоянии будет не исполнить нашего требования? Я его хорошо знаю: ничто не в состоянии удержать его, когда затронуты его честолюбие или его тщеславие; он в состоянии был бы избавиться от угрожающей ему опасности, он велел бы заключить меня в тюрьму и даже распять меня… Вот почему, Ревекка, мне необходимо твое содействие. Если мне придется обращаться к нему с угрозами в твоем присутствии, то они подействуют сильнее; и я полагаю, что мне не придется даже прибегать к этой крайности. Он просто исполнит наши желания, и, быть может, даже в уме его не возникнет никаких подозрений. Ведь вполне естественно, что женское сердце сильнее страдает при виде наших бедствий…
– Ну, так идем же к нему! – воскликнула Ревекка, поднимаясь. – Я уже сказала тебе, что он меня не любит, хотя бы мне стоило только пожелать того, – и он бы полюбил меня. Но он боится меня, а когда в деле не замешано его честолюбие, он охотно исполняет капризы "леопарда", как он меня называет. Он знает, что я его презираю, и, вероятно, поэтому-то он и боится меня. В детстве я ставила его имя наряду с именем Симона бен Гиоры. Теперь я тем более зла на него, что он обманул мои надежды и запятнал имя, которое он мог бы прославить.
Женщины застали Иосифа в комнате, которая была отведена ему Береникой. Он принял их со всеми проявлениями римской вежливости, которой он любил подражать.
– Береника сказала мне, что ты устала, Ревекка, – произнес он с ласковой улыбкой. – Вот что значит, дитя мое, гоняться за рукоплесканиями и исполнять за один вечер роли Деборы и Суламифи! И одной из них достаточно. Поверь моей опытности: нельзя служить разом двум господам, Богу и Мамоне. Это, кажется, сказал тот отщепенец, Назареянин, но это не мешает словам этим быть справедливыми. Кстати, приход твой напомнил мне, что я еще не успел похвалить тебя за твой талант. Ты просто сама превзошла себя третьего дня. Тит и Береника были в восторге, – и совершенно справедливо. Я и в Риме не видывал лучшей актрисы. В тебе соединились красота Поппеи и талант Нереи…
Дядя и племянница на могли встречаться, не наговорив друг другу колкостей. Ревекка отлично сознавала это и поэтому дала себе слово быть на этот раз спокойной, не давать воли своим чувствам. Но с первых же его слов она почувствовала, что эта ее решимость начинает слабеть. Намек на событие, которое она желала бы забыть и которое привело уже к столь неприятным для нее последствиям, раздражил ее. Ее особенно оскорбил не столько насмешливый и иронический тон, которым были сказаны эти похвалы, сколько сквозившее в них плохо скрытое презрение к тем вещам, которые для нее были священны…
– Флавий, – сказала она серьезным тоном, – мне кажется, что те обстоятельства, в которых находится священный город, город твоих и моих предков, вовсе не такого рода, чтобы давать повод для шуток. Я по крайней мере опечалена и с трудом удерживаю слезы, когда вспомню о тех страданиях, которые приходится выносить нашим согражданам.
– А я, Ревекка, полагал, что ты наконец образумилась и что как в воинственной, так и в любовной песне твоей, – таково мнение и Береники, – сказались только артистическое вдохновение или девичий порыв, что ты просто желала блеснуть своими талантами перед могущественными друзьями…
– И что я желала идти по стопам моего дядюшки, не так ли?
– Ну, полно, Ревекка, я был далек от мысли оскорбить тебя, я тебя искренно люблю, – сказал Иосиф ласково. – Неужели же преступление – сказать, что ты была больна и что ты исцелилась, как полагает Береника?
– Да, это преступление, если болезнь, от которой, как ты полагаешь, я выздоровела, называется состраданием к несчастным моим согражданам и любовь к городу, в котором живет и твоя мать, Иосиф Флавий!
– Они сами виноваты в своем несчастии, и счастье их зависит от них самих. Впрочем, я отличаю слабых и заблуждающихся от разбойников и преступников. Если сострадание твое распространяется на всех, даже на разбойников, то я, понятно, расхожусь с тобой во мнениях.
Слова переполнили чашу терпения Ревекки. Услышав, что друзей ее, тех, которые страдали за дело, которое она считает святым, за Божье дело, называли разбойниками и преступниками, Ревекка вышла из себя и совершенно забыла и о Елизавете, и о том деле, ради которого она пришла к Иосифу.
– Флавий! – воскликнула она торжественным и дрожавшим от волнения голосом, – ты заставляешь меня делать невыгодные для тебя сравнения! Ты называешь разбойниками людей, которые жертвуют своей жизнью для защиты своего домашнего очага и своего Бога против деспотизма и неверия! Ты называешь преступниками тех людей, за которыми идет целый народ! Но в таком случае, что же такое все остальные? Что же такое ты сам, Флавий? Ты, значит, желаешь, чтобы я объяснила тебе, кто хорош и кто дурень, кто овцы и кто козлища, кто сыны Божьи и кто сыны Ваала и чем можно отличить истинных евреев от ложных.
– Истинные евреи, – сказал Иосиф, – это те, которые слушаются голоса мудрости, а ложные евреи – те, которых увлекает за собой голос безумия…
– Вот как! – произнесла Ревекка с выражением горькой иронии и глубокого презрения. – Значит, по-твоему, мудрецами следует считать этих нарумяненных фарисеев, лица которых покрыты лаком лицемерия. А ложными евреями, по-твоему, следует считать тех, которые стремятся не к одной только внешней, а к действительной мудрости и добродетели, которые не кричат и не спорят, голоса которых не услышишь на улицах, которые не стараются совсем обломить надломанную ветвь, которые не заливают тлеющийся еще огонь, которые желают, чтоб у Божьих детей было место, в котором они могли бы преклонить голову, подобно тому, как лисицы имеют свои логовища, а птицы поднебесные – свои гнезда, наконец, те, которые жаждут справедливости и терпят за это преследования, которые не признают другого Господа, кроме Иеговы, которые умеют умирать за Него и за свободу?
– Милая Ревекка, – сказал он ей спокойно, – ты говоришь так, как говорит мудрец или тот проповедник из Назарета; если я не ошибаюсь, ты даже, кажется, повторяешь его слова; а между тем я полагал, что ты принадлежишь не столько к его секте, сколько к секте "ревнителей", Ты поддалась гораздо больше, чем я предполагал, этим химерам.
– "Ревнители" стремятся к справедливости; они видят в своих ближних братьев своих; им не нужно проходить Тору для того, чтобы найти истину. Иегова первый сказал устами своих пророков: "Если враг твой голоден – накорми его; если он жаждет – напои его. Бог возвратит тебе это сторицей".
– Однако неужели ты пришла для того, чтобы склонять меня к твоему толку?
– Ты прав, – сказала она более мягким голосом, – теперь не время рассуждать, я люблю хорошие слова, но я еще более люблю хорошие поступки и хотела предложить тебе сделать хороший поступок.
– Ну, так садись вот здесь, возле этого окна, – ответил Иосиф, улыбаясь. – Самое лучшее средство для того, чтоб успокоить наш ум, – это смотреть на небо или прикасаться к тому, с помощью чего мы его исследуем. В этом-то я и черпаю ясность мыслей и забываю о суете мирской.
Ревекка села подле своего дяди на указанное им место. Елизавета, не приподнимая своего покрывала, осталась стоять в некотором отдалении. Иосиф не обращал на нее внимания, принимая ее за прислугу.
– Тебе лучше, чем мне, известно, что происходит в Иерусалиме; известно, конечно, и то, что известно всем и каждому, – что в городе свирепствует голод, что женщины и дети ежедневно умирают тысячами, что дома и даже улицы завалены трупами. Не пора ли положить конец этим бедствиям?
– Да, конечно; но только я-то тут при чем? Не в моей власти вернуть разум безумцам, точно также, как не в моей власти отнять свирепость у тигра или когти у льва.
– Нет, ты можешь сделать больше, Флавий. Иегова одарил тебя даром красноречия. Ты мог бы, если бы пожелал этого, убедить этих доведенных до отчаяния людей. Твое слово может быть или Кедронским потоком, который все увлекает, или Силоамским ручьем, который орошает и утоляет жажду.
Иосиф не привык выслушивать комплименты от своей племянницы и поэтому был польщен ее словами. Поэтому он готов был бы сделать что-нибудь приятное для нее; но зная, до какой степени он непопулярен в Иерусалиме, он опасался, как бы шаг, которого от него требовали, не повел к результатам совершенно противоположным тем, которых ждала Ревекка. Подумав немного, он сказал:
– Ревекка, я справлялся у пророка и не могу исполнить того, чего ты от меня требуешь. Против Иеговы бороться невозможно, а Он осудил Иерусалим…
– Иегова не может противоречить самому себе. Бог не может изменить слова Божьего!
– Но каким же образом ты объяснишь, Ревекка, все небесные и земные знамения, повторяющиеся с самого начала нашего восстания против Римской империи? Над Иерусалимом в течение целого года виднелась комета в виде огненного меча. До начала войны народ собрался для празднования Пасхи; вдруг, в девятом часу ночи, в течение целого получаса, вокруг храма засиял такой яркий свет, что было светло, точно днем, между тем как за священной оградой царил глубокий мрак. Около того же самого времени, во время тех же праздников, корова, которую вели для жертвоприношения, родила ягненка в самом храме. Восточные двери храма, как тебе известно, сделаны из меди, и они так тяжелы, что двадцать человек, напрягая все свои силы, едва в состоянии открыть их; а между тем однажды, ко всеобщему изумлению, они распахнулись сами собой, несмотря на то, что они были заперты громадными замками…
– Флавий, – сказала Ревекка, перебивая его, – я, конечно, не позволю себе сомневаться во вмешательстве Иеговы в дела человеческие; но мне кажется, что для тех необычайных явлений, о которых ты только что напомнил, можно подыскать и другое объяснение. Сияние над храмом, тяжелые двери, отворяющиеся точно под дуновением Иеговы, двойная жертва вместо простой жертвы – во всем этом я не вижу ничего особенно страшного для избранного народа…
– Да, то же самое говорили и лжепророки для того, чтобы ввести в заблуждение наш несчастный народ; они даже выводили из этого благоприятные предзнаменования. Но есть еще и другие предвестия, еще более несомненные, в которых нельзя не найти указаний на неминуемую гибель Иерусалима.
– Какие же это предвестия? – холодно спросила Ревекка.
– Вскоре после праздников вокруг всего города можно было видеть полчища духов, направлявшиеся к городу и собиравшиеся осадить его. В ночь на пятидесятницу священники были в храме и отправляли богослужение; вдруг раздался какой-то непонятный шум и под священными сводами раздался голос, повторивший несколько раз кряду: "Выйдем отсюда". За четыре года до начала войны, когда Иерусалим еще наслаждался миром и благополучием, Иесус бен Анания, простой крестьянин, приблизившись к вратам скинии, воскликнул: "Горе Иерусалиму!" И он не переставал бегать и днем, и ночью по всему городу, повторяя все один и тот же возглас. Несколько знатных горожан, которым надоели его зловещие возгласы, велели высечь его розгами, причем он не испустил ни одного крика, не сказал ни единого слови в свою защиту и только повторял свои жалобные возгласы Наконец власти, придя к убеждению, что во всем этом есть нечто сверхъестественное и божественное, повели его к губернатору Иудеи, Альбину, который велел бичевать его до крови. Но и это истязание не в состоянии было извлечь из него ни одной слезы, ни одной мольбы; при каждом наносимом ему ударе он повторял только: "Горе, горе Иерусалиму!" А на вопросы Альбина о том, кто он такой, откуда он родом и что побуждает его произносить подобные речи, он ничего не отвечал.
– Да, все это мне известно; мне известно также и то, что после Альбин прогнал его как безумца. Ему бы с этого и следовало начать. Пророк твой – некто иной, как безумец Зеведей, который, как говорят, не перестает юродствовать таким образом в течение семи лет и пяти месяцев, без малейшей устали и даже без малейшего ущерба для своего здоровья и своего голоса. Поверь мне, Флавий, если бы предсказание твое относительно Веспасиана не имело иного основания, ни ты, ни он, вы не пользовались бы теперь таким влиянием и такою властью. Право, досадно видеть, как люди, подобные тебе, окружают лучезарным сиянием пророков легкомысленные головы и принимают за откровения неба бред больных и омраченных страхом умов.
– Ты, Ревекка, – девушка ужасно неверующая. Неужели ты станешь отвергать и то, что написано в священных книгах, – что, когда храм превратится в четырехугольник, и храм, и город подпадут под власть неприятеля?
– Этого я не отрицаю. Я замечу тебе только, что это означает лишь то, что город и храм будут во власти неприятеля лишь тогда, когда неприятелю удастся овладеть ими И к этому я прибавлю еще следующее: мы считаем, что среди нас должен появиться человек, который будет повелевать всем миром. Ты увидел этого человека в Веспасиане. Всякий волен толковать явления по-своему. Для нас же истина заключается только в Торе, слове Иеговы, и в мудрых речах истинных служителей его. Иегова же не допускает на земле иной верховной власти, кроме своей. Всякое толкование Его слова в смысле раболепства перед иной волей есть не что иное, как ложь, как клевета на Него.
– Ревекка, – сказал Флавий, с трудом сдерживая свое раздражение, – ты повторяешь то, что говорят дорогие твоему сердцу "непримиримые". Но все же ты не права. Что бы ты ни говорила, дело их – дело безнадежное, а их ослепление не поведет ни к чему иному, кроме гибели Иерусалима.
– Нет, Флавий, если ты только согласишься исполнить мою просьбу и призовешь их быть благоразумными.
– Я не могу этого сделать.
– Ты забываешь, что в Иерусалиме живут твоя мать и твой брат? Неужели ты можешь допустить, чтоб они умерли от голода и от жажды? Неужели ты не сделаешь ничего для того, чтобы спасти от истребления избранный народ?
– Я тебе уже сказал, что я не люблю действовать зря. Я обдумал все последствия того шага, которого ты от меня требуешь. Хотя мне и неудобно отказать тебе, но так как я глубоко уверен в бесполезности моего шага, то я его не сделаю…
Уже вечерело. Блестящая вечерняя звезда появилась на восточном небосклоне и озаряла своим бледным светом далекие горы. Ревекка встала и подошла к окну.
– Флавий, – сказала она, – неужели наука халдеев, в которой ты так сведущ, не в состоянии объяснить тебе сочетание этой звезды и звезды Арктуруса, которая сейчас взойдет над гробницами наших царей?
– Нет, не в состоянии, – ответил Иосиф, улыбнувшись.
– Ну, так я в этом деле более сведуща, чем ты, Флавий. Звезда эта говорит мне, что ты ошибаешься, уверяя, что ты не сделаешь того, чего я от тебя требую, и она говорит правду.
Ревекка произнесла слова эти твердым, уверенным голосом. Иосиф не мог понять этой ее надменной уверенности и продолжал улыбаться как человек, уверенный в себе и в безошибочности своего решения. Но улыбка его моментально исчезла, как только женщина, которую он до сих пор принимал за служанку, откинула свое покрывало.
– Елисавета! – воскликнул он удивленно. – Кто привел тебя сюда? Чего тебе от меня нужно?
– Я хочу, чтобы ты исполнил то, чего требует от тебя Ревекка.
Елисавете известны были слабые стороны Иосифа Флавия, она рассчитывала добиться успеха.
– Ты любишь славу, Флавий, – сказала она, – ты желаешь казаться человеком мудрым и справедливым. Но я сорву с тебя эту личину, которой ты так долго морочил людей. Я скажу все: что ты делал в пещере, скрываясь от погони, что ты говорил Гликерии, твоей жене, пленнице Веспасиана, на которой ты женился из желания угодить ему, а также и о том, что заставило тебя покинуть ее. Я потребую у тебя отчета, в присутствии Береники и Тита, в твоем недостойном поведении относительно меня, относительно моей дочери. Я скажу им: "Этот человек, надевающий на себя личину добродетели, нарушил святость семейного очага…"
Опасение быть разоблаченным подействовало на Иосифа сильнее, чем какие-либо иные соображения.
– Мне нужно несколько дней для размышления, – сказал он, – теперь же я могу обещать только то, что я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы склонить Тита к предъявлению условий мира.
– Нет, не того я от тебя требую, – сказала Елисавета. – Ты должен поклясться в присутствии Ревекки, что ты лично прибудешь в Иерусалим с мирными условиями от имени Тита; ибо только ты в состоянии довести это дело до конца.
– Хорошо, я и на это согласен, – сказал он. – Я воспользуюсь первым удобным случаем.
– Нет, это должно быть сделано сегодня же, – перебила его Ревекка, понимая, что нельзя медлить, – или самое позднее – завтра.
Иосиф обещал то, чего от него требовали, и проводил женщин с любезностью фарисея, делающего вид, будто он добровольно делает то, что его заставили сделать.
Ревекка написала Симону о замыслах римлян, затем, расспросив Елисавету подробнее о положении города, она написала ему о своем плане посетить Иерусалим.
Ее удивляло молчание Симона в его письме о тех чувствах, которые он питал к ней; в его письме не было ни единого слова ласки или симпатии, не говоря уже о любви. Сначала она подумала, что он не нашел удобным писать об этом и что, быть может, он поручил Елисавете передать на словах что-нибудь такое, что могло бы успокоить ее, но, видя, что Елисавета собирается уходить, и поняв, что ей нечего от нее ждать, она вдруг почувствовала, что сомнение, точно змея, заползает в сердце. Молчание Симона заставило проснуться в ее душе демона ревности.
– А что, Зеведей в Иерусалиме? – спросила она как бы между прочим, – и неужели ему все еще позволяют беспрепятственно выкрикивать свои зловещие предсказания?
– Да, – ответила Елисавета, несколько удивившись, – впрочем, все уже давно привыкли к его крику. И к тому же у нас есть пророки, которые проповедуют войну и которых народ слушает.
– Это все, конечно, пустяки, – продолжала Ревекка равнодушным тоном, – однако, если бы я была в Иерусалиме, я бы, мне кажется, посоветовала Симону заставить его замолчать. Ты слышала, что только что сказал Иосиф Флавий: "Бессмысленные предсказания причиняют больше вреда, чем обыкновенно предполагают; ими пользуются против нашего святого дела; эти возгласы, раздающиеся из бездны, приписываются самому Иегове". Я прошу тебя, Елисавета, как женщину умную, обратить на это обстоятельство внимание Симона, если только у него нет каких-либо особых причин, чтоб оставлять свободно болтать этого зловещего прорицателя, – и, помедлив с минуту, она наконец спросила: – А что, племянница его Эсфирь тоже в Иерусалиме?
Вопрос этот не удивил бы Елисавету, но её поразило выражение, с которым были произнесены эти слова. Она сразу угадала, что Ревекка любит, и притом любит именно Бен Гиору. Это открытие опечалило ее, так как Симон только что женился на Эсфири. Ей не хотелось говорить ничего такого, что могло бы повредить Симону или Ревекке, которую она любила. Сказать ей всю правду значило бы нанести ей смертельный удар. Поэтому она постаралась обойти вопрос и сказала лишь часть правды.
– Кажется, племянница Зеведея живет при своем дяде; впрочем, я в этом не уверена. Во всяком случае, она живет в уединении, в пещере в нижней части города. Ты знаешь, что она принадлежит к так называемой христианской секте.
– Говорят, она красавица. Ты не знаешь, замужем ли она?
– Да, она замужем, по крайней мере так говорили мне. Впрочем, подобного рода вещи меня мало интересуют; у нас есть дела поважнее.
– Ты права, – ответила Ревекка, вздохнув, – нам теперь некогда заниматься этими вещами.
Елисавета собиралась уходить, и Ревекка не удерживала ее.
– До свидания, – сказала она. – Через несколько дней, если будет возможно, я постараюсь побывать в Иерусалиме. Скажи об этом Симону. Я хотела бы еще раз увидеть храм, прежде чем он будет разрушен, если только ему суждено быть разрушенным. Быть может, мне доведется быть похороненной под развалинами его вместе с тем, что я люблю…
От Ревекки не скрылось, что Елисавета невольно вздрогнула, когда она спросила ее, замужем ли Эсфирь; она, впрочем, постаралась даже улыбнуться, пытаясь скрыть то, что происходит в душе ее. Но, оставшись одна, она почувствовала, что силы оставляют ее.
– Да, я отправлюсь в Иерусалим, – прошептала она. – Я войду туда с мыслями о любви, но как бы мне не довелось выйти оттуда с мыслями ненависти и мщения…
XI
Прежде чем возвратиться в Иерусалим, Елисавета открыла Бен Адиру тайну женитьбы Симона на Эсфири и поручила ему сообщить об этом своей госпоже следить за Ревеккой. Он провел почти всю ночь возле ее спальни, сдерживая дыхание, внимательно прислушиваясь к происходившему в ее комнате. Для него не могло оставаться ни малейшего сомнения в том, что госпожа страдает и что виновник ее огорчения – Симон.
Как только что рассвело. Ревекка вышла из своей комнаты и направилась к Мертвому морю. Он последовал за ней.
Ревекка дошла до побережья Мертвого моря и остановилась в задумчивости. Взгляд ее был устремлен на черно-синие волны этого мрачного озера, которым первые лучи восходящего солнца кое-где придавали сероватый оттенок. Вдруг она вспомнила то, что Бен Адир рассказывал ей о своем путешествии в Иерусалим. "Бен Адир видел Зеведея, значит, он видел и его племянницу. Но почему же он не сказал мне об этом? Почему же он не узнал о тех отношениях, которые существовали, без сомнения, уже тогда между ней и Бен Гиорой? Нужно его сейчас же расспросить обо всем, что он видел и слышал", – думала она.
И она тотчас же направилась к вилле, желая удовлетворить свое любопытство. Как только она вернулась, Ревекка позвала к себе Бен Адира.
– Мне нужно поговорить с тобой, – сказала она ему, как только он вошел, – и поговорить обстоятельно. Поднимемся на Титову башню…
Если бы даже Бен Адиру ничего не было известно о том душевном настроении, в котором находилась Ревекка, о ее волнении и ее тревоге, то нетрудно было понять все по выражению ее лица, по ее голосу, по тому раздраженному тону, которым произнесены были эти слова. Бен Адир последовал за ней молча, сам чувствуя какую-то тревогу и волнение.
Когда они вышли из сада, Ревекка вдруг сказала:
– Нет, мы не пойдем на Титову башню. Ноги мои подкашиваются, и я чувствую, что не в состоянии буду подняться так высоко.
И она пошла к Мертвому морю. Тем временем солнце поднялось уже довольно высоко, воздух становился удушлив, они шли по сухой, каменистой земле. Из-за серого тумана, расстилавшегося над озером, нельзя было разглядеть горизонта. Когда они удалились уже на довольно значительное расстояние от виллы, Ревекка остановилась и сказала:
– Послушай, Бен Адир, я сердита на тебя: ты мне передал не обо всем, что ты видел и о чем ты слышал в Иерусалиме.
Бен Адир побледнел и посмотрел на нее грустным взглядом, точно упрек этот удивил его.
– Ну что же, ты не понимаешь меня? – спросила Ревекка резким, почти угрожающим тоном.
– Я передал тебе все, что, как мне казалось, должно было интересовать тебя, – ответил Бен Адир спокойно. – Я пересказал тебе почти все, что говорил Симон в моем присутствии…
– Нет, ты мне не рассказал всего, что ты видел и слышал в пещере Зеведея.
Эти ее слова произнесены были прерывающимся голосом; затем она на мгновение остановилась, как будто ее удерживало чувство стыдливости, и наконец сказала:
– Разве ты не видел в пещере Зеведея племянницы его Эсфири?
– Как же, видел, – совершенно спокойно ответил Бен-Адир.
– Ты, значит, видел эту назареянку, ибо она назареянка; она принадлежит к этой трусливой секте, которая старается парализовать мужество защитников Иерусалима и которая видит в несчастиях, обрушивающихся на Иерусалим, лишь осуществление ее пустых пророчеств. Ты видел ее, не так ли?
– Да, видел.
– Так почему же ты ничего не сказал мне об этом?
– Потому что я не думал, чтобы это могло интересовать тебя, Ревекка.
Ответ этот несколько смутил Ревекку. Она прошла несколько шагов по направлению к Мертвому морю, храня мрачное молчание.
– Что же она, красива? – спросила она наконец сдавленным голосом.
– Да, – ответил Бен Адир, – племянница Зеведея красива; но она гораздо менее красива, чем ты.
– Дело не во мне, – произнесла Ревекка сухо, и в голосе ее послышалось даже раздражение, – я спрашиваю тебя о племяннице Зеведея. Так ты говоришь, что женщина эта красива?
– Да, все женщины красивы, когда их любят.
Она молчала, продолжая идти быстрым шагом. Бен Адир следовал за нею. Вдруг она остановилась и сказала более мягким голосом.
– Послушай! Знаешь ли, почему Симон покровительствует Зеведею, который не что иное, как лжепророк, и который, подобно черному ворону, носится по улицам, предрекая гибель Иерусалиму?
– Нет, я этого не знаю, Ревекка.
– Ты лжешь, ты знаешь это! Симон покровительствует Зеведею, потому что любит его племянницу. И тебе это было известно, слуга неверный! Почему ты мне ничего не сказал об этом? От скольких пыток ты бы избавил меня этим!
Слезы выступили на прекрасных глазах девушки; они прошли молча еще несколько шагов. Вдруг Ревекка остановилась и вздрогнула. Бен Адир, угадывавший происходившую в ее сердце борьбу, тихо сказал:
– Не отправиться ли нам вместе с тобою в Иерусалим?
При этих словах глаза его загорелись каким-то страшным огнем. Ревекка поняла его. Однако она спросила, опустив глаза:
– А зачем же нам отправляться в Иерусалим?
– Чтоб избавить тебя от племянницы Зеведея и… от другого. – Он не решился назвать Симона.
– Симон женился на Эсфири. Я это знаю. Мне вот тут что-то говорит об этом, – сказала она, кладя руку на свое сердце. – Елизавета сообщила тебе об этом, не так ли?
– Да, – спокойно ответил Бен Адир.
Ревекка остановилась и пошатнулась. Бен Адир поддержал ее.
– Пойдем домой, – сказала она через несколько минут довольно
спокойным голосом. – Нужно принять какое-нибудь решение. Отправляйся в пустыню и постарайся разыскать Иоханана. Иерусалим в нем нуждается. Он найдет меня там – у царя Исая. Ты проводишь его ко мне. Бог найдет средства, чтобы раскрыть перед вами ворота священного города.
XII
В Иерусалиме распространился слух о том, что Тит посылает осажденным предложения мира. Волнение было необычайное. Улицы и площади были переполнены народом. Женщины, дети, старики выползли из домов, с печатью нужды и лишений на лице, бледные, изнуренные, исхудалые, завернутые в свои жалкие плащи, точно в саваны. При виде их можно было бы подумать, что это призраки, вызванные вдруг каким-то волшебством из своих могил.
Имя Иосифа Флавия было на устах у всех: одни произносили его с любовью, другие – с ненавистью и ужасом. Известно было, что именно он принес с собой мирные предложения Тита.
На укреплениях, со стороны храма, образовались многочисленные группы. В них происходили оживленные споры. Друзья первосвященника Анании выступали особенно смело. Они не сомневались в успехе попытки Флавия и были в полной уверенности, что толпа не устоит против его красноречия, тем более что она была уже поколеблена вынесенными страданиями. Они рассчитывали также и на колебания умеренной фракции совета, давно уже отчаявшейся в возможности сопротивления и которую малейший толчок мог заставить отделиться от партии "непримиримых".
– Анания сегодня же вечером будет выпущен из темницы, – говорили они, – умеренные члены совета воспротивились приведению в исполнение приговора, в силу которого он должен быть побит каменьями, утверждая не без основания, что нет ни малейших доказательств его виновности. День избавления близок.
В одной из самых возбужденных групп можно было заметить сына Елизаветы, Катласа, того самого, который первый произнес слово "измена" по отношению к Елеазару. У ног его лежали жена и ребенок его, оба бледные, исхудалые, изнуренные. Среди этой группы новость произвела совершенно иное впечатление, чем среди фарисеев и саддукеев. Слова "перебежчик", "изменник", "отступник" переходили здесь из уст в уста, как круговая чаша, к которой каждый прикладывается губами. Даже женщины с бешенством пили из этой чаши.
Стоявший рядом с Катласом воин рассказывал ему о том, что произошло во время последней атаки римлян.
– Тит атаковал одну из башен второй ограды, ту, которая выходит на север, – быстро говорил он, – начал он с того, что велел направить на эту башню стенобитное орудие и приказал стрелкам и пращникам поддержать атаку, так что нам пришлось покинуть башню. В ней остались только Картор и еще десять человек. Картор – человек храбрый и искусный, или, увы, вернее сказать, был человек храбрый и искусный, ибо его уже нет в живых. Но не в том дело! Картор лег со своими товарищами на землю, прикрывшись плащами, и в таком положении они пролежали несколько минут. Затем, когда они почувствовали, что вся башня задрожала и затрепетала, подобно тому, как смертельно раненная стрелой птица несколько времени бьется на воздухе, прежде чем упасть на землю, Картор крикнул Титу, умоляя его остановить штурм. Римлянин попался в ловушку; он очень легковерен, этот любовник Береники. Ведь принял же он ее за непорочную девственницу, за какую-то дочь Ефая! Итак, он вообразил себе, будто Картор, правда, хочет сдаться. Он приказывает перестать разрушать башню и велит своим стрелкам прекратить стрельбу. Наконец, он приказал спросить Картора, чего им нужно. "Мы желаем мира", – ответил Картор с кротостью ягненка. "Хорошо, – сказал Тит. – Я вижу, что ты – человек благоразумный. Ну а что другие-то, воодушевлены ли они теми же чувствами?" Пятеро из них отвечают "да", пятеро – "нет", все это было условлено заранее. Начинаются длинные рассуждения, во время которых Картор успел подать Симону сигнал, что он отвлекает Тита и чтобы тот постарался извлечь из этого пользу. Между тем наши продолжают притворно спорить, горячатся, от слов переходят к делу, вынимают мечи, наносят друг другу удары – понятно, стараясь не причинить ими никакого вреда, – и наконец некоторые из них падают на землю, как будто они были взаправду убиты и ранены. Тит, видевший все это издалека, был вполне введен в заблуждение этой храбростью. Одно случайное обстоятельство еще более усилило в нем это заблуждение. Картору попадает в лицо какая-то шальная стрела, пущенная из римского лагеря; он вытаскивает ее из раны, показывает ее Титу, жалуясь на вероломство, недостойное его великодушия. Задетый за живое этим упреком, который он признает вполне справедливым, Тит приглашает Флавия, стоявшего возле него, отправиться в башню и подать Картору руку в знак верности его своему слову. Иосиф – продувной мошенник; но тот, кто вздумал бы сравнить его с Валаамовой ослицей, жестоко ошибся бы. Он сразу пронюхал ловушку и отказался исполнить возлагаемое на него поручение.
– Значит, врут, что Иосиф Флавий должен прибыть к нам с оливковою ветвью? – спросил кто-то.
– К сожалению, мы будем иметь удовольствие увидеть его размалеванную рожу и услышать медовый голос этого торгаша словами, который воображает себя вдохновенным, как Иеремия, потому что с тех пор, как он жрет из яслей римлян, глаза его превратились в два источника слез, более неиссякаемые, чем Силоамская купель, столь обильная в нынешнем году, и более жалобные, чем леса Фавора, колеблемые шквалами, приносящимися с Тирского моря.
– А известно ли, что ответил Тит на его предложения? – спросил какой-то раненый, поджимавший свою искалеченную ногу.
– Он просто потребовал, чтобы мы оказались героями, – ответил стрелок. – Он вообразил себе после взятия второй ограды и нового города, что мы тотчас же сдадимся ему. Когда мы показали ему, изгнав его из завоеванной уже им части нового города, что он принял кипарисы Мертвого моря за иерихонские розы, он решил, что нужно попробовать одолеть нас иным, более дешевым способом.
– А каким же образом удалось вытеснить его из второй ограды и из нового города? – спросил калека.
– Неужели ты этого не знаешь?
– Нет…
– Ну, так я расскажу тебе и об этом. Тит, заметив, что после того, как башня обрушилась, в стене образовалась довольно большая брешь, собрал до двух тысяч отборного войска и направил их в тесные улицы нового города, населенные суконщиками, торговцами железом, медниками и лоскутниками. Он не ожидал встретить ни малейшего сопротивления и шутя говорил, что аршины – не мечи, котлы – не пращи… Мы же доказали ему, что наши ремесленники и торгаши стоят варварских полчищ Гога и Магога. Две тысячи человек отборного войска его на каждом шагу подвергались нападениям, их били из-за углов и из окон домов, и они принуждены были отступить. Тщетно Тит выходил из себя: волки его дрожали, точно овцы, и в конце концов он был вынужден оставить вторую ограду в наших руках. Конечно, все это не мешает саддукеям и фарисеям утверждать, что мы уже недостойны называться потомками наших предков.
– Пусть они говорят это за себя, а не за нас, – перебил его калека.
– Ты прав, – продолжал воин. – Маккавеи воскресли, они покинули свои гробницы, которые видны отсюда, и сражаются вместе с нами, согревая наши сердца дуновением своих великих душ. Все это, без сомнения, заставило Тита призадуматься, и потому-то, вероятно, он и посылает нам Флавия.
В это время раздались громкие звуки труб.
– Это Тит производит смотр своей армии, – сказал воин. – Он желает напугать нас, прежде чем соблазнить нас; но того, чего не могли сделать его стрелы, пращи, тараны, конечно, не сделают блеск оружия и красивая сбруя его лошадей. Глаза наши окажутся столь же непоколебимыми, как и наши сердца. Неужели же любовник Береники принимает нас за каких-то непотребных женщин!
Действительно, Тит производил смотр своей армии. Легионы, составлявшие осадную армию, стояли в опустошенных предместьях и на площади Офла, недалеко от дворца Ирода. Римская армия, несмотря на большие понесенные ею потери, все еще представляла собой достаточно величественное зрелище. Пехота выступила в полном своем вооружении, которое ярко блестело на солнце. Медные каски и латы, обнаженные мечи всадников, красивая сбруя лошадей – все это блестело на солнце, а пыль, которую они поднимали копытами окутывала их точно золотистым облаком. Когда всадники, проходя мимо Тита, пустили коней своих в галоп и проскакали мимо толпы, размахивая своими длинными блестевшими на солнце мечами, то их можно было принять за легион демонов, вышедших из преисподней, на которых еще отражается красноватый отблеск вечной геенны. Это было ужасное вступление, подготовленное Титом к речи своего посланца.
Жители Иерусалима отовсюду собрались, чтобы посмотреть на это зрелище. Вся северная стена занята была любопытными, а крыши домов едва не ломились под тяжестью взобравшихся на них людей. Но еще более, чем желание посмотреть на блестящее зрелище, привлекло толпу желание послушать Иосифа Флавия, посланца Тита, которого с одинаковым нетерпением ожидали как сторонники мира, так и сторонники войны.
Едва закончился смотр, как раздался звук трубы, и народ увидел приближающегося к стенам человека, несшего гражданам в одной руке мир, в другой – войну. Иосиф Флавий был не такой человек, чтобы пренебрегать мелочами. Ему хорошо было известно, что его силу и силу римлян составляли в Иерусалиме знатные левитские семейства. Поэтому Флавий счел нужным предстать перед этими людьми и их приверженцами в таком виде, который был бы способен наиболее польстить им. Он появился в одежде, соответствовавшей всем еврейским традициям. Но этим он вызвал едкие насмешки со стороны его противников. Особенно доставалось ему из группы, собравшейся около Катласа.
– Послушайте, друзья мои, – сказал Симон бен Гиора, который был тут же, в числе других членов совета. – Нужно быть предельно осторожными. У Иосифа Флавия, друга Веспасиана и Тита, здесь есть сторонники. Пусть каждый исполнит свой долг!
Слова эти, произнесенные громким голосом, были услышаны толпой. Раздались громкие крики.
– Позор перебежчику! – кричали они.
– Нам не нужно отступника! – воскликнула какая-то женщина.
– Пусть он оставляет при себе свои почести и оставит нам нашу честь! – сказал какой-то молодой человек, опираясь на лук, который был больше его самого.
– Если бы он не продал римлянам Иотапаты, до тех пор неприступной, – говорили другие, – если бы он не предал своей армии, то римлян можно бы было остановить, и они не стояли бы в настоящее время над Иерусалимом…
Симон, слышавший все это, счел нужным еще раз вмешаться.
– Все это совершенно справедливо, друзья мои, – сказал он, – но все же мы обязаны выслушать его, на то существуют важные причины. Вы узнаете их еще раньше, чем солнце, стоящее теперь вон там, над Дамаскскими воротами, скроется, за Гильонскими высотами.
Все замолчали, и взгляды всех обратились на Флавия. Взойдя на развалины внешней ограды, возле гробницы Ирода, откуда можно было расслышать его слова, – так как ветер дул с севера, – Флавий поклонился священному городу.
– Пожалейте самих себя, – сказал он, – сопротивление ваше является просто безумием. Вы ведь издавна уже привыкли к чужеземному игу! Почему же именно теперь вы из сил выбиваетесь, чтоб освободиться от него! Прекрасно сражаться для защиты своей свободы; но раз она утрачена, стремление к приобретению ее вновь ведет к неизбежной гибели. И разве позорно входить в состав державы, владычествующей над всем миром? Человек должен уступать тому, кто сильнее его. Это делают даже и звери; это всеобщий закон природы. От кого исходит власть? От Бога. Он дает ее тому, кто ему угоден. Повиноваться более сильному, значит повиноваться Богу. Итак, вы должны покориться римлянам и притом сделать это немедля. В настоящее время они готовы еще послушаться голоса милосердия, но, если вы упустите этот удобный момент, если вы будете упорствовать в сопротивлении, они никого не пощадят…
Слова "изменник", "перебежчик", "отступник" вылетели из тысяч уст, как только он замолчал.
Как только Иосиф Флавий удалился, среди толпы раздался громкий голос:
– Пророк идет! Пророк идет!
– Кто это? Зеведей, что ли? – спрашивали со всех сторон.
– Нет, какой Зеведей. Зеведей – лжепророк! – сказал кто-то. – Настоящий пророк – Иоханан бен Захария, пришедший из пустыни.
Пророк Иоханан, подобно всем еврейским пророкам, жил в Аравийской пустыне. Елисавета провела его в город под видом пастуха с Галанских гор. Он шел медленным шагом, высоко подняв голову. Иоханан встал на "бему" – камень, служивший трибуной, и обвел всех медленным взглядом. Недаром Иоханана прозвали сыном грома: голос его был похож на оглушительный раскат грома. Каждый раз, как он возвышал его, толпа содрогалась и начинала волноваться.
– Я пришел из пустыни, – начал он, – чтобы возвестить вам слово Божие. Я удалился в пустыню с самого падения Иотапаты для того, чтобы поразмыслить о гнусной измене того человека, которого вы только что выслушали. Каким образом я проник к вам? Спросите у Моисея, каким образом он ушел от Фараона? Спросите у Юдифи, каким образом ей удалось благополучно пробраться через лагерь Олоферна и подготовить освобождение Израиля? Я спал возле самой палатки Тита, и его бдительные часовые не заметили меня… Я летал, – помолчав, продолжал он, – подобно птице Божией на крыльях облака, подобно стае воронов, которую я только что видел носившеюся над нашими укреплениями и которых созвал со всех концов света ангел-истребитель. Что за зрелище, дети Иеговы! Начиная от Силоамской купели и до ступеней храма, не видишь ничего, кроме трупов, призраков, вышедших из гробниц своих, женщин, у которых уже иссякли все их слезы, грудных детей, тщетно припадающих потрескавшимися губами своими к иссохшим грудям матерей своих, – словом, всюду – одни только бедствия и отчаяние. Сердце мое истекало кровью, пока я шел, ноги мои скользили по мостовой, обагренной кровью наших сограждан. Но я вспомнил слово Божие, и сердце мое окрепло; я отогнал от себя чувство слабости, и ноги мои донесли меня до этого места. Я пришел с тем, чтоб обличить обманщика, посланного к вам Титом. Он осмелился сказать вам здесь, перед самым храмом Иеговы, перед нашей святыней, что Бог желает подчинения вашего римлянам!..
– Никогда! – крикнул кто-то в толпе. – Никогда! – повторили тысячи голосов.
Толпой овладело неописуемое воодушевление. Мужчины потрясали оружием, женщины прижимали детей своих к своему сердцу и, казалось, сожалели о том, что младенцы еще не могут еще идти по стопам своих отцов. Отовсюду раздавались громкие возгласы. Все призывали гибель на головы римлян, все проклинали малодушных и отступников. Партия мира потерпела окончательное поражение. Вместе с тем решена была судьба Анании и его сообщников.
Среди толпы можно было заметить двух закрытых покрывалами женщин, жадно прислушивавшихся ко всему происходившему вокруг них. За ними шел в некотором отдалении человек, укутанный в темный плащ. Это были Ревекка, Елисавета и Бен Адир.
Ревекке удалось проникнуть в Иерусалим. Когда глазам ее предстал священный город, залитые солнечными лучами крыши его домов и купол храма, выделявшийся на этом фоне, как яркая звезда, она почувствовала, что всем ее существом овладели лишь два чувства: патриотизм и религия, – и еще так недавно обуревавшая ее жажда мести, казалось, была совершенно забыта.
Слова пророка Иоханана значительно ослабили чувство ненависти, которое она испытывала к Симону. Но особенное впечатление произвела на нее казнь первосвященника Анании.
Симон должен был присутствовать при этом ужасном зрелище вместе со всеми членами верховного совета. Он стоял все время неподвижный и бесстрастный. Но затем, когда он отошел в сторону, она увидела, что он вытирал слезы, выступившие на глазах; Симон долгое время был другом Анании.
Эти его слезы тронули Ревекку и поколебали ее решимость. "Он нужен для Иерусалима, – сказала она сама себе. – Пусть он живет! Время мести наступит само собой, если храму суждено погибнуть".
– Теперь нам можно идти и к отцу моему, – сказала она Бен Адиру. – Он будет доволен своею дочерью, когда узнает, что мы приняли участие в сегодняшних событиях.
Бен Адир ничего не ответил; он, казалось, даже не расслышал этих слов. Он угадал все, что происходило в сердце Ревекки, и его гнев против Симона от этого только усиливался. Он возненавидел Симона с первого же дня, и с тех пор его ненависть с каждым днем все более и более усиливалась. Сначала он ненавидел его за то что Ревекка его любила, а потом за то, что он причинял страдания той, которая отдала ему всю свою жизнь.
– Когда же мы пойдем к Симону? – Он задал этот вопрос спокойным голосом, но глаза его при этом сверкнули зловещим блеском.
– Мы еще увидим его, – ответила Ревекка.
– Ты простила его, Ревекка? – спросил он. – Это очень великодушно!..
– Кто тебе сказал, что я простила его?.. – тихо сказала она.
XIII
Неудача, которую потерпел Иосиф Флавий, ускорила ход событий. Тит понял, что ему нечего рассчитывать на сдачу Иерусалима. Произведены были новые осадные работы под руководством Галла, имевшего особые причины добиваться скорейшей развязки, он надеялся, что с падением Иерусалима наступит начало его счастия. Он велел разрушить все ходы, соединявшие цитадель Антония с первой оградой храма, чтобы оттеснить осажденных в последнее их убежище и сжечь их в самом храме. Таким образом храм превратился в цитадель, к великому неудовольствию фарисеев и саддукеев, которые утверждали, что храм Иеговы, что бы ни случилось, должен был оставаться неприкосновенным.
Храм возвышался на холме Мория. Он состоял из лабиринта стен, частью увенчанных крышами, частью открытых, олицетворявших собою мир, состоящий из света и мрака – символа Иеговы.
Галереи поддерживались колоннами из белого мрамора с обшивкой из кедрового дерева, блестящего и черного, причем игра света менялась в них с каждым часом. Все десять входных дверей, имевших по тридцати футов в вышину и по пятнадцати в ширину, были обиты золотыми и серебряными полосами, за исключением одной, украшенной полосами из коринфской стали, так славившейся в древности.
Внутренний храм разделялся на две части. Дверь первой из них, равно как и стены, представляла собою верх великолепия. Над головой виднелись виноградные ветви в человеческий рост, на которых висели гроздья, и все это из чистого золота. Двери также были сделаны из золота. Они были завешаны вавилонским ковром, в котором лазурь, пурпур, багряница и янтарь были перемешаны с таким искусством, что невозможно было смотреть на него без восхищения. Они изображали четыре стихии: багряница изображала огонь, янтарь – землю, лазурь – воздух и пурпур – море. В нижней части храма, перед святилищем, стояли подсвечник, стол для жертвоприношений и алтарь. Подсвечник о семи концах олицетворял семь планет. Двенадцать хлебов, положенных на стол, олицетворяли двенадцать знаков Зодиака и двенадцать месяцев в году.
Святилище, или Святая святых, представлявшее собой средоточие храма, было земным обиталищем "Невидимого", символом неизвестности, лежащей над происхождением всего существующего в мире, подобно тому, как у древних египтян голова Изиды была покрыта черным покрывалом. Здесь царило молчание, царила тайна. Эта часть храма была отделена от остальной длинным покрывалом, легким, но тем не менее непроницаемым, покрывалом, за которое не мог проникнуть ни единый взор.
Однажды вечером, два дня спустя после неудачной попытки Иосифа, Ревекка была вместе с другими женщинами в храме. Из глубины святилища раздавалось священное пение: "Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний – и рассыпал их. И явились источники вод, и обнаружились основания Вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Тогда простер он с высоты руку, взял меня, извлек из вод великих" [
Псалмы Давидовы, XVII, 15–17].
Ревекка была погружена в молитву. Вдруг раздались громкие возгласы, и на пороге молельни появился пророк Иоханан.
– Внешней ограде храма, – воскликнул он громким голосом, – угрожает опасность! Бой может перейти и сюда. Пусть женщины удалятся и возвратятся в дома свои. Они не должны подвергать себя опасности, ибо они должны дать миру мстителей за Божье дело!
Женщины стали расходиться, но далеко не все последовали совету пророка; многие направились к защитникам храма.
Ревекку опасность не только не пугала, а скорее привлекала. Пробужденная из глубокой задумчивости голосом пророка, она поднялась со своего места, и ею овладело непреодолимое желание сделать что-нибудь для общего дела. "Почему же, – говорила она сама себе, – одни только мужчины должны рисковать своей жизнью?" Она скрылась за одну из колонн, откуда пробралась на террасу второго храма.
Был девятый час вечера. Солнце только что скрылось за Гильонскими горами, и город начинал окутываться тьмою. Ревекка могла еще ясно видеть и ворота храма, и цитадель Антония, и стоявших в боевом порядке римских солдат. Тит несколько часов тому назад овладел цитаделью. Она узнала его по окружавшей его блестящей свите. Она увидела также стоявшего недалеко от него Максима Галла, отдававшего какие-то приказания. Римские легионы двинулись вперед. Вся земля задрожала.
По эту сторону внешней ограды стены были заняты жителями города: они ждали атаки, безмолвные, мрачные и неподвижные. Здесь собрались все мужчины, способные еще носить оружие. Дети стояли возле своих отцов, жены – возле своих мужей. Идумеяне, полунагие, облаченные лишь в звериные шкуры, особенно выделялись среди всех. Они сидели на корточках за колоннами, держа свои луки наготове.
Ревекка стала глазами искать Симона и увидела его стоявшим рядом с Иоанном Гишалой. Он, по-видимому, о чем-то совещался с ним. Здесь был и пророк Иоаханан, длинная белая мантия которого отделялась во тьме, точно звезда на темном небосклоне.
Место, где происходил бой, занимало не особенно обширное пространство, и потому Ревекка могла не только разглядеть положение сражающихся, но даже довольно ясно различать знакомых ей воинов. Но мало-помалу совершенно стемнело, и ночь опустилась над городом, окутав густым мраком улицы, дома и войска. С высокой террасы, на которой стояла Ревекка, можно было различить лишь неопределенные, смутные, двигавшиеся фигуры, напоминавшие призраки.
Максим Галл поставил метательные орудия у цитадели Антония, откуда они успешно могли поражать стены храма. Громадная метательная машина стала забрасывать защитников храма. Ревекка ясно могла слышать свист летевших в воздух огромных камней и треск разрушающихся зданий.
На мгновение факелы, зажженные на стенах цитадели Антония, осветили поле боя кровавым мерцающим светом, все пространство между цитаделью и храмом было покрыто трупами. Среди римских легионов опять произошло какое-то движение, раздались слова команды. Римляне подняли щиты, и к храму медленно, направилась темная, немая, страшная масса. Дав неприятелю приблизиться, защитники храма стали скатывать камни на головы римлян, и ступени храма стали покрываться ранеными, окровавленными легионерами. Первый приступ римлян был отбит. Факелы потухли, и все погрузилось в темноту. Глубокая тишина царила над всем полем сражения, нарушаемая только стонами умирающих и раненых.
Луна медленно взошла из-за Масличной горы, освещая тусклыми лучами своими башни цитадели Антония и римские легионы.
Поощряемые словами Тита, обещающего богатую добычу, римляне снова ринулись на приступ.
Максим Галл велел придвинуть осадные машины еще ближе, и часть стены обрушилась под их тяжеловесными ударами. Римляне бросились в открывшуюся брешь, повергая на землю все, что им попадалось на пути, ударами топоров и мечей. Внешняя ограда была занята, и римляне принялись уже ломать первые ворота, как вдруг позади них раздался страшный грохот и громадная балка упала на первые ряды штурмующих и покатилась по мраморной лестнице, увлекая за собой и ломая руки и ноги римским воинам. Потом на римлян обрушились новые балки, тяжелые камни и полился огненный дождь. Вопли ужаса раздались среди римлян. Римские солдаты падали десятками, испуская дикие вопли. Шлемы их были пробиты, и кипящая смола жгла им волосы. Услышав страшный треск, увидев над главным входом огромное полымя, из которого по всем направлениям разлетались мириады искр и валились обломки бревен, увидев огненные языки, вылетавшие из клубов черного густого дыма, многие среди защитников подумали было, что римляне подожгли их святилище. Но затем, когда они увидели, как на римлян полился целый огненный дождь, они вообразили, что к ним на помощь пришли сами невидимые силы небесные. Молва об этом чуде с быстротой молнии распространилась среди всех защитников храма. Пророк Иоханан решил, что ему следует воспользоваться этим, и он воскликнул:
– Сам Всевышний за нас! Он поражает врагов наших огнем небесным! Он вызвал из-под земли тот самый огонь, который сокрушил Содом и Гоморру!
Симон и Иоанн Гишала обращали внимание своих воинов на то, что галерея, с которой ниспадал огненный дождь, была отделена от остальной части храма и что пожар ограничивался только этим пространством. Это придало храбрости всем защитникам храма. Расстроившиеся было ряды их снова сплотились, опущенные было копья снова поднялись, под сводами галереи раздался громкий голос Симона.
– Нужно воспользоваться их замешательством, – кричал он, – нужно выбить их из-за ограды!
Ревекка не могла разглядеть подробности сражения, она могла только слышать грохот метательных снарядов, треск обваливающихся стен, стоны раненых, хрипение умирающих.
Воспользовавшись смятением, произведенным в рядах римлян, защитники храма дружно ринулись на отступавшего в беспорядке неприятеля. Римские солдаты были оттеснены до самой цитадели Антония. Но здесь на помощь к штурмующим подоспели свежие войска. Римляне привели в порядок свои ряды и снова пошли в атаку. Пламя, вырывавшееся из подожженного портика храма, освещало поле сражения. Симон употреблял величайшие усилия на то, чтобы задержать отступление своих воинов, которого он не в состоянии был остановить. Он был впереди рядов идумеян, оспаривая каждую пядь земли у теснивших его римских легионеров.
Ревекка смотрела на Симона и уже не чувствовала более ненависти к этому человеку. Вдруг она вздрогнула и быстро обернулась. Несмотря на темноту, она узнала Бен Адира, стоявшего рядом с ней.
– Ах, это ты, Бен Адир! Как ты напугал меня!..
Ревекка сделала шаг к нему и заметила, что лицо его покрыто кровью.
– Ты ранен? – спросила она, – ты принимал участие в сражении? Она стала осматривать его рану, вытирая рукой струившуюся из нее кровь.
– Не беспокойся обо мне, – проговорил он, – подумай о себе, Ревекка. Храму угрожает серьезная опасность, он скоро может оказаться в руках неприятеля. Пойдем. Я не хочу, чтобы эти варвары пролили и твою кровь.
Бой тем временем продолжался. В воздухе стоял глухой, зловещий гул, к нему примешивались крики отчаяния, хрип и стоны умирающих. Вдруг раздался громкий голос, покрывший все остальные голоса, раздавшийся точно трубный звук страшного судилища.
– Горе Иерусалиму! Горе храму! – кричал этот голос.
– Это Зеведей! – воскликнула Ревекка, – это зловещий пророк!
– Гибель храму! Гибель Иерусалиму! – снова закричал Зеведей.
Начинало светать. Луна медленно скрывалась за Гильонскими горами. Пламя, так долго озарявшее храм, погасло. Лучи восходящего солнца озарили башню цитадели Антония, на которой можно было различить Тита и его свиту. Он стоял и смотрел оттуда на то, что происходило у его ног.
XIV
– Нужно торопиться, – повторил Бен Адир, – иначе тебе угрожает серьезная опасность. Храм может быть уже окружен…
Но она как будто не слышала его. Бен Адир схватил ее за руку. Они быстро сошли по ступенькам, перешли через площадку и вскоре очутились за оградой.
Тут они увидели людей, несших раненого Симона. За ними следовала многочисленная толпа детей и женщин. Бен-Адир понял, что Ревекка хотела бы присоединиться к ним. Это желание ее, в котором он увидел только про явление слабости, снова пробудило его ненависть к Симону и у него появилось одно только желание, одна мысль – передать ей частицу того пламени, которое сжигало его, внушить Ревекке хотя бы частицу тех чувств, которые он сам испытывал.
– Ревекка, – сказал он ей, – я понимаю твою скорбь ты видела, как он сражался, и ты простила его. Я последую за ним. Я вижу Елисавету в числе женщин, стоящих на площади. Останься с ней, а я принесу тебе известия о раненом.
Ревекка пожала ему руку, как бы желая поблагодарить его за этот добрый его порыв; но, как бы извиняясь за свою слабость, она сказала:
– Я не простила, Бен Адир, но я чувствую сострадание к павшим героям В смерти их я вижу лишь горе для священного города и страшный для него удар…
– Быть может, ты желаешь последовать за ним? Но в каком отношении ты могла бы быть полезна для него? Не твоей руке перевязывать его раны.
Слова эти были произнесены совершенно просто, как бы без всякой определенной цели; но тем не менее они вонзились отравленной стрелой в сердце Ревекки и разлили в нем яд. В нем тотчас же вспыхнуло ярким пламенем чувство ревности. В Ревекке проснулась женщина.
Она шла, опираясь на руку Елисаветы, молчаливая, мрачная, с лицом, на котором сказывались утомление и овладевшее всем ее существом волнение. Она еле держалась на ногах.
– Ревекка, – сказала Елисавета, – мы сейчас дойдем до дома твоего отца. Ты еле держишься на ногах от слабости. Нам обоим нужно отдохнуть. Иерусалим еще держится, и нам не следует падать духом. Отчаяние к добру не приведет, а Бог, очевидно, сражается за нас…
Ревекка ничего не ответила Елисавете, позволяя ей вести себя. Но в ту минуту, как из глаз ее должен был скрыться, быть может, навеки, человек, которому принадлежали все ее мысли, все ее существо, как бы желая в последний раз увидеть его, она обернулась и увидела, как несшие его остановились и какая-то женщина, нагнувшись над ним, приподняв красный плащ, смотрела на раненого. До слуха ее донесся крик, и она поняла, что крик этот вырвался из груди той женщины.
– Что это за женщина, Елисавета? – спросила она, останавливаясь.
– Не знаю, – ответила та, поняв, что происходит в сердце Ревекки, и не желая еще более отягощать ее горя.
– Зачем же ты скрываешь от меня истину? – сказала девушка. – Неужели ты считаешь меня способной думать о чем-либо другом, кроме Иерусалима, в эту ужасную минуту? Ведь эта женщина, подошедшая к Симону наклонившаяся над ним, ведь это Эсфирь! Увы! Она имеет право плакать и скорбеть над ним! Она перевяжет его раны. Я знаю это, я знаю также и то, что он обещал любить меня и соединить мою судьбу со своей. Но теперь я уже не чувствую в себе силы ни любить, ни ненавидеть. Идем! Веди меня; как ты счастлива, что сохранила еще силы для ненависти и для мести!
Шум и суета на улицах не прекращались. Елисавете не хотелось попасть в руки неприятелей; кроме того, она боялась за Ревекку. Опасность стерегла их на каждом шагу В то время, как беглянки поворачивали налево, в улицу, которая должна была привести их к стене Манассии, римская когорта, преследуя разбитый отряд Симона, показалась в конце улицы. Впереди неслось несколько всадников, прокладывавших ей путь и топтавших копытами лошадей попадавшихся им навстречу женщин.
Вдруг камень, брошенный из толпы, попал в голову одного из всадников. Тогда римляне окружили женщин и повели их в цитадель Антония.
– Не давать им пощады! – приказал центурион. – Женщины, принимающие участие в бое, – уже не женщины.
После того началось ужасное избиение. Пленниц собрали в одной из крытых галерей цитадели; здесь было до сотни женщин, девушек и детей. Галл и Флавий стояли рядом с Титом, в соседней галерее, откуда они смотрели на затихавший уже бой. Флавий узнал Елисавету, которая кричала ему:
– Иосиф Флавий, в числе женщин, которых избивают, находится и Ревекка, дочь твоего брата…
Ревекка стояла молча, завернувшись в свой черный плащ, с распущенными по плечам волосами. Можно было подумать, что она не понимает того, что происходит вокруг Казалось, что она с радостью ожидала приближения смерти: Иерусалим погибал, Симон был ранен, быть может, даже он уже умер, и, наконец, он принадлежал другой. Что же могло еще привязывать ее к жизни? Она не слышала, как Елисавета звала Флавия, она повернулась, чтобы в последний раз посмотреть на храм, как вдруг увидела перед собой Флавия и Галла.
Галл подошел к центуриону и что-то сказал ему.
– Ревекка, ты можешь уйти! – крикнул центурион.
– Я не уйду отсюда, – твердым голосом сказала Ревекка, – пока не кончится бойня. Другие женщины так же невиновны, как и я. Если же они преступницы, то и я преступница.
Галл распорядился, чтобы пощадили всех, кто еще был жив.
– Отвести всех этих женщин к моей палатке! – приказал он.
XV
Римляне торжественно отпраздновали взятие Иерусалима.
Прежде всего устроено было триумфальное шествие от Капуанских ворот к Капитолию, затем была произведена личная казнь на форуме захваченных в плен предводителей евреев, и, наконец, торжество закончилось празднествами на улицах и во дворцах.
Ревекка упросила Галла, чтобы Симон, которого предполагалось отдать на съедение диким зверям в цирке, был казнен на форуме, рукой Бен-Адира, который стал таким образом орудием ее мести.
После своего прибытия в Рим, куда она приехала вместе с отцом, царем Изейским, помилованным по просьбе Береники, она жила во дворце, который Веспасиан отвел для нее.
В день казни она стояла, облокотившись на мраморные перила галереи, выходившей на форум. Взгляд ее скользнул по дворцу Цезарей, по крыше священного храма Весты, по развалинам Капитолия, недавно истребленного пожаром, по толпе, бушевавшей на площади. Иногда он останавливался на возвышавшемся посреди форума четырехугольном помосте, на котором устроены были зловещие приспособления, и при этом невольная дрожь пробегала по ее телу. Береника стояла рядом.
– Я очень довольна тобой, милая моя Ревекка, – сказала она, – я видела Галла, сообщившего мне приятную весть. Он говорит, что у Веспасиана есть особый план относительно Иерусалима и что он рассчитывает на него и на тебя для его осуществления. Пока же он назначил его правителем Иудеи, а там – посмотрим…
Береника вполне одобряла любовь Ревекки к Иерусалиму, она всегда хотела лишь подчинения Иудеи римлянам, оставаясь в этом отношении верной политике своего семейства, но не желала разрушения Иерусалима и считала вполне возможным его будущее возрождение.
– Любезная Ревекка, – сказала она, – меня давно беспокоит одна мысль, от которой я желала бы отделаться. Я слышала, теперь уже не помню от кого, что любовь к Иерусалиму была не единственною любовью, наполнявшей твое сердце, и…
Ревекка вздрогнула и перебила царевну.
– То, что ты слышала, Береника, отчасти верно, – сказала она, – я любила защитника Иерусалима, но теперь уже не люблю его. Я хотела бы сказать тебе правду. Я почти не вспоминала о Симоне бен Гиоре, в полной уверенности, что он погиб, и решила навсегда соединять память о нем с воспоминанием о той катастрофе, которой он не в состоянии был предотвратить… Но Бен Адир рассказал мне о судьбе защитников Иерусалима. Узнав, что Бен Гиора жив, я почувствовала, как дрожь пробежала по всему моему телу.
Бен Адир рассказал мне о смерти Катласа. Он был окружен, вместе с немногими из друзей своих, двумя римскими когортами, и солдаты, раздраженные их продолжительным сопротивлением, собирались изрубить всех их. В это время мимо того места проходил Галл. Он удивился мужеству наших друзей и хотел спасти их. Он стал советовать им покориться и сказал Катласу:
– Назови Веспасиана господином своим – и жизнь твоя будет сохранена.
– Мы признаем господином своим одного только Бога, – ответил Катлас. – Пользуйся своим правом победителя. Я же не намерен покупать себе жизнь ценой предательства.
Такой же ответ дали и товарищи Катласа. Солдаты собирались ринуться на них, но Галл их остановил.
– Воины, – сказал он, – вы сами люди храбрые, и поэтому вы должны уметь ценить храбрость. Пощадите этих людей ради их храбрости и преданности своей вере. Уже достаточно пролито крови…
Солдаты послушались его; но, когда он ушел, центурион снова подошел к пленникам, приглашая их изъявить покорность Веспасиану. Катлас опять отказался. Возле того места, где все это происходило, была навалена груда бревен. Центурион велел подвести Катласа к этой груде, поджечь бревна и сунуть его ноги в огонь.
– Покорись Веспасиану, – сказал он ему, – или я велю поджарить тебя на медленном огне…
– Я знаю только одного господина, – ответил Катлас, – и господин этот – не Веспасиан.
Рядом с Катласом был его сын. Центурион схватил ребенка и поставил его на горящие бревна, рядом с отцом.
– Посмотрим, – сказал он, – так же ли ты упрям, как и твой отец? И ты отказываешься поклониться Веспасиану?
– Да, отказываюсь, – ответил ребенок.
Бен Адир рассказал, что лишь Симон изъявил покорность…
И тогда что-то оборвалось в моем сердце и исчезла любовь моя к нему, и прежнее мое благоговение перед ним сменилось ненавистью, смертельной ненавистью, которая достаточно объясняет то, почему я присутствую при этом зрелище и почему я отдаю руку свою Галлу…
В это время раздались громкие крики толпы, собравшейся на форуме. Береника и Ревекка посмотрели вниз. На помосте, воздвигнутом на том самом месте, где в обыкновенное время стояла ораторская трибуна, посреди ликторов появился человек в черном плаще, со связанными руками и с обнаженной головой. Один из ликторов взял топор.
Береника отвернулась, а Ревекка, напротив, жадно смотрела вниз.
– Знаешь, – сказала она царевне, – что палач говорит своей жертве? Он говорит ему: "Симон бен Гиора, взгляни на меня: я Бен Адир, слуга Ревекки, дочери Изея, и я здесь для исполнения ее воли… Ревекка поручила мне сказать тебе в последнюю минуту твоей жизни: это я, Симон, я, Ревекка, твоя Мохеронская невеста, наношу тебе удар рукой моего слуги. И не думай, чтобы я наносила тебе этот удар потому, что ты изменил мне. Я, которая могла бы спасти тебя, как я спасла отца моего, – я наношу его тебе за то, что ты изъявил покорность, вместо того чтобы умереть так, как умерли Катлас и другие…"
В это мгновение Бен Адир коротким ударом отсек голову Симона.
Толпа разразилась громкими криками и рукоплесканиями. Ревекка спокойно обернулась к Беренике и сказала, указывая на находящуюся в ее руке вычеканенную по поводу победы над Иудеей медаль:
– То, что вычеканено здесь, изображает состояние моей души: это я сижу под пальмой и оплакиваю Иерусалим. Я тебе говорила, Береника, у меня только одна истинная страсть – любовь к Иерусалиму и к его храму. И тот, и другой разрушены. В сердце моем пустота, и потому, выходя замуж за Галла, я руководствуюсь лишь надеждой на возрождение Иерусалима…
Коротко об авторе
Мария Ратацци — (Мария Wyse, принцесса де Сольмс, затем графиня Rattazzi, жена Урбана Ратацци) – французская писательница; род. в 1833 г. Внучка
Люсьена Бонапарта (
см.), она привлекла к себе общественное внимание долгой и безуспешной борьбой с семьей Бонапартов, которые не признавали ее родственницей. В начале 50-х годов Ратацци была центром оппозиционного салона и после переворота 2 декабря покинула Францию. Возвратившись через год, она была выслана и прожила десять лет в Савойе, где написала «Fleurs de l'Italie» (сборник стихотворений, Шамбери, 1859), поэму «La Dupinade» (Женева, 1859), «Chants d'exilée» (посвящ. В. Гюго) и «Boutades» (1860). Салон Ратацци в ее доме на берегу озера Бурже был сборным пунктом политических эмигрантов всех наций. Получив после присоединения Ниццы и Савойи, разрешение возвратиться в Париж, она была вторично выслана оттуда, между прочим за роман «Mariages d'une créole» (1864), запрещенный во Франции и переизданный в Брюсселе. С тех пор она – уже будучи женой Урбана Р. – жила в Италии. Написала еще: «Les rives d'Arno» (1865), романы: «La Réputation d'une femme» (1862), «Mademoiselle Million» (1863). «Piège aux maris» (1867, четыре романа), «Sij'é tais reine» (род автобиографии, 1868), «L'aventurière des colonies» (драма, 1868), «L'Espagne moderne» (1879), «Le Portugal à vol d'oiseau» (1880), «Ratazzi et son temps» (1881 – 87), «La belle Juive» (1882, роман, переведенный в «Восходе», 1884, No I-Х), «Les matinées espagnoles» (1886), «Nice ancienne et moderne» (1864).
Мэри Рено
Погребальные игры
Я предвижу великие состязания на моих погребальных играх.
Предсмертные слова Александра Великого

ОСНОВHЫΕ СОБЫТИЯ, ΠΡЕДШЕСТВУЮЩИΕ СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА
326 год до н. э. Александр возвращается из Индии. В Индийском походе он получает тяжелое ранение в грудь.
325 год до н. э. Возвращение в Перейду через пустыни Гедросии в исключительно тяжелых условиях.
324 год до н. э. Александр в Сузах. Великолепная свадебная церемония Александра и Статиры, дочери Дария III, после которой она остается в дворцовом гареме, под присмотром своей бабушки Сисигамбис. Александр отправляется в Экбатану в сопровождении Роксаны, своей жены с 328 года, и своего друга Гефестиона. Роксана ждет ребенка. Гефестион, внезапно заболев, умирает.
323 год до н. э. Александр прибывает в Вавилон и устраивает погребение Гефестиона, а затем начинает подготовку к следующему грандиозному походу, связанному с исследованием побережья Аравии. После плавания в низовья Евфрата он заболевает смертельно опасной лихорадкой. Уже будучи при смерти, Александр вручает Пердикке, своему первому заместителю после смерти Гефестиона, кольцо с царской печатью.
323 год до н. э
Зиккурат Бел-Мардука уже около полутора веков пребывал в полуразрушенном состоянии, с тех самых пор, как Ксеркс повелел уничтожить все святилища восставшего Вавилона. Вдоль террас дыбились груды битума и обожженного кирпича; аисты давно свили гнезда на развалинах верхнего яруса, где некогда находилась золотая опочивальня верховного бога со священной избранницей на золотом ложе. Однако нанесенный зиккурату ущерб выглядел незначительным; основная его громада
осталась нетронутой. Стены старого города около ворот Мардука достигали трех сотен футов в высоту, а сам зиккурат по-прежнему возвышался над ними.
Правда, непосредственно храму верховного бога воины Ксеркса нанесли более серьезные повреждения. Проломанную крышу пришлось подлатать тростником и укрепить грубо отесанными деревянными столбами. Впрочем, в глубине святилища у колонн, облицованных прекрасными, но местами сколотыми изразцами, по-прежнему царил вызывающий благоговение сумрак, в коем витал запах ладана и сжигаемых приношений. На порфировом алтаре под устремленным в небо дымоходом горел священный огонь, разведенный в бронзовой жаровне. Пламя еле теплилось: топливный ящик был почти пуст. Обритый наголо прислужник настороженно посмотрел на жреца. Тот, хотя и погруженный в себя, успевал подмечать все.
— Принеси еще топлива. В чем дело? Неужели царь должен умереть из-за твоей нерадивости? Да пошевеливайся! Стал бы ты тут топтаться, если бы что-то такое стряслось с твоей матерью.
Прислужник нехотя подчинился: храмовые порядки не отличались строгостью.
Священник бросил ему вслед:
— Одному богу известно, когда это произойдет. Возможно, и не сегодня. Он крепок, как горный лев, смерть не сразу с ним справится.
Две длинные тени легли на плиты возле расположенного под открытым небом храмового алтаря. Головы пришедших магов увенчивали высокие войлочные митры халдейских звездочетов. Приложив ладони к губам в ритуальном поклоне, они приблизились.
Жрец Мардука спросил:
— Ничего нового?
— Нет, — сказал первый звездочет. — Но уже скоро. Он потерял дар речи… и вообще едва дышит. Однако, когда македонские воины подняли шум у дверей, заявив, что хотят видеть его, он приказал всех впустить. Не полководцев — они и так стояли вокруг, — а простых копьеносцев и пехотинцев. Те едва не плакали, проходя через царскую опочивальню, а он всех их приветствовал молчаливыми знаками. Это лишило его последних сил, и сейчас он спит мертвым сном.
Еще два жреца Мардука появились в проеме открывшейся за алтарем двери. За спинами их виднелось богато убранное помещение: тяжелые, украшенные узорным шитьем завесы, мерцание золота. Оттуда доносился аппетитный запах приправленного специями мяса. Дверь закрылась.
Халдейские маги, памятуя о застарелом слушке, обменялись взглядами. Один из них сказал:
— Мы сделали все возможное, чтобы отговорить его от посещения Вавилона. Но ему сообщили, что этот храм еще не восстановлен, и он подумал, что мы просто опасаемся его гнева.
Жрец Мардука сухо произнес:
— Великое дело надлежит начинать в благоприятное время. Навуходоносор затеял строительство в неудачный год. Его рабы-иноземцы постоянно враждовали между собой, сбрасывая друг друга со стен уходящей ввысь башни. Аль Скандер мог бы сохранить милость богов, если бы, вняв их предупреждениям, остался в Сузах.
Один из прорицателей возразил:
— Мне кажется, он почтительно относится к нашему богу, несмотря на то что называет его Гераклом.
Халдей многозначительно оглядел запущенное помещение. Его выразительный взгляд недвусмысленно говорил: «Где же то золото, что дал тебе этот царь на восстановление храма, неужели ты все проел и пропил?»
После недружелюбного молчания главный жрец Мардука, не теряя достоинства, примирительно сказал:
— Ваши пророчества, ему сообщенные, несомненно верны. А с тех пор вы читали небесные предсказания?
Высокие митры медленно и согласно склонились. Старейший маг, чья борода серебрилась на фоне смуглого лица и пурпурной мантии, жестом поманил жреца Мардука в полуразрушенную часть храма.
— Вот что предначертано Вавилону, — сказал он и, взмахнув увенчанным звездочкой золотым жезлом, показал на разбитые стены, пролом в кровле, покосившиеся опоры и закопченные плиты пола. — Пока еще город стоит, но вскоре от него останутся только воспоминания.
Он прошел к выходу и, прислушиваясь, постоял там; ночные звуки ничто не тревожило.
— Звезды говорят, что упадок начнется после смерти нынешнего царя.
Жрец помнил, как восемь лет назад блистательный молодой победитель явился в храм с драгоценными дарами и арабскими благовониями. А в этом году сюда вернулся закаленный и покрытый шрамами воин с выгоревшими на солнце прядями белокурых волос, однако в глубине его глаз еще горел божественный огонь, еще поблескивало в них беспечное обаяние любимца богов, еще полыхали они порой внушающим ужас гневом. Ароматы ладана долго витали в воздухе, но гораздо дольше хранилось в храмовой сокровищнице золото; при всей любви жрецов к хорошей жизни половина даров еще находилась там. Однако радость главного жреца Бел-Мардука мгновенно иссякла. Грядущее сулило пожары и кровопролитие. Его настроение сникло, как алтарный огонь без подкормки.
— Что это означает? Придет ли к нам очередной Ксеркс?
Халдейский маг отрицательно покачал головой.
— Угасание, а не убийство. Новый город возвысится здесь, а старый придет в упадок. И все это связано с судьбой нынешнего царя.
— Что же будет? Значит, он все-таки выживет?
— Он умирает, как я уже говорил. Но его знаки по-прежнему движутся через созвездия, и мы не в силах предсказать, как долго они еще будут определять наши судьбы. До конца наших дней нам не разгадать всех последствий.
— Вот как? Что ж, за свою жизнь он не причинил нам никакого вреда. Может, он будет оберегать нас и после смерти.
Астролог задумчиво нахмурился, словно взрослый, подыскивающий слова для объяснения непонятливому ребенку.
— Помнишь год, когда с небес сошел огонь? Нам сообщили, куда он упал, и мы добрались туда, проведя в дороге неделю. Тот огонь осветил наш город ярче, чем полная луна. Но в месте падения огненной звезды мы обнаружили россыпь раскаленных докрасна углей, которые все вокруг себя выжгли.
Один уголек помог жене простого крестьянина разродиться двумя близнецами. Но сосед крестьянина украл этот уголек, стремясь овладеть магической властью; между мужчинами завязалась драка, и они оба погибли. Другой уголек упал возле ног немого ребенка, и речь вернулась к нему. От жара третьего уголька сгорел большой лес. А местный маг взял самый большой уголь и возложил на алтарь, и великий свет опять взошел к небу. И все это было порождено падением одной звезды. Такова воля богов.
Жрец склонил голову. Из храмовой кухни тек соблазнительный аромат. Лучше пригласить этих халдеев к столу, пока мясо не подгорело. Что бы там ни вещали звезды, но добрая трапеза всегда останется доброй трапезой.
Вглядываясь в ночной сумрак, старый халдей сказал:
— Здесь, где мы стоим, будут резвиться детеныши леопардов.
Жрец помолчал для приличия. От царского дворца не доносилось ни звука. Если повезет, то они успеют славно подкрепиться, прежде чем услышат горестные стенания.
* * *
Для сбережения хоть какой-то прохлады толстые четырехфутовые стены дворца Навуходоносора были облицованы синими глазурованными плитками, но в разгар лета зной просачивался повсюду. Струйки пота стекали по рукам Эвмена, пот капал на покрытый письменами папирус, образуя разводы. Рядом влажно поблескивала размягчившаяся от жары покрытая воском табличка, с какой он старательно переписывал текст. Пришлось вновь погрузить ее в бадейку с холодной водой, где подручный писец обычно хранил такие таблички, поддерживая твердость воска. Местные грамотеи раньше пользовались для записей влажной глиной, но в глиняные таблички труднее вносить поправки. Эвмен в третий раз выглянул за дверь, ища раба, приставленного к опахалу. И вновь смутный приглушенный шум (тихие шаги, тихие голоса, зловещие, благоговейные и печальные) заставил его молча вернуться за занавеску к своему вялому бессмысленному труду. Громогласные восклицания или резкие призывные хлопки сейчас показались бы кощунственно неуместными.
Он не нуждался пока в своем словоохотливом помощнике, однако не отказался бы от услуг молчаливого малого, умело орудовавшего опахалом. В глаза опять бросился раскатанный и приколотый к письменному столу свиток. Вот уже двадцать лет, как любые важные послания, кроме разве совсем уж секретных, проходили через Эвмена, но зачем же сейчас ему прикладывать руку к тому, чему никогда не бывать, если не произойдет чудо? Чудеса, конечно, случаются, но не в этом случае, нет. И все-таки надобно что-то делать, отгоняя страх перед надвигающейся неизвестностью. Он вновь сел, достал из воды табличку, потрогал ее, вытер руки оставленным помощником полотенцем и взялся за перо.
И корабли под командованием Неарха соберутся в речном устье, где я их проверю, а Пердикка тем временем приведет туда войска из Вавилона, и там мы принесем достойные жертвы богам. Я возглавлю сухопутные силы и поведу их на запад. На первой стадии…
«В пять лет от роду, еще не умея писать, он как-то зашел ко мне в комнату при царском кабинете.
— Что это ты пишешь, Эвмен?
— Письмо.
— А что это за слово ты написал большими буквами?
— Имя твоего отца. ФИЛИПП, царь Македонии. Сейчас я занят, беги к своим игрушкам.
— А покажи мне, как пишется мое имя. Напиши его, милый Эвмен. Ну пожалуйста.
Я выполнил его просьбу, придвинув к себе какой-то испорченный документ. Назавтра он уже сам начертал свое имя на вощеной табличке с черновиком царского письма к Керсоблепту во Фракию. Он учился этому, держа в ручонке мой образец…»
Из-за жары массивная входная дверь оставалась открытой. Кто-то подошел к ней быстрым широким шагом, приглушенным, как и все прочие звуки во дворце. Откинув ткань, вошел Птолемей и тут же задернул за собой занавеску. Огрубевшее в военных походах лицо полководца казалось измученным: он бодрствовал всю ночь, ничем не подкрепляя своих сил. Птолемею уже исполнилось сорок три, но выглядел он старше. Эвмен молча ждал.
— Он отдал государственное кольцо Пердикке, — сказал Птолемей.
Они помолчали. Настороженный твердый взгляд грека (не ограничиваясь секретарской деятельностью, Эвмен также участвовал и в сражениях) исследовал бесстрастное лицо македонца.
— Для чего? Как своему заместителю? Или как регенту?
— Поскольку он уже не может говорить, — сухо пояснил Птолемей, — мы этого никогда не узнаем.
— Если он смирился со смертью, — рассудительно сказал Эвмен, — то мы можем предположить второе. Если же нет…
— Время предположений прошло. Он уже ничего не видит и не слышит. Забылся смертным сном.
— Ни в чем нельзя быть уверенным. Мне рассказывали, что порой те, кого уже считали покойниками, позже приходили в себя и повторяли все, что при них говорили.
Птолемей подавил раздражение. Ох уж эти болтливые греки! Или Эвмен чего-то боится?
— Я пришел, потому что мы с тобой знали его с рождения. Ты не хочешь проститься с ним?
— А разве мое появление не вызовет недовольство приближенных к нему македонцев?
Давняя обида искривила на мгновение губы Эвмена.
— Да брось ты! Тебе все доверяют. Мы давно ждем тебя.
Секретарь начал неспешно приводить в порядок письменный стол. Вытирая перо, он поинтересовался:
— А о наследнике не было речи?
— Пердикка спросил его, пока он еще мог шептать. Он сказал: «Сильнейшему. Hoti to kratisto».
Эвмен задумался. Говорят, умирающие обретают провидческий дар. Он тревожно поежился.
— По крайней мере, — добавил Птолемей, — так утверждает Пердикка. Он склонился над ним. Остальные не слышали его слов.
Отложив перо, Эвмен поднял взгляд.
— Может, он имел в виду Кратера? Ты говоришь, он уже задыхался.
Они переглянулись. Кратер, ближайший помощник Александра, отправился в Македонию, чтобы принять регентство от Антипатра.
— Если бы тот был здесь…
Птолемей пожал плечами.
— Кто знает?
Про себя он подумал: «ЕслибынеумерГефестион…» Хотя, если бы Гефестион остался жив, ничего этого не случилось бы. Александр не натворил бы всех тех безумств, что привели его к смерти. Не отправился бы в Вавилон в такую жару, не полез бы в зловонные топи речных низовий. Но не стоило лишний раз напоминать Эвмену о Гефестионе.
— Ну и дверь у тебя! Тяжеленная, словно слон. Как ты ее закрываешь?
Помедлив на пороге, Эвмен спросил:
— И он не сказал ничего о Роксане и о ее ребенке? Ничего?
— До родов еще четыре месяца. А если она родит девочку?
Они вышли в сумрачный коридор — высокий, широкий в кости македонец и стройный грек. Молодой македонский воин, стремительно несшийся мимо, едва не натолкнулся на Птолемея и пробормотал слова извинения.
— Есть какие-то перемены? — спросил Птолемей.
— Нет, командир, по-моему, пока нет.
Воин судорожно вздохнул, и они увидели, что по щекам его текут слезы.
Когда юноша удалился, Птолемей сказал:
— Этот мальчик еще на что-то надеется. Я уже не могу.
— Что ж, пойдем.
— Погоди.
Птолемей схватил грека за руку и, втащив его обратно в комнату, с трудом закрыл дверь, петли которой тяжело заскрипели.
— Лучше я скажу тебе это сейчас, пока еще есть время. Ты мог бы узнать все и сам, но…
— Да не тяни же! — нетерпеливо сказал Эвмен.
Он поссорился с Гефестионом незадолго до его смерти, и с тех пор Александр не особо жаловал своего секретаря, не считал нужным, как раньше, делиться с ним чем-то.
Птолемей сказал:
— Статира тоже ждет ребенка.
Нервозность Эвмена сменилась оцепенением.
— Ты имеешь в виду дочь Дария?
— А кого еще, по-твоему, я мог бы иметь в виду? Она же стала главной женой Александра.
— Но это все меняет. И когда же…
— Ты что, не помнишь? Хотя, разумеется, нет, ты же был тогда в Вавилоне. Когда Александр слегка пришел в себя после смерти Гефестиона — нельзя же вечно замалчивать это имя, — то отправился на войну с коссаянцами. Мне тоже пришлось приложить к этому руку, ведь именно я сообщил ему, что эти разбойники затребовали положенную им дорожную дань, и стал невольным виновником его гнева. Впрочем, небольшой поход пошел ему на пользу. Разобравшись с нахалами, Александр двинулся в Вавилон, но по дороге завернул на недельку в Сузы, чтобы навестить Сисигамбис.
— Вот старая ведьма! — с горечью бросил Эвмен.
«Если бы не она, — подумал он, — приближенным царя не пришлось бы обременять себя персидскими женами». Ту грандиозную по своей массовости свадебную церемонию в Сузах грек поначалу воспринял как некий чрезмерно помпезный спектакль, пока сам вдруг не оказался в пропитанном благовониями шатре на ложе со знатной персиянкой, чьи притирания удушали его, а познания в греческом языке ограничивались словами: «Приветствую тебя, мой повелитель!»
— О нет, она истинная царица, — возразил Птолемей. — Жаль, что его родная мать на нее не походит. Она-то уж точно заставила бы Александра жениться. Еще до ухода из Македонии он бы как миленький обзавелся наследником, и сейчас его сыну было бы уже лет четырнадцать. Сисигамбис, вне всяких сомнений, не внушила бы ему с детства отвращение к семейной жизни. Чья вина в том, что он созрел для общения с женщинами, только встретив эту бактрийку?
Именно так большинство македонцев в своем кругу называло Роксану.
— Что сделано, то сделано. Но Статира… А Пердикка знает?
— Поэтому он и попросил его назвать наследника.
— А он так и не назвал?
— Сильнейшему, сказал он. В общем, предоставил нам, македонцам, решать, кого из них выбрать по достижении зрелости. Вспомнил наконец на смертном одре о своем македонском происхождении.
— Если только женам его повезет разродиться мальчиками, — заметил Эвмен.
Птолемей, погруженный в свои мысли, сказал:
— И если тем повезет дожить до зрелости.
Эвмен предпочел промолчать.
Они прошли по темному коридору, облицованному синими глазурованными плитками, к царскому смертному ложу.
* * *
Царская опочивальня, некогда отделанная Навуходоносором в тяжеловесном ассирийском стиле, подвергалась в дальнейшем многочисленным переделкам в соответствии со вкусами очередных персидских царей, начиная с Кира. Камбиз украсил ее стены завоеванными в Египте трофеями, Дарий Великий обшил колонны золотом и малахитом, Ксеркс повесил там драгоценный пеплос Афины, добытый в Парфеноне, а Артаксеркс Второй, выписав искусных мастеров из Персеполя, повелел сделать ту самую роскошную кровать, на которой сейчас умирал Александр.
Помост перед ней устилали малиновые ковры с затейливыми узорами и золотой бахромой. Размеры самого ложа составляли девять на шесть футов. Дарий Третий, Кодоман, мог там спокойно не только вытянуться во весь свой семифутовый рост, но еще и закинуть руки за голову. Высокий полог поддерживался четырьмя фигурами огненных демонов с серебряными крыльями и грозно сверкающими глазами, выточенными из драгоценных камней. Среди всего этого великолепия на высоких (для облегчения дыхания) подушках возлежал обнаженный больной, едва прикрытый тонкой льняной простыней, которую он в метаниях почти сбросил. Теперь промокшая от пота ткань липла к нему, превращая его в изваяние.
С однообразной периодичностью неглубокое хрипловатое дыхание умирающего постепенно делалось громче, потом прерывалось. После паузы, во время которой собравшиеся переставали дышать, оно вновь появлялось и медленно, но неуклонно шло к апогею.
До недавнего времени других звуков вокруг него почти не было. Теперь, когда в ответ на чей-либо голос или прикосновение хрипы смолкали, в комнате словно само собой зарождалось тихое бормотание, очень осторожное, невнятное и обезличенное; низкий басовитый гул, предвещавший неумолимое приближение смерти.
Стоявший в изголовье Пердикка мрачно глянул на Птолемея из-под густых насупленных бровей. Будучи, под стать вошедшему, столь же высоким и крупным мужчиной, этот македонский военачальник словно бы не имел ярких личностных черт, давно запрятанных под маской властности, день ото дня становившейся все более жесткой. Его сдержанный молчаливый жест означал: пока никаких изменений.
Внимание Птолемея привлекло движение над кроватью. Качалось опахало из павлиньих перьев. В опочивальне вот уже несколько дней (по-видимому, без сна) неотлучно дежурил «персидский мальчик». Так Птолемей по привычке именовал Багоаса, хотя сейчас ему уже было года, наверное, двадцать три: у евнухов возраст обычно трудно определить на взгляд. Шестнадцатилетним юношей его привез к Александру один причастный к убийству Дария перс, желая таким образом оправдаться. Багоасу удалось завоевать прочное положение при царской особе, поскольку он и раньше ходил в монарших любимцах, а потому знал все тонкости персидского этикета. Целиком посвятив себя Александру, он оставил все свое прошлое летописцам и с тех пор никогда не покидал своего нового повелителя. Мало что напоминало сегодня о его знаменитой красе, ослепившей двух последних властителей мира. Большие темные глаза запали даже глубже, чем у истощенного лихорадкой царя, и он был одет как слуга… неужели из боязни, что если его заметят, то выгонят? «Интересно, — подумал Птолемей, — вспоминает ли он былое?» Должно быть, на этом же самом ложе с ним тешился Дарий.
Над блестящим от пота лбом Александра кружилась муха. Перс отогнал ее, отложил опахало и, окунув полотенце в чашу с настоем мяты, протер безжизненное лицо.
Поначалу Птолемею не нравилось, что юноша со столь экзотической внешностью практически денно и нощно находится при Александре, приучая его взор к персидским нарядам, а восприятие — к персидским повадкам. Но в итоге евнух стал привычной и неотъемлемой тенью царя. Сам страдая и мучаясь в преддверии маячивших впереди перемен, Птолемей ощутил укол жалости. Подойдя к Багоасу, он положил руку ему на плечо.
— Отдохнул бы ты, Багоас. Пусть кто-нибудь подменит тебя.
Стайка придворных евнухов, знававших Дария и даже Оха, услужливо выступила вперед. Птолемей сказал:
— Ты же видишь, он сейчас ничего и никого не замечает.
Багоас испуганно оглянулся. Сказанное показалось ему повелением, какое нельзя не исполнить, неким давно ожидаемым бедствием, почти казнью.
— Не волнуйся, — мягко сказал Птолемей. — Никто не лишает тебя твоих прав. Оставайся с ним, если хочешь.
Багоас коснулся пальцами лба больного. Перерыв закончился. Вновь устремив взгляд на закрытые глаза Александра, он принялся размахивать опахалом, гоняя над кроватью горячий вавилонский воздух. Он опять отстоял свои права, подумал вдруг Птолемей. Он пережил даже умопомешательство после смерти Гефестиона.
У стены рядом с кроватью над массивным, подобно алтарю, столом все еще обитал дух соперника Багоаса. Витал и множился в памятных статуэтках и бюстиках, подаренных Александру соболезнующими друзьями, усердными подхалимами и перепуганными приближенными, по каким-либо причинам не ладившими с покойным. Мгновенно нашлись замечательные ваятели, на которых посыпалась масса заказов для утешения горюющего царя. Бронзовый Гефестион в виде обнаженного Ареса с копьем и щитом; Гефестион из слоновой кости, облаченный в золотые доспехи; живописно раскрашенная мраморная статуэтка в золоченом лавровом венке; серебряный штандарт полка, носившего теперь его имя; первый макет культовой статуи для храма Гефестиона в Александрии. Кто-то, освобождая местечко для мазей с отварами, уронил одного маленького Гефестиона на пол. Мельком глянув на тонущее в подушках лицо, Птолемей поставил позолоченную фигурку на место. Пусть постоит, пока он не уйдет.
Этот тихий звук привлек внимание Эвмена, но тот сразу отвел глаза.
Мысли Птолемея обратились к прошлому. Теперь, Эвмен, тебе нечего опасаться, не так ли? О да, зачастую Гефестион бывал чрезвычайно высокомерным. А ближе к концу даже возомнил, что он единственный может по достоинству оценить величие замыслов своего друга. Так ли уж сильно он заблуждался?
«Согласись, Эвмен, Гефестион отлично понимал Александра. Я знал их обоих со школьных лет. Гефестион высоко ставил личную независимость, всегда оставаясь самим собой, и это являлось его неотъемлемым свойством. Та гордость, что обычно обижает людей, стала спасением для Александра». В Гефестионе никогда не было никакого раболепия, назойливости, зависти, никакой фальши. Он любил Александра, но никогда не подлаживался под него, держался с ним на равных даже вопреки наставлениям Аристотеля. До конца своих дней он говорил с Александром как мужчина с мужчиной, мог прямо высказать ему все, если считал ошибочными его действия, и ни при каких обстоятельствах ни на мгновение не испытывал перед ним страха. Он спасал друга от одиночества и лишь богам известно от чего еще. Нынешняя ситуация обусловлена его уходом из жизни.
«Если бы он не умер, мы сегодня наверняка пировали бы в Сузах, что бы там ни говорили халдеи».
Испуганный лекарь, вынырнув из-за спины Пердикки, положил руку на лоб Александра, пощупал пульс на запястье, глубокомысленно пробурчал что-то себе под нос и отступил в тень. Пока болезнь не лишила Александра голоса, он не допускал к себе врачевателей, и, даже когда больной впал в бредовое состояние, никто из них не решался чем-либо его пользовать, боясь навлечь на себя обвинение в попытке отравить государя. Теперь опасаться было нечего: царь ничего не мог проглотить. В очередной раз Птолемей мысленно проклял глупого знахаря, допустившего, чтобы Гефестион умер, пока все были на состязаниях.
«Я повесил бы его еще раз, если бы мог!»
Спустя, казалось, целую вечность прерывистое дыхание сменилось, по-видимому, уже предсмертным хрипом. Но прикосновение руки лекаря словно разворошило угасающие искры жизни, хрип стал ровнее, и веки дрогнули. Птолемей и Пердикка разом шагнули к кровати. Но тут забытый всеми перс, скромно сидевший у изголовья, отложил опахало и, не обращая ни на кого внимания, приник к подушкам. Его длинные темно-русые волосы упали на грудь царя, почти скрыв при этом лицо. Послышался тихий шепот. Серые глаза Александра открылись. Шелковистые пряди волос евнуха слегка покачнулись.
Пердикка сказал:
— Он пошевелил рукой.
Ожив на мгновение, веки вновь опустились, хотя Багоас, точно завороженный, по-прежнему не сводил с них глаз. Пердикка поджал губы — вокруг столько знатных персон. Но прежде чем он успел сделать выговор персу, тот выпрямился и вновь взялся за опахало. Если бы не размеренные движения, он выглядел бы как статуя, вырезанная из слоновой кости.
Птолемей вдруг осознал, что с ним разговаривает Эвмен.
— Что случилось? — отрывисто спросил он, подавляя рыдания, подступавшие к горлу.
— Приехал Певкест.
Толпа придворных расступилась, пропуская рослого, хорошо сложенного македонца в персидском наряде и даже (что вызвало удивленное неодобрение большинства) в варварских шароварах. Получив в Персиде сатрапию, он, чтобы порадовать Александра, приучился носить национальные одежды, не сознавая притом, насколько это платье идет ему. Певкест шагнул к кровати, напряженно вглядываясь в лицо лежащего там человека. Пердикка подошел к вновь прибывшему. Обмен парой фраз завершился обменом молчаливыми взглядами. Потом чуть погромче (для всех) Пердикка спросил:
— Ты получил предсказание оракула из храма Сераписа?
Певкест склонил голову.
— Бдение продолжалось всю ночь. На рассвете оракул сообщил нам ответ бога. «Не переносите царя в храм. Оставьте его там, где он есть».
Нет, подумал Эвмен, чудеса все же закончились. На мгновение, когда рука Александра шевельнулась, он вдруг уверовал в невозможное.
Обернувшись, грек поискал взглядом Птолемея, но тот, не в силах больше сдерживать напор нахлынувших чувств, тихо удалился, чтобы привести себя в порядок. АПевкест, отойдя от кровати, спросил:
— Роксане уже сообщили?
* * *
Дворцовый гарем располагался за крытой галереей, окружавшей участок сада с поросшим лилиями прудом. Оттуда тоже доносились приглушенные голоса, но с другими оттенками, ибо все немногие мужчины в этом женском мирке были кастратами.
Большинство обитательниц гарема в глаза не видели умирающего царя. Они многое слышали о нем; благодаря ему они продолжали жить в холе и неге, неустанно надеясь, что он когда-нибудь посетит их, чего не произошло. Надежды не оправдались, и теперь, теряясь в догадках, красавицы обсуждали, кто же станет их следующим повелителем, унаследовав по мужской линии трон. Как ни крути, а в ближайшем будущем, очевидно, нечего было и рассчитывать на появление нового великого государя. Поэтому в женские приглушенные разговоры вплетались нотки скрытого страха.
Им было не по себе, всем этим женщинам, оставленным здесь Дарием, когда он отправился в Гавгамелы навстречу своей судьбе. Любимых жен и наложниц царь, разумеется, взял с собой. Прочие представляли собой довольно разношерстное общество. Кое-какие красотки помнили еще те времена, когда некий родовитый юнец, дожидаясь своей очереди на трон, прозябал в Сузах, но были среди них особы и помоложе, взятые во дворец уже после вступления Дария на престол, которым, однако, не удалось надолго завоевать его благосклонность или вообще даже предстать перед ним. Особняком держались гаремные долгожительницы, доставшиеся Дарию в наследство от Оха, которых после смерти их повелителя не подобало выгонять из дворца. Будучи во всех смыслах никому не нужной обузой, они с парой престарелых евнухов образовали своеобразную клику, объединенную ненавистью к подстилкам узурпатора, повинного, по их подозрениям, в смерти прежнего горячо обожаемого господина.
Бывших жен и наложниц Дария обуревали другие чувства. Выдернутые совсем юными (от силы лет в восемнадцать, но чаще в более раннем возрасте) из своих семей, они познали весь драматизм гаремной жизни. Сплетни, интриги, взятки и подкуп ради крох сведений о возможном визите царя, тщательный выбор нарядов, вдохновенные поиски драгоценностей, выгодно оттеняющих прелести чаровниц, завистливое отчаяние в менструальные дни, безмерное ликование, вызванное приглашением в царские покои, и ожидание щедрых подарков после успешно проведенных ночей — все это однажды куда-то исчезло и не спешило вернуться.
Однако плоды таких ночей никуда не девались. Вот и сейчас пара девчонок семи-восьми лет, бултыхаясь в пруду, важно делилась со стайкой сестренок последними новостями о состоянии смертельно больного царя. Поначалу в гареме росли и их сводные братья. Но после смерти Дария всех мальчишек тайком вывезли из гарема и попрятали в укромных местах, прибегнув к всевозможным уловкам, поскольку не сомневались, что новый чужеземный властитель прикажет их удавить. Никто, однако, даже не поинтересовался, где они обретаются, так что со временем страхи развеялись и воспитанием подросших отпрысков Дария занялись дальние родичи.
А вавилонский дворцовый гарем в отсутствие хоть какой-либо крепкой руки мало-помалу совсем разленился. В Сузах царица-мать Сисигамбис поддерживала безупречный порядок. Но здешние женщины вызывали мало интереса даже у Дария, не говоря уж об Александре. Две заскучавшие красавицы умудрились завести любовников на стороне и в итоге сбежали. В былые времена за такую халатность Ох посадил бы евнухов на кол, но сейчас все тихо-мирно сошло им с рук. Некоторые девушки, совсем одурев от безделья, принялись ублажать друг дружку. Эти связи, сопровождавшиеся сценами ревности и скандалами, внесли своеобразное оживление в душные ассирийские будни. Одну из коварных обольстительниц сопернице даже удалось отравить, но эту историю также тихо замяли. Глава евнухов пристрастился к курению конопли и не любил, когда его беспокоили по пустякам.
И вот, после многолетнего похода на неведомый Восток, после цепи легендарных побед, ранений и опасных странствий по знойным пустыням, новый царь прислал весть о скором своем возвращении. Гарем словно бы пробудился от спячки. Евнухи засуетились. Царя ждали всю зиму, считавшуюся в Вавилоне умеренно жарким сезоном, пригодным для проведения разнообразных празднеств, но ожидания оказались напрасными. До дворца долетели слухи, что умер друг детства (некоторые утверждали: любовник) властителя и тот обезумел от горя. Потом царь пришел в себя, но отправился на войну, усмирять в горах коссаянцев. Гарем опять погрузился в летаргический сон. Наконец царь направился к Вавилону, но по пути задержался в Сузах. А на берегу Тигра к нему прорвались многочисленные просители из разных концов его обширных владений. Все они со своими богатыми дарами и золотыми коронами искали у властелина покровительства и совета. Затяжная весна сменилась летней жарой, когда подводящую к столице дорогу вдруг сотрясли копыта коней, колеса боевых колесниц, столпообразные ноги слонов и сапоги марширующей пехоты, — и тут наконец вавилонский дворец всерьез охватила давно забытая, связанная с царским прибытием суматоха.
На следующий день объявили, что главный евнух царской опочивальни придет проверять гарем. Столь влиятельную особу ожидали с благоговейным трепетом и плохо скрываемым страхом. Велико же было потрясение, когда все узнали в совсем еще молодом персе пресловутого Багоаса, любимца двух государей. Нельзя, правда, сказать, что тому не удалось произвести на встречающих впечатление. Облаченный в наряды из шелка, какого здесь еще не видали, весь переливаясь, словно перья павлина, он выглядел просто великолепно и, оставаясь персом до кончиков ногтей, вызвал у вавилонян неприятное чувство собственной провинциальности; к тому же за десять лет придворной жизни его манеры так отполировались, что обрели блеск старого серебра. Без тени смущения Багоас приветствовал евнухов, знакомых ему еще со времен Дария, и отвесил почтительные поклоны пожилым наложницам. Затем он перешел к деловой части визита.
Багоас пояснил, что пока неизвестно, когда неотложные заботы позволят царю выкроить свободное время и навестить гарем, но, во всяком случае, его обитателям и обитательницам, безусловно, следует поддерживать в нем идеальный порядок, свидетельствующий об их почтительном отношении к государю. Мимоходом молодой перс намекнул наодин-два просчета («Нет, я понимаю, что как-никак тут не Сузы»), но не стал ворошить прошлого. Евнухи скрыли облегченные вздохи, когда он попросил показать ему покои царских жен.
Его провели туда. Эти отдельные парадно обставленные помещения выходили в собственный внутренний двор, изысканно отделанный изразцовыми плитками. Правда, давно никем не посещаемый сад пребывал в заброшенном состоянии. Засохшие цветы, увядшие лианы, засорившиеся фонтаны с пузырящейся зеленой ряской и дохлыми рыбками. Все это было понятно, но и в жилых комнатах тоже стоял запах затхлости. Багоас промолчал, но раздул изящные ноздри и выразительно втянул ими воздух.
Впрочем, несмотря на отсутствие должного ухода, многое не потеряло роскошного вида: Дарий, потворствуя своим желаниям, бывал избыточно щедр. Евнухи привели перса в небольшие, но также богато и красиво обставленные комнаты царицы-матери. Сисигамбис жила здесь в первый год короткого правления ее сына. Осматривая их, Багоас слегка склонил голову набок. Неосознанно за годы тесного общения он перенял эту манеру от Александра.
— Очень мило, — сказал он. — Во всяком случае, все можно привести в порядок. Как вам известно, госпожа Роксана следует сюда из Экбатаны. Царь позаботился о том, чтобы ее везли с должным комфортом.
Евнухи навострили уши; о беременности Роксаны пока ходили одни только слухи.
— Она прибудет примерно дней через семь. Я прикажу тут кое-что переделать и пришлю хороших мастеров. Пожалуйста, проследите за ними.
После непродолжительного, но выразительного молчания взгляды евнухов обратились к главным покоям гарема. Их Багоас осмотрел с равнодушным видом.
— Эти комнаты пока останутся закрытыми. Достаточно хорошо их проветривать и содержать в чистоте. У вас есть еще один ключ?
Никто не ответил.
— Отлично. Нет необходимости показывать эти покои госпоже Роксане. Если она спросит, скажите, что они не пригодны для жилья, — добавил он по обыкновению вежливо и удалился.
Тогда было решено, что тут имеют место какие-то счеты. Фавориты и фаворитки царя зачастую не жаловали друг друга. Кроме того, прошел слух, будто вскоре после женитьбы Роксана пыталась отравить Багоаса, но гнев царя был так ужасен, что та закаялась предпринимать что-либо подобное впредь. Доставленная вскоре мебель вкупе с диковинными драпировками поражала воображение, и обновленные покои приобрели более чем пышный вид.
— Не пугайтесь этой чрезмерной вычурности, — сказал Багоас. — Она в ее вкусе.
Караван в должное время прибыл из Экбатаны. На опущенной лесенке дорожного фургона появилась надменная молодая особа поразительной красоты с иссиня-черными волосами и блестящими темными глазами. Ее беременность едва проявлялась в легкой округлости форм. Она свободно изъяснялась по-персидски, правда с бактрийским акцентом, который не поддавался исправлению, учитывая ее бактрийскую свиту, и прекрасно владела греческим языком, неизвестным ей до женитьбы. Вавилон был для нее столь же чужеземным, как Индия, но она без возражений устроилась в приготовленных для нее комнатах, заметив, что они несколько меньше тех, что ей предоставили в Экбатане, но зато гораздо удобнее. Дарий, питавший к своей матери чувства как благоговейного страха, так и глубочайшего уважения, стремился всячески ей угодить.
На другой день один из придворных, на сей раз почтенного возраста, объявил о приходе царя.
Евнухов охватила тревога. Что, если Багоас распоряжался здесь без достаточных полномочий? Царь, как поговаривали, гневался редко, но гнев его был ужасен. Однако Александр вежливо приветствовал гаремных смотрителей в пределах своих скудных знаний персидского этикета и языка и не высказал никаких замечаний при осмотре покоев Роксаны.
Сквозь потайные отверстия и неприметные щелки, известные еще со времен Навуходоносора, некоторые молодые наложницы видели, как он шел. Они сочли его привлекательным… для уроженца запада, по крайней мере (бледность кожи и белокурые волосы в Вавилоне никого не восхищали). Невысокий рост царя, конечно, тоже являлся серьезным недостатком, но о нем они уже знали. Безусловно, он выглядел старше своих тридцати двух лет, поскольку в его волосах начинала поблескивать седина, однако все согласились, что в нем есть чем впечатлиться, и стали с нетерпением дожидаться дальнейшего. Красавицы рассчитывали на некий праздничный смотр, но царь пробыл у царицы ровно столько времени, сколько его понадобилось бы достойной женщине на купание и одевание.
Это вселило надежды в молодых обольстительниц. Они почистили свои драгоценности и пополнили запасы косметических средств. Одна или две, со скуки позволившие себе безобразно растолстеть, были высмеяны и целый день прорыдали. В течение недели каждое утро расцвечивалось сладостными предчувствиями. Но царь все не приходил. Зато вновь появился Багоас для тайной беседы со старшим смотрителем гарема. Открыв массивную дверь в главные покои, они скрылись за ней.
— Все понятно, — сказал Багоас. — Здесь не так много работы. Только заменить несколько драпировок. Ночные сосуды в сокровищнице?
К счастью, да, подумал смотритель (он не раз испытывал искушение продать их) и послал за ними; эти изысканные серебряные вазы были богато украшены золотом. У стены стоял громоздкий сундук для одежды из кипарисового дерева. Багоас поднял крышку, выпустив на волю слабые, но приятные запахи. Сверху лежал шарф, расшитый мелким жемчугом и золотыми бусинками.
— Я полагаю, это вещи покойной царицы Статиры? — спросил перс, разглядывая шарф.
— Да, те, что она решила не брать с собой. Дарий готов был и мог подарить ей все, что угодно.
За исключением собственной жизни, подумали оба в неловком молчании. Бегство от Исса принудило ее до конца дней зависеть от милостей победителя. Под шарфом лежало египетское покрывало, обшитое по краям зелеными скарабеями. Багоас слегка коснулся его пальцами.
— Мне не довелось видеть эту царицу. Правда ли, что она была самой восхитительной из рожденных в Азии смертных?
— Кто же мог видеть всех женщин в Азии? Но возможно, молва не преувеличила.
— Хорошо еще, что мне повезло увидеть ее дочь. — Он убрал шарф обратно и закрыл сундук. — Оставьте здесь все эти вещи. Я полагаю, что молодая госпожа Статира обрадуется, найдя их.
— Она уже выехала из Суз? — спросил евнух, хотя на языке у него вертелся более интимный вопрос.
Багоас, отлично понимая его, сказал с намеренной неопределенностью:
— Она приедет, когда спадет летняя жара. Царю хочется, чтобы она путешествовала со всеми удобствами.
Смотритель гарема подавил разочарованный вздох. Толстый дряхлый царедворец и тонкий блестящий фаворит обменялись долгими взглядами, понятными только им. Однако именно смотритель прервал молчание.
— М-да… пока все шло гладко. — Он глянул в сторону других покоев. — Но как только здесь все откроется, начнутся расспросы. Они неизбежны. Ты знаешь это не хуже меня. Намерен ли царь поговорить с госпожой Роксаной?
На мгновение изысканная полировка придворного потускнела и сквозь нее проступила печаль, но, быстро овладев собой, Багоас ослепительно улыбнулся.
— О, я напомню ему об этом при первой возможности. В данный момент у него множество неотложных дел. Он занят организацией похорон своего друга Гефестиона, ушедшего от нас в Экбатане.
Управляющему захотелось спросить, уж не эта ли смерть завела у царя ум за разум, но полировка собеседника вдруг опасно сверкнула, и толстый евнух мгновенно прикусил свой язык. Поговаривали, что при желании Багоас может наделать хлопот очень многим.
— В таком случае, — осторожно сказал гаремный смотритель, — не стоит ли повременить пока с этими работами, а? Могут возникнуть проблемы, а без санкции государя…
Багоас в нерешительности помедлил, что на миг сделало его схожим с совсем неопытным, неоперившимся юнцом. Но ответ прозвучал решительно, твердо:
— Нет, наше дело подневольное. Он требует точного выполнения своих распоряжений.
Перс ушел, ничего более не прибавив. В гареме ходили слухи, что похороны царского друга превзошли прославленные в истории похороны царицы Семирамиды. Погребальный костер высотой в пару сотен футов напоминал пылающий зиккурат. Но, как и предсказывал смотритель гарема (о чем он охотно сообщал всем любопытствующим), это пламя было ничем в сравнении с той яростью, какую обрушила на него госпожа Роксана, проведав о переделках в главных покоях гарема.
В родной ей горной Бактрии гаремные евнухи считались презренными слугами, рабами, отлично знавшими свое место. И она восприняла как личное оскорбление то, что здесь положение управляющего дворцовым гаремом считалось издавна и влиятельным, и почетным. Отдав приказ выпороть смотрителя, госпожа Роксана в ярости обнаружила, что никто не уполномочен его исполнить, и послала старого вывезенного из Бактирии евнуха доложить о своих обидах царю, но тот лишь сообщил ей, что Александр убыл со всей флотилией осматривать болотистые берега Евфрата. Когда царь вернулся, она предприняла вторую попытку, но сначала его отвлекали дела, а потом ему, видимо, просто не захотелось заниматься каким-то вздором.
Отец Роксаны, безусловно, поспособствовал бы своей дочери, настояв на казни дерзкого распорядителя, но пожалованная ему Александром сатрапия находилась на границе с Индией. Она уже разрешится от бремени, когда от него придет хоть какой-то ответ. Эта мысль успокоила молодую царицу. Она сказала своим бактрийским служанкам:
— Ладно, пусть туда переселится эта жердина из Суз. Царь все равно не станет жить с ней. Ведь он взял ее в жены, только чтобы порадовать персов. Всем известно, что именно я его настоящая жена, мать его сына.
Поддакивая, каждая подневольная ее наперсница могла бы сказать по секрету: «Не хотелось бы мне оказаться на месте той девочки, которую она может родить вопреки всем своим чаяниям».
Царь по-прежнему не баловал Роксану вниманием, и та жила в томительной неопределенности. Здесь, в самом сердце империи своего мужа, ей было так же тоскливо, как в походном лагере на краю Дрангианы. Она бы могла при желании развеяться, общаясь с другими обитательницами гарема, однако все могущие составить ей компанию женщины провели в царском дворце слишком долгие годы. Некоторых вообще взяли сюда, когда она еще ходила под стол пешком в родительской горной крепости. Роксана с ужасом думала о самодовольной утонченности персиянок и о тех двусмысленных, ехидных репликах, что они бросали ей вслед. Нет, ни одна из них не переступит порога ее покоев. Пусть ее
лучше считают высокомерной, чем перепуганной, не знающей, куда себя деть. К тому же однажды она все-таки умудрилась найти одну из тайных щелок в стене; пришло время приложить к ней ухо и послушать гаремные сплетни.
Тогда-то из разговора дворцового управляющего с одним из евнухов она и узнала, что Александр уже девятый день лежит в постели, подхватив болотную лихорадку. Тут же выяснилось, что болезнь поразила легкие царя, что конец его, похоже, близок и что дочь Дария ждет ребенка.
Роксана не стала даже дослушивать их. Мгновенно кликнула она своих служанок и бактрийского евнуха, накинула на себя покрывало и пронеслась мимо оцепеневшего нубийского увальня, охранявшего вход в гарем, ответив на его пронзительные вопли лишь одно: «Я должна видеть царя!»
Дворцовые евнухи мигом всполошились. Но им не оставалось ничего другого, как только бежать за ней. Она была царской женой, а не пленницей и постоянно торчала в гареме исключительно потому, что покинуть его считала немыслимым. Где бы царь ни разбивал лагерь во время долгого перехода из Индии в Персию, а также по дороге сюда, в Вавилон, багажные повозки Роксаны распаковывались и вытаскивались плетеные ширмы, образующие походный замкнутый дворик, куда она выходила подышать воздухом из своего фургона. В городах в ее распоряжении обычно имелся занавешенный паланкин или балкон, зарешеченный и укрытый от взоров. Никто, собственно, не ограничивал ее свободу, но она предпочитала уединение. Только шлюхи выставляют себя перед мужчинами напоказ. Но сейчас никому не остановить ее. Сопровождаемая трясущимся евнухом и изумленными взглядами царедворцев, царица мчалась по коридорам через цепь внутренних двориков и разного назначения залов к царским покоям. Она впервые на это осмелилась; вернее, если уж на то пошло, вообще впервые приближалась к его личной опочивальне. Он никогда не приглашал ее к себе, приходил сам, когда считал нужным. По его словам, таковы были греческие тра диции.
Замерев на мгновение в высоком дверном проеме, она окинула взглядом широкий цвета кедрового дерева полог над охраняемой глазастыми демонами кроватью. Опочивальня напоминала приемный зал. Тупо воззрившиеся на нее полководцы, лекари и придворные расступились, пропуская царицу к царю.
Лежа на горке поддерживающих его спину подушек, он вовсе не выглядел немощным. Закрытые глаза, приоткрытый Рот и хриплое дыхание, казалось, просто свидетельствовали, что им овладела дремота. В общем, увидев мужа, Роксана предположила, что он еще полностью владеет собой.
— Искандер! — воскликнула она, невольно переходя на свой родной язык. — Искандер!
Сморщенные и бескровные веки в запавших глазницах слегка дрогнули, но не разошлись. Скорее, он даже еще сильнее зажмурился, словно бы защищаясь от ослепительного солнечного света. Тут только она заметила, что его губы потрескались и пересохли, а большой шрам на боку от полученной в Индии глубокой раны болезненно пульсирует в неровном ритме.
— Искандер, Искандер! — громко взывала она, схватив его за руку.
Он вздохнул поглубже и закашлялся. Кто-то склонился к нему с полотенцем, отер кровавую слюну с губ. Глаза больного так и не открылись.
И тогда с холодящей пронзительной ясностью она вдруг осознала гораздо больше того, что открылось ей из подслушанного разговора. Его конец действительно близок, он больше не будет вести ее за собой в земной жизни. Отныне он в этом мире уже ничего не решает, возможно, даже не сможет ответить на интересующий ее вопрос. Для нее и для ее будущего ребенка его уже нет.
Она принялась стенать и бить себя в грудь, точно плакальщица над похоронными носилками, царапая лицо, разрывая одежды и встряхивая растрепавшимися волосами. Потом рухнула на колени перед кроватью и, зарывшись лицом в простыню, обхватила тело мужа руками, едва ли чувствуя, что плоть под ладонями еще горяча. До нее вдруг донесся чей-то голос. Мягкий, молодой.
— Он все слышит, это усугубляет его страдания.
Голос евнуха!
Чьи-то сильные руки сжали ее плечи, оттащили назад. Это был Птолемей, она узнала его, ибо не раз его видела, наблюдая за триумфальными шествиями из-за своих занавесей и решеток, но голос принадлежал не ему, и Роксана пристально посмотрела на юношу, стоявшего с другой стороны кровати. Ей не составило труда узнать и его, несмотря на то что она имела возможность взглянуть на него лишь однажды, в Индии: тогда он стоял рядом с Александром на палубе флагманской спускавшейся вниз по Инду галеры, облаченный в отделанный золотом алый наряд из таксильской ткани. Это был он, ненавистный персидский мальчик, хранитель царской опочивальни, куда ее никогда не пускали. Видимо, он тоже имел отношение к чему-то исконно греческому и такому, о чем она даже и не пыталась заговаривать с мужем.
Царского фаворита не изменило ни скромное облачение, ни осунувшееся изможденное лицо. Понятно, лишившись очарования, он решил вдосталь натешиться властью. Всем полководцам, сатрапам, чиновникам, собравшимся здесь, в первую очередь следовало помочь ей выяснить у царя, кто станет его наследником, но они молчали и смиренно слушали этого вертлявого плясуна. А к ней отнеслись как к незваной гостье.
Роксана прокляла молодого евнуха взглядом, но тот, уже не обращая на нее внимания, отдал услужливо подскочившему рабу окровавленное полотенце и взял чистое из лежавшей рядом с ним стопки. Хватка Птолемея ослабла, и руки слуг, мягкие, умоляющие, настойчивые, повлекли ее к двери. Кто-то забрал с кровати чадру, накинул ей на голову.
Вновь оказавшись в своих покоях, она бросилась на тахту и, колотя и взбивая кулаками подушки, разразилась яростными рыданиями. Осмелившиеся заговорить с ней служанки умоляли ее поберечь себя, чтобы не потерять ребенка. Тогда она опомнилась и велела принести кобыльего молока и инжира, которые в последнее время стали ее любымими лакомствами. Спустились сумерки, а Роксана все еще беспокойно ворочалась на своем ложе. Наконец она встала с застывшими глазами и, топча пятна лунного света, принялась расхаживать по внутреннему дворику, где фонтан, словно заговорщик, бормотал что-то в горячей вавилонской ночи.
В ее животе вдруг взбрыкнул ребенок. Только один раз, но очень явственно, и, положив руки на свое чрево, она прошептала:
— Тише, мой маленький царь. Я обещаю тебе… я обещаю…
Она вернулась в кровать и забылась тяжелым сном. Ей снилась отцовская крепость на согдийской скале и оборонный, изрытый пещерами отвесный склон под самой вершиной, обрывающийся в тысячефутовую пропасть, снилось, что македонские воины их осадили. Она смотрела сверху на копошащихся внизу солдат, похожих на темные просыпанные на снег зерна, на красные сверкающие лагерные костры с легким дымком, на разноцветные пятна палаток. В скалах выл налетевший невесть откуда ветер. Брат позвал ее и остальных женщин прикреплять наконечники к стрелам, он встряхнул ее за плечо, упрекнув в лености. Роксана вздрогнула и проснулась. Служанка выпустила из рук ее плечо, но ничего не сказала. Роксана проспала долго, знойное солнце уже заливало двор. Однако ветер по-прежнему гудел за окнами; его порывы, то нарастающие, то убывающие, наполняли мир зимними завываниями, рождавшимися на просторах бесконечных восточных пастбищ, однако… здесь был Вавилон.
Здесь звуки гасли, а там они набирали силу… как вот сейчас, делаясь совсем близкими, превращаясь в стоны и причитания; наконец она распознала в них привычный обрядовый ритм. Женщины, увидев, что госпожа их проснулась, принялись голосить и стенать еще громче, бормоча зачин древних плачей, что с незапамятных времен известны вдовам бактрийских вождей. Они в ожидании смотрели на госпожу. Она должна была завести погребальную песнь.
Покорно поднявшись с кровати, Роксана распустила волосы и принялась бить себя в грудь кулаками. С детства знала она эти скорбные фразы: «Горе нам, горе, горе! Иссяк свет небесный, пал на землю отважный, словно лев, воин. Множество недругов трепетало, когда он вздымал меч, щедрая длань его источала злато, как песок море. Его радость озаряла нас, как солнечный свет. Подобно бушующей горной лавине, несся он со своими воинами на врагов, подобно урагану, что валит могучие деревья, валил он тех, кто осмеливался противостоять ему в битвах. Его щит служил прочной кровлей для соплеменников. Мрак стал его уделом, его дом погрузился в уныние. Горе нам! Горе нам! Горе!»
Она опустила руки на колени. Ее стоны умолкли. Служанки пораженно уставились на госпожу. Та сказала:
— Я оплакала его. Погребальная песнь закончилась.
Подозвав к себе старшую служанку, Роксана жестом велела остальным удалиться.
— Достань мой старый дорожный наряд, то темно-синее платье.
Его нашли на дне сундука и вытрясли пыль, набившуюся по дороге из Экбатаны. Ткань оказалась еще совсем крепкой; пришлось надрезать ее фруктовым ножичком, прежде чем разорвать. Понаделав достаточно дыр, Роксана натянула это траурное облачение. Побольше растрепала волосы и, проведя ладонью по пыльному подоконнику, испачкала себе лицо. Завершив все эти приготовления, она призвала своего бактрийского евнуха.
— Ступай в гарем и попроси госпожу Бадию навестить меня.
— Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа.
Как же она узнала имя главной наложницы Оха? Евнух явно был озадачен, но о расспросах сейчас не могло быть и речи.
Через свою потайную щелку Роксана слышала, какая суматоха царит в гареме. Кое-кто еще оплакивал государя, но остальные уже отдавали больше времени болтовне. Слегка задержавшись, чтобы привести себя в порядок, Бадия явилась к царской жене, принарядившись в траурное платье, которое надевала лишь на смерть царя Оха и которое потом пятнадцать лет пролежало в укладке, пропахнув травами и кипарисом. Для Дария его не потрудились достать.
Ох царствовал двадцать лет, и Бадия была одной из первых его наложниц. Сейчас ей уже перевалило за пятьдесят, былое изящество сменила старческая костлявость. Она получила отставку задолго до смерти своего царственного господина и прозябала в Вавилоне, пока юные девушки сопровождали его в Сузы. Однако Бадия не забыла времен, когда правила этим гаремом.
Первые несколько минут были посвящены церемонным выражениям соболезнования. Бадия превознесла храбрость почившего царя, его справедливость и щедрость. Роксана приняла ее слова как подобает, раскачиваясь и тихо стеная. Вскоре она вытерла глаза и сокрушенно произнесла пару неловких фраз из своего не слишком богатого персидского лексикона. В ответ Бадия предложила ей утешение, с давних времен безотказно действующее на всех вдов.
— Ребенок станет его подарком тебе. Ты увидишь, как он вырастет и превзойдет своего отца в славных подвигах.
Все шло заведенным порядком, но Роксана его вдруг нарушила.
— Если он выживет, — всхлипывая, простонала она. — Если проклятые родичи Дария позволят ему выжить. Но они убьют его. Я знаю, убьют. О-о, я уверена в этом!
Она схватилась за голову обеими рукам и заголосила.
Бадия затаила дыхание, на ее потрясенном худом лице отразилась масса переживаний.
— Ах, да помилуют нас боги! Неужто опять вернутся черные времена?
Ох пришел к власти, уничтожив всех братьев, имевших право претендовать на трон, и сам умер от яда. Роксане совершенно не хотелось выслушивать воспоминания. Она решительно откинула назад волосы.
— А что им помешает? Кто убил царя Оха, когда тот слег в хвори? И молодого царя Арса и его брата-царевича? Даже маленького сынишку Арса, еще младенца? И кто, после всего содеянного, убил тайного исполнителя этих немыслимых преступлений визиря, чтобы закрыть ему рот? Дарий! Так говорил мне Александр.
(«Раньше я думал так, — вот что сказал ей некогда Александр. — Но изменил свое мнение после сражения с Дарием. Он мог бы стать не более чем игрушкой в руках визиря. И взойдя на трон, он убил его только потому, что боялся этого страшного человека».)
— Неужто сам Александр так сказал? О, лев божественного правосудия с карающим мечом!
Голос наложницы Оха возвысился, готовый удариться в новые причитания. Роксана быстро вскинула руку, чтобы остановить их.
— Да, он отомстил за твоего повелителя. Но мой сын, кто его защитит? Ах, если бы ты только знала!
Бадия, умирая от любопытства, сверкнула черными проницательными глазами.
— Что ты имеешь в виду, госпожа?
И Роксана поведала страшную историю. Оставив ее для безопасности в Экбатане, Александр, по-прежнему горько оплакивая кончину друга детства, выступил в поход на разбойников, решив очистить дорогу в Вавилон. Потом, утомленный этой зимней войной, он заехал отдохнуть в Сузы, куда его завлекла царица-мать Сисигамбис. Уж если на то пошло, говоря честь по чести, ведь именно эта старая ведьма подбила своего сына Дария, жестокого узурпатора, на все преступления. Она-то и подсунула Александру дочь Дария, свою нескладную длинноногую внучку, и он женился, чтобы порадовать персов. Вполне вероятно, что старуха опоила его приворотным зельем, в таких делах она, как известно, знала толк. Потом Сисигамбис притащила эту дылду в царскую опочивальню, а после сказала, что та понесла от него, хотя неизвестно, кто мог быть в том повинен. Но поскольку свадьбу сыграли в присутствии всей персидской и македонской знати, то им теперь ничего не останется, как признать наследником ее чадо.
— Хотя женился-то он на ней лишь для видимости, ради упрочения связей в своем государстве. Он сам говорил мне об этом.
(И впрямь потрясенный ревностью Роксаны, оглушенный ее криками и даже испытывающий угрызения совести Александр говорил ей перед своей второй свадьбой нечто подобное в утешение. Он не давал ей никаких обещаний на будущее, поскольку принципиально ничем не желал себя связывать, но осушил ее слезы и подарил красивые серьги.)
— И потому теперь, — вновь всхлипнула Роксана, — под этой самой крышей она будет вынашивать внука убийцы царя Оха. Разве сможет кто-либо защитит нас, когда наш господин покинул сей мир?
Бадия зарыдала в голос. Ей вспомнились долгие небогатые событиями мирные годы в этом тихо старящемся гареме, куда опасности внешнего мира проникали только в виде слухов. Мужские ласки и даже иные разнообразные удовольствия ее уже не прельщали, зато вполне устраивала привычная и уютная жизнь с говорящей комнатной птицей, рыжей обезьянкой и старыми дружками-евнухами, заправлявшими тут всем в отсутствие постоянно странствующего царя. Сейчас же перед ее глазами услужливо пронеслась череда давних воспоминаний о предательствах и заговорах, обвинениях, унижениях и о прочих ужасных вещах, что всегда влекут за собой перемены во власти. Однажды жестокий соперник устранил царя Оха, сломав и ее жизнь. Подумав об окончании теперешних спокойных лет, она заплакала еще пуще, на сей раз уже жалея одну лишь себя.
— Что же нам делать? — вскрикивала она. — Что мы можем сделать?
Коротковатые пальцы белой и пухлой ручки Роксаны впились в запястье Бадии. Ее огромные черные глаза, очаровавшие некогда Александра, уставились на старуху.
— Царь умер. Мы должны сами спасать свои жизни.
— Верно, госпожа. — Старые дни возвращались: вновь появилась необходимость бороться за выживание. — Госпожа, но как же нам быть?
Роксана привлекла ее к себе, и они перешли на шепот, помятуя о том, что стены имеют уши.
Через некоторое время со стороны комнат служанок к ним скрытно пришел старый евнух, давний приспешник Бадии. Он принес шкатулку из полированного дерева. Роксана спросила:
— Это правда, что ты умеешь писать по-гречески?
— Не сомневайся, госпожа. Царь Ох частенько пользовался моими услугами.
— Есть ли у тебя хороший папирус? Для царственного послания.
— Да, госпожа. — Евнух открыл шкатулку. — Когда узурпатор Дарий поставил на мое место своего человека, мне удалось придержать кое-что.
— Хорошо. Садись и пиши.
Услышав, кому предназначено послание, писец едва не испортил свиток. Однако он отчасти уже представлял себе характер тайного поручения, да и Бадия припугнула его, сказав, что если дочь Дария примется заправлять здешним гаремом, то тут же выгонит всех людей Оха на улицу и им придется побираться как нищим. Евнух вернулся к письму. Роксане понравился его ровный и гладкий почерк с витиеватыми завитками и росчерками. Когда он закончил, она быстро отпустила его, вручив за труды серебряную монету. Царица не взяла с писца клятву хранить молчание. Насколько поняла Бадия, это было ниже ее достоинства.
Евнух захватил и воск, но Роксана не стала запечатывать послание в его присутствии. Теперь же она извлекла перстень, подаренный ей Александром в их первую брачную ночь. Для вставки подыскали безупречный темно-лиловый аметист, а любимый резчик властителя Пирголет вырезал на камне его портрет, не имевший ничего общего с официальной печатью царей Македонии, ибо там был изображен Зевс на троне. Но Александр никого особо не посвящал в подобные тонкости, и Роксана надеялась, что оттиска с изображением мужа будет вполне достаточно.
Она поднесла кольцо к свету. Отличная тонкая работа, резчику удалось живо передать черты Александра, хотя и в несколько идеализированном виде. Муж поднес ей этот дар в брачном шатре, когда они наконец остались одни. То был знак молчаливой признательности, заменившей слова, поскольку и он, и она тогда могли изъясняться друг с другом в основном на языке жестов. Примеряя кольцо, он не сразу нашел нужный палец. Роксана почтительно поцеловала подарок, а потом Александр обнял ее. Ей вспомнилось, какими неожиданно приятными оказались и его тело, и нежная свежесть юношеского объятия, хотя она ожидала чего-то более грубого. По ее понятиям, ему следовало выйти и разоблачиться, чтобы потом возвратиться закутанным в свадебную простыню, но вместо этого он тут же сбросил одежду и, представ перед ней во всей своей наготе, немедленно возлег на брачное ложе. Поначалу странный обычай так потряс ее, что у нее спутались мысли, а он решил, что она просто боится. Роксана с трудом воспринимала его ласки, порой изысканно утонченные. Видимо, он получил отличное воспитание, хотя и не культивируемое в ее краях. Ей-то как раз хотелось другого: необузданного мужского напора, хотелось, чтобы он налетел на нее, как ураган. Бактрийских девственниц приучали к особенным позам, способствующим абсолютному подчинению, иначе в первом своем неистовом буйстве бактрийский новобрачный мог даже придушить свою суженую. Но Роксана почувствовала его растерянность и ужасно испугалась, что наутро гостям придется показывать неиспачканную свадебную простыню. Тогда она осмелилась сама обнять его, а дальше все пошло хорошо.
Накапав горячего воска на свиток, она вдавила в него печать. Внезапно с пронзительной остротой ей вспомнился один солнечный летний день. Несколько месяцев назад они сидели возле пруда в Экбатане. Александр кормил карпов, пытаясь выманить из-под листов кувшинок старого и ленивого царя водоема. И лишь ублажив этого лентяя, он раскрыл ей свои объятия. Утомленный любовной игрой, муж уснул; в память впечаталась его по-юношески чистая кожа с глубокими неровными шрамами и разлет густых мягких волос. Роксане тогда захотелось лизнуть его, вдохнуть его запах, он выглядел так же соблазнительно, как вынутый из печи каравай. Когда она зарылась лицом в его плоть, он, слегка приоткрыв глаза, уютно обнял ее и вновь провалился в сон. Сейчас у нее вдруг невольно возникло живое ощущение его физического присутствия. И тогда одна в тишине она зарыдала по-настоящему, взахлеб.
Но вскоре Роксана решительно осушила слезы. Ее ожидали безотлагательные дела.
* * *
В царской опочивальне мучительно долгое ожидание вдруг закончились. Александр угас, испустив последний вздох. Стенающие евнухи убрали бесполезную уже горку подушек; теперь он лежал на спине, вытянувшись во всю длину на громадной кровати и обретши за счет неподвижности некое величие монумента, но поражая окружающих немыслимой для него пассивностью. Пассивностью покойника, трупа.
Военачальники, спешно призванные, когда близость конца сделалась очевидной, стояли в тупом ошеломлении. Уже два дня они ломали голову, что же теперь делать дальше. Однако сейчас им казалось, что ожидаемое событие только проигрывалось ими в воображении как вероятность. Вполне возможная, но не более чем. Точно завороженные, они вглядывались в черты знакомого лица, так безвозвратно безжизненного, и в них все росло и росло возмущение, почти негодование, вызванное неприятием непоправимого факта. Разве с Александром могло что-то случиться без его на то согласия? Разумеется, нет. Как же тогда он посмел умереть, оставив их всех в полнейшем смятении? Как посмел сбросить с себя всю ответственность за происходящее? Это было абсурдным, не укладывающимся в голове.
Надтреснутый молодой голос у двери вдруг возвестил:
— О боги, он умер, умер!
Кричал восемнадцатилетний парень, один из царских стражей, только что заступивший на пост. Его истерические рыдания заглушили причитания евнухов, собравшихся вокруг смертного ложа. Нужно было немедленно увести отсюда юнца, поскольку в его крике звучали отголоски чего-то неизбывного, древнего, порождаемого безудержным, почти животным страданием.
Этот крик словно пробудил нечто необъятное. Вверг в смятение половину македонского войска, толпившегося вокруг дворца в ожидании новостей.
Большинство из собравшихся только вчера навещали Александра, и он узнавал их, он вспомнил всех. Каждый, кто у него побывал, имел веские основания веровать в чудо. А потому многоголосье горестных причитаний перекрыл мощный гул протеста, в котором, казалось, слышалось и требование найти того, кто виновен во всебщем горе, и страх перед шаткой неопределенностью будущего.
Рев толпы заставил полководцев опомниться. Точно сработала выучка, какую не уставал шлифовать в них лежащий на своем смертном ложе покойный. Необходимо срочно погасить панику. И они вышли на возвышающийся над дворцовой площадью помост. Пердикка прикрикнул на глашатая, без толку там топтавшегося, и тот, подняв длинноствольную трубу, протрубил сигнал, призывающий к тишине.
Отклик поначалу был совершенно противоположным. Только вчера воины е ще жили верой в то, что этот призыв будет исходить от самого Александра, и все терпеливо ждали известий в своих подразделениях, но каждый отряд, каждая фаланга стремились раздобыть сведения раньше других. Теперь же заведенный ход жизни прервался. Передние ряды кричали задним, что говорить будет Пердикка. После смерти Гефестиона он стал первым заместителем Александра. Его грозный раскатистый бас вселил во многих чувство некоторой определенности; беспорядочно толпившиеся бойцы подтянулись, образовав нечто более-менее стройное.
Персидские солдаты ждали вместе с остальным войском. Протестующий ропот греков контрастно дополняли их скорбные, сейчас несколько поутихшие крики. Они были — еще день назад — солдатами Александра, именно он заставил их забыть о своем униженнном положении, вернул им чувство собственного достоинства и заставил македонцев видеть в них равных себе. Былые разногласия почти исчезли, греческие солдаты уже вовсю перенимали персидскую брань, и между одной частью армии и другой начали понемногу складываться нормальные дружеские отношения. И вдруг, вновь осознав себя завоеванными рабами, зависящими от милостей победителей, эти люди теперь искоса переглядывались, подумывая о бегстве.
По знаку Пердикки вперед уверенно вышел Певкест, известный, славившийся своим мужеством военачальник, который в Индии спас жизнь Александру, получившему почти смертельную рану. И вот этот рослый и красивый мужчина, отрастивший модную в его сатрапии бороду, решительно обратился к солдатам на персидском наречии, причем столь же безупречном и аристократичном, как и его наряд. Певкест официально объявил им о кончине великого государя. В должное время будет оглашено имя его преемника. А пока они могут разойтись.
Персы успокоились. Но в рядах македонцев поднялся смутный гул недовольства. По унаследованным от предков законам право выбора нового царя принадлежало не кому-то, а лично им, общему собранию всех македонцев мужского пола, способных держать оружие. При чем тут болтовня о каком-то там оглашении?
Певкест отступил обратно и встал рядом с Пердиккой. Полководцы с молчаливым спокойствием взирали на собравшихся. В течение двенадцати лет они оба приглядывались, как Александр общается с воинами. Безропотное ожидание властных волеизъявлений не свойственно солдатской натуре. Этим суровым и своенравным людям поначалу надо дать выговориться, и Александр всегда предоставлял им такую возможность. За все двенадцать лет эта тактика не сработала лишь единожды. Но даже заставив его повернуть в Индии вспять, солдаты все же остались всецело преданными ему. И сейчас, столкнувшись уже без него с проявлением недовольства, Пердикка вопреки всему еще надеялся услышать за спиной звуки пружинистых приближающихся шагов, подбадривающее, вскользь брошенное замечание и звонкий возглас, мгновенно устанавливающий тишину.
Но чуда не произошло, и Пердикка, который при всем недостатке врожденного обаяния успел постичь некоторые секреты искусства воздействия на людей, поступил так, как поступал при необходимости Александр, то есть пустил в ход дорический диалект, родной македонцам язык, усваиваемый еще до того, как им начинали вдалбливать классический греческий в школах. Они все потеряли, сказал он, величайшего из царей, храбрейшего из лучших воинов, известных в этом мире с тех пор, как сыны богов покинули землю.
Его слова породили мощный нарастающий стон. Не скорбно-осознанный, с оглядкой на былые заслуги, но мощный неуправляемый выплеск обнаженного горя, утраты. Дождавшись относительной тишины, Пердикка продолжил:
— И внуки ваших внуков будут говорить то же самое. Не забывайте, однако, что ваша потеря соразмерна вашим недавним победам. Вы единственные из всех людей, как прошлого, так и будущего, делите теперь славу с Александром Великим.
Именно вам, своим македонцам, он завещал владычество над половиной мира, чтобы поддержать ваше мужество и показать вам самим, какими славными воинами вы стали под его началом. И потому вам всем теперь должно блюсти закон и порядок.
Притихшая толпа слушала с пристальным вниманием. Когда Александр говорил так спокойно, то он обычно сообщал что-то важное. Пердикка понимал это, но что он сейчас мог сказать? Что фактически сам теперь является царем Азии? Это было бы слишком скоропалителительным заявлением. Они пока знают одного лишь царя средь живых и средь мертвых. И Пердикка предложил им вернуться в лагерь и ждать дальнейших распоряжений.
Под его присмотром воины начали уходить со двора, но когда он сам удалился во дворец, многие возвратились. По одному, по двое, чтобы обосноваться поблизости и всю ночь с оружием охранять сон покойного.
* * *
Зародившиеся в центре Вавилона горестные стенания подобно лесному пожару, раздуваемому сильным ветром, перекинулись с лабиринта ближайших к дворцу улочек в предместья за городские стены. Утончались и иссякали одна за другой тонкие струйки дыма, поднимавшиеся в неподвижный воздух от священных алтарей. Жрецы Бел-Мардука, собравшиеся у залитого водой храмового огня, припомнили, что сделали то же самое чуть больше месяца тому назад. Тогда сам Царь приказал погасить все огни в день погребения его друга.
— Мы предостерегали его, что это пророчит дурное, но он ничего не хотел слышать. Не воспринимал наши слова, словно мы говорили на неизвестном ему языке.
Перед главным алтарем в святилище бога Митры, покровителя воинской славы, блюстителя нравственного сияния истины и добродетели, стоял юный жрец с кувшином воды в руке. Над алтарем красовался выбитый в камне символ — крылатое светило, век за веком воюющее с кромешным мраком. Пламя было все еще ярким, поскольку молодой служитель щедро его подкармливал, надеясь, что оно способно разжечь угасающие жизненные силы царя. Даже сейчас, получив приказ погасить огонь, он отставил кувшин, подбежал к сундучку с арабскими благовониями и всыпал горсть их в самый жар для оживления аромата. Лишь дождавшись, когда последний дымок вознесся в летнее небо, младший жрец опрокинул кувшин, и вода зашипела на углях.
* * *
Съедая мили, плавным размашистым шагом скаковой дромадер нес по царской дороге в Сузы запыленного курьера. Вскоре им обоим понадобится отдых, но к тому моменту они уже достигнут очередной дорожной заставы, а дальше незамедлительно отправится в ночь свежий гонец на полном сил верблюде.
Этап этого вестового заканчивался на половине пути до места назначения. Свиток, спрятанный в седельной сумке, передал ему напарник для срочной и безусловной доставки. Только первую стадию длинной дороги от Вавилона проскакал не знакомый никому всадник. Когда его спросили, правда ли, что царь болен, незнакомец ответил, что, судя по всему, так оно и есть, но у него нет времени на разговоры. Молчаливая и срочная доставка была главной задачей отряда курьеров; солдаты обменивались краткими приветствиями, и новый всадник уносился вперед, молча передавая очередному человеку в цепи послание, запечатанное личной печатью самого государя.
Все знали: царские вестовые носятся быстрее птиц. Даже крылатая молва не могла опередить их, ведь по ночам молва спит.
* * *
Почуявшие запах приближающегося верблюда лошади заартачились и вскинулись на дыбы, едва не сбросив на землю двух верховых, которые, пропуская несущегося мимо курьера, замедлили ход и посторонились. Старший из всадников, коренастый веснушчатый и рыжеволосый мужчина лет тридцати пяти, первым совладал со своей кобылой, с такой силой рванув поводья, что с удил закапала кровь. Его брат, вполне приятный на вид паренек с золотисто-каштановой шевелюрой, был лет на десять моложе и дольше возился с лошадью, пытаясь усмирить ее уговорами. Кассандр презрительно следил за его стараниями. Он был старшим сыном регента Македонии, Антипатра, но в Вавилонии оказался впервые. Отец недавно послал его в эти края, чтобы выяснить, почему Александр надумал передать полномочия регента Македонии Кратеру.
Иолла, младший сын регента, воевал вместе с Александром, а недавно стал его виночерпием. Это назначение, кстати, было своеобразным умиротворяющим жестом в адрес Антипатра, ибо Кассандр служил не на виду, а в гарнизоне города Пеллы, поскольку они с Александром с детства недолюбливали друг друга.
Успокоив наконец лошадь, Иолла сказал:
— Это был царский вестовой.
— А чтоб он сдох вместе со своей горбатой скотиной!
— Интересно, к чему такая спешка? Может… все закончилось?
Кассандр оглянулся назад — в сторону Вавилона — и сказал:
— Надеюсь, свирепый пес Гадеса уже пожирает его душу.
Какое-то время они ехали молча. Иолла задумчиво смотрел на расстилавшуюся перед ними дорогу. Наконец он сказал:
— Если так, то теперь никто уже не отнимет регентство у отца. И он сможет сам стать царем.
— Царем? — взревел Кассандр. — Никогда! Он ведь дал клятву верности и никогда ей не изменит. Будет все с той же преданностью служить варварскому отродью, если у бактрийки родится мальчик.
Лошадь Иоллы занервничала, ощутив возмущение своего седока.
— Тогда… зачем? Зачем ты заставил меня сделать это? Не ради отца? Только из ненависти?! Всемогущие боги, как же я не догадался!
Кассандр, развернувшись, хлестнул брата плетью по ноге. Тот заорал от боли и ярости.
— Не смей больше так делать! Мы не дома, и я давно вырос.
Кассандр показал на красный след от удара.
— Боль учит. Ты ничего не делал. Запомни, ничего. Заруби это у себя на носу.
Проехав еще немного и заметив слезы на глазах Иоллы, он сказал с ворчливой снисходительностью:
— По всей вероятности, он так и так подхватил бы лихорадку. Наверняка он сам частенько пил там грязную воду. На болотах. Крестьяне в низовьях постоянно пьют болотную воду, и никто не умирает от этого. Держи язык за зубами. Иначе болтливость погубит тебя.
Иолла тяжело вздохнул. Проведя рукой по глазам, он испачкал лицо серой пылью вавилонской равнины и сухо сказал:
— Он так и не восстановил толком силы после ранения в Индии. Лихорадка могла доконать его… Он был добр ко мне. Я сделал это только ради отца. А теперь ты говоришь, что он не будет царем.
— Отец не хочет быть царем. Но как бы там ни было, теперь он умрет правителем Македонии и всей Греции. Нашему старику тоже не долго осталось коптить этот свет.
Иолла молча глянул на брата, хлестнул свою лошадь и галопом помчался вперед между золотых пшеничных полей; разрывающие его грудь рыдания заглушал бешеный конский топот.
* * *
Следующий день в Вавилоне полководцы посвятили подготовке собрания, которое должно было решить, кто станет новым правителем Македонии. В древних законах этой страны ничего не говорилось о преимуществах первородства. Сами воины имели право выбрать нового царя из членов царского рода.
Когда умер Филипп, выборы прошли просто. Почти все войска тогда вернулись на родину. Двадцатилетний Александр уже успел снискать славу полководца, и никаких других претендентов даже не называли. Так же просто выбрали раньше и самого Филиппа, младшего брата царя Пердикки, павшего в битве. Филипп, едва ли не с пеленок взявшийся за оружие, уже стал опытным военачальником, а Македонии как раз предстояли большие войны.
Сейчас македонские войска были разбросаны по всей Азии. Десять тысяч ветеранов отправились домой на покой под командованием Кратера, энергичного полководца, состоявшего в родстве с царской династией, а в служебной иерархии Александра считавшегося вторым после Гефестиона. Многочисленные гарнизонные отряды завоевателей располагались и в мощных каменных крепостях, охраняя дороги, ведущие в Южную Грецию. Македонцы, находившиеся в Вавилоне, прекрасно все это понимали, но никто из них не сомневался в своей правомочности избирать нового властелина. Они состояли при Александре, и этого было достаточно.
Собравшись на жарком учебном плацу, воины в ожидании начала выборов о чем-то спорили, строили предположения и обменивались слухами. Время от времени их возбужденные голоса вскипали, словно волны прибоя, накатывающегося на галечный берег.
Генеральные распорядители из состава царской охраны пытались вызвать во дворец старших командиров высшего Ранга, чтобы обсудить с ними создавшееся затруднительное положение. Потерпев неудачу, они велели глашатаю успокоить войско сигналом трубы, чтобы затем пригласить каждого поименно. Глашатай, понимая, что простым сигналом войска не успокоишь, сыграл предупредительный «сбор по приказу». Но уже давно потерявшие терпение воины восприняли его как сигнал «общего сбора».
Шумной толпой они вливались через большие двери в тронный зал, а глашатай, пытаясь перекрыть общий гвалт, выкривал имена командиров, и те из них, кому удавалось услышать его, пытались протолкаться вперед. Давка в зале стала угрожающе опасной; двери пришлось закрыть, к отчаянию всех прибывших сюда по праву или без права. Глашатай, беспомощно глядя на это столпотворение, увещевающе взывал к толпе, оставшейся во дворе, думая про себя, что если бы Александр увидел такое, то очень многие быстро бы пожалели, что вообще появились на свет.
Поскольку солдаты все-таки пропускали начальство вперед, в первых рядах оказались наиболее уважаемые командиры из числа Соратников вкупе с офицерами македонской конницы и пехоты, каких также занесло в зал. Всех их объединяли сейчас лишь свойственные растерянным людям чувства глубокой тревоги и раздражения. Все они сознавали, что их войско находится в завоеванной стране, а до родины еще полмира. Они отправились сюда, твердо веря в Александра, и только в него. И больше всего нуждались сейчас не в царе, а хоть в каком-нибудь предводителе.
Как только двери закрылись, взоры всех воинов устремились на господствующее возвышение. Там, как и прежде, они увидели известных мужей, ближайших друзей Александра, стоявших вокруг трона, древнего вавилонского трона; его резные подлокотники украшали ассирийские настороженные быки, а на обновленной для Ксеркса спинке поблескивало крылатое всепобеждающее светило. Еще недавно они видели там невысокого, ладно скроенного искрометного человека, нуждавшегося в скамеечке для ног и сиявшего как алмаз в слишком большой оправе под распростертыми над его головой крыльями Ахура-Мазды. Сейчас трон пустовал. На спинке висела царская мантия, а на сиденье лежала корона.
Тихий скорбный вздох пронесся между колоннами зала. Птолемей, любивший на досуге углубиться в поэзию, подумал: вот пик трагедии. Сейчас распахнутся задние двери, и появившийся хор подтвердит, что страхи оправданны и что царь действительно умер.
Пердикка вышел вперед. Он начал с сообщения, что все здесь собравшиеся друзья Александра были свидетелями того, как перед смертью царь передал ему царский перстень, но, будучи лишенным дара речи, не смог сказать, какими полномочиями его наделяет.
— Он сосредоточенно смотрел на меня, — продолжил Пердикка, — явно желая что-то сказать, но голос отказал ему. Посему, мужи Македонии, вот этот перстень. — Он показал кольцо всем и положил его рядом с короной. — У вас есть право выбрать нового правителя согласно нашим древним законам.
По залу, точно в театре, пронесся напряженный смутный гул восхищения. Пердикка молчал, по-прежнему стоя на переднем плане, как хороший актер, выдерживающий паузу перед очередной репликой. Птолемей отметил, что на его обычно настороженном и высокомерном лице сейчас застыло выражение незыблемого достоинства. Маска, но маска, умело подобранная и… уж не царственная ли, а?
Пердикка продолжил:
— Всем нам понятно, что наша утрата безмерна и невосполнима. Мы знаем, что немыслимо передать трон человеку, не принадлежащему к царскому роду. Роксана, жена Александра, уже пятый месяц вынашивает дитя. Так вознесем же молитвы богам, чтобы они даровали ей сына. Когда он родится, мы будем с надеждой ожидать его зрелости. А пока вам нужно решить, кому вы хотите вручить бразды временного правления. Выбор за вами.
Народ растерянно перешептывался; полководцы на возвышении встревоженно переглянулись. Пердикка не успел представить следующего оратора, как внезапно без всякого объявления вперед выступил Неарх, главный флотоводец, сухощавый критянин с тонкой талией и загорелым обветренным лицом. Непомерные тяготы исследовательского водного похода вдоль берегов Гедросии добавили ему десяток годков, но он выглядел крепким и жилистым пятидесятилетним мужчиной. Люди притихли, желая послушать его; как-никак он встречался с глубоководными чудовищами и обратил их в бегство ревом труб. Непривычный к публичным речам Неарх поразил всех мощью голоса, каким он обычно приветствовал в море экипажи своих кораблей.
— Македонцы, я хочу сообщить вам также еще об одном наследнике Александра, которого ждет его жена Статира, дочь Дария. Побывав последний раз в Сузах, царь оставил ее в тягости. — Послышались удивленные, обескураженные крики; он резко повысил голос, как частенько делал это во время шторма. — Вы все видели их свадьбу. Вы видели, что это была настоящая царская свадьба. Он намеревался привезти Статиру сюда. Так он говорил мне.
Эта совершенно неожиданная новость о женщине, которая, промелькнув на свадебном пиршестве в Сузах, сразу вернулась к тихой гаремной жизни, вызвала волну смущения и разочарования. Вдруг чей-то грубоватый голос спросил:
— Эх… а говорил ли он что-нибудь об этом своем отпрыске, а?
— Нет, — сказал Неарх. — Я полагаю, он намеревался воспитывать обоих своих сыновей и выбрать потом из них лучшего. Но он не дожил до их рождения, а ребенок Статиры принадлежит к его царскому роду.
Он отступил назад, больше ему нечего было сказать. Он сделал все, что считал должным. Глядя на море голов, адмирал вспомнил, как отощавший до костей за время ужасного перехода по пустыням Гедросии Александр приветствовал его, когда он целым и невредимым вернулся со всем царским флотом из последнего плавания, как обнял его со следами облегчения и радости, блестевшими в глубоко запавших глазах. Неарх с детства проникся к нему безоговорочной неизбывной симпатией; годы, проведенные с Александром, были, видимо, лучшими в его жизни, и он пока не мог даже представить, как скоротает ее остаток.
Пердикка в ярости стиснул зубы. Он четко и ясно предложил всем выбрать регента — разумеется, имея в виду лишь себя. А теперь люди, забыв о его предложении, принялись обсуждать вопросы престолонаследия. Два нерожденных пока что ребенка вполне могли оказаться девочками. Так бывало в этом роду. От Филиппа пошел целый выводок дочерей. Регентство сулило огромные перспективы. Сам Филипп начинал как регент при малолетнем наследнике, но македонцы, не тратя попусту время, избрали его царем. В Пердикке, кстати, тоже течет немалая толика царской крови. А чего добился Неарх? Совершенно запутал и без того растерянную толпу, и только.
Дебаты становились все более шумными и язвительными. Многие уже кричали, что если Александр и совершал какие-то ошибки, так лишь потому, что шел на поводу у персов. Чересчур помпезная свадьба в Сузах давала гораздо больше поводов для опасений, чем походная свадьба с Роксаной; впрочем, такого рода союзы его отец заключал неоднократно. Все снисходительно терпели даже этого плясуна-перса, как терпели бы и домашнюю обезьянку или там собачонку, но почему же он для начала не женился как подобает, почему не взял девушку знатного македонского рода, вместо этих двух чужеземок? А теперь вот что из этого получилось.
Одни заявляли, что надо признать любого его отпрыска, даже с примесью варварской крови. Другие говорили, что еще неизвестно, признал ли бы он сам их обоих. А теперь можно не сомневаться, что если эти его жены разрешатся мертворожденными младенцами или девочками, то их тайно подменят на мальчиков. Никто не собирается ползать на брюхе перед персидскими подкидышами…
В скорбном гневе наблюдал Птолемей за разбушевавшимися сородичами, мечтая поскорее убраться отсюда. Как только смерть Александра стала свершившимся фактом, он понял, какая судьба привлекает его. С тех самых пор, как египтяне с распростертыми объятиями встретили Александра, провозгласив его освободителем от персидского рабства, эта страна очаровала Птолемея великолепием своей древней культуры, колоссальными памятниками и храмами, а также изобилием,
подпитывающимся плодоносной рекой. Оборона Египта, подобного острову, не составила бы особых хлопот: с одной стороны его защищало море, с другой — бескрайние пустыни; оставалось лишь завоевать доверие египтян, чтобы спокойно и уверенно править ими. Пердикка и остальные полководцы с радостью отдадут ему эту сатрапию; им нужно убрать его с дороги.
Птолемей представлял для них опасность, поскольку ходили слухи, что он был братом Александра, внебрачным ребенком Филиппа, родившимся, когда тому еще не было и двадцати лет. Факт сей остался недоказанным и непризнанным, но Александр всегда относился к Птолемею по-родственному, и все это знали. Да, Пердикка с радостью отправил бы его в Африку. Но неужели этот властолюбец вознамерился сам стать наследником Александра? Именно об этом он сейчас и мечтает, об этом просто кричит весь его вид. Надо что-нибудь предпринять, и немедленно.
Заметив, что Птолемей шагнул вперед, солдаты тут же бросили споры, им захотелось послушать его. Он был другом детства Александра и, выгодно отличаясь от высокомерного Пердикки, всегда пользовался уважением и любовью служивших под его рукой воинов. Те из них, что сумели пробраться в зал, встретили своего командира приветственным гулом.
— Македонцы, я понимаю, что вам не хочется выбирать царя из потомков покоренных народов.
Бурное одобрение. Все воины в знак подтверждения своих полномочий были вооружены, и сейчас лязг щитов и стук копий эхом отражался от высоких сводов тронного зала. Умеряя боевой пыл собравшихся, Птолемей поднял руку.
— Мы также не знаем, вынашивают ли жены Александра мальчиков. Но если даже обе они разродятся сыновьями, то по достижении зрелости эти юноши предстанут перед вами и вашими сыновьями, и тогда уже вновь созванное собрание решит, захочет ли оно видеть одного из них царем Македонии. Пока же нам остается лишь ждать. Но кто будет править нами от имени будущего еще не названного государя? Здесь вы видите перед собой тех, кому Александр доверял. Чтобы в руках одного правителя не скопилось слишком много власти, я предлагаю выбрать регентский совет.
Его поддержали одобрительным гулом. Напоминание о том, что лет через пятнадцать они еще смогут отвергнуть обоих претендентов, подсказало воинам, что важно для них на сегодняшний день. Птолемей продолжил свои увещевания:
— Все вы помните Кратера. Александр доверял ему как самому себе. Он послал его править Македонией. Вот почему сейчас его нет с нами.
С этим тоже никто не стал бы спорить. Люди уважали Кратера, считая его вторым после Александра; талантливый полководец, отважный и красивый мужчина, он принадлежал к царскому роду и с пониманием относился к нуждам солдат. Птолемей спиной чувствовал убийственные взгляды Пердикки. «Пусть злится сколько угодно; я поступаю так, как велит мне мой долг».
Глядя на взбудораженную гудящую толпу, Птолемей вдруг подумал, что всего пару дней назад все в ней были единодушны. Все мнили себя сподвижниками Александра, ожидая от него лишь одного: чтобы он встал и опять вел всех дальше по жизни. «Кем же мы стали теперь и что я сам теперь из себя представляю?»
Он никогда не придавал большого значения возможному отцовству Филиппа: слишком много ему пришлось пережить из-за этого в детстве. Когда Птолемей родился, Филипп занимал незавидное положение младшего сына в семье и сидел в Фивах. А формальный отец Птолемея, будучи в раздражении или подпитии, порой бросал жене: «Заставь своего ублюдка вести себя поприличнее!» Не прекращались и драки с не в меру языкастыми сверстниками, что, впрочем, закалило его. Удача улыбнулась ему позже, когда Филипп стал царем, а самого Птолемея взяли в царскую свиту, но уроки детства не прошли даром, и вопрос, причастен ли Филипп к его рождению, перестал его волновать. Хотя ему нравилось с неуклонно усиливающейся симпатией и возрастающей гордостью считать себя братом Александра. Неважно, думал он, течет ли в нас одна кровь. Важно делить духовное братство.
Из краткой задумчивости его вывел новый голос. Один из молодых военачальников, Аристон, вышел вперед и напомнил о том, что, каковы бы ни были намерения Александра, перстень он все-таки отдал Пердикке. Этот умник, оценив обстановку, сообразил, чем можно взять собравшихся. Нужны были факты, а не предположения, и Аристон это учел.
Он говорил просто, искренне и основательно завел публику. Воины начали выкрикивать имя Пердикки, и многие уже призывали его забрать обратно кольцо государя. Медленно, наблюдая за реакцией зала, Пердикка сделал несколько шагов к трону. Однако на какой-то миг его глаза встретились с глазами Птолемея, и он тут же насторожился, словно наткнувшись на неожиданное препятствие.
«Нет, — подумал Пердикка, — с кольцом нужно повременить, такая прыть не пойдет мне на пользу. Нужно дождаться второго голоса в поддержку мнения Аристона».
В зале, набитом распаренными людьми, стояла удушающая духота. Человеческое зловоние усугублялось и резким запахом мочи, доносившимся из углов, где украдкой кое-кто облегчался. Военачальники постепенно дурели от многообразия охватывающих их чувств; тревога мешалась с раздражением, негодование — с разочарованием, за взлетом следовало падение, за падением — взлет. Вдруг, выкрикивая что-то неразборчивое, к возвышению протолкался еще кто-то.
«Интересно, — подумали все, — что же нам может сказать Мелеагр?»
Он командовал фалангой уже во время первой кампании Александра, но с тех пор не сильно продвинулся. Как-то за ужином Александр доверительно сказал Пердикке, что Мелеагр — образцовый служака, если не слишком обременять его мозги.
Покрасневший от жары и злости, да и от выпитого, судя по взгляду, Мелеагр остановился перед возвышением и, глубоко вдохнув, заорал яростным и грубым басом, едва не оглушившим толпу:
— Это же царский перстень! Неужто вы готовы всучить его кому попало? Да он тут же вцепится во власть мертвой хваткой и никому ее не отдаст, пока не помрет. Неудивительно, что ему хочется назначить царем того, кто еще даже и не родился!
Голоса призывающих к порядку полководцев практически заглушил неожиданный и мощный рев зала. Ярость Мелеагра, видимо, пробудила от смутного оцепенения основную массу прежде молчавших людей, взбаламутила все, что отстаивалось в их умах, может быть, даже годы. Теперь они возбудились, как возбудились бы, глядя на уличную поножовщину, на мужа, избивающего жену, или на жестокие собачьи бои; они приветствовали Мелеагра, как пса-фаворита.
В походных условиях Пердикка мгновенно навел бы порядок. Но тут шло собрание, и он пока что был лишь претендентом на главный командый пост. Не стоило раньше времени выставлять себя деспотом и тираном. Он с презрительным видом махнул рукой, словно бы говоря: «Даже и такого глупца следует выслушать».
Во взгляде Мелеагра он прочел откровенную ненависть. Положение их отцов в македонском обществе было примерно равным, а сами они поначалу состояли в свите Филиппа, и оба поглядывали с тайной завистью на сплоченное ближнее окружение молодого Александра. Потом, после покушения на Филиппа, Пердикка первым бросился догонять убийцу. Александр оценил его, заметил и повысил в звании. С этим повышением перед ним открылись новые перспективы, и он забыл о бесславном прошлом. После смерти Гефестиона полк того перешел под командование Пердикки. А Мелеагр так и остался простым командиром пехотной фаланги, не имевшим особых отличий и, как понял Пердикка, давно возмущенным везением того, кто некогда был ему ровней.
— Откуда нам знать, — крикнул Мелеагр, — действительно ли Александр вручил ему кольцо? Кто пытается убедить нас в этом? Он сам да его высокопоставленные дружки! А чего они добиваются? Хотят заграбастать без Александра все здешние сокровища, которые мы с вами завоевали! Неужели вы это допустите?
Шум перерос в возмущенный гвалт. Полководцы, обычно умевшие хорошо ладить с военным людом, с недоумением осознали, что власть над солдатами захватил Мелеагр. Те уже готовы были разграбить дворец, словно завоеванный город. Зал пришел в хаотическое движение.
В отчаянии Пердикка собрал в кулак все имевшиеся в нем силы.
— Стоять! — громоподобно проревел он.
Все невольно остановились. Выслушав его грозные отрывистые приказы, достаточное количество воинов бросилось исполнять их. Крепкие ряды стражников, сомкнув щиты, встали перед внутренними дверями. Крики сменились ропотом.
— Приятно видеть, — звучным басом добавил Пердикка, — что среди нас есть еще воины Александра.
Воцарилось молчание, словно он воззвал к имени оскорбленного бога. Зачинщики предпочли скрыться в толпе. Щиты были опущены.
И в этом тревожном затишье из середины подавленной толпы вдруг выпростался чей-то хриплый басок.
— Вот уж действительно, стыд нам всем и позор! Верно сказал командир, все мы воины Александра. И все мы хотим, чтобы нами правил настоящий наследник из его рода, а не опекун чужеземных малолеток. Разве здесь, в этом самом дворце нет чистокровного брата Александра?
Зал ошеломленно замер. Цепенея, Птолемей почувствовал, что все островки его чаяний и упований заливает волна первобытного ужаса. Могучее древо македонских царей со всей его дикой историей племенного соперничества и братоубийственных войн потянулось к нему своими магическими удушающими ветвями. Филипп — Александр — Птолемей…
А простой копьеносец в толпе, завоевав внимание слушателей и приободрившись, продолжил:
— Все вы знаете, что здесь находится его родной брат, которого признавал и сам царь Филипп. Александр всегда по-родственному о нем заботился. Поговаривали, конечно, что в детстве он не хватал звезд с неба, но в прошлом месяце оба брата возложили жертвы на алтарь, поминая душу родителя. Я сам видел, наш отряд как раз сопровождал их. И Арридей вел себя вполне достойно.
Его слова подтвердило несколько голосов. Открыв рот, Птолемей застыл в крайнем изумлении, стараясь спрятать от публики взгляд. Арридей! Они, должно быть, все спятили.
— Царь Филипп, между прочим, — уверенно продолжал копьеносец, — законно женился на Филинне, ему ведь не возбранялось завести несколько жен. Потому-то я и говорю, что и без этих чужеземных младенцев мы можем выбрать на царство его сына. Ведь он является самым законным наследником.
Даже самые скептически настроенные македонцы, обескураженные выступлением Мелеагра, не смогли ничего возразить. У трона царило потрясенное молчание. Тайно или явно, никто из знатных македонских мужей даже и не помышлял о подобном повороте событий.
— Это верно? — под шумок быстро спросил Пердикка у Птолемея. — Александр водил Арридея в святилище?
Вышедшая из-под контроля ситуация взяла верх над враждебностью. Птолемею наверняка известны подробности.
— Точно.
Птолемей вспомнил, как склонились перед алтарем эти две головы, темная и светлая, подмастерье и мастер.
— Последнее время с ним стало получше. Целый год без припадков. Александр приучал его чтить память отца.
— Арридей! — начали скандировать воины. — Мы хотим брата Александра! Да здравствует Арридей Македонский!
— И много народу видело его там?
— Свита, отряд копьеносцев… да все его видели. Он вел себя вполне нормально. Впрочем, как и всегда… возле брата.
— Мы не можем допустить, чтобы его выбрали. Они не представляют, что делают. Это нужно остановить.
Коренастый и жилистый Пифон, взявший вдруг слово, слегка напоминал лисицу — как заостренным, рыжеватым от веснушек лицом, так и высоким лающим голосом. Входя в избранный круг царских телохранителей, он слыл человеком разумным, но дар убеждения не относился к числу его достоинств. Опередив Пердикку, он шагнул к краю помоста и визгливо крикнул:
— Вы хотите в цари брата Александра?! Тогда уж лучше выберите его лошадь!
Грубая издевка в пронзительном голосе на краткое время утихомирила людей, но тишина в зале была явно недружелюбной. Тут грубить нечего, тут тебе, приятель, не плац для муштры! Однако Пифон, не смущаясь, продолжил:
— Она будет поумнее этого полудурка. Он же ударился головкой в младенчестве и до сих пор страдает припадками. Александр заботился о нем, как о ребенке, приставил к нему няньку. Вы что, хотите в цари идиота?
Пердикка с трудом сдержал проклятие, едва не сорвавшееся с его языка. Как вообще такой дуболом умудрился продвинуться в командиры? Конечно, на полях брани он всегда среди первых, но не умеет читать в душах людей. Сам Пердикка, если бы этот олух не высунулся, мог бы напомнить всем о романтическом завоевании руки Роксаны, о захвате крепости на согдийской скале, о великодушии победителя: в общем, постепенно вернул бы мысли толпы к отпрыску Александра. А теперь эти дурни оскорблены в лучших чувствах. И уже воспринимают Арридея как жертву темных интриг, раз они сами видели, что тот держится совершенно нормально.
Александру всегда сопутствовала удача, подумал Птолемей. Люди уже заказывают себе кольца с его изображением, считая их амулетами. Какой же злой дух надоумил его незадолго до собственной кончины проявить великодушие к безвредному дурачку? Хотя, конечно, в известном ритуале Арридею придется принять участие. Возможно Александр это предвидел…
— Позор, гнать его! — орали собравшиеся Пифону. — Арридей, Арридей, мы хотим Арридея!
Пифон пытался перекричать их, но его попросту освистали.
А Мелеагр тем временем исчез, однако это заметили слишком поздно.
* * *
День у Арридея выдался на редкость скучный и длинный. Никто не зашел навестить его, за исключением раба с подносом. Еда оказалась мало того что плохо свареной, так еще и почти холодной. Он с удовольствием поколотил бы противного раба, но Александр не разрешал ему распускать руки. Обычно Александр всегда посылал кого-то проведать его, но сегодня некому было даже пожаловаться на невкусный завтрак. Старый Конон, постоянно находившийся рядом, и тот Ушел куда-то прямо с утра, не обратив внимания на его распоряжения и озабоченно сказав лишь, что должен присутствовать на каком-то собрании.
А Конон ему действительно был сейчас очень нужен. Во-первых, Арридею хотелось заказать кое-что лакомое на ужин, во-вторых, старик мог отыскать его любимый потерявшийся камешек с полосками да еще объяснить, почему утром во дворце все так ужасно шумели, стонали и завывали, словно вдруг разом убили целую кучу народу. Из выходящего в сад окна он видел, какая толпа собралась у дворца. Возможно, сам Александр скоро придет навестить его и расскажет, что все это значит.
Порой брат не приходил очень подолгу, и тогда ему говорили, что он в походе. До его возвращения Арридей иногда жил, как сейчас, во дворце, а иногда в военном лагере. Зачастую Александр привозил ему подарки: разноцветные сладости, красивые фигурки лошадей и львов и камушки для его коллекции, а однажды подарил даже замечательный алый плащ. Через какое-то время рабы обычно складывали палатки — и все двигались дальше. Может быть, и сейчас готовится что-то такое.
А пока ему захотелось нарядиться в тот алый плащ. Однако Конон сказал, что сейчас слишком жарко для такой одежды и что не стоит зря пачкать красивую вещь. Плащ был заперт в сундуке, а ключ держал при себе Конон.
Достав все свои камушки, за исключением полосатого, Арридей выложил из них замысловатый узор, но картину портило отсутствие самого любимого камня. Лицо его вспыхнуло от гнева. Выбрав самый большой голыш, он начал стучать им по столу. Палкой было бы лучше, но у него отобрали все палки. Александр сам унес их куда-то.
Давно, когда они еще жили на родине, Арридей в основном проводил время с рабами. Никто больше не хотел видеть его. Изредка, конечно, заходили и добрые люди, а рабы часто посмеивались над ним, иногда даже обижали. Зато как только он начал путешествовать с Александром, рабы стали вести себя по-другому, более почтительно и с опаской. Похоже, пришло время отомстить за обиды, и однажды Арридей так избил одного нахала, что тот рухнул как подкошенный, весь в крови. До того случая Арридей не осознавал собственной силы. Он просто продолжал бить обидчика, пока его не оттащили. А потом вдруг к обеду появился Александр. Но брат явно не собирался разделить с ним трапезу, поскольку влетел запыхавшийся, весь пропыленный, в походных доспехах. Вид у него был на редкость ужасающий, лицо тоже. Грязное, точно вовсе и не его, с какими-то огромными бледными глазами. Тогда Александр заставил Арридея поклясться именем их отца, что он никогда больше не будет так делать. И сегодня ему вспомнилась та клятва, когда раб с опозданием принес еду. Арридей никого с тех пор не бил, опасаясь, что тень отца к нему явится. Он вообще жутко боялся Филиппа и даже запел, услыхав о его смерти.
Между прочим, уже настало время конной прогулки по парку, но ему не разрешали выезжать одному, без Конона, который держал лошадь за повод. Арридею очень хотелось, чтобы Александр вновь сводил его в храм. В прошлый раз он все сделал очень хорошо, точно так же, как Александр. Налил и вина, и елея, и ладана и позволил забрать золотые кубки, хотя ему так хотелось оставить их себе. И Александр похвалил его.
Кто-то идет! Тяжелые шаги, лязг оружия. У Александра походка быстрее и легче. Вошел какой-то совершенно незнакомый солдат. Какой-то надутый краснолицый верзила с растрепанными бледно-желтыми волосами, зажавший шлем под мышкой. Они обменялись взглядами.
Арридей, совершенно не представлявший, как он выглядит со стороны, вовсе уж не мог представить, как удивлен был, увидев его, Мелеагр. «Великий Зевс! Лицо Филиппа. Знать бы лишь, что за ним кроется?» Телосложением и общим обликом царевич тоже весьма походил на отца. Квадратное лицо с правильными чертами, темные брови, бородка, широкие плечи, короткая шея. Поскольку еда составляла его главное удовольствие, он поднабрал лишнего веса, хотя Конон все-таки не позволял ему чрезмерно толстеть. Обрадовавшись, что его наконец навестили, Арридей восторженно поинтересовался:
— Ты пришел, чтобы прогуляться со мной по парку?
— Нет, государь.
Вошедший так пожирал Арридея глазами, что тот засмущался, решив, что он в чем-нибудь оплошал. Александр никогда прежде не присылал к нему этого человека.
— Государь, я пришел, чтобы проводить тебя на собрание. Македонцы хотят выбрать тебя царем.
Смутная тревога во взгляде Арридея вмиг стала осмысленной.
— Ты лжешь. Меня нельзя выбрать царем, царь — это мой брат. И он говорил мне… Александр говорил мне так: «Если я не стану присматривать за тобой, то кто-то обязательно попытается сделать тебя царем, но если ты им станешь, то тебя убьют». — Он попятился, поглядывая на Мелеагра со все нарастающим беспокойством. — Я не пойду с тобой на прогулку. Я пойду с Кононом. Приведи его сюда. Если ты не приведешь его, я пожалуюсь на тебя Александру.
Пятиться дальше не позволял массивный стол. Солдат же подошел к Арридею совсем близко, и тот невольно съежился от испуга, припомнив, как его били в детстве. Но незнакомец просто поглядел на него в упор и очень медленно произнес:
— Государь, твой брат умер. Царь Александр умер. Македонцы призывают тебя. Пойдем, я провожу тебя на собрание.
Поскольку Арридей не пошевелился, Мелеагр схватил его за руку и повлек к двери. Будущий царь вяло последовал за ним, не понимая, куда его тащат, и пытаясь представить себе новую жизнь, в которой уже нет Александра.
Мелеагр обернулся так быстро, что солдаты все еще продолжали выкрикивать имя царевича, когда тот предстал перед ними. Немое изумление Арридея при виде огромной массы орущих что-то людей было воспринято как проявление царственной сдержанности.
Многим из потрясенных воинов никогда не доводилось видеть его; другие, конечно, видели, но в основном мельком. Зато любой македонец, проживший на этом свете хотя бы лет тридцать, видел воочию царя Филиппа. Наступила полнейшая тишина, потом грянуло:
— Филипп! Филипп! Филипп!
Арридей в ужасе оглянулся назад. Неужели сюда явился отец… может, на деле он вовсе не умер? Зорко следивший за ним Мелеагр тут же заметил смену его настроения и быстро прошептал:
— Они приветствуют тебя.
Слегка успокоенный, но еще смущенный Арридей обвел взглядом зал. Почему они выкрикивают имя его отца? Его отец умер. Александр тоже умер…
Мелеагр шагнул вперед. Отличный подарочек, победно скалясь, подумал он, для этого выскочки Пердикки и его будущего регентства.
— Вот, македонцы, перед вами сын Филиппа, брат Александра. Вот ваш законный царь.
Он так громко орал над самым ухом царевича, что весь ужас произносимых им слов вдруг дошел до замутненного сознания невольного претендента на трон. Арридей догадался, зачем все эти люди собрались здесь и что происходит.
— Нет! — закричал он высоким жалобным голосом, никак не вязавшимся с его по-мужски бородатым лицом. — Я не царь! Говорю вам, мне нельзя быть царем. Александр не велел мне.
Но при этом смотрел он на Мелеагра, и никто не услышал его в разразившемся приветствиями зале. Смятенные военачальники принялись дружно ругать Мелеагра, не обращая внимания на недоумка. С возрастающим страхом Арридей слушал их громкие разъяренные голоса. Ему четко вспомнилось, как Александр, устремив на него взгляд своих больших глубоко посаженных глаз, предупреждал, что может с ним приключиться, если его попытаются выбрать царем. Пока Мелеагр спорил с высоким смуглым мужчиной в центре помоста, Арридей бросился к неохраняемой уже двери. Оказавшись один в лабиринте дворцовых коридоров, он, рыдая, побрел вперед, надеясь найти дорогу в свои покои.
А зал уже захлестнуло новое волнение. На редкость странный спектакль. И главный герой его очень странный. Оба последних македонских царя прямо после избрания проследовали под традиционные благодарственные пеаны в древнюю крепость Эгии, где каждый из них, подтверждая вступление на престол, руководил погребением своего предшественника.
Увлеченный спором с Пердиккой Мелеагр заметил бегство своего кандидата, лишь когда услышал насмешливое улюлюканье зала. Общее настроение явно менялось, и не в лучшую для него сторону, а властноть Пердикки привлекала к нему людей, жаждущих вновь обрести потерянную уверенность в своих силах. Мелеагр понял, что нужно срочно спасать ситуацию. Он развернулся и выбежал, сопровождаемый свистом и хохотом, в ту же дверь, что и Арридей. Самые хваткие и горластые из его сторонников (не алчущий трофейного золота сброд, а родственники, приятели и просто воины, недовольные Пердиккой) встревоженно поспешили за ним.
Вскоре в конце одного из раздваивавшихся коридоров они догнали беглеца, размышлявшего, куда лучше свернуть. Завидев преследователей, он крикнул: «Нет! Уходите!» — и бросился бежать. Мелеагр схватил его за плечо. Арридей послушно остановился с жутко перепуганным видом. В таком состоянии его нельзя было показывать никому. Сменив былую тактику напора на покровительственное увещевание, Мелеагр принялся мягко успокаивать Арридея.
— Государь, выслушай нас. Тебе нечего опасаться. Ты был хорошим братом Александру. А он был отличным царем, и тебе действительно нельзя было становиться царем, пока он правил нами. Но ведь теперь-то он умер, а ты являешься законным наследником. Теперь трон принадлежит тебе. — И тут по наитию Мелеагр дополнил свою вдохновенную речь одной немаловажной деталью: — Тебя, кстати, ждет там маленький дар. Замечательная пурпурная мантия.
Уже слегка успокоенный медоточивым голосом Арридей вдруг заметно оживился. Никто над ним не смеялся, да и как же смеяться в такой опасной, запутанной ситуации?
— И я смогу все время носить ее? — практично поинтересовался он. — Вы не станете ее от меня прятать?
— Ну конечно, не станем. Взяв мантию, ты сможешь сразу надеть ее.
— И буду носить целый день?
— И хоть всю ночь, если пожелаешь. — Мелеагр уже вел укрощенную жертву обратно по коридору, когда его осенила новая идея. — Воины недаром привествовали тебя, выкрикивая имя Филипп! Они почтили тебя династическим именем отца. Ты станешь царем Филиппом Македонским!
«Я — царь Филипп», — подумал Арридей, постепенно приходя в хорошее расположение духа. Отец, должно быть, действительно умер, раз его имя и пурпурный плащ можно кому-то отдать. Оба подарка казались Арридею весьма привлекательными.
Все еще согреваемый столь интересными мыслями, он вновь поднялся в сопровождении Мелеагра на помост. С улыбкой встретив очередной приветственный гомон, он сразу увидел замечательное яркое облачение на спинке трона и быстро направился к нему. Многоголосый гул, ошибочно принятый им за дружелюбные приветствия, мгновенно затих; изумленные такой переменой его поведения люди почти в полном молчании наблюдали за Арридеем.
— Вот, государь, это наш тебе подарок, — прошептал Мелеагр ему на ухо.
Тихий тревожный ропот прошел по залу, когда Филипп-Арридей взял мантию с трона и развернул ее перед собой.
Это была парадная царская мантия, пошитая в Сузах, где вся армия гуляла на свадебном пиршестве по случаю грандиозной женитьбы Александра на Статире, дочери Дария, а его восьмидесяти знатных Соратников — на персидских аристократках. Во время своего последнего путешествия в Вавилон именно в этой мантии он принимал послов половины стран известного мира. Ее шерстяная, плотная, как бархат, и мягкая, как шелк, ткань была покрашена туринской иглянкой в радующий глаз ярко-малиновый с легким оттенком пурпурного цвет, великолепный, как солнечные лучи на царской эмблеме Македонии, поблескивающие розово-красными рубинами и золотом. Мантия закреплялась на плечах двумя золотыми аграфами в виде львиных голов, которые традиционно украшали свадебные наряды уже трех поколений македонских царей. Свет жаркого послеполуденного солнца, льющийся сквозь высокие окна, оживлял изумрудный блеск львиных глаз. Новоявленный Филипп в полнейшем восторге таращился на эти драгоценные камушки.
Мелеагр сказал:
— Позволь, государь, помочь тебе облачиться.
Он поднял мантию и накинул ее на Филиппа. Тот, сияя от удовольствия, посмотрел на приветливые людские лица.
— Благодарю вас, — произнес он тоном ребенка, назубок затвердившего правила вежливого поведения.
Зал с удвоенной силой разразился приветствиями. Этот сын Филиппа вел себя с достоинством, как и положено государю. Сначала он, должно быть, смутился по скромности своей натуры. Теперь ничто и никто в этом мире не могло их заставить отвергнуть этого царского отпрыска.
— Филипп! Филипп! Да здравствует Филипп!
Птолемей едва не задохнулся от горя и ярости. Он вспомнил то свадебное утро в Сузах, когда они с Гефестионом зашли в дворцовые покои Александра, чтобы помочь жениху одеться. Помимо традиционных предсвадебных шуточек, молодые люди повеселили друг друга какими-то смехотворными байками. Александр, давно вынашивавший идею слияния народов, весь светился от волнения, словно нетерпеливый и пылкий влюбленный. Как раз тогда Гефестион напомнил ему о львиных аграфах и сам заколол ими мантию. Когда Птолемей увидел их сейчас на этом ухмыляющемся недоумке, у него возникло отчаянное желание разрубить Мелеагра мечом. На бедного дурачка он не сердился, скорее жалел его. Он хорошо знал Арридея, частенько заглядывал к нему, когда Александр бывал занят, чтобы проверить, не обделен ли тот вниманием и заботой. Такие вещи по молчаливому уговору обычно делаются внутри семейного клана и не выносятся за его пределы. Филипп! Да, ситуация, похоже, безвыходная.
Он буркнул стоявшему рядом Пердикке:
— Лучше бы Александр придушил его.
Полыхающий от гнева Пердикка, не обратив внимания на эту реплику, шагнул вперед и прокричал что-то, тщетно пытаясь быть услышанным в этом шуме. Ему ничего не оставалось, как только жестами и мимикой выразить всю свою крайнюю степень презрения к происходящему.
Неожиданно его поддержали первые ряды. Находившиеся справа знатные Соратники имели самую выгодную возможность наблюдать за происходящим у трона. Наслышанные о дурачке, они в горестном молчании и недоумении смотрели, как он довольно ощупывает свой новый наряд. И наконец их возмущение прорвалось наружу. Их сильные голоса, перекрывавшие на поле боя даже жуткие вопли налетающей вражеской конницы, заглушили все остальные крики.
Казалось, мантия Александра вдруг сыграла роль поднятого боевого штандарта. Люди водрузили на головы шлемы. Удары копий по щитам участились, словно перед началом атаки. Возле самого помоста угрожающе засвистели вытаскиваемые из ножен мечи.
В тревоге Мелеагр увидел, что могущественная македонская аристократия сплотилась против него. Теперь даже поддержавшие его командиры при виде такого единодушия вполне могли отступить, а простые солдаты, все еще продолжавшие выкрикивать имя Филиппа, являлись, по сути, сородичами этих знатных вождей. Необходимо было срочно как-то ослабить племенную зависимость. И тут решение неожиданно пришло само собой. Мелеагра даже потрясла собственная гениальность. Как же мог Александр не заметить ее?
С мягкой настойчивостью он стал подталкивать улыбающегося Филиппа к краю помоста. Народ, решивший, что тот собирается произнести речь, мгновенно затих, по крайней мере из любопытства. А Мелеагр решил разжечь интерес.
— Македонцы! Вы избрали вашего царя! Вы намерены поддержать его? — Копьеносцы ответили вызывающими возгласами. — Тогда следуйте за ним и помогите утвердить его права. Цари Македонии всегда сами хоронили своих предшественников.
Он помедлил, добившись теперь мертвой тишины. Волна потрясения, почти осязаемая, прокатилась по переполненному потными людьми залу.
Мелеагр повысил голос.
— Вперед! Тело Александра ждет погребения. И провести все необходимые ритуалы должен его наследник. Не позволим никому лишить его законного права. Ведите Филиппа к смертному ложу в царскую опочивальню! Вперед!
Началось смятенное хаотическое движение. Мнения разделились. Самые решительные пехотинцы прорвались вперед, но их встретили явно недружелюбно. Многие отступили назад, в гул непонятно что возглашающих голосов. Соратники начали пробираться к тронному возвышению. Добавили неразберихи и бурно протестующие полководцы. Внезапно общий шум прорезал ломающийся юношеский голос, срывающийся от отчаянной ярости:
— Ублюдки! Вы ублюдки! Вы все мерзкие, рожденные рабами ублюдки!
Из угла зала, вкупе с Соратниками, не разбирая ни чинов, ни званий, с боевыми кличами проталкивались к помосту молодые охранники государя.
Этот отряд стражников, всегда охранявших покои Александра, продолжал нести службу и после его смерти вплоть до сегодняшнего рассвета. Вот уже годы они рьяно и преданно оберегали царя. Некоторые, достигнув восемнадцатилетия, обрели право голоса, остальные просто пришли на собрание. Юнцы с неровно обрезанными (почти под корни в знак траура) светлыми волосами выскочили на возвышение, размахивая обнаженными мечами и яростно вращая глазами. На помосте их собралось где-то около полусотни. По фанатичной решимости настрадавшихся в эти дни пареньков Пердикка мгновенно понял, что сейчас они способны убить кого угодно. Если не остановить их, они прикончат Филиппа, а тогда начнется массовая резня.
— Ко мне! — крикнул он им. — Следуйте за мной! Защитим тело Александра!
Он бросился к внутренней двери, Птолемей ни на шаг не отставал от него, остальные военачальники поспешили за ними, а отчаянные молодые стражники в итоге обогнали даже Соратников. Преследуемые враждебными выкриками оппозиции, они миновали приемный зал, личный царский кабинет и достигли опочивальни. Двери были закрыты, но не заперты. Юнцы первыми ворвались в них.
Птолемей с содроганием подумал, что покойник лежит там со вчерашнего дня! В пышущей зноем летней жаре Вавилона. Невольно, как только открылись двери, он задержал дыхание.
В опочивальне стоял слабый дух почти выгоревшего ладана, а к ароматам засушенных цветов и трав, которыми перекладывали царское белье и одежды, примешивался еще один запах, знакомый Птолемею с раннего детства. Это был его живой запах, а сам Александр под светлой и чистой простыней одиноко лежал в этой просторной затемненной комнате на огромном ложе между бдительно охраняющими его демонами. Спрыснутый особыми благовониями полог отпугивал мух. На возвышении возле кровати, забывшись сном, сидел персидский мальчик, его обессиленные руки покоились на краю покрывала.
Разбуженный шумным вторжением, он ошеломленно поднялся на ослабевшие ноги, никак не откликнувшись на успокаивающее прикосновение Птолемея. Тот прошел к изголовью кровати и отвернул край простыни.
Александр, казалось, спал. Спал спокойно и беспробудно. Даже цвет его лица почти не переменился. А золотистые с серебряными прядями волось! на ощупь были еще полны жизни. Неарх и Селевк, подошедшие к Птолемею, в один голос воскликнули, что такое чудесное отсутствие признаков тления говорит о божественности Александра. Бравший вместе с будущим властителем мира уроки у Аристотеля Птолемей, молча опустив глаза, размышлял, как долго тайная искра жизни еще горела в недвижимом теле этого неукротимо-сильного человека. Он проверил пульс, но сейчас сердце уже не билось, труп окоченел. Он вновь натянул простыню на мраморное лицо и обернулся к людям, собравшимся воспротивиться неминуемому вторжению.
Для укрепления высоких дверей отлично знавшие царскую опочивальню стражники подтащили к ним громоздкие платяные укладки. Но конечно, это была лишь временная защита. Напиравшие снаружи воины привыкли вламываться в любые ворота. Они дружно навалились на створки — точно с той же уверенностью в своих силах, с какой десять лет назад, выставив вперед свои длинные сариссы, наседали на войска Дария. И точно так же, как при Гранине, Иссе и в Гавгамеллах, пала и эта преграда. С грохотом и скрежетом разъехались и покатились по полу тяжелые окованные бронзой сундуки.
Когда первые сторонники Мелеагра прорвались в комнату, Пердикка уже понял, что здесь ни в коем случае нельзя допустить кровопролития, и отозвал своих людей на защиту подступов к царской кровати. Переводя дух, атакующие огляделись вокруг. Ряды защитников загородили тело, и они увидели лишь распростертые крылья чужеземных золотых демонов и их недобро сверкающие глаза. Возмущение продолжало выражаться в громких выкриках, но ближе никто не подходил.
Вскоре послышались чьи-то шаги. Вошел Филипп.
Хотя Малеагр был с ним, он пришел сюда по собственному желанию. Когда умирает человек, родственники должны увидеть его. Все политические резоны воспринимались царевичем как досадный бессмысленный шум, но он твердо знал родственные обязанности.
— Где Александр? — обратился он к живому заслону перед кроватью. — Я его брат. Мне нужно похоронить его.
Полководцы молча скрипнули зубами. Теперь напряженную тишину нарушали лишь гневные возгласы и проклятия храбрецов-малолеток. Они не испытывали никакого благоговейного трепета перед покойным, поскольку в их понимании Александр был еще жив. Они взывали к нему так, словно их повелитель просто лежал, потеряв сознание от ран, полученных на поле битвы, окруженный жаждущими его смерти трусами, которые в один миг разбежались бы, будь он при оружии и на ногах. Их боевые кличи воодушевили и часть молодых Соратников, вспомнивших о начальных годах своей службы царю в том же элитном отряде.
— Александр! Александр!
Откуда-то из теснившейся у дверей толпы с вкрадчивым тихим свистом вылетел дротик и со звоном ударился о шлем Пердикки.
Следом прилетело еще несколько метательных копий. С пробитой ногой, истекая кровью, упал на колени один из Соратников; простоволосого охранника чиркнуло по голове, и на его залитом кровью лице вдруг ярко выделились удивленные голубые глаза. Тут его юные сотоварищи осознали, что все они могут оказаться легкой добычей. При них были лишь короткие изогнутые кавалерийские сабли, положенные им по званию и входившие в парадную экипировку.
Пердикка поднял дротик и с силой швырнул его обратно. Остальные, выдернув метательные орудия из своих или чужих ран, последовали его примеру. Птолемей, резко отступив на шаг, увернулся от летящего в него копья, наткнулся на кого-то спиной и, выругавшись, обернулся. И увидел раненого в предплечье персидского мальчика. Багоас подставил под удар руку, чтобы защитить тело Александра.
— Опомнитесь наконец! — крикнул Птолемей. — Люди мы или дикие звери?
За дверьми буча еще продолжалась, но она постепенно затихла, когда туда передалось пристыженное и смущенное бормотание первых рядов. Тогда критянин Неарх сказал:
— Пусть они посмотрят.
Сжимая оружие, защитники слегка разошлись в стороны. Неарх откинул простыню с лица Александра и молча отступил назад.
Первые ряды атакующих погрузились в молчание. Почувствовав перемену, затихла и напирающая сзади толпа. Вскоре возглавляющий нападающих командир фаланги выступил вперед и снял шлем с седой головы. Его примеру последовало двое или трое ветеранов. Командир, обернувшись к остальным, поднял руку и крикнул:
— Стойте спокойно!
Угрюмо, в гнетущей тишине противники взирали друг на Друга.
По одному и по двое старшие командиры снимали шлемы и открыто выступали вперед. Защитники опустили оружие. Седой командир начал говорить.
Тут из-за спин воинов вывернулся Филипп:
— Вот он, мой брат! — Помятая и перекосившаяся мантия Александра все еще была на нем. — Его нужно похоронить.
— Помолчи! — прошипел Мелеагр.
Покорно (такие моменты были ему привычны) Филипп позволил увести себя прочь. Покрасневший седой командир уже восстановил присутствие духа.
— Собратья, — сказал он, — понятно, что на нашей стороне численное превосходство. Мы действовали в спешке, и я полагаю, мы все сожалеем об этом. Я предлагаю обсудить все спокойно.
Пердикка сказал:
— При одном условии. Тело царя должно остаться неприкосновенным, и все здесь должны поклясться в этом богами подземного мира. Я клянусь, что, когда будет сделана подобающая погребальная лодка, его со всеми почестями доставят на древнее царское кладбище в Македонию. Если вы не принесете эти ритуальные клятвы, то мы будем стоять здесь и сражаться до последней капли крови.
Все выразили согласие. Пристыженные воины испытывали раскаяние. Слова Пердикки о древнем царском кладбище мгновенно вернули их с облаков на землю. Что бы стали они делать с этим телом, забрав его? Захоронили в саду? Их воинственный запал выдохся после первого же взгляда на отстраненное гордое лицо Александра. Чудом было и то, что от него не исходил запах тлена; всем показалось, что он еще жив. Суеверная дрожь пробежала по спинам большинства людей; ведь это означало, что Александр наверняка станет могущественным духом в царстве теней.
На террасе принесли в жертву козла, воины, касаясь его окровавленной туши, призывали на свои головы проклятия Гадеса, если они нарушат данную клятву. В силу многочисленности македонцев ритуал затянулся и завершился уже в сумерках, при свете факелов.
Погруженный в раздумья Пердикка следил за обрядом. Мелеагр принес клятву первым. Он уже понял, что утратил поддержку большинства из недавних сторонников. Вокруг него теперь оставалось только около тридцати человек. Ядро сплоченных приверженцев, да и то лишь потому, что, сразу открыто выступив за него, теперь они опасались расправы. Их следовало удержать при себе. По крайней мере, хоть их. Хотя почему по крайней? В закатном сумраке, уже властно приглушавшем голоса взбудораженного тревогой города, Мелеагр строил новые планы. Если бы ему удалось отделить этих гордых телохранителей от всей остальной знати… ведь тех всего лишь восемь, а восемь человек против тридцати…
Последние воины дали клятву. Мелеагр с благоразумно сдержанным видом приблизился к Пердикке.
— Я действовал сгоряча. Смерть царя всех нас привела в смущение. Завтра мы сможем встретиться и обсудить все спокойно.
— Надеюсь так и будет, — сказал Пердикка, глянув на него из-под нахмуренных темных бровей.
— Всем нам было бы стыдно, — продолжил Мелеагр, — если бы ближайшим друзьям Александра запретили дежурить возле него. Я прошу вас, — он обвел рукой телохранителей, — приступить к скорбному бдению.
— Благодарю, — вполне искренне ответил Неарх.
Он так и так собирался остаться. Пердикка промолчал, его воинская интуиция смутно насторожилась. А Птолемей сказал:
— Мелеагр принес клятву с достойным почтением относиться к телу Александра. Не хочет ли он потребовать того же от нас?
Пердикка попытался заглянуть Мелеагру в глаза, но тот, опустив их, быстро отошел в сторону. Проводив его взглядами, полными глубочайшего презрения, телохранители присоединились к Соратникам, разбившим палатки в дворцовом парке.
Тут же в лагерь египтян побежали посыльные сообщить, что бальзамировщики поутру могут приступить к работе.
* * *
— Конон, ну где же ты пропадал целый день? — спросил Филипп, когда верный слуга совлек с него жаркие одеяния. — Почему тебя не прислали ко мне, как я попросил?
Конон, пожилой ветеран, служивший ему уже десять лет, сказал:
— Я был на собрании, государь. Не волнуйся, все будет хорошо, сейчас ты примешь теплую ванну с ароматными маслами.
— А знаешь, Конон, я теперь буду царем. Тебе сообщили, что я теперь стал царем?
— Да, государь. Да продлят боги твои дни, государь.
— Конон, а ты не покинешь меня теперь, когда я царь?
— Нет, государь, старый Конон по-прежнему будет заботиться о тебе. А теперь позволь мне взять твою прекрасную новую мантию, чтобы почистить ее и убрать в надежное место. Она слишком хороша для каждодневной носки… Ну что ты, государь, не расстраивайся, тут совершенно нечего плакать.
* * *
В царской опочивальне с наступлением вечерней прохлады тело Александра отвердело как камень. Перевязав полотенцем раненую руку, Багоас подтащил к кровати ночной столик из малахита и слоновой кости и водрузил на него ночной светильник. На полу еще виднелись грязные следы дневной смуты. Урон нанесли и столу у стены с изваяниями Гефестиона; в суматохе их опрокинули, и они лежали в беспорядке, словно павшие в сражении воины. В слабом свете ночника Багоас посмотрел на них долгим взглядом и отвернулся. Но через пару минут он подошел к столу и аккуратно расставил фигурки по привычным местам. Затем, притащив скамеечку, чтобы не сидеть на помосте, располагавшем забыться предательским сном, он устроился на ней и спокойно сложил руки; его темные глаза зорко следили за ночными тенями.
class="book">* * *
Персидский гарем в Сузах избежал ассирийского влияния. Изящные пропорции его строений гармонично сочетались друг с другом; вытесанные греческими мастерами колонны с каннелюрами увенчивались капителями в виде бутонов лотоса; солнечный свет, проникая через затейливые гипсовые решетки, поблескивал на глазурованных плитках стен.
Окруженная с двух сторон внучками царица Сисигамбис, мать Дария, восседала на своем троне с высокой спинкой. И в восемьдесят лет узкий орлиный нос и кожа цвета слоновой кости выдавали ее принадлежность к древней эламской знати, к чистокровному персидскому роду, не смешанному с выходцами из Мидии. Годы теперь тянули ее к земле, но в молодости она была высокой и статной. Ее фиолетовое платье дополнял шарф того же цвета, а на груди сверкало ожерелье из отборных кровавых рубинов, то самое, что Александр получил в дар от царя Пора, а потом подарил ей.
Статира, старшая внучка Сисигамбис, читала вслух письмо, медленно, сразу переводя его с греческого на персидский. По распоряжению Александра обе девушки выучились не только говорить по-гречески, но и читать. Из привязанности к нему Сисигамбис одобрила и эту прихоть, хотя, по ее мнению, грамотность была рабским занятием, более подходящим для дворцовых евнухов. Тем не менее не запрещать же мальчику вводить традиции своего народа в семью. Что уж поделать, если таково его воспитание, ведь намеренно он никого не хочет обидеть. Ему следовало бы родиться в Персии. Статира читала, слегка запинаясь, не от невежества, но от волнения.
Александр, царь Македонии и владыка Азии, приветствует свою почтенную жену Статиру.
Мечтая вновь увидеть твое лицо, я желаю, чтобы ты без промедления отправилась в Вавилон, дабы ребенок твой родился здесь. Если ты выносишь мальчика, то я намерен объявить его моим наследником. Прошу, не откладывай путешествия. Я болел лихорадкой, а в городе уже распустили ложные слухи о моей смерти. Не обращай на них внимания. Моим слугам приказано принять тебя с почетом, достойным матери будущего великого царя. Пусть сестра твоя, Дрипетис, ставшая также и моей сестрой, скрасит тебе время в пути. Да сопутствует вам удача и благополучие.
Взглянув на бабку, Статира опустила письмо. Будучи дочерью рослых родителей, она также отличалась высоким ростом, футов шесть без туфель. Ей во многом передалась и знаменитая красота матери. Она была царственна во всем, кроме гордости.
— Что же нам делать? — спросила она.
Сисигамбис раздраженно глянула на нее из-под седых бровей.
— Во-первых, дочитать царское письмо.
— Бабушка, я все прочла.
— Не может быть, — сердито бросила Сисигамбис. — Посмотри-ка внимательнее, дитя. Что он просит передать мне?
— Бабушка, больше в письме нет ни слова.
— Должно быть, ты ошибаешься. Женщинам не следует разбирать писанину. Я говорила ему об этом, но у него своя блажь. Тебе бы лучше позвать секретаря, чтобы он прочел все как следует.
— Но правда, к посланию не прибавлено больше ни слова. «Да сопутствует вам удача и благополучие». Видишь, дальше ничего нет.
Напряженное властное лицо Сисигамбис слегка смягчилось; с возрастом ее настроения стали проявляться более явно.
— А посланец все еще здесь? Пошлите за ним, надо выяснить, нет ли у него второго письма. Вестовые так выматываются в дороге, что теряют остатки разума.
Гонца срочно привели, вытащив из-за обеденного стола. Он поклялся головой, что ему вручили только один царский свиток, и в доказательство вывернул свою сумку.
После его ухода Сисисгамбис сказала:
— Посылая письма в Сузы, он всегда передавал весточку Для меня. Покажите-ка мне печать.
Но в последнее время ее зрение так ослабло, что оттиск не обрел четкости даже на расстоянии вытянутой руки.
— Здесь его портрет, госпожа бабушка. Подобное изображение вырезано на том кольце с изумрудом, что он подарил мне в день свадьбы, только здесь он в венке, а на моем кольце — в короне.
Сисигамбис кивнула и задумчиво помолчала. Все посланные царем письма хранились у главного управляющего, но сейчас она не хотела показывать, насколько ее глаза утратили былую зоркость.
Вскоре она нарушила молчание:
— Он пишет о своей болезни. Вероятно, у него накопилось множество неотложных дел. И сейчас он чрезмерно обременен ими, что свойственно его неуемной натуре. В прошлый его приезд я заметила, что он страдает одышкой. Ступай, девочка, позови ко мне своих служанок, и ты тоже, Дрипетис. Я должна сказать им, что вам понадобится в дороге.
Ее младшая внучка, семнадцатилетняя Дрипетис, уже успевшая стать вдовой после смерти Гефестиона, послушно направилась к двери, но вдруг стремительно возвратилась и бросилась на колени.
— Бабуля, пожалуйста, поедем в Вавилон с нами.
Сисигамбис положила свою желтоватую, как старая слоновая кость, и тонкую руку на юную девичью голову.
— Царь просит вас не мешкать в дороге. А я для спешки слишком стара. И кроме того, он не пригласил меня.
Когда служанки получили указания, в спальнях внучек начались суматошные сборы, а она все продолжала сидеть в своем парадном кресле с высокой прямой спинкой, не замечая струившихся по щекам слез, поблескивающих на рубинах, принадлежавших некогда царю Пору.
* * *
В Вавилоне, в царской опочивальне, уже насыщенной новыми запахами ладана и селитры, потомственные египетские бальзамировщики приступили к мумифицированию тела умершего фараона. Огорченные долгой задержкой, которая явно могла повредить делу, и без того требующему немалого мастерства, они спешно прибыли сюда на рассвете и в благоговейном изумлении осмотрели царский труп. Когда рабы доставили все приспособления, сосуды, жидкости и благовония, необходимые для столь тонкой и кропотливой работы, единственный наблюдатель, бледнолицый персидский юноша, погасил светильник и молча исчез, словно призрачная тень.
Хотя священная Долина царей осталась за далекими горами и морями, бальзамировщики не забыли перед вскрытием тела для удаления внутренностей воздеть руки в ритуальной молитве, прося у богов даровать им, простым смертным, право прикоснуться к божественной плоти.
* * *
Узкие улочки древнего Вавилона полнились противоречивыми слухами. В храмах все ночи горели светильники, дни тянулись своей чередой. Сторонники Пердикки и Мелеагра пребывали в состоянии вооруженного перемирия; пехота расположилась вокруг дворца, а конница — в царском парке, рядом с конным двором, где еще Навуходоносор держал свои колесницы для охоты на львов.
Учитывая четырехкратное численное превосходство пехоты, военачальники обсудили возможность перемещения конницы на пригородные поля: там от лошадей больше проку.
— Нет, — сказал Пердикка. — Это сродни признанию поражения. Дадим людям время присмотреться к полоумному Царьку. Они сами опомнятся. Армия Александра еще никогда не бывала разделена.
На площади для парадов и в дворцовых садах пехотинцы пытались устроиться со всеми доступными удобствами. Упорно цепляясь за свой статус победителей, они лелеяли ненависть ко всему чужеземному. Нельзя допустить, чтобы варвары правили нашими сыновьями, говорили они, посиживая вокруг костров, где персидские женщины, ставшие по желанию Александра их законными женами, готовили в котелках вечернюю трапезу. Воины давно истратили приданое, выданное им Александром, и ни один человек из сотни не собирался везти на родину персиянку, считая себя свободным от всех обязательств.
Со смущенным негодованием они размышляли о молодых Соратниках, которые ни в выпивках, ни на охоте не брезговали обществом сыновей знатных персов с их нелепыми кучерявыми бородками, шикарно инкрустированным оружием и пестро украшенными лошадьми. Конники-то, конечно, от такого общения только выигрывали; они могли позволить себе перенять кое-какие персидские традиции, не ударив притом лицом в грязь. Но пехотинцы, сыновья македонских землепашцев, скотоводов, охотников, каменотесов и плотников, владели только тем, что удавалось завоевать в военных походах, и помимо скромного трофейного куша их главной, истинной наградой за все тяготы и опасности военных кампаний оставалось сознание того, что, кем бы там ни были их предки, сами они являются победоносными воинами Александра Македонского, владыки мира. Пестуя свое неуемное самолюбие, они нахваливали Филиппа, его скромную сдержанность, сходство с великим отцом и чистокровное македонское происхождение.
Их командиры, по долгу службы присутствовашие на царских приемах, возвращались обратно на редкость неразговорчивыми. Жизнь в колоссальной империи Александра шла своим чередом. Послы, сборщики налогов, судостроители, командиры хозяйственных отрядов, архитекторы, враждующие сатрапы, жаждущие справедливого суда, по-прежнему толпились в приемных дворца. В сущности, с начала болезни Александра число неразрешенных дел, как и ожидающих аудиенции людей, неуклонно росло. Но интересы просителей теперь не ограничиваливались одними лишь деловыми вопросами; всем хотелось воочию убедиться, достоин новый властитель доверия или нет.
Перед каждой аудиенцией Мелеагр тщательно школил Филиппа и в конце концов приучил царя проходить прямо к трону, не отвлекаясь на разговоры со знакомцами, случайно попавшимися ему на глаза, и не повышать голос, чтобы все видели государя, но не слышали его слов, пока Мелеагр подбирал подходящий ответ. Филипп также перестал поминутно требовать, чтобы ему принесли лимонад или сладости, и уже не спрашивал у своего почетного караула разрешения выйти из зала, если вдруг возникала такая нужда. Не удалось, правда, полностью справиться с его привычкой почесываться, ковырять в носу или беспокойно ерзать на месте, но если прием продолжалася недолго, то наследник производил впечатление спокойного и разумного человека.
Мелеагр присвоил себе титул хилиарха, так называемого главного советника, или великого визиря, учрежденного Александром для Гефестиона и унаследованного после Пердиккой. Неизменно находясь справа от государя, самозванный хилиарх знал, что очень впечатляюще смотрится в своем новом великолепном облачении, но он понимал также, отлично понимал, что думают воины о правителе, который нуждается в постоянных подсказках, и почему они никогда не смотрят ему в глаза. Командиры всегда свободно общались с Александром, поломать эту традицию было никак нельзя, а ведь существовала еще и царская стража. И Мелеагр просто нутром чувствовал, что, слыша шепелявый голосок и видя блуждающий взгляд Филиппа, все эти люди еще острее переживают потерю того энергичного, внимательного и чуткого, обладавшего неколебимым авторитетом монарха, который лежал теперь, навек успокоившись, в запертой опочивальне, погруженный в ванну с бальзамирующим соляным раствором, призванным пронести через столетия его плоть.
Помимо всего этого, нельзя было одурачить или лишить аудиенций персидских военачальников, назначенных на свои посты Александром. Мысли о единодушном восстании местного населения против мятежной расколовшейся надвое армии македонцев превращали в кошмары его бессонные ночи.
Подобно большинству людей, долго снедаемых злобной завистью, Мелеагр обвинял во всех своих бедах того, кому он завидовал, совершенно не задумываясь о том, что именно собственная низость, а вовсе не враг загоняет его в бедственное положение, и, поскольку всем коварным интриганам на свете свойственно разрешать свои проблемы одним только способом, он тоже решил прибегнуть к нему.
Филипп по-прежнему жил в удобных и в любом случае прохладных комнатах, выбранных для него самим Александром на самый жаркий вавилонский сезон. Когда Мелеагр попытался предложить дурачку переселиться в более подобающие государю покои, он отказался с такими воплями, что на его крик сбежалась дворцовая стража, решив, что кого-то хотят убить. В этих-то комнатах Мелеагр, сопровождаемый своим родичем, неким Дурисом, имевшим при себе набор письменных принадлежностей, и обнаружил царя.
Тот увлеченно играл со своими камушками. Их во время следования за армией брата по обширным просторам Азии у него накопился уже целый сундук. Найденная им самим галька мешалась там с янтарем, разнообразными кварцами, агатами, старыми печатями и разноцветными стеклянными украшениями из Египта, которые Александр, Птолемей или Гефестион при случае привозили ему. Он выложил из всего этого длинную извилистую дорожку и сейчас, стоя на коленях, старательно подправлял ее.
Завидев входящего Мелеагра, он с виноватым видом вскочил на ноги, зажав в кулаке один из камней и заведя руку за спину. Вдруг у него вздумают отобрать его любимую скифскую бирюзу?
— Государь! — раздраженно сказал Мелеагр.
Филипп, расслышав в его голосе строгий упрек, подбежал к самому большому креслу и старательно затолкал бирюзу под подушку.
— Государь, — повторил Мелеагр, наблюдая за ним, — я пришел сообщить тебе, что ты находишься в большой опасности. Нет-нет, бояться нечего, я сумею тебя защитить. Но все-таки предатель Пердикка, пытавшийся украсть тело Александра и отнять у тебя трон, задумал лишить тебя жизни, чтобы самому стать царем.
Вскочив с кресла, Филипп что-то невнятно забормотал, но Мелеагр уже умел разбирать его лепет.
— Говорил же мне Александр… говорил… Пусть Пердикка будет царем, если хочет. Я не возражаю. Александр говорил, что мне нельзя быть царем.
С некоторой тревогой Мелеагр высвободился из крепкой хватки Филиппа, опасаясь, что глупый силач может сломать ему руку.
— Государь, если он станет царем, то первым делом прикажет убить тебя. Ты будешь в безопасности, только приказав убить его. Посмотри, вот приказ о его смерти. — Вместе с пером Дурис положил на стол загодя заготовленный документ и поставил склянку с чернилами. — Тебе нужно просто начертать вот здесь имя ФИЛИПП, как я учил тебя. Я помогу, если хочешь.
— И тогда ты убьешь его, прежде чем он убьет меня?
— Да, и все наши трудности кончатся. Подпиши здесь.
Клякса, с которой государь начал, не испортила документа; в итоге он нарисовал вполне сносную подпись.
* * *
Пердикка занимал одно из раскиданных по дворцовому парку строений, возведенных персидскими царями для своих приближенных и после подаренных Александром своим друзьям. Вокруг стояли лагерем царские охранники. Эти юноши видели в Пердикке избранного Александром регента, и хотя они и не выразили открытой готовности ему подчиняться, а он весьма разумно от них этого и не требовал, но все его поручения выполнялись, а дом охранялся денно и нощно по заведенному распорядку дежурств.
Он беседовал с Птолемеем, когда один из охранников вошел в комнату.
— Господин, тебя хочет видеть какой-то старик.
— …их тридцать по меньшей мере, — небрежно закончил свое сообщение Птолемей, а Пердикка, с досадой отвлекшись, спросил:
— Чего ему надо?
— Он говорит, господин, что служит у Арридея. — Новое имя Филипп не прижилось ни у стражи, ни у Соратников, занявших другой берег реки. — Он говорит, что у него срочное дело.
— Уж не Конон ли это? — догадался Птолемей и быстро добавил: — Пердикка, я знаю этого человека. Тебе стоит увидеться с ним.
— Я и сам знаю, — довольно резко ответил Пердикка. По его мнению, Птолемей вел себя слишком уж вольно. Как ни прискорбно, подобный стиль поведения у Александра протеста не вызывал. — Приведи его, только проверь сначала, нет ли при нем оружия.
Старый Конон, основательно смущенный, по-солдатски отсалютовал полководцам и замер по стойке «смирно», дожидаясь дозволения заговорить.
— Господин… с твоего разрешения. Они заставили моего бедного хозяина подписать какой-то документ против тебя. Я прибирал в спальне вещи, и они не думали, что я все вижу. Господин, не вини его. Эти обманщики воспользовались его наивностью. По собственной воле он никогда не подумал бы причинить тебе вред.
— Я верю тебе, — задумчиво сказал Пердикка. — Но похоже, что вред все же нанесен.
— Господин, если он попадет в твои руки, не убивай его, господин. Он очень смирный. С ним никогда не было никаких хлопот, пока правил царь Александр.
— Уверяю тебя, что у меня нет таких планов. — Этот старик может оказаться полезным… и как соглядатай, и вообще. — Когда войска перестанут бунтовать, я прикажу, чтобы о твоем подопечном хорошо позаботились. Ты хочешь остаться при нем?
— О, господин, да, господин. Я служу ему чуть ли не с детства. Не представляю, как он сможет обойтись без меня.
— Отлично. Все будет в порядке. Передай, если он сможет понять, что ему нечего меня бояться.
— Я передам, повелитель, и да хранят тебя боги.
Конон скоренько отсалютовал и поспешил удалиться.
— Как легко порой улаживаются дела, — сказал Птолемею Пердикка. — Неужели старый осел и впрямь думал, что у нас поднялась бы рука на беднягу? Он ведь брат Александра. Однако каков Мелеагр…
Позднее, когда Пердикка, покончив с дневними заботами, принялся за вечернюю трапезу, снаружи донеслись возбужденные крики. Из окна он увидел около сотни пехотинцев. А у входа стояло всего шестнадцать стражей.
Он был слишком опытным воином, чтобы в смутные времена ужинать неодетым. Почти мгновенно (сказалась двадцатилетнняя практика!) Пердикка сорвал со стойки доспехи и влез в них.
Вбежал запыхавшийся стражник, приветствуя его одной рукой и потрясая зажатым в другой документом.
— Командир! Это подстрекательство к бунту. Они говорят, что доставили царский приказ.
— Царский? Вот как? — невозмутимо сказал Пердикка.
Послание было коротким; он прочел его вслух.
Филипп, сын Филиппа, царь Македонии и владыка Азии, повелевает бывшему хилиарху Пердикке явит ься к нему для ответа на обвинение в предательстве. При оказании сопротивления конвою приказано доставить изменника силой.
— Командир, мы их задержим. Ты не хочешь отправить гонца за подмогой?
Нет, недаром Пердикка служил непосредственно под командованием Александра. Он положил руку на плечо паренька, изобразив на своем суровом лице ободряющую улыбку.
— Ты славный воин. Но не надо гонцов. Продолжайте охранять вход. Я просто поговорю с этими приспешниками Мелеагра.
В отданном стражем салюте пусть слабовато, но все же блеснула прежняя, еще не утерянная молодцеватость. «Будем надеяться, — подумал Пердикка, — что и я смогу показать нынешнему "хилиарху", почему именно меня, а не его приняли в ближний круг того, кого теперь с нами нет».
За прошедшие двенадцать лет он усвоил главный принцип поведения Александра: все нужно делать красиво, с изяществом. Правда, в отличие от Александра ему этот стиль давался с великим трудом, но овчинка стоила выделки. По собственному почину и без чьей-либо помощи он устроит сейчас им незабываемую головомойку.
Сняв шлем, Пердикка решительно вышел на балкон с приказом в руке и после внушительной паузы, величественно оглядев всех, заговорил.
Обладая цепкой памятью полководца, он узнал командира отряда, назвал его по имени и даже припомнил недавний поход, в котором отряд этот находился у него под началом. Александр тогда сам похвалил их маневр. О чем же теперь они думают, зачем так позорятся, ведь — боги великие! — разве им не доводилось сражаться бок о бок, плечо к плечу? Разве у них теперь достало бы мужества прямо взглянуть в лицо Александру? Ведь еще до того, как он стал царем, этого зачатого после пьяной оргии идиота пытались использовать в заговоре против него. Любой другой попросту убрал бы с дороги такого вот претендента на трон, но Александр в величии своего сердца взял его на свое попечение и заботился о нем, как о безвинном ребенке. Если бы Филипп пожелал, чтобы какой-то недоумок носил его имя, он бы и завещал ему свое царство. Какой это «царь Филипп»?! Скорее, «царь Дурень»! Кто мог бы подумать, что лучшие воины мира сделаются подпевалами того самого Мелеагра, которому Александр не решился даже дать под руку полк, отлично зная пределы его командирских возможностей? Кому пришло бы в голову, что они заявятся сюда требовать жизнь человека, которого Александр лично возвысил до самых высоких командных постов? Не лучше ли им возвратиться к своим сотоварищам и вместе припомнить, кем они были совсем недавно, а также подумать, во что их втянул Мелеагр? Пусть каждый спросит себя, нравится ли ему его нынешнее положение. А теперь все свободны.
После тревожного и смущенного молчания командир отряда угрюмо приказал:
— Кругом! Вперед, шагом марш!
Между тем к дежурным стражникам успели уже присоединиться все остальные юнцы. После ухода пехотинцев они громко приветствовали Пердикку. На сей раз без всяких усилий он дружелюбно улыбнулся им всем. И на мгновение ощутил себя Александром.
«Нет уж, куда мне! — подумал он, входя обратно в комнату. — Его люди обожали. До безумия. Мечтали коснуться хоть края его одежды. Дрались, стремясь протиснуться ближе к трибуне. Те олухи на берегах Гидаспа, когда он простил им мятеж, готовы были целовать ему руки… Что ж, он обладал тайной магией, мне не доступной. Но с другой стороны, никто ею больше не обладает».
* * *
Лишь порывы южного ветра облегчали порой труд бурлаков, медленно тянувших против течения по извилистому руслу Евфрата царскую барку. Под легким навесом на льняных подушках, набитых шерстью и пухом, лежали, обмахиваясь веерами, две царевны; после тряской жары и духоты крытых фургонов они нежились там, как кошки, наслаждаясь плавным ходом судна и веявшей с реки прохладой. Девушку, им прислуживавшую, на ветерке быстро сморил сон. За полосой бечевника по берегу тряслись фургоны и повозки с вещами, свита вооруженных евнухов на лошадях, погонщики с мулами и дворцовая челядь. Когда караван проезжал мимо деревень, все селяне бросали дела и бежали к реке.
— Если бы только, — вздохнула Статира, — он не просил нас поторопиться. Мы могли бы проделать почти весь путь по воде, сначала спуститься к заливу, а потом подняться вверх по Евфрату до самого Вавилона.
Из-за беременности у нее болела спина, и она поудобнее устроилась на подушках.
Дрипетис, теребя свое синее вдовье покрывало, оглянулась через плечо и, убедившись, что служанка уснула, сказала:
— Может, он даст мне другого мужа?
— Я не знаю. — Статира задумчиво разглядывала другой берег реки. — Но не спрашивай его пока. Ему это не понравится. Он считает, что ты еще принадлежишь Гефестиону. Он даже навсегда закрепил имя Гефестиона за тем полком, которым тот командовал. — Унылое молчание за спиной побудило ее добавить: — Если у меня родится мальчик, то я сама попрошу его.
Она откинулась на подушки и прикрыла глаза.
Через полуприкрытые веки просачивались изменчивые розово-красные узоры, образованные солнечным светом, расщепленным высокими зарослями папируса. Они напомнили ей озаренные солнцем завесы свадебного шатра в Сузах. Ее лицо вспыхнуло, как и всегда, когда она вспоминала об этой свадьбе.
Конечно, ее заранее представили суженому. Бабушка велела ей оставаться в позе глубочайшего почтения, пока он не займет свое высокое кресло, и только после направиться к своей низкой скамеечке. Но неловких моментов все равно избежать не удалось, ибо за персидской свадебной церемонией последовала македонская. Брат покойной матери, стройный, но рослый мужчина, привел Статиру в шатер. Царь, как и положено жениху, поднялся со своего трона, чтобы приветствовать поцелуем невесту и подвести ее к трону поменьше. Перед поцелуем она слегка согнула колени, как научила ее та же бабушка, но потом ей волей-неволей пришлось выпрямиться, и с этим ничего нельзя было поделать. Она оказалась на полголовы выше его и едва не умерла от стыда.
Когда зазвучали фанфары и глашатай объявил их супругами, настал черед Дрипетис. Тогда вперед выступил друг царя Гефестион, самый красивый мужчина, которого она видела в жизни. Статный и высокий, с блестящими золотистыми волосами (его вообще можно было принять за знатного перса), он отлично подошел сестре по росту. Тут все друзья царя, остальные женихи, как-то разом вздохнули, и она поняла, что, когда царь вышел встретить ее, они затаили дыхание. В заключение царственная пара повела всю процессию в свадебные покои. От смущения ей хотелось провалиться сквозь землю.
Когда они оказались в розовом шатре на золотом ложе, он назвал ее дщерью богов. Ее тогдашних познаний в греческом уже хватило, чтобы это понять, а еще она поняла, что намерения у него самые добрые. Но поскольку ничто не могло развеять ее ужасного смущения, она предпочла бы, чтобы он не прозносил ничего. Вид у него был очень величественный, а Статира совсем растерялась, и, хотя роста недоставало ему, а не ей, именно она ощущала себя ущербной (нескладной дылдой). На свадебном ложе она думала лишь о том, что раз ее отец сбежал от него на поле битвы, а бабушка с тех пор перестала упоминать его имя, то теперь только ее отвага может восстановить честь их рода. Александр был ласков и очень старался ничем ее не обидеть, но все происходящее казалось ей таким странным и таким ошеломляющим, что она напрочь зажалась и не смогла выдавить из себя ни словца. Не удивительно, что тогда она не забеременела и что он, хотя часто навещал ее с подарками, пока жил в Сузах, никогда больше с ней не ложился.
Вдобавок ко всем ее несчастьям она узнала, что где-то во дворце еще живет бактрийская его жена, которую он возил за собой даже в Индию. Не ведая пока ничего о чувственных наслаждениях, Статира не испытывала никакой сексуальной ревности, но жесточайшие пытки едва ли доставили бы ей больше страданий, чем мысли о Роксане как о его путеводной звезде, избранной и любимой подруге. Она представляла их нежные объятия на супружеском ложе, задушевные или веселые, полные общих воспоминаний беседы… возможно, они даже смеялись над ней. А вот к Багоасу она отнеслась совершенно равнодушно. При отцовском дворе она вообще ничего не слышала об этом персидском мальчике. Ее воспитание отличалось изысканной строгостью.
Пребывание царя в Сузах подошло к концу, во всех углах зашептались о его великих, но малопонятных политических замыслах. Потом с наступлением лета Александр отправился в Экбатану. Он заглянул в гарем проститься (возможно, лишь с бабушкой), ничего не сказав, когда и откуда пришлет за Статирой. Царь уехал, забрав только свою бактрийку, а Статира проплакала всю ночь от стыда и обиды.
Но минувшей весной, когда он заехал в Сузы после войны с горцами, все было по-другому. Никаких церемоний, никаких пиршеств. Он закрылся с бабушкой, и ей даже показалось, что она слышала его плач. Вечером все собрались за ужином. Александр сказал тогда, что они теперь стали семьей. Исхудавший и загорелый, он выглядел очень усталым, но наговорил много странных вещей. Таких, каких она никогда не слышала от него прежде.
Первый взгляд на Дрипетис и на ее вдовье покрывало превратил его лицо в маску горестной скорби, но он быстро овладел собой и очаровал всех интересными рассказами об Индии, о ее чудесах и обычаях. Потом он поделился своими планами. Сказал, что намерен исследовать побережье Аравии. Ему хотелось проложить путь вдоль Северной Африки и расширить свою империю в западном направлении. А еще он добавил: «Так много надо сделать, и так мало времени. Моя мать права: мне уже давно следовало позаботиться о наследнике».
Он посмотрел на нее, и Статира поняла, что именно она, а не бактрийка будет отныне его любимой женой. И она отдалась ему с искренней благодарностью, оказавшейся не менее действенной, чем подлинная любовная страсть.
Вскоре после этого он уехал, а она поняла, что они зачали ребенка, и бабушка отправила ему о том весть. Хорошо, что Александр пригласил ее в Вавилон. Если он все еще болен, она сама его выходит. Она не станет устраивать сцены ревности. Царям положено иметь младших жен или наложниц, да и бабушка предупредила, что гаремные ссоры чреваты немалыми неприятностями.
* * *
Солдаты, посланные арестовать Пердикку, вняли его увещеваниям. Они поразмыслили о том, что произошло с ними, и им это не понравилось. Отправившись к друзьям, они рассказали им об отменной храбрости советника Александра, о собственном замешательстве и, уже просвещенные тем же Пердиккой, поведали также, что Мелеагр намеревается заграбастать всю власть. Озабоченные и встревоженные македонские пехотинцы уже жалели о собственной глупости. Пока Мелеагр переваривал свою неудачу, они вдруг, словно разбушевавшееся море, хлынули к его покоям. Дежурившие у дверей стражники, оставив свои посты, присоединились к ним.
Покрывшись холодным потом, Мелеагр почувствовал приближение смерти, точно загнанный кабан в кольце устремленных на него копий. В отчаянии он бросился к царским покоям.
В уютном кружке света, исходящего от недавно затепленной лампы, Филипп сидел за вечерней трапезой, вкушая свое любимое блюдо: щедро сдобренную специями оленину с тыквенными оладьями. Рядом стоял кувшин лимонада: ему опасались давать вино. На внезапное вторжение Мелеагра он отреагировал раздосадованным взглядом, поскольку сидел с полным ртом. Помогавший ему за столом Конон сердито глянул на вошедшего. Услышав шум, он заранее достал свой старый меч.
— Государь, — задыхаясь, выпалил Мелеагр, — предатель Пердикка раскаялся, и солдаты просят пощадить его. Пожалуйста, выйди и скажи им, что ты простил его.
Филипп проглотил набранную в рот еду и возмущенно сказал:
— Я же ужинаю и не могу сейчас никуда выйти!
Конон выступил вперед. Глядя прямо в глаза Мелеагру, он сказал:
— Не злоупотребляй его добротой.
Его рука на всякий случай сжала отлично отполированную рукоятку меча.
Не теряя головы, Мелеагр сказал:
— Любезный, самое безопасное место для царя в Вавилоне — это его трон. Ты же все понимаешь. Вспомни, что происходило на собрании. Государь, необходимо срочно выйти к ним. — Тут его осенило, как лучше убедить Филиппа. — Твой брат именно так и поступил бы.
Филипп отложил нож и вытер рот салфеткой.
— Это правда, Конон? Александр пошел бы туда?
Конон опустил руки.
— Да, государь. Да, он вышел бы к ним.
Уже направившись к двери, Филипп с сожалением оглянулся на кусок недоеденной оленины и с удивлением заметил, что Конон вытирает глаза.
* * *
Очередное временное перемирие далеко не успокоило солдат. Аудиенции в тронном зале проходили все так же скверно. Сожаления послов о безвременной кончине царя Александра стали менее церемонными и более выразительными.
Мелеагр полностью осознал шаткость своего положения, дисциплина в войсках падала день ото дня.
Между тем военачальники устроили совещание. И однажды утром вдруг выяснилось, что конницы нет. В опустевшем парке остались лишь кучи навоза. Выбравшись в предместья, конные отряды, распределившись, окружили город. Вавилон оказался в осаде.
Окрестные земли в основном были заболоченными. Не требовалось большой армии, чтобы перекрыть насыпные дороги и клинья полей. У всех ворот в панике кричали люди и вопили дети, бурчали верблюды, блеяли козы, кудахтала и гоготала домашняя птица. Боявшиеся войны селяне стекались к полуразрушенным городским стенам, а опасавшиеся голода горожане бежали из Вавилона.
Мелеагр смог бы справиться с чужеземным противником. Но он слишком хорошо понимал, что его сторонники изменят ему, просто перекинувшись парой фраз со своими бывшими товарищами по оружию. Их уже не волновала угроза воцарения варварских отпрысков, они тосковали по дому и славному порядку былых триумфальных времен, тосковали и о тех полководцах, которые связывали их с Александром. Меньше месяца назад все они еще были частицами хорошо слаженного организма, вдохновляемого общим пламенным духом. Теперь каждый человек чувствовал себя одиноким в некоем чуждом ему мире, за что он мог поплатиться в любой момент.
Осознавая, что положение стало крайне опасным, Мелеагр пошел посоветоваться с Эвменом.
Во время всей этой неразберихи, вызванной смертью Александра, главный секретарь усопшего спокойно работал. Человек скромного происхождения, обласканный и воспитанный Филиппом и оцененный по достоинству его великим преемником, он не участвовал в нынешнем противоборстве. Не примкнув к рядам Соратников, Эвмен их и не осуждал. Долг обязывал его, как он сам говорил себе, вершить государственные Дела. Он помогал гостям и посольствам, продолжал вести свои исторические записи и составлял письма от имени Филиппа, но не титуловал недоумка царем (это дописывал Мелеагр). Если бы его начали склонять встать на чью-либо сторону, он, сославшись на свое греческое происхождение, отказался бы лезть в македонские распри.
Мелеагр нашел Эвмена в канцелярии, где подручный писец под его диктовку заполнял текстом восковую табличку.
На следующий день он вновь искупался и принес щедрые жертвы, а после ритуала у него начался неспадающий жар. Однако даже в таком состоянии он послал за командирами и приказал им проследить за подготовкой к походу. Вечером он вновь искупался, после чего его болезнь резко обострилась…
— Эвмен, — не выдержав, сказал Мелеагр, уже давно торчавший в дверях, — оставь на время в покое мертвецов. Ты нужен живым.
— Живым нужна правда, не извращенная слухами.
Эвмен сделал знак писцу, тот отложил табличку и вышел.
Мелеагр описал в общих чертах свое затруднительное положение, решив в процессе рассказа, что секретарю уже давно все понятно и что тот с нетерпением ждет конца монолога. Заключение было неверным.
Эвмен сказал равнодушно:
— На мой взгляд, раз уж ты спрашиваешь, еще не поздно попробовать договориться. Все остальное уже неприемлемо.
Мелеагр и сам теперь думал так, но ему хотелось заручиться поддержкой авторитетного человека, на которого можно было бы свалить всю вину, если бы положение вдруг ухудшилось.
— Я готов принять твой совет. Конечно, если мои сторонники тоже примут его.
Эвмен сухо заметил:
— Возможно, царь сможет убедить их.
Мелеагр предпочел пропустить двусмысленность мимо ушей.
— Только один человек сможет сделать это, и этот человек — ты. Твоя репутация неоспорима, а мудрость и знания всем известны. Не согласишься ли ты обратиться к войскам?
Эвмен уже давно разобрался в своем отношении к происходящему. Сам он продолжал хранить верность семье Филиппа и Александра, ведь именно они вознесли его из безвестности к самым вершинам власти. Если бы Филипп-Арридей оказался подходящим правителем, то он с удовольствием поддержал бы его, но ему было отлично известно, как царь Филипп поглядывал на своего неудачного отпрыска, и поэтому оставалось уповать лишь на то, что вскоре у Александра родится нормальный наследник. И тем не менее Арридей был сыном Филиппа, а потому Эвмену хотелось его по возможности защитить. Грек слыл хладнокровным человеком, лишь немногие догадывались о его внутренних переживаниях; к тому же будучи по натуре покладистым, он просто сказал:
— Соглашусь.
Пехотинцы с одобрением встретили его появление. Разменяв шестой десяток, этот кардиец остался худощавым и бодрым, но приобрел солдатскую выправку, и он сказал им только самое необходимое, и не больше. Он не пытался подражать Александру, умевшему мастерски держать слушателей в руках и подводить их к необходимым суждениям. Коньком Эвмена являлось благоразумное здравомыслие, и он предпочел не отклоняться от своей линии ни на шаг. Выступление грека покорило смущенные умы ненавязчивой логикой, и собрание с облегчением приняло его предложения. В лагерь Пердикки направили делегатов для проведения переговоров. Когда те выехали на рассвете из ворот Иштар, толпы вавилонян проводили их встревоженными взглядами.
Делегаты вернулись около полудня. Пердикка готов был снять осаду и примириться с пехотинцами, как только Мелеагр и его сообщники отдадут себя в руки правосудия.
К тому моменту если в затосковавших в Вавилоне войсках еЩе и сохранились остатки сплоченности, то они зиждились на смятенном чувстве собственного достоинства и главным образом зависели от популярности каждого из заинтересованных в них командиров. Возвращающиеся послы громогласно сообщали новости любому, кто останавливал их на улицах и интересовался итогами переговоров. Пока Мелеагр дочитывал послание Пердикки, воины уже стекались в тронный зал, сами решив устроить общий сбор.
Эвмен, сидя в своем рабочем кабинете, слышал шумные споры и скорбные стоны мраморных плит пола, израненного гвоздями подошв солдатских сапог. На лестнице в коридоре имелось выходящее в тронный зал окошко. Через него грек увидел, что на сей раз солдаты явились не с символическим парадным оружием; нет, несмотря на жару, они все облачились в доспехи и даже водрузили на головы шлемы. В рядах пехотинцев явно начались разногласия; на одной стороне зала собрались люди, готовые принять условия Пердикки, на другой — встревоженные и злые — толпились уже известные всем приверженцы Мелеагра. Остальные нерешительно мялись в центре, надеясь, что кто-то решит все за них. Вот так, подумал Эвмен, и начинаются гражданские войны. Не мешкая, он направился к царским покоям.
Уже находившийся там Мелеагр, нависая над Филиппом, пытался втолковать ему, что нужно говорить на собрании. Но Филипп не воспринимал ни слова и лишь нервно ерзал на стуле, отчаяннно отстраняясь от исходящего потом советчика.
— Что? — резко спросил Эвмен. — Что ты советуешь ему сказать им?
Светло-голубые, обычно слегка вытаращенные глаза Мелеагра уже успели налиться кровью.
— Что мы не согласны, конечно.
Ледяным тоном, на который даже разгневанный Александр обращал внимание, Эвмен процедил:
— Если он так скажет, то ты и ахнуть не успеешь, как они перебьют друг друга. Ты заглядывал в зал? Сходи посмотри.
Большая тяжелая рука опустилась на плечо Эвмена. Он пораженно обернулся. Ему не приходило в голову, что Филипп так силен.
— Я не хочу говорить его слова. Я не могу ничего запомнить. Скажи ему, что я все забыл.
— Не волнуйся, — спокойно сказал Эвмен. — Мы придумаем что-нибудь получше.
* * *
Звук царских фанфар быстро утихомирил страсти в зале. Филипп шел впереди, за ним следовал Эвмен.
— Македонцы! — Филипп помедлил, мысленно вспоминая слова, каким научил его этот добрый спокойный человек. — Вам нет нужды ссориться друг с другом. Победителями все равно станут миротворцы.
Ему очень хотелось оглянуться, чтобы получить похвалу, но мягкий голос подсказчика посоветовал ему так не делать.
По залу прошел одобрительный шелест. Царь провозгласил именно то, что устраивало всех.
— Нельзя осуждать свободных граждан… — тихо напомнил Эвмен.
— Нельзя осуждать свободных граждан, если только вы не хотите развязать гражданскую войну. — Филипп вновь замолчал, Эвмен, прикрыв рот рукой, напомнил ему следующие слова. — Давайте еще раз попытаемся примириться. Пошлем к ним другое посольство.
Он облегченно вздохнул. Эвмен прошептал:
— Не оборачивайся.
Серьезных возражений не возникло. Все обрадовались лишнему шансу передохнуть и принялись вырабатывать новые Условия примирения, делая это по обыкновению горячо. Голоса спорщиков становились все громче, вдруг напомнив Филиппу о том ужасном дне, когда он убежал из этого зала, а его заставили вернуться назад, посулив мантию, а потом… Александр лежал мертвый, словно мраморное изваяние. Александр всегда говорил ему…
Он взялся за голову, за ту золотую корону, которую его всегда заставляли теперь надевать перед выходом к людям. Филипп снял ее и, держа на весу, шагнул вперед. Мелеагр и Эвмен одновременно испуганно ахнули. Решительно подняв корону над пораженными воинами, Филипп спросил:
— Вы ссоритесь из-за того, что я стал царем? Успокойтесь. Я согласен отказаться от царства. Вот смотрите, вы можете отдать мою корону кому-то другому. Кому захотите…
Это был любопытный момент. Сначала все пребывали в напряженном ожидании, потом испытали легкое облегчение, узнав об очередной передышке. А теперь вот им предлагают опять выбирать царя.
Всегда склонных к сентиментальности (черта, которой Александр пользовался с неизменным успехом и мастерски) македонцев объединил сейчас всплеск добрых чувств. Какой же он славный и милый, какой законопослушный властитель! Живя в тени своего брата, он обрел чрезмерную скромность. Никто и не думал смеяться, пока царь выискивал взглядом того, кто захочет забрать у него корону. И тут со всех сторон полетели приветственные возгласы:
— Да здравствует Филипп, наш царь Филипп!
С радостным удивлением Филипп вновь водрузил корону на голову. Он сделал все правильно, и приятный человек за спиной будет им доволен. Он все еще сиял от радости, когда его провожали в покои.
* * *
Палатка Пердикки раскинулась под сенью высоких пальм. Едва он обосновался в ней, как почувствовал себя дома. Все было на месте: походная кровать, складной стул и комплект доспехов, громоздкий сундук с трофеями (вместо нескольких таких сундуков, но те времена уже в прошлом) и трехногий раскладной столик.
Когда прибыли новые послы, их встретили вместе с Пердиккой его брат Алкета и кузен Леоннат. Леоннат, долговязый сухопарый мужчина с золотисто-каштановой гривой, напоминавшей окружающим о его родстве с царской династией, упорно подстригал волосы, копируя «львиный» стиль Александра, и даже, как поговаривали любители позлословить, завивал их в такие же кудри с помощью специальных щипцов. Его личные честолюбивые замыслы, хотя и высокие, оставались пока в зачаточном состоянии; сейчас он поддерживал Пердикку.
Послов отправили прогуляться, чтобы спокойно обсудить вновь поступившие предложения. Полюбовный мир предлагалось заключить от имени царя Филиппа на условиях признания его права на трон и введения его представителя Мелеагра наравне с Пердиккой в состав высшего командования.
Леоннат дернул головой, откинув назад волосы; жест, редко используемый Александром, хотя и считавшийся модным во времена его отрочества.
— Какая наглость! Как раз к этой паре у нас гораздо больше претензий, чем ко всем остальным!
Пердикка оторвал взгляд от послания.
— К этому документу, — уверенно сказал он, — приложил руку Эвмен.
— Несомненно, — сказал удивленный Алкета. — Кто же еще мог составить его?
— Мы согласимся. Большего нам и не надо.
— Как? — вытаращив глаза, воскликнул Леоннат. — Не можешь же ты дать разбойнику звание генерала!
— Я сказал тебе, что вижу тут руку Эвмена, — бросил Пердикка, поглаживая отросшую на подбородке темную щетину. — Он понял, какойприманкой можно выманить зверя из логова. Да, сейчас мы со всем согласимся. А там поглядим.
* * *
Царская барка приближалась к излучине Тигра, где ей надлежало причалить к берегу, поскольку оставшуюся часть пути сестрам предстояло путешествовать по суше вместе с обозом.
Сгущались сумерки. Шатер раскинули на лугу, подальше от речной сырости и мошкары. Царевны сошли на берег, когда в лагере зажглись первые факелы; от костра, где с шипением готовился к ужину барашек, доносился запах горящего жира.
Главный придворный евнух, помогая Статире сойти по трапу, мягко сказал:
— Госпожа, селяне, пришедшие продать фрукты, говорят, что великий царь умер.
— Александр предупреждал меня об этом, — спокойно ответила она. — Он сообщил, что такие слухи уже разошлись по окрестностям. Так сказано в его письме, но он посоветовал нам не обращать на них внимания.
Приподняв подол платья над росистой прибрежной травой, она величественно направилась к освещенной поляне.
* * *
Вавилоняне с облегчением наблюдали, как пехотинцы под жизнеутверждающие звуки труб и двойных флейт вышли из ворот Иштар для окончательного заключения мира с Соратниками.
Мелеагр ехал вместе с царем во главе войска. В алом наброшенном на плечи плаще, подаренном ему некогда Александром, Филипп выглядел подобающе радостным; он восседал на хорошо вымуштрованной крепкой лошади, поводья которой, как обычно, держал сопровождавший своего хозяина Конон. Царь бурчал себе под нос ту же мелодию, что наигрывали флейтисты. Воздух еще дышал бодрящей утренней свежестью. Теперь все будет хорошо, все вновь станут друзьями. Закончатся все злоключения, и тогда можно будет спокойно оставаться тут главным и дальше.
Соратники поджидали их на лоснящихся лошадях, уже застоявшихся и начинавших проявлять норов; их уздечки поблескивали золотыми бляшками и серебрянными нащечниками (эту моду завел Александр, обрядив так однажды своего Букефала). В незамысловатом фракийском шлеме, облаченный в искусно выделанные боевые доспехи и штампованный кожаный панцирь Пердикка с довольной усмешкой поглядывал на марширующих пехотинцев и на возглавляющего их вырядившегося, как на свадьбу, хлыща. Мелеагр гордо приближался к нему в обшитом золотой бахромой плаще и парадных доспехах, украшенных большой золотой львиной мордой. Ура! Зверя выманили из логова.
Филиппа приветствовали, как царя. Хорошо подготовленный, он ответил подобающим образом и вытянул вперед руку. С неколебимой приветливостью Пердикка выдержал тяжелое пожатие его могучей длани. Но тут и раздувавшийся от собственной важности Мелеагр, отвратительно ухмыляясь, не преминул также сунуться к нему с ритуальным рукопожатием. Гораздо более неохотно Пердикка ответил на жест. Пожал руку выскочке. Закрепил мировую. И сказал себе, что Александр когда-то тоже преломил хлеб с вероломным Филотом, дожидаясь своего часа. Если бы Александр не пошел на эту уступку, мало кто из его доблестных воинов, включая, вероятно, и самого Пердикку, остался бы в живых. «Это было необходимо», — говаривал в таких случаях великий завоеватель.
* * *
Отсутствующего Кратера, учитывая его высокий титул и принадлежность к царскому роду, решили назначить опекуном Филиппа. За Антипатром оставили регентство в Македонии. Пердикку назначили хилиархом по всем азиатским завоеваниям, а если у Роксаны родится мальчик, то его семейным опекуном должен был стать Леоннат. Они все состояли в родстве с Александром, на что Мелеагр претендовать не мог, но поскольку он собирался войти в состав высшего командования, то прочие ранги и звания его не очень-то волновали. Он уже начал развивать перед полководцами свои взгляды на руководство империей.
Когда с первоочередными делами было покончено, Пердикка внес последнее предложение. После гражданской войны или смуты по древней македонской традиции обычно приносили очистительные жертвоприношения богине Гекате, помогавшей улаживать разногласия. Он предложил провести обряд очищения в поле, где надлежало собраться всем вавилонским войскам, как конным, так и пешим.
Мелеагр охотно согласился. Надо будет появиться там во всем величии, подобающем его новому положению. Он наденет шлем с двойным гребнем, какой был у Александра при Гавгамелах. Такой шлем заметен издалека и приносит удачу.
* * *
Незадолго до намеченного обряда Пердикка пригласил полководцев к себе на частный ужин. Он уже вновь поселился в дворцовом парке, в своем прежнем особняке. Прибывшие (кто пешком, кто верхом) командиры расположились в сгущающихся сумерках под сенью живописных деревьев, свезенных со всего света для украшения этого райского уголка. Повод обычный — встреча старых друзей.
Когда слуги, принеся вина, удалились, Пердикка сказал: — Я уже выбрал людей и дал им соответствующие указания. По-моему, Филипп… полагаю, нам придется привыкать называть Арридея именно так…. сможет выучить свою роль.
Пока Кратер еще не вступил в должность опекуна, Пердикка выполнял его обязанности. Продолжая жить в своих старых покоях в привычной ему обстановке, Филипп едва ли заметил какие-то изменения, за исключением желанного отсутствия Мелеагра. Ему давали новые наставления, но как раз этого он и хотел.
— Он с симпатией относится к Эвмену, — заметил Птолемей. — Видимо, Эвмен не пугает его.
— Хорошо. Он поможет нам натаскать Филиппа. Будем надеяться, что шумное и грандиозное зрелище не смутит его… Там ведь будут слоны.
— Еще какие, — усмехнулся Леоннат. — А он уже видел слонов?
— Конечно видел, — раздраженно сказал Птолемей. — Он же вместе с ними возвращался из Индии под присмотром Кратера.
— Да, верно.
Пердикка задумчиво помолчал. Все напряженно ждали, что он дальше скажет. Наконец Селевк, в чьем ведении находился слоновий корпус, не выдержал.
— Не томи.
— Индийский царь Омфис, — медленно продолжил Пердикка, — отлично ими пользовался в особых случаях.
Все сотрапезники, возлежавшие на кушетках, шумно и разом вздохнули. А Неарх с отвращением бросил:
— Омфис-то, возможно, и пользовался. А вот Александр — никогда.
— Александр никогда не сталкивался с подобными неприятностями! — запальчиво заявил Леоннат.
— Да уж, — подхватил Птолемей. — Подобного с ним и быть не могло.
Пердикка вмешался с властной бесцеремонностью.
— Ерунда! Александр отлично понимал могущество страха.
* * *
Люди проснулись с первыми петухами, чтобы уже на рассвете прибыть на выбранное заранее поле и совершить обряд очищения до одуряющей полуденной жары.
Плодородные нивы, с которых собирали по три урожая пшеницы в год, были недавно сжаты. Всплывшее над гладью равнины светило раскинуло косые лучи по убегавшему вдаль жнивью, придав ему сходство с блестящим золотистым ковром. Здесь и там краснели ограничительные вымпелы, отмечая территорию общевойскового сбора.
Равнодушно возвышавшиеся над всем этим мощные и приземистые стены Вавилона с их выщербленными и потрескавшимися кирпичами, скрепленными древними ассирийцами темным битумом, свидетельствовали о неумолимом ходе веков и об усталости старого города, истомленного бесконечными завоеваниями. Казалось, эти некогда очень прочные стены видели столько всего, что уже потеряли способность чему-либо удивляться. Их зубцы в основном разрушились и почти сгладились, от почерневших от дыма камней внешней кладки все еще несло гарью, а потоки расплавленной смолы протянули к земле свои застывшие черные языки. Проходящий понизу ров был завален всяческим мусором, на полуобугленных деревянных балках с частично сохранившимися резными изображениями львов, кораблей, крыльев и прочего смутно поблескивала позолота. Это были остатки двухсотфутового погребального костра, на котором Александр незадолго до собственной смерти предал огню тело Гефестиона.
Там, возле этого рва, еще затемно начали собираться толпы зрителей. Они не забыли роскошного вступления Александра в Вавилон. Бесплатное представление, ведь город тогда сдался мирно, и победитель запретил воинам грабить его. Горожанам запомнились усыпанные цветами улицы и разносимые ветром ароматы ладана и благовоний. Их весьма впечатлили вереницы экзотических приношений, лошади в золотых украшениях, львы, леопарды в позолоченых клетках, персидская и македонская кавалерия и сам государь, ехавший впереди на сверкающей колеснице, — стройный, блестящий, подобный юному богу. Тогда ему было, наверное, лет двадцать пять. Вавилоняне надеялись, что по возвращении из Индии он устроит что-нибудь более грандиозное, но он устроил лишь грандиозный погребальный костер.
И вот теперь они надеялись увидеть торжественный парад македонских войск и обряд умиротворения македонских богов покаянным жертвоприношением. Казалось, сюда высыпал весь обитающий в городе люд: сами горожане, солдатские жены, дети, кузнецы, кожевники, поставщики провизии, возчики, шлюхи, корабелы и моряки с гребных судов. Все они обожали зрелища, но их радужные ожидания вскоре сменились глубокой тревогой. Одна жизнь закончилась, зарождалась другая жизнь, и им совсем не понравились знамения, сопутствовавшие ее зарождению.
Большая часть войск переправилась через реку накануне вечером. И по мосту Царицы Нитокрис, и на бесчисленном множестве просмоленных тростниковых лодок. Проспав остаток ночи под открытым небом, они принялись начищать амуницию для грядущего ритуала. Часовые на стенах видели, как расцвела вдруг огнями факелов ночная тьма и с нарастающим рокотом заволновалось в ней людское море. С другой стороны донеслось ржание лошадей Соратников.
По бревнам моста Нитокрис гулко застучали копыта. Выехавшие из города вожди начали подготовку к священному обряду, призванному прогнать из людских сердец зло.
История этого обряда уходила в глубокую древность. Освященную жрецами жертву нужно было предать смерти, выпотрошить и, разделив на четыре части вместе с внутренностями, растащить в разные стороны. Завершал очищение парадный марш войска под благодарственные пеаны.
В жертву, как повелось, приносили собаку. На царских псарнях выбрали самого породистого и крупного волкодава; чисто белый, он шел за поводырем к алтарю, весело помахивая хвостом. Его покорность перед закланием считалась добрым предзнаменованием. Боги, похоже, отнеслись к жертвоприношению благосклонно, но, когда псарь передал поводок жрецу, пес зарычал и набросился на него. Животное оказалось невероятно сильным даже для своих немалых размеров. Понадобилось четверо крепких мужчин, чтобы совладать с ним и всадить нож ему в глотку; в результате всей этой кровопролитной истории они получили больше ранений, чем волкодав. Ситуация еще больше осложнилась тем, что во время заклания царь сам начал орать как резаный и его еле-еле удалось успокоить.
Отгоняя дурные предчувствия, четыре всадника, выбранные для обрядового осквернения поля, резво поскакали к четырем его углам со своими кровавыми четвертинами. Вознося оберегающие молитвы к троеликой Гекате и подземным богам, они раскидали кровавые куски белой жертвы по помеченным вымпелами зонам. Теперь злые духи были изгнаны, и заколдованное поле ожидало марша армии Александра.
Конница и пехота замерли наготове. Блестели начищенные доспехи всадников; красные или белые хвосты из конского волоса увенчивали гребни их шлемов, утренний ветерок играл вымпелами на концах пик. Низкорослые греческие кобылки приветливым ржанием встречали высоких жеребцов кавалерии персов. Большая часть персидских пехотинцев предпочла дезертировать и уже устало тащилась по пыльным дорогам к далеким деревням. Зато македонцы явились в полном составе. Они стояли плотными рядами, устремив в небо заточенные, поблескивающие на солнце наконечники копий.
На большой тщательно выкошенной площади обозначился своеобразный квадрат. Его основной стороной служила стена Вавилона; слева выстроились пешие воины, справа — конники. А между ними, образуя четвертую сторону, располагались слоны.
Вместе с ними из Индии прибыли и погонщики, они понимали гигантов, как матери понимают своих детей, и весь вчерашний день трудились над своими питомцами в большом крытом соломой слоновнике, построенном в пальмовой роще. Для начала они искупали слонов в канале, монотонно напевая что-то вполголоса и любовно похлопывая по животам, потом принялись раскрашивать большие серые головы, покрывая их затейливыми орнаментами из желто-красно-зеленых священных символов. Морщинистые бока исполинов задрапировали красочными тканями, окаймленными кисточками и золотой бахромой, в прорезях для огромных ушей закрепили розетки с драгоценными инкрустациями и наконец расчесали им хвосты и почистили столпообразные ноги.
Уже давно не было повода так принарядить слонов. Когда-то погонщики вместе со своими подопечными получили отменное воспитание в царском слоновнике Таксилы. Нежно разговаривая с великанами, вспоминая добрые старые времена и далекие берега Инда, они соответственно случаю в давней традиционной манере покрыли их конечности хной. И сейчас в розовом утреннем свете эти люди гордо восседали на слоновьих шеях; они и сами принарядились в ритуальные шелковые платья и чалмы с павлиньими перьями, выкрасив бороды в синий, зеленый или красный цвет; в руках у каждого поблескивали оправленные в золото и усыпанные самоцветами палочки из слоновой кости, которые царь Омфис в величии своей щедрости присовокупил к каждому гиганту, подаренному им царю Искандеру. И погонщики, и их питомцы служили двум великим царям; мир должен видеть, что они понимают толк в царственной красоте.
Полководцы, проводившие возлияния на кровавый жертвенник, вновь направились к своим войскам. Птолемей и Неарх ехали бок о бок с рядами Соратников, и Неарх, стирая брызги крови со своей левой руки, заметил:
— Подземные боги, видимо, не склонны очистить нас.
— Неужели тебя это удивляет? — сказал Птолемей. Его лицо досадливо искривилось. — Ничего, с помощью богов я скоро буду далеко отсюда.
— И я, с божьей помощью… Видит ли нас, поэтически выражаясь, покойный Александр?
— Если верить Гомеру, видят только непогребенные… Он не уйдет, как простой смертный, — сказал Птолемей и, скорее для себя, добавил: — Со своей стороны, я сделаю что смогу в этом плане.
Настало время новому царю занять свое освященное вековыми традициями место. Справа от Соратников. Его лошадь держали наготове. Да и его самого хорошо подготовили. Лично отрепетировавший с Филиппом весь ход ритуала Пердикка теперь скрипел зубами, стараясь не потерять самообладание.
— Государь, армия ждет тебя. На тебя же все смотрят. Нельзя, чтобы воины видели тебя плачущим. Ты их повелитель! Государь, успокойся. Это была всего лишь собака.
— Это был Эос! — Лицо Филиппа пылало, слезы ручьями бежали по бороде. — Мы с ним дружили! Мы играли с ним, перетягивали канат. Александр говорил, что он достаточно сильный. Он мог постоять за себя. И он знал меня!
— Да-да, я понимаю, — сказал Пердикка. Птолемей прав. Александру следовало придушить братца. Большинство зрителей ожидало, что царь примет участие в параде, но ситуация по всем приметам складывалась тревожная. — Однако, государь, его выбрали боги. Теперь уже все позади. Успокойся.
Подчиняясь человеку гораздо более властному и внушительному, чем Мелеагр, Филипп вытер глаза и нос уголком своего красного плаща и позволил слуге подсадить себя на спину лошади, покрытую богато расшитым чепраком. Кобыла, испытанный ветеран парадов, спокойно повторяла все, что делали остальные животные. Филипп с удивлением заметил, что никто не ведет ее в поводу.
Войска ждали завершения обряда; послышался сигнал трубача к началу исполнения благодарственного пеана.
Пердикка вместе с царем повернулись к выстроившимся за ними командирам подразделений.
— Вперед! — прозвучала команда. — Тихим шагом!
Но вместо трубачей неожиданно заиграли флейтисты. Они грянули что-то походное, и конница тронулась с места. Ровные и блестящие шеренги плавно и четко двигались вперед точно так же, как двигались они в течение всех этих фантастических лет на триумфальных парадах в Мемфисе, Тире, Таксиле, Персеполе и даже здесь, на этом вот поле. Впереди ехал Пердикка, и опытная кобыла осторожно несла с ним рядом царя.
Ряды пехотинцев, застигнутых врасплох таким маневром, встревоженно зароптали. Проявилась разболтанность, вызванная длительным ослаблением дисциплины. Копья уже торчали вкривь и вкось, вразнобой. Это были легкие парадные копья, а не длинные основательные сариссы, и копьеносцы вдруг почувствовали себя безоружными. Надвигающаяся конница выглядела не по-парадному грозно. Очень внушительно. Неужели в сценарии представления произошла какая-то путаница? Такие вещи, прежде немыслимые, теперь стали обычными. Под командованием Мелеагра боевой дух армии пошел на убыль, устойчивые наработки расшатались, местами практически сойдя на нет.
Пердикка отдал какой-то приказ. Левый фланг и центральная часть конницы остановились; правый царский фланг продолжил движение. Пердикка наклонился к Филиппу:
— Когда мы остановимся, государь, надо будет кое-что сказать. Ты помнишь что?
— Да! — пылко ответил Филипп. — Я должен сказать…
— Тише, государь, не сейчас. Начнешь после того, как я скомандую: «Стой!»
Стройными рядами нарядные царские конники двигались вперед, и, когда расстояние между ними и пехотинцами сократилось до пятидесяти футов, Пердикка приказал им остановиться.
Филипп поднял руку. Он уже успел привыкнуть к новой послушной лошади. Надежно сидя на покрытом узорами чепраке, громким и неожиданно звучным голосом, удивившим даже его самого, он крикнул:
— Выдать зачинщиков!
Наступила ошеломленная тишина. Пехотинцы оцепенели. Это сказал их собственный, избранный ими царь Македонии. Первые ряды сначала скептически усмехнулись, увидев, что его по-детски напряженное лицо выражает лишь отчаянное желание хорошо выполнить выученное задание, а потом поняли наконец, кого же они избрали.
По солдатским рядам вдруг пронеслись громкие, призывающие к сопротивлению возгласы. Они исходили от главных приспешников Мелеагра. Их голоса резко выделялись из общего смутного гомона как своей звонкостью, так и малочисленностью.
Постепенно (поначалу, казалось, почти случайно) вокруг них стало образовываться пустое пространство. До солдат, поддерживавших смутьянов, стало, видимо, доходить, что им самим ничто особо не угрожает. И кто же на самом деле повинен во всем, что произошло? Кто, в сущности, навязал им этого пустоголового царя, готового плясать под дудку любого наставника? Они вмиг забыли о простом копьеносце, который первым выкрикнул имя сына Филиппа; они помнили только Мелеагра, завернувшего этого идиота в царскую мантию и пытавшегося осквернить тело Александра. Почему кто-то еще должен расплачиваться за то, что натворил Мелеагр?
Пердикка сделал знак глашатаю, и тот подъехал к нему со свитком в руке. Хорошо поставленным зычным голосом глашатай зачитал имена тридцати главных приспешников Мелеагра, но имя самого Мелеагра не прозвучало.
Достигнув вожделенного звания полководца, он стоял во главе правофланговой фаланги, чувствуя себя выброшенной на берег рыбой, которую, учитывая стремительно начавшийся отлив, уже не может спасти никакая случайно набежавшая с моря волна. Его противники, конечно, только и ждали, что он рванется вперед, бросая вызов вероломству Пердикки, но Мелеагр не стал лезть на рожон. Он застыл, точно отлитая в бронзе статуя, обливаясь холодным потом под раскаленным диском вавилонского солнца.
Шестьдесят конников из полка Пердикки выдвинулись вперед и спешились. Они выстроились в шеренгу по двое, одна половина держала в руках оковы, другая — мотки веревок.
Близился решающий момент. Возмущенно протестуя, тридцать зачинщиков вертелись как угри на сковородке. Одни воинственно размахивали копьями, другие призывали к восстанию. Над общим смущенным гомоном вновь прозвучал сигнал трубы. Тихо, словно советуясь с царем, Пердикка напомнил ему следующие слова речи.
— Предайте их в руки правосудия! — послушно крикнул Филипп. — Или нам придется отбить их силой!
Он начал непроизвольно натягивать поводья.
— Рано! — прошипел Пердикка к его облегчению.
У Филиппа не было никакого желания подъезжать ближе к грозно ощетинившейся копьями пехоте. Обычно, пока был жив Александр, наконечники всех копий смотрели строго вверх.
Тридцать виновников уже заметно выделялись в солдатских рядах, и воины с оковами легко обнаружили их. Одни покорно сдались, другие пытались оказать сопротивление, но для их ареста выбрали самых крепких атлетов. Вскоре на ногах всех окруженных конниками бунтарей появились оковы. Пребывая в полной растерянности, эти люди уже не представляли, что с ними сделают дальше, а на лицах их стражей появилось какое-то странное выражение: они старательно отводили глаза.
— Связать их! — приказал Пердикка.
Руки зачинщиков привязали к бокам. Конница отступила на исходные позиции, и центр поля вновь опустел. Часть избранных для ареста конников погнала связанных и скованных людей вперед. Спотыкаясь и падая, они извивались в своих оковах, беспомощные и лишенные всяческой поддержки на ритуальном поле, избранном для чествования Гекаты.
С дальнего его края донеслись пронзительные звуки индийской дудки и барабанная дробь.
Яркие солнечные лучи заиграли на золотой отделке заостренных палочек из слоновой кости, дары царя Омфиса были пущены в ход. Погонщики слегка покалывали их кончиками шеи своих послушных воспитанников, выкрикивая давно усвоенные ими команды.
Пятьдесят тяжеловесных гигантов разом поднялись на дыбы. От их боевого трубного рева войска пришли в ужас. Медленно, под постепенно и неуклонно нарастающий барабанный бой, столпообразные конечности опустились, и разукрашенные чудовища, сотрясая землю, двинулись вперед.
Отлично обученные погонщики в своих блестящих шелках, отбросив степенное молчание, перешли к активным действиям. Воинственно крича, они барабанили пятками по спинам и шеям своих подопечных, били руками, унизанными браслетами, колотили стрекалами. Сейчас они напоминали озорников, вырвавшихся на свободу из школы. И слоны побежали, обмахиваясь здоровенными ушами и пронзительно трубя от возбуждения.
По рядам застывших от ужаса зрителей прокатилась волна протяжного стона. Услышав его, лежавшие на земле пленники с трудом поднялись на колени и оглянулись. Сначала они завороженно взирали на блестящие спицы стрекал, потом один из них опомнился и, заметив приближение окрашенных хной ног, полностью осознал степень надвигающейся опасности. Его безумный вопль привел в чувство и остальных. Окутанные облаком густой серой пыли пленники попытались откатиться в сторону. Но откатиться им удалось от силы на пару ярдов.
Со свистом втягивая в себя воздух, воины Александра смотрели, как лопаются, подобно сдавленным виноградинам, человеческие тела, как разрывается кожа и алый сок окрашивает расплющенную, истолченную плоть. Действия боевых слонов выглядели весьма осмысленно; почуяв исходящий от земли запах крови, они воинственно трубили, захватывали хоботами перекатывающиеся тела и, придав им нужное положение, пускали в ход ноги.
Сидевший на лошади рядом с Пердиккой Филипп начал издавать возбужденные, но одобрительные возгласы. Это зрелище отличалось от сцены убийства Эоса. А потом, он обожал слонов: Александр как-то разрешил брату покататься на одном из покладистых великанов, и тот не причинил ему никакого вреда. Царь во все глаза таращился на великолепные попоны и слышал лишь гордые трубные кличи. Едва ли он даже замечал кровавое месиво под столпообразными слоновьими ногами. Во всяком случае, Пердикка сообщил ему, что все преступники были очень плохими людьми.
Погонщики, увидев что задание хорошо выполнено, успокоили и похвалили своих питомцев, которые охотно отступили назад. Им приходилось делать подобные вещи в военных сражениях, оставлявших некоторым из них на память долго не заживающие ранения, а сегодняшнее задание оказалось безопасным, простым. Следуя за вожаком, старшим и мудрым слоном, животные выстроились в колонну; они, гордо выставляя напоказ свои красные до колен ноги, триумфально прошествовали мимо Пердикки и царя, салютуя им закрученными, вскинутыми вверх и прижатыми к головам хоботами. Впереди их ждали тенистые слоновники, вкусное поощрение в виде фиников с дынями и прохладное приятное купание, которое смоет с них запах войны.
Когда после ухода слонов люди вздохнули свободнее и мертвая тишина в рядах воинов сменилась легким гулом, Пердикка дал знак трубачам приготовиться. Его лошадь сделала пару шагов вперед, в то время как царская осталась на месте.
— Македонцы! — сказал он. — Со смертью этих предателей наша армия действительно очистилась и вновь готова защищать наше великое государство. Если и есть еще в ваших Рядах люди, заслуживающие участи этих мятежников, то сегодня они счастливо избежали ее и теперь, осознав благосклонность судьбы, должны укрепиться в своей преданности. Трубачи! Начинайте благодарственный пеан.
Волнующая мелодия полилась над ритуальным полем, конница подхватила ее. После томительного промедления к верховым присоединилась пехота. Древняя и суровая песнь подействовала успокаивающе, как колыбельная. Она вернула воинов в те славные дни, когда все они были доблестным и сплоченным единством.
Очищение завершилось. Мелеагр остался на поле в одиночестве. Его сообщники были мертвы, а их подпевалы даже и близко не подходили к нему, словно он был зачумленный.
Придерживавший его лошадь слуга, очевидно, не смел выразить свое презрение, но косой взгляд столь ничтожного существа действовал сильнее любой насмешки. Позади Мелеагра на опустевшем поле появились два крытых фургона, и возчики вилами принялись забрасывать в них искалеченные трупы. Среди казненных были два его кузена с племянником; ему самому придется заняться их похоронами, поскольку другой родни у них нет. Как и у него. Мысль о необходимости рыться в груде растоптанной человеческой плоти, отыскивая тела своих родичей, вызвала у Мелеагра очередной приступ рвоты. Он спешился и, расставшись с содержимым желудка, почувствовал себя совершенно опустошенным. Вновь запрыгнув на лошадь и направив ее к городу, Мелеагр заметил, что за ним следуют два конника. Когда он остановился, чтобы поправить чепрак, они тоже натянули поводья, но потом продолжили путь.
Он участвовал во многих сражениях. Страх искупался возможностью крушить тех, кто его ему внушал, а честолюбивые устремления и заразительный боевой дух Александра поддерживали Мелеагра, пробуждали в нем смелость. Никогда прежде не представлял он себе такого конца. Его заметавшийся, точно загнанная лисица, ум судорожно выискивал спасительную лазейку. Перед ним высились толстые, выщербленные и зловещие стены Вавилона, политые смолисто-черным варом и кровью выстроивших их рабов, а за ними маячил зиккурат Бел-Мардука.
Он проехал под сводчатой аркой ворот. Конники следовали за ним. Когда он появился на узких городских улочках, женщины попрятались в дверных проемах, давая ему дорогу; из грязных глубоких дворов, темневших между глухими стенами домов, на него угрожающе поглядывали оборванцы разбойного вида. Преследователи куда-то исчезли. Внезапно он выехал на широкую улицу и увидел прямо перед собой храм Мардука. Священное место, почитавшееся не только варварами, но и греками. Все знали, что там Александр приносил жертвы Зевсу и Гераклу. Священное убежище!
Он привязал свою лошадь к фиговому дереву на заросшем сорняками дворе. Протоптанная в зелени тропа привела его к полуразрушенному входу в святилище. Из сумрачной глубины доносились традиционные запахи ладана, жареного мяса и прогоревших углей, но все же преобладали там незнакомые чужеземные ароматы. Остановившись на залитой солнечным светом площадке, Мелеагр вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На него смотрел Александр.
Его сердце замерло. В следующее мгновение он понял природу эффекта, но все равно не мог тронуться с места. На него взирала, словно живая, раскрашенная мраморная статуя — некий священный дар городу, находившийся здесь восемь лет со времени первого победоносного вступления македонских войск в Вавилон. Изваяние стояло прямо на земле, постамент для него все еще не сложили. Мраморный Александр в короткой закрепленной на плече мантии, спокойно державший в руке позолоченное бронзовое копье, казалось, терпеливо ждал возведения нового храма, на строительство которого давно выделил средства. Его глубоко посаженные глаза с дымчато-серыми, глазурованными радужками вокруг зрачков вопросительно смотрели на Мелеагра, точно спрашивая: «Зачем ты явился?»
Мелеагр окинул вызывающим взглядом это умное, требовательное лицо и гладкое молодое тело. Ты стал тощим и жилистым и весь покрылся шрамами. Теперь твой лоб прорезают морщины, твои глаза ввалились и потускнели, а волосы поседели. А здесь стоит всего лишь каменный истукан! Плод воображения скульптора… Однако всколыхнувшиеся воспоминания каким-то удивительным образом вызвали у него полное ощущение реального присутствия царя. Ему уже чудился его гнев… Стряхнув с себя наваждение, Мелеагр решительно вошел в храм.
Поначалу, после залитого солнцем двора, сумрак храма почти лишил его возможности что-либо видеть. Вскоре, однако, проникающие сверху стрелы дымного света слегка рассеяли мрак, и он различил темнеющую в глубине святилища колоссальную статую Бела, великого царя богов. Бел восседал на троне, положив на колени сжатые в кулаки руки. Его высокий головной убор почти касался потолка, по бокам от него стояли крылатые львы с бородатыми мужскими лицами. И божественный жезл в человеческий рост, и все облачение Бела тускло поблескивали, но позолота почти облупилась. На потемневшем от старости и дыма лице ярко сверкали желтые, инкрустированные слоновой костью глаза. У ног бога стояла алтарная жаровня с остывшим пеплом. Никто, видимо, не принес сюда весть, что в Вавилоне появился новый правитель.
Неважно, алтарь есть алтарь. Здесь никто не покусится на жизнь Мелеагра. Довольствуясь поначалу уже тем, что может спокойно дышать, и радуясь прохладе, сохраняемой толстыми высокими стенами, беглец начал осматриваться вокруг, ища хоть какие-то признаки храмовой жизни. Все выглядело покинутым, однако у него возникло ощущение, что за ним наблюдают чьи-то оценивающие и подозрительные глаза.
В покрытой глазурованными плитками стене за статуей Бела имелась неприметная дверь. И Мелеагр скорее почувствовал, чем услышал, что за ней кто-то есть, но он не осмелился постучать. Его власть канула в небытие. Медленно и уныло тянулось время. Он пришел в храм, чтобы воззвать к богам, должен же кто-то уделить ему внимание. Голод давно давал о себе знать, а за этой эбеновой дверью у жрецов наверняка есть и снедь, и вино. Но он так и не решился известить их о своем приходе. Он понимал: они знают о нем.
Внутренний двор храма окрасился блеклыми лучами заката. Удлинившиеся тени почти скрыли из виду темную громаду Бела, лишь желтоватые белки его глаз еще поблескивали во мраке. С сумерками бог вступал в свои права. Храм, казалось, заполнился каменными колоссами, попиравшими каменными ногами шеи поверженных ими врагов и приносившими их кровь в жертву каменному властителю тьмы. Почти забыв о голоде, Мелеагр мечтал сейчас оказаться в заполненном небесным светом горном святилище Македонии, в одном из тех красочных и светлых греческих храмов, где по-человечески великодушные боги одарили бы его своей милостью.
Последний луч света угас на дворе, и в мгновенно сгустившемся мраке еще угадывался лишь каменный исполин. Из-за двери донеслись тихие голоса, но тут же умолкли.
Мелеагр услышал ржание своей лошади и тревожный стук ее копыт. Нет, он не останется гнить здесь. Под прикрытием темноты он сможет уехать. Возможно, кто-то спрячет его… правда, все надежные друзья убиты. Нет, лучше немедленно покинуть этот город, отправиться на запад и в одном из ближайших азиатских городов наняться на службу к какому-нибудь сатрапу. Только сначала ему надо пробраться в свой дом: в дороге могут понадобиться деньги. Мзда, полученная им от множества просителей, искавших благорасположения нового государя… Полумрак внутреннего двора наполнился жизнью.
В еле освещенном проеме показались две темные тени. Они миновали разрушенный вход. Это не были вавилоняне. Мелеагр услышал отвратительный звук рассекающих воздух мечей.
— Святилище! — крикнул он. — Я в святилище!
Дверца за изваянием Бела приоткрылась, яркий луч лампы прорезал темноту. Он вновь закричал. Щелка закрылась. Мрак поглотил приблизившиеся темные силуэты. Прижавшись спиной к потухшему алтарю, он достал свой меч. Когда таинственные фигуры подступили вплотную, ему показалось, что он узнал их, но только по очертаниям и по запаху. Так могли выглядеть и пахнуть лишь соотечественники. Взывая к братскому духу, царившему некогда в армии Александра, Мелеагр громко назвал первые пришедшие на ум имена. Он обознался; суровые руки пригнули его голову к алтарю, и, помянув Александра, пришельцы перерезали ему горло.
* * *
Лишенный всех ярких флагов и украшений, увитый траурными ветвями кипариса и плакучей ивы, усталый караван начал медленно втягиваться в город через ворота Иштар. Заранее получив известие о его приближении, Пердикка и Леоннат выехали навстречу жене Александра и сообщили ей, что она овдовела. Обстриженные в знак траура, с непокрытыми головами, они ехали верхом рядом с растянувшимся обозом, который теперь походил на некую торжественную процессию. Царевны рыдали, их стонущие служанки нараспев произносили монотонные погребальные плачи. Стражники в воротах, уже отслушавшие положенные причитания в надлежавшее время, с удивлением внимали новым проявлениям скорби.
Покои старшей жены в дворцовом гареме по приказу Багоаса привели в порядок еще пару месяцев назад, теперь они ожидали своих новых обитательниц в безупречной чистоте и свежести. Главный смотритель гарема боялся, что после смерти Александра Роксана потребует, чтобы ее переселили туда, но, к его глубокому облегчению, она, видимо, удовлетворилась предоставленными ей покоями. Несомненно, беременность благотворно и успокаивающе подействовала на нее. И смотритель решил, что пока все идет нормально.
Пердикка почтительно сопровождал Статиру, не выказав удивления по поводу ее прибытия, хотя он считал, что ребенка вынашивать ей было бы удобнее в Сузах. Однако Александр, как она сказала, вызвал ее в Вавилон. Должно быть, ему хотелось сохранить ее приезд в тайне. После смерти Гефестиона он порой вел себя очень странно.
Помогая Статире спуститься по ступенькам фургона и препоручая ее заботам гаремного смотрителя, Пердикка подумал, что она значительно похорошела со времени памятной свадьбы. Красоту ее по-персидски изящного с тонкими чертами лица подчеркнули легкие голубоватые тени, проложенные беременностью и дорожной усталостью, под большими темными глазами; сейчас их веки с длинными шелковистыми ресницами казались почти прозрачными. Персидские цари всегда славились породистой внешностью. Гладкая и белая, как сливки, рука с длинными тонкими пальцами слегка коснулась темного занавеса. Нет, Александру она явно не подходила, а вот с ним, с Пердиккой, составила бы отличную пару, ведь он был на добрый дюйм выше нее. (Пердикку сильно разочаровала его собственная сузская невеста, смуглая мидийка, выбранная за родовитое происхождение.) Хорошо еще, что Александр все-таки образумился и зачал с ней ребенка. По крайней мере, красотой он будет не обделен, уж это точно.
Леоннат, помогавший Дрипетис, заметил, что та пока напоминает бутон, обещающий распуститься в прекрасную розу. У него тоже имелась персидская жена, но разве ее наличие мешает ему мечтать о более интересном браке. Гарем он покинул в задумчивости.
Вереница подобострастных евнухов и знатных дам препроводила царевен по лабиринту помнивших еще Навуходоносора коридоров к давно знакомым покоям. После просторного и светлого дворца в Сузах вновь прибывшие, словно вернувшись в детство, опять ощутили сумрачную замкнутость и тяжеловесность архитектуры древнего Вавилона. Но потом их порадовал солнечный внутренний двор и пруд с рыбками, где они плавали когда-то на своих бамбуковых лодочках между островками лилий или, погрузившись по плечи в воду, игрались карпами. В покоях, раньше принадлежавших их матери, дочерей Дария искупали, умастили благовониями и накормили. Ничего, казалось, не изменилось с того круто повернувшего судьбу сестер летнего дня, когда восемь лет назад отец привез их сюда, перед тем как отправиться на войну с царем Македонии. Даже смотритель гарема их вспомнил.
После трапезы, отпустив служанок устраиваться в отведенных им комнатах, сестры занялись разбором сундука с нарядами матери. От шарфов и покрывал еще исходили слабые, но будоражащие воспоминания, запахи. Расположившись на диване, с которого был виден залитый солнцем пруд, они словно перенеслись в прежнюю жизнь, где Статире было уже двенадцать, а Дрипетис еще не исполнилось и девяти лет. Охваченные томящим волнением, дочери Дария поговорили об отце, чье имя бабушка теперь никогда не произносила вслух, вспомнили, как еще до его восшествия на престол они жили с ним в горах, на его родине, и как он подбрасывал их над головой высоко в воздух. Они вспомнили прекрасное лицо матери, обрамленное шарфом, расшитым мелким речным жемчугом и золотыми бусинами. Все их родные умерли — даже Александр, — за исключением бабушки.
Они сонно нежились на диване, когда от входа к ним протянулась легкая тень. Какая-то девочка принесла поднос с двумя серебряными кубками. На вид ей было около семи лет. Очаровательная светлокожая и темноглазая малышка с примесью персидских и индийских кровей изящно опустилась на колени, не пролив ни капли напитка.
— Высокородные, — старательно произнесла она.
Этим, очевидно, пока ограничивались ее знания персидского языка. Царевны поцеловали и поблагодарили ее. Милые ямочки появились на чистых щечках, девочка улыбнулась и, пролепетав что-то по-вавилонски, стремительно удалилась.
Холодный напиток затуманил бока приятных на ощупь серебряных кубков. Дрипетис сказала:
— У нее прекрасный наряд и сережки золотые. Эта девочка явно не служанка.
— Да уж, — заметила искушенно Статира. — Но в таком случае, как ты понимаешь, она, должно быть, наша сестренка. Помнится мне, что отец перевез сюда почти весь свой гарем.
— И правда, как я могла забыть! — В легком потрясении Дрипетис окинула взглядом покои матери.
Статира вышла во внутренний двор, намереваясь позвать малышку обратно. Но та уже убежала, и поблизости никого не наблюдалось, поскольку они велели служанкам не тревожить их во время отдыха.
Даже пальмы, казалось, увяли от жара раскаленного светила. Сестры подняли кубки, восхитившись вырезанными на них птицами и цветами. Прохладное вино, сдобренное лимоном, имело тонкий горьковато-сладкий привкус.
— Великолепно, — сказала Статира. — Должно быть, его приготовила одна из наложниц, чтобы порадовать нас. Наверное, постеснялась прийти сама. Завтра мы сами пригласим ее.
В жарком воздухе еще витали ароматы материнских нарядов. Благодаря им покои казались уютными и родными. Погружаясь в сонную дремоту, Статира с грустью вспоминала родителей и Александра. Здесь она спокойно выносит его ребенка. Ее веки сомкнулись.
Тени от пальм лишь едва удлинились, когда острая боль разбудила ее. Сначала она испугалась, что может потерять ребенка, но потом услышала крик схватившейся за живот Дрипетис.
Пердикка, как регент азиатских владений, переехал жить во дворец. Сидя в малом приемном зале, он рассматривал дела просителей, когда перед ним с посеревшим от ужаса лицом появился смотритель гарема, без всякого доклада пролетев мимо стражников. Пердикка мгновенно приказал всем покинуть зал и выслушал его.
Никто не осмелился зайти к царевнам, услышав их крики о помощи; все, кто их слышал, догадывались, что помочь им нельзя. Главный смотритель, уже не надеясь оправдаться (хотя на деле он не имел к случившемуся ни малейшего отношения), не стал дожидаться, пока они испустят дух. Пердикка поспешил вслед за ним в гарем.
Статира, распластавшись, лежала на диване, Дрипетис каталась по полу в предсмертной агонии. Когда Пердикка вошел, Статира испустила последний вздох. Сначала, оцепенев от ужаса, он не заметил, что в комнате есть еще кто-то. Потом обратил внимание на женскую фигуру, сидевшую в кресле из слоновой кости перед туалетным столиком.
Он быстро подошел к женщине и молча уставился на нее, едва удерживая желание тут же придушить злодейку. Она с довольной улыбкой посмотрела на него.
— Твоих рук дело?
Роксана удивленно приподняла брови.
— При чем тут я? Это все ваш новый царь. Они обе так мне сказали.
Она не добавила, что напоследок имела удовольствие вывести их из заблуждения.
— Царь? — яростно прорычал Пердикка. — Кто поверит этому, ты, проклятая варварская сука?
— Все твои недруги. Они поверят, потому что им это на руку. А я скажу, что он послал эту отраву и мне тоже, но когда этой парочке стало плохо, я еще не успела выпить ее.
— Ты…
Пердикка пространно излил душу в яростных проклятиях. Роксана выслушала все с невозмутимым видом. Когда его пыл поутих, она выразительно положила руку на свой живот.
Отвернувшись, Пердикка посмотрел на умершую царевну.
— Дитя Александра…
— Здесь, — сказала она, поглаживая живот, — находится дитя Александра. Его единственное дитя… Если ты будешь молчать, то я тоже никому ничего не скажу. Ведь она прибыла сюда без всяких церемоний. Мало кто знает о ее приезде.
— Так это ты послала за ней!
— Ну да. Александр не успел позаботиться о бедняжке. Я просто предугадала его желания.
На мгновение ей стало по-настоящему страшно, когда его рука опустилась на рукоятку меча. Крепко сжав пальцы, он глухо произнес:
— Александр мертв. Но если ты еще хоть раз скажешь о нем нечто подобное, то, как только твой сын появится на свет, я убью тебя своими собственными руками. Будь мне известно, что он уродится в тебя, я убил бы тебя прямо сейчас.
Быстро успокоившись, Роксана деловито сказала:
— Там на заднем дворе есть старый колодец. Им давно не пользуются, говорят, что вода в нем грязная. Давай оттащим их туда. В тот двор никто не заглядывает.
Он последовал за ней. От изрядного слоя грязи крышка колодца начала подгнивать. Когда Пердикка поднял ее, в нос ударил запах застарелой плесени.
У него не было выбора, и он понимал это. При всем высокомерии, амбициозности и стремлении к власти, он оставался преданным Александру — как живому, так и мертвому. Его сын не должен, если Пердикка в силах помешать этому, войти в этот мир с позорным клеймом отродья отравительницы.
Молча вернувшись в царские покои, он направился сначала к Дрипетис. Ее лицо было испачкано рвотой; Пердикка вытер его полотенцем и лишь потом отнес несчастную к темному провалу колодца. Когда она выскользнула из его рук, ее одежды зашелестели по кирпичной обкладке, уходящей вниз Футов на двадцать. По глухому стуку Пердикка понял, что колодец давно пересох.
Впившись ногтями в узорчатую обивку дивана, Статира лежала с широко распахнутыми глазами. Они так и останутся не закрытыми. Роксана в нетерпении наблюдала, как Пердикка, подойдя к сундуку, ищет, чем бы накрыть лицо жертвы. Наконец он достал покрывало, обшитое крылатыми скарабеями, и, уже взявшись за ношу, вдруг влез пальцами во что-то влажное.
— Что ты сделала с ней?
Он отступил в отвращении, вытирая руки о покрывало.
Роксана пожала плечами. Наклонившись, она откинула край нижней юбки Статиры. Тогда стало очевидно, что в предсмертных муках персидская жена Александра произвела на свет дитя. Пердикка взглянул на это четырехмесячное существо, уже человека, имевшего все признаки пола, даже с ноготками. Его личико с закрытыми глазами казалось сердитым, и один из кулачков был сжат, словно в гневе. Он был еще связан с матерью: она умерла до того, как вышел послед. Пердикка вытащил кинжал и отделил младенца от породившего его лона.
— Давай пошевеливайся, — сказала Роксана. — Ты же видишь, что это мертвец.
— Да, — сказал Пердикка.
Он уместился у него на ладони, сын Александра, внук Филиппа и Дария, в чьих жилах смешалась кровь Ахилла и Кира Великого.
Пердикка вновь подошел к сундуку. Первым ему попался на глаза шарф, расшитый речным жемчугом и золотыми бусинами. По-женски заботливо воин завернул покойного наследника Александра в этот царственный саван и отнес к погребальному колодцу, прежде чем вернуться и отправить вслед за ним его мать.
* * *
Старая Сисигамбис играла в шахматы с главным дворцовым управляющим. Славное прошлое этого почтенного евнуха уходило во времена правления царя Оха. Умудрившийся выжить в бессчетном множестве дворцовых интриг, он разводил столь тонкую дипломатию, что с ним не могла бы соперничать ни одна из самых увертливых придворных дам. Царица пригласила его, надеясь хоть как-то развеять тоску, а заодно доставить старику удовольствие. Она размышляла над положением своего вырезанного из слоновой кости войска, разбежавшегося по всей шахматной доске. После отъезда внучек и молодой челяди здешний гарем, казалось, погрузился в дремотное забытье. Все его обитатели были стары и немощны.
Управляющий заметил ее апатию и догадался, чем она вызвана. Попавшись в одну-две расставленные ловушки, он потерял пару фигур и, спасая положение, решил отвлечь партнершу от игры разговором. В паузе между ходами евнух спросил:
— Как ты думаешь, царь не забыл наставлений, данных тобой ему в его прошлый приезд? Помнится, ты говорила, что перед походом на Восток он обещал тебе все-таки не лениться и больше тренировать за шахматами свой ум.
Она с улыбкой ответила:
— У меня не было случая проверить это. Насколько я понимаю, он вполне мог забыть о такой ерунде. — На мгновение приглушенный свет ее глаз словно бы озарился яркой живостью былой жизни. — Как-то раз я показывала Александру хитрости этой царской игры, и он ради меня делал вид, что ему интересно. Но когда я, ворча, сказала, что он мог бы выбирать более сложную тактику, он ответил: «Дорогая матушка, но ведь это всего лишь забава».
— Да уж, тихие застольные развлечения не в его вкусе.
— Ему нужно побольше отдыхать. Не вовремя он надумал отправиться в Вавилон. Обычно мы перезжали в тот дворец только на зиму.
— Ну зимовать он, по-моему, хочет в Аравии. Едва ли нам Доведется увидеть его еще раз в этом году. Но решив выступить в поход, он, наверное, отправит царевен обратно к вам, как только госпожа Статира настолько оправится после родов, что сможет перенести путешествие.
— Наверное, — произнесла она с легкой тоской в голосе. — Ему захочется показать мне малыша.
Сисигамбис вернулась к шахматам и, сделав ход слоном, поставила под удар визиря противника. Жаль, подумал евнух, что этот юнец не пригласил также и ее; она по-прежнему души в нем не чает. Однако, как она сама упомянула, летом в Вавилоне нечего делать, а ей ведь уже перевалило за восемьдесят.
Закончив игру, они попивали лимонный напиток, когда управляющего срочно вызвали к командующему сузского гарнизона. Вскоре он вернулся, и, увидев выражение его лица, царица вцепилась в подлокотники кресла.
— Госпожа…
— Ты хочешь сообщить о царе, — сказала она. — Он умер?
Управляющий только кивнул. В сущности, она словно бы уже о том знала, но от его кивка у нее похолодело в груди. Он быстро шагнул к ней, на случай если она потеряет сознание, но через мгновение Сисигамбис уже повелительно показала ему на кресло, готовая выслушать все подробности.
Рассказывая печальные новости, евнух по-прежнему с тревогой следил за ее состоянием; лицо царицы выглядело теперь как старый пергамент. Но Сисигамбис не только горевала, она пребывала в раздумье. Вскоре она повернулась к столику, открыла костяную шкатулку и вынула письмо.
— Пожалуйста, прочти мне это послание. Важно не только содержание. Прочти мне его слово в слово.
Зрение старика уже тоже начинало сдавать, но вблизи он еще видел буквы достаточно ясно. Его перевод с греческого отличался скрупулезной точностью. Дойдя до слов: «Я болел лихорадкой, а в городе уже распустили ложные слухи о моей смерти», он поднял глаза и встретил ее пристальный взгляд.
— Скажи-ка мне, — попросила она, — его ли там стоит печать?
Управляющий прищурился; с расстояния в несколько дюймов ему удалось разглядеть все детали.
— Да, тут оттиснут его портрет. И довольно хороший. Но, по-моему, это не царская печать. Разве он пользовался такой прежде?
Не говоря ни слова, Сисигамбис передала ему шкатулку. Евнух глянул на другие послания, стараниями писцов испещренные изящной персидской вязью; его взгляд выхватил одну из заключительных фраз: «Я буду возносить мольбы о твоем благополучии, дорогая матушка, и надеюсь, что их услышат как ваши, так и мои боги, ибо в сущности, по-моему, они у нас одни и те же». В шкатулке лежало пять или шесть писем. На всех стояла царская печать: Зевс-Олимпиец с орлом и на троне. Сисигамбис прочла ответ по лицу старика.
— Учитывая, что в этом письме мне не передали даже привета…
Сисигамбис взяла шкатулку и поставила возле себя. Ее лицо съежилось, словно от холода, но взгляд выражал одну лишь опечаленную задумчивость. Двадцать лет эта сильная, стойкая женщина прожила под жестким господством царя Оха. Всякий раз, как тому начинали мерещиться заговоры, жизнь ее мужа, тоже принадлежавшего к царскому роду, повисала на волоске. Муж дошел до того, что не доверял уже никому и только с ней делился своими тревогами. Интриги, предательство, месть были тогда повсеместно в ходу. В конце концов Ох все-таки убил его. Но Сисигамбис надеялась, что ее супруг возродится к жизни в их царственном сыне, однако после бегства Дария от Иссы она едва не умерла от стыда. А потом в ее брошенном на произвол судьбы шатре появился молодой победитель, пожелавший вдруг навестить семью бежавшего врага. Ради детей она с достойным видом выступила вперед и, как хорошо выдрессированное животное, преклонила колени перед рослым красивым воином. Тот отпрянул, и всеобщее смятение показало ей, что она совершила непростительную ошибку. Кляня себя, Сисигамбис принялась повторять поклон перед менее высоким воином, на которого поначалу не обратила внимания. Взяв ее за руки, молодой царь помог ей выпрямиться, и тогда она впервые увидела его глаза.
— Не утруждай себя, матушка…
Ее познаний в греческом хватило на то, чтобы понять эти слова.
Управляющий, многое и многих переживший и почти в той же степени поседевший, старался не смотреть на нее. Именно так прятал глаза кое-кто из придворных, когда ее мужа в последний раз призвали к царю.
— Они убили его, — произнесла она с неколебимой уверенностью.
— Посланец упомянул болотную лихорадку. Летом ею часто болеют в Вавилоне.
— Нет, его отравили. А не было ли каких вестей от моих внучек?
Евнух помотал головой. В тягостном молчании они осознавали безмерность несчастья, свалившегося на их старые головы. Старость — тот же безжалостный недуг, от которого нет спасения.
Сисигамбис сказала:
— Он женился на Статире из политических соображений. А я позаботилась, чтобы она понесла от него.
— Может быть, с ними пока все в порядке. Возможно, они отсиживаются в каком-нибудь безопасном укрытии.
Сисигамбис отрицательно покачала головой и вдруг решительно выпрямилась в своем кресле, словно хозяйка, внезапно подумавшая: «Что же я тут рассиживаюсь, ведь у меня столько дел?»
— Мой друг, жизнь закончилась. Мне пора удалиться в свои покои. Прощай. Благодарю тебя за добрую службу.
Она прочла новый страх на его лице. Ей не нужно было слов, чтобы понять, с чем он связан: они оба отлично помнили вре* мена царя Оха.
— Никто не пострадает. Никого не будут винить. В моем возрасте смерть — обычная вещь. Когда пойдешь, будь любезен, пошли ко мне моих служанок.
Пришедшие служанки увидели, что их госпожа спокойно и сосредоточенно раскладывает свои драгоценности. Поговорив с этими добрыми женщинами об их семьях и дав несколько мудрых советов, Сисигамбис обняла каждую и раздала им все украшения, кроме поблескивающего на ее шее ожерелья царя Пора.
Попрощавшись со всеми, она легла на кровать в своей опочивальне и закрыла глаза. Получив первый отказ, слуги больше не предлагали ей еду или напитки. Из добрых побуждений они перестали тревожить царицу: ради страданий не стоит длить жизнь. Первые дни по ее повелению к ней вообще никто не заходил. На четвертый день, заметив, что госпожа начала забываться, служанки принялись по очереди дежурить возле ее постели. Если Сисигамбис и сознавала, что они рядом, то, по крайней мере, никого не гнала. На пятый день к вечеру было замечено, что она умерла, но в последние сутки ее дыхание сделалось таким тихим, что никто не мог точно сказать, когда оно прервалось.
* * *
День и ночь скача во весь опор на лошадях и верблюдах и пересаживаясь в труднопроходимых местах на горных мулов, царские курьеры передавали друг другу короткое ошеломляющее сообщение; они везли известие о смерти царя из Вавилона в Сузы, из Суз — в Сарды, а оттуда в Смирну по царской Дороге, которую Александр протянул до самого Средиземного моря. В Смирне весь мореходный сезон постоянно дежурил почтовый корабль, готовый в любой момент отплыть с царскими письмами в Македонию.
Последний курьер этой длинной эстафеты прибыл в Пеллу и вручил послание Пердикки Антипатру.
Высокий старик прочел его в молчании. Отправляясь воевать, Филипп неизменно поручал ему править Македонией, а с тех пор как Александр ушел в Азию, он правил еще и всей Грецией. Власть, предоставляемая таким положением, подпитывала не только его преданность, но и самолюбие — он выглядел гораздо более царственно, чем Александр, никогда не стремившийся к внешней пышности. Среди близких друзей Антипатра ходила шутка, что его белая регентская мантия утеплена царской пурпурной подкладкой.
Сейчас, читая послание из Вавилона и понимая, что в итоге ему не придется передавать регентство Кратеру (Пердикка ясно об этом сказал), он в первую очередь подумал, что вся Южная Греция взбунтуется, как только туда дойдет эта весть. Главная же новость, хотя и потрясающая, в общем-то, не явилась для него неожиданностью. Он знал Александра с младенчества, невозможно было даже представить, что тот доживет до старости. И однажды Антипатр почти впрямую сказал ему об этом, когда молодой царь, нимало не заботясь о производстве потомства, начал готовиться к походу в Азию.
Возможно, Антипатр ошибся, намекнув, что не прочь отдать за него свою дочь. Лучшей невесты для Александра, конечно, было и не сыскать, но намек тот воспринял как расставленные силки, способные ограничить его свободу. «Ты полагаешь, у меня есть время на устройство свадебных празднеств и ожидание рождения наследника?» — спросил тогда Александр. «Его сыну могло бы уже быть десять лет, — подумал Антипатр, — и он продолжил бы наш славный род. А что мы имеем сейчас? Двух еще не рожденных полукровок и целый выводок самоуверенных молодых львов, которых не удержишь на поводке!» Не без опасений он вспомнил и о происках своего старшего сына.
Ему вспомнились также слухи, ходившие в начале правления юного государя. Поговаривали, что тот сказал одному из друзей: «Я не хочу, чтобы моего наследника растили здесь без меня».
В этом-то и была вся загвоздка. Во всем виновата эта проклятая баба! С самого детства Олимпиада упорно старалась разжечь в Александре ненависть к собственному отцу, которого он обожал бы, если бы его оставили в покое. Сначала она внушила мальчишке, что супружеская жизнь подобна отравленному хитону Геракла, а после сама же и возмущалась, когда созревший для любви Александр предпочел (раз уж женская ревность губит даже героев!) делить ложе с юношей, а не с девушкой. Ему еще повезло, что этим юношей оказался Гефестион, учитывая, что убийство его отца стало следствием подобного, но неудачного выбора. Однако царица, так и не смирившись с тем, что сама породила, получила в итоге врага вместо союзника и навсегда перестала занимать первое место в его сердце. Несомненно, ее порадовало известие о смерти Гефестиона. Что ж, очередное известие заставит ее позабыть о какой-либо радости вообще.
Он одернул себя. Не подобает смеяться над горем матери, потерявшей единственного сына. Придется отправить к ней гонца. Антипатр сел за письменный стол и, взяв восковую табличку, принялся подыскивать почтительные и сердечные слова для своей давней противницы, способные стать достойным панегириком царственному покойнику. Вскоре он с головой ушел в размышления о человеке, которого не видел более десяти лет и который оставался в его памяти все еще юношей, хотя, разумеется, юношей выдающимся и весьма развитым… не по годам. Интересно, что с ним сделала жизнь? Может быть, ему еще выпадет случай получить о том хоть какое-то представление. Кстати, вполне уместно будет сообщить ей в конце письма, что сохраненное как живое благодаря искусству египетских бальзамировщиков тело царя дожидается лишь изготовления достойной погребальной лодки, чтобы начать свое путешествие к древнему месту упокоения царей в Эгии.
Царице Олимпиаде желает благополучия и процветания…
* * *
Лето в Эпире достигло своего апогея. Зеленели и золотились на горных террасах верхние долины, напоенные глубокими зимними снегами, упоминаемыми еще Гомером. Телята подросли и отлично окрепли, овцы отдали людям свою прекрасную мягкую шерсть, ветви деревьев гнулись под тяжестью сочных плодов. Как ни странно, но молоссиане под женской рукой процветали.
Овдовевшая царица их Клеопатра, дочь Филиппа и сестра Александра, стояла у окна на верхнем этаже царского дома с письмом Антипатра в руке и задумчиво смотрела на высившиеся вдали горы. Мир явно изменился, но невозможно было пока понять, каковы эти изменения. Смерть Александра не огорчила ее, а повергла в благоговейный страх. Тот же страх, а не любовь он внушал ей и при жизни. Появившись на этот свет раньше, брат украл у нее материнскую нежность и отцовское внимание. Их ссоры прекратились давно, еще в детстве, а после они и вовсе отошли друг от друга. День ее свадьбы, совпавший с днем убийства отца, сделал ее своеобразной заложницей горя, а его он сделал царем. Вскоре брат превратился для нее в некий феномен природы, становившийся по мере удаления все более великолепным и все более чуждым.
Но сейчас, держа в руке весть о его смерти, она вдруг припомнила, что нескончаемые родительские раздоры побудили брата с сестрой в далеком детстве заключить тайный оборонительный союз; вспомнила она также, что разница между ними составляла всего-то два года, однако только ему всегда доставало смелости противостоять тем ужасным истерикам, которые так любила закатывать мать.
Она отложила письмо Антипатра. Рядом на столе лежало второе послание для Олимпиады. Но теперь брат уже ничем не сможет помочь своей сестренке, и ей придется выдержать очередную бурю самой.
Клеопатра знала, где сейчас можно найти мать: на нижнем этаже в приемном тронном зале, куда ее впервые допустили во время похорон супруга Клеопатры и где с тех пор она успела прочно обосноваться. Умерший царь Молоссии приходился ей братом, и она все больше и больше прибирала к рукам дела его царства, заодно разбираясь со множеством врагов, порожденных борьбой с Антипатром, которая сделала невыносимой ее ясизнь в Македонии.
Решительно вздернув унаследованный от Филиппа квадратный подбородок, Клеопатра взяла второе послание и спустилась вниз.
Дверь в зал была приоткрыта. Олимпиада диктовала что-то своему секретарю. Помедлив на пороге, Клеопатра услышала, что мать сочиняет очередную пространную кляузу на Антипатра, решив, очевидно, разом свести счеты за все обиды, накопившиеся за десять лет. «Спроси его сам об этом, когда он предстанет перед тобой, и пусть тебя не обманут его оправдания…» Мать раздраженно мерила шагами комнату, пока писец спешно выводил эту фразу.
Клеопатра собиралась держаться в данном случае, как подобает любящей дочери. Напустить для начала на себя скорбный вид, произнести несколько традиционных подготовительных фраз. Но тут в коридоре появился ее одиннадцатилетний сын, вернувшийся после игры в мяч с компанией сверстников. Рослый и крепкий мальчик с золотисто-каштановой шевелюрой очень походил на отца. Заметив, что родительница нерешительно медлит у двери, он взглянул на нее с тревожной участливостью, словно разделяя ее внутренний трепет перед горнилом, в каком пылало жгучее и негасимое властолюбие.
Она мягко велела сыну уйти, желая в глубине души крепко обнять его и воскликнуть: «Скоро ты будешь царем!» Через дверь Клеопатра видела, как усердно трудится над восковыми табличками секретарь. Она всегда чувствовала себя неловко с этим давним приспешником матери, привезенным ею из Македонии. Невозможно было понять, что он знает, что — нет.
Олимпиада пару лет назад справила пятидесятилетие. Прямая, как копье, и по-прежнему стройная, теперь она пользовалась косметикой, как женщина, рассчитывающая уже только на взгляды, а не на более тесную связь. Седеющие волосы она споласкивала настоями ромашки и хны, ресницы и брови подводила сурьмой. Ее набеленное лицо оживляли только слегка подкрашенные губы. Выйдя из возраста соблазнительной Афродиты, она обратилась к образу державной Геры, а потому, мельком заметив в дверях фигуру дочери, резко развернулась к ней, явно собираясь отругать ее за неуместный визит. Вид у нее был величественный и даже на редкость грозный.
Внезапно Клеопатру захлестнула волна гнева. С каменным лицом она вошла в зал и, игнорируя присутствие секретаря, резко проговорила:
— Тебе нет больше необходимости писать ему. Он умер.
Ощущение полнейшей и напряженной тишины усиливали посторонние звуки; стук выпавшего из руки писца стилоса, воркование горлицы в ближайших кустах, тихий отдаленный детский гомон. Напудренное лицо Олимпиады сделалось белее мела. Ее прямой взгляд не видел никого и ничего. Овладев собой, Клеопатра не стала выплескивать на мать стихийную ярость, но молчание вскоре сделалось нестерпимым. Тихо и покаянно она сказала:
— Это случилось не на войне. Он умер от малярии.
Олимпиада жестом отпустила писца. Тот мгновенно исчез, даже не прибрав на столе. Она повернулась к Клеопатре.
— Об этом сказано в послании, что ты принесла? Дай его мне.
Клеопатра вложила свиток ей в руку. Олимпиада спокойно держала его, не вскрывая, ожидая, когда дочь уйдет. Клеопатра вышла и плотно закрыла за собой тяжелую дверь. Из зала не донеслось ни звука. Смерть Александра в каком-то смысле принадлежала только матери, как и его жизнь. Дочери в их мир доступа не было. Эта история тоже тянулась издалека.
* * *
Не чувствуя боли, Олимпиада вцепилась руками в острую каменную отделку оконного обрамления. Проходивший мимо слуга, увидев ее застывшее лицо, подумал было сначала, что перед ним театральная трагедийная маска. Осознав свою ошибку, он поспешно удалился, опасаясь, как бы этот горящий незрячий взгляд не испепелил его. Царица напряженно смотрела вдаль, на восточную часть небосклона.
Ей все это было предсказано еще до его рождения. Вероятно, она спала, когда он шевельнулся в ней (даже в утробе он уже неугомонно жаждал жизни) и проник в ее сон. У нее за спиной вдруг начали расти трепещущие огненные крылья, они расправлялись и вздымались, пока не стали достаточно велики, чтобы поднять ее в небеса. Их жар обволакивал и возбуждал ее, порождая в ней исступленный восторг, этот жар рапространялся на моря и горы, готовый объять всю землю. Словно богиня, она обозревала весь мир, паря на языках пламени. Потом они вдруг исчезли. И вот, лишенная этих крыльев, с вершины какой-то безжизненной голой скалы она опять увидела землю, но почерневшую и дымящуюся, покрытую раскаленными углями, словно бы кем-то рассыпанными по выжженным склонам холмов. Резко проснувшись посреди ночи, Олимпиада нервно ощупала другую половину кровати. Но ее беременность тянулась уже восемь месяцев, и муж давно успел найти с кем делить ложе. Она пролежала до утра, размышляя, что может сулить такой сон.
Позднее, когда этот огненный пыл выплеснулся в окружающее, Олимпиада по-новому истолковала то давнее сновидение, решив, что все живое должно умереть в каком-то далеком будущем, до которого она, вероятно, не доживет. Но реальность оказалась более жестокой, и сейчас ей оставалось лишь, вдавливая ладони в острые холодные камни, твердить и твердить, что все это невозможно. Она никогда не умела мириться с непоправимым.
Далеко внизу, там, где сливались воды Ахерона и Коцита, стоял Некромантеон, Оракул Мертвых. Много лет назад Олимпиада спускалась туда, когда ради нее Александр бросил вызов отцу, и они вдвоем коротали здесь временное изгнание. Ей вспомнился темный и извилистый лабиринт, священный напиток и кровавое возлияние, наделяющее тени даром речи. Дух отца появился во мраке, и его слабый голос возвестил, что неприятности дочери скоро закончатся и жизнь ее озарится счастливым светом.
Дорога туда займет целый день, придется выехать на рассвете. Она принесет жертвы, выпьет зелье, войдет во мрак, и сын явится к ней. Он явится даже из Вавилона, с другого конца земли… Ее мысли внезапно замедлили бег. Что будет, если первыми явятся те, кто умер гораздо ближе? Филипп с кинжалом Павсания в груди? Или его молодая жена, которой Олимпиада предложила на выбор яд или удавку? Все-таки от Вавилона ему придется пролететь две тысячи миль. Далековато для духа, даже для духа Александра.
Нет, надо дождаться, когда привезут его тело, тогда, конечно, и дух будет где-то неподалеку. Чтобы вернее узнать его, лучше глянуть на тело. За прошедшие годы сын мог сильно измениться. Когда он ушел в поход, то был еще мальчиком, для нее по крайней мере, а теперь она, вероятно, увидит тело мужчины, приближающегося к среднему возрасту. Захочет ли его тень подчиниться ей? Он любил ее, но редко подчинялся.
Этот человек и особенно дух, живший в нем, были выше ее понимания. Олимпиада стояла опустошенная. Потом, непрошено, к ней вновь вернулся живой и теплый образ ребенка. Запах его волос, упрямая головенка, уткнувшаяся в ее шею, легкие царапины на светлой коже, грязные ободранные коленки, его смех, его гнев, его распахнутые внимательные глаза. Взгляд Олимпиады заволокло пеленой, из подведенных краской глаз черными ручейками пролились слезы; она закусила руку, чтобы заглушить рыдания.
По вечерам, когда зажигались светильники, она часто рассказывала сыну старые семейные предания об Ахиллесе, передаваемые из уст в уста, и неустанно напоминала, что именно по ее линии унаследовал он кровь этого так восхищающего всех героя. Начав учиться, Александр со страстью погрузился в мир «Илиады», где Ахиллес представал уже в несколько ином свете. Читая «Одиссею», он дошел до того места, где царь Итаки посещает страну мертвых. («Это же было на моей родине, в Эпире! Он говорил с ними там!») Медленно и торжественно, глядя мимо нее на закатное зарево, сын прочел ей отрывок из песни Гомера:
«О Ахиллес, сын Пелея, меж всеми данаями первый… Ты же
Между людьми и минувших времен и грядущих был счастьем
Первый: живого тебя мы как бога бессмертного чтили;
Здесь же, над мертвыми царствуя, столь же велик ты,
как в жизни
Некогда был; не ропщи же на смерть, Ахиллес богоравный».
Так говорил я, и так он ответствовал, тяжко вздыхая:
«О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать,
Боль или обида никогда не доводили Александра до слез, поэтому он их и не стыдился. Она видела, как блестят его устремленные на пылающие облака глаза, и поняла чистоту его горя. Он сострадал Ахиллесу, лишенному надежд на будущее и ставшему всего лишь тенью своего великолепного прошлого, правителем теней умерших людей. Но это, однако, не заставило маленького упрямца поверить в свою собственную смертность.
Так, словно ему важно было убедить именно ее в своем открытии, сын заявил:
— Одиссею все-таки удалось утешить мертвого Ахиллеса. Смотри, тут сказано вот что:
Так говорил я: душа Ахиллесова с гордой осанкой
Шагом широким, по ровному Асфодилонскому лугу
Тихо пошла, веселяся великою славою сына
[242].
— Верно, — согласилась тогда она. — Именно после той войны его сын пришел в Эпир и дал жизнь нашему роду.
Он поразмышлял над ее словами и спросил:
— А развеселится Ахиллес, если я тоже прославлюсь?
Она склонилась и взъерошила его волосы.
— Конечно, развеселится. И с гордой осанкой пройдет по Асфодилонскому лугу, хвалебный пеан распевая.
Олимпиада выпустила из рук каменные завитки. Чувствуя себя слабой и разбитой, она удалилась в свои личные покои и, рухнув на кровать, горько заплакала. Слезы лишили ее последних сил, и наконец она забылась сном. На рассвете царица вернулась к размышлениям о своем великом горе, но ее силы почти восстановились. Искупавшись и одевшись, Олимпиада подкрасила лицо и подошла к письменному столу.
Πердикке, регенту азиатских царств, желает процветания…
* * *
В нескольких милях к югу от Пеллы Кинна и Эвридика, забравшись повыше, практиковались в метании копий.
Кинна, как и Клеопатра, была одной из дочерей Филиппа, но от менее важного политического брака. Ее мать Аудата являлась дочерью иллирийского вождя и славной воительницей, согласно обычаям ее племени. После войны против грозного старого Барделиса Филипп закрепил мирный договор свадьбой, как уже не раз поступал ранее в подобных случаях. Он выбрал в жены высокородную Аудату не из-за ее личных достоинств. Миловидность есть миловидность, однако ему уже бывало подчас трудно вспомнить, с существом какого пола он проводил ночь любви. Затаскивая на ложе всех, кто оказывался под рукой, он все же уделил Аудате достаточно внимания и, когда та родила ему дочь, подарил им дом, дал достойное обеспечение, но редко вспоминал о них, пока Кинна не достигла брачного возраста. Тогда Филипп отдал ее замуж за сына своего старшего брата Аминту, того самого, которого по малолетству обделили македонцы, выбрав Филиппа царем.
Аминта, подчинившись воле собрания, тихо и скромно жил себе под дланью Филиппа и, лишь когда заговорщики замыслили убийство царя, поддался искушению, согласившись взойти на трон, если их планы осуществятся. Вследствие чего после раскрытия заговора Александр привлек Аминту к суду за измену и собрание приговорило того к смерти.
Кинна, его жена, перебралась из столицы в поместье. С тех пор она жила там и растила дочь, передавая ей навыки боевых искусств, которым ее, в свою очередь, обучила мать-иллирийка. Таковы были природные наклонности Кинны; военное ремесло она считала достойным занятием и интуитивно чувствовала, что когда-нибудь оно может пригодиться и дочери. Она так и не смирилась со смертью Аминты. Ее дочь Эвридика, как, впрочем, и сама Кинна, была единственным ребенком в семье и, сколько себя помнила, не сомневалась, что ей следовало родиться мальчишкой.
Их родовое гнездо, в сущности, являлось прочным старым Укреплением, построенным еще во времена гражданских войн; позднее к нему притулился крытый соломой дом. Именно на плоском покрытии этого укрепления упражнялись сейчас Мать и дочь, бросая копья в посаженное на кол соломенное чУчело.
Незнакомый человек принял бы их за сестер. Кинне недавно исполнилось тридцать, а Эвридике — пятнадцать. Они обе пошли в иллирийскую родню — высокие, цветущие и деятельные особы атлетического сложения. В своих коротких мужских хитонах для тренировок и с заплетенными сзади каштановыми волосами они напоминали девушек Спарты, чужой, почти неизвестной им страны.
Заноза впилась в ладонь Эвридики. Она вытащила ее и окликнула по-фракийски шустрого раба, таскавшего им обратно копья и обязанного следить за тем, чтобы их древки были гладко отполированы. Пока он устранял изъян, мать и дочь присели отдохнуть на каменный выступ, устроенный для лучников, потянулись и глубоко вдохнули свежий горный воздух.
— Я не люблю равнин, — сказала Эвридика. — Больше всего мне нравится именно здесь.
Мать не слышала ее; она вглядывалась в горную дорогу, петлявшую между деревенских лачуг.
— К нам кто-то скачет. Похоже, курьер. Надо пойти вниз переодеться.
Спустившись на первый этаж по деревянным ступеням, они облачились в нарядные платья. Курьеры к ним редко заглядывали, но обычно вываливали вороха новостей.
Серьезный трагический вид гонца едва не побудил Кинну спросить о сути его поручения еще до вскрытия запечатанного послания. Но, сочтя неприличной подобную спешку, она отослала его на кухню и лишь потом проглядела письмо Антипатра.
— Кто умер? — спросила Эвридика. — Арридей? — взволнованно выдохнула она.
Мать подняла глаза.
— Нет. Умер Александр.
— Александр! — В восклицании девушки прозвучало больше разочарования, чем огорчения. Потом ее лицо прояснилось. — Раз этот царь умер, то мне уже не нужно будет выходить замуж за Арридея?
— Помолчи! — прикрикнула мать. — Дай мне дочитать.
По мере чтения настроение Кинны менялось, что явственно отражалось на ее лице: сначала оно было вызывающим, потом стало решительным и наконец — торжествующим. Девушка с тревогой повторила:
— Мама, мне не нужно выходить за него? Не нужно? Или все-таки нужно?
Кинна окинула ее сияющим взглядом.
— Да! Теперь действительно нужно. Македонцы выбрали его царем.
— Царем? Не может быть! Неужели он выздоровел и к нему вернулся разум?
— Он — брат Александра, и этим все сказано. Его выбрали, чтобы он грел трон для будущего сына Александра от варварской бактрийки. Если, конечно, у нее родится сын.
— И Антипатр пишет, что я должна стать его женой?
— Нет, не пишет. Он как раз утверждает, что Александр раздумал женить вас. Возможно, он лжет, а возможно, нет. Впрочем, это не имеет значения.
Густые брови Эвридики сошлись на переносице.
— Но если это правда, то, наверное, Арридей совсем плох.
— Нет, Александр сообщил бы нам об этом. Антипатр» скорее всего, хитрит, и я его понимаю. Нам нужно дождаться гонца от Пердикки из Вавилона.
— О, мама, может, не надо? Я не хочу выходить замуж за идиота.
— Не называй его идиотом, теперь он царь Филипп, его назвали именем твоего деда. Неужели не понимаешь? Он послан тебе богами. Они намерены исправить зло, причиненное твоему отцу.
Эвридика отвернулась. Ей едва исполнилось два года, когда казнили Аминту, она совсем его не помнила. Но всю жизнь он был для нее чем-то вроде своеобразного гнета.
— Эвридика! — Властный окрик вывел девушку из задумчивости. Кинна отлично справлялась как с ролью матери, так и с ролью отца. — Послушай меня. Ты рождена для великих дел, а не для того, чтобы стареть и чахнуть в захолустье. Когда Александр предложил тебе руку своего брата, чтобы помирить наши два рода, я поняла, что это судьба. Ты — законнорожденная македонка и царевна с обеих сторон. Твой отец должен был стать государем. Если бы ты была мужчиной, то собрание выбрало бы на царство тебя.
Девушка слушала ее с нарастающим спокойствием. Мрачность сошла с ее лица, а в глазах зажглись искры неподдельного интереса.
— Я готова умереть ради того, — сказала Кинна, — чтобы ты стала настоящей царицей.
* * *
Певкест, сатрап Персиды, удалился из приемного зала в свои покои. Там поддерживался традиционный для его сатрапии стиль, которому подчинялось все, кроме македонских доспехов на оружейной стойке. Он сменил официальный наряд на легкие шаровары и украшенные вышивкой туфли. Высокий блондин с тонкими изысканными чертами лица, он обычно подвивал волосы на персидский манер, но после смерти Александра, согласно персидскому обычаю, обрился наголо, а не постригся, как делали македонцы. Обритая голова больше мерзла, для тепла он надевал парадный головной убор — похожую на шлем кирбасу. В ней он, вовсе не желая того, выглядел весьма внушительно: вызванный им человек вошел с опущенными глазами и собрался приветствовать его, распростершись у ног.
Поначалу не узнав вошедшего, Певкест пораженно пригляделся к нему, потом взмахнул рукой.
— Оставь эти церемонии, Багоас. Вставай и присаживайся.
Разглядев подобие улыбки в легкой гримасе Певкеста, Багоас покорно поднялся. Его обведенные темными кругами глаза казались огромными, а крайняя худоба подчеркивала красивое строение черепа. Он тоже обрился наголо и, должно быть, не давал волосам отрастать, постоянно их подбривая. Лицо его напоминало маску из слоновой кости. Да, надо будет как-то о нем позаботиться, подумал Певкест.
— Ты знаешь, — сказал он, — что Александр умер, не оставив завещания?
Молодой евнух ответил утвердительным жестом. Помолчав немного, гость произнес:
— Да. Он долго не сдавался.
— Верно. А когда понял, что общечеловеская судьба обрушилась на него, то уже потерял дар речи. Иначе он не забыл бы наградить преданных слуг… Ты знаешь, я молился за него в храме Осараписа. В ту долгую ночь мне удалось поразмыслить о многом.
— Да, — вяло сказал Багоас. — Да, то была долгая ночь.
— Помнится, он говорил мне когда-то, что имение твоего отца находилось неподалеку от Суз, но его несправедливо обвинили в измене и убили, когда ты был еще совсем ребенком. — Не было необходимости добавлять, что мальчика оскопили, продали в рабство и в итоге подарили Дарию для плотских утех. — Если бы Александр мог говорить, то, я думаю, он приказал бы, чтобы тебе вернули отцовские земли. Поэтому я собираюсь выкупить их у нынешнего владельца и передать в твое распоряжение.
— Щедрость моего господина подобна струям дождя, Увлажняющим пересохшее речное русло. — По-прежнему пребывая в рассеянности, Багоас тем не менее сопроводил слова изящным движением руки: сказывалась выучка человека, с тринадцатилетнего возраста состоявшего при царских особах. — Но мои родители давно умерли, так же как и сестры, по крайней мере, если судьба проявила к ним милосердие. Братьев у меня не было и сыновей никогда не будет. Нащ дом сгорел дотла, так ради кого же я буду отстраивать его заново?
Он принес свою красоту в жертву покойному, понял Певкест, и теперь ему хочется умереть.
— И все-таки, возможно, тень твоего отца возрадуется, увидев, что сын вновь утвердил его славное имя на земле предков.
В запавших глазах Багоаса отразилось раздумье, однако создавалось впечатление, что мысли его витали в потустороннем мире.
— Если бы мой господин в своем великодушии мог дать мне немного времени…
«Это все отговорки, — подумал Певкест. — Ладно, я сделал, что мог».
В тот же вечер к нему в гости пришел Птолемей. Заглянул проститься перед отъездом в египетскую сатрапию. Понимая, что, возможно, им уже больше не суждено будет встретиться, друзья углубились в воспоминания. Речь вскользь зашла и о Багоасе.
— Он умел развеселить Александра, — сказал Птолемей. — Я часто слышал, как они смеялись.
— Сейчас в это верится с трудом, — заметил Певкест, вспоминая об утреннем визитере.
Разговор свернул на другие темы, но Птолемей, не желая тратить время попусту, вскоре сослался на множество завтрашних дел и ушел.
Дом Багоаса стоял в райском саду близ дворца. Он был небольшим, но изысканным: Александр частенько проводил там вечера. Птолемей, глянув на факелы, установленные на консолях у входа, припомнил, как некогда этот уголок парка оглашал доносившийся из-за дверей искренний смех, а порой и звонкий альт евнуха, поющего под звуки арфы и флейты.
Сейчас особняк выглядел мрачным и необитаемым, но, присмотревшись, Птолемей увидел за окном тусклый желтоватый огонек одинокой лампы. Залаяла какая-то собачонка, затем за решеткой появилась физиономия сонного слуги, который сказал, что его господин удалился от дел на покой. Отбросив чопорность, Птолемей обошел дом и заглянул в окно.
— Багоас, — тихо позвал он, — это Птолемей. Завтра я навсегда уезжаю. Ты не хочешь со мной проститься?
Почти тут же в тишине послышался слабый голос:
— Пригласите войти господина Птолемея. Зажгите светильники. Принесите вина.
Птолемей вошел, вежливо отклоняя все церемонии, но Багоас так же вежливо на них настоял. Свет принесенной свечи озарил его поблескивающй, как слоновая кость, череп. Он так и не снял строгое платье, надетое перед визитом к Певкесту; сейчас оно выглядело помятым, словно в нем спали, хотя верхний жилет был застегнут наглухо. На столе лежала табличка, испещренная многочисленными значками вокруг перечеркнутой попытки нарисовать чье-то лицо. Багоас отодвинул набросок в сторону, освободив место для подноса с вином, и с безупречной вежливостью поблагодарил Птолемея за ту честь, что он оказал ему своим посещением. Когда рабы зажгли лампы, он взглянул на гостя безучастным, слепым взором запавших глаз, точно сова, узревшая дневной свет. Вид у него был слегка безумный, и Птолемей невольно подумал: «Неужели я опоздал?»
Он сказал:
— Ты искренне скорбишь по нему. Я тоже. Он относился ко мне как к брату.
Лицо Багоаса осталось безучастным, но тихие слезы заструились из его глаз, словно кровь из открытых ран. Он рассеянно смахнул их, как люди откидывают прядь волос, имеющую обыкновение сползать на глаза, и повернулся к столу, чтобы налить вина.
— Нашими слезами мы воздаем ему должное, — сказал Птолемей. — Он тоже оплакивал бы нас. — Он помедлил. — Но если умершие продолжают любить то, что любили при жизни, то, возможно, они ждут от своих друзей не одних только слез.
В лице Багоаса, походившем на костяную маску, что-то дрогнуло. На Птолемея устремился взгляд, полный безысходного горя, однако смягченный давней привычкой к мягкой иронии.
— Неужели? — обронил он.
— Мы оба знаем, что он ценил больше всего. При жизни — почет и любовь, а после жизни — бессмертную славу.
— Верно, — сказал Багоас. — Но что же из этого следует?
К его пробудившемуся вниманию добавился некий усталый скепсис. Наверное, такое отношение вполне оправданно, подумал Птолемей. Три года он провел при опутанном интригами дворе Дария… да и после того их, в сущности, было не меньше.
— Что ты видел с тех пор, как он умер? Давно ли ты уединился здесь?
Распахнув большие темные разочарованные глаза, Багоас произнес с каким-то жутковатым спокойствием:
— Со дня слонов.
На мгновение Птолемей лишился дара речи: дух смерти стал пугающе ощутимым. Подавив ужас, он сказал:
— Да, такая казнь могла разгневать его. Неарх говорил о том, и я тоже. Но мы оказались в меньшинстве.
Багоас сказал, отвечая на невысказанный вопрос:
— Кольцо перешло бы к Кратеру, если бы он находился здесь.
Птолемей нерешительно медлил, обдумывая, как лучше повести разговор. Евнух выглядел как человек, только что пробудившийся от сна и погруженный в свои мысли. Вдруг взгляд его обострился.
— Послали кого-нибудь в Сузы?
— Плохие новости разлетаются быстро.
— Новости? — с нескрываемым раздражением бросил Багоас. — Там нуждаются не в новостях, а в защите.
Вдруг Птолемей вспомнил о том, что говорила сосватанная ему Александром персидская жена Артакама, принадлежавшая к царскому роду. Птолемей решил оставить ее здесь в семье, пока (как он сказал ей) не обустроится в Египте получше. После привольной непринужденности греческих гетер он неловко чувствовал себя в отрешенной от мира сугубо женской атмосфере гарема. Кроме того, ему хотелось обзавестись наследником чисто македонских кровей, что диктовало необходимость посвататься к одной из многочисленных дочерей Антипатра. Но в гареме шептались о странном… Багоас сверлил его взглядом.
— До меня дошел слух… наверняка вздорный, что в здешнем гареме заболела и умерла какая-то знатная персиянка, недавно прибывшая из Суз. Однако…
Дыхание Багоаса со свистом прорвалось сквозь сжатые зубы.
— Если Статира прибыла в Вавилон, — произнес он глухим замогильным голосом, — то, несомненно, она должна была заболеть и умереть. После первой же встречи с этой бактрийкой я мог умереть от такой же болезни, если бы не угостил присланными ею сладостями собаку.
Птолемей подавил рвотный позыв. В последний раз он был в Сузах с Александром, его даже пригласили на семейный обед к Сисигамбис.Жалости и отвращению противостояло соображение, что если на деле так все и было, а Пердикка потворствовал преступнице, то правомочен и его собственный замысел, с каким он пришел к Багоасу.
— С тех пор как боги призвали Александра, — сказал он, — его славное дело оказалось в руках не слишком верных последователей. Людям, не обладающим величием его души, следовало бы, по крайней мере, достойно чтить его память.
Багоас взирал на него с некой спокойной и утомленной задумчивостью. Он словно стоял перед дверью, собираясь уйти, и решал, сделать это сейчас или выждать какое-то время.
— Зачем ты здесь? — спросил он.
Живой покойник отбросил почтительность, отметил Птолемей. Отлично, это сбережет время.
— Я объясню тебе. Меня беспокоит судьба тела Александра.
Багоас не шевельнулся, но все в нем вдруг изменилось, апатия вмиг перешла в собранность и настороженность.
— Они дали клятву! — воскликнул он. — Клялись водами Стикса.
— Клятву? Ах да, но это уже другая история. Я имею в виду не его пребывание в Вавилоне.
Птолемей оживился. Его собеседник явно отступил от порога смерти. Узрев новый смысл в своем дальнейшем существовании, Багоас весь обратился в слух.
— Они затеяли изготовление золотой погребальной лодки; безусловно, это великолепно и достойно его. Но мастерам придется над ней основательно потрудиться. А потом Пердикка отправит его в Македонию.
— В Македонию?!
Выражение ошеломленного ужаса на лице евнуха сильно удивило Птолемея, воспринимавшего как должное традиции своей родины. Но с другой стороны, испуг перса должен был сыграть ему на руку.
— Таковы наши обычаи. Разве Александр не рассказывал тебе, как хоронил своего отца?
— Рассказывал. Но ведь они здесь пытались…
— Их соблазнил Мелеагр. Мерзавец и дурак, и этот мерзавец уже мертв. Но в Македонии могут возникнуть совершенно иные обстоятельства. Регенту почти восемьдесят, он может отправиться в мир иной ко времени прибытия погребального каравана. А его наследником станет хорошо известный тебе Кассандр.
Тонкая рука Багоаса выразительно сжалась в кулак.
— И зачем только Александр сохранил ему жизнь? Отдал бы его мне. Это было бы самым мудрым решением.
Не сомневаюсь, подумал Птолемей, глянув на суровое лицо собеседника.
— В общем, в Македонии царя должен будет похоронить его законный наследник; так подтверждается право наследования. А Кассандр только этого и ждет. Так же как и Пердикка; он планирует провести погребение сам. От имени сына Роксаны, а если не будет сына, то, возможно, и от себя лично. Есть также Олимпиада, не менее сильный противник. Там начнется жестокая война. И рано или поздно тому, кто завладеет его погребальной лодкой, несомненно, понадобится ее золото.
Пристально посмотрев на Багоаса, Птолемей отвел глаза. Ему вспомнилось, каким был этот изящный женственный юноша, безусловно преданный, в том нет сомнений, и все же склонный к легкомыслию фаворит, скрашивающий минуты досуга — и только. Кто мог предположить, что он способен на такое глубокое личное горе, на такую духовную строгость? Какие картины сейчас проходят перед этими настороженными глазами?
— И поэтому, — без всякого выражения спросил Багоас, — ты пришел ко мне?
— Да. Я смогу предотвратить эту недостойную войну, если у меня будет верный помощник.
Багоас, словно размышляя вслух, произнес:
— Надо же, они станут драться за право похоронить его. — На лицо его легла новая тень. — А что ты намерен предпринять?
— Если мне сообщат о том, когда погребальный кортеж тронется в путь, то я прибуду из Египта, чтобы перехватить караван по дороге. Затем, если мне удастся договориться с эскортом — а я полагаю, что мне это удастся, — я доставлю Александра в основанный им город и захороню там.
Птолемей ждал. Он понимал, что его план сейчас подвергается серьезной оценке. По крайней мере, у Багоаса нет к нему никаких застарелых претензий. Совершенно не обрадованный, когда Александр раскрыл свое сердце и постель какому-то персу, Птолемей всегда относился к нему сдержанно, но без высокомерия. Позднее, когда стало ясно, что этот бескорыстный и малоразговорчивый евнух деликатен и прекрасно воспитан, их случайные встречи стали непринужденными и дружелюбными. Однако, ублажая двух царей, вряд ли можно сберечь в себе наивное и безыскусное восприятие жизни. Но искушенность как раз и должна помочь Багоасу оценить по достоинству сделанное ему предложение.
— Ты размышляешь, что я при этом выгадаю, но что же тут непонятного? Замысел, разумеется, фантастический и сулит очень многое. Возможно, даже, осуществив его, я стану царем. Но, клянусь богами, я никогда не буду претендовать ни на Македонию, ни на Азию. Никто из ныне живущих людей не сможет с достонством носить мантию Александра, а те, что польстятся на нее, погубят себя. Египет я смогу отстоять, смогу править там так, как он мыслил. Тебя не было в том походе, но он очень гордился Александрией.
— Да, — сказал Багоас, — я знаю.
— Мы вместе с ним ходили в пустыню к оракулу Амона в Сиве, — припомнил Птолемей. — Ему хотелось узнать свою судьбу.
Он продолжил рассказ, ибо почти мгновенно приземленная настороженность стерлась с чуткого лица перса, что моментально превратило его в искренне заинтересованного ребенка. Как часто, подумал Птолемей, должно быть, он так же зачарованно внимал словам Александра! Воспоминания этого юноши наверняка подобны драгоценному свитку. Но возможно, сторонние сведения тоже возымеют какую-то ценность в его глазах и будут занесены в этот свиток хотя бы в качестве дополнений.
Подумав так, Птолемей постарался подробно описать тот переход через пустыню — со спасительным дождиком, указующими путь воронами, охраняющими сон путников змеями и таинственным пением песков, а также тот благодатный оазис — с его прудами, пальмовой рощей, удивительными пустынниками в белых одеждах и каменным акрополем, вмещающим святилище и знаменитый внутренний двор, где им были явлены вышние предначертания.
— Мы подошли к красной скале, к источнику. В его водах нам надлежало омыть принесенные с собой золотые и серебряные дары, дабы очистить их для бога, а заодно очиститься и самим. Солнце палило, вокруг царил зной, а вода, помню, была ледяная. Александра, разумеется, очищать не собирались. Он же был фараоном. От него самого исходила божественная энергия. Поэтому его провели прямо в святилище. Снаружи все казалось ослепительно белым, и сам воздух дрожал и струился. Зато вход выглядел как черный зев, возникало впечатление, что внутренний мрак в нем кромешен. Но Александр шагнул во тьму так, словно его глаза видели дальние, скрытые от нас горы.
Багоас кивнул, как бы говоря: «Понятно, продолжай».
— Вскоре мы услышали пение, заиграли арфы, кимвалы, систры, и появился оракул. В самом святилище он бы не поместился. А Александр стоял там, наблюдая из темноты. Так вот, после всего этого откуда-то выступили жрецы, сорок пар жрецов, и подняли вместилище божественных откровений — двадцать встали впереди, двадцать сзади. Они поддерживали оракул, как носилки, положив жерди на плечи. Сам оракул напоминал своеобразную лодку. Я не совсем понял, почему богу понадобилось вещать с лодки на суше. Но у Амона есть один очень древний храм в Фивах. Александр, помню, говорил, что, должно быть, бог изначально продвигается по реке.
— Расскажи мне об этой лодке, — смиренно попросил Багоас, совсем как дитя, жаждущее услышать перед сном сказку.
— Она была длинной и легкой на вид, похожей на те плоскодонки, с которых охотятся на нильских птиц. Но все борта ее были обшиты золотом и увешаны золотыми и серебряными дарами просителей… самыми разнообразными драгоценными вещицами; все они блестели, покачиваясь и позвякивая. А в центре находилось воплощение самого бога. С виду оно казалось чем-то сферическим. Жрец, выслушав вопрос Александра, вышел во двор. Он начертал что-то на золотой полоске и сложил ее. Потом возложил эту полоску на плиту перед богом и начал молиться на каком-то особенном языке. И вдруг лодка ожила. Она стояла на том же самом месте, но чувствовалось, что в ней зарождается жизнь.
— Ты видел это? — внезапно спросил Багоас. — Александр говорил, что он находился слишком далеко.
— Да, видел. Носильщики стояли в ожидании с отрешенными лицами, я бы сравнил их с плавающими в заводи обломками, которые вот-вот подхватит и увлечет за собой речное течение. Лодка еще даже не шелохнулась, но не имелось сомнения, что незримый поток прибывает. Полоска с вопросом лежала, поблескивая на солнце. Кимвалы вели приглушенную тягучую мелодию, а флейты играли все громче. Потом носильщики стали слегка покачиваться, словно щепки на волнах. Ты знаешь, как этот бог отвечает? Положительный ответ тянет лодку вперед, а отрицательный — назад. Все носильщики, как один, двинулись вперед, будто водоросли или стайка осыпавшейся в пруд листвы, а когда остановились перед плитой с лежащим на ней вопросом, нос лодки опустился. Тут зазвучали трубы, и мы восторженно замахали руками, выкрикивая приветствия. Мы дождались выхода Александра из святилища. Жара была просто жуткая. Так нам, по крайней мере, казалось, ведь мы еще не побывали в Гедросии.
Понимающая призрачная улыбка появилась на лице слушателя. Им обоим — и македонцу, и персу — посчастливилось выжить в том ужасном походе.
— Наконец он вышел вместе с главным жрецом. По-моему > ему удалось узнать больше, чем хотелось. Александр вышел из тьмы с каким-то отрешенным благостным видом. Помню» он прищурился, вдруг оказавшись на ярком солнце, и затенил глаза ладонью. Он видел всех нас, но с улыбкой смотрел куда-то вдаль.
С улыбкой он смотрел на Гефестиона, однако об этом не стоило упоминать.
— Египтяне полюбили его. Александр спас их от персов, и они слагали в его честь гимны. Он с уважением отнесся ко всем их святилищам, оскверненным Охом. Мне хочется, чтобы ты увидел, как он спланировал Александрию. Не знаю, много ли там успели выстроить, нынешний правитель Египта вызывает у меня сомнения. Однако я знаю, что именно задумал Александр, и, когда доберусь туда, позабочусь, чтобы все было сделано по его замыслу. Остается только одна деталь, не отмеченная на его чертежах: мавзолей, где мы будем воздавать ему почести. Но мне известно некое место на берегу моря. Он подолгу любил там стоять.
Взгляд Багоаса застыл на огоньке светильника, отраженном в его серебряном кубке. Вдруг он поднял глаза.
— И что же ты придумал?
Помолчав, Птолемей перевел дух. Он успел вовремя.
— Поживи пока здесь в Вавилоне. Ты отказался от предложения Певкеста, никто больше не станет беспокоиться о тебе. Если у тебя отберут этот дом для какого-то ставленника Пердикки, постарайся смириться. Оставайся здесь до тех пор, пока не узнаешь, когда должна отправиться погребальная лодка. Затем приезжай ко мне. В Александрии у тебя будет дом поблизости от его мавзолея. Ты понимаешь, что в Македонии такое было бы попросту невозможно.
«В Македонии, — подумал он, — уличные мальчишки стали бы швырять в тебя камни. Но ты и сам можешь о том догадаться, нет нужды приводить этот резон».
— Скрепим договор? — спросил Птолемей.
Он протянул евнуху широкую правую руку; ладонь ее загрубела от постоянных упражнений с копьями и мечами, мозоли тут же рельефно оттенил свет. Бледная, тонкая и холодная как лед рука Багоаса ответила на редкость крепким и надежным пожатием. Птолемей было удивился, но вспомнил, что перед ним искусный танцор, чьи мускулы натренированы ничуть не хуже, чем у бойца.
* * *
С последней мучительной схваткой Роксана почувствовала, что голова младенца выходит на свет. С помощью опытной повивальной бабки следом за головой довольно быстро, принося приятное облегчение, выскользнуло влажное тельце. В изнеможении роженица вытянулась на кровати, истекая потом и тяжело дыша, потом услышала тонкий и пронзительный крик.
Срывающимся от истощения голосом она крикнула:
— Кто родился? Мальчик?
Ответом был хор шумных восхвалений и добрых пожеланий. Роксана издала долгий торжествующий стон. Акушерка показала ей младенца с еще неотсеченной синеватой пуповиной. Из-за угловой ширмы появился бдительно следивший за родами Пердикка, он убедился в мужском поле ребенка и, пробормотав что-то традиционное, покинул комнату.
Пуповину перевязали, потом приняли послед, мать и ребенка омыли теплой розовой водой, вытерли и умастили благовонным мирром. Александра Четвертого, великого царя Македонии и Азии, передали матери.
Он охотно прижался к ее теплому телу, но Роксана подняла его на вытянутых руках, чтобы получше разглядеть. Младенец был темноволосым.
Коснувшись этой легкой поросли пальцем, акушерка сказала, что первые волосики скоро выпадут. Красный и сморщенный новорожденный возмущенно корчился в материнских ладонях, но Роксана успела разглядеть, что к его красноте примешан оливковый, а не розоватый оттенок. Он будет смуглым, в свою бактрийскую родню. Что же тут удивительного? Оказавшись вместо надежного и уютного материнского чрева в холодной и чуждой среде, младенец выразил свое недовольство громким воплем.
Давая отдых рукам, Роксана опустила ребенка на грудь. Вопли прекратились, юная рабыня с опахалом вновь подошла к кровати роженицы. Суматоха закончилась, и женщины тихо и молча навели порядок в покоях царской жены. Во дворике за дверьми поблескивал под теплым зимним солнцем карповый пруд. Отраженный свет падал на туалетный столик, где лежала, отливая серебром и золотом, укладка для притираний, некогда принадлежавшая царице Статире, рядом стояла ее же шкатулка с драгоценностями. От всего этого веяло незамутненной праздничной триумфальностью.
Заботливая нянька притащила старинную царскую колыбельку, отделанную золотом и пожелтевшей от времени слоновой костью. Роксана натянула на уснувшего малыша покрывало. В глаза ей бросилось почти незаметное на затейливой вышивке кровавое пятнышко.
Ее живот свела судорога тошнотворного страха. Когда она переселилась в эти покои, здесь сменили всю обстановку и драпировки. Не тронули только великолепную царскую кровать.
Ей вспомнилось, как корчилась Статира и как молила, протягивая к ней руки. «Помоги мне! Помоги!» — повторяла она, слепо комкая свои одежды. Роксана бесцеремонно приподняла подол персиянки, чтобы взглянуть на побежденного врага, соперника ее сына, — тот все-таки успел выбраться в мир, которым ему не суждено было править. Пискнуло это отродье тогда хоть разок или нет? Она не помнила, зато ее собственный младенец, потревоженный невольно сжавшимися пальцами матери, издал скорбный вопль.
— Вы позволите взять его, госпожа? — робко спросила приблизившаяся к кровати нянька. — Может быть, госпоже хочется отдохнуть?
— Позже.
Она ослабила хватку, довольный ребенок успокоенно прижался к ней. Он царь, а она мать царя, теперь никто этого не изменит.
— Где Аместрин? Эта проклятая Аместрин подсунула мне в постель грязное покрывало! Оно отвратительно воняет, подайте мне чистое. Если я еще раз увижу его, то по вашим спинам пройдутся палки.
Засуетившиеся в панике служанки нашли другое покрывало, а парадное, над которым долго и кропотливо трудились вышивальщицы еще во времена Артаксеркса, мгновенно исчезло. Малыш уснул. Задремала и Роксана в приятной послеродовой расслабленности. Во сне ей привиделся маленький недоносок с лицом Александра, лежащий в луже крови, его серые глаза гневно уставились на нее. Она проснулась от ужаса. Но все было спокойно. Тот младенец давно мертв, он не причинит ей вреда. Теперь миром будет владеть ее сын. Она вновь погрузилась в сон.
Войско царя Филиппа раскинуло лагерь на персидских холмах. Почерневший от золы и перепачканный кровью Пердикка с трудом спускался по каменистой тропе, усеянной трупами и брошенным оружием. Над ним в облаках едкого дыма кружили зоркие грифы, чуть поодаль камнем падали вниз коршуны. Число крылатых падалыциков неуклонно увеличивалось по мере продолжения пиршества. Македонцы, не претендуя на их долю в добыче, копались в обуглившихся руинах Исаврии.
322 год до н. э
Когда-то Александр пощадил сдавшихся без сопротивления исаврийцев, приказав им разрушить крепость, из которой они совершали грабительские набеги на всех соседей, и впредь жить своим трудом. За время его долгого отсутствия они убили поставленного над ними сатрапа и взялись за старое. На сей раз нечистая совесть, а может, также и то, что Пердикка внушал им меньше доверия, чем Александр, подвигли их ожесточенно защищать свое гнездо в скалах вплоть до ужаснувшего многих конца. После падения внешних укреплений они заперли все добро вместе с женами и детьми в домах, подожгли дерево стен и солому крыш, а затем под адский рев пламени устремились на македонские копья.
Почти полтора десятилетия военных походов сделали Пердикку практически нечувствительным в этом плане, через пару дней детали всей этой истории можно будет и посмаковать, но на сегодня ему с лихвой хватило отвратительного зловония сгоревшей плоти, все еще висевшего в воздухе, и он с радостью воспринял известие, что внизу в лагере его ждет курьер. Брат Пердикки и первый помощник Алкета, тоже закаленный воин, вполне мог сам присмотреть за поисками полурасплавленного золота и серебра. Шлем от жара стал обжигающе-горячим. Пердикка стащил его с головы и вытер вспотевший лоб.
Из царской кожаной и разрисованной гербами палатки вышел Филипп.
— Ну как, мы победили? — спросил он.
Филипп настоял на том, чтобы его нарядили в панцирь и наголенники. Во времена Александра он, следуя за войском, носил обычное платье, но сейчас, став царем, понял, что вправе сменить его на доспехи. Собственно говоря, Арридей всегда рвался в бой, однако он привык к послушанию еще при брате и никогда не пытался проявить своеволие, зная, что драться ему все равно не дадут.
— Ты весь в крови, — заметил царь. — Тебе нужно показаться лекарю.
— Мне нужно искупаться.
Бывая наедине с правителем, Пердикка обходился без церемоний. Удовлетворив любопытство Филиппа, он удалился в свою палатку, умылся, переоделся и велел привести гонца.
Вид того вызвал у него удивление. Доставленное послание было немногословным, формальным, зато сам курьер явно мог рассказать многое. Крепкий седой ветеран, потерявший большой палец в битве при Гавгамелах, уже разменял седьмой десяток и вдобавок принадлежал к довольно знатному роду.
Таких, скорее, избирают на роль посланников, а не обычных гонцов.
Изображая довольство, сдобренное вполне обоснованными опасениями, Пердикка перечитал письмо, чтобы выиграть время для размышлений.
Дочь Филиппа и сестра Александра Клеопатра приветствует Пердикку, регента азиатских царств…
После традиционных пожеланий благополучия и процветания в послании коротко упоминалось об их родстве, о его выдающемся служении Александру и высказывалось предположение о необходимости встречи для обсуждения дел, «касающихся благоденствия всей Македонии». Правда, какие именно это дела, оставалось не ясным. Однако последняя фраза явно давала понять, что царица уже выехала из Додоны.
Посланник с показной небрежностью вертел в руках кубок с вином. Пердикка прочистил горло.
— Могу ли я надеяться, что меня милостиво воспримут, если я осмелюсь просить руки досточтимой госпожи Клеопатры?
Посланник подтвердил его догадку благосклонной улыбкой.
— Пока у нас есть царь, избранный лишь македонцами, пребывавшими в Азии. Однако оставшиеся на родине воины, вероятно, предпочтут сделать свой выбор.
Несмотря на завершившийся победой день, Пердикка испытывал полнейшее опустошение. Возвращаясь в лагерь, он мечтал принять ванну, отдохнуть, выпить вина и вовсе не был готов вот так ни с того ни с сего давать кому-то скоропалительное согласие воссесть на трон Македонии. После многозначительной паузы он произнес с определенной долей сухости:
— Такое счастье превозошло бы самые смелые мои ожидания. Я боюсь только, что она все еще оплакивает Леонната.
Ветеран, успевший до прихода Пердикки, благодаря радушию лагерного распорядителя, изрядно нагрузиться вином, поудобнее устроился в кресле. Вино было разбавлено лишь каплей воды, но сейчас Пердикке как раз и требовалось хватить чарку покрепче. Как солдату с солдатом. Дипломатия может и подождать.
— Могу сказать тебе, командир, чего стоил тот выбор царицы. В детстве ей оказали услугу, и она это запомнила. Как-то раз, будучи еще мальчишкой, Леоннат залез на дерево, чтобы достать ее кошку. Ты же знаешь, каковы женщины.
— А в итоге, я полагаю, они не сошлись характерами?
— Не сошлись. Вернувшись из Азии, он отправился на юг усмирять греков, но успел только собрать свои войска в Македонии и дойти до восставшей крепости. Ему не повезло, он погиб, так и не узнав, что мы победили.
— Жаль. Я слышал, он дрался, пока мог стоять. Отважный был воин, но едва ли в царях это главное.
— Однако она уже вполне смирилась с утратой, — напрямик заявил старый вояка. — Так говорят все, кто знает ее. Жизнь с ним кажется ей теперь наваждением. Госпожа Клеопатра быстро оправилась от горя. К счастью у нее есть возможность подумать о более достойном женихе. — Он вновь осушил свой кубок. Пердикка не преминул тут же наполнить его. — О командир, если бы она видела тебя при Гавгамелах!
Восклицание незамедлительно увлекло обоих в пучину воспоминаний о славной битве. Когда они вновь вернулись к насущным проблемам, Пердикка сказал:
— Мне думается, главное в том, что ей хочется избавиться от опеки Олимпиады.
Раскрасневшийся и разомлевший от вина посланец с грохотом поставил кубок и облокотился на стол.
— Командир! Между нами, ее матушка — подлинная горгона. Она буквально сжирала бедняжку по кусочкам, пока не прибрала к рукам все дела в ее доме, не говоря уже обо всем царстве. Не то чтобы Клеопатре недостает силы духа, но ей трудно, ох как трудно одной, без мужской поддержки противиться своей родительнице. Та окружила себя преданными молоссианами, которые почитают ее как царицу. В сущности, она и является царицей. И выглядит царственно, и внушительности ей не занимать. К тому же она — мать Александра.
— О да! Значит, Клеопатра намерена оставить ей Додону, а сама хочет выдвинуть претензию на Македонию?
— Она же дочь Филиппа.
Пердикка, быстро сообразивший, что к чему, заметил:
— Покойный правитель Додоны оставил ей сына.
У него не было никакого желания опекать пасынка.
— Он получит наследство на родине, его бабка присмотрит за этим. Поговорим о Македонии. Конечно, не было случая, чтобы женщина правила македонцами. Однако дочь Филиппа, вышедшая замуж за человека царского рода, который уже фактически правит как царь… — Вдруг, вспомнив о чем-то, ветеран схватился за висевший на поясе кошель и вытащил из него плоский предмет, завернутый в богато расшитую шерстяную тряпицу. — Госпожа просила передать тебе это, понимая, что прошло много лет с тех пор, как ты видел ее.
То был портрет, искусно нанесенный восковыми красками на деревянную плашку. Даже с учетом некоторой шаблонности, сглаживающей индивидуальные черты и изъяны, было очевидно, что на портрете изображена дочь Филиппа. Густые волосы, широкие, взлетающие вверх брови и решительный твердый подбородок одержали победу над пресной попыткой художника угодить всем и вся. Пердикка вспомнил, что Клеопатра на пару лет моложе Александра — значит, сейчас ей чуть больше тридцати.
— Царственная и весьма привлекательная особа, — произнес он вслух. — Она сама по себе уже подарок, даже без царства.
Выигрывая время, он продолжал нахваливать Клеопатру. Опасность была велика. Александр давно приучил его к взвешенным и обдуманным действиям.
— Ладно, — сказал он наконец. — Все это надлежит серьезно обдумать. Да и госпоже Клеопатре нужно, очевидно, нечто большее, чем простое согласие. Однако для таких размышлений требуется свежая голова. Сегодня за ужином я сообщу всем, что ты привез письмо от Олимпиады. Она вечно кому-нибудь пишет.
— Я привез и его. Она одобряет эту идею, как ты можешь догадаться.
Пердикка, отложив новый более увесистый свиток в сторону, крикнул управляющего и велел ему подыскать жилье для гостя, а сам, оставшись в одиночестве, облокотился на грубый походный стол и устало обхватил руками голову.
В таком виде Пердикку и застал его брат Алкета, он вошел в палатку следом за слугами, притащившими два полных мешка с грязными погромыхивающими трофеями: хорошо подкопченными кубками, перстнями, кольцами, ожерельями и самыми разнообразными серебряными и золотыми монетами. Исаврийцы успели награбить немало. Рабы удалились, а Алкета принялся показывать Пердикке добычу, но его раздосадовала мрачная отрешенность брата.
— Не слишком ли ты расчувствовался? — спросил он. — Ты же был с Александром в Индии, вспомни, как маллы едва не убили его. Тебе давно пора стать более толстокожим.
Пердикка раздраженно скривился.
— После поговорим. Ты не видел, вернулся ли уже в лагерь Эвмен? Разыщи его, мне необходимо увидеться с ним безотлагательно, а вымыться и поесть он успеет попозже.
Через весьма короткое время появился чисто умытый, причесанный и переодетый Эвмен. Когда его позвали к Пердикке, он в своей палатке уже вспоминал вслух события дня. Все им сказанное тут же записывал Иероним, юный ученик, составлявший под его руководством хронику происходящего. Стройный и подтянутый Эвмен отлично окреп и загорел в этом военном походе; вскоре ему предстояло путешествие на север, в Каппадокию, где он должен был приступить к управлению новой сатрапией. Спокойно поприветствовав регента, грек с сосредоточенным видом устроился напротив него и внимательно прочел послание, подброшенное ему Пердиккой. В конце он позволил себе слегка приподнять брови.
Оторвав взгляд от свитка, Эвмен спросил:
— Так что же она предлагает? Регентство или трон?
Пердикка прекрасно понял вопрос. Он подразумевал: «Так что же ты собираешься предпринять?»
— Регентство. Иначе разве стал бы я тебя тревожить?
— Леоннат потревожил, — напомнил Эвмен. — А потом решил, что я слишком много знаю.
Фактически ему едва удалось тогда спасти свою жизнь, во всеуслышание объявив о своей преданности отпрыску Александра.
— Леоннат вел себя как дурак. Македонцы могли бы перерезать ему глотку, да и меня прикончили бы, попытайся я усомниться в правах Александрова сына. Когда он вырастет, они, возможно, посадят его на трон, ну и ладно. Но в нем течет и бактрийская кровь. Со временем мальчик может утратить их благорасположение. Поживем — увидим. А до тех пор, лет по меньшей мере пятнадцать, я буду царем во всем, кроме титула. По-моему, такому предложению можно только порадоваться.
— Тебе — да, — решительно сказал Эвмен. — Но вот Антипатр вряд ли будет в восторге.
Пердикка откинулся на спинку скрепленного кожаными ремнями походного стула и вытянул длинные ноги.
— В том-то и загвоздка. Что ты мне посоветуешь? Как мне быть с Никеей?
— Жаль, — уронил грек. — Жаль, что Клеопатра не прислала это письмо на пару месяцев раньше. — Он погрузился в Размышления, словно математик, ищущий подступы к очередной теореме. — Никея уже тебе не нужна. Но обручальные Дары ей послать стоит. Все-таки она дочь регента. И она уже еДет к тебе.
— Зря я поторопился посвататься к ней. Вокруг царил такой хаос, и мне подумалось, что неплохо бы обзавестись союзниками, пока есть возможность. Александр никогда не связал бы вот так себе руки. Он женился только в своих интересах.
Редкая для Пердикки самокритичность. Должно быть, он не на шутку обеспокоен, подумал Эвмен. Он рассеянно повертел в руках свиток. Пердикка заметил, что даже ногти секретаря были безукоризненно вычищены.
— Да, Антипатр забрасывает своих дочерей, точно рыболов — приманку.
— Допустим, я польстился на эту приманку. И что дальше? — задумчиво спросил Пердикка.
— Ты только заглатываешь наживку. Но крючок еще не вспарывает тебе чрево. Тут надо подумать.
Эвмен поджал ровные тонкие губы. Даже в походе он ежедневно и тщательно брился. Вскоре, подняв глаза, он решительно заявил:
— Бери Клеопатру. Не медли. Вышли эскорт навстречу Никее, сообщи ей, что ты занемог от раны, будь вежлив, но убеди ее пока вернуться домой. Действуй немедленно, чтобы Антипатр не успел развернуться. Если он пронюхает, что рыбка может сорваться с крючка, то ты даже не поймешь, где и когда тебя возьмут за жабры.
Пердикка закусил губу. Сказанное звучало достаточно убедительно, вероятно, именно так поступил бы и Александр. Если не брать в расчет то, что Александр никогда не оказался бы в таком положении. Кроме того, сомнения переборчивого жениха подпитывала одна тревожная мысль: Эвмен ненавидел Антипатра. Македонский регент третировал грека с тех самых пор, как тот стал младшим придворным секретарем, позже обласканным Филиппом за живой и гибкий ум. Старый македонец имел стойкое предубеждение против изнеженных» ненадежных и хитроумных южан. Преданность Эвмена и его отличные военные хроники не имели для него никакого значения. Даже когда в Азии Александр назначил грека своим главным секретарем, х\нтипатр зачастую старался действовать в обход его канцелярии. Раздосадованный этим Александр в конце концов даже повелел, чтобы тот направлял ему письма только через Эвмена.
И сейчас, когда Пердикке посоветовали сжечь все корабли, он заколебался. Старые распри, сказал он себе, порой мешают даже мудрецам мыслить здраво.
— Да, — ответил он самым сердечным тоном. — Ты прав. Я напишу Клеопатре и завтра же отправлю посланника.
— Лучше бы передать все на словах. Письма иногда попадают не в те руки.
— Но я, скорее всего, сообщу ей, что уже женат на Никее. Это будет правдой, когда послание дойдет до нее. Я попрошу Клеопатру подождать, пока смогу пристойным образом получить свободу. А до тех пор предоставлю в ее распоряжение дворец в Сардах и предложу считать нас тайно обрученными. Это даст мне простор для маневра.
Пристальный взгляд Эвмена подтолкнул его к дополнительным оправданиям.
— Если бы меня заботил один Антипатр… Но мне не нравятся слухи, доходящие из Египта. Птолемей набирает там большое войско. Достаточно одного ловкого хода, чтобы превратить его сатрапию в царство, и тогда вся империя распадется на части. Нам надо малость повременить и выяснить, что он творит.
* * *
Мягкие лучи зимнего солнца, проникая через поддерживаемое колоннами окно, озаряли небольшой приемный зал. Птолемей обосновался в красивом особняке, практически маленьком дворце, выстроенном для себя предыдущим правителем, которого он казнил за притеснение местного населения. С пологого холма открывался прекрасный вид на чистые прямые улицы города с величественными общественными зданиями, камень их светлых, еще не побитых временем стен украшали живописные фрески и позолота. Новые пристани и набережные обрамляли гавань; подъемники и подмости обегали пару почти законченных храмов. Их строительство начал еще Александр. Храм же, пока далекий от завершения, но обещавший стать самым великолепным, поднимался прямо на берегу, там он будет радовать своим видом прибывающие в порт корабли.
Утро у Птолемея выдалось многотрудное, но приятное. Он побеседовал с главным архитектором города Дейнократом о скульптурном оформлении храмов, выслушал отчеты нескольких инженеров, заменявших загрязненные нечистотами каналы крытыми водостоками, и принял номархов, которым дал право вновь самим собирать налоги. Это примерно вдвое уменьшало налоговый гнет, каким обременил местных жителей его алчный предшественник. Он, видно, решил, выполняя поставленные перед ним Александром задачи, заодно и обогатиться, обложив египтян повышенными поборами и, соответственно, вынуждая их гнуть спину от зари до зари. Те неустанно трудились на вымогателя под угрозой уничтожения священных крокодилов, чьи места обитания в случае неуплат было обещано пустить под строительство новых зданий. (В итоге именно так негодяй бы и поступил, выжав из несчастных туземцев все соки.) Более того, весь этот произвол творился от имени Александра, что Птолемея окончательно разъярило, и он прошелся по всем приспешникам получившего по заслугам правителя подобно всепоглощающему огню. Эти действия снискали ему всенародную славу и помогли вернуть любовь египтян.
Сейчас он занимался вербовкой. Отдавая ему во владение эту сатрапию, Пердикка разрешил держать в Александрии только две тысячи воинов. Прибыв на место, Птолемей обнаружил почти взбунтовавшийся гарнизон, солдатам которого постоянно задерживали жалованье, отчего их служебное рвение резко упало. Теперь все изменилось. Александр не считал Птолемея самым блестящим из военачальников, но всегда высоко ценил его надежность, сообразительность, смелость и преданность, а главное, то, что он неусыпно заботился о своих подчиненных. До того как Александр принял на себя командование войсками, Птолемей сражался под началом Филиппа; эти два великих стратега многому научили его. Верный слову, достаточно вежливый и привлекательный, он мало уделял внимания личному благоустройству. Не прошло и года, как тысячи деятельных ветеранов, обосновавшихся в Александрии, стали проситься обратно на службу, а сейчас уже новые добровольцы спешили к нему как по суше, так и по морю.
Птолемей не позволил такому взрыву популярности воспламенить его собственные амбиции. Он знал свой шесток и вовсе не собирался обременять себя лишней ношей. Получив желанные владения, он был вполне доволен и намеревался лишь удерживать их под рукой. Ну разумеется, при удачном раскладе горизонты можно бы и расширить, но лишь слегка. Его солдаты были прилично обучены и получали хорошее жалованье и кормежку.
— Ба, неужели передо мной сам Менандр! — сердечно воскликнул он, увидев последнего посетителя. — Мне казалось, ты где-то в Сирии. Что ж, здешним горам не сравниться с неприступными согдийскими скалами, где не гнездятся и птицы. На них ты запросто влезешь даже и без веревки.
Бывалый воин, признанный герой знаменитого штурма, радостно усмехнулся, почувствовав, что после года мучительной неопределенности прибыл наконец туда, куда нужно. Встреча порадовала обоих. После его ухода Птолемей решил передохнуть и прошел в свой кабинет. Его управляющий, на Редкость благоразумный и услужливый египтянин, осторожно поскребся в дверь.
' Мой повелитель, — пробормотал он, — из Вавилона прибыл тот евнух, о котором вы говорили.
Сломанный нос на грубом лице Птолемея, подобно носу гончего пса, тут же почуял запах добычи.
— Я приму его здесь, — сказал он.
В ожидании гостя он удобно расположился в уютной, прохладной комнате, обставленной в греческом стиле. И вскоре Багоас предстал перед ним.
Птолемей увидел перед собой знатного перса в неброском дорожном облачении, разумно экипированного портупеей, оттянутые прорези которой свидетельствовали об оставленном у охраны оружии. Евнух успел отрастить умеренной длины шевелюру, прикрытую сейчас круглой войлочной шапочкой. В общем, Багоас выглядел красивым, стройным, не лишенным изысканности мужчиной неопределенного возраста. Птолемей прикинул, что ему уже должно быть где-то около двадцати четырех лет.
С подобающим изяществом Багоас преклонил колени перед сатрапом, а его пригласили присесть и предложили вина, припасенного для дневного отдохновения. Памятуя о хороших манерах, Птолемей степенно поинтересовался, не сказались ли тяготы путешествия на здоровье гостя; он отлично знал, что с персами лучше не поспешать. Очевидно, о той полуночной встрече в райском уголке вавилонского сада тоже не стоило упоминать без особой необходимости: следовало соблюдать этикет. Как ему помнилось, в былые времена Багоаса отличали безграничные запасы тактичности.
Только после целой цепи учтивых фраз Птолемей счел возможным спросить:
— Какие новости?
Багоас отставил в сторону кубок с вином.
— Его отправят из Вавилона примерно через два месяца, считая с этого дня.
— А эскорт? Кто им будет командовать?
— Ариба. Никто не оспаривал его права.
Птолемей вздохнул с явным облегчением. Перед походом на юг он предложил поручить этому командиру разработку проекта и присмотра за сооружением погребальной лодки, упомянув о его обстоятельности и опытности. Арибе уже приходилось по велению Александра курировать возведение нескольких важных гробниц, и он умело руководил мастерами. Не было упомянуто лишь о том, что в Индии Ариба служил под началом Птолемея и что между ними сложились самые теплые отношения.
— Для вящей уверенности я выждал какое-то время, — продолжил Багоас. — Он нужен им. На случай, если в дороге придется ремонтировать лодку.
— Ты добрался сюда на редкость быстро.
— Я поднялся вверх по Евфрату, а потом на верблюдах доехал до Тира. Дальше морем. В общей сложности — сорок дней.
— После короткого отдыха сможешь ли ты до выступления сопровождающего царя каравана опять попасть в Вавилон?
— Да, с божьего соизволения. Но так и так погребальный кортеж в лучшем случае доползет до побережья месяца через три. Перед ним, выравнивая дорогу, двинется отряд рабочих. Ариба прикинул, что они смогут преодолевать по десять миль в день на равнинных участках и по пять на холмистых при условии, что тянуть лодку будут шестьдесят четыре мула. Для переправы из Азии во Фракию намечено навести мост через Геллеспонт.
Исчез тихий безумец, скрывавшийся от мирских горестей в маленьком домике вавилонского парка. Багоас говорил с сосредоточенностью человека, нашедшего свое призвание. После долгого путешествия перс выглядел стройным, окрепшим.
— Значит, ты видел ладью? — спросил Птолемей. — Она Достойна Александра?
Багоас задумался.
Да, они сделали все, что в человеческих силах.
Ариба, должно быть, превзошел самого себя, подумал Птолемей.
— Давай-ка подойдем к окну. Там есть кое-что интересное для тебя.
Он показал на храм, строящийся на берегу. Голубоватое море под выцветшими небесами плескалось за незаконченной колоннадой.
— Там будет его гробница.
Сдержанное лицо евнуха на мгновение озарилось светом лучистых широко распахнувшихся глаз. Именно так, по воспоминаниям Птолемея о былой жизни, этот мальчик смотрел на Александра, когда тот проезжал мимо него на триумфальных парадах.
— Ее должны закончить через год. Жрецы Амона хотели отвезти его в Сиву. Они заявили, что он сам того пожелал бы. Но подумав, я решил, что его место все-таки здесь.
— Если бы они, господин, увидели его ладью, то и думать забыли бы о таком путешествии. Как только колеса войдут в песок, даже слонам не удастся выволочь ее оттуда… А здесь строится прекрасный храм. Рабочие, видимо, трудятся на совесть, раз успели сделать так много.
Птолемей понимал, что Багоасу понадобится время, чтобы смириться с очередным его сообщением. Он мягко сказал:
— Строительство начали еще до меня. Александр лично одобрил проект. Этот храм он приказал возвести для Гефестиона. Он не представлял, как скоро такое сооружение может понадобиться ему самому.
Взгляд Багоаса вновь обратился к вечности. Он молча взирал на залитые солнцем стволы колонн. Потом спокойно произнес:
— Гефестион подарил бы ему свою гробницу. Он все, что угодно, готов был сложить к его ногам.
За исключением собственной гордости, подумал Птолемей. Именно поэтому Александр понимал его как самого себя. Но такое взаимопонимание сложилось между ними лишь потому, что их дружба зародилась в далеком детстве. Вслух он сказал:
— Многие с радостью пригласили бы погостить Александра даже посмертно. Итак, теперь давай обсудим наши дальнейшие действия.
Подойдя к столу, он откинул серебряную застежку шкатулки с документами.
— Я дам тебе в дорогу вот это письмо и достаточно денег. Свиток не стоит передавать в Вавилоне. Никого не удивит, что ты захочешь сопроводить караван. Не предпринимай ничего, пока процессия не достигнет Фапсака — оттуда уже недалеко до границы сирийской сатрапии, — и только тогда вручи Арибе письмо. Оно ни к чему его не обязывает. Там просто сказано, что я встречу кортеж в Иссе, чтобы почтить память Александра. Едва ли он подумает, что я прибуду один.
— Я позабочусь, — хладнокровно сказал Багоас, — чтобы он был готов к этому.
— Если заедешь в Вавилон, не потеряй там письмо. Иначе Пердикка может послать целый полк для охраны.
Не тратя понапрасну слов, Багоас просто улыбнулся.
— Ты отлично справился с поручением. А теперь скажи мне, не слышал ли ты что-нибудь о ребенке Роксаны? Мальчик, должно быть, уже ходит. Похож ли он на Александра?
Багоас лишь слегка приподнял тонкую бровь.
— Сам я не видел его. Но в гареме говорили, что он пошел в мать.
— Понятно. А как поживает царь Филипп?
— Отменно здоров. Ему позволили ездить на слоне, и теперь он совершенно счастлив.
Понятно. Хорошо, Багоас, ты заслужил мою благодарность и можешь отныне рассчитывать на меня. Когда отдохнешь, прогуляйся, посмотри город, он станет твоим домом.
Воспитанный при дворе Дария, Багоас отвесил изящный низкий поклон, каким знатные люди обыкновенно выказывают свое почтение вышестоящим персонам, и удалился.
Позднее, когда солнце уже клонилось к западным пескам, он направился к строящемуся храму. Набережная стала излюбленным местом прогулок александрийцев, которые зачастую останавливались перед стройкой, чтобы посмотреть, как она продвигается. Там проводили свободное время македонские и египетские солдаты, купцы и ремесленники из Греции и Лидии, из Тира и Иудеи, а также с Кипра. Женщины прохаживались с детьми, гетеры подмигивали торговцам. Толпа, однако, собиралась не слишком большая; город был еще молодой.
Работавшие на строительстве каменотесы уже складывали инструменты в плетеные тростниковые сумки, их сменили ночные стражники, обремененные корзинками с едой и теплыми плащами. Со стоявших у причалов кораблей люди сходили на берег; корабельная охрана на бортах зажгла факелы, и их смолистый запах поплыл над водой. Сгустились сумерки, на храмовой колоннаде загорелся светильник, установленный на высокой стойке. Подобную стойку помещали возле шатра Александра в Азии, чтобы показать, где находится командующий.
Гуляющие начали разбредаться по домам; вскоре на набережной никого не осталось, кроме стражников и одного молчаливого путешественника из Вавилона. Багоас смотрел на домГефестиона, в котором станет вечно гостить Александр. Вполне достойный гость и желанный хозяину, а все остальное уже не имеет значения. Что было, то было, и оно останется неизменным навеки. Когда Александр испустил последний вздох, Багоас понял, кто будет ждать его за рекой. Именно поэтому он не покончил счеты с жизнью; ему пока не следовало мешать их воссоединению. Но Александр никогда не был неблагодарным, никогда не отвергал ничьей любви. Однажды, когда закончится срок преданного земного служения Багоаса, его примут с радостью, как бывало всегда.
Он повернул назад к дворцовой гостинице, уже озаренной светильниками. Здесь Александру окажут подобающие почести. А самому ему больше ничего и не нужно.
* * *
В поместье покойного царевича Аминты Кинна и Эвридика укорачивали друг дружке волосы. Они готовились к путешествию. До границ Македонии было решено добираться в мужском платье.
Регент Антипатр осаждал неприступные крепости в горах Этолии, где еще тлели последние угли греческого мятежа. Он отправился туда с большей частью своих войск. Момент был удачным.
— Вот так достаточно, — сказала Кинна, отступая назад с ножницами. — Многие юноши носят волосы такой длины, с тех пор как Александр ввел их в моду.
Ни одна из них не согласилась бы обстричься совсем уж коротко; густые, волнистые волосы каждой, закрывая уши, спускались по шее к плечам. Призванная служанка явилась убрать остриженное. Эвридика, успевшая уложить дорожные сумки, подошла к угловой оружейной стойке и выбрала пару любимых метательных копий.
— Вряд ли нам выпадет случай попрактиковаться в дороге.
— Будем надеяться, — сказала Кинна, — что этого не случится.
— Разбойники наверняка побоятся напасть на отряд из десяти человек. — Они брали с собой охрану из восьми слуг. Дочь мельком глянула на мать и добавила: — А ты не боишься Олимпиады?
— Нет, она слишком далеко, и, когда до нее дойдут слухи о нашем отъезде, мы уже будем в Азии.
Эвридика вновь посмотрела на нее.
— Мама, зачем тут все это?
Кинна направилась к дочери. Настойках, столах и полках лежали семейные сокровища: наследство ее покойного мужа, Доставшееся ему от царственного отца, и остатки ее собственно приданого. Царь Филипп устроил дочери пышную свадьбу, не скупясь на подарки. Она размышляла, что же взять с собой — в это рискованное путешествие. Дочке, конечно, не следует ехать ко двору с пустыми руками, но…
— Мама, тебя что-то тревожит. Может быть, ты волнуешься из-за того, что долго нет вестей от Пердикки?
— Да. Мне это не нравится.
— Как давно ты писала ему?
— Я ничего не писала. Это он любитель сочинять письма.
Повернувшись к полке, она взяла серебряный кубок.
— По-моему, ты что-то от меня скрываешь. Я уверена в этом. Почему Антипатр против нашего приезда? Неужели они собираются выбрать другого царя?.. Мама, не притворяйся, что не слышишь меня. Я уже не ребенок. Если ты тут же не скажешь всю правду, я вообще никуда не поеду.
Кинна повернулась к дочери, выражение ее лица еще несколько лет назад предвещало бы порку. Но сейчас высокая крепкая девушка неколебимо гнула свое.
Кинна поставила на место кубок с вырезанной на нем сценой охоты на вепря. Она закусила губу.
— Отлично, рано или поздно ты и сама бы все вызнала, но, наверное, чем раньше, тем лучше. Александр честно сказал мне, что это чисто формальная свадьба. Он предложил тебе богатство и титул, и я полагаю, что после торжеств ты могла бы ко всеобщему удовольствию отбыть домой.
— Ты никогда мне не говорила об этом?
— Нет, учитывая, что ты никогда не изъявляла желания торчать до старости в этой глуши. Успокойся и выслушай меня. Он всегда стремился лишь к примирению наших родов. И к тому же верил всему, что наговаривала его мать. Он поверил, что его брат родился идиотом.
— Ну да, уж если идиот, то с рождения. Я ничего не понимаю.
— Разве ты забыла каменщика Стратона?
— Но ему-то на голову упал камень.
— Верно. Он же не с младенчества начал нести бред и просить палку, когда ему хотелось хлеба. Он свихнулся из-за того камня.
— Но всю свою жизнь я слышала, что Арридей — недоумок.
— Всю твою жизнь он и был таким. Тебе сейчас пятнадцать, а ему тридцать. Когда твой отец надеялся стать царем, он много рассказывал мне о родственниках Филиппа. Он говорил, что Арридей родился красивым и здоровым ребенком и хорошо развивался. Конечно, твой отец сам тогда еще был ребенком, и до него доходили лишь разговоры слуг, но он к ним прислушивался, когда речь шла о других детях. Они говорили, что Филипп был очень доволен этим мальчиком, а Олимпиада узнала об этом. И она поклялась, что отродье Филинны не сможет лишить ее сына трона. Арридей родился во дворце. Возможно, она отравила его чем-то или по ее наущению кто-то ударил его по голове. В общем, такие слухи дошли до твоего отца.
— Какая мерзкая женщина! Бедный ребенок, я не поступила бы так даже с собакой. Но что сделано, то сделано. Теперь же, наверное, ничего не исправить?
— Только врожденные идиоты плодят себе подобных. Дети Стратона вполне здоровы.
Эвридика потрясенно вздохнула. Ее руки невольно сжали копье, словно она собиралась обороняться.
— Нет! Вы же условились, что этого не потребуется. Даже Александр говорил так. Ты же мне обещала!
— Тише, тише. Никто тебе ничего и не предлагает. Я просто рассказала тебе правду. Теперь ты догадываешься, почему Антипатр против этой свадьбы, а Пердикка перестал нам писать? Они не хотят вашего брака. И даже боятся его.
Эвридика стояла спокойно, рассеянно поглаживая ладонью Древко копья, отлично отполированное и очень крепкое, из твердой кизиловой древесины.
— По-твоему, они боятся, что я могу основать новую ветвь царского рода, потеснив ветвь Александра?
— Именно так я и думаю.
Рука девушки так сильно сжала древко, что побелели костяшки пальцев.
— Я согласна. Раз уж мне суждено отомстить за отца, то я согласна. Ведь он не оставил сыновей.
Кинна пришла в смятение. Она лишь хотела объяснить дочери, какие опасности их подстерегают. Не теряя времени, она добавила, что, возможно, слуги все выдумали. Об Олимпиаде вечно ходило множество небылиц вроде тех, что она совокуплялась со змеями и зачала Александра от небесного огня. Может, и в самом деле Филинна родила идиота, но идиотизм проявился, только когда ребенок подрос.
Внимательно осмотрев копье, Эвридика присоединила его к отложенному в дорогу оружию.
— Не волнуйся, мама. Давай сначала доберемся туда, а там уже посмотрим, что я должна буду сделать. А уж я сделаю все, что нужно.
«Что я натворила? — подумала Кинна. — Чего добилась?» Но, быстро опомнившись, она сказала себе, что не натворила пока еще ничего, а добилась именно того, чего и хотела. И она приказала принести со скотного двора чистого козленка для жертвоприношения, посвященного их предприятию.
* * *
Ариба, создатель погребальной ладьи, ежедневно совершал обход мастерской. Щеголеватый, но не изнеженный воин и эстет, он приходился дальним родственником македонской царской династии и, разумеется, принадлежал к слишком знатной семье, чтобы работать ради денег. Александр с неизменной щедростью одаривал его за любые проекты, будь то гробница, царская барка или декорации для публичного зрелища, но отношения между ними были чисто дружеские. Александр, обожавший тратить и дарить деньги, обижался, когда их воровали, и ценил честность Арибы не меньше, чем его дарования. Птолемей, рекомендуя Пердикке Арибу, подчеркнул это достоинство, весьма не лишнее для человека, в руки которого попадет огромное количество золота.
И Ариба действительно очень ревностно следил за переработкой золота: ни одной драгоценной пылинки не прилипло ни к его пальцам, ни к чьим-либо еще. Контрольные взвешивания возвели в ранг каждодневных священнодействий. Великолепный проектировщик, всегда привлекаемый Александром, когда требовалось создать нечто роскошное и грандиозное, Ариба со вкусом и вдохновением использовал все доверенные ему сокровища во славу Александра и к своему собственному удовлетворению. Когда задуманное им величественное сооружение под молотками, стамесками и резцами отменнейших мастеров стало обретать форму, его ликование несколько приглушилось лишь ритуальной значимостью заказа; впрочем, ему представилось, что Александр тоже одобрил бы его творение. Он понимал в таких вещах толк. А мнение Пердикки никогда не волновало Арибу.
Заметив, что вокруг мастерской опять слоняется молодой евнух, Багоас кажется, он приветливо улыбнулся ему и пригласил зайти с ним внутрь. Вряд ли Ариба стал бы искать общества этого перса в обыденной жизни, но тот слыл тонким ценителем красоты, а его преданность покойному трогала душу. Было приятно позволить ему взглянуть на ход работ.
— Тебя ждет кое-что новенькое, — сказал он. — Вчера ладью поставили на колеса. Так что теперь ты сможешь обойти ее со всех сторон.
Ариба дал знак подручным. Заскрипели засовы, в большой двери отворилась маленькая неприметная дверца. Они вошли в сумрак, окутывающий нечто блистательно-неземное.
Огромные съемные циновки, используемые в качестве кРовли, предохраняющей творение от капризов погоды и ночных воров, быстро свернули в рулоны, открыв все великолепие дневному свету. Весеннее солнце метнуло ослепительные стрелы в миниатюрный отделанный золотом храм.
Длина его составляла примерно восемнадцать футов, сводчатую крышу покрывали золотые чешуйки с сияющими в них огненными рубинами, изумрудами, горным хрусталем, сапфирами и аметистами. Конек крыши символично венчал лавровый венок, поблескивающий золотыми листками, по углам высились крылатые богини Ники в триумфальных коронах. Портик храма поддерживали восемь золотых колонн, по карнизу тянулась узкая цветочная гирлянда из тонкой глазури, на фризе изображались подвиги и деяния Александра. Дно ладьи покрывали пластины чеканного золота, колеса также были обшиты золотом, их втулки украшали гривастые львиные морды. С трех сторон святилище огораживали решетки из золотой проволоки, а вход в него охраняли два лежащих в настороженной позе золотых льва.
— Видишь, уже подвесили колокольчики.
Колокольчики тоже были золотыми; они свисали с кистей гирлянды. Ариба, подняв прутик, слегка ударил по одному из них; тонкий и на удивление громкий переливчатый звон пронесся по лодке.
— Все поймут, что он прибыл.
Багоас вытер рукой глаза. Вновь вернувшись в этот мир, он начал стыдиться слез, но ему было невыносимо обидно, что Александр не видит такой красоты.
Ариба ничего не заметил; он уже втолковывал мастеру, как ловчее выправить вмятины и царапины, сделанные при установке ладьи на колеса. Совершенство нуждалось в доводке.
В глубине мастерской, под крышей, поблескивал сам саркофаг, украшенный солнечной царской эмблемой Македонии. Он был сделан из чистого золота, и шестеро мужчин с трудом поднимали его. Надобность в нем возникнет только перед началом последнего путешествия, когда Александра вынут из легкого кедрового гроба, где его опустошеное тело покоится на ковре из пряных душистых трав, и уложат в еще более благовонное вместилище на вечное упокоение. Довольный тем, что саркофаг невредим, Ариба покинул рабочую зону.
Оказавшись на улице, Багоас не преминул витиевато расхвалить творца столь великолепного сооружения, с удовольствием тем самым расплачиваясь за позволение его осмотреть.
— Эту ладью, несомненно, причислят к самым диковинным творениям человеческих рук, — обдуманно добавил он. — Египтяне гордятся своим погребальным искусством, но даже у них я ничего подобного не видал.
— Ты бывал в Египте? — удивленно спросил Ариба.
— С тех пор как Александр перестал нуждаться во мне, я позволил себе совершить путешествие, чтобы скоротать время. Он так восторженно отзывался об Александрии, что мне захотелось увидеть ее. Да, господин, безусловно, его восторги вполне обоснованны.
Евнух ничего более не прибавил, предоставив Арибе возможность пуститься в расспросы, и лишь после того со всей любезностью, искусно подогревая в собеседнике любопытство, он подвел завязавшуюся беседу к скромному признанию, что ему удалось удостоиться чести встретиться с новым сатрапом Египта.
— Так уж случилось, что все командиры и друзья Александра, присоединившиеся к Птолемею, прибыли в основном из ближайших провинций Азии, а я, единственный, приехал из Вавилона, поэтому он захотел расспросить меня о тамошних новостях. Ему, правда, уже донесли, что погребальная ладья Александра обещает стать подлинным чудом света, но он поинтересовался, кому поручили руководить ее созиданием. Услышав имя, Птолемей воскликнул, что лучшего выбора не сделал бы и сам Александр. «Жаль только, — прибавил он доверительно, — что Ариба сейчас далеко. Если бы он смог побывать здесь и насладиться красотой храма Основателя города, то…»
Багоас вдруг умолк.
— Возможно, господин, я поступаю неблагоразумно, сообщая тебе об этом, — сказал задумчиво он. На его губах промелькнула та призрачная, словно бы отраженная в водной глади улыбка, сумевшая некогда околдовать двух царей. — Но по-моему, Птолемей не стал бы бранить меня за откровенность.
Они побеседовали еще немного, и Ариба вдруг понял, что его интерес к Александрии возрос. Возвращаясь к своей палатке, он осознал, что его деликатно прощупали, но быстро выбросил из головы эту мысль. Сообразив, чего хочется Птолемею, он вынужден был бы разоблачить его происки, что могло сильно осложнить ему жизнь.
* * *
За толстыми, сложенными из красного камня стенами дворца, возвышающегося над красной скальной громадой, Клеопатра и ее служанки чувствовали себя просто роскошно (не то что в Эпире), хотя по азиатским меркам отведенные им покои выглядели весьма скромно. Однако Пердикка приказал их заново и по-царски обставить, обновил все драпировки, а также окружил сестру Александра прилично обученной челядью.
Своей молодой супруге Никее во время укороченного медового месяца он объяснил, что прибытие молоссианской царицы связано с ее бегством от матери, которая отобрала у собственной дочери власть и даже пыталась лишить бедняжку жизни. Никея, как дочь Антипатра, Олимпиаду не жаловала и с готовностью верила любым небылицам о ней. После церемониальных празднеств, приличествующих положению новобрачных, Пердикка отправил законную жену в ближайшее поместье на том основании, что война еще не окончена и ему скоро вновь предстоит отправиться в поход. Вернувшись в Сарды, он возобновил ухаживание за Клеопатрой. Его визиты и роскошные подарки соответствовали всем предсвадебным традициям.
Клеопатра отлично провела время в путешествии: семейная тяга к перемене месте не обошла и ее. Вид новых горизонтов принес утешение, хотя она и грустила о том, что ей пришлось бросить сына на бабку. Впрочем, та позаботится о нем как о собственном чаде и воспитает, конечно, по-царски. А когда сама Клеопатра выйдет замуж и обоснуется в Македонии, то она сможет часто видеться с ним.
Она ценила в Пердикке скорее союзника, чем мужа. Он был очень властного нрава, и она вполне понимала, что его властность опасна и для нее. Видимо, однако, у него тоже хватило ума понять, что без ее поддержки ему не получить и не удержать регентства в Македонии. А там, в зависимости от его поведения, она, возможно, поможет супругу взойти и на трон. Его правление будет жестким. Но после Антипатра народ презирал бы правителя-размазню.
С некоторой отстраненностью Клеопатра попыталась представить, каков он в постели, но усомнилась, что любовные игры будут хоть как-то их волновать, учитывая, что у нее есть наследник. Очевидно, что для нее более выгодны долговременные дружеские, а не любовные отношения, и на этом поприще она уже успела выстроить кое-что.
Ранняя весна еще дарила прохладу, и сегодня жених обещал навестить ее днем. Оба предпочитали полуденную раскованность и возможность поговорить без свидетелей. Одного блюда будет вполне достаточно; он прислал ей кухарку-карийку. И Клеопатра еще до женитьбы успела изучить его вкусы. Ей не хотелось быть жестокой по отношению к несчастной и невзрачной младшей дочери Антипатра, хотя ее мать не щадила соперниц. Никея сможет спокойно вернуться к отцу. Персидская жена из Суз уже давно отбыла восвояси.
Пердикка пришел пешком из своих покоев, расположенных на другом конце этого причудливого дворцового комплекса, чьи строения карабкались по скалистым уступам. Он принарядился для нее, дополнив свое облачение усыпанным Драгоценными камнями аграфом и доспехами с золотыми застежками в виде голов грифона. Пояс портупеи состоял из наборных дисков, украшенных персидской перегородчатой эмалью. «Да, — подумала она, — из него выйдет потрясающий царь!»
Ему нравилось вспоминать о военных скитаниях с Александром, а она была благодарной слушательницей. В Эпир новости доходили обрывочно, он же являлся участником всех событий. Но они даже не успели пригубить вино, как в дверях раздалось тихое покашливание. Там стоял евнух-смотритель. Оказалось, что для господина командующего доставили срочное послание.
— От Эвмена, — сказал Пердикка, сломав печать.
Он произнес это с нарочитой небрежностью, хорошо сознавая, что без важной причины Эвмен гнать срочно курьера не стал бы.
Она заметила, что по мере чтения его смуглое обветренное лицо приобрело землистый оттенок, и отослала прислуживающего им раба. Как большинство македонских мужчин, он читал письмо, проговаривая весь текст (считалось удивительным, что Александру удалось изжить эту привычку), но его челюсти были сжаты, и Клеопатра слышала лишь гневное мычание. Взглянув на него еще раз, она подумала, что в битвах, должно быть, он выглядит именно так.
— Что случилось? — спросила она.
— Антигон сбежал в Грецию.
— Антигон? — Пока он яростно сверкал глазами, она вспомнила этого сатрапа Фригии, прозванного в народе Одноглазым или Циклопом. — Это не его взяли под арест за какую-то там измену? Наверное, он испугался.
Пердикка по-лошадиному фыркнул.
— Он испугался? Да он просто сбежал, чтобы сдать меня Антипатру.
Клеопатра поняла, что все его мысли устремлены в будущее» но от нее явно что-то скрывали, а она имела право знать что.
— А в чем состояла его измена? Почему его держали под стражей?
Его ответ прозвучал грубо.
— Чтобы не распускал язык. Я обнаружил, что он слишком любопытен.
Ее это отнюдь не смутило, недаром в ней текла кровь царей. «Мой отец, — подумала она, — поступил бы не так, и Александр тоже. В прежние времена… но есть ли смысл ворошить былое?» Она просто сказала:
— Как же он удовлетворял свое любопытство?
— Спроси крыс, шныряющих под стенами. Антигон был последним человеком, которому я решился бы доверить свои секреты. Он всегда льнул к Антипатру. Должно быть, ему удалось разнюхать что-то через шпионов. Но теперь уже ничего не попишешь, удар нанесен.
Она понимающе кивнула; нет нужды попусту сотрясать воздух. Перед отъездом в Македонию они планировали вступить в брак. Теперь времени ни на что не оставалось. Прознав об их планах, сидящий в Этолии Антипатр, скорее всего, сразу двинет свои силы на север. Суматошная быстрая свадьба не принесет ничего, кроме скандала. А скандал спровоцирует войну, пришла к выводу Клеопатра.
Резко вскочив с обеденной кушетки, Пердикка забегал по комнате, полностью погрузившись в раздумья. «Мы уже дважды успели бы пожениться!» — мелькнуло в голове Клеопатры. Круто развернувшись, он бросил:
— А тут еще эти несносные женщины! Куда их девать?
— Какие еще женщины? — Она позволила себе повысить голос: в последнее время он стал слишком скрытен. — Ты ничего не говорил мне о женщинах, кто они?
Он раздраженно хмыкнул, видимо, слегка смутившись.
— Едва ли эта история достойна твоих ушей. Но похоже, Мне придется ее все-таки выложить, ибо тут замешан твой брат Филипп…
— Умоляю, не называй этого припадочного моим братом!
Клеопатра не разделяла снисходительности своего жениха к сыну Филинны. Они даже побранились однажды, когда Пердикка тоже решил поселить царя в местном дворце, поскольку это приличествовало его званию. «Если он въедет, я съеду!» — решительно заявила она. И в этот момент Пердикка впервые увидел в ее застывшем лице отблеск той самой непреклонности, которой полнился взгляд Александра. Филипп остался жить в царской палатке, он очень привык к ней и ничего лучшего для себя не желал.
— О боги, какие же у него могут быть отношения с женщинами?!
— Александр подыскал ему невесту. Некую Адею, дочь вашего кузена Аминты. Он даже даровал ей царственное имя Эвридика, с которым она очень быстро и с удовольствием свыклась. Не знаю, на кой ляд он сговорил их, но незадолго до его смерти состояние Филиппа заметно улучшилось. Александр явно радовался за брата. Он повсюду таскал его за собой, во-первых, для того, чтобы никто в Македонии не мог корыстно воспользоваться, скажем так, глупостью этого дурачка. А во-вторых, — как он поведал мне однажды вечером после пирушки — из боязни, что Олимпиада надумает убить беднягу, если тот будет торчать у нее на глазах. Но, заботясь о брате все эти годы, Александр проникся к нему своеобразной любовью. С удовольствием отмечал, что Арридей стал общительнее, допускал его к себе и привлекал к участию в ритуальных обрядах. Однако о свадьбе пока речь не шла. Речь шла об Аравии, куда бы он выступил уже через месяц, если бы не болезнь. В общем, я надеюсь, что этот брак можно будет заключить по доверенности.
— Александр никогда не говорил мне об этом!
На мгновение она превратилась в обиженного ребенка. Корни этой обиды уходили в далекое прошлое, но Пердикке некогда было вникать в ее детскую жизнь.
— Скажи спасибо своей милой матушке. Александр опасался, что, узнав обо всем, та начнет вредить и девчонке.
— Понятно, — ничуть не удивившись, бросила дочь Олимпиады. — Но ему самому не следовало обрекать девочку на весь этот мрак. Безусловно, мы должны освободить бедняжку от такой тяжкой участи.
Он промолчал. Тогда она добавила новым властным тоном:
— Пердикка, это ведь мои родичи. Мне и решать.
— Прости, высокородная Клеопатра, я с тобой совершенно согласен, — произнес он с нарочитым почтением, поскольку мог себе это позволить, — но кое-что ты не так поняла. Пару месяцев назад Антипатр с моего согласия отменил этот сговор. В его отсутствие и без его дозволения мать Адеи Кинна доставила дочь сюда — в Азию. И они требуют заключения этого брачного союза.
Его раздражение свидетельствовало, что он говорит правду.
— Позор! — воскликнула она. — Вот варварское отродье!
Примерно так же на ее месте выразилась бы и Олимпиада.
— Безусловно. Они обе истинные иллирийки. По моим сведениям, до Абдеры они добирались вооруженные и в мужском платье.
— Как ты собираешься поступить? Я лично не желаю иметь ничего общего с этими тварями.
— О них позаботятся без тебя. Время поджимает, мне необходимо снестись с Эвменом еще до того, как Антипатр направится в Азию. Кратер наверняка присоединится к нему, что резко осложнит наше положение. Люди любят Кратера… А эту невесту я поручу моему брату. Он встретит ее и убедит отказаться от злополучной свадьбы.
Вскоре Пердикка удалился, чтобы разослать спешные распоряжения. В одном из них, адресованном Эвмену, он вызывал в Сарды Роксану с ребенком. Прежде из осторожности Пердикка не спешил знакомить бактрийку с дочерью Филиппа и Олимпиады, ведь, прознав о его планах, эта змея вполне могла решиться опять пустить в ход отраву. Но сейчас намечался военный поход, и бактрийке надлежало следовать с армией. «К чему, к чему, — подумал Пердикка, — а уж к этому она привычна».
* * *
По горной дороге в сторону сирийского побережья, поблескивая и позвякивая, двигалась погребальная ладья Александра. К Исскому заливу ее влекли шестьдесят четыре мула, объединенные в упряжные четверки. Мулы были украшены золотыми венками и золотыми колокольчиками. Их позвякивание приятно сочеталось с мелодичным звоном колокольчиков колесницы и смешивалось с криками погонщиков.
В движущемся святилище за золотыми колоннами и решетками стоял саркофаг под пурпурным покровом. Сверху лежали доспехи покойного: его шлем из светлого металла, украшенная самоцветами портупея, меч с ножнами и ножные латы. Там не было лишь боевой кирасы царя, ибо слишком побитая и помятая она совершенно не сочеталась со всем окружающим великолепием, и потому ее заменили парадной кирасой.
Если обитые железом и позолоченные колеса то и дело подпрыгивали на дорожных неровностях, то сама ладья лишь слегка колыхалась, как на волнах, оберегаемая скрытой системой пружин, какими Ариба снабдил колесные оси. К своей гробнице Александр прибудет целым и невредимым. Ветераны эскорта, дивясь на все это, говорили, что, если бы их командир при жизни хотя бы с десятой долей такой заботливости относился к своему бренному телу, то он сейчас шагал бы с ними, а не полеживал наверху.
На дорожных обочинах толпились люди, жадно ловящие отдаленные звоны. Слава о царской погребальной ладье быстро опередила ее. Поселяне из дальних горных деревушек загодя спускались к дороге и ночевали под открытым небом в ожидании похоронной процессии. Всадники на лошадях, мулах и ослах подолгу сопровождали кортеж. Мальчишки бежали за ним до очередного привала, а когда воины разбивали на ночевку лагерь, падали, как выдохшиеся собаки, и подползали к кухонным кострам, чтобы выпросить сухарей и в полудреме послушать солдатские байки.
Во всех попадающихся на пути городах устраивались ритуальные жертвоприношения в честь Александра; местные аэды на все лады прославляли великого государя, приписывая ему самые невероятные подвиги, когда им не доставало сведений о его реальных деяниях. Ариба невозмутимо приглядывал за порядком на торжествах. Он получил письмо Птолемея и теперь имел полное представление, к чему идет дело.
Единственный раз посетив палатку Арибы, Багоас предпочел в дальнейшем не мозолить тому глаза. Днем он ехал среди случайных попутчиков, а ночи проводил с персидскими воинами, державшимися в арьергарде. Те знали, кто он, но никто его не тревожил. Евнуха охраняла преданность повелителю, персы понимали, что он следует путем, угодным Митре. Они с уважением отнеслись к его паломничеству и отринули прочие мысли.
* * *
До порта Абдера Кинна и дочь ее добирались как воины, они ночевали в багажной повозке, а слуги спали вокруг под открытым небом. Там, где есть греки, обычно имеются и купеческие суда, вопрос лишь в том, сможешь ли ты заплатить за перевозку. Кинна, сознавая, что в тесном общении ее сущность все равно как-то проявится, вновь переоделась в женское платье, а Эвридику выдала за своего сына.
Корабль, взявший их, был нагружен шкурами, которые, к Радости челяди, ночами служили всем отменным ложем, однако их запах при первом же порыве ветра вызвал у Эвридики мучительные позывы к рвоте. Наконец корабль вошел в Длинный узкий залив города Смирны и бросил якорь у зеленых спасительных берегов. С этого момента у обеих путниц появлялась надежда на некие благодатные перемены в характере их дальнейшего продвижения к цели.
Рядом с руинами древней Смирны Александр, на которого эта гавань произвела прекрасное впечатление, основал новый город. С того времени торговля в порту заметно оживилась. Здесь уже не было надобности опасаться, что слухи об их отъезде достигнут ушей Антипатра, и, хотя Вавилон все еще находился достаточно далеко, пришла пора позаботиться о приличиях. Оставив женщин на борту, старый преданный слуга Аминты — он помнил еще ее отца — отправился снять для двух знатных особ пристойное жилье и организовать их дальнейшее сухопутное путешествие.
Он вернулся с потрясающей новостью. Им не придется тащиться до Вавилона. Пердикка и царь Филипп живут в Сардах, в какой-то полусотне миль от порта.
Известие о значительном сокращении чреватого опасностями пути приятно поразило путниц; перебросившись парой слов, обе они пришли к выводу, что их ждет удача. Эвридика сошла на берег, накинув поверх хитона длинный плащ, а ε снятом для них доме вновь заявила свои права на женское платье и гиматий.
Дальше следовало перемещаться с особой помпезностью, привлекая всеобщее внимание к царской невесте, направляющейся к месту грядущей свадьбы. Жаль, конечно, что в порту их не встретили родственники или друзья жениха, однако чем пышнее будет процессия, тем меньше возникнет сомнений в высоком положении путешественниц. Они могли позволить себе расточительность, учитывая относительную близость Сард. Семейных богатств у них никто пока что не отобрал, а повседневная скромность в запросах объяснялась вовсе не бедностью.
Выступивший через два дня из Смирны караван выглядел весьма впечатляюще. Атос, все тот же старик-управляющий, нанял для госпожи с дочерью надежных проводников и служанок. Он также намекнул, что, согласно здешним обычаям, им надо бы обзавестись евнухом, но Кинна отрезала с негодованием, что невеста греческого царя прибыла в Азию не для того, чтобы перенимать отвратительные варварские обычаи. Александр, судя по всему, был чересчур снисходителен к дикарям.
Расторопный Атос, старательно выполняя свой долг, не делал никакого секрета из положения своих хозяек и цели их путешествия. И вовсе не шпионы Пердикки, а всепроникающая молва, сильно опередив свадебный кортеж, доставила весть о нем в Сарды.
* * *
Поля вокруг Исса еще плодоносили костями убитых и старым оружием. Здесь, где Дарий впервые бежал от копья Александра, бросив на милость победителя свою мать, жену и детей, сейчас расположились два войска, чтобы принести в жертву молочно-белого быка перед золотой погребальной ладьей. Стоящие рядом Птолемей и Ариба воскурили ладан на алтаре. Эскорт растрогала речь Птолемея, заявившего, что божественный победоносный царь желал, чтобы его тело вернулось к его отцу Амону.
Всем подручным Арибы выдали по сотне драхм — щедрость, достойная самого Александра. Ариба получил тайно талант серебра, а официально — чин полководца в армии египетского сатрапа, после чего все македонские отряды изъявили желание остаться с ним. Вечером устроили всеобщий пир в честь Александра; на множестве вертелов жарились над лагерными кострами бараньи туши, а в кружки рекой текли вина из бесчисленных амфор. Уже на следующее утро сатрап и его новоявленный полководец встали во главе похоронного кортежа, и погребальная ладья Александра повернула на юг 8 сторону Нила.
Багоас, чье имя пока никем не упоминалось, последовал за процессией. Остальные персы отправились по домам, но он теперь находился от погребальных дрог еще дальше — в хвосте растянувшейся по дороге колонны египетских войск. Взобравшись на очередной холм, он увидел далеко впереди поблескивающий золотой конек сводчатой крыши. Однако занимаемое положение вполне устраивало Багоаса. Он выполнил свою миссию, его бог был удовлетворен, а он сам с радостью смотрел в будущее, надеясь еще послужить Александру в избранном им городе. Грек заметил бы в этой благостной безмятежности восторженность неофита, только что приобщенного к таинствам веры.
* * *
Караван Кинны приближался к Сардам. Мать и дочь не спешили, намереваясь прибыть туда на следующее утро — до начала жары. Слава о богатстве и роскоши их процессии дойдет и до Македонии, а значит, невеста царя должна появиться во всем блеске, чтобы покорить своих подданных, поэтому весь сегодняшний вечер они собирались посвятить приготовлениям к торжественному въезду в город.
Этот горный перевал охраняли громоздившиеся в придорожных утесах старые крепости, недавно несколько подновленные по велению Александра. Они проехали мимо высеченных на ровном участке скальной плиты таинственных символов и надписей, сделанных на неизвестном им языке. Судя по странным запахам и не менее странному виду путников, движущихся им навстречу, те принадлежали к различным варварским племенам. Финикийцев отличали подсиненные бороды, мочки ушей кариан оттягивали тяжелые серьги, купцов-богатеев сопровождали полуобнаженные негры-носильщики, чья чернота казалась пугающей для северных глаз, привычных разве что к рыжине веснушчатой кожи фракиских невольников. Иногда проходили одетые в шаровары персы. Вооруженные изогнутыми мечами, в своих украшенных затейливой вышивкой шапках они напоминали легендарных великанов-людоедов, которыми издавна пугали греческую детвору.
Эвридика с восторгом воспринимала все это как очередной этап захватывающего приключения, с завистью думая о том, сколько всего повидал Александр в своих странствиях по всему миру. Кинна, сидевшая рядом с дочерью под полосатым навесом, старательно поддерживала на лице радостное выражение, но она чувствовала, что решительность ее тает. Наряду с чужеземным говором встречных путников на нее подавляюще действовали непривычные пейзажи, загадочные памятники и полное отсутствие всего того, о чем она имела хоть какое-то представление. Если бы скрытые под черными покрывалами женщины, тащившие грузы вслед за ослами, на которых ехали их мужчины, проникли в ее мысли, они наверняка бы решили, что она впала в безумие. К тому же от сильной тряски двухколесной повозки, громыхающей по каменистой дороге, у нее разболелась голова. Кинна, конечно, знала, что мир огромен и что Александру за десять лет так и не удалось его пересечь, но дома на родных ей холмах это не имело никакого значения. Сейчас же, оказавшись всего лишь в преддверии бескрайнего Востока, она почувствовала, как разрушительно его непостижимое своеобразие.
Эвридику привел в восхищение вид древней крепости, и, обратив внимание матери на ряд высоких сигнальных башен, она спросила:
— Как думаешь, Сарды и впрямь раза в три больше Пеллы?
Да уж не меньше. Пеллу ведь начали строить наши деды, то есть ее основали всего пару поколений назад, а со времени основания Сард прошло уже, может, десять веков или больше.
Эта мысль удручила ее. Глядя на беспечную веселость дочери, Кинна подумала: «Я притащила ее сюда из дома, где она могла бы тихо и мирно прожить всю свою жизнь. Кроме меня, ей здесь даже не к кому обратиться. Ну ничего, я еще здорова и молода».
Близился вечер. Проводник сообщил, что до Сард осталось менее десяти миль. Вскоре им нужно будет подыскать место для лагеря. Солнце скрылось за горным хребтом, и на дорогу опустились сумерки. Придорожный склон, усыпанный крупными валунами, темнел на фоне красноватого неба. Откуда-то сверху донесся мужской голос:
— Пора!
Камни и глинистый сланец с грохотом покатились к дороге, опережая бегущих вниз мужчин. Атос, ехавший во главе кортежа, крикнул:
— Берегитесь, разбойники!
Вскоре караван окружило тридцать или сорок бандитов с копьями. На их фоне эскорт царской невесты, состоявший из десятка усердных, но очень старых и растерянных слуг, выглядел просто смешно. Те из них, что умели сражаться, вышли в оставку еще при Филиппе. Однако, будучи настоящими македонцами с въевшейся в них преданностью вассальной присяге, они с возмущенными криками бросились на вооруженных копьями негодяев.
Эхом разнесло по горам мучительное ржание раненого животного. Вместе с лошадью рухнул на землю и старый Атос; бандиты тут же придвинулись и закололи его.
С пронзительным воинственным кличем Кинна спрыгнула с колесницы, Эвридика встала бок о бок с ней. Уже держа в руках копья, они с привычной ловкостью заткнули за пояс подолы юбок и, прижав спины к тележке, слегка сотрясаемой испуганно топтавшимися мулами, смело встретили наскок врагов.
Эвридика испытала трепетное ликование. Наконец-то ей предстояло сражение, настоящая битва. Она догадывалась, что может произойти, если их возьмут в плен живыми, но это, скорее, лишь раззадорило молодую воительницу и укрепило ее боевой дух. К ней приближался светлокожий разбойник, с неделю не брившийся, судя по рыжей щетине. Грудь его защищала кожаная кираса, поэтому девушка прицелилась в руку. Копье погрузилось в предплечье врага, и он, схватившись за рану, отскочил назад с криком:
— Ах ты стерва!
Она рассмеялась, однако вдруг с внезапным потрясением осознала, что лидийский разбойник выбранился по-македонски.
В одного из упряжных мулов попало копье, он истошно взревел и рванулся вперед. Вся упряжка последовала за ним, увлекая за собой подпрыгивающую на камнях колесницу. Ее край задел Эвридику, но девушка удержалась на ногах. Тут же рядом с ней раздался крик. Кинна грохнулась на дорогу: ремни колесницы увлекли ее за собой. Какой-то солдат склонился над ней с копьем.
Вперед вышел мужчина с поднятой рукой. Нападающие вдруг отступили. Вокруг стало почти тихо; еще артачились остановленные солдатами мулы да стонали трое раненых слуг. Остальные ошеломленно молчали. Все, кроме Атоса: тот был убит.
Кинна издала жуткий стон — почти животный всхлип теплокровной твари, мучительно пытающейся сделать вдох. Ее грудь была залита кровью.
Эвридике отчаянно захотелось броситься к матери, обнять ее и умолять бандитов о милости. Но Кинна дала ей хорошее воспитание. Они приняли бой и бьются, как воины, а у врагов нельзя просить милости, надо стоять до конца. Она глянула на отдававшего приказания командира, высокого смуглого мужчину с худощавым суровым лицом. Осознание пришло мгновенно: на них напали не разбойники, а солдаты.
Кинна вновь застонала, уже гораздо слабее. Совсем было поникшую от горя и жалости Эвридику вдруг охватила пламенная ярость, точно такая же, какая объяла Ахилла над мертвым Патроклом под стенами Трои. Она бросилась к матери и 3аслонила ее собой.
— Вы все изменники! Неужели я вижу воинов Македонии? Вы посмели поднять руку на Кинну, дочь царя Филиппа, сестру Александра.
Все потрясенно примолкли. Воины повернулись к командиру. Тот выглядел разгневанным и смущенным. Так. Значит, он чего-то им не сказал?
У Эвридики появилась новая мысль. Она на сей раз пустила в ход просторечие, на каком начала говорить еще до того, как принялась учить правильный греческий.
— Слушайте же меня, я — внучка Филиппа! Я дочь Аминты и внучка царя Филиппа и царя Пердикки. — Она показала на побагровевшего командира. — Спросите его. Ему все известно!
Самый старший солдат, пятидесятилетний ветеран, шагнул к командиру.
— Алкета, — он произнес это имя без особенного почтения, с достоинством свободного македонского воина, — она говорит правду?
— Нет! Выполняйте, что вам приказано.
Солдат перевел взгляд на девушку, потом на своих сотоварищей.
— А я полагаю, что она говорит правду, — возразил он.
Воины сгрудились поплотнее, кто-то сказал:
— Они не сарматы, как нам говорили. Они такие же македонцы, как мы.
— Моя мать…
Эвридика опустила глаза. Кинна пошевелилась, но изо рта ее исторглась лишь струйка крови.
— Она привезла меня сюда из Македонии. Я невеста Филиппа, вашего царя, брата Александра.
Кинна пошевелилась еще раз. Она слегка приподнялась на локте и, задыхаясь, сказала:
— Это правда. Я клянусь именем…
Она закашлялась. Кровь хлынула из ее горла, и умирающая потеряла сознание. Эвридика отбросила копье и опустилась на колени. Застывшие глаза матери закатились. Возразивший Алкете ветеран подошел и встал рядом с ней, глядя на других воинов.
— Оставьте их в покое! — сказал он.
Еще двое солдат присоединились к нему, остальные стояли, опираясь на свои копья в смятенном и мрачном молчании. Эвридика бросилась на грудь матери и зарыдала.
Вскоре она осознала, что к ее рыданиям присоединились возмущенные голоса. Солдаты явно выражали свое недовольство. Ей пока не было, конечно, известно, что македонским командирам в последнее время все чаще приходилось сталкиваться с мятежными настроениями. Птолемей в Египте как-то шепнул по секрету своим близким друзьям, что очень был рад возможности составить свою новую армию из одних добровольцев, убравшись подальше от регулярного войска. Сейчас это войско невольно напоминало Букефала, покойного жеребца Александра, верно служившего только хозяину и норовившего сбросить любого другого седока. Оно, подобно старику Букефалу, не желало терпеть менее искусного и талантливого наездника.
Эвридике, ощутившей поддержку, еще пуще, чем прежде, захотелось отдаться на милость солдат, умолить их как подобает сжечь тело матери и, отдав ей пепел для захоронения на родине, отвезти ее обратно к морю. Однако, отерев кровь с лица Кинны, она увидела в нем суровость, освященную смертью до степени непреклонности. Нет, мать не должна уйти в иной мир с горьким сознанием, что она родила трусливую дочь.
Под руку Эвридике попался золотой медальон, который Кинна всегда носила на шее. Он был в крови, но девушка легко совлекла его с павшей и встала, гордо выпрямившись.
— Смотрите же. Вот портрет моего деда, царя Филиппа. Он подарил его моей бабке Аудате в день свадьбы, а она передала моей матери в день ее свадьбы с Аминтой, сыном царя Пердикки. Убедитесь сами.
Она вложила сверкающий диск в морщинистую и грубую руку ветерана; остальные воины столпились вокруг, пристально изучая вырезанный на золоте профиль скуластого бородача.
— Ну да, это Филипп, — уверенно произнес ветеран. — Я видел его много раз.
Воин досуха вытер медальон подолом своего домотканого хитона и вернул девушке.
— Береги его хорошенько, — сказал он.
Он говорил с ней словно с юной племянницей, и она с удивлением различила нотки дружеского участия в словах прочих солдат. Теперь эти грубые люди воспринимали ее как найденыша, сироту, спасенную и удочеренную ими. Алкете воины сообщили, что отвезут девушку в Сарды. Любому дураку ясно, что в ее жилах течет кровь Филиппа, и если Александр выбрал ее в невесты своему брату, то они должны пожениться, иначе вся армия узнает о предательском заговоре.
— Отлично, — сказал Алкета. Он уже понял, что дисциплина, а возможно, и сама жизнь его повисли на волоске. — Тогда давайте очистим дорогу и поможем раненым.
Привычные к жестоким сражениям солдаты сноровисто уложили тело Кинны в арбу и накрыли одеялом, потом подогнали собственные повозки для мертвых и раненых и собрали багаж, брошенный местными носильщиками, удравшими в холмы вместе со служанками и провожатыми. Эвридику усадили на подушки, чтобы она могла ехать рядом с покойной.
Один из солдат с готовностью поскакал вперед — к Пердикке, везя тому сообщение от Ал кеты. Неизвестно, заглянул ли гонец по пути восновной лагерь, где располагались войска Пердикки и грека Эвмена, но, как бы там ни было, когда за очередным поворотом дороги появилась крепость из красного камня с раскинувшимся вокруг нее городом, Эвридика увидела огромное количество воинов.
Они стояли вдоль дороги рядами, словно встречая царственную особу, и дружно приветствовали приближение каравана. До слуха Эвридики долетели отрывистые печальные возгласы ближайших к ней македонцев: «Несчастная девушка! Прости этих ребят, госпожа! Алкета ввел их в заблуждение!» Странное, подобное кошмарному сну завершение замысла Кинны словно бы сделало нереальной и ее смерть, хотя Эвридике достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться недвижного тела.
Разъяренный Пердикка стоял за спиной Клеопатры, смотревшей вниз из окон верхнего этажа. Она ощутила его неспособность что-либо предпринять и в гневе хлопнула ладонями по подоконнику.
— И ты допустишь все это?
— У нас нет выбора. Если я арестую ее, поднимется бунт. Сейчас совершенно не подходящее время для смуты. Они прознали, что она внучка Филиппа.
— Но она — дочь изменника! Ее отец замышлял убийство Филиппа. Неужели ты позволишь ей выйти замуж за его сына?
— Нет, если мне удастся воспрепятствовать этому.
Колесница подъехала ближе. Он попытался рассмотреть лицо дочери Аминты, но без особенного успеха. Ладно, ему все равно придется спуститься и приветствовать ее как подобает, чтобы сохранить собственное достоинство и, при удачном стечении обстоятельств, выиграть время. Как раз в этот момент новое волнение на дороге привлекло его внимание. Высунувшись из окна, Пердикка пригляделся и с проклятиями спрятался обратно.
— Что случилось?
Его ярость и испуг поразили ее.
— О проклятье, Гадес их забери! Они ведут к ней Филиппа.
— Что? Не может быть…
— Им же прекрасно известно, где расположена его палатка. Ты сама ведь не захотела, чтобы я поселил царя здесь. Все, мне срочно нужно идти!
И он, пряча глаза, побежал вон из комнаты. У Клеопатры мелькнула мысль, что ему очень хотелось осыпать проклятиями и ее. Ворота толстых крепостных стен гостеприимно распахнулись. Колесница остановилась. Группа бегущих солдат что-то к ней волокла.
— Госпожа, если ты соблаговолишь сойти, мы предоставим тебе более подобающую повозку.
Это была роскошная старинная колесница, украшенная рельефными изображениями серебряных грифонов и золотых львов. Заказанная в свое время Крезом, легендарным лидийским царем, прославившимся сказочной расточительностью, она была отделана изнутри рифленой красной кожей. Александр тоже, бывало, в ней выезжал, чтобы порадовать взоры.
Этот своеобразный передвижной трон резко обострил ощущение нереальности происходящего. Придя в себя, Эвридика пролепетала, что не может оставить тело матери без пригляда.
— За ним присмотрят с подобающим тщанием, госпожа, мы позаботились и об этом.
Из толпы с горделивым достоинством выступили женщины в черных одеждах, жены ветеранов, которых из-за тягот походной жизни можно было принять скорее за их матерей. Один из воинов направился к Эвридике, чтобы помочь ей спуститься. Но тут спохватился Алкета и, решив наконец проявить должную обходительность, сам предложил ей руку. На мгновение Эвридика отпрянула, но сейчас у нее не имелось возможности поквитаться с врагом. Она величественно склонила голову и приняла помощь брата Пердикки. Отряд солдат подхватил оглобли и повлек колесницу вперед. Эвридика, точно царица, восседала на месте Креза.
Внезапно приветственные возгласы приняли иной характер. Послышались древние македонские кличи:
— Слава Гименею! Торжествуй, божественная Ио! Возрадуйся, невеста! Да возвеселится жених!
Суженый, видимо, был уже где-то рядом.
Сердце невесты тревожно забилось. Долгожданная встреча, столь внезапно надвинувшись, представлялась ей весьма расплывчато.
К ней медленно и величественно подъезжал статный мужчина на красивом, сером в яблоках коне, которого вел под уздцы старый седой солдат. Лицо бородатого всадника очень напоминало портрет, вырезанный на материнском золотом медальоне. Он оглядывался вокруг, слегка щурясь. Старый солдат развернул коня в нужную сторону. Встретив взгляд жениха, Эвридика вдруг поняла, что он смертельно напуган. Она о многом передумала по дороге, она втайне осмеливалась представлять себе очень разные варианты их первой встречи, но совершенно не ожидала, что ее вид вызовет в нем такой страх.
Подбадриваемый солдатами, Филипп спешился и направился к колеснице, устремив на восседающую в ней особу взгляд голубых глаз, исполненный глубочайшего опасения. Эвридика улыбнулась ему.
— Как ты поживаешь, Арридей? Я твоя кузина, Эвридика, дочь твоего дяди Аминты. Я только что прибыла из Македонии. Александр выбрал меня тебе в невесты.
Восхитившись ее живой и бойкой речью, солдаты одобрительно загалдели и принялись скандировать:
— Да здравствует царь!
Лицо Филиппа прояснилось; он услышал свое прежнее имя. Когда к нему так обращались, на него не взваливали никаких неприятных обязанностей, с ним не проводили никаких угнетающих репетиций перед встречами с раздраженными воинами. Александр всегда называл его Арридеем и никогда не пугал его, адоставлял одни только радости. Этадевушка чем-то напомнила ему Александра. Осторожно, уже почти без боязни он спросил:
— И ты хотела бы выйти за меня замуж?
Грубо захохотавшего солдата мгновенно утихомирили его Же приятели. Остальные с интересом наблюдали за развитием разговора.
— Если ты этого захочешь, Арридей. Александр хотел, чтобы мы поженились.
Явно пребывая в нерешительности, царь закусил губу. Внезапно он повернулся к старому воину, державшему поводья его коня:
— Конон, надо ли мне жениться на ней? Александр говорил нам об этом?
Нара-другая солдат зажала себе рты руками. Прислушиваясь к глухому ворчанию толпы, Эвридика осознала, что старый слуга пристально изучает ее. Перед ней стоял неколебимый защитник своего господина. Не обращая внимания на солдатский ропот, из которого даже вырывались непристойные возгласы, побуждающие царя сговориться с девчонкой, пока та не сбежала, Эвридика смело встретила взгляд Конона:
— Я хочу ему только добра.
Настороженность в выцветших глазах смягчилась. Старик слегка кивнул и повернулся к Филиппу, по-прежнему с тревогой смотревшему на него.
— Да, государь. С этой царевной ты был обручен, Александр выбрал ее тебе в невесты. Она красивая и смелая госпожа. Протяни ей руку и любезно попроси стать твоей женой.
Эвридика взяла послушно протянутую царем руку. Большая, теплая и мягкая, она трогательно обхватила ее пальцы. Девушка ответила ободряющим пожатием.
— Кузина Эвридика, ты хочешь выйти за меня замуж? Прошу тебя. Солдаты хотят, чтобы ты согласилась.
Не выпуская его руки, она сказала:
— Да, Арридей. Да, царь Филипп, я согласна.
Разрозненные одобрительные восклицания переросли в настоящую овацию. В воздух полетели широкополые солдатские шляпы. С удвоенным рвением люди принялись прославлять Гименея. Они уже уговаривали Филиппа сесть в колесницу к невесте, когда на сцене появился побагровевший Пердикка, едва не задохнувшийся от бега по крутым и извилистым лестницам древней крепости.
Он выразительно посмотрел на Алкету. Оба отлично знали, что с охваченными столь бурным единодушием македонцами спорить опасно. Это удавалось лишь Александру, который даже зачинщиков бунта в Опиде решился арестовать самолично, спрыгнув с помоста в толпу. Но такой магической силой обладал один Александр, любого другого разорвали бы на куски. Алкета заметил, что, несмотря на душившую его брата ярость, тот приосанился и взял себя в руки.
Стоявшая в колеснице Эвридика сразу догадалась, кто к ним идет. На мгновение она почувствовала себя маленькой девочкой перед грозным разгневанным воспитателем. Но она отважно взглянула на знаменитого полководца, поддерживаемая пробудившейся внутри ее силой, природа которой была ей не ясна. Эвридика знала, что приходится внучкой царю Филиппу и царю Пердикке, а также правнучкой иллирийскому вождю Барделису, наводившему ужас на соседние племена, однако она не подозревала, что унаследовала от них не только гордость, но также властность и крутой нрав. Кроме того, героические легенды, какими в невольном уединении подпитывался дух юной воительницы, непреложно свидетельствовали, что в ее теперешнем положении нет ничего нелепого или непристойного. Еще она точно знала, что рукоплещущие ей воины не должны видеть в ней страха.
Филипп, держась одной рукой за борт колесницы, препирался с мужчинами, пытавшимися подсадить его. Вдруг он схватил невесту за локоть.
— Гляди! — сказал он. — Вон Пердикка. Он идет к нам.
Она успокаивающе погладила его пальцы.
— Да, я вижу его. Залезай сюда и вставай рядом со мной.
Филипп забрался наверх, вдохновляемый солдатами, поддержавшими колесницу, опасно накренившуюся под его весом. Вцепившись в бортовой поручень, он застыл с испуганным и вызывающим видом; она стояла бок о бок с ним, призывая на помощь всю свою храбрость. Тем не менее они все равно °брели сейчас жутковатое сходство с какой-то победоносной парой своих гордых и могущественных предков. Солдаты с явной насмешкой встретили Пердикку громогласными свадебными кличами. Тот подошел к колеснице; все затаили дыхание. Но он лишь поднял в знак приветствия руку.
— Поздравляю, царь. Поздравляю тебя, дочь Аминты. Я рад, что царь выехал встретить тебя.
— Мне сообщили солдаты, — осторожно пробурчал Филипп.
Звонкий голос Эвридики дополнил:
— Государь был очень великодушен.
Филипп встревоженно озирал этих двух претендентов на главную роль в его жизни. Пердикка не выразил никакого неодобрения. Публика, состоящая из солдат, была также довольна. Губы полководца изогнулись в снисходительной улыбке. Предусмотрительно спрятав от чужих глаз свое почти невероятное изумление, Эвридика поняла, что на данный момент победа осталась за ней.
— Пердикка, — сказала она, — благословляемый добрыми македонцами царь попросил моей руки. Но, как ты знаешь, сегодня убили мою мать, сестру Александра. Прежде всего я должна организовать ее похороны.
Эти слова встретил почтительный и одобрительный гул. Пердикка со всевозможной учтивостью поспешил дать согласие на проведение церемонии. Окинув пристальным взглядом хмурые лица, вспомнив об Антипатре, направлявшемся к морю Геллы, он добавил, что смерть высокородной Кинны была результатом ужасного недоразумения, возможно вызванного чрезмерно бурным всплеском ее героизма. Это дело, безусловно, будет расследовано в кратчайшие сроки.
Эвридика склонила голову, осознавая, что никогда уже не узнает, какой приказ получил Алкета на деле. Но по крайней мере, теперь Кинну возложат на погребальный костер с подобающими военными почестями, и однажды ее пепел обязательно вернется в Эгию. Пока же необходимо смело и решительно совершить все ритуальные действа. А уж какова цена крови покойной, пусть решат боги.
* * *
Сразу по окончании похорон Пердикку известили о том, что погребальный кортеж Александра движется в сторону Египта.
Это поразило его точно удар грома. До сих пор все мысли Пердикки были сосредоточены на угрозе, исходящей с севера, со стороны разъяренного тестя, к которому он уже успел отправить Никею. А тут вдруг возникла настоятельная необходимость двинуть войска и на юг.
Эвмен по-прежнему находился в распоряжении Пердикки и был призван им в Сарды, как только с севера пахнуло войной. Они оба отлично понимали, что эту ситуацию, собственно, сам Пердикка и создал, пренебрегши советом Эвмена безотлагательно выступить в Македонию, открыто женившись на Клеопатре и отослав девственную Никею домой. Но об этом, конечно, не стоило и заикаться. Эвмену, как и Кассандре, не суждено было ожидать от своей правоты добрых всходов. Македонцы не могли допустить, чтобы какой-то грек вдруг оказался хоть в чем-то умнее их. Поэтому Эвмен воздержался от напоминания, что Пердикка, заручившись поддержкой царственной новобрачной, мог бы уже стать регентом Македонии и тем самым непреложно возвыситься над Птолемеем; пока он решил просто высказать сомнение, что правитель Египта вообще собирается воевать.
Все действия Птолемея в Египте направлены на укрепление собственной власти и налаживание нормальной жизни. Разумеется, он честолюбив, но далеко ли распространяется его честолюбие? Конечно, перехват погребального кортежа Александра — откровенная наглость, однако ему, возможно, лишь хочется укрепить славу Александрии. Станет ли он тревожить нас, если мы оставим его в покое?
Он уже присоединил к своим владениям Киренаику. К тому же зачем ему понадобилось набирать такую многочисленную армию?
— Видимо, у него свои резоны. Если ты пойдешь против него, она ему как раз и понадобится.
Пердикка сказал с неожиданной злобой:
— Ненавижу этого выскочку!
Эвмен предпочел промолчать. Он помнил, как Птолемей, еще будучи долговязым юношей, усаживал маленького Александра на лошадь перед собой, отправляясь на верховые прогулки. Пердикка подружился уже со зрелым властителем, но друзья детства имели в глазах того особую стать. Александр ценил своих подданных по заслугам. Даже Гефестион начинал у него с нижних чинов, и Пердикка в итоге обогнал Птолемея. Однако именно Птолемей подходил Александру как хорошо разношенный удобный сапог, а с преданным и усердным Пердиккой царь никогда достаточного приволья не ощущал. Птолемей же не только усвоил уроки, преподнесенные ему Александром, но и сам интуитивно чувствовал, как следует обходиться с людьми. Он понимал, когда можно ослабить поводья и когда необходимо пристрожить солдат, умел быть щедрым, знал, кого следует выслушать и с кем не грех при случае посмеяться. Пердикка сердился на нехватку в себе этого шестого чувства, как человек порой сердится на свою близорукость, и зависть разъедала его.
— Он точно зловредный пес, пожирающий вверенное ему стадо. Если его не отделать хлыстом, то дурной пример заразит остальных.
— Возможно, но пока он еще только облизывается. А вот Антипатр и Кратер уже сейчас выступили в поход.
Пердикка упрямо скрипнул зубами. «Он изменился, — подумал Эвмен, — и чуть ли не прямо с того дня, как ушел Александр. Изменились его запросы. Они стали непомерно высокими, и он сам это понимает. Александр умел как-то сдерживать нас».
Пердикка сказал:
— Нет, с Птолемеем мешкать нельзя. Египетского змееныша надобно уничтожить в зародыше.
— Тогда, возможно, нам придется разделить войска, — произнес Эвмен неопределенным тоном: он и так сказал чересчур много для грека, которому не пристало очень уж откровенничать с македонцами.
— Такова необходимость. Ты пойдешь на север и остановишь войска Антипатра у моря Геллы. А я разберусь с Птолемеем, разберусь окончательно… Но перед выступлением нам еще надо устроить эту проклятую свадьбу. Иначе воины и не подумают идти за нами. Я слишком хорошо знаю их.
* * *
Позже в тот же день Пердикке пришлось долго уламывать Клеопатру. В результате с помощью лести, жесткой логики, страстной мольбы и того обаяния, которое ему удалось из себя выжать, он убедил ее выступить в почетной роли посаженой матери Эвридики. Войска твердо настроились на эту свадьбу, и ее нужно провести со всей обходительностью и благожелательностью. Нельзя допускать никаких злобных выпадов, поскольку те могут дорого им обойтись.
— Когда убили Филиппа, — заметил он, — эта девушка была еще ребенком. Мне сомнительно даже, что Аминта вообще участвовал в заговоре. Я присутствовал на допросе.
— Да, я тоже в том сомневаюсь. Но вся эта затея со свадьбой мне лично кажется отвратительной. Неужели у этой девчонки совсем нет стыда? Ладно, у тебя и так хватает неприятностей, не буду их усугублять. Если уж Александр одобрял их союз, то я полагаю, что могу поступить так же.
Эвмен не стал дожидаться свадебных торжеств. Он немедля выступил навстречу Антипатру и Кратеру (очередному из зятьев Антипатра), ему предстояло руководить македонскими полками с их шаткой и сомнительной преданностью чужеродному для них греку. Однако Эвмен давно стерпелся с непреходящей неприязнью к себе. Пердикка, чья миссия была менее срочной, задержался еще на неделю, чтобы дать своим войскам как следует погулять.
За два дня до праздничной церемонии взволнованная служанка вбежала в покои, где в свое время обитала главная жена старого Креза, и объявила, что властительница Эпира пришла навестить госпожу.
Клеопатра явилась в великолепном парадном облачении. Олимпиада ни в чем не ограничивала свою дочь, с тех пор как та покинула дом, впрочем, скупость никогда не относилась к ее порокам. И дочка Олимпиады разоделась по-царски и принесла с собой царские подарки: широкое золотое ожерелье и рулон ткани, богато расшитой лазуритом и золотом. На мгновение Эвридика ошеломленно замерла. Но помимо воинских навыков Кинна привила ей и сдержанность в поведении; девушка приняла дары со скромным достоинством, чем невольно тронула Клеопатру. Она вспомнила свою собственную свадьбу, когда ее семнадцатилетней девчонкой выдали замуж за дядюшку, годящегося ей в отцы.
Обменявшись любезностями и церемонно отведав сладкое угощение, Клеопатра, как и положено, перешла к обсуждению свадебного обряда. Чисто по-деловому, поскольку в данном случае не могло быть и речи о традиционных для подобных встреч озорных женских шутках. В итоге возобладала оправданная заботливость. Из чувства долга гостья попеняла невесте на мелкие промахи, но была к ней снисходительна. Эта печальная настороженная малышка в свои пятнадцать осталась сиротой в этом мире: что она может сейчас понимать? Клеопатра любовно огладила незаконченное шитье и оторвала взгляд от своих унизанных кольцами пальцев.
— Говорят, ты познакомилась с царем при ужасно прискорбных обстоятельствах, но успела немного поговорить с ним. Возможно, ты уже заметила, что он несколько незрел для своих лет.
Эвридика прямо встретила вгляд гостьи и, решив, что у нее добрые намерения, сочла за лучшее ответить вежливо.
— Да. Александр предупреждал мою мать о таком недостатке, и я также заметила его.
Это звучало обнадеживающе.
— В таком случае что же ты намерена делать после свадьбы? Пердикка готов предоставить тебе эскорт для путешествия в Македонию к твоей родне.
Эвридика задумалась. Вряд ли это приказ, поскольку ее не могут принудить к отъезду. Она ответила спокойным тоном:
— Царь имеет право обрести в моем лице верную подругу, если он в таковой нуждается. Я останусь на какое-то время, поживем — увидим.
На следующий день все почтенные особы, какие только имелись в Сардах, от жен старших командиров и чиновников до нескольких робких лидиек в экзотических богатых нарядах, пришли почтительно приветствовать царскую невесту. Позже послеполуденное затишье, священно почитавшееся со времен Креза, нарушил еще один гость. Взволнованная служянка объявила о приходе посланца от жениха.
Старый Конон, войдя в гостиную, выразительно поглядел на служанок. Эвридика отослала их прочь и спросила, что за послание он ей принес.
— Приветствую тебя, госпожа… желаю здоровья и радости, и да приблизят боги счастливый день твоей свадьбы.
Произнеся вступительную фразу, старик тяжело вздохнул. Что же за этим последует? Эвридика, терзаясь неведением, помрачнела, замкнулась. Конон с возросшей нервозностью и торжественностью продолжил:
— Госпожа, ты пришлась ему по душе, это очевидно. Он постоянно говорит теперь о кузине Эвридике, раскладывая свои любимые вещицы, которые мечтает показать тебе, но… Но, госпожа, я начал заботиться о нем, когда он был еще юношей, и знаю все его слабости и привычки, появившиеся у него в раннем детстве из-за болезни или дурного обхождения. Пожалуйста, госпожа, не прогоняй меня от него. Ты поймешь, что я никогда не позволяю себе быть назойливым или дерзким. Просто дай мне испытательный срок, и ты сама убедишься, приношу ли я ему пользу, о большем я не прошу.
Только-то и всего! От облегчения ей даже захотелось обнять старика, но, конечно, она этого не показала.
— По-моему, я уже видела тебя при царе. Твое имя Конон, не так ли? Да, мне хотелось бы, чтобы ты остался с ним. Пожалуйста, передай это царю, если он спросит.
— Ему даже в голову не придет спросить, госпожа. Подобная перемена могла бы сильно расстроить его и встревожить.
Слегка успокоенные, они обменялись взглядами, но все еще настороженными. С трудом подыскивая слова, Конон выложил то, о чем следовало упомянуть.
— Госпожа, он не привык к большим празднествам, хотя Александр иногда и пытался приобщить его к ним. Наверное, тебе сказали, что порой у него бывают припадки. Но ничего страшного, в таких случаях его надо лишь оставить на мое попечение, и он быстро придет в нормальное состояние.
Эвридика сказала, что она так и намерена поступать. Они вновь погрузились в неловкое молчание. Конон опять вздохнул. Эта бедняжка могла бы хоть как-то сама попробовать выведать у него то, о чем ему неудобно сказать ей. А сказать надо бы, ведь ее жених не имеет ни малейшего понятия об интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Наконец, покраснев от смущения, он решился.
— Госпожа, ты ему очень нравишься. Но сам он не станет беспокоить тебя. Это не в его натуре.
Эвридика была не настолько наивной, чтобы не понять сказанное. Собрав все свое достоинство, она произнесла:
— Благодарю тебя, Конон. Я уверена, что мы с царем найдем общий язык. Ты можешь жить спокойно.
В день свадьбы Филипп проснулся рано. Конон обещал, что сегодня он сможет надеть пурпурную мантию с большой красной звездой. Кроме того, он станет мужем кузины Эвридики. Ей, возможно, разрешат жить у него, и он будет видеться с ней, когда захочет. Это ему сказал сам Пердикка.
В то утро воду для умывания в большом серебряном кувшине принесли два нарядно одетых юноши, и напоследок они окатили его этой водой с пожеланиями удачи. Конон поспешил объяснить ему, что именно так проводится ритуальное омовение жениха. Филипп заметил, что юноши обменялись насмешливыми взглядами, но такое случалось частенько.
За стенами дворца началось массовое гулянье с веселыми песнями, с шутками. Царя уже переселили из привычной палатки в дворцовые покои; он ничего не имел против такого переезда, раз уж ему позволили взять с собой все любимые камушки. Кроме того, Конон пояснил, что знатной даме не уместиться в походном шатре, а во дворце она поселится по соседству.
Юноши помогли царю нарядиться в прекрасную мантию, потом пришел Пердикка и повел Филиппа приносить жертвы в маленький храм Зевса, возвышавшийся на вершине холма. Александр построил это святилище в том самом месте, где на землю упал небесный огонь. Пердикка подсказывал, когда надо бросить ладан на горящее мясо и с какой молитвой обратиться к могучему богу. Филипп сделал все правильно, и люди разразились хвалебным пеаном, только никто потом не похвалил его лично, как обычно поступал Александр.
Пердикка имел весьма веские основания устроить великолепную церемонию. Ведь как-никак это стараниями Алкеты невеста лишилась близких, способных организовать достойное свадебное торжество. Хорошо хоть Клеопатра согласилась держать ритуальный светильник в опочивальне для новобрачных. Но главное — пышное празднество должно было порадовать и смягчить сердца грубых солдат.
В середине дня возникла проблема; два посланных вперед нарочных сообщили о скором прибытии госпожи Роксаны. Вконец замотавшийся в суетных хлопотах Пердикка совершенно о ней позабыл и даже не удосужился пригласить на свадьбу.
Для бактрийки, влекомой по городу в закрытых носилках, спешно подготовили комнаты. Любопытные горожане высыпали на улицы, солдаты пусть вяло, но все же приветствовали кортеж. Все эти женитьбы Александра на чужеземках были им, в общем-то, не по нутру, но сейчас, после смерти своего царственного супруга, Роксана словно бы стала своеобразным носителем его ауры. Кроме того, она являлась матерью его сына и сейчас везла ребенка с собой. Македонская царица не преминула бы поднять малыша и показать людям, но знатным бактрийским дамам не пристало заискивать перед простонародьем. У мальчика резались зубки, он капризничал, поэтому из-за занавесей паланкина доносилось детское хныканье.
Облаченный в праздничную одежду Пердикка самым будничным тоном поздоровался с вдовствующей царицей и пригласил ее на торжество, проводимое, как он сказал, в срочном порядке ввиду угрозы войны.
— Ты ничего не сообщил мне об этом! — сердито воскликнула Роксана. — Интересно, какую это пастушку вы тут приискали для государя? Уж если он собрался жениться, то ему следовало взять в жены меня.
— В Македонии, — холодно сказал Пердикка, — наследник покойного властелина не наследует его гарем. А внучка двух царей чем не невеста Филиппу?
Возникла насущная необходимость определиться с приоритетами. Свадьбы Александра и его командиров с аристократками завоеванных стран вершились по местным обычаям. Роксана, не знакомая с македонскими традициями, никак не желала понять, почему именно Клеопатра исполняет роль посаженой матери, и пылко отстаивала свое первенство.
— Ведь именно я, — выкрикнула она, — мать отпрыска Александра!
— И поэтому, — рыкнул Пердикка, тоже едва не ударившись в крик, — ты являешься всего лишь родственницей со стороны жениха. Я пришлю к тебе человека, способного объяснить тонкости нашего свадебного обряда. Позаботься о достойном исполнении своей роли, если хочешь, чтобы солдаты признали твоего сына. Не забывай, что им дано и отвергнуть его.
Последнее заявление поумерило ее пыл. «А он изменился, — подумала она, — стал более хладнокровным, грубым, высокомерным. Видимо, не может простить мне смерть Статиры». Она не подозревала, что, кроме нее, перемены в Пердикке заметили и другие.
* * *
Весь день Филипп с нетерпением ждал свадебной прогулки. И она не разочаровала его. Последний раз он был так счастлив, когда катался на могучих слонах.
Ему позволили надеть любимую пурпурную мантию и золотую корону. Рядом сидела невеста в желтом платье и венке из желтых цветов, который удерживал на ее голове ниспадающее на спину желтое покрывало. Он думал, что они поедут на колеснице вдвоем, и огорчился, когда туда влез и Пердикка. Ведь Эвридика выходит замуж за него одного. Пердикка не может жениться на ней вместе с ним. Ему поспешно объяснили, что Пердикка исполняет обязанности шафера, но он слушал только кузину. Теперь, когда у него появилась жена, он почти не боялся грозного царедворца и готов был вытолкнуть его из возка.
Влекомая белыми мулами колесница ехала по священной Дороге Процессий, которая, изгибаясь и забирая то вправо, то влево, полого спускалась по склону. Ее обступали древние статуи и святилища — величественные создания лидийских, персидских и греческих мастеров. Повсюду реяли флаги и покачивались гирлянды, после захода солнца зажглось множество факелов. На всем пути свадебный выезд бурно приветствовали восхищенные зрители, забравшиеся на крыши домов.
Мулов укрыли золотистыми сетчатыми попонами, отделанными бахромой и кистями, а вели их солдаты в красных плащах и венках. Впереди и сзади шествовали музыканты, исполнявшие что-то лидийское на флейтах и дудках. Мерно позвякивали колокольчики систр, громко звенели большие кимвалы. Словно волны вздымались доброжелательные крики многоязыкой толпы. Зарево заката побледнело и выцвело, а факелы засияли, как звезды.
Переполняемый чувствами Филипп взглянул на свою спутницу и спросил:
— Ты счастлива, кузина Эвридика?
— Счастлива как никогда.
И действительно, такого великолепия она не могла себе и представить. В отличие от своего суженого ей еще не приходилось сталкиваться со столь яркими проявлениями азиатского неуемного стремления к роскоши. Громкая музыка, радостный гул приветливых голосов будоражили ее, как вино. Она словно попала в родную стихию, о существовании которой ранее даже не подозревала. Не зря же она была дщерью Аминты, царевича, не сумевшего справиться с искушением, когда ему предложили корону.
— Но теперь, — добавила она, — тебе не надо больше называть меня кузиной. Гораздо важнее для нас то, что я стала твоей женой.
Свадебное пиршество состоялась в тронном зале, где на особом возвышении располагались почетные кресла для знатных дам и увитый цветами трон новобрачной. На столах вокруг лежали богатые подношения и приданое. С каким-то отрешенным изумлением Эвридика в очередной раз пробежала взглядом по сияющим самоцветами кубкам и вазам, рулонам прекрасной цветной шерсти, которые Кинна заботливо вывезла из Македонии. Не хватало только одной семейной ценности — серебряного ларца, в котором хранились теперь ее обугленные останки.
Клеопатра подвела новобрачную к уставленному роскошными яствами царскому столу, чтобы та взяла свой кусок свадебного каравая, рассеченного мечом новобрачного. Было очевидно, что Филиппу впервые доверили меч, но он смело разрубил ритуальный хлеб пополам, как ему подсказали, и, когда его суженая попробовала свою половину (главный момент свадебного обряда!), спросил, понравилось ли ей угощение, добавив, что попавшаяся ему половина могла бы быть и послаще.
Вернувшись к своему трону, она выслушала гимн, исполненный девичьим хором. Хор состоял в основном из лидиек, нещадно коверкавших греческие слова, а нескольким гречанкам при всем старании не удавалось перекричать их. Потом Эвридика осознала, что окружающие ее женщины принялись вдруг взволнованно перешептываться, явно готовясь к очередному действу. С легким содроганием она догадалась, что после окончания песни ее поведут в брачную опочивальню.
На протяжении всей свадебной церемонии, занявшей чуть ли не целый день, она отгоняла от себя мысли об этом моменте, думая лишь о будущей своей жизни или просто стараясь впитывать в себя настоящее во всей его полноте.
— Ты хорошо усвоила наставления?
Голос с сильным чужеземным акцентом прозвучал над самым ухом. Вздрогнув, она оглянулась. Лишь нынешним утром ее познакомили с вдовой Александра, маленькой, увешанной драгоценностями особой, наряд которой был расшит множеством золотых бусин и жемчугами, а уши оттягивали большие, как голубиные яйца, рубины. Она выглядела просто сногсшибательно и воспринималась скорее не как женщина, а как сверкающее праздничное украшение. И вот сейчас Эвридика вновь встретила жгучий в своей злобной сосредоточенности взгляд двух больших черных глаз, белки которых ярко поблескивали между веками, обведенными черной краской.
— Усвоила, — тихо сказала она.
— Да неужели? Я слышала, что твоя мать предпочитала Мужские забавы, так же как и твой отец. Достаточно взглянуть На тебя, чтобы поверить в справедливость таких слухов.
Эвридика уставилась на нее, словно зачарованная хищником жертва. Роксана, сверкая черными глазами, будто маленький головастый сорокопут, склонилась к ней, опасно креня свое кресло.
— Раз уж ты знаешь все, что положено, то сможешь научить и своего муженька. — Рубины бактрийки кроваво полыхнули, достигшая кульминации песня не заглушала пронзительного голоска. — Александр обходился с ним как с комнатной собачонкой. Приучил ходить за собой по пятам, а порой отсылал обратно на псарню, чтобы песик не путался под ногами. Настоящим царем будет мой сын.
Пение смолкло. На возвышении затеялась возбужденная суета. Клеопатра, вспомнив, как вела себя в подобных случаях Олимпиада, поднялась с кресла. Остальные поднялись вслед за ней. Немного помедлив, Роксана также соизволила встать, окинув всех вызывающим взглядом. Привыкшая к официальным греческим приемам при дворе своего отца Клеопатра с высоты своего македонского роста глянула на низкорослую бактрийку и сказала:
— Не забывай, зачем мы собрались. И по возможности веди себя достойно. Настал наш черед. Девушки, несите факелы! Слава Гименею! Да ниспошлет он счастье новобрачной!
* * *
— Смотри! Смотри! — сказал Филипп сидевшему рядом Пердикке. — Кузина Эвридика уходит!
Он ветревоженно вскочил на ноги.
— Не спеши!
Схватив новобрачного за подол пурпурной мантии, Пердикка опять усадил его на пиршественную кушетку. С грубоватым добродушием он добавил:
— Она пошла переодеваться. Не волнуйся, вскоре мы отведем тебя к ней.
Ближайшие к ним почетные гости, равно как и сносно понимающие по-гречески и выделяющиеся необыкновенным изяществом юные лидийские слуги начали приглушенно шушукаться. Пердикка, понизив голос, сказал:
— Теперь выслушивай поздравления, а когда кто-нибудь повернется к тебе, улыбайся. Все сейчас будут пить за тебя.
Филипп в знак согласия поднял резной позолоченный кубок, извлеченный специально для торжества из кладовой, где хранились сокровища Ахеменидов, еще при персидском владычестве попавшие в Сардский дворец. Стоявший за царем Конон проворно отстранил слишком рьяного слугу и наполнил драгоценную чашу из специального кувшина тем сильно разбавленным водой вином, какое в Греции дают даже детям. Старый ветеран выглядел довольно нелепо среди прислуживающих за столом стройных лидийских мальчиков и знатных македонских пажей.
Пердикка, как шафер, встал и произнес речь, вспомнив героических предков новобрачного, и в частности его деда, чье славное имя тот так удачно получил по наследству. Не забыл он упомянуть и о родне его матери, знаменитой Лариссы, взращивавшей лихих скакунов. Его похвалы новобрачной были не менее звучными, хотя и немного туманными. Филипп, увлеченно кормивший забежавшего под стол курчавого белого пуделя, успел вовремя спохватиться и, услышав заздравные возгласы, послушно растянул губы в улыбке.
Один из уцелевших дальних родичей царственной новобрачной выступил с ответным тостом, в традиционно церемонных выражениях похвалив красоту невесты, ее добродетели и высокое происхождение. Гости вновь подняли заздравные чаши и осушили их, шумно выражая свое одобрение. Настало время серьезного возлияния.
Быстро пустевшие кубки мгновенно вновь наполнялись, лица пирующих раскраснелись, венки начали сползать с голов, а голоса зазвучали с утроенной силой. Тридцатилетние командиры наперебой хвастались своими победами. Как военными, так и амурными: умерший молодым Александр в основном приближал к себе лишь молодежь. Более пожилым ветеранам эта по-настоящему македонская свадьба напомнила о праздниках их давней юности. Взгрустнув о былом, они принялись выкрикивать фаллические присловья, издревле веселившие люд на таких торжествах.
Знатные пажи не забывали потчевать и друг друга. Вскоре один из них сказал:
— Бедный малый! Старина Конон мог бы позволить ему хоть на свадьбе отведать порядочного винца. Возможно, оно возбудит в нем любовный пыл.
Он вместе с приятелем направился к кушетке Филиппа.
— Конон, Аристон просил меня передать, что он хочет выпить за твое здоровье.
Конон просиял и оглянулся, ища взглядом доброжелателя, Пердикка тоже отвернулся от царя, увлекшись беседой с одним из гостей. Улучив подходящий момент, второй паж незаметно наполнил царский кубок крепким вином. Филипп попробовал новый напиток, оценил его и, быстро осушив кубок, потянулся за добавкой. К тому времени, когда Конон заподозрил неладное и сердито разбавил вино своего подопечного, тот уже дважды успел основательно приложиться к нему.
Подвыпившие мужчины грянули разухабистый сколион — хоровую скабрезную песнь. Ее непристойное содержание считалось вполне допустимым на свадьбах, но Пердикка был начеку. Он хорошо понимал, что сегодня нельзя превращать пир в попойку. Из приличия можно позволить гостям еще сколько-то посидеть за столом, а потом нужно будет все это свернуть. Строгий шафер отставил в сторону чашу, зорко следя за происходящим вокруг.
Филипп ощутил прилив благодушия и веселья. Отбивая по столу ритм сколиона, он сам уже громко распевал:
— Я женат, я женат, я женат на Эвридике!
Белый пудель крутился у его ног; царь подхватил кобелька на руки и поставил на стол, пес немедленно перескочил на соседний стол, потом на другой, роняя кубки, вазы с фруктами и цветами, однако его быстро согнали на пол, и он убежал, обиженно взвизгивая. То и дело общий гомон взрывали раскаты громогласного смеха, изрядно захмелевшие гости наперебой провозглашали древние как мир тосты, вдохновляющие мужчин на геройские подвиги в первую брачную ночь.
Филипп озирал публику затуманенным взором, в котором мелькало тревожное опасение. В духоте многолюдного зала, усугубляемой чадом множества факелов, под плотной пурпурной мантией ему вдруг сделалось слишком жарко. Он беспокойно заворочался и попытался стащить с себя нарядное облачение.
Пердикка понял: пора. Он подозвал факельщика и объявил, что настало время выхода новобрачного.
Тем временем Эвридика в ночной рубашке из мидийского шелка лежала в роскошной, благоухающей изысканными ароматами постели, близ которой толпились все почтенные дамы местных знатных семейств. Сейчас они свободно переговаривались между собой, хотя поначалу, согласно ритуалу, всемерно пытались вовлечь новобрачную в разговор, быстро увядший, поскольку никто из них не был близко знаком с ней. В итоге от обычных свадебных шуток пришлось воздержаться, и женщины принялись развлекать себя сами, пытаясь хоть как-то скрасить скучное ожидание прихода мужчин. В основном со снисходительного разрешения Клеопатры публику занимала Роксана, вдохновенно описывавшая куда более роскошные празднества, какие устраивал некогда Александр.
Вокруг витали терпкие запахи разгоряченной женской плоти, кедровых сундуков с одеждой и душистых трав, сбрызнутых экзотическими апельсиновыми и розовыми эссенциями, и все-таки Эвридика, чувствуя себя совершенно потерянной в этом чужом для нее окружении, предпочитала настороженно прислушиваться к отдаленным мужским ликующим голосам. В опочивальне было тепло, однако ноги девушки, укрытой льняной простыней, совсем заледенели. Дома она привыкла спать под шерстяным одеялом. Сама комната казалась огромной; когда-то здесь почивал знаменитый царь Крез. Стены сплошь покрывали мраморные панели в разноцветных разводах, пол устилали квадраты порфировых плит. Брачное ложе заливал ярким светом персидский светильник в виде букета позолоченных лотосов; может, потом кто-то сжалится и погасит его? Эвридике никак не удавалось избавиться от навязчивых мыслей о предстоящем совокуплении с суженым, о непомерной силище его рук, а также о странном приторно-сладком душке, от него исходящем. От волнения она сегодня почти не прикасалась к еде, но то, что ей удалось проглотить, теперь лежало камнем в желудке. А вдруг ее вытошнит прямо в постели? Как жаль, что мать не может ее поддержать! Только сейчас девушка полностью осознала всю горечь своей потери и с ужасом ощутила, что у нее защипало под веками. Но если бы Кинна была с ней в этот миг, то ее, без сомнения, удручил бы вид дочери, плачущей на глазах у врагов. Эвридика стиснула зубы и, судорожно вздохнув, молча подавила зарождающиеся рыдания.
За спинами почтенных матрон шушукались подружки новобрачной. Повинуясь нехитрому свадебному порядку, они уже исполнили ритуальную песню, окропляя благовониями брачное ложе, и теперь изнывали от вынужденного безделья. Сбившись в стайку, все эти сестры, приятельницы и кузины то и дело разражались приглушенным хихиканьем, затихавшим до шелеста ветерка в неокрепшей листве под строгими взглядами старших. Эвридика слышала все: ей тоже оставалось лишь ждать. Потом внезапно она осознала, что шум в пиршественном зале изменился. Смолкло невнятное разудалое пение, застонал пол под ножками отодвигаемых кушеток. Мужчины прервали застолье, они шли сюда.
Словно воин, избавленный от длительного напряжения боевым кличем, она облегченно вздохнула и призвала на помощь всю свою храбрость. Скоро всем этим людям придется уйти, оставить ее вдвоем с мужем. И тогда она мирно поговорит с ним, может, расскажет пару древних историй. Старый Конон заверил, что сам он не станет к ней приставать.
Роксана тоже услышала приближение мужчин. Она повернулась, звякнув затейливыми рубиновыми сережками, и громко провозгласила:
— Желаю счастья и радости новобрачной!
* * *
Окруженный и подталкиваемый смеющимися хмельными факельщиками Филипп, путаясь в полах одежды и спотыкаясь на пологих ступенях лестницы, обрамленной красочными стенными панелями, с трудом продвигался к опочивальне.
У него кружилась голова, под плотной пурпурной мантией он весь взмок, к тому же его расстроило, что симпатичного белого пуделька так скоро прогнали. Он рассердился на Пердикку за то, что тот увел его из-за стола, а потом и на всех этих хохочущих мужчин, когда понял, над чем они потешаются. Гости утратили даже показную почтительность и откровенно скалили зубы, видя его боязливость и трепет. Он слышал шутки, звучавшие в зале, всех веселило то, что, по их представлениям, он должен был сделать сейчас с Эвридикой. Нечто дурное, такое, чего вообще нельзя делать в присутствии других людей. Когда-то давно его поколотили за то, что он подглядывал за уединившейся парочкой. А теперь, как ему вдруг взбрело на ум и в чем никому не пришло в голову его разуверить, они все вознамерились стоять и смотреть на него. И, сам не зная почему, Филипп был уверен, что кузине Эвридике это совсем не понравится. К сожалению, Пердикка крепко Держал его за руку, иначе он бы давно убежал.
— Уже поздно, — в отчаянии произнес Филипп. — Мне пора спать.
Мы как раз и хотим уложить тебя на брачное ложе, — ответил ему хор голосов. — Для того-то мы с тобой и идем, государь.
Провожатые разразились хохотом в предвкушении новой волны по-македонски разнузданного свадебного веселья, по какому истосковались за долгие годы военных походов ведомые Александром войска.
— Угомонитесь!
Неожиданно безрадостный, как у сердитого старого ворчуна, голос Пердикки слегка отрезвил всех. Филиппа ввели в аванзал и начали раздевать.
Бедняга позволил совлечь с себя пурпурную мантию, но, когда эти люди взялись за его пропитанный потом хитон, он не выдержал и парой мощных ударов разбросал в стороны двух ближайших кривляк. Остальные опять засмеялись, однако Пердикка с угрожающей мрачностью приказал Филиппу не забывать, что он царь. Тогда тот позволил переодеть себя в длиннуюбелую, расшитую золотой нитью рубашку. Ему разрешили воспользоваться ночным горшком (куда же запропастился Конон?), больше не оставалось причин для заминки. Царя подвели к дверям спальни. Оттуда доносился гул женских голосов. Неужели они тоже будут глядеть?!
Большие двери распахнулись. Эвридика, вжав локти в подушки, полулежала на огромной кровати. Смуглая маленькая рабыня, смеясь, пробежала мимо Филиппа с длинными щипцами, явно собираясь погасить висячие лампы. Мощная волна гнева, страдания и ужаса захлестнула его. В голове что-то зажужжало и загудело: бум, бум, бум! Всплывшие откуда-то воспоминания подсказали, что скоро в его мозгу полыхнет белая вспышка. Ну где же Конон? Он закричал:
— Свет! Свет!
И свет вспыхнул, точно молнией прошив все его тело.
Выжидающий в сумраке коридора Конон тут же вбежал в опочивальню. Без каких-либо церемоний он растолкал потрясенных и мгновенно отрезвевших гостей, с тревогой склонившихся над распростершимся на полу новобрачным. Достав из поясного мешочка маленький деревянный клинышек, верный слуга с трудом раздвинул челюсти своего подопечного и зставил это приспособление ему в рот так, чтобы западающий язык не мог перекрыть дыхание. С горькой укоризной и гневом старик пристально глянул на окружающих, но на лицо его быстро вернулась легкая озабоченность бывалого воина, еще раз столкнувшегося с очередной глупостью командиров. Он сказал Пердикке:
— Господин, я позабочусь о нем. Я знаю, что надо делать. Возможно, господин, женщинам лучше уйти.
Раздосадованные и смущенные мужчины посторонились, пропуская дам к выходу. Первыми, в панике забыв о всякой благопристойности, выбежали подружки новобрачной, дробный стук туфелек ссыпался вниз по леснице и затих. Знатные матроны, за день уже и так настрадавшиеся от строгостей протокола, бестолково сбились в кучку, ожидая выхода царственных вдов.
Эвридика беспомощно поглядывала на всех, завернувшись в алое с золотой бахромой покрывало. На ней была лишь тонкая свадебная рубашка; не может же она почти голой вылезти из кровати на глазах у этих мужчин и у старого Конона, хлопотавшего совсем рядом. Ее одежды висели на выточенном из слоновой кости стуле, задвинутом в дальний угол огромной опочивальни. Неужели ни одна из женщин не вспомнит о ней, не подойдет незаметно и не накинет на ее плечи хоть какой-нибудь плащ?
С пола донеслись странные звуки. Филипп, до сих пор лежавший, как бревно, неподвижно, вдруг дернулся раз-другой. Через мгновение у него начались спазмы, все его тело забилось в судорогах, подол рубашки задрался, обнажив ноги, непроизвольно лягавшие воздух.
— Желаю счастья и радости новобрачной! — язвительно бросила через плечо Роксана, стремительно проходя к двери.
— Все прочь отсюда! — резко бросила Клеопатра, покосившись на группу матрон, которые охотно потекли к выходу, старательно изображая, что ничего не видят, не слышат.
Подойдя к двери, Клеопатра помедлила и обернулась к кровати. В ее задумчивом полупрезрительном взгляде Эвридика уловила оттенок невольного сострадания.
— Ты не хочешь уйти? Мы найдем тебе чем прикрыться.
Она перевела взгляд на стул с одеждами новобрачной, одна из дам уже бежала к нему.
Эвридика посмотрела вслед вдове Александра, чей золотистый наряд еще поблескивал за дверьми. Подняв глаза на сестру недавнего властителя мира, она поняла, что та воспринимает ее как побитую шлюху, чей позор нужно скрыть ради чести семьи. Ей вдруг подумалось: «На деле я даже об Александре ничего толком не знаю, кроме того, что по его повелению убит мой отец. Может быть, боги прокляли их всех. Пусть я умру, но они все же повалятся предо мной на колени!»
Услужливая матрона принесла ей гиматий цвета шафрана — счастливого цвета плодовитости и наслаждения. Девушка молча закуталась в него и встала с кровати. Судорожные подергивания Филиппа начали затихать. Конон поддерживал ему голову, чтобы она не билась об пол. Выступив вперед, Эвридика окинула взглядом обеспокоенные лица и заявила:
— Нет, высокородная Клеопатра, я не могу уйти. Царь болен, и долг обязывает меня оставаться рядом с ним, с моим мужем. Пожалуйста, уходите.
Она взяла с кровати подушку и подложила ее под голову Филиппа. Теперь он принадлежал ей, они оба стали жертвами обстоятельств. Он сделал ее царицей, и она будет царствовать за них двоих. А пока его нужно уложить в кровать и хорошенько укрыть. Конон потом ей укажет, где можно приткнуться.
По древней дороге, проложенной вдоль восточного берега Средиземного моря, двигалась на юг растянувшаяся длинным обозом армия Пердикки; за основными полками следовали многочисленные слуги, торговцы свечами, кузнецы, плотники и кожевенники, погонщики со своими слонами и бесконечная вереница повозок с солдатскими женщинами и рабами. С обновленных крепостных стен Сидона, Тира и Газы их провожали взглядами толпы горожан. Миновало одиннадцать лет с тех пор, как прошел этой дорогой полный жизненных сил Александр, который совсем недавно, совершая последний свой путь, проплыл над ней в Египет под звон колокольчиков погребальной ладьи. Направлявшейся туда же армии до зевак не было дела, но ее продвижение означало начало какой-то войны, а войны подобны быстро распространяющимся пожарам.
321 год до н. э
Охраняемый с двух сторон вооруженными бактрийскими и персидскими евнухами фургон Роксаны следовал тем же курсом и точно так же, как он следовал в свое время за полками Александра из Бактрии в Индию, Дрангиану, Сузы, Персеполь и Вавилон. За долгие годы странствий это походное жилище не раз ремонтировалось и обновлялось, но неизменными, казалось, оставались витавшие в нем и вокруг него запахи тисненой крашеной кожи, являвшейся его кровлей, и благовоний, которые в каждом новом городе евнухи приносили на выбор своей госпоже. Даже сейчас подушки бактрийки все еще источали аромат, напоминавший ей о пребывании в жаркой Таксиле. Роксана упорно возила за собой тяжелые, усыпанные бирюзой чаши, красивые безделушки, подаренные на свадьбу родней, гравированные золотые тарелки из Суз и курильницу из Вавилона. Вся ее жизнь текла по давно установленному порядку, новизну в него привносил лишь ребенок.
В свои два года малыш выглядел несколько мелковатым, однако, по словам матери, рост достался ему от отца. В других отношениях, что было очевидно, мальчик походил на нее: мягкие темные волосы, яркие темные глазки. Непоседливый карапуз редко болел, зато лез в каждую щель, приводя в ужас всех нянек, обязанных оберегать его драгоценную жизнь с риском для собственной жизни.
Трясясь над сынком, Роксана, однако, старалась не ограничивать его свободы: он должен с самого детства ощущать себя подлинным властелином.
Раз в несколько дней ее навещал Пердикка, поскольку его избрали царским опекуном, о чем он неустанно напоминал ей всякий раз, когда они ссорились, что случалось частенько. Он обижался, что ребенок дичится его.
Это все потому, говорил он, что мальчик не видит настоящих мужчин.
— Его отец, пора бы тебе запомнить, не рос среди евнухов.
— А на моей родине дети покидают гарем только в пять лет и все равно успевают стать искусными воинами.
— Однако Александр победил их. И именно потому ты теперь здесь.
— Как ты смеешь, — кричала она, — причислять меня к полонянкам! Ты, пировавший у нас на свадьбе! О, как желала бы я, чтобы мой муж услышал твои слова!
— Ты можешь желать чего угодно и сколько угодно, — бросал Пердикка и отправлялся к другому своему подопечному.
* * *
Когда армия останавливалась на ночевку, Филиппу, как раньше, устанавливали палатку. Эвридике, ставшей теперь очень знатной особой, полагался личный фургон, там она и спала. Походное жилище Роксаны, конечно, было более роскошным, но раз уж Эвридика не видела его в глаза, то она сочла свою новую обитель вполне удобной и даже уютной после того, как там разместилось кое-что из ее собственного приданого. Особо довольна она была поместительным сундуком, где среди спальных принадлежностей хранились спрятанные ею перед отъездом оружие и доспехи.
Филиппа вполне устраивала такая семейная жизнь. Его очень смутило бы, если бы Эвридика вдруг пожелала ночами быть с ним, она ведь тогда вполне могла бы выгнать вон Конона. Днем же он с удовольствием делил с ней досуг, зачастую сопровождая верхом ее фургон и рассказывая о тех местах, где они проезжали. Филипп уже некогда проделал весь этот путь в военном обозе, следуя за солдатами Александра, и время от времени в его в памяти вдруг всплывали обрывочные картины прошлого. Как-то ему довелось очень долго прожить под стенами Тира.
Вечерами они по-семейному ужинали в царской палатке. Поначалу Эвридика с отвращением смотрела, как муженек Поглощает пищу, но постепенно с ее наставлениями его манеры заметно улучшились. Иногда, если лагерь располагался Неподалеку от моря, она вместе с Кононом выводила царя на прогулку, помогая ему собирать камни и ракушки, а помимо того занимая его беседой. Она часто рассказывала Филиппу услышанные от Кинны легенды о Македонии и о ее царях, ведущих свой род от юного Геракла, осмелившегося бросить вызов самому Гелиосу.
— Мы с тобой, — сказала однажды она, — скоро будем там править.
Смутная тревога плеснулась в его глазах.
— Но Александр говорил мне…
— Он говорил так только потому, что сам был царем. Но время его царствования уже закончилось. Теперь царем сделался ты, а раз уж мы поженились, то тебе следует меня слушаться. Я обо всем позабочусь и все тебе подскажу.
* * *
Миновав Синайские пустыни, войска очутились в Египте и встали лагерем на плоских прибрежных лугах. Впереди, в нескольких милях от них, располагался древний портовый город Пелусий, далее простиралась обширная дельта Нила, испещренная хитросплетениями проток и речных рукавов, а за всем этим находилась Александрия.
Под сенью финиковых пальм на берегах темных оросительных каналов, обрамленных высокими зарослями папируса, принялось обустраиваться беспокойное воинство. С южных пустынь уже задували теплые ветры, уровень воды в Ниле заметно понизился, на плодородных нильских наносах зрели богатые урожаи, неутомимые волы продолжали приводить в движение нехитрые механизмы деревянных водоподъемных колес. Истомившись после знойного перехода по Синайскому полуострову, индийские погонщики слонов, сорвав с себя легкие набедренные повязки, везде, где только можно, купали своих питомцем, радостно плещась вместе с ними и хохоча, когда те из хоботов окатывали их и себя струями пресной живительной влаги. Верблюды, надолго припав к воде, впрок пополняли ею свои скрытые полости, солдатские жены стирали белье и мыли детей. Маркитанты отправились на поиски продовольствия. Солдаты готовились к бою.
Пердикка, кликнув на совет командиров, обозревал окрестности. Он был с Александром в египетском походе, но с тех пор прошло одиннадцать лет, а за последние два года Птолемей успел здесь прочно обосноваться. Везде, где имелась возможность для переправы, на холмах и скальных выходах появились мощные каменные или деревянные укрепления. Дальше по берегу моря солдатам уже не пройти: Пелусий отлично защищали соленые топи. Придется обходить эти болота с юга.
Основной лагерь останется здесь. Пердикка возьмет с собой лишь небольшие маневренные войска, не обремененные тяжелым обозом и потому способные легко двигаться даже по бездорожью. Такой тактике он научился у Александра. В быстро сгущавшихся сумерках, подсвеченных розоватым пустынным маревом, удовлетворенный военачальник поехал обратно к своему шатру, чтобы основательно спланировать грядущий поход.
По всей территории стана среди беспорядочно раскиданных солдатских палаток потрескивали и ярко полыхали костры; возле тех, что поменьше, кухонных, суетились женщины, а вокруг больших, поскольку ночи стояли холодные, собирались компании человек по двадцать или по тридцать, чтобы разделить трапезу, состоящую из фасолевой густой похлебки с лепешками и оливками, освежиться терпким вином, а потом с удовольствием сдобрить выпивку финиками и сыром.
После ужина перед сном люди заметно расслабились, лениво болтая о том о сем, балагуры сыпали байками, где-то пели. Тогда-то и зазвучали по всему лагерю голоса, доносившиеся из темноты за кострами. Вкрадчивые, негромкие, они постепенно привлекали внимание отдыхавших истинно македонскими интонациями и оборотами речи. Пришельцы, прятавшиеся во мраке, называли знакомые имена, поминали былые сражениях под рукой Александра и павших друзей, отпускали старые добрые шутки. Не получив решительного отпора, они подбирались поближе, затем, в ответ на невнятные возгласы, подсаживались к огню. Разве не стоит в память о старой дружбе осушить вместе по кружке египетского вина? Завтра, кто знает, им, может, придется рубиться друг с другом, но сегодня все тут с легким сердцем вполне могут выпить за здравие тех, кто пока еще жив. Ночные гости охотно рассказывали о том, как им здесь живется. Да, Птолемей, конечно, не Александр, но он все же лучший из прочих. Он далеко не глуп как командир и очень заботится о солдатах. Всегда находит возможность помочь служивому в трудный час, а кто же еще сейчас на это способен? Кстати, какое жалованье положил Пердикка своим ветеранам? Какое?! (Укоризненное покачивание головой и длинный пренебрежительный присвист.)
— Наверное, он пообещал вам долю в трофеях? Ну разумеется, в Египте хватает добра, да только вряд ли вы до него доберетесь. Здешняя земля убивает чужаков, не знающих безопасных проток. Взять хотя бы египетских крокодилов, они не только крупнее индийских, но и гораздо коварнее.
Новым слушателям, подходившим к кострам, гости с удовольствием продолжали рассказывать о своей хорошо налаженной жизни и о красотах Александрии, о гаванях, заполненных судами со всего света, о вкусной и свежей пище, о богатых винных лавках и юных обольстительницах, о прекрасном египетском климате и о том, что Александр явно передал этому городу свою удачу.
Кувшины с вином опустели, поручение было выполнено, и гости незаметно исчезали во тьме, их шаги растворялись в мрачных звуках египетской ночи. Пробираясь обратно к своей крепости, эти люди, возможно, облегченно вздыхали, удовлетворенные тем, что им удалось добром услужить старым товарищам, не проронив при этом ни слова лжи, а заодно легко заработать сотенку драхм.
* * *
Последнюю лагерную стоянку Пердикка устроил чуть выше так называемого запястья Нила, от которого пальцевидные рукава этой могучей водной артерии расходились на север. Сюда же прибыла и часть тылового люда, которому надлежало дожидаться его возвращения, а также царствующая семья: Пердикка хотел держать эту парочку под присмотром. Отсюда он двинется с войсками к реке.
Оставшиеся в лагере люди смотрели, как солдаты уходят за полководцем в дрожащий рассветный туман, конные, пешие, а с ними уходят и нагруженные съестными припасами мулы, и мерно вышагивающие верблюды, таща за собой на волокушах детали разобранных катапульт. Шествие завершали слоны. Еще долго видна была на обширной равнине постепенно уменьшающаяся в размерах колонна, но в конце концов она исчезла за горизонтом, опушенным зарослями тамариска и пальмами.
Расхаживая по царской палатке, Эвридика с тревогой ожидала вестей. Конон, взяв небольшой эскорт, отправился с Филиппом на верховую прогулку. Эвридика тоже любила верховую езду и частенько скакала во весь опор по македонским привольным лугам, но теперь ей приходилось постоянно сдерживать свои желания, поскольку столь дикое поведение не подобает царице. Так говорил ей Пердикка.
Сейчас, когда дочери Кинны впервые посчастливилось оказаться при войске, совершающем настоящий военный поход, все воспитанные в ней навыки, как и врожденные склонности, взбунтовались против того, что ее оставили в лагере вместе с женщинами и рабами. Свое супружество она воспринимала как данность в виде дурацкой комедии, ходом которой следует управлять, ни в малой степени не изменяя себе. Более того, сами женщины ей казались некими чуждыми существами, Живущими по законам, никак не касающимся ее лично.
В тени за фургоном Эвридики сидели две служанки, тихонько переговариваясь по-лидийски. Обе были ее рабынями. Ей предложили взять в услужение девушек из знатных семей, но она отказалась, сказав Пердикке, что не собирается подвергать тяготам походной жизни взращенных в роскоши неженок. Правда же заключалась в том, что это она сама не собиралась подвергать себя тяготам скучного общения с жеманными собирательницами пустых сплетен и слухов. К любовным играм Эвридика тоже была равнодушна; в этом отношении она нуждалась в женщинах еще менее, чем в мужчинах. Свадебная ночь убила даже ростки желаний. Раньше, в своих девичьих мечтах, Эвридика сражалась, подобно царице амазонок Ипполите, бок о бок с героями древних легенд. Однако с проснувшимся в ней честолюбием изменились и ее мечты.
Мечты мечтами, но на третье утро даже они начали ее раздражать. Положение сделалось тупиковым. Предстоящий день казался таким же пустым и унылым, как и окрестный ландшафт. И почему она должна терпеть эту муку? Эвридика глянула на сундук с припрятанными в нем доспехами и оружием. Там же лежал и ее мужской наряд.
Она ведь стала царицей, Пердикка просто обязан слать к ней гонцов с новостями. А раз гонцов нет и новости до нее не доходят, ей придется попробовать раздобыть их самой.
Все представления Эвридики о нынешнем боевом рейде зиждились на сведениях, почерпнутых ею от Конона, у которого было много друзей среди солдат и тыловиков. И судя по его словам, Пердикка повел за собой воинов, никому толком не объяснив своих планов. Ни коменданту лагеря, ни старшим командирам, отправившимся вместе с ним. Он-де прослышал, что в расположении его войск появились шпионы. Командирам вся эта таинственность не понравилась. Например, распоряжавшийся слонами Селевк хотел точно знать, как их будут использовать, но Конон, конечно, не все говорил молодой госпоже. Не упомянул он и о росшем в лагере недовольстве. Пердикка сделался слишком высокомерным и своевольным. Александр никогда не вел себя так, он, если надо, убеждал, а не принуждал.
Однако старик поделился с Эвридикой своими соображениями, что количество взятых в поход запасов и дополнительных лошадей может позволить войскам пройти не более тридцати миль. А как раз на таком удалении от опорного стана находилось главное русло Нила.
Эвридика переоделась в короткое мужское платье, застегнула хорошо подогнанный кожаный панцирь, зашнуровала плечевые накладки, натянула сапоги и наголенники. Панцирь практически сглаживал ее девичью грудь. На голову девушка водрузила простой, без оперения иллирийский шлем; когда-то его носила еще ее бабушка Аудата. Сонные служанки не заметили, как она ушла. Загон с лошадьми располагался на лагерной территории, конюхи приняли ее за одного из царских стражников и, повинуясь командному тону, вывели ей чуть ли не лучшего скакуна.
Даже через три дня следы прохождения войска были прекрасно видны, их отмечали вывернутая с корнями трава, изрытая копытами почва, лошадиный и верблюжий помет, вытоптанные берега оросительных каналов, пустые водоемы в полях с глинистым и потрескавшимся от жары дном. Земледельцы уже трудились над починкой запруд, мрачно браня порушивших их разорителей.
Эвридика отъехала от лагеря на пару миль, когда ей навстречу попался гонец.
Угрюмо трясшийся на верблюде пропыленный, осунувшийся мужчина сердито обогнул препятствие, загородившее ему дорогу. Но он был солдатом, поэтому Эвридика развернулась и догнала его. Ее лошадь пугливо косилась на верблюда, однако девушка крикнула:
— Какие новости? У вас было сражение?
Солдат, изогнувшись, попытался сплюнуть, но лишь напрасно напряг пересохший рот.
— Убирайся с дороги, малец! У меня нет времени на болтовню. Я везу в лагерь срочное донесение. Там должны подготовиться к приему раненых… тех, что доедут живыми.
Он хлестнул верблюда, тот качнул презрительно мордой и умчался, обдав ее облаком пыли.
Спустя час или два она увидела вдали вереницу подвод. Когда телеги приблизились, стало понятно, какой на них груз. По немолчным мучительным стонам, по снующим туда-сюда развозчикам воды на ослах, по лекарю, склонившемуся над кем-то под шатким наспех сооруженным навесом. Она поехала рядом, рассеянно вслушиваясь в жужжание мух и бранные возгласы, отмечавшие каждый ухаб казавшейся бесконечной дороги.
На четвертой подводе люди переговаривались и посматривали по сторонам. Эти бойцы с покалеченными руками или ногами еще бодрились, сохраняя остатки сил. Девушка заметила среди них знакомца. Того самого ветерана, что первым встал на ее сторону в тот злосчастный вечер, когда пала Кинна.
— Фаул! — окликнула его девушка, подъезжая к откинутому борту повозки. — Мне очень жаль, что тебя так задело.
Ее приветствовали с изумлением и восторгом. Царица Эвридика! А они было приняли ее за какого-то юного хлыща из штабных! Что она здесь делает? Неужто намерена вести их в бой? Вот что значит героическая династия — дед явно гордился бы такой бравой наследницей. Хвала богам, что ей повезло опоздать на вчерашний спектакль. Все явно обрадовались, увидев ее.
Эвридика не поняла, что именно ее молодость так умилила раненых воинов и расположила их к ней. Будь ей лет тридцать, а не пятнадцать, она, возможно, нарвалась бы на множество непристойных шуточек, всегда преследующих мужеподобных представительниц слабого пола. Но сейчас царственная всадница выглядела как обаятельный юноша, не утратив при том своей девичьей свежести, она казалась союзником, другом. Она ехала рядом с повозкой, а солдаты изливали ей всю накопившуюся в них горечь.
Пердикка вывел их на берег Нила к так называемому верблюжьему броду. Но конечно же, этот брод сторожил гарнизон, засевший на другом берегу в возвышающейся над холмом крепости, обнесенной деревянными стенами, рвами и частоколом. Разведчики доложили Пердикке, что препятствие защищает совсем небольшой отряд.
Более молодой, чем Фаул, солдат с возмущением проворчал:
— Только наш генерал не учел, что Птолемей многому научился у Александра.
— Ненависть помутила разум Пердикки, — буркнул другой раненый, — потому-то он и недооценил Птолемея. Такого нельзя допускать на войне. Александр всегда действовал более осмотрительно.
— Так вот, сначала действительно народу в этой крепости было немного. Птолемей просто подготовил войска к переброске, не зная заранее, где ударит Пердикка. Но, получив точные сведения, он примчался нам навстречу как ветер, вряд ли его смог бы опередить даже сам Александр. Египетский полк оказался в крепости, когда мы находились на середине реки.
— И еще одно надо отметить, — сказал Фаул. — Птолемей явно не хотел проливать македонскую кровь. Он мог напасть на нас из засады, когда мы ступили бы на тот берег, ведь никто не заметил, что в крепость пришло подкрепление. Но он поднялся на стену с глашатаем и остальными людьми, и все они громогласно пытались остановить нас. Птолемей всегда отличался великодушием. Александр высоко ценил это в нем.
Застонав от боли, ветеран откинулся на солому, поудобнее пристраивая покалеченную ногу. Эвридика спросила, не мучит ли кого-нибудь жажда, но воинам хотелось выговориться. Более тяжело раненных везли на передних подводах.
Пердикка, продолжили солдаты, произнес речь, призвав всех сохранить верность клятве. Они ведь сами выбрали его царским опекуном, и свой пост он получил непосредственно от Александра. Этого, конечно, никто не отрицал, кроме того, до сих пор он регулярно платил всем жалованье.
Направляемые погонщиками слоны подтащили к крепости приставные лестницы, пробив брешь в частоколе на речном берегу и выворачивая столбы точно молодые деревца, листвой которых эти животные питаются на приволье. Толстая кожа гигантов почти не страдала от сыпавшихся сверху дротиков. Однако защитники крепости были отлично обучены; сбиваемые с лестниц люди скатывались по крутому склону через пролом в реку, и намокшие доспехи утягивали их на дно. И тогда Пердикка приказал начать слоновью атаку.
— Селевку это не понравилось. Он сказал, что слоны уже выполнили свою задачу. Сказал, что нет смысла великолепному боевому животному подставлять под удар голову, таща на спине пару человек туда, где их встретят дюжины копий. Но ему весьма резко указали, кто кем командует. И это ему также не пришлось по вкусу.
Слоны выступили вперед, издавая военные трубные кличи.
— Но Птолемея это не испугало. Мы видели, как он, не дрогнув, продолжал сбрасывать карабкающихся наверх солдат своей длинной сарисой. На земле слон любого храбреца вгонит в дрожь, но защитники-то стояли на стенах.
Слоны с трудом продвигались вверх по откосу, взрывая мощными ногами землю, и вскоре старый Плуто, возглавлявший слоновий отряд, начал раскачивать деревянную стену. Ему удалось подтащить к ней таран. Но Птолемей стойко держал оборону, отражая щитом летящие в него дротики, а потом, улучив момент, поразил длинным копьем глаза старого Плуто. Второй слон, взревев, поднялся на дыбы, когда подстрелили его погонщика. В итоге оба гиганта, один — ослепленный, а второй — неуправляемый, понеслись вниз, бестолково мечась и давя всех на своем пути.
— Именно они, а не наши противники и сломали мне ногу, — вставил один из раненых. — И если я никогда уже не смогу нормально ходить, то не буду винить в этом Птолемея.
Последнее заявление гневными восклицаниями поддержали все пассажиры повозки. Получив раны в самом начале атаки, эти солдаты не знали толком, что было дальше, но слышали, что сражение длилось до ночи. Эвридика проводила их еще немного, выказывая сочувствие, а потом спросила, как проехать к верблюжьему броду. Ей посоветовали быть осторожнее и не лезть в пекло, им не хотелось бы потерять столь замечательную царицу.
Она поехала дальше и через какое-то время увидела вдали темное движущееся пятно, медленно выплывающее из пальмовой рощицы, окружавшей маленькое озерцо. Вскоре она поняла, что навстречу ей движутся два слона, идущие друг за другом. Впереди шел слон поменьше, а большой держался хоботом за его хвост. Старого Плуто вели к стойлу, так же как лет сорок назад водила его в родных джунглях мать, охраняя от тигров. На спине ослепленного великана сидел рыдающий погонщик, да и сам Плуто, казалось, плакал кровавыми слезами.
Эвридика воочию смогла оценить, насколько Птолемей храбр и ловок. Участь Плуто девушку не расстроила; дома ее главным развлечением была охота, и она нисколько не сомневалась, что животные в этом мире существуют единственно для удовлетворения людских нужд. Расспросив первого погонщика, который, видимо, еще мог мыслить связно, она выяснила, что к вечеру Пердикка свернул атаку и ушел неизвестно куда с наступлением темноты. Вероятно, продвижение дальше было чревато для одинокой всадницы риском попасть в руки врагов, поэтому Эвридика решила вернуться в лагерь.
Никто не заметил ее отсутствия, кроме старика Конона, который в проезжающем мимо коннике узнал свою госпожу, но, поймав предупреждающий взгляд, счел за лучшее промолчать. Впрочем, он так и так промолчал бы. Госпожа у него настоящая, чему свидетельством девятидневные свадебные торжества, к тому же сейчас у нее забот хватает. Не стоит мешать ей, ведь бедняжка без чьей-либо помощи и практически ощупью пытается вывести свою лодку на верный жизненный путь.
Армия Пердикки, точнее, ее жалкие остатки прибыли в лагерь на другой день.
Сначала притащилась никем не управляемая, взъерошенная и грязная толпа пехотинцев. С ног до головы эти солдаты были облеплены засохшим нильским илом, и если бы не голубые злые глаза, то их совершенно нельзя было бы отличить от местных темнокожих селян. Напившись воды, они побрели к каналам, чтобы смыть с себя грязь, попутно рассказывая всем желающим о том, что с ними стряслось в этом гибельном и ужасном походе. Потом появился Пердикка, он ехал с каменным лицом; командиры также проезжали, сжав зубы и храня при себе свои мысли, за ними следовали хмурые и сердитые конники. Эвридика, вновь скромно переодетая в женское платье, послала Конона разузнать новости.
Пока он отсутствовал, до нее вдруг дошло, что воины довольно плотным кольцом обложили царские шатры и фургоны. Они подтягивались небольшими группами и без особого шума, словно уже успели обсудить и согласовать свои действия. Озадаченная и встревоженная, она попыталась кликнуть ближайших стражников, но те, похоже, успели присоединиться к молчаливому воинскому окружению.
Чисто интуитивно девушка поняла, что бояться ей нечего. Выйдя из царского шатра, она показалась солдатам. Ей отсалютовали оружием, правда совершенно бесшумно; атмосфера была заговорщицкая, но доброжелательная.
— Филипп, — сказала она, — встань здесь у выхода, пусть воины увидят на тебя. Ты должен улыбнуться и приветствовать их так, как учил тебя Пердикка. Покажи мне, как ты это сделаешь… да, хорошо. Ничего не говори, просто поприветствуй собравшихся.
Он вернулся довольный, сказав:
— Они помахали мне.
— И крикнули: «Да здравствует Филипп!» Запомни, что в таких случаях надо всегда улыбаться.
— Хорошо, Эвридика.
Филипп направился к столу, чтобы наполнить красиво разложенные ракушки новыми красными стеклянными бусинами, которые Эвридика купила для него у бродячего торговца.
У входа появилась чья-то тень. Конон медлил, ожидая разрешения войти внутрь палатки. Увидев его лицо, девушка непроизвольно бросила взгляд в угол, где стояло церемониальное копье мужа. Она спросила:
— Неужели враг перешел в наступление?
— Враг? — Вопрос явно удивил старика. — Нет, госпожа… Не тревожься по поводу собравшихся там парней. В случае чего они-то как раз и оборонят нас. Я всех их знаю.
— Оборонят? От какой же опасности? Что может грозить нам?
Она увидела, как напряглось, сделавшись непроницаемым, лицо ветерана.
— Трудно сказать, госпожа. По лагерю ходят разные слухи. Мы понесли большие потери, пытаясь переправиться на другой берег Нила.
— Я видел Нил, — оживился Филипп. — Когда Александр…
— Посиди тихо и послушай. Да, Конон, продолжай.
После неудачной атаки на крепость Пердикка, видимо, дал войскам отдохнуть всего пару часов. Потом он приказал им сворачивать лагерь и приготовиться к ночному маршу.
— Конон, — вдруг спросил Филипп, — почему в лагере так громко кричат?
Конон успел пообщаться со многими людьми, но решил повременить с объяснениями.
— Они сердятся, государь. Но не на вас с царицей. Не беспокойся, они сюда не придут, — добавил он и возобновил свой рассказ.
Пердикка заставил людей сражаться на солнцепеке целый день — до самого вечера. Потери были удручающими, и воины вымотались как собаки, но Пердикка пообещал, что немного южнее, в окрестностях Мемфиса, они легко смогут переправиться на западный берег Нила.
— Мемфис!
Лицо Филиппа озарилось воспоминаниями.
Именно в Мемфисе он когда-то смотрел из окна на своего брата. Александр, провозглашенный фараоном, сыном бога Ра, в сопровождении великолепной процессии взошел на египетский трон, весь сияя, как солнце.
— Как тут не вспомнить об Александре? — заметил Конон. — Вот кто умел вдохновлять людей на героические дела.
Голоса дежуривших близ палатки людей заметно повысились, словно они обсуждали дошедшую до них новость. Но вскоре шум опять стих.
В темноте перед рассветом, продолжил Конон, войска добрались до переправы. Течение там было менее сильным, поскольку посередине мелеющей в этом месте реки из воды выступал остров примерно в милю длиной. Решено было переправляться в два этапа, делая передышку на этом клочке твердой суши.
— Но Пердикка не ожидал, что река окажется глубже, чем он полагал. На полпути к острову первопроходцы погрузились в нее по грудь. Течение унесло их щиты, солдаты частью, потеряв равновесие, попадали в воду, остальные делали все возможное, чтобы устоять на ногах. В общем, только тут Пердикка и вспомнил, как Александр форсировал Тигр.
Конон помедлил, пытаясь понять, знает ли госпожа о той знаменитой переправе. Нет, Эвридика никогда не интересовалась подвигами Александра.
— Воды Тигра неслись перед нами, но прежде чем послать в реку пехоту, Александр перегородил быстрый поток двумя шеренгами кавалерии, выше и ниже брода. Верхние конники, принимая на себя напор течения, уменьшали его силу, а нижние перехватывали тех, кого сносило. Александр сам первым вошел в воду, нащупывая копьем, где помельче.
— Понятно, — равнодушно сказала девушка. — Так как же поступил Пердикка?
— Он решил загнать в воду слонов.
— Неужели они утонули? — забеспокоился Филипп.
— Нет, государь. Утонули люди. Куда же запропастился бездельник Синие? В такое время, похоже, этому карийскому увальню ничего нельзя поручать. Прости, госпожа.
Старик поднес свечу к маленькой дневной лампе, где постоянно поддерживался огонь, и зажег большой разветвленный светильник, стоявший на высокой подставке. Вокруг царской стоянки расцветали огненные цветы, солдаты занялись приготовлением пищи. Тень Конона заметно выросла, ее изломанные темные очертания смутно вырисовывались и множились на потертых льняных занавесках, перегораживавших шатер.
— Выше брода Пердикка поставил слонов, а верховым велел встать ниже, потом приказал пехоте начинать переправу. Командиры фаланг вошли в реку, ведя за собой своих людей. На полпути к острову всем показалось, будто Нил начал выходить из берегов. Люди уже не доставали ногами до дна, и даже лошадям пришлось плыть. А во всем были виноваты тяжеловесные слоны; взбаламутив всю воду, они подняли со Дна ил, которым Тигр совсем не богат. Но худшим из всего, по мнению многих, был вид крокодилов, пожирающих боевых сотоварищей.
— Я видел крокодилов, — с готовностью вставил Филипп.
— Да, государь, я знаю. В общем, пока нильское течение еЩе не успело прорыть себе новое более глубокое русло, некоторым счастливчикам удалось перебраться на остров. Пердикка к тому времени уже понял, что затея его провалилась, и приказал «островитянам» возвращаться обратно.
— Обратно? — удивленно спросила Эвридика. Она с удвоенным вниманием прислушалась к доносившимся снаружи звукам; в общий гул голосов то и дело вплетались поминальные плачи, доносившиеся от биваков семейных солдат. — Он приказал им вернуться?
— Ну… не мог же он бросить их там. Но возвращение означало бы отступление, а многие македонцы, победоносно прошедшие с Александром полсвета, уже не мыслили для себя такого позора. Некоторые из них крикнули, что они, скорее, попытаются добраться до того берега и перейти к Птолемею. Никто не знает, что стало с этими бунтовщиками. Остальные пошли обратно по углубившемуся руслу кишевшей крокодилами и кровавой реки. Мало кому удалось выбраться из нее. Я разговаривал с уцелевшими. Один бедолага оставил руку в крокодильей пасти. Остаток его плеча изорван в клочья, он явно не выживет. Мы потеряли там две тысячи человек.
Эвридике подумалось, что муки раненых в санитарном обозе были лишь каплей в океане несчастья. Охваченная волной противоречивых чувств — гнева, жалости и презрения, — честолюбивая девушка решила попробовать обратить эту бедственную ситуацию себе на пользу. Она повернулась к Филиппу:
— Послушай меня.
Филипп внимательно посмотрел на нее, словно собака, понимающая, что сейчас последует повеление.
— Нам надо выйти к солдатам. Их очень обидели, но они понимают, что мы им — друзья. Ты должен поговорить с ними. Сначала ты поприветствуешь их, потом скажешь… теперь слушай внимательно и запоминай: «Воины Македонии, дух моего брата скорбит об этом трагическом дне». Больше не говори ничего, даже если они будут требовать продолжения. Если потребуется, я сама скажу что-нибудь.
Он повторил задание, они вышли в сгустившиеся сумерки, освещаемые за ними палаточными светильниками, а впереди них — солдатскими кострами.
Их тут же встретили приветственные возгласы, весть о появлении царя мигом разнеслась вокруг, и толпы людей бросились его послушать. Филипп отлично выполнил свою роль: одну фразу он вполне мог запомнить. Эвридика увидела, что он очень доволен собой, и, чтобы ему не взбрело в голову сказать еще что-то, быстро повернулась к публике с видом подобающего жене почтительного одобрения слов своего царственного супруга. Теперь настал ее черед.
Солдаты слушали внимательно. Сострадание царя их беде удивило всех и порадовало. Возможно, он не такой слабоумный, как о нем говорят. Он просто немногословный. Да это, собственно, и не важно, сейчас стоит послушать царицу.
Роксана, сидя в своем фургоне, ошибочно полагала, что воины собрались, чтобы ее защитить. Евнухи доложили ей о волнениях в лагере, но они плохо понимали греческий, а никто из солдат не удосужился объяснить им, что происходит. Теперь она с гневным недоумением слушала, как молодой звонкий голос возмущенно осуждает неоправданные потери в рядах доблестных и отважных солдат и заверяет, что, когда царь Филипп обретет реальную власть, он сможет позаботиться о том, чтобы никто не тратил попусту драгоценные жизни преданных ему подданных.
До бактрийки донесся одобрительный гомон. Пять лет ее брачной жизни сопровождались столь же одобрительным гулом. В основном, правда, хвалы ей изливали шумные толпы на победных военных парадах. Однако постепенно настроение людей стало иным; снисходительные проявления симпатии заменились плохо скрываемой неприязнью.
Но неужели все-таки, поразилась она, македонцы предпочли ей эту бесполую амазонку? Ведь безумному муженьку иллирийки, полному, кстати сказать, идиоту, не следовало далее позволять претендовать на трон, предназначенный для ее сына. Тут драгоценный сынок Роксаны, и без того целый день капризничавший, наткнулся на угол ближайшего к нему сундука и отчаянно заревел. Сквозь шум приветствий Эвридика услышала его вой и мысленно дала себе слово, что это бактрийское отродье никогда не будет царствовать в Македонии.
* * *
Пердикка в задумчивости сидел в своей палатке за походным складным столом. Со стилосом в руке и с раскрытой перед ним двойной восковой табличкой гордый полководец пребывал в одиночестве. Первым делом он было попробовал пригласить командиров на военный совет, чтобы обсудить, что делать дальше, но, похоже, им всем надо дать немного остыть. Селевк ответил ему односложно, Пифон уклончиво глянул из-под своих рыжеватых бровей и, опустив острый нос, проворчал пару ничего не значащих фраз, Архий вовсе куда-то девался, хотя явно был где-то в лагере. В очередной раз Пердикка пожалел, что пришлось послать Алкету на север с Эвменом: в столь ненадежные времена просто неоценима поддержка родни.
Вокруг двух пылающих плошек установленного на высокой ножке светильника с жужжанием кружились хрупкие бронзовые жучки, сталкиваясь порой с легкокрылыми мотыльками. И те и другие неминуемо исчезали, находя в двух незримых для них горнилах скорую смерть. Возле палатки тихо переговаривались часовые. Это было нарушением дисциплины, но ему сейчас не хотелось выходить и отчитывать забывшихся стражей. До него доносились лишь обрывки их разговора, в котором то и дело упоминалось одно имя. За неплотно прикрытым клапаном входа с яростным треском полыхал костер, у которого грелись остальные охранники. Пердикка, не будучи царем, не имел права прогнать этих знатных юнцов от себя и набрать взамен новых. Отряд стражников остался при нем после достопамятной стычки в вавилонской царской опочивальне и с тех пор потерял всего пару человек (один умер от лихорадки, другой в сражении). Последнее время Пердикка практически не уделял внимания этим парням, принимая как должное, что они всегда рядом. Они были с ним и на берегу Нила, стояли рядом с запасными лошадьми, ожидая, когда командующий войдет в воду.
Тихие голоса бубнили уже чуть ближе или чуть менее осторожно: «Александр всегда нас учил…», «Александр не стал бы…», «Ерунда! Ты только вспомни, как он…» Тут юнцы, видимо прикусив языки, примолкли и опять зашептались. Нет, они не возмущались, они лишь делились какими-то мыслями. Пердикка встал, но потом вновь опустился на стул, созерцая процесс самосожжения крошечных созданий, порхающих над горящими плошками. «Он же сам отдал мне свое кольцо. Неужели все позабыли об этом?» Вдруг снаружи до него донеслось замечание, словно бы отвечающее его мыслям. «Но тогда Кратер был в Сирии, а Гефестион умер».
В поисках душевного лада и утешения память Пердикки обратилась к дням бурной молодости и славных побед, точнее, к тому изначальному торжеству, когда кровь убийцы Филиппа обагрила клинок его меча и он впервые заглянул в серые проницательные глаза. «Молодец, Пердикка. (Он уже тогда знал мое имя!) Похоронив отца, я призову тебя». Перед его мысленным взором начала разворачиваться бесконечная череда пышных процессий. Вот он с триумфом въезжает в Персеполь…
Возле палатки вдруг все затихло. Стражники смолкли. Их тихий бубнеж перекрыли новые голоса. Более густые, решительные. Из них выделилось лаконичное: «Вы свободны». Одинокий робкий вопрос: «Что значит "свободны"?» И резкий ответ (конечно, это голос Пифона): «Я сказал, вы свободны. Отправляйтесь в свои палатки!»
Он услышал лязг оружия, скрип доспехов, звуки удаляющихся шагов. Никто не вошел, чтобы доложить о происходящем, чтобы предупредить. Два года назад, когда на Пердикку насел Мелеагр, эти мальчики не сбежали, а приготовились драться. Но тогда они только-только покинули вавилонскую царскую опочивальню.
Входной полог откинулся. На мгновение Пердикка увидел огненные языки костра, тут же скрывшиеся за фигурами вошедших людей. Пифон, Селевк, Певкест с его персидской кривой саблей и прочие командиры.
Никто не произнес ни слова: все было понятно и так. Пердикка ожесточенно сражался, пока имел силы. Он был суров и молчал. Он не мог поступиться своим достоинством, ведь ему выпала честь пусть и недолго, но быть заместителем Александра. Гордость воина сделала выбор, мгновенно подсказав, что звать на помощь бессмысленно. Нужно смело и по-солдатски принять смерть.
* * *
Даже сидя в шатре, Эвридика почти физически ощущала растущее в лагере напряжение, оно подпитывалось самыми противоречивыми слухами, которым то бурно радовались, то откровенно не доверяли. В конце концов забеспокоились и молчаливые царские сторожа, не понимая, где ложь, а где правда.Новый переполох произвел молодой парень; он вбежал в шатер, размахивая шлемом, раскрасневшийся и покрытый испариной от возбуждения и жара костров.
— Царь, госпожа! Пердикка мертв!
Она онемела, изумленная еще и тем, что ее так потрясла эта новость. Прежде чем к ней вернулся дар речи, Филипп заявил с простодушной радостью:
— Хорошо. Очень хорошо! Это ты убил его?
«Именно этот вопрос, — подумала Эвридика, — задал бы и настоящий мужчина».
— Нет, государь. Как я понял, в его палатке собрались полководцы. Они…
Малый помедлил. Дальний смутно колеблющийся гул вдруг приблизился и разросся. Это уже был рев разъяренной алчущей крови толпы, а вскоре к нему добавились пронзительные женские вопли. И тут впервые Эвридике сделалось страшно. Ей показалось, что лагерь охватило безумие, перед которым бессильны любые резоны. Она выдохнула:
— Что там происходит?
Вестник нахмурился и закусил губу.
— Начиная разбираться, кто виноват, люди редко удовлетворяются одной жертвой. Они ищут сторонников Пердикки. Не беспокойся, госпожа, они вас не тронут.
Она вздрогнула, услышав за спиной громкий голос.
— Если они придут сюда, я убью их.
Филипп, схватив свое церемониальное копье, яростно потрясал им. Покрытое искусной резьбой острие опасно посверкивало в пляшушем свете затепленных к ночи ламп. Но Эвридике без труда удалось уговорить мужа отдать ей оружие.
* * *
На следующий день прибыл Птолемей.
Его известили о смерти Пердикки, как только возмездие совершилось (а возможно, судя по слухам, и раньше), и он въехал в лагерь во главе внушительной, но миролюбиво настроенной кавалькады. Положившись на донесения осведомителей, правитель Египта предпочел выглядеть как полководец, всецело доверяющий своим соотечественникам.
Царская армия встретила его вполне радушно и даже с подъемом. Солдаты увидели в таком появлении отблеск бесстрашной уверенности Александра. К прибывшим также присоединились Пифон, Селевк и Певкест.
Справа от Птолемея ехал Ариба. Погребальную ладью Александра временно, до завершения строительства мавзолея в Александрии, оставили в Мемфисе при одном из тамошних храмов. Пердикка с фатального для себя берега Нила даже мог бы заметить слабый блеск ее золотой крыши. И сейчас создатель повернувших не в ту сторону похоронных дрог дружески приветствовал своих прежних знакомцев. С легкой заминкой они ответили ему тем же. Что сделано, то сделано, а худой мир лучше доброй ссоры.
Условия Птолемея были приняты заблаговременно. Первым он оговорил свое право выступить перед армией, чтобы ответить на обвинение Пердикки в предательстве. Царским военачальникам особо выбирать не приходилось. К тому же соглашение казалось честным, им было обещано не настраивать полки против них. А необходимость такого выступления, в сущности, говорила сама за себя.
Военные инженеры с привычной ловкостью взялись за работу. Как повелось со времен Александра, подиум возвели рядом с царской стоянкой. Эвридика сначала решила, что он предназначен для казни, и спросила, кого собираются предать смерти. Но ей объяснили, что Птолемей будет оттуда говорить речь.
Филипп, раскладывающий свои камушки затейливыми спиралями, вскинулся:
— Птолемей? Он здесь? А он привез мне подарок?
— Нет, он приехал поговорить с солдатами.
— Но он всегда привозил мне подарки.
И Филипп погладил светильник из желтого хрусталя, преподнесенный ему в далекой Азии.
Эвридика, глядя на высокий помост, погрузилась в размышления. Теперь, когда Пердикка мертв, единственным царским опекуном остался Кратер, но он где-то в Сирии воюет с Эвменом. Нет уже и регента азиатских владений. Неужели настал судьбоносный момент? «Воины Македонии, я заявляю о своем праве повелевать вами лично». Она сумеет вдолбить муженьку эту фразу, после чего, как прошлой ночью, возьмет слово сама. Почему бы и нет?
— Филипп, оставь ненадолго свою игру.
Обращение было заучено. Нет, перебивать Птолемея Филиппу не стоит. Эвридика подскажет, когда настанет его черед.
Воины, охранявшие царскую стоянку, не только сдерживали натиск толпы, но также обеспечивали свободный проход к подиуму для желающих выступить и для пришедшей послушать выступающих знати. Эвридика еще раз мысленно отрепетировала свою речь.
Птолемей в сопровождении Пифона и Арибы взошел на подиум под радостные возгласы всех собравшихся.
Эвридика изумилась. Она уже слышала сегодняшним утром какие-то восхищенные вопли, но ей даже в голову не пришло, что это чествуют недавнего неприятеля. Разумеется, она знала, кто такой Птолемей (в конце концов, ведь он ей хоть и сомнительный, но все же родич), однако известно о нем девушке было очень немногое. Как, собственно, и об Александре со всей его воинской славой.
А вот македонские войска, несмотря на то что Пердикка твердил о предательстве Птолемея, знали этого военачальника как всеми любимого командира, изначально поддерживавшего Александра и помогавшего воплощать его победоносные замыслы в жизнь. Никому из них на самом деле не хотелось воевать с ним, и, потерпев позорное поражение, никто не воспылал к нему ненавистью, укрепляющей воинский боевой дух. Наоборот, эти люди встретили своего былого соратника как вернувшегося из дальнего странствия друга и теперь с живым интересом слушали его речь.
Для начала оратор почтил память покойных. Он скорбел, как и все, об утрате храбрых старых товарищей, против которых ему было горько поднимать копье. Он мог бы с гордостью зачислить в ряды своего войска всех тех, кого вынесло на контролируемый им берег Нила. Мертвым воздали должные почести, провели погребальный ритуал, их пепел привезен им сюда и будет отправлен на родину. Но не так уж мало бойцов, добавил он с радостью, уцелело. Он также привез их с собой, и они сейчас живые-здоровые присутствуют на собрании.
Эти спасенные великодушным противником воины громче всех выражали свою радость. Им даровали свободу без всякого выкупа, и они дружно изъявили желание вступить в армию Птолемея.
Далее правитель Египта заявил, что хочет поговорить о том, кто самой жизнью своей утвердил торжество и славу всех македонцев. Тронув многих до слез, он сообщил о желании Александра вернуться в землю Амона. (Конечно, подумалось ему, именно этого Александр и пожелал бы, если бы перед смертью не утратил дар речи.) И вот лишь за то, что он просто выполнил волю усопшего, его обвинили в измене, хотя он никогда не поднимал меча на избранного народом властителя, причем выдвинул это обвинение человек, сам стремившийся завладеть царским троном. Он прибыл сюда, чтобы предстать перед македонским судом. И вот он стоит перед теми, кому дано право решить его участь. Каково же будет решение?
Решение было единодушным, оно проявилось в исступленно-восторженных воплях. Птолемей терпеливо ждал, когда страсти улягутся, не выказывая ни беспокойства, ни неподобающей самоуверенности.
Радостно сознавать, что воины Александра его не забыли, сказал он затем. Но как полководцу ему также приятно отметить, что они помнят о дисциплине и блюдут свой воинский долг. Царская армия может с добрыми пожеланиями пуститься в обратный путь. Кстати, до него дошли сведения, что в придачу ко всем неприятностям у его соотечественников кончается провиант. Египтяне собрали неплохой урожай, и они охотно поделятся им.
Продовольственные припасы царских войск и впрямь истощились, питание было плохим и скудным, многие воины не ели со вчерашнего дня. После всплеска шумного одобрения на трибуну поднялся Селевк. Он предложил собранию выбрать Птолемея, который в своем великодушии мог сравниться разве что с Александром, регентом азиатских владений и царским опекуном.
Его предложение встретило искреннее всеобщее ликование. Люди размахивали руками и шапками. Такой сплоченности, такого абсолютного единения они еще не выказывали никогда и нигде.
В эти мгновения удостоенный столь бурно выраженного признания Птолемей ощущал себя гомеровским легендарным Ахиллом, возносящимся к вершине славы. Но люд утих, и он вспомнил, что уже сделал свой выбор и что пока у него нет причин этот выбор менять. Как регенту, ему пришлось бы покинуть процветающую страну, где он уже практически царствовал, и втянуть недавно сформированные и всецело доверявшие своему командиру войска в новую ожесточенную и исполненную коварства борьбу. Достаточно только вспомнить Пердикку, его труп едва успел остыть! Нет. Он будет блюсти интересы полюбившейся ему земли, он заботливо ее возделает и оставит своим сыновьям.
Вежливо, но решительно Птолемей отказался от высоких постов. Нельзя взваливать на себя непосильную ношу, ему и так досталась великая честь управлять Египтом и достраивать Александрию. Но поскольку его почтили столь лестными предложениями, он хотел бы взять на себя смелость назвать имена двух других не менее достойных Соратников Александра, способных разделить тяготы опекунства. Тут Птолемей жестом пригласил на трибуну Пифона и Арибу.
Сидя в царской палатке, Эвридика отлично все слышала. Македонские полководцы умели ораторствовать, и голос Птолемея долетал даже до последних рядов многотысячного собрания. Он завершил свое выступление грубым армейским анекдотом, непонятым ею, но вызвавшим восторженный смех солдат. Осознавая всю полноту своего поражения, она наблюдала за этим рослым внушительным человеком, завидуя его непринужденной и мягкой властности. Поразительно, он ведь совсем не красив, но все взгляды прикованы к нему, всем он по нраву.
Филипп спросил:
— У тебя болят зубы?
Тут она вдруг поняла, что нервно трет пальцами свои пылающие от волнения щеки.
— Мне уже пора говорить свою речь?
Муж направился к выходу из палатки.
— Нет, — сказала Эвридика. — Ты произнесешь ее в более подходящий день. Сейчас там слишком много чужих.
Филипп с радостью вернулся к своим игрушкам. Обернувшись, Эвридика заметила Конона. Должно быть, старый слуга в молчаливом ожидании уже давно стоял за ее спиной.
— Спасибо, госпожа, — сказал он. — Наверное, так будет лучше.
* * *
Позже в тот же день один из царских стражников зашел сказать, что Птолемей собирается вскоре засвидетельствовать почтение государю.
Гость не заставил себя ждать; он коротко приветствовал Эвридику и, похлопав Филиппа по плечу, заключил его в братские объятия. Филипп просиял. Столь дружелюбное обращение напомнило ему посещения Александра.
— Ты привез мне подарок? — спросил он с надеждой.
Притушив насмешливые огоньки в глубине своих глаз, Птолемей сердечно сказал:
— Конечно привез. Но я не мог захватить его с собой, мне нужно было поговорить с солдатами. Ты получишь его завтра… Ба, кого я вижу, старина Конон! Давненько мы не виделись, а? Я смотрю, ты по-прежнему очень заботлив. Твой подопечный выглядит как заправский вояка. Александр сказал бы, что ты отлично обихаживаешь его.
Почтительно отсалютовав гостю, Конон уронил слезу: никто не хвалил его со времен Александра. Собравшись уходить, Птолемей вспомнил о приличиях.
— Кузина Эвридика, у вас тут все славно. Филиппу повезло, как я понимаю.
Взгляд гостя сделался пристальным, изучающим. Выдержав многозначительную паузу, он добавил любезно, но несколько отстраненно:
— Разумеется, такая осмотрительная жена сумеет уберечь мужа от огорчений. Слишком много людей пытались использовать его в корыстных целях. Даже отец, и если бы Александр… впрочем, неважно. Теперь, когда Александра нет, нужно, чтобы кто-то приглядывал за ним. В общем… желаю тебе, кузина, здоровья и процветания. Прощайте.
Он вышел, оставив ее озадаченно хлопать глазами. Почему, спрашивается, она, царица, вдруг проводила поклоном какого-то рядового сатрапа? Упоминание об осмотрительности не имело ничего общего с похвалой, скорее оно было предостережением. Очередной высокомерный родственничек Александра. По крайней мере, его она больше никогда не увидит.
* * *
Роксана отнеслась к посетителю более церемонно. Принимая его за нового опекуна своего сына, она выставила на стол сладости, предлагаемые только особенно важным гостям, и завела разговор о коварстве македонской лисицы. Птолемей разочаровал ее, рассыпавшись в похвалах Пифону и Арибе. «Где была бы она сейчас, — подумал он, пожевывая засахаренный абрикос, — если бы Александр оправился от недуга? Разве стал бы он мириться с вздорным норовом этой бактрийки, когда Статира подарила бы ему сына?»
Ребенок попытался вскарабкаться к нему на колени, цепляясь липкими пальцами за складки его новехонькой мантии.
Затем, ухватив какой-то цукат, он тут же капризно бросил лакомство на циновку и потянулся к следующему, не обратив никакого внимания на нежнейший материнский упрек. И все же Птолемей взял на руки маленького Александра, желая как следует рассмотреть шалуна, унаследовавшего отцовское имя. Взгляд темных детских глаз был живым и смышленым, малыш скорее матери понял, что его изучают, и устроил небольшой спектакль с кривляниями и писком. «Его родитель тоже не прочь был покрасоваться, — подумал Птолемей, — но он обладал и другими талантами. Проявятся ли хоть какие-то из них в этом отпрыске?»
Он сказал:
— Я видел его отца в таком возрасте.
— Наш сын многое взял от нас обоих, — с гордостью сказала Роксана. — Нет, Александр, не надо предлагать гостю сладость, после того как ты ее облизал. Хотя я не сомневаюсь, что ты хотел просто его порадовать.
Мальчик, надкусив очередной цукат, опять бросил его.
Птолемей решительно снял малыша с колен и поставил на пол. Тому это не понравилось («хмурится этот бутуз по-отцовски»), ион заревел («а орет, как мать»). Птолемея скорее огорчило, чем удивило, что Роксана, подтянув сына к себе, принялась пичкать его лучшими лакомствами, с гордостью приговаривая:
— Да, он умеет настоять на своем. Такой маленький, ауже царь.
Птолемей поднялся и взглянул на ребенка. Сидя на материнских коленях, тот оттолкнул ласкающую его руку и с тревожащей серьезностью уставился на гостя.
— Да, — сказал Птолемей. — Он действительно сын Александра. Не забывай только, что его отец так отлично правил людьми лишь потому, что сначала научился справляться с собой.
Роксана прижала ребенка к груди и посмотрела на Птолемея. Он сдержанно поклонился. У выхода из этого роскошного шатра с пышными коврами и подвесными светильниками, усыпанными самоцветами, он обернулся и еще раз натолкнулся на не по-детски твердый взгляд темных, широко распахнутых глаз малыша.
* * *
Остававшаяся по-прежнему в Сардах Клеопатра приняла Антипатра, регента Македонии, в тех же самых покоях, где она встречалась с Пердиккой.
Смерть бывшего жениха глубоко потрясла ее. Она не любила Пердикку, но, вверив свою жизнь его заботам, рассчитывала вместе с ним достичь многого, а сейчас перед ней маячила лишь зияющая пустота. Она все пыталась как-то сладить со своим безысходным отчаянием, когда, покончив с войной в Киликии, к ней прибыл Антипатр.
Клеопатра знала его с младенчества. Когда она родилась, ему уже стукнуло пятьдесят. С тех пор он почти не изменился, разве что совсем побелели его седые волосы, брови и борода, однако вид у него был весьма внушительный, как и прежде. Усевшись на любимое кресло Пердикки, этот прямой как стрела старец с неколебимой властностью уставился на нее выцветшими, но пронзительными голубыми глазами.
Именно Антипатр виноват в том, напомнила Клеопатра себе, что Олимпиада перебралась из Македонии в Додону и превратила в кошмар ее жизнь. А значит, он виноват и в том, что она оказалась здесь, в своем теперешнем положении. Но трудно избавиться от того, что внушено тебе еще в детстве. Антипатр перед ней, и он все тот же регент. И она вновь ощутила себя набедокурившей девочкой, разбившей что-то старинное, драгоценное и ожидающей заслуженной кары.
Он не корил ее, он просто держался с ней, как с человеком, от которого ничего доброго нечего ждать. Да и заслуженно! Ведь, собственно, это она, Клеопатра, и спровоцировала лавину вражды. Из-за нее Пердикка отверг дочь Антипатра, женившись на той лишь для вида. Правя от имени двух царей, он собирался стать царем сам. Она сидела молча, покручивая на пальце кольцо, обручальный подарок Пердикки.
«В конце концов, — подумала Клеопатра, стараясь пробудить в себе возмущение, — он не вполне законный регент. Александру не нравилось, что он слишком притесняет народ, так говорил мне Пердикка. По справедливости регентом теперь должен стать Кратер».
Антипатр произнес вяло и хрипло:
— Тебе уже сообщили, что Кратер погиб?
— Кратер? — Она тупо воззрилась на гостя, слишком оглушенная, чтобы чувствовать что-то. — Нет, я не слышала.
Красивый и представительный Кратер, второй человек после Александра, был солдатским кумиром, поскольку оставался истинным македонцем, не перенимая персидских манер. Клеопатра обожала его с двенадцати лет, когда он еще служил в отряде отцовских стражников. В ее ларце хранился клок конских волос, сорванный сучком дерева с гребня его шлема.
— Кто убил его?
— Трудно сказать. — Он глянул на нее из-под белых кустистых бровей. — Сам он, возможно, обвинил бы тебя в своей смерти. Как тебе должно быть известно, Пердикка послал Эвмена на север, чтобы предотвратить нашу высадку на азиатский берег пролива. Однако Эвмен опоздал; мы успели переправиться раньше и пошли дальше, разделившись на две колонны, и именно Кратеру довелось встретиться с греком. Ох уж мне эти хитроумные чужаки! Эвмен сразу сообразил, что если его воины узнают, с кем им предстоит драться, то они взбунтуются и перейдут на сторону противника, поэтому он ничего не сказал им. Когда конники сшиблись, лошадь Кратера повалилась. Всадника же никто не узнал под плотно надвинутым шлемом. Кони просто растоптали беднягу. Когда все закончилось, его нашли умирающим. Говорят, плакал даже Эвмен.
Свои слезы Клеопатра выплакала давно. Безнадежность, горе и унижение давили как погребальные камни. Ее ждала серая старость, монотонные будни и мрак забвения.
Антипатр сухо сказал:
— Пердикке немного не повезло.
«Интересно, — подумала она, — как же тогда, по его мнению, должно выглядеть большее невезение? Расселся тут как судья, отсчитывающий удары кнута».
— Эвмен одержал блистательную победу, — продолжил Антипатр. — И, не мешкая, послал на юг гонца. Если бы Пердикка узнал вовремя столь приятную новость, то он наверняка смог бы заставить людей поверить в успех его замыслов. Но когда гонец прибыл в лагерь, он был уже мертв.
«Чем же мы так прогневили богов?» — с тоской подумала Клеопатра. Но она слишком хорошо знала историю царской македонской династии, чтобы тут же себе не ответить: «Тем, что практически не считаемся с ними».
— Эвмен тоже был ранен, как я слышал, — продолжал зудеть Антипатр. — Но, не дождавшись поддержки Пердикки, в награду за все свои подвиги он получил лишь обвинение в измене и в убийстве Кратера. Люди Пердикки осудили его на собрании… кстати, во время бунта разъяренная толпа убила и Аталанту, сестру Пердикки. Возможно, ты знала ее.
Да, не так давно Аталанта еще сидела в этой самой комнате, высокая и смуглая, как ее брат. Несколько огорченная неудачной женитьбой Пердикки, она любезно приняла деятельное участие в организации царской свадьбы. Весьма достойная женщина. Клеопатра на мгновение закрыла глаза. Потом решительно выпрямилась. Все же она — дочь Филиппа.
— Мне жаль, что так вышло. Но, как говорится, наша судьба в руках мойр.
Антипатр сказал:
— И что же теперь? Ты хочешь вернуться в Эпир?
О, он сознательно приберег этот удар напоследок. Он ведь прекрасно знал, что заставило Клеопатру покинуть владения покойного мужа, процветавшие под ее легкой рукой. Знал, что она предложила себя Леоннату, а потом и Пердикке вовсе не из честолюбивых стремлений, но чтобы сбежать от материнского деспотизма. Никто лучше Антипатра не понимал, что за чудовище ее мать. Теперь его страдалица дочь уже преспокойно живет в Македонии, а дочь Олимпиады находится всецело в его власти. При желании он может водворить ее как сбежавшую из дома малолетку под родительскую опеку. Нет, скорее она предпочтет умереть… или даже унизится до мольбы о пощаде.
— Пока не подрастет мой сын, в Эпире будет царствовать моя мать. Это ее страна, она ведь дочь молосского государя. Там для меня больше нет места. Если ты разрешишь мне, — эти слова едва не прожгли ей горло, — то я останусь здесь, в Сардах, и буду жить своей тихой жизнью. Обещаю, что никогда не обеспокою тебя.
Не испытывая никакого желания еще более унижать просительницу, Антипатр тем не менее подержал ее в напряжении, обдумывая ситуацию. Клеопатра по-прежнему представляла немалую ценность для затей авантюрного плана, на что, собственно, и польстились два ныне покойных ее ухажера. В Эпире могут начаться волнения, чего доброго вспыхнет бунт. Пожалуй, разумнее успокоить эту особу навеки. Но, глянув на Клеопатру еще раз, он вдруг припомнил ее отца. На протяжении всей своей долгой жизни Антипатр хранил верность двум пропадавшим в походах царям; как ни крути, честь дороже гордыни. Он не пойдет на предательское убийство.
— Сейчас ненадежные времена. Сарды пока не задеты войной, но она еще не закончена. Если я выполню твою просьбу, то не смогу тебя здесь защитить.
— Можно ли говорить о какой-либо защищенности в нашем мире? — с грустной улыбкой спросила она.
Именно эта потерянная улыбка впервые вызвала в нем чувство жалости к ней.
* * *
Царская армия свернула свой лагерь. Щедро одаренная и вежливо выпровоженная Птолемеем за пределы Египта, она устремилась на север, к месту, куда по уже имевшейся договоренности должен был прибыть со своим войском и Антипатр.
Со дня смерти Александра не прошло и двух лет, а оба полководца, выбранные для опеки недееспособных пока что царей, погибли. Их полномочия были переданы Пифону и Арибе.
Среди порученных их вниманию членов царской семьи только Роксана хорошо знала павшего в сражении Кратера. С ним в составе тылового обоза она возвращалась из Индии, пока Александр в Гедросийской пустыне укорачивал себе жизнь. Безусловно, этот овеянный славой воин был ей более по душе, чем Пердикка, и она с нетерпением ждала, когда он вновь возьмет ее с сыном под свое покровительство. Для встречи с ним Роксана даже приготовила новый наряд, ее скорбь по Кратеру была вполне искренней. Оба новых опекуна не внушали доверия. Пифон в своей истовой преданности Александру всегда относился к ней как к некой походной наложнице, которая должна знать свое место. Ариба же, как она подозревала, вообще отдавал предпочтение мальчикам. Кроме того, они навещали ее только вдвоем — мера предосторожности, которую оба сочли не лишней.
Эвридика знала о Кратере лишь понаслышке. Однако, получив известие о его гибели, она облегченно вздохнула. В славе этого человека таилась угроза манившей ее к себе власти, власти куда более могущественной, как она быстро сообразила, чем та, которой обладали ныне два неприметных военачальника, получивших по стечению обстоятельств высокие звания царских опекунов.
Вскоре после египетского бунта она почувствовала, что в армии происходит что-то неладное. Общий настрой солдат стал другим. И это при том, что им удалось успешно свергнуть своих недалеких и своевольных вождей, а кто-то даже обагрил руки кровью. Они выиграли, но внутренне словно бы ослабели, а не окрепли после этого выигрыша. Да, до взрыва всеобщего гнева с ними обходились жестоко, их посылали на верную и напрасную гибель, и они не раскаивались в содеянном; однако подпитывающая их уверенность в своей правоте куда-то девалась. Ее сменили смутное беспокойство и душевная пустота.
Пифону и Арибе не удавалось заполнить этот провал. Воины, разумеется, знали Пифона в лицо, как знали всех восьмерых царских телохранителей, но так уж случилось, что в нынешнем составе армии почти не было ветеранов, служивших у него под рукой. Практически он оставался темной лошадкой и не мог, конечно, вдохнуть в них новую веру. А отношение к Арибе определялось тем фактом, что при Александре он не выделялся никакими особенными достоинствами. Ну, занимался какими-то там художествами, но это мало интересовало солдат.
Однако если бы хотя бы в одном из них люди учуяли жар неукротимого внутреннего огня, то армия могла бы воспрянуть, а сейчас она была подобна своре хорошо вышколенных собак, лишившихся своего псаря. Оба опекуна с тревогой отнеслись к своим новым обязанностям, оба старались избегать чреватых беспорядками ситуаций, опасаясь возможных заговоров и мятежей, оба с умеренным рвением делали лишь то, что должно.
В общем, действие разыгрываемого спектакля затягивалось, сюжет провисал. Зрители ерзали, кашляли и зевали, они уже потихоньку доставали из рукавов яблочные огрызки, мятые луковицы и хлебные корки, но все еще не решались забросать ими главных героев. Создавшаяся сценическая ситуация была бы просто подарком для любого талантливого исполнителя вторых ролей, ищущего малейшего случая привлечь к себе зрительское внимание. Эвридика, дожидавшаяся именно такого момента, почувствовала, что публика заскучала, и поняла: пришло время явить себя ей.
Если бы в составе движущейся на север армии все еще находились умудренные жизненным опытом ветераны, служившие под началом Пифона, то кто-нибудь из этих неразговорчивых, но все примечающих старослужащих непременно заглянул бы к нему в палатку и проронил: «Со всем почтением, командир, хочу заметить, что молодая жена царя Филиппа бродит по лагерю и морочит парням головы. Нет-нет, эта морока не имеет ничего общего с любовными шашнями: дама отлично сознает, кто она и кто мы, однако…» Но смекалистые ветераны Пифона отправились на родину вместе с Кратером, нагруженные золотом, щедро выплаченным им Александром. И именно поэтому Эвридика практически беспрепятственно обзаводилась союзниками и готовыми верно служить ей осведомителями.
Ее главной трудностью был Филипп. С одной стороны, он являлся необходимым действующим лицом представления, но с другой — мог достойно исполнять свою роль не более нескольких минут. Его помощь в наборе сторонников вполне могла привести к краху замысла, а ее излишнее самоуправство — к скандалу.
«И все-таки, — думала Эвридика, — среди моих предков больше царей. В конце концов, он всего лишь сомнительный отпрыск младшего царского сына, незаконно захватившего трон! А мой отец был бы законным царем, если смог бы им стать, и, главное, я являюсь его законной наследницей. Разве я не могу действовать по собственному почину?»
Первыми она постаралась привлечь на свою сторону уже знакомых ей воинов. Своих спасителей в злосчастной стычке на пути в Сарды, добровольных охранников царской стоянки в Египте и тех раненых, которые выжили после позорной попытки форсировать Нил. Вскоре многие во время марша стали искать случая заглянуть в ее фургон и почтительно осведомиться, не нуждаются ли они с царем в чем-нибудь. Эвридика приучила Филиппа, частенько сопровождавшего ее на лошади, с улыбкой приветствовать подходящих воинов и проезжать немного вперед. Таким образом снималась неловкость, и последующие разговоры она уже вела словно бы с молчаливого одобрения государя.
Вскоре окольными путями по армии расползлись слухи, что у царя появился неофициальный отряд охранников, которым командует его жена. Эти люди ходили с гордым видом, их число неуклонно росло.
Маршевая колонна продвигалась вперед со скоростью пехотинцев, что сильно растягивало ее. Один из сторонников Эвридики, молодой командир, имевший обыкновение то и дело поминать Александра (они все были помешаны на этих воспоминаниях, и она вскоре поняла, что в таких случаях лучше помалкивать, давая им выговориться), как-то сказал, что Александр частенько бросал движущиеся черепашьим шагом войска и уезжал на охоту с друзьями. Эта идея привела ее восторг. При здравой снисходительности командиров в этих мирных краях группе конников ничего не стоило отпроситься на дневную прогулку, получив повеление вернуться в строй на закате. А Эвридика, не спрашивая ничьего разрешения, стала ездить с ними, переодевшись в мужское платье.
Конечно, известие о таких прогулках быстро распространилось по армии, что вовсе не повредило ее популярности. Вдохновляемая на удивление отзывчивой публикой, она уже разыгрывала перед ней много разных ролей. Доверчивый храбрый юноша, наивная девушка, нуждающаяся в защите, гордая царица исконно македонского рода — во всех этих ипостасях зрители дружно приветствовали и поддерживали ее.
На горных пастбищах, деля со своими сопровождающими утреннюю трапезу и запивая разбавленным вином ячменные лепешки, она порой рассказывала им о македонской царской династии. О своем прадеде Аминте и о его отважных сыновьях Пердикке и Филиппе. Оба эти царя — ее деды — сражались с иллирийцами на спорных землях, где Пердикка нашел свою смерть.
— И вот за героизм и мужество царем после него выбрали его младшего брата Филиппа. Мой отец тогда был еще слишком мал для трона, о нем в тот момент никто даже не вспомнил. Но он никогда не сомневался в правомерности народного выбора, храня неизменную преданность правящему государю, а когда Филиппа убили, лживые языки оклеветали отца, и собрание приговорило его к смертной каре.
Солдаты жадно внимали ее рассказам. Всем этим людям сызмальства доводилось слышать много всякого о страстях, пылавших в царской семье, но наконец сама царица снизошла до того, чтобы поведать им, как все происходило на деле. С гордостью сознавая собственную избранность, они испытывали чувство глубокой признательности к Эвридике. Ее искренность, ее прямота, ничуть не выпячиваемая, но вполне очевидная, внушала им благоговейный трепет. Теперь у вечернего костра, когда по кругу заходит бурдюк с вином, каждый из них сможет похвастать оказанным ему высоким доверием, пробуждая в приятелях зависть.
Эвридика беседовала и с Филиппом. От нее он узнал, что рос болезненным ребенком, а когда окреп и возмужал, то Александр уже начал свое победоносное шествие, затмив, естественно, еще ничем не проявившего себя брата. Но сейчас тень Александра явно возрадуется, видя, что его брату больше не нужны никакие опекуны, что он сам, и по праву, станет заботиться обо всей Македонии, дорогой нашей родине, продолжая всемерно ее укреплять. Лишь пользуясь скромностью, присущей натуре Филиппа, Пердикка сумел выговорить себе опекунство над ним, а новые опекуны вообще не способны или не стремятся взглянуть в глаза правде, чтобы снять с себя полномочия, засвидетельствовав тем самым собственную никчемность.
Филиппу нравилось, что во время верховых прогулок по лагерю многие сердечно приветствуют его. Он продолжал отвечать этим людям улыбками, и вскоре Эвридика слегка усложнила задачу. Филипп научился говорить в ответ: «Благодарю вас за преданность» — и с удовольствием увидел, как нравятся воинам его слова.
Ариба, проходя по своим делам, заметил пару таких обменов приветствиями, но не придал им никакого значения и не счел нужным сообщить о них Пифону. А Пифон, в свою очередь, расплачивался за ту отстраненность, с какой ранее воспринимал подавляющеее превосходство Пердикки. Во время египетского похода он лишь молча пожимал плечами, отойдя от всех дел. А когда неожиданное обвальное поражение вызвало уничтоживший Пердикку бунт, он уже потерял контакт с подчиненными. Мятеж сделал войска агрессивными, и Пифону хотелось лишь одного — довести их в полном составе до места встречи с армией Антипатра. Там можно будет созвать новое собрание для выбора постоянных опекунов. А он с облегчением свалит с себя обузу.
Заботу о соблюдении воинской дисциплины между тем Пифон возложил на плечи младших командиров, а они в свою очередь, не мудрствуя лукаво, решили, что не стоит тратить силы на всякие пустяки. Под благотворным влиянием Эвридики процесс брожения в умах солдат бурно усилился. И когда они встали лагерем в Трипарадизе, заговор созрел окончательно.
* * *
Трипарадиз («тройной парк») находился на севере Сирии и был разбит по велению какого-то давно забытого всеми персидского сатрапа, видимо возмечтавшего превзойти в роскоши самого Дария. Небольшая протекавшая по этому огромному саду река снабжала водой пруды, каскадные водопады и фонтаны; берега соединялись мраморными мостиками, а извилистые дорожки устилали затейливые сочетания обсидиановых и порфировых плит. На пологих холмах пышно цвели рододендроны и азалии, кроны редчайших по красоте и причудливости деревьев, доставленных сюда вместе с родной почвой со всех краев света на бесконечных вереницах подвод, оплетали великолепными кружевами жизнерадостно-ясное небо. Дворцы гарема с зарешеченными балконами, нависавшими над обширными усеянными лилиями полянами, летом наполнялись щебетанием юных наложниц, а гости сатрапа располагались в охотничьих домиках, срубленных из кедровых стволов.
Правда, за годы войны предприимчивые окрестные жители успели поистребить тут оленей с павлинами и вырубить большую часть строевого леса, но издерганным и утомленным походом солдатам эти парки показались поистине божественным даром. В них обнаружились идеально пригодные для стоянок места, где усталые люди могли спокойно ожидать Антипатра, судя по сообщениям, находящегося всего в двух днях пути.
Полководцы с удобствами обосновались в добротном особняке, высившемся на центральном холме, с которого открывался отличный вид на рукотворные парковые красоты. Расселившиеся на полянах и лугах воины купались в сверкающих водных потоках, рубили деревья для кухонных нужд и ставили силки на кроликов и птиц, пополняя припасы.
Ариба неожиданно ощутил тягу к долгим верховых прогулкам и в приятной компании с восторгом обследовал местные живописные уголки. И по заслугам, и по командному статусу Пифон превосходил его настолько, что он счел более правильным — к своему, кстати сказать, удовольствию — предоставить тому единолично решать все вопросы.
Пифон, считавший Арибу пустым вертопрахом, едва ли скучал по нему, но с тревогой думал о том, что Александр нашел бы чем занять людей. Скорее всего, он устроил бы состязания с достаточно богатыми призами, чтобы заставить солдат встряхнуться и посвятить усиленным тренировкам свой вынужденный досуг. На этот счет хорошо было бы посоветоваться с Селевком, но Селевк, полагавший, что у него больше прав на опекунство, чем у Арибы, последнее время был мрачен. И Пифон решил пока оставить все как есть.
Филипп и Эвридика заняли летний дворец старшей жены заправлявшего здесь сатрапа. К этому времени к рядам царских сторонников примкнул и командир конницы, с готовностью предоставлявший в распоряжение Эвридики отличных лошадей. Она спокойно разъезжала по своим делам и уже открыто носила мужскую одежду. Пифон и Ариба, порой обозревая парк со своего холма, принимали ее за кого-то из вестовых.
Теперь о происходящем знали практически все, хотя не все одобряли новые веяния. Но и ворчуны не могли не учитывать, что Филипп как-никак царь; к тому же нынешняя пара начальников была не так уж приветлива, чтобы спешить с доносом к кому-то из них. Не важно, думали сомневающиеся, со дня на день явится Антипатр, уж он-то во всем разберется.
Но так уж случилось, что сильные ливни вызвали наводнение на реке Оронт, осложнившее продвижение армии Антипатра. Не видя никакой необходимости поторапливаться в мирной стране и щадя свои старые кости, восьмидесятилетний регент Македонии приказал разбить лагерь на возвышенности в ожидании спада воды.
Погода в Трипарадизе стояла прохладная, ясная. Однажды ни свет ни заря, когда хрустальные бусины росы еще блестели на лепестках весенних цветов, а птицы вовсю щебетали в кронах успевших вымахать за полвека деревьев, Пифона разбудил один из помощников. Он вбежал к нему полуодетый и, на ходу застегивая портупею, вскричал:
— Командир!
Его голос заглушили звуки труб, которые сбросили Пифона с постели. Он вскочил на ноги, обнаженный и потрясенный. Пропели фанфары, возвещавшие о выходе государя.
Прибежал Ариба, завернутый в какой-то гиматий:
— Наверное, к нам прибыл Антипатр. А какой-то сдуревший глашатай…
— Нет, — бросил Пифон. — Слушай. — Он быстро глянул в маленькое окно. — О эринии, да что же ты топчешься?! Скорее одевайся! И оружие не забудь!
С привычной сноровкой былые сподвижники Александра облачились в доспехи и вышли на балкон, с которого в свое время сатрап пускал стрелы в гонимую к нему дичь. Большой луг внизу был заполнен солдатами. Перед ними на лошадях восседали Филипп и Эвридика. Рядом с вызывающим видом стоял трубач, он раздувался от важности, как человек, сознающий значение своей мисии для потомков.
Эвридика держала речь. На ней был мужской наряд и все доспехи, за исключением шлема. Она вся сияла, ее чистая девичья кожа светилась, волосы отливали блеском. Исходившая от нее живая энергия безоглядной отваги словно бы озаряла округу. Она не знала, да и, наверное, не пожелала бы знать, что именно так сиял Александр в свои победные дни, зато это отлично знали солдаты.
Молодой и твердый голос ее, конечно, не походил на раскатистый бас Птолемея, так замечательно выступившего в Египте, но тем не менее он был очень звонким и доносился до всех.
— …именем царя Филиппа, сына Филиппа! Пердикка, выбранный ему в опекуны, умер. И Филипп больше не нуждается в новых опекунах. Ему теперь тридцать, и он способен править самостоятельно. Он заявляет свои права на македонский трон!
Филипп поднял руку. Его возглас потрясающе громко прогремел над толпой, покорно притихшей и ничего такого не ожидавшей от своего обычно как в воду опущенного царя.
— Македонцы! Вы подтверждаете мою власть над вами?
Собравшиеся разразились таким оглушительным ревом, что с верхушек деревьев испуганно вспорхнули птицы.
— Да здравствует царь Филипп! Да здравствует царица Эвридика!
К охотничьему домику резвым галопом подлетела лошадь. Всадник бросил поводья испуганному рабу и решительно взбежал на балкон. Селевк, знавший, что о его смелости ходят легенды, не пожелал, чтобы кто-то пустил слух, будто он отсиделся где-нибудь во время бунта. Он был одним из любимцев солдат. При его появлении, зарождающиеся призывы: «Смерть опекунам!» — сошли на нет. А приветствия Филиппу возобновились.
Под этот ор Селевк крикнул в ухо Пифону:
— Они не все здесь! Нам надо выиграть время. Требуй полного сбора.
И действительно, около трети воинов предпочло в такую рань не тащиться куда-то, а подольше поспать. Пифон выступил вперед, крики снизились до глухого ворчания.
— Отлично. Все мы свободные македонцы и имеем право принимать любые решения. Но помните, что воины Антипатра находятся всего в нескольких милях отсюда, и у них есть такое же право. Дело затрагивает интересы всех граждан.
Недовольный ропот волной прокатился над полем. Все были крайне взвинчены и раздражены. Эвридика произнесла лишь три слова:
— Нет. Медлить нельзя! — и толпа вновь разразилась возмущенными криками.
Что-то заставило ее оглянуться. Филипп тащил из ножен свой меч.
Ей пришлось позволить ему вооружиться, чтобы он выглядел если не царственно, то хотя бы воинственно. Судя по его взгляду, он собирался немедленно ринуться в бой. Она быстро соображала. Что будет, если воины не поддержат его? Все провалится, когда обнаружится, что он никудышный боец. Филипп между тем пылко воскликнул:
— Давай убьем их! Ты видишь? Мы легко можем убить их.
— Нет. Убери меч.
С явным сожалением Филипп подчинился приказу.
— Теперь повернись к воинам и крикни: «Дадим Пифону слово!»
Филипп с готовностью обратился к толпе. Никогда прежде он не выглядел столь впечатляюще. Пифон понял, у него нет возможности что-либо сделать.
— Ладно, — произнес он. — Конечно, мы можем сейчас же созвать всех на собрание. Но не вините меня, когда по прибытии другой армии потребуется провести его снова. Эй, глашатай! Поднимайся сюда и труби общий сбор.
* * *
Сбор состоялся все перед тем же охотничьим домиком. Не примыкавшие к царским сторонникам люди быстро откликнулись на зов трубы и поспешили прийти. Их оказалось гораздо больше, чем думала Эвридика. Но сулящее успех сияние оставалось при ней, и они с Филиппом бестрепетно поднялись на балкон, теперь служивший трибуной. Улыбаясь, Эвридика окинула взглядом приветливые лица людей. Отдельные отчужденные физиономии не портили общей картины.
В дальнем конце балкона Пифон о чем-то тихо разговаривал с Селевком. Она мысленно повторила старательно подготовленную речь.
Пифон подошел к ней:
— Ты выскажешься в конце. Такова привилегия женщин.
«Как нагло он держится, — подумалось ей. — Что ж, надо сбить с него спесь».
Пифон решительно подошел к краю балкона. Его появление вызвало неодобрительные, но вскоре утихшие крики. На общем собрании приходилось придерживаться традиций.
— Македонцы! — Четкий командный голос подавил последние недовольные возгласы. — В Египте на общем сборе вы выбрали меня и Арибу опекунами двух наших царей. Очевидно, теперь по каким-то причинам вы хотите сделать другой выбор. Да будет так. Мы согласны. Нет нужды выяснять, много ли сторонников у этого предложения: мы оба добровольно снимаем с себя возложенные на нас обязанности. Мы отказываемся от опекунства.
Поле сковало озадаченное безмолвие. Собравшиеся почувствовали себя очень глупо, словно они состязались в перетягивании каната, а их соперники вдруг бросили свой конец. Пифон постарался выжать из их недоумения все возможные выгоды.
— Да, мы отказываемся. Однако нужда в опекунстве не отпадает. Вы сами учредили эту должность на общем собрании после смерти Александра. Вспомните, что у вас два царя, один из которых слишком юн, чтобы царствовать своим именем. Если вы хотите наделить всей полнотой власти Филиппа, то сначала отдайте себе отчет, что тем самым он станет и опекуном маленького Александра, до тех пор пока тот не повзрослеет. Подумайте хорошенько обо всем этом, прежде чем высказать свое мнение.
— Понятно! Уже подумали!
Солдаты напоминали праздный люд в балагане, побуждавший медлительных актеров играть поживее. Эвридика уловила их настроение. Они ждут ее выступления, и она готова к нему.
— Вот здесь перед вами, — продолжил Пифон, — Филипп, сын Филиппа. Он заявляет о своем праве на трон. Царь Филипп, прошу тебя, подойди к нам.
Кротко, но с некоторым удивлением Филипп подошели встал рядом с ним над верхней ступенью центральной сбегавшей вниз лестницы.
— Итак, ваш царь, — сказал Пифон, — сейчас обратится к вам с государственной речью.
Эвридика замерла. Ей показалось, что на нее обрушились небеса, но она еще не понимала, что, возможно, подобный исход и был предрешен именно там, над суетным миром.
Прежде всего ее ошеломила собственная недальновидность. Она не искала оправданий, не напоминала себе, что ей лишь недавно исполнилось шестнадцать лет. Она уже мнила себя настоящей царицей, воинственной, обожаемой всеми. И просчиталась, как полная дура.
С растерянной улыбкой Филипп окинул взглядом людское множество. Его встретили дружелюбными одобрительными приветствиями. Все знали, что он немногословен и излишне стеснителен.
— Да здравствует царь! — кричали солдаты. — Да здравствует царь Филипп!
Филипп вскинул голову. Он отлично знал, ради чего устроено это собрание: Эвридика все объяснила ему. Но она также предупреждала, чтобы он никогда не произносил ничего, кроме того, что ему велено говорить. Он метнул в ее сторону тревожный взгляд, пытаясь понять, не хочет ли она выступить раньше, но Эвридика на него не смотрела, устремив глаза вдаль. Зато он услышал мягкий и настойчивый голос стоявшего за ним Арибы:
— Государь, поговори с солдатами. Они ждут.
— Смелее, Филипп! — кричали снизу. — Тише, царьбудет говорить!
Он махнул рукой, и солдаты зашикали друг на друга, готовясь слушать.
— Благодарю вас за вашу преданность.
Филипп знал, что эти слова будут восприняты хорошо. Да, все в порядке. Прекрасно.
— Я хочу стать царем. Я уже достаточно взрослый. Александр, правда, не хотел, чтобы я стал царем, но он умер…
Он умолк, собираясь с мыслями.
— Александр разрешил мне зажечь благовония. И тогда я услышал, как он сказал Гефестиону, что я вовсе не такой тупой, каким себя выставляю.
Поднялся недоуменный шумок. Филипп добавил для пущей уверенности:
— Не волнуйтесь, если я чего-нибудь не пойму, Эвридика подскажет мне, что надо делать.
Мгновения молчаливого изумления, затем — озадаченное ворчание. Обмениваясь удивленным взглядами, солдаты негромко обсуждали услышанное. «Я же тебе говорил. Ну что, теперь понял?», «Да, но вчера я видел его, и он был совершенно нормальным!», «Видно, припадки его довели до такого…», «Ну, надо отдать ему должное, сказал-то он правду…»
Эвридика стояла, точно прикованная к позорному столбу. С радостью она предпочла бы раствориться в воздухе. До нее донеслось насмешливое скандирование понравившейся всем глупой фразы: «Эвридика подскажет, что делать». Ободренный этими возгласами Филипп решил продолжить:
— А став царем, я смогу сколько угодно кататься на слонах.
Стоявшие за ним Пифон и Ариба самодовольно заулыбались.
В общем веселье Филипп вдруг ощутил смутивший его оттенок. Примерно так же над ним смеялись в ту ужасную брачную ночь. Он решил произнести спасительную магическую фразу: «Благодарю вас за вашу преданность!» — но ее не восприняли с обычным почтением, а принялись хохотать еще громче. Может быть, лучше убежать? Или его все равно поймают? С отчаянной мольбой он оглянулся на Эвридику.
Призвав на помощь всю свою гордость, она как-то сумела сдвинуть с места одеревеневшие ноги. Скользнув по самодовольным опекунам презрительным взглядом и не обращая никакого внимания на гудящую внизу толпу, девушка подошла к Филиппу и взяла его за руку. С неописуемым облегчением и доверием он повернулся к ней:
— Я сказал хорошую речь?
Вскинув голову, она глянула на солдат, а потом ответила:
— Да, Филипп. Но теперь все кончено. Пойдем сядем в сторонке.
Эвридика подвела мужа к пристенной скамье, где сатрап некогда потчевал вином гостей в ожидании сигнала загонщиков.
Собрание продолжалось без них.
Люди пребывали в раздраженном замешательстве. Споры дошли до абсурда. Сотни голосов, предлагавших вновь поручить опекунство Пифону и Арибе, затихли, столкнувшись с их решительным несогласием. Селевк также отказался от такой чести. Пока обсуждались менее влиятельные фигуры, прибыл курьер. Он сообщил, что Антипатр переправился через Оронт и прибудет сюда через все те же два дня.
Объявив об этом собравшимся, Пифон напомнил им, что после смерти Пердикки оба царя следуют в Македонию. Кто же в таком случае, учитывая безвременную кончину Кратера, более подходит на роль их опекуна, как не сам регент? С мрачной безысходностью, не находя лучшего кандидата, собрание одобрило его предложение.
Пока шло обсуждение, Эвридика незаметно удалилась вместе с супругом. После семейной дневной трапезы Филипп повторил свою речь перед Кононом, и тот похвалил его, пряча от Эвридики глаза.
Она едва слушала болтовню мужа. Униженная, вынужденная признать несостоятельность своей затеи, дочь Кинны почувствовала, как вскипает в ней кровь властных предков. Тень Александра, казалось, дразнила ее. В свои шестнадцать он уже стал регентом Македонии и провел победоносную войну. Огонь ее честолюбия еще жарко тлел под покрывающим его пеплом. Почему ее так унизили? Видимо, не потому, что ее претензии были чересчур высоки, а, наоборот, за их мелкость. «Меня высмеяли, — подумала она, — из-за того что я не осмелилась потребовать большего. С этого момента я буду бороться за свои собственные права».
Вечером, когда солнце скрылось за дальней чертой азиатского горизонта и повеяло дымом первых костров, она переоделась в мужской наряд и приказала привести лошадь.
Через два дня, несколько опережая регента и его войско, в Трипарадиз прискакал Антигон Одноглазый.
Именно он сбежал в Македонию, обнаружив свадебные трюки Пердикки. В свое время Александр назначил его сатрапом Фригии, а нынешний благодарный регент предоднес ему пост главнокомандующего всех азиатских войск. И он сейчас прибыл, чтобы приступить к своим новым обязанностям.
Будучи мужчиной отменно крупного телосложения, Антигон уже давно перестал мучить низкорослых греческих лошадок и потому восседал на огромном «персе». Несмотря на пересекавшую лоб повязку — глаз был потерян в битвах за Фригию, — этот талантливый военачальник по-прежнему оставался красивым мужчиной, в этом смысле нисколько не уступая своему юному, но очень статному сыну Деметрию, который родителя просто боготворил и всегда старался быть рядом с ним. Оба смотрелись весьма впечатляюще на своих могучих породистых скакунах.
Во главе небольшого сопровождающего отряда Антигон въехал в лесок, обступающий парк. Вскоре, настороженно прислушавшись, он знаком велел своим людям остановиться.
— В чем дело, отец? Нас ждет битва?
Глаза юноши загорелись. Ему недавно исполнилось пятнадцать лет, и он еще ни разу не побывал в настоящем бою.
— Нет, — оценив услышанное, ответил отец. — Там какая-то перебранка. Или бунт. Похоже на то, что я приехал как раз вовремя. Вперед! — скомандовал он и добавил, повернувшись к сыну: — Не пойму, как Пифон мог это допустить? Он отлично справлялся с командованием при Александре. Да, видно, толковое исполнение чужих повелений еще ни о чем в человеке не говорит. Ладно, командующий он только временный. Придется разобраться, что тут происходит.
Судя по тону, подобная перспектива его не очень-то радовала. Личные амбиции Антигона устремлялись в более высокие сферы.
Эвридике же за прошедшую пару дней удалось привлечь на свою сторону около четырех пятых армии. Во главе этого войска она опять появилась под звуки фанфар перед охотничьим домиком, где проживали Ариба, Пифон и Селевк, требуя на сей раз признать ее соправительницей Филиппа.
С отвращением и не без примеси страха три полководце обозрели собравшуюся внизу многочисленную толпу. Та выглядела не просто мятежной, но и разнузданной. Как раз этого Эвридика толком не осознавала. В программу ее боевой подготовки теория с психологией не входили, и девушке было невдомек, что ее сторонники могли бы стать более управляемой и более внушительной силой, если бы она сумела призвать их к порядку. Не так давно младшие командиры (старшие отчужденно держались в стороне) имели возможность помочь ей и в этом, но в последнее время произошло слишком много событий, большинство из которых плохо сказалось на воинской дисциплине. И потому теперь за Эвридикой следовала вооруженная беспорядочная толпа. Солдаты, расталкивая друг друга, пробивались вперед, стремясь лично осыпать оскорблениями вконец, по их представлениям, зарвавшееся начальство.
Именно этот возмущенный галдеж, именно этот свист, заглушающий голос Пифона, и услышал Антигон со своим отрядом, подъехав поближе.
Оценив издали обстановку, он послал Деметрия вперед выяснить, что к чему. Лишний опыт парню не помешает. Лошадь легким галопом вынесла седока на поляну, но вскоре юный Деметрий вернулся и сообщил, что вся эта шумная толпа людей собралась перед чем-то вроде верховного штаба, однако в задних рядах слышна лишь бессмысленная, сумбурная ругань.
Между тем Эвридика почувствовала, что толпа за спиной закипает. Назрела необходимость ее как-то унять. Врожденная интуиция подсказала ей, что сама она долго сдерживать солдат не сможет. Они уже были почти готовы отшвырнуть свою предводительницу в сторону и разорвать несговорчивых полководцев на части. Но в таком случае будет попрана и ее хрупкая власть.
— Глашатай, труби «всем стоять»!
Эвридика обернулась к собравшимся, высоко вскинув руки; толпа возбужденно заколебалась, но дальше не двинулась. Девушка вновь повернулась лицом к своим недоброжелателям.
Балкон был пуст.
В следующую минуту скрывшиеся с людских глаз полководцы с немалым изумлением для себя обнаружили, что в лагерь прибыл новый главнокомандующий и что он с тыла сумел незаметно пробраться в охотничий домик.
В обшитом темным деревом помещении, едва освещаемом маленькими узкими окнами, царил дышащий холодом полумрак, в глубине которого растерянные командиры с трудом разглядели фигуру гиганта свирепого вида. Циклоп, развалившийся в кресле сатрапа, сверлил их пылающим взором, единственный глаз его жутко сверкал. Стоявший сзади юный Деметрий, чеканный профиль которого словно притягивал залетавшие в комнату солнечные лучи, казался духом надвигающейся грозы.
Антигон молчал. Грозно тараща свой жгучий глаз, он ждал объяснений.
После череды путаных сетований и жалоб неприступную мрачность его сменило искреннее недоверие. Помолчав, он спросил:
— Сколько же полных лет вашей бунтовщице?
Толпа снаружи оглушительно взвыла, но молчавшему дотоле Селевку удалось, перекрыв заоконные вопли, дать лаконичный ответ.
Недоуменно покачивая головой, Антигон обвел военачальников уничтожающим взглядом, остановив его на Пифоне.
— Громоподобный Зевс! — вскричал он. — Кто же вы солдаты или никчемные педагогишки? Нет, ей-ей, даже до последних вам как до Олимпа! Оставайтесь здесь.
Он поднялся с кресла и решительно зашагал к выходу на балкон.
Внезапное появление этого могучего, грозного и знаменитого воина вместо тех, кто уже вроде бы не мог ничему помешать, повергло собравшихся в почти траурное безмолвие. Эвридика, не имевшая ни малейшего представления о так огорошившем всех незнакомце, удивленно уставилась на него. Позабытый ею и всеми Филипп радостно вскрикнул:
— Да это же Антигон! Он…
Дальнейшее заглушил мощный грудной рык Антигона. Солдаты первых рядов невольно засуетились в тщетных попытках образовать подобие строя.
— Пять шагов назад, ротозеи, позор десятков славных македонских родов! — взревел Антигон. — Молчать, проклятия Аида и всех трех эриний на ваши дурные головы! Кем вы себя возомнили, скопищем дикарей? Ну-ка, подравняйтесь, расправьте плечи и дайте мне на вас посмотреть. Нет, я не вижу здесь македонских солдат! Вы скорее похожи на грязных варваров, грабящих караваны. Неужели передо мной прославленные соотечественники? Разве узнал бы вас Александр?! Да вас не узнали бы сейчас даже родные матери. Если хотите устроить собрание, то сперва докажите, что вы и впрямь македонские воины, прежде чем вас увидят идущие к вам настоящие македонцы. Армия Антипатра явится сюда после полудня. Вот тогда общий сбор будет к месту. А пока разойдитесь и подумайте о своем поведении. Да приведите себя в порядок, проклятье, от вас несет как от козлов!
Эвридика в смятении осознала, что редкие возмущенные крики почти мгновенно сошли на нет. Их сменил глухой чуть пристыженный ропот. Антигон, до сих пор даже не смотревший на девушку, наконец соизволил заметить ее.
— А ты, юная дама, — сказал он, — отведи своего супруга обратно в его покои да будь с ним поласковее. Ему нужна жена, а не предводительница амазонок. Займись своими женскими делами, а уж с командованием как-нибудь справлюсь я сам. Меня обучил этой штуке твой дед задолго до твоего рождения.
Молчаливая толпа зашевелилась, потом начала редеть по краям, и в середине стало свободнее. Эвридика крикнула:
— Мы хотим утвердить наши права!
Кое-кто поддержал царственную зачинщицу бунта, но таких голосов было мало. Какой-то грубый гигант сорвал все ее планы, а она даже не знала, кто он такой.
Позже в палатке Конон рассказал ей, кто же таков известный всей Македонии Антигон. Исходя из полученных сведений, Эвридика попробовала обдумать свои следующие шаги, но вскоре запах пищи напомнил девушке, что ее молодой организм изрядно проголодался. Она дождалась, когда муж насытится (он все-таки отвратительно выглядел за едой), а потом сама села подкрепиться.
Снаружи донесся высокий властный голос, в чем-то убеждавший стражника. Конон, налив госпоже вина, повернулся к входу. Вошел юноша, потрясающе красивый, он был едва ли старше уставившейся на него Эвридики. Правильные черты лица, обрамленного ниспадающими волнистыми волосами, и совершенное телосложение гостя наверняка пробудили бы в любом скульпторе неодолимое, но, скорее всего, несбыточное желание изваять с него Гермеса. Не разрушая произведенного впечатления, юноша легкой, летящей походкой приблизился к столу и, приняв достойную небожителя позу, вперил в девушку насмешливый взгляд.
— Я — Деметрий, сын Антигона. — Голос его также словно бы изливался с высот, как у актера, представляющегося в начале спектакля. — Я пришел, чтобы предостеречь тебя, Эвридика. Не в моих привычках воевать с женщинами. Но если по твоей милости с головы моего отца упадет хотя бы волос, то ты поплатишься за это жизнью. Больше мне нечего добавить. Желаю всего наилучшего.
Деметрий удалился, как и пришел, легко пробираясь сквозь беспорядочную толпу сторонников той, кому он угрожал. Его быстрая решительная походка и молодая самоуверенность расчищали ему дорогу.
Эвридика проводила своего первого враждебно настроенного к ней ровесника долгим взлядом. Конон возмущенно фыркнул:
— Наглый щенок! Кто посмел впустить его? Ну надо же: «Не в моих привычках воевать с женщинами!» А с кем, хотел бы я знать, этот сопляк успел повоевать вообще? Отцу, видно, следовало бы почаще пороть его.
Эвридика наспех покончила с едой и вышла из шатра. Незваный гость поддержал ее в момент слабости. С таким могущественным противником, как Антигон, ей самой, несомненно, не совладать, однако, в сущности, это всего лишь один человек — и не больше. Войска по-прежнему возмущены и готовы к бунту. Конечно, не стоит сейчас опять поднимать их, чтобы не злить до времени нового главнокомандующего, но она бродила по лагерю, напоминая всем и каждому, что Антипатр, которого многие так дожидаются, занимает пост регента незаконно и что он боится, как бы законный царь его с этой должности не согнал. Будь его воля, он предпочел бы умертвить и Филиппа, и ее, Эвридику, а заодно и всех тех, кто в благородном порыве осмелился к ним примкнуть.
Антигон в свою очередь послал одного из подручных навстречу регенту с предупреждением о неприятностях. Но Антипатр с небольшой свитой решил срезать путь напрямую через холмы. В итоге гонец не нашел его, догнав слишком поздно лишь хвост колонны. Там ему сообщили, что задолго до полудня старик поехал вперед.
* * *
Регент въехал в Трипарадиз на покрытом узорчатым чепраком отлично вымуштрованном коне, держась в седле очень прямо. Его пораженные подагрой ноги тупо ныли, но суровость лица маскировала малейшие проявления старческой немощи. Лекарь настаивал, чтобы он пересел в паланкин, однако оставшийся в Македонии Кассандр только и ждал, когда отец чуть ослабнет, чтобы тут же подбить народ посадить на его место другого регента — себя любимого, разумеется. Антипатр не доверял своему старшему сыну, да и особой любви к нему не питал. К тому же после смерти Пердикки здесь, в Сирии, могло произойти много неожиданного, а потому с помощью богов и медиков он намеревался прибыть на встречу с азиатской армией не как болезненный старец, а как властный и могущественный правитель.
Главные ворота парка с огромными столпами, увенчанными каменными цветками лотоса, смотрелись на редкость монументально. Выбранная Антипатром широкая и ровная дорога, разумеется, привела его к ним.
В глубине парка слышался шум, но, к досаде и удивлению первого лица Македонии, никто не выехал ему навстречу. Антипатр приказал глашатаю дать сигнал, оповещающий о его прибытии.
Полководцы, только-только узнавшие, что основные силы регента не смогут подойти в ближайшее время и что его самого гонец не сумел разыскать, в смятении принялись совещаться. Новая неприятность не заставила себя ждать. Командир не примкнувшей к мятежникам части конницы, галопом подскакал к штабу и доложил совету, что бунтовщики окружили регента, прибывшего в сопровождении весьма малочисленного конного эскадрона, не более пятидесяти верховых.
Военачальники похватали шлемы — остальные доспехи уже были на них — и приказали привести лошадей. Пифон и Ариба, никогда не испытывавшие недостатка в храбрости, живо вооружились дротиками. Антигон буркнул:
— Нет, только не вы. Если вы там покажетесь, они перережут нас всех. Оставайтесь здесь и кликните верных людей для обороны ставки. Пойдем, Селевк. Мы с тобой найдем что сказать.
Селевк, опершись на копье, вскочил в седло и, мчась рядом с галопировавшим на могучем жеребце Антигоном, вновь испытал боевой пыл золотых прежних лет. Он мечтал о настоящей схватке с того самого позорного поражения на реке Нил, которое все еще удручало его. Хотя бывало ли в славные прошлые времена, чтобы нешуточная угроза исходила от своих же солдат?
Регент достиг того почтенного возраста, когда физические недомогания и усталость докучают человеку больше, чем что-либо еще, вследствие чего даже подстерегающие его опасности кажутся мало что значащими. Не ожидая ничего более серьезного, чем отдельные проявления неприязни, Антипатр прибыл в расположение «азиатов» в коротком хитоне и солнцезащитной соломенной шляпе, вооруженный одним лишь коротким мечом.
Селевк и Антигон, пронесшись во весь опор через скопище колоннообразных огромных сосен, величественных гималайских кедров и раскидистых неохватных платанов, увидели, что плотный круг конных стражников едва сдерживает напирающую на них толпу, а над их шлемами маячит широкополая шляпа и слишком уж уязвимая поблескивающая сединой голова.
— Постараемся не довести дело до крови! — крикнул Антигон Селевку. — Иначе они нас убьют!
Взревев командным голосом: «Всем стоять!» — великан врезался в возбужденную солдатскую массу.
Внезапность появления решительных и знаменитых бойцов, один из которых казался сказочным исполином, ошеломила солдат и помогла вновь прибывшим пробиться к регенту. Тот, подобно дряхлому орлу, осаждаемому воронами, схватившись за свой старый меч, бросал из-под кустистых белых бровей полыхающие медленно зреющей яростью взгляды.
— В чем дело? Что у вас тут происходит? — брюзгливо спросил Антипатр.
Антигон коротко ему отсалютовал («Неужели старик думает, что у нас сейчас есть время на разговоры? Должно быть, он все-таки начал выживать из ума!») и обратился к солдатам.
Что за позорное поведение? Они требуют уважения к царю, но разве не следует уважать и его великого отца Филиппа, заложившего основы славного Македонского царства? Тот ведь всецело доверял Антипатру, раз поручил ему руководство страной. Да и Александр никогда не смещал регента, а только велел созвать собрание, послав в Македонию заместителя, способного самостоятельно разобраться в сложившейся там обстановке…
Антигон при необходимости мог быть не только властным, но и убедительным. Толпа мрачно расступилась, регент и его спасители проехали к штабу.
* * *
Эвридика сосредоточенно обкатывала в уме свое обращение к людям, а потому с большим опозданием узнала об этом скандале. Ее потрясло, что солдаты чуть было не растерзали беспомощного старика. Это оскорбляло то поэтическое видение войны, какое она взлелеяла в себе с детства. А вообще-то ей следовало бы самой направлять ярость своих сторонников в нужное русло. Только афинские демагоги готовили речи, пока их народ воевал.
За час до заката прибыли основные войска Антипатра. Надвигающиеся сумерки заполонили новые звуки: гомон воинов, втекающих в парковый комплекс, скрип повозок продовольственного обоза, сбивчивое топотание ног устанавливающих палатки рабов, лязг оружия и доспехов, приветливое ржание лошадей, почуявших приближение новой конницы. Позднее, по прошествии нескольких часов, ночь оживил гул голосов, обменивающихся сплетнями, слухами и новостями. Это был шум городских агор с их винными лавками, гимнасиями и базарами, извечно оглашающий берега Средиземного моря.
После захода солнца заглянувшие к царице сподвижники сообщили, что попытались привлечь на ее сторону людей Антипатра. На лицах менее удачливых агитаторов красовались ссадины и кровоподтеки. Но драка была небольшой, она быстро утихла с вмешательством командиров. Это свидетельство резкого укрепления дисциплины Эвридику обрадовало не очень. Не очень понравилось ей и то, что, когда один штабных офицеров регента зашел в царские покои, все воины, как один, отсалютовали ему.
Офицер объявил о завтрашнем общем собрании для решения важных государственных дел. Нет сомнений, что царь Филипп пожелает принять в нем участие.
Царь Филипп построил на полу маленькую крепость и теперь старательно пытался населить ее муравьями, загодя собранными в пустыне. Услышав известие, он с беспокойством спросил:
— А мне придется говорить речь?
— Это, государь, как ты пожелаешь, — невозмутимо ответил посланец. Он повернулся к Эвридике. — Дочь Аминты, Антипатр приветствует тебя. Он просил передать, что, хотя и не в македонских традициях выслушивать на таких собраниях женщин, он готов предоставить тебе слово. Прямо после своего выступления. А уж собрание само решит, слушать тебя или нет.
— Передай Антипатру, что мы с царем непременно там будем.
Когда офицер удалился, Филипп пылко сказал:
— Он обещал, что мне не придется говорить, если я сам этого не захочу. Пожалуйста, не заставляй меня, ладно?
У нее появилось сильное желание ударить своего муженька, но Эвридика сдержалась. Разумеется, опасаясь потерять над ним власть; впрочем, главным стопором была мысль о его неестественной силе.
Собрание, состоявшееся на следующий день, проводилось с соблюдением всех древних правил. Соответственно, туда не допустили чужеземных солдат, появившихся в армии с легкой руки Александра, ратовавшего за единение разных народов. На самом большом лугу парка возвели внушительную трибуну, установив перед ней ряд скамеек для именитых персон. Напоследок шепнув Филиппу, чтобы тот сидел смирно, не ерзая, Эвридика заняла свое место и вдруг осознала, что в собравшейся на поле огромной толпе произошла какая-то едва уловимая перемена, которой сопутствовало нечто до боли знакомое. На нее словно повеяло духом родной земли, теплом северных гор.
* * *
Первое слово предоставили Антигону. Взойдя на трибуну, гневный и грозный командующий, казалось, исчез. Перед людьми стоял уже государственный деятель, в меру приветливый и умеющий задать тон. С достоинством он напомнил собравшимся об их героическом прошлом под рукой Александра, призвал всех не позорить его славное имя и пригласил на трибуну регента.
Старик бодро поднялся на помост. Прибывшее с ним войско встретило его приветственным гулом, враждебных выкриков не было вообще. Для начала Антипатр обвел публику внимательным взглядом. Как искусный оратор, он выдержал паузу, потом, верно выбрав момент, поднял руку, призывая народ к тишине. Тут Эвридика против воли подумала: «Да, вот кто царь!»
Он правил Македонией и Грецией, пока Александр вел свои победоносные войны. Подавляя стихийные мятежи южан, он отправлял недовольных в изгнание и своей волей сажал новых правителей в покоренные города. Что говорить, он сумел урезонить даже Олимпиаду. Конечно, он постарел, ослабел, бремя лет очевидно тянуло всегда казавшегося бессменным регента к земле, а звучный бас стал надтреснутым, но его по-прежнему окружала очень мощная аура властности, питаемая неиссякаемой внутренней силой.
Антипатр напомнил воинам об их предках, напомнил о Филиппе, освободившем их отцов от ига захватчиков и избавившем их самих от гражданских войн, а кроме того, породившем Александра, который сделал их хозяевами всего мира. Теперь народ Македонии подобен могучему древу с широкой раскидистой кроной — старец жестом показал на платаны и кедры, горделиво высящиеся вокруг, — но и самое могучее дерево может засохнуть, если вырвать из родной земли его корни. Неужели им хочется уподобиться варварам, которых они покорили?
Далее оратор поведал собравшимся историю появления на свет Арридея, недоумка, кого они ни с того ни с сего нарекли вдруг Филиппом в честь его героического отца. Он напомнил, как относился к этому «Филиппу» родитель, ничуть не смущаясь тем, что Арридей сидит тут, внизу. Он также добавил, что за всю свою историю Македония женской власти не знала. Так кого же они хотят видеть на царском троне: женщину или дурачка?
Филипп, прилежно вслушивавшийся в речь Антипатра, глубокомысленно кивнул. Ему она показалась вполне убедительной. Александр говорил, что ему нельзя быть царем, и вот сейчас этот могущественный старик говорит то же. Возможно, все теперь это поймут, и он опять сделается Арридеем.
Войска Антипатра и так вполне устраивал Антипатр. А для мятежников его речь была подобна медленному пробуждению от тревожного сна. Людское море за Эвридикой шелестело словно галька, окатываемая волнами, и девушка вдруг осознала, что на этом море начался отлив.
Нет, она не допустит, не должна допустить поражения. Она выступит перед ними, у нее есть это право. Однажды ей уже удалось подбодрить павших духом сторонников, и сейчас она вновь вдохнет в них веру в себя. Скоро этот старик замолчит, ей надо быть наготове.
Сцепив руки, Эвридика гордо расправила плечи и вскинула голову, но вдруг живот ее непререкаемо заявил о себе. Острая боль сменилась тупым тянущим ощущением, принадлежность которого сразу стала понятна, хотя смущенный ум девушки напрочь отказывался это признать. Однако тщетно: природа брала свое. Женское недомогание началось на четыре дня раньше срока.
Она всегда тщательно высчитывала время очередных месячных и никогда не ошибалась. Почему же он сбился, всегда столь устойчивый цикл? Первый день обычно бывал очень обильным, а она не подложила даже салфетки.
Как видно, нервное возбуждение помешало ей еще утром заметить зловещие признаки перемен в своем чреве. Эвридика уже ощущала внутри себя угрожающее движение ищущей выхода влаги. Если она поднимется на трибуну, то неминуемо осрамится перед всем честным людом.
Выступление регента близилось к кульминации. Он говорил что-то об Александре, но Эвридика едва его слышала. Ее внимание сосредоточилось на множестве человеческих лиц, заполнявших и поле, и рощу, и склоны холмов. Почему среди всех этих сотворенных одними и теми же богами людей она единственная должна страдать от внезапно постигшей ее телесной немощи, почему именно в этот великий и судьбоносный момент ее предает даже собственный организм?
Рядом сидел Филипп со всей своей бесполезной, но очень здоровой мужской анатомией. Если бы они вдруг поменялись телами, то через миг она гордо взбежала бы на трибуну, а ее голос зарокотал бы, как гром. Но ей, слабой женщине, придется уползти с поля битвы без боя, и даже доброжелатели в лучшем случае лишь пожалеют перетрусившую бедняжку!
Антипатр закончил. Когда затихли аплодисменты, он сказал:
— Желает ли собрание сейчас выслушать Эвридику, дочь Аминты, жену Арридея?
Никто не возражал. Сторонники Антипатра были не прочь выяснить, чего хочет царица, а ее союзники стыдились дать ей отвод. Да, их мнение изменилось, но пусть девочка отведет душу. В такой момент настоящий лидер мог бы завоевать все сердца.
День обещал быть прохладным, и поверх хитона пришлось накинуть гиматий. Незаметным движением Эвридика приспустила его с одного плеча, чтобы ниспадающая складками ткань прикрыла ей спину и ноги. Вещь, позволительная для обольстительниц и богинь — по крайней мере, так их изображают на фресках. Встав со скамьи, она оправила драпировку и спокойно произнесла:
— Мне нечего сказать моим соотечественникам.
* * *
Сидя в своем фургоне в окружении встревоженных евнухов и перепуганных женщин, Роксана изнывала от страха, уверенная, что если мятежники победят, то первым делом Эвридика умертвит и маленького Александра, и его мать. Ужасное злодеяние, но в ее понимании оно было в порядке вещей.
Далеко не сразу ей удалось узнать о решениях, принятых на собрании, поскольку там были одни македонцы. Наконец ее возница, сидонец, владеющий греческим, вернулся и сообщил, что жена Филиппа полностью отказалась от своих притязаний и не стала даже произносить речь. Регента Антипатра выбрали опекуном обоих царей, а тот заявил, что, как только архонты договорятся о разделе сатрапий, его подопечные и их домочадцы отправятся вместе с ним в Македонию.
— Отлично! — воскликнула Роксана и отбросила страх, словно ставший ненужным ей плащ. — Тогда все в порядке. Мы прибудем в царство моего мужа. Там с детства знают этого идиота Филиппа. Конечно, никто не захочет отдать ему трон. И правителем мира сделают моего сына. Моя свекровь нам в этом поможет, ведь он — ее внук.
Александр так и не прочел Роксане письмо от Олимпиады, присланное в ответ на его сообщение о своем бактрийском альянсе. Мать сына ни в чем не корила, но настоятельно советовала ему придушить своего отпрыска от дикарки, если та умудрится одарить его им. Подобные претенденты на трон никому не нужны, а самому Александру следует поскорее посетить родину и зачать настоящего македонца, что он и сделал бы еще до похода в Азию, если бы слушал, что ему говорят.
Это письмо не попало в царский архив. Александр показал его только Гефестиону, а потом сжег.
319 год до н. э
Антипатр выстроил себе дом в Пелле в непосредственной близости от великолепного дворца Архелая. Особняк выглядел основательно, но без претензий. Свято чтущий традиции Антипатр всячески избегал показной пышности. Единственным украшением здания служили портик с террасой.
Сейчас за закрытыми дверьми этого дома стояла почти полная тишина. Даже плиты террасы забросали приглушающими шаги слоями соломы и тростника. С приличествующего расстояния небольшие группки людей вели наблюдение за снующими туда-сюда лекарями и родней умиравшего старца. Зевак, падких на все отдающее драматизмом, влекло сюда нездоровое любопытство, друзья регента и просто лица, составлявшие его двор, со дня на день ожидали сигнала для бурного излияния давно заготовленных соболезнований, а работники погребальных контор и без всяких сигналов уже вязали траурные венки. Чуть в стороне с отсутствующим видом слонялись послы и шпионы зависимых от воли регента городов.
Никто не знал, кому суждено унаследовать власть, когда старик наконец перестанет цепляться за жизнь, и будет ли продолжена жесткая линия его правления. Перед тем как слечь, он приказал повесить двух чиновников, прибывших из Афин с прошением о помиловании. Злосчастные афиняне — отец и сын — были уличены в переписке с Пердиккой. Ни годы, ни изнурительные болезни не смягчили характера Антипатра. И сейчас горожане с пристальным вниманием вглядывались при случае в лицо его сына Кассандра, ища на нем нечто большее, чем пристойное выражение скорби.
Атмосфера, царящая в соседнем, являвшемся чудом северной архитектуры дворце, где обоим царям с их домочадцами отвели отдельные подобающие им покои, была предельно напряжена, подобно туго натянутой тетиве лука.
Роксана стояла у окна, приглядываясь из-за занавески к уличной молчаливой толпе. Своей в Македонии она себя так и не ощутила. Мать Александра вовсе не ждала ее тут с распростертыми объятиями, чтобы восхититься своим чудным внуком. Олимпиада, кажется, поклялась, что ноги ее не будет в этой стране, пока жив Антипатр, и по-прежнему жила в Додоне. Регент, правда, относился к Роксане с официальной учтивостью, но еще до переправы через море Геллы он отослал ее евнухов восвояси. Люди плохо их примут, пояснил Антипатр, да и к хозяйке отнесутся как к варварке. Учитывая, что она неплохо освоила греческий, о ней вполне смогут позаботиться македонские дамы. И эти дамы стали весьма ненавязчиво приучать бактрийку к местным обычаям. Словно бы исподволь они постепенно привили ей вкус к приличной одежде, потом с большой деликатностью занялись исправлением ее манер, но для начала без капли стеснения и со всей решительностью дали понять, что царский сын чересчур избалован. В Македонии мальчиков держат в строгости, из них растят настоящих мужчин.
Маленькому царевичу уже исполнилось четыре года, а он все еще продолжал цепляться за мать, да и она в своем одиночестве с трудом выносила, когда его не было рядом. Вскоре Антипатр вновь навестил вдовствующую царицу — доносчицы из ее окружения наверняка ему что-нибудь нашептали. Опекун выразил изумление, что сын Александра не может и двух слов связать на греческом языке. И уже на другой день у ребенка появился наставник.
Антипатр решил, что простой образованный раб не сумеет воспитать мальчика в должном духе. Его выбор остановился на молодом знатном греке, успевшем к своим двадцати пяти годам не раз проявить боевые и командные качества в походах против мятежных южан. Антипатру понравилась отменная вышколенность солдат в подразделениях, вверенных этому неулыбчивому офицеру, излишней любви к хорошеньким детям тот тоже вроде бы не проявлял.
Кеб с детства мечтал сражаться под командованием Александра. Именно с этой целью юноша и вступил в войско, набранное Антипатром для Вавилона. Однако ему пришлось молча смириться с крушением своих надежд и безропотно исполнять ненавистные его сердцу приказы, разя в битвах таких же греков, как и он сам. Впрочем, доставалось и подчиненным. Те даже считали, что командир с ними слишком суров. Скорее по привычке, нежели намеренно, Кеб хмуро воспринял новое назначение, ничем не выдав своего внутреннего ликования.
Первая встреча с темноволосым и избалованным пухлым ребенком разочаровала его, хотя он, конечно, и не надеялся с ходу прозреть в малыше героическое начало. Его предупредили, что мальчик буквально заласкан своей сумасшедшей мамашей. Та явно полагала, что стоит ей отвернуться, и ее чадо тут же начнут колотить и всячески унижать. Ребенок, осознав, что ему надо чего-то бояться, поначалу капризничал и лил слезы, но вскоре, почувствовав спокойное и дружелюбное к себе отношение, дал волю своей живой любознательности, а о капризах и думать забыл.
Кеб знал знаменитую спартанскую присказку: изгони детские страхи — и вырастишь смельчака. Мало-помалу он приучал своего подопечного к лошадям, большим собакам и грохоту маршировок. Роксана, сиднем сидящая дома и только и думавшая, как ей утешить своего бедненького сыночка, вдруг стала с удивлением обнаруживать, что тот вполне доволен собой и с восторгом описывает на ломаном греческом, как здорово он провел день.
Через какое-то время малыш уже бойко тараторил по-гречески, и вскоре в жизнь его уверенной поступью вошел отец. Роксана всегда втолковывала своему ненаглядному чаду, что он сын могущественнейшего в мире царя, а теперь и наставник принялся с увлечением повествовать о легендарных подвигах и деяниях гениального полководца. Самому Кебу было десять лет, когда Александр отправился в Азию, и тогда он воспринимал рассказы о нем со всем пылом взрослеющего подростка, а богатое воображение дорисовывало детали. Пусть сын Александра пока слишком мал, чтобы хоть вполовину проникнуться духом родительского величия, зато зерна высоких стремлений, зароненные в его душу, когда-нибудь дадут всходы.
Кеб с удовольствием занимался порученным ему делом. Однако сейчас, томясь вместе с другими придворными перед застланной соломой террасой, он вдруг осознал, что исключительность его нынешнего положения, собственно, не сулит ему ничего. В будущем все неопределенно, туманно. Обладает ли, в сущности, сын Александра более значительными талантами, чем любой мальчуган его возраста? Неужели великие дни канули в Лету? О таком ли мире для себя и для своих наследников мечтал некогда Александр?
Его глубокомысленные размышления были прерваны скорбными стонами и причитаниями.
* * *
Роксана тоже услышала их и увидела из окна, как стоявшие перед домом регента придворные принялись обеспокоенно переглядываться. Она задумчиво прошлась по комнате, потом бросилась к сыну и прижала его груди. Тот испуганно спросил, что случилось, но в ответ получил лишь одно:
— Что же теперь с нами будет?
Пять лет назад в летнем дворце Экбатаны Александр как-то упомянул о старшем сыне регента Кассандре, большом интригане. Настолько большом, что мужу даже пришлось оставить его в Македонии. Но Кассандр был в Вавилоне, когда Александр умирал, вполне вероятно, что он-то и отравил его. Недавно этот опасный человек навестил ее якобы с поклоном от больного отца, однако на деле — безусловно желая взглянуть на царевича. Визитер вел себя вежливо, но ничего путного не сказал, лишь ограничился объяснением причин своего появления. Испытывая тревожную неловкость и даже страх, Роксана с неприязнью взирала на красноватое веснушчатое лицо с раздражающе бледными глазами и уклончивым, хитро прищуренным взглядом. И сейчас она была напугана больше, чем во время сирийского мятежа. Как было бы славно оказаться опять в Вавилоне, в знакомом мире, среди понятных людей! Там-то уж точно она смогла бы что-то придумать.
* * *
Подойдя к смертному ложу, Кассандр с ожесточенной яростью уставился на сильно усохшее тело отца. Нет, он просто не мог заставить себя склониться к покойному. Пожилая родственница, укоризненно покачав головой, сама закрыла сморщенные веки усопшего и натянула ему на голову покрывало.
Напротив Кассандра, с другой стороны кровати, стоял пятидесятилетний Полиперхон с совершенно бесстрастным лицом, покрытым седой, отросшей за ночь щетиной. Скорбно и сухо кивнув наследнику, он опять погрузился в раздумья о свалившемся на него бремени. Именно ему, а не Кассандру было завещано взять царей под опеку. Незадолго до того, как впасть в кому, Антипатр созвал всю македонскую знать, чтобы огласить свою волю, а потом вынудил всех поклясться голосовать за Полиперхона.
Со вчерашнего дня больной уже лежал без сознания, остановка дыхания лишь поставила точку. При всем своем почтении к умершему Полиперхон был рад возможности завершить утомительное дежурство. Небольшой отдых, и можно будет приняться за государственные дела. Их уже, наверное, накопилась целая прорва. Полиперхон никогда не согласился бы тянуть этот воз, если бы не слезные мольбы Антипатра. Последний в роли просителя выглядел жутко, словно родитель, рухнувший на колени перед собственным чадом.
— Сделай это ради меня, — задыхаясь, хрипел Антипатр. — По старой дружбе, умоляю тебя.
Какая там дружба? Полиперхон воевал в Азии с Александром и только с Кратером вернулся домой. Когда Александр умер, он отправился подавлять южные мятежи, а потом замещал регента, пока тот ездил в Азию за царями. Вот и все, но этого оказалось достаточно.
— Я дал клятву Филиппу. — Умирающий слабо откашлялся, явно теряя последние силы. Его голос шелестел, как сухой тростник. — И его наследникам. Я не хочу, — он задохнулся и помолчал, — стать клятвопреступником по вине моего сына. Я знаю его. И понимаю, что он… Обещай мне, Полиперхон. Поклянись водами Стикса. Я умоляю тебя.
В итоге, чтобы отделаться, Полиперхон дал ему клятву. Но теперь эта клятва вязала его по рукам и ногам.
Последние тихие вздохи умершего еще висели над ложем, а Полиперхон уже чувствовал, как чья-то жгучая ненависть течет к нему через холодеющий труп. Кассандр источал ее. Что ж, Полиперхон не раз сталкивался с подобной враждебностью. И под началом Филиппа при Херонее, и под рукой Александра при Иссе и в Гавгамелах. И хотя он звезд с неба не хватал и не вышел в большие военачальники, Александр ввел его в круг своих верных телохранителей, а выше доверия и быть не могло. Александр так и говорил: на Полиперхона всегда можно положиться.
Вскоре Полиперхон познакомится со своими царственными подопечными и представит им своего старшего сына. Парня назвали в честь Александра, и можно надеяться, что он не посрамит это славное имя. А Кассандру, которого всегда очень волнует мнение окружающих, можно будет доверить организацию похорон.
* * *
Когда регент умер, Эвридика была на конной прогулке. Она знала, что ждать осталось недолго, и если бы осталась торчать во дворце, то сейчас ее бы уже втянули в скучную и тоскливую круговерть траурных действ, пренебрегать которыми не подобает.
Сопровождала молодую царицу пара придворных конюхов и одна крепкая юная особа, тоже родившаяся в горах и хорошо державшаяся в седле. Вылазки во главе конных отрядов закончились; Антипатр был бдителен, он решительно перекрыл все лазейки для возможных контактов Эвридики с солдатами. Он отозвал бы и Конона, но Филипп, разразившись слезами, упросил его оставить ему старика. И все-таки некоторые знакомцы по Азии порой украдкой приветствовали свою госпожу.
Заходящее солнце било в спины четырех всадников, возвращавшихся в Пеллу, и Эвридика, глядя, как наползают на лагуну горные тени, вдруг усмотрела в том добрый знак. Девушку охватилопредчувствие перемен в своей участи, словно божественная Тихе улыбнулась ей с ближайшей горы. Надежду внушали и долгожданные траурные стенания.
Кассандр во время болезни своего отца навестил не только Роксану. Формально говоря, он явился с визитом к царю, но некоторые моменты его почтительного разговора с Филиппом давали понять, что слова гостя скорее предназначены для царицы. Если Роксану вид посетителя раздражал и пугал, то Эвридика увидела в нем своего соотечественника, правда, не блещущего красотой, но отличавшегося несомненным достоинством. Что было естественным, ведь, не унаследовав отцовскую стать, он вполне мог унаследовать отцовские полномочия.
По череде почти не завуалированных намеков она поняла, что последнее очень возможно. Догадалась девушка и о подоплеке брошенного гостем вскользь заявления, что Македонии нужен единственный царь. Чисто македонских кровей и с не менее чистокровной царицей. Этот, как и она, ненавидящий Александра человек никогда не допустит, чтобы отпрыск дикой бактрийки уселся на трон. Когда гость ушел, Эвридике почудилось, что с ней заключили негласное соглашение.
Известие об избрании Полиперхона удручило ее. Она не была с ним знакома, видела как-то мельком, и только, но, вернувшись с прогулки, тут же сообразила, кого принимает у себя царь Филипп.
Должно быть, общались они уже долгое время, поскольку Филипп очень бойко, но путано рассказывал посетителю о том, как в Индии на него чуть не напала змея.
— Представляешь, Конон нашел ее под моей ванной. Он схватил палку и расправился с ней. А потом сказал, что мелкие змейки опаснее многих.
— Совершенно верно, государь. Они могут забраться в сапог; так погиб один мой солдат.
Заметив Эвридику, визитер выразил радость, что нашел царя в добром здравии, попросил при любых затруднениях обращаться к нему и с поклоном удалился. Очевидно, было бы рановато, учитывая, что Антипатр еще не погребен, интересоваться планами нового регента Македонии, но она рассердилась, что он не поговорил с ней, что в ее отсутствие он счел возможным представиться одному лишь Филиппу.
Потом пришло время пышных погребальных обрядов, процесий. Эвридика ходила, как положено, с обстриженными волосами и в посыпанной пеплом черной одежде, добавляя свои причитания к горестным стенаниям окружающих. Когда представлялась возможность, она внимательно вглядывалась в лицо Кассандра, ища хоть какой-нибудь обнадеживающий намек. Но лицо того, сообразно случаю, всегда было безучастно-печальным.
Позже, когда мужчины отправились к погребальному костру, чтобы сжечь тело, а Эвридика осталась в отдалении с женщинами, до нее донесся чей-то вопль, и на лугу поднялась странная суматоха. Догадливый Конон бросился туда, невзирая на свое низкое звание. Вскоре он уже шел обратно с парой крепких парней из почетного караула, которые несли обмякшее тело Филиппа с безжизненно запрокинутой головой; рот его был открыт. Пристыженная, она медленно побрела следом.
Госпожа, — проворчал Конон, — не могла бы ты поговорить с этим новым опекуном? Он редко видит царя и не знает, что его может расстроить. Я пытался ему кое-что объяснить, но меня осадили, приказав не забывать свое место.
— Я поговорю с ним.
Она чувствовала затылком презрительно-насмешливый взгляд Роксаны. «Ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним».
Во дворце Конон раздел и вымыл Филиппа — во время приступа тот обмочился, испачкав мантию, — и уложил его в постель. Эвридика, удалившись в свою комнату, сняла траурный наряд и вычесала из растрепанных волос пепел. «Что делать, такой уж мне достался супруг, ведь я знала, за кого выхожу замуж. Я сама выбрала эту участь. И обязана относиться к нему с уважением. Именно так сказала бы моя мать».
Она велела смешать молоко с яйцом, пряностями и каплей вина и отнесла напиток больному. Конон унес испачканную одежду. Филипп с виноватым видом посмотрел на нее, словно проштрафившаяся собака на строгого хозяина.
— Смотри, — сказала она. — Я принесла тебе что-то вкусное. Ничего страшного, что тебе стало плохо, ты же в этом не виноват. Многим людям становится плохо у погребальных костров.
Он ответил ей благодарным взглядом и опустил глаза в чашу с молочной смесью. Его обрадовало, что Эвридика ни о чем не спросила. Последнее, что он помнил перед тем, как в его голове загремел барабан и все залило ослепительным светом, была охваченная языками пламени борода мертвеца, она чернела, распространяя отвратительный запах. И он сразу вспомнил об одном давнем событии, произошедшем незадолго до того, как Александр взял его с собой в поход. Тогда хоронили царя, так ему сказали, хотя он не понимал, о ком идет речь. Филиппу обстригли волосы и вымазали лицо сажей, потом его обрядили в черные одеяния и заставили идти в толпе людей и рыдать. И вдруг он увидел своего грозного отца, который навещал его очень редко. Тот с пугающе застывшим и искаженным лицом лежал под расшитым золотом покрывалом на большой куче валежника. Он был мертв, но Филипп о том не знал, мертвецов ему еще видеть не приходилось. Но вот к помосту подошел Александр. Он тоже остригся, и остатки его светлых волос блестели на солнце. Брат произнес речь, очень длинную, объяснил, что этот царь сделал для Македонии, а после вдруг взял у какого-то слуги факел и сунул его в кучу валежника. Охваченный ужасом, Филипп не мог отвести глаз от разгорающегося пламени, оно гудело и трещало, и огненные языки уже подбирались к сверкающему покрову. Они пожрали ткань, затем загорелись волосы, борода… Очень часто потом Филипп просыпался по ночам с криком, но он боялся сказать даже Конону, что ему снился горящий отец.
* * *
Двери из полированного мрамора плотно закупорили вход в усыпальницу Антипатра, и в Македонии наступило затишье.
Правда, зыбкое, ибо Полиперхон заявил, что не имеет склонности к единовластию. Антипатр правил, замещая отсутствующего царя. А сейчас более уместно созвать, как бывало, совет из родовой знати. Многие македонцы благосклонно отнеслись к этой мысли, усмотрев в ней возврат к старым добрым традициям. Кое-кто поговаривал, впрочем, что Полиперхону попросту не хватает духу взять на себя столь большую ответственность, вот он и мудрит.
Затишье не перешло в тишь да гладь. Все напряженно следили за действиями Кассандра.
Отец не умолчал о нем в завещании. Кассандр получил пост хилиарха, первого советника Полиперхона, при Александре не было выше поста. Но… удовлетворится ли он второй ролью? Люди понаблюдали за разъезжавшим по улицам Пеллы веснушчатым первенцем Антипатра и пришли к выводу, что этакие молодчики не прощают обид.
Однако, похоронив отца, Кассандр весь траурный месяц спокойно занимался порученными ему делами. По окончании траура он отправился засвидетельствовать свое почтение Филиппу и Эвридике.
— Поприветствуй его, — велела Эвридика супругу, когда им доложили о приходе важного гостя, — а потом сиди молча. Это, я думаю, важный визит.
Кассандр не стал долго любезничать с государем и быстро переключил все внимание на Эвридику.
— Мне придется на время уехать. Хочется побывать в родных краях. Я очень многое пережил и сейчас меня тянет развеяться в компании старых друзей. Поохотиться, поваляться на травке, в общем, отвлечься от общественных дел.
Она пожелал гостю удачной охоты, но в ее взгляде читался вопрос, и посетитель это отметил.
— Ваше благорасположение, — сказал Кассандр, — было для меня утешением и поддержкой. В эти неспокойные времена вы оба можете всегда рассчитывать на мою помощь. Ты, государь, — он повернулся к Филиппу, — бесспорно сын своего отца. Твоя мать никогда не давала повода к сплетням. — Он перевел взгляд на Эвридику. — Но, как вам обоим, несомненно, известно, об Александре на этот счет вечно ходили весьма разные слухи.
Когда гость ушел, Филипп спросил:
— Что он сказал об Александре?
— Неважно. Я не уверена, что поняла его. Мы выясним это позже.
* * *
Родовым гнездом Антипатра была древняя изрядно обветшавшая крепость, расположенная в богатом лугами и лесом краю. Сам Антипатр обыкновенно жил в Пелле, а все дела в родовом имении вел управляющий. Раньше сыновья бессменного регента Македонии частенько наезжали сюда с охотничьими компаниями, точно такими же, какая в последние дни рыскала по окрестным угодьям.
В верхнем зале каменного пропитанного сыростью здания под дымоходом жарко пылал огонь; осенние ночи в горах были морозными. Вокруг очага на старых скамьях и табуретах, покрытых овчиной, расположилась добрая дюжина молодцов, одетых, по погоде, в теплую одежду из кожи и плотной шерсти. С нижнего этажа доносился резкий запах конюшни, оттуда слышалось возбужденное ржание лошадей, мешавшееся с фракийским говором конюхов, занимавшихся починкой и вощением упряжи.
Кассандр с рыжей, сияющей в отблесках яркого пламени шевелюрой сидел возле Никанора, своего брата. Еще один брат их Иолла умер вскоре после возвращения домой из Азии. Скоротечная малярия, подхваченная в вавилонских болотах, доконала его, причем очень быстро, словно он не желал бороться за жизнь. Четвертого брата, Алексарха, просто не пригласили. В семье он считался слегка безумным, ибо подался в книжники и теперь в основном занимался созданием нового языка для утопического государства, привидевшегося ему в мечтах. Проку от него было бы мало; да и потом, кто мог поручиться, что он ненароком чего-нибудь не сболтнет?
Кассандр сказал:
— Мы провели здесь три дня и пока не заметили никакой слежки. Похоже, пора браться за дело. Дерда, Этий, вы готовы выехать завтра с утра?
— Конечно готовы, — ответили двое мужчин, сидевших напротив.
— Вы сможете сменить лошадей в Абдере, Эносе, да и в Амфиполе, если понадобится. В Амфиполе будьте осторожны, держитесь подальше от гарнизона, там вас могут узнать. Симас и Антифон отправятся через сутки. Их ждать не следует. Сохраняйте дистанцию. Там, где двое проскочат легко, четверо вызовут подозрения.
Дерда спросил:
— Что передать Антигону?
— Я дам тебе письмо. Бояться нечего, если не нарываться. Полиперхон — болван. Я уехал охотиться, и прекрасно, значит, он может спать спокойно. Когда Антигон прочтет письмо, расскажешь ему все, что он захочет узнать.
Для отвода глаз они целый день гонялись за кабанами, а потому вскоре вся честная компания улеглась спать в дальнем конце помещения за хорошо выделанным кожаным пологом. Кассандр и Никанор задержались у очага, их тихие голоса заглушались звуками, доносящимися из конюшни.
Никанор был высоким и тощим малым с каштановой копной волос. Изрядно поднаторев в обращении с любым видом оружия, он и в дружбе, и во вражде хранил верность семейным традициям и ни о чем больше не помышлял. Он спросил:
— Ты уверен, что Антигон достоин доверия? Ему явно захочется хапнуть больше, чем он имеет.
— Именно поэтому я и решил обратиться к нему. Заваруха в Греции его очень устроит. Ему позарез нужно, чтобы кто-то стреножил Полиперхона, пока он сам будет прибирать к рукам Азию. Он отдаст мне Македонию. Ведь понятно, что Азия займет его целиком.
Никанор почесал голову. Похоже, в этих охотничьих вылазках от вшей не убережешься. Поймав одну тварь, он щелчком отправил ее в огонь.
— А ты уверен в девчонке? Она может оказаться не менее опасной, чем Антигон, если почувствует слабину. У отца были из-за нее неприятности, а до этого и у Пердикки. Филиппа она в грош не ставит.
— Хм, — задумчиво протянул Кассандр. — Потому-то я и прошу тебя присмотреть за ней, пока меня тут не будет. Я ничего ей не сказал, разумеется. Но она встанет на нашу сторону, чтобы убрать бактрийского пащенка. Она явно дала мне это понять.
— Хорошо, если так. Но она жена царя и сама намерена править.
— Верно. Учитывая ее происхождение, я полагаю, мне придется жениться на ней.
Белесые брови Никанора поползли вверх.
— А Филипп?
Кассандр ответил выразительным жестом.
— Интересно, — задумчиво произнес Никанор, — согласится ли она с этим?
— О, скорее всего, нет. Но когда все будет кончено, куда она денется? Она все равно не угомонится, не в ее натуре посиживать день-деньской за пряжей и за шитьем. Ей ничего не останется, как пойти за меня, чтобы осуществить свои притязания. В ином случае… — Он опять резко рассек рукой воздух.
Никанор пожал плечами.
— А что же будет с Фессалоникой? Мне казалось, вы с ней поладили. И она, между прочим, дочь Филиппа, а не какая-то там внучка.
— Так-то оно так, но у нее царская кровь только с отцовского боку. Не то что у Эвридики, в той примесей нет. Впрочем, воссев на трон, я смогу взять в жены обеих. Покойный Филипп только приветствовал подобные вещи.
— Ты уверен в успехе? — с тревогой спросил Никанор. Да. Еще в Вавилоне я понял, что настает мое время.
* * *
Спустя полмесяца в конце хмурого дождливого дня Полиперхон явился во дворец по срочному делу.
Он не стал дожидаться, пока о нем доложат, и вошел следом за стражем. Филипп, весь день усердно трудившийся, все еще выстраивал с помощью Конона из своих камушков нечто замысловатое. Эвридика, вощившая свою кирасу, так и осталась сидеть, не успев ее спрятать. Она возмущенно глянула на Полиперхона, но тот с церемонным поклоном обратился к царю.
— Я почти закончил, — с виноватым видом сказал Филипп. — Мы строили Трипарадиз.
— Государь, я должен просить тебя присутствовать завтра на государственном совете.
Филипп с ужасом посмотрел на него.
— Я не хочу ничего говорить там. Совсем не хочу. Уходи.
— Тебе и не придется ничего говорить, государь. Ты лишь утвердишь внесенные предложения.
— Какие предложения? — отрывисто спросила Эвридика.
Полиперхон, ярый приверженец древних македонских традиций, скривился. «Жаль, что Аминта прожил достаточно долго, чтобы успеть породить эту сучку, всюду сующую свой наглый нос».
— Госпожа, до нас дошли сведения, что Кассандр сбежал в Азию и что Антигон приютил его.
— Не может быть! — вздрогнув, заявила она. — Насколько я знаю, он охотится в своем поместье.
— Да, — мрачно сказал Полиперхон. — Ему хотелось, чтобы мы так считали. А теперь мы считаем, что стоим на пороге войны. Государь, пожалуйста, будь готов к восходу солнца. Я приду, чтобы проводить тебя. Госпожа. — Он поклонился, собираясь уйти.
— Подожди! — гневно воскликнула Эвридика. — С кем намерен воевать Кассандр?
Он обернулся с порога.
— С македонцами. За то, что они, согласившись с последними пожеланиями Антипатра, не выбрали его своим правителем.
— Я тоже хочу присутствовать на совете. Полиперхон задрал голову, нацелив на нее свою седеющую бороденку.
— Сожалею, госпожа. В Македонии нет таких традиций. Желаю вам обоим доброй ночи.
Он решительно вышел из покоев. Конечно, с его стороны было глупо не проследить за Кассандром, но бабьи выходки терпеть тоже нельзя. Уж это, по крайней мере, не лезет ни в какие ворота.
* * *
Государственный совет рассмотрел угрожающие стране опасности и нашел их серьезными. Кассандр, это было очевидно, отправился в Азию только для того, чтобы набрать необходимые силы. И с ними он двинется в Грецию.
С последних лет царствования Филиппа и до окончания царствования Александра жизнью греческих городов-государств управляла Македония. Демократических лидеров давно изгнали, у народа практически отняли право выбора, предоставив его олигархам, в каких с магической быстротой превратились македонские ставленники. При постоянно занятом войнами Александре Антипатр имел полную свободу действий, и поскольку его сторонники баснословно обогатились за счет пачками отправляемых в изгнание греков, то они ужасно боялись того, что, вернувшись из Азии, Александр отторгнет у них незаконно присвоенную недвижимость и угодья в пользу исконных владельцев. Когда царь вызвал регента к себе в Вавилон для отчета, вместо того поехал Кассандр. Узнав о смерти Александра, греки взбунтовались, однако Антипатр подавил их мятеж. Поэтому в греческих городах по-прежнему верховодили его приспешники, и само собой разумелось, что они охотно поддержат и его сына.
Когда Антипатр занедужил, Пеллу в ожидании перемен наводнили греческие послы. Они и теперь все терлись поблизости, желая выяснить, какой политики будут придерживаться новые власти. Их спешно вызвали во дворец и ознакомили с царским воззванием. В нем говорилось, что во многом политика в греческих городах проводилась без одобрения Александра. И волей народной царствующий ныне дом великодушно готов предоставить им право восстановить демократические конституции, выгнать нынешних олигархов или даже казнить их. Впредь все гражданские права греков будут защищаться в обмен на их преданность македонским властям.
Полиперхон, после совета проводивший Филиппа в покои, скрупулезно растолковал Эвридике, чем вызваны эти решения. Как и Никанор, брат Кассандра, он вдруг осознал, что эта девчонка может доставить всем множество неприятностей. Нужно подкидывать хоть какую-то пищу ее деятельному уму.
Эвридика выслушала его без особенных замечаний. Пока государственные мужи совещались, она тоже успела о многом подумать.
— Ты знаешь, я видел там собаку, — сказал Филипп, как только его провожатый ушел. — Она грызла здоровенную кость с остатками сырого мяса. Должно быть, она утащила ее с кухни, я так и сказал им.
— Ты прав, Филипп. Помолчи немного, мне нужно сосредоточиться.
Итак, ее предположения оказались верны. Зайдя к ней перед отъездом в родные края, Кассандр практически предложил ей союз. Если он выиграет эту войну, то избавится от ребенка бактрийки и, взяв на себя опекунство, возведет на трон их с Филиппом. Он говорил с ней как с равной. Он готов сделать ее царицей.
— Ну что ты все ходишь туда-сюда? — тоскливо спросил Филипп.
— Тебе нужно снять нарядное платье, ты можешь испачкать его. Конон, ты здесь? Пожалуйста, помоги государю.
Она все мерила шагами пространство между резными окнами и дальней стеной с великолепной фреской, где чуть ли не в натуральную величину изображалось разграбление Трои. Агамемнон выводил из святилища упирающуюся Кассандру; за надвратными башнями маячил деревянный конь; на переднем плане у родового жертвенника простерся истекающий кровью Приам; Андромаха прижимала к груди мертвого ребенка. На заднем плане, охваченном языками пламени, шла кровавая битва. Это была работа знаменитого Зевксиса, призванного Архелаем одухотворить своим гением только что возведенный дворец.
От выщербленных камней очага, покрытых странноватыми пятнами, еще исходил слабый запах былых обрядовых воскурений. В этих покоях долгие годы жила царица Олимпиада. Ходили упорные слухи, что именно здесь проводила она свои бесконечные магические ритуалы. Ее священные змеи лежали свернувшись в корзине возле очага, а колдовские снадобья хранились в надежно устроенных тайниках. Намереваясь вернуться сюда, она даже не все из них опустошила. Но Эвридика о том не знала и лишь отмечала, что тут царит совершенно особая атмосфера.
Расхаживая по кругу, она обдумывала свою молчаливую сделку с Кассандром, и тут у нее впервые возникла мысль:
«А что же потом?»
В настоящий момент только ребенок этой дикарки может продлить род властителей Македонии. Когда его выведут из игры, на трон посадят ее и Филиппа. А кто придет после них?
Кому, как не ей, внучке двух славных царей, дать жизнь новому царскому поколению? Но для этого надо родить. Хотя бы раз. С большим отвращением Эвридика подумала о Филиппе. В конце концов, в любом городе очень многие женщины за драхму терпят куда более жуткие вещи. Но нет, ей этого не снести. Кроме того, вдруг ребенок унаследует слабоумие?
«И почему я не мужчина?» — мысленно посетовала Эвридика. Приближалась зима, в очаге уже жарко пылали замшелые яблоневые поленья. Потемневшие камни под корзиной для дров, нагреваясь, начали испускать въевшийся в них приятный запах. «Правя по собственному усмотрению, я при желании могла бы вступить во второй брак, наши цари часто так поступали». Перед ее внутренним взором внезапно возник весьма импозантный Кассандр. Он предложил ей свою дружбу, а может, согласился бы и… Но она замужем, у нее есть супруг.
Какое-то мгновение, вспоминая тот молчаливый, но выразительный обмен взглядами, девушка колебалась, не зная, идти ли в своих мыслях дальше. Прежняя обитательница покоев давно все решила бы и уже занималась бы поисками путей и средств к достижению цели. Но Эвридика, смутно подозревая, куда может завести ее логика, решительно остановила себя. Выбор прорисовывался пугающий, она предпочла от него уклониться. Лучше пока положиться во всем на Кассандра, сейчас бессмысленно загадывать что-то. Но ее затаенные думы, подобно впитавшимся в камни маслам, ждали лишь соприкосновения с жаром медленно разгорающихся в ней чувств.
318 год до н. э
Посиживая в своей палатке, Эвмен с благодатного киликийского побережья поглядывал на море, за которым маячили гористые очертания Кипра. Здешняя теплая и плодородная равнина казалась раем после продуваемой ледяными ветрами тесной крепости, примостившейся на таврских скалах, где Антигон продержал его всю прошедшую зиму. В распоряжении осажденных были лишь скудные закрома с приевшимся всем зерном да единственный источник хорошей воды. Из-за отсутствия свежей зелени и овощей у людей начали распухать десны. Эвмену с трудом удалось не дать воинам пожрать собственных лошадей, ведь от последних, возможно, зависело спасение первых. По его приказу благородных четвероногих ежедневно взбадривали, конюхи с громкими криками настегивали своих питомцев, чтобы те хорошенько — до пота — размялись. Он уже почти смирился с мыслью, что животных придется забить, когда неожиданно из вражеского стана прибыл посол с предложением мира. Поскольку после смерти регента каждый стремился начать свою игру, Антигону понадобились союзники.
Однако этот хитрец в обмен на отвод своих войск потребовал, чтобы Эвмен принес клятву верности македонским царям и ему, Антигону. Эвмен сказал, что готов присягнуть, но царям и Олимпиаде. Послу пришлось удалиться с таким ответом. Антигону он не понравился, но тут ему сообщили, что войску Эвмена удалось ускользнуть, прорвав осаду. А вскоре Эвмену стало известно, что Полиперхон от имени опекаемых им царей передает Антигона ему в подчинение, но учитывая, что тот наверняка добровольно пойти к нему под руку не захочет, новому командующему рекомендуется утвердить свою власть силой. На данный момент, правда, сил у Эвмена хватило только на то, чтобы завладеть сокровищницей Киликии и взять под свое начало стоявший там гарнизоном полк аргираспидов, прозванных так за серебряные щиты.
Присоединившись к Эвмену, аргираспиды продолжали блаженствовать в своих палатках, до отказа набитых богатой добычей, частью доблестно завоеванной, частью награбленной, а то и попросту заграбастанной с помощью целого ряда уловок и ухищрений, досконально известных этим, казалось, рожденным в доспехах воякам, любой из которых тянул солдатскую лямку не менее сорока лет. Сам Александр уже искал способ избавиться от ворчливого скопища опытных и жестоких корыстолюбцев, которые даже при нем умудрялись устраивать смуты. Аргираспиды достались ему от отца; эта тяжеловооруженная гвардия как на подбор состояла из записных забияк. Они отправились на войну вместе с Филиппом, они пережили его, хотя тот был моложе, и сейчас им давно следовало бы мирно возделывать родные земли, проживая как собственные трофеи, так и дары Александра, но эти никогда не знавшие поражений, выносливые и крепкие, точно подметки башмаков, солдаты по-прежнему торчали в Азии. Их возвращению в Македонию помешала смерть Кратера, и, одержимые страстью к наживе, они опять были готовы в любой момент ввязаться в очередную войну.
Большинству из них было за шестьдесят, кому-то даже стукнуло семьдесят, их неуступчивость вошла в поговорки, и вот Эвмену, пришлому греку и чуть ли не сосунку, удалось захватить власть над ними.
Несколько восстановив за счет новобранцев ослабленные осадой силы, он уже собирался отправить ветеранов на родину, как к нему прибыл гонец, доставивший послание из Эпира. От Олимпиады.
Прошу тебя, Эвмен, помоги нам. Ты был и остаешься моим самым преданным другом, и только тебе, Эвмен, дано найти способ спасти наш обезглавленный род. Умоляю тебя, не покинь меня в моих чаяниях и поддержи хоть советом. Подумай, разве могу я вверить свою судьбу и будущее моего внука людям, которые наперебой рвутся опекать сироту, мечтая на деле лишь завладеть его достоянием? Роксана, мать царевича, сообщила мне, что опасается за жизнь мальчика с тех самых пор, как Полиперхон покинул страну, отправившись воевать с подло предавшим нас Кассандром. Возможно, лучше бы ей сбежать ко мне вместе с сыном? Или мне самой стоит поднять войска и войти в Македонию?
Письмо глубоко взволновало Эвмена. Он впервые увидел Олимпиаду еще совсем юным и был навек покорен ее красотой. В отсутствие царя Филиппа ненавидевший его супругу регент частенько посылал к ней Эвмена с различными поручениями, отчасти желая унизить царицу низким рангом посланца, а отчасти — чтобы самому избежать встреч с весьма опасной и вздорной особой. Филипп также пользовался услугами молодого посредника во время бесчисленных семейных скандалов. Сам же юный кардиец смотрел на властительницу своих дум как на некую мифологическую персону. Чаще всего она казалась ему вакхической Ариадной, ждущей свидания с позабывшим о ней Дионисом. Он видел ее в слезах, в дикой веселости, в пламенной ярости, а иногда — во всем блеске присущего лишь ей одной почти божественного величия. Если он и желал ее, то не больше, чем человек, завороженный игрой молний над бушующим морем; она будила в нем холодящий восторг. Даже шагая к ней с обидным или оскорбительным повелением государя, Эвмен все равно испытывал радость. В сущности, Олимпиада и в гневе обыкновенно благоволила к нему. Правда, молодой красивый грек был очень скромен и предан Филиппу, но она наслаждалась искренним восхищением, светящимся в его глазах.
Эвмен знал, что во время азиатского похода вдовствующая царица постоянно докучала сыну раздраженными письмами, обвиняющими регента во всех смертных грехах. Как-то раз, ознакомившись с очередным материнским посланием, Александр даже воскликнул: «О боги! Не слишком ли много она запрашивает за те девять месяцев, что я пробыл в ней?!» Однако произнесено это было с легкой усмешкой: несмотря ни на что, Александр любил мать. Он оставил Олимпиаду цветущей красавицей и, как и Эвмен, не имел представления, что с ней сделали годы.
Но одно Эвмен понял сразу: ни в коем случае ее нельзя пускать в Македонию, с армией или без оной. Сдержанность была свойственна Олимпиаде не более, чем леопарду в прыжке: месяца не пройдет, как она все загубит. Он срочно написал ей, заклиная оставаться в Эпире, пока не закончится нынешняя война, а также добавил, что и она, и сын Александра могут рассчитывать на его преданность.
О Роксане с ее опасениями он предпочел умолчать. Неизвестно, какие фантазии могли напугать эту бактрийку. В ходе долгого военного похода, закончившегося зимней осадой, Эвмен редко получал весточки из Европы. И едва слышал об Эвридике со времени свадьбы в Сардах.
Для него лично главная опасность исходила по-прежнему от Антигона: очевидно, этот человек вознамерился прикарманить всю Азию. Сейчас самое время по-быстрому разобраться как с местными новобранцами, так и с закаленными, очерствевшими в многих сражениях аргираспидами. Те встали лагерем невдалеке от палатки Эвмена, и ему хорошо было видно, как они праздно болтают, разбившись возле костров на небольшие, десятилетиями подбиравшиеся компании, пока женщины готовят еду. Среди последних мелькало несколько чудом уцелевших жилистых македонок, когда-то прихваченных этими малыми в родных краях, но в основном их теперь обслуживали живые призы, добытые в годы странствий: лидийки, бактрийки, парфянки, мидийки и даже индианки. Расплодившиеся в результате детишки, среди которых наверняка обретались и внуки суровых воителей, сновали всюду, но больше жались к стряпухам, не желая нарваться на крепкий мужской подзатыльник. Оттенки кожи у прижитых в разных краях света чад варьировались от красно-коричневых до смугло-серых, а тараторила эта орава на «лингва-франка» — общепонятном в Восточном Средиземноморье смешанном языке. Когда лагерь начнут сворачивать, и женщины, и ребятишки привычно заполнят фургончики тылового обоза, чтобы вместе с трофеями и пожитками следовать дальше за войском.
Эвмен бросил взгляд на ближайший холм, где стояли палатки двух самых опытных командиров старой македонской гвардии, Антигена и Тевтама. Это были хитроумные и решительные вояки, оба годились ему в отцы. Оба придут на военный совет. Примут ли они его предложения с легким сердцем? Или затаят обиду, порождающую — как он успел хорошо себе уяснить — недоверие и измену? Эвмен тяжело вздохнул, его мысли вновь вернулись в те светлые дни, когда мировые просторы еще уверенно рассекал общий для многих военный корабль, обломки которого теперь хаотично несутся в потоке событий, хотя кое-кто и пытается вывести их на свой курс. «Однако даже эти прожженные негодяи, — подумал он, — наверняка тоскуют по тем золотым временам».
Его кардийская изобретательность, помноженная на необходимость выживать во враждебно настроенной Македонии, всегда приносила плоды. Вот и сейчас на Эвмена снизошло одно из тех озарений, что даже в более пиковых ситуациях помогали ему уцелеть. До полудня было еще далеко, и поднявшееся над Кипром светило ласково согревало прохладный воздух. Эвмен побрился, облачился в чистую, но не парадную одежду и крикнул глашатая.
— Труби сигнал сбора военного совета, — сказал он.
Слугам было велено произвольно, без оглядки на звания и чины, расставить возле палатки табуретки и походные стулья. Когда суровые старейшины аргираспидов удосужились-таки собраться, Эвмен вежливым жестом предложил им рассесться. Подойдя к оставшемуся свободным стулу, он оперся на его спинку и заговорил:
— Почтенные командиры, я созвал вас сегодня, чтобы сообщить важную новость. Я получил странное предзнаменование.
Как он и предвидел, наступила мертвая тишина. Старые воины суеверны, как мореходы. Все они хорошо понимали, что значит удача для человека во время войны.
— Не знаю, Гипнос ли посетил меня этой ночью, но на рассвете я увидел удивительный сон. Более реальный, чем сама явь. Меня кто-то позвал. Я узнал этот голос, он принадлежал Александру. Сам Александр сидел в моей палатке, на том самом стуле, Тевтам, где сейчас сидишь ты. Я услышал, как он окликнул меня: «Эвмен!»
Все командиры напряженно подались вперед. Грубые узловатые руки Тевтама благоговейно огладили простые сосновые подлокотники, на которых они возлежали, будто весь стул под ним превратился в магический оберег.
— Я умолял Александра простить меня за то, что заснул в его присутствии, умолял так, словно царь был еще жив. На нем была белая мантия с пурпурной каймой и золотая корона. «Начнем государственный совет, — сказал он. — Все ли явились?» И он огляделся вокруг. Потом вдруг оказалось, что это уже не моя палатка, а шатер, отвоеванный им у Дария. Александр сидел на своем троне в окружении телохранителей. И вы тоже были там, ожидая, когда он заговорит, вместе с другими военачальниками. Александр наклонился к нам и что-то сказал, но тут я проснулся.
Прекрасно владеющий ораторскими приемами грек сейчас намеренно не прибег к ним. Он держался, как человек, старающийся вспомнить нечто важное для себя и для прочих. Это сработало. Командиры переглядывались друг с другом, но не с недоверием, а лишь с задумчивым удивлением, явно пытаясь понять значение столь необычного сна.
— Мне кажется, — продолжил Эвмен, — я догадался, чего хотел Александр. Он тревожится за наше будущее. И желает присутствовать на военном совете. Если мы обратимся к нему, он нам подскажет, как правильно поступить.
Грек умолк в ожидании вопросов, но собравшиеся лишь пробурчали что-то себе под нос.
— Возможно, нам стоит потратиться, чтобы принять его. У нас ведь есть золото Кинды, сбереженное благодаря вашей доблести. Пусть искусные ремесленники сделают золотой трон, скипетр, корону. Давайте поставим подобающую палатку, положим на трон царские регалии и воскурим благовония, призывая дух Александра. Признав его нашим главнокомандующим, мы обретем шанс получить его мудрый совет.
Судя по напряжению, сковавшему хмурые, покрытые шрамами лица, командиры всерьез обдумывали предложение. Похоже, грек не пытается набить себе цену и не намеревается вытряхнуть их кошельки. Если Александр и явился ему, то, наверное, потому, что знал его лучше прочих. К тому же неподчинения этот царь не терпел, об этом тоже следует помнить.
Через неделю в новой палатке уже стоял золотой трон с царскими регалиями. Нашлось даже немного пурпура, чтобы выкрасить балдахин. Когда настало время идти в Финикию, командиры опять собрались, чтобы обсудить детали предстоящей кампании. Прежде чем занять свое место, каждый ветеран сжег щепотку ладана на походном маленьком алтаре со словами: «Божественный Александр, помоги нам!» А после все они единогласно одобрили план Эвмена как провозвестника воли небес.
Не имело значения, что практически никому из них не посчастливилось лицезреть Александра на троне. Они привыкли видеть молодого царя в старой кожаной кирасе и сверкающих наголенниках. Этот храбрец не надевал даже шлема, чтобы все узнавали его, когда он объезжал войска перед битвой, напоминая о прежних победах и подсказывая, как одержать новую. Их совершенно не волновало, что местные золотых дел мастера не отличались выдающимися талантами. Блеск золота и запах курящегося ладана пробудили в них достаточно яркие воспоминания, ранее скованные многолетней усталостью и занесенные наслоениями былого, являвшего собой череду нескончаемых битв. Триумфальное продвижение золотой колесницы сквозь рукоплещущую толпу, усыпанные цветами улицы Вавилона, торжественные звуки фанфар, хвалебные песнопения, дым ритуальных курильниц и благодарственные пеаны — все это словно бы вновь стало явью. И почтительно взирая на пустой трон, эти люди, возможно, верили, что обретают всегдашнюю несокрушимость.
Весеннее солнце обогрело холмы и горы, напоив мир талой водой, но взбухшие горные реки вмиг унесли ее. Раскисшие было дороги просохли. Земля опять стала пригодной для войн.
Во главе военного флота, предоставленного ему Антигоном, Кассандр пересек Эгейское море и высадился в Пирее, афинском порту. Еще при жизни отца он послал своего человека командовать расположенным там гарнизоном и потому не встретил сопротивления. Афиняне продолжали дотошно обсуждать царский указ о возвращении им былых свобод, когда порт наводнили словно бы невесть откуда взявшиеся войска.
Узнавший об этом Полиперхон срочно бросил к Афинам отборные македонские подразделения под командованием своего первенца Александра, но почему-то дело у того не пошло, и тогда опекун двух царей сам решил выправить положение. Отдав приказ готовиться к выступлению, Полиперхон отправился во дворец.
317 год до н. э
Эвридика приняла его с холодком, вознамерившись всеми правдами и неправдами утвердить свое право присутствовать на государственных заседаниях. Полиперхон не менее холодно осведомился, пребывает ли царская чета в добром здравии, выслушал рассказ Филиппа о петушиных боях, куда Конон недавно водил его, а потом сказал:
— Государь, я пришел сообщить тебе, что вскоре мы выступаем на юг. Нам нужно урезонить Кассандра, предавшего нашу страну. Армия двинется в путь через семь дней. Пожалуйста, прикажи слугам собрать тебя в дорогу. А с конюхами я сам все улажу.
Филипп радостно закивал. Он провел в походах полжизни и считал это нормальным. Правда, не очень понятно, с кем надо воевать, но Александр тоже редко снисходил до разъяснений.
— Я поеду на Белоногой, — заявил он. — А ты, Эвридика?
Полиперхон слегка откашлялся.
— Государь, мы отправляемся на войну. Госпожа Эвридика, конечно же, останется в Пелле.
— Но я могу взять с собой Конона? — встревоженно спросил Филипп.
— О, без сомнения, государь.
Полиперхон даже не взглянул в ее сторону.
Возникла пауза. Полиперхон ждал грозы. Но Эвридика ничего не сказала.
По чести говоря, ей даже в голову прийти не могло, что ее могут не взять на войну. Ее, просто изнывавшую во дворце от тоски, ее, так мечтавшую о привольной лагерной жизни! В первый момент, осознав, что ей уготована традиционная женская участь, Эвридика, в соответствии с самыми крайними опасениями Полиперхона, жутко разгневалась и уже готова была разразиться возмущенной тирадой, но вдруг припомнила о своей молчаливой договоренности с Кассандром. Разве сможет она повлиять на что-либо, таскаясь под постоянным приглядом за войском? Зато здесь, когда все соглядатаи отправятся на войну, у нее будут развязаны руки…
Эвридика подавила свой гнев, изобразив легкое недовольство, и промолчала. Чуть позже, впрочем, она запоздало обиделась на Филиппа. «Надо же, он предпочел выбрать в спутники Конона. И это после всего, что я сделала для него!»
* * *
Полиперхон тем временем отправился в другое крыло дворца, куда в свои зрелые годы переселился отец нынешнего Филиппа, перестав делить ложе с Олимпиадой. Хорошо обустроенные и даже в какой-то степени изысканно отделанные покои вполне удовлетворяли вкусу Роксаны, да и маленький Александр прекрасно там себя чувствовал. Все окна выходили в старый сад, который, когда потеплело, стал его любимым местом для игр. На сливовых деревцах уже лопались почки, в загустевшей траве одна за одной расцветали фиалки.
— Учитывая нежный возраст царя и привязанность его к матери, — сказал Полиперхон, — я решил не подвергать мальчика трудностям походной жизни. Но во всех подписанных мной договорах или выпущенных эдиктах его имя, разумеется, будет указываться наряду с именем царя Филиппа, как если бы он также дал на них свое одобрение.
— Значит, — спросила Роксана, — Филипп отправится с вами?
— Да, поскольку он — зрелый мужчина.
— Тогда, наверное, он поедет с женой? — повысив голос, поинтересовалась она. — Ведь ему нужен уход.
— Нет, госпожа, война не женское дело.
Мгновенно сообразив, чем это может грозить, бактрийка вытаращила свои черные глаза и закричала:
— Какой ужас! Кто же тогда защитит меня и моего сына?
Что имеет в виду эта глупая женщина? Полиперхон раздраженно сдвинул брови и ответил, что для защиты Македонии останется отлично обученный гарнизон.
— Македонии? А кто пресечет злые происки под этим кровом? Эта волчица только и ждет твоего отъезда, чтобы убить нас.
— Госпожа, — заносчиво произнес посетитель, — мы тут не в варварской Азии! Царица Эвридика, как внучка двух македонских монархов, подчиняется македонским законам. Даже если бы у нее возникло столь низменное желание, она не посмела бы воплотить его в жизнь. Маленькому Александру ничто не грозит. Она Ж6 ΗΘ самоубийца.
Морща лоб, он покинул дворец. Ох уж эти женщины! Им кажется, что военный поход — это праздничная прогулка. Собственное не лишенное остроумия заключение слегка позабавило Полиперхона, но ничуть не облегчило бремя его забот. После нового декрета почти по всем греческим городам прокатились волнения, грозившие перерасти в гражданские войны, поэтому вознамерившиеся остановить Кассандра войска могли нарваться на любые неожиданности и осложнения, исходя из чего все попытки бактрийки заставить его держать в поле зрения еще и какую-то властолюбивую интриганку попросту смехотворны.
* * *
Через неделю македонское войско выступило из Пеллы. С балкона царской опочивальни Эвридика видела, как оно строилось на большом поле, где сначала Филипп, а потом Александр некогда занимались муштровкой солдат. Она проводила взглядом уходящую на юг колонну, которая по прибрежной дороге медленно огибала лагуну.
Когда за воинскими частями потащился громыхающий тыловой обоз, девушка попыталась окинуть мысленным взором страну, которая, вне сомнения, вскоре будет принадлежать ей. Где-то за цепью ближних холмов находится дом отца. Там она росла, там Кинна обучала ее военным искусствам.
Став царицей, она продолжит тренироваться, но уже в своих личных угодьях.
Эвридика лениво перевела взгляд на великолепный фасад дворца с расписным фронтоном и цветными мраморными колоннами. По ступеням широкой лестницы спускался грек Кеб со своим воспитанником, маленьким Александром, волочившим за собой на красной уздечке игрушечную лошадку. Теперь-то ясно, что сынку этой дикой бактрийки в Македонии не обломится ничего. Однако как же Кассандр собирается устранить его? Она в задумчивости свела брови.
Прячущейся за занавеской Роксане надоело таращиться на вереницу телег: слишком часто в последние десять лет она видела эту картину. Ее взгляд рассеянно скользнул в сторону, потом упал на балкон, где, бесстыдно выставив себя на всеобщее обозрение, точно выискивающая любовника шлюха, стояла мужеподобная супруга Филиппа. На что это она смотрит? Слух Роксаны уловил безмятежный щебет своего чада. Ну конечно, именно на него эта дрянь и уставилась. Быстро осенив сына знаком, отвращающим дурной глаз, Роксана бросилась к заветной шкатулке. Где же тот серебряный амулет, что подарила ей мать для защиты от козней гаремных соперниц? Мальчик должен носить его не снимая. Возле шкатулки лежало письмо из Эпира. С царской печатью. Роксана перечитала его и поняла, как ей быть.
Кеба долго уламывать не пришлось. Времена были непредсказуемыми, как и его туманное будущее. Вполне можно поверить, что отпрыску Александра грозит нечто более ужасающее, чем ласки его сумасшедшей мамаши. Да и на Роксану он смотрел теперь по-иному, ведь она тоже нуждалась в защите. Однажды ее красота, затмив свет факелов в главном зале лепившейся к краю пропасти крепости, словно огненная стрела ослепила Александра и поразила его в самое сердце. С тех пор, правда, прошло одиннадцать лет, но бактрийка заботилась о своей внешности и по-прежнему слыла красавицей, которой нет равных. И молодому честолюбивому человеку стало не без оснований казаться, что его тоже причислят к героям, которым нет равных, если он спасет любимую женщину Александра и его единственного наследника.
Именно Кеб подобралкрепких носильщиков для паланкина и вооруженный конвой из четырех человек; все поклялись ему хранить тайну. Он же раздобыл четырех мулов и отправил вперед верхового гонца, чтобы тот сообщил о скором прибытии царственных беженцев. Через два дня в предрассветных сумерках они уже ехали по горной дороге к Додоне.
* * *
Дом царей Эпира имел очень крутую крышу, чтобы зимой было удобнее сбрасывать с нее снег. Молоссиане не устраивали на кровлях никаких наблюдательных площадок, и Олимпиада просто стояла у окна царской спальни, куда она перебралась после отбытия дочери. Ее взгляд был прикован к струйке дыма, поднимавшейся над вершиной ближайшего холма. Она знала, что точно так же курятся сейчас и вершины холмов, чередой уходящих к востоку, где по ее приказу возжигались костры, сообщавшие о продвижении невестки и внука. Увидев сигнал, она тут же кликнула начальника дворцовой стражи и приказала ему выслать им навстречу эскорт.
Олимпиада смирилась со своим возрастом. В месяц траура по Александру она отказалась от притираний и покрыла голову темным платком, чтобы совлечь его уже с окончательно побелевших, но все еще шелковистых волос. Всю свою жизнь она была стройной, а после шестидесяти исхудала и вовсе. Ее тонкая розоватая, как у всех рыжеволосых людей, кожа побледнела и высохла, но потеря цвета лишь подчеркнула великолепие черт ее лица, а дымчато-серые глаза под седыми бровями все еще угрожающе полыхали.
Вот он и близится, этот день, и его, вне сомнения, можно назвать долгожданным. Осознав во всей полноте, какое опустошение произвела в ней смерть Александра, Олимпиада вдруг страстно возжаждала прикоснуться хотя бы к какому-нибудь существу, в котором есть капелька сыновней крови. Но тогда этот ребенок еще не родился, а ожидание не умаляло боли утраты. Возвращение армии все откладывалось, и со временем ее страстное желание притупилось, зато вернулись сомнения. Мать единственного, как потом оказалось, наследника Македонского царства была просто дикаркой, походной женой, сына которой Александр даже и признавать-то не собирался, надеясь, что дочь великого Дария разродится мальчишкой. Александр сам сообщил о том Олимпиаде в секретном письме. Да и может ли что-то отцовское передаться отродью какой-то бактрийки?
Потом мальчика привезли в Македонию, а давняя вражда с Антипатром оставила Олимпиаде только два пути возвращения в Пеллу: полное подчинение или война. Первое было просто невообразимо, а от войны она отказалась, вняв совету Эвмена. Наконец Роксана прислала письмо, умоляя свекровь о прибежище, и Олимпиада ответила: «Жду».
Наутро конный отряд прибыл в Додону. Выносливые малоссиане на низкорослых косматых лошадках, две растрепанные придворные дамы на спотыкающихся ослах и крытый паланкин, влекомый упряжкой мулов. Пристально глядя на паланкин, Олимпиада поначалу не заметила мальчика лет шести, сидящего на лошади перед молодым верховым. Всадник спустил маленького путешественника на землю и наставительным тоном сказал ему что-то. Решительно, уже весьма твердой и никак не детской походкой мальчик поднялся по ступеням и, отсалютовав по-военному, произнес:
— Долгих тебе лет жизни, бабушка. Я Александр.
Не обращая внимания на почтительное бормотание вновь прибывших, она обхватила узкие плечи, поцеловала потемневший от дорожной пыли лоб и, отстранившись, внимательно посмотрела на внука. Кеб оправдал доверие Антипатра. Сын Александра уже не походил на пухлого неженку из гарема.
Олимпиада увидела красивого юного темноглазого азиата изящного телосложения с филигранными чертами лица. Явно от матери достались ему прямые и черные, как вороново крыло, волосы, но аккуратная, спускающаяся на затылок стрижка была как у Александра. Мальчик взглянул на нее из-под тонких темных бровей, взмахнув длинными отливающими синевой ресницами, и, хотя в нем совсем не угадывалось ничего македонского, она вдруг узнала своего Александра в пристальном и серьезном взгляде глубоко посаженных глаз. Впечатление было настолько сильным, что ей с трудом удалось справиться с нахлынувшими воспоминаниями. Придя в себя, она погладила тонкую ручку.
— Добро пожаловать, дитятко. Ступай приведи ко мне свою мать.
* * *
Дороги из Пеллы в Южную Грецию пригладили и подновили еще при Филиппе для удобного и быстрого продвижения войск. А дороги на запад, в Эпир, остались такими, какими и были. И поэтому, несмотря на разницу в расстоянии, Полиперхону в Пелопоннес и Олимпиаде в Додону примерно одновременно доставили сообщение о том, что Эвридика взяла полномочия регента Македонии на себя.
Вдобавок Полиперхон получил завереный новой регентшей указ, предписывающий ему передать в руки Кассандра командование македонскими войсками на юге.
Онемев на какой-то миг от такой наглости, этот бывалый солдат быстро взял себя в руки и, не оглашая послания, предложил гонцу вина, после чего поинтересовался последними новостями. Оказалось, что царица созвала весьма представительное собрание и произнесла перед ним вдохновенную речь. Она сообщила, что хорошо известная всем бактрийка, страшась народного гнева, сбежала вместе со своим отпрыском, однако это, возможно, и к лучшему, ибо у них ни на что тут нет прав. Все, кто знал Александра, подтвердят в один голос, что бактрийский мальчишка ничуть на него не похож. И родился он уже после смерти царя, так что даже формально тот не признал его своим сыном. В то время как сама Эвридика принадлежит к царскому роду с обеих сторон — с отцовской и материнской.
Собрание поначалу пребывало в сомнениях. Однако притязания выступающей поддержал Никанор, брат Кассандра, а заодно с ним и весь их родственный клан. В итоге большинством голосов Эвридику избрали регентшей. Она сразу развила бурную деятельность; для начала приняла и выслушала всех послов, затем встретилась с подателями петиций, в общем, стала вести себя как подлинная царица.
Полиперхон поблагодарил гонца, отпустил его и, облегчив проклятиями свою душу, погрузился в раздумья. Вскоре он уже знал, как ему поступить и как обойтись с недоумком Филиппом.
Он очень надеялся, что, выйдя из-под влияния не в меру амбициозной жены, Филипп станет более управляемым, но ошибся. Сначала царь и впрямь выказал кротость, причем вроде бы даже достаточную, чтобы принять делегацию из Афин. Велик ли труд с внушительным видом посидеть на троне под золотым балдахином? Однако во время речи одного из послов Филипп вдруг захихикал над каким-то иносказанием, восприняв его слишком буквально, короче, он вел себя как дитя. А чуть позднее, когда Полиперхон, отстаивая свою точку зрения, бросил этому делегату довольно резкий упрек, царь схватил церемониальное копье и непременно пронзил бы ни в чем не повинного афинянина, если бы опекун не успел его обезоружить. Кстати сказать, с превеликим трудом.
— Но ты же сам заявил, что он обманщик, — упиралсяФилипп.
Делегацию пришлось отпустить, не решив наболевших вопросов. Царские выходки были оплачены политическим крахом и жизнями нескольких человек.
Тогда-то Полиперхону и стало ясно, что Филипп годится лишь на то, чтобы греть трон для быстро подрастающего сынка Александра. А что касается Эвридики, то столь откровенная узурпация власти отнюдь не сулит ей безоблачных перспектив.
Вызванный Конон быстро явился и отсалютовал с непроницаемой миной. Его выразительное молчание после особенно глупых проделок Филиппа, в сущности означавшее: «Я же предупреждал», уже давно злило Полиперхона. Тем приятнее ему будет сбыть эту парочку с рук.
— Я принял решение, — сказал он, — отправить царя в Македонию.
— Да, господин командующий.
И полководец, и старый солдат понимали, что за этим стоит. Поход не задался, осада Мегалополя развалилась, Кассандр по-прежнему хозяйничает в Пирее и вполне может ворваться в Афины, после чего его сторону примут все греческие города. Но к чему об этом говорить, к чему толочь воду в ступе?
— Я дам вам эскорт. Скажешь царице, что царь опять поступает в ее полное распоряжение.
— Да, — с облегчением повторил Конон и удалился.
Он не задумываясь предрек бы все это, если бы его спросили. Но его не спросили, зато теперь, кажется, у всех появилась возможность спокойно налаживать мирную жизнь.
* * *
Эвридика сидела за массивным богато инкрустированным столом, покоящемся на львиных лапах из позолоченной бронзы. Около века назад царь Архелай пожелал иметь кабинет, отделка и обстановка которого ошеломляла бы чужеземцев. Именно здесь Филипп Второй, когда бывал во дворце, решал многие государственные дела, стремясь привести Македонию к процветанию за счет обширных завоеванных им территорий, именно отсюда молодой Александр диктовал Греции свою волю. Но с тех пор как Александр сделал центром мира свой походный шатер, ни один царь не опускался в рабочее кресло под великолепной фреской Зевксиса, изображавшей Аполлона в окружении девяти муз. Антипатр, свято чтущий традиции, правил подвластными ему городами-государствами из своего собственного особняка. Поэтому Эвридика не обнаружила в идеально прибранном помещении никаких следов чьего-либо пребывания.
Кабинет пустовал семнадцать лет, и ей тоже было семнадцать. Он словно ждал ее, и теперь только она будет всем здесь единовластно распоряжаться.
Созвав собрание, чтобы заявить о своих правах на регентство, Эвридика не предупредила о своих намерениях Никанора, сообразив, что, не имея времени на раздумья, тот волей-неволей поддержит ее, чтобы не повредить делу брата. Впоследствии она отблагодарила его, но решительно пресекла все попытки давать ей советы. Новая властительница Македонии способна править по собственному разумению.
В ожидании известий с юга большую часть времени Эвридика посвящала своим излюбленным военным занятиям. Проезжая мимо кавалерийских отрядов и пехотных фаланг, салютующих ей поблескивающими сариссами, дочь Кинны чувствовала, что наконец-то она отвечает своему истинному назначению и что судьба улыбается ей. Она отлично разбиралась в тонкостях воинской подготовки и, если надо, могла что-нибудь подсказать; она знала толк как в шагистике, так и в приемах рукопашного боя. Воинов все это повергало в приятное удивление. В конце концов, решили они, в Пелле остался лишь крепостной гарнизон. Если вернется кто-то из полководцев, то он, разумеется, примет командование на себя, а пока можно потешить царицу. И даже ворчуны ветераны, смирившись со сложившейся ситуацией, снисходительно выполняли ее указания.
Слава о ней быстро распространялась. Всюду судачили о царственной воительнице Эвридике. Придет время, и Македония станет чеканить монеты с изображением всеобщей любимицы. Кому что нравится, разумеется, а ей лично надоело видеть на них горделивое длинноносое лицо Александра, героя, обернутого львиной шкурой. Пора Гераклу уступить место Афине, богине военной мощи.
Со дня на день она ждала известия, что Полиперхон, согласно ее приказу, наконец соизволил передать руководство войсками Кассандру. Но пока сообщений об этом не поступало. Зато неожиданно, словно снег на голову, в Пеллу прибыл Филипп. Он не привез никаких официальных посланий и понятия не имел, куда делся его опекун.
Пребывая в полнейшем восторге от возвращения в Пеллу, муж без устали тараторил о своих приключениях на войне, хотя все его знания о поражении при Мегалополе ограничивались тем, что плохие люди рассыпали вокруг крепости множество острых шипов и слоны повредили ноги. Тем не менее Эвридика терпеливо вслушивалась в его бессвязную болтовню, надеясь выудить из нее хоть что-то ценное. Потом ей это обрыдло, хотя он похвалялся, что присутствовал на военных советах. Один, без Конона. Но, закрутившаяся в бесконечных заботах, она перестала смотреть в его сторону. Лишь изредка интересовалась, где именно он побывал. В основном жизнью и развлечениями Филиппа теперь ведал Конон. Издавая приказы, Эвридика уже не предлагала ему подписать их и всюду ставила лишь свое имя.
До поры все шло гладко. Новоявленная регентша поднаторела в улаживании македонских проблем, о которых обычно ей лично докладывали прибывавшие со всех концов Македонии податели петиций. Но внезапно на нее обрушился целый поток срочных дел, хлынувший как с юга Греции, так и из Азии. Раньше ей как-то и в голову не приходило, что всеми этими вопросами от имени Филиппа занимался опекавший его Полиперхон. Теперь Филипп был при ней, а Полиперхон по весьма разумным причинам предпочитал где-то скрываться.
В полном смятении разглядывала Эвридика прошения из совершенно неведомых ей городов и сатрапий, претендовавших на справедливое разрешение своих споров. В одной огромной груде валялись засаленные земельные иски, аккуратно оформленные донесения о правонарушениях, неряшливые отчеты захолустных чиновников, хорошо пахнущие, но очень длинные и совершенно непостижимые послания от жрецов основанных Александром храмов, желающих уточнить порядок проведения ритуалов. Азиатские сатрапы докладывали о вторжении Антигона, гневные жалобы шли из греческих полисов от македонских ставленников, либо изгнанных, либо смещенных в соответствии с новым царским указом, подписанным Полиперхоном. Зачастую она не могла даже просто понять, о чем идет речь, из-за многочисленных сокращений. Озирая в беспомощном недоумении все это скопище документов, дочь Кинны неохотно подумала, что, должно быть, на нее свалилась сейчас лишь малая толика того, над чем Александру приходилось корпеть в редкие часы отдохновения рт своих воинских грандиозных свершений.
Государственный секретарь, хорошо разбиравшийся в подобных вещах, убыл с Полиперхоном, оставив за себя лишь писца. Эвридика решила вызвать этого мелкого служащего и попытаться вдвоем с ним справиться с тем, о чем она в своем невежестве не имела ни малейшего представления. Она потрясла серебряным колокольчиком, на звон которого к ее деду являлся в свое время Эвмен.
Никто не шел. Где же этот лентяй? Она вновь позвонила. Из-за двери донесся какой-то приглушенный спор. Наконец вошел трясущийся писарь. Малый даже не извинился за задержку и не поинтересовался, зачем его, собственно, вызвали. На бледном лице застыло отчаяние смертельно испуганного человека, которому уже ничто не в силах помочь.
— Государыня, к западным границам подошло чье-то войско.
Эвридика выпрямилась, сверкнув глазами. Македонские цари издревле гордились своим умением вести пограничные войны. Она уже видела себя в боевых доспехах впереди конной лавины, несущейся к оцепеневшим от страха врагам.
— Иллирийцы? Где они?
— Нет, государыня. Солдаты подошли с юго-запада. Из Эпира. Не желаешь ли поговорить с вестником? Он утверждает, что привел их Полиперхон.
Она откинулась на спинку кресла, попирая своим хладнокровием трусость писца.
— Да, я поговорю с ним. Зови.
Встревоженный и пропыленный солдат прибыл из крепости на Орестидских холмах. Он попросил прощения за долгое пребывание в дороге. Лошадь его неожиданно охромела, и ему пришлось добираться на муле, единственной убогой скотине, какую удалось раздобыть. Целый день, считай, был потерян. Солдат, виновато помаргивая, вручил Эвридике послание от начальника гарнизона, но видно было, что юный возраст царицы его изумил.
Полиперхон, расположившись у границы, возгласил через глашатаев, что пришел восстановить права сына Александра. Проживавшие в тех краях родичи своевольного генерала мигом присоединились к нему. А из орестидского гарнизона народ, к сожалению, побежал, от оставшихся солдат мало проку. Короткое и сухое послание почти не скрывало намерения сдать крепость.
Отпустив гонца, Эвридика задумчиво устремила взгляд в дальний конец кабинета. Там высилась бронзовая статуя оглядывающегося через плечо юноши с лирой. Чем-то схожий с Гермесом атлет стоял недвижно на постаменте из красивого зеленого, добываемого лишь в Аттике камня, его мускулистая основательная фигура казалась тяжеловесной для взора, привыкшего к современной воздушности форм. Едва уловимая меланхолия в выражении бронзового лица однажды побудила ее спросить у старого дворцового управляющего, что это за статуя. Выяснилось, что изваял ее сам Поликлет, знаменитый греческий скульптор, и что моделью ему служил какой-то афинский воин. Судя по слухам, она была сработана во времена так называемой великой осады, когда спартанцы разбили заносчивых афинян. Нет сомнений, что посредникам царя Архелая удалось приобрести ее по дешевке: в те годы многое шло с молотка.
На дочь Кинны взирали молочно-белые стеклянные глаза с синими лазуритовыми зрачками. Опушенные тонкими бронзовыми ресницами, они словно предупреждали: «Осторожнее! Я уже слышу поступь судьбы».
Поднявшись с кресла, она встала перед изваянием.
— Вы проиграли. Но я намерена выиграть.
Совсем скоро она отдаст приказ собирать армию и готовиться к выступлению. Но прежде надо написать Кассандру и призвать его на помощь.
* * *
В южную сторону кони скачут быстрее, чем на север. Письмо царицы доставили через три дня.
Войско Кассандра стояло в Аркадии под упорно сопротивлявшейся крепостью. Разрушив ее, он пойдет дальше и покорит всех спартанцев, давно переставших жить по заветам своих героических предков. Их некогда гордо открытая всем ветрам света столица, объявившая своим главным прикрытием одни только воинские щиты, теперь пряталась за крепкими стенами, но трусы были обречены. Кассандру не составит труда победить их.
Афины уже прислали к нему своих послов с просьбой сообщить, кого бы он хотел видеть во главе городского правления. Кандидатура у него имелась. Этот пост рассчитывал получить начальник гарнизона Пирея, так вовремя распахнувший ворота афинского порта, но Кассандру вдруг показалось, что тот слишком возомнил о себе, и он велел тихо убрать его где-нибудь в закоулке. А новым правителем Афин стал безобидный и послушный грек. «Вскоре, — подумал Кассандр, — мне надо будет наведаться и в Ликей. Там тоже ждет одно важное дельце».
Конечно, Эвридика поступила достаточно опрометчиво, назначив Кассандра верховным командующим всех македонских полков, но в связи с этим многие колеблющиеся греки перешли на его сторону. Даже те, что успели убить своих олигархов и восстановить демократию, призадумались, не пойти ли им на попятный. Кассандру хотелось как можно скорее разделаться с южными городами; эта война интересовала его единственно как средство достижения политических целей. Он никогда не пасовал перед трудностями и, будучи опытным стратегом, умел подчинять своей воле людей, но и только. С юных лет его тайно сжигала острейшая зависть к магии Александра. Никто не будет до хрипа орать ему приветствия, никто не почтет за честь умереть за него, его подручные будут делать лишь то, за что им заплачено. «Ничего, — подумал он, — я сумею переиграть этого самодовольного лицедея. Мы еще посмотрим, какой славой увенчают его новые времена».
Не особенно удивило Кассандра и то, что Полиперхон решил отступить и увел свою армию в северном направлении. Старый выдохшийся неудачник. Пусть себе бежит домой, поджав хвост, пусть забьется там в свою конуру.
Но послание Эвридики его просто ошеломило. В нем он нашел одну глупость и безрассудство. Если бы она просто дала волю гневу, он бы понял ее. Но зачем сейчас ополчаться на малолетнего отпрыска Александра? Какой в этом смысл? Более основательный в своих планах Кассандр намеревался, устранив с пути Филиппа, править поначалу от имени этого несмышленыша. До его зрелости у них с Эвридикой было бы предостаточно времени. Любой человек, знакомый с азами дворцовых интриг, стал бы терпеливо дожидаться своего часа, а она вместо этого ввергла теперь всю страну в дурно пахнущую войну за наследство. Неужели эта взбалмошная девчонка никогда не заглядывала в исторические труды? Родителям следовало бы получше следить за ее воспитанием.
И Кассандр принял решение. Его ставка была неудачной. Если лошадь под тобой ненадежна, от нее нужно избавиться. Тогда все пойдет как по маслу.
Он сел писать Никанору.
* * *
Подбадриваемое пронзительными и резкими звуками задающих ритм флейт и авлосов царское войско под развевающимися знаменами и штандартами Македонии продвигалось к Эпиру.
Лето было в разгаре. Тимьян и шалфей, примятые копытами лошадей и солдатскими сапогами, насыщали воздух пряными ароматами, разросшийся папоротник доходил пехотинцам до пояса, в дымчатом вереске на полянах пламенели вкрапления багровеющего щавеля. Гребни начищенных шлемов были украшены конским волосом и победно сверкали, яркие флажки трепетали на концах длинных сарисс — все сияло, все радовало глаз в этом нескончаемом разноцветном потоке, то расползавшемся по извивам горных дорог, то опять собиравшемся воедино. Юные пастухи с высившихся впереди скалистых утесов громкими криками предупреждали местных жителей о приближении войска, в то время как мальчишки помладше спешили помочь своим старшим братьям загнать овец дальше в лес.
Во главе конницы в отполированных до блеска доспехах ехала Эвридика. Пьянящий воздух будил ее самые дерзновенные мысли; сбегающие вниз к долинам луга представлялись неведомыми мирами, которые ей предстояло завоевать. Воинственная по натуре и воспитанию, она всегда верила в свою избранность и даже, как это было принято у властителей Македонии, обзавелась отрядом Соратников, перед походом сообщив им, что после успешного окончания войны с западными изменниками они будут щедро вознаграждены. Неподалеку, возглавляемые Никанором, ехали родичи Антипатра. Вкупе со своими приверженцами они составляли очень надежный и очень мощный отряд.
Кассандр так и не появился, известий от него тоже не было. Очевидно, предположил Никанор, с курьером, к нему посланным, что-то стряслось. Не мешало бы послать второго гонца, что Эвридика и сделала. Кроме того, Пелопоннес не так мал, а брату обычно не сидится на месте, и это тоже могло стать причиной задержки. Во всяком случае, сказал Никанор, он лично уверен, что Кассандр одобрил бы его действия, иначе он, Никанор, остался бы дома.
Рядом с Эвридикой ехал Филипп на крупной спокойной лошади; его также принарядили в доспехи. Он все-таки оставался царем, и людям приятно было сознавать, что он с ними. А когда они приблизятся к неприятелю, его можно будет оставить в базовом лагере при обозе.
Продвигаясь вперед вместе с армией, Филипп пребывал в безмятежном и радостном настроении. Едва ли он мог уже вспомнить те времена, когда ему жилось по-другому. Конон, как и положено, отставал от него на полкорпуса. Много лучше было бы ехать бок о бок, ибо Филипп любил делиться дорожными впечатлениями, но и Эвридика, и Конон в один голос твердили, что ему не подобает так вести себя на глазах у солдат. Филипп вздохнул. Он все еще смутно скучал по тем давно минувшим дням, наполненным всяческими сюрпризами и чудесами, когда его навещал Александр.
Конон был погружен в свои размышления. Он также сожалел о том, что Александр окончил свой земной путь, но по более веским причинам. С тех самых пор, как его молодой господин Арридей стал царем Филиппом, старик понимал и даже был совершенно уверен, что однажды произойдет то, что происходило сейчас. «Что ж, — подумал он, — не зря говаривали в старину: вчерашнего не догонишь, от завтрашнего не уйдешь. Мне скоро шестьдесят, мужчины редко живут дольше».
На гребне маячившего впереди хребта промелькнула темная фигура всадника. Разведчик, подумал Конон. Интересно, обратила ли на него внимание юная амазонка? Он глянул на бегущую неторопливой трусцой царскую лошадь, на блуждающую по простодушному лицу Филиппа полуулыбку, явно навеянную каким-то приятным воспоминанием. Ей следовало бы получше о нем заботиться. Если бы, скажем, она…
Эвридика тоже обратила внимание на темную фигуру. Она и сама уже давно выслала вперед патрульных. Только они почему-то еще не вернулись. И она послала им вслед новую пару всадников. Армия продолжала свой блистательный марш под бодрые наигрыши флейтистов.
Вскоре разведчики доберутся до перевала, а затем и сама она поднимется наверх и окинет взглядом развернувшуюся перед ней панораму. Дочь Кинны знала, что именно так должны поступать военачальники. Если враг окажется в зоне видимости, она первым делом оценит его диспозицию, а потом созовет военный совет, чтобы подумать, как лучше расположить свои силы.
Дерда, несколько вялый молодой командир, недавно ставший ее первым заместителем — новое назначение резко возвысило его над тем положением, что он занимал у Полиперхона, — подъехал к ней с хмурым и озабоченным видом.
— Эвридика, патрульным пора бы вернуться. Похоже, они попали в ловушку. Не следует ли нам проверить высокогорье? Чтобы не рисковать лишний раз.
— Да? — Этим чудесным прохладным утром ей представлялось, что столь замечательный марш будет длиться и длиться, пока она сама не решит, где развернуть фронт. — Что ж, тогда мы с конницей проедем вперед и будем охранять перевал, ожидая подхода пехоты. Перестрой эскадроны, Дерда. Ты возьмешь на себя левый фланг, а я, разумеется, правый.
Она продолжала отдавать приказы, когда до нее донеслось резкое протестующее покашливание. Вздрогнув, Эвридика в смущении обернулась.
— Госпожа, — спросил Конон, — а с кем поедет царь?
Она раздраженно прищелкнула языком. Лучше бы он сидел сейчас в Пелле.
— Ну… поезжай с ним обратно к обозу. Пусть там для вас поставят палатку.
— А что, будет сражение? — встрял в разговор Филипп. Вид у него был весьма заинтересованный.
— Да, — спокойно сказала она, подавив бесполезное раздражение. — Отправляйтесь пока в лагерь и дожидайтесь нашего возвращения.
— Но, Эвридика, почему же и ты прогоняешь меня? — с необычайной порывистостью спросил вдруг Филипп. — Мне еще ни разу не приходилось сражаться. Александр никогда не разрешал мне. Никто ничего мне не разрешает. Ну пожалуйста, позволь мне поехать с тобой. Посмотри, у меня ведь есть меч.
— Нет, Филипп, не сегодня.
Эвридика повелительно махнула рукой Конону, но тот словно не видел ее жеста. Внимательно оглядев своего господина, старик перевел взгляд на госпожу. После задумчивой паузы он сказал:
— Государыня, раз уж царь сам изъявляет желание… Может быть, лучше удовлетворить его?
Она пристально взглянула в печальные, серьезные глаза. И, догадавшись, какие там прячутся мысли, задохнулась от возмущения.
— Да как ты смеешь?! Я приказала бы высечь тебя за дерзость, если бы у меня было время. Но ничего, позже мы еще свидимся. Живо выполняй, что тебе говорят!
Филипп опустил голову. Он понял, что в чем-то провинился и рассердил их. Они не станут его бить, но воспоминание о колотушках, полученных в детстве, было совсем неприятным.
— Прости, — сказал он. — Я надеюсь, ты выиграешь эту битву. Александр всегда выигрывал. До свидания.
Она даже не оглянулась. Не посмотрела, как он уезжает.
Фыркая и возбужденно дергая мордой, ее верная лошадь взлетела на вершину горы. Эвридика погладила крепкую шею, пошевелила густую гриву на холке и положила копье на красный чепрак. Глашатай стоял рядом, держа наготове трубу в ожидании приказа дать сигнал двигаться дальше.
— Погоди! — сказала она. — Сначала я поговорю с воинами.
Прозвучал короткий сигнал, призывающий к тишине. Разглядывающий очередной перевал командир что-то встревоженно сказал, но труба заглушила его слова.
— Воины Македонии!
Голос молодой царицы пронесся над солдатскими головами. С той же звонкостью, с какой он звучал в Египте, Трипарадизе и Пелле, где все эти люди единодушно проголосовали за ее регентство. Скоро им предстоит сражение, но таких закаленных бойцов оно, разумеется, страшить не должно. Им остается лишь подтвердить свою боевую славу.
— Вы храбро дрались, завоевывая чужие страны, но теперь вас ждет гораздо более важная битва. Теперь вы будете защищать вашу родину, ваших жен и ваших…
Что-то было не так. Люди не проявляли враждебности, но почему-то почти не слушали, глядели куда-то вдаль и переговаривались друг с другом. Внезапно молодой Дерда, вечная озабоченность которого переросла в сильнейшее волнение, выхватил у Эвридики поводья и, развернув ее лошадь, крикнул:
— Смотри!
Весь склон противоположной горы вдруг словно бы потемнел, зашевелился и в один миг ощетинился копьями.
* * *
Воины двух армий разглядывали друг друга через поток, узкий и мелкий в это летнее время, но пробегавший по широкому, размытому весенними паводками руслу, которое было сплошь устлано скатывавшимися сверху камнями. Выстроившиеся с двух сторон его всадники с отвращением взирали на полосу опасно острых скальных обломков.
Вершина западного холма, где расположилось войско Эпира, господствовала над перевалом, занятом македонцами. Однако если Полиперхон выставил на обозрение все свои силы, то пехотинцев у него было раза в полтора меньше, хотя конница выглядела повнушительнее.
Эвридика стояла на скалистом выступе, обозревая место будущей битвы и выбирая, куда выгоднее ударить. Оба вражеских фланга казались соблазнительно обнаженными. На пологих, поросших кустарником пустошах вполне могла развернуться пехота.
— Да, — кивнул Дерда. — Если, конечно, они позволят нашим ребятам добраться туда. Полиперхон, возможно, не столь умен… — «как Александр», хотел он сказать, но вовремя спохватился, — однако опыта у него не отнять.
Полиперхон, в свою очередь, тоже видел, что командиры Эвридики собрались на военный совет. Разговаривая друг с другом, они даже позволяли себе показывать на него пальцами, не испытывая, казалось, особого страха перед близящимся сражением. Интересно, тревожит ли их то, что они вот-вот ринутся убивать своих бывших приятелей и друзей?
— Никанор! — (Покинув свой отряд, тот присоединился к штабной команде.) — Нет ли вестей от дозорных?
Никанор отрицательно помотал головой. Они оставили наблюдателей на высокой вершине, откуда отлично просматривались южные подступы к пограничным холмам.
— Несомненно, Кассандр подойдет сюда, если что-то не помешает. Возможно, его продвижение замедляют вражеские наскоки. Ты же знаешь, что Полиперхон весьма основательно намутил воду в греческих городах.
Дерда промолчал. Ему не нравилось место, куда Никанор отвел свой отряд, но менять что-то уже не имело смысла.
Эвридика с высоты своей скальной площадки, затенив глаза ладонью, изучала врага. Увенчанная блестящим шлемом, в отделанной золотом кирасе и коротком красном хитоне, складки которого слегка покачивались над сияющими наголенниками, она походила на рыночного лицедея, мечтающего получить роль Ахилла в Авлиде и потому облачившегося в столь броский наряд. Так, по крайней мере, подумал Дерда. Но именно она, однако, первой увидела парламентера.
Отделившись от группы окружающих Полиперхона людей, этот воин поскакал вниз по склону. Он был без оружия, но выглядел весьма представительно. На его седой голове белела шерстяная повязка, а в руке поблескивал белый жезл, увитый оливковой ветвью.
Возле речного русла парламентер спешился и позволил лошади самой выбирать путь между камней. Переправившись, он сделал несколько шагов к македонцам, сел в седло и стал ждать. Эвридика и Дерда поехали вниз к ветерану. Обернувшись, она хотела позвать Никанора, но тот уже примкнул к своим.
Голос у парламентера оказался не менее впечатляющим, чем его внешность, он гулко катился по склонам, словно по взбегавшим вверх ярусам гигантского амфитеатра.
— Филипп, сын Филиппа, жена его Эвридика и все македонцы! — Воин спокойно сидел на своей крепкой малорослой лошадке, оберегаемый богами и заветами предков. — Мне поручили обратиться к вам с мирным предложением от имени Полиперхона, опекуна обоих царей… — Оратор умолк, расчетливо нагнетая в аудитории напряжение. — А также, — медленно произнес он, — от имени царицы Олимпиады, дочери царя Молоссии Неоптолема, жены Филиппа, царя Македонии и матери Александра.
Наступившее безмолвие нарушал только дальний собачий лай, доносившийся из расположенного в полумиле селения.
— Славные македонцы, вспомните, что именно царь Филипп избавил ваши поместья от внезапных грабительских нападений, а вас самих — от мучительных гражданских войн. Он не только примирил враждующие кланы, но сделал вас хозяевами всей Греции. Вспомните также, что именно царица Олимпиада, законная жена царя Филиппа, подарила вам Александра, который бросил к вашим ногам весь мир. И она желает теперь спросить вас: неужели вы позабыли об этом, неужели решили ополчиться на единственного наследника Александра? Неужели готовы поднять оружие на мать того, кто еще совсем недавно вел вас за собой?
Его голос летел ввысь мимо Эвридики и ее советников к рядам молчаливых воинов. Закончив речь, парламентер развернулся и поднял руку.
От замершей на другом берегу группы всадников отделился еще один верховой. На черной лошади, в черном платье и черной накидке к потоку медленно спускалась Олимпиада.
Широкий свободный хитон наездницы доходил до щеголеватых сапог красной кожи. Оголовье уздечки неторопливо шагавшей кобылы отягощалось богатым набором золотых и серебряных, явно изготовленных в Сузах или Персеполе розеток и блях. Но в остальном весь облик всадницы дышал суровой, почти аскетической простотой. Остановившись там, где ее могли видеть все македонцы, но с тем расчетом, чтобы Эвридике пришлось смотреть на нее снизу вверх, вдовствующая царица опустила поводья и сбросила черную шаль со своей седой головы. Она не произнесла ни слова. Ее глубоко посаженные серые глаза бесстрастно озирали ряды тихо переговаривающихся воинов.
Эвридика на какой-то миг поймала взгляд Олимпиады. Легкий ветерок раздувал за спиной царственной всадницы черный плащ, лохматил гриву лошади и шевелил снежно-белые пряди волос. Лицо под ними казалось застывшей маской. Эвридику вдруг охватила дрожь. Ей почудилось, что на нее смотрит Атропа, третья мойра, перерезавшая нити человеческих жизней.
Звучный голос парламентера, о котором все успели забыть, вновь разнесся над войсками:
— Македонцы! Вот перед вами мать Александра. Неужели вы станете воевать с ней?
Ответный ропот был подобен рокоту морской волны, набирающей мощь, перед тем как обрушить свой гребень на берег. После мига безмолвия возник новый шум: тихий стук дерева по металлу. Постепенно стук становился все громче, и в итоге он слился в единый громоподобный бой. Тысячи воинов били по своим щитам древками копий. И наконец царское войско разродилось единодушным криком:
— Нет!
Эвридика не раз уже сталкивалась с подобным единодушием. Оно, правда, может, не столь бурно выраженное, проявилось в публике и тогда, когда ее выбирали регентшей. В течение бесконечно долгих мгновений она даже думала, что солдаты отринули вражеские резоны и бьют в щиты, горяча себя перед битвой.
Зато Олимпиада за рекой поняла все как надо и поблагодарила не пожелавших сражаться с ней воинов царственным взмахом руки. Затем, так же молча, еще одним взмахом она пригласила их на свой берег и развернула лошадь. Она очень уверенно поднималась по склону, как знающий себе цену вождь, которому не нужно оглядываться и проверять, следуют ли за ним люди.
Пока царица Эпира триумфально въезжала на вершину западного холма, за спиной ее происходило нечто разительное. Царское войско со всеми своими аккуратными линиями пехотных фаланг, кавалерийских и стрелковых подразделений вдруг перестало существовать и уподобилось скопищу бедолаг, выгнанных землетрясением из домов. Не было армии, были лишь люди. Конные, пешие, они перекликались с родичами, с друзьями, пробивались друг к другу и в едином порыве беспорядочно сыпались вниз, скатываясь, как живая лавина, к пересохшему речному руслу.
Эвридика стояла в полнейшем ошеломлении. Опомнившись, она принялась выкрикивать что-то, пытаясь остановить перебежчиков, но ее голос заглушал общий ор. В толкотне и сумятице они даже не замечали ее, а те, что замечали, делали вид, что не видят. Испуганная кобыла оставленной всеми воительницы заартачилась и вскинулась на дыбы, угрожая сбросить всадницу под копыта других лошадей.
Один из командиров, протолкавшись к молодой царице, забрал у нее поводья и утихомирил встревоженное животное. Эвридика узнала светловолосого тридцатилетнего воина, желтого от какой-то подцепленной в Индии хвори. Он стал ее сторонником еще в Египте и теперь озабоченно смотрел ей в глаза. «Ну вот, — мелькнуло у нее в голове, — нашелся наконец хоть кто-то разумный».
— Как нам задержать их? — крикнула она. — Ты можешь найти трубача? Мы должны повернуть их!
Воин погладил покрывшуюся испариной лошадиную шею. Медленно, как человек, объясняющий нечто элементарное и, в общем, понятное даже ребенку, он сказал:
— Но, госпожа, там же мать Александра.
— Предатель!
Она сознавала, что обвинение несправедливо и что гнев надо обратить на иное. Внезапно ей стало ясно, кто ее настоящий противник. Конечно же, не зловещая старуха, восседающая на черной лошади: та обрела свое магическое могущество лишь благодаря сияющему призраку, чье обрамленное львиной гривой волос лицо отчеканено на серебряных драхмах. Этот мертвец даже из своей золотой погребальной лодки продолжает определять ход событий.
— Тут уж ничего не поделаешь, — терпеливо, но быстро произнес офицер, сберегая время и ей, и себе. — Тебе не понять, Эвридика. Неудивительно, ведь ты же не знала его.
Она порывисто схватилась за меч, но невозможно поразить призрак. Огромная беспорядочно шевелящаяся толпа уже переправлялась через реку. С радостными криками солдаты Полиперхона обнимали своих старых друзей.
Заметив на другом берегу своего родственника, желтолицый воин помахал ему рукой и вновь обернулся:
— Госпожа, ты еще очень молода, все утрясется. Такой опыт может пойти тебе на пользу. Никто из солдат не желает тебе вреда. У тебя сильная лошадь. Уезжай в горы, пока за тобой не прислали.
— Нет! — воскликнула Эвридика. — На левом фланге стоит Никанор с Антипатридами. Едем со мной, мы доберемся до них, засядем на Черной горе и будем обороняться. Эти люди никогда не пойдут на мировую с Олимпиадой.
Он проследил за ее взглядом.
— На мировую-то они не пойдут. Но посмотри повнимательнее, и ты увидишь, что они уходят.
Тут и Эвридика заметила, что отряды Антипатридов маршируют по вересковому полю. Блестящие щиты, разворачиваясь, тускнели, а начало колонны уже переваливало за дальний хребет.
Она опустила голову. Ее компаньон поискал глазами своего брата и убежал.
Спешившись, Эвридика обняла свою лошадь, единственное живое существо, еще послушное ей. Она и впрямь была молода, а потому охватившее ее отчаяние не походило на суровую ожесточенность Пердикки, заплатившего за свой провал жизнью. Оба они стремились к власти и проиграли, но Пердикка никогда не делал ставку на любовь подчиненных. Взбудораженное животное вновь тревожно заржало; у Эвридики вдруг перехватило дыхание, а глаза ослепли от слез.
— Эвридика, едем, нам надо спешить.
К ней с трудом проталкивались остатки свиты. Вытерев глаза, она увидела, что эти солидные уважаемые мужи охвачены не возмущением, а подлинным страхом. Все они были старыми приверженцами Антипатра, в свое время деятельно пресекавшими козни Олимпиады, всячески выживая из Македонии заносчивую царицу.
— Быстрее! — торопили они. — Видишь там конницу? Это молоссиане, они скачут сюда, чтобы тебя захватить. Поехали поскорее!
Не мешкая долее, Эвридика вскочила в седло и понеслась вместе с горсткой приверженцев через вересковые пустоши, предоставив лошади возможность самой выбирать, где скакать. На ум ей вдруг пришли слова Никанора о том, что он в своих поступках всегда ориентируется на мнение брата. Тут она вспомнила рыжую шевелюру Кассандра и его упрямые бледные глаза. Ни в какую ловушку посланцы ее не попали. Кассандр получил известие, что ей нужна помощь, но счел ее положение безнадежным.
На гребне следующего холма беглецы остановились, чтобы дать передохнуть лошадям, и посмотрели назад.
— Эй, да они гонятся совсем не за нами! — сказал один государственный муж. — Им не терпится захватить наш обоз. Вон, они уже подъезжают к нему. Как же нам повезло!
Но очень скоро все замолчали, наблюдая за действиями захватчиков. За цепочкой телег воины окружили одинокую палатку. Оттуда вывели человека, казавшегося издалека крошечной куколкой. Эвридика вдруг осознала, что со времени театрального выезда Олимпиады, переманившей на свою сторону ее армию, она ни разу не вспомнила о Филиппе.
* * *
Возглавляемый Эвридикой маленький отряд двигался на восток в сторону Пеллы. Не желая, чтобы их принимали за беглецов, государственные мужи объясняли отсутствие при них слуг крайней спешкой и вовсю пользовались дружелюбием и радушием жителей греческих поселений и городков, издревле славящихся своим хлебосольством. Всюду, опережая официальных глашатаев, путники сообщали, что на границе было подписано мирное соглашение и что они теперь спешат в Пеллу для созыва собрания, полномочного утвердить договор. Но все равно хозяева домов, где они ночевали, по утрам подозрительно поглядывали им вслед.
Огибая предместья Пеллы, Эвридика бросила взгляд на высокую башню отцовского дома. С невыразимой тоской она вспомнила тихие годы, проведенные ею там с Кинной, детские забавы и героические мечтания, подвигнувшие ее вступить на сцену великого театра истории, дабы представить вниманию зрителей драму, в финале которой ни один из богов не спустился с Олимпа по поручению Зевса, чтобы восстановить справедливость. С детства она зазубрила предназначенную ей роль и свыклась с царственной маской. Но автор той пьесы уже ушел в иной мир, а публика освистала главную героиню.
В Мизе они проехали мимо какого-то заброшенного поместья, чьи разросшиеся сады насыщали воздух ароматом роз. Кто-то сказал, что там находилась школа, в которой много лет назад преподавал Аристотель. «Да, — с горечью подумала Эвридика, — а сейчас его воспитанники разбежались по миру, чтобы прибрать к рукам то, что оставил их школьный приятель, который, придя к власти, достиг высшей цели. Он сделал ставку на любовь и получил все».
Войти в Пеллу беглецы не посмели. Весь путь им пришлось проделать на своих лошадях, а курьер имел право пересаживаться на свежих животных. Он мог прибыть сюда намного раньше, и солдаты крепостного гарнизона, узнав о переходе армии на сторонуОлимпиады, вряд ли отнеслись бы к оставленной почти всеми царице с должным почтением. Один муж из ее свиты, некий Поликл, был братом начальника гарнизона Амфиполя, древней крепости близ фракийской границы. Он брался переправить всех за море.
Решив, что лишнее внимание им теперь ни к чему, скитальцы обменяли доспехи на домотканое крестьянское платье и, несмотря на то что их лошади совсем выдохлись, свернули с древней дороги, которая некогда привела Дария Великого к Марафону, Ксеркса — к Саламину, Филиппа — к Геллеспонту, а Александра — к Вавилону. Один за другим царедворцы покидали царицу, ссылаясь на хворобы или просто молча растворяясь в ночи. На третий день с ней остался только Поликл.
Однако вдали уже виднелись крепкие стены Амфиполя, доминировавшего над устьем реки Стримон. С пристани туда шел паром, но причал охраняли солдаты. Беглецы направились вверх по течению в поисках ближайшего брода. Там их и взяли.
* * *
Подъезжая к Пелле, Эвридика попросила снять путы со своих ног, связанных под брюхом мула, и позволить ей умыться и причесаться. Стражи ответили, что царица Олимпиада приказала доставить ее как есть.
На господствующей над Пеллой высотке темнело нечто, напоминающее издали лес чахлых деревьев, обремененных множеством птиц. Когда конвой подъехал ближе, в небо с сердитым карканьем поднялись стаи ворон и коршунов. Сюда, к так называемому висельному холму, свозили после казни трупы преступников. Их приколачивали к крестам подобно тому, как егеря приколачивают к стенам своих кладовых мертвых хищников для устрашения их собратьев. Когда-то здесь висел и убийца Филиппа. Теперешних распятых опознать было невозможно — падалыцики попировали на славу, — но на досках, прибитых под их ногами, темнели надписи. «НИКАНОР, сын Антипатра», — сообщала одна из таких досок. На холме высилось более сотни крестов; зловоние доходило до города.
На троне в приемном зале, где Эвридика совсем недавно сама принимала просителей и послов, теперь восседала Олимпиада. Ее черные одежды сменились красными, а голову венчала золотая корона. Рядом с ней на почетном кресле сидела Роксана, а маленький Александр устроился на скамеечке у ее ног. Большими темными глазами он взирал на пленницу, растрепанную и неумытую, скованную по рукам и ногам.
Тяжелые, ограничивающие свободу движений кандалы предназначались для крепких и сильных мужчин. Вес их был столь велик, что руки девушки просто висели. Она могла передвигаться, лишь волоча ноги, и с каждым шагом железо впивалось в израненные лодыжки. Чтобы не споткнуться о собственные вериги, ей приходилось широко расставлять ноги, но, невзирая на боль, Эвридика с гордо поднятой головой приблизилась к трону.
Олимпиада кивнула одному из стражников. Он сильно ткнул Эвридику в спину, и та рухнула на пол, ободрав локти о цепь. С трудом поднявшись на колени, девушка обвела взглядом лица собравшихся. Кто-то рассмеялся, мальчик было подхватил этот смех, но тут же затих и опять стал серьезным. Роксана издевательски улыбалась. Из-под опущенных век Олимпиада напряженно следила за пленницей, словно кошка, поджидающая, когда полумертвая мышь шевельнется еще раз.
Она спросила стражника:
— Неужели эта грязнуля претендовала на трон Македонии?
Тот тупо подтвердил.
— Я не верю тебе. Должно быть, ты нашел ее в портовом борделе. Эй, женщина, назови свое имя.
Эвридика с грустью подумала, что у нее никого теперь нет. «Некому пожелать мне стойкости, некому подбодрить в трудный час. Все сохранившееся во мне мужество нужно лишь мне одной». Она хрипло произнесла:
— Я — Эвридика, дочь Аминты, сына Пердикки.
Олимпиада склонилась к Роксане и словоохотливо пояснила:
— Отец — предатель, а мать — варварское отродье.
Девушка продолжала стоять на коленях. Самой ей было все равно не подняться из-за не слушавшихся ее рук.
— Однако именно меня твой царственный сын выбрал в невесты своему брату, — сказала она.
Губы Олимпиады растянулись в злой усмешке, питаемой нескончаемым раздражением, ее лицо еще более напряглось.
— И я отлично его понимаю. Шлюха для идиота — чудесная пара. Мы не намерены более разлучать вас.
Мать Александра повернулась к стражникам, впервые позволив себе улыбнуться, и Эвридика в тот же миг поняла, почему она делает это так редко. Один из ее передних зубов совсем почернел. Стражники, казалось, оторопело прищурились, прежде чем отсалютовать.
— Ступайте, — приказала Олимпиада. — Отведите ее в брачную опочивальню.
После двух неудачных попыток пленницы встать стражники сами подняли ее на ноги. Они повели Эвридику на задний дворцовый двор. Волоча свои оковы, она протащилась мимо конюшен, откуда доносилось ржание лошадей, так мягко и дружелюбно носивших ее на своих спинах. Псарня, где держали гончих, с которыми она охотилась, встретила приближение тяжелых шаркающих шагов заливистым угрожающим лаем. Конвоиры не подгоняли отягощенную цепями девушку. Они шли, неловко приноравливаясь к ее черепашьему ходу, и даже, когда она споткнулась на дорожной выбоине, один из них поддержал ее под руку, не дав упасть. Но они не смотрели на нее и даже не переговаривались друг с другом.
«Сегодня, завтра или в ближайшем будущем, — подумала она, — какая разница?»
Ей стало чудиться, что смерть уже вошла в ее тело, неотвратимая, как неисцелимый недуг.
Впереди показалась неказистая постройка с приземистыми каменными стенами и островерхой соломенной крышей. Оттуда отвратительно пахло. «Отхожее место, — подумала Эвридика, — а может, свинарник». Солдаты подтолкнули ее к необструганной двери. Изнутри доносились сдавленные рыдания.
Стражники оттянули в сторону тяжелый засов. Один из них, прищурившись, попытался разглядеть что-то в зловонном сумраке.
— Вот, получай свою женушку.
Рыдания прекратились. Отступив от входа, стражник подождал, надеясь, что пленнице не понадобится особого приглашения в виде тычка. Эвридика, согнувшись, вступила под низкую притолоку, почти смыкавшуюся с уходящей вверх крышей: стебли соломы тут же застряли у нее в волосах. Дверь за ней закрылась, и засов вошел в паз.
— О, Эвридика! Я буду хорошо себя вести! Я обещаю, что буду всех слушаться. Пожалуйста, скажи им, чтобы меня выпустили отсюда.
В квадратике света, падающего из маленького окошка, сидел, привалившись боком к стене, закованный в цепи Филипп. Блестящие белки его глаз четко выделялись на грязном, заплаканном лице. Умоляюще всхлипывая, он протянул к ней руки. Запястья были стерты до крови.
Всю меблировку узилища составляла единственная деревянная скамья, постелью служила соломенная, как в конюшне, подстилка. В глубине темнела небольшая яма с жужжащими над ней огромными синими мухами.
Эвридика продвинулась дальше, туда, где смогла выпрямиться в полный рост, и тогда Филипп увидел ее кандалы. Муж вновь заплакал, размазывая по лицу бегущие из носа сопли. Запах его давно немытого тела вызвал у нее тошноту, он перебил даже вонь экскрементов. Невольно она попятилась, но голова ее вновь уперлась в скат крыши, и ей пришлось опуститься на грязный пол.
— Пожалуйста, ну пожалуйста, Эвридика, не разрешай им больше бить меня.
Только тут она поняла, почему Филипп сидит боком, не опираясь на стену спиной. На его прилипшем к плечам хитоне темнели полосы запекшейся крови. Когда она подползла ближе, он заорал:
— Только не трогай, там все болит!
Куча мух ползала по желтоватым от гноя бороздкам.
Сглотнув подступивший к горлу комок, она спросила:
— За что тебя били?
Он всхлипнул:
— Я набросился на них с кулаками, когда они убивали Конона.
Ей стало ужасно стыдно. Громыхнув цепью, она закрыла руками лицо.
Филипп заворочался, почесал бок. Эвридика вдруг осознала, что вокруг нее все кишит насекомыми.
— Мне нельзя было становиться царем, — вздохнул он. — Александр говорил, что нельзя. Он говорил, что тогда кто-нибудь убьет меня. Они хотят меня убить?
— Не знаю.
Стыдясь себя и понимая, что именно из-за нее он попал сюда, она не могла лишить его надежды.
— Возможно, нас еще спасут. Ты помнишь Кассандра? Он не помог нам в этой войне, но теперь Олимпиада казнила его брата и всех его родственников. Он станет мстить ей. И если победит, то освободит нас.
Эвридика вскарабкалась на скамью, с облегчением положила на колени ноющие от тяжести оков руки и, заглянув в низкое оконце, увидела клочок неба, местами занавешенного листвой растущего вдалеке деревца. Мимо пролетели чайки, покинувшие приволье лагуны ради кормежки на куче отбросов.
Филипп грустно попросил у нее разрешения воспользоваться отхожим местом. Когда необходимость вынудила пойти туда и ее, мухи разлетелись, и она увидела под собой слой шевелящихся личинок.
Время тянулось медленно. Вдруг Филипп оживился и выпрямился.
— Несут ужин, — сказал он, облизнув губы.
Видно, не только убожество обстановки мучило его тут, но и голод. За эти дни он успел основательно похудеть и теперь встрепенулся, услышав приближающееся размеренное посвистывание.
Грязная рука с обломанными ногтями появилась в окне, а с ней долгожданный кусок черного хлеба, с которого стекал жир. Следом появился второй кусок и глиняный кувшин с водой. Лица тюремщика не было видно, мелькнул лишь конец жесткой черной как смоль бороды.
Филипп схватил свой ломоть и впился в него зубами, точно изголодавшийся пес. Эвридике казалось, что она уже больше никогда и ничего не сможет проглотить; правда, конвойные накормили ее нынешним утром. Не было нужды спрашивать, часто ли приносят еду. Она сказала:
— Сегодня ты можешь съесть и мой кусок, а я поем завтра.
Он посмотрел на нее, лицо его засветилось от счастья.
— О, Эвридика! Я ужасно рад, что теперь ты со мной.
Поев, Филипп пустился путано излагать историю своего пленения, но страдания помрачили его и так слабый разум, а потому зачастую он бормотал что-то невразумительное. Она слушала без интереса. Снаружи доносились обычные вечерние звуки, отдаленные и приглушенные, подобные тем, что проникают в комнату не встающего с постели больного: мычание коров и ржание лошадей, вторящих им из конюшен, лай собак, довольные возгласы закончивших работу тружеников, перекличка сменяющихся караульных. Колеса какой-то тяжело нагруженной телеги громыхнули совсем близко, слышно было даже, как натужно сопят волы и как возчик, сердито ругаясь, охаживает их кнутом. Телега не проехала мимо, а со скрипом остановилась и с грохотом вывалила свой груз. Слух Эвридики притупился, и, осознавая, что силы ее на исходе, она вспомнила о кишащих на полу паразитах и привалилась к стене, впав в настороженное забытье.
Шаги приблизились. «Неужели конец?» — подумала она. Филипп похрапывал, растянувшись во весь рост на соломе. Она ждала, когда скрипнет засов. Но послышались лишь глухие голоса мужчин, выполняющих какую-то непростую работу. Она крикнула:
— Что происходит? Что вам нужно?
Голоса стихли. Потом, словно по какому-то тайному знаку, странная деятельность за дверью возобновилась. Оттуда доносились какие-то ритмичные удары, шлепки и похлопывания.
Эвридика подошла к оконцу, но из него ничего не было видно, кроме невесть откуда взявшейся груды грубо отесанных камней. От усталости она медленно соображала, но внезапно с удивительной ясностью поняла, что означают странные звуки. Это были шлепки связывающего кладку раствора и скрежет строительного мастерка.
* * *
Кассандр, все еще находящйся на туманном плоскогорье Аркадии, прогуливался вдоль осадной линии своих войск. Толстые замшелые стены Тегеи, сложенные из плотного кирпича, дрогнули бы, пожалуй, лишь под ударами тарана, способного дробить камень. Горожане, легко утолявшие жажду водой из неиссякаемого родника, могли очень долго отсиживаться за ними. Как же тоскливо дожидаться, когда их начнет мучить голод. Кассандр уже посылал к ним послов, но тем гордо ответили, что город находится под покровительством самой Афины, еще в древности пообещавшей через оракула, что Тегею силой оружия никогда не возьмут. Сын Антипатpa был исполнен решимости заставить Афину взять свои слова назад.
Он не спешил встретиться с курьером из Македонии: наверняка тот прибыл с очередным призывом от Эвридики. Потом, подойдя поближе, Кассандр узнал гонца и, догадавшись, что случилось нечто ужасное, быстро пригласил его в свою палатку.
Новости привез слуга, спасшийся от расправы. К рассказу о муках казненных Антипатридов, он добавил, что Олимпиада приказала разрушить гробницу брата Кассандра Иоллы, акости егобросить на съедение диким животным, заявив, что тот отравил в Вавилоне ее сына.
Кассандр, выслушавший все в суровом молчании, вскочил со стула. Оплакать родных можно будет и позже, сейчас же его душили два чувства: жгучая ненависть и дикая ярость.
— Проклятая волчица! Горгона! Как вообще ей позволили войти в Македонию? Мой отец до последнего вздоха убеждал всех, что этого делать нельзя. Почему они не убили ее на границе?
Вестник произнес лишенным выражения голосом:
— Они не захотели сражаться с матерью Александра.
На мгновение Кассандру показалось, что его голова вот-вот лопнет. Слуга с тревогой воззрился на его вытаращенные глаза. Осознав это, Кассандр взял себя в руки.
— Ступай отдохни, поешь. Мы поговорим еще… позже.
Всадник удалился. В конце концов, ничего удивительного, что человек так расстроился из-за массовой казни всех своих родных.
Придя в себя, Кассандр отправил послов на переговоры с тегейцами. Он избавлял их от вассальной зависимости при условии, что те не будут помогать его врагам. После обмена спасающими престиж обеих сторон фразами осада была снята, и процессия горожан направилась к старому деревянному храму Афины, дабы достойно отблагодарить ее за исполнение своего давнего обещания.
* * *
За замурованной наглухо дверью время тянулось медленно. Подобно вялотекущей смертельной болезни, оно день за днем понемногу усугубляло положение несчастных узников. Неуклонно плодились мухи, блохи и вши, все пуще гноились раны, плоть все слабела, а голод грыз все сильнее. Но хлеб и вода ежедневно появлялись в оконце.
Поначалу Эвридика еще вела счет дням, делая галькой черточки на стене. По прошествии семи или восьми суток, она забыла поставить очередную черточку, сбилась со счета и отказалась от пустой траты сил. Дочь Кинны предпочла погрузиться в полнейшую апатию, прерываемую лишь попытками дать отпор насекомым, с которыми Филипп уже почти свыкся.
Его ум не был способен к масштабной оценке происходящего, что позволяло ему не впасть в отчаяние. Он жил одним днем. Часто, например, выражал свое недовольство приносившему еду человеку, и тот иногда отвечал, причем не с издевкой, а мрачно, как несправедливо обвиненный слуга, объясняя, что он лишь выполняет приказы. Эвридика считала неприемлемым для себя вступать в подобные разговоры, тюремщик же стал постепенно выказывать все большую склонность к общению, порой заключая беседу присловьями о непредсказуемых поворотах судьбы. Однажды он даже спросил Филиппа, как там его жена. Филипп, взглянув на Эвридику, ответил:
— Она не велит говорить.
Проводя половину дня в полудреме, Эвридика не могла уснуть ночью. Филипп громко храпел, а ее наряду с паразитами терзали черные мысли. Однажды утром, когда они оба уже бодрствовали с подведенными от голода животами, она сказала ему:
— Филипп, я заявила о твоих правах на трон. Но на деле хотела править сама. Моя вина в том, что тебя заперли здесь, моя вина, что тебя били. Ты можешь убить меня? Я не возражаю. Если хочешь, я подскажу тебе, как сделать это.
Но он только захныкал как большой ребенок:
— Это солдаты во всем виноваты, они меня выбрали. Александр говорил, что мне нельзя быть царем.
Она задумалась. «Мне нужно просто отдавать ему хлеб. Он возьмет с радостью, если я сама предложу, хотя и не хочет меня лишиться. Тогда я, конечно, умру быстрее». Но когда подошло время кормежки, она не смогла превозмочь голод и съела свою долю. С удивлением она осознала, что кусок хлеба стал больше. На следующий день он стал еще больше, хлеба уже хватило на то, чтобы отложить часть его на скромный завтрак.
Наряду с этим сделались громче голоса караульных. Раньше солдатам, должно быть, приказывали держаться от темницы подальше: агитаторские способности узницы были прекрасно известны. Их приходы и уходы определяли только границы временных интервалов. Но дисциплина явно ослабла, стражи теперь свободно болтали и сплетничали; вероятно, им надоело всерьез охранять замурованный хлев. Потом как-то ночью, когда Эвридика лежала, глядя через оконное отверстие на единственную звезду, раздались тихие шаги, звякнул металл, скрипнула кожа. Отверстие на миг потемнело, и на подоконнике появились два яблока. Даже один их запах казался божественно вкусным.
После этого там каждую ночь стало появляться какое-то угощение. Стражники уже почти не таились, словно начальство смотрело на это сквозь пальцы. Никто из них не задерживался намеренно, чтобы поговорить прямо возле окна, такая расхлябанность безусловно могла привести и на виселицу, но часовые обменивались мнениями так громко, будто хотели, чтобы их услышали. «Ничего не поделаешь, мы люди служивые и лишь выполняем приказы, нравится это нам или нет». «Мятежники они ил и не мятежники, но всему есть предел». «Чрезмерное высокомерие богам не по нраву». «Дауж, и, судя по всему, их терпению скоро придет конец».
Хорошо разбиравшаяся в оттенках людских настроений Эвридика чувствовала, что за этими словами скрывается что-то важное. Эти солдаты не были заговорщиками, они просто судачили о том о сем, как любые уличные прохожие. Она подумала: «Видно, не только мы стали жертвами этой мегеры. Похоже, ее действия возмущают многих. А что, интересно, они имели в виду, сказав, что терпение богов скоро закончится? Возможно, Кассандр уже идет на север…»
Ночью им принесли фиги, сыр и кувшин разбавленного вина. Здоровая пища прогнала остатки апатии. Эвридика понемногу начала грезить об освобождении, о македонцах, с жалостью взирающих на их мерзостное узилище и требующих расплаты, о дне триумфа, когда она, умытая, одетая и коронованная, вновь займет трон.
* * *
Внезапный уход Кассандра на север вызвал некоторое смущение. Его покинутым на Пелопоннесе союзникам предстояло одним противостоять македонцам, возглавляемым сыном Полиперхона. Когда отчаянные курьеры догнали марширующие колонны, Кассандр только сказал, что у него появилось неотложное дело.
Демократично настроенные жители Этолии заняли оборонительную позицию на перевале у Фермопил. Кассандр не нашел в этом вызове ничего романтичного. Более практичный, чем Ксеркс, он силой прибрал к рукам все, что сновало туда-сюда по оживленному проливу, отделявшему остров Эвбея от материка, и обошел по морю опасный горный проход.
В Фессалии его дожидался сам Полиперхон, по-прежнему преданный отпрыску Александра, несмотря на кровавое самовластие Олимпиады. Но Кассандр опять уклонился от битвы. Оставив часть своих войск сдерживать Полиперхона, он упорно вел основные силы на северо-восток и, обогнув громаду Олимпа, вскоре подошел к Македонии.
Перед ним высилась береговая крепость Диона. Через послов Кассандр пообещал начальнику гарнизона покончить с женским неправедным самоуправством и вернуть страну в русло древних традиций. После краткого секретного совещания ворота крепости распахнулись. Там Кассандр обосновался со всей обстоятельностью, начал устраивать приемы, благосклонно выслушивая всех, кто предлагал ему поддержку или сообщал полезные сведения. Многочисленные родственники жертв Олимпиады, как и уцелевшие от расправы солдаты, предпочли присоединиться к нему, исполненные обиды и требующие возмездия. Но и недавние противники мало-помалу превращались в его сторонников. Они говорили теперь, что никому, кроме Александра, не по силам обуздать нрав этой женщины. Эти тайные союзники, вернувшись в Пеллу, распространяли слухи о замечательных планах Кассандра и о его справедливом намерении стать регентом сына Роксаны.
Однажды он сподобился спросить у одного из таких посетителей:
— А когда они схватили дочь Аминты, как она умерла?
Лицо собеседника прояснилось.
— По крайней мере, у меня есть для тебя одна добрая новость. Когда я уходил, она была еще жива, и Филипп тоже. С ними обращаются ужасно, замуровали в мерзком свинарнике, народ возмущен. Как я уже сказал, условия, в каких они находятся, столь жуткие, что даже охранники прониклись к ним жалостью и стали понемногу облегчать им участь. Если ты поспешишь, то еще сможешь спасти их.
Лицо Кассандра на мгновение застыло.
— Какое унижение! — воскликнул он. — Олимпиаде следовало бы более обходительно обращаться со своей удачей. Но смогут ли они продержаться так долго?
— Можешь рассчитывать на это, Кассандр. Я потолковал с одним из их стражей.
— Спасибо тебе за добрые вести. — Не вставая с кресла, Кассандр подался вперед и произнес с неожиданным воодушевлением: — Пусть все узнают, что я намерен восстановить справедливость. Царственным узникам вернут все титулы и все звания. Что же касается Олимпиады, то я передам эту особу в руки царицы Эвридики, чтобы та наказала ее, как сочтет нужным. Так и передай людям.
— С удовольствием передам, все обрадуются, услышав твои заверения. Если удастся, я даже пошлю весточку и в темницу. Пусть царь и царица вздохнут с облегчением, узнав наконец, что у них появилась надежда.
Он удалился с сознанием важности своей миссии. А Кассандр созвал военный совет и сообщил, что выступление откладывается на несколько дней. Надо дать время нашим друзьям, пояснил он, собрать побольше сторонников.
* * *
Через три дня Эвридика сказала:
— Какое-то странное затишье! Не слышно даже болтовни караульных.
Первые рассветные лучи заглянули в низкое оконце. Ночь выдалась холодная, и мухи пока не проснулись. Узники хорошо подкрепились тем, что принесла им ночная стража. Охранники, как обычно, сменились перед рассветом, но смена произошла совсем тихо, и сейчас в темницу не доходило ни звука, свидетельствующего о чьем-то присутствии. Неужели эти добрые малые, взбунтовавшись, бросили пост? Или их призвали на защиту городских стен, что могло означать лишь одно — наступление войск Кассандра.
Она сказала Филиппу:
— Скоро нас освободят, я чувствую это.
Почесав в паху, он спросил:
— И тогда я смогу вымыться?
— Да, мы примем ванну, переоденемся во все чистое и наконец-то по-человечески выспимся.
— А мне вернут мои камушки?
— Конечно, твоя коллекция даже пополнится.
Зачастую в их тесном узилище Эвридика едва могла выносить соседство своего царственного супруга. Его вид, его запах вызывали неодолимое отвращение. Ее раздражало, как он ест, как отрыгивает, как справляет нужду. Она с удовольствием поменяла бы его на собаку, но все-таки сознавала, что ей следует быть терпимой к нему. Нужно собрать в кулак всю свою выдержку, если она намерена вновь пристойным образом вернуть себе власть. Поэтому она редко ругала его, а когда ругала, то потом сама же и утешала. Он никогда не дулся на нее долго, всегда все ей прощал или, возможно, просто забывал об обидах.
— Когда же нас выпустят?
— Как только победит Кассандр.
— Слышишь? Кто-то идет.
И верно, послышались шаги. Судя по звукам, подошли три или четыре человека. Они стояли у двери, но их не было видно через отдушину, заменявшую в этой каморке окно. Из тихого разговора Эвридика не смогла понять ни слова. Потом внезапно раздался звон, не узнать который было уже невозможно. Кто-то бил киркой по стене, закупорившей вход.
— Филипп! — воскликнула она. — Нас освобождают!
С радостным детским лепетом он крутился у оконца, тщетно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Эвридика стояла под сходящейся вверху кровлей, слушая, как отлетают куски застывшего раствора и с глухим стуком падают на землю камни. Разрушение шло быстро; стену складывали кое-как, работа явно была каменщикам не в радость. Она спросила:
— Вас прислал Кассандр?
Звон кирок стих, потом звучный голос с иноземным акцентом ответил:
— Да, Кассан.
Но Эвридика не была уверена, правильно ли ее поняли. Следующие, обращенные к напарникам слова иноземца были произнесены на чужом языке, и тогда ей стало ясно, откуда освободители родом.
— Они фракийцы, — сказала она Филиппу. — Этих рабов послали разрушить стену. Когда они закончат, кто-нибудь придет отпереть дверь.
Настроение Филиппа заметно ухудшилось. Он отступил от двери и попятился к выгребной яме. Рабы всегда обижали его. Вплоть до тех пор, пока их не сменил благожелательный Конон.
— Не разрешай им входить.
Она принялась его успокаивать и вдруг услышала донесшийся снаружи хохот.
Эвридика застыла. Почтительные и сдержанные рабы так не смеются. Мурашки пробежали по ее телу, когда она распознала природу их смеха.
Наконец упал последний камень. С двери сняли засов, она со скрипом отворилась, и в узилище хлынул ослепительный солнечный свет.
На пороге, вглядываясь в темноту помещения, стояли четыре фракийца.
Вдруг разом закашлявшись и отшатнувшись, они зажали руками рты и носы. Взращенные в горных селениях, где все нечистоты сбрасываются в глубочайшие пропасти, эти люди привыкли к чистейшему воздуху, вонь ввергла их в ступор. Заминка была очень короткой, но вполне достаточной, чтобы Эвридика увидела воинские татуировки на лицах, бронзовые нагрудники с серебряной гравировкой, плащи дикарских расцветок и кинжалы в руках.
С тошнотворной брезгливостью Эвридика подумала: «Македонцы не согласились бы на такое». Она стояла по-прежнему прямо в центре темницы.
К ней уверенно двинулся главный фракиец. Свободную руку его обвивал браслет в виде свернутой тремя кольцами змейки, надколенники ножных лат украшали чеканные женские лица. Синие грубо наколотые спирали, сползая со лба и со щек, прятались в темно-рыжей густой бороде, поэтому выражение его лица было непостижимым.
— Что ж, убей меня! — крикнула она, вскидывая голову. — Потом будешь хвастать, что убил царицу.
Дикарь вытянул вперед руку — не правую с кинжалом, а левую с бронзовой змейкой — и оттолкнул ее в сторону. Потеряв равновесие, она упала.
— Ты, подлый раб, не смей бить мою жену!
Прятавшийся в тени за отхожим местом Филипп взметнулся в воздух и набросился на обидчика. Удар головой в грудь застиг фракийца врасплох, у него перехватило дыхание. Филипп дрался, как разъяренная обезьяна, царапаясь и кусаясь в борьбе за кинжал. Он впился зубами в запястье фракийца, но тут остальные кинулись к рассвирепевшему силачу.
Их клинки быстро сделали свое дело, но Эвридика видела, что Филипп еще жив. Он и упавший пытался драться, в своих предсмертных мучительных криках призывая на помощь Конона, потом хрипло закашлялся, его голова откинулась, рот открылся, и руки, судорожно цеплявшиеся за земляной пол, замерли. Один из фракийцев пнул буяна сапогом, но Филипп уже не подавал признаков жизни.
Убийцы переглянулись друг с другом как люди, выполнившие ответственное поручение.
Эвридика стояла на коленях, опираясь на локти. Чей-то сапог отдавил ей лодыжку… сможет ли она потом двинуть этой ногой? Поглядывая на застывшее тело, фракийцы осмотрели свои боевые отметины — в основном царапины и укусы. Она уловила в непонятном говоре варваров восхищенные нотки: как-никак их поранил сам царь.
Поймав краем глаза движение за спиной, они обернулись и глянули на нее. Один дикарь рассмеялся. Новая волна ужаса охватила ее: до сих пор она думала только об их кинжалах.
На округлой масляной физиономии дикаря, обрамленной жиденькой бороденкой, блуждала похотливая улыбочка. Он решительно шагнул к Эвридике. Тут командир в ножных латах бросил презрительно какую-то фразу, и круглолицый с отвращением махнул рукой, очевидно, осознав, что легко найдет себе что-нибудь получше этой вонючей узницы. Поглядев на свои окровавленные клинки, убийцы вытерли их о хитон Филиппа. Один из них, откинув подол, обнажил пах убитого; командир, осуждающе глянув на него, поправил одежду. Фракийцы вдруг заспешили. Один за другим они выбрались на свежий воздух и пошли прочь, спотыкаясь о разбросанные вокруг камни.
Пошатываясь, Эвридика поднялась с пола. Потрясенная произошедшим, она пребывала в каком-то дрожащем оцепенении. С того момента, как взломали кладку, прошла, вероятно, всего пара минут.
Лучи ясного утреннего солнца проникали через дверной проем, освещая засохшие экскременты и свежую алую кровь, пятнавшую платье убитого. Эвридика прищурилась от непривычно яркого света. Но тут небо загородили две темные фигуры.
У двери стояли безоружные македонцы; второй, видимо, находился в подчинении у первого, он топтался сзади с каким-то свертком. Начальник, коренастый мужчина лет сорока в приличном коричневом хитоне и наброшенном на плечи плаще, шагнул через порог. Обозрев молча место событий, вошедший неодобрительно прищелкнул языком. Повернувшись к помощнику, он сказал:
— Устроили тут настоящую бойню. Позор!
Войдя в темницу, мужчина встал перед измученной, сплошь покрытой грязью — от свалявшихся в паклю волос и до пяток — узницей и, явно не собираясь, подобно всяческой мелкой сошке, набивать себе вес, произнес скорее безжизненно, чем высокопарно:
— Эвридика, дочь Аминты! Я лишь выполняю приказ, не держи на меня зла перед богами. Выслушай, что передает тебе Олимпиада, царица Македонии. Поскольку твой отец был рожден законно в царской семье, она не намерена унижать тебя казнью, как твоего мужа, рожденного от побочной жены. Она дает тебе право самой выбрать, как закончить свою жизнь, и предлагает на выбор ряд возможностей.
Вперед выступил второй мужчина и поискал взглядом, куда бы положить свою ношу. Он явно растерялся, не обнаружив ничего похоженно на стол, и в итоге развернул сверток прямо на земле, подобно бродячему торговцу, демонстрирующему свои товары. Там были изящный кинжал, закупоренная склянка и прочная льняная веревка с подвижной петлей.
В полном молчании Эвридика все это рассмотрела и повернула голову к мертвецу. Если бы она приняла участие в схватке, то все, наверное, было бы уже кончено и для нее. Опустившись на колени, она взяла в руку флакон. Говорят, что настой из афинского болиголова убивает незаметно и безболезненно. Но зелье готовила Олимпиада. Никто не может сказать, насколько долгой и мучительной будет агония. Кинжал был острым, но девушка понимала, что слишком ослабела и не в силах покончить с собой одним точным ударом. Что же они потом будут делать с ней полумертвой? Эвридика провела пальцами по веревке. Она была гладкой, хорошо скрученной, чистой. Подняв глаза к скатам кровли, сходившимся на высоте восьми футов, она сказала:
— Я предпочитаю петлю.
Мужчина по-деловому кивнул ей.
— Хороший выбор, госпожа, и легкий конец. Мы сумеем быстро закрепить ее, я вижу, у вас тут имеется и скамейка.
Когда подручный взгромоздился на скамейку, Эвридика заметила, что в поперечную балку под крышей вбит железный крюк, на какие обычно вешают разные снасти или упряжь. Да, им не придется долго терпеть эту вонь.
«Неужели все? — подумала она. — Неужели все вот так просто закончится?» Не будет никакого ритуала; ей приходилось видеть, как вешают приговоренных. Она глянула на Филиппа, брошенного, как забитое животное. Нет, в конце концов, у нее осталось одно дело. Надо отдать последний долг. Филипп был царем и ее мужем, он сделал ее царицей, он сражался и погиб за нее. Когда палач, закончив приготовления, сошел со скамьи, она сказала:
— Вам придется немного подождать.
На окне еще стоял нетронутый кувшин с разбавленным вином, оставленный там ночной стражей. Опустившись на колени, она смочила вином подол своего хитона, старательно промыла раны покойного и обтерла лицо. Выпрямив ноги мужа, Эвридика положила его левую руку на недвижную грудь, а правую вытянула вдоль тела, потом закрыла ему глаза и рот, пригладила волосы. Смерть придала Филиппу вид серьезного привлекательного мужчины. Ей показалось, что и палачи смотрят теперь на мертвого с возросшим почтением; по крайней мере, хоть что-то она сделала для него. Собрав с пола горсть земли, Эвридика, как и положено, посыпала ею усопшего, чтобы он мог спокойно переправиться через реку.
«Еще одно, — подумала она. — Кое-что надо сделать и для себя». Недаром в ее жилах течет кровь воинственных македонских царей и вождей Иллирии. У нее появилась причина для личной кровной вражды, и если сама она не в состоянии отомстить, то за нее это должны сделать более могущественные силы. Эвридика поднялась с пола и, гордо выпрямившись, простерла руки ладонями вниз — к вытоптанной и залитой кровью земле.
— О боги подземного мира! — громко воскликнула девушка. — Вы видите, какие дары я получила от Олимпиады. Я взываю к вам, воды Стикса, взываю к могуществу Гадеса и заклинаю вас во имя того, что потеряно мной, одарить виновницу в свой черед тем же. — Повернувшись к стражникам, она сказала: — Я готова.
Эвридика, не дрогнув, сама вытолкнула скамейку из-под своих ног, не дав возможности палачам поработать. Те не раз видели, как это делают сильные духом мужчины, и в итоге сочли, что узница проявила отменное мужество, более чем достойное своих предков. Когда же им показалось, что последние мучения жертвы длятся дольше, чем нужно, они потянули ее вниз за ноги, чтобы потуже затянуть петлю и помочь ей поскорее умереть.
* * *
Олимпиада призвала своих советников для отправления важных дел.
Теперь у нее осталось мало верных и преданных ей лично людей. В число ее сторонников входили, например, те, кто стремился отомстить Антипатридам, но многие из них уже поняли, что они, в свою очередь, дали повод для мести Кассандру, остальные, как она догадывалась, хранили верность только сыну Александра. Царица сидела за тем же самым великолепным, украшенным позолотой каменным столом, за которым когда-то в молодости сиживал ее муж Филипп. Те давние времена гражданских войн еще могли помнить шестидесятилетние македонцы, а семидесятилетним даже доводилось участвовать в этой кровавой неразберихе. Собственно, созвав совет, Олимпиада не нуждалась ни в чьих советах. Предпочитала диктовать свою волю. Сидевшие перед ней пожилые сановники и командиры не имели ни малейшего шанса пробить брешь в ее царственной замкнутости.
Она сообщила им, что не намерена спокойно сидеть в Пелле, пока мятежники и предатели осаждают македонские крепости. Вскоре она выступит на юг в Пидну; от этого города рукой подать до Диона, где имел наглость обосноваться Кассандр. Портовая крепость Пидны хорошо укреплена, и оттуда будет удобно руководить военными действиями.
Воины одобрили ее планы. Им вспомнилась бескровная победа на западе.
— Отлично, — сказала Олимпиада. — Через два дня я переезжаю в Пидну. Вместе с двором.
Лица воинов омрачились. Такого они совершенно не ожидали. Это означало, что толпы женщин, слуг и прочих гражданских лиц сядут на головы пехотинцам и всех их к тому же придется чем-то кормить. Никому не хотелось возражать ей, но после значительной паузы они все-таки осмелились высказать свои соображения.
С невозмутимым видом она заявила:
— Это все ненадолго. Зато союзники смогут присоединяться к нам с моря, не неся потерь от сражений, какими чреваты переходы по суше. Мы сразимся с Кассандром, когда соберем все силы в кулак. Полиперхон тоже вот-вот подойдет к нам.
Агенор, опытный, прошедший Азию командир, назначенный главнокомандующим, прочистил горло и сказал:
— Никто не сомневается в преданности Полиперхона. Но говорят, что из-за дезертирства ряды его армии нешуточно поредели. — Полководец помедлил; все с интересом ждали, осмелится ли он продолжить. — И как всем известно, мы не можем ждать никакой помощи из Эпира.
Она застыла в своем отделанном слоновой костью кресле. Войско Эпира, дойдя до границы, взбунтовалось, и солдаты разошлись по домам, не пожелав воевать в Македонии. С Олимпиадой осталась только горстка преданных молоссиан. Два дня она просидела в одиночестве, залечивая уязвленную гордость, а тайные союзники Кассандра тем временем переманили и тех на свою сторону. Не всех, правда, но большинство. Советники хмуро поглядывали на Агенора; они заметили, как посуровело лицо царицы.
Волевая маска слегка дрогнула, полыхнув непреклонным и угрожающим взглядом. Олимпиада сказала:
— Весь двор переезжает в Пидну. Заседание окончено.
Переглядываясь друг с другом советники покинули зал и лишь на улице решились нарушить молчание. Агенор проворчал:
— Пусть делает что хочет. Но ей придется сдаться еще до зимы.
* * *
Командир, оставленный Кассандром сдерживать Полиперхона, прислал хорошие вести. Упорно избегая открытой войны, он внедрил в лагерь противника своих людей, имевших там роственников или друзей. Неустанно твердя всем и каждому, что чужеземка и узурпаторша Олимпиада пролила кровь македонских царей, они предлагали премию в пятьдесят драхм любому порядочному македонцу, готовому перейти на сторону Кассандра. С каждым днем число солдат в армии Полиперхона неумолимо сокращалось, с остатками преданных воинов он уже думал только об обороне, не помышляя о чем-либо другом, и в конце концов заперся в лучшей из ближайших горных крепостей, где его люди в ожидании развития событий начали чинить стены и запасать провизию.
Местные жители давно собрали урожаи зерновых и оливок и, отжав виноград, пополнили погреба запасами молодого вина, а женщины отправились в горы, дабы воздать должное Дионису. В предрассветной тьме пронзительные вопли вакханок перекликались с петушиными криками. С крепостных стен Пидны дозорные, обозревая морские дали, отметили лишь, что первые осенние ветры уже взрябили водную гладь. Никаких кораблей на горизонте так и не появилось, кроме последних рыболовецких судов, спешивших в родной порт.
До начала первых штормов Кассандр спустился с перевала, находившегося теперь в его владении, и обнес Пидну осадным частоколом.
В Македонию пришла весна. Правда, вершины Олимпа были еще по-зимнему белыми под бледно-ясным куполом неба, все облака которого собрались вокруг Трона Зевса. Орлы, отринув безжизненную чистоту этих высей, угнездились на нижних утесах, чьи темные силуэты отменно подчеркивали белизну снежных покровов.
А у подножия гор бурно несущиеся вешние воды очищали ущелья и овраги, с громовым грохотом перекатывая по ним валуны. В долине под стенами Пидны теплое солнце отогрело трупы, замерзшие в зимние холода, а с ними и запах мертвечины, вновь привлекший крылатых падальщиков.
Олимпиада, прохаживаясь по крепостной стене, поглядывала за осадную линию на горные пастбища, где сейчас хозяйничали лишь рыси да волки и где сосны, словно пробуждающиеся от спячки медведи, взмахивая пушистыми лапами, сбрасывали снеговые шапки.
316 год до н. э
Ее исхудавшее лицо выглядывало из-под многочисленных накидок. Она прибыла сюда в начале мягкой ласковой осени, решив, что уже через месяц война закончится и Кассандр умрет.
У Александра всегда все выходило именно так, как он решал, и она это знала. Не знала лишь, сколько глубоких раздумий предшествовало принятию этих решений. Сегодня дул пронзительный ветер; чтобы от него защититься, пришлось даже накинуть парадную мантию. Но попытки утеплить себя мало чему помогали. Холод все равно находил дорогу к истощенной ослабленной плоти.
Остальные женщины предпочитали не выходить на улицу, а жались к крошечным домашним жаровням. Дежурившие на бастионах солдаты с изможденными, обтянутыми кожей лицами провожали царицу вялыми взглядами: жизненной силы на более сильное проявление ненависти у них уже не хватало. Целую зиму никто даже не пытался атаковать эти стены, и дно рва сплошь покрывали тела умерших голодной смертью людей. Их сбрасывали туда не в припадке жестокосердия, а по необходимости: в крепости уже не осталось места для захоронений.
Там же во рву валялись и огромные кости слонов. Лошадей и мулов съели в первую очередь, а этих животных придерживали для военных действий; кроме того, никто просто не осмеливался к ним подступиться. В качестве корма им пытались подсунуть опилки, но со временем недовольные стоны гигантов и безнадежный трубный рев стали все чаще прорезать ночную тишину, а потом один за другим они подохли в своих слоновниках, и осажденные еще какое-то время питались тем жестким и жилистым мясом, что даже голод не свел с их мослов. Бесполезных погонщиков сняли с довольствия, и теперь все они также лежали под стенами.
Поначалу в крепости кое-где раздавались крики новорожденных и плач маленьких детей, но и они давно затихли. Юный Александр был уже не так мал, чтобы плакать. Да и Олимпиада заботилась о том, чтобы мальчику давали достаточно пищи. Нельзя же с детства подрывать веру будущего царя в свои силы. Хотя еда была отвратительной, наследник на удивление не терял настроения и даже подбадривал бабку, напоминая ей, что и отец его тоже голодал вместе с воинами. Но частенько Олимпиада невольно погружалась в мир собственных мыслей и ловила себя на том, что вместо этого ребенка видит перед собой того статного высокородного внука, какого могла бы иметь, если бы сын внял ее советам и женился до ухода в Азию. Почему, спрашивала она себя, ну почему же?..
Над выходившими к морю крепостными валами воздух был чище, в нем резче ощущался привкус весенней свежести. Олимпийский горный массив с его заснеженными гребнями манил ее, как вид деревьев манит запертую в клетке птицу. Впервые за сорок лет она не смогла принять участие в осенних Дионисиях, не отвела душу со своими менадами в какой-нибудь глухомани. Простись с этим, все в прошлом, подсказало ей карканье, донесшееся от обгладываемых падалыциками трупов. Она сердито отмахнулась от вздорной мысли.
Совсем скоро начнется навигация, и Эвмен, чья преданность не вызывает сомнений, прибудет сюда из Азии со своими войсками.
На стенах что-то затеялось. Небольшая группа людей, обрастая попутчиками, направилась в ее сторону. В ожидании она отступила от парапета.
Воины подошли и встали, не выказывая возмущения. Мало у кого остались на это силы. Одежды висели на осажденных, как полупустые мешки; некоторые, чтобы не упасть, опирались на плечи друзей. В свои тридцать они выглядели шестидесятилетними стариками, их кожу покрывали цинготные нарывы, многиепотеряли все зубы, а кто-то и волосы. Тот, в ком еще можно было по ряду признаков угадать командира, выступил вперед и произнес, слегка пришепетывая из-за отсутствия передних зубов:
— Почтенная Олимпиада, мы просим тебя разрешить нам покинуть крепость.
Она молча смотрела на них. Вспыхнувший гнев мгновенно потух в глубине ее запавших глаз. Этот слабый старческий голос исходил, казалось, не от человека, а от самой судьбы.
Ободренный ее молчанием воин добавил:
— Если враг пойдет в атаку, то сможет взять нас голыми руками. Стоит ли тратить на нас последние запасы провизии? Ведь в итоге мы все равно присоединимся к тем, что лежат внизу. — Он с усталой сдержанностью кивнул головой в сторону рва. — Избавившись от лишних ртов, более сильные защитники крепости смогут продержаться немного дольше. Ты даешь нам свое разрешение, госпожа?
— Но, — вымолвила она наконец, — люди Кассандра убьют вас без всякой жалости.
— На все воля богов, царица. Сегодня или завтра, какая разница?
— Можете уходить, — сказала Олимпиада.
Командир немного помедлил, молча глядя на нее, а остальные начали расходиться, еле волоча ноги. Она добавила:
— Благодарю вас за верную службу.
Олимпиада сильно замерзла и спустилась со стены, но чуть позже вновь поднялась наверх, чтобы посмотреть, как они уходят.
Сломав нескольких тощих сосенок, что росли в трещинах скальных образований, солдаты вышли из ворот и помахали ветками в знак мирных намерений. Держась друг за друга, они спустились по откосу и потащились по ничейной земле к осадным сооружениям. В стене частокола уже подняли грубый дощатый заслон, осажденные, словно тени, просочились в проем и скученно замерли на вражеской территории. Одинокий часовой в шлеме подошел к ним и, видимо что-то спросив, удалился. Вскоре появились люди с корзинами и большими кувшинами. Олимпиада заметила, что сдавшимся раздали хлеб и вино и тонкие, как палки, руки взлетели в порыве благодарности вверх.
Она вернулась к надвратной башне и, пройдя в свои покои, присела возле едва тлеющего очага. Под ногами бегали деловитые маленькие существа, проложившие тропку к стоявшей рядом корзине. Олимпиада подняла крышку. Полчища муравьев пожирали сдохшую змею. Это была последняя священная змея, привезенная из фракийского святилища Диониса, оракул.
Что же убило ее? Крыс и мышей давно переловили и съели, но рептилия могла жить, питаясь чем-либо более мелким. Например, теми же муравьями. Ей было всего несколько лет. Олимпиада с отвращением взглянула на черный живой ковер и, поежившись, поставила на огонь корзину со всем ее возбужденно копошащимся содержимым.
* * *
Стихли холодные ветры, и воздух стал заметно теплее. Море стало пригодным для плавания, но единственными прибывшими парусниками оказались военные суда Кассандра. Дневной рацион в крепости сократился до горстки еды, когда Олимпиада отправила послов на переговоры.
С крепостной стены было видно, как они вошли в палатку. Рядом с Олимпиадой стояла приемная дочь Фессалоника, доставшаяся ей в наследство от одной из походных жен Филиппа. Мать Фессалоники умерла во время родов, и Олимпиада терпела падчерицу во дворце, поскольку та никогда не перечила мачехе, в любых ситуациях оставаясь приветливой, тихой. Приживалке уже исполнилось тридцать пять; высокая и некрасивая, она держалась, однако, вполне достойно. Она не посмела признаться Олимпиаде, что в Пелле получила предложение от Кассандра, и просто поехала со всем двором в Пидну, дав понять, что опасается за свою жизнь. И сейчас эта бледная с потускневшими волосами тихоня тоже предпочитала помалкивать, ожидая, чем кончится дело.
Послы вскоре вернулись, слегка ошарашенные тем радушием, каким их встретил вражеский стан. С ними прибыл и посол Кассандра.
Им оказался Дений, старый знакомый Олимпиады, выполнявший когда-то для нее кое-какие секретные поручения. За хорошие денежки, разумеется. Интересно, много ли ее тайн теперь известно Кассандру? Дений вел себя так, словно тех дней никогда не бывало, с вежливым вызовом. Вызывающе в компании осажденных выглядело уже само его румяное и упитанное лицо. Отказавшись от личных переговоров, он заявил, что ему приказано говорить в присутствии всего гарнизона. Не имея выбора, Олимпиада встретилась с ним во дворе, возле плаца, где солдаты обычно тренировались, пока еще имели силы.
— Кассандр, сын Антипатра, приветствует тебя, почтенная Олимпиада. Если твои воины сдадутся ему, то их пощадят, как и тех, кто уже сдался раньше. И ты сама тоже без всяких оговорок должна сдаться на его милость.
Она гордо выпрямилась, превозмогая мучительную боль в одеревеневшей спине.
— Передай Кассандру, пусть выдвинет более приемлемые условия. — Шелестящий вздох пробежал по рядам стоявших внизу воинов. — Когда прибудет Эвмен, твой командир убежит отсюда, как затравленный волк. А до тех пор мы продержимся.
Приподняв брови, Дений изобразил нарочитое удивление.
— Прошу прощения. Я и забыл, что новости к вам не доходят. Не стоит возлагать надежды на мертвеца.
Остатки жизненных сил ушли из нее, словно последние капли вина из треснувшего кувшина. Она удержалась на ногах, но не ответила.
— Эвмена недавно выдали Антигону. Это сделали аргираспиды, которыми он командовал. В удачном сражении Антигон захватил их вещевой обоз. Там находились все военные трофеи аргираспидов, а также их жены и дети. Невозможно даже описать, как много это значило для истомленных войнами ветеранов. Во всяком случае, Антигон заявил, что вернет им добро и семьи в обмен на их командира, и они приняли его условия.
Истощенные солдаты вздрогнули и зароптали. От ужаса, вероятно, от сознания полной неопределенности своего будущего, а может, и от искушения.
Изможденное лицо царицы обрело бледность пергамента. Она была бы рада сейчас опереться на палку, с которой ходила порой по неровным тропинкам крепости, но эта палка осталась в покоях.
— Ты можешь передать Кассандру, что мы откроем ворота без всяких условий, только в обмен на сохранение наших жизней.
Ослепляющие круги уже завертелись перед ее глазами, и голову словно сковал ледяной обруч, но Олимпиада все же сумела дойти до своей опочивальни и закрыть дверь. Лишь там она потеряла сознание.
— Прекрасно, — сказал Кассандр, когда Дений вернулся к нему. — Когда осажденные выйдут, надо накормить их и зачислить в ряды нашего войска всех, кто того стоит. Начинайте копать траншею, чтобы похоронить трупы. Старая ведьма со своими придворными пока останется в Пидне.
— А потом? — спросил Дений с притворной небрежностью.
— Потом… посмотрим. Она все-таки мать Александра, что заставляет всех этих простаков трепетать перед ней. Македонцы, разумеется, не потерпят больше ее владычества, но даже теперь… Для начала я припугну ее, а потом предложу судно для бегства в Афины. Кораблекрушения на море не редкость.
* * *
Мертвых закопали, тощие, бледные женщины перебрались из крепости в царский городской особняк. Он был вместительным, чистым; дамы достали из сундуков зеркала, глянули в них и тут же убрали подальше. Подпоясав слишком просторные одежды, они с жадностью накинулись на фрукты и простоквашу. Царевич быстро оправился. Он помнил, что пережил некую памятную осаду и что фракийские лучники в сторожке тайно жарили человечину. Детская жизнестойкость помогла ему воспринять все это как добавление к старым легендам. Кеб, за счет отменной физической крепости неплохо выдержавший испытание, не унимал болтовни подопечного, хуже было бы, если бы тот вдруг сделался молчуном. Все цари Македонии мощью оружия расчищали дорогу на трон; мальчику полезно узнать, что война — это не только парадные шествия под триумфальное пение труб. Вскоре, восстановив силы, они с царевичем смогут вновь приступить к регулярным урокам.
Больше всех изменилась Роксана. Ей исполнилось двадцать шесть лет, однако такой возраст на ее родине считался для женщины весьма почтенным. И в этом мнении она укрепилась, подойдя к зеркалу, что неожиданно добавило ей в своих глазах веса. Она стала в большей степени ощущать себя уже не вдовой покойного государя, но царственной матерью его наследника.
Пелла сдалась по приказу Олимпиады, продиктованному Кассандром, после чего, спрятав гордость в карман, вконец униженная царица послала спросить победителя, может ли она теперь вернуться в свои дворцовые покои. Кассандр ответил, что сейчас не самое подходящее время для возвращения. Сначала следует разобраться с делами.
Олимпиада посиживала у окна и, глядя на западный берег моря, размышляла о своем будущем. Эпир ее более не приемлет. Ей уже шестьдесят, но еще лет десять или даже больше она могла бы воспитывать мальчика и увидеть в итоге, как он взойдет на отцовский трон.
Кассандр устроил в Пелле большой прием. Эпироты заключили с ним союз, и он направил к ним наставника для их малолетнего царя, сына Клеопатры. Похоронив Никанора и восстановив оскверненную гробницу Иоллы, новый властитель Македонии поинтересовался, что сталось с телами так подло убитой царской четы.
Его привели в дальний угол кладбища, где в скромной выложенной кирпичами могиле покоились Филипп и Эвридика, погребенные, как простые селяне. Едва ли можно было теперь разобрать, кто из них женщина, а кто мужчина, но Кассандр велел возложить останки на погребальный костер, заявив, что оба убийства совершены с вопиющими нарушениями македонских законов, и приказал хранить прах убиенных в драгоценных ларцах до тех пор, пока не будет выстроена подобающая гробница. Он хорошо помнил, конечно, что царей Македонии обычно захоранивали их непосредственные преемники.
После чистки, проведенной Олимпиадой, в окрестностях Пеллы появилось много новых могил. Увядшие венки еще висели на надгробных плитах с локонами волос родственников усопших. Те по-прежнему приходили туда с жертвенными корзинами поплакать и погоревать. И Кассандр с завидным упорством начал обходить эти траурные компании, выражая скорбящим свое соболезнование и вопрошая, не пришла ли пора осудить виноватых. Вскоре выяснилось, что пострадавшие требуют созыва собрания с намерением обвинить Олимпиаду в том, что она без суда проливала македонскую кровь.
* * *
Олимпиада ужинала со своим окружением, когда слуга объявил о прибытии человека из Пеллы. Покончив с едой, она выпила кубок вина и спустилась вниз.
Обходительный и вежливый посетитель, судя по говору, был из северных мест; правда, она не узнала его, что, впрочем, не удивительно для того, кто долго отсутствует где-то.
Незнакомец держался как друг, он доверительно сообщил ей о том, что македонцы намерены осудить ее, а потом сказал:
— Я здесь, как ты понимаешь, по просьбе Кассандра. После снятия осады он публично обещал сохранить тебе жизнь. Завтра на рассвете в порту тебя будет ждать корабль.
— Корабль?
Сумерки уже сгустились, а светильники в зале еще не зажгли. Щеки царицы во мраке совсем, казалось, ввалились, но в глубине темных глазниц затепился огонек.
— Корабль? Что ты имеешь в виду?
— Госпожа, у тебя есть добрые друзья в Афинах. Ты ведь поддерживала их демократов. — («Поддерживала, только чтобы досадить Антипатру»). — Там тебя хорошо примут. Пусть собрание осудит тебя заочно. От этого пока никто не умирал.
До сих пор она говорила очень тихо: ей еще не удалось восстановить силы после затяжных изнурительных испытаний. Поэтому громкая отповедь прозвучала весьма впечатляюще.
— Неужели Кассандр думает, что я сбегу от суда македонцев? Разве мой сын поступил бы так?
— Нет, госпожа. Но у Александра не возникало подобного повода.
— Пусть они поглядят мне в глаза! — воскликнула она. — А потом, если захотят, пусть выносят решения. Передай Кассандру: как только он сообщит мне день и час собрания, я прибуду на суд.
Придя в замешательство, посланец пробормотал:
— Разумно ли это? Я же сказал, что часть людей откровенно желает тебе вреда.
— Сообщить ей день? — переспросил Кассандр. — Ну нет, это слишком. Я знаю, как впечатлительны македонцы. Назначим собрание на завтра и скажем, что она отказалась приехать.
— Когда они увидят меня и услышат, тогда мы посмотрим, чего они станут желать.
Пострадавшие появились перед собранием в рваных траурных одеяниях, с заново подстриженными и посыпанными пеплом волосами. Вдовы вели осиротевших детей, старики горевали, что на склоне лет остались без сыновей. Когда объявили, что Олимпиады не будет, никто не вызвался выступить в ее защиту. Довольным шумом македонцы одобрили смертный приговор.
— Пока все хорошо, — заметил потом Кассандр. — Полномочия нам предоставлены. Но для женщины ее склада публичная казнь — как подарок. Ведь тогда у нее будет возможность обратиться к народу, а она уж ее не упустит. Я считаю, что нам нужно что-то придумать.
* * *
В Пидне знатные компаньонки царицы занимались обычными утренними делами. Роксана расшивала затейливыми узорами новый кушак, Фессалоника мыла голову. (По распоряжению Кассандра ей передали, что она может свободно вернуться во дворец. Эту привилегию она восприняла с ужасом и обошла молчанием.) Олимпиада, сидя у окна, читала хроники Каллисфена о деяниях Александра. Их где-то в Бактрии скопировал греческий книгочей и отправил ей с царской почтой. Она уже не раз прочла этот труд, но сегодня вдруг захотела опять проглядеть его.
В коридоре послышались чьи-то шаги. Коротко, но настойчиво постучав, вошел Кеб.
— Прости, госпожа. Там солдаты. Они требуют, чтобы ты вышла к ним. Намерения у них явно не добрые. Я запер двери.
Тут снаружи донеслись сильные удары и лязг оружия, сопровождаемые громкими проклятиями. Прямо с шитьем в руках прибежала Роксана. Следом за ней принеслась Фессалоника.
Закручивая мокрую голову полотенцем, она боязливо спросила:
— Он с ними?
Пришел царевич, решительно бросив:
— Что им здесь нужно?
Рукопись сама собой сползла в сторону. Олимпиада вновь взяла ее и вручила мальчику со словами:
— Александр, сохрани это для меня.
Он принял книгу, одарив бабку серьезным, внимательным взглядом. В дверь колотили все сильнее и сильнее. Олимпиада повернулась к женщинам:
— Все понятно. Ступайте в ваши комнаты. И ты тоже, Кеб. Им нужна я. Предоставьте мне самой разобраться с ними.
Женщины удалились. Кеб помедлил, но царевич взял его за руку. Если уж суждено умереть, то предпочтительнее смерть за царя. Грек поклонился и повел мальчика за собой.
Массивная дверь начинала трещать под ударами. Олимпиада подошла к одежному сундуку, сбросила домашнее платье и облачилась в красную мантию, которую надевала в особо важных случаях. Кушак индийского золотого шитья украшала россыпь рубинов и золотая же бахрома. Она достала из ларца великолепное жемчужное ожерелье, таксильское, присланное Александром, застегнула его и без какой-либо спешки направилась к лестнице, где и встала в ожидании на верхней площадке.
Наконец двери рухнули. Ввалившиеся с улицы солдаты топтались у входа, рассерженно озираясь вокруг. Привычные к грабежам в завоеванных городах воины вытаскивали мечи, намереваясь обыскать дом и обшарить все его тайники, несомненно располагавшиеся приблизительно там же, что и во всех домах мира. Они уже двинулись к лестнице, когда вдруг заметили молчаливую неподвижную фигуру, спокойно взиравшую на них сверху, словно статуя с пьедестала.
Идущие впереди македонцы остановились. Их товарищи, все еще попиравшие выломанные двери, подняли головы и увидели то же, что и они. Возмущенные крики затихли, сменившись жуткой, ввергавшей в дрожь тишиной.
— Вы хотели видеть меня, — сказала Олимпиада. — Вот я перед вами.
* * *
— Вы что, с ума посходили? — потрясенно спросил Кассандр, выслушав вернувшегося офицера. — Неужто она действительно стояла прямо перед вами и вы ничего не сделали? Сбежали, как псы, застигнутые на кухне? Эта старая карга, должно быть, околдовала вас. Что она вам сказала?
Он выбрал неверный тон. Его собеседник насупился, подобрался.
— Она ничего не сказала, Кассандр. А вот солдаты сказали потом, что она опять выглядела как мать Александра. И никто не посмел даже приблизиться к ней.
— Вам, между прочим, было заплачено совсем за другой результат, — резко бросил Кассандр.
— Пока не заплачено, командир. Я сохранил твои деньги. Позволь вернуть их и удалиться.
Кассандр отпустил его. Дело осложнилось, огласки следовало избежать. Позже он позаботится, чтобы этого человека послали туда, откуда не возвращаются, но сейчас нужно срочно спасать положение. Необходимо придумать что-нибудь понадежнее, чтобы не провалиться еще раз. Когда все расставляющая по своим местам мысль пришла ему в голову, она показалась такой простой, что он удивился, как можно было так долго блуждать вокруг да около самого очевидного из решений.
* * *
День клонился к вечеру. В Пидне домочадцы Олимпиады с нетерпением ждали ужина. Не столько потому, что проголодались (их желудки все еще не обрели своих прежних размеров), сколько потому, что трапеза вносила разнообразие в скучное течение захолустной жизни. Наставник читал маленькому Александру о приключениях Одиссея, ту самую главу, где Цирцея превращает спутников героя в свиней. Женщины даже слегка принарядились, соблюдая манерную чинность. Солнце зависло над громадой Олимпа, готовясь нырнуть за нее и погрузить побережье в вечерние сумерки.
Небольшая толпа шла и шла по дороге, оглашая окрестность не топаньем жестких солдатских сапог, но тихим подшаркиванием мягкой обуви, пристойным для похоронных процессий. С подрезанными, всклокоченными и посыпанными пеплом волосами, люди мрачно продвигались вперед в ритуально разорванных развевающихся одеждах.
Освещаемые последними лучами солнца, они подошли к тем же разбитым дверям. Местный плотник кое-как вставил их в дверной проем и временно укрепил на скорую руку. Пока прохожие с удивлением раздумывали, кого это собираются хоронить в такой час, поднявшиеся по ступеням угрюмцы принялись отрывать хлипкие доски.
Олимпиада услышала странный шум. Когда прибежали испуганные слуги, она уже все поняла, будто знала. На сей раз царица не стала переодеваться. Ее взгляд упал на шкатулку, где обычно хранились «Деяния Александра». Хорошо, что книга все еще у царевича. Выйдя на лестницу, она увидела внизу измазанные золой лица, похожие на застывшие трагедийные маски. Олимпиада не стала устраивать фарс, пытаясь склонить к милосердию этих несчастных с безжалостными глазами. Она предпочла спуститься к ним сразу.
Но они не набросились на нее в тот же миг. Каждому хотелось облечь в слова свою муку: «Ты убила моего сына, никому в жизни не сделавшего плохого!», «Твои люди перерезали горло моему брату, смело сражавшемуся в Азии вместе с твоим сыном!», «Ты распяла на кресте моего мужа, и дети видели его позорную смерть!», «Твои люди убили моего отца, а потом изнасиловали сестер!»
Выкрики становились все громче, превращаясь в бессвязный яростный гомон. Теперь эти распалившие себя люди были готовы разорвать виновницу своих бед на куски. Олимпиада повернулась к пожилым мужчинам, более уравновешенным в своей мрачной ожесточенности.
— Неужели и вы считаете, что именно так подобает казнить меня?
Она не пробудила в них жалость, но затронула гордость. Один старец поднял свой посох, призывая к спокойствию, и понемногу оттеснил от царицы толпу.
Наверху в доме заголосили служанки. Фессалоника тихо выла, Роксана дико рыдала. В яростном уличном гвалте бактрийка слышала только шумы чужеземного города, не имевшие лично к ней ни малейшего отношения. Но ей не хотелось, чтобы ее юный сын стал свидетелем ужасной расправы.
Старики урезонили молодежь. Олимпиаду отвели на пустынный клочок побережья, не пригодный для земледелия, где на каменистой почве росли лишь редкие серовато-зеленые колючки и у кромки воды темнели обломки давних кораблекрушений, пригнанные штормами. Люди расступились и встали на равном от нее удалении, как дети, затеявшие круговую игру. Они взглянули на старика, который вызвался огласить приговор.
— Олимпиада, дочь Неоптолема! За убийство македонцев без суда, вопреки нашим обычаям и закону мы предаем тебя смерти.
Она стояла в центре круга с высоко поднятой головой, когда в нее полетели первые камни.
Пошатнувшись от прямых попаданий, царица поспешно опустилась на оба колена, чтобы, вдруг оступившись, не растянуться перед мучителями в жалкой позе. Это сделало ее лучшей мишенью, и вскоре один большой камень угодил ей в надбровье. Олимпиада вдруг осознала, что лежит на земле, глядя в небо. Невероятной красоты облако расцветилось лучами заходящего солнца, уже спрятавшегося за горами. Изображение стало двоиться и расплываться; она почувствовала, как ломаются ее кости под градом новых ударов, но психологический шок притупил ощущения. Она успеет покинуть этот мир до того, как начнется настоящая боль. Олимпиада посмотрела вверх — на расползающееся над Олимпом лучезарное облако — и подумала: «Я принесла в этот мир небесное пламя и прожила славную жизнь». С небес слетела ослепительная молния, и свет померк.
315 год до н. э
Ликей стоял в живописном пригороде Афин близ тенистого берега любимого Сократом Илисоса. Это красивое строение появилось здесь совсем недавно. Гимнасий, где Аристотель основал свою перипатетическую школу, выглядел теперь незатейливым флигельком. Длинный изящный портик с разноцветными коринфскими колоннами дал приют новому философу, проводившему там порой время в дискуссиях со своими учениками. Изнутри доносился легкий запах старых пергаментов, чернил и вощеных табличек.
Все это были дары Кассандра, преподнесенные им через своего выдвиженца на высший в городе пост. Глава школы Теофраст давно мечтал о встрече с благодетелем, и вот долгожданный день настал.
Почетному гостю показали новую библиотеку, где на многочисленных полках хранились и труды Теофраста; он был не особо оригинальным, но плодовитым ученым. Сейчас они вернулись в покои философа — к столам с легкими закусками и вином.
— Я в восторге от собранных тобой материалов, — сказал Кассандр, — и рад, что вы здесь
так усердно изучаете историю. Каждому поколению ученых приходится подчищать в ней ошибки, чтобы ими не заразились молодые умы.
— Глубина исторических экскурсов Аристотеля… — пылко заговорил Теофраст.
Кассандр, уже целый час страдавший от словоохотливости собеседника, вежливо поднял руку.
— Я сам сидел в юности у его ног, когда он преподавал в Македонии.
Ненавистные дни, приправленные желчью враждебности к блестящему, жадно интересующемуся всем на свете кружку, из которого его навсегда вытолкнула собственная завистливость. Кассандр помолчал и многозначительно произнес:
— И все было бы просто прекрасно, если бы главный из учеников нашел лучшее применение своим дарованиям и положению.
Насторожившийся ученый пробормотал что-то о порочности варварских веяний и искушениях, что таит в себе власть.
— Ваш мир понес тяжелую утрату, когда Каллисфен закончил свой земной путь. Блестящий был ученый, я полагаю.
— О да! Аристотель весьма за него опасался, на самом деле он даже предсказывал подобный исход. Некоторые необдуманные письма…
— Я убежден, что бедного Каллисфена несправедливо обвинили в подстрекательстве к цареубийству. Видимо, просто сделались нежеланными его философские воззрения.
— К сожалению, так… Но у нас теперь нет связи ни с кем из тех, кто сопутствовал Александру, а наших сведений далеко не достаточно.
— По крайней мере, — с улыбкой произнес Кассандр, — сейчас у тебя гостит человек, пребывавший при вавилонском дворе в последние недели жизни царя, считавшего себя властителем мира. Если ты любезно пригласишь сюда писца, я поведаю ему о том, что видел своими глазами.
Писец пришел с изрядным запасом табличек. Диктовка проходила в спокойном, не нагнетающем напряжения темпе.
— …но уже задолго до этого в поведении Александра вдруг стала проявляться кичливость, а сам он начал предаваться разврату, предпочтя непомерную в своем чванстве заносчивость персидских царей здравой сдержанности обитателей родной Македонии.
Писцу не придется потом ничего подправлять в изложении, старательно продуманном и затверженном назубок. Теофраст, чья собственная жизнь прошла в ученых трудах, внимал как зачарованный очень выверенным и весьма хлестким высказываниям непосредственного участника великих событий.
— Он заставил своих победоносных полководцев простираться ниц перед его троном. Триста шестьдесят пять наложниц — столько же было у Дария — заполонили его дворец. Не говоря уже о множестве женоподобных евнухов, возбуждающих похоть. Я, пожалуй, не стану подробно останавливаться на еженощных кутежах…
Кассандр продолжал в том же духе довольно долгое время, с удовольствием отмечая, что каждое его слово появляется на вощеной табличке. Наконец писца поблагодарили и отправили переписывать набело свежеиспеченный исторический документ.
— Естественно, — небрежно бросил Кассандр, — бывшие спутники Александра постараются расписать его в совершенно других, более выгодных для них красках, чтобы придать себе веса.
Глава Ликея мудро кивнул; этот осторожный ученый принял к сведению возможность появления сомнительных хроник.
Кассандр, у которого пересохло в горле, с удовольствием потягивал вино. Он, как и облагодетельствованный им философ, с нетерпением ждал этой встречи. Ему никогда не удавалось унизить своего врага при жизни, но наконец-то хотя бы сейчас это произошло. Он сумел-таки приглушить сияние славы, ради которой тот сжег собственную жизнь.
— Я надеюсь, — вежливо сказал на прощание Теофраст, — что твоя жена пребывает в добром здравии.
— О да, Фессалоника теперь вполне может наслаждаться благами этого мира. От своего отца, царя Филиппа, она унаследовала крепкое телосложение.
— А юный царевич? Ему, должно быть, уже лет восемь, пора начинать учебу.
— Пора, пора. И дабы уберечь мальчика от дурных отцовских склонностей, я приучаю его к более строгой жизни. Видимо, древняя традиция взращивания македонских властителей попросту устарела, учитывая, что Александр без какой-либо пользы все отрочество верховодил своими Соратниками, компанией знатных хлыщей, соревновавшихся перед ним в лести. Царевич с матерью устроились во дворце Амфиполя, там они защищены от злых умыслов и интриг; он воспитывается как обычный знатный македонец.
— Весьма полезное нововведение, — согласился ученый. — Осмелюсь, почтенный Кассандр, преподнести тебе один мой собственный скромный трактат. «Образование государей». Когда мальчик станет постарше, тебе придется подумать о выборе наставника для него…
— Безусловно, — сказал регент Македонии, — я неустанно думаю о том времени.
310 год до н. э
Крепость Амфиполя увенчивала высокую отвесную скалу над излучиной реки Стримон, практически завершавшей здесь свой стремительный бег к морю. В давние времена этим фракийским оплотом владели Афины и Спарта, позже его обновила и расширила Македония, причем каждый из завоевателей добавлял к древней твердыне какое-нибудь укрепление или башню. С крепостных стен дозорным открывалась прекрасная панорама во все стороны света. Порой, в ясную погоду, эти парни показывали Александру далекие северные хребты Фракии или вершины Афона, а он иногда рассказывал им о местах, в которых успел побывать, впрочем, за шесть лет здешней жизни эти воспоминания сделались довольно смутными.
Но ему помнились служанки и евнухи в палатке матери, ее крытый походный фургон, дворец в Пелле и бабушкины покои в Додоне, он также очень хорошо помнил Пидну, помнил, как мать не хотела говорить ему, что стряслось с бабушкой, но слуги, конечно, просветили его. Еще в память врезалось, как рыдала тетушка Фессалоника перед свадьбой и как отчаянно плакала мать перед отъездом сюда, хотя теперь она уже успокоилась. Только одно в его жизни совсем не менялось: при нем всегда состояли солдаты. Они-то и сделались его единственными друзьями, с тех пор как уехал Кеб.
Ему все никак не удавалось познакомиться со сверстниками, зато он часто ездил на верховые прогулки в сопровождении парочки дюжих ребят. Но как только он ближе сходился с этими малыми и они начинали шутить с ним, состязаться или делиться какими-нибудь новостями, как почему-то вдруг приходило новое назначение и его провожатые отбывали, а их место занимала новая пара. Однако на протяжении пяти лет этих замен оказалось так много, что среди прибывавших охранников опять стали попадаться знакомцы, охотно возобновлявшие старую дружбу.
Некоторые из новичков выглядели угрюмо, и с ними было вовсе не весело проводить время, но с годами царевич обрел проницательность, научился хитрить. Комендант крепости Главкий обычно навещал его каждые несколько дней, и когда Александр говорил ему, к примеру, как любезны с ним новые телохранители и как много интересного они рассказывают о сражениях с азиатами, то вскоре хмурых молчунов куда-то переводили. Когда же его истинные друзья сообщали коменданту, что царевич грустит на прогулках, то они задерживались при нем на достаточно продолжительный срок.
От таких вот друзей он однажды услышал, что Антигон, верховный главнокомандующий войск Азии, по собственному почину развернул военные действия, намереваясь забрать его из Амфиполя под свою опеку. Александру было всего два года, когда жизнь столкнула его с Антигоном. Завидев страшного одноглазого великана, малыш пришел в ужас и заорал. Теперь Александр знал много больше об этом воинственном исполине, но все-таки не горел желанием стать его подопечным. Нынешний опекун не причинял ему никаких неудобств, поскольку вовсе не докучал своими визитами.
Подрастающему царевичу хотелось, чтобы его взял под крыло Птолемей. Нет, он совсем не помнил этого человека, но солдаты рассказывали, что из отцовского окружения Птолемея любили больше других. И воевал тот под стать отцу, проявляя великодушие, «что по нынешним временам всем в диковину». Однако Птолемей находился в Египте, и не имелось ни малейшей возможности с ним снестись.
Как бы там ни было, но оказалось, что война вскоре закончилась. Кассандр, Антигон и остальные полководцы заключили мир, согласившись, чтобы Кассандр оставался опекуном Александра до его вступления на престол.
— А когда я взойду на престол? — спросил как-то у двух своих лучших приятелей Александр.
По какой-то причине этот вопрос встревожил обоих. С неожиданным жаром и Пер, и Ксанф настоятельно посоветовали ему никому не рассказывать об их разговорах, иначе им грозит верная ссылка в какую-нибудь глухомань.
Обычно они затевали скачки втроем, но лошадь Пера вдруг охромела, и Александр попросил Ксанфа разочек проехаться с ним, перед тем как повернуть к дому. Тот согласился, и они пустили коней вскачь, а Пер остался ждать их. Когда же они остановились, чтобы дать лошадям передохнуть, Ксанф сказал:
— Помни, никому ни слова. Но в стране о тебе поговаривают.
— Неужели? — спросил Александр, мгновенно оживившись. — По-моему, обо мне знают только те, что живут в крепости.
— Так тебе и положено думать. Но люди многим интересуются, как ты и как я. Они возлагают на тебя большие надежды. В твоем возрасте твой отец уже убил первого неприятеля, и все считают, что ты стал достаточно крепок, чтобы познакомиться с македонцами. Они хотят тебя видеть.
— Передай им, что я тоже хочу их видеть.
— Ладно, я отпрошусь из крепости, скажу, что мне надо бы подлечить спину на солнце. Запомни же, никому ни слова.
— Молчание или смерть!
Это было их обычным паролем. Они поехали обратно к поджидавшему их Перу.
* * *
Убранство покоев Роксаны свидетельствовало, что она побывала во многих краях. К сожалению, от великолепных вавилонских чертогов, затейливых гаремных решеток и поросших лилиями прудов ее отделяли тысячи миль и двенадцать лет жизни. (С той поры у нее сохранилась лишь шкатулка с драгоценностями Статиры. Недавно, сама не понимая почему, она вдруг убрала ее с глаз долой.) Однако и в Амфиполе эта привычная к переездам особа обставилась со всей отвечающей ее представлениям о роскоши пышностью, благо Кассандр разрешил взять с собой что угодно, и царские вещи влек целый обоз. «Вас отправляют в столь хорошо защищенный район, — пояснил попечитель, — исключительно для вашего же спокойствия после всех злоключений, и, конечно, вам будут предоставлены все возможности для того, чтобы как можно лучше обустроиться на новом месте».
Тем не менее жилось Роксане очень одиноко. Вначале жена коменданта и другие знатные местные дамы наносили ей вежливые визиты, но, не рассчитывая пробыть здесь долго, она принимала их с излишней чопорностью, требуя видеть в ней только царицу-мать. Когда месяцы обернулись годами, Роксана не раз пожалела об этом и стала проявлять легкие признаки снисходительности, но было уже поздно: не располагающая к сближению церемонность прочно вошла в обиход.
Еще Роксану очень расстраивало, что круг общения царевича теперь ограничивается лишь ее приживалками да неотесанными солдатами. Мало что зная о греческом образовании, она все-таки понимала: Александру оно просто необходимо. Иначе как же он потом сможет управлять собственными подданными, когда воссядет на трон? Потеряв греческого наставника, мальчик перенял грубоватый дорический говор охранников. Что подумает о нем опекун по приезде?
А Кассандр, кстати говоря, уже находился в Амфиполе. Как ей сообщили, регент без предупреждения прибыл в крепость и уединился с комендантом. По крайней мере, невежество Александра должно убедить этого человека, что юный царь нуждается в обучении и подобающем обществе. Кроме того, Роксане самой давно следует обзавестись достойным двором и свитой, а не прозябать в этом захолустье. На сей раз она должна настоять на своем.
Когда запыленный и раскрасневшийся от верховой езды Александр вошел к матери, та послала его умыться и переодеться. Проводя все свободное время, которого у нее было предостаточно, за рукоделием, Роксана сама обшивала как себя, так и сына. Приготовленный ею для него голубой хитон с золотой каймой и узорчатым кушаком радовал глаз персидским изяществом и классической греческой строгостью линий. Вид Александра, нарядного, чистого и причесанного, вдруг тронул ее до слез. Он быстро развивался и уже был выше матери, от которой ему достались мягкие темные волосы и тонкие, изящно изогнутые брови, но в глубине карих глаз горел холодный огонь, будораживший воспоминания.
Роксана надела свой лучший наряд и великолепное золотой ожерелье с сапфирами, подаренное ей мужем в Индии. Потом припомнила, что среди драгоценностей Статиры есть сапфировые сережки. Она вытащила из сундука заветную шкатулку и добавила серьги к своему туалету.
— Мама, — сказал Александр, пока они сидели в ожидании, — не забудь, ни слова о том, что Ксанф говорил мне вчера. Я обещал. И ты обещай, что не скажешь ни слова.
— Разумеется, не скажу, милый. Да и кому здесь я могла бы сказать?
— Молчание или смерть!
— Тише! По-моему, он идет.
Кассандр вошел в сопровождении коменданта, которого тут же отпустил кивком головы.
Он отметил, что за годы беспечной жизни Роксана успела располнеть, хотя сохранила отличную, с оттенком слоновой кости кожу и роскошные глаза. Она в свою очередь заметила, что он постарел и исхудал до костлявости, а его скулы покрылись красной сеточкой кровеносных сосудов. Регент приветствовал царицу-мать с церемонной вежливостью, спросил о здоровье и, не дожидаясь ответа, повернулся к царевичу.
Александр, сидевший, когда Кассандр вошел, вдруг, сам не понимая почему, встал. Ему говорили, что царям не следует вставать ни перед кем, а уж тем более вскакивать. С другой стороны, здесь сейчас его дом, и он, как хозяин, обязан вроде бы поприветствовать гостя.
Кассандр отметил и это, но никак не отреагировал. Он произнес лишенным выражения тоном:
— Ты стал похож на отца.
— Да, — кивнув, сказал Александр. — Моя мать тоже видит его во мне.
— Однако ты, вероятно, перерастешь его. Твой отец не отличался высоким ростом.
— Но он был сильным и крепким. Я упражняюсь ежедневно.
— А как еще ты проводишь тут время?
— Мальчику необходим наставник, — вмешалась Роксана. — Он уже позабыл бы все буквы, если бы я не совала ему в руки книгу. Его отец учился у философа.
— Об этом я позабочусь. Итак, Александр?
Царевич задумался. Он почувствовал, что ему устраивают проверку, желая выяснить, насколько он повзрослел.
— Я гуляю по крепостным укреплениям, смотрю на корабли и спрашиваю, откуда они приплывают, и, если кто-то может ответить мне, интересуюсь, каковы те края и что за народы их населяют. К числу моих ежедневных занятий относятся верховые прогулки с эскортом. Остальное время, — добавил он осторожно, — я размышляю о том, что значит быть царем.
— Неужели? — отрывисто бросил Кассандр. — И как же ты намерен править?
Александр много думал об этом. Он ответил сразу:
— Я разыщу всех людей, которым доверял мой отец, и выясню у них все подробности о его жизни. И прежде чем решиться на что-то, спрошу у них, как повел бы себя мой отец.
На мгновение ему показалось, что Кассандр побелел. Даже румянец на его скулах словно бы сделался сизым. «Уж не заболел ли он?» — подумал царевич. Но кровь вновь прилила к лицу регента.
— А если они вдруг не захотят поделиться с тобой воспоминаниями?
— Но я же царь. И могу приказать им исполнить мою волю. Разве не так поступал отец?
— Твой отец был… — Кассандр огромным усилием воли сдерживал натиск обуревавшего его гнева. Этот мальчик наивен, но его мать в прошлом проявляла изрядное хитроумие. Он продолжил: — Твой отец был сложным и многогранным человеком. Возможно, впоследствии ты обнаружишь… Впрочем, не важно. Мы обдумаем, что тут можно сделать. Прощай, Александр. Роксана, всего наилучшего.
— Я все верно сказал? — спросил Александр после его ухода.
— Отлично. Ты выглядел как истинный сын своего отца. Никогда прежде ты еще не был так похож на него.
— И мы сохранили нашу тайну. Молчание или смерть!
Следующий день принес первые осенние заморозки. Александр прогуливался с Ксанфом и Пером по берегу; солоноватый морской ветер играл его волосами.
— Когда я вырасту, — крикнул царевич через плечо, — я отправлюсь на корабле в Египет!
С прогулки он вернулся, полностью захваченный этой идеей.
— Я должен увидеться с Птолемеем. Он ведь мой родной дядя… или почти родной. Кеб говорил, Птолемей знал моего отца с самого его рождения и до самой смерти. И он выстроил для него в Александрии гробницу. Я хочу принести в ней жертвы, почтив ими отца. Я ни разу не приносил еще никаких жертв в его память. Ты, мама, тоже поедешь со мной.
Раздался стук в дверь. Вошла юная рабыня жены коменданта с кувшином, источавшим душистый аромат, и двумя высокими кубками. Поставив поднос на стол, она почтительно поклонилась и сказала:
— Моя госпожа приготовила это для вас и надеется, что вы окажете ей честь, отведав напиток, который поможет вам согреться в такой холодный день.
Служанка вздохнула с облегчением, проговорив столь длинную фразу. Она была фракийка и находила греческий язык трудным.
— Пожалуйста, передай нашу благодарность твоей госпоже, — любезно произнесла Роксана, — и скажи, что мы с удовольствием принимаем ее угощение. — Когда девушка удалилась, она сказала: — Эта провинциалка все еще надеется завоевать наше расположение. В конце концов, нам недолго осталось прозябать здесь. Но может, завтра мы с тобой навестим ее?
Александра, наглотавшегося соленого воздуха, мучила жажда, и он быстро осушил свой кубок. Роксана, трудившаяся над затейливой вышивкой, положила последний стежок и также отдала должное терпкому, но приятному на вкус напитку.
Она рассказывала Александру о войнах своего отца в Бактрии — сын должен запомнить, что и с ее стороны его предки были славными воинами, — когда вдруг увидела, что лицо мальчика вытянулось, а взгляд стал туманным. Александр быстро глянул в сторону двери, потом бросился в угол комнаты и скорчился там, сильно закашлявшись. Подбежав к нему, Роксана взяла его голову в руки, но он вырвался, словно раненая собака, и вновь судорожно закашлялся, до тошноты. Исторгнутая жидкость пахла специями и чем-то еще, ранее не выделявшимся из букета.
По взгляду матери Александр все понял.
Пошатываясь, он добрел до стола, вылил на пол содержимое кувшина и, увидев на дне осадок, сморщился от очередного острого приступа. Внезапно в глазах царевича вспыхнула ярость. Не детская недолговечная злость, но именно мужская неукротимая ярость, пылавшая в гневном взоре его отца, когда тот сердился. Роксана видела мужа в таком состоянии лишь однажды.
— Ты выдала меня! — крикнул сын. — Ты обо всем рассказала!
— Нет, нет, я клянусь!
Александр едва слышал ее. Стиснув зубы, он умирал — прямо сейчас, не дожив до старости. Ему было нестерпимо больно и страшно, но мучительнее боли и страха его гордый дух терзало сознание, что у него украли жизнь, царство, славу, путешествие в Египет и возможность духовного приобщения к деяниям величайшего из людей. Любя свою мать, он тосковал по Кебу, который много рассказывал ему об отце и как-то поведал, что тот, даже умирая, не утратил отваги, он до кончины приветствовал своих воинов взглядом, уже потеряв способность говорить. Если бы Ксанф и Пер очутились вдруг здесь, чтобы засвидетельствовать… чтобы потом от них все узнали… но рядом не было никого, никого… Яд проник в кровь, его мысли растворились в болезненной слабости; он неподвижно лежал на спине, устремив взгляд в балочные перекрытия.
286 год до н. э
Стенающая и плачущая Роксана склонилась над умирающим, уже чувствуя первые позывы к рвоте. Но вместо застывшего лица сына — с посиневшими губами, с белым покрытым испариной лбом и влажными волосами — она вдруг с ужасающей ясностью увидела руки Пердикки и скорчившегося на них недоношенного ребенка Статиры.
По телу Александра пробежала сильная судорога. Его глаза закатились. Отрава добралась и до ее внутренностей, пронзив живот острой спазматической болью. Роксана подползла на коленях к двери и крикнула: — На помощь! На помощь! Но никто не пришел.
Библиотека царя Птолемеянаходилась на верхнем этаже дворца, ее окна выходили на александрийскую набережную. Погода стояла прохладная, с берега долетали порывы морского бриза. Сам царь сидел за громадным столом из полированного эбенового дерева, вся поверхность которого в прежние времена была завалена ворохом чертежей и бумаг, ибо его владелец в те дни усердно занимался законотворчеством и достраивал Александрию. Теперь на обширной столешнице лежало лишь несколько книг да рядом с набором письменных принадлежностей спал кот. Государственные дела перешли к сыну, вполне успешно с ними справлявшемуся. Птолемей передавал ему бразды правления постепенно и с нарастающим удовольствием. Годы брали свое, сейчас он уже разменял девятый десяток.
Он взглянул на покрытую письменами табличку. Рука его потеряла былую твердость, но почерк оставался вполне разборчивым. Во всяком случае, Птолемей надеялся прожить достаточно долго, чтобы в случае надобности дать переписчикам нужные пояснения.
Несмотря на одеревеневшие суставы, общую вялость и прочие старческие недомогания, Птолемей наслаждался своим уединенным существованием. Раньше ему вечно не хватало времени на чтение, и теперь он наверстывал упущенное. Кроме того, у него появилась возможность завершить некий давно начатый труд. Долгие годы то одно, то другое не позволяло ему взяться за него основательно. Сначала пришлось прогнать от себя старшего сына, оказавшегося безнадежно порочным (на его матери, сестре Кассандра, Птолемей женился сгоряча — по политическим соображениям), что повлекло за собой необходимость взять под особый пригляд, а затем и готовить к престолонаследию второго сына, родившегося гораздо позднее. Злодеяния первенца омрачали старость Птолемея; часто он упрекал себя за то, что не предал преступника казни. Но сегодня ничто не отвлекало его от спокойных раздумий.
Их размеренное течение прервал приход наследника. Младший Птолемей, которому исполнилось двадцать шесть лет, был македонцем самых чистых кровей, ибо на свет его произвела сводная сестра Птолемея, ставшая третьей женой уже пожилого царя. Ширококостный, под стать отцу, он постарался войти как можно тише, думая, что старик задремал в своем удобном кресле. Но одного его шага по расшатанным половицам оказалось достаточно, чтобы с заполненных до отказа библиотечных полок тут же свалилось несколько свитков. Птолемей, улыбнувшись, оглянулся.
— Отец, из Афин прибыл очередной сундук с книгами. Куда прикажешь их отнести?
— Из Афин? О, отлично. Пусть тащат сюда.
— Где же ты будешь держать их? Тебе уже приходится складывать рукописи на полу. Скоро до них доберутся крысы.
Птолемей, подавшись вперед, вытянул морщинистую покрытую веснушками руку и ласково почесал кошачью шею над изящным ошейником, щедро украшенным мелкими самоцветами. Гибкое сильное животное выгнуло дугой гладкую, с бронзовым отливом спинку и с наслаждением потянулось, издав громкое довольное урчание.
— И все-таки, — продолжил сын, — тебе пора перевести библиотеку в более просторное помещение. На самом деле для всего этого нужен уже целый дом.
— Ты построишь его после моей смерти. И достойное место должна занять там моя новая книга.
Тут молодой человек заметил, что отец выглядит таким же самодовольным, как и его кот. Разве что не урчит.
— Отец! Неужели ты намекаешь, что наконец-то закончил свой труд?
— Буквально только что поставил последнюю точку.
Птолемей-старший показал на восковую табличку, где над последним затейливым росчерком стила было начертано: «ТАК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА». Его наследник, обладавший чуткой и нежной душой, наклонился и обнял отца.
— Мы должны устроить публичные чтения! — воскликнул он. — В нашем Одеоне, конечно. Ведь уже почти все переписано набело. Я организую их в следующем месяце, тогда мы успеем оповестить всех, кого нужно.
С самого детства этот поздний ребенок неизменно взирал на своего отца снизу вверх, как на очень мудрого и выдающегося во всех отношениях человека. Он знал, что законченный сегодня труд начат еще до его рождения, и ему очень хотелось, чтобы автор успел убедиться, что поработал не зря и на славу, ведь старость так скоротечна. В голове его уже мелькали имена ораторов и актеров, славившихся звучными и красивыми голосами. Птолемей понимал, о чем думает сын.
— Да, — вдруг сказал он, — мы должны выжечь отраву, пущенную в мир Кассандром. Всему свету известно, что я был с Александром от начала и до конца. Необходимо обнародовать жизнеописание побыстрее. Слишком много зла.
— Кассандр?
Молодой человек смутно помнил о каком-то умершем лет пятнадцать назад македонском царе с таким именем, наследниками которого, кажется, стали два злополучных сына, вскоре последовавших за своим родителем в иной мир. Вся эта история уже словно бы принадлежала к далекому и размытому прошлому, тогда как Александр, умерший намного раньше, представлялся ему настолько живым, что, казалось, мог сейчас войти в библиотеку. Птолемею-младшему не было нужды даже читать отцовский труд, он с детства слишком многое слышал о славном герое и теперь знал о нем чуть ли не все.
— Что это за Кассандр?
— О, я надеюсь, что боги низвергли этого злодея в бездну Тартара. — Вялые складки старческого лица вдруг затвердели, на мгновение оно стало пугающе-грозным. — Он убил сына Александра… я в этом уверен, хотя прямых доказательств и не нашлось. Кассандр так хорошо опекал мальчика, что народ даже не знал, как тот выглядит: все попытки людей увидеть будущего царя пресекались. Кроме жены и сына, на совести этого негодяя и мать Александра. Но, не удовлетворившись всеми этими злодеяниями, Кассандр подкупил ученых афинского Ликея и, воспользовавшись их неведением, очернил память Александра. Теперь Ликею никогда не отмыться. И поделом. Поделом также, что сам клеветник сгнил заживо еще до смерти, а его сыновья убили свою собственную мать… Да, устроим публичные чтения. А потом сделаем несколько копий с моей книги. Я хочу послать их в Ликей, Академию и в Косскую школу. И одну копию, разумеется, на Родос.
— Разумеется, — согласился сын. — Не часто родосцам выпадает счастье приобщиться к божественным откровениям.
Они с усмешкой переглянулись. После снятия знаменитой осады Птолемей на Родосе был причислен к богам. Старик погладил кота, снисходительно подставившего ему для привычной ласки свой рыжеватый живот. Младший Птолемей выглянул в окно. Ослепительная вспышка заставила его зажмуриться. Золотой лавровый венок на гробнице вдруг полыхнул, отразив солнечные лучи. Сын повернулся к отцу.
— Да, много погибло великих людей. Под рукой Александра они дружно бежали вместе, точно кони, запряженные в одну колесницу. А когда он умер, они словно лишились возничего, заартачились и понесли. И как неуправляемые лошади, в итоге сломали себе шею.
Задумчиво поглаживая мягкую кошачью шерстку, Птолемей медленно покивал.
— Да. Таков Александр.
— Но, — вдруг потрясенно сказал молодой человек, — ты ведь обычно мне говорил…
— Да-да. Говорил. Но правда и то и другое. Таков Александр. Все дело в нем.
Старик взял со стола табличку, ревниво оглядел ее и положил обратно.
— Мы оказались правы, — сказал он, — приписывая ему божественное происхождение. Александр обладал тайным знанием. Казалось, он был способен воплощать в жизнь все, чего ему только хотелось. И он воплощал. Но цена оказалась чересчур высока, когда умерла его вера в нас. С ним мы совершали невообразимые подвиги. Он был человеком, отмеченным богом, а мы были всего лишь людьми, отмеченными им, но мы этого не сознавали. Мы тоже мечтали о чудесах, понимаешь?
— Понимаю, — ответил сын, — но все твои Соратники печально закончили, а ты достиг процветания. Не потому ли, что тебе удалось похоронить его здесь?
— Возможно. Ему нравилось, чтобы все вокруг было красиво. Я увез его от Кассандра, а он никогда не забывал доброты. Да, возможно… Но все-таки, когда он умер, я понял, что он забрал свою тайну с собой. С тех пор мы уподобились самым обычным людям, со всей их ограниченностью. Познай себя, говорит божество в Дельфах. Ничего сложного.
ΟТ АВТОРА
Обиженный невниманием кот спрыгнул к хозяину на колени и начал сворачиваться в клубок. Птолемей отцепил когти рыжего красавца от мантии и поставил его обратно на стол.
— Не сейчас, Персей, мне нужно еще поработать. Мой мальчик, пригласи ко мне Филиста, он лучше всех знает мой почерк. Я хочу успеть присмотреть за тем, чтобы писцы все верно скопировали. Ведь бессмертным меня считают только на Родосе.
После ухода сына старик трясущимися руками решительно придвинул таблички к себе и аккуратно разложил их. В ожидании писца подойдя к окну, он задумчиво посмотрел на гробницу. Листья золотого лаврового венка, овеваемые бризом Средиземного моря, трепетали, словно живые.
Жизнь Александра окружена множеством тайн, и чуть ли не самой странной из них является его отношение к собственной смерти. О смелости этого царя слагались легенды, в пиковых ситуациях он всегда шел туда, где опаснее всего. Если даже он верил, что был зачат богом, то в Древней Греции подобная избранность вовсе не обеспечивала бессмертия. После нескольких тяжелых ранений и затяжной борьбы с трудноисцелимыми заболеваниями можно предположить, что человек, прекрасно понимающий, насколько непредсказуемо воинское бытие, опомнится и что-либо предпримет, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Однако ничто земное, казалось, не волновало его, даже наследником он надумал обзавестись лишь в последний год жизни, когда почти гибельная рана, полученная им в Индии, должно быть, дала ему почувствовать, что неукротимая жизненная сила в нем начинает слабеть. Навсегда останется загадкой, какой психологический барьер помешал лидеру с такими обширными планами на будущее бороться за продление собственных дней.
Если бы выжил Гефестион, то, судя по всему, ему и было бы завещано регентство. Согласно историческим свидетельствам, он был не только верным другом и, вероятно, любовником Александра, но и умным, сведущим во многих вещах человеком, благожелательно относившимся ко всем идеям своего царственного наперсника, особенно связанным с управлением государством. Неожиданная смерть Гефестиона, видимо, резко подорвала уверенность Александра в себе, и это потрясение, скорее всего, в какой-то мере приблизило его собственную кончину. Но даже в последние свои дни, уже на смертном одре, он продолжал планировать будущие походы, пока голос не отказал ему. Возможно, именно Александр достоин того восклицания, какое Шекспир вложил в уста Юлия Цезаря: «Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть один лишь раз вкушает!»[243]
Последовавшая за смертью Александра кровавая неразбериха ничуть не чернит его как вождя. Напротив, для того времени требования Александра к своим подчиненным были очень высокими, и он жестко обуздывал в своих помощниках тягу к предательству и бесчестным поступкам, это все проявилось в них лишь с потерей узды. Если его и можно в чем-либо обвинить, то только в том, что он не озаботился устройством достойного династического брака и не обзавелся наследником до похода в Азию. Если бы в год кончины великого полководца сыну его было лет тринадцать-четырнадцать, то македонцы даже и не задумались бы ни о каких других претендентах на трон.
Из всей предшествующей истории Македонии с непреложностью следовало, что македонцы не преминут вернуться к древней традиции родовой и племенной борьбы за власть. Они и вернулись, с той оговоркой, что Александр предоставил им для этого мировую арену.
Все жестокие деяния, описанные в данной книге, подтверждаются историческими источниками. Ради стройности повествования пришлось оставить за скобками еще несколько убийств известных и выдающихся личностей, самой замечательной среди каковых была Клеопатра. После смерти Пердикки она отвергла Кассандра, отказавшись выйти за него замуж, и тихо прожила в Сардах до сорока шести лет. В 308 году, возможно затосковав, Клеопатра сделала формальное предложение Птолемею. Казалось невероятным, что этот благоразумный правитель отважится повторить рискованный опыт Пердикки, но он дал согласие жениться на ней, и она приготовилась к отъезду в Египет. Ее планы стали известны Антигону, который, испугавшись, что этот брак станет преградой для его притязаний, подговорил служанок Клеопатры убить свою госпожу. Впоследствии преступниц казнили.
Пифон заключил союз с Антигоном, но так прочно устроился в Мидии, что, видимо, задумал мятеж. Антигон убил и его.
Селевк пережил даже Птолемея (он был моложе), но на пороге восьмидесятилетия вдруг вторгся в Грецию и, пытаясь захватить власть, был убит.
Аристон, после смерти Олимпиады перешедший на сторону Кассандра, возглавлял гарнизон Амфиполя. Кассандр выманил его оттуда посулами и убил.
Вот что Павсаний говорит о Кассандре: «Однако и сам он плохо кончил. Он раздулся от водянки, и еще при жизни его начали поедать черви. Филипп, его старший сын, вскоре после восшествия на трон подхватил какую-то скоротечную болезнь и умер. Антипатр, следующий сын, убил свою мать Фессалонику, дочь Филиппа и Никесиполиды, обвинив ее в том, что она слишком любила Александра, младшего из своих сыновей». Далее он упоминает, что этот Александр убил Антипатра, но в свой черед был убит Деметрием. Такое искоренение целого рода трактуется некоторыми греческими трагедиями как месть эриний.
Долгие годы Антигон упорно стремился прибрать к рукам всю империю Александра, но в конце концов Птолемей, Селевк и Кассандр, заключив оборонительный союз, убили его в сражении при Ипсе во Фригии, прежде чем преданный сын
ДЕЙСТВУЮЩИΕ ЛИЦА
Деметрий успел прийти на помощь отцу. Феерическую жизнь вышеупомянутого Деметрия невозможно описать в двух словах. Этот блестящий, обаятельный, изменчивый и расточительный человек после целого ряда славных подвигов, включавших и захват македонского трона, попал в плен к Селевку и под его гуманным присмотром вскоре спился и умер.
Историческим фактом является странный феномен долгой сохранности тела Александра. Христиане сочли бы это признаком святости, но в описываемые времена еще не было четких правил установления подобных вещей, хотя явление далеко отступало от нормы, особенно учитывая летнюю вавилонскую духоту. Самым вероятным объяснением, конечно же, представляется версия, что клиническая смерть наступила позже, чем показалось наблюдателям. Но очевидно, кто-то заботился о царском теле, защищая его от мух. Вполне возможно, что этим занимался один из дворцовых евнухов, не принимавший участия в династических распрях, бурлящих за стенами царской опочивальни.
Восемь человек из окружения Александра известны нам как телохранители. Так их именуют источники (перевод с греческого буквален), но было бы неверным предположить, что эти люди постоянно его охраняли. Многие из них стали старшими командирами. Поэтому в перечне персонажей они названы военачальниками. Происхождение титула Соматофилакса, или телохранителя, вероятно, уходит корнями в древнейшую историю Македонии.
Основные источники. Квинт Курций Руф в «Истории Александра Македонского», книга X, описывает события, происходившие непосредственно после смерти Александра. Дальнейшие сведения дает в своих работах Диодор Сикул. Источники Диодора на означенный период считаются достоверными. Иероним из Кардии, искавший удачи с Эвменом, а потом с Антигоном, завершает картину.
Вымышленные герои помечены двумя звездочками (**). Все остальные существовали в истории. Лица, помеченные звездочкой (*), умерли до описываемых событий. В перечне не упоминаются второстепенные персонажи, не играющие особой роли.
Александр III — Великий. В дальнейшем упоминается как Александр.
Александр IV — рожденный после смерти отца сын Роксаны.
Алкета — брат Пердикки, полководец.
Аминта** — сын македонского царя Пердикки, старшего брата Филиппа II. В год смерти Пердикки был в младенческом возрасте, что позволило его дяде Филиппу стать царем, после убийства которого Аминту казнили за участие в заговоре. Муж Кинны, отец Эвридики.
Антигон — полководец Александра, сатрап Фригии. Позднее царь, основатель династии Антигонидов.
Антипатр — регент Македонии во времена похода Александра в Азию и после его смерти.
Ариба — знатный македонец, проектировщик погребальной ладьи Александра. В действительности — Арридей, но в книге ему дано упрощенное эпирское имя, чтобы отличать его от Арридея, ставшего позже Филиппом.
Аристон — военачальник Александра. Позднее сохранил верность Александру IV.
Арридей — см. Филипп III.
Багоас — молодой персидский евнух, фаворит Дария III, поздней — Александра. Будучи реальным персонажем, он исчезает со страниц исторических хроник после смерти Александра, и его появление в данном романе является вымыслом.
Бадия** — бывшая наложница персидского царя Артаксеркса Оха*.
Гефестион* — друг детства Александра, умерший на несколько месяцев раньше, чем он.
Дарий III* — последний великий царь Персии, убит своими полководцами после поражения в сражении с Александром при Гавгамелах.
Деметрий — сын Антигона. Позднее стал известен как Полиоркет (буквально — «осаждающий города», греч.), царь Македонии после смерти Кассандра.
Дрипетис — младшая дочь Дария III и вдова Гефестиона.
Иолла — сын Антипатра, регента Македонии, младший брат Кассандра, виночерпий Александра.
Кассандр — старший сын Антипатра. С детства враждовал с Александром. Стал царем Македонии после смерти Александра IV.
Кеб** — наставник Александра IV в детские годы.
Кинна — дочь Филиппа II от иллирийской княжны, которая обучила ее приемам ведения боя. Вдова Аминты, мать Эвридики.
Клеопатра — дочь Филиппа II и Олимпиады, сестра Александра. Вышла замуж за царя Молоссии. Ее отца убили во время их свадебной церемонии. После смерти супруга (тот умер в Италии) какое-то время правила его царством.
Конон** — ветеран-македонец, верный слуга Филиппа-Арридея.
Кратер — главный полководец Александра. Во время смерти Александра находился по его заданию на пути в Македонию.
Леоннат — военачальник и родственник Александра. Обручился с Клеопатрой незадолго до своей смерти в сражении.
Мелеагр (греческое произношение — Мелеагрос) — пехотный командир, враг Пердикки, сторонник избрания Филиппа III.
Неарх — друг детства и главный флотоводец Александра.
Никанор — брат Кассандра, командир армии Эвридики.
Никея — дочь регента Антипатра, некоторое время жена Пердикки, позже отправленная им к отцу.
Ох* — Великий Артаксеркс Ох. Царь Персии перед коротким правлением Дария III.
Олимпиада — дочь царя Неоптолема из Молоссии. Вдова Филиппа И, мать Александра.
Певкест — военачальник Александра, сатрап Персии.
Пердикка — заместитель Александра после смерти Гефестиона. Обручился с Клеопатрой после смерти Леонната.
Пердикка III* — старший брат Филиппа II*, унаследовавшего трон после его гибели на войне. (См. Аминта*.)
Пифон — военачальник Александра, позднее — Пердикки.
Полиперхон (Полисперхонт) — военачальник Александра, регент Македонии после смерти Антипатра.
Птолемей (греческое произношение — Птолемеос) — военачальник, родственник и предполагаемый сводный брат Александра. Позднее царь Египта, основатель династии Птолемеев и автор «Истории Александра», широко используемой Аррианом.
Роксана — вдова Александра, взятая им в жены во время военного похода в Бактрию. Мать Александра IV.
Селевк — военачальник Александра (позднее царь империи Селевкидов в Малой Азии).
Сисигамбис — мать Дария III, поддерживавшая Александра.
Статира — дочь Дария III, ставшая главной женой Александра после свадебной церемонии в Сузах.
Теофраст — последователь Аристотеля, глава афинского Ликея, подкупленный Кассандром.
Фессалоника — дочь Филиппа II от младшей жены, позднее Ж6НЕ Кассандра.
Филипп II* — царь Македонии, установивший господство над Грецией, отец Александра.
Филипп III — Филипп-Арридей. Сын Филиппа II от Филинны, его младшей жены. Царское имя Филипп было присвоено ему при вступлении на престол.
Эвмен — главный секретарь и полководец Александра. Хранил верность этой царской династии.
Эвридика — дочь Аминты и Кинны. Урожденная Адея. Династическое имя Эвридика присвоено ей для вступления в брак (или для обручения) с Филиппом III. Она была внучкой Филиппа II и Пердикки III, его старшего брата.
Мэри РЕНО
ТЕЗЕЙ
О Мать! Пусть меня родила ты для смерти безвременно-ранней,
Но Зевс — Громовержец Олимпа — он должен мне славы за это?!
Ахилл в «Илиаде»
От переводчика
На самом деле — это не тот «Тезей», который был издан Политиздатом, а примерно тот, которого я принес в издательство. (Наизусть не помню, конечно, а свою рукопись дал кому-то почитать.)
После упорных боев с редактором текст был согласован; но редактор не устоял перед искушением внести свой вклад — и воткнул авторское послесловие в самое начало книги (он-то лучше знает!) и еще кое-где наследил, по мелочи. А потом за дело взялись корректоры, — которые, по определению, тоже лучше знают, — и местами искалечили интонацию, а местами и вовсе лишили смысла некоторые фразы. А верстку просмотреть мне просто не дали.
Я благодарю Библиотеку Белоусенко за предоставленную мне возможность снова сделать книгу такой, какой она должна быть.
Г. Ш.
Июль 2004
Книга первая
ЦАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
1
ТРЕЗЕНА
1
Трезенскую крепость, где стоит дворец, построили гиганты. Давно — никто не помнит… А дворец построил мой прадед. Когда восходит солнце и смотришь на него с Калаврии через пролив — стены золотятся, а колонны полыхают красным пламенем. И весь он ярко светится на фоне темных лесов горного склона.
Мы — эллины, из рода Вечноживущего Зевса; Небесных Богов мы чтим выше, чем Великую Мать и богов земли. И мы никогда не смешивали нашей крови с Береговым народом, владевшим этой землей до нас.
Когда я родился, у деда было в доме десятка полтора детей; но его царица и сыновья уже умерли, из законных детей осталась лишь моя мать. А про отца моего — во дворце говорили, что я сын бога. К пяти годам я заметил, что некоторые в этом сомневаются; но мать никогда об отце не говорила, а я не помню случая, чтобы мне захотелось ее спросить.
Когда мне исполнилось семь, подошла Жертва Коня — великий праздник в Трезене.
Он бывает раз в четыре года, потому я совсем не помнил прошлого. Я знал, что дело касается Царя Коней, но думал Жертва — что-то вроде акта почтения к нему… Ему это подошло бы в самый раз, я его знал.
Он жил на огромном Конском поле, внизу в долине. С крыши дворца я часто смотрел, как он нюхает ветер, треплющий его гриву, или прыгает на своих кобыл… И только в прошлом году видел, как он бился за свое царство: один из придворных, увидав издали начало поединка, поехал вниз к оливковой роще, чтобы смотреть поближе, и взял меня на круп своего коня. Я видел, как громадные жеребцы рыли землю передним копытом, выгибали шеи и кричали свой боевой клич — а потом бросились друг на друга с оскаленными зубами… В конце концов проигравший упал. Царь Коней фыркнул над ним, потом вскинул голову, заржал и пошел к своим женам. Он не знал узды и был дик, как море; даже сам царь никогда не перекинул бы ноги через его спину. Он принадлежал богу.
Я любил бы его и за одну его доблесть, но у меня была и другая причина: я думал, что он мой брат.
Посейдон, я знал, может принять и людской, и конский облик — как захочет. Говорят, в своем человечьем обличье он зачал меня… Но в песнях пели, что у него есть и сыновья-кони — быстрые, словно северный ветер, и бессмертные. Царь Коней, принадлежавший ему, наверняка был из них; и потому я не сомневался, что мы должны встретиться. Я слышал, что ему всего пять лет. «Значит, — думал я, — хоть он и больше, но я старше… Начать разговор должен я.»
Когда в следующий раз конюший поехал вниз отбирать жеребят для колесниц, я уговорил его взять меня с собой. Занявшись своим делом, он поручил меня конюху; но тот вскоре бросил на землю игральную доску — и они с приятелем обо мне забыли. Я перелез через ограду и пошел искать Царя.
Трезенские кони — чистокровные эллины. Мы никогда их не смешивали с мелкими лошадками Береговых людей, у которых отобрали землю, так что против меня они были очень высокими. Когда я потянулся, чтобы погладить одного, конюший уже кричал у меня за спиной, но я сделал вид, что не слышу.
«Все мной командуют, — подумал я, — это потому, что у меня нет отца. Вот бы мне быть Царем Коней, ему никто ничего не приказывает!..» И тут я увидел его. Он стоял совсем один на невысоком бугре и смотрел в конец пастбища, где ловили жеребят. Я подходил ближе и думал, как каждый ребенок когда-то думает впервые: «Какая красота!»
Он услышал меня и оглянулся. Я вытянул руку, как делал это в конюшне, и позвал: «Сын Посейдона!» Он пошел ко мне, тоже точь-в-точь как лошади в конюшне… У меня был комок соли — я протянул его Царю.
Позади меня что-то происходило. Завопил конюх; оглянувшись, я увидел, что конюший его лупит… «Меня он тоже побьет», — подумал я… Люди махали мне от изгороди и проклинали друг друга, а мне и в голову не приходило, что тут опасно. Царь Коней был так близко, что я видел его ресницы; меж темных глаз, будто белый водопад меж блестящих камней, струилась прядь гривы на лбу; зубы у него были большие, как пластинки слоновой кости на боевом шлеме, но губы — когда слизывал соль с моей ладони — оказались мягче, чем грудь моей мамы… Когда соль кончилась, он потерся своей щекой о мою и понюхал мне волосы, а потом пошел обратно на свой холмик, помахивая длинным хвостом.
На лугу его поступь звучала мягко, как шаг танцора. Это потом я узнал, что он убил копытами горного льва.
Теперь меня схватили со всех сторон и в спешке утащили с поля. А конюший был бледен, словно больной, — я удивился… Он молча поднял меня на своего коня и молчал всю дорогу домой. Я решил, что дед сам меня побьет. Дед долго смотрел на меня, когда я подошел, но сказал только вот что: «Тезей, ты попал на конское поле как гость Пейроса. Это было неучтиво доставлять ему хлопоты. Кобыла с жеребенком могла откусить тебе руку. Я запрещаю тебе ходить туда».
Это случилось, когда мне было шесть лет, а Праздник Коня выпал на следующий год.
Это был самый главный из всех трезенских праздников; во дворце готовились целую неделю. Сначала моя мать увела женщин вниз к речке Гиллик стирать одежды; их погрузили на мулов и везли вниз к самой чистой воде, к бассейну под водопадом… Гиллик не пересыхает и не грязнится даже в засуху, но теперь, летом, воды в нем было мало. Старые женщины терли легкие вещи у края воды и выбивали их о камни; девушки, подобрав юбки, понесли тяжелые плащи и накидки на середину… Одна играла на дудке, и все двигались в такт, рассыпая брызги и смех. Когда все было выстирано и сушилось на нагретых солнцем камнях, они разделись и пошли купаться, взяв меня с собой. Это было в последний раз, больше меня туда не пускали: мать видела, что я стал слишком много понимать.
В день праздника я проснулся на заре. Старая няня надела на меня все лучшее: замшевые штанишки с галунами по кайме, витой красный пояс с хрустальной застежкой, ожерелье из золотых бусин… Когда она меня причесала, я пошел смотреть, как одевают мать. Она только что вышла из ванны, и на нее через голову надевали юбку. Оборки в семь ярусов с золотыми подвесками звенели и сверкали… Когда ей застегивали шитые золотом корсаж и пояс, мама задержала дыхание, потом рассмеялась… Груди у ней были гладки, как молоко, а соски такие розовые, что она никогда их не красила, хоть до сих пор не закрывала грудь. Ей было тогда чуть больше двадцати трех.
Ей освободили от завивных пластинок волосы (они были темнее моих, цветом вроде полированной бронзы), начали причесывать… А я выбежал на террасу, что идет вокруг всех царских покоев, расположенных на крыше Большого Зала.
Утро было розовое, и алые колонны горели в его свете. Было слышно, как внизу собираются придворные в боевых доспехах; как раз этого я и ждал.
Они входили по двое, по трое; бородатые воины — с разговорами, юноши — с потасовками и смехом, окликая друзей, фехтуя древками копий… На них были кожаные шлемы с длинным султаном, окованные бронзой или усиленные валиками из кожи; широкие груди и плечи, блестевшие от масла, казались кирпично-красными в розовом свете; широкие штаны жестко торчали вокруг бедер — и от этого тонкие талии, стянутые ремнями мечей, казались еще тоньше… В ожидании они обменивались новостями и шутками, а молодые рисовались перед женщинами, опершись подмышкой на верхние кромки высоких щитов и держа копья вытянутой правой рукой; усы у них были чисто сбриты, чтобы оттенить юные бородки… Я разглядывал гербы на щитах — птиц, рыб или змей, приклепанных к шкурам, — чтобы узнать и поприветствовать друзей, а они в ответ поднимали копья. Семь или восемь из них приходились мне дядями: их родили деду во дворце те женщины благородной крови, которых он захватил в своих старых войнах или получил в подарок от соседних царей.
Оставив за воротами коней и колесницы, входили поместные дворяне; тоже обнаженные по пояс, потому что день был теплый, но во всех своих драгоценностях, даже на сапогах были золотые кисточки. Шум голосов становился громче и гуще, заполнил весь двор… Я расправил плечи, подтянул живот и, глядя на юношей с пробивающейся бородкой, стал считать по пальцам годы, отделявшие меня от них.
Вошел Талай, Военный Вождь, сын юности моего деда; его родила плененная вдова вражеского вождя. На нем тоже было все лучшее: призовой шлем с погребальных игр Великого Микенского Царя, весь покрытый кривыми клыками кабанов, и оба меча: длинный с хрустальным набалдашником — он иногда давал мне вынимать из ножен — и короткий, с золотой чеканкой по клинку (охота на леопарда)… Люди прижали древки копий ко лбу, он пересчитал их взглядом и пошел во дворец доложить деду, что все готовы. Потом он вышел, и встал на большой лестнице под царской колонной что держит перемычку, а борода его торчала словно таран боевого корабля… И закричал:
— Бог показался!
Все строем двинулись со двора. Я тянулся на цыпочки, чтобы лучше видеть, но в этот момент вошел камердинер деда и спросил у маминой служанки, готов ли господин Тезей идти с царем.
Я думал, что мне надо будет идти с мамой. И что она тоже так думает. Но она ответила, что я уже готов и меня можно позвать в любой миг.
Она была Верховной жрицей Великой Матери в Трезене. До нас, во времена Береговых людей, это сделало бы ее полновластной царицей; и сейчас, когда мы приносили жертвы у Пупкового Камня, никто не шел впереди нее. Но Посейдон — муж и господин Матери, и на его праздниках впереди идут мужчины; потому, когда я услышал что пойду с дедом, то почувствовал себя уже взрослым.
Я побежал к наружной стене и выглянул между зубцами. Теперь я видел, что это был за бог, за которым следовали люди: они выпустили Царя Коней, и он бежал по равнине. Наверно, вся деревня тоже вышла встречать его. Он шел по общинному хлебному полю, и никто рукой не шевельнул, чтобы его остановить; потом прошел через бобы и через ячмень, и начал подниматься на оливковый склон, — но там были люди, и он свернул. Пока я смотрел, в пустом дворе застучала колесница… Это была колесница деда; я вспомнил, что должен ехать на ней, и заплясал от радости (на террасе никого не было).
Меня повели вниз. Возничий Эврит был уже на колеснице и стоял неподвижно, будто статуя, — в короткой белой тунике и кожаных поножах, длинные русые волосы забраны в узел, — только мускулы на руках двигались от напряжения: сдерживал коней. Он поднял меня к себе, мы ждали деда. Мне очень хотелось увидеть его в доспехах, в ту пору он был высок… Когда я в последний раз был в Трезене, ему было уже восемьдесят, и он высох — словно старый сверчок поющий за очагом; я мог бы поднять его на ладонях. Он умер через месяц после смерти моего сына; наверно, тот был его последней опорой в жизни… Но тогда — тогда он был крупным мужчиной.
Наконец он вышел, в жреческой одежде и в венце, со скипетром вместо копья… Поднялся на колесницу; взявшись за поручни, закрепил ноги в скобах и велел ехать. Когда мы покатились вниз по каменистой дороге — все равно нельзя было ошибиться, что едет воин, в венце там или нет: у него была широкая и упругая боевая стойка, какая появляется от скачки по бездорожью с оружием в руках. Куда бы я с ним ни ехал, мне приходилось стоять слева от него: он бы вышел из себя, если бы что-нибудь мешало его копейной руке; и мне всегда казалось, что я прикрыт его щитом, хоть щита и не было.
Дорога была пуста, я удивился и спросил деда, куда все подевались.
— Все на Сферии, — сказал он, хватая меня за плечо, чтобы поддержать на рытвине, — ты едешь со мной смотреть обряды, потому что скоро сам будешь там служить богу… Ты будешь одним из его слуг…
Это меня поразило. Я гадал, какая служба нужна Богу-Коню, и представлял себе, как расчесываю ему челку или ставлю перед ним амброзию в золотых чашах… Но ведь он был еще и Посейдон Синевласый, поднимавший морские бури, и громадный черный Земной Бык, которого — я слыхал — критяне кормят юношами и девушками…
Потом спросил:
— А я долго там останусь?
Он заглянул мне в лицо, рассмеялся и потрепал мне волосы своей большой рукой:
— По месяцу каждый раз. Ты будешь только служить в храме и ухаживать за священным источником. Пора уже исполнять свои обязанности перед Посейдоном, богом твоего рождения; так что сегодня я посвящу тебя, как только принесу ему жертву. Веди себя достойно и стой спокойно, пока тебе не скажут. Помни, что ты со мной.
Мы подъехали к броду через пролив. Я предвкушал плеск и брызги, когда поедем в колеснице по воде, — но оказалось, что нас ждет лодка, чтобы сберечь наши праздничные одежды. На другом берегу мы снова встали на колесницу и какое-то время ехали вдоль берега напротив Трезены, а потом повернули в глубь острова, в сосны. Копыта простучали по деревянному мосту, и лошади встали; мы были на маленьком священном островке, что расположен у оконечности большого, а в присутствии богов и цари должны ходить пешком.
Люди ждали. Их одежды и гирлянды, и султаны на шлемах воинов ярко сверкали на поляне за деревьями. Дед взял меня за руку и повел вверх по каменистой тропе… По обе стороны шеренгами стояли юноши, — самые рослые парни Трезены и Калаврии, — а волосы у них были причесаны так, что получалось что-то вроде конской гривы. Они пели гимн Посейдону-Коню, отбивая такт правой ногой. В нем пелось, что Отец Коней плодоносен, как земля, и могуч, как море; что он приносит домой корабли на своей широкой спине; его прекрасная голова и ясный взор подобны рассвету над горами; его спина колышется, как ячменное поле; грива его, будто пенный бурун, что сбегает с высокой волны; и когда он бьет копытом — дрожит земля, трепещут люди и города и падают дворцы царей.
Я знал, что это правда, потому что крышу святилища переделывали на моей памяти: Посейдон опрокинул ее деревянные опоры и несколько домов, и в нескольких местах расколол стены Дворца… Я был не в себе в то утро. Меня спрашивали не болен ли я, а я в ответ только плакал, но после толчка мне стало лучше. Мне было четыре года тогда, и я почти забыл об этом.
Наша часть мира всегда была посвящена Сотрясателю Земли; юноши пели о многих его деяниях. Даже брод — пелось в их гимне — тоже его: он ударил по проливу, и вода ушла вовсе, а потом поднялась так, что залила равнину, а потом все стало, как теперь. До того времени там проходили корабли; и есть пророчество, что когда-нибудь он снова ударит в пролив своим трезубцем — и там снова станет глубоко.
Мы шли между рядами мальчиков, и дед внимательно оглядывал их, отыскивая будущих воинов… А я увидел впереди, посреди священной поляны, самого Царя Коней. Он спокойно ел с треножника.
В последний год его приручали — не для работы, а для этого случая — и сегодня на заре накормили маком… Я этого всего не знал, но не удивился, что он спокойно терпит людей вокруг: меня учили, что царям подобает принимать почтение благосклонно.
Храм был украшен гирляндами из сосновых веток; в летнем воздухе пахло смолой, цветами, ладаном, потом от коня и от молодых мужских тел, солью от моря… Жрецы в сосновых венках вышли вперед приветствовать деда, главного жреца нашего бога. Старый Каннадис, с бородой, белой как челка Царя Коней, улыбаясь положил руку мне на голову… Дед кивнул Диоклу, моему любимому дяде… Ему было восемнадцать лет, он был большой и сильный, и на плече у него висела шкура леопарда, которого он сам убил…
— Присмотри за мальчиком, — сказал дед, — пока мы будем готовы.
— Да, государь, — ответил Диокл и повел меня к лестнице перед храмом, прочь от того места, где он стоял с друзьями. У него на руке был браслет, — золотая змея с хрустальными глазами, — а волосы повязаны пурпурной лентой. Дед выиграл его мать на Пилосе — второй приз в колесничной гонке — и всегда ее очень ценил; она была лучшей вышивальщицей во Дворце. А сам он был храбрым веселым парнем и часто позволял мне кататься верхом на своем волкодаве; но сегодня смотрел на меня строго, и я боялся что я ему в тягость.
Старый Каннадис принес деду корзину пряжи, тоже обвитую хвоей… Она должна была быть готова к его приходу, но ее не сразу нашли; в Трезене всегда случаются какие-нибудь досадные мелочи, мы не умеем делать такие дела гладко, как афиняне… А Царь Коней хрумкал над треножником и отгонял хвостом мух.
Там было еще два треножника: в одной чаше была вода, а в другой вода с вином. В первой дед вымыл руки, и молодой служка вытер их… Царь Коней поднял голову от корма, и, кажется, они с дедом посмотрели друг на друга. Дед положил руку на белую морду и сильно толкнул ее книзу; голова опустилась и поднялась мягким кивком; Диокл наклонился ко мне и сказал:
— Смотри, он согласен.
Я глянул на Диокла. В этом году его борода уже хорошо виднелась на свету.
— Это хороший знак, — сказал он. — Счастливый год.
Я кивнул, решив, что обряд уже закончен и мы теперь пойдем домой. Но дед посыпал спину Коня мукой из золотого блюда, потом взял маленький нож, блестящий от точила, и отрезал прядь с его гривы. Часть ее он дал Талаю, стоявшему рядом, и еще по прядке — первым из дворян; потом повернулся в мою сторону и поманил. Рука Диокла на моем плече подтолкнула меня вперед.
— Поднимись, — шепнул он. — Пойди и возьми.
Я шагнул — и услышал, как зашептались мужчины, а женщины заворковали словно голуби по весне. Я уже знал, что сын дочери царицы стоит рангом выше сыновей дворцовых женщин, но мне этого никогда не показывали. Я думал, мне потому теперь такая честь, что Царь Коней — мой брат.
У меня в руке оказалось пять или шесть жестких белых волосков. Я хотел было поблагодарить деда, но почувствовал, что он сегодня — Царь, суровый и торжественный, как священный дубовый лес. Потому молча приложил эту прядь ко лбу, как все, и отошел.
— Молодец, — сказал тихо Диокл.
Дед простер руки и стал призывать бога. Он звал его Сотрясателем Земли, Собирателем Волн, Братом Царя Зевса и Мужем Матери, Пастырем Кораблей, Покровителем Коней… Из-за соснового леса донеслось ржание — там были колесничные упряжки, готовые к гонкам в честь бога, — Царь Коней поднял свою благородную голову и мягко ответил.
Молитва была длинная, и я не мог сосредоточиться, пока не услышал по интонации, что скоро конец.
— Да будет так, Владыка Посейдон, по молитве нашей, и прими благосклонно жертву нашу! — Дед протянул руку, и кто-то вложил в нее большой нож с ярко блестевшим лезвием… Рослые мужчины с веревками из бычьей шкуры стояли вокруг… Дед тронул пальцем лезвие и расставил ноги, как на колеснице.
Убил он хорошо, чисто. Я сам, когда все Афины на меня смотрят, бываю доволен если получается не хуже. Но даже сейчас я помню, как конь башней поднялся на дыбы, почуяв свою смерть, и воины не могли его удержать; как пламенела рана на белом горле; как он терял и доблесть, и силу, и красоту… И помню мое горе, обжигающую жалость, когда он рухнул на колени и уронил свою яркую голову в пыль.
Казалось, эта кровь льется из моего сердца, так пусто стало у меня в груди. Я был словно младенец, не знавший ничего кроме мягкой теплой колыбели — и вдруг выброшенный на ветер, под яркий свет бьющий в глаза… Но между мной и мамой, стоявшей с женщинами, билось в крови сраженное тело и дед держал алый нож. Посмотрел на Диокла — он наблюдал агонию, спокойно опершись на копье; я встретил лишь пустые глазницы леопардовой шкуры и хрустальный взгляд змеи-браслета. Дед зачерпнул кубком из жертвенной чаши и вылил вино на землю; мне показалось, что из его руки тоже льется кровь… Пахло выделанной кожей от щита Диокла, мужской запах его тела смешивался с запахом смерти… Дед передал кубок служке и поманил… Диокл перебросил копье в левую руку и взял меня за руку.
— Пойдем, — сказал он. — Отец зовет. Сейчас ты будешь посвящен.
Я подумал: «Царя Коней уже посвятили», — и яркий день поплыл у меня в глазах, залитых слезами горечи и страха. Диокл прикрыл меня щитом и вытер мне лицо сильной жесткой ладонью.
— Держись, — говорит, — народ смотрит. Послушай, что ты за воин? Это ведь всего только кровь.
Он убрал щит, я увидел, что все смотрят на меня, и при виде всех этих глаз опомнился. «Сыновья богов ничего не боятся, — подумал я, — сейчас они это увидят.» И хотя в душе было черно от отчаяния — шагнул вперед.
Вот тогда я услышал в себе шум моря — рокот волн, шедших со мной, несших меня на себе… Тогда я услышал его в первый раз.
Я шел с волной, будто разрушившей стену стоявшую впереди, а Диокл вел меня. Во всяком случае, кто-то меня вел — он или кто-нибудь из Бессмертных, принявших его облик… Но я знаю, что уже не был один в своем одиночестве.
Дед окунул пальцы в кровь жертвы и начертил мне на лбу знак Трезубца; потом они со старым Каннадисом отвели меня под прохладный навес, укрывавший священный источник, и внесли туда идола для меня — бронзового быка с позолоченными рогами… Когда мы вышли оттуда, жрецы уже отрезали от жертвы долю бога, и воздух былнаполнен запахом горевшего мяса… Но только когда мы вернулись домой и мать спросила: «Что с тобой?» — вот тогда я наконец расплакался.
У нее на груди, зарывшись в ее блестящие волосы, я плакал так, будто всю душу свою хотел обратить в слезы. Она уложила меня, пела мне песни, а когда я успокоился, сказала:
— Не печалься по Царю Коней. Он ушел к Матери-Земле, которая создала всех нас. У нее тысячи тысяч детей, и она знает каждого… Здесь он был слишком хорош, для него не было достойного наездника, а она найдет ему великого героя — сына Солнца или Северного Ветра, который будет ему и другом и хозяином, они будут скакать целыми днями и никогда не устанут… Завтра ты отнесешь ей подарок для него, а я скажу, что это от тебя.
На другой день мы с ней пошли к Пупковому Камню. Он когда-то упал с неба — давно, никто не помнит — и лежит в воронке, заросшей мхом, так что дворцового шума там совсем не слышно. Между камнями там нора священного Родового Змея, но он показывался только моей матери, когда она приносила ему молоко. Мать положила на алтарь мой медовый пряник и сказала Богине, для кого он… Когда мы уходили, я оглянулся, увидел, что пряник лежит на холодном камне; и вспомнил живое дыхание Коня у меня на ладони, его мягкие теплые губы…
Я возился с дворцовыми собаками у входа в Большой Зал, когда дед, проходя мимо, поздоровался со мной. Я встал и ответил — ведь он был царь как-никак, — но смотрел вниз при этом и ковырял пальцем ноги землю меж плитами двора. Это я из-за собак не заметил, как он подошел, а то бы исчез оттуда, чтобы не встречаться с ним. Если он способен на такое — как можно верить в богов?!
Он заговорил снова, но я ответил невпопад «да» и по-прежнему на него не смотрел. Он задумался, стоя надо мной, потом сказал:
— Пойдем со мной.
Я пошел за ним к угловой лестнице в его верхние покои. Там он родился, там зачал мою мать и своих сыновей, там он и умер потом… В то время я бывал у него редко, а в старости он проводил там дни напролет, потому что комната выходит на юг и обогревается трубой от камина в Большом Зале. Царское ложе в дальнем углу было пяти локтей в длину и четырех в ширину, из полированного кипариса, с инкрустацией и резьбой; и бабушка провела полгода у ткацкого станка, чтобы сделать то синее шерстяное покрывало с каймой из летящих журавлей… Возле ложа стояли окованный бронзой сундук для его одежды и шкатулка слоновой кости для украшений на специальной крашеной подставке… На стене висело оружие: щит, лук, меч и кинжал, охотничий нож и шлем с султаном из перьев, из стеганой шкуры, на подкладке из тонкой красной кожи… Больше там ничего не было, не считая шкур на полу и на кресле. Он сел и показал мне на ножную скамеечку.
С лестницы донесся приглушенный шум Зала: женщины терли песком длинные столы, прогоняя мужчин с дороги; какая-то стычка, смех… Дед насторожился, как собака при звуке шагов… Потом положил руки на подлокотники со львами и сказал:
— Так слушай, Тезей. Чем ты недоволен?
Я смотрел на его руки. Согнутые пальцы забрались в открытые пасти львов, на указательном был царский перстень Трезены с Богиней-Матерью на печатке… Я дергал медвежью шкуру на полу и молчал.
— Когда ты станешь Царем, ты будешь управляться лучше нас, правда? Умирать будет лишь уродливое и низкое, всё что гордо и прекрасно будет вечно жить. Так ты будешь править своим царством?
Теперь я взглянул ему в лицо, чтобы посмотреть, не дразнит ли он меня. И мне почудилось, что жрец с ножом мне просто приснился. Он притянул меня к своим коленям и зарыл пальцы в мои волосы, как делал это с собаками, когда те подходили приласкаться.
— Ты знал Царя Коней, он был твоим другом. Поэтому ты знаешь — он сам выбрал, быть ему царем или нет.
Я сидел тихо и вспоминал ту их великую битву и боевой клич.
— Ты знаешь, он жил как царь. Он первый выбирал себе пищу и любую кобылу, какую хотел, и никто не спрашивал с него работы за это.
— Ему приходилось биться за это, — сказал я.
— Да, верно. Но потом, когда прошла бы его лучшая пора, пришел бы другой жеребец и забрал бы его царство. И он бы умер трудной смертью или был бы изгнан из своего народа, от своих жен, и его ждала бы бесславная старость. Но ты же видел — он был гордый!..
— А разве он был старый? — спросил я.
— Нет, — его большая тяжелая рука спокойно лежала на львиной морде. — Не старше для коня, чем Талай для человека. Он умер не из-за этого. Но когда я стану рассказывать тебе почему, — ты должен слушать, даже если не поймешь. Когда ты станешь постарше, я расскажу тебе это еще раз, если буду жив. Если нет — ты услышишь лишь однажды, сейчас, но что-нибудь запомнишь, верно?
Пока он говорил, влетела пчела и загудела меж крашеных стропил… Этот звук до сих пор вызывает в памяти тот день.
— Когда я был мальчиком, — сказал он, — я знал одного старика, как ты знаешь меня. Только он был еще старше, это был отец моего деда. Сила покинула его, и он всегда сидел: грелся на солнышке или у очага. Он рассказал мне эту быль. Я сейчас рассказываю тебе, а ты, быть может, расскажешь когда-нибудь своему сыну…
Помню, я тогда взглянул деду в лицо: улыбается он или нет.
— Так вот. Он говорил, что давным-давно наш народ жил на севере, за Олимпом, и никогда не видел моря. Я не сразу поверил — прадед сердился на меня за это… Вместо воды у них было море травы, такое широкое, что ласточке не перелететь, — от восхода солнца до захода. Они жили приростом своих стад и не строили городов; когда трава была съедена, они двигались на новое место. Им не нужно было море, как нам, не нужны были плоды ухоженной земли — они этого никогда не знали. И умели они не много, потому что были бродячим народом. Но они видели широкое небо, что тянет мысли людские к богам, и отдавали свои первые плоды Вечноживущему Зевсу, посылающему дожди.
Во время переходов лучшие воины ехали вокруг на своих колесницах, охраняя стада и женщин. На них было бремя опасности, как и сейчас; это цена, которую мужчины платят за почести. И по сей день, — хотя мы живем на острове Пелопа, и строим стены, и растим оливы и ячмень, — по сей день за кражу скота у нас всегда карают смертью. Но кони — больше того. С ними мы отобрали эту землю у Берегового народа, который жил здесь до нас; и пока не иссякнет память нашего племени, Конь будет символом победы…
Так вот, наш народ постепенно двигался к югу, покидая свои прежние земли. Быть может, Зевс не посылал дождей, или людей стало слишком много, или их теснили враги, — не знаю. Но мой прадед говорил, что они шли по воле Всезнающего Зевса, ибо здесь место их мойры.
— А что это? — спросил я.
— Мойра? — он задумался. — Это завершенный облик нашей судьбы, черта, проведенная вокруг нее; это задача, возложенная на нас богами, и доля славы, какую они отпустили нам; это предел, какого нам не дано перейти, и предназначенный нам конец… Все это — Мойра.
Я попытался осмыслить, но это было мне не по силам. Спросил:
— А кто говорил им, куда идти?
— Владыка Посейдон, правящий всем под небом — морем и землей. Он говорил Царю Коней, и Царь Коней вел их.
Я приподнялся. Это я мог понять.
— Когда им нужны были новые пастбища, они выпускали его. И он, заботясь о своем народе как учил его бог, нюхал воздух, чтобы учуять пищу и воду. Здесь, в Трезене, когда он уходит к богу, его направляют через поля и через пролив. Мы делаем это в память о тех днях. А тогда он бежал сам, свободно. Воины следовали за ним, чтобы сражаться, если его не пропускали, но только бог говорил ему, куда идти.
И потому, прежде чем его выпустить, его всегда посвящали богу, бог вдохновляет только своих… Можешь ты это понять, Тезей? Вот когда Диокл охотится, Арго гонит дичь на него. Для тебя он этого не сделает, сам он на крупного зверя не пойдет; но он принадлежит Диоклу — и знает, что нужно хозяину. Понимаешь? Так вот. Царь Коней показывал дорогу, воины расчищали ее, а царь вел народ. Когда Царь Коней выполнял свое дело, его отдавали богу, как ты видел вчера. И в те дни, говорил мой прадед, так же поступали и с царем.
Я посмотрел на деда удивленно, но не очень. Как-то был уже внутренне готов к тому, что это не странно. Дед кивнул мне и провел рукой по волосам так, что защекотало шею.
— Лошади идут на жертву слепо, а людям боги дали знание. Когда царя посвящали, он знал свою мойру. Через три года или через семь — сколько бы ни было по обычаю — его срок кончался, и бог призывал его. И он шел на это добровольно, потому что иначе никакой он не царь и у него бы не было силы вести народ… Когда им приходилось выбирать из царского рода, то знак был таков: царь тот, кто предпочтет прожить короткую жизнь со славой и уйти к богу, а не тот, кто захочет жить долго и безвестно, словно вол, вскормленный в стойле. И хоть обычаи меняются, Тезей, но этот знак — нет! Запомни, даже если ты не понял.
Я хотел сказать, что понял его, но сидел тихо, как в священной дубраве.
— Потом обычай изменился. Быть может, у них был такой Царь, что он был слишком необходим народу, когда война или чума истощили царский род; или Аполлон открыл им тайное… Но они перестали жертвовать царя в назначенный срок. Они берегли его для чрезвычайной жертвы, чтобы умилостивить разгневанных богов, когда не было дождей, или падал скот, или война была особенно тяжела. И никто не смог сказать царю «пора». Он был ближе всех к богу, потому что согласился со своей мойрой, и он сам узнавал волю бога.
Дед замолчал, и я спросил:
— Как?
— По-разному. У оракула, или по знамению, или по сбывшемуся предсказанию… Или, если бог был очень близок к нему, по какому-то знаку между ними… Видение какое-нибудь или звук… И так это продолжается до сих пор, Тезей. Мы знаем свой час.
Я ничего не сказал и не заплакал — просто опустил голову ему на колено. Он видел, что я понял его.
— Слушай и запоминай, а я открою тебе тайну, Тезей. Не сама жертва, не пролитие крови приносят силу власти царю. Час жертвы может подойти в юности или в старости, бог может вообще от нее отказаться… Но нужно согласие, Тезей, нужна готовность… Она омывает сердце и помыслы от всего несущественного и открывает их богу. Но один раз помывшись, всю жизнь чистым не проживешь; мы должны подкреплять эту готовность. Вот так. Я правлю в Трезене двадцать лет и четырежды отсылал Посейдону Царя Коней. Когда я кладу руку на его голову, чтобы он кивнул, — это не только, чтобы порадовать народ добрым знамением: я приветствую его как брата перед богом и присягаю своей мойре.
Дед замолчал. Я глянул на него… Он смотрел на темно-синюю линию моря за красными стойками окна и играл моими волосами, как гладят собаку, чтобы успокоить ее, чтобы она не мешала думать… Но мне ничего не хотелось говорить: зерно, упав в борозду, прорастает не сразу… Так мы и сидели какое-то время.
Он резко выпрямился и посмотрел на меня.
— Ну, ну, малыш. Знамения гласят, что я буду царствовать долго. Но иногда они сомнительны, и лучше слишком рано, чем слишком поздно… Всё это слишком трудно для тебя; но человек в тебе вызвал эти думы, и этот человек их выдержит.
Он поднялся с кресла, потянулся, шагнул к двери — и по винтовой лестнице прокатился его крик. Диокл бегом поднялся наверх:
— Я здесь, государь…
— Глянь-ка на этого парня, — сказал дед. — Здоровущий, вырос из всех одежек, а делать ему нечего, кроме как возиться с собаками. Забери его отсюда и научи ездить верхом.
2
На следующий год я начал служить Посейдону. В течение трех лет я проводил на Сферии по месяцу из четырех и жил там с Каннадисом и его толстой старой женой в маленьком домике на опушке рощи. Мать часто жаловалась, что я возвращаюсь невыносимо испорченный; на самом деле, я приходил домой буйным и шумным, но это была разрядка после тишины: когда служишь в святилище, то никогда не забываешь, что бог рядом, даже во сне. И всё время прислушиваешься; даже ярким утром, когда поют птицы, и то говоришь шепотом… Кроме как в праздники, никто не станет шуметь во владениях Посейдона; это как свистеть на море — можешь получить больше, чем просил…
Помню много дней, похожих друг на друга: полуденную тишину, прямую четкую тень навеса; ни звука вокруг, кроме цикады в горячей траве; не знающие покоя вершины сосен и далекий шум моря, как эхо в раковине… Я подметал вокруг священного источника, посыпал чистым песком; потом собирал приношения, положенные на камень возле него, и уносил их в блюде для еды жрецу и слугам; выкатывал большой бронзовый треножник и наполнял его чашу из источника, зачерпывая воду кувшином в форме лошадиной головы… Потом мыл священные сосуды, вытирал их чистым полотном и выставлял для вечерних приношений, а воду выливал в глиняный кувшин, стоявший под карнизом. Эта вода — лекарство, особенно для зараженных ран; люди приходят за ней издалека.
На скале была деревянная фигура Посейдона — с синей бородой, с гарпуном и лошадиной головой в руках, — но я скоро перестал ее замечать. Как старые береговые люди, что поклоняются Матери Моря под открытым небом и убивают свои жертвы на голых камнях, я знал, где живет божество. Я часто прислушивался, замерев в глубокой полуденной тени, как ящерицы на стволах сосен; и иногда не было ничего, только ворковали лесные голуби, но в иные дни, когда было особенно тихо, глубоко под источником слышалось то чмоканье губ громадного рта, то вроде кто-то глотал огромным горлом, а иногда — долгий, глубокий вздох.
В первый раз, услышав это, я уронил кувшин в чашу и выбежал на жаркое солнце, едва дыша. Старый Каннадис подошел и положил руку мне на плечо:
— Что случилось, дитя? Ты слышал источник?
Я кивнул. Он погладил мне голову и улыбнулся.
— Ну и что? Ты ведь не пугаешься, если дедушка храпит во сне? Зачем бояться отца Посейдона — ведь он тебе еще ближе!
Скоро я научился узнавать эти звуки и слушал — напрягая всю свою храбрость, как это всегда у мальчишек, — пока не начинался звон в ушах от бесконечной тишины. И когда через год меня постигла беда, которую я не мог поверить никому из людей, я часто наклонялся над отверстием в скале и шептал о ней богу; если бы он ответил — мне бы стало хорошо.
В тот год в святилище появился еще один мальчик. Я приходил и уходил, а он должен был оставаться: он был обещан богу в рабы, и ему предстояло служить там всю жизнь. Его отец, обиженный кем-то из врагов, пообещал его — еще до его рождения — за жизнь того человека. Он вернулся домой, волоча за колесницей тело, как раз в тот день, когда родился Симо. Я был в святилище, когда Симо посвящали, — у него на запястье была прядь волос убитого.
На другой день я повел его по святилищу — показать ему, что надо делать. Он был много больше меня — я удивился, почему его не прислали раньше, — ему не нравилось, что маленький его учит, и он слушал меня в пол-уха. Он был не из Трезены, а откуда-то из-под Эпидавра; и чем больше я его узнавал, тем меньше он мне нравился. По его словам, он умел и мог все; он был толстый и красный; и если ловил птицу — ощипывал ее живьем и пускал бегать голую. Я сказал, чтобы он оставил их в покое, а то Аполлон поразит его стрелой, ведь птицы приносят его знамения, но он ответил с издевкой, что у меня, мол, кишка тонка для воина. Я ненавидел даже его запах. Однажды в роще он спросил:
— Кто твой отец, ты, голова паклюжная?
Мне стало не по себе, но я не подал виду и храбро ответил:
— Посейдон. Потому я и здесь.
Он расхохотался и показал мне неприличный знак из пальцев.
— Кто это тебе сказал? Твоя мать?
Никто до сих пор не говорил этого открыто. Я был избалованным ребенком: до сих пор мне приходилось встречаться лишь со справедливостью тех, кто меня любил… На меня словно накатилась черная волна; а он продолжал:
— Сын Посейдона! Это недоросток-то вроде тебя? Ты что не знаешь, что сыновья богов на голову выше других людей?
Я был слишком молод, чтобы уметь сдерживаться, меня затрясло. Здесь, в священном пределе, я не ждал оскорблений.
— Я и буду высоким, — говорю. — Буду высоким, как Геракл, когда вырасту. Все растут, а мне только весной будет девять.
Он толкнул меня так, что я упал навзничь. Драться в храме! От такой наглости я растерялся сначала, дух захватило… но он решил, что я испугался его. В мою сторону торчал его короткий жирный палец, и противный жирный голос ликовал:
— Восемь с половиной!.. Вот мне еще нет восьми, а я уже такой, что могу сбить тебя с ног. Беги домой, пусть мать сочинит тебе историю попроще!
Очнулся я от его воплей: я сидел на нем верхом и бил головой о землю, стараясь расколоть. Он поднял руку, пытаясь сбросить меня, — я впился в нее зубами… Жрец разжал мне челюсти палкой, и лишь тогда ему удалось меня оторвать.
Нас вымыли, высекли — и велели просить прощение у бога. Чтобы искупить свое непочтение, мы должны были уйти спать голодными, а свой ужин сжечь на его алтаре. Когда загорелось, источник забулькал и выбросил фонтан. Симо подпрыгнул от страха и впредь был более почтителен в присутствии бога.
Когда рука у него загноилась, Каннадис вылечил его священной соленой водой. Моя рана была внутри, и ее залечить было трудно.
Из дворцовых детей я был самым младшим, а меряться с другими — это раньше не приходило мне в голову. Придя домой на следующий раз, я начал оглядываться вокруг и узнавать сколько кому лет. Нашлось семь мальчишек одного со мной года и месяца, и только один из них был меньше меня. Были даже девочки выше ростом. Я притих и задумался.
Эти шестеро мальчишек угрожали моей чести; если я не мог их перерасти, надо было найти какой-то другой способ утвердить себя. Я стал нырять со скал, разорять гнезда диких пчел, катался верхом на брыкучем муле, таскал орлиные яйца — и требовал от них того же; а если они отказывались, то затевал драку. Для меня исход этих схваток был гораздо важнее, чем для остальных, — они-то этого не знали, — и потому я всегда побеждал. После этого я был готов дружить с ними. Но их отцы приходили жаловаться, что я подвергаю опасности их детей, и не проходило дня чтобы меня не наказывали.
Однажды я увидел возле брода старого Каннадиса, шедшего домой из Трезены, и догнал его. Он покачал головой и сказал, что слышал обо мне много плохого; но было видно — он рад, что я бежал за ним. Это меня подбодрило, и я спросил:
— Каннадис, а сыновья богов высокие?
Он пристально глянул на меня старыми голубыми глазами, потом похлопал по плечу.
— Кто может что сказать? Сказать — значит наложить путы на лучших из нас. Ведь сами боги принимают любой облик, какой хотят: Аполлон-Целитель являлся однажды парнишкой-пастухом; а сам Владыка Зевс, породивший могучего Геракла, в другой раз явился лебедем… И его жена родила сыновей в лебединых яйцах, вот таких маленьких, меньше кулака…
— Тогда как же люди узнают, что произошли от богов?
Он нахмурил седые брови:
— Никто не может знать. И тем более никто не смеет утверждать это; боги покарали бы за такое высокомерие, непременно. Но человек может искать славы так, будто это правда, и уповать на бога. Людям не нужно знать таких вещей, а с неба будет знак.
— Какой знак? — спросил я.
— Когда богам нужно, они дают знать о себе.
Я много думал об этом. Сын Талая свалился с дерева — меня сук выдержал, а под ним сломался, — он сломал себе руку, меня высекли, а бог не послал знака. Наверно, был недоволен.
За конюшнями был загон нашего быка. Он был красный, как медный котел, с прямыми короткими рогами — и похож на Симо. Мы любили дразнить его через забор, хоть управляющий стегал нас, если заставал за этой забавой. Однажды мы собрались смотреть, как бык обслуживал корову, а когда представление кончилось — мне пришло в голову спрыгнуть в загон и проскочить его поперек. Бык был спокоен после удовольствия, и в тот момент это было безопасно; но мальчишки вокруг были потрясены, и поэтому на следующий день я полез туда снова. В вечных поисках опасностей и подвигов я стал силен, вынослив и подвижен, так что когда другие мальчишки начали принимать участие в этой игре, я все равно оставался в загоне главным. Я выбрал себе в команду самых стройных и проворных, и мы вдвоем-втроем играли с быком на зависть всем остальным, а кто-нибудь караулил, чтобы не поймал управляющий.
Бык тоже учился; вскоре он начал рыть копытом землю еще до того, как мы влезали на изгородь, — мой отряд стушевался, и в конце концов остался лишь один парень, который выходил со мной. Это был Дексий, сын конюшего, он не боялся никого из четвероногих; но и мы двое предпочитали, чтобы остальные отвлекали быка, когда нам надо прыгать с забора.
Однажды Дексий поскользнулся на заборе и упал в загон, пока бык еще следил за нами. Он был младше меня, любил меня, во всем признавал мое главенство… Я знал, что сейчас произойдет… И все из-за меня!.. Не придумав ничего другого, я прыгнул быку на голову.
Что было дальше, я не очень помню. Ни как это было, ни что я чувствовал, ждал ли смерти… По счастью, я ухватил его за рога, и он небрежно меня скинул. Я подлетел, упал животом на забор и повис на нем, мальчишки стащили меня на другую сторону, тем временем Дексий успел выскочить, а шум привлек управляющего.
Дед пообещал мне, что выпорет на всю жизнь вперед, но когда раздел — увидел, что я весь черно-синий. Он ощупал меня и нашел два сломанных ребра… Мать плакала, спрашивала, что со мной творится… Но как раз ей я ничего не мог рассказать.
Когда ребра срослись — пора было снова в храм. Симо научился себя вести, он помнил свою укушенную руку. Теперь он никогда не звал меня по имени, а только «сын Посейдона». Он произносил это слишком вкрадчиво, и мы оба знали, что он имел в виду. Когда была моя очередь убирать в святилище, я часто под конец становился у источника на колени и шептал имя бога; и если в ответ слышался какой-нибудь звук — говорил тихо:
— Отец, пошли мне знак.
Однажды среди лета — мне было тогда десять — полуденная тишина была тяжелой, как никогда, я такой не помнил. Трава в роще побледнела от жары, хвойный ковер глушил все звуки, ни одной птицы не было слышно, даже цикады умолкли… Неподвижные кроны сосен замерли в темно-синем небе будто бронза… Когда я втаскивал треножник под навес, его бренчание казалось громом, и от этого стало худо, я не знал почему… И все время я думал: «Так уже было когда-то».
Работа была закончена, но я не пошел к источнику, а рад был выйти наружу. И стоял там, а по коже мурашки… Толстая жена Каннадиса вытряхивала свои одеяла и помахала мне рукой — стало полегче. Но тут подошел Симо.
— Ну как, сын Посейдона? Поговорил с отцом?
Так, значит, он следил за мной. Но даже это не тронуло меня, как тронуло бы в другой раз. Задело не это, а то что он говорил, не понижая голоса, хоть вся природа звала: «Тише!» Вроде мне провели гребнем против волос, так было противно.
— Замолчи, — сказал я.
Он пнул ногой камень, я уже от этого озверел, а он сказал:
— Я глядел через ставни и видел старуху нагишом. У нее на брюхе бородавка.
Я не мог вынести, как его голос пилил тишину; оскорбленное безмолвие нависало над нами.
— Уйди, — говорю, — ты что не чуешь? Посейдон разгневан!
Он уставился на меня с ухмылкой и заржал! И в тот же миг воздух над нами зашумел крыльями — все птицы в роще взвились с деревьев и повисли в небе, наполнив его тревожным криком. Я весь задрожал — ноги, руки, тело, голова… Я не знал, в чем дело, но смех Симо был невыносим. Я крикнул: «Убирайся!» — и топнул ногой.
Нога моя ударила землю — и земля дрогнула, вроде спина гигантского коня стряхивала мух, дернув кожей. Затрещало дерево, и навес начал валиться на нас… Кричали люди, лаяли и выли собаки, старый дребезжащий голос Каннадиса взывал к богу… Вдруг оказалось, что я стою в холодной воде — она хлынула из камней вокруг священного источника и залила все вокруг… Я был ошеломлен. Но во всем этом шуме — на сердце было легко и светло, как в воздухе после грозы.
«Так вот что это было, — подумал я, — я чувствовал, как это подходит!» И тогда вспомнил, как мне было плохо, как я плакал когда мне было четыре года.
В священном пределе и за ним все призывали Посейдона, Сотрясателя Земли, обещали ему жертвы, если он успокоится… Но вот раздался голос совсем рядом. Симо пятился от меня, прижав кулак ко лбу, и скулил, кричал:
— Я верю!.. Я верю!.. Скажи ему — пусть не убивает меня!..
Он споткнулся о камень и упал навзничь. И заорал так — жрец прибежал, испугавшись, что он ранен. Симо продолжал всхлипывать и показывал на меня пальцем — говорить он не мог. А я — я был слишком потрясен, чтобы испытать счастье в тот миг; я глотал слезы и очень хотел к маме. Вода вокруг моих ног превратилась в грязь, но я не двигался с места, слушая крики круживших птиц и хныканье Симо, пока старик Каннадис не подошел ко мне. Он почтительно приветствовал меня, потом убрал мои волосы со лба и увел оттуда за руку.
В тот раз никого не убило, и хоть дома потрескались — ни один не обрушился совсем. Дед прислал из дворца мастеров с новыми колоннами для храма; они выправили русло, и священный источник стал таким же, как был… Дед сам пришел проверить работу и вызвал меня к себе.
— Я слышал, бог послал тебе предупреждение?
Я пробыл один со своей тяжкой думой так долго, что уже не знал больше, в чем моя правда. Но этот вопрос деда всё разъяснил: ведь он был не только царь но и жрец, так что знал такие вещи… На душе стало спокойно. А дед продолжал:
— Отныне ты будешь знать его. Если оно придет к тебе — выбегай из дома и кричи людям, что Посейдон разгневан. Тогда они успеют спастись, пока дома не рухнули. Такое предчувствие — это дар бога. Будь достоин этого дара.
Я сказал, что буду. Я что угодно пообещал бы доброму Отцу Коней, который ответил знаком на мои долгие молитвы.
На другой день в роще Симо подошел ко мне бочком и сунул мне в руки что-то теплое. «Это тебе», — сказал он и убежал. Это был вяхирь. Наверно, он держал его, чтоб общипать, как и тех прежних, но вчера передумал. Птица дрожала у меня в ладонях, а я стоял и думал… Ведь Симо принес мне жертву, будто я сам божество!
У вяхиря были яркие глаза, темно-красные — как из коралла — лапки, перья на спине отсвечивали бликами, а на шейке неуловимо переливалась волшебная радуга… Я вспомнил слова матери, что мы приносим в жертву богам их собственные творения; вспомнил своих птиц и быков, которых я часто лепил из глины, и сравнил их с тем, что держал в руках. Да, это Симо в тот раз показал мне, насколько люди ниже бессмертных, даже в лучшие часы своей жизни.
Я подумал, не пожертвовать ли вяхиря Посейдону… Но он не больно-то любит птиц — лучше Аполлону вернуть… Я поднял руки и раскрыл ладони — пусть летит.
После божьего знака я больше не сомневался, что вырасту высоким. Я ждал и верил, год за годом. Многие из мальчишек за год-два вымахивали ой как! И безо всякой помощи богов… Четыре с половиной локтя, я думал, хватило Гераклу, хватит и мне; но я согласен и на четыре, если Посейдон так захочет…
Мне исполнилось одиннадцать. Я закончил службу Посейдону и выпустил почти взрослого кабана — уже клыки прорезались — в Большой Зал, когда там обедал Царь Тиринфа. Царь оказался моложе, чем мне показалось, и весело принял участие в ловле зверя; и говорил потом, что это был лучший вечер в его жизни… Но дед все равно меня высек — мол, это мог оказаться и Великий Царь Микенский!..
Мне исполнилось двенадцать. Я баловался в зарослях с дочкой одного землевладельца, которой было тринадцать… Ничего не получилось; она сказала, что ей больно, и прогнала меня. Я спорил: мол, я слыхал что так и должно быть, что это говорит в ее пользу, — но она была уверена, что я делаю что-то не так.
Тем не менее я становился мужчиной. В этом смысле я был взрослее многих ребят старше меня. Но меньше ростом был лишь один из моих одногодков, а когда Симо принес письмо из святилища, оказалось, что он выше меня на целую ладонь.
Мой дядя Диокл уже мог зачесывать бороду клином и собирался скоро жениться… Когда все остальные на меня сердились, он только смеялся над моими ссадинами и синяками, учил меня тонкостям боя и охоты и старался направить мои устремления на что-нибудь полезное. Но однажды, когда мне было тринадцать, он увидел меня в отчаянии возле площадки для борьбы и сказал:
— Послушай, Тезей. Никто не может преуспеть во всем. Для одного дела надо быть легким, для другого — тяжелым. Почему ты не хочешь принимать себя таким, каков ты есть? Ты и так молодцом: ты лучше всех прыгаешь, хоть в длину, хоть в высоту; ты почти всегда выигрываешь скачку на колеснице, ты даже лучше Дексия, а он лучше всех остальных; и ты отлично попадаешь в цель, хоть стрелой, хоть дротиком. Я знаю, Малей бросает дальше, но он ведь всегда мажет!.. Ты ничего не боишься, ты проворен; хватка у тебя как у взрослого; если будешь и дальше так — из тебя выйдет отличный воин. Будь же разумен, оцени свои силы, и ты с каждых Игр будешь уносить два-три приза; этого любому за глаза хватит… Так перестань себя грызть и не трать время на состязания, где для успеха необходима только тяжесть. Борец из тебя не выйдет, Тезей. Смирись с этим раз и навсегда.
Я никогда еще не видел его таким серьезным. И я знал, что он меня на самом деле любит…
— Да, Диокл, ты прав, наверно, — сказал я. Я был уже слишком взрослым, чтобы плакать. Но ведь он вообще забыл, что я должен вырасти большим! Забыл, почему я должен!.. Он не старается обидеть меня, как Симо, вовсе нет; просто он никогда об этом не думает, ему это и в голову не приходит!
Уже четыре года прошло после знака Посейдона. В юности четыре года — это много… И хоть люди мало об этом думали, но теперь все видели, что я не похож на сына бога.
Мне было четырнадцать, показалась Хлебная Луна, подошел праздник урожая. Мать принимала жертвоприношения Богине и читала ей просьбы, написанные на глиняных табличках… Вечером она пошла к Пупковому Камню, и я провожал ее до ограды. Оттуда было слышно, как она тихо рассказывает Родовому Змею всё о жатве. Она говорила, если мы что-нибудь от него утаим, то будущий год будет плохим. Я задержался в тени, подумав, как когда-то она рассказывала ему о моем отце; быть может, она заговорит обо мне сейчас? Но это смерть для меня — подглядывать женские тайны; чтобы не услышать чего-нибудь лишнего, я ушел.
На другой день был праздник. Мать приносила жертву Великой Матери; она стояла у священной колонны, стройная как копье, и гибкая как струйка дыма, — никто бы не подумал, что ее священное платье, с ромбами слоновой кости и золотыми дисками, такое тяжелое… Почему она мне ничего не говорит? Неужели ей непонятно, как я мучаюсь? Я злился на нее, и очень ее любил — и от этого было еще больнее.
А потом были Игры. Я смотрел борьбу. Грузные мужчины обхватывали друг друга поперек тела и тужились, стараясь оторвать противника от земли… Теперь надо забраться в глушь, в горы, чтобы увидеть старый эллинский стиль, но в те дни на острове Пелопа другого не знали; а он требовал не больше ловкости и искусства, чем перетягивание каната.
В состязаниях для мальчиков я выиграл прыжки, бег и метание дротика — как и говорил Диокл… На току вручали призы; мне досталась сумка наконечников для стрел, два дротика и вышитый алый пояс… Уходя, я услышал голос в толпе:
— Глаза у него голубые и волосы льняные, как у эллина; но телосложение как у береговых людей: поджарый, быстрый и маленький.
И кто-то тихо ответил:
— Ну что ж, всё бывает.
Я пошел прочь. Хлебная Луна светила ярким желтым светом… Я положил свои призы на землю и направился к морю.
Ночь была тихая. В лунном свете блестел пролив, где-то пела ночная птица — тихим переливчатым бульканьем, как струя воды из узкого кувшина… С горы слышалось пение и удары ладоней в такт танцу…
Я — как был, в одежде — пошел прямо в пролив. И, выплывая по течению в открытое море, думал: «Если я сын бога — он позаботится обо мне. А если нет — утону, и так тому и быть».
За мысом начиналось море, и оттуда я увидел факелы и услышал музыку на острове. Мне захотелось пойти посмотреть, что там; я повернулся и поплыл к острову, но меня относило течением, и огни становились все меньше и меньше… На самом деле смерть была близка, а жить захотелось снова…
Течение несло меня легко, но было сильным и жестоким, когда я пытался бороться с ним. Кожаные штаны тянули вниз, намокший пояс сдавливал грудь, я устал и замерз… Волна накрыла меня с головой, и я начал тонуть.
Вынырнуть уже не было сил, казалось я опускаюсь на самое дно, голову и грудь разрывало… Так значит бог отвергает меня; я прожил всю жизнь ради лжи, и ничего больше не осталось… О, стать бы сразу мертвым, не умирая! Умирать тяжело — хуже, чем я думал… В глазах мелькали искры, и вокруг вспыхивали видения: мать в своем бассейне; горбун, которого дразнят ребята; храм в полуденной тишине; юноши в конском танце, бьющие ногой в землю в честь бога; жертвоприношение — дед, подзывающий меня окровавленной рукой… И тогда, точно как семь лет назад, во мне зазвучало море, поднимая меня вперед и вверх. Словно прибой говорил: «Не бойся, сын, доверься мне. Разве я недостаточно силен?»
Страх прошел. Я перестал барахтаться — и вдруг увидел небо, и спокойно лежал на воде, как потерявшийся ребенок, которого отец нашел в горах и несет на руках домой. Течение огибает оконечность острова и снова поворачивается к суше, но я бы никогда этого не узнал, если бы не Посейдон, Пастырь Кораблей.
За холмами не было ветра, море здесь было гладким и в воздухе тепло; карабкаясь к факелам, я совсем согрелся… И был полон легкостью и счастьем, полон богом. А вскоре увидел свет сквозь яблоневую листву и людей, кружащихся в танце, — слышались дудки, пение, топот ног…
Это праздновала маленькая деревня на склоне холма во фруктовых садах. Факельный танец уже кончился, и факелы были привязаны к столбам. Вокруг площадки мужчины плясали танец Перепела. У них были маски из перьев и крылья, они крутились и подпрыгивали, приседали и кричали по-перепелиному… А женщины стояли вокруг и пели, хлопая в ладоши и топая в такт ногой.
Я вышел на свет — они смолкли. А самая высокая девушка, деревенская красавица, за которой бегали все их мужчины, крикнула:
— Смотрите, сын Посейдона! У него волосы мокрые, прямо из моря!.. — Она рассмеялась, но я видел, что она не дразнит меня.
После танцев мы убежали и спрятались совсем рядом, в густой влажной траве меж яблонь; и изо всех сил старались не рассмеяться, когда один из ее обожателей с ревом пронесся мимо нас, ломая ветки… Потом она отодвинулась от меня — но только чтобы выкинуть из-под себя упавшее яблоко.
Это была моя первая девушка. А вскоре предстояла и первая война: люди из Гермиона прошли на север через горы и угнали стадо в тридцать голов. Когда я услышал, как дядья созывают друг друга и требуют себе оружие и коней, я выскользнул из дома и побежал в оружейную и конюшню. Я проскочил через боковые ворота и догнал их на дороге в горы; Диокл решил, что это славная шутка… Это была последняя шутка, которой он посмеялся, — один из грабителей убил его. Я погнался за тем человеком, стащил его с коня и заколол кинжалом. Дед сердился, что я ушел без спроса, но меня упрекать не стал, — сказал, что Диокл всегда меня любил и я хорошо сделал, что отомстил за него. А я был в тот миг так разъярен — не сознавал, что убиваю человека: мне просто надо было, чтобы он был мертв, как волк или медведь… К вечеру мы пригнали назад всех коров, кроме двух, что сорвались с тропы в горах на крутом склоне.
А через несколько месяцев после того снова подошел срок платить дань царю Миносу.
В гавани собирали товары. Там были шкуры и масло, шерсть и медь, и гончие суки со щенками… Все вокруг были подавлены, но у меня были свои горести. Я знал, что невысоких мальчиков отделят от больших и спрячут их в горах. Я принес жертвы Посейдону, и Зевсу, и Великой Матери — молил их, чтобы они спасли меня от этого позора… Но дед вскоре вызвал меня и сказал:
— Тезей, когда ты будешь в горах — если что-нибудь там случится, шею кто-нибудь сломает или скот пропадет, — ты первый будешь в ответе. Запомни, я тебя предупредил.
Боги!.. Вредные, безжалостные боги!
— Неужели я должен уйти, государь? Но прятать меня — это унизительно для нашего рода. Они ни за что меня не возьмут, не могут же они думать о нас так подло.
Дед испытующе на меня посмотрел.
— Они подумают, что ты как раз такого сложения, как им надо, для их бычьих плясок. И ничего больше. И не болтай о том, чего не знаешь.
Резко говорил дед, но я не унимался:
— А кто такой царь Минос? Почему он обращается с нами как победитель? Чего ради мы должны ему платить? Почему не воевать с ним?..
Дед постучал пальцами по поясу:
— Приходи, когда у меня будет время. Поговорим. А пока — мы платим дань Миносу потому, что он командует на море. Если он задержит корабли с оловом, мы не сможем делать бронзу; нам придется делать каменное оружие, как первым людям Земли. Что касается войны — у него достаточно кораблей, чтобы высаживать здесь по пять тысяч человек каждый день. И еще не забывай, что он охраняет морские пути от пиратов, а они нам обошлись бы гораздо дороже.
— Ну ладно, пусть дань, — согласился я. — Но брать людей! Они же обращаются с эллинами как с рабами…
— Тем более надо от этого уклониться. В Коринфе и в Афинах им дали увидеть подходящих мальчишек, но теперь в других царствах уже знают, как быть… Война с Критом! Ты так об этом говоришь, словно это набег к соседу за коровой. Не испытывай моего терпения, Тезей… Вот что, в горах веди себя достойно, а когда тебя в другой раз позовут ко мне — умойся.
Моя новорожденная мужественность была глубоко оскорблена.
— Но ведь надо спрятать и девушек, — вспомнил я. — Мы можем выбрать сами?
Он хмуро глянул на меня.
— Это щенки лают над своей костью. Можешь идти.
И вот рослые парни вольно разгуливали по Трезене, а невысоких и стройных уводили под надзором двух придворных. Обидно было до смерти. Правда, в городе оставались и калеки, и болезненные ребята, но всё равно мы чувствовали себя опозоренными на всю жизнь. Пять дней провели мы в горах. Спали там в сарае, охотились, лазали по скалам, гонялись за зайцами, устраивали кулачные бои — старались доказать себе, что мы на что-то годны. Наши вожатые с нами измучились. Один парень потерял глаз — ворон выклевал — зато кое-кто, как мы после узнали, приобрел детей… В дальних горах девушки диковаты, но это дело любят… Потом кто-то приехал на муле сказать, что критяне отплыли в Тиринф и мы можем возвращаться.
Время шло, я становился выше, но никогда не перерастал остальных, и площадка для борьбы была моей юдолью скорби: были мальчишки на год меня младше, которые свободно отрывали меня от земли Я уже не мечтал о четырех локтях, даже до трех с половиной не хватало, а мне уже шел шестнадцатый год…
А вот во время танцев мои горести куда-то исчезали; и через танец я пришел к музыке. Я очень любил зимние вечера в Зале, когда лира переходила из рук в руки, и был счастлив, когда меня просили петь. В один из таких вечеров у нас был гость, аристократ из Пилоса. Он хорошо пел и, чтобы сделать нам приятное, исполнил балладу о Пелопе, герое-основателе нашего Рода. Это была не та песнь, которую любили в Трезене: про то как Пелоп гнался на колеснице, чтобы завоевать руку дочери Царя Земли, про то как Царь убивал всех претендентов, когда их колесницы огибали поворотный камень, пока фокус с восковой чекой не лишил его этой возможности. А его песнь была о юности Пелопа, о том, как синевласый Посейдон любил его и предупреждал о землетрясениях; оттого его и назвали Пелопом, пелось в балладе, что его щека была запачкана землей.
Я слушал молча. Так, значит, вот откуда были мои предчувствия! Это не дар бога, а врожденная способность, как мелодичный голос певца, открывшего мне всё это. Она вошла в меня с кровью матери…
На другой день, всё еще под впечатлением той песни, я пошел искать своих приятелей, но все они были на борьбе. Я стоял возле площадки, глядя на белую пыль, вздымавшуюся до листвы тополей, слишком гордый, чтоб схватиться с мальчишками моего веса, — все они были много младше меня.
Я смотрел, как борцы кряхтят от напряжения, подымая друг друга или стараясь осадить вниз, — и тут мне в голову пришла мысль. Если кто-нибудь бьет сбоку по ноге в тот момент, когда вес переходит на нее, то человек очень легко падает. Он теряет равновесие и падает сам — я когда-то так упал, зацепившись за случайный камень… Я смотрел на ноги, на тела — и раздумывал об этом.
И тут Малей, здоровый неуклюжий малый, крикнул:
— Тезей, иди сюда! Давай поборемся! — и захохотал.
Он хохотал не потому, что не любил меня, просто он так шутил.
— Давай, — говорю, — почему бы нет?
Тут он хлопнул себя по ляжкам и аж взревел от восторга. Мы начали сходиться. Он протянул руки для захвата, я двинулся и заставил его отклониться — и тут подцепил его ногой сзади под пятку. Он грохнулся оземь будто мешок.
Моя быстрота и облако пыли на площадке помогали мне — за несколько дней я повалял всех трезенских парней одним этим приемом. Я был счастлив. И вот однажды просыпаюсь я довольный и иду безо всякой цели в гавань… Там был небольшой корабль из Египта, на него грузили шкуры и рога. На палубе возились двое пацанов — маленькие, коричневые, голые и гибкие как ящерицы… Они боролись — не дрались — и хотя это были совсем необученные малыши, видно было что они старались делать. Я набрал сладких фиг и меду и полез к ним на борт; а уходя, уносил с собой еще полдюжины приемов, годных против более тяжелого противника, не хуже моего зацепа. В те дни я еще не знал, что египтяне большие знатоки этого дела; я думал, это мне знамение от бога.
Нынче куда ни пойди — всюду новый афинский стиль борьбы, так что опять надо подбирать борцов по весу, а я еще сужу борцов на Посейдоновых Играх, людям это нравится… Иногда думаю: кто будет судьей на моих погребальных Играх? Раньше надеялся, что мой сын, но он мертв…
А тогда, в Трезене, даже мужчины стали приходить смотреть, как я борюсь. Я немножко заважничал. Хоть ребята и изучили несколько моих захватов, я все время был чуть-чуть впереди их; ведь каждая мысль приводит к следующей. И люди стали говорить, что определенно что-то есть между мной и богом: как могу я побеждать людей настолько меня больших, если Сотрясатель Земли не прикладывает к этому руку?
3
Так, к семнадцати годам я более или менее примирился с собой, хоть ростом был меньше трех с половиной локтей. С девушками мне это не мешало, и дети мои были белокурые эллины… Один только был маленький исмуглый, но брат девушки был такой же.
Подошел месяц моего рождения, когда мне исполнялось семнадцать. А в день рождения, во второй четверти луны, мать подошла ко мне и позвала:
— Пойдем со мной, Тезей, я должна тебе кое-что показать.
Сердце у меня остановилось. Когда так долго прячешь тайну, она становится подобна перетянутой струне: касание пера, даже движение воздуха заставляют ее звенеть… Меня охватила тишина, как перед землетрясением.
Мать вывела меня в боковые ворота и пошла по дороге в горы, а я бесшумно шел следом, отстав на полшага. Тропа вилась по дну ущелья, где бежала горная речка, зеленая от папоротников снизу и листвы сверху; мы перешли речку по громадному камню, что положили там гиганты еще до памяти людской… И все время, пока мы шли, лицо у матери было тихо и печально. Не так должны выглядеть женщины, которых боги почтили своей любовью!.. Сердце у меня холодело.
Мы свернули от потока вверх и вошли в священную рощу Зевса. Эта роща была очень старой уже во времена береговых людей; даже они говорили, что она была на этом месте с незапамятных времен. Там всегда так тихо — слышно, как желуди падают. Но тогда была весна, на искривленных сучьях нежно зеленела молодая листва, а вокруг мощных стволов в тени светились цветы. Пахло плесенью от прошлогодних листьев под ногами… С самого начала мы шли молча, и теперь хруст сучка казался громким.
В глубине леса было самое священное место, куда Зевс бросил свою молнию. Это было так давно, что пораженный дуб почти растворился в земле. Но хотя останки огромных сучьев исчезали в ежевике, пень вроде зуба еще стоял и жил своей тайной жизнью: на коленоподобных изгибах корявых корней пробивались робкие зеленые почки… То место настолько священно, что с тех пор, как ударил Собиратель Туч, там ничто больше не смеет расти, и сквозь окно в зеленой кровле видно море.
Мать шла впереди, чуть приподняв спереди подол, чтобы не мешал подниматься по склону. Блестели золотые пряжки на ее сандалиях, солнечные зайчики на бронзовых волосах… Она была очень красива. Высокий лоб, широко посаженные серые глаза, густые брови почти сходились над гордым прямым носом… Рот у нее, как и у всех жриц, был создан, чтобы хранить секреты; но не хитрый, как иным казалось, а серьезный… Я никогда не мог понять, почему мне говорили, что я похож на мать, но бывал счастлив услышать, что у меня ее глаза. Только мои казались голубее от загара и подбородок у меня был свой (или отцовский). Да, я был ее сыном. Но в то далекое время она была для меня прежде всего жрицей, которой никто не смеет задавать вопросов; она, казалось, была закрыта Богиней, как броней… И потому, если бы она мне сказала, что мой отец Фиест — хромой парфюмер что варил ей благовония для ванны — или свинопас из горной глухомани, это не коснулось бы, не опозорило ее. Только меня.
Она подвела меня к священному дубу и остановилась. У ее ног лежал камень.
Я знал его. Я нашел его еще мальчиком, когда мы с Дексием впервые вошли на цыпочках в этот лес и подбадривали друг друга под пристальными взглядами деревьев. Нигде дриады не глядят так пристально в спину человеку, как здесь. Это была древняя серая плита; ее, наверное, положили здесь как алтарь, когда Зевс впервые метнул свой гром… Я никого не встречал там, но часто находил свежую золу, словно кто-то приносил там жертвы; и теперь она тоже была, еще теплая на вид. Я вдруг подумал: «Уж не мать ли это сюда приходила? Наверное, ей был какой-то знак, о котором она собирается мне рассказать…» Руки у меня покрылись гусиной кожей.
— Тезей, — голос у нее был хриплый (помню я удивленно посмотрел на нее). Она зажмурилась, но было видно, что на глазах у нее слезы. — Тезей, не сердись на меня, не от меня это зависело. Я поклялась твоему отцу той клятвой, что связывает даже богов, — Рекой и Дочерьми Ночи поклялась я ему, что не скажу тебе, кто ты, пока ты не сможешь поднять этот камень сам.
Сердце у меня подпрыгнуло. Жрицы царского рода не дают таких клятв кому попало… Я еще раз взглянул на камень и понял, почему она плакала.
Она сглотнула так трудно, что я услышал.
— Здесь он оставил тебе знак. Он говорил, я должна испытать тебя в шестнадцать лет, но я видела, что это слишком рано… Но теперь я должна.
Слезы бежали по ее щекам, она вытерла лицо руками.
— Прекрасно, — говорю. — Только ты посиди наверху, мам, и не смотри на меня.
Она ушла, я снял с себя браслеты… Выше пояса, кроме них, на мне ничего уже не было; я почти в любую погоду ходил раздетым, для закалки. И, пожалуй, это пошло мне на пользу…
Я наклонился над камнем и подрыл край руками, чтоб найти нижнюю кромку. Потом обкопал вокруг, расшвыривая землю, как собака лапами, и надеясь что с другой стороны плита будет потоньше… Но оказалось — толще. Вернулся обратно, хорошенько уперся ногами, захватился пальцами — и потянул. Даже шелохнуть его я не мог!
Я стоял, тяжело дыша, как полузагнанная лошадь, что не выпрягли из колесницы… Я проиграл еще до начала: то была задача для богатыря вроде Малая, громадного, как медведь, или для Геракла, зачатого Зевсом в утроенную ночь… Это было для божьего сына, и теперь мне все стало ясно: у богов, должно быть, как и у людей, сын может быть законным, но целиком пойти в мать… В моих жилах лишь одна часть божественной сукровицы на девять частей людской крови; этот камень — пробный камень бога, и бог отвергает меня.
Я вспомнил все, что предпринял и пережил за все эти годы, — всё пошло прахом, с самого начала всё было напрасно, и мать плакала от стыда за меня.
Это меня разъярило. Я ухватился за камень и рвал его, уже ничего не соображая, — больше зверь, чем человек. Мышцы и связки трещали, руки были в крови — я не замечал. Я забыл о матери, пока не услышал, как она бежит ко мне с криком: «Перестань!»
Пот заливал глаза, я едва ее видел… И был настолько не в себе, что закричал на нее, как на крестьянку:
— Я же говорил тебе, уйди!
— Тезей, — говорит, — ты с ума сошел! Ты себя убьешь!
— Ну и что?
— Я же знала, как это будет! — она заплакала и сжала руками лоб. Я молчал. Я почти ненавидел ее в тот миг.
— Он должен был мне поверить. Да, хоть я была очень молода… — Увидела, что я смотрю на нее и жду, и зажала рот рукой. Я повернулся уйти — и вскрикнул от боли: раньше не заметил, что порвал себе спину. Она подошла и мягко ощупала мышцу — я смотрел в сторону.
— Тезей, сын мой, — ее нежность была сейчас хуже всего, я изо всех сил стиснул зубы, — одно я тебе могу сказать. Это не я заставляю тебя мучиться. И мне кажется, что я имею право судить… — она замолчала, глядя на море через просвет в листве, потом заговорила снова: — Береговой народ был дикий; они думали, что Зевс Вечноживущий умирает каждый год, и поэтому служили Великой Матери не так как мы, — не так как должно, — но они по крайней мере понимали, что есть вещи, которые нужно решать женщинам…
Она умолкла на миг — но увидела, что я жду не дождусь, когда она уйдет… И ушла. А я бросился ничком на землю.
Черная почва дубравы впитала мои слезы вековым ковром опавших листьев… Лес Зевса — не такое место, где станешь осуждать богов. Посейдон сокрушил мою гордость, словно колонну уронил ради забавы, но я на него больше не обижался. Мне вдруг стало ясно, что он не сделал мне ничего плохого, наоборот… Было бы недостойно осуждать его, тем более мне: ведь благородный юноша обязан превосходить врагов своей жестокостью, но друзей — добротой… Успокоившись, я побрел домой, забрался в горячую ванну — мать уже приготовила… Потом она растерла меня маслом с травами, но мы с ней больше ни о чем не говорили.
Пару недель я не мог бороться; сказал приятелям, что упал в горах. Во всем остальном жизнь шла по-прежнему, только вот света больше не было. Те, с кем это случалось, меня поймут; таких, пожалуй, немного — такие люди легко умирают…
Когда человек в темноте — лишь один из богов может ему помочь.
Никогда прежде не выделял я Аполлона. Конечно же всегда молился ему, натягивая лук или настраивая лиру, а когда стрелял — всегда оставлял ему его долю… Иногда он давал мне удачную охоту… Хоть он почти непостижим и знает все тайны, даже женские, но он настоящий эллин и достойный человек. Если всегда помнить об этом, то легко быть угодным ему — гораздо легче, чем кажется. Он не любит слез, как солнце не любит дождя; но печаль он понимает. Принеси ему свою печаль в песне — и он тебя избавит от нее.
В небольшой лавровой роще возле Дворца, где у него алтарь, я принес ему жертвы и каждый день приходил туда петь ему. По вечерам в Зале я всегда пел о войне; но один в роще, когда меня слышал только бог, я пел о горе: о девушках, принесенных в жертву накануне свадьбы, о женщинах спаленных городов, плачущих над павшими мужьями… Или древние песни, оставшиеся от береговых людей, — о юных героях, любивших богиню один год и знавших о своей неминуемой смерти…
Но ведь невозможно все время петь. Иногда на меня нападала тоска. Черная, тяжелая, как зимняя снеговая туча… Тогда я никого не хотел видеть и уходил один в горы, с луком и собакой.
Однажды летом я забрел далеко. Стреляя по мелкой дичи, я только подбирал свои стрелы: ветер мешал. Ничего не было, кроме одного зайца. Уже солнце садилось, а я был еще наверху и смотрел на тени гор, тянувшиеся к острову через пролив… Со склонов, закрытых лесом и туманом, поднимались тонкие голубые дымки Трезены… Там, наверно, уже зажигали лампы, а на вершинах птицы еще пели свои тихие вечерние песни и высвечивалась каждая травинка.
Я вышел на круглую ровную площадку, на самом гребне. Утром туда падают самые первые лучи солнца и потому там алтарь Аполлона. Оттуда с обеих сторон видно море, а на западе — горы вокруг Микен… Там стоит домик для жрецов — каменный, потому что наверху очень сильные ветры — и небольшое хранилище для священных предметов, тоже из камня. Под ногами — упругий вереск и чабрец, и алтарь будто врезан в небо… Я был по-прежнему мрачен и решил, что не пойду ужинать в Зал. Я бы только поссорился там с кем-нибудь — зачем наживать лишних врагов? А в гавани есть девушка, которая меня примет, это ее профессия…
С алтаря поднялось бледное кольцо дыма от старого огня, и я остановился почтить бога. В руке был застреленный заяц. «Не стоит его делить, — думаю, — нельзя быть мелочным с Аполлоном. Оставлю ему всего зайца, ведь он часто дает мне удачу даром.»
На фоне лимонного закатного неба алтарь был черен. На нем еще тлели угли после вечерней жертвы, и в воздухе висел смешанный запах горелого мяса и вина… Дом жреца был безжизнен — ни света, ни дымка, наверно, ушли за водой или за дровами… Во всем мире вокруг не было ни единой души — только пронзительный свет, и голубые просторы гор, морей и островов. Даже пес был подавлен этой пустотой: растерянно повизгивал, шерсть на загривке потемнела… Вечерний ветер затронул мою тетиву, и она зазвенела странным высоким звуком… И вдруг я почувствовал себя таким ничтожным — словно муравей, тонущий в реке! Я отдал бы всё, чтобы увидеть кого-нибудь — кого угодно, хоть старушку, собирающую хворост, хоть зверюшку какую, лишь бы живая была!.. Но весь мир вокруг был неподвижен, только тетива звенела, тонко как комар. Свело шею, перехватило дыхание — я бросился бежать. Мчался вниз по склону, по лесу — ничего не видя, как загнанный олень, пока не уперся в непролазную чащу… И стоял там в напряжении, волосы дыбом, как на собаке, и ясный голос сказал мне:
— Не задерживайся сегодня, а то пропустишь арфиста.
Я знал этот голос. И эти слова уже слышал… Это же мать мне сказала сегодня утром, когда я уходил! Я что-то ответил ей и тут же забыл об этом — не до арфистов мне было, — а теперь ее слова вернулись как эхо.
Я поднялся к храму, положил зайца на стол для приношений, чтоб жрецы забрали, и пошел домой. Тоска прошла — мне хотелось есть, хотелось вина, хотелось быть с людьми.
Торопился я здорово, но все равно опоздал. Дед вскинул на меня брови… А арфист уже сидел за столом среди придворных, и мне освободили место рядом с ним.
Это был человек средних лет, сухощавый и смуглый, с глубоко сидящими глазами и задумчивым ртом. В царских домах он чувствовал себя уверенно; не было в нем ни заносчивости, ни подобострастия — с ним легко было говорить. Он рассказал мне, что пришел из Фракии, где служил в храме Аполлона. Бог запретил ему есть мясо и пить крепкое вино, так что он брал себе только сыр и зелень, да и то понемногу — ему предстояло петь… Его платье сверкало золотом — наверное, подарок кого-то из царей, — но лежало сложенное на скамье рядом, а певец сидел в чистой белой нательной рубахе. Это был спокойный человек, с примесью крови берегового народа, и о своем искусстве он говорил просто, как мастеровой.
За ужином мы говорили об изготовлении лир: как выбрать черепаху, как натянуть шкуру на панцирь, как приделать рога… После этого разговора я сделал такую лиру, что играю на ней по сей день.
Потом со столов убрали, слуги вытерли нам руки полотенцами с горячим мятным отваром; вошла мать и села в свое кресло возле колонны… Судя по тому, как она здоровалась с арфистом, он уже пел у нее наверху.
Слуги ушли в нижний конец Зала есть и слушать. Дед приказал принести певцу его арфу и пригласил его начинать. Он надел свою торжественную ризу — синюю, усыпанную маленькими золотыми солнцами — и теперь в свете факелов казался обрызган пламенем… Сосредоточился… Я кивнул молодежи, чтоб с ним больше не заговаривали. По одному тому, как он снял свою ризу, садясь за стол, я понял, что это настоящий мастер. И на самом деле, с первого же аккорда все в Зале замерло, разве что собака где чесалась.
Он пел нам микенскую балладу. Про то как Агамемнон, их первый Великий Царь, отобрал землю у Береговых людей и женился на их Царице; но когда он ушел на войну, она вернула прежнюю религию и выбрала себе другого царя, а когда ее господин вернулся домой — принесла его в жертву, хоть он не был согласен. Их сын, которого укрыли эллины, когда стал мужчиной, вернулся. Возродить культ Небесных Богов и отомстить за убитого. Но в крови у него была прежняя религия, а для нее нет большей святыни, чем мать: потому, совершив правосудие, он сошел с ума от ужаса, и Дочери Ночи преследовали его, прогнав через полмира. В конце концов, едва живой, он упал на порог Аполлона, Убийцы Тьмы; и бог шагнул вперед и поднял руку — они еще повыли как собаки, у которых отобрали дичь, но земля впитала их обратно, и молодой царь избавился от них. Это была ужасная история, и слушать ее было невыносимо, кроме самых последних стихов.
Когда он закончил — наверно, даже в нижней деревне было слышно, как грохотали кубки по столу. Вдруг моя мать показала, что хочет говорить.
— Дорогой отец, этот вечер станет предметом зависти для тех, кого нет здесь с нами. А сейчас, пока наш бард отдыхает и пьет, чтобы остудить горло, — не пригласишь ли ты его посидеть за нашим столом и рассказать нам о своих странствиях? Я слышала, он знает мир до самых дальних пределов…
Конечно же дед пригласил его, и кресло его переставили. Я тоже подошел, и мне поставили табурет возле колен матери. Мать подала ему чашу, поблагодарила за песню и спросила о его самом дальнем путешествии.
— Без сомнения, госпожа, дальше всего я заходил два года назад, в страну гиперборейцев. Она лежит к северу и к западу от Геркулесовых Столбов, в том безбрежном зеленом море, что поглотило Атлантиду. Но Аполлон — бог-защитник гиперборейцев; в тот год они построили второй круг его великого храма… Я пел трудовую песню, когда они поднимали каменные опоры.
— А что там за страна, за спиной северного ветра? — спросил я.
— Земля темна от лесов и зелена от дождей… Для защиты от зверей и врагов жилища там строят на голых вершинах холмов или на вересковых пустошах… Но для певцов и для жрецов Аполлона — это великая страна; там лучше всего можно познать тайны бога. Я сам жрец и был счастлив попасть туда. Я родом из Фракии, но бог велит мне странствовать; его оракул на Делосе послал меня в тот раз. Я был на Делосе и пел во имя бога, когда по Янтарной Дороге явились туда послы со своими приношениями: Великий Царь гиперборейцев прислал сказать, что ему предстоит эта великая работа, и просил прислать жреца с Делоса. Ведь там главный центр культа Целителя — не только на островах Киклад, но и во всем мире… Оракул в горной пещере сказал, что нужно послать фракийского певца; вот так и получилось, что поехал я.
Он рассказал нам о плавании — холодном, бурном и опасном… Шторм отогнал их к северу от острова; и там, говорит, они прошли между двух плавучих скал, белых как хрусталь, которые едва не раздавили корабль; и на одной из них сидело черное чудовище с семью собачьими головами на змеиных шеях, и головы лаяли…
Я глянул на деда, дед незаметно подмигнул мне: мол, в конце концов парень не присягал говорить только правду.
Мать спросила:
— А как они строили храм Аполлона?
— По обычаю тех краев: стоячие камни по кругу, а на них балки-перекладины, тоже из каменных монолитов. Внутренний круг там стоял с незапамятных времен — это символ таинств Аполлона… Когда я там был, жрецы посвятили меня в Малое таинство, и я узнал такие вещи, от которых человек делается лучше на всю жизнь.
— Это тайна, — сказала мать, — но расскажи нам о строительстве.
— Это была работа, достойная титанов. Громадные глыбы грубо тесаного камня, каждая с дом бедняка, — но они доставили их за много дней пути со священной горы. Тащили вокруг многих холмов, переправили через реки… Иные были в дороге по нескольку лет. А когда подошло время подымать их — Великий Царь послал на Крит за каменщиками. Но если бы там собрались вместе все силачи мира — всё равно они бы даже не пошевелили тех камней без машин.
Потом он рассказывал, как тот царь и еще шесть других, чтивших этот храм, собрали всех своих людей; так много было нужно, хоть критяне и облегчили работу своими лебедками и рычагами… по даже эта масса казалась жалкой и немощной у тех громадных камней, словно толпа муравьев, что пытались бы тянуть гальку.
— И тогда я понял, почему Аполлон велел послать певца. Критяне думают, что знают всё, но это не так; они умеют поднимать камни, но не знают людей… А народ был напуган. Я понял, зачем я там, — и воззвал к богу — и бог дал мне силу наполнить работу песней и превратить ее в песню. Я запел его гимны и задал ритм; семеро царей со своими сыновьями и со всеми приближенными встали вместе с народом и взялись за канаты во имя Аполлона… И камни стали понемногу подниматься — и встали в гнезда, что приготовили для них критяне… И стоят прочно.
Он отдохнул уже; я спросил, не споет ли он нам один-два куплета из той рабочей песни. Он улыбнулся, сказал что это будет танец без танцоров… но когда запел — даже самые старые из придворных, чьи руки никогда не знали общего труда, закачались в такт на своих скамьях, словно гребцы на галере. Он был знаменит такими песнями; все ахейские цари, замышлявшие большую стройку из камня, посылали за ним, чтобы задавал ритм рабочим и заложил в стены удачу… После его смерти не осталось никого, кто мог бы с ним сравниться; простые люди верят, что под его песни камни поднимались сами.
Пора была одарить его. Дед дал ему хорошую брошь, а мать внесла тяжелый пояс, вышитый золотом, — такой подарок подошел бы и царю… Певец научил меня многому, потому мне тоже захотелось дать ему что-нибудь необыкновенное — я расстался со своим черным кольцом, из самых лучших моих вещей. Оно было сделано из драгоценного металла, из далекой страны, очень тяжелое и такое твердое что на нем можно было точить бронзовый клинок… Я был рад, что ему понравилась эта редкость; золота у него было достаточно и без того.
Сначала мать, а потом и дед собрали своих людей и поднялись к себе. Рабы разобрали столы и внесли кровати для неженатых мужчин… Когда певец устроился, я спросил, не хочет ли он какую-нибудь из дворцовых женщин, но он сказал что хочет спать.
Я вышел во двор. Ночь была ясная; зубцы стены, часовой с копьем и рогом чернели на фоне звездного неба… В Зале придворные спали со своими девушками, — у кого были свои, плененные или купленные, — а молодежь искала себе компанию, как водится. Мимо меня шла одна — она принадлежала матери, и в тот вечер сидела возле ее кресла. Я догнал ее, схватил за талию — она отталкивала меня только ладошками, мы были не совсем чужие. Мы боролись и смеялись шепотом; она сказала: ладно, чему быть, того не миновать, только я ее погублю… и когда погасили последние факелы, мы пошли в Зал.
Потом я спросил ее, тихо, так чтобы никто не смог услышать, что сказала мать певцу, когда отдавала свой подарок. Но она уже почти спала, разозлилась, что я ее бужу, и сказала — не помнит.
4
Когда она уходила, я проснулся. Было еще темно.
Я видел сон, и теперь — разбуженный — вспомнил его. Мне снился храм гиперборейцев: громадные лебедки на фоне серого неба, огромные камни ползут вверх и цари налегают на рычаги. И мысль, пришедшая прямо от бога, сбросила меня с постели.
Пошел в мастерскую дворцового плотника… Чуть брезжила заря, даже рабы еще все спали; только в полях люди подымаются в такую рань. Было слишком темно искать то, что мне было нужно, но иначе я не мог: никто не смеет посягнуть на дубы Зевса. Я нашел-таки короткую толстую чурку и два кола. Кольям затесал концы на клин, потом связал все это вместе, кое-как примостил себе на плечи — я не приучен был тяжести носить — и двинулся в дубовый лес.
Я поднимался по ущелью в красном пылании зари, а когда пришел в рощу — алтарный камень весь сверкал под солнцем, как риза певца. Я сложил свою ношу и воззвал к Аполлону.
— Целитель Аполлон, — говорю ему, — Аполлон Ясновидец! Если я оскорбляю этим кого-нибудь из богов, ниспошли мне знак.
Посмотрел вверх… Небо уже стало голубым, и высоко-высоко я увидел парящего орла. Он повернул крылья и скользнул влево, скрылся за ветвями. «Что ж, — думаю, — ни один бог не скажет яснее, давно надо было к нему прийти…» Ведь раньше я слишком много переживал и мало думал — и слышал то, что хотел услышать, а не то что говорилось: ведь не было сказано, что я должен сделать это голыми руками, только — что сам…
Я хорошенько забил рычаг под камень и напряг спину. Край камня приподнялся, я ногой затолкнул под рычаг чурку… Собрался было нажать рычаг книзу, но вспомнил что из-под камня надо что-то доставать, а если отпустить рычаг — камень упадет обратно… Я присел на корень подумать, и тут увидел, что корень хорошо торчит из земли. Хорошо, что принес рычаг подлиннее — его как раз хватит под этот корень завести…
Опустить конец рычага так низко — для тяжелого человека ничего не стоит, а для меня это был трудный бой. Но в этот раз я знал, что сделаю, — даже если меня придавит насмерть. Надо сделать!.. Дважды я почти доставал рычагом до корня, и дважды рычаг вырывался кверху, но когда навалился в третий раз — в ушах зашумело море Посейдона. И тут я понял, что на этот раз получится, — и получилось.
Отошел в сторону отдышаться… Камень опирался на толстый край, тонкий был подвешен на рычаге, а постель его зияла словно пасть самой Тьмы. И на миг мне стало жутко — захотелось бросить все это. Будто грабитель гробниц, что замирает в страхе перед гневом мертвых. Быть может, я надеялся, что То-что-там само выйдет мне навстречу? Крылатый жеребенок, или струя соленой воды… Но ничего не было. Я лег на землю, просунул руку под камень и стал щупать.
Там была земля, камни, скользкий червяк, от которого меня передернуло… Потом я наткнулся на заплесневелую ткань, и в нее было завернуто что-то твердое. Выдернул руку: показалось, что это кости… Всё это было слишком не похоже на то, чего я ожидал. От слизи того червяка меня мутило, но я уговорил себя и пощупал снова. «Что-то» было слишком прямое для кости; я охватил его и вытащил наружу. Это был длинный сверток, в гнили блестело несколько золотых нитей, из нее выползали какие-то жучки, побежала желтая сороконожка… Памятный подарок смертного. Но ведь я всегда это знал, зачем мне знать больше?.. Мне было противно от этого свертка, лучше бы я его не доставал, пусть бы моя неведомая судьба спала в земле!.. Я встряхнулся, как собака, и рванул ткань. «Что-то» начало падать, сверкнув на солнце золотом… Не знаю, почему я решил, что нельзя уронить это на землю, — плохая будет примета. А движение у меня не отстает от мысли, — всю жизнь так, — я поймал его на лету и тогда понял, почему нельзя было ронять: это был меч.
Рукоятка была не запачкана, и я увидел, что она богаче дедовой: эфес был сделан из замысловатого узла сплетенных змей, их отодвинутые головы образовали крестовину, а хвосты перекрывали верх клинка. Клинок уже позеленел от времени, но был прекрасен — изделие искусного оружейника… «Эллинский длинный меч, — подумал я. — По крайней мере он был из благородных…»
Так исчезли мои худшие опасения. Но и самые святые надежды — тоже. Где-то в глубине души я всё же, наверно, всегда надеялся, что Посейдон смягчится и признает меня своим. А теперь… Но тот-то старик во Дворце — ведь он всё знал! Знал, когда меня еще на свете не было… Если бы он оставил меня в покое, не пичкал бы этими сказками для детей, я был бы сегодня счастлив; это он насыпал мне полон рот золы!
Глянул снова на сверток, там было еще что-то. Оказалось — пара заплесневевших сандалий с пряжками в форме маленьких змей из чеканного золота и с аметистами на ремнях. Я снял свою и померил — почти одинаковые… «Вот оно что! — думаю. — Так он это все прятал так же, как я доставал! Пропади пропадом все трезенские сказки!..» Я даже рассмеялся, но смех был невеселый.
Выдернул я свой рычаг, уронил камень на место… Но прежде чем уйти, вспомнил Аполлона и пообещал ему оленя, за то что отозвался на мою молитву. Сердит ты или нет — твое дело, но с ним нельзя быть неблагодарным и скупым.
Внизу во Дворце едва начиналось утро. Я был голоден и съел целую лепешку с половиной круга медовых сотов… Потом, с мечом на поясе, подошел к покою матери и постучался в дверь.
Мать только что оделась, и девушка ее причесывала. Она посмотрела сначала мне в лицо, потом на пояс; отослала служанку… Возле ее кресла стоял маленький столик с зеркалом и гребнями… Она улыбнулась:
— Ну что, Тезей? Бог послал тебе сон?
Я удивился; но у жриц не спрашивают, откуда они что знают.
— Да, мама. Сандалии тоже у меня, — говорю. — Кто он был?
Брови у нее были как перья пустельги: тонкие, четкие, пушистые у переносицы… Она подняла брови:
— Был? А с чего ты взял, что он умер?
Я задохнулся. Я почему-то надеялся, что так оно и есть; злость во мне билась, как дикий зверь в клетке.
— Вот как, — говорю, — ну что ж. Значит, у меня есть подарок от живого отца. Первый за семнадцать лет. Но он заставил меня его заработать…
— Тому была причина, — она взяла со столика гребень и начесала себе волосы вперед, закрыла лицо. — Он сказал мне: «Если у него не будет мускулов, то понадобится ум. Если не будет ни того ни другого — он все равно может быть тебе хорошим сыном в Трезене. Ты и оставь его здесь. Зачем посылать его в Афины на смерть?»
— В Афины? — Я удивился. Для меня тогда это было всего лишь название.
Она заговорила чуть нетерпеливо, словно я должен был все это знать:
— У его деда было слишком много сыновей, а у него ни одного. И потому в его царстве и года спокойного не было; ни у него, ни у его отца.
Она посмотрела мне в лицо, потом на волосы свои…
— Слушай, Тезей. По-твоему, вожди и дворяне так носят мечи?
В ее голосе появилась резкость, как у юной девушки, которая стыдится и хочет это скрыть. «А что тут удивляться? — думаю. — Ей тридцать три, и вот уже восемнадцать лет она одна…» И до того обидно стало за нее — больше, чем за себя перед тем.
— Как его зовут? — спрашиваю. — Я должен был слышать имя… но не помню…
— Эгей, — она будто прислушалась к себе, — Эгей, сын Пандиона сына Кекропа. Они из рода Гефеста, владыки Земного Огня, который женился на Матери.
— С каких это пор, — говорю, — род Гефеста выше рода Зевса?
Я вспомнил о всех тех трудах и муках, какие принял на себя ради этого человека, полагая, что делаю это для бога.
— С него, — говорю, — вполне бы хватило, если бы я был только твоим сыном. Почему он оставил тебя здесь?
— Тому была причина. Мы должны снарядить корабль, чтоб отправить тебя в Афины…
— В Афины? — говорю. — Ну нет, мать. Это слишком далеко. Восемнадцать лет после того ночного развлечения — и он ни разу не оглянулся посмотреть, что из этого получилось…
— Довольно! — в ее голосе еще была та застенчивая грубость, но это был крик принцессы и жрицы. Мне стало стыдно. Я подошел к ее креслу, поцеловал ей лоб…
— Прости меня, мама, — говорю. — Не сердись. Я знаю, как это бывает; я и сам уложил несколько девушек, которые совсем этого не хотели, и если кто-нибудь после того стал думать о них хуже — только не я. Но если царю Эгею нужен еще один копейщик, пусть он поищет у себя дома. Пусть он не остался с тобой, но он дал тебе сына, который тебя не оставит.
Она закусила губу, а потом вдруг почти рассмеялась:
— Бедный малыш, не твоя вина, что ты ничего не знаешь!.. Поговори со своим дедом. Он тебе всё объяснит лучше меня.
Я подобрал прядь ее свежерасчесанных волос, намотал конец себе на пальцы… Я хотел ей сказать, что мог бы простить человека, которого она сама выбрала, сама захотела, но не того, который взял ее, а потом ушел. Ничего этого я не сказал. Сказал только:
— Хорошо, я пойду к нему. Сейчас уже не так рано.
Я все-таки задержался переодеться. Был настолько зол, что вспомнил о своем достоинстве принца. Лучший мой костюм был из темно-красной оленьей кожи: куртка с золотыми бляшками, штаны с бахромой и сапоги такие же… Я и меч прицепил было, но вовремя вспомнил, что к царю никто с оружием не входит.
На верху узкой лестницы я услышал его голос:
— Это ты? Входи.
Он простудился перед тем и потому так поздно был еще в своих покоях. Сидел, завернувшись в одеяло, а в чаше на подставке возле кресла еще оставался отвар на донышке. Лицо пожелтело, и стало видно, что он уже стареет, но в тот момент это меня не тронуло. Слишком я был зол, чтобы пожалеть его, и стоял перед ним молча, даже не поздоровался. Он посмотрел мне в глаза старым, бледным взглядом, и я понял, что он всё знает. Он коротко кивнул мне и показал на скамеечку для ног:
— Можешь сесть, мой мальчик.
По привычке я пододвинул ее и сел. Он давно был царем и знал свое дело: его пальцы извлекали из людей повиновение, как пальцы арфиста музыку из струн… Только оказавшись на своем детском сиденьице, — ноги на старой медвежьей шкуре, руки на коленях, — только тут я понял, как он меня облапошил. У моего лица была чаша с лекарством; пахло ячменем и медом, яйцами и вином… Пахло старостью — и детством; и я почувствовал, как моя мужская ярость превращается в детскую обиду. И его водянистые глаза теперь мигали на меня сверху, и в них была капля злости, какую всегда испытывают обессилевшие старики к молодым мужчинам…
— Ну, Тезей, твоя мать сказала тебе, кто ты?
— Да.
Я сидел перед ним скорчившись, будто пленник в оковах, и чувствовал себя — хуже некуда.
— И ты хочешь что-нибудь у меня спросить?
Я молчал.
— Можешь спросить у отца, если хочешь…
Я молчал. Дед дедом, но он был Царь, а на учтивость я настроен не был.
— Он признает тебя своим наследником, если ты покажешь ему меч.
Тут я заговорил от удивления.
— Почему, государь? Я полагаю, у него есть сыновья в его собственном доме.
— Законных нет. А что до прочего — ты помни, что хотя он и Эрехтид, — это не мало, — но мы из рода Пелопа, нас породил Зевс-Олимпиец!
«Как меня Посейдон?» — этот вопрос у меня на языке вертелся, но я не спросил. Сам не знаю почему; не потому что это был мой Дед. Просто не решился, и все тут…
Он посмотрел мне в лицо, потом закутался поплотнее — и раздраженно так:
— Ты что, никогда не закрываешь дверей за собой? Здесь сквозит, как на гумне.
Я поднялся, подошел закрыть дверь…
— Прежде чем отозваться непочтительно об отце, позволь сказать тебе, что если бы не он, ты мог бы быть сыном крестьянина или рыбака… Даже сыном раба, коль на то пошло.
Хорошо, что я уже не сидел у его ног.
— Ее отец, — говорю, — может сказать мне это и остаться живым!
— Язык твой грабит твои уши, — дед был спокоен. — Угомонись, малыш, и слушай, что я тебе говорю.
Он смотрел на меня и ждал молча. Я постоял еще у двери, потом подошел к нему, снова сел на скамеечку.
— За год до твоего рождения, Тезей, когда твоей матери было пятнадцать, у нас за всё лето не было ни одного дождя. Зерно в колосьях было крошечное, виноград — как ягоды можжевельника; повсюду было по щиколотку пыли… Только мухам было хорошо. И вместе с засухой пришел мор — стариков он щадил, но уносил детей, молодых мужчин и женщин. Сначала у них отнималась рука или хромать начинали, а потом они падали, и сила уходила из ребер, так что человек не мог вдохнуть воздуха. Те кто выжил — остались калеками по сей день, как Фиест с короткой ногой. Но большинство умерло.
Я искал, какого бога прогневали мы. Пошел сначала к Аполлону, Владыке Лука. Он показал по внутренностям жертвы, что не стрелял в нас, но больше не сказал ничего. Зевс тоже промолчал, и Посейдон не послал никакого знака… Было примерно то время года, когда народ выгоняет козла отпущения. Нашли какого-то косого, говорили что у него дурной глаз… Били его так, что когда дошло до костра — жечь было уже некого. Но дождя не было, и дети умирали…
Я потерял тогда во дворце троих сыновей. Двух мальчиков своей жены — и еще одного, который, сознаюсь, был мне еще дороже тех. Он долго умирал, он уже лежал как мертвый — только глаза жили, умоляли дать ему воздуха… Когда его похоронили, я сказал себе: «Ясно, пришел срок моей мойры. Скоро бог пошлет мне знак». Я привел в порядок свои дела и за ужином оценивал своих сыновей, сидевших за столом, — кого назвать наследником… Но знака не было.
А на следующий день в Трезену приехал твой отец. Он возвращался из Дельф в Афины и должен был сесть у нас на корабль: морское путешествие избавляло от Истмийской дороги. Мне никого не хотелось видеть, но гость страны — священен; поэтому я встретил его, как мог, и вскоре рад был что он у меня. Он был моложе меня, но несчастья его закалили, он понимал людей. После ужина мы стали делиться своими бедами. Ему никогда не доводилось пережить того, что мне в тот день. Первая его жена была бесплодной, вторая умерла при родах, и девочка родилась мертвой… Он пошел к оракулу, но ответ был темен и загадочен, даже жрица не смогла его разъяснить; и теперь он возвращался в свое тревожное царство, и у него не было наследника… Вот так мы встретились — два человека в горе; мы понимали друг друга. Я услал арфиста, велел принести сюда кресло для него… И возле этого очага, где мы с тобой сейчас, сидели мы с ним и говорили о горе.
Когда мы остались наедине, он рассказал мне, как его братья, домогаясь трона, опустились до того, что опозорили собственную мать — достойнейшую женщину, — объявив его незаконнорожденным. Тут мне показалось, что его несчастья не меньше моих. Мы сидели, говорили, и в это время внизу в Зале начался какой-то переполох: крики, вопли… Я пошел узнать, в чем дело.
Это была жрица Богини, сестра моего отца, а с ней целая толпа женщин — плакали, кричали, били себя в грудь и раздирали ногтями щеки… Я вышел на лестницу, спросил, что случилось, — и вот как она ответила:
— Царь Питфей, — говорит, — ты взвалил на свой народ бремя горестей. Ты приносишь дары Небесным Богам, которые и так уже сыты, а алтарь возле самого очага своего подвергаешь забвению! Вот уже вторую ночь подряд Змей Рода отвергает пищу и молоко, что я приношу ему к Пупковому Камню. Неужели ты хочешь дождаться часа, когда каждое чрево в Трезене потеряет плод трудов и мук своих? Принеси жертву — это Мать разгневана!
Я приказал тотчас же сжечь свинью и простить себе не мог, что сам не догадался: ведь когда Аполлон промолчал — ясно было, что наши беды не от неба. Утром мы кололи свиней у Пупкового Камня. Весь дом был полон их визгом, а в воздухе до самого вечера висел запах требухи… Когда кровь впиталась в землю, мы увидели на западе тучи. Тяжелые, серые, они дошли до нас и висели в небе… А дождя все не было.
Жрица пришла ко мне, и повела к Пупковому Камню, и показала там извилистый след Змея в пыли, по которому читала волю Богини… И так объяснила:
— Теперь он сказал мне, чем разгневана Богиня. Вот уже двадцать лет, не меньше, как ни одна девушка из этого дома не снимала пояса в ее честь. Вот уже два года, как твоя дочь Эфра стала зрелой женщиной, но отдала она Богине свою девственность? Отошли ее в Миртовый Дом, и пусть она не откажет первому же встречному, кто бы он ни был, — матрос, или раб, или убийца в крови собственного отца… Первому встречному, царь Питфей! Иначе Великая Мать оставит землю твою бездетной.
Дед посмотрел на меня.
— Ну как, упрямая голова? Начинаешь понимать?
Я кивнул. Говорить я не мог.
— Ну так слушай дальше. Уходил я оттуда с облегчением. Любой бы на моем месте был благодарен, узнав что только в этом все дело. Но мне было жаль девочку. Не потому, что она что-то потеряла бы в глазах народа, — нет… Крестьяне, перемешавшие свою кровь с береговыми людьми, всасывали эти обычаи с материнским молоком. Что ж, я никогда их не запрещал. Но и не поддерживал тоже, так что твоя мать не была готова к такому делу, ее не так воспитывали… Жрица была рада, и это меня злило. Она рано овдовела, и с тех пор никто на нее не позарился, так что она не любила красивых девушек… А девочка была горда и стыдлива; я боялся, что она попадется какому-нибудь подонку, который из простого скотства — или из злобы к тем кто выше его — возьмет ее грубо, как шлюху… И еще больше боялся, что это может внести в наш род струю низкой крови. Если родится ребенок — его нельзя оставить жить!.. Но этого я не собирался ей говорить в тот день, и без того было слишком много.
Я нашел ее в женских покоях. Она выслушала меня спокойно, не жаловалась, не противилась… Сказала — это мелочь в сравнении со смертью детей… Но я взял ее за руки — холодные были руки, мертвые.
А гость мой тем временем был один, без внимания, и я вернулся к нему. Он меня встретил, говорит:
— Друг мой, у тебя какое-то новое горе.
— Это горе легче тех, что были, — так я ему ответил и рассказал всё. Я не хотел казаться тряпкой и постарался сделать вид, что все легко и просто; но твой отец понимал людей, я уже говорил тебе.
— Я ее видел, — говорит. — Она должна вынашивать царей… И она скромна… Это тяжко для нее и для тебя тоже.
Вон тот стол стоял тогда между нами. И вдруг он как стукнет по нему кулаком…
— Послушай, Питфей! Клянусь, кто-то из богов позаботился обо мне. Скажи, в какое время девушки уходят в рощу?
— На закате, — говорю, — или чуть раньше.
— По обычаю? Или есть какой-то священный закон?
— Ни о каком таком законе я не знаю, — говорю. Тут я начал понимать, к чему он клонит.
— Тогда скажи жрице, что девочка пойдет завтра. И если она будет там перед рассветом — кто об этом узнает, кроме нас с тобой? И мы выиграем все трое: у меня будет наследник, если небо смилостивилось ко мне; у тебя будет внук достойный крови с обеих сторон; а дочь твоя — что же, две невесты пришли ко мне девственными, и я немножко знаю женщин. Что ты на это скажешь, друг мой?
— Во имя богов! — сказал я. — Сегодня они вспомнили мой дом…
— Тогда, — говорит, — остается только сказать девочке. Ей будет не так страшно, если это будет мужчина, которого она уже видела, и знает, что он не обидит ее.
Я кивнул. Потом подумал…
— Нет, — говорю. — Она царского рода, она должна идти с готовностью на жертву, иначе это потеряет смысл. Пусть это останется между нами.
Когда прошла первая четверть ночи, я пошел будить ее. Но она не спала, и лампа горела возле постели… И так сказал я ей:
— Дитя мое, я видел сон. Не сомневаюсь, что его послал кто-то из богов. Будто ты пошла в рощу перед рассветом, чтобы выполнить свой долг перед Богиней с первым человеком наступившего дня. Так что вставай и приготовься.
Она посмотрела на меня открыто, спокойно…
— Что ж, — говорит, — чем скорей с этим покончить, тем лучше. И детишкам лучше, ведь им так трудно дышать.
Вскоре она сошла вниз. Ночь была холодная, поэтому она надела свой лисий плащ… Ее старой няне я ничего не сказал, но она пошла провожать нас, и до самого берега держала ее за руку, и стрекотала, как сверчок, рассказывая бабушкины сказки, про то как к девушкам в таких же вот случаях приходили боги… Она усадила твою мать в лодку, и я сам перевез ее на другую сторону.
Я пристал к берегу там, где травянистый луг спускается к самой воде. В небе громоздились тяжелые облака, луна проглядывала меж них и освещала глянцевые миртовые листья и кедровый дом на скале у воды… Когда мы подошли к нему, луна спряталась. Она сказала:
— Гроза начинается. Но это ничего — у меня лампа с собой и трут тоже…
Она все время несла их с собой, под плащом прятала.
— Этого не должно быть, — говорю. — Я помню, мой сон запрещал это. — И забрал у нее лампу. Трудно было, но я боялся, что какой-нибудь ночной вор увидит издали свет. Поцеловал ее и сказал:
— Люди нашего рода рождаются для жертвы. Это наша мойра. Но если мы верны, то боги нас не оставляют.
С тем мы расстались. Она не заплакала, не пыталась меня задержать… И когда она уходила от меня в черноту пустого дома, вот такая, готовая, — Зевс загрохотал в небе, и на землю пали первые капли дождя.
Ливень налетел сразу. Я с детства не брался за весла, и теперь пришлось потрудиться, чтобы вернуться назад… Когда я добрался туда, уже промокший насквозь, я стал искать твоего отца, чтобы отдать ему лодку. И тут услышал старушечий смех из домика возле пристани, а при свете молнии увидел няню; она спряталась там от дождя.
— Не ищи жениха, царь Питфей, он нетерпелив… Хи-хи, кровь-то молодая! Вон у меня его одежка, от дождя храню. Сегодня-то ночью она ему не понадобится!..
— Ты что, — говорю, — мелешь, старая дура? — От этой переправы под дождем я добрее не стал. — Где он?
— Как же! Теперь-то, наверно, уж и вовсе там… Дай ему Богиня Всеблагая радости нынче ночью-то… Он сказал, мол, в море вода теплее чем дождь, а мол девочку нельзя оставлять одну в такую-то ночь… А мужчина хоть куда! Разденется — ну что твой бог!.. Мне ли не знать? Не я ль ему в бане прислуживала с первого дня, как он у нас?.. Не-е,народ не врет, когда зовет тебя Питфей Мудрый!
Вот так, Тезей, отец твой пришел к твоей матери. Она мне потом рассказывала, что ей страшно было входить в темный Миртовый Дом и она стояла на пороге. Блеснула молния — она увидела Трезену за проливом и лодку, уже далеко… А после вспышки глаза вообще ничего не видели в темноте… И вдруг громыхнуло совсем рядом — звук и вспышка одновременно, — и перед ней на скальной плите перед входом стоял царственно обнаженный мужчина, блестевший, сверкавший в ярком голубом свете… С волос и бороды текла вода, а на плече лежала лента водорослей. То священное место, ее священный долг, напряжение ее, те сказки няни по дороге… — она в тот миг не сомневалась, что сам Владыка Посейдон пришел потребовать ее. И когда сверкнула следующая молния — твой отец увидел ее перед собой на коленях: она сложила руки, как в молитве, и была готова отдаться богу. Он поднял ее, поцеловал ее, сказал ей кто он… А потом в доме она укрыла его своим лисьим плащом, и так начался ты.
Дед замолчал.
— А этот плащ до сих пор у нее, — сказал я. — Совсем изношенный, и мех вылезает… Я как-то ее спрашивал, почему она его не выбросит… А как вы это скрыли от меня?
— Я взял с няни такую клятву, что даже ее она заставила молчать. После грозы твой отец вернулся тем же путем, что пришел; а я привел туда жрицу, чтобы засвидетельствовала происшедшее… Но ни жрица, ни кто другой — никто не знал, с кем она была. Твой отец просил меня об этом: он сказал, твоя жизнь будет в опасности даже в Трезене, если искатели трона в Аттике узнают, чей ты сын. Я воспользовался фантазией твоей матери и выдал ее за правду. А когда стало известно, что думаю я, — люди, имевшие свои мнения, оставили их при себе.
Он помолчал. На золотой край чаши села муха, поползла вниз сосать остатки лекарства, утонула… Дед пробормотал что-то насчет ленивых слуг, оттолкнул чашу прочь… И задумался, глядя в окно на море. Потом вдруг сказал:
— Но я все думаю, с тех самых пор… Что заставило твоего отца, здравого человека за тридцать, плыть через пролив словно мальчишка?.. Почему он был так уверен, что у него будет сын? — ведь он дважды был женат, а детей не имел… Кто проследит пути Бессмертных, когда нога их ступает по земле? И я не раз спрашивал себя: быть может не я, а твоя мать увидела правду?.. Лишь шагнув навстречу своей судьбе, мы можем увидеть знаменье божье.
5
Дней через семь после того в Трезену зашел корабль, направлявшийся в Афины. Дворцовый управляющий занял мне место на нем и собирал меня в путь; но я никогда не бывал в море, так что не мог дождаться дня отплытия и пошел вниз в гавань, посмотреть. Корабль стоял у мола, что называют Трезенской Бородой. Темный парус на мачте, длинные змеи нарисованы по бортам, а на носу — орел с откинутыми назад крыльями и с бычьей головой… Критский корабль.
Корабли с Крита заходили к нам редко, если не считать сборщиков дани, — на Бороде царило оживление, народ устроил там базар. Горшечники и кузнецы, ткачихи и резчики, крестьяне с сырами, с цыплятами, с фруктами и горшками меда — все расположились на камнях, разложив вокруг свои товары; даже ювелир, обычно выносивший в гавань только дешевку, на этот раз предлагал золото. На Бороде было полно критян; одни что-то покупали, другие просто глазели по сторонам.
Небольшого роста смуглые моряки работали нагишом, если не считать небольшого кожаного стручка, какой носят на Крите. Они не снимают его и тогда, когда надевают свои юбчонки; и для каждого эллина это выглядит потешно — было б что там прятать!.. Некоторых из них, гулявших по базару, можно было принять за девушек; и на первый взгляд казалось, что вся команда состоит лишь из седых стариков и безбородых юнцов. В Трезене, как и в большинстве эллинских городов, был обычай: если человек совершал что-то из ряда вон позорное, ему брили половину лица, чтобы не слишком быстро забывал свою вину. Но чтобы мужчина по доброй воле сбрил себе всю бороду — я с трудом в это верил, даже когда сам видел. Свою бородку я все время чувствовал, но она была еще слишком светлая — не видна.
Они расхаживали вокруг изящной, не нашей, походкой; в ярко вышитых юбочках, талии затянуты, будто осиные; некоторые со свежими цветами в длинных волосах… На запястьях у них висели резные печатки на золотых браслетах или бусы, а от их странных благовоний кружилась голова.
Я шел по базару, здоровался с ремесленниками и крестьянами вокруг… Хоть критяне не могли принять меня за деревенского мальчишку, но внимание обращали не больше, чем на бредущую мимо собаку. Кроме тех нескольких, которые рассматривали вообще всех. А те — те вели себя так, будто мимы и акробаты специально для них разыгрывали здесь представление: показывали пальцами на вещи и на людей, чему-то смеялись… Один набрал себе в плащ редиски и лука, подошел к горшечнику и сказал на своем мягком критском диалекте:
— Мне нужен горшок, чтобы ссыпать все это. Вот этот подойдет.
Горшечник начал объяснять, что это его лучший кувшин, что он для стола, не для чулана… «Прекрасно, он как раз мне подходит», — только и ответил критянин, заплатил без звука и ссыпал в кувшин свои овощи.
Как раз в этот миг я услышал сердитый крик женщины. Это была молодая жена маслобоя; она всегда торговала на базаре одна, муж тем временем работал на прессе… Критянин обсыпал ее деньгами, но было видно, что ему не масла надо, — он тискал ее за грудь. Несколько деревенских подались в ту сторону, назревала свалка. Я подошел к критянину и похлопал его по плечу.
— Послушай, чужеземец, — говорю, — я не знаю, какие обычаи у вас в стране, но здесь у нас достойные жены и к ним не пристают. Если тебе нужна женщина, вон там ты найдешь дом с крашеной дверью.
Он повернулся, посмотрел на меня… Желтый, хилый малый с ожерельем фальшивого золота, из-под которого просвечивало стекло… Потом вдруг подмигнул:
— И много тебе платят в том доме, паренек, а?
У меня на миг дыхание перехватило. Он, видимо, что-то почувствовал и отскочил, но мне и не хотелось пачкать об него руки.
— Благодари своих богов, — говорю, — что ты гость в нашей стране. И убирайся, чтоб я тебя не видел!
Когда он исчез, подошел пожилой бородатый критянин:
— Сударь, я прошу у вас прощения за этого негодяя. Это ничтожество не может отличить благородного человека.
— Похоже, он даже шлюху отличить не может, — говорю. Отвернулся от него и пошел. Из-за показной учтивости этого человека проглядывало снисходительное пренебрежение: он испытывал удовольствие от своей вежливости по отношению к низшему… Дед был прав: любой из нас ничего не значил для этих людей.
Я собирался уходить, но задержался, услышав громкий голос. Это хозяин корабля взобрался на каменную тумбу и закричал:
— Кому в Афины? Вам на редкость повезло, люди добрые, как раз сейчас погода устойчива! Если вы никогда не пересекали моря, не бойтесь — «Морской Орел» доставит вас. Гладко, как на носилках, надежно, как дома! Вам не придется рисковать своей шеей на Истмийской дороге и подставлять горло под кинжалы разбойников.
На нашем пути пиратов нет. За это вы платите налоги царю Миносу — так пользуйтесь случаем, берите то, за что уплачено! Плавание на «Морском Орле» ускорит ваше путешествие и доставит удовольствие. А если вы не знаете, какой корабль выбрать, — я скажу вам, что собственный внук вашего царя записан к нам пассажиром на этот рейс!
До сих пор я слушал, стоя позади толпы, но тут крикнул:
— Ну уж нет!
Все трезенцы обернулись на мой голос, и он запнулся.
— А кто ты такой? — спрашивает. Потом глянул на меня и добавил: — Господин.
— Я внук царя Питфея, — говорю, — и я передумал. Твой корабль не подойдет, я привык к настоящим кораблям.
Трезенцы шумно обрадовались. Можно было подумать, что они в это поверили.
Хозяин посмотрел на меня озадаченно.
— Разумеется, господин мой, вы вольны выбирать. Но корабля лучше этого вы не найдете ближе, чем в Коринфе. В эти маленькие порты они не заходят.
Я разозлился, но не хотел устраивать сцен перед людьми. И уж так я старался говорить спокойно — сам удивился, услышав, что говорю:
— А мне и не нужен корабль, — говорю. — Я еду по Истмийской дороге.
Повернулся на каблуках и. пошел в город. За спиной взволнованно переговаривались трезенцы, что-то тараторили критяне… По дороге я еще раз увидел того малого с ожерельем, что принял меня за сводника; жаль было оставлять его шкуру целой, но я тотчас же забыл о нем и не вспоминал много лет… Но сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что это из-за него пролилось столько крови, словно он был большим полководцем. Кровь вождей и принцев, кровь царя… Быть может, если бы все стало известно — оказалось бы, что именно из-за таких вот людей рушатся дворцы и царства; а они уходят в свои безвестные могилы, даже не узнав об этом.
6
Вот так я двинулся в Афины по сухопутью. Дед считал, что я вел себя по-дурацки, и беспокоился за меня, — но не мог же он просить меня отказаться от слов, сказанных перед народом, и опозорить наш дом. Мать пошла к Родовому Змею узнать мою судьбу; увидела опасности на моем пути, хоть смерти не увидела… Но сказала, плача, что опасности очень велики и что она не уверена, уцелею ли. И заставила меня поклясться, что я произнесу имя отца не раньше, чем приду к нему: боялась, что попаду в руки его врагов. Чтобы успокоить ее, я пообещал. Спросил, не хочет ли она ему что-нибудь послать, — она покачала головой. Сказала, что ее послание — я сам, а все остальное было слишком давно.
Через два дня моя пара была запряжена, и я со своим возничим поднялся на колесницу. Думал ехать один, но Дексий упросил взять его с собой. Его вскормила кобылица, как пословица гласит, лучшего колесничего нельзя было б найти, да и друга тоже.
Колесница гулко загрохотала под большими воротами Трезены… Ворота построили гиганты, а мой прадед установил на них герб нашего рода: громовой камень на колонне и орлы по обе стороны… Дед мой, дядья и много молодежи провожали нас до берега, где дорога сворачивает на север; там они повернули назад — началось наше путешествие. Первую ночь мы провели в Эпидавре, в храме Аполлона-Целителя; вторую — в Кенхреях… А вечером, перед тем, мы увидели над равниной круглую Коринфскую гору, и поняли что назавтра нам предстоит пересекать Истм.
На это ушел всего один день. Да, всего один день, а все остальное — небылицы арфистов… Теперь я отрицаю только те басни, в которые не поверит ни один взрослый человек в здравом уме, а остальные — пусть их; они дороги людям, а мне не мешают.
Не встречал я никаких чудовищ, и великана дубинкой не убивал — это же дурацкое оружие, если у тебя есть копье и меч… У меня они были, и я их уберег; хоть не раз хотели отобрать. Да, а с теми людьми, что я там повидал, — с теми людьми никакие чудовища уже и не нужны.
Это скалистая страна, дорога там извилиста — никогда не видишь, что впереди… А в придорожных скалах прятались бандиты.
Пока я разбирался со встречными, Дексий присматривал за колесницей. Подменных коней у нас не было, так что мы не могли рисковать своими; и Дексию приходилось быть все время наготове, чтобы рвануть в нужный момент. Это была его работа, и он с ней управлялся отлично. Сколько уже лет прошло — все эти стычки перепутались в памяти, только последнюю я помню четко.
Истм остался в памяти синим и черным. Синее небо над головой с редким-редким облачком кое-где, и от того еще синее; а справа — черные скалы, уходящие в синее море… А между синим и синим — розовая пыльная дорога перед нами, кустарник и темные сосны. Море было неподвижно; глянешь вниз — будто еще одно небо, только еще синее, синее ляписа или сапфира, синее самого синего цветка… а в темной чистой тени меж скал переливалось оно зеленью и виноградным пурпуром, словно шея голубя… Я, наверно, не много смотрел на всю эту красоту: надо было смотреть по сторонам — и внимательно!.. Но эту синеву я помню.
Помню синеву — и чувство, что едешь по стране, в которой нет закона. Путник на Истмийской дороге, увидев на обочине раненого, — в луже крови, черной от мух, с пересохшим от жажды ртом, — путник нахлестывает своего осла и спешит убраться подальше от того места. Впрочем, когда находишь такого, ему уже немногим можно помочь. Помню одного — я смог только прикончить его; как добиваешь собаку, изуродованную кабаном. Я сделал это быстро, пока он пил; он ничего и не почувствовал, кроме вкуса воды.
В полдень мы укрылись в тени, в ущелье у речки. Речушка пересохла и спряталась, но мы нашли-таки струйку, где можно было напоить коней. Распрягли, поели… Дексий отошел в сторону, в скалы, — и мне вдруг показалось, что его что-то долго нет. Я позвал — ответа нет… Пошел посмотреть. Скалы круто поднимались вверх, и я оставил копье на привале, чтобы подниматься легче было. Трудно поверить, что был когда-то таким зеленым!
Увидел я его скоро, едва поднявшись из ущелья. Он лежал у ног широкоплечего детины, а тот стаскивал с него браслеты. Наверно, его ударили сзади — он даже не крикнул, возле грабителя на земле лежала дубинка. Дексий чуть шевельнулся, он был еще жив. Я вспомнил, как спасал его от быка, и теперь опять из-за меня он попал в беду!.. Я собирался спуститься за копьем, — но детина взял уже все, что ему было надо, и покатил Дексия к утесу. Кромка дороги там совсем рядом.
Я закричал:
— Стой! Оставь его!
Человек поднял голову. Он был широк и красен, с толстой шеей, а борода лопатой… Увидел меня — захохотал и пнул Дексия ногой. Я карабкался по скалам, как мог, но идти по ним было трудно, медленно получалось… «Оставь его в покое!» — кричу опять; и слышу — голос сорвался, как в детстве бывало, когда ломался голос… Детина упер руки в боки и заревел от восторга:
— Откуда вы взялись, кудряшки золотые? Ты кто — подружка его, что ли? Или, может, он тебе вместо подружки?.. — Он добавил еще какую-то грязь; довольный стоит, хохочет… и посреди этого смеха — толкает Дексия с утеса ногой. Я слышал, как он закричал — и смолк.
Ненависть и ярость!..
Я больше ничего не весил; ненависть и ярость наполнили все мое тело, несли меня, будто крылья, там где я только что не смог бы пройти… Наверно, даже волосы стояли на мне дыбом, как грива Царя Коней, когда тот шел в бой… Я несся к нему, не чуя земли под собой, а он стоял там и ждал, из его открытой пасти все еще хлестал тот хохот… Когда я был совсем уже близко — тогда только он замолчал.
Потом я нашел на себе следы его зубов и ногтей, а в тот момент не чувствовал ничего. Только успел сообразить, что он не борец, раз понадеялся на дубинку. Когда он собрался меня душить, я захватил его руку и бросил через себя. Теперь он лежал передо мной — как раньше Дексий перед ним — ошеломленный, голова висит с обрыва — уже готов… Он, наверно, так и не сообразил что к чему, пока не полетел вниз. Тогда он снова раскрыл рот, но уже не смеялся больше: у кромки воды там большой круглый валун, вроде черепахи, — об него он и расколол себе череп. Как раз в том месте утес высок.
Я пошел посмотреть, что с Дексием. Он лежал мертвый поперек острой скалы, торчавшей из воды; море шевелило его белую тунику и каштановые волосы… Я спустился к нему по обрыву, сколько мог, и бросил на него земли, чтоб он мог отправиться в свой путь. Пообещал, что, как только смогу, принесу ему жертву… Одну, которая нужней всего убитому, я уже принес.
Я кормил коней и запрягал их — и сравнивал свою неуклюжесть с его отточенным искусством… Поднялся на колесницу, подобрал вожжи и ощутил, что значит остаться одному.
Чуть дальше по дороге меня раболепно встретил какой-то малый. Сказал, что народ грабит дом Скирона, которого я убил; предложил проводить меня туда, чтобы я мог потребовать свою долю… Я ответил, пусть идет туда сам и берет, что ему надо; если сможет. И поехал дальше, оставив его в унынии: шакалы не любят охотиться сами.
Это был мой последний бой на Истме. Может мне повезло, или меня избегать стали, но к вечеру я уже ехал по мегарским предгорьям вдоль моря. Смеркалось; впереди, на востоке, словно грозовые тучи чернели в небе горы Аттики… Дорога была пустынна, лишь изредка слышался волчий вой или крик зайца, пойманного лисицей… Скоро стало так темно, что лошади могли покалечиться, и мне пришлось вести их в поводу.
Мужчина взрослеет не только тогда, когда утверждает себя силой и оружием. Теперь, когда мне никто уже не грозил, я был одинок, как малое дитя. Эта темная пустынная дорога казалась забытой небесными богами, отдана во власть земных демонов, а они не любят людей… Болело уставшее тело, болели раны, грызла тоска по убитому другу… Я старался утешиться тем, что царь Мегары — эллин и родственник моего отца; но вокруг была только враждебная ночь, и вместо этого вспоминалось, что отец ни разу за всю мою жизнь не дал знать о себе… Вспомнилась Трезена, круглый очаг в Большом Зале, пламя ароматных поленьев в большой теплой постели золы, мать среди своих женщин, лира, переходящая из рук в руки…
Вдруг послышался собачий лай, свист… Со следующего поворота я увидел огонь. Там был загон из валунов и из кустов терновника; а возле костра — человек восемь маленьких козопасов, самому старшему не больше тринадцати, а младшему лет восемь-девять. Они играли на дудках, чтоб не так бояться ночных духов. Увидев меня, бросились к стаду, чтобы спрятаться среди коз; но я окликнул их, они успокоились и вернулись к костру. Я сел у огня вместе с ними.
Они помогли мне распрячь коней — чувствовалось, что в этот момент каждый из них уже видел себя колесничим, — показали, где найти еду и воду… Я поделился с ними своими сластями и ячменным хлебом, а они со мной — козьим сыром… «Мой господин» — обращались они ко мне; спрашивали, откуда я пришел…
Не все мои переживания того дня подходили для таких маленьких ребят в таком уединенном месте: им хватало своих страхов перед леопардами и волками. Но Скирон, как видно, был букой, не дававшим им уснуть; потому его дубинку я им показал и сказал, что с ним покончено. Они сидели и лежали вокруг меня, блестя глазами из-под нечесаных волос, пораскрыв рты от изумления и восторга, расспрашивая, что за места там и там… От них было полдня пути до этих мест, а расспрашивали так, как мы с вами могли бы спросить о Вавилоне.
Была уже глубокая ночь; не было видно ни моря, ни гор — только грубые стены загона, силуэты коз внутри да мальчишечьи лица вокруг костра… Пламя выхватывало из тьмы то отшлифованную руками тростниковую дудочку, то желтый глаз собаки, то костяную рукоять ножа, то прядь чьих-нибудь светлых волос… Мне принесли веток для постели, и мы улеглись у догоравшего костра. Когда они заползли под два протертых одеяла — словно щенята, что воюют за теплое место возле матери, — самый маленький остался снаружи, как часто бывает у щенят. Я увидел, как он тянет коленки к подбородку, и предложил ему часть своего плаща. От него пахло козьим пометом, и блох на нем было больше, чем на запущенной собаке, но я ведь был у него в гостях… Вдруг он сказал мне:
— Хорошо бы, если б с нами всегда был кто-нибудь взрослый! Иногда гром бывает или лев рычит — страшно…
Скоро он заснул. А я лежал без сна и смотрел на тлеющие угли, на яркие звезды, идущие по небу… И думал. Быть царем — что это значит, в чем смысл? Вершить справедливость, сражаться за свой народ, посредничать между ним и богами?..
Да, конечно. Другого смысла нет.
2
ЭЛЕВСИН
1
На рассвете меня разбудило блеяние стада. Я поднялся, умылся в ручье… Хозяева мои в последний раз мылись в руках у повитухи, потому глядели на меня с изумлением. Дальше дорога была получше и повернула к морю, так что вскоре я увидел остров Саламин, — пролив там узкий, — а вокруг меня простиралась обильная земля, сплошь в садах и пашнях. Дорога вела вниз, к городу у моря, в порту было полным-полно кораблей… Встречные торговцы сказали, что это Элевсин.
Хорошо было снова видеть город, чувствовать себя в стране, где царит закон. А еще лучше — что это последняя остановка перед Афинами. Я думал, отдам лошадей, пусть накормят и вычистят, а сам подкреплюсь, город погляжу… Но что-то у них не так: вдоль дороги стоят и глазеют толпы людей… то же и на крышах в городе… Это было странно.
Молодежь любит переоценивать свою значительность, но даже меня это поразило. И еще было странно, что из всего этого многолюдия, глазевшего на меня, ни один не позвал, не приветствовал, не спросил новостей…
Въехал на базарную площадь, завернул коней вдоль проезда, чтоб не зацепить лотки торговцев, — и пришлось натянуть вожжи: впереди народ стоял сплошной стеной. Все молчали, матери успокаивали своих младенцев, чтоб не нарушали тишины.
Среди них, прямо передо мной, стояла статная женщина, и раб держал над нею зонт от солнца. Ей было лет двадцать семь; из-под пурпурной диадемы, шитой золотом, лились волосы, красные, словно медь в огне… Вокруг стояло десятка два женщин, как придворные возле царя, но мужчин рядом не было, кроме слуги с зонтом. Наверно, это правящая жрица — царица здешняя? Ну, конечно, минойское царство… Так называют себя береговые люди в своих странах. А каждый знает, что среди них новости расходятся с изумительной быстротой, хоть никто не знает как.
Я спрыгнул с колесницы и повел коней в поводу. Она не просто смотрела на меня; я видел, что именно меня она ждет. Когда подошел совсем близко и поднял руку в приветствии — в толпе стало совсем тихо, как бывает когда арфист настраивает струны.
— Приветствую тебя, госпожа, — сказал я. — Приветствую во имя бога или богини, которых чтут превыше остальных в твоей земле. Ведь ты служишь, без сомнения, грозному божеству; и путник должен оказать ему почести, прежде чем пойдет дальше… Человеку надо уважать богов своей дороги, если он хочет дойти до ее конца.
— Твоя дорога благословенна воистину, и здесь ее конец. — По-гречески она говорила медленно и с минойским акцентом… И казалось, что специально выучила эти слова, приготовленные для нее кем-то другим. Тем временем остальные женщины украдкой разглядывали меня.
— Госпожа, — говорю, — я чужой в этой стране, еду в Афины. Гость, которого ты ждешь, наверно, более значителен — вождь или, быть может, царь…
Народ двинулся ближе. Люди вокруг заговорили, но потихоньку; как козопасы у костра, чтобы все слышать при этом.
Она улыбнулась:
— Есть только одна дорога, которую проходит каждый из людей. Они выходят из Матери и делают то, для чего рождены, пока она не протянет руку и не позовет их домой.
Ну конечно же, это страна старой религии!.. Я приложил руку ко лбу…
— Все мы ее дети, — говорю.
Но чего ей от меня надо? Весь город явно это знает, а я нет…
А она продолжала:
— Но некоторые призваны к более славной участи. И ты из них, чужеземец. Ты пришел, во исполнение предзнаменований, в тот День, когда царь должен умереть.
Теперь я понял. Но не хотел этого показывать. Она меня оглушила, мне нужно было время.
— Высокая Госпожа, — говорю, — если знак свыше зовет твоего господина, при чем тут я? Кто из богов разгневан? Ведь никто не в трауре, никто не голодает, ни одного дыма нет в небе… Ну хорошо, ему видней. Но если я должен помочь ему умереть — он сам пошлет за мной…
Она нахмурилась.
— Что может выбирать мужчина? Женщина его вынашивает. Он вырастает, роняет семя, как трава, и падает в борозду. Только Мать, приносящая людей и богов и принимающая их в лоно свое, — только она сидит у очага Вселенной и живет вечно.
Она подняла руку, другие женщины расступились, мужчина вышел и забрал у меня вожжи.
— Идем, — сказала, — тебя должны приготовить к борьбе.
И вот я иду рядом с ней. Со всех сторон — толпа; шепот, словно волны на песке… Окутанный их ожиданием, я ощущал себя уже не тем, кем был, а тем, кого они видели во мне. Трудно представить себе, как это бывает, пока не испытаешь сам.
Я молча шел рядом с царицей и вспоминал рассказ одного человека — рассказ о стране, в которой такие же законы, как здесь. Он говорил, что в тех краях нет ни одного обряда, который так бы возбуждал и притягивал народ, как смерть царя. Они видят его, говорил он, на высоте могущества, в блеске славы и золота… И вот другой идет на него, неся ему его судьбу. Иногда это неизвестно, а иногда бывает предсказано заранее перед народом; и бывает, что остальные узнают обо всем раньше, чем сам царь. Этот день настолько велик и торжествен, что если у кого-нибудь, кто это видит, есть свои беды или страхи — всё забывается, всё отступает перед печалью и ужасом этого дня. Человек уходит успокоенный и засыпает. Даже дети чувствуют это, говорил он; мальчишки-козопасы в горах, которые не могут оставить свои стада, чтобы спуститься и увидеть, сами разыгрывают друг перед другом целые представления: играют в смертный день царя.
Вспомнив этот рассказ, я вышел из оцепенения. Что же я делаю? Я срезал прядь своих волос Аполлону, я служил Посейдону — бессмертному мужу Матери и господину ее… Куда ведет меня эта женщина? Убить человека, который убил кого-то другого год назад, и спать с ней четыре сезона, благословляя зерно их, брошенное в землю, и ждать дня, когда она поднимется с моего ложа, чтобы привести ко мне того, кто убьет меня? Это моя мойра? Ей было знамение — пусть так, но мне-то его не было!.. Нет, это бред землепоклонников ведет меня; как Царя Коней, опоенного маком. Как вырваться отсюда?..
Но при этом я все-таки краем глаза глядел на нее, как всякий мужчина глядит на женщину, о которой знает, что она должна ему принадлежать. Лицо у нее было широковато, и рот не слишком изящный, но она была стройна, словно пальма, а грудь — ни один живой мужчина не остался бы спокоен.
Элевсинские минойцы перемешали свою кровь с эллинами соседних царств; телосложением она была эллинка и светлая, как эллинка, а лицом — нет. Она чувствовала мой взгляд и шла прямо вперед, не поворачивая головы; бахрома солнечного зонта щекотала мне волосы…
Ну а если откажусь — толпа же разорвет меня в куски. Ведь я сеятель их жатвы; а эта дама, — их поле, — попробуй ее обидеть!.. Даже когда женщина не смотрит на тебя — все равно, по походке видно, чего от нее можно ждать. Она ведь жрица и знает магию — ее проклятие прилипнет… Великая Мать уже следит за мной, наверняка, мне на роду написано умилостивить ее. А она — она не из тех богинь, которыми можно пренебречь…
Мы вышли на прибрежную дорогу. На востоке были видны холмы Аттики, иссушенные летним зноем, бледные в полуденном солнце. Всего полдня дороги… Но что будет? Я приду к отцу, принесу ему его меч и скажу: «Женщина звала меня на бой, но я сбежал»? Нет! Судьба поставила на моем пути эту жеребячью битву, как раньше Скирона-разбойника, — понадеюсь же на богов, и будь что будет.
— Госпожа, — говорю, — я никогда не бывал по эту сторону Истма. Как зовут тебя?
Она не повернула головы, но ответила тихо:
— Персефона. Но это имя запретно для мужчин.
Я подошел к ней ближе:
— Твое имя хорошо шептать, оно для темноты…
На это она не ответила, и я спросил:
— А как зовут царя, которого я должен убить?
Теперь она посмотрела на меня, удивленно так, и небрежно бросила: «Керкион». Это было сказано так, будто речь шла о бродячей собаке, будто у него вообще не должно быть имени…
От самой кромки воды дорога уходила вверх, к ровной открытой площади у подножия скального обрыва. Отсюда ступени вели на террасу, где стоял Дворец. Красные колонны на черных постаментах, желтые стены… В скале под террасой была вырублена ниша, темная и мрачная, а в ее полу далеко в землю уходила глубокая расщелина. Ветер доносил оттуда запах гниющего мяса.
Она показала на площадку перед гротом.
— Вот место для борьбы, — говорит.
Крыша Дворца и терраса были забиты народом. Те, что пришли с нами, расползались теперь по склонам вокруг.
Я поглядел на расщелину.
— А что происходит с проигравшим?
— Он уходит к Матери, — говорит. — А при осеннем посеве его плоть выносится в поле, запахивается в борозду и превращается в зерно. Счастлив мужчина, который во цвете юности завоевал богатство и славу и чья нить обрывается раньше, чем горькая старость может напасть на него.
Я посмотрел на нее очень откровенно…
— Он действительно был счастлив! — говорю. Она не покраснела, лишь вздернула подбородок.
— А с этим Керкионом — мы с ним сойдемся в схватке? Я не должен убивать его, как жрец убивает жертву?
Это мне было бы противно до тошноты, если человек не сам выбирал свой час; так что я обрадовался, когда она кивнула головой.
— А оружие? — спросил я.
— Только то, с которым человек родится.
Я огляделся вокруг и спросил:
— А какой-нибудь мужчина из твоего народа объяснит мне правила?
Она на меня посмотрела удивленно… Я решил, что это язык виноват, и повторил:
— Закон боя кто мне объяснит?
Она подняла брови.
— Закон таков, что царь должен умереть.
И тут на широких ступенях, что вели вверх к крепости, я увидел его. Он спускался, чтобы встретить меня, и я узнал его сразу: он был один. Ступени были запружены народом, но все расступались перед ним, будто его смерть была заразной болезнью.
Он был старше меня. Челюсть не проглядывала из-под черной бороды, наверно ему было не меньше двадцати… Когда он посмотрел на меня сверху — я, наверно, показался ему мальчиком. Он был лишь немного больше меня, — высокий только для минойца, — но сухой и мускулистый, как горный лев; жесткие черные волосы были слишком густы и коротки, чтобы свисать локонами, и покрывали его шею словно курчавая грива. Мы встретились глазами, и я подумал: «Он стоял здесь, как я стою сейчас, а человек, с которым он бился, превратился в скелет под скалой…» И еще подумал, что он не готов к смерти, не согласен.
Нас окружила громадная тишина, полная пристальных глаз. И меня поразила мысль, что все эти люди, глядящие на нас, сейчас ощущают нас лучше, чем самих себя… Это было странно и волнующе, и мне было интересно — он тоже это чувствует или нет.
Мы стояли так, и я увидел теперь, что он не совсем один: за его спиной появилась женщина и стояла там, плача… Он не обернулся. Если и слышал — ему было не до того.
Он сошел еще на несколько ступеней, глядя только на меня…
— Кто ты и откуда пришел?
По-гречески он говорил очень плохо, но я его понял. Мне казалось, я понял бы его, даже если бы он вообще не знал ни слова.
— Я Тезей, из Трезены на острове Пелопа. Я пришел с миром, я ехал в Афины. Но, кажется, наши нити жизней пересеклись.
— Чей ты сын? — По лицу его было видно, что ответ его не интересует. Он спрашивал, чтобы убедиться, что он еще царь, что он еще человек, ходящий по земле под солнцем…
— Моя мать развязала свой пояс в честь Богини, — говорю. — Я сын миртовой рощи.
Вокруг тихо зашептались, будто зашуршал тростник… Но царица, я чувствовал, вздрогнула. Теперь она смотрела на меня, а Керкион на нее. Вдруг он расхохотался. Белые крепкие зубы сверкали над молодой черной бородой… Люди заволновались, удивленные, — я понимал не больше остальных. Одно я чувствовал, что смеется он не от веселья. Он стоял на лестнице и хохотал, а женщина за ним упала на колени и раскачивалась взад-вперед, закрыв лицо руками.
Он сошел вниз… Я не ошибся издали — он на самом деле был очень силен.
— Ну что ж, Сын Рощи, нам надо выполнять предначертания. На этот раз шансы равны — госпожа не будет знать, для кого бить в гонг.
Я не понял его, но видел, что он говорит это для нее, не мне.
Пока мы говорили, открылись двери святилища рядом с нами; оттуда вынесли высокий красный трон, украшенный змеями и снопами… Его установили возле площадки, а рядом поставили большой бронзовый гонг. Царица взошла на трон и села, держа колотушку, словно скипетр. Ее окружили женщины…
«Нет, — думал я, — шансы не равны. Он будет сражаться за свое царство, а мне оно не нужно. Он будет сражаться за свою жизнь, которая мне тоже не нужна. Я не могу ненавидеть его, как должен ненавидеть воин своего врага; я даже разозлиться не могу — разве что на его подданных, которые бегут от него словно крысы от пустого амбара. Если бы я был их веры, меня бы, может, вдохновляли их надежды; но я не могу плясать под их дудку — я эллин…»
Одна из жриц отвела меня в угол площадки, там двое мужчин раздели меня, натерли маслом и дали мне льняной борцовский фартук. Они заплели мне волосы в косу на затылке и вывели меня вперед, чтобы всем было видно. Народ приветствовал, но это меня не согрело. Я знал, что они так же ликовали бы, будь на моем месте любой другой, пришедший убить царя. Даже теперь, когда он тоже был раздет и я видел его силу, не мог я его ненавидеть. Я глянул на Царицу, но и тут не мог понять, зол я на нее или нет, — я ее хотел. «Ну что ж, — думаю, — разве этого недостаточно для ссоры?»
Старший из мужчин, по виду бывший воин, спросил: «Сколько тебе лет, мальчик?» Люди вокруг слушали, потому я сказал девятнадцать. Я чувствовал себя сильнее от этой лжи. Он поглядел на мой подбородок, — на гусенке пух мощнее, — но ничего больше не сказал.
Нас подвели к трону, где она сидела под своим зонтом. Сверкали на солнце шитые золотом оборки платья и драгоценные камни на туфлях, золотисто-розовой поверхностью персика светились пышные груди, пламенели рыжие волосы…
В руках ее была золотая чаша, и она протянула ее мне. Чаша нагрелась на солнце, сильно пахло пряным вином, медом и сыром… Принимая чашу, я улыбнулся ей. «Ведь она женщина, — думаю, — иначе к чему это все?» На этот раз она не вскинула голову как раньше, а взглянула мне в глаза, словно надеясь прочесть в них знамение. А в ее глазах я увидел страх.
Когда преследуешь девушку в лесу, она кричит; а догонишь — быстро успокаивается. Я подумал, что это — тот страх; это меня возбудило, и я порадовался, что соврал про девятнадцать лет. Отпил того напитка, отдал чашу, жрица передала ее царю.
Он сделал большой глоток… Люди глядели на него, но никто его не приветствовал. А ведь он был красив обнаженный, и держался отлично, и целый год был их царем… Я снова вспомнил, что рассказывали о старой вере. Им на него наплевать, хоть он сейчас умрет для них, — так они надеются по крайней мере, — чтобы влить свою жизнь в их хлеба. Он — козел отпущения; глядя на него, они видят лишь беды минувшего года: невзошедшие поля, яловых коров, болезни… Они хотят убить вместе с ним свои беды и начать снова; он не властен в своей смерти, она просто забава для этой черни, которая не жертвует ничем!.. Это меня злило. Я чувствовал, что из всех этих людей он был единственным, кого я мог бы полюбить. Но по лицу его я видел, что для него все это естественно и справедливо. Ему было горько, но он был землепоклонник, как и они. Он тоже решил бы, что я сумасшедший, если б узнал мои мысли. Я эллин — это я одинок здесь, не он.
Мы сошлись на площадке для боя, царица встала с жезлом в руке… И с того момента я смотрел лишь на его глаза. Что-то подсказало мне, что он будет не похож на трезенских борцов.
Резко зазвенел гонг… Я ждал, готовый отскочить, ринется ли он на меня, чтобы обхватить вокруг торса. Нет, я угадал: он пошел по кругу, стараясь поставить меня против солнца. Не суетился, не сучил ногами, а двигался очень медленно и мягко, как кошка перед прыжком. Недаром я чувствовал, — пока он говорил на плохом греческом, — что у нас есть все-таки общий язык. Сейчас мы на нем говорили: он тоже был из думающих борцов.
Глаза у него были золотисто-карие, светлые, как у волка. «Да, — думаю, — и быстр он будет, как волк. Надо дать ему напасть первым. Пока он меня не боится, он может допустить оплошность, потом будет труднее…»
Мощный удар шел мне в голову… От него надо было уклоняться влево, потому я прыгнул вправо. Хорошо сделал: он уже бил ногой в то место, где должен был оказаться мой живот. Бил сильно, как лошадь, даже вскользь удар был чувствителен… Но не очень, и я схватил его за ногу. Я бросил его не прямо, а чуть в сторону, чтобы не мог защищаться ногами, — и в тот же миг прыгнул на него, стараясь захватить голову в замок… Но реакция у него была отличная. Он все-таки дотянулся до меня ногой и оттолкнул, и я еще не успел коснуться земли, как он разворачивался, чтобы поймать меня в ножницы… Я на миг задержал его ударом в подбородок и успел вывернуться, как ящерица… Мельница закрутилась, и я очень скоро забыл свои добрые чувства к нему: когда человек тебя убивает — уже не спрашиваешь себя, что он тебе сделал плохого.
У него было благородное лицо. Но взгляд царицы, когда я спрашивал о правилах, меня предостерег. Смертный бой — это смертный бой, и запретов в нем не было. У меня вот ухо рваное, как у драчливого пса, — это с того раза. Еще было — он едва не выковырнул мне глаз и отпустил лишь тогда, когда я почти сломал ему палец… В начале боя я был слишком спокоен, но вскоре стал уже слишком зол. Однако не мог позволить себе рисковать только ради удовольствия сделать ему больно, да и он был словно из дубленой бычьей шкуры с бронзовой сердцевиной.
Схватка затягивалась, и я уже не мог сойти за девятнадцатилетнего. Он был мужчина в расцвете сил, а я-то… Кровь моя, мышцы и кости начали шептать, что мне против него не выстоять, — и тут зазвучал гонг.
Сначала послышался удар колотушки. Будто молотком, завернутым в тряпку. А за ударом возник чудовищный певучий рев. Клянусь — звук можно было ощутить в земле под ногами… И в этом вибрирующем звуке запели женщины.
Голоса опускались и ползли вверх, опускались — и еще выше… Так северный ветер свистит в ущельях, так в горящем городе рыдают вдовы, так волчицы воют на лугу… А над этим, под этим, сквозь это — в костях, в крови, в каждой жилочке наших тел ревел гонг.
Эта музыка сводила меня с ума. Она накатывалась волна за волной и выхлестывала из меня все чувства, все мысли… Оставалась только одна, — мания сумасшедшего, — я должен его убить, чтобы прекратить этот шум!
Я уже не чувствовал усталости. А он — он начал сникать. С каждым ударом гонга его сила иссякала; это его смерть пела ему, обволакивая его словно дымом, прижимая его к земле… Всё было против него — и народ его, и Таинство, и я, — но он бился храбро.
Он схватил меня за горло, душил и валил назад, — я упал и ногами перебросил его через себя. И пока он еще был оглушен падением — прыгнул на него, перевернул и заломил руку за спину. Так он лежал — лицом вниз, а я на его спине — и уже не мог подняться. Песня взвилась протяжным воплем и оборвалась, задрожал и замер последний удар гонга… Стало тихо.
Лицо его было в пыли, но я прекрасно понимал, как он сейчас пытается найти выход — и знает, что все кончено. Ярость моя утихла. Я забыл боль, какую он причинил мне, и помнил лишь доблесть его и безнадежность его… Зачем я беру на себя его кровь? Он не сделал мне ничего плохого, он лишь исполнял свою мойру…
Я чуть подвинулся — очень осторожно, он знал много всяких уловок, — подвинулся, чтобы он мог повернуть лицо, убрать из грязи. Но он не посмотрел на меня — только на темную расселину под скалой. Вокруг стоял его народ, и его нить жизни была сплетена с их нитями, — его нельзя было спасти.
Я придавил ему спину коленом, а свободной рукой обхватил ему голову под подбородком и потянул вверх, так, что напряглась шея. И спросил:
— Сделать сразу? — Спросил тихо, на ухо: это не касалось остальных вокруг — тех, кто не жертвовал ничем.
Он прошептал:
— Да.
— Скажи богам, там внизу, что я не виноват в смерти твоей.
— Будь свободен от нее… — Он добавил что-то. Какое-то обращение к кому-то. Это было на его языке, но я ему поверил. Я рванул его голову назад, — резко и сильно, — хрустнул позвоночник… В глазах его еще теплилась искра жизни, но, когда крутанул голову в сторону, угасла.
Я поднялся на ноги и услышал, как толпа глубоко вздохнула, будто все они только что пережили акт любви. «Так это начинается, — сказал себе, — лишь боги могут увидеть конец».
Принесли погребальные носилки, положили на них царя… Вдруг раздался пронзительный крик — царица с воплями ринулась с трона к носилкам и бросилась рыдая на труп. Рвала себе волосы, царапала лицо и грудь… Она выглядела как женщина, потерявшая своего любимого господина, — мужчину, что увел ее девушкой из отчего дома, — как мать малолетних детей, о которых некому позаботиться… Так она плакала. А я — глядел в изумлении. Лишь когда все женщины подхватили этот плач и вой — лишь тогда я понял, что это обряд.
Они уходили, причитая, умиротворяя только что возникшего духа, — вокруг меня стояла толпа любопытных чужих людей… Я хотел спросить: «Что дальше?» — но единственный человек, кого я знал здесь, был мертв.
Однако вскоре подошла старая жрица и повела меня к святилищу. Она сказала, что до захода солнца они будут оплакивать царя, потом я буду очищен от крови и стану мужем Царицы.
В комнате с ванной из крашеной глины она вымыла меня, перевязала мне раны… Они все говорили по-гречески, хоть с акцентом береговых людей, слегка шепелявя; и даже в своем языке употребляли много греческих слов: в Элевсине издавна так много моряков со всех сторон, что языки там перемешались, как и кровь… На меня надели длинный льняной хитон, расчесали мне волосы, дали мяса и вина… Делать было больше нечего — только слушать причитания, ждать и думать.
Перед заходом солнца я услышал, как по длинной лестнице спускается погребальная процессия. Звучали песнопения и плач, ревели трубы, звенели бронзовые диски… В окно было видно шествие женщин в красных платьях, в черных покрывалах… Когда закончился погребальный гимн — раздался громкий крик. В нем слышалось и отчаяние, и торжество; и я догадался, что царь «уходил домой».
Вскоре, чуть начало смеркаться, вернулась жрица, чтобы вести меня на очищение. В окне забрезжил красный свет, а когда открыли двери — гляжу — море пылающих факелов. Они были повсюду: в притворе святилища, на крепости, в городе… Но было очень тихо, хоть весь народ, начиная с двенадцати лет, был на улицах; жрица вела меня через толпу в глубокой тишине. Мы пришли к берегу, где стояли у причалов корабли, подошли к воде; и когда она лизнула нам ноги — жрица крикнула: «Все в море!»
Люди пошли в воду, все. Те, кто был в белых одеждах, их не снимали. Остальные раздевались донага, — мужчины и женщины, — но всё делалось в глубокой торжественности, и они не выпускали из рук свои факелы. Ночь была тихая, и море казалось усеяно огнями: тысячи факелов отражались в воде.
Жрица завела меня в воду по грудь и высоко подняла свой факел, чтобы все меня видели.Я очищался там от крови; они, наверно, смывали неудачи и смерть. Я был молод, а убил мужчину с густой бородой; и хоть это магия отдала его в мою власть — я чувствовал себя победителем… К тому же меня ждала царица, а с темнотой пришло и желание.
На Саламине, за проливом, горели лампы в домах; я подумал о доме, о родных, о Калаврии, что так же отделена водой от Трезены… Всё здесь было чужим, кроме моря, принесшего моего отца к матери. Я развязал пояс, стянул с себя хитон и отдал его жрице. Она посмотрела на меня удивленно, но я нырнул и поплыл меж людей далеко в пролив. За спиной, словно огненный прибой, полыхали на берегу факелы, а над головой были звезды.
Какое-то время я плыл молча. Потом сказал: «Синевласый Посейдон, Сотрясатель Земли, Отец Коней! Ты — господин и владыка Богини. Если я достойно служил тебе у алтаря в Трезене, если ты присутствовал при зачатии моем — поведи меня навстречу моей мойре, будь моим другом в этой земле женщин».
Переворачиваясь, чтобы плыть назад, я ушел под воду с головой; и, когда вода наполнила мне уши, услышал пульс морской волны и подумал: «Да, он меня помнит!» Поплыл назад, к факелам… Главная жрица размахивала своим и кричала: «Где царь?» Она была ужасно похожа на старую няньку, у которой дети стали слишком большими — не управиться… Наверно поэтому я нырнул и поплыл под водой — и выскочил, смеясь, прямо у нее перед носом; так что она шарахнулась и едва не выронила факел. Я почти ждал оплеухи. Но она лишь смотрела на меня во все глаза и качала головой, и бормотала что-то на своем языке.
Я шел назад в мокрой одежде, раны мои саднили от соленой воды, и это казалось странным: казалось, после нашего поединка год прошел, не меньше… А глядя на народ, можно было подумать, что царя Керкиона вообще никогда не было. Лишь посмотрев через площадку, где грот был освещен плошками, на ту расщелину в скале, я увидел возле нее женщину, которая оплакивала его. Она лежала на камнях, лицом вниз, с разметавшимися волосами; неподвижно словно мертвая. Несколько женщин окликали ее с лестницы, укоряли… Потом с кудахтаньем сбежали к ней, подняли ее на ноги и увели наверх во дворец.
В святилище меня вытерли, натерли маслом, снова причесали… Потом принесли мне вышитую тунику, ожерелье из золотых подсолнечников и царский перстень. На золоте была выгравирована Богиня и женщины, поклоняющиеся ей. И еще — юноша, мельче их всех. У меня на скуле был порез от этого перстня: Керкион попал кулаком.
Когда я был готов, я попросил свой меч. Они удивились, сказали он мне не понадобится…
— Надеюсь, — говорю. — Но раз уж я иду в дом жены, а не она в мой, я должен иметь его при себе.
Это их не убедило. Я не мог сказать, что это меч моего отца; но когда сказал, что мне дала его мать, — принесли тотчас. Землепоклонники всё наследуют от матерей, даже имена.
Снаружи меня ждал эскорт музыкантов и молодых певцов; они повели меня не во дворец, а в нижнее святилище. Пели по-минойски, но все было понятно и по их жестам: не просто непристойно — похабно!.. Когда жениха ведут к невесте — без шуток не бывает, но они не знали меры. И потом, я же знаю, куда и зачем иду, — чего меня учить?!
Песня сменилась гимном. Потом я его узнал: это была Песня Зерна в тех краях. Про то, как вырастает целый колос, там где было брошено одно зернышко, — через чрево Великой Матери, откуда исходит всё сущее. Потом они пели славу царице, называя ее Корой; это имя не было запретным… Вскоре мы подошли к ступеням, уходящим в землю. Песня тотчас оборвалась, стало тихо. Жрица отдала свой факел и взяла меня за руку.
Она повела меня вниз в темноту, потом по извилистому переходу, потом снова вверх… Коридор кончился, стены расступились, и в помещении был запах женщины. Я запомнил его, когда шел рядом с ней: густой, тяжелый аромат нарциссов. Жрица отпустила меня, слышно было, как затихают ее шаги и шуршание руки по стене. Я сбросил одежду, оставив лишь меч в левой руке, и пошел вперед. Нащупал кровать, прислонил к ней меч, потом протянул руки — и нашел ее. Она скользнула ладонями вверх по моим рукам, потом вниз от плеч по телу — и всё, что я узнал с девушками в Трезене, сразу обратилось в пустяк; так вспоминаешь свои детские игры, когда повзрослеешь…
Вдруг она вскрикнула. Словно девственница. Зазвенели кимвалы, взревели трубы… Меня ослепил яркий свет — я лишь слышал тысячи голосов, которые со смехом приветствовали нас… Потом увидел, что мы были в гроте. Устье его до сих пор было закрыто дверями, а снаружи весь народ ждал, когда их откроют.
В первый миг я был ошеломлен настолько, что двинуться не мог. Но тотчас ярость поднялась во мне; я вспыхнул, как лес в горах жарким летом, схватил меч и с криком бросился на них. И тут, среди визгов и воплей, вдруг увидел — вокруг меня одни женщины; они, если хотите, заняли первые ряды в этом театре. И все кричали так, будто никогда до меня не видели мужчины, который возмутился бы таким делом. Никогда до самой смерти не смогу я понять этих землепоклонников!
Я вышвырнул их вон, захлопнул двери… Потом вернулся к постели.
— Ты, бесстыжая сука! — говорю. — Ты заслужила смерти! Неужто в тебе нет ни своего стыда, ни уважения ко мне? Ты видела, что я не привел с собой никого, — неужто не могла дать мне кого-нибудь из своих людей, чтобы охраняли дверь? Или у тебя нет никого из родни, чтобы могли последить за приличием? Там, откуда я пришел, самый ничтожный крестьянин в самом глухом селении убил бы тебя за это. Я собака, что ли?
В темноте, ставшей еще чернее после света, слышалось ее быстрое дыхание.
— Ты что?.. — спрашивает. — Ты что, с ума сошел?.. На это же всегда смотрят!
Я онемел. Не только с Керкионом, но со всеми — боги знают, сколько их было, — она показывала себя народу!.. Снаружи бушевала музыка, — лиры и флейты, — и барабаны колотились, будто кровь в ушах… Я слышал, как она подвинулась на кровати.
— Они больше не придут, — говорит, — иди ко мне.
— Нет, — говорю, — ты меня оскорбила, ты вытравила из меня мужчину.
Запах ее волос приблизился, и рука ее легла мне на шею… Она зашептала:
— Что ты сделала со мной, Великая Мать! Прислала мне дикого лошадника из Небесного племени, синеглазого колесничего… Ни законов, ни обычаев он не знает, ничего святого нет для него! Ты хоть понимаешь, что такое сев и жатва? Как могут люди верить в урожай, если они не видели посева?.. Но мы уже сделали всё, что им от нас было нужно, они больше ничего не попросят. Теперь наше время пришло, мы можем наслаждаться друг другом…
Ее ладонь снова скользнула по моей руке, она сплела свои пальцы с моими, сняла их с рукояти меча, притянула меня к себе… И я забыл, что всему, что она умела, ее научили мертвые мужчины, чьи кости лежали возле нас под скалой. Барабаны били всё быстрее, флейты играли всё звонче… За одну эту ночь я узнал больше, чем за три года перед тем с девушками Трезены.
2
«Всего четыре дня, как вышел из дому, и вот я царь!»
Так я подумал на другое утро, когда нас привели наверх во дворец и — с верхней террасы — засверкала через море солнечная дорожка.
В Элевсине новоиспеченного царя словно в меду купают. Топят!.. Золотые ожерелья, инкрустированные кинжалы, туники из вавилонского шелка, розовое масло с Родоса… Танцовщицы забрасывают тебя цветами, певцы повторяют свои дифирамбы по-гречески, чтоб ты невзначай не упустил чего… Девушки вздыхают вокруг — все влюблены в царя; пожилые женщины воркуют — каждой из них он сын… И среди Товарищей, — так называлась гвардия моя, состоявшая из высокородных юношей, из них каждый сам имел шансы попасть на мое место, — среди Товарищей я тоже был словно бы их братом. Только потом я заметил, что не старшим братом, а младшим; которого все балуют и портят. Поначалу мне было не до того.
Громадная спальня выходила окнами на юг. Просыпаешься утром — сначала видишь только розовое небо в широких окнах. Сядешь на кровати — горы Аттики, красные от зари, и серую воду залива. Стены были расписаны белыми спиралями с розовыми цветами, а пол выложен красной и черной плиткой… Кровать из египетского черного дерева украшена золотыми ячменными колосьями, на ней покрывало из шкурок виверры, с каймой из темного пурпура… А возле окна в ивовой плетеной клетке жила птица с гладкими белыми перьями, отливавшими во все цвета, как перламутр. На рассвете она пела, а иногда — вдруг, совершенно неожиданно — начинала разговаривать по-человечески. Я каждый раз вздрагивал, а она смеялась. Не птица — а она. В первых лучах солнца ее волосы загорались огнем. Густые, пышные!.. Пробовал их собрать — в руках не умещались…
Весь день я жил в ожидании ночи. Иной раз засыпал в полдень и просыпался только к вечеру, а потом уж снова не спал до зари. Во время свадебных жертвоприношений я едва заметил, что я лишь убивал жертвы, а предлагала их богам она, словно она была царем. На Играх я победил в метании копья, в прыжках и в забавных скачках на маленьких минойских лошадках. И стрельбу из лука тоже выиграл, хоть у меня глаза — думал, вылезут; до того был замучен бессонными ночами.
Борьбы там не было; с этим, по-видимому, всё уже было решено между мной и Керкионом. Но если вы думаете, что это были погребальные игры в его честь, — не угадали. В мою честь их проводили; а он — с глаз долой, из сердца вон!.. Я дольше горевал по своим собакам, чем они о нем. И больше того, теперь меня звали Керкионом. Так заведено в Элевсине, как Фараоны у египтян или Миносы на Крите. Так что от того человека даже имени не осталось.
Прошло какое-то время, и жизнь во Дворце вошла в обычную колею. Внизу на равнине приступила к своим занятиям армия — бросали в чучела копья, стреляли в цель… Но это, как выяснилось, меня не касается. На самом деле, какой смысл менять командующего каждый год? Войска подчинялись Ксантию, брату царицы. Он был крупным мужчиной, — по минойским меркам, — тоже рыжий, как она, но ему это не шло. И глаза у него были лисьи, красные какие-то. Бывают горячие рыжие и по-холодному рыжие мужики — так вот он был из холодных. Со мной он разговаривал, как с маленьким, и это меня раздражало. Хоть он был старше меня лет на двенадцать, но я был царь!.. А в Элевсине пробыл слишком мало, чтобы понять, что там это ничего не значит.
Царица давала аудиенции ежедневно. Поскольку Большой Зал был при этом забит одними женщинами — я сначала не соображал, что она вершит без меня все государственные дела. Но эти женщины были главы семейств; они приходили с тяжбами о границах владений, о налогах, о брачных договорах и приданом… С отцами в Элевсине не считались: они не могли выбирать жен своим сыновьям, сыновья не наследовали даже их имен, а уже о собственности и говорить нечего. Мужчины держались позади, говорили одни женщины; а если ей был нужен мужской совет, она посылала за Ксантием.
Однажды вечером, в спальне, я спросил ее: неужели в Элевсине для царя нет никаких дел? Она улыбнулась.
— Конечно, есть, — говорит. — Сними с меня ожерелье; в волосах запуталось.
Я сперва не пошевелился, только глянул на нее.
— Ну, подумай, — говорит, — зачем царю превращаться в писаря и тратить время на противных уродливых стариков? — Уронила на пол пояс и юбку, подошла вплотную… — Погляди, вот здесь тянет. Мне больно! — Больше мы в ту ночь не разговаривали.
Но тут же вскоре я узнал, что она принимала посольство с Родоса и даже не сказала мне. Случайно узнал: услышал на нижней террасе разговор слуг. Они — знали! Я был ошеломлен. Я с места двинуться не мог!.. «За кого она меня принимает? — думаю. — Если у ее лисоглазого братца борода гуще, так она считает, что мне нянька нужна? Громы Зевса! Ведь я убил ее мужа!..» От злости в глазах потемнело.
Очнулся я от голосов вокруг. Мои Товарищи, как всегда, были там со мной; я еще едва отличал их друг от друга в то время.
— Что случилось, Керкион? Тебя что-нибудь тревожит? Ты выглядишь больным…
— Нет, он выглядит сердитым.
— Керкион, я могу чем-нибудь помочь?
— Ничего, — говорю, — мелочь! — Не мог же я им сказать, что она меня за человека не считает. Но когда в тот вечер все ее женщины разошлись, я спросил ее, что все это значит.
Она изумилась. Она на самом деле, действительно не понимала, чем я рассержен. Сказала, что ни в чем не нарушила обычаев, и это была правда, я знал… А что до того, как она ко мне относится… Она распустила волосы, улыбнулась мне из-под них…
На другое утро заря была золотисто-зеленой. У меня на груди лежала груда рыжих волос, щекотала кожу… Я поднял их, соскользнул с постели и подошел к окну. Через мерцающее море плыли в золотистом тумане холмы Аттики; казалось, их можно достать стрелой из лука. Я думал об обычаях землепоклонников — как все это странно, как трудно эллину их понять… Вот она выбрала меня, заставила драться, сделала царем… Но ни она, ни кто другой не спросили, согласен ли я с моей мойрой.
Проснулась и запела белая птица… С постели раздался ее голос — совсем не сонный.
— Ты думаешь? О чем ты думаешь?
Я знал, какой ответ ей понравится больше всего. Из всех ее мужей я был первым эллином.
Но с этого дня я словно очнулся от сна. Много времени в Элевсине я провел праздно: спал, танцевал или боролся с молодыми парнями, играл на лире, смотрел на море… Теперь я начал искать себе работу. Ничего не делать — не в моей это натуре.
Под рукой у меня были мои Товарищи. Если начнется война — пусть Ксантий ведет остальных, но должен же я командовать хотя бы своей гвардией. Пора было уделить им внимание.
Эти ребята не отходили от меня, — я уже говорил, — разве что в постели с царицей я обходился без них. Они все были из хороших семей, хорошо воспитаны, привлекательны, — без того они не попали бы туда, куда попали, — но этим и исчерпывались их достоинства. Чтобы попасть в ту гвардию, не надо было совершать подвигов, и я не нуждался в их защите. Ведь в Элевсине не было более ужасного преступления, чем убить царя не вовремя, и наказание было ужасно: после чудовищных пыток убийцу хоронили заживо, чтобы отдать его во власть Дочерям Ночи. Это случилось лишь однажды, очень давно, и то по нечаянности… Так что Товарищи были не охраной, а украшением царя; народу это нравилось.
Все они были более или менее греки — признак аристократизма в тех краях… Когда я начал с ними беседовать, то изумился, насколько они были тщеславны и завистливы. Каждый реагировал на малейший недостаток внимания, словно кошка на воду; все старались друг друга подсидеть… Ко мне они относились с живым интересом. Во-первых, потому что я был эллин, а во-вторых — как я узнал вскоре — про меня было какое-то предсказание, которое держали от народа в тайне. Я вспомнил смех прежнего царя, но это никому ничего не подсказало.
Судя по тому, что они умели, — до сих пор они только баловались в военные игры. Но трусами они не были; так что, наверно, виноваты были прежние цари: ни один из них не заглядывал дальше конца своего срока. Ну со мной другое дело — я всегда во всё вмешиваюсь, где бы я ни был…
Занятия на дворцовом плацу скоро всем надоели, потому я повел своих людей в горы. Сначала им не хотелось. Элевсинцы выросли на равнине и презирали горы: мол, нищая бесплодная земля, годная лишь волкам да бандитам… Я спросил, что они будут делать, когда грабители придут за их скотом, если не знают собственных границ. Они сказали — верно, мегарцы часто угоняют стада, чтобы восполнить потери от Истмийских бандитов по другую сторону их страны… «Ну что ж, — говорю, — на это лишь один ответ. Они должны нас бояться больше, чем тех бандитов». Так я затащил их на скалы. Мы добыли оленя в тот день и жарили нашу добычу возле горного ручья — понравилось. Но на обратном пути один из них вдруг подошел:
— Не говори никому, Керкион, а то в другой раз наверняка не пустят.
Я поднял брови:
— Ого! Кто это меня не пустит?
Они чего-то зашептались… Слышу, кто-то доказывает:
— …чего ты хочешь, дурак, ведь он же эллин!
Потом один сказал, очень учтиво:
— Видишь ли, Керкион, это очень большая беда, если царь умирает не вовремя.
Что верно, то верно. У минойцев есть песня про то, как в давние времена один молодой царь не послушался запрета царицы и пошел на охоту и его убил кабан. Говорят, анемоны окрашены его кровью. В тот год не уродились маслины, и никто никогда не слышал, чем это кончилось.
Тем не менее, на другой день мы снова были в горах, и на третий — тоже… Элевсин лежит между двумя эллинскими царствами; когда юноши уставали от тяжелой власти своих матерей, им было достаточно взглянуть искоса в любую сторону, чтобы увидеть страну мужчин. Так что они ходили в горы, и помалкивали об этом, и были очень довольны собой. Я не мог приносить во дворец свои охотничьи трофеи, потому раздавал их в качестве призов. Очень осторожно приходилось это делать, чтобы тщеславная братия не перессорилась из-за них. Время шло, мы привыкали друг к другу, взаимно учились говорить… И незаметно выработали свой собственный язык — греческо-минойскую смесь с целой кучей только наших шуток и словечек. Никто другой его не понимал.
Однажды — мы брали очень трудный подъем — я вдруг услышал, как они перекликаются:
— Мы потеряли Малыша!
— Где Малыш? Ты его не видел?
Я выбрался на видное место, и кто-то сказал:
— А! Вот он!
Я со многим смирился в Элевсине, но глотать оскорбления — слуга покорный. Я напомнил себе, что прошел за девятнадцатилетнего, а самому старшему из них двадцать один… И шагнул вперед:
— Следующего, кто назовет меня Малышом, я убью!
Они стояли разинув рты.
— Ну! — говорю. — Мы здесь на границе. Любой, кто убьет меня, может бежать. Или можете скинуть мой труп со скалы и сказать, что я упал. Я за юбки Богини прятаться не намерен, но сам за себя постою… Кто тут считает меня Малышом? Выходи и скажи это мне!
Все молчали, потом самый старший, Биас, — борода уже настоящая, — заговорил:
— Но послушай, Керкион, никто не думал тебя оскорблять. Это совсем не то…
Остальные присоединились:
— Это наше имя для тебя…
— Что такое Керкион? Все Керкионы, а ты…
— У всех хороших царей бывают прозвища…
А один — он всегда отличался храбростью и безрассудством — рассмеялся:
— Это ж мы любя, Керкион! Тебе стоит только мигнуть — и ты поимеешь любого из нас.
Несколько человек громко согласились с ним, и не то чтобы совсем в шутку — было видно, что предлагают… И двое из них тут же сцепились в драке.
Я разнял их, сделал вид, что мы все просто дурачимся, что я ничего не понял… Все знают, что среди минойцев это нередкая вещь, так что удивляться тут нечему. Это оттого, что они — уже будучи мужчинами — привязаны к материнскому подолу, матери им даже жен выбирают; а потом они уходят в дом жены и лишь меняют один подол на другой. Когда мужик живет вот так; если он может сам выбрать себе юношу, который глядит на него снизу вверх и гордится его дружбой, — он чувствует себя человеком гораздо больше, чем со всем своим бабьем у себя дома. Не вижу смысла презирать этот обычай — у каждого обычая есть причина; даже среди эллинов, — где-нибудь на долгой войне, когда женщин в обрез и они достаются только вождям, — у нас тоже дружба молодых людей бывает гораздо нежнее, чем надо бы… Можно даже быть мужчиной для женщин, как я, и все-таки не пренебречь возможностью заиметь в чужой стране беззаветных друзей или верную гвардию. Не знаю, правда, что бы я делал, если бы они стали назойливы и утомительны; разве что в этом случае хоть раз пригодилась бы царская власть — избавиться от таких?.. Однако, если бы я выбрал кого-либо из них, не было б конца интригам и кровопролитию, — такие вещи случались при прежних царях, — так что надо было держаться от этого подальше. Потому я и обратил все в шутку.
— Ладно, — говорю. — Но в той земле, откуда я пришел, даже у царей бывают имена. Мое имя — Тезей.
Так и стали называть меня, хоть это было явно не по обычаю. А что до того обычая — несколько человек на самом деле говорили, что думали; остальные так, ради моды. У них уже были свои младшие друзья или девушки — обычно те, на которых матери жениться запрещали… Они часто приходили ко мне со своими бедами, и я, когда мог, утрясал эти дела с царицей. Но до чего ж это унизительно мужчине — уговаривать, улещать женщину и не иметь власти настоять на своем!
Я снова, как в детстве, начал искать диких путей, чтобы утвердить в себе себя. Начал мечтать о войне. Но на западе были мегарцы — родственники и побратимы моего отца; а на востоке — сам отец. Я много слышал о стычках с Мегарой из-за скота, некоторые из моих парней уже успели принять участие в самой последней из них. Они говорили, мегарский царь Нисий слишком стар для войны, но зато сын его Пилай дерется за двоих. А братца нашей царицы люди недолюбливали; прямо об этом не говорили, но намеками это проскальзывало частенько. Никто не сомневался в его храбрости, но его считали надменным и жадным. А добычу он делил так, что появилась даже поговорка — «Ксантиева доля».
Дед меня предупреждал: «Когда будешь в Мегаре — смотри, не впутайся в какую-нибудь ссору, не обидь никого. Царь Нисий — брат твоей бабки, единственный верный союзник твоего отца; царь Пандион скрывался у него, когда ему пришлось бежать из Афин во время войны за царство, и твой отец родился в Мегаре…» Чем ближе подходила осень, тем больше тревожили меня эти слова. Подходило время набегов — самое время, пока зима не закрыла перевалы. Доведись нам встретиться с ними — я не смогу вызвать Пилая на поединок, и тогда у всех будет достаточно оснований звать меня Малышом. Но если вызвать — я его убью или он меня, — отцу все равно будет хуже; я боялся этой войны, словно последний из трусов.
На рассвете — белая птица еще не пела навстречу солнцу — лежал я без сна в расписной опочивальне и думал, как быть. Пожалуй, пора смываться в Афины… Но как? Рабу легче бежать, чем царю. Ведь я всегда на людях: на праздниках, на жертвоприношениях (приносила-то жертвы она, но без меня не обходилось); куда б я ни пошел — со мной всегда моя гвардия; а по ночам царица просыпается, стоит мне подвинуться к краю постели… Оставались, правда, наши охотничьи вылазки в горы — но я знал своих Товарищей: решив, что я лежу где-нибудь раненый, они пустят по моему следу собак-ищеек… И если даже мне удастся от них уйти — ведь им не миновать кары за меня, за то что потеряли. Судя по всему, их убьют; а я уже начал чувствовать себя за них в ответе… Тут уж никуда не денешься, когда слишком долго общаешься с людьми.
Ну и, допустим, удрал я — что потом?
Приду я к отцу беглецом-попрошайкой, да еще, быть может, принесу ему угрозу войны с Элевсином. И дурацкий же у меня будет вид — от женщины удрал!.. То ли дело, если бы слух обо мне дошел раньше меня. Чтобы, еще не зная, кто я такой, отец сказал бы: «Вот бы мне такого сына!»
«Нет! — думаю. — Зевс Вечноживущий! Ведь у меня еще есть время. Осень, зима, весна впереди… Если я не смогу открыто прийти в Афины, чтобы слава моя бежала передо мной, — так мне и надо, — останусь в Элевсине, разделив судьбу прежних царей».
Я осматривался, прислушивался…
Пилай, сын Нисия, был прославленный воин; к мегарцам относились настороженно… Чтобы сохранить свое положение, не схлестнувшись с ним, мне надо было как-то с ним подружиться. И поскорее!.. Я крутил и так и сяк и не мог придумать, как это сделать.
Правда, наши ночи не утратили сладости, — каждый раз песни арфистов за ужином казались чересчур длинными, — но я уже больше не мучился мыслью, как смогу оставить ее. Я никогда не заговаривал с ней о делах, если кто-нибудь мог услышать, чтобы она не унизила меня при свидетелях небрежным ответом; но если пытался ночью — она убаюкивала меня, как маленького. Дома, когда мне было всего десять лет, дед часто оставлял меня в Зале Совета, чтобы я сидел тихонько и слушал, как он судит; а потом спрашивал, что я понял в делах. Здесь же ко мне подкатывались просители, пытались меня подкупить, чтобы я раскрыл им ее уши, словно я был наложницей… Разумеется, это были женщины, так что я не мог попросту дать им по зубам.
Я часто видел во Дворце ее детей. Их было всего пять, хотя она выходила за десятерых царей. От последнего детей не было, и я надеялся, как каждый мужчина, что от меня она понесет. Но мне довелось услышать разговор нянек: мол, эти дети — знак ее особого расположения к их отцам, она выбирает, кому из царей рожать, а кому нет. И потому я не спрашивал ее: знал, если она мне скажет, что не считает меня достойным стать отцом, — слишком я буду зол, чтобы отвечать за себя.
Настал день, когда она услышала, что я гонялся за леопардом. Как она меня отчитывала!.. Кто бы слышал — подумал бы, что пацана сняли с яблони; пацана, только что надевшего первые короткие штанишки!.. Я буквально онемел. Мать моя, знавшая меня беспомощным младенцем, голым как червяк, — моя собственная мать не посмела бы сказать мне всех тех слов!.. Потом я сообразил, что надо было ответить, но уж поздно … В ту ночь в постели я повернулся к ней спиной; думал, что хоть тут она надо мной не властна… Но не тут-то было! — в конце концов она добилась от меня всего, чего хотела, на этот счет она была мастерица… На другое утро я проснулся еще до рассвета, и чувствовал себя — прескверно. Это же позор! Что ж я? Как ночь — мужчина, а как день — детеныш-несмышленыш?.. И всё — ради удовольствия этой бабы?.. Нет, с этим надо кончать, иначе сам себя уважать перестану.
Я решил, что снова пойду на охоту, и на этот раз за чем-нибудь стоящим, не просто так. В горах мальчишки-пастухи знали, что я хорошо отблагодарю за известие о дичи. И вот вскоре один прибегает, спрашивает меня, аж танцует от нетерпения:
— Керкион, в пограничных горах громадная свинья, Файя! Она пришла из Мегары; у нее логово на Ломаной Горе. Говорят, у нее там выводок…
Он продолжал рассказывать, но кое-что я уже слышал. Мегарцы говорили, что в боку у нее сидит наконечник дротика и потому она ненавидит людей: нападает из засады, когда никто ее не преследует, и убивает крестьян, просто так. На ее счету уже было пять человек.
Как раз нечто такое мне и было нужно. Я так одарил парнишку, что тот подпрыгнул от радости:
— Пусть Добрая Богиня будет так же щедра к тебе, Керкион. Царь Нисий назначил награду за зверя — треножник и быка. — Он уже собрался уходить, но у меня возникла новая мысль.
— Стой-ка! — говорю. — А Пилай, сын царя Нисия, не охотится возле границы?
— Обязательно будет, государь, раз она там. Он все время за ней гоняется.
— Когда он появится, дайте мне знать.
И через несколько дней он пришел снова. Я собрал своих Товарищей.
— В наших горах появился стоящий зверь, — говорю.
Самый лихой из них — смуглый юноша, Аминтор его звали — вскрикнул радостно, но тотчас смолк; я услышал, как кто-то предложил пари… Конечно же они знали, что произошло у нас с царицей. Во Дворце женщин, где к полудню все знают, сколько раз за ночь ты обнял жену, — нигде больше не услышишь столько сплетен; и теперь все они ждали и гадали, что я буду делать. А элевсинцев хлебом не корми — только дай им попереживать посильнее.
— Пилай Мегарский и его друзья собираются затравить Кроммионскую свинью. Но, по-моему, — говорю, — мы не должны им этого позволить, раз она на нашей стороне границы.
У ребят глаза расширились. Гляжу — мнутся, шепчутся… Я удивился — вроде бы не трусы были, в чем дело? Потом один протянул: «Свинья-а!»
Тут я вспомнил: ведь эта скотина в Элевсине священна!
Сначала это мне не понравилось — уж больно я на нее нацелился, как только услышал про нее; но подумал — так ведь это даже к лучшему…
— Успокойтесь, парни, — говорю, — она умрет не в Элевсине. Эти горы — ничья земля. И кровь ее на вас не падет — я ее убью. А для эллинов кабан не запретная добыча.
Они глядели на меня — как на сумасшедшего — а я сам не знал, почему так был уверен в успехе.
— Пошли, — говорю, — нам надо выбраться в горы, пока солнце не слишком высоко. Мы и так уже отстали от Пилая.
Я боялся, что если отпущу их — кто-нибудь может перетрусить или проболтаться. А так, все вместе, они друг друга подзадоривали; у них стало модой быть эллинами.
У царицы была аудиенция, когда мы двинулись в путь. Никто не заметил. К этому времени я уже знал, что оружие и снаряжение незачем держать в городе, — все было в пещере в горах. Там мы отдохнули после тяжелого подъема, а брат того козопаса, следивший за дичью, рассказал нам новости. Пилай со своей компанией уже обложил Файю, но она вырвалась, убив двух собак и распоров бедро одному из охотников. Дождь смыл следы и запах, а мальчишка, чтобы сохранить ее для нас, направил мегарцев вокруг горы. Свинья — как залегла, так и не поднималась; и он знал, где она.
На горах повис дождь. Далеко внизу светилась равнина и берег Элевсина, словно омытые бледным солнечным светом, а склоны гор под сине-черными тучами выглядели мрачно и хмуро; казалось, что темнота шла за нами следом. Один из гвардейцев — маленький, смуглый, вообще насквозь миноец — сказал тихо: «Наверно, Богиня гневается».
Черные скалы под набухшими тучами и меня вогнали в дрожь. Ведь в Элевсине Великая Мать — совсем не та, что в Трезене. Но я чувствовал, что назад дороги нет: лучше умереть, чем пойти на попятную и опозориться перед людьми.
— Мы отдадим Владычице ее долю, — говорю, — Аполлону и ей.
И едва я помянул имя бога — на склон горы пробился луч солнца.
На горе было место, где после обвала громадные скалы громоздились одна на другую; между ними проросли молодые деревья, забив ветвями каждую щель… В этом непроходимом хаосе и было логово свиньи.
Мы установили сети, как могли, — не слишком хорошо, ведь почва была скальная… Потом спустили собак. Они рвались туда, как бешеные, но там им, как видно, не понравилось: с лаем и воем посыпались из скал первые, потом показалась вся свора… А за ними — словно громадный черный валун выползал из горы. И он был живой, этот валун: это шла свинья.
Здорово я был наказан за петушиную самоуверенность свою. Те кабаны, что я видел дома, разве что в поросята годились бы по сравнению с ней. Казалось, что это зверь древней породы, что она дожила до наших дней где-нибудь в горном ущелье со времен Титанов и гигантов, рожденных Землей… Но нет, она была молода: громадные кривые клыки на длинной черной морде сверкали свежей белизной, где не были покрыты кровью… Слишком плохо я подумал о мегарцах — они недаром ее боялись.
«Ну, — думаю, — влип! Смерть предо мной, позор за спиной… Впрочем, там тоже смерть, если мои люди станут меня презирать…» Когда они получше ее рассмотрели, я услышал их голоса. Они тоже перепугались не на шутку — решили, что это не просто крупный зверь, а чудище.
Вот она попалась в сети — покатилась, забилась… Я бросился вперед… Но в тот же миг она поднялась на ноги, выдернула колья и потащила за собой всю сеть, полную собак. Если я тотчас ее не остановлю, она доберется до Товарищей… но мне же ни за что ее не остановить, для этого надо быть гигантом!..
Рядом была высокая скала, обращенная ей навстречу плоской стороной. Это была моя последняя надежда. Свинья задержалась на момент — сети ей мешали, должно быть они хоть немного замедлят ее бросок… Я прыгнул к этой скале, прижался к ней спиной и опустил копье, — «к бою!», — движение привлекло свинью, и она пошла прямо на меня.
По пути она споткнулась, но все равно я едва-едва успел упредить ее движением копья и не дать ему сломаться. Наконечник вошел ей в грудь, сразу под плечом, а древко я упер в камень позади себя. Ее собственная сила, не моя, вгоняла копье в ее тело; но мне — мне надо было его держать.
Она ненавидела людей. И когда она визжала, дергалась, рвалась — я знал, что она не за свою жизнь бьется, она старалась добраться до меня. Привязанный тонким древком к этому могучему порождению земли, я ощущал себя травинкой; меня колошматило спиной о скалу, словно сама гора старалась сбросить меня ей на грудь и раздавить, как жалкого комара… И я все время ждал, что копье не выдержит, треснет.
Вдруг, когда я ждал нового рывка вперед, она дернулась назад — у меня руки едва не вырвались из суставов, я был почти готов… И тут она снова надавила. Наверно, копье как-то повернулось в ней; она еще раз резко рванулась, так что древко проскрежетало по скале, — но это была последняя, предсмертная конвульсия.
Я стоял, тяжело дыша; ничего не видел, не чувствовал — слишком был вымотан. Прислонился спиной к скале — прилип: вся спина была в крови… Потом, словно через вату, словно издали, услышал радостные крики Товарищей и, хоть едва стоял на ногах, начал оживать. И поднялось во мне такое чувство — как бывает, когда совершишь дело, возложенное на тебя богом: ты свободен и светел и полон счастья!..
Товарищи кинулись ко мне: «Малыш! Малыш!» — кричат, давай меня качать… Я уже не протестовал против Малыша, но ссадины горели. Они увидели кровь, опустили меня, начали выяснять, у кого есть масло, — никто не взял оказывается, — переругались друг с другом…
— Сойдет и кабанье сало, — говорю, но тут же раздался голос со скалы прямо над нами:
— У меня есть масло. Приветствую тебя!
Там стоял эллинский воин, лет двадцати восьми. Его желтые волосы были заплетены для охоты, борода аккуратно подстрижена, бритая губа… А глаза светло-серые — быстрые и яркие. Возле него стоял юноша с охотничьими копьями на вепря, а чуть отстав, — группа охотников. Я поблагодарил его и спросил формы ради, не он ли Пилай, сын Нисия. Я и так это знал, это ж написано было на нем.
— Да, — говорит. — Послушай, парень, ты перехватил мою добычу; но это было такое зрелище, что за него можно и больше заплатить… А ты, наверно, нынешний Керкион, что пришел по Истмийской дороге?
Я подтвердил; он, казалось, услышал это с сожалением; и после Элевсина это уже было странно… А что он назвал меня «парень» — нельзя же всерьез требовать от наследника эллинского царства, чтобы он относился с почтением к случайному царю-на-год.
— Да, — говорю, — я Керкион, но имя мое Тезей, я эллин.
— Это видно, — он посмотрел на свинью. Потом сказал своему оруженосцу, чтобы тот натер мне спину… Я знал, что он мой троюродный брат, и был рад увидеть в нем благородного человека.
Тем временем все собрались толпой вокруг туши, и мои мальчики начали поддразнивать мегарцев. А ведь последняя война была еще свежа в памяти, так что это были опасные шутки. Я сделал им знак прекратить, но они слишком были возбуждены и довольны собой. Я уже направился к ним, когда Пилай сказал:
— Ты можешь требовать от отца приз — треножник и быка.
Я совсем забыл об этом в суматохе, хоть с самого начала именно этот приз был мне всего нужней. Ничего лучше нельзя было бы придумать.
— Слушайте! — крикнул я. — Вот человек, не знающий, что такое низость. Хоть он упустил добычу — он предлагает нам потребовать награду!
Тут они угомонились, стыдно стало. А я продолжал:
— Бык будет нашим победным пиром. Свинью мы отдадим Владычице и Аполлону, а быка зажарим здесь и пригласим этих воинов разделить его с нами. — Пилай, похоже, понимал шутку, потому ему я сказал отдельно: — Свинину им есть нельзя, а бык из Мегары — что может быть лучше?
Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Где-то в камнях заскулили поросята…
— Клянусь Зевсом! — говорю. — Я совсем забыл о выводке. Если твоего отца могут обрадовать поросята — забери их, отнеси вместе с приветом от меня.
В выводке было четыре свинки и семь кабанчиков, так что мы избавили людей в тех краях от многих забот.
Свинью начали свежевать… Потом мне сделали отличный шлем из ее шкуры и зубов; отменная получилась шкура — гибкая и прочная… Еще не успели ее содрать, как вернулись люди Пилая с царской наградой. Они и дров принесли, чтобы зажарить быка и сжечь жертву. Пилай немало удивился, когда мои минойцы приносили жертву Аполлону, но в моей гвардии в то время это уже стало обычаем; они очень почитали бога, защищающего мужчин от гнева богинь и способного отогнать Дочерей Ночи. Но научить их чтить Посейдона я так и не смог: в Элевсине мужья Матери, как и мужья Царицы, немного стоили.
Тем временем подступил вечер, удлинились тени… Облака рассеялись, и горы были облиты солнечным светом, словно золотистым вином… Я сказал Пилаю:
— Послушай, в этих горах можно двигаться только днем, но ведь обидно бросить такой пир, словно мы на марше. Куда нам спешить? Почему не найти хорошее место, укрытое от ветра, устроить себе постель из ветвей?.. И тогда мы сможем петь и разговаривать хоть до полуночи.
Он широко раскрыл свои яркие глаза; потом, казалось, чуть не рассмеялся… Но овладел своим лицом и сказал учтиво, что ничего не может быть лучше. Я повернулся к своим — они стояли тесной кучкой. Биас подошел ко мне, прошептал на ухо:
— Тезей, а это не слишком?
— Почему? — спрашиваю.
— Но ты же должен знать, что царь никогда не ночует вне дома.
Об этом я просто не подумал. Мне так хорошо было снова чувствовать себя мужчиной среди мужчин… Но теперь я ни за что на свете не стал бы извиняться перед Пилаем, чтобы стать посмешищем его эллинов.
— Что ж, — говорю, — всё когда-то случается впервые.
Он глубоко вздохнул:
— Как ты не понимаешь? Ты уже рисковал своей жизнью, после того как Госпожа сказала «нельзя»… И ты убил свинью… А теперь, если ты не вернешься домой, она подумает, что ты с женщиной!
Он хотел как лучше, я знаю, но слишком это далеко зашло.
— Знаешь что, — говорю, — это такие дела, в которых мужчина должен сам разбираться со своей женой. Ты сказал, Биас, и я тебя выслушал. А теперь иди помогай остальным.
Уже установили вертел, загорелся трут… Упала вечерняя темнота, и наша пещера была полна светом костра, как жертвенная чаша вином; только вина нам и не хватало — и тут подошли люди из деревни снизу с целым бурдюком, чтобы отблагодарить нас за убийство Файи. Они разглядывали тушу, и я подумал, что к ночи все уже будет известно в Элевсине. Ну и ладно — семь бед, один ответ.
Мясо было готово, а зубы у нас подзаострились, за целый-то день… Пилай разделил со мной свой кубок — из рога, отделанного золотом, — остальные прикладывались к бурдюку. Начались песни, эллины и минойцы подпевали друг другу, подхватывали чужой напев… Мои парни сначала держались скованно, зато потом разошлись сверх меры: ведь эллины они на одну эту ночь, завтрашний день внушал страх… Я и сам об этом подумывал.
Когда стало шумно, мы с Пилаем сели поближе. Пора было поговорить, ради этого я и убил Файю… Но теперь я ощущал свою молодость еще острее и обиднее, чем когда сражался с ней. В Трезене я часто помогал деду занимать таких вот мужчин. Я был весьма полезен в Зале: говорил арфисту, что спеть, чтобы угодить им, или пел сам; возил их на охоту и следил там, чтобы они хорошо развлеклись и остались бы живы; провожал их с дарами, когда они спускались из верхних покоев, завершив свои дела… Я был мальчишкой около взрослых мужских дел… И сейчас, когда я вспоминал всё это, кто-то из мегарцев сказал:
— Чем старше становится царица, тем моложе царь. Этот и вовсе безбородый.
Это меня выручило. Пилай был благородный человек, и сейчас — испугавшись, что я услышал эту фразу, — попросил меня рассказать, как я убил Скирона. Половина моего дела была сделана.
Потом все снова запели, а мы продолжали говорить об Истме.
— Я пробился и остался жив, — сказал я ему, — и это может сделать один человек. Но теперь кто-то другой уже разбойничает на дороге вместо Скирона. И так оно будет, если не расчистить весь Истм из конца в конец. Но это не по силам одному человеку, даже одному царству.
Глаза его заблестели. Но он был умен и прожил на добрых десять лет больше меня.
— Послушай, — говорит, — но ведь это же настоящая война! А как отнесутся к ней элевсинцы? Что станет с их морской торговлей, если дорога будет открыта?
Я уже думал об этом, потому покачал головой:
— Дорога тоже проходит через Элевсин, так что торговля только выиграет, когда зима закрывает морские пути. И потом, — я улыбнулся, — они смогут спокойно пасти свои стада, если мегарцы сохранят свои.
Он рассмеялся — и я увидел, что он говорит со мной на равных, как мужчина с мужчиной. Но я понимал, что потеряю его доверие, если буду слишком прост или слишком опрометчив. И потому добавил:
— Твоему отцу придется иметь дело не со мной, а с Ксантием, братом Царицы; а в Элевсине каждый знает, что он дерется лишь за то, что может унести. Скажите ему, что в замках разбойников полно добычи, — это поможет ему услышать вас.
Пилай протянул мне свой рог… Потом вдруг говорит:
— Ты это здорово придумал, Тезей. Сколько тебе лет?
— Девятнадцать. — Теперь я сам почти поверил в это.
Он посмотрел на меня и засмеялся себе в бороду:
— Что они там в Элевсине натворили?.. Ставили западню на оленя, а поймали леопарда! Они сами еще этого не знают? Послушай, парень, а зачем тебе все это надо? Вот в это время в будущем году — что тебе этот Истм и все прочее?
— Когда ты умрешь, Пилай, тебе сделают гробницу, облицуют ее тесаным камнем… На палец тебе наденут твое кольцо, и в руку вложат твой меч, и лучшее твое копье дадут тебе, и жертвенную чашу, и еще ту, из которой ты пил в Зале… Пройдет сотня лет, и то кольцо будет лежать среди костей — но старики будут говорить своим внукам: «В этой могиле лежит Пилай, сын Нисия, и он сделал то и то». И ребенок скажет это своему внуку, а тот своему… А в Элевсине мертвых царей запахивают в поле, словно навоз, и у них нет даже имен. Если я не составлю себе эпитафию — кто это сделает?
Он кивнул: «Да, это понятно» — но продолжал смотреть на меня, и я уже знал, что он скажет дальше.
— Тезей, я прожил бок о бок с элевсинцами почти тридцать лет и знаю, как выглядит человек, предвидящий свой конец. У землепоклонников это в крови, они идут навстречу смерти, как птицы, перед которыми танцует змея. Но если змея танцует перед леопардом, он бросается первый…
Да, он был умен, и было бы глупо пытаться лгать ему.
— Там, откуда я пришел, человека связывает его согласие, — говорю. — Но может быть, я встречусь с этим в бою… Кто согласится жить дольше своего имени?
— Да уж конечно не ты. Но знаешь, с такой закваской в тесте, как ты, — обычаи в Элевсине могут измениться. Если верить легендам, такие случаи бывали во времена наших отцов.
Эти слова разбудили мысли, что дремали в сердце моем. Теперь, после нынешней победы, перемены не казались невероятными; и я был слишком молод, чтобы скрыть это, хоть и смотрел в огонь.
— Да, может оказаться, что у нас появится беспокойный сосед, — сказал он.
Мнепонравилась его откровенность, мы понимали друг друга.
— Это бык твоего отца, — говорю, — и мой приз. Его мы едим. Не знаю, кто здесь у кого в гостях, но в любом случае мы теперь не враги, разве не так?
Он внимательно ощупал мне лицо своим быстрым цепким взглядом, потом взял меня за руку и крепко пожал.
Костер догорал. Розовые и серые тени метались по пеплу, отдельные золотые искры… Объевшиеся псы лениво глодали кости… Стало тихо, мы наклонились друг к другу и перешли на шепот. Я видел, что мои минойцы спят не все, — некоторые следят, не займемся ли мы любовью. Мы сговорились добиваться войны к осени — не станем откладывать на весну. Он, как и я, не любил откладывать решенных дел… «Попроси отца, — сказал я, — пусть скажет — он, мол, слышал, что Керкион знает дорогу через Истм. Моим ребятам не по нутру будет плестись в хвосте». Он рассмеялся и пообещал. Потом мы улеглись спать. Я спал на животе: болела израненная спина. На другое утро, когда мы расходились, он подарил мне на прощание свой позолоченный рог; Товарищи удивленно глядели на это и гадали — достаточно ли долго бодрствовали накануне.
Мы вернулись в Элевсин чуть позже полудня, народ нас встречал. Двое несли на копьях кабанью морду, — мне надоело прятаться, словно непослушному мальчику, — и люди с ликованием приветствовали нас.
В дневных покоях Дворца ее не было; но видно было, что вышла только что: главная нянька с детьми была там, и на ткацком станке еще качался челнок на нити. Я поднялся наверх — дверь опочивальни была заперта.
Отошел в сторонку… Лицо у меня горело. Я был слишком молод, чтобы отнестись к этому легко; мне казалось — всё царство будет знать, что жена позволила себе выставить меня словно раба. Постучал еще раз — за дверью послышалось девичье хихиканье, а двое слуг, шедших по коридору, изо все сил старались не ухмыльнуться. Когда мы были в постели, она меня так не третировала…
Возле меня была лестница на крышу. Я выбежал наверх и глянул вниз на царскую Террасу. Там было не слишком высоко, и никого не было — только вдали женщина развешивала белье… Я проскользнул между зубцами верхней стены, повис на руках и спрыгнул. Я с детства знал, как падать, чтоб не разбиться.
Приземлился я на ноги, но подвернул лодыжку. Не так сильно, чтобы хромать, но больно было — я разозлился еще больше… Подбежал к окну спальни, распахнул занавеси — она была в ванне.
На момент это напомнило мне комнату матери десять лет назад: девушка с гребнем и шпильками, платье расстелено на кровати, ароматный пар над глазурованной красной глиной…
Мать была белее, и благовония ее были более свежими, весенними. Она ведь и моложе была в то время, но об этом я не подумал. Услышал свистящее дыхание Царицы и увидел ее лицо.
Однажды в детстве мой воспитатель и так уже собирался меня высечь, а тут я еще вошел к нему случайно, — раньше чем он меня ждал, — и как раз в тот момент дворцовая девушка хлестнула его по лицу. Ну и досталось же мне в тот раз!.. Теперь я тоже вошел раньше времени. Возле платья лежала диадема, выше той что она носила обычно; лицо ее было влажно от пота, без краски; из ванны торчала нога — ей срезали ногти… Я видел — она заставит меня платить за то, что застал ее вот так.
Она задернула ногу в ванну, — девушка выронила нож, — но коленки все равно торчали.
— Выйди, — говорит, — и жди. Мы не готовы.
Так разговаривают со слугами. Как раз это мне и было нужно.
— Я не сержусь, госпожа, что вы не встретили нас внизу. Что-либо вам помешало, не так ли? Не будем больше вспоминать об этом, — сказал и сел на кровать. Женщины заволновались, но вели себя очень тихо; было видно, что они ее боятся. У моей матери сейчас был бы гвалт — как на голубятне, когда туда кот заберется.
Она выпрямилась, сидя… Я поднял пурпурный лиф, стал разглядывать вышивку.
— Прекрасная работа, госпожа! Это вы сами делали?
Она сделала знак одной из женщин, встала, та завернула ее в белую простыню…
— Что означает эта дерзость? Ты что, рассудка лишился? Немедленно встань — и вон отсюда!
Я посмотрел на горничных.
— Мы поговорим, когда останемся вдвоем, госпожа. Не надо забывать, кто мы.
Она кинулась ко мне — простыня облепила тело, рыжие волосы распущены… Я не помню всех ругательств, какие она швыряла в меня. И варвар-объездчик, и сын конокрадов, и северный вахлак, и дикарь, недостойный жизни под крышей… Женщины, словно испуганные овцы, сбились у выхода. Я прыгнул к двери, распахнул ее: «Вон отсюда!» Они оглянуться не успели, как я их вытолкал и снова запер дверь. Быстро вернулся к ней, схватил ее за локти, чтоб ногтями до глаз не дотянулась…
— Госпожа, — говорю, — я никогда еще не бил женщину. Но я никогда и не видел, чтобы кто-нибудь так забывался!.. Не к моей чести позволять жене обвинять меня, как вора. Успокойтесь и не заставляйте меня поправлять вас! Это ни мне, ни вам удовольствия не доставит!
На момент она будто окаменела у меня в руках. Потом вдохнула… Я знал, что рядом ее стража, но если бы отступил — быть мне на самом деле ее рабом.
Она уже глядела мимо меня и готова была крикнуть — я зажал ей рот ладонью. Она старалась меня укусить — я не отпускал. Для женщины она была сильна, и бороться приходилось всерьез. И тут мы зацепились за ванну и, падая, перевернули ее. И возились в луже на этом полу в клеточку; а вокруг разбитые кувшины с упавшего столика, пахучие масла, притирания… Льняная простыня была ничем не подвязана, теперь она намокла и свалилась… Ну, думаю, хоть раз в этом покое мужчина скажет когда!.. И в этот самый миг меня словно пчела в плечо ужалила: она подобрала тот нож для ногтей. Он был не очень длинный, но до сердца, пожалуй, хватило бы; только я повернулся, и она не попала.
Кровь пошла алыми пятнами по мокрой простыне, но я держал ей рот.
— Подумай, — говорю, — прежде чем кричать! Твои телохранители за дверью, а мой кинжал со мной. Если пошлешь меня вниз до времени — клянусь Зевсом — сама пойдешь со мной!
Дал ей еще момент подумать — и отпустил. Она вдохнула глубоко — я, наверно, едва ее не задушил, — потом повернулась к окровавленной простыне — и вдруг зарыдала, затряслась вся.
Будь я постарше, это бы меня не удивило. А тогда — лежал рядом как дурак; и ничего лучшего не мог придумать — стал доставать у нее из-под спины черепки, чтобы не порезалась, а тем временем моя кровь заливала ей грудь. Я вытер ее простыней, кое-как замотал свою рану… Потом поднял ее из всей этой мешанины и отнес на постель. Потом кто-то из женщин поцарапался в дверь, спросили, не нужно ли чего-нибудь Царице…
— Да, — говорю, — принесите нам вина.
Вино принесли, я забрал его в дверях, и после того мы уже не поднимались до вечера. Могли бы и дольше, но она сказала, что к ночи надо прибрать. Наша спальня и впрямь выглядела так, будто в ней похозяйничала неприятельская армия.
После этого в Элевсине стало спокойно, я принялся ублажать ее. Уж раз я доказал, что я не собака, — чего же дальше добиваться? Теперь я всегда ночевал дома, и на самом деле меня никуда не тянуло. Некоторые из ее девушек многозначительно на меня поглядывали, — были уверены, что не откажусь от случая, — но я делал вид, что не вижу. Иногда я встречал женщину, которая оплакивала Керкиона. Она была банщицей, ванну наполняла. Но если она приходила прислуживать мне — я отсылал ее и звал кого-нибудь другого: ненавидящий взгляд неприятен на голом теле.
Когда наступили первые утренние заморозки, от царя Мегары пришли послы, призывавшие элевсинцев помочь ему очистить Истм. Условия были те, что мы обговорили с Пилаем: обязательство не трогать скот, честный раздел добычи и беспошлинный проезд через оба царства для жителей обоих царств, когда дорога будет открыта.
Ксантий собрал военный совет на прибрежной равнине. Это было единственное собрание мужчин, какое допускали законы страны. Я пришел со своей гвардией, провел их на обычное место… Специально научил ребят, как держать себя: гордо, но без заносчивости. Ведь это всегда так — задирается тот, кто знает, что в его храбрости могут усомниться… И старые воины нас одобрили.
Мегарский посол выступил на совете, добавив то, что царям не пристало писать в своих грамотах. А совет шел по всем правилам. Они подхватили у эллинов правило брать жезл оратора, и ни один не говорил без него. Вскоре все согласились на войну, но старшие были за то, чтобы отложить ее до весны. Всё это было прекрасно для тех, у кого впереди был остаток жизни. Я встал и протянул руку за позолоченным жезлом. И сказал вот что:
— Зимой люди съедают летнее богатство. Стоит ли позволить этим богомерзким ворам пировать до весны, поедая тучные стада, которые могут быть нашими? И чтобы пленные девушки, которые рады сменить хозяев, грели им постели?
Молодежи это понравилось, закричали, мол, правильно…
— И потом, — говорю, — за такой долгий срок они наверняка узнают о наших планах. У них будет время укрепить свои башни и зарыть сокровища в землю. Мы потеряем самую богатую часть добычи, это в лучшем случае.
Все согласились, что в этом есть смысл. Ксантий тоже слушал внимательно. Он напомнил людям, что мы будем всего в двух днях пути от дома, не за морем, и подал голос за войну осенью.
Мегарский посол предложил, чтобы Керкион, который уже бывал на Истме, вел передовой отряд. Я ждал от Ксантия какого-нибудь подвоха и не спускал с него глаз. Ему мог не понравиться шум одобрения, поднявшийся на совете. Но когда стало тихо, он сказал очень спокойно, что против этого возражений быть не может.
Я был ужасно доволен собой: решил, что теперь у нас с ним отношения наладились. После той схватки в опочивальне я пару раз ловил на себе его неприятный цепкий взгляд; но теперь, думаю, мое красноречие его покорило… Да, мальчик бывает особенно зелен, когда воображает себя мужчиной.
3
Для юноши — какая радость сравнится с подготовкой к его первой настоящей войне? Ты маслишь и полируешь древко копья и подгоняешь его по руке; точишь меч, и кинжал, и наконечник копья — так что лезвие режет волос; шлифуешь колесницу — так что в нее глядеться можно, как в зеркало; натираешь кожу щита пахучим воском… То и дело вспоминаешь хитрые выпады и защиты, и отрабатываешь их с друзьями… И по три раза в день, не меньше, заходишь в конюшню проведать своих лошадей! Я не знал, где мне взять колесничего, но Ксантий мне подыскал. До меня у него была единственная в Элевсине пара эллинских коней, я был польщен его вниманием.
Вечером накануне выступления я прогуливался по нижней Террасе и смотрел на горы Аттики. Они едва виднелись в потемневшем небе на востоке. Уже темнело; мои Товарищи были там же, рядом. Есть среди них хоть один, кому я могу доверить поручение? Сказать: «Если я паду в битве — отнеси мой меч в Афины и отдай его царю». Нет, настолько я не доверял никому. Оно пожалуй и лучше: ведь надежда никогда никому не вредила — так зачем посылать отцу печаль?.. И я пошел к своим парням, присоединился к их шуткам и смеху. Отрадно было видеть их веселье.
Царица в тот вечер рано поднялась из-за стола, и я проводил ее наверх. Говорили мы мало, но помнили что нам предстоят одинокие ночи. После последнего объятия я почувствовал, что глаза у нее влажные, и это меня растрогало; но сказал — пусть прибережет слезы до моей смерти, нечего забегать вперед богов.
Едва заснул — запела труба, послышались голоса людей. Надо было подниматься, вооружаться, собираться… Она лежала и смотрела на меня полузакрытыми глазами. Меховое покрывало с пурпурной каймой валялось скомканное на цветном полу; в рассветном сумраке красный порфирит и ее волосы смотрелись одинаково темными.
Я надел латы и поножи, взял стеганую белую тунику: воздух был морозный… На мне были и браслеты мои, и царское ожерелье — я никогда не старался идти в бой так, чтобы меня нельзя было отличить. Подобрав волосы, надел свой новый шлем из шкуры Файи и улыбнулся ей, чтобы напомнить, как мы в тот раз уладили нашу ссору… Но она лежала неподвижно и мрачно — одни лишь губы улыбнулись в ответ, а глаза нет. Окно посветлело, белая птица тихо свистнула и сказала: «Поцелуй меня еще».
Слышно было, как из конюшни выкатилась в Большой Двор моя колесница, я повернулся за щитом… «Чем я недоволен? — думаю. — Я здесь волк в собачьей стае. Любой миноец был бы счастлив на моем месте; среди них никто не может и мечтать о том, чтобы подняться выше, чем я сейчас. Они говорят — мужчина приходит и уходит, а лоно вынашивает ребенка… Я ведь не знаю сам, что может быть лучше этого, — стать избранником Матери, оживить женщину и умереть, — и я не хотел бы пережить вершину своей судьбы… Так чего же мне нужно? Или это эллинская кровь говорит во мне: „Есть нечто большее“?.. Но что это — не знаю… И не знаю, есть ли название, имя у этого большего… Быть может, есть какой-нибудь певец, — сын и внук великих бардов, — который знает нужное слово; а я только чувствую это в себе — как яркий свет, как боль…»
Но каждый знает, что нехорошо и неумно уходить на войну, поссорившись с женой, а уж царю — тем более. Так что я не стал спрашивать, почему она лежит, вместо того чтобы одеться и проводить меня. Наклонился поцеловать ее — голова поднялась навстречу, словно волна, притянутая растущей луной; губы, будто сами по себе, прильнули к моим — и она снова без звука опустилась на подушки.
Мне очень хотелось спросить, зачала ли она от меня; но я не знал — быть может, ее молчание священно и нарушить его не к добру… Поэтому я так и не сказал ничего — ушел.
Перейдя границу, мы соединились с мегарцами и быстрым маршем прошли до конца охраняемой дороги. Дальше она уходила на Истм, и там уже никто за ней не следил. Она заросла бурьяном; и вместо сторожевых башен, какие стоят вдоль дорог, там где правят законы, над ней высоко в скалах прятались разбойничьи твердыни. Иные были безымянны; у других не только имя было, но и громкая известность. Первым из таких был замок Сина.
Он стоял на горе, поросшей сосновым лесом, — квадратная башня, построенная Титанами из глыб темно-серого известняка в давнишние времена. Син устроил в ней свое логово, как устраиваются гиены в древних сгоревших городах. Стены были высоки; чтобы взять их, нам нужны были лестницы и тараны — мы принялись валить лес. И тут увидели, что страшные легенды были правы: на соснах висели куски человеческих тел. Где рука, где нога, где туловище… Такой у него был обычай: согнуть два молодых дерева, привязать к ним человека и отпустить. Некоторые из деревьев выросли на тридцать-сорок локтей, а веревки висели и на них: он давно уже так забавлялся. Именно забавлялся, — и сам этого не скрывал никогда, — никто из богов не требовал от него таких жертв. Мы взяли башню на третий день. Он настолько вознесся, принося себе жертвы в своей проклятой роще, — настолько был уверен в себе, — у него даже не было колодца внутри стен. Когда мы выбили ворота, он дрался во внутреннем дворе, словно загнанная крыса. Если бы я не узнал его, — видел его лицо в засаде, по дороге в Элевсин, — нам бы не взять его живьем.
Те останки, что могли снять с деревьев, мы похоронили достойно. Но кое-что было не достать; да и вороны, должно быть, много растащили — так что вечером лес был полон неприкаянных душ непогребенных людей; словно летучие мыши в пещере, метались они среди деревьев… Мы утолили их жажду. Когда он увидел, что сосны сгибают для него, у него не хватило духу встретить расплату по-мужски; он долго изучал чужую боль и знал, что это такое. Его надо было бы оставить висеть, как висели все остальные, пока жизнь не вытечет из него вместе с кровью; но когда его большая часть забилась, крича на веревке, я не выдержал. Мне не хотелось, чтобы люди видели мою слабость, и я не приказал своим лучникам добить его, а предложил им пострелять в мишень. Вскоре он затих. Все его люди были уже перебиты. Мы забрали из замка всё добро и вывели женщин — и подожгли лес. Пламя было такое, что скрыло вершину горы, а дым был виден даже в Элевсине.
Мы разбили лагерь с наветренной стороны. Пора была делить добычу. Ксантий и Пилай поделили честно, как и подобало, что мегарцам, что элевсинцам… Но когда Ксантий принялся раздавать нашу долю, моим ребятам досталось унизительно мало, и это было оскорблением мне. Хотел было сказать ему, что я о нем думаю; но хоть воины его не любили — они по крайней мере знали его, а я был чужой… Потому я обратился к своим гвардейцам громко, чтобы всем было слышно.
— Ваша доля, — говорю, — соответствует вашей доблести. Ксантий думает, что большего вы не заслужили. Военный вождь должен следить за всем боем, — он не может одновременно быть везде, — и он, наверно, не следил за вами так, как я. А что я сам о вас думаю, сейчас увидите, — и раздал им всю свою долю; себе оставил лишь оружие того врага, которого убил своей рукой. Они были очень довольны, а Ксантий — вовсе нет; так что все получили по заслугам.
За три-четыре дня войны все крупные замки были разбиты и спалены, но много мелких банд, что прятались в пещерах или в расщелинах скал, — те остались. Я вспомнил и показал остальным их знаки возле дороги, — пирамиды из камней, лоскуты на ветвях, — которыми они отмечали свои участки, чтоб соседи не забирались… А теперь и крестьяне, которые жили в вечном страхе и должны были кормить бандитов, когда тем не хватало их добычи от путников, — крестьяне поверили в нашу силу и стали говорить нам, где они прячутся, так что мы могли добраться и до них.
Между двумя такими облавами наша армия двигалась по дороге, в том месте, где под ней скальные обрывы. Я был на колеснице во главе колонны, ехал шагом, гвардейцы позади… Вдруг на вершине горы застучало, загрохотало — сверху летело несколько камней, величиной с голову. Они шли прямо на меня, но срикошетили на гребне и упали на дорогу впереди, а потом, отскочив, улетели вниз с обрыва. На дороге остались глубокие вмятины. Кони мои шарахнулись, прижали уши… Я почувствовал, что колесничий их не удержит, хоть он был и крупнее меня, и выхватил у него вожжи; двое из моих парней бросились вперед, хоть рисковали попасть под копыта, схватили коней под уздцы — общими усилиями мы их успокоили. Что до возничего, хоть он и оказался не на высоте, — что толку на него обижаться, раз все равно другого не найти? Береговой народ вообще не ладит с лошадьми… А он, казалось, кое-что понял, когда посмотрел с обрыва вниз, — побледнел и зубы застучали. В этих местах погибли Дексий и Скирон.
Несколько моих побежали на гору — нет ли там бандитов… Ксантий, который был неподалеку, тоже послал отряд… Они встретились наверху, но никого больше там не увидели. Я сказал, что в этом месте обитают гневные духи: Дексию до сих пор не принесли жертвы, а Скирон вообще не похоронен… Лучше позаботиться о нем, чем оставить его так, чтобы он убивал путешественников. Так и сделали. Его кости так и лежали на том камне-черепахе, птицы обглодали их начисто, мы с трудом достали их и похоронили и исполнили все обряды для Дексия. В тот день мне его особенно не хватало.
Истмийская дорога крута и извилиста, так что была достаточно опасна и без бандитов. К тому же на ней собралась целая армия мертвых, которых надо было умиротворить; и Сотрясателя Земли надо было почтить — слишком много он для меня сделал, чтобы оставить его без внимания… Вот почему я выстроил ему потом большой алтарь на самом перешейке и основал его Игры. А почему я выбрал именно это место — сейчас расскажу.
Мы подошли туда на следующий день. Уже видна была крепость Коринфа, на плоской горе, и дым из святилища Матери над зубчатой стеной… Нам казалось, что наше дело уже сделано, — а нас ждала настоящая битва, на позициях выбранных врагом.
Истм — дикая страна, настоящий подарок для тех, кто ее знает. Так что сквозь наши сети проскочило гораздо больше дичи, чем мы думали; и все они собрались здесь, позабыв свои прежние распри. Они были прижаты к стене, потому что за ними были царства острова Пелопа, и уйти туда они не могли. Никто не уходил на Истм из-за простого убийства, от которого можно было очиститься перед Аполлоном и откупиться перед людьми. Нет, там были такие, кто совершил кровосмешение или отцеубийство; кто убил своих гостей или хозяев, у которых сам был гостем; кто надругался над священными девственницами, разграбил гробницы царей или сокровищницы богов… Им не было места в эллинских царствах. И теперь, изгнанные со своих гор, они ждали нас на равнине — на той самой, где нынче происходят скачки, где люди состязаются перед богом в беге, в борьбе и кулачном бое, где народ кликами приветствует победителей. Там ждала нас их рать — темная и щетинистая, словно вепрь, выгнанный из логова, напружинившийся для броска.
Мы выстроились серпом, чтобы зажать их в клещи. Мегарцы встали в центре, — у них было много колесниц, — Ксантий вел правый фланг элевсинцев, а я — левый, так что под моей командой была не только моя гвардия, но и часть армии взрослых воинов. И вроде никто не возражал — это было здорово. Хоть я успел уже повоевать, но настоящих-то сражений еще не видывал — это было первое… Пожалуй, если бы против нас стояло войско большого города, — Азора или Трои, к примеру, — всё равно я не смог бы волноваться больше.
Было свежее ясное утро. На высотах перед нами в ветвях сосен пели птицы… Стоя на колеснице, я видел перед собой тени султана с моего шлема и длинного ясеневого копья… Голоса моих парней позади звучали, как и должны звучать перед боем: легко, весело и зло… А ноздри щекотали запахи конского пота и пыли, промасленного дерева, свеженаточенной бронзы…
Я окликнул своего возничего: «Когда скажу — гони прямо на них, врубайся в толпу. Пехотинцев не жди — расчищать дорогу наше дело. У тебя нож наготове? Если лошадь падет — надо будет резать постромки…» Он показал мне нож, но я снова вспомнил Дексия. Этот тип не похож был на человека, который охотно идет в бой.
По сигналу Пилая мы двинулись вперед. Шагом — словно кот перед прыжком. Когда уже видны стали их глаза и зубы, остановились привести ряды в порядок, и я сказал своим людям речь, которую приготовил заранее. По правде сказать, она была составлена из старых боевых песен, потому что лучше, чем сказано певцами и героями, не скажешь.
«Когда запоет труба и раздастся боевой клич — бросайтесь, как сокол падает на цаплю, и ничто не может его остановить коль уж он сложил свои крылья. Мы знаем друг друга. Ни меч, ни стрела, ни копье — не могут ранить так ужасно, как позор перед глазами товарищей в бою. Посейдон Синевласый! Разрушитель кораблей и городов! Веди нас к победе! Еще до заката склони их шеи под пяту нашу и наполни им пасти пылью!»
Воины закричали, прозрачный воздух вспорола труба, я запел пеан — и колесничий бросил коней вперед. Двое самых храбрых моих парней — они поклялись друг другу в верности — не захотели, чтобы я шел вперед без них, и ухватились за колесницу, с двух сторон, и так бежали рядом. В ушах заиграла музыка боя: стук колесниц, топот ног и копыт, пронзительные боевые клики, звон оружия и щитов… Бойцы выбирали себе противников для поединка и вызывали их громким криком… Я нашел себе высокого детину, который отдавал команды. Было похоже, что если его убрать — остальным станет неуютно… Колесницу бросало на камнях и кочках; а я не сводил с него глаз и кричал ему, чтобы он меня подождал.
Быстро надвигалась многоликая стена людей, — веселые, мрачные, неподвижные лица, — колесница врезалась в толпу, как входит в море остроносый корабль, слетая по слипу на верфи… И вдруг — будто земля сбросила меня с груди своей. Я перелетел через стенку колесницы, сбил кого-то наземь… Копья со мной не было, щитовую руку едва не вырвало из плеча, ремень шлема лопнул, и голова была не закрыта… Я и тот подо мной, полуоглушенные, барахтались на земле. От него так воняло, что я сообразил: не наш наверно. Так оно и было… Я успел прийти в себя раньше, чем он, ощупью нашел свой кинжал и вогнал в него по рукоять. Он откатился, я высвободил из-под него свой щит и попытался встать, но еще и на колени не поднялся, как на меня упал человек. На этот раз я знал его: это был один из мальчиков, что бежали возле колесницы; копье вошло ему в рот и наконечник торчал из затылка — он принял на себя удар, предназначавшийся мне.
Я выбрался из-под него, встал на ноги, схватил меч… Впереди бились перепуганные кони, колесница тащилась на боку: одного колеса не было, и окованная ось пахала землю. Колесничий лежал ничком, белая туника — в клочья… Не было времени смотреть, — мне рубили голову, — я закрылся щитом.
Сначала показалось, что я совсем один среди врагов. Потом голова прояснилась, и я узнал голоса: вокруг дрались мои Товарищи, и подбегали еще и еще, подбадривая друг друга, как гончие вокруг кабана. Меня окликали, чья-то рука размахивала моим шлемом, другая схватила его и надела мне на голову… Я запел — дать знак остальным, что жив, — и мы пошли вперед.
Я много воевал, и много воинов сражалось под моим началом, но никогда я не любил своих людей больше, чем ту мою первую команду. Это были люди другой страны и другой крови, поначалу мы едва могли говорить друг с другом, а теперь понимали без слов, как братья, которым хватает лишь взгляда или улыбки. В год Игр — когда я приношу жертвы на этом поле — всегда вспоминаю, что это они подарили мне в тот день всю мою остальную жизнь.
К полудню всё было кончено. Пленных мы не брали; много людей, гораздо лучших, чем они сами, скормили эти убийцы грифам и шакалам — теперь пришла их очередь. Как ни странно, но нам достались богатые трофеи. Часть врагов донесла туда свое награбленное добро, другие наверно раскопали клады своих павших хозяев — так или иначе, набрали мы много. Мы собрали весь их обоз в кучу, приставили охрану — надежных людей из всех трех отрядов — и назначили дворян из обоих царств пересчитать добычу.
Как всегда после боя, воины собирались группами: перевязать друг другу раны, поговорить, отдохнуть… Я со своими людьми сидел у родника среди скал. Кто пил, кто умывался в ручье, где он вытекал из бочага… Один из наших был серьезно ранен: ему перебило ногу копьем. Ничего лучшего под рукой не было — я завязывал ему ногу меж двух дротиков и хвалил его подвиги, чтоб не дать ему думать о боли. И тут кто-то меня окликает; смотрю — Паллан. Тот, что бежал со мной возле колесницы, — второй, который жив остался. Я его не видел после боя и думал, что он занят у погребального костра. Но он тащил к нам живого кого-то, в грязной белой одежде… Я вскочил — это был мой колесничий.
— Вот это да! — говорю, — Ризон!.. А я увидел тебя на земле и решил, что ты убит. Куда тебя ранило?
Паллан толкнул его ладонью в спину — так что он упал вперед.
— Ранен!.. Ты осмотри его, Тезей, — я дам ему по барану за каждую царапину. Я искал этого гада весь день, как бой кончился; я же видел, что было, когда у вас отлетело колесо: ты упал вперед, для тебя это было неожиданно, а этот знал, когда за что ухватиться. Клянусь — его голова не касалась земли, он только притворялся оглушенным, пока бой не прошел мимо.
Я глянул на лежавшего и увидел его лицо. Радость только что добытой победы, гордость моими смелыми ребятами — от всего этого я готов был любить всех вокруг… Но тут сердца коснулась холодная тьма. «Это трус, — думаю, — из трусов трус. Но он согласился встать на боевую колесницу, идущую первой, — почему?»
— Пошли, — говорю, — посмотрим.
Мои люди пошли со мной обратно на поле. Уже слетались стервятники, уже рвали засохшие раны, и бормотание и стоны полумертвых людей мешались с гудением полчища мух. Кое-где наши воины снимали с вражеских тел то, что на них еще осталось почему-то; а среди поля, словно разбитый корабль выброшенный на берег, лежала колесница, и возле нее — мертвая лошадь. Бронзовое колесо валялось в нескольких шагах. Я сказал тем, кто был рядом:
— Поднимите ось.
Ось вытащили из земли, я посмотрел паз для чеки… Он был забит землей, но я поковырял кинжалом — и нашел, что искал. Помял в пальцах, показал остальным — это был воск. Из воска была моя чека.
Все громко удивились, спросили как я догадался…
— У нас есть древняя песня про это, — говорю. — Им не стоило так шутить с человеком из страны Пелопа. Ну, Ризон?
Он дрожал, глядя в землю, и молчал.
— Скажи, Ризон, зачем ты это сделал? Скажи — ведь терять тебе нечего.
Он казался больным — и молчал.
— Говори, Ризон! Я когда-нибудь поднял на тебя руку или оскорбил тебя чем-нибудь?.. Или тебя обделили добычей, или я убил кого из твоего рода, или лежал с женой твоей, с наложницей?.. Что я тебе сделал такого, чтобы тебе желать моей смерти?
Он не отвечал.
— Нечего тратить время, Тезей, — это Паллан, — тут и так все ясно! — и они принялись за него. Тут он упал и заплакал:
— Сжалься, Керкион!.. Я этого не хотел, я всегда любил тебя, это Ксантий мне приказал, я это сделал ради своей жизни, он запугал меня!
У моих ребят дух захватило. Это была даже не злость, это был священный ужас: ведь я принадлежал Богине, и не прошла еще и четверть моего срока!
— Но если ты меня любил, почему ты не сказал мне? Неужели про меня говорят, что я забываю друзей?
— Он меня запугал!.. — больше он ничего не сказал, потом упал опять и начал выпрашивать себе жизнь.
Мои парни ждали, что я отвечу. Только что, возле источника, я был ужасно доволен нашей проверенной дружбой, думал, что нашел уже единственный секрет царской власти… Но не вечно же оставаться мальчиком.
— Нет, — говорю, — нет, Ризон, ты слишком многого просишь. Сегодня ты пытался меня убить, потому что Ксантия боялся больше, чем меня. Спасибо тебе за науку. Кто здесь дрался только копьем и сохранил клинок острым? Дайте меч!
Дали меч.
— Шею на дышло!.. Держите его за колени и за волосы.
Так и сделали, и мне больше не нужно было смотреть на его лицо. Замахнулся я высоко — меч рассек позвоночник и больше половины шеи, так что он умер много легче, чем умирает большинство людей. Если, конечно, не считать страха.
Мы принесли жертвы богам в благодарность за победу. Элевсинцы взывали к своему богу войны Эниалию, и я тоже заколол ему несколько жертв, — никогда нельзя пренебрегать местными богами, где бы ты ни был… Но я сделал и свой собственный алтарь для Посейдона, и на том же месте построил потом святилище его.
Наших убитых мы сожгли. Паллан положил труп Ризона под ноги своего павшего друга. Теперь было ясно, почему он охотился за ним, вместо того чтобы оплакивать убитого… Сквозь дым погребального костра я заметил красноватые глаза Ксантия, — он следил за мной, — но сейчас не время было связываться.
Мне сказали, что Пилай ранен, и я пошел его проведать. Рука у него была на перевязи, — ранено было плечо, — но он командовал своими людьми. Поговорили… Прощаясь, я сказал ему, мол, рад, что так обошлось, могло быть хуже. Он вскинул на меня свои яркие глаза:
— Я чувствую перст судьбы, Тезей. У тебя очень крепкая нить жизни; пересекаясь с нитями других, она их рвет… Ты тут не виноват — это Пряхи.
В тот момент я его не понял; но у него, должно быть, было предчувствие тогда: рана его оказалась смертельной, и он скончался от нее в Мегаре. Я очень горевал, услышав об этом: мы едва успели подружиться, и вот тебе… Но если бы он остался жив — пограничный камень Аттики не стоял бы сейчас там, где стоит: между островом Пелопа и Истмом…
Начинало смеркаться; тлеющие алтари залили вином, и мы стали собираться на пир. Мы захватили много жирного крупного скота, — а овец и коз и того больше, — и теперь туши уже вертелись на кольях над кострами сосновых поленьев, и воздух был насыщен запахом жареного мяса. Но подойдя туда, каждый прежде всего глядел на открытую площадку посреди костров, где лежала добыча, готовая для раздела. Свет костров освещал кубки и чаши, шлемы и кинжалы с медной и оловянной чеканкой, котлы, треножники, кожаные щиты… Рядом сидели женщины. Иные шептались друг с другом, другие плакали или прятали лицо в ладонях, а третьи дерзко оглядывались по сторонам и рассматривали нас, гадая, какой из мужчин станет ее жребием на этот раз.
Вот пали ясные зеленые сумерки; Гелиос, увенчанный алыми розами и пламенеющим золотом, съехал в темно-винное море; появилась вечерняя звезда, белая, словно девушка в хитоне; дрожащая в воздухе, что плясал над кострами… Красные отблески заиграли на сваленном в кучу сокровище, на глазах и зубах воинов, на их оружии, на бляхах и пряжках ремней…
Я спускался туда по склону, Товарищи шли позади. Мы все были вымыты, причесаны, оружие вычищено… Они не спрашивали, что я собираюсь делать, и сейчас шли за мной молча; лишь по звуку их шагов я мог понять, когда они оборачивались друг к другу перекинуться взглядом.
Пилай был уже там. Ему было слишком плохо для пира, но он хотел присутствовать при дележе. Любой бы захотел, будь в нем хоть капля жизни и имей он дело с Ксантием. Я поприветствовал Пилая и оглянулся, ища Ксантия, — ну, конечно, возле добычи стоит, где же ему еще быть? Он увидел меня издали, глаза наши встретились.
— Привет тебе, Ксантий! — сказал я. — Ты оказал мне великую услугу в Элевсине, нашел мне колесничего…
— Тот человек пришел ко мне, я его не знал, — так ответил Ксантий, и сразу стало ясно, что Ризон не соврал.
— Что ж, — говорю, — все знают, что в людях ты разбираешься. Ты нашел мне искусного парня. Теперь он мертв, и я не знаю, где мне взять другого, чтоб не хуже был. Он был мастер на все руки, он мог сделать колесную чеку без бронзы…
Краем глаза я видел, как тысяча лиц вдруг приблизилась… Голоса смолкли, так что стало слышно шипение мяса.
— Глупо верить болтовне труса, который вымаливает себе жизнь, — это Ксантий.
— Но ведь ты же этого не слышал! — говорю. — Откуда ты так хорошо всё знаешь?
Ксантий понял свой промах и разозлился, но выход нашел. Показал на моих парней…
— Молодые всегда болтливы, — говорит.
Если бы он хоть чуть-чуть заботился о своем добром имени, то не стал бы так легко выдавать своих чужеземцу. Но он знал, что они его все равно за человека не считают, — так какая разница?..
При его словах парни зашумели. Я поднял руку, требуя тишины… Старший из наших, Биас, вышел вперед и обратился к воинам — поклялся, что говорит правду, и рассказал о восковой чеке.
— И еще, — говорит, — кто сбросил камни на дорогу, чтоб испугать царских коней у обрыва? Один из вас — знает!
Бойцы зашептались, будто какой-то слух уже прошел среди них… Ксантий вспыхнул от ярости, — ярко-красное лицо, как у всех рыжих, — даже в темноте это было заметно, в свете костров… Обычно он был очень сдержан, но тут шагнул вперед и закричал:
— Элевсинцы, вы разве не видите, к чему он клонит?! Этот вороватый эллин хорошо знает разбойничьи тропы. Он так хорошо знает Истм, словно сам тут жил… Кто может сказать, чем он занимался до того, как пришел к нам?.. А теперь он думает, что может восстановить вас против человека, который привел вас к победе, — как раз перед разделом добычи!..
Я был готов броситься на него, но сдержался. То, что он потерял голову, мне помогло не потерять. Я презрительно скривился и бросил сквозь зубы:
— У кого что болит!..
Даже его люди рассмеялись. А потом говорю:
— Слушай мой ответ, а все элевсинцы — свидетели. Ты бил по мне чужими руками — теперь испытай свои! Бери щит и копье, если хочешь — меч… Но сначала выбери свою долю и отложи в сторону. Если ты падешь, — клянусь Зевсом Вечноживущим, — я не трону оттуда ничего: ни золота, ни бронзы, ни женщины, — всё будет роздано по жребию твоим людям. И с моей долей — так же, чтобы мои люди не проиграли из-за моей смерти. Согласен?
Он молчал. Это навалилось на него раньше, чем он ожидал. Несколько эллинских дворян одобрительно закричали… Пилай взмахнул рукой успокоить их, но вместо того и мои товарищи подхватили: «Тезей!» Все остальные глядели ошарашенно, — ведь это против обычая давать царю имя, — и Ксантий воспользовался моментом:
— Слушай, ты, выскочка, щенок! Занимайся своим делом, ради которого тебя Богиня выбрала, если ты способен к нему!..
Но я недаром слушал минойские песни — я знал теперь, что делать царю, если его обижают.
— Раз она меня выбрала, — говорю, — почему ты хотел убрать меня до срока? Я взову к ней, и она меня поддержит… Мать! Богиня! Ты вознесла меня, пусть ненадолго; ты обещала мне славу взамен короткой жизни — обращайся же со мной как с сыном, не допусти, чтоб меня оскорбляли безнаказанно!
Тут он понял, что деваться ему некуда. Никто не станет взыватъ к богам ради шутки, и все это знают.
— Лошадник, — сказал он, — мы и так тебя терпели слишком долго. Ты вознесся выше своей судьбы и превратился в оскорбление для богов; они покарают нас, если мы не прекратим твое богохульство. Я принимаю вызов твой и твои условия… Выбирай свою долю, и, если ты падешь, твои люди ее разделят. А что до оружия — пусть будут копья.
Мы стали выбирать себе добычу. Я видел, мои мальчики потешались над его непривычной скромностью; он не хотел, чтоб его люди были заинтересованы в моей победе. А я взял столько, сколько считал справедливым. Но по обычаю Керкион прежде всего выбирает себе женщину: время его коротко, а ту радость, что человек уже испытал, — это у него не отнимешь…
Наши пленницы встали, чтоб их было видно, когда я подошел к ним. Там была девушка лет пятнадцати, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, падавшими на лицо. Я взял ее за руку и вывел в сторону. До того — в свете костров — я видел ее глаза, блестевшие из-под волос; теперь она опустила их, и рука ее была холодна. Чтобы она была девственна — об этом и речи быть не могло; но я почему-то вспомнил мать, уходящую в тот день в священную рощу. И сказал Ксантию:
— Если я умру — проследи, чтобы она досталась одному, а не превратилась в общую игрушку, шлюх у нас и так достаточно. Она теперь царская наложница, и обращайтесь с ней должным образом.
Мы поклялись перед Пилаем и всем войском, призывая в свидетели Реку и Дочерей Ночи… Потом люди расступились, освободив большую площадку меж костров, и мы взялись за копья и щиты. Пилай поднялся на ноги, сказал:
— Начинайте.
Я знал, что буду не в форме. Устал в битве, и раны мешали двигаться… Но и ему было не легче. Мы стали обходить друг друга, пробуя выпады копьем. Один круг, другой… Я конечно же не смотрел по сторонам, но краем глаза все время видел стену лиц вокруг, красную от огня костров, словно плывущую в темноте взад и вперед, влево и вправо, — это по ходу боя получалось, — эти лица все время были вокруг, и именно их я помню всего четче.
Он отбил в сторону мой выпад, я поймал на щит его удар; но не смог задержать так долго, чтобы пробить его защиту. Мы обошли еще круг и нанесли друг другу по скользящей ране — он мне у колена, я ему на плече… Я выбрал себе длинный, но узкий щит с перехватом посреди, потому что он легче, а у Ксантия был прямосторонний, из тех, что закрывают бойца целиком. Я удивлялся: неужто он достаточно свеж для такой тяжести?
Мы крутились на месте и двигались взад-вперед в выпадах — и лица колыхались в ночи, как занавес на ветру. И все время я уговаривал себя расстаться с копьем. Бросок — рискованная вещь. Он более внезапен, чем удар, — его труднее отбить; но если промахнешься — у тебя остается лишь меч длиной в полтора локтя, против копья в пять; и тогда надо быть счастливчиком, чтобы выкрутиться из этого дела.
Я посмотрел на его глаза — красные в свете костра, как сердолики, — и решился. Показал ему бок… Он был быстр и едва не достал меня, но я отскочил, поднял щит, — будто для защиты, — так что ему не было видно мою правую руку, и в тот же миг бросил копье. Но он, как видно, знал этот трюк, — копье пришлось по щиту. Бросок был такой, что наконечник пробил двойную бычью шкуру и застрял в ней; он не мог высвободить щит, — пришлось бросить, — но у него осталось копье против моего меча.
Он пошел на меня, нанося быстрые короткие уколы, и мне приходилось отбивать их не только щитом, но и мечом, — клинок сразу же затупился, — а достать его я не мог никак, и он отжимал меня. За спиной что-то ударило в землю, похоже на камень; потом еще и еще… Значит, в конце концов они от меня отвернулись, я всегда был для них чужим!.. И в этот момент, отступив еще на шаг, я увидел, что это было: вокруг меня, там и сям, в земле торчали три копья, так что их сразу можно было взять наизготовку.
Убирать меч в ножны было некогда, я воткнул его в землю и подхватил одно из копий. Ксантий посмотрел на меня с горечью: ему никто не подал щита. Он готовился к броску — я бросил первым. Копье вошло ему меж ребер, он уронил свое и упал. Скатился шлем, вокруг по земле рассыпались спутанные рыжие волосы… Волосы точь-в-точь, как у нее.
Вокруг него собрались его офицеры; один спросил, не выдернуть ли копье…
— Нет, — сказал он, — вместе с копьем выйдет душа. Позовите Керкиона.
Я подошел и встал над ним. Видно было, что рана его смертельна, и я больше не имел на него зла. Он заговорил:
— Оракул сказал верно… Ты и есть кукушонок, без сомнения…
Лицо у него было растерянное, будто у маленького мальчика. Он потрогал копье, торчавшее в боку, — кто-то держал древко на весу, чтобы ему было не так больно, — потрогал и спросил:
— Почему они это сделали? Что они выиграли?
Наверно он имел в виду мою долю добычи, которую раздали бы, если бы он победил.
— Наш конец предначертан с начала, — сказал я, — скоро придет и мой час.
— А мой уже пришел, — он говорил спокойно, но горько. На это нечего было ответить, я промолчал, а он долго глядел мне в лицо. Потом я вспомнил:
— Скажи, как похоронить тебя, что положить с тобой в могилу?
Он удивился:
— Так ты собираешься меня хоронить?
— Конечно, — говорю, — как же иначе? Я получил свое, а боги ненавидят тех, кто переходит границы. Скажи, чего ты хочешь, я все сделаю.
Я решил, он задумался и скажет что-нибудь; но после долгой паузы он не ответил мне, а воскликнул:
— Не могут люди противостоять Бессмертным! Тащите копье!..
Офицер рванул древко, и душа вышла из Ксантия вместе с ним.
Я приказал омыть его и уложить на носилки и выставил возле него стражу против хищных зверей… Из всех его вещей я взял лишь два меча, — он хорошо сражался и был из царского рода, — а его добычу разделили, как было условлено. И те из его людей, кому по жребию что-то досталось, получая свою долю, салютовали мне. Потом подошла пора быков, что заждались на вертелах… Пилай из-за раны своей скоро ушел. Я тоже не стал задерживаться за питьем; мне хотелось забрать в постель мою девушку, пока еще разгорячен боем.
Она оказалась хороша и хорошовоспитана… Пират утащил ее с берега Коса — она агаты собирала на ожерелье — и продал в Коринф, Филоной ее звали. Раны мои не кровоточили больше, но она все равно не хотела ложиться, пока не перевяжет их. Это была первая моя девушка — моя собственная, — и я хотел было показать ей с самого начала, кто хозяин, — но в конце концов дал ей волю. До конца жизни ее не прогонят из моего дома, и ни разу я не предложил ее гостю без ее согласия — так пообещал я ей в ту нашу первую ночь… И оба ее старших сына были от меня: Итфей, корабельщик, и Евген, начальник дворцовой стражи.
3
АФИНЫ
1
И вот я снова въезжал в Элевсин по Истмийской дороге, и снова народ толпился на крышах, — но на этот раз они не молчали.
Я поставил Товарищей во главе колонны, а сам ехал перед войском взрослых мужчин; царь Мегары подарил мне верхового коня. Гвардия несла свои трофеи, — шла под флейты, с песнями, — а позади нас двигались возы с добычей, женщины и стада. С крыш набросали столько цветов и зеленых веток, что мы шли будто по ковру. К тому часу, когда тень становится вдвое длиннее человека, мы подошли к крепости, и гвардия расступилась, чтобы пропустить меня вперед.
Башня над воротами была черна от людей. Ворота со скрипом распахнулись, часовой протрубил в свой рог… Я проехал под башней, и меж высоких стен забилось эхо от копыт коня на плитах Большого Двора… А на крыше Дворца народ толпился, словно зимний рой, — но тут было тихо, и из окон не свисали цветные полотна. Только яркое косое солнце, зубчатая тень верхнего парапета с выступающими пятнами от множества голов; и на широких ступенях меж крашеных колонн — женщина в широком жестком платье и пурпурной диадеме, высокая и неподвижная; и от нее тоже тень, длинная и неподвижная, как от колонны.
У подножия лестницы я сошел с коня, его увели… Она стояла и ждала — ни шагу не сделала навстречу мне. Я поднялся к ней, подошел… Лицо — будто раскрашенная слоновая кость с глазами из сердолика; а на плечах волосы, уложенные и заколотые шпильками из золота и серебра, — рыжие волосы, которые я видел в последний раз на Истмийской земле, в пыли и крови.
Я взял ее холодную руку и наклонился к ней с поцелуем приветствия, чтобы все видели… Но не коснулся ее губами — не хотел добавлять оскорбления к той крови, что пролилась между нами. Лишь тронул лицом волосы над ее лбом, а она произнесла стандартные слова привета, и мы бок о бок вошли во Дворец.
В Зале я сказал ей:
— Нам надо поговорить наедине. Пойдем наверх, там нам не будут мешать.
Она посмотрела на меня как-то странно…
— Не бойся, — говорю, — я знаю, что можно и чего нельзя.
В спальне было темно, только пятно заката на стене против окна. На станке была натянута какая-то вышивка, белым и пурпурным, на окне лежала лира с золотыми лентами, у стены — кровать с тем самым покрывалом из меха и пурпура…
— Госпожа, — сказал я, — вы знаете, я убил вашего брата. А вы знаете почему?
— Он мертв. Кто теперь уличит тебя во лжи? — голос ее был пуст, как морской берег.
— Какое наказание полагается за убийство царя раньше срока? А ведь я убил его на поединке и привез назад, чтобы похоронить, — не хотел обесчестить твой род… Его люди не считают, что я обошелся с ним несправедливо. Ты же видела — они позволили мне привести их домой.
— Так кто же я теперь? Пленница копья твоего?
От злости ее щеки порозовели, заколыхались груди с позолоченными сосками… Но при этих словах я вдруг вспомнил Филону — ту, что досталась мне от пирата и вора, что никогда не знала мужчин, только скотов, и первую в жизни ласку познала со мной. Я тогда едва успел заснуть — она разбудила меня плачем: молила не продавать ее, не отдавать никому…
— Как всегда, госпожа, вы царица, — говорю.
— Но ты теперь царь? Эллинский? Это ты хочешь сказать?
Я подумал, что женщине в трауре была бы более прилична меньшая резкость, но не мне было говорить ей это… Солнечное пятно на стене стало бледно-красным, белая птица в плетеной клетке ерошила перья — собиралась спать…
— У нас будет время поговорить об этом, — сказал я. — Сейчас на руках моих кровь, и ты не можешь меня очистить от нее, да мне и неприлично было бы просить тебя. Когда освобожусь от этого, я вернусь и отдам выкуп за кровь его детям.
Она посмотрела удивленно:
— Вернешься? Откуда?
— Из Афин. — Я едва поверил, что могу наконец произнести это слово. — Люди говорят, у них там есть храм Матери и святилище Аполлона со священным источником. Так что я могу очиститься и перед Небесными Богами и перед Подземными. Я попрошу царя очистить меня.
На руке у нее был браслет — золотая змея, свернувшаяся в кольцо. Она потянула за него и заговорила:
— Теперь Афины! Мало тебе Мегары, теперь ты хочешь завести дружбу с Эрехтидами?.. Чудесный дом, чтобы отмыться дочиста! Подумай, не лучше ли поехать туда со своей водой!..
Я знал, что она будет сердита, но этого не ждал. Можно было подумать, что я не брата ее убил, а как-то оскорбил ее саму. А она продолжала:
— Ты что, не знаешь, что его дед разорил Элевсин, убил царя не вовремя и изнасиловал царицу? С тех пор на Эрехтидах проклятие Матери. Как ты думаешь, почему Эгею пришлось построить ей святилище на своем Акрополе и послать сюда за жрицей? И еще много времени пройдет, пока он смоет с себя это проклятие, — а ты хочешь, чтобы этот человек тебя очистил!.. Вот увидишь, что скажет твоя молодежь. Они так тебя ценят — что они скажут, когда услышат, куда ты собираешься их вести?
— Просящий не приходит с войском. Я поеду в Афины один.
Она снова взялась за браслет. Вид у нее был такой, словно ее тянуло в разные стороны и она не знала, что делать. Я подумал, она и злится, что я уезжаю, и хочет этого.
— Ничего не знаю про твоего Аполлона, — сказала. — Когда ты едешь?
— Когда гонец привезет ответ от него. Может быть, через пару дней, а может — завтра…
— Завтра?! Ты пришел сюда на закате, и солнце почти уже село…
— Раньше уеду — раньше вернусь, — сказал я.
Она подошла к окну, потом вернулась назад… Волной накатился запах ее волос, и я вспомнил, как это было желать ее… Вдруг она резко повернулась ко мне, как кошка, что шипит открывая клыки:
— Ты храбрый мальчик, эллин. Тебе не страшно отдать себя в руки Эгею? Теперь, когда он узнал уже, что у него за сосед! Всю жизнь он сражался за свою кучу камней и несколько полей среди гор, дрался словно волк за свое логово… Он обнищал в бесконечной войне со своей собственной родней, и ты доверишься такому человеку, хоть никогда его не видел?
— Почему же нет, — говорю, — просящий — священен!
На стене угасал последний свет уходящего дня; горы стали серыми; светилась лишь самая высокая, похожая на девичью грудь… Птица спрятала голову и стала похожа на моток пушистой шерсти… И в это время в спальню тихо вошла одна из женщин и принялась разбирать постель. Это непристойное недомыслие меня возмутило, но не я должен был остановить ее; я повернулся к царице. Она посмотрела на меня — в темноте я не видел ее глаз — и сказала женщине:
— Можешь идти.
Та пошла к двери, я ее задержал:
— Приготовь мне постель в западной комнате, — говорю. — Я буду спать там, пока не очищусь от крови.
Глаза у нее распахнулись, будто я сказал нечто неслыханное, потом зажала рот рукой и бросилась бегом.
— Что за дурочка? — говорю. — И нахальная вдобавок… Я бы на твоем месте ее продал.
Никогда я не пойму береговых людей. Я вовсе не хотел сказать плохо о ее доме, да и что я такого сказал?.. Невероятно — как ее возмутили эти слова! Ломает себе руки, оскалилась…
— Поезжай! — кричит. — Поезжай к Эгею-Проклятому! Вы один другого стоите… — Она расхохоталась, но я мыслями был уже в Афинах — почти не слушал. — Да, поезжай к нему! Хочешь подняться выше своей судьбы — пробуй! Но когда придет расплата, то вспомни, что ты сам этого хотел…
— Пусть Зевс меня судит, — ответил я, — он видит всё.
И ушел от нее.
На другой день я первым делом потребовал перо и египетской бумаги. С тех пор как я в последний раз писал, прошло уже много времени, — год, а то и два, — потому я попробовал сперва на воске: не разучился ли, не забыл ли какие буквы. В письме не было никаких секретов, но я хотел, чтоб мое первое письмо отцу было моим собственным; чтоб я сам его написал, а не писец. Оказалось, что сноровка возвращается быстро, и я еще могу писать тем красивым почерком, который вколотил в меня мой воспитатель. Я подписался — «Керкион», — запечатал письмо царским перстнем — и сидел слушал, как затихает на Афинской дороге стук копыт моего гонца.
Верхом там всего два часа езды, так что весь тот день я ждал его назад. У отца не было никаких оснований спешить; но я, по молодости, извелся от нетерпения и без конца придумывал всякие причины, почему бы задержался гонец. А он вернулся лишь на другой день после полудня.
На нижней террасе была черная базальтовая скамья, среди колонн увитых желтым жасмином. Я ушел туда и вскрыл письмо. Оно было короче моего, написано четкой рукой писца. Отец приглашал меня быть гостем в Афинах, упоминал мои победы и соглашался очистить меня.
Чуть погодя я приказал кому-то прислать гонца ко мне. Пожалуй, мне хотелось спросить у него, что за человек царь Эгей? С тех пор как я приехал в Элевсин, у меня часто появлялось это желание: спросить у кого-нибудь, кто его видел. Но и раньше и сейчас в этом было что-то недостойное; потому я просто спросил о новостях. Гонцов ведь всегда спрашивают.
Он рассказал мне много всякой всячины, — не помню уже, мелочи, — а под конец сказал:
— А еще все говорят, что жрица скоро станет царицей.
Я поднялся на ноги.
— Как это? — спрашиваю.
— Видишь ли, господин мой, проклятие давит его. Родственники требуют царство, ни от одной жены нет сына, а критяне не отказываются от дани, как он их ни упрашивает.
— Что это за дань?
— Четырнадцать бычьих плясунов, господин мой, в будущем году. А они забирают самых лучших… И жрица в храме сказала ему… — Он умолк, будто что-то застряло в горле.
— А эта жрица, она из Элевсина?
— Она служила здесь в святилище, мой господин, но к нам пришла из какого-то северного храма, где-то за Геллеспонтом. Говорят, она видит далеко и может вызывать ветер; простой народ в Афинах зовет ее Коварной, а еще — Скифской Ведьмой. Он когда-то давно лег с ней перед богиней, чтобы отвратить от царства какую-то беду; ей было знамение такое. Говорят, теперь он должен возвысить ее и поставить рядом с собой и вернуть старые законы… — Теперь я понял, чего это он так странно смотрел на меня все это время! А он, быстро так: — Но это ничего, господин мой! Ведь все знают, что за болтуны эти афиняне!.. Скорее дело в том, что у нее два сына от него, а наследника у него нет.
— Можешь идти.
Он исчез, а я принялся шагать взад-вперед по террасе, под желтым осенним солнцем. Никто меня не тревожил — люди подходили, но уходили назад, даже не обратившись ко мне. Однако вскоре я немного успокоился. Даже пожалел, что так сухо отпустил гонца. Надо было его наградить; ведь своевременное предупреждение — это всё равно что дар божий… А что до отца — какое у меня право сердиться на него? Эти восемнадцать лет он не женился — ради меня и ради моей матери; я должен был появиться раньше, если бы сумел поднять камень вовремя… Солнце было еще высоко, тень передо мной совсем короткая… «Тот, кто спит, получив предупреждение, — тот недостоин его. — Так я подумал. — Так зачем ждать до завтра? Поеду сразу».
Я вернулся во Дворец, позвал женщин одеть меня. Красный кожаный костюм, что я привез из Трезены, был эллинский, и почти новый… Опоясался змеиным мечом Эрехтидов и, чтобы спрятать его до времени, надел короткий синий плащ с пряжкой на плече; такой, что можно не снимать, входя в дом.
Сопровождать меня я взял лишь двоих слуг. Просителю не пристало брать с собой охрану; и потом мне хотелось, чтобы он видел, что я пришел с доверием, как друг… Никого больше я брать не собирался, но когда уже уходил — Филона со слезами ухватилась за мой плащ, зашептала: — все женщины, мол, говорят, царица убьет ее стоит лишь мне отвернуться… Я поцеловал ее, сказал, что дворцовые сплетни везде одинаковы… Но она глядела на меня так — такие глаза у загнанного зайца, когда он смотрит на копье. Да и я, подумав, усомнился в царице. И велел одному из слуг посадить ее на круп его мула, хоть это было и не совсем удобно.
Мне привели коня; я послал сказать царице, что готов и хочу попрощаться с ней, — она ответила, что больна и ни с кем говорить не может. Я видел, что она ходит по своей террасе, — ну и ладно, меня никто ни в чем не упрекнет.
Прыгнул в седло — поехали. Во дворе Товарищи меня приветствовали, но уже не совсем так, как раньше: теперь я был военный Вождь и принадлежал не только им одним. В другое время это бы меня расстроило, но в тот момент я весело им отсалютовал и почти сразу забыл о них: в лицо мне дул ветер с гор Аттики.
Дорога сначала шла вдоль берега, а потом сворачивала в глубь страны. Вокруг была высохшая желтая осенняя трава, и олеандры покрыты пылью… У пограничной сторожевой башни мне пришлось говорить афинянам, кто я такой: они не ждали меня в тот день. Я почувствовал, что зря так спешу, — не солидно вроде получается, по-детски, — они могут худо обо мне подумать… Но стражники были предельно учтивы, и когда я поехал дальше — один из них обогнал меня и поскакал в Афины.
Город я увидел внезапно. С поворота дороги меж низких зеленых холмов. Передо мной вздымалась громадная плоская скала — словно Титаны воздвигли эту чудовищную платформу, чтобы с нее штурмовать богов. Наверху на ней, ярко горя в свете заходящего солнца, стоял царский Дворец: кирпично-красные колонны, розовые стены в голубых и белых квадратах… Он был так высоко, что часовые на стенах смотрелись будто изделия златокузнеца, а их копья казались не толще волоса. У меня дух захватило, ничего подобного я не ожидал.
Передо мной, на равнине, дорога вела к городской стене, к воротной башне. На крыше ее стояли лучники и копейщики, а их щиты висели на зубцах словно фриз. Здесь никто не спрашивал, кто я; проскрипел в пазах массивный засов, распахнулись высокие ворота на каменных шарнирах, отсалютовала стража… За воротами открылась базарная площадь и множество маленьких домиков, что сгрудились под скалой и по пологому склону ее подножия… Начальник стражи выделил двух человек — они пошли передо мной проводить меня к замку.
Скала всюду была отвесна. Только с западной стороны по крутому склону вилась серпантином дорога, которая с боков защищалась каменной стеной. Дорога была очень неровной, неудобной для пешего хода, но настолько крута, что ехать верхом стало невозможно, и моего коня повели в поводу. Наверху стена упиралась в караульную башню; стража приложила древки копий ко лбу и пропустила меня. Далеко внизу были улицы и городские стены, и Аттическая равнина простиралась от моря до гор; на вершинах гор уже лежала лиловая вечерняя дымка, будто пурпурно-золотая корона… А передо мной были верхние ворота крепости. Каменный свод над воротами расписан белыми и алыми лентами, а посреди них — царский герб: змея дважды обвилась вокруг оливы… Последние лучи солнца светились будто желтый хрусталь — чисто и ярко.
Место ошеломило меня. Я, конечно, слышал о нем, но представлял себе гору как гору, как обычно устроены замки царей и вождей; мне и во сне не снилось, что мой отец — хозяин такой мощной крепости. Теперь я понял, как он смог так долго продержаться против всех своих врагов: такая крепость может выстоять против всего мира!.. И понял, почему в легендах говорилось, что с тех пор, как Зевс сотворил людей, на Афинском Акрополе всегда жил какой-нибудь царь. И даже до людей там тоже была крепость — в ней жили гиганты, у которых было по четыре руки, и они могли на них бегать… И сейчас видны огромные камни, которые они сложили в давнишние времена.
Через внутренние ворота я прошел на плато. По двору расхаживали часовые — теперь они уже не казались игрушечными, — а передо мной высился Дворец, с террасой, выходящей на север. Если отец был на террасе — он, наверно, видел меня на дороге… Сердце у меня заколотилось и пересохли губы.
По дороге были еще дома придворных и дворцовой челяди, и росли неприхотливые деревья — сосны и кипарисы, — специально посаженные там для тени и для защиты от ветра. А под царской колонной главного входа стоял царедворец с чашей приветствия в руках. После долгой скачки и подъема вино показалось таким вкусным — никогда такого не пробовал. И, допивая его, я подумал: «Теперь наконец я у цели; с этим глотком я уже гость отца».
Коня моего увели, а меня повели через внутренний двор в покои для гостей. Женщины уже наполнили ванну, и вся комната была мягкой от ароматного пара… Пока чистили мою одежду, я нежился в воде и оглядывался вокруг. По дороге я был ослеплен величием крепости; но внутри ее было видно, что царство истощено войной. Все содержалось в идеальном порядке, стенная роспись была свежа, купальные принадлежности отполированы, и масла смешаны отлично… Но женщин было мало, а какие были — не первой молодости и не так чтоб красавицы; и на мебели виднелись дырочки от заклепок, где когда-то было золото… «Да, — думаю, — слишком долго он вез этот воз в одиночку. Но теперь-то он ни в чем не будет нуждаться!»
И вот я обсушен, натерт маслом, одет и причесан, и возле двери меня ждут — проводить в зал. Изразцовый пол галереи разрисован собачьими зубами и волнами; слева — колонны резного кедра; справа — фриз с грифонами, охотятся на оленей… Из боковых дверей выглядывали любопытные слуги, шептались… А от моих сапог разносилось эхо, и бряцание меча по заклепкам пояса казалось очень громким… Потом спереди стали различимы звуки в Зале: стучала посуда, двигали по камню столы и скамьи, кто-то настраивал лиру, кто-то бранил раба…
В дальнем конце Зала было возвышение — помост между двух колонн, — там сидел царь. Его стол только что внесли наверх и устанавливали перед ним. От входа я смог разглядеть только, что он темноволос. Так я и думал, раз мать приняла его за Посейдона… Подойдя ближе, увидел, что в темных волосах много седины, и вообще заботы наложили на него свою печать: вокруг глаз были темные круги, а морщины возле рта глубоки, как шрамы. Подбородок закрывала борода, но на бритых губах была видна привычная усталость; и осторожность была видна в нем — этого надо было ожидать… Я почему-то думал, что лица у нас будут похожими, но у него было более продолговатое; и глаза карие, а не голубые, и глубже посажены, хоть не так широко; и нос с горбинкой; и волосы не шли от висков назад, как у меня, а свисали книзу, сужая лоб… На каком бы месте он ни сидел в Зале — любой бы сразу понял, что это Царь; но что этот человек почувствовал дыхание Посейдона и плыл через бурный пролив к Миртовому Дому — этого я не видел в нем. Однако это был он…
Я шел к нему, не оглядываясь по сторонам; хоть чувствовал, как весь Зал меня рассматривает. По правую руку от него стояло пустое кресло, увенчанное двумя ястребами, а слева сидела женщина. Когда я подошел — он поднялся приветствовать меня и вышел навстречу. Я был счастлив: я совсем не был уверен, что он примет меня как царя. Он оказался чуть выше меня, пальца на два.
Он сказал что полагается в таких случаях: мол, рад меня видеть и просит к столу, мол, мне надо сначала подкрепиться, а уж потом утруждать себя разговором… Я поблагодарил и улыбнулся — он тоже улыбнулся в ответ, но чуть-чуть: не то чтобы угрюмо, но скованно как-то, будто отвык.
Я сел, мне поднесли стол, он показал резчику лучшие куски, чтобы тот положил мне… Хоть я и был голоден, но боялся, что не смогу съесть всего, что нагрузили на мой поднос. А сам он взял лишь немного печенья, да и то незаметно отдал белой гончей, почти всё. По дороге сюда у меня была заячья мысль: сразу же при народе сказать ему, что я его сын. Но теперь, увидев его, я понял, что это было бы неудобно. И кроме того, мне хотелось сначала узнать его поближе, как бы со стороны.
Во время еды я видел краем глаза, что женщина из-за его плеча приглядывается ко мне. Я поклонился ей, прежде чем сесть, и успел разглядеть ее лицо. Она была не эллинка и не из береговых людей: широкое лицо, чуть плосковатый нос, глаза узкие и раскосые… Маленький изящный рот был изогнут, словно прятал тайную улыбку… Лоб ее, низкий и очень белый, был увенчан короной из золотых листьев и цветов, и золотые бутоны на золотых цепочках сверкали в густых прядях пышных черных волос.
Виночерпий начал обходить второй круг. Я был еще не готов, но царь уже осушил свой кубок и махнул рукой, чтоб налили снова. И вот, когда он поднял руку, я увидел их рядом: руки, его и свою. Форма руки, пальцы, даже ногти — как две капли воды!.. У меня захватило дыхание; я думал, он тоже заметит это, но та женщина что-то говорила ему в этот момент, и он не увидел.
Я все-таки управился со своим блюдом, но показал, что больше уже не могу. И тогда он заговорил:
— Мой царственный гость, по обличью ты эллин. И кажется мне, что до прихода в Элевсинский Дворец ты не был чужим в каком-то из царских домов.
Я улыбнулся.
— Это верно, государь. И нет человека, которому я открыл бы свое происхождение с большей охотой, чем тебе. Но позволь мне пока не говорить об этом — я объясню причину позже… А с какой просьбой я пришел к тебе, ты знаешь. Что до того человека — я убил его в честном бою, хоть он и пытался меня погубить… — И рассказал ему всё, как было. А под конец добавил:
— Мне бы хотелось, чтобы ты знал: я не из тех, кто бьет из-за угла.
Он смотрел на свой кубок, что держал в руках.
— Сначала ты должен принести жертвы Дочерям Ночи. Госпожа Медея исполнит всё что нужно.
Женщина посмотрела на меня своими раскосыми глазами.
Я чуть подумал…
— Всегда нужно ублаготворять Великую Мать, — говорю, — она принимает убитых в лоно свое. Но, государь, я эллин, как и ты; первым делом я должен пойти к Аполлону, Убийце Тьмы.
Она посмотрела на него, но он этого не заметил.
— Как хочешь, так и будет, — говорит. — Но становится прохладно; пойдем наверх, выпьем вина у огня в моих покоях. Там нам будет удобнее.
Мы поднялись по лестнице, что была за его помостом, и белый пес пошел за нами. Комната выходила на северную террасу. Была уже почти ночь, поднималась ущербная осенняя луна… Город далеко внизу был уже не виден — только горы вокруг на фоне неба. На круглом очаге горели пахучие поленья, перед ним стояли два стула, а в стороне — третий, перед вышивальным станком. На резной подставке горела малахитовая лампа, а по стенам шла роспись: охота на оленя, с великим множеством всадников… И еще там была кедровая кровать, затянутая красным.
Мы сели. Слуга поставил между нами винный столик, но вина не принес. Царь наклонился вперед, поднес руки к огню… Я увидел, что руки у него дрожат, и решил — он уже достаточно выпил в Зале и теперь хочет повременить…
Вот теперь мне надо было заговорить, но у меня язык будто прилип к гортани — я не знал, как начать. «Он что-нибудь скажет такое, — думаю, — что мне поможет, чтобы к слову получилось…» И начал расхваливать его крепость. Он сказал, что никогда ни один враг ее не взял.
— И никогда не возьмет, — говорю, — пока ее обороняют люди, которые ее знают.
Я успел заметить пару слабых мест, где войска, привыкшие к горам, могли бы пройти на Скалу, — и сейчас выдал это. Он быстро глянул на меня, и я подумал, что гостю не стоило бы так внимательно изучать его стены, зря это я… И был очень рад, что он заговорил об Истмийской войне. Заодно уж я рассказал ему и обо всех прочих своих победах. Каждый по молодости сделал бы то же самое, а мне еще хотелось, чтобы он знал, что ему не придется за меня краснеть…
— Да, — говорит, — так что теперь ты царь Элевсина не только по названию, но и по сути. И всё — за одно только лето!
— Я не для того пересекал Истм, — говорю. — Это случайно получилось по пути, если такие вещи бывают случайны.
Он испытующе посмотрел на меня из-под бровей.
— Так, значит, место твоей мойры не в Элевсине? Ты смотришь дальше?
Я улыбнулся.
— Да! — говорю.
«Вот сейчас скажу,» — думаю… Но в этот момент он резко встал и отошел к окну. Высокая собака поднялась и пошла следом; чтобы не сидеть, когда он стоит, я тоже вышел к нему на неосвещенную террасу. Земля была залита лунным светом, и далеко внизу на бледных полях лежала громадная тень Скалы.
— Горы сейчас иссохли, — сказал я. — Хотелось бы увидеть их весной. И зимой, белыми от снега… А какой прозрачный воздух у вас — видно тень старой луны!… В Афинах всегда так ясно?
— Да, воздух здесь прозрачный.
— Когда поднимаешься по вашей Скале — она словно встречает тебя, будто помогает идти. Певцы зовут ее Твердыней Эрехтидов; воистину они могли бы звать ее Твердыней Богов.
Он повернулся и вошел внутрь. Когда я зашел следом, он стоял спиной к лампе, так что лица его я не видел.
— Сколько тебе лет?
— Девятнадцать. — Я так часто повторял эту ложь, что она прилипла ко мне. Я тут же вспомнил, с кем говорю, рассмеялся…
— Ты о чем? — спрашивает.
— О!.. — начал я, но тут отворилась дверь и вошла Медея, а за ней слуга с инкрустированным подносом. На подносе было два кубка, уже полных; вино было подогрето, с пряностями, и аромат его наполнил всю комнату.
Она вошла кротко, потупив глаза, и встала рядом с ним.
— Мы после выпьем, — сказал он, — поставь пока на стол.
Слуга поставил, но она говорит:
— Надо пить, пока горячее, — и подает ему кубок…
Он взял, второй она протягивает мне… Я хорошо его помню: отогнутые ручки с голубями на них, а по чаше чеканка: львы идут сквозь заросли.
Запах у вина был чудесный, но я не мог пить, пока он сам мне не предложит. А он стоял со своим кубком и молчал, сам не пил. Медея ждала рядом, тоже молчала… Вдруг он поворачивается к ней и спрашивает:
— Где то письмо, что Керкион прислал мне?
Она удивленно посмотрела на него, но без звука пошла к шкатулке из слоновой кости, что была на подставке в углу, и вернулась с моим письмом.
Тут он мне говорит:
— Ты не прочтешь мне его?
Я поставил свой кубок, взял у нее письмо… У него был строгий взгляд, и мне стало странно — неужели он плохо видит? Прочитал письмо вслух…
— Спасибо, — говорит. — Я в основном его прочел, но не был уверен в нескольких местах.
Я удивился:
— Мне казалось, что написано разборчиво.
— Да, да, написано разборчиво… — Он говорил рассеянно, словно думал о чем-то другом. — У твоего писца прекрасный почерк, но правописание варварское.
Я бросил письмо на стол, будто оно меня укусило. Не только лицо — даже живот у меня наверно покраснел; стало жарко так, что я откинул плащ с плеч за спину… И не задумываясь, — чтоб не стоять перед ним дурак дураком, чтобы спрятать лицо, — схватил я кубок и поднес ко рту, пить.
Я едва успел коснуться его губами — он вылетел у меня из рук. Горячее вино плеснуло в лицо, залило одежду… Золотой кубок со звоном покатился по цветным плитам пола, оставляя за собой пахучий дымящийся ручей; и густой осадок стекал с его краев, еще темнее чем само вино.
Я вытирал лицо и изумленно смотрел на царя. Что это он?.. Что с ним?.. Бледнее мертвеца, и на меня смотрит такими глазами, будто увидел саму смерть… Тут я сообразил, что меч-то уже не спрятан под плащом. «Надо было сказать раньше, — думаю, — это он от волнения так… До чего ж нехорошо у меня получилось!» Я взял его за руку…
— Сядь, государь, — говорю, — и прости меня. Я как раз собирался всё тебе рассказать.
Подвел его к креслу… Он ухватился руками за спинку и остановился, едва дыша. Я обнял его за плечи… «Что бы ему такое сказать, — думаю, — что бы?..» И в этот момент белый пес прошел к нам с балкона и лизнул вино из лужи.
Он кинулся вперед, схватил пса за ошейник, оттащил… Послышался звон женских украшений: жрица Медея — я совсем забыл о ней, так она была незаметна в своей неподвижности, — Медея укоризненно качала ему головой. Тогда до меня дошло.
Вот болиголов-трава — холодеешь от нее; а крапива — жжет… Так я похолодел, так меня обожгло внутри, когда я понял… — только гораздо сильней. Я стоял как каменный. Женщина повела собаку к двери и выскользнула вместе с ней — я пальцем не шевельнул. Царь повис на спинке кресла, если б ее не было — упал бы… Наконец я услышал его голос, тихий, хриплый — словно предсмертный стон:
— Ты сказал — девятнадцать… Ты сказал, тебе девятнадцать?
Это привело меня в чувство. Я поднял кубок, понюхал, поставил его перед царем.
— Это неважно, — говорю. — Достаточно того, что я был твоим гостем. А всё прочее нас с тобой больше не касается.
Он прополз вокруг кресла, сел, закрыл лицо руками… Я отстегнул меч, положил его рядом с кубком.
— Если ты знаешь этот меч, — говорю, — если знаешь — возьми его, быть может пригодится. Это не мой. Я нашел его под камнем.
Ногти его впились в лоб, до крови. И он не застонал, не захрипел… — а такой звук, как бывает, когда из смертельной раны выдергивают копье: человек зубы стиснул, изо всех сил держится — а все равно… Он плакал, словно душу ему из тела вырвали; а я стоял, как свинцом налитый, и хотелось мне сквозь землю провалиться или раствориться в воздухе… — исчезнуть в общем.
Пока он не заплакал, до меня не доходило, что это мой отец; а теперь я это почувствовал. И так мне было стыдно, будто это я совершил преступление. Пол был затоптан винными следами, приторно пахла гуща в кубке… Я заметил какое-то движение: на другом конце комнаты тяжело дышал слуга. Глянул на него — он, казалось, готов был в стену влезть. «Царь тебя отпускает», — говорю. Он тотчас исчез.
На очаге обрушились головни, взметнулось пламя… Жар от огня, и пальцы царя, рвущие его седые волосы, и моя немота — худо мне было от всего этого; я вышел на балкон. А там — тишина, покой, громадный простор, залитый лунным светом… Призрачные горы стали ближе, светились будто сумрачный янтарь… Внизу на стене встретились двое часовых, их копья скрестились… Издалека слабо доносились песня и аккорды лиры… Крепость парила между землей и небом в прозрачном сиянии, которое, казалось, ниоткуда не шло, существовало само по себе; а под ней уходили к равнине громадные черные скалы.
Я положил руки на балюстраду и смотрел на стены, что сливались основанием с самой Скалой, и вот тут — когда я так стоял — всё это стало вливаться в меня, словно морской прилив; с пением прибоя заполнило мне сердце и замерло в нем, как затихшее море. И я подумал: «Вот это — моя мойра».
Моя мойра… Душа рвалась охватить ее; всё остальное в тот миг стало как облачко пыли или летний дождь… К чему мое негодование? Тысячу царей знала эта Скала; кто скажет — сколько из них ненавидели своих отцов или сыновей, или любили не тех женщин, или плакали из-за чего?.. Всё это умерло вместе с ними и истлело в их могилах. Осталось только — что они были царями Афин. Устанавливали законы, расширяли границы, укрепляли стены… Высокий град, чьи камни излучают свет! Твой демон вел меня сюда, а не желание мое; так ощути же руку мою, узнай мою поступь — прими меня! И я пойду, куда поведут меня твои боги, и по знаку их я уйду… Я пришел к тебе ребенком, Твердыня Эрехтея, но ты — ты сделаешь меня царем!..
Так я стоял там. Потом вокруг меня что-то изменилось: тишина стала другой. Все так же доносилась издалека песня… Потом я понял: отец затих, не плачет. Я представил себе, как он стоит на этом самом месте и оглядывает крепость, осажденную врагами; или видит поля, посеревшие от засухи, или — или слышит, что на границе появился новый царь, которому мало Элевсина… Ведь я стоял там в эту ночь только потому, что он хорошо удерживал Скалу — всё время, до того самого дня. И всё время — жестокая борьба, бесконечные хитрости… А теперь вот надежда на меня обернулась для него таким ударом… Горечь и злость ушли; я почувствовал сострадание, понял его боль.
Вошел к нему. Он сидел у стола, подперев голову руками, и неподвижно смотрел на меня. Я встал возле него на колени и позвал:
— Отец…
Он протер глаза, словно не веря себе.
— Отец, — повторил я, — посмотри, до чего верно говорят, что судьба всегда приходит не в том облике, в каком ее ждешь. Боги сделали это, чтобы напомнить нам, что мы смертные. Хватит горевать, давай начнем сначала.
Он вытер глаза ладонью, долго смотрел на меня молча… Потом сказал:
— Кто может знать, что сделали боги и зачем? Но в тебе очень много не от меня…
Он убрал волосы с лица и вроде подвинулся ко мне — но тотчас отпрянул. Я понимал, что после всего, что случилось, он не может обнять меня первый, — я должен это сделать… Так я и сделал, хоть неловко было; и еще я боялся, что он снова заплачет. Но он уже держал себя в руках, и, мне кажется, мы оба почувствовали, что в следующий раз это получится легче.
Отпустив меня, он подошел к двери, хлопнул в ладоши и сказал кому-то снаружи:
— Возьми четырех человек и приведи сюда госпожу Медею, захочет она или нет.
Тот ушел.
— Вы ее не найдете, — сказал я.
— Ворота заперты на ночь, — говорит, — и боковой вход тоже. Если она не умеет летать — она здесь. — Потом спрашивает: А как тебя зовут?
Я глянул на него — потом вспомнил, и мы оба почти улыбнулись. Сказал ему…
— Это имя мы выбрали с твоей матерью, — говорит. — Почему же ты не подписал им свое письмо?
Я рассказал про свое обещание матери; он спросил про нее, про деда… Но сам все время прислушивался, не идет ли стража. Вскоре послышались шаги, он отодвинулся от меня, сел, задумавшись, — подбородок на кулаке, — и говорит: «Не удивляйся ничему, что услышишь, и соглашайся со мной».
Когда ее ввели, вид у нее был такой, словно она хочет знать, по какому праву с ней так обращаются. Но глаза были насторожены.
Отец начал так:
— Медея, мне был знак с неба, что Элевсинский царь должен стать моим другом. Его враги — мои враги. Ты поняла?
Она вскинула свои черные брови.
— Ты царь; как ты решил, так тому и быть. Но ты притащил меня сюда, как преступницу, только для того, чтобы известить об этом?
— Нет, — говорит. — Мой друг царь, прежде чем попал в Элевсин, плавал на север, за Геллеспонт, в Колхиду, откуда ты родом. Он говорит, что на тебе кровавое проклятие: ты убила собственного брата. Что ты скажешь на это?
Теперь ее удивление было искренним. Она повернулась ко мне разъяренная, но я уже понял, что задумал отец.
— Все знают, — говорю, — что ты бежала на юг от мести.
— Какая ложь!.. — кричит…
Но я следил за ее глазами — в них мелькнул испуг. Что-то она там натворила.
А отец дальше:
— Он рассказал мне всё и подтвердил свои слова клятвой…
И тут она не выдержала:
— Раз так, то он — клятвопреступник! За всю свою жизнь он не покидал ни на шаг остров Пелопа. До нынешней весны!
Отец посмотрел ей в глаза.
— Откуда ты это знаешь?
Лицо у нее застыло глиняной маской.
— Ты мудрая женщина, Медея, — говорит, — тебя правильно прозвали. Ты гадаешь по камушкам, по воде и по руке человеческой; ты знаешь звезды, ты можешь создавать дым, что приносит истинные сны… Быть может, ты знаешь, кто его отец?!
— Этого я не видела, — говорит, — это было в тумане… — Но в голосе слышался страх. Да, мой отец был опытный судья и знал свое дело; мне было чему у него поучиться.
Он повернулся ко мне.
— Я не был уверен, — говорит. — Она могла сделать это по ошибке, от неверно понятого знамения. — Потом офицера стражи спрашивает: — Где вы ее нашли?
— На южной стене, государь. Сыновья ее были там же. Она хотела заставить их спускаться вместе с собой, но Скала крута, и мальчики боялись.
— Всё ясно, — сказал отец. — Тезей, я отдаю ее в твои руки. Делай с ней все, что сочтешь нужным.
Я подумал… Ведь пока она жива, где-то кому-то будет от этого плохо, это уж точно. И спрашиваю у отца:
— Какую смерть вы даете своим?
Вдруг она, словно змея, скользнула между стражниками — я видел, что они ее боятся, — и встала перед ним. И на их лицах была невольная близость, какая связывает мужчину и женщину, что делили одну постель. Она заговорила тихо:
— А ты не раскаешься в том, что делаешь сейчас?
— Нет, — больше он ничего не сказал.
— Подумай, Эгей! Пятьдесят лет ты прожил под проклятием Элевсина и знаешь тяжесть его. Ты уверен в выборе своем?
— Я выбирал с богами, — сказал он.
Она собиралась еще что-то сказать, но он закричал:
— Уберите ее отсюда!
Стража бросилась к ней; она повернулась к тому, что боялся ее больше остальных — видно было, — и плюнула ему на руку. С грохотом упало его копье, он схватился за кисть, побледнел как мертвый… Остальные сгрудились вокруг, вроде хватали ее, но прикоснуться боялись, а она тем временем кричала:
— Ты всегда был скупым, Эгей! А на что ты рассчитывал, заключая сделку с нами? Освободиться от проклятья — и заплатить за это жизнью чужого бродяги?!.. Золото за навоз — так ты думал?!..
Я не сразу сообразил, отчего у отца такой вид: словно извиняется передо мной за то что я это слышу. Потом понял: как раз этого он ждал, когда крикнул «уберите!..», этого не хотел. Я почувствовал холод в груди. Так вот оно что!.. Перламутровая птица, расписные стены…
Сколько раз я ласкал ее с тех пор, как она решила меня убить?
Отец взмахнул рукой, — приказать, — я остановил его:
— Подожди.
Стало тихо. Только стучали зубы у того, кто уронил копье.
— Медея, — спрашиваю, — а царица Элевсинская тоже знала, чей я сын?
Она пыталась угадать, какого ответа я жду, — по глазам было видно, — но я повзрослел за этот час и сумел себя не выдать.
— Сначала она просто хотела избавиться от тебя, как от кусачей собаки! — Ух, до чего злой стал у нее голос!.. — А когда у ее брата не получилось, она прислала мне кое-что про тебя, и я смотрела в чернильной чаше…
— Твоя жена предупредила меня, будто ты поклялся править в Афинах, — сказал отец. — Я бы рассказал тебе, только позже. Ты молод, и быть может любишь ее… — Я не ответил. Думал. — Она бы освободила меня от вины деда, заставив убить сына. Великодушной повелительнице вы служите, госпожа!
Я разобрался со своими мыслями и поднял глаза.
— Всё к лучшему, государь, — говорю. — Это развязывает мне руки. Теперь путь мой прям.
Тут она повернулась ко мне. Раскосые глаза сузились и сверкали, рот стал тоньше и шире… Я вдруг заметил, что отступил перед ней на шаг, — она и впрямь имела Власть.
— О да! — говорит. — Теперь твой путь прям, эллинский вор! Следуй же за длинной тенью, что бросаешь перед собой! Отец твой скоро это узнает, десять лет оторвал он от своей нити жизни, когда забрал у тебя кубок!..
За ее спиной у стражников отвисли челюсти, глаза вытаращились… Отец был бледен, но не забыл глянуть, как они восприняли эту новость… Но она — она меня сверлила глазами и чуть покачивалась, как змея, что завораживает добычу. Стражники были все вместе, а я стоял перед ней один.
— Тезей… — она говорила тихо, с хрипом, словно ее свистящий язык был раздвоен, — Тезей Афинский… Ты перешагнешь воду, чтобы плясать в крови. Ты будешь царем жертв. Ты пройдешь лабиринт сквозь огонь и сквозь тьму ты пройдешь его. Три быка ждут тебя, сын Эгея. Бык Земной, Бык Людской и Бык Морской…
До тех пор никто не накликал на меня бед. И я почуял, как это злое пророчество коснулось моей жизни холодом, как какие-то духи, чьих лиц я не мог различить, зловеще слетались ко мне. Я содрогнулся, как если бы Земная Змея укусила Солнце. Стражники отшатнулись, но отец шагнул вперед и загородил меня от нее.
— Ты хочешь легкой смерти? — говорит. — Если да — остерегись! И так наболтала слишком много…
Она не испугалась.
— Не подымай на меня руки, Эгей! — Говорила холодно и властно, словно знала тайну; словно секреты их близости служили ей основой колдовства вместо его волос или ногтей. — Ты думаешь обмануть Дочерей Ночи? Ты, со своим ублюдком? Он оплатит твой долг — да-да! — и с лихвой оплатит… Ты спас сына случайной ночи, который пришел к тебе чужим. Он же убьет дитя сердца своего, плод величайшей его любви!
Я был молод тогда. У меня уже были дети, в разных местах, но еще и мысли не появлялось о сыне — продолжателе рода, или о том что он нужен мне… Но — как стоишь ночью на краю обрыва и чувствуешь под собой глубину, которой не видно, — так на меня дохнуло издали чудовищной мукой. Ее нельзя себе представить, пока она не придет, а после нельзя о ней вспоминать.
Я стоял как потерянный. Стражники тихо переговаривались, отец, подняв руку, держал передо мной знак против зла — она хорошо подготовила этот момент. Вдруг она прыгнула меж них, как заяц, и выскочила на балкон. Слышался звук ее быстрых шагов, звон украшений на платье… Стражники гурьбой бросились к выходу — и застряли в нем: они не спешили ее догнать.
Я схватился за меч, потом вспомнил, что он на столе, взял оттуда… С балкона вбежал на шум часовой — наткнулся на стражу…
— Куда она побежала? — спрашиваю.
Он показал — я растолкал их и выбежал наружу. Было сыро и ветрено. С моря налетал холодный туман, покрывая росой плиты террасы, а луна была, как моток шерсти… Я вспомнил, что про нее говорили, будто она умеет вызывать ветер.
На балконе никого не было. Я вбежал в какую-то дверь, споткнулся, упал на какого-то старика, на кровать к нему, выронил меч… Он что-то закричал, я вскочил на ноги, подобрал меч… Смотрю — занавеска качается, вроде ее только что трогали, за ней отверстие в стене, и там лестница вниз уходит, а снизу вроде свет от лампы, колышется. Я — туда. И вот на повороте лестницы на стене — тень женщины. И рука поднята.
Это была она — без сомнения, — кто еще мог бы наслать на меня такие чары?.. А было так, что руки у меня похолодели, покрылись потом; колени ослабли, задрожали, сердце забилось — словно молот изнутри по ребрам бьет — и дыхание перехватило. Я едва не задохнулся. Кожа ползет по телу, по голове — сама ползает туда-сюда, и не дрожь это, а не поймешь что, — волосы дыбом!.. А ноги словно к полу прилипли — ну не могу с места двинуться, и все тут!.. Вот так я прирос к месту из-за того колдовства; внутри меня корчили судороги, — будто тошнило, — и так до тех пор, пока тень не исчезла. Но и тогда я не сразу смог побежать дальше, да и лестница была крутая… Когда добрался внизу до коридора и вышел через него во двор, там никого не было. Только холодный липкий туман клубился во тьме.
Я повернул назад. Наверху было шумно — старик, на которого янаступил, разбудил всех своими воплями: мол, из царских покоев выбежал громадный воин с обнаженным мечом в руке… Весь Дворец был в суматохе. Во двор высыпала целая толпа вооруженных придворных — кроме щитов, на них ничего не было, — они бы меня закололи, но отец вышел вовремя.
Вокруг чадили факелы, мокрые от тумана, в дыму кричали мужчины, кашляли старики, с воплями носились женщины, плакали дети… Наконец нашли глашатая, чтобы тот протрубил отбой и прекратил этот шум. Отец увел меня наверх на балкон — не для того, чтобы сказать всем, кто я, а чтобы знать наверняка, что меня не убьют. Он успокоил их, пообещал добрые новости назавтра… И еще сказал, что Медея совершила злодейство, противное людям и богам, и потому ворота должны быть заперты, пока ее не поймают.
Когда все немного успокоились, он спросил меня, не видел ли я колдунью, когда бежал за ней. Я сказал — нет. Ведь я на самом деле видел не ее а только ее тень, и говорить об этом мне не хотелось: очень злые чары напустила она на меня, а когда о таких вещах говоришь, то даешь им власть над собой. Целитель Аполлон, Убийца Тьмы, осенял меня с тех пор всю жизнь, и я никогда больше ничего подобного не испытывал.
2
Колдунью и ее сыновей так и не нашли, хоть мы обыскали весь Дворец, от крыши до подземной часовни, и даже в пещере Родового Змея смотрели. Проверили каждую трещину в скалах, даже колодец… В народе говорили, что Черная Мать прислала за ней Крылатого Змея и тот ее унес. Я не спорил; но знал, что она могла заколдовать стражу у ворот, так же как меня на лестнице.
На другой день отец приказал созвать народ. Мы стояли у окна и смотрели, как люди карабкаются зигзагами по крутому подъему, как расходятся по Скале наверху…
— Сегодня они идут налегке, — сказал отец, — тюки и дети не гнут им спин. Но они знают дорогу в крепость, — увы! — слишком часто им приходится сюда приходить. Как только Паллантиды узнают эту новость, мы снова увидим дым на Гиметтской горе. Ты только что вернулся с войны — готов ты к новой?
— Отец, — говорю, — для этого я и пришел. Ты единственный человек, который мне не лгал. От остальных я слышал детские сказки, а ты мне оставил меч.
Он выглядел так, будто вообще забыл, что такое отдых.
— А что они тебе говорили? — спрашивает.
Я рассказал. Старался так рассказать, чтобы он рассмеялся, — но он только долго смотрел на меня, и мне показалось, что он все еще горюет о прошедшей ночи. Под конец я сказал:
— Ты хорошо сделал, что доверил меня Посейдону. Он никогда не покидал меня. Когда я звал его, он всегда отвечал.
Отец быстро глянул на меня.
— Как? — спрашивает.
Я никогда ни с кем не разговаривал об этом, потому не сразу нашел нужные слова. Наконец сказал:
— Он говорит, как море.
— Да, — говорит, — это признак Эрехтидов. Когда я зачинал тебя, было так же.
Я ждал, но он ничего не сказал про другие случаи. И тогда я спросил:
— А как нас зовут тогда? В конце?
— Он вызывает нас на высокое место, — сказал отец, — и мы бросаемся к нему вниз. Мы уходим сами.
Когда он сказал, мне почудилось, что я знал это всегда.
— Это лучше, — говорю, — чем у землепоклонников. Человек должен уходить человеком, а не быком.
Тем временем народ внизу стоял уже плотной толпой. Голоса сливались в непрерывный гул, какой издают пчелы, когда повалишь их дерево, а запах их скученных тел доносился даже к нам наверх. Отец сказал:
— Пожалуй, пора нам выйти к ним.
Да, пора было, но руки мои будто приросли к подлокотникам кресла. Я люблю действовать сам, но чтобы что-то делали со мной… Отец будет говорить, а они все — разглядывать меня…
— Отец, — говорю, — а что, если они не поверят, что я твой сын? Изо всего, что они знают, — могут подумать, что мы просто заключили сделку: тебе мой меч против Паллантидов, мне твое царство в наследство. Что, если подумают так?
Он улыбнулся своей скупой улыбкой и положил руки мне на плечи.
— Трое из пяти так и подумают, — говорит. — Хочешь я расскажу тебе, что они будут говорить? Эта старая змея Эгей — он никогда не упустит шанса. Вот молодой царь Элевсина, который не хочет пойти по пути остальных, эллин… Парень в самый раз для него: Эгею он будет обязан жизнью, кто бы там ни был его отец. Ну что ж, похоже, что он хороший боец… Быть может, бог его прислал нам, кто скажет?.. Так пусть ему будет удача, а лишние вопросы ни к чему.
Рядом с ним я ощущал свою молодость и наивность. А он продолжал:
— Мой брат Паллант породил десять сыновей в браке и примерно столько же от дворцовых женщин, и большинство из них уже имеют собственных сыновей. Стоит им попасть сюда — они начнут кромсать Аттику, как стая волков павшую лошадь. У тебя есть великое преимущество, сын мой, и оно покорит тебе народ — ты один, а не пятьдесят. — Взял меня за руку и вывел наружу.
Он оказался прав: что бы они ни думали, но меня приветствовали как своего. Когда всё кончилось и мы снова были вдвоем, он улыбнулся.
— Начало хорошее, — говорит. — Дай срок, они увидят, что ты Эрехтид с головы до пят!..
Мы с ним уже не были чужими. Пожалуй, если бы он воспитывал меня с раннего детства, мы бы с ним плохо ладили; но теперь мы чувствовали расположение друг к другу, даже, пожалуй, нежность какую-то… Будто отравленный кубок связал нас.
Он распорядился о пире на тот вечер и о большом жертвоприношении Посейдону. Когда жрецы ушли, я напомнил:
— Не забудь Аполлона, государь. Ведь я еще не очищен от крови.
— Это подождет, — говорит, — завтра тоже будет день.
— Нет, — говорю. — Если ты ждешь войны, то времени у нас немного. Завтра я должен ехать в Элевсин, привести там дела в порядок.
— В Элевсин?! — Он казался ошеломленным. — Но сначала надо разделаться с Паллантидами… Они на нас нападут, я не могу тратить своих людей.
Этого я вообще не понял.
— Каких людей? — спрашиваю. — Тех двоих, что я привез с собой, мне вполне достаточно; я не привык, чтобы за мной слишком ухаживали.
— Подожди, — говорит, — ты что — не понимаешь? Ведь новости будут там раньше тебя…
Я все еще не знал, о чем он.
— Слушай, отец, — говорю. — Эта девушка, что я привез с собой, — можешь ты поручить своим женщинам позаботиться о ней? Я бы оставил ее в Элевсине, — не настолько я привязан к ее юбке, чтобы таскать с собой повсюду, — но царица невзлюбила ее и могла ей навредить. Она славная девушка, добрая и воспитанная, так что никаких хлопот тебе не доставит, а я скоро вернусь.
Он взъерошил себе волосы, как всегда делал, когда был взволнован:
— Ты что, с ума сошел? С нынешнего дня твоя жизнь в Элевсине не стоит выжатой виноградины! Когда утихомирим Паллантидов, можешь взять армию и добиваться своих прав там.
Я удивился. Но видел, что он волнуется за меня, — как каждый отец, — это меня растрогало.
— Они тебя изрубят у пограничной заставы, — говорит. — Неужели ведьма наслала на тебя безумие?
Он шлепнул себя по ноге — видно было, что растерян. Он был мудр и предусмотрителен и всегда знал, как поступить… А сейчас не знал, и это его тревожило. Мне стало нехорошо, что вот так, сразу, доставляю ему неприятности.
— Но послушай, — говорю, — отец. Молодежь спасла меня в битве. Она проливала кровь за меня, один из них погиб. Как могу я после этого напасть на них будто разбойник? Их Богиня выбрала меня — не знаю почему, но выбрала… Они — мой народ…
Отец принялся шагать по комнате. Он останавливался, говорил, снова шагал… Он был мудр; там, где я видел что-то одно, он видел десять разных возможностей… Но, думаю, нет! Пусть он умен и опытен — я должен держаться того, что знаю сам, и поступать, как должен. По чужим советам получится хуже, как бы ни были они хороши. Мудрость только от богов, не от людей.
— Я должен ехать, — говорю. — Благослови меня, отец.
— Ну что ж, — говорит, — во имя богов!.. Да будет нить твоей жизни крепче проклятья.
Так что в тот же день меня очистили в пещере Аполлона, на склоне Скалы под крепостью. В ее сумрачной глубине, где средь камней течет священный ручей, наполнили кувшин, чтобы смыть с меня кровь Ксантия. Потом у входа в пещеру, под ярким солнцем, мы закололи ему на алтаре козла. А вечером был великий пир, с музыкантами и фокусниками. Всё, что мы ели, было проверено. У отца не было специального раба, чтобы пробовал пищу; но кто готовил блюдо — тот сам и вносил его в Зал, а отец показывал, какой кусок ему положить. Мне этот обычай понравился: разумно и справедливо.
На другое утро я поднялся рано. Мы с отцом стояли на террасе, прохладной от росы, а на полях внизу лежала синяя тень от Скалы. Он выглядел как после бессонной ночи. Попросил меня подумать еще раз…
— Государь, — говорю. — Если бы я мог изменить свое решение хоть для кого-нибудь, я бы сделал это для тебя. Но я принял этих минойцев в руку свою; если я сбегу от них — это меня опозорит.
Мне было жаль его. Видно было, как хотелось ему попросту запретить мне ехать. Да, трудно ему было: едва встретил своего сына — а тот уже царь, ему не прикажешь… Но тут уж ничего нельзя было поделать.
— Еще одно, — говорю. — Еще одно, отец, пока я не уехал. Если мы когда-нибудь сможем объединить наши царства — я не хочу, чтобы дети их детей говорили про меня, что я завел их в западню. Они придут к тебе как родные или не придут вовсе. Обещай мне это.
Он посмотрел на меня сурово:
— Ты что, торгуешься со мной?
— Нет, государь… — Но это я из вежливости сказал, а потом подумал… — Да, — говорю. — Да, государь. Но в этом залог моей чести.
Он молчал долго. Так долго — я уж подумал, что он разозлился на меня. Потом вдруг: «Правильно, — говорит. — Ты ведешь себя как должно». И тут же поклялся передо мной, что так оно и будет. А потом говорит мне: «Знаешь, я так и вижу в тебе деда. Да, ты больше сын Питфея, чем мой; но это, пожалуй, и лучше: ты сам лучше от этого».
Конь уже ждал меня. Я сказал слугам, что им можно не спешить — выедут попозже… У меня такое чувство было, что одному ехать лучше.
У пограничной дозорной башни мне отсалютовали небрежно и тотчас пропустили… Это показалось странным, но, проезжая, я услышал, как один из них сказал за моей спиной: «Вот и верь этим россказням! Все афиняне трепачи».
Проезжаю я ближайший поворот дороги и вижу — вершина холма надо мной ощетинилась копьями. Меня все равно можно было расстрелять из луков, так что спешить смысла не было, — еду дальше спокойно. И вот на фоне неба появляется человек. Тут я понял, кто это, помахал ему рукой, а он зовет к себе тех, что позади, и начинает спускаться мне навстречу. Я остановился, подождал его…
— Приветствую тебя, Биас, — говорю.
— С возвращением, Тезей, — отвечает и кричит через плечо назад: — Ну, что я вам говорил? И что теперь вы скажете?
Товарищи спускались за ним следом, переругиваясь на ходу:
— Я в это никогда не верил, это все Скопал выдумал…
— Да? Но мы-то как раз от тебя узнали!
— Подавись ты своей брехней!..
Уже сверкнули кинжалы, — всё опять как в старые времена, — мне пришлось сойти с коня и растащить их, как подравшихся собак.
— Вы меня встречаете, словно дикари-горцы, — говорю. — Что с вами? За три дня превратились в мужланов? Ну-ка, сядьте. Дайте мне на вас посмотреть.
Сел и сам на обломок скалы, оглядел их…
— Послушайте-ка, одного не хватает. Где Гипсенор? Убил его кто?
Кто-то ответил:
— Нет, Тезей, он пошел предупредить войско.
Все замолкли. Потом Биас добавил:
— Пошел сказать, что ты один.
Я поднял брови.
— Когда мне будет нужно, чтобы войско меня встречало, я сам об этом скажу. С какой стати Гипсенор взялся командовать?
Биас долго мялся, кашлял… Потом.
— Видишь ли, — говорит, — они уже здесь, за этой горой. А мы — передовой отряд.
— Вот как? — говорю. — Прекрасно. Но с кем вы собрались воевать?
Все глядели на Биаса, а Биас зло глядел на остальных.
— Давай, — говорю. — Раз уж начал, то говори все.
Он сглотнул, и наконец собрался с духом:
— Послушай, Тезей. Вчера вечером из Афин принесли сплетню. Из нас ни один не поверил, но царица решила, что это правда… — Он снова споткнулся, помолчал… — Сказали, что ты предложил Элевсин царю Эгею за то, что он сделает тебя своим наследником.
У меня сердце сжалось. Теперь я понял, почему отец называл меня сумасшедшим. В первую очередь надо было подумать именно об этом — а мне и в голову не пришло!.. Я оглядел их всех, одного за другим, и их вдруг словно прорвало:
— Говорили, что тебя провозгласили с крепости…
— Мы все говорили, что они врут…
— До чего ж мы были злы на них!..
— Мы все поклялись, что, если это правда, мы убьем тебя на границе или умрем сами…
— Потому что мы тебе верили, Тезей!..
— Это не потому, что мы им поверили, но если бы…
Хорошо, что они разговорились, это дало мне время прийти в себя. На душе стало светлее… Не знаю, как это назвать, но у меня бывает такое чувство — сегодня вот удачный, счастливый день. Мне почти никогда не нужны были прорицатели, я чувствовал это сам — и вот это я почувствовал тогда.
— Всё это правда, ребята, — говорю. — Я на самом деле заключил договор с царем Эгеем. — Стало тихо, словно вокруг все разом умерли. — Царь Эгей поклялся мне, что никогда не обидит людей Элевсина, но будет обходиться с ними как с побратимами и кровной родней. А как по-вашему — какой еще договор может заключить отец со своим сыном?
Они изумленно смотрели на меня — пока только на меня, но начали переглядываться, — и я заговорил дальше:
— Я сказал вам всем, сказал в тот день, когда умер царь, что я ехал в Афины. Я не назвал имени своего отца, потому что клялся матери — а она у меня жрица, — клялся не произносить его в пути. Кто из вас нарушил бы такую клятву? Она дала мне меч отца, чтобы я показал ему, — смотрите, похож он на меч простого воина? Посмотрите на герб.
Отдал меч, они передавали его друг другу, разглядывали… Я при этом остался безоружен, но ведь все равно я был один против тридцати.
— Я сын Миртовой Рощи, которому оракул предсказал поменять ваши обычаи. Не думаете вы, что Богиня видела меня на пути моем? Когда мой отец проезжал через Трезену, чтобы плыть в Афины, — мать моя развязала свой пояс во имя Великой Матери. И так родился я. Вы думаете, Дарящая забывает? У нее тысяча тысяч детей, но она знает каждого из нас. Она знает, что я сын царя и дочери другого царя у эллинов, где правят мужчины. Она знала — я такой человек, что берусь за всё, что вижу вокруг себя. И все же она призвала меня в Элевсин и отдала прежнего царя в руку мою. Почему? Она — что сотворяет нас и призывает к себе, — она знает, чему должно свершиться. Мать меняет отношение к сыновьям, когда они взрослеют. И все имеет свой конец, кроме Вечноживущих Богов.
Они слушали меня не шелохнувшись, словно арфиста. Конечно, я не смог бы сделать это сам — что-то в воздухе было такое, что связывало меня с ними и давало силу говорить так. Певцы говорят, что это — присутствие бога.
— Я пришел к вам чужим, — говорю. — По свету бродит множество таких, что грабят, жгут города, угоняют скот, сбрасывают со стен мужчин и забирают себе их женщин… Так они живут, и если б один из таких заключил ту сделку с царем Эгеем, какую вы имели в виду, для него это было бы стоящим делом. Но меня воспитали в доме царей, где наследника зовут Пастырь Народа, — потому что его место между стадом и волком. Мы идем туда, куда призывает нас бог; и если он разгневан — мы его жертва. И мы идем на смерть сами, ибо богам угоден лишь добровольный дар. Так и я пойду за вас, если буду призван. Но только от бога приму я этот призыв, только перед ним буду отвечать за вас — ни перед кем из людей. И даже отец мой знает это и согласен с этим, такой договор я заключил в Афинах. Принимайте меня таким, каков я есть, — другим я быть не могу. Вы меня выслушали. Если я не царь для вас — я здесь один, а меч мой у вас. Решайте, действуйте — и пусть вас судит небо!
Я замолчал. Настала долгая тишина. Потом Биас поднялся, подошел к тому, у кого был мой меч, забрал у него и вложил мне в руку. Аминтор вскочил: «Тезей наш царь!» — и все подхватили его крик. Только Биас был мрачен. Когда крики смолкли, он встал возле меня и обратился к остальным:
— Да, сейчас вам легко кричать, но кто из вас выдержит проклятие? Думайте сразу. Чтобы нам не привести его в Элевсин и не бросить там умирать одного.
Парни зашептались.
— Что это за проклятие? — спрашиваю.
— Царица наложила холодное проклятие на каждого, кто тебя пропустит. — Это Биас сказал.
— Я не знаю холодного проклятия, — говорю, — расскажите.
Я просто подумал: мне легче будет, если знать в чем дело, — а они посчитали это лишним доказательством моей храбрости.
Биас сказал:
— Холодные чресла и холодное сердце, холод в битве и холодная смерть.
На миг у меня мороз пошел по спине, но тут я вспомнил — и давай хохотать.
— Послушайте, — говорю. — В Афинах по ее приказу меня пытались отравить. И тогда я узнал, что Ксантий тоже действовал с ее согласия. Однажды она сама бралась за нож — вот шрам, поглядите… Зачем бы ей все эти хлопоты, если бы действовало это ее холодное проклятье? А может, кто-нибудь от него на самом деле умер? Вы видели, как оно действует?
Они слушали поначалу угрюмо, но вот кто-то позади выкрикнул похабную шутку… Я ее и раньше слышал, но ее не произносили при мне. Все рассмеялись, зашумели… — вроде поверили мне. Только один, тот что не хотел охотиться на Файю, сказал:
— Все равно она прокляла одного два года назад — так он закричал и упал, как доска жесткий… А потом поднялся, встал лицом к стене — и ничего не ел и не пил, пока не умер.
— Почему ж нет? — говорю. — Наверно, он заслужил это проклятие, и ни один из богов не защитил его. Но я — слуга Посейдона. Быть может, на этот раз Мать послушается своего мужа; это не так уж и плохо — хоть для богинь, хоть для женщин…
Это им понравилось больше всего остального. Особенно тем, у кого матери были настроены против их девушек. И, забегая вперед, могу сказать, что они-таки женились потом, как хотели. В результате получилось, что примерно у половины оказались хорошие жены, а у половины плохие — как и при старом обычае… Однако управляться с плохими они могли уже лучше, чем прежде. Наверно, не без помощи бога получилось так, что Товарищи первыми встретились мне на пути. Я знал их, сразу видел их реакцию — с ними я смог нащупать подход… Ведь это была моя первая проба. И когда уже ехал дальше, навстречу войску, я понял то, чего уже не забываешь никогда: чем больше людей — тем легче их увлечь.
Они перекрыли дорогу в самом узком месте — между морем и отвесным склоном горы. Эта горловина — ключ Афинской дороги, там оборонялись с незапамятных времен, и поперек была выстроена грубая стена из камней и кольев. Теперь все, кто только мог на нее вскарабкаться, были наверху. Мне не пришлось уговаривать их выслушать меня: они же были элевсинцы и сгорали от любопытства, что я им скажу…
Я стоял на песке у спокойной воды пролива. В синем небе серебром сверкали чайки, тихий ветерок с Саламина шевелил перья на шлемах воинов… Всё было мирно вокруг — и я обратился к ним, как к собранию. Постарался вспомнить всё, что успел узнать о них за это время, — и заговорил. Ведь они уже не одно поколение жили бок о бок с эллинскими царствами. Они видели обычаи стран, где правят мужчины, и мучились завистью… Я это хорошо знал.
К концу моей речи уже видно было, что им хотелось бы быть на моей стороне. Но решиться было страшно.
— Послушайте, — говорю, — что это с вами? Неужто вы думаете, воля богов в том, чтобы женщины правили вами вечно? Давайте я расскажу вам, как это началось, хотите?
Они все притихли, снова приготовились слушать… Элевсинцы — любители всяких историй.
— Так слушайте, — говорю. — Давным-давно — в дни самых первых земных людей, что делали свои мечи из камня, — люди были темные, дикие, жили словно зверье на лесных ягодах… И до того они были глупые — думали, что женщины рожают сами по себе, по собственному волшебству и без помощи мужчин. Неудивительно, что женщины казались им полны силы и власти! Если она скажет «нет» — кто кроме него в проигрыше? А она своим волшебством может иметь себе детей, — от ветра там, от ручья… мало ли откуда? Она ничем не была ему обязана. И потому все мужчины пресмыкались перед ней, до одного какого-то дня. А в тот день… — И я рассказал им историю о мужчине, который первым узнал правду. Каждый эллин ее знает, но элевсинцам она была в новинку и рассмешила их.
— Ну вот, — говорю, — это всё было давным-давно; теперь все мы знаем, что к чему. Но, глядя на иных из вас, этого не скажешь; вы цепляетесь за свой страх, будто он вам предписан небом!..
Я снова почувствовал, как что-то связало нас. Будто пуповина, наполненная общей кровью. Но певцы говорят — это Аполлон. Когда призываешь его, как должно, — он связывает слушателей золотой нитью, а конец ее отдает тебе в руки.
— Всему есть мера, — говорю. — Я пришел сюда не затем, чтобы оскорблять Богиню, все мы ее дети. Но чтобы сотворить ребенка, нужны и женщина и мужчина, — а чтобы сотворить мир, нужны и богини и боги!.. Великая Мать приносит зерно. Но не смертный мужчина, обреченный исчезнуть, оплодотворяет ее, а семя бессмертного бога!..
Вот если мы сыграем им свадьбу — это будет представление, вот это будет праздник!.. А почему бы и нет? Представьте себе — бог из Афин идет к ней со свадебными факелами… Да, идет к ней; ведь она — Велика! А факелы — это ваш обычай; красивый, прекрасный обычай!.. И Его ведут к Ней в священную пещеру, а оба города пируют и поют… Вместе!.. Какой прекрасный союз!..
Я не собирался этого говорить, это как-то само пришло. Они любили разные предзнаменования, любили смотреть, как мойра управляет людьми, — я знал это, — быть может, потому всё это и пришло мне в голову… Но когда у тебя счастливый день — бог идет рядом с тобой, так что наверно он мне послал эту мысль. Пришло время перемен, а я был его орудием. Ведь потом я на самом деле устроил для них этот обряд. Точнее — послал за певцом, который приходил к нам в Трезену; я не знал никого, кто смог бы лучше него управиться с этим. Он говорил со жрицами, с самыми старыми, молился Матери, советовался с Аполлоном — и сделал этот обряд таким прекрасным, что с тех пор никому не хотелось его менять. Он сам говорил, что это было лучшим его произведением за всю его жизнь, и даже если он ничего больше не создаст — умрет спокойно.
Он был жрецом Аполлона-Целителя и, наверно, видел грядущее. Ведь старая религия дорога Дочерям Ночи, им не нравятся перемены, как бы ни нравились они всем остальным. Так что их рука поразила его, как и меня потом.
Его убили во Фракии. Там, несмотря на все его старания, старая вера сохранилась… Даже в Элевсине она умирает очень медленно, и пережитки ее живучи. Каждый год, в конце лета, вы можете на склонах гор увидеть толпы горожан и крестьян: народ собирается посмотреть представление, а мальчишки-козопасы разыгрывают их старые предания про смерть царей.
Но это все пришло потом. А в тот раз воины стали швырять в воздух шлемы, размахивали копьями, просили меня вести их в город… И вот я снова был в седле, вокруг меня — Товарищи; а следом — всё элевсинское войско. С песнями, с криками: «Тезей наш царь!»
Я мог бы поехать прямо ко Дворцу, но выбрал нижнюю дорогу: к священной пещере и к площадке для борьбы.
Все женщины высыпали нам навстречу, трещали, спрашивали у мужчин, что случилось… Склоны вмиг заполнились народом, как в тот день что я пришел сюда впервые… Я подозвал двоих из самых влиятельных мужчин и сказал им:
— Прикажите царице спуститься ко мне. Если захочет, пусть придет сама; не захочет — приведите силой.
Они ушли наверх, но на вершине лестницы их остановили жрицы. Будь я постарше — я бы знал, что двоих будет мало. Послал к ним еще четверых, для поддержки духа… Они растолкали жриц и вошли внутрь. Я ждал. Я недаром выбрал для встречи именно это место: она должна была спуститься по этим ступеням, как спускался ко мне Керкион; как спускался к нему предыдущий царь; как год за годом — и несть им числа — шли по этой лестнице мужчины во цвете юности, завороженные, как птицы змеиной пляской, лишенные сил, чтоб обреченно бороться здесь и умереть.
Вскоре появились мои люди, но они шли одни. Я рассердился: ведь если мне придется пойти к ней наверх, представление не состоится… Но подошли они ближе — гляжу, бледные все. А старший говорит:
— Тезей, она умирает. Принести ее сюда или не надо?
В народе стали передавать друг другу эту новость. Слышно было, как она расходится вокруг, и хоть все говорили тихо — казалось, будто скамьи таскают в пустом зале, так это гремело.
— Умирает? — спрашиваю. — Что с ней? Она больна? Или кто ее ранил? Или руки на себя наложила?
Они дружно закачали головами, но не заговорили разом. Элевсинцы любят острые моменты и знают, как их разыгрывать. Повернулись к старшему, у него был прекрасный звучный голос.
— Ни то, ни другое, ни третье, Тезей. Когда ей сказали, что мы ведем тебя с границы домой как великого царя, она изорвала на себе волосы и одежды, и спустилась к Богине, и кричала, чтобы та послала знак. Что за знак был ей нужен, никто не знает, но трижды кричала она и била руками в землю — и знака не было. Потом она поднялась и принесла молоко и поставила его для Родового Змея, но тот не вышел за ним. Тогда она позвала флейтиста, и тот заиграл музыку, под какую танцуют змеи, и наконец Змей вышел. Он слушал музыку и уже начал танцевать — и тут она снова возопила к богине и взяла его в руки… И он впился зубами ей в плечо и скользнул назад в свою нору, быстро, словно вода в кувшин… А она вскоре упала — и теперь она умирает.
Вокруг было невероятно тихо, все слушали его.
— Принесите ее сюда. Если я войду к ней, то потом скажут, что я ее убил. Пусть народ будет свидетелем. — Все молчали, но я чувствовал общее одобрение. — Положите ее на носилки. Будьте как можно осторожнее с ней. На случай, если ей что понадобится, пусть при ней будут две женщины ее, остальных задержите.
И вот я снова ждал. Все вокруг — тоже; но элевсинцы терпеливы, когда будет на что посмотреть. Наконец наверху, на террасе, показались носилки. Их несли четверо мужчин, рядом шли две женщины, а позади — воины едва сдерживали их, скрестив копья, — толпа жриц. Все в черном, с распущенными волосами, лица в крови, причитают в голос… Лестница была не слишком крута для носилок — каждый год, с незапамятных времен, по ней сносили вниз мертвого царя, на погребальных.
Они сошли вниз, поднесли ее ко мне и опустили носилки на землю. Из кизила были носилки, позолоченные, и с ляписом.
Ее лихорадило, дышала тяжело и быстро, тяжелые волосы упали и разметались по земле. Лицо было белое-белое, как свежая слоновая кость; под глазами зеленые тени, губы посинели… Она покрывалась холодным потом, и женщина то и дело вытирала ей лоб, а полотенце было запачкано краской с ее глаз и губ. Если бы не волосы, я б ее не узнал; она казалась старше моей матери.
Она хотела мне большего зла, чем те мужчины, которых я скормил стервятникам, трупы которых с удовольствием раздевал на поле после боя… И все же ее агония потрясла меня. Когда пущены факелы в Большом Зале царского дома, и занимаются пламенем расписные стены, и крашеные колонны, и занавеси, тканные на станках, и огонь рвется вверх к крашеным стропилам, и с ревом рушится пылающая крыша — тут есть от чего содрогнуться; но еще больше потряс меня в тот день ее вид. Я вспомнил утреннее небо в высоком окне, и ее смех возле полуночной лампы, и гордую поступь под балдахином с бахромой…
— Мы все в руке мойры, — сказал я ей. — Мы все в ее руке со дня рождения. Ты выполнила свой долг, но и я свой.
Она пошевелилась на носилках, потрогала горло… Потом заговорила, хрипло, но достаточно громко чтоб ее слышали. Она ж была элевсинка!..
— Мое проклятие не сбылось. Ты пришел с предзнаменованием… Но я хранительница Таинства — что мне было делать?
— Перед тобой был трудный выбор, — сказал я.
— Я выбрала неверно. Она отвернула лицо свое.
— Конечно, — говорю, — пути богов неисповедимы. Но не надо было прилагать руку отца моего к моей смерти.
Она приподнялась на локте и закричала:
— Отец — это ничто! Мужчина — ничто!.. Это было, чтоб наказать вас за гордыню!..
Она снова упала на носилки, одна из женщин поднесла ей ко рту вино. Выпила, закрыла глаза… Отдыхала. Я взял ее руку — рука была холодная и влажная. Она заговорила снова:
— Я чувствовала, что это подступает. Керкион перед тобой позволял себе слишком много. Даже мой брат… А потом пришел эллин!.. Из рощи миртовой придет птенец кукушки… Тебе на самом деле девятнадцать, как ты говорил?
— Нет. Но я вырос в доме царей.
— Я противилась воле Ее, и Она втоптала меня в прах.
— Время несет перемены, — говорю. — Одни лишь счастливые боги избавлены от этого.
Она резко дернулась — из-за яда не могла лежать спокойно… Старшая ее дочь, смуглая девочка лет восьми-девяти, проскользнула меж стражников, с плачем бросилась к носилкам, ухватилась за нее: «Мамочка, ты правда умираешь?!..» Она сдержала судороги, погладила девочку по голове, сказала что скоро поправится, и приказала женщинам увести ее. Потом сказала:
— Отнесите меня на быстрый корабль, отведите туда детей — дайте мне уехать в Коринф. Там моя родня позаботится о них. А я хочу умереть на священной горе, если только успею туда добраться.
Я отпустил ее, а на прощание сказал:
— Хоть жертвоприношение Матери я изменю, но никогда не стану искоренять культ ее. Все мы ее дети.
Она открыла глаза.
— Дети!.. О, мужчины как дети!.. Хотят всего за ничто!.. Жизнь будет умирать, всегда, и этого тебе не изменить…
Носилки подняли и понесли, но я вытянул руку — остановил. Наклонился к ней и спросил:
— Скажи, пока не ушла, ты носила моего ребенка?
Она отвернулась.
— Я приняла зелье, — говорит. — Он был с пальчик всего, но уже было видно, что это мужчина… Значит, я правильно сделала. На сыне твоем — проклятие.
Я махнул носильщикам, и они пошли к кораблям. Женщины шли за ней. Я окликнул их: «Возьмите ей ее драгоценности и всё, что она сочтет нужным!» Они засуетились, забегали, позабыв свою торжественную скорбь, взад-вперед замелькали их черные ризы, будто в разворошенном муравейнике… А по склонам вокруг, словно сороки, стрекотали горожанки. У берегового народа все женщины и девушки всегда любят царя — понятная традиция: ведь царь всегда молод и красив… И меня они все любили, и теперь не знали как им быть.
Я стоял всё там же и глядел вслед носилкам. И тут подходит ко мне огромная седая баба с увесистым золотым ожерельем на шее… Подходит свободно, как все минойки подходят к мужчинам, и говорит:
— Она тебя надула, малыш, она не умрет. Если тебе нужна ее смерть — задержи ее.
Я не стал спрашивать, за что она так ненавидит царицу.
— На лице ее смерть, — говорю. — Я видел такое не раз…
— О, конечно, ей плохо сейчас, — говорит. — Но в молодости она ела похлебку из змеиных голов и давала себя кусать молодым змеям, чтобы привыкнуть к яду. Таков закон святилища. Она помучается еще несколько часов, а потом сядет и будет смеяться над тобой.
Я покачал головой.
— Оставим это богине. Не дело встревать меж госпожой и служанкой.
Она пожала плечами:
— Как хочешь… Но тебе нужна новая жрица. Моя дочь из царского рода и украсит любого мужчину. Смотри — вот она.
Я вытаращил глаза. Едва не рассмеялся вслух, глядя на бледную послушную девочку и на ее решительную мамашу, уже готовую править Элевсином. Отвернулся… По лестнице еще метались вверх и вниз женщины из свиты царицы. Лишь одна из них стояла у той расщелины, глядя в нее на прощание. Это была она — та, что лежала там в свадебную ночь, оплакивая Керкиона.
Я поднялся к ней, взял ее за руку, повел на открытое место. Она конечно помнила, как давала мне заметить ее ненависть, — и теперь пыталась вырваться, боялась. Я обратился к народу:
— Эта женщина — одна из всех вас! — не радовалась крови убитых людей. Вот ваша жрица! Я не стану лежать с ней, — лишь божье семя оплодотворяет урожай, — но она станет приносить жертвы, и читать знамения, и будет ближе всех к Богине. — И спрашиваю ее: — Ты согласна?
Она долго с изумлением смотрела на меня, потом сказала, просто, как ребенок:
— Да. Только я никогда никого не стану проклинать. Даже тебя.
Так это у нее получилось — я улыбнулся. Однако с тех пор это вошло в обычай: никогда никого не проклинать.
В тот же день я назначил своих мужчин — из тех, кто были решительно против женского владычества, — назначил на ключевые посты в государстве. Некоторые из них порывались убрать женщин сразу отовсюду. Я хоть и был склонен к крайностям, по молодости, но это мне не понравилось. Мне не хотелось, чтобы все они объединились и начали колдовать против меня втайне. Двух-трех из них, что радовали глаз, я попросту хотел видеть около себя; но и не забывал Медею — а она одурачила такого умницу, как мой отец… А еще были там старые бабульки, которые вели хозяйство уже по пятьдесят лет и имели гораздо больше здравого смысла, чем большинство воинов; тех в основном интересовало их положение, а не польза дела. Но кроме своего колдовства эти старушки имели в распоряжении и многочисленную родню, которая им подчинялась; оставить их всех — значило оставить всё как было… Потому — обмыслив всё, что я успел увидеть в Элевсине, — я назначил на высокие посты самых вредных баб; тех, что находили удовольствие в унижении других. И это сработало: они прищемили своих сестер так, как мужчины на их месте не смогли бы. А через пару лет на них накопилось столько обид — элевсинские женщины умоляли меня убрать их и назначить на их место мужчин. Так что всё кончилось ко всеобщему благу.
На второй вечер своего царствования я устроил великий пир для главных мужчин Элевсина. В царском Зале. Мясо было из моей доли военной добычи, выпивки тоже хватало; воины радовались обретенной свободе и пили за грядущие светлые дни. Что до меня — победа сладка на вкус, и нужна чтобы не быть собакой чьей-то, чтобы вести мужчин за собой… Но на пиру явно не хватало женщин; без них он превратился в грубую мужицкую попойку. Все перепились до одури: швыряли вокруг кости и объедки, выставляли себя дураками — хвастались, кто что может в постели… Если бы рядом были женщины, ни один бы не рискнул: ведь засмеяли бы! Это было больше похоже на бивачный ужин, чем на пир в тронном Зале, так что больше я таких пиров не устраивал. Но в тот раз он мне помог.
Я позвал арфиста, и тот, конечно же, стал петь об Истмийской войне. У него было время сделать хорошую песню, и песня у него получилась. Мои гости уже были полны собой и выпитым вином, когда же добавилась еще и песня — всем захотелось новых подвигов. И тут я рассказал им о Паллантидах.
— У меня есть сведения, — говорю, — что они готовятся к войне. Если позволить им завладеть Афинской крепостью — от нее и до самого Истма никому не будет покоя. Они раскромсают Аттику, как волки павшую лошадь, а те кто останется голоден — обратят свои взоры на нас. Если эта орда ворвется в Элевсин, здесь не останется ничего: нивы повытопчут, овец перережут, дома пожгут… Ну а девушек наших — сами понимаете. Нам отчаянно повезло, что мы можем сразиться с ними в Аттике, а не на своих собственных полях. В их логове, на мысе Суний, нас ждет богатая добыча, и я ручаюсь вам, что нас не обделят. А после победы вы услышите, как афиняне будут говорить: «О! Эти элевсинцы — воины! Дураки мы были, что не принимали их всерьез. Если таких мужей мы сможем привлечь себе в союзники — это будет самым великим делом за всю историю Афин!..»
На следующее утро, на Собрании, я говорил лучше. Но это никому уже не было нужно — настолько они были опьянены, настолько взбудоражены своей победой над женщинами… Пусть бы сам Аполлон или Арес-Эниалий держали перед ними речь — она бы не понравилась им больше, чем моя.
И когда через два дня отец прислал известие, что на Гиметтской горе дым, — я вызвал дворцового писца, продиктовал ему и запечатал свое письмо царским перстнем. Оно было коротко:
«Эгею, сыну Пандиона, от Тезея Элевсинского.
Достопочтенный отец, да благословят тебя все боги на долгую жизнь! Я выхожу на войну и веду мой народ. Нас будет тысяча».
3
Война в Аттике тянулась почти месяц; самая долгая война со времени Пандиона, отца моего отца. Все знают — мы вышвырнули Паллантидов из страны. Мы взяли южную Аттику, разрушили их город на Сунийском мысе и поставили там алтарь Посейдона; такой высокий, что его видно с кораблей, с моря. И Серебряную Гору — она там рядом — мы тоже захватили, вместе с рабами что работали в руднике; и еще пятьдесят больших слитков серебра. Так что царство увеличилось вдвое, и трофеи были богатейшие. Элевсинцы получили ту же долю, что и афиняне, так что вернулись домой со скотом, с женщинами, с оружием… — всего было вдоволь. Я мог гордиться щедростью отца. Медея в тот раз правду сказала, что он прослыл скупым, но ведь ему все время приходилось думать о будущей войне… А в тот раз он со мной не поскупился.
Ту зиму мы прожили отменно: перед войной успели собрать свой урожай, а в войне захватили хлеб Паллантидов. Когда в Афинах начались праздники, элевсинцы приехали туда в гости — много приехало, — и много было заключено дружеских и брачных союзов… Я принес царству безопасность и богатство, потому в Элевсине считали, что Богиня благоволит ко мне; а с помощью отца я стал приводить в порядок внутренние дела. Иногда я, конечно, поступал по-своему, потому что лучше знал своих людей; но отцу об этом не говорил.
Я много времени проводил с ним в Афинах: слушал, как он ведет судебные дела. До того эти афиняне были склочны — я, право, переживал за него. Крепость держалась с незапамятных времен, но по равнине вокруг в прошлые годы прокатились волны разного народа; и береговые там были и эллины… Так что в Аттике было намешано не меньше, чем в Элевсине, но в Элевсине перемешалось, а там — нет. Повсюду были горстки людей со своими вождями, что вели себя как царьки; со своими не только обычаями, — это нормально, — но и со своими законами… Ближайшие соседи никогда не могли договориться, что справедливо а что нет… Сами понимаете, кровная месть там была не реже свадеб, и ни один пир не проходил без того, чтобы кого-нибудь не убили: ведь враги специально ждали случая друг друга подстеречь, а на праздниках люди себя показывают. Когда они доходили до грани межродовой войны — вот тогда только приходили они к отцу, чтобы он их рассудил, с историей двадцатилетних взаимных обид. Не мудрено, что лицо его было изрезано морщинами и руки тряслись.
Мне казалось, что он состарился до срока. И хоть он был мудрый человек и все эти годы удерживал свое царство без меня — теперь мне отовсюду чудилась опасность для него; я чувствовал, что если с ним что-нибудь случится — вина падет на меня: значит, я плохо его берег. Так я чувствовал, не знаю почему.
Однажды он вернулся из зала суда смертельно уставший, и я сказал ему:
— Отец, все эти люди пришли в страну по собственной воле, все они знают, что ты их Верховный Царь, — неужели они не могут понять, что они больше афиняне, чем флияне, там, ахарняне и так далее? Мне кажется, война была бы вдвое короче, если бы не их грызня.
— Но они любят свои обычаи, — сказал отец. — Если я отберу хоть один, они решат, что я подыгрываю их противникам, и станут помогать моим врагам. Аттика не Элевсин.
— Я знаю, государь. — Я задумался. Я тогда поднялся к нему выпить горячего вина у огня; белый пес толкал мне руку — он всегда выпрашивал полизать гущи… Потом говорю: — А ты никогда не думал, государь, собрать вместе всех людей благородной крови? Есть же у них общие интересы: удерживать свои владения, сохранять порядок, собирать свою десятину… В совете они могли бы договориться о нескольких законах для общего блага. Ремесленники тоже — им нужна честная плата за их труд, чтобы ее не сбивали настолько, что лишь под угрозой голодной смерти можно на нее согласиться… И крестьянам нужен какой-то закон о границах, о выпасах… об общем использовании горных пастбищ… Если эти три сословия договорятся о каких-то своих законах — это объединит их и вырвет из клановой общности. И тогда, если вождь поспорит с вождем или ремесленник с ремесленником, они придут в Афины. И со временем установится общий закон.
Он тяжко вздохнул и устало покачал головой:
— Нет-нет! Там, где раньше был один повод для ссоры, появятся два… Ты хорошо это придумал, сын мой, но это слишком против обычая.
— Хорошо, государь, это против обычая. Но вот сейчас, когда все взбудоражены новыми землями на юге, — сейчас они примут это легче, чем через десять лет. Летом будет праздник Богини — ее все чтут, хоть под разными именами, — мы можем устроить какие-нибудь игры в честь победы и превратить их в новую традицию, в новый обычай, и все будут собираться на них. Таким образом ты их подготовишь…
— Нет, — говорит. — Давай хоть раз насладимся миром, отдохнем от крови… — Голос его стал резче, и я пожалел, что беспокою его, когда он так устал. Но в голове у меня, как птица в клетке, билась мысль: мы транжирим счастливое время, упускаем великую возможность… Когда придет мой день, я буду расплачиваться за это.
Отцу я больше ничего не говорил — он был добр ко мне, и достойно наградил моих людей, и оказывал мне почести…
У него в доме появилась новая девушка — тоже из военной добычи, — темноволосая, яркая, с огромными синими глазами. В крепости на Сунии она принадлежала одному из сыновей Палланта. Я приметил ее среди пленниц и собирался выбрать себе, когда начнут дележ добычи. Никак не думал, что отец станет выбирать себе женщину. Но он увидел ее и выбрал — прежде всего остального. Медеи больше не было, и возле него вообще не осталось женщины, достойной царского ложа, — но я, по молодости и недомыслию, был не только удивлен, а даже шокирован как-то, когда это случилось. Неужто он должен был выбрать себе лет под пятьдесят? Конечно же я скоро одумался. У меня была моя Истмийская девочка Филона — вполне хорошая девушка, — стоила десятка таких, как та… А та оказалась потаскушкой: вечно стреляла глазками по сторонам. Отцу я не стал говорить. Но однажды, помню, на террасе она выбежала из боковой двери и налетела на меня. Попросила у меня прощения — а сама так прижалась ко мне, что платье было уже лишним… Еебесстыдство меня возмутило. Отшвырнул ее так — упала бы, если б не ударилась о стену. Потом подтащил ее к парапету и перегнул наружу, лицом вниз.
— Смотри, — говорю, — смотри, сука глазастая! Еще раз поймаю, что пытаешься обмануть отца или хоть как ему вредишь, — туда тебе лететь!
Она уползла, чуть живая от страха, и с тех пор вела себя скромней. Так что не стоило его этим расстраивать.
То в Афинах, то в Элевсине, то верхом по всей Аттике — повсюду пришлось наводить порядок после войны. Так прошла зима. С гор побежали ручьи, на мокрых берегах запахло фиалками… На зеленя повадились олени — я собрался на охоту. Отец очень мало двигался и почти не бывал на воздухе, потому я уговорил его поехать со мной. Мы были у подножия Ликабетта и ехали сквозь сосновый лес вверх по каменистому склону, когда его лошадь споткнулась и сбросила его на скалу. Какой-то олух-охотник поставил там сеть и бросил ее, а сам ушел. Теперь он поднимался к нам и извинялся — так, будто разбил кухонный горшок, а не едва не убил царя. Отец здорово ушибся, и я помогал ему, но ради этого наглеца поднялся на ноги — и вбил ему в глотку несколько зубов, чтоб лучше помнил. И сказал на прощание, что он дешево отделался.
Однажды отец говорит:
— Слушай, скоро корабли снова выйдут в море, и женщины смогут путешествовать. Что если я пошлю за твоей матерью? Она будет рада повидать тебя, а мне хотелось бы снова увидеть ее.
Я видел — он следит за моим лицом. И понял, что говорит он не всё что думает, — он был осторожный человек… Он хотел сделать ее царицей Афин, и ради меня тоже. Когда он ее видел, она была моложе, чем я теперь… «Когда он ее увидит, — думаю, — он наверняка снова захочет ее. Если только она не больна и не слишком устала — кожа у нее, как у девушки, и ни одного седого волоса…» А я так долго мечтал об этом — увидеть ее в почете в доме отца! Вспомнил, как я смотрел на нее совсем маленьким: как она купается или примеряет свои драгоценности — смотрел и думал, что только бог достоин ее обнять…
— Она не сможет поехать, — говорю. — Не сможет, пока Змей Рода не проснется в новой коже, пока она не принесла весенней жертвы и не приняла приношений. У нее очень много дел весной, только после них она сможет приехать.
Так что отец не стал посылать: было слишком рано.
Помню, как он меня перепугал, примерно в те дни. Угол верхней террасы там прямо над отвесом скалы. Когда смотришь вниз — дома такие крошечные, будто ребятишки слепили их из глины, а собаки, что греются на крышах, не больше жуков. Половину страны видно оттуда, до самых гор. И вот однажды вижу — отец облокотился на парапет, а возле него в каменной кладке трещина. Я сперва дышать не мог. Потом бросился к нему, бегом, схватил, оттащил назад… Он не заметил, как я подскочил, изумился, в чем дело, мол? Я показал трещину. Он рассмеялся — говорит, она всегда там была… Но я все-таки послал каменщика починить то место. Сам послал на случай, если он забудет. Но и после, всё равно, как увижу что он там стоит — мне нехорошо делалось.
Отцу хотелось, чтобы я почаще бывал в Афинах: сидел бы с ним в Зале или ходил среди народа. Я ничего не имел против; разве что это уводило меня из Элевсина, где я мог действовать по своему усмотрению. В Афинах я приглядывался — и порой видел, что люди, в которых я сомневался, вознесены слишком высоко, а другие, более способные, поставлены ниже, чем надо бы… Порой какую-нибудь элементарную мелочь раздували в проблему… У отца было слишком много забот — не было возможности разобраться во всем, а теперь он уже привык к тому, что было. Когда я ему говорил что-нибудь, он улыбался и отвечал, что молодые всегда готовы построить Вавилонские стены за один день.
Во Дворце была женщина, которая принадлежала его отцу еще до его рождения. Ей было больше восьмидесяти, так что работой ее не утруждали — она смешивала масла и благовония для ванны, сушила пахучие травы. Однажды — я в ванне сидел — подходит она ко мне, потянула за волосы и говорит:
— Вернулся, малый! Куда ты все время исчезаешь?
Она всегда позволяла себе разные вольности, и никто на нее не сердился за это: старушка ведь!.. Я улыбнулся:
— В Элевсин, — говорю.
— А чем Афины не хороши?
— Афины? — говорю. — Отчего же, всем хороши.
Отец дал мне две прекрасные комнаты, их стены заново расписали — там были конные воины и несколько очень хороших львов; такие львы, что я сохранил их и поныне.
— Афины замечательный город, — говорю, — но в Элевсине у меня работа, и я должен ее делать.
Она сняла мою руку с края ванны и повернула ладонью вверх.
— Беспокойная рука. За всё берется, ничего не оставляет в покое… Погоди, Пастырь Народа, погоди немного, боги пошлют этой руке много работы. Имей терпение со своим отцом. Он долго ждал возможности сказать: «Вот мой сын» — долго ждал и теперь хочет прожить тридцать лет за год… Будь с ним терпелив, у тебя много времени впереди.
Я выдернул руку.
— Ты что мелешь, старая сова?! Ему еще тридцать лет надо прожить, чтобы стать таким, как ты, а ты еще десяток проживешь. Пока боги пошлют за ним — я сам, быть может, стану таким, как он сейчас. Ты что — зла ему желаешь? — Потом мне стало жалко ее. — Конечно, — говорю, — не желаешь. Но не стоит тебе болтать, хоть ты и не думаешь ничего плохого.
Она глянула на меня из-под опущенных век, пристально так…
— Не тревожься, Пастырь Афин, ты дорог богам. Боги тебя охранят.
— Меня? — Я удивился. А она уже исчезла. Она была самой старой во Дворце и уже выживала из ума; так всем казалось, и я тогда тоже так думал.
Весна расцветала — на черных виноградных лозах пробились нежно-зеленые почки, закуковали кукушки в лесах… И отец однажды сказал:
— Сын мой, ведь ты, наверно, родился примерно в это время года.
— Да, — говорю, — во второй четверти четвертого месяца.
Так говорила мать.
Он ударил кулаком по ладони…
— Слушай, так что же мы?! Я должен устроить пир в твою честь. Если бы мать была здесь!.. Но мы не можем ее ждать: все Афины знают, когда я был в Трезене; если мы не празднуем твое рождение в этом месяце, значит ты не мой сын. Да, конечно ж не мудрено, что я забыл: ты повзрослел раньше времени, а я не знал тебя в детстве… Это будет заодно и твой победный пир.
Я подумал о матери — и говорю:
— Мы можем принести жертвы в день рождения, а пир устроить позже, когда мать приедет.
— Нет, — говорит, — это не годится. Тогда подойдет время дани, и народу будет не до праздников.
С этой войной, и со всем что произошло за последнее время — я забыл, какую дань он имел в виду; и его спросить забыл, задумавшись о матери.
В тот день я поднялся рано, но отец был уже на ногах. Жрец Аполлона причесал меня и обрил щеки и подбородок. Оказалось, что на лице много волос, больше чем я думал, — было что посвятить Аполлону, — просто светлые, обожженные солнцем, они были почти незаметны.
Отец, улыбаясь, сказал, что хочет мне показать кое-что, и повел меня к конюшне. Конюхи распахнули ворота — за ними стояла колесница. Новая, из темного гладкого кипариса, с инкрустацией слоновой кости, с серебряными ободами на колесах… Чудо что за колесница! Отец рассмеялся:
— Хороша? — спрашивает. — Проверь чеку на осях!..
Уж на этот раз там точно был не воск.
Это был такой подарок — я и мечтать о таком не мог! Я опустился на одно колено, прижал его руку себе ко лбу… А он говорит:
— Зачем такая спешка! Ты же еще не видал коней — вдруг не понравятся?
Какие были кони! Вороные оба, оба с белыми звездами на лбу, сильные, гладкие… Сыновья северного ветра, точно.
Отец радостно потирал руки:
— Мы их заводили сюда осторо-о-ожненько!.. Как Гермес Хитроумный уводил бычков Аполлона. Колесницу — когда ты был в Элевсине; а коней — нынче утром, пока ты спал.
Очень это было трогательно, как отец старался — готовил мне сюрприз, как ребенку.
— Отец, — говорю, — их надо вывести. Заканчивай свои дела пораньше — я буду твоим колесничим.
Так мы и договорились: после обрядов едем в Пайонию, что под Гиметтской горой.
На склонах вокруг храма Аполлона нас ожидала большая толпа. Кроме афинских вождей на праздник были приглашены и все влиятельные люди Элевсина; а уж Товарищи — само собой там были. Когда жрец стал изучать внутренности убитой жертвы — а он долго этим занимался, — что-то случилось. Среди афинян пошел какой-то гул, — будто новость какую-то передавали друг другу, — и все мрачнели при этом, словно туча солнце закрывала. Я вообще-то такой — мне всегда надо знать, что происходит вокруг; но в тот момент не мог уйти со своего места и спросить, а потом мы пошли приносить жертвы Посейдону и Матери в домашнем святилище… Когда все обряды были закончены, я хотел поговорить с отцом, но он куда-то ушел… Я решил, что он пошел заканчивать свои дела на тот день, как мы договорились.
Я переоделся в тунику возничего, обулся в кожаные поножи, завязал себе волосы на затылке… Потом пошел к коням, дал им соли, разговаривал с ними, ласкал, чтоб запомнили хозяина… Слышно было, что во Дворце какой-то переполох, но в праздничный день это естественно… Там, в конюшне, был молодой конюх, почти мальчик, сбрую чистил. Вдруг его кто-то позвал, он сложил свою тряпку и воск и вышел какой-то испуганный… Я подивился, чего он такого натворил что его и здесь нашли, — и тотчас о нем забыл.
От коней я пошел к колеснице. Полюбовался дельфинами и голубями из слоновой кости, покачал ее, проверяя балансировку… Вот уж и этим натешился, а отец все не шел. «До чего ж, — думаю, — старики медлительны! Я бы за это время уже три раза все успел переделать!» Позвал конюха, приказал ему скатить колесницу вниз к дороге. С лошадями мне не хотелось расставаться, хотел сам их вывести и запрячь. Конюх как-то странно на меня глянул, когда уходил, — я решил, показалось мне это; но стало как-то тревожно.
И вот я жду, уж и кони стали беспокоиться, а отец все не идет… Я решил пойти посмотреть, что его там задержало, — и тут он наконец пришел, один. Он даже не переоделся; я мог поклясться, что он вообще забыл, зачем я жду его здесь… Прикрыл глаза и говорит:
— Прости, сын, это придется отложить на завтра.
Я ответил, что мне жаль будет ехать без него, — и это была правда, — но в то же время подумал, что смогу зато хорошо прогнать коней. Но глянул еще раз на его лицо…
— Что случилось? — спрашиваю. — У тебя новости, отец!.. Худые новости?
— Нет, — говорит, — ничего. Но дела меня задерживают. Прокатись, сынок. Только прикажи вывести коней через боковые ворота, а сам спустись по лестнице. Я не хочу, чтобы ты появлялся на базарной площади.
Я нахмурился:
— Это почему?
Я только что выиграл войну для него, и сегодня праздник моего совершеннолетия — и он говорит мне такое?!.
Он выпрямился и — резко так:
— Иногда ты должен подчиняться, не спрашивая причин.
Я старался не разозлиться. Он был царь, и у него могли быть свои дела, которые меня не касаются… Но что-то у них происходило; и я бесился, что ничего не знаю; и потом — от молодости и самоуверенности — мне казалось, что без меня он сейчас что-то сделает не так. «И мне придется за это платить, — думаю, — когда придет мое время, если только доживу». Я вспомнил о своем сыновнем долге, о его доброте… Сжал зубы, молчу, а сам трясусь весь, как лошадь: и шпорят ее и повод держат.
— Ты должен мне поверить, — говорит. — Я о благе твоем забочусь. — Раздраженно так сказал.
Я — как сейчас помню — сглотнул и говорю; спокойно так, изо всех сил спокойно:
— Мы неверно посчитали, государь. Я еще не мужчина сегодня — ребенок!..
— Не сердись, Тезей, — говорит. А голос — ну прямо жалобный.
«Надо его послушаться, — думаю. — Он связал меня своей добротой. К тому же он и отец мне, и царь, и жрец — трижды он свят для меня перед Вечноживущим Зевсом… Но ведь у него духу не хватает встретить лицом к лицу даже меня. За что он там взялся своими трясущимися руками?..» А сам трясусь хуже его; что-то страшное нависло, не знаю что; будто черная тень от солнца отгородила.
Стоим так, молчим — и тут подходит из Дворца один из придворных, тупой медлительный малый:
— Царь Эгей, — говорит, — я тебя повсюду ищу. Все юноши и девушки уже на площади, и критский офицер сказал, что, если ты не придешь, то он не станет ждать жеребьевки, а сам выберет четырнадцать человек.
Отец резко вдохнул, сказал тихо:
— Убирайся, болван! — Тот оторопело вышел, мы остались, глядим друг на друга…
— Отец, — говорю, — прости, что я погорячился — я ж не знал… Но почему ты не сказал мне?
Он ничего не ответил, только сжал рукой лоб.
— Уйти через боковые ворота и бежать, — говорю, — это ж каким дураком я бы выглядел! Громы Зевса!.. Я — владыка Элевсина… Даже у критян не станет наглости увозить царя. С какой стати мне прятаться?.. Сейчас мне надо быть там, внизу, в старой одежде, чтобы показать людям, что я не праздную, когда у них горе. И кроме того, я должен отослать домой Товарищей; это ж просто непристойно, чтобы они разгуливали здесь, когда афинских ребят забирают, таких вещей нельзя допускать… Где глашатай? Пускай вызовет их сюда.
Он молчал. У меня кожа поползла по спине, как у собаки перед бурей.
— Ну? — говорю. — В чем дело?
Он наконец ответил, не сразу:
— Ты уже не сможешь их вызвать. Критяне пришли раньше времени, и они окружены вместе с остальными.
— Что?! ! ! !
Получилось громче чем я хотел, — лошади шарахнулись, — я махнул конюху увести их$ а дальше, чтоб не кричать, говорил уже почти шепотом.
— Отец, и ты молчал!.. Я же отвечаю за них перед моим народом. Как ты посмел скрыть это от меня?
— Ты слишком горяч, чтоб встречаться с критянами… — Я увидел, что он почти плачет, и едва не вышел из себя. — Здесь уже была однажды ссора, — говорит, — и убили одного из их князей. Эта дань — расплата за тот случай… А в следующий раз они пришлют сотню кораблей и разорят страну… Что мне было делать?.. Что мне делать?!..
Это меня отрезвило. Ведь он правильно меня оценил.
— Ладно, — говорю, — я постараюсь не устраивать шума. Но я должен сейчас же пойти туда и забрать моих людей. Что они думают обо мне все это время?
Он покачал головой.
— Царь Минос знает всё. Он знает, что наши царства объединены. Не думаю, что он откажется от своих притязаний.
— Но я поклялся им, что объединение с Афинами не принесет им вреда…
Он задумался, тер подбородок…
— Если случится, что жребий падет на кого-то из твоих, у тебя будет хорошая причина отложить уплату своей дани. Иногда, Тезей, стоит пожертвовать одним человеком ради блага всех остальных… — Я сжал себе голову, в ушах звенело… А он продолжал: — Ведь в конце концов они только минойцы, не эллины.
Ох, как звенело в ушах!.. То тише, то опять громко — невтерпеж…
— Да какая разница? — кричу. — Минойцы, эллины — какая разница?! Я поклялся стоять за них перед богом — а теперь что?.. Кем я становлюсь?!..
Он что-то говорил. Что я его сын, что я Пастырь Афин… Я его почти не слышал, будто он говорил из-за стены. Прижал кулак ко лбу и спрашиваю: «Отец, что мне делать?» И когда уже услышал эти слова свои — понял, что говорю не с ним. Вдруг в голове стало потише, и я снова услышал его — он спрашивал, не плохо ли мне.
— Нет, — говорю, — мне уже лучше, государь. И я знаю, что можно сделать, чтобы спасти мою честь. Если они не освободят моих людей, я сам должен тянуть жребий; как все.
— Ты?! — У него раскрылись глаза, отвисла челюсть… — Ты с ума сошел, малыш!
Потом лицо снова выправилось, он погладил бороду…
— Ну-ну, — говорит, — ты был прав, когда поехал в Элевсин, у тебя чутье на такие штуки… Народ будет спокойнее, если ты будешь стоять среди них. Да, это хорошая мысль.
Я был рад, что он успокоился. Положил руку ему на плечо:
— Не волнуйся, отец, — говорю. — Бог не возьмет меня, если судьба моя не в том. Я сейчас переоденусь и приду.
Бросился бегом, схватил первое что попалось под руку — охотничий костюм из некрашеной оленьей кожи с зелеными кисточками на бедрах… Тогда я едва взглянул на него, только потом уже узнал, во что одет. Отец ждал меня там же, где я его оставил; от него второпях уходил дворецкий, которому он что-то приказал.
Сверху, с северной террасы, была видна Базарная площадь. На ней не было в тот день ни прилавков, ни палаток — убрали для праздника. На северной стороне, где алтарь Всех Богов, стояла толпа молодежи. По дороге вниз мы услышали плач и причитания.
Когда мы пришли туда, критяне уже закончили сортировку. Долговязые, толстые, хромые, недоумки — этих всех они отпустили. Небольшие и быстрые, стройные и сильные — те остались; юноши справа, а девушки слева. Это сначала было так — справа и слева, — но некоторые бросились друг к другу на середину; и по тому, как они там стояли, было видно, кто уже официально помолвлен, а кто держал это в секрете до того дня. Многие из девушек были еще совсем детьми. Бычьей плясуньей могла стать только девственница, и когда подходил срок дани — все спешили выйти замуж… Критяне всегда привозили с собой жрицу, чтобы не было споров.
Добрая треть моих Товарищей была среди юношей. Когда я подошел ближе, они замахали мне руками; видно было, что теперь они уверены: раз я пришел — их тут же освободят… Я тоже махнул им, словно и я думал так же. И тут вдруг почувствовал спиной взгляды афинян — и увидел, как они на меня смотрят. Я представлял себе их мысли. Я шел свободно, рядом с отцом, а жеребьевки ждали — среди прочих — и мальчишки, кому не было еще и шестнадцати, такого же роста как я. Вспомнил, что говорил мне дед — у меня телосложение как раз для этого дела… Едва не задохнулся от тоски и злобы — и повернулся к критянам.
Глянул — и вздрогнул: они были черные. Мне рассказывали о чужеземных воинах Миноса, но я никогда их не видал. На них были юбочки из леопардовой шкуры и шлемы, сделанные из лошадиных скальпов, с гривами и ушами; а щиты — белые и черные, из шкуры какого-то невиданного полосатого зверя. На солнце сверкали их блестящие плечи — да белки глаз, когда они глядели вверх, на крепость… Только глаза у них и шевелились, а сами они были неподвижны. Никогда я не видал ничего подобного: щиты и дротики будто по шнуру, а весь отряд — словно одно тело с сотней голов. Перед ними стоял офицер, единственный критянин среди них.
Я знал критян только по Трезене. Мог бы конечно и сам догадаться, что то были торговцы, только подражавшие манерам Кносского Дворца; выдававшие себя за настоящих лишь там, где некому было заметить разницу… Здесь стоял настоящий, и разница была — громадная.
Этот тоже на первый взгляд казался женоподобным. Одет он был для парада, с непокрытой головой; красивый черный мальчик держал его шлем и щит. Темные его волосы — блестящие и волнистые, как у женщины, — падали сзади до пояса; а выбрит он был так чисто — не сразу было заметно, что ему уже лет тридцать. Одежды на нем вовсе не было; только тугой пояс закручен на тонкой талии и паховый бандаж из позолоченной бронзы, а на шее — ожерелье из золотых и хрустальных бусин. Всё это я заметил еще до того, как он соизволил на меня посмотреть. Это — и еще, как он стоял. Словно царственный победитель, написанный на стене, кого не тронут ни слова, ни слезы, ни ярость… Казалось, ничто не может его поколебать, само время над ним не властно — он так и будет стоять, спокойно и гордо, пока война или землетрясение не обрушат стену.
Я подошел, и он глянул на меня из-под своих длинных черных ресниц. Он был чуть ниже меня, — пальца на три, — теперь я понял, что это вполне достойный рост для настоящего мужчины… И еще не успел я рта раскрыть, как он обратился ко мне:
— Прошу простить, но если у вас нет письменного освобождения, я ничего не смогу для вас сделать.
Я вовремя вспомнил слова отца и держал себя в руках.
— Это не тот случай, — говорю. Совсем спокойно говорю. — Я Тезей, царь Элевсинский.
— Извините.
Он вовсе не смутился. Этакая холодная учтивость — но и только.
— У вас тут, — говорю, — дюжина молодых людей из моей охраны, все еще безбородые. Они гости в Афинах. Вам придется подождать, пока я заберу их.
Он поднял брови.
— Я осведомлен, что Элевсин сейчас стал вассальной частью Афинского царства; это лен царского наследника, с которым — если не ошибаюсь — я имею честь говорить…
Бесстрастен он был, словно бронзовый.
— Я ничей не вассал, — говорю. — Элевсин — это мое царство. Я убил прежнего царя по обычаю. — Его брови забрались под завитые волосы… — А нашу дань, — говорю, — мы платим раз в два года: хлеба столько-то и столько-то вина.
У меня хорошая память на такие вещи.
— Прекрасно, — говорит… Голос у него был особенный: он тихо говорил, но резко и холодно. — Прекрасно. Если бы вы письменно обратились в казначейство, там, вероятно, разобрались бы. Я не податной чиновник, и собираю где мне приказано. И знаете, в здешних краях слишком много царей. У нас на Крите — один.
Руки зачесались — схватить его и переломить об колено! — но я помнил о народе. Он заметил, что я разозлился, но сказал все так же спокойно:
— Поверьте мне, принц, эту жеребьевку не я придумал; это неудобство, с которым я мирюсь. Я уважаю обычаи стран, в которых мне приходится бывать, и стараюсь не нарушать их. В Коринфе, когда я вхожу в порт, юноши и девушки уже ждут меня на причале. Вы сами понимаете, это избавляет меня от лишних хлопот и потери времени.
— Разумеется, — говорю. — А в Афинах вам приходится ждать, пока вершится справедливость, и народ видит это.
— Да-да, это понятно… Но в таком случае естественно, что я не могу удовлетворить вашу просьбу. Сами посудите, как это будет выглядеть, если вы пойдете выбирать того парня или этого… Люди подумают, что в вашем возрасте вы вряд ли действуете без согласования с отцом — что кто-то из его друзей упросил его вызволить сына, либо вы сами хотите кого-нибудь спасти… Будут беспорядки. Я согласен на все эти проволочки, но бунта допустить не могу. Поверьте мне, я кое-что понимаю в таких делах.
Я убрал руки подальше от него, даже тон сбавил, — только говорю ему:
— Вы здесь пробыли полдня. И вы мне говорите, что думают наши люди?
— Я говорю лишь то, что знаю, не обижайтесь. Вы сами, или скорее ваш отец, выбрали этот обычай. Хорошо, я согласен. Но как он ни тягостен — я прослежу, чтобы он выполнялся. Боюсь, что это мое последнее слово. Куда вы?!..
Голос его изменился, и строй черных воинов шевельнулся, как спина леопарда перед прыжком.
Я обернулся и сказал громко, чтобы все слышали:
— Я иду к своему народу, чтобы разделить жребий бога.
Вокруг все ахнули, отец — я видел — оглядывался по сторонам… Пошел я к своим — и вздрогнул: кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь — критянин; он оставил своих людей в шеренге и бегом догнал меня — я и не услышал, такой легкий был у него шаг. Он тихо заговорил мне на ухо:
— Одумайтесь!.. Не давайте славе и блеску одурачить вас, даже самый хороший бычий плясун живет не больше шести месяцев, в лучшем случае… Послушайте, если вы хотите повидать мир — я устрою вам место в Малом Дворце, а поехать вы можете с нами бесплатно…
Теперь мне уже нечего было терять, я мог доставить себе такое удовольствие:
— Послушай, — говорю, — барышня, пришли ко мне своего старшего брата — пусть он мне предложит служить Миносу за плату!..
Отворачиваясь, я успел заметить его взгляд; не то чтобы рассерженный, но цепкий, мстительный.
Перешел я площадь, подошел к Товарищам — они меня затащили в круг, хлопают по спине… Как в добрые старые дни, когда я был царем-на-год. А вокруг по площади пошел какой-то гул. Сначала невнятные голоса, потом громче, громче… Это афиняне радостно приветствовали меня, несмотря на свое горе: «Слава!..» Я изумился сначала, но — «На самом деле, — думаю, — это тоже мой народ. Теперь я могу стоять за них за всех».
Перед отцом поставили стол, а на него две большие круглые чаши с крашеными краями. Отец обратился к народу:
— Афиняне, вот жребии с именами ваших детей. И вот жребий моего сына!
Он бросил звонкий черепок в правую чашу, люди снова закричали: «Слава!..» Потом он подозвал критского офицера — чужестранца, у которого не было здесь родни, — перемешать жребии. Тот сделал это древком копья, вид у него был скучный. Отец воздел руки и призвал Бога, просил его самого выбрать жертвы. Он называл его Сотрясателем Земли, Отцом Быков… — при этих словах я вспомнил проклятие колдуньи, и по спине пошли мурашки… Посмотрел на отца — тот не изменился в лице, держался хорошо.
Сначала тянули для девушек. Жрец Посейдона с завязанными глазами опускал руку в чашу и отдавал черепок отцу, а тот передавал глашатаю прочитать имя. И каждый раз я видел лица родных, глядящих на черепок, — сплошная линия лиц, как длинная бледная змея, полная напряженных глаз. Потом произносилось имя — и семья начинала плакать и причитать; или откуда-то выбегал мужчина и бросался в драку со стражей, пока его не сбивали… И на несколько мгновений все остальные были счастливы, пока не появлялся следующий черепок. Только последняя из них была такая красивая, юная, нежная, что по ней плакал весь народ, не только ее родные. Черные образовали вокруг них полный квадрат и отгородили ото всех… Настала очередь юношей.
Двое первых были из Афин, а потом я услышал имя одного из моих Товарищей. Парня звали Менестий, отец его был судовладелец: семь кораблей у него было. Менестий вышел не колеблясь, только оглянулся дважды: один раз на своего друга поглядел, а второй — на меня. Следующий опять был афинянин. Мать его так закричала — словно ее на части рвали; мальчик побледнел, шел дрожа с головы до ног… «Моя бы никогда не стала так меня срамить, — думаю. — Но мне сейчас не о ней надо тревожиться, а об отце: ему хуже, чем всем остальным, ведь я у него всего один…» Я посмотрел на помост, где он стоял. Жрец как раз опускал руку в чашу за следующим жребием… И в этот момент что-то произошло в толпе, — женщина там в обморок упала или еще что, — и отец обернулся посмотреть что случилось.
Я окаменел. Неподвижность обрушилась на меня, словно Гелиос натянул поводья среди неба… Если бы человек мог оградить себя от подступающего знания — я бы сделал это; но оно уже было, было это знание, раньше чем я смог себе запретить. С десяти лет сидел я в судебной палате и смотрел на людей. И раньше чем начал разбираться в делах — уже знал, без ошибки, кто виноват а кто прав. Сейчас я видел линию глаз, прикованных к урне, одинаковых точно копья солдат… И лишь отец глядел в сторону. Он не боялся.
Наверно, все это длилось один миг — ведь никто вокруг не успел шелохнуться, — но это знание, казалось, медленно вползает мне в сердце, наливает тело холодом… Мне казалось, что позор обволакивает меня всего, растекается грязью по коже… А мысли метались — как собаки, что отыскивают след. Что было на черепке, который он бросил для меня? Если бы был совсем пустой, кто-нибудь мог бы заметить… Кого-нибудь другого написали еще раз?… Быть может, его уже вызвали, и я этого не узнаю никогда… Так я думал. И налетела на меня ярость — как штормовая волна. Забила барабанами в голове, затрясла — я был уже невменяем… А на высоком помосте напротив стоял человек в царской ризе, с царским ожерельем; и я смотрел на него словно на врага, на чужака, плюнувшего мне в лицо перед народом, — и пальцы тянулись к его горлу, как к горлу Керкиона, когда мы дрались за царство.
Я уже почти ничего не понимал, и Дочери Ночи роились вокруг меня, хлопая бронзовыми крыльями, — но пришел Аполлон, Убийца Тьмы, и избавил меня. Он принял облик юноши, что стоял возле меня, и, тронув за плечо, сказал: «Спокойно, Тезей».
Красная пелена спала с моих глаз, я смог говорить, — сказал, что это критяне меня так разозлили, — а потом смог и думать.
«Ну что такого? — думаю. — Что сделал отец? То, что любой бы сделал, если бы мог. А он — царь, ему надо думать о царстве, и я на самом деле здесь нужен… Нельзя же мыслить только по-воински. Кто-то другой пошел за меня на Крит?.. Так я водил таких ребят на войну — и не считал, что это плохо, хоть кто-то из них должен был погибнуть… Так почему же я так ненавижу отца? И себя — еще больше; и жизнь мне опротивела — почему?..»
Тем временем выкрикнули жребий. Он пал на Аминтора, высокородного элевсинца, храброго и гордого. После того афинского мальчика — быть может, как раз потому, что он шел сразу после того мальчика — Аминтор вышел весело, помахал нам рукой на прощание, шутил… Жрец снова собрался тянуть.
«Что не так? — думаю. — Почему это так меня бесит?»
Снова увидел глаза людей, прикованные к урне, молящие Посейдона выбрать себе жертвы, — и тут понял. Да, вот в чем дело! Он обманул бога, хранителя рода, который дал ему меня зачать… У меня есть основания — этот человек обманул моего отца!
Теперь я понял. Я не мог вслух обратиться к Богу, — люди вокруг не должны были знать, — потому опустился на колено, прижал ладони к земле и зашептал так, чтобы только он мог услышать:
«Сотрясатель Земли! Отец! Если тебе не дали нужной жертвы — скажи мне и покажи, что отдать».
Я подождал, не дрогнет ли земля, но пыль под ладонями была неподвижна. Но я знал, что у него есть что-то ко мне, что он не хочет, чтобы я уходил. Я опустил голову ниже — так что волосы легли на землю, — и тогда он заговорил со мной. Я услышал звук прибоя, словно из глуби земной подымались волны и разбивались в шипящую пену, и повторяли: «Те-зей! Те-зей!..»
Теперь я знал, чего требовал бог.
Это было — как копье в сердце. Я пришел сюда за жребием, за одним из тридцати. Теперь, когда уже не было выбора, в глазах потемнело от горя и солнце похолодело. Я думал о том, что собирался сделать в Афинах, о мелочах, на которые хотел уговорить отца, о крупных переменах, когда придет мое время… Я стоял на коленях — лицо спрятано в волосах, имя мое в ушах стучит — и думал о своей жизни, о том, что было и чего уже не будет: об охоте с гвардейцами, о праздниках и плясках, о львах на стене в моей комнате, о женщине, с которой собирался заговорить впервые на сегодняшнем празднике, о прекрасных конях моих, едва узнавших мою руку, о боевых гимнах, о ликующей ярости в битвах и о песнях победы… Но бог не может этого хотеть — ведь он привел меня сюда, чтобы сделать царем!
И я зашептал: «Отец Посейдон, возьми у меня что-нибудь другое! Я не стану просить долгой жизни, если смогу заслужить себе имя и оставить по себе память в Афинах. Но сейчас это будет так, словно я вообще и не рождался… Если тебе нужна моя жизнь, дай мне умереть в бою, здесь, чтобы осталась после меня могила моя, и песнь обо мне, и память в людях…»
Вызвали еще одного афинянина. Это был последний из семи.
«…Владыка Посейдон, возьми моих коней — лучших у меня никогда не было… Возьми все, что хочешь, только не это!»
Звук моря стал слабеть в моих ушах. Я подумал было, он принимает коней!.. Но раньше всегда шум исчезал, растворялся в воздухе, а в этот раз было не так — волны медленно отходили вглубь, продолжали биться, все тише, тише…
«Бог оставляет меня!» — думаю.
Я слушал — и было в этом шуме что-то такое, что говорило мне: «Поступай как хочешь, сын Эгея. Смотри — вот твой отец. Забудь мой голос, тебе его не слышать больше, учись править, как правит он. Будь свободен. Если не хочешь — ты не нужен мне». Я оглянулся на всю свою жизнь, с самого детства: «Нет! — думаю. — Слишком поздно становиться мне сыном Эгея».
Я встал, отбросил волосы назад… Последнего мальчика выводили под руки, сам он идти не мог. Его почти несли, а он все оглядывался вокруг, словно не верил, что это могло случиться с ним; с кем угодно — только не с ним…
«Он здорово удивится, когда узнает, что был прав», — я почти рассмеялся. Я чувствовал, что бог возвращается ко мне. На сердце стало легко, я дышал полной грудью — и был уверен в своей удаче, как бывает в счастливые дни. Бронзовые крылья и когти, что парили надо мной, норовили схватить, исчезли; страх оставил меня, мне было спокойно и радостно — я шел с богом. И когда шагнул вперед — в памяти прозвучал голос деда: «Согласие освобождает человека!»
Я быстро подошел к помосту, вскочил на него и говорю глашатаю:
— Дай-ка последний жребий…
Он отдал. Меня окликнули — но я отвернулся, будто не слышал. Вынул из ножен кинжал, зачеркнул имя на черепке, написал «Тезей», отдал назад глашатаю:
— Кричи, — говорю, — снова.
Он ошалело молчал; знакомая рука выхватила у него черепок из-за моей спины… Тогда я сам закричал критянину:
— Последнее имя было неверно, сударь! На жребии — мое имя!
В толпе снова зашумели. Я думал, они опять обрадуются, — но вместо этого услышал великий плач, какой бывает при вести о смерти царя. Я не знал, что мне делать с этими воплями… Но в душе моей была торжественная музыка — и я шагнул к ним. Рука схватила меня сзади за одежду, но я стряхнул ее и громко заговорил к народу:
— Не горюйте, афиняне! Меня посылает бог. Он сам призвал меня к быкам, и я должен подчиниться знаку его. Не плачьте по мне — я вернусь!.. — Я не знал этих слов, пока не произнес их, они пришли ко мне от бога. — Я пойду с вашими детьми и возьму их в руку свою. Они будут моим народом.
Они прекратили плач, голоса стихли; только там и сям еще всхлипывали матери, чьи дети должны были уйти. Я повернулся к отцу.
У смертельно раненных бывает такое лицо, как было у него. Словно кошмарный сон наяву. И все-таки в глазах его будто отражались мои: он тоже выглядел как затравленный человек, что избавился наконец от погони.
Но он страдал, — уж что правда, то правда, — и это вылилось в припадок гнева. Он не обращал внимания, что нас все слышат, — спрашивал, за что я его так ненавижу, что бросаю в старости на произвол его врагов; чем он меня обидел, что он мне сделал плохого?!.. Это, мол, не иначе как колдовство, он должен изгнать из меня духов, а то что я сделал в безумии — не считается, и должно быть отменено…
— Государь, — говорю, — ты думаешь, я сделал это сам? Я знаю голос Посейдона. Ты должен отпустить меня, иначе он будет разгневан. Это худое дело — грабить бога.
Он испуганно оглянулся, и мне стало стыдно: ему и без того было тяжело.
— Отец, — говорю, — бог за нас, все хорошо. Если быки убьют меня, он примет жертву и снимет проклятие. А если я вернусь — еще лучше! Все прекрасно, я это чувствую!..
Критянин подошел к нам послушать, о чем мы говорим, но под взглядом отца повернул назад, напевая чуть слышно и поигрывая печаткой на браслете. Отец успокоился, сказал тихо:
— Наверно, никому не избежать своей судьбы. Как ты узнал, что твоего имени не было в чаше?
Мы глянули друг другу в глаза.
— Я не мог иначе, — говорит. — Ведь потом всегда говорили бы, что царь Эгей боялся своего сына, который был вождем и славным воином, — боялся и в срок дани услал его к быкам на Крит.
Его слова меня изумили. Как могла ему в голову прийти такая мысль?
— Отец, — говорю, — это наверно Богиня. Она ненавидит всех мужчин, что правят.
Рядом послышался кашель, это критянин начинал терять терпение. Я подумал, что сам отдаю себя в его власть, забавно…
Отстегнул меч и отдал его отцу.
— Сохрани его, — говорю, — пока я не вернусь. Я не знаю, для чего нужен богу; но если человек вернется от быков Миноса — он столько раз успеет до того предложить в жертву богу свою жизнь, столько раз снова и снова посвятит ее!.. Наверно, должна низойти на него сила вести народ, так меня учили, когда я ребенком был. Я стану настоящим царем, а иначе — никем не стану.
Он взял мое лицо в ладони, долго смотрел на меня… Я редко вспоминал, что он и жрец тоже, но в тот момент почувствовал это. Наконец он сказал:
— Да, такой царь будет — царь. — Помолчал, задумавшись, и добавил: — Если придет этот день — покрась парус своего корабля в белый цвет. Я посажу наблюдателей на Сунийском мысе. Когда у них загорится огонь — у бога будут вести для меня. Белый парус, запомни!
— Мой господин, — это критянин обратился к отцу. — Мне все равно, идет ваш сын или нет, но беспорядков быть не должно. Будьте любезны уладить распри: эти женщины выдерут друг другу глаза.
Я оглянулся. Матери выбранных ребят спорили, чей из сыновей должен быть освобожден вместо меня. Подошли их родственники-мужчины — он был прав, что боялся беспорядков.
— Здесь не о чем спорить, — говорю. — Мое имя на последнем жребии. Глашатай, прочти его, чтобы все слышали.
Последний мальчик подошел, встал на колени, приложил ко лбу мою руку, спросил, что он может сделать для меня… Он был из бедняков. Я глянул через его плечо — и увидел, что мой Биас плачет. Он был гораздо умнее всех остальных Товарищей, но сейчас я увидел на его лице то, чего он никогда мне не говорил. Я ничем не мог ему помочь — только взял за руку.
— Отец, — говорю, — пусть элевсинцы соберут свое Собрание, чтобы женщины не попытались снова захватить власть. Там всё в порядке…
Я не закончил, но критянин устал нас ждать. Он крикнул своим солдатам, — резко, будто лис пролаял, — они образовали двойную колонну с местом в середине для нас… Все двигались разом, в ногу, — немыслимо четко и слаженно. Отец обнял меня, и я понял, что он уже не надеется меня увидеть. Матери жертв принесли своим детям небольшие узелки с едой, собранные наспех на дорогу; мать того последнего паренька подошла ко мне, — непрерывно кланяясь, с рукой у лба, — и отдала узелок мне.
А когда становился в строй, — как сейчас помню, — я подумал, что выбрал бы костюм получше, если б знал, что отправлюсь на Крит. Именно об этом подумал почему-то, ни о чем другом.
4
КРИТ
1
На корабле отдавали швартовы, а я думал: «Вот был я царь и наследник царя… а теперь — раб».
Это был большой корабль. На форштевне — резная бычья голова, с цветком на лбу и с позолоченными рогами… Черные солдаты сидели на скамьях между гребцами в средней части корабля; там же над ними был мостик, где в кресле сидел капитан, а рядом — командир над гребцами. Мы, жертвы, находились на кормовой палубе и спали под тентом, словно заплатили за это путешествие: мы принадлежали богу, и нас должны были довезти в сохранности. Целый день возле нас была охрана, а ночью она удваивалась: следили, чтобы никто не лег с девушками.
Время для меня остановилось. Я больше не принадлежал себе, а снова, как в детстве, лежал в руке бога; меня баюкало море, вокруг нас носились дельфины, ныряли под волны, сопели через лоб — «Ффу-у!»… Я лежал и смотрел на них, больше нечего было делать.
К югу от Суния нас взял в конвой боевой корабль, быстрый пентеконтер. Иногда на мысах островов мы видели пиратские стоянки — корабли у берега, наблюдательные вышки, — но никто за нами не погнался, мы были им не по зубам.
Все это проходило мимо, а я — я наслаждался отдыхом, как бывает, когда слушаешь певца. «Я иду на жертву, — говорил я себе, — но сам Посейдон призвал меня. Меня, у кого в детстве не было отца среди людей. Посейдон меня призвал — и это останется со мной навсегда…»
И вот я валялся на солнце, ел, спал, любовался морем — и вполуха слушал корабельные шумы.
Ранним утром в розово-серой мгле мы пробирались между Кикладами. Примерно около восхода я услышал сердитые голоса. На любом корабле их бывает достаточно, а мы шли между Кеосом и Кифносом, — там было на что посмотреть, — так что я поначалу не обратил внимания; но шум стал настолько дик, что пришлось оглянуться. Один из афинских ребят дрался с элевсинцем. Они катались по палубе, а по мостику к ним шагал капитан. Глаза его были полуприкрыты, скучный утомленный вид, как у человека, привычно делавшего это сотни раз… — а в руке вился тонкий кнут. Я бы и от ледяной воды не очнулся так быстро. Бросился к ним, растащил… Они сидели, тяжело дыша, терли свои шишки, — капитан пожал плечами и пошел назад.
— Опомнитесь, — говорю. — Вы что, хотите, чтобы этот критянин высек вас на глазах своих рабов? Где ваша гордость?
Они заговорили разом, остальные вступились, — кто за одного, кто за другого, — гвалт поднялся!..
— Тихо! — кричу.
Все смолкли, на меня уставились тринадцать пар глаз… А я растерялся. «Что дальше?» — думаю. Словно схватился за меч — а его нет. «Что я делаю? — думаю. — Я ведь сам такой же раб. Можно быть царем среди жертв?» И эти слова как эхо в голове: «Можно быть царем?.. Я ведь сам раб!..»
Все ждали. Я ткнул пальцем в элевсинца — его я знал.
— Ты первый Аминтор, — говорю. — В чем дело?
Он был черноволосый, густые брови срослись над орлиным носом, и глаза были орлиные… И вот он — глаза горят…
— Тезей, — говорит. — Этот сын горшечника — у него до сих пор глина в волосах — сел на мое место. Я сказал ему, пусть убирается, а он начал дерзить!
— Теперь ты!
Афинянин был бледен.
— Я могу быть рабом Миноса, Аминтор, но тебе я не раб. А что до моего отца, — ты, землепоклонник, — я по крайней мере могу его назвать! Мы знаем, чего стоят ваши женщины…
Я поглядел на них и понял, что драку начал Аминтор. Но ведь он был лучше того, второго…
— Вы еще не кончили оскорблять друг друга? — говорю. — Знайте только, что при этом вы оскорбляете меня. Слушай, Формион, элевсинские обычаи я утверждал. Если они тебя не устраивают — обращайся ко мне, я отвечаю. А ты, Аминтор, как видно, здесь больше значишь, чем я? Скажи нам всем, чего ты ждешь от нас, чтоб мы тебя нечаянно не обидели.
Они пробормотали что-то, притихли… Все глядели на меня преданными собачьими глазами: где проявился гнев — там должна быть и сила, и они надеялись на нее. То же самое бывает среди воинов в трудный час. Но горе тому, кто возбудил эту надежду — и не оправдает ее.
Я сидел на тюке шерсти — дань какого-то маленького городка — и смотрел на них. За время наших трапез я уже узнал имена четверых афинских мальчишек: Формион; Теламон, сын мелкого арендатора, тихий и спокойный; скромный, изящный паренек по имени Иппий — его я где-то раньше видел; и Ирий — это его мать так жутко кричала при жеребьевке, она была наложницей какого-то дворянина. Мальчик был хрупкий, с тонким голосом, с какими-то девичьими манерами, но вдали от маминой юбки держался не хуже других.
О девушках я знал и того меньше. Хриза была прекрасна, словно лилия, — бело-золотой цветок без малейшего изъяна, — это по ней плакал весь народ. Меланто была минойкой — решительная, здоровая деваха, живая и энергичная… Нефела — робкая и плаксивая; Гелика — стройная, молчаливая, чуть косоглазая; Рена и Филия, похоже, красивые дурочки; и Феба — честная, добрая, но некрасивая, как репка. Вот и всё, что я знал. Теперь ярассматривал их, стараясь угадать, на что они будут способны; а они глядели на меня, как утопающие на плот.
— Слушайте, — говорю, — пора нам потолковать.
Они ждали. Больше им ничего не оставалось.
— Я не знаю, — говорю, — зачем Посейдон призвал меня к быкам. Хочет он, чтобы я умер на Крите, или нет — не знаю. Если нет — что бы меня там ни ждало, я приложу к тому руку. Сейчас мы все во власти Миноса; я такой же как и вы — такой же раб бога… Чего вы хотите от меня? Чтобы я заботился сам о себе — или чтобы отвечал и за вас, как это было дома?
Я еще и рта не закрыл — все закричали, чтобы я их вел. Только косоглазая Гелика молчала, но она всегда молчала.
— Подумайте сначала, — говорю. — Если я буду вести, то буду и давать вам законы. Понравится вам это? А власти, чтоб заставлять подчиняться, у меня нет; власть — вон у кого!
Я показал на критянина. Тот снова сидел в своем кресле и подрезал ногти.
— Если хочешь, мы поклянемся, — сказал Аминтор.
— Да, хочу. Мы должны поклясться стоять друг за друга. Если кто не согласен — пусть говорит сразу, сейчас. Вы тоже, девушки. Я зову вас на собрание. Положение у нас необычное, так что и законы должны быть свои.
Афинские девушки, не привыкшие к общественным делам, отодвинулись, стали шептаться. Потом Меланто сказала:
— Мы сейчас не в своей стране, потому нас должен вести мужчина. У минойцев всегда был такой закон. Я голосую за Тезея.
— Одна есть, — говорю. — А что остальные шесть?
Меланто повернулась к ним и говорит — насмешливо так:
— Вы что, и слова сказать не можете? Так поднимите хоть руку. Вы же слышали, что он сказал!
Пять подняли руки, а сероглазая, златоволосая Хриза сказала серьезно:
— Я голосую за Тезея.
Я повернулся к парням:
— Кто против? На Крите нам придется зависеть друг от друга. Говорите сейчас. Там я не потерплю никакого недовольства, клянусь головой отца.
Маменькин сынок Ирий на этот раз сказал очень серьезно, без обычных своих ужимок:
— Никто не против, Тезей. Нас всех взяли, а ты сам отдал себя богу. Никто, кроме тебя, не может быть царем.
— Ну что ж, — говорю, — да будет так во имя его. Нам нужен жезл для оратора.
Вокруг не было ничего подходящего, кроме веретена: Феба его крутила, чтоб скоротать время.
— Выкинь свою пряжу, сестренка, — говорю, — на Крите тебе понадобится другое искусство.
Она бросила, и мы превратили веретено в жезл. Я взял его.
— Вот наш первый закон, — говорю. — Мы все — одна семья. Не афиняне, не элевсинцы, а все вместе. Если кто-то родился во дворце — быки этого знать не будут; так что гордость свою храните, но о рангах забудьте. Здесь нет ни эллинов, ни минойцев, ни аристократов, ни простолюдинов… Здесь нет даже женщин и мужчин. Девушки должны остаться девственны, иначе потеряют жизнь. Каждый мужчина, кто забудет об этом, — клятвопреступник. Скоро мы станем бычьими плясунами, мужчины и женщины — одинаково. Мы не можем быть больше, чем товарищами, — давайте же поклянемся, что никогда не будем меньше, чем товарищами.
Я собрал их в круг — критская жрица всполошилась, не лезут ли под юбки, — и взял с них сильную клятву. Клятва и должна была быть страшной: ведь кроме нее, кроме нашего общего несчастья, нас ничто не связывало тогда… После клятвы ребята стали выглядеть лучше. Это всегда так, когда испуганным людям дают какое-то занятие.
— Теперь мы все дети одного дома, — говорю. — Нам надо было бы выбрать себе имя.
Пока я это говорил, Хриза подняла свои огромные глаза к небу, а оттуда донесся глухой крик. С острова на остров перелетала стая журавлей. Они шли ровной линией, вытянув длинные шеи…
— Смотрите, — говорю, — Хриза увидела знак! Журавли ведь тоже танцоры. Все знают танец журавлей, мы будем — Журавли. А теперь, прежде всего остального, мы вверим себя Вечноживущему Зевсу и Великой Матери. Наших богов мы тоже будем чтить вместе и одинаково, чтоб никому не было обидно. Меланто, ты будешь нашей жрицей, ты будешь взывать к Матери. Но не надо никаких женских таинств — у Журавлей все общее.
По правде сказать, я рад был поводу оказать почтение Матери: она ведь не любит мужчин, которые правят, а на Крите она главная…
— Ну, — говорю, — совет наш продолжается. Кто-нибудь хочет говорить?
Изящный мальчик, которого я где-то видел, протянул руку. Теперь я вспомнил где: это он чистил сбрую в конюшне, когда я ждал там отца. Даже не глянув на элевсинцев, я отдал ему жезл. Они, — оба из гвардии моей, — их как громом поразило. Я отдал ему жезл: «Иппий говорит!»
— Господин мой, — сказал он. — Это правда, что нас приносят в жертву быку? Или он сам должен нас поймать?
— Я бы сам хотел это знать, — говорю. — Может, кто-нибудь скажет нам?
Это была ошибка: все заговорили разом, кроме Гелики. Но и когда я заставил их браться по очереди за жезл — всё равно не стало легче. Они выдали все бабушкины сказки, какие только могли: что нас привяжут к быку на рога, что нас бросят в пещеру, где бык питается человечиной, даже что это вообще не бык, а чудовище — человек с бычьей головой.
Перепугали друг друга до полусмерти. Я потребовал тишины и протянул руку за жезлом.
— Послушайте, — говорю. — Когда малышей пугают букой, они утихают. Быть может, хватит и вам этих страстей? Угомонитесь…
Ребята растерялись, притихли.
— Вас всех послушать, — говорю, — можно подумать, что всё это правда, всё. А ведь если что-то одно правда, то всё остальное — наверняка вранье… Один Иппий головы не потерял: он не знает — но знает, что не знает… Надо узнать. Нечего нам ломать себе головы — я постараюсь разговорить капитана.
Афиняне не поняли, почему я на это рассчитываю, и заметно было как они удивились, особенно девушки. А элевсинцам я сказал на нашем гвардейском жаргоне: «Парни, если кто хоть улыбнется — зубы вышибу!»
Они рассмеялись:
— Желаем удачи, Тезей.
И вот я пошел к борту и встал там с задумчивым видом… А когда капитан посмотрел в мою сторону — поприветствовал его. Он ответил, махнул мне, чтоб я шел к нему, стража меня пропустила, и я прошел к нему на мостик. Он отослал черного мальчишку, что сидел на табурете возле него, и предложил табурет мне. Как я и думал — он держался от нас в стороне, боясь публичного оскорбления. Ведь мы были священны — он не мог бы мне ничего сделать, разве что кнутом стегнуть…
А разговорить его — его остановить было не легче, чем старого воина, что ударится в рассказы о битвах своей юности. Он был из тех, кого на Крите зовут светскими людьми. Нет такого эллинского слова, чтобы это обозначить; это в чем-то больше, чем аристократ, а в чем-то меньше… Такие люди изучают Бычью Пляску, как арфист изучает древние песни. День прошел, ему уже принесли ужин, а он все говорил и говорил. Пригласил меня поужинать с ним — я отказался. Сказал, мол, остальные меня убьют, если увидят что я пользуюсь привилегиями, — и пошел к себе. Вечерело… А меня ничто уже не интересовало, кроме Бычьей Пляски.
Нас кормили из общего блюда, так что сидели мы голова к голове.
— Ну, — говорю, — ты был прав, Иппий, бык должен нас поймать. Но сначала мы сами должны поймать быка: отбить от стада и привести во Дворец. Теперь я могу вам рассказать о Бычьей Пляске столько, сколько вообще можно рассказать, если сам ее не видел. А для начала — прежде, чем нам вообще придется плясать, у нас будет три месяца тренировки.
Они были настроены умереть, едва нас довезут до берега, так что эти три месяца были теперь как три года для них… И все так благодарно на меня смотрели, будто я сам подарил им этот срок.
— Жить мы будем в Кносском дворце, в Доме Секиры, и будем там безвыходно. Но он говорит, что дворец очень большой. И очень древний: он говорит — тысяча лет ему, будто кто-то может так много сосчитать. И еще он говорит, что там под дворцом, в глубокой пещере, живет Посейдон. В виде громадного черного быка. Никто его никогда не видел — он живет слишком глубоко, — но когда он сотрясает землю — ревет. Лукий — это капитан — сам его слышал; говорит, ни один другой звук на земле и вполовину не так ужасен, как этот рев быка. В древние времена два или три раза он разрушал дворец до основания, так что им приходилось все время беречься и ублаготворять его. Так и возникла Бычья Пляска.
Лукий говорит, жертвоприношение было с самого начала; со времен первых людей на земле, что делали мечи из камня. Тогда оно было грубым и примитивным: человека просто бросали в яму к быку, чтобы тот его забодал; но иногда — если попадался ловкий — он какое-то время увертывался; а они были варвары, и их это забавляло. Время шло, они многому научились — от египтян и от жителей Атлантиды, что бежали на восток от гнева Посейдона… Теперь критяне — самые искусные мастера. Не только в гончарном и ювелирном деле, не только в строительстве, но и в музыке, и в обрядах, и в представлениях разных… И с незапамятных времен они совершенствуют свою Бычью Пляску. Сначала они яму стали делать побольше и выпускали туда не одну жертву, а несколько, так что охота стала длиться дольше… Когда бык кого-нибудь убивал, остальных забирали оттуда и выпускали в следующий раз; но чем дольше они жили — жертвы, — тем искуснее становились и ловчее; и случалось уже и такое, что бык уставал раньше, чем убивал кого-нибудь, и уже не хотел за ними гоняться… Тогда говорили, что бог удовлетворен на этот раз и не хочет жертвы. Так самые ловкие и быстрые жили дольше, и обучали своему искусству остальных; и так оно шло, и каждое поколение добавляло к пляске что-то новое: ведь каждый человек ищет славы, даже жертва, обреченная на смерть… Просто увернуться от рогов — это уже никого не устраивало, надо было сделать из этого грациозный танец и никогда не выдать своего страха, а играть с быком так, будто ты его любишь… Вот тогда, говорит Лукий, наступил золотой век Бычьей Пляски. Плясуны были в такой славе, что благороднейшая и храбрейшая молодежь Крита шла на арену из любви к искусству, чтобы почтить бога и заслужить себе имя. Это было время первых великих бычьих прыгунов, об этом времени сложены песни… Оно уже прошло, это время, теперь у молодых господ другие развлечения. Но критяне не хотят отказаться от зрелища: привозят рабов и обучают… И даже теперь, говорит он, бычьи плясуны у них в почете. Они очень высоко ценят плясунов, тех что не умирают.
Плакса Нефела забила себя в грудь, как на похоронах:
— Увы, нам! Значит, нам придется перед смертью вытерпеть все это?
Я еще не закончил свой рассказ, но подумал теперь, что так оно и лучше.
— Послушай, — говорю, — если ты хоть вся изойдешь на слезы — все равно это тебе не поможет. Так чего же плакать? Когда я был мальчишкой, мы дома играли с быком, потехи ради, а я, как видишь, жив… Не забывай — они ведь, по сути дела, тянут жребий, один из многих. Если мы научимся этой пляске, то можем прожить так долго, что сумеем оттуда бежать.
Меланто спросила:
— Тезей, а сколько?..
— Да дайте же ему поесть! — это Аминтор вмешался.
Она накинулась на него: мол, где он оставил свои манеры — в Элевсине?.. От афинянина она бы это стерпела, но чтобы минойская девушка вынесла непочтительность своего мужчины!..
— Ладно, — говорю, — я могу и есть, и слушать. Ты о чем?
Она повернулась к Аминтору спиной — так это, плечиком…
— Сколько человек выходят сразу?
— Четырнадцать, — говорю, — по семь.
— Так мы команда? Или нас раздадут по разным вместо убитых?
— Этого я не знаю, — говорю. Этот вопрос с самого начала вертелся у меня в голове; я надеялся, что никто другой об этом не подумает. — Этого я не знаю, а у капитана спросить не решился. Если он поймет, что мы что-то замышляем, то может сделать так, чтобы нас раскидали. Тут надо подумать.
Я никогда не замечал, что от голода становлюсь умнее, — так что ел и думал, думал и ел. Поужинал…
— Вот что. ребята, — говорю. — Что бы мы тут ни решали — критяне все равно сделают что захотят, от этого никуда не денешься. Значит, мы должны сотворить что-то такое, чтобы они сами решили, что мы команда; команда, которую стоит сохранить. Это ясно. Но что мы можем сделать? И где? На Крите, может, уже и случая не будет; а здесь, на корабле, нас никто из влиятельных людей не видит… Этот Лукий, при всех его замашках, в Кноссе может оказаться мелкой рыбешкой. Так что это все не просто!
И тут впервые заговорил Менестий с Саламина, жилистый смуглолицый мальчик, сын корабельщика:
— Послушайте, мы можем сделать это при входе в гавань. Как финикийцы: они всегда подходят к причалу с песнями и пляской.
Я хлопнул его по плечу.
— Молодец! — говорю. — Так мы сразу двух зайцев ловим. Точно, мы должны плясать для них, все вместе.
Тут афинские девчонки завизжали, как поросята. Мол, они никогда, никогда не вставали в общий круг с мужчинами и ни за что на свете этого не сделают; мол, если об этом узнают их родители — умрут от стыда; и уж пусть им предстоит потерять жизнь, но честь свою они не потеряют!.. Запевала, конечно, Нефела. Меня уж тошнило от ее скромности; она размахивала, как знаменем, этой своей скромностью…
— Ладно, ладно, — говорю, — когда закончишь — погляди-ка на капитана. Посмотри, как он одет. — Он как раз сидел, маленький бандаж не был виден, и казалось, что, кроме сандалий и ожерелья, на нем вообще ничего нет. — Вот в таком наряде, — говорю, — ты будешь выступать в Бычьей Пляске перед десятью тысячами критян. А если это тебя не устраивает — попроси его повернуть и отвезти тебя домой.
Она было заревела, но я так глянул на нее, что утихла вмиг.
— А теперь, — говорю, — мы будем плясать танец Журавлей.
Рена вытаращила глаза:
— Но ведь это мужской танец!
Я поднялся.
— Отныне и впредь это наш танец, — говорю. — В круг!
И вот на маленькой кормовой палубе мы плясали Журавлей. Море было темно-синее, как эмаль, что кузнецы вжигают в бронзу; вокруг в пурпурной и золотой дымке плыли острова…
А оглядев наш круг, я увидел в вечернем солнце словно гирлянду, сплетенную из белых и смуглых рук, из светлых и темных распущенных волос. Мы пели себе сами. Чернокожие воины улыбались, сверкали белками глаз и зубами и отбивали нам такт на своих полосатых щитах; на нас глядели и рулевой с кормы, и впередсмотрящий с носовой площадки; а на мостике поигрывал своим хрустальным ожерельем и гнул брови капитан, и маленький негритенок, что свернулся у его ног, тоже не сводил с нас свои глазенки.
Наконец, тяжело дыша, мы попадали на палубу. Ребята улыбались; и, глядя на них, я подумал: «Лиха беда начало. Охотничья свора — это не просто сколько-то собак; так и мы теперь».
Если разобраться, к тому времени я уже давненько не общался со своими ровесниками. И рядом с иными из них — как Хриза или Иппий — чувствовал себя так, словно годился им в отцы. Я был не только самым старшим, но и самым высоким из нас, кроме Аминтора.
— Славно, — сказал я ребятам. — Это заставит их присмотреться к нам. Наверно, нечасто жертвы приезжают к ним с пляской, а в порту народ будет нас встречать, так Лукий говорит. Похоже, что они там ставят заклады на плясунов: какой дольше протянет… Я никогда не слыхал, — говорю, — чтобы так легкомысленно относились к жертвоприношениям; но тем лучше для нас: даже их собственные боги, наверно, не слишком высоко их ценят.
Мы подходили на ночевку к острову. Чудесное это было место: в глубине острова — горы, поросшие виноградом и фруктовыми деревьями в цвету… А из одной — высокой, с плоской вершиной — подымался к небу тонкий дымок. Я спросил Менестия, не знает ли он, где мы.
— Это Каллиста, — говорит, — самый прекрасный из Кикладских островов. А вон священная гора Гефеста. Видно дым из его кузни, что идет из вершины.
Мы подходили к острову — и у меня мурашки пошли по коже. Словно увидел я священную и обреченную красоту, как Царя Коней, готового уйти к богу. Я спросил Менестия:
— Он гневается?
— Не думаю, — говорит. — Гора всегда дымит, по ней курс прокладывают. Это последняя стоянка перед Критом, дальше открытая вода.
— Раз так, — говорю, — нам надо доработать танец пока еще светло.
И мы начали снова. Сначала при свете заката, потом в сумерках — уже и лампы стали зажигать — плясали мы наш танец на берегу; а люди тамошние — они знали, кто мы такие, — стояли вокруг. Слов нет сказать — как они на нас смотрели! Мы развеселились, стали потешаться над ними… Мальчишки пошли кувыркаться; кто колесо крутит, кто сальто… и вдруг наша молчунья Гелика, всё так же молча прогнулась назад, на мостик, в кольцо, и — оп! — встала на руки.
Я рассмеялся.
— Вот это да! — говорю. — Кто тебя научил? Ты работаешь, как акробат!
— Конечно, — говорит, спокойно так, — я и есть акробат. Это моя профессия.
Она сбросила юбку, будто так и надо; под юбкой были короткие штанишки, вышитые золотом. И пошла — костей у нее будто вовсе не было; а на ногах бегать или на руках — ей было все равно. Черные солдаты, что сидели в кругу и слушали чьи-то рассказы, — все вскочили, тычут пальцами… «Хау, — кричат, — Хау!» А она — словно их и нет вообще… Но это только в работе, в танцах она себя так вела, а во все остальное время очень была скромная. Девушки-акробатки вообще должны быть скромными; ведь стоит ей забеременеть — что с нее толку?
Когда она закончила, я спросил, почему она не сказала нам сразу. Она потупилась на момент, потом глянула мне в глаза:
— Я думала, все меня возненавидят, за то что у меня больше шансов жить. Но теперь ведь мы все — друзья… Мне надо будет танцевать для критян?
— Конечно да! Клянусь Великой Матерью! Ты выйдешь в конце, завершишь наше представление.
— Но мне нужен будет партнер, чтоб меня поддерживать.
— Здесь нас семеро, — говорю, — выбирай.
Она замялась, потом сказала наконец:
— Я специально следила, кто как танцует. Только ты, Тезей, достаточно ловок… Но тебе твое положение не позволяет…
— Расскажи это быкам, — говорю. — Это их здорово позабавит. Давай показывай, что надо делать.
Это нетрудная была работа. Весу в ней было не больше, чем в ребенке, а от меня ничего не требовалось, кроме устойчивости. Под конец она сказала:
— У тебя хорошо получается. Если бы ты был простой человек — мог бы себе на жизнь зарабатывать нашим ремеслом.
Я улыбнулся:
— Приедем на Крит — этим ремеслом все будем себе жизнь зарабатывать.
Сказал-то с улыбкой, а оглянулся — все вокруг глядят на нас с таким отчаянием… И в голове мелькнуло: «Ну что толку? Зачем это все?..» Такая мысль появляется у каждого, кто взял на себя ответственность за людей; рано или поздно — обязательно появляется… Но я не дался ей.
— Верьте в себя! — говорю. — Если я смог научиться, значит и вы научитесь. Только верьте — и мы можем остаться все вместе. Лукий что-то говорил, будто князья, и вообще аристократы, покупают танцоров и посвящают их богу от своего имени. Быть может, кто-нибудь возьмет нас всех разом. Когда мы войдем в гавань, они все должны увидеть, что мы — лучшая команда, какую только привозили на Крит. А мы и есть лучшая команда — ведь мы Журавли!
Еще момент они стояли молча — и глаза их высасывали мою кровь как пиявки… Но тут Аминтор взмахнул рукой и закричал: «Ура!» — остальные подхватили… До чего ж я любил его в такие минуты!.. Он был надменен, резок, несдержан, — но честь свою берег пуще жизни. Его легче было б на куски разорвать, чем заставить нарушить клятву.
На другое утро вместе с утренней кашей мы прикончили еду, что везли с собой из Афин. Оборвалась последняя ниточка, что связывала нас с домом; у каждого из нас оставались теперь лишь его товарищи: мы сами.
2
Море вокруг Крита темно-темно-синее. Такое темное — почти до черноты. И пустынное, дикое, бурное… Ни один из нас не бывал еще на такой воде, чтоб не видно было берегов. Вот там воистину становишься песчинкой на божьей ладони — но, кроме нас, никто вроде этого не чувствовал. Дородная жрица вышивала, матросы драили корабль, солдаты натирали маслом свои черные тела, капитан сидел, а мальчишка полировал его золоченый нагрудник и шлем, гравированный цветами лилий…
К вечеру подул встречный ветер — парус убрали, гребцы взялись за весла. Корабль закачало, и к ужину никто из нас есть уже не хотел, кроме Менестия. Кое-кто запихал в себя понемногу еды, но еще до темноты все всё отдали назад. Полегли мы на палубу и об одном мечтали — умереть бы поскорей!..
«Если и завтра будет так же, — думаю, — нам конец». Гелика стонала, стала зеленая, как утиное яйцо… У меня у самого всё тело липло холодным потом, а под ложечкой было так противно — я пополз к борту: меня рвало.
Полегчало маленько, я огляделся. Окаймленное пурпуром солнце опускалось в море, сверкавшее как эмаль; на востоке, сквозь разрывы в тучах, проглядывали первые звезды… Я простер руки к Посейдону, но он не послал знака. Быть может, его там не было в тот момент: качал землю где-нибудь в другом месте?.. Но повсюду вокруг нас я ощущал другую силу — тайную, непостижимую… Она могла приблизить или отринуть, могла одарить счастьем или раздавить отчаянием — но не терпела вопросов. Не знаю почему, но я знал это. Мимо пролетели две чайки… Одна гналась за другой с диким криком, а первая — будто стонала в скорби…
Ослабевший, похолодевший, я ухватился за поручни, чтобы не упасть. И начал молиться: «Мать Моря, пенорожденная Пелида, владычица голубей, здесь твое царство. Не оставь нас, когда мы будем на Крите! Сейчас у меня нет жертвы для тебя, но клянусь: если вернусь в Афины — у тебя и твоих голубей будет свой храм на Акрополе».
Я снова опустился на палубу, закутался в одеяло с головой… Тошнота как-то прошла, уснул. Проснулся — звезды уже бледнели. И — ветер поменялся или мы сменили курс, но нам дуло в корму. Корабль легко скользил под парусом, гребцы спали, растянувшись как измотанные псы… Журавли все проснулись и жадно накинулись на вчерашний ужин.
А днем мы увидели впереди высокий берег Крита. Громадные желтые скалы вздымались отвесно, из-за них не было видно земли — сурово он выглядел, этот берег.
Большой парус убрали, вместо него подняли другой. Все корабли царского флота на Крите имели парадные паруса, их берегли и ставили лишь при входе в порт. Наш был темно-синий с красным гербом; на гербе — обнаженный воин с бычьей головой.
Афиняне смотрели на него окаменевшими глазами. Нефела — она всегда готова была заплакать, если что-то ее касалось, — Нефела заскулила:
— О! Ты обманул нас, Тезей! Это все-таки чудовище!
— А ну утихни! — говорю.
Нехорошо сказал, но уж больно она меня раздражала. Однако грубость мужская ей нравилась; так что она и впрямь утихла, даже вытерла слезы.
— Слушай, — говорю, — дурочка, это же изображение бога! Земного Змея рисуют с человечьей головой, а ты когда-нибудь видала таких?
Ребята рассмеялись, мне и самому стало легче.
— Когда подойдем к молу, — говорю, — приготовьтесь…
Береговые утесы прорезало устье реки, а подошли ближе — показался порт, Амнис. Он был больше Афин; и потому мы решили, что это Кносс, столица Крита. Солдаты выстроились на передней палубе, капитан стоял на своем мостике в золоченом шлеме и с копьем в руке, — завитый, надушенный, натертый маслом, — даже к нам на заднюю палубу долетал его аромат!
Тент наш убрали, чтобы нас было видно… Мы подходили к молу, а на нем были люди, много.
Я тогда ничего еще не знал — но от их вида я растерялся. Еще не было видно лиц — но было что-то в том, как они стояли и смотрели; в том, как ходили по молу… Казалось, этих людей невозможно удивить: они просто не заметят — как конь, приученный к колеснице, не замечает шума, внимания не обращает… Они пришли не рассматривать нас, а так — глянуть мельком и пойти дальше. Женщины с зонтиками, завитые головки усыпаны каменьями, кивают друг другу, разговаривают небрежно; стройные полуобнаженные мужчины в позолоченных поясах, в ожерельях, у каждого за ухом цветок в волосах… Ведут на поводках пятнистых псов; таких же гордых и апатичных, как они сами… Даже рабочие в порту оглядывались на нас через плечо, между делом; им наплевать было на нас. Я прямо чувствовал, как гордость вытекает из меня; будто кровь из смертельной раны… Вот этих людей я хотел поразить?.. Я представил себе их презрительный смех — и закусил губу, до крови.
Оглянулся… Журавли тоже поняли. Они ждали, как уставший раб ждет вечернего отбоя, — ждали, что я признаю наше поражение. «Они правы, — думаю, — мы обречены умереть, так хоть умрем достойно…» Да, так я подумал. Но потом пришла другая мысль. Вот мы уже на Крите — и у нас есть лишь один шанс попытаться спастись, иначе конец. А я взял на себя ответственность за этих людей — так пусть же хоть весь мир потешается надо мной, я это вынесу, но отступать нельзя, это предательство!..
Я хлопнул в ладоши и крикнул: «Запевай!»
Ребята начали собираться в круг. И по тому, кто из них поднялся первым, я узнал в тот миг лучших из них, самых стойких, самых надежных: Аминтор, Хриза, Меланто, Ирий, Иппий, Менестий, добрая дурнушка Феба… А Гелика уже была на месте — она одна из всех нас не дрогнула. Она стояла прямо. Гордо и независимо — не хуже тех критян, — и всё ее стройное тело дышало пренебрежением к чужеземцам. Она словно говорила им: «Вас ли мне стыдиться?! Мне аплодировали цари!..»
Это она нас спасла. До сих пор она только баловалась, лучшие свои номера берегла до представления, а тут выдала всё что умела. Мы шли мимо мола, но критяне, что были вокруг, нас уже не интересовали: все смотрели только на нее. Я подбросил ее вверх, как она меня учила, почувствовал ее сильные умные руки на своих плечах, когда она вышла в стойку…
Вокруг послышались возбужденные голоса, люди окликали друг друга… Я не мог оглянуться и посмотреть, но представил себе все эти презрительные взгляды… «Мы все в руке судьбы, — думал я, — вчера я царь, сегодня акробат… Но провалиться бы, уйти б на дно морское!.. Хоть бы отец никогда не узнал об этом…»
Гелика дала мне знак, что сейчас прыгнет; и когда я ловил ее — лицо ее оказалось против моего, и она мне подмигнула; весело так, задорно… Танец кончился.
Я оглянулся. Лукий на своем мостике весело махал рукой своим. Уж так он был собой доволен, что мне захотелось его пнуть, хоть я и понял, в чем дело: он гордился нами, он хвастался нами… Мы — выиграли!
Швартовались мы у высокого каменного причала. А за ним были дома, дома… Словно выстроились рядами башни — по четыре-пять этажей. На причале кишела толпа; все смуглые, быстроглазые… Среди них были и жрецы, я думал они пришли за нами, но они стояли и болтали друг с другом — просто пришли поглазеть, как и все. Они были в юбочках, в знак того что служат Богине и посвятили ей свое мужество: безбородые пухлые лица, тонкие голоса…
Нас вывели на пирс, и мы долго стояли там под жарким критским солнцем. Солдаты расположились вокруг, капитан небрежно облокотился на копье… Но никто не ограждал нас от толпы, и зеваки окружили нас роем. Женщины шушукались и хихикали, мужчины спорили… Впереди всех стояла кучка дешевых гнусных типов в фальшивых драгоценностях, вроде того с кем я схлестнулся в Трезене, но на этот раз я не мог погнать их с глаз долой. Это были игроки. Пришли заключать пари, ставить ставки на нашу жизнь.
Они расхаживали вокруг нас, торгуясь на смеси критского с изуродованным греческим, — так говорит в Кноссе подобная шантрапа, — потом подошли, стали ощупывать наши мускулы, подталкивали друг друга локтем, щипали девушкам бедра и грудь… Аминтор уже замахнулся на одного, но я схватил его за руку: это было ниже нашего достоинства вообще замечать их. Но они обращались с нами!.. У нас быка или коня, предназначенного богу, окружали почестями, лелеяли; а они здесь крутились вокруг нас, будто барышники на скотном дворе. К смерти я был готов, но неужто — думаю — придется уйти к богу с таким позором?! Уж лучше было бы прыгнуть в море, чем стать паяцем для этих подонков.
Вдруг за спиной взревел рог; я резко, прыжком, обернулся на звук… Каждый, кто был воином, сделал бы то же. Но там были все те же игроки: тыкали пальцами, выкрикивали ставки… Этот фокус они проделывали со всеми новыми плясунами: кто быстрей отреагирует, кто испугается… Хриза не плакала, но глаза были полны слез: она, наверно, в жизни не слыхала грубого слова до сих пор… Я взял ее за руку, но тут же про нас понесли какую-то похабщину — отпустил.
Какой-то вонючий тип ткнул меня в бок — он на самом деле был вонючий, гнусно от него пахло, — спросил как меня зовут. Я ему не ответил — он стал кричать, будто глухому идиоту: «Сколько тебе лет? Когда ты последний раз болел? Откуда у тебя эти шрамы?..» Я отвернулся от его зловонного дыхания и встретил взгляд Лукия. Тот пожал плечами, словно говорил: «Я не в ответе за этих мужланов. Но когда с тобой обращались учтиво — ты этого не ценил».
Но вот все головы в толпе повернулись. Я посмотрел, куда глядели все, — вверх по крутой улице, — оттуда спускалось несколько носилок. Потом появились еще и еще, заполнили всю дорогу меж мусорных куч… Было видно, что Лукий очень доволен, и я понял — он нас держал здесь не для потехи этой черни.
Носилки приблизились. На передних, открытых, сидел в кресле мужчина, держал на коленях кота в бирюзовом ошейнике… За ним следовали две дамы; в закрытых носилках, но шторки отдернуты, и рабы бежали так, чтобы их хозяйки могли разговаривать друг с другом на ходу. Обе наклонились друг к другу и оживленно жестикулировали, а носильщики — они все маленькие были какие-то, — носильщики с внутренней стороны аж гнулись, казалось у них плечи поломаются.
Люди на носилках были значительно крупнее, чем критяне вокруг, и более светлые. Тут уж я был уверен, что они из Дворца: я знал, что в роду Миноса эллинская кровь, и двор говорит по-гречески. Носилки опускали на землю — всё новые и новые, — слуги вынимали из них своих господ, мужчин и женщин; осторожно вынимали, будто драгоценные вазы; ставили на ноги, давали им в руки их собачек, их веера, зонтики… Казалось, каждый из них привез с собой какую-нибудь игрушку; у одного мужчины — у мужчины! — сидела на руках обезьянка, покрашенная в синий цвет… И при этом — хотите верьте, хотите нет, — ни у кого из всех этих людей, — а они ежедневно бывали у царя, сидели за столом его, ели его мясо, пили его вино, — ни у одного из них не было оружия, ни один не носил меча!
Они целовались при встрече, касались руками — и все разговаривали разом, высокими чистыми голосами, какие бывают у придворных. Язык у них был очень чистый, только чуть слишком мягко они говорили, для нашего уха. И слов у них было больше, чем у нас: они все время говорили о том, кто что думает там или чувствует… Но в основном их можно было понять. Женщины называли друг друга такими детскими именами, какие у нас в ходу только для грудных младенцев; а мужчины всех их называли «дорогая» — его жена это была или нет — без разницы; и вообще этого нельзя было понять… Я вот видел, как одна и та же женщина целовалась с тремя мужчинами при встрече. До того это меня в тот раз поразило — до сих пор помню.
Лукия они приветствовали радостно, но без особого почтения; заметно было, что он слишком похож на коренного критянина. Однако и ему досталось несколько поцелуев. Какая-то женщина с парой маленьких попугаев на плече сказала ему: «Видите, дорогой мой, насколько мы вам верим! Проделать этот путь в полуденную жару — за один лишь слух, что вы привезли что-то новенькое!» Подошел мужчина — тот, с котом в ошейнике. «Надеюсь, ваши лебеди не окажутся гусями», — говорит. Подошла еще одна, — лицо старое, а волосы молодые, — я до тех пор не видел париков, вообще не знал что это такое, удивился… Она опиралась на руку молодого человека — сын то был или муж ее, не поймешь. «Ну-ка покажите, покажите!.. Мы самые первые сюда приехали и должны быть вознаграждены… Вот эта девушка? — она рассматривала Хризу, стоявшую возле меня. — Но она же совсем еще ребенок. Года через три — да. О, да!.. Года через три это была бы такая красавица — из-за нее бы города горели… Какая жалость, что она не доживет!» Хриза задрожала — я почувствовал это и мягко погладил ей руку. Молодой человек наклонился к старухе в парике и тихо сказал ей на ухо: «Они понимают вас». Она отодвинулась и подняла брови, словно возмущенная нашим нахальством. «Ну полно, дорогуша! — говорит. — Ведь они же в конце концов варвары. У них не может быть таких чувств, как у нас!»
Тем временем человек с котом говорил с Лукием, и я услышал их разговор.
— … ну разумеется, но это на самом деле что-то значит?.. Ведь эти цари тамошние размножаются, как кролики; я уверен, что у него полсотни сыновей…
— Но этот законный, — ответил Лукий, — больше того, он наследник… Нет-нет, никаких сомнений… Вам надо было бы увидеть ту сцену, увидеть и услышать. Но самое главное — он пошел добровольно. Насколько я понял, это жертва Посейдону.
— Послушайте, так это правда, что на материке цари до сих пор приносят себя в жертву?! — это спросила женщина. Молодая, глаза как у лани, громадные, и казались еще больше от краски. — Это как в старых песнях?.. Как это должно быть прекрасно — быть мужчиной, путешествовать, своими глазами видеть все эти первобытные дикие места!.. Покажите мне принца!
Ее друг поднес ей к губам павлиний веер и прошептал: «Вы сами его сразу отличите». Они оба искоса глянули на меня из-под подсиненных век и отвели глаза.
Я заметил, что все эти дамы смотрели на девушек и говорили о них так, словно те были уже мертвы, а к нам, к мужчинам, относились как-то по-другому. В тот первый день я удивился, почему это.
С прибытием важных господ толпа вокруг расступилась и притихла. Теперь нас рассматривали эти — без гнусных похотливых шуток, но холодно и бесстрастно, будто мы лошади. Проходя мимо меня, двое разговаривали:
— Не понимаю, зачем Лукий устроил этот спектакль. Если бы он помолчал до торгов, у него самого был бы шанс…
— Никоим образом, — ответил другой, — знатоков у нас предостаточно. А Лукию, по-видимому, нравится, чтобы о нем говорили. Иначе он продал бы свои новости, и мы все знаем кому.
Первый оглянулся и понизил голос:
— Из Малого Дворца никого… Если он узнает последним — Лукий будет весьма огорчен.
Другой без слова поднял брови и показал глазами.
Я проследил его взгляд.
Подъезжал еще один. Не на носилках, а на чем-то вроде телеги. Ее тащили два громадных вола, рога темно-красные с позолоченными концами… Под балдахином из тисненой кожи, что висел на четырех угловых стойках, было кресло, похожее на трон, и в нем сидел человек.
Он был очень смуглый; кожа не красноватая, как у коренных критян, а зеленовато-бурая, похожая на цвет спелой маслины. И грузен он был — как вол. Шея не тоньше головы, так что лишь сине-черная борода отчеркивала лицо. Жесткие черные кудри блестели маслом над низким лбом; широкий нос, вывороченные черные ноздри… Если бы не толстые мясистые губы, можно было б сказать — звериное лицо, морда скотская. Только рот у него выдавал, что этот человек умеет чувствовать и мыслить; а глаза — глаза были абсолютно непроницаемы. Они просто смотрели, не выдавая ни чувств, ни мыслей, ни намерений своего хозяина: он сделает всё, что захочет, и этого никогда не угадаешь заранее. Эти глаза напоминали мне что-то давнишнее, но я не мог вспомнить что.
Телега подъехала, и слуга, что вел быков, остановил их. Придворные учтиво приветствовали, приложив ко лбу кончики пальцев, — тот человек едва шевельнул в ответ рукой, грубо и небрежно. Он не спустился вниз, а поманил — Лукий подошел к нему, поклонился… Я едва слышал, но слышал их голоса.
— Послушай, Лукий, я надеюсь, ты доставил себе сегодня достаточно удовольствия. Но если ты хотел доставить удовольствие мне — ты даже больший дурак, чем кажешься с виду.
Скажи это вождь среди воинов — ничего особенного. Но здесь — после всех утонченных манер и учтивых разговоров, — здесь будто дикий зверь ворвался в толпу людей, которые его боялись. Все отодвинулись и отвернулись, чтобы можно было сделать вид, что не слышали.
Лукий оправдывался:
— Мой господин, здесь никто ничего не знает. Это представление в гавани, этот танец — люди думают, что я их научил, — но этот танец ребята затеяли сами. Я никому не стал этого говорить — хранил правду для вас. Так что все это гораздо значительнее, чем все думают.
Тот кивнул небрежно, вроде сказал: «Ну что ж, быть может ты и не врешь». Кивнул и стал разглядывать нас по очереди, а Лукий что-то шептал ему на ухо.
Аминтор — он стоял возле меня, — Аминтор спросил:
— Как ты думаешь, это сам Минос?
Я глянул на того еще раз и поднял брови.
— Он? — говорю. — Ни в коем случае. Род Миноса эллинский, а кроме того — какой же это царь?!
Мы так долго простояли там среди толпы, так долго они говорили о нас, как о животных, неспособных их понять, — я совсем забыл, что они могут понять нас. А они, разумеется, поняли; поняли все. Стало тихо-тихо, все разговоры вмиг смолкли… Царедворцы стояли такие растерянные, словно я бросил молнию среди них, а они должны сделать вид, что не заметили… И тот человек тоже услышал.
Его глаза остановились на мне. Большие, мутные, слегка навыкате… Я вспомнил, где я видел такие глаза: так смотрел на меня бык в Трезене, перед тем как опускал голову и бросался вперед.
«Что с ними? — думаю. — Отчего эта суматоха тихая? Или этот малый — царь, или нет. Так что теперь?.. Но что я натворил!.. Та старуха, дома, не зря обругала меня выскочкой: я хотел сделать так, чтобы тут о нас заговорили, — а что из этого вышло? Этот скот наверняка берет здесь всё, что захочет; теперь он хочет забрать нас, а худшего хозяина во всем Кноссе не сыскать, уж это точно. Человек предполагает… Вот к чему самонадеянность приводит, лучше б я оставил всё как есть, на волю бога… Но что теперь делать? Как выкрутиться из этой истории?»
И тут он сошел со своего трона. По его телу я думал, что он будет локтей четырех ростом, но он оказался со среднего эллина, настолько коротки были толстые уродливые ноги. Когда он подошел поближе, я покрылся гусиной кожей: что-то такое было в нем — не уродство, не злобный вид, — что-то другое, отвратительное и противоестественное, — не знаю как объяснить, но чувствовал.
Он начал ходить вокруг нас, разглядывать… Парней ощупывал, как повар, что покупает мясо; а с девушками был бесстыден до безобразия, хоть все смотрели на него. Я видел — он считает себя вправе не считаться с ними, ему нравилось их шокировать. Меланто разозлилась — он хохотнул довольный, понравилось; Гелика источала молчаливое презрение, не замечала его, словно его не было рядом, словно его руки не касались ее… Наверно, в ее профессии ей не раз приходилось смиряться с чем-то подобным, и ей было теперь легче, чем остальным. Нефела вздрогнула — он захохотал и шлепнул ее по ягодице… Хризу я любил больше всех и за нее больше всего переживал. Когда он направился к ней, я сказал ей тихо: «Не бойся ничего, ты принадлежишь богу». Его глаза повернулись ко мне — я понял, что меня он оставляет напоследок.
Чтобы не выдавать свою напряженность, я отвернулся — и увидел новые носилки, которых раньше не было. Их опустили неподалеку, но занавески из дорогой плотной ткани были задернуты; и один из носильщиков звал Лукия. Лукий тотчас подошел, склонился низко, приложил ко лбу ладонь со сжатыми пальцами — у нас так приветствуют богов. Занавески чуть раздвинулись: узенькая щелочка, через которую ничего не было видно снаружи… Хоть я ничего не слышал, но кто-то говорил там внутри: Лукий опустился на одно колено, в пыль, и внимательно слушал.
Я ждал, что и остальные проявят почтение к хозяину этих носилок; но все проходили мимо, едва взглянув, словно их там вовсе не было. Это меня поразило. Я считал, что хоть что-то понимаю, знаю как должно обходиться с людьми высокого положения… Или этот человек должен считаться невидимым? Как боги?..
Дальше мне стало не до этих мыслей: тот урод подошел ко мне. Он посмотрел мне в глаза, потом положил свои черные волосатые лапы на плечи Хризе и начал грубо ощупывать ее, всю. Я едва не взорвался от ярости, но понял, что если сейчас ударю его — пострадает больше всех она. Взял себя в руки…
— Не обращай внимания, — говорю, — люди здесь — хамье, но мы пришли к богу.
Он повернулся — гораздо быстрей, чем я ждал от него, — повернулся и схватил меня за подбородок. От него пахло мускусом, тяжко, тошнотворно… Одной рукой он держал меня, а другой ударил по лицу; так ударил, что на глазах выступили слезы. Правой рукой я не мог шевельнуть: на ней потом долго держались следы ногтей Хризы, много силы пряталось под ее нежной красотой. Позади, среди придворных, раздался ропот; мол, обычай нарушен, святотатство… Казалось, они поражены больше, чем я. На самом деле, кто думает, что у раба могут быть какие-то права?.. Я был бы готов к этому, если б с нами не нянькались так на корабле. Услышав голоса, он быстро обернулся — всё опять стало тихо, все лица бесстрастны… Они были мастера на этот счет. А я — я ненавидел их только за то, что они видели мой позор; их лицемерие меня не тронуло.
Все еще держа меня за подбородок, он заговорил:
— Не плачь, петушок, быки бьют гораздо больнее!.. Как зовут тебя в тех краях, откуда ты прибыл?
Я ответил громко, чтобы всем было слышно, что не плачу:
— В Афинах меня зовут Пастырь Народа, в Элевсине зовут Керкион, а в Трезене — Дитя Посейдона!
Он дышал мне в лицо.
— Слушай ты, дикарь материковский, мне наплевать, какими титулами тебя награждают в твоих племенах. Назови свое имя!
— Мое имя Тезей, — говорю, — я бы сразу тебе сказал, если б ты спросил по-человечески.
Он снова ударил меня по лицу, но теперь я уже ждал этого, так что не шелохнулся. Потом где-то за его глазами появилась какая-то мысль.
Закрытые носилки все еще стояли там же. Лукий отошел, но щель в занавесках осталась, хоть не было видно руки, которая держала их.
Тот человек, что бил меня, был занят с нами — и ни разу не глянул в сторону носилок, вообще не знал о них. Кто же там в носилках? Он будет разгневан, если увидит, что этого оскорбили? Этот — его все должны ненавидеть, от богов до последних собак; и его не подозвали поговорить; Лукия позвали, а его нет… Но на Крите всё сложно…
— Дитя Посейдона!.. — он осклабился. — А откуда это взяли, что Посейдона? Твоя мать купалась — так? — и встретила угря?..
Он обернулся к придворным, те рассмеялись, словно подать платили…
— Я его слуга и его жертва, — говорю. — Это между ним и мной, других это не касается.
Он кивнул с презрительной ухмылкой — а тусклыеглаза прятали его мысль, — кивнул и огляделся вокруг, чтоб убедиться, что все ему внимают. На указательном пальце у него было золотое кольцо. Большое, тяжелое. Он снял его, подбросил на ладони… А потом — швырнул через причал. Оно сверкнуло на солнце, прочертило в небе яркий след и упало в море. И я видел еще, как уходил в глубину золотой отблеск… А среди критян раздался глухой ропот: толпа ахнула, словно увидела дурной знак.
— Ну что ж, Дитя Посейдона, — сказал он, — если ты так близок со своим рыбьим папочкой, так он отдаст тебе кольцо. Иди-ка, попроси!
Какой-то момент мы глядели друг на друга неподвижно, потом я бросился на край пирса и нырнул. В море было прохладно и тихо — так хорошо после этой жары на пирсе, после шумной толпы зевак!.. Я открыл глаза. Надо мной переливалась светом поверхность моря, а внизу на дне — чего там только не было!.. Темные пятна губок, кучи отбросов с кораблей, битые горшки, драные корзины, гнилая кожура от фруктов, тыквенные бутылки, старые обглоданные кости…
«Он меня хорошо разыграл. Он знал — я не отрекусь от бога. И вот ныряю для него как мальчишка, раб бедного рыбака, что таскает раковины своему хозяину… Он это специально сделал, чтоб сломить мою гордость… Да нет, тут не в гордости дело — он хочет меня убить. Ведь знает, скот, прекрасно знает, что с пустыми руками я не вынырну!.. Но если я захлебнусь здесь — это моя вина, никто не сможет сказать, что это он убил священную жертву… Да, это умная сволочь. Кто-то должен его убить, должен, нельзя, чтоб такие жили…» — так думал я. А тем временем искал и искал среди мусора в мутной воде… Я вдохнул сколько мог перед тем как нырнуть, но опыта у меня не было, — воздуха уже не хватало, уже давило грудь… «Скоро в глазах потемнеет — и мне конец», — думаю.
Передо мной был камень, а под ним сидела каракатица и шевелила щупальцами, будто дразнилась: туда-сюда, туда-сюда… Словно становилась то больше, то меньше, как во сне… И тут я услышал рев в ушах, будто удары прибоя по гальке прибрежной, и голос моря сказал: «Ты хвастался мною, Тезей, но разве молился ты мне?» Мой рот был запечатан морем, и потому я взмолился молча, в сердце своем: «Помоги, Отец! Спаси народ мой, дай мне отомстить за бесчестье!» В глазах прояснилось, и в грязи под каракатицей я увидел что-то блестящее. Я схватил. Каракатица ударила меня по кисти, потом испугалась и уплыла, зачернив воду вокруг… Наверно, она проглотила кольцо, но извергла его по приказу бога.
Я рванулся наверх, к свету. Дышал — будто восстал из мертвых, так я дышал; надышаться не мог… Кольцо болталось на пальце, потому я плыл к ступеням причала со сжатым кулаком. Журавли кричали радостно, махали руками… Я смотрел на своего врага. Было видно: пока я был под водой, он уже приготовил слова, которые скажет, когда я вернусь с позором или не вернусь вовсе. Теперь улыбка сползла с его губ, рот стал прямым и жестким, а глаза не изменились: все тот же круглый, тупой взгляд. Он шагнул ко мне — голос надменный, хриплый:
— Ну, ну! Похоже, что ты не нашел своего призвания. Ведь ты прирожденный рыбак! — и протянул руку за кольцом.
Я снял его с пальца, рассмотрел… На нем была вырезана богиня, в высокой диадеме со змеями в руках. Я вытянул руку ладонью вверх, так что кольцо было всем видно, — чтобы он не мог сказать после, что это был фокус с камушком:
— Вот твое кольцо, — говорю, — узнаешь ты его?
— Да, — он набычился, шагнул ко мне. — Дай сюда.
Я отступил на шаг.
— Так значит ты его видел, оно у меня. Но оно уже было у Посейдона, и мы обязаны вернуть его… — и швырнул кольцо обратно в море. — Если оно тебе нужно, — говорю, — оно меж тобой и богом.
Вокруг было так тихо, что ясно послышался всплеск кольца. Потом в толпе вдруг заговорили. По-обезьяньи быстро и пронзительно тараторили бедняки-критяне — носильщики, гребцы, матросы, — я их совсем не понимал, — и даже среди придворных прошелестел какой-то шепот, щебет, словно птицы прятались в густой листве.
Я посмотрел на закрытые носилки. Щель стала еще чуточку шире, но заглянуть в нее было по-прежнему невозможно. Я чувствовал, если бы не этот невидимый свидетель — я бы не решился бросить кольцо обратно в море. Это безумие, конечно, — но, может, так лучше?.. По воде еще расходились круги от кольца… Я повернулся лицом к его хозяину.
Думал — он будет вне себя от ярости; готов был к избиению, если не хуже… Но он был совершенно спокоен, смотрел все так же мрачно и безразлично. Потом голова его поднялась, словно сама собой, рот раскрылся — и вся площадь заполнилась его громовым ревущим смехом. Этот смех поднял чаек, они с криками заметались над морем…
— Молодец, рыбачок! Приз достался твоему рыбоотцу… Так замолви ему словечко за меня, скажи, пусть не забывает Астериона!
Он с хохотом повернулся к своей бычьей телеге и тут впервые увидал те носилки. На миг смех соскользнул с его лица, как маска с оборванной тесемкой, — но он тотчас подхватил ее; и когда уезжал — трон его содрогался от хохота.
3
Кносская дорога уходит от порта вверх. Вокруг — фруктовые сады, серебристые оливковые рощи… Суровые прибрежные скалы богатую прятали землю.
Нас сопровождали всё те же черные солдаты, но Лукий меня избегал. Неудивительно: ведь я разозлил влиятельного вельможу, а это заразная болезнь… Дома богатых купцов были не хуже дворцов. Я все время ждал, что один из них окажется царским домом, — но увидел, как ухмыляются солдаты, и перестал спрашивать.
Но вот мы вышли за город, дома кончились, и Лукий подошел поближе. Выглядел он забавно: будто оценивал сомнительную лошадь.
— Кто это был на телеге с волами? — спрашиваю.
Лукий огляделся — вроде бы незаметно, как это у всех придворных, — и говорит:
— Вы глупо себя вели. Это же сын царя, Астерион!
Я рассмеялся.
— Слишком звездное имя, — говорю — для такой низкой твари
— Это имя не для вас. Титул наследника — Минотавр.
Минотавр, Бык Миноса… «Трех быков повстречаешь!» — проклятая старуха, гадание ее… Волосы на затылке зашевелились, будто кто пером провел… Но я никому ничего не сказал: это касалось только меня
Дорога вышла на плодородную равнину, окаймленную горами. Контур горного хребта был изумительно похож на громадного человека с длинной бородой, лежащего на носилках. Я показал это ребятам, и Ирий сказал:
— Я слышал об этом. Здесь они зовут эту гору Мертвый Зевс.
— Мертвый?! — Журавли все были возмущены таким святотатством.
— Да, — сказал Ирий. — Эти землепоклонники думают, что он каждый год умирает.
Я все еще глядел на эти горы, когда Меланто закричала: «Смотрите, смотрите!..» На одном из горных отрогов, что вдавался в долину, был уже виден с дороги Дом Секиры.
Представьте себе все царские дворцы, сколько вы их видели в жизни, составьте их вместе и друг на друга — это будет маленький домик по сравнению с Домом Секиры. В границах этого дворца можно было б выстроить большой город; он занимал всю вершину горного отрога и спускался вниз — терраса за террасой; колонны — ярус за ярусом — ярко-красные, будто тлеющие колонны, почему-то более тонкие снизу, с синими полосами наверху и у основания — того сочного, блестящего синего цвета, который так любят критяне… За колоннами виднелись портики и балконы с веселыми расписными стенами — они казались цветочными клумбами в полуденной тени… Вершины кипарисов едва виднелись над крышами дворцовых зданий, так они были высоки; а над самой высокой крышей, на сверкающей лазури критского неба была — словно вырезана — пара громадных, мощных рогов, вонзавшихся ввысь.
Я увидел — и задохнулся, как от удара в живот. До меня доходили рассказы из третьих рук, от путешественников, видевших это; но я представлял себе нечто пусть большое, роскошное — но все-таки подобное тому, что доводилось видеть раньше. Теперь я чувствовал себя словно козопас, что впервые спустился с гор и видит свой первый город… У меня челюсть отвисла — точь-в-точь, как у тех козопасов. Хорошо, я сам заметил это раньше Лукия и успел закрыть рот. Вот теперь я готов был заплакать. Никто меня не бил, не старался унизить… Но увидеть такое!..
Журавли обменивались впечатлениями, ахали…
Вдруг Аминтор окликнул меня:
— Тезей, а где же стены?
Я присмотрелся. Дворец расположен был на пологом легком склоне, но стены вокруг него были — просто ограда вокруг обычного дома: держать воров снаружи, а рабов внутри. Даже на крышах не было парапетов — негде лучнику укрыться, — ничего там не было, кроме дерзких рогов, по паре на все четыре стороны света. Такова была мощь Миноса: его стены были на море, где господствовал его флот. Я смотрел на дворец молча, стараясь не выдать своего отчаяния. Я чувствовал себя — ну как ребенок, затесавшийся в войско с деревянным копьем. А еще — деревенщиной, неотесанным, тупым… а это еще страшней в молодости.
— Всё очень красиво, — сказал я. — Но если на Крит придет война, они не удержатся здесь и дня.
Лукий меня услышал. Но здесь, на родной земле, он слишком хорошо себя чувствовал, чтобы рассердиться. Он беззаботно улыбнулся:
— Дом Секиры стоит тысячу лет и до сих пор рушился лишь тогда, когда его сотрясал Земной Бык. Когда вы, эллины, еще кочевали со стадами в северной стране травы, Дом Секиры уже тогда был древним… Я вижу, вы сомневаетесь? Это естественно. Мы научились у египтян высчитывать годы и века. А у вас, наверно, в ходу фраза: «Давным-давно, никто не помнит…» Не так ли?
Он отошел раньше, чем я сумел придумать ответ.
Во дворец мы вошли через громадные Западные ворота. По сторонам опять стояли, смотрели на нас люди; а перед нами были огромные красные колонны, а за ними — какие-то раскрашенные тени: то ли люди в сумерках портала, то ли роспись на стенах… Я шел впереди, глядя прямо перед собой. Если кто-то заговаривал рядом или что-то еще удивляло меня — я медлил, а потом поворачивался медленно и небрежно, будто только что соизволил это заметить. Оглядываешься назад — это кажется смехотворным: мальчишеское тщеславие, как бы не застали врасплох, не подняли бы на смех мужлана неотесанного… Однако след во мне остался с тех пор на всю жизнь. Я слышал, люди в Афинах говорят, что я держусь более царственно, чем, бывало, мой отец. А смолоду я был шустрый, и вечно во всё вокруг совался, — как щенок, — это в Доме Секиры научился я спокойствию и выдержке; там научился двигаться резко лишь в случае нужды.
Посмотреть на нас собралась целая толпа придворных, но — сколько я мог понять — эти значили гораздо меньше тех, приезжавших в порт. Забавно. Я ничего не понимал: зачем им было тащиться туда, раз нас все равно привели к ним?.. Мы прошли караульное здание и вошли в большой приемный зал. Там было полно охраны, царедворцев, жрецов и жриц… У дальней стены стоял высокий белый трон, но на нем никого не было.
И вот мы снова ждали; но на этот раз были окружены лишь ненавязчивым вниманием издали. Люди разглядывали нас осторожно, переговариваясь вполголоса… Чтоб убить время, я поднял глаза — и забыл свое твердое решение ни на что не глазеть: стены были расписаны Бычьей Пляской. Там было всё от начала до конца: красота и боль, искусство и страх, ловкость и мужество, изящество и кровь — вся свирепая музыка этого действа… Я глаз не мог оторвать, пока не услышал женский шепот: «Посмотрите-ка на того. Он уже хочет все знать». Вокруг зашикали: «Тихо!..»
Загрохотали копья гвардейцев — вошел царь Минос. Он поднялся сбоку на возвышение и сел на свой резной белый трон, положив руки на колени, в позе египетских богов. На нем была длинная красная риза, стянутая поясом, и он казался высоким. А может, это от рогов так казалось: в свете, падавшем из-под крыши, тускло блестело его золотое лицо и хрустальные глаза. В тишине я слышал, как мои Журавли тихо ахнули: «Ух ты!» Но и все. Старые критяне говорили потом, что мы были первой группой на их памяти, в которой никто не закричал от страха, увидев Миноса в бычьей маске.
Эта маска была творением великого художника — торжественная и благородная, — но я так и не успел ее рассмотреть: всё уже кончилось. Лукий шагнул вперед и произнес несколько слов по-критски (все обряды в Бычьих Плясках шли на древнем языке); какой-то момент мы чувствовали взгляд из-за хрустальных глаз; потом взмах золотой перчатки, снова грохот копий — царь ушел. Нас повели из Приемного Зала дальше, по расписным коридорам мимо бесчисленных колоннад, вверх по громадной лестнице под открытым небом, через какие-то проходы, и залы, и галереи… Мы уже не знали, где север, где юг, откуда и куда мы идем, — а нас вели всё дальше и дальше в глубь Дома Секиры. Критяне звали его Лабиринт.
Наконец нас привели в Большой Зал. У входа с каждой стороны стояла на каменной подставке двойная критская секира, священная Лабрис. Я догадался, что мы в храме. И верно — у дальней стены, в свете, сочившемся из-под крыши, сияла Богиня. Она была в шесть локтей высотой, в золотой диадеме; золотой передник стягивал ее талию и налегал на пышные складки юбки, искусно сделанные из эмали и драгоценных камней. Лицо ее было из слоновой кости, и из слоновой кости обнаженные округлые груди, а протянутые вперед руки обвивали золотые змеи. Ладони были повернуты вниз, словно призывали к тишине.
Нас повели дальше — на стенах были нарисованы обряды в ее честь, у ног ее стоял длинный жертвенный стол с золотой инкрустацией; и вокруг этого стола — знакомые лица: те самые аристократы, что приезжали в гавань посмотреть на нас; и среди них — темнокожий грузный Астерион, Бык Миноса. И впрямь — бык: любые двое из них были тоньше его одного.
Лукий остановил нас в десяти шагах. Мы ждали, люди у стола перешептывались… И вот из-за раскрашенной Богини вышла богиня во плоти.
Рядом с гигантским изображением она была совсем маленькой. Она и на самом деле была невысокой, даже для женщины, несмотря на свою диадему. Одета она была так же, как Богиня, только змей на руках не было; и даже кожа была похожа на слоновую кость: светлая, чуть золотистая, чистая и гладкая. Соски высоких круглых грудей были позолочены, как и те, над ее головой, и лица были раскрашены совершенно одинаково: глаза обведены чернью, брови утолщены и изогнуты, маленькие рты одинаково красные… Казалось, что и лица под этим гримом должны быть одинаковы.
Я с детства видел свою мать, одетую для священной службы, и все-таки затрепетал. Мать никогда не претендовала на большее, чем быть слугой божества; а эта маленькая непреклонная фигурка держала себя так, словно могла потребовать всего.
Она подошла к жертвенному столу, положила на него вытянутые руки — поза была та же, что у Богини… Потом заговорила — произнесла всего несколько слов на древнем языке, — чистый прозрачный голос, будто холодная вода на холодных камнях… Из-под густо накрашенных век нас разглядывали ее темные глаза. На миг наши взгляды встретились — вот тут я вздрогнул. Бычья маска Миноса не так меня поразила, как этот взгляд. Женщина-богиня! И молодая!..
Она стояла у стола и ждала, а остальные подходили к ней по одному, с глиняными табличками в руках. Каждый показывал на кого-то из нас и клал табличку на стол. Я понял, что это должны быть дарственные обязательства; вроде тех, что мать принимала дома от имени Богини: столько-то кувшинов масла или меда, столько-то треножников… Она читала их вслух, а жертвователь выплачивал все это после.
Здесь говорили по-критски, но все было точно так же, только здесь они покупали своих жертвенных ягнят. Человек с синей обезьянкой показал на Ирия, мужчина с котом — на Хризу, старуха в парике — на меня… Последним шагнул к столу Астерион и так ударил своей табличкой, что она загремела.
Она прочитала, остальные глянули изумленно на нее, на него — и хмуро отошли в сторону. Она сказала что-то — я разобрал лишь его имя, — он удовлетворенно кивнул и презрительно оглядел всех остальных. Еще миг она постояла неподвижно, в той же ритуальной позе, положив руки на стол… Потом, глядя ему в глаза, подняла ладони и показала ему его табличку. Она была расколота.
Тишина стала гнетущей, давящей… я видел, его подбородок спрятался в шее, он потемнел — и не сводил с нее глаз… Она выдержала этот взгляд, лицо было все так же неподвижно, — как у Богини, — потом повернулась и вышла, тем же путем, что пришла; и все подняли кулак ко лбу, отдавая ей дань почтения. Я сделал то же. Всегда надо почитать богов тех мест, куда попал; где бы ты ни был — всегда.
Царедворцы покинули храм. Было видно, как они заговорили, едва шагнув за двери: оживленно, но настороженно, с оглядкой. Астерион подошел к Лукию, мотнул головой в нашу сторону, отдал какое-то распоряжение… Лукий низко поклонился… Казалось, его ударило каким-то новым ужасом: не так он кланялся до сих пор. А я — я стоял прямо и ждал: думал, услышу сейчас, что меня ждет. Но наш новый хозяин повернулся на каблуках и вышел, даже не взглянув на меня.
Журавли тоже на меня не смотрели — стояли все, опустив глаза. А как мне им в глаза смотреть? Ведь все они платят за мою гордость… Но как бы я отрекся от Посейдона?! Ведь бог оставил бы меня!..
Теперь мне стало ясно, почему лишь самые богатые аристократы приехали в порт. Они могли позволить себе роскошь посвятить плясуна от своего имени и хотели выбрать такого, чтобы тот их не посрамил. Этот ритуал в храме был торжествен и суров; он возник, наверное, еще в те далекие времена, когда они относились к своим богам с большей серьезностью. А там, в порту, они смогли хорошенько рассмотреть нас и оценить.
Я совсем рехнулся, когда решил, что оскорбление помешает ему купить нас. Наоборот, он купил меня в отместку, в этом я не сомневался. Но остальных?.. Почему, зачем?..
Я пытался сообразить, есть ли хоть какой-то шанс спастись хоть кому-нибудь, если мы сейчас попытаемся бежать, но тут вошел молодой мужчина и подошел к Лукию.
— Я опоздал? Простите. Я забираю их от вас.
Говорил он легко, беспечно, — видно было, что исполняет свои обычные обязанности, — и я пошел за ним следом; а остальные за мной.
Мы снова шли по коридорам, лестницам, террасам… пересекли большой открытый двор… Потом за низким входом начался новый переход, с уклоном вниз… И я услышал какой-то звук; сначала тихо, невнятно. Прислушался — и ощутил на руке холодные пальцы. Это была Хриза, но она молчала; и все остальные затаили дыхание. Где-то, в пустом помещении, ревел бык. Он бушевал, и стены многократно отражали его крик, — а мы шли как раз навстречу этому реву.
Я глянул на человека, который вел нас. Он шел беззаботно и не казался ни грустным, ни веселым — просто был занят чем-то своим… Я погладил Хризе руку и сказал для всех: «Это не ярость. Прислушайтесь». Теперь мы подошли ближе, так что я мог расслышать его голос.
Мы пришли в низкую крипту. Окна, что были на уровне земли, освещали ее сверху, из-под самого потолка. В середине была расположена большая квадратная жертвенная яма, врытая еще глубже. Здесь бычий рев был нестерпим — от него голова раскалывалась… А он лежал на алтаре, — громадный каменный алтарь, — связанный, с подрезанными поджилками, и ждал ножа. Он хрипел, он стонал, он бился головой о камень… Но во всем остальном там царил покой и порядок: сильный молодой жрец — обнаженный, если не считать передника, с двойной секирой в руках — стоял с кувшинами и чашами для возлияний, три жрицы, хозяйка святилища…
Человек, за которым мы шли, подвел нас к краю ямы; она была глубиной в рост человека, и вниз вели ступени. Он поклонился почтительно и отступил назад, я глянул на него с вопросом: мол, что будет? Он нетерпеливо крикнул сквозь шум: «Вы должны быть очищены» — и собрался уходить. Я схватил его за руку. «Кто эта девушка?» — спрашиваю. И чтобы быть уверенным, что он меня поймет в этом реве, показал на нее.
Его будто оглушило — дар речи потерял… Потом жестко схватил меня за плечо и прошипел на ухо: «Умолкни, варвар! Это Пресвятая Ариадна, Богиня-на-Земле!»
Она заметила мой жест и напряглась. Видно было, что это женщина с сильным характером. Я коснулся ладонью лба и замолчал.
В наказание мне она долго не двигалась — держала нас в несмолкающем бычьем реве, и в напряженном ожидании… Потом поманила нас к себе, вниз по ступеням. Мы стояли перед ней в яме, и рев бился нам в уши… Но вот она произнесла какие-то ритуальные критские слова и подала знак, жрец взмахнул двойным топором — кровь фонтаном ударила в священную чашу, смолк тот непереносимый рев, и бычья голова безжизненно упала с алтаря.
Одна из жриц поднесла Ариадне длинный жезл с кисточкой на конце — держала под рукой, — но та отвела его в сторону и заговорила по-гречески:
— Вы должны быть чисты перед богами подземного царства. Есть ли среди вас такие, кто пролил кровь своих родных? Говорите честно, ибо на того, кто солгал, падет смертное проклятье.
Пока она говорила по-критски — была богиней с ног до головы; но на греческом в одном месте запнулась — и я услышал человеческий голос. Жрица повернулась в ее сторону, словно ритуал был нарушен.
Я шагнул вперед
— Я пролил, — говорю. — Недавно я убил несколько двоюродных братьев, троих своей рукой убил. И брат отца моего погиб, хоть сам я его не убивал.
Она кивнула и что-то сказала жрице. Потом обратилась ко мне:
— Раз так, то подойди. Ты должен быть очищен отдельно от других.
Поманила меня к алтарю, с которого стекала бычья кровь… Я стоял теперь совсем рядом с ней; под накрашенными бровями были видны свои — пушистые, мягкие… Вокруг было душно от горячего запаха крови, но — помню — я подумал тогда: «Может, она и вправду Богиня-на-Земле, но пахнет от нее женщиной». Дрожь пробежала по телу, сердце заколотилось.
Она снова заговорила, очень четко, будто каждое слово было золотым зерном и она отсчитывала эти зерна.
— Почему ты убил этих людей? В ссоре? Или это был долг кровной мести?
Я покачал головой.
— Нет, — говорю, — я воевал, защищая царство своего отца.
— А он царствует по закону?
Я едва расслышал. Мягко блестели ее пышные темные волосы, вьющаяся прядь упала на грудь, и я видел крошечные морщинки под позолотой соска… Я вспомнил, где мы, и сделал шаг назад, отступил от нее.
— Да, — говорю, — он законный царь.
Она кивнула, серьезно и вроде бы спокойно, но локон на ее груди колыхнулся — вверх-вниз, — и кровь пела у меня в ушах.
Она спросила — так же холодно, слово по слову:
— И ты был рожден в его доме, от одной из его женщин?
Я глянул ей в глаза — она не отвела взгляда, но веки дрогнули.
— Моя мать — Владычица Трезены, — говорю, — дочь царя Питфея и его царицы Климены. Я — Тезей, сын Эгея, сына Пандиона, Пастырь Афин.
Она стояла прямо и неподвижно, как статуя в храме, но маленький золотой диск в диадеме сверкнул — дрогнул…
— Раз так, то почему ты здесь?
— Я пожертвовал собой для народа. Мне был знак.
Она помолчала — я ждал, — потом сказала быстро, легко:
— Ты спасал кровь отца своего, проливая ту, о которой сказал. Ты можешь быть очищен.
Жрица снова протянула ей жезл, но она отвернулась, обмакнула пальцы в чашу с дымящейся кровью и начертила мне на груди знаки трезубца и голубя. Сквозь теплую липкую кровь я ощутил кожей ее прохладные гладкие пальцы — и это прикосновение было как удар, отозвалось в каждой жилке… Я решил не смотреть на нее: опасно раздевать богинь, даже мысленно… Все-таки посмотрел, не удержался, но она уже отвернулась: полоскала пальцы в чаше с водой.
Потом взмахнула рукой словно в нетерпении, и жрицы отвели меня в сторону. Она взяла кропильный жезл, обмакнула кисточку в кровь и обрызгала Журавлей, говоря при этом какие-то слова — заклинания? посвящение богу? — а потом пошла прямо к лестнице. А когда поднималась по ступеням, приподняла край юбки, — и я увидел ее маленькие ступни; изящные, с крутым сводом; чуть розовые пятки и пальчики… В Лабиринте знатные женщины не носят обуви; если они покидают полы дворца — их несут…
И вот нас снова вели по бесконечному и запутанному Дому Секиры. Иногда попадалась стенная роспись, которую мы уже видели; но вскоре мы сворачивали в сторону — и опять не знали, где находимся. Но наконец нас привели в коридор, который упирался в большие двери, сплошь обитые бронзовыми гвоздями. Наш проводник постучал в них рукоятью кинжала; охранник открыл, впустил нас, приказал ждать. Коридор шел дальше, и в дальнем его конце слышались голоса, отражавшиеся в каком-то высоком зале. Голосов было много, и все молодые.
Вскоре подошел человек лет сорока, полукритянин-полуэллин по виду. Мужик жилистый, с короткой черной бородой — было в нем что-то от лошадника или от колесничего. Наш провожатый сказал ему:
— Вот тебе новая группа, Актор. Подготовь из них команду, ни с кем не смешивай. Это приказ.
Актор оглядел нас, сощурив черные глаза… Снова нас оценивали, словно лошадей; но это был не покупатель: этот человек должен был работать с нами. Он хмыкнул.
— Так, значит, это правда? Он взял их всех? — снова оглядел нас. — Все в одну команду? Что это ему взбрело?.. Что ж, и капитана им не давать? А коринфянин?.. Что я с ним буду делать?
Наш провожатый пожал плечами — все критяне обожают этот жест.
— Я передал, что мне было велено, — говорит. — Спроси патрона. — И ушел.
Дверь за нами захлопнулась. Этот, Актор, еще раз оглядел нас — хмурится, насвистывает сквозь зубы… Девушек и ребят он оглядывал одинаково. Дошла очередь до меня. «Ты слишком стар для этой забавы, — говорит, — борода уже растет. Как ты сюда попал?» Я не успел ответить, он меня перебил: «Впрочем, ничего. Сложение у тебя в самый раз, посмотрим… Посмотрим. Надо делать, что можно, из того, что нам дают; да еще покровители нас учат нашему ремеслу…» — он еще что-то говорил, но уже невнятно; словно конюх, который бормочет что попало, успокаивая лошадей.
Потом вдруг сказал громко:
— Это — Бычий Двор. Ознакомьтесь, осмотритесь, скоро вас накормят.
Он щелкнул пальцами и ушел.
Я думал, нам в конце концов скажут, что мы должны делать; а нас просто впустили, как жеребят на конский выгон, — и всё: иди гуляй, пока гуляется. Я пошел дальше по коридору, навстречу шуму; Журавли за мной.
Мы вошли в громадный, очень высокий зал. Крыша его опиралась на кедровые колонны; окна были расположены очень высоко, под карнизами; глухие стены оштукатурены белым — и сплошь исписаны и изрисованы цветными мелками. Повсюду было полно народу, — и девчонок, и мальчишек, — кричали, ссорились, смеялись, гонялись друг за другом, играли в чехарду, швыряли мячи… Болтали кучками по двое-трое, несколько человек грустили в одиночку… Там были юноши и девушки всех цветов, каких только бывают люди: белые, черные, коричневые, золотистые… И все были нагими, если не считать небольшого набедренника из крашеной кожи да ожерелий либо браслетов. Высокие стены отражали дюжину чужих языков и столько же разных вариантов испорченного греческого… Похоже было, что их общий язык — греческий.
Прямо посреди зала стоял огромный пегий бык. Стоял как вкопанный, хоть двое ребят сидели у него на спине, а девчушка балансировала на роге.
Я удивился и пошел туда. Девушка увидела нас первой. У нее было финикийское лицо, с оливковой кожей, горбоносое, губы накрашены, бандаж вышит синим и золотым… Она была стройна, но мускулы под кожей прямо так и катались, будто у молодого борца. С момент она разглядывала нас, потом сунула в рот два пальца и резко засвистела — зал ответил эхом… Гомон прекратился, все обернулись смотреть — и возле быка возникла какая-то возня. Потом бык заревел, и голова его повернулась к нам. Нефела вскрикнула… «Тихо!» — говорю. Я видел, что все смотрят на нас выжидающе, и чувствовал — как-то нас разыгрывают. Бык не подходил — только орал и размахивал рогами… А когда я сам подошел ближе, услышал внутри его скрип и приглушенный смех. Из дырки в его животе с улыбкой выскочил тонкий смуглый парнишка… Бык был вырезан из дерева и обтянут шкурой, а рога — из позолоченной бронзы. Ноги его были закреплены на дубовой платформе, а в нее — в платформу — вделаны бронзовые колеса.
Нас окружила толпа. Все смотрели, забрасывали вопросами… Мы ничего не могли понять: все говорили очень плохо, да еще все разом… Некоторые щупали знаки, что были начерчены кровью у меня на груди, показывали их друг другу… На спине деревянного быка остался лишь один наездник; сидел спокойно и рассматривал нас издали. Но вот он поднялся на ноги, прошел по быку на цыпочках, прыгнул — и приземлился прямо передо мной. В прыжке, в воздухе, он двигался так уверенно и красиво, точно летел.
Он был хрупкий и меньше меня ростом — миноец с примесью эллинской крови. Он постоял на пятках, оторвав от пола ступни, балансируя словно танцор, потом сделал шаг назад и оглядел нас. Я никогда в жизни не видел ничего подобного — мне его не с кем было сравнить. На первый взгляд его можно было принять за шута; но тяжелые золотые ожерелья, ювелирные браслеты, камни, сверкающие на поясе и бандаже, — это всё было настоящее, не золоченая мишура; он носил на себе громадное состояние. Каштановые волосы ниспадали длинными завитыми локонами, подстриженными как у девушки, и глаза были подкрашены… Но при всем том он был, как молодая пантера: гибкий, сухой, резкий. Вдоль ребер на правом боку, словно длинный ожог, тянулся широкий красный шрам.
Он склонил голову набок — сверкнули хрустальные серьги в ушах — и как-то странно улыбнулся.
— Ну, — говорит, — наконец они здесь, эти веселые афиняне, которые плясали всю дорогу до Крита. Давайте станцуйте теперь для нас, мы сгораем от нетерпения…
Смех его был недобрым, но это меня не разозлило. Он был для меня словно жрец, который должен приобщить нас к таинству, — разве на них сердятся?.. И такое чувство было у меня — словно я уже был здесь когда-то, и душа моя это помнит; словно всё это вплетено в мою мойру еще до того, как я родился.
Я ответил ему просто:
— Среди нас нет танцоров, — говорю, — кроме вот Гелики. А плясали мы, чтобы показать, что мы подходим друг к другу.
— Вот как? — он поднял бровь. — Чья же это была идея, твоя?
— Мы все вместе это придумали, когда собрались на совет.
Он снова поднял брови — и пошел вокруг нас, разглядывая каждого по очереди. На нас смотрела масса народу в тот день, но этот — этот нас на самом деле видел. Я чувствовал себя так, будто отточенное лезвие клинка скользит по мне, ища зацепку, трещинку, изъян… Дойдя до Нефелы, он долго смотрел на нее со странной улыбкой, потом потрепал ей подбородок:
— Не думай об этом, голубушка, — говорит, — когда придется — ты все сможешь.
Хриза, широко раскрыв глаза, испуганно смотрела на высокую девушку в бирюзовом ожерелье: та держала ее за руки и что-то шептала на ухо. Наш новый знакомый шлепнул высокую по ягодице.
— Ты, — говорит, — совратитель малолетних! Дай ей время оглядеться…
Меланто дернула Хризу к себе, обхватила рукой и ощетинилась… Юноша рассмеялся и снова подошел ко мне.
— Ну что ж, вы на самом деле все вместе, — говорит, — это видно… А вы знаете, что вы — первая команда, у которой будет зеленый капитан?
Я удивился.
— Откуда ты знаешь? Сам тренер об этом услышал только что.
Он презрительно рассмеялся.
— Тренер!.. Он никогда ничего не знает, если только мы ему не скажем. Все дворцовые новости первым делом приходят к нам, бычьи плясуны бывают всюду…
Мальчик рядом хитро улыбнулся: «Ты-то бываешь, мы знаем!» — но он не обратил внимания и снова обратился ко мне:
— Когда я узнал, что ты должен вести команду вместо меня, — думал, Минотавр хочет твоей смерти. Но теперь я в этом не уверен.
— Наверно, ты прав, — сказал я. — Мы с ним поссорились.
— Ах ты!.. — он прыжком взвился в воздух, как стоял, закинул голову назад от хохота и так шлепнул себя по ляжке, что зазвенели его украшения.
— Послушай, афинянин, ты мне нравишься, право слово, придется мне тебя полюбить!.. Это правда, что ты забросил в море его печатку? Какие ставки на тебя ставят, ты знаешь?
Атмосфера этого места уже начала захватывать меня, будоражила, как крепкое вино…
— Ты еще не знаешь своих ставок? — говорит. — Здесь всегда все надо знать… Никогда не хлопать ушами… Как тебя зовут?
Я назвал ему все наши имена и спросил его имя.
— В Бычьем Дворе меня зовут — Коринфянин.
— Почему? — я удивился. — Ты разве один здесь из Коринфа?
— Остался один.
Он ответил легко, спокойно; но теперь я понял, откуда этот блеск и этот груз драгоценностей, и почему все молчат, когда он говорит… Когда-то, вдали отсюда, я мечтал стать воином, царем — теперь всё это ушло, лишь одно стремление сжигало меня…
Никто не смог меня понять дома, когда я пытался это объяснить. Даже Пириф, самый близкий мой друг. Недаром в пословице говорится, что только тем, кого змея кусала, друг с другом стоит говорить об этом.
— Тренер собирался тебя поставить к нам капитаном, — сказал я.
Я боялся, что моя неопытность повредит Журавлям.
Он посмотрел мне в лицо, приподняв одну бровь… Взгляд у него был — прямо до костей раздевал, немыслимо было противиться, пытаться что-то скрыть… Он пожал плечами на критский манер — серьги заплясали, засверкали…
— А!.. Он же ничего не знает, я вам уже говорил. Он хочет убрать меня с арены для занятий с новой командой. Почему? Побился об заклад, что я продержусь еще три месяца. Дурак!.. У нас в Бычьем Дворе такое присловье: твой бык знает тебя еще до того, как родиться.
Я его понял.
— Это мойра, — говорю. — Слушай, а здесь все принадлежат Астериону?
Он щелкнул языком.
— Принадлежат!.. Можно подумать, что ты крестьянин. Он — покровитель, как любой другой. Но он, очевидно, достаточно богат, чтобы посвятить целую команду; а не того, там, или другого плясуна. Об этом много говорят сейчас, до сих пор только царь позволял себе такую роскошь. Нынче мой властелин очень высоко держит голову, ничего не скажешь… Но ведь вас, афинян, провели сюда через очищение, верно? Сколько я знаю, вы народ Небесных Богов, но все-таки должны были понять по этому обряду, кому мы все принадлежим.
— Сотрясателю Земли… — говорю, а потом чуть помолчал и спросил как мог безразлично, — или Богине-на-Земле?
— Наверно, им обоим, — Коринфянин улыбнулся. — Но ее ты больше не увидишь, кроме как во время Бычьей Пляски. Она — Пресвятая Ариадна, Владычица Лабиринта. Она бывает лишь в храме или в часовне. А больше никто ее нигде не видит, как и царя.
В этот момент кто-то крикнул по-гречески, что еда готова. Столы были расставлены в дальнем конце зала, и плясуны неслись туда взапуски. Я видел, что наша беседа должна прерваться: не мог я сесть за стол с ним рядом, это было бы наглостью. Кем бы он ни был дома в Коринфе, — пастух, наверно, или юнга, — здесь он был царь, а я — я никто. И это уже не казалось мне странным.
Пища была простая, но очень вкусная и в изобилии. На самом деле, после Дома Миноса все лучшее шло на Бычий Двор. Бычьи плясуны в Кноссе жили отлично… Точь-в-точь как Царь Коней, в тот год когда уходит к богу.
4
Мы жили в Бычьем Дворе. Это город, запечатанный внутри дворца; жизнь, запечатанная смертью… Но это — гордый город и бурная, неистовая жизнь; кто испытал ее, тот до самой смерти несет в себе ее след. Вот и я: у меня уж борода седая, а я частенько думаю и говорю о Бычьем Дворе так, будто он стоит на месте и я могу в него вернуться…
Новичков тренировали отдельно: учили первым основам пляски. Прыжки там, кувырки, сальто, стойки — основы акробатики, словом. Тренировали новичков отдельно, но жили плясуны и питались все вместе, в Бычьем Дворе; только после ужина жрицы-охранницы уводили девушек. Для мужчин оставались открыты пути во дворец, и парни по вечерам весело перемигивались. Мы могли бывать где угодно, — по всему Лабиринту, — только не подходить к воротам и ограде. Ни одному беглецу не удалось через них уйти; и говорили к тому же, что попытка побега — проклята: следующий же бык всегда убивал тех, кто пытался. Если не считать этого — бычьи плясуны бывали везде, как сказал Коринфянин, хотя обычно ходили не сами, а в сопровождении слуг. Это такой был крольчатник, что не мудрено было заскочить не туда; потому за любовниками присылали — привести куда надо.
А девушек не только запирали на ночь, но и днем с них не спускали глаз: их невинность охранялась сурово.
Поначалу я думал, от этого взбеситься можно: чуть ни весь день играть с девушками — едва не раздетыми — и никогда ни одной не иметь!.. Но вскоре выяснил, что в Лабиринте не приходится отказывать себе в женщинах. Вот девушкам приходилось довольствоваться друг другом; настолько древний был обычай, что никто его не порицал… Но были среди них и истинные девственницы, до мозга костей, они посвятили себя Бычьей Пляске и жили для нее не только наяву, но и во сне.
Когда зажигались лампы — у каждого начиналась своя тайная жизнь; но в Бычьем Дворе мы были товарищи. Девушки и мы — мы были товарищами, соучастниками Таинства, ремесленниками, связанными общей работой; а иногда — довольно часто — мы были друг для друга просто руками, отводящими в сторону смерть… Но мы все были молоды и сделаны из того же материала, из какого Богиня-Мать сотворяет всё живое; и между нами словно струна была натянута, как на арфе. Она никогда не рвалась и никогда не ослабевала; и стоило лишь коснуться ее, — хотя бы дыханием даже, — она наполняла нашу жизнь тайной музыкой своей. Как часто, оставив какую-нибудь критскую даму — этакую надушенную и завитую, в оборочках, в булавочках… там и до постели едва доберешься мимо всех этих горшочков с красками, туалетных столиков… баночек с притираниями, зеркал… — как часто после падал я на свою циновку в Бычьем Дворе и обнимал во сне своих, гибких, словно зеленая лоза; ласкал мускулистые стройные тела в золотых браслетах на прохладной коже…
В Доме Секиры этот сон так никогда и не сбылся. Годы прошли, Бычий Двор был уже давно позади, — его вообще уже не было к тому времени, — тогда только встретил я снова такую девушку и сделал ее своей. Встретил, когда не надеялся; перестал искать — и тогда нашел. Верхом на коне, обнаженную по пояс, в скифских длинных штанах, в гуще копий… Она была повыше, чем девушки в Бычьем Дворе, но с тонкой костью и легкая — дважды уносил я ее на руках с поля боя; и во второй раз тоже унес сам, хоть мертвый вес тяжелее живого.
Она при мне пошла с копьем на леопарда; одна пошла — и взяла его, такая была женщина… А меня она ни разу не поранила — ни единым словом даже — после того дротика, когда я впервые ее взял. И я рад, что хоть шрам у меня на ноге от того дротика, — ведь ничего больше от нее не осталось, только этот шрам… Нет, еще раз поранила, — тоже нечаянно, — родила мне сына ростом в четыре локтя. Но Богиня-Дева, кому она служила оружием своим, и боги преисподней — они были к ней добры: закрыли ей глаза тьмой вовремя, она не увидела, чем это кончилось.
Но тогда все это было еще на прялке. Если бы я знал заранее — быть может, это тянуло б меня за ноги, и когда-нибудь бык оказался бы быстрей меня… А может и нет. Ведь твой бык всегда тебя достанет; он родится — и уже знает твое имя; так говорили мы в Бычьем Дворе.
Когда закончилась начальная подготовка, мы умели делать кувырки и сальто вперед и назад, а некоторые могли прыгать через коня, с переворотом в стойке на руках. У нас с Ирием это получалось всегда, у Хризы — очень часто; а иногда — даже у Нефелы. Коринфянин разглядел ее насквозь: ее жеманство было маской, предназначенной для мужчин, но она настолько к ней привыкла, что и себя обманывала. А увидела, что здесь, в Бычьем Дворе, это никого не восхищает, — и во всей команде не стало девчонки грубее ее. Что до Гелики — тренер сразу понял, что она все это умеет, и отослал ее заниматься к прыгунам на деревянном быке.
С любого места в Бычьем Дворе был виден Бык Дедала. Его так называли по имени первого изобретателя, хоть с той поры уже по многу раз успела смениться каждая его деталь. Кроме бронзовых рогов, отшлифованных бесчисленными ладонями; все говорили, что эти рога Дедал сам отливал, своими руками.
В полом теле быка между плечами было сиденье для помощника тренера. Он там орудовал рычагами, так что бычья голова поворачивалась и качалась: в стороны и вверх-вниз. Мы старались держаться от нее подальше, но однажды Актор закричал:
— Нет, нет!.. Держитесь так, словно он ваш любовник! Вы его завлекаете, вы от него ускользаете, вы вгоняете его в пот… Но все это — любовная игра, и все это знают!..
Это он юношей так поучал, — не девушек! — мы были на Крите.
В те первые недели я каждый день ждал, что Астерион пришлет за мной и мне придется отвечать за свою дерзость в порту. Но он не появлялся, и со мной обращались как со всеми.
После пляски нас стали учить бычьим прыжкам. Бычий прыжок — это не когда прыгаешь как бык; это — когда прыгаешь через быка. Здесь, на деревянном быке, это было лишь бледным подобием, лишь тенью того, что будет на арене. Живой зверь вдохнет жизнь в это действо — и лишь немногим из нас оно будет по плечу.
Ни в одной команде не было по многу прыгунов, в иных было всего по одному, но именно они царили в Бычьем Дворе. На первом нашем уроке Актор послал за Коринфянином. Тот лениво подошел, сверкая и звеня; снял — отдал кому-то подержать — свободный кистевой браслет… Потом упруго побежал к опущенным рогам, ухватился — бычья голова со скрипом рванулась вверх, а он вышел в стойку на руках, потом — на самом верху — отпустил рога и полетел, переворачиваясь словно птица, свободно и естественно, пока не коснулся пальцами ног спины быка… Там он снова прыгнул вверх — легко, будто вспорхнул, — и Актор показал нам, как надо страховать прыгуна при приземлении, для этого специальные ловцы в команде. Когда бык живой — прыжок может получиться не так точно; а если хочешь жить, то лучше приземляйся на ноги.
Это и есть бычий прыжок. Но у каждого большого прыгуна было что-то свое, чем они и прославились. Имена таких юношей и девушек — среди величайших были и девушки — сохранялись в поколениях; старики часто третировали нынешних плясунов: говорили, мол, тот вовсе не жил, кто не видел Того и Того пятьдесят лет назад… Коринфянин был из величайших. Говорили, он даже знал, как заставить быка бросить высоко или низко. При высоком броске он переворачивался в воздухе так, что приходил на бычью спину в стойку на руки, а потом уже приземлялся в руки ловцу.
Прыгун — это гордость, это слава команды; но ловцы — это его жизнь. Вообще, каждый в команде — это жизнь всех остальных. Трусов в Бычье Дворе не было, аесли и были, то недолго. Ведь если люди догадались, что ты можешь их бросить в трудный миг, — они могут позаботиться, чтобы ты до этого мига не дожил, верно? А на арене это нетрудно. И врагов слишком много не стоило себе наживать, даже одного могло оказаться достаточно.
На Быке Дедала мы учились, как плясун может спасти товарища и себя самого: как обхватить рога руками и ногами, чтобы бык не мог тебя забодать; как хватать рога спереди, сзади и сбоку, входя в прыжок и уходя в сторону; как смутить быка, закрыв ему глаза… Но причинить ему боль ты не имеешь права; пусть он тебя топчет, рвет, убивает, — не имеешь права: в быке на арене — бог.
Сначала я не понимал, как все эти фокусы можно проделать с настоящим, живым быком. Но на Крите их выращивают для Бычьей Пляски уже тысячу лет; на вид они — чудо что за быки: громадные, мощные, с крупными божественными головами… Но они медлительны, тупы — и это вся порода такая. Проворный, шустрый бык, такой как у нас дома, убил бы кого-нибудь слишком быстро, представления бы не получилось, потому таких быков использовали для жертвоприношений. Но что ни говори — бык есть бык, хоть он и критский; никогда не знаешь, что там у него на уме. Когда они привыкают, — уже, кажется, знают пляску не хуже тебя самого — вот теперь берегись!
На второй месяц нашей тренировки мы впервые увидели Бычью Пляску. Мы еще раньше хотели пойти, но Актор запретил. Сказал, мол, если новички видят это раньше времени, раньше, чем сами чему-то научатся, — они теряют уверенность в себе и начинают трусить.
Бычья арена расположена на равнине, к востоку от дворца. Построена она была из дерева, ведь Крит — лесная страна. У бычьих плясунов на трибуне были свои места: как раз над входом плясунов, против Бычьих ворот. Царская ложа тоже находилась напротив нас; но говорили, что Миноса давно уже не видели на Бычьей Пляске: освящал быка Верховный жрец Посейдона, а в остальном всеми обрядами руководила Богиня-на-Земле.
Главным местом арены была позолоченная ложа Богини. Она стояла на красных столбах и была увенчана короной из священных рогов; по обе стороны от нее были места для жриц, а вокруг рассаживались придворные дамы. Мы сидели и смотрели, как они выходят из носилок, как рабы расстилают для них ткани и раскладывают подушки, подают им веера… Подруги приветствовали друг друга, целовались, приказывали устроить им сиденья рядом… Вскоре их трибуна стала похожа на развесистое дерево, на котором расселась стая ярких птиц: чирикали, ворковали, чистили перышки…
Затрубили рога, в ложе открылись двери… Там стояла она. Я помнил ее, — прямая, будто полевая лилия, небольшая, округлые груди и бедра, талия такая, что пальцами обхватишь… — но тут она была сплошь затянута золотом, лишь проглядывала изредка красная ткань платья, когда шевелились оборки. Диадема в полторы пяди высотой была увенчана золотым леопардом… Если б она не двигалась, я бы ее принял за ювелирное изделие.
Все мужчины встали, приложив к груди кулак; женщины коснулись пальцам лба… Она взошла на свой высокий трон.
Заиграли арфы и флейты — из двери под нами вышли бычьи плясуны. Они шли медленно, но легко; шли парами — юноша и девушка — торжественным танцующим шагом. На гладких плечах, в такт шагу, подрагивали напомаженные расчесанные локоны, метались солнечные зайчики от их браслетов и ожерелий, обольстительно колыхались в танце юные груди девушек…
Руки у всех были забинтованы до локтя и кисти тоже, чтобы усилить хватку; сапоги из мягкой кожи затянуты шнурками почти до колен… В первой паре шел Коринфянин, яркий и радостный как птица.
Они обошли арену и развернулись в ряд перед ложей, Коринфянин посредине. Там они остановились, отдали честь и хором сказали что-то на древнем критском. Я похлопал по плечу плясунью, что сидела передо мной, и спросил:
— Что они говорят?
Это была черная девушка из Ливии и греческий язык знала очень плохо. Она заговорила медленно, вспоминая каждое слово:
— Привет тебе, Богиня!.. Мы салютуем тебе… мы, которые… пришли умереть… Прими жертву.
Эти слова меня ударили, я содрогнулся от этих слов.
— Ты уверена? — спрашиваю. — Ты все правильно поняла?
Она кивнула головой. В ее черных волосах были вплетены золотые и синие бусинки, так близко к коже, что казались пришитыми… Она кивнула головой и повторила.
Я ничего ей не ответил, но покачал головой. «Нет, — думаю, — при всей своей учености, при всех своих великих делах, эти критяне — ничего не понимают. Та госпожа, вон там, — пусть она величайшая в мире жрица, высочайшего рода, ближе всех к Богине — пусть. Но она — женщина; и если десять тысяч критян это отрицают — мне наплевать. Она женщина; это так же верно, как то что я мужчина… Я знаю!..»
Я посмотрел вверх на ложу. Она снова сидела и снова была неподвижна, словно статуя из золота и слоновой кости.
«Что с ней будет? Она делает то, чего вечноживущие боги не позволяют смертным… И ее молодость они ей тоже не простят, не в их это правилах… Но кто может ее спасти? Она слишком высоко — не достать…» — так думал я.
А плясуны тем временем развернулись и разошлись по кругу на арене. Прозвучала труба… В стене напротив нас распахнулись большие Бычьи ворота, и на арену вышел бык.
Это был царственный зверь. Белый с коричневыми пятнами, с мощным телом, коротконогий, с широким лбом и с огромными — как все они — с очень длинными рогами. Рога изгибались вперед и вверх, потом опускались слегка и снова загибались кверху возле концов. И были раскрашены вдоль золотыми и красными полосами.
Коринфянин стоял прямо напротив него, спиной к нам. Я видел, как он поднял руку в приветствии, — благородный жест, изящный и гордый… Потом плясуны начали двигаться вокруг быка, описывая круги, как звезды вокруг земли; сначала далеко от него, потом все ближе и ближе… Поначалу он не очень-то обращал на них внимание, но было видно, как он провожает их по кругу взглядом больших своих глаз. Потом хвост его дернулся, он переступил ногами…
Музыка убыстрялась, и плясуны были всё ближе: летали вокруг быка, будто ласточки… Он опустил голову, стал рыть копытом землю… И тут стало видно, что за дурак этот бык. Бык в Трезене выбрал бы себе одного из толпы и гонялся бы за ним, пока не достал бы, — и достал бы, куда тут денешься?.. А этот смотрел на каждого плясуна, что пролетал мимо его морды; смотрел, — начинал готовиться, неуклюже переступая ногами, — потом словно говорил себе: «Нет, слишком поздно»; тупо глядел перед собой; а когда перед глазами появлялся следующий, начинал снова. Но вот плясуны замедлили свое вращение и начали играть с быком. Сначала один, потом другой — останавливались перед ним, привлекали его внимание, а потом ускользали в сторону и оставляли его следующим. Чем более дерзко работают плясуны, чем больше они утомляют быка вначале — тем легче им в конце пляски. Он сильнее любого из них, но он — один против четырнадцати; и может устать раньше их, если они постараются.
Так оно шло; бык вроде притомился, на морде такое появилось выражение, словно он говорил себе: «Ну и пусть себе порхают, чего я за ними гоняюсь? Надо мне это? Платят мне за это?..» И тут Коринфянин встал перед ним — довольно далеко встал — и вытянул вперед руки. Хоровод остановился.
Он мягко побежал навстречу хмурому быку. Это был тот самый прыжок, что я так часто видел в Бычьем Дворе; но то было жалкое подобие, а здесь у него был под руками живой зверь, здесь ему было с кем себя показать. Он ухватился за рога и завис межу ними, так что бык его нес, потом взвился вверх и оттолкнулся руками. Зверь был слишком глуп, чтобы податься назад и подождать его: потеряв его, бык все равно бежал вперед… А он перевернулся в воздухе — дуга получилась красивой, как натянутый лук, — и попал на широкую спину обеими ногами враз. Его стройные быстрые ноги тотчас подбросили его вверх — казалось, он не прыгает вовсе, а парит над быком, словно стрекоза над камышами, а бык тем временем выбегает из-под него… Вот он приземлился — так же на обе ноги, ноги вместе, будто склеенные, — встал на землю и легко коснулся рукой руки ловца. Это было как привет, как дань учтивости — он не нуждался в опоре. И ушел под музыку прочь. На птичьем дереве завизжали восторженно, заворковали… раздались крики мужчин… А я — я незаметно протянул руку к востоку и прошептал, неслышно в этом шуме: «Отец Посейдон! Сделай меня бычьим прыгуном!»
Плясуны закружились снова. Теперь остановилась девушка; стояла на носках, подняв руки, распрямив ладони… Она была из Аравии. Цвета темного меда, с длинными черными волосами, стройная как копье, — с осанкой тех женщин, что с детства носят всё на голове, — в ушах большие золотые диски… Иногда в Бычьем Дворе я замечал ее: уж очень она сверкала белозубой улыбкой своей. Вообще-то надменная была особа — поиздеваться любила, подразнить, — но сейчас выглядела серьезно и гордо.
Она схватилась за рога и пошла вверх, в стойку… Но то ли бык что-то сообразил своим медленным умом, то ли равновесие у нее было не такое четкое, как у Коринфянина, — бык не подбросил голову вверх, а мотнул в сторону.
Девушка упала ему на лоб, поперек. Она каким-то чудом не отпустила рога и теперь висела, как обезьяна, изо всех сил держась за них, скрестив ноги у подгрудка зверя. А тот понесся по арене, круг за кругом, мотая головой, стараясь ее стряхнуть. На мужских скамьях раздался глухой ропот, на женских — затараторили взахлеб… Я посмотрел на ложу с колоннами. Золотая богиня не шелохнулась, и раскрашенное лицо ее было неподвижно.
Плясуны порхали вокруг, хлопали в ладоши, щелкали пальцами, чтобы отвлечь быка, — я был уверен, что это показуха, что они могли бы сделать больше. Я колотил кулаком и приговаривал: «Ближе! Ближе!..»
— Придержи руки, эллин! — это мой сосед; я, оказывается, бил его по колену…
— Он ее прикончит, — говорю. — Он собьет ее о барьер!
— Да, — парень не сводил глаз с арены. — Да, они за ней не полезут. Она тут многих оскорбила и нажила себе врагов.
Бык старался найти барьер, но волосы девушки закрывали ему глаза, и она все время дергала плечом, чтобы слепить его.
Я едва дышал.
— А Коринфянин, он не может помочь? — спрашиваю.
Мой новый знакомый наклонился вперед и не смотрел на меня, но ответил:
— А с какой стати? Это работа для ловцов, а не для прыгунов. И он первый раз с этой командой, ему на них наплевать.
И тут как раз Коринфянин рванулся вперед. Он подбежал к быку слева, схватился за левый рог и повис на нем. Девушка обессилела — упала с быка, но кое-как поднялась на ноги и бросилась бежать.
Я видел — Коринфянин, прежде чем кинуться к быку, быстро оглянулся и поманил рукой своих ребят…
Парень, мой сосед, вскочил на ноги и дико кричал что-то на своем языке, на родосском, что ли?.. Я точно знал, что он ругается, проклинает тех на чем свет стоит! Я сам тоже кричал, тоже ругался… Никто не может долго протянуть в том положении, в каком был Коринфянин, если кто-то не возьмется за другой рог. Он на это и рассчитывал — но никого не было.
Один из парней наконец побежал туда, сделал вид, что прыгает, хочет поймать рог… Но я бы сказал — он это делал без души, без охоты, от стыда только. И конечно же опоздал. Бык увернулся от него, мотнул головой вниз в сторону и сбил Коринфянина копытом. И вот тот снова поднялся на воздух, только теперь уже не парил: рог прошил его насквозь, словно копье, прямо под поясом, в живот. Не знаю, кричал он или нет, — в том шуме не слышно было. Бык швырнул его через себя, он упал на песок с громадной красной дырой в животе — кровь еще не успела пойти, — бык бросился топтать его, потом ушел прочь. Музыка смолкла, плясуны стояли неподвижно. По трибунам прошелся глубокий вздох, пробежал ропот…
Чтобы добивать жертвы, они пользуются небольшим двойным топориком, такой же формы, как священная секира. Когда этот топор подняли над его шеей — я видел, — рука его пошла навстречу, вроде он хотел загородиться, отвести ее… но он перевел этот невольный жест в салют и повернул голову, чтобы чище принять удар. Он был настоящий человек и умер как подобает. Я вдруг заметил, что плачу, будто мы с ним так уж друг друга любили… Собственно, я и на самом деле его любил, хоть не в том смысле, как это понимают на Крите. Никто не обратил внимания на мои слезы; в Бычьем Дворе считалось, что заплакать — это к удаче. Кроме того, на другой стороне с воплем упала какая-то дама, вокруг нее собралась толпа с веерами, с эссенциями… — дули на нее, давали нюхать, ловили ее обезьяну… — на меня никто не смотрел.
Быка взяли на веревку и увели. Видно было, что он устал; еще бы немножечко — и ему бы хватило. Плясуны строем ушли с арены. Родосец, мой сосед, говорил:
— Почему он это сделал? Почему?.. Зачем ему это было нужно? — Потом добавил: — Наверно, его позвали. Наверно, пришел его час…
Я промолчал. Слезы мои высохли, я думал.
Жрец Посейдона наполнил кровью Коринфянина плоскую жертвенную чашу, вылил эту кровь на землю перед ложей и сказал что-то по-критски. Владычица встала, подняла ладони — жест, который обозначал «все кончено», — и вышла в маленькую дверь в ложе. Я вспомнил маленькие розовые ступни на ступенях, нежную грудь с локоном на ней… По телу прошла дрожь.
Когда мы вернулись в Бычий Двор, я сказал Аминтору: «Собери Журавлей».
Я ждал возле Быка Дедала. Никому сейчас не хотелось играть возле него, потому там было место для нас, только для нас. Подошли наши. Формион был бледен, Аминтор до сих пор трясся от ярости… Из девушек успели поплакать Хриза и Феба, у Нефелы глаза были сухие, Гелика замкнулась в одном из своих припадков молчания.
— Ну, — говорю. — Вот мы и увидели Бычью Пляску.
Аминтор взорвался, осыпал проклятиями команду, что дала Коринфянину умереть… Он был аристократ — и относился к ним, как к царской гвардии, нарушившей присягу. Я сначала его не перебивал: это была хорошая мысль.
— Но послушай, — говорю, — ведь он не из их народа, они ему ничего не должны. Они ни в чем ему не клялись, никакой присяги не было — с какой стати он должен им быть дороже их собственной жизни?
Все смотрели на меня, удивляясь, что я такой бездушный… А я продолжал:
— На корабле, когда я взял со всех вас клятву, это было лишь затем, чтобы удержать нас вместе. Я ведь ничего не знал тогда, как и вы; но, наверно, бог подсказал мне, раз я в руке его. Теперь вам понятно, почему мы должны быть — как родня?
Они кивнули. В этот момент они были мягким металлом — и я ковал; я хорошо сделал, что не стал откладывать этот разговор.
— Коринфянин умер, — говорю, — но вся его команда тоже мертва. Как раз в тот миг, когда им захотелось жить подольше, они обрекли себя на смерть. И они сами это знают. Посмотрите на них: от стыда они бы так не сникли, они — боятся.
— Да, — сказал Аминтор. — Это верно.
— Если на арене начинаешь слишком дорожить своей жизнью — вот тут-то ее и теряешь. Теперь они гроша ломаного не стоят: за них никто не станет рисковать, хоть каплей своей крови, даже царапиной… И они — они знают это, в них не осталось гордости. И если каждый из них имел своего бога-хранителя — они должны слышать сейчас, как бог уходит. Посмотрите на них, на их лица…
Но они все смотрели на меня, словно я был в силах изменить нашу судьбу. Верили в мою силу.
— Мы должны обновить нашу клятву, — сказал я, — чтобы здешние боги были свидетели, но теперь клятва будет сильнее. Будет такая: «Жизнь каждого Журавля мне так же дорога, как моя собственная жизнь. Если другому будет грозить опасность, я сделаю для него всё, что смогу. Всё — и ни на волос меньше! Река, и Дочери Ночи, и Быколицый Посейдон, что под Критом, — да будут они свидетелями этой клятвы и да поразят меня в тот день, когда я нарушу ее!»
Они смотрели на меня распахнутыми глазами. Хриза и Аминтор шагнули вперед — торопились повторить клятву, пока не забыли слова… Они даже не оглянулись на остальных. Я остановил их — подождите, мол, — я-то видел всех… И не упрекал тех, что замешкались: это сильная была клятва и страшная.
— Что с вами? — говорю. — Думаете, эта клятва нужна мне от вас для меня? С какой стати стали б вы присягать такому царю — у него ни крыши над головой, ни пищи, ни одежды, ни золота… Мне нечего дать вам, кроме того на что я буду способен с быками. Как и каждому из нас. Но клятва эта нужна нам всем, нужна вам. Мы всего лишь смертные: меж нами будут и ссоры, и ревность, и все такое. Если б вы поклялись, что не будет такого, — нарушили бы клятву через неделю, может, еще раньше… Но мы можем поклясться, что не будем выносить своих обид на арену. Там мы должны быть как единое тело, словно у всех нас одна общая жизнь. Мы должны сомневаться друг в друге не больше, чем копейная рука в щитовой, — поклянемся же в этом!
Вперед вышли еще несколько человек… Остальным я сказал так:
— Не бойтесь. Вам станет легче дышать, когда уже нельзя будет оглядываться. Это таинство, то, что я говорю вам; меня научил ему жрец и царь… Вам станет легче.
Все поклялись, настала тишина. Вдруг глупышка Филия удивленно огляделась, словно хлебнула слишком крепкого вина:
— Послушайте, а ведь правда!.. Мне на самом деле стало лучше!
Мы рассмеялись — уж больно у нее рожица была забавная. И хоть вообще в тот день было не до смеха, нам стало весело.
В тот вечер, когда девушки ушли, ко мне подошел парнишка, миноец из Мелоса, я едва знал его в лицо.
— Коринфянин говорил мне, кому отдать его вещи, когда он встретит своего быка. Это тебе.
Он раскрыл ладонь. Там был маленький бык из полированного хрусталя, подвешенный на золотом кольце: изящный золотой бычий плясун изгибался в прыжке на его спине.
— Мне? — я удивился. — Он же меня почти не знал…
Мне не хотелось, чтобы Коринфянин потерял свою последнюю волю из-за глупости этого мальчишки. Тот пожал плечами:
— О, это не дар любви, не обольщайся. Он говорил, что любит потакать своим капризам. А может, вы с ним спорили на что-нибудь?
Я взял быка и повесил себе на шею на хорошем шнурке. Я не корил себя за то, что смеялся и паясничал с Журавлями, когда его кровь еще не успела засохнуть. Уж кто-кто, а он бы понял.
Когда стемнело, я пошел за кухню. Калитка, как всегда, была открыта… Актор, тренер, увидел меня и засмеялся: «К кому сегодня? Выжми из нее все! Когда пойдешь к быкам — не до этого будет…»
Я ответил ему что-то смешное… для него. Но в тот вечер я шел не к женщине. Он уже был прав: Бычья Пляска — ревнивая любовница. Мне просто надо было побыть одному, а днем это не получалось.
Большой двор был пуст. Тускло светились под луной колонны балконов — ярус над ярусом… За занавесками восточных тканей мерцали лампы… И густой тяжелый аромат расходился от кадок с лилиями, с цветущими лимонами… От тени к тени скользнул кот… За ним — критянин, вроде с теми же намерениями… Потом всё замерло. Громадные рога на крыше вздымались ввысь, бодая звезды.
Я протянул руки, ладонями вниз, и так их держал над землей. «Отец Посейдон, Отец Коней, Владыка Быков! Я в руке твоей, когда бы ты ни позвал меня. Это наш уговор. Но раз уж я твой, дай мне одно лишь, пока не забрал к себе. Ни о чем не прошу я больше — сделай меня бычьим прыгуном!»
В последний месяц наших тренировок мы пошли на пастбище за своим быком. Тут не команда выбирает быка, а бык команду. Вы приводите корову, привязываете ее — и ждете с сетью. К ней придет бык-царь, тот, кому все остальные уступают… И пока они спариваются — вы должны стреножить его, привязать к дереву и накрыть сетью.
Нам повезло: из стада только что забрали негодного быка.
Мы с вами как раз того быка назвали бы нормальным, лучшим из всех; но он убил своего соперника, и одного из людей что привели его, — и обоих убил слишком быстро… Теперь он ревел в своем загоне, скованный, — ждал жертвоприношения.
Актор привел нас вниз на заливной луг. Все крыши дворца были усеяны народом: в это время делают ставки, а бывали случаи, что и погибали плясуны на ловле, — им было бы жаль упустить такое зрелище…
Но Посейдон был к нам милостив. Когда корову привязали, два быка подошли, стали биться за нее. Новый царь, черный, был гораздо быстрее, и рога у него расходились в стороны. Это всегда плохо, когда в стороны: такие быки бьют рогами не снизу вверх, а вбок… Но его соперник, бело-рыжий, сломал ему один рог под самое основание; случайно конечно, а не по хитрости. Черный взвыл, бросился бежать, — как воин, у которого в руках копье сломалось… А наш покатился к корове.
Я и раньше имел дело с быками, потому взялся стреножить его; а в сеть мы его взяли легко. Только царапины кое у кого: когда он рванулся и потащил нас — попадали на коленки. Я сказал всем, чтоб не торопились, — пусть он закончит свое дело в свое удовольствие: нам не надо, чтобы он нас возненавидел. А потом мы дружно бросили сеть, дружно потянули… Он несколько раз споткнулся, потом упал — и видно было, что засомневался: «Тут что-то не так, надо подумать…» Ну а пока он думал, мы его привязали к шесту меж двух волов и увели.
Я назвал его Гераклом. В те времена, когда я собирался вырасти до пяти локтей росту, я относился к этому герою со всей симпатией; но потом — потом появилась у меня какая-то неприязнь, что ли, хоть без сомнения он был достойным сыном Зевса, пока ходил по земле. Наш бык выглядел так, как я представлял себе Геракла: красивый, но неуклюжий простофиля. Да, уж если в Бычьем Дворе не научишься смеяться над собой, то никогда и нигде не научишься.
Я до сих пор, раз в год, приношу жертву Гераклу; хоть не говорю, какого героя имею в виду. Он был громадный, с широким лбом, а большие толстые рога росли как раз как надо — прямо вперед, — это заставляло его идти на тебя по прямой. В глубине души он был ленив; но из чванства не терпел, чтобы с ним обходились небрежно, и потому заслужил себе славу беспокойного быка. Конечно, он был далеко не безопасен, — но гораздо безопаснее, чем казался. Половина мыслей его всегда была не на арене, а в стойле: вот все кончится и пойла дадут… А спинища у него была! — лучше не придумаешь: ну что твоя бочка.
Когда вы поймали быка — тут еще два этапа подготовки. Его приковывают к столбу в тренировочной яме, чтоб вы могли научиться грациозно уворачиваться от рогов… И еще — связывают, так что бегать он не может, только головой мотать, — швыряет — это для прыжков. Ни там ни сям помногу времени не дают: если бык станет хоть наполовину ручным, это испортит всю игру — так критяне думают. Но нет такого закона, что вы должны делать его своим врагом; и мы все приносили Гераклу, когда приходили с ним плясать, то соли полизать, то пучок зелени… Но он знал, что из-за нас он в неволе, и глядел на нас искоса.
Теперь я был уже знаком с остальными плясунами — и парней знал, и девушек. Нелегкое было товарищество в большой разношерстной компании Бычьего Двора, нелегкое. Каждый знал свои возможности и возможности всех остальных; ежедневно ты ел за одним столом, и разговаривал, и дрался иногда с людьми, обреченными умереть… Одни боялись быков, другие просто смирились, сдались, третьим были дурные предзнаменования от их богов… В Бычьем Дворе чтут всех богов, какие только есть на свете, так что алтарь у нашего входа на арену, с наружной стороны, — он для всех священен. Чего только там не было, на этом алтаре!.. Туда и песок приносили, и камушки… Капали на него воду, носили пчел, и осколки слоновой кости, и птиц, как эллины, и ящериц, как савроматы…
Отмеченные смертью — умирали, и какое-то время их помнили… Так расходятся круги по воде: чем больше камень, тем дольше. Однако было несколько человек, которые с самой первой своей пляски искали смерти и встречали ее безупречно, — смерть их обходила.
Тут не угадаешь, и это придавало жизни в Бычьем Дворе особую остроту. Говорили, что если плясун продержится три года — Богиня освобождает его. Никто не помнил, чтобы хоть один протянул хоть половину этого срока; но никто и не был уверен в своей судьбе, в мрачной судьбе. Каждый думал — мало ли что может быть: Дворец сгорит, или война начнется, или мятеж какой-нибудь… И мы сможем вырваться!.. Я по ночам вспоминал иногда, как беззащитен Лабиринт без стен, как пусто море вокруг Крита — ни одного островка поблизости… Если чужой флот нападет внезапно, то некому будет зажечь сигнальный дым.
Да, у нас нелегкое было товарищество; но чего не было — это зависти. Если ты что-то мог — это было на пользу всем остальным; так что не бывало в нашей среде той ревности, что ли, какую встречаешь среди воинов, среди певцов, даже среди мастеровых. Если люди не верили тебе — они тебя бросали быку. Но им самим было лучше, чтобы тебе можно было верить, и они помогали научиться. Среди прыгунов было молчаливое соглашение о соперничестве, своим коронным номерам они друг друга не учили, — но я не знаю случая, чтобы они были врагами, разве что из-за любви. А что до славы наших покровителей — на это нам было наплевать. Наша первая забота была, — как у первых жертв в древней яме, — первая забота была остаться живыми. Вторая — заслужить уважение среди своих. Покровители, любовницы, игроки — те могли присылать плясунам драгоценные подарки, и эти драгоценности носили — в Бычьем Дворе любят роскошь и блеск, — но не это определяло цену человеку. Для нас был правомочен лишь один суд: мы сами.
По вечерам, когда девушек уводили, мы обычно плясали, пели песни — каждый своего народа, — рассказывали разные истории… И я иной раз, оглядываясь вокруг, подумывал: «А ведь этих парней можно объединить для общего дела, они могут постоять друг за друга… И большинство девушек — не хуже их».
Я был еще учеником в то время и ничего не стоил в их глазах, но такой уж я человек — не могу удержаться, во всё влезаю… Но это потом, когда-нибудь попозже.
А пока мне хватало забот с Журавлями. Мой друг Пириф — он тоже молод был, когда принял царство, — Пириф мне сказал однажды, как трудно было ему в первый год правления его. Мне тоже было трудно. Мне этот первый год достался не в крепости моей, вокруг меня не было моих дворян, у меня не было золота — нечем было награждать и покупать… Далеко на Крите, в Бычьем Дворе нес я бремя своего первого года.
Это там я узнал — есть такие вещи, которых нельзя касаться; пусть все будет как есть. Трудно мне было это понять.
Сначала случилась история с Иппием. Ну тот парнишка, что был конюхом у моего отца, — скромный такой, тихий, умница… и свежий такой, изящный… Один придворный аристократ, из молодых, стал забирать его к себе наверх — и через неделю его не узнать было. В нем стало больше жеманства, больше ужимок разных, чем в Ирие; он начал кокетничать с каждым мужчиной; кто бы с ним ни заговорил — пожимал плечиком, делал длинные критские глаза…
Это меня взбесило: это стаскивало Журавлей на общий уровень Бычьего Двора, и я чувствовал себя так, словно это пачкает лично меня… Я не стал скрывать, что о нем думаю; а на самом-то деле он славный был мальчуган — добрый, застенчивый, — поранило это его. И вот он стал неуклюжим, не стали у него прыжки получаться… А ведь если бывал он доволен собой, — подарок там от любовника получит или похвалят его, — так даже лучше Гелики работал с живым быком. В Афинах он был никто, а здесь получал возможность занять какое-то место под солнцем… И счастье наше, что я понял всё это, пока не стало еще слишком поздно: понял, что это не он, а я — я вредил команде! Хорошо ли, плохо ли — но он нашел себя и может быть хорош по-своему; а начни его ломать против естества его — из него вообще ничего не будет!.. Я изменил тон своих шуток, похвалил как-то его новые серьги — и вот вам пожалуйста, он опять заработал отлично.
Потом — когда подходило уже время нашей первой пляски — другая беда; и там, где я меньше всего ожидал. Гелика вдруг однажды побледнела, умолкла и незаметно отошла от нас, посидеть одной. Но выглядела она — я знал этот вид, после пары месяцев в Бычьем Дворе. Такой вид бывал у тех, кому достались черные знамения от их богов; у тех, кого увезли из дома слишком поздно и теперь они уже выросли из быстроты своей и силы; у тех, кто смирился… Но к Гелике это не относилось. Никак разумно не относилось — на деревянном быке она показывала прекрасную технику, нагота Бычьего Двора ей шла: она была худа, и груди у нее были немногим больше, чем у мальчишки, но ее грация делала ее похожей на тех плясуний из золота и слоновой кости, что делали критские ювелиры… Так что же с ней?
Я подошел. Спросил, не больной ли день у нее сегодня. Об этом наши девушки говорить не любили, но им на самом деле было трудно с этим — ведь девственницы же… Как раз в такие дни они и гибли чаще, а я чувствовал себя в ответе за Журавлей.
Она сглотнула, оглянулась по сторонам, нет, говорит, ничего… А потом — сказала мне правду. Она боялась быка, боялась с самого первого занятия с живым зверем.
— Я всегда тренировалась с братом, — говорит, — мы с ним близнецы, плясать вместе начали еще сидя — ходить не умели… Мы думаем вместе, с ним мне ничего не страшно; и с тобой мне не страшно, у тебя руки акробата… Но это же зверь, скотина безмозглая, — откуда я знаю, что он станет делать?.. Возьмет и убьет!..
Мне стало худо. «Ну все, — думаю, — Журавлям конец».
Все команды, кроме нашей, держались на закаленных прыгунах, были собраны вокруг них. У нас должны были получиться свои прыгуны — Хриза, Ирий, я сам, — но когда? Я надеялся, что в первых наших плясках Гелика одна доставит удовольствие публике — не так плохо для полностью новой команды, — пока все остальные не встанут на ноги. Если она не будет прыгать, должен кто-то другой; команду, на которую неинтересно смотреть, расформируют в тот же день… Даже если все останутся живы — Журавлям конец.
Упрекать ее не имело смысла, она была не воином, — скоморохом, — и не по своей воле пришла на Крит… Чтобы сказать мне — и для этого надо было много храбрости; больше того, в любой другой команде такого вообще не могло произойти: достаточно было людям заподозрить только, что ты боишься быка, — тебя оставляли ему! По законам Бычьего Двора лишь смелых предавать было стыдно, а трус защиты не заслуживал… Но Гелика поверила мне. Это было первое испытание нашей клятвы.
Я поговорил с ней немного, даже заставил ее улыбнуться, хоть она и сделала это только для меня… А потом отошел. Подумать. Но как ни старался — ничего не шло в голову, кроме молодой лошадки, что была у меня в Трезене, — боялась колесниц. Я ее лечил от этого как обычно: сперва сам подходил к колеснице, чтоб видела; потом потихоньку подводил ее…
Вот потому Журавли и выпустили своего быка в тренировочной яме, хоть на Крите вам этого никогда не скажут. Никто не знает настоящей причины. Критяне думали, что это мы так разбушевались, потехи ради, — и по сей день так говорят, — а на самом деле это было мое крайнее средство: либо выбить из нее этот страх, либо — на худой конец — проверить, смогу ли прыгать вместо нее.
Быка привязали, мы поработали с ним какое-то время… Я сделал вид, что мне кто-то что-то сказал у входной двери, и отослал Актора обратно в Бычий Двор: зовут, мол. Потом — ребят предупредил: «Бойся!.. — кричу, — петля ослабла!..» И бросился вроде бы завязывать, а сам незаметно развязал. Ну и пошло дело. Место это не было задумано, чтобы быка туда выпускать; маленькое словно древняя жертвенная яма, с высокими стенами — не выскочишь… Но чтобы разбежаться и прыгнуть — как раз столько места там было; если ты сам резок, а бык — не слишком. Если что-нибудь случается неожиданное — критским быкам надо подумать, время им нужно. Тем временем я разбежался, ухватил его за рога и с толчка бросил себя вверх. Тело думало само: я оттолкнулся руками — сам не заметил как, — повис в воздухе… И тут я понял, что наши тренировки — это ничто: вот здесь, вот так — вот это жизнь, это высшее блаженство!.. Как первая битва, как первая женщина!.. Упал я по-дурацки: животом поперек его спины… Но я уже знал, где ошибся, и во второй раз всё сделал точно, как надо. Потом вслед за мной пошла Гелика, и я благополучно ее поймал… Мы были так довольны, так горды собой — плясали вокруг быка свой Танец Журавлей, за этим нас Актор и застал, когда вернулся.
Он пообещал выпороть всех нас собственноручно и сдержал свое слово. Но когда он принялся нас бить — мы сразу поняли, почему именно сам. Это было больше похоже на щекотку, чем на удары: не порка, а массаж… Значит, он сам ставит на нас и не хочет нас уродовать перед Пляской.
Юность бывает безумной, но иной раз это безумство ниспослано богом. Мы были пленными, мы были рабами, наши действия нам не принадлежали; а где нет гордости, там погибает храбрость… Но в тот раз мы сами пошли к быку — вот захотели и пошли, никто нас не гнал, мы сделали это по своей воле, словно свободные, — и это освободило сердца наши. После того как мы прошли полпути навстречу богу по своей воле, — после этого уже никогда не чувствовали себя беспомощными жертвами.
На другой день Актор собрал нас у деревянного быка и устроил нам экзамен. Вокруг собрались плясуны, так что мы из кожи лезли. Покровители, разные господа и дамы во дворце — они бы дорого заплатили, чтоб их впустили сюда посмотреть; но нам — нам похвала одного бычьего плясуна была дороже их всех, вместе взятых. Актор сказал Гелике и мне прыгнуть еще по разу и отошел. Я прыгнул и слышал в полете скрип рычагов и реплики товарищей вокруг… А когда приземлился — увидел, кого пошел приветствовать Актор. Это был Астерион. Пришел-таки.
Актор говорил ему что-то, а он оглядывал нас своими круглыми воловьими глазами, и взгляд его не менялся, на меня ли он смотрел или на деревянного быка. Раз или два он кивнул в ответ на что-то, потом ушел. «Ну теперь он до меня доберется, — думаю. — Что он мне может сделать?..» И первая мысль, какая меня испугала: «Не даст прыгать, я не стану прыгуном!..» Я настолько был на этом помешан, что лишь смерть казалась хуже.
Тренер вернулся, но ничего нам не сказал. В конце концов я не выдержал:
— Что ему было нужно? — спрашиваю.
Актор поднял брови, пожал плечами:
— Что бывает нужно покровителю? Знать, в какой форме команда… Мой хозяин, если уж он отдал за команду сотню волов, — он хочет, чтобы команда окупила ему затраты. Он хочет, чтобы команда окупилась, запомни это. Это самый лучший совет из всех, какие ты от меня слышал.
Он ушел. Плясуны окружили нас, хвалили, показывали ошибки, шутили… До темноты на Бычьем Дворе нельзя было побыть одному, да и после не очень-то; я все-таки хоть из толпы выбрался, сидел в сторонке. Вскоре подошел Иппий: «Что с тобой, Тезей? Ты, надеюсь, не болен?» Получилось у него точь-в-точь, как у банщицы, я едва ему об этом не сказал: хотелось хоть на ком-то злость сорвать. Но он ведь от души спросил, за что же его-то?..
— Ну а как тебе это нравится? — спрашиваю. — Всё, что бы мы ни сделали на бычьей арене, пойдет в прибыль этому наглому борову. Даже если мы живем — мы должны жить для него!..
С ним был Ирий. Они поглядели друг на друга, сделав свои критские глаза…
— О! Не расстраивайся, Тезей! Не расстраивайся ты из-за него… Он же ничтожество, правда, Ирий?
Они оба знали что-то, чего я не знал, и сейчас это знание проступало в их лицах. Встали рядом, щека к щеке — этак они скоро как сестренки станут похожи!..
— Конечно ничтожество! — Это Ирий вступил. — Он богат, он делает всё, что хочет, но он самый заурядный малый, о нем и думать нечего. Ведь ты же знаешь его историю, Тезей?
— Нет, — говорю, — я им не интересовался. Но расскажите.
Оба разом хихикнули и предложили друг другу начинать… Потом Ирий сказал:
— Он считается сыном Миноса, но все знают, его отец был бычий прыгун…
Он не старался понизить голос. Бычий Двор — это единственное было место в Лабиринте, где говорили свободно. Иппий перебил:
— Это чистая правда, Тезей! Об этом, конечно, не говорят, но мой друг, что сказал мне, — он настолько высокороден, что знает всё обо всех.
— Мой тоже, — Ирий поправил прическу. — Мой друг не только сочиняет песни — он их записывает. Это в обычае на Крите. Он очень образованный. Он говорит, этот бычий прыгун был ассириец.
— Фу! У них толстые ноги и грубые черные бороды…
— Не болтай глупостей, ему было всего лет пятнадцать или около того!.. Сначала его полюбил сам Минос и не выпускал несколько месяцев на арену, чтоб не рисковать его жизнью.
— Но это же святотатство… — я удивился. — Его должны были посвятить, как нас всех.
— О да, Тезей! Великое святотатство! — это Иппий. — Люди говорили, что оно потянет за собой проклятье… Так оно и случилось: царица была разгневана — и сама обратила внимание на мальчика. Говорят, бедный царь узнал об этом самый последний; уже не только Лабиринт, но и весь город только о них и говорил. Есть непристойная песня про то, как она приходила к нему в Бычий Двор, — настолько была одурманена, — приходила и пряталась в деревянном быке. Мой друг говорит, что это вульгарная болтовня; но она на самом деле совсем потеряла голову, с ума по нему сходила…
— И когда царь узнал об этом — он присудил ее к смерти?
— Что ты, Тезей! На Крите?.. Она же была Богиней-на-Земле! Единственное, что он мог сделать, — это послать ассирийца обратно на арену. Парень был не в форме, долго не тренировался, — или бог рассердился, — во всяком случае первый же бык его убил. Но он оставил по себе не только память.
— Послушайте, — говорю. — Но мог же Минос в конце концов хоть избавиться от ребенка: подбросить его кому-нибудь, мало ли!..
Ирий всегда был вежлив — его нельзя было разозлить, — он и сейчас сказал терпеливо-терпеливо:
— Нет, Тезей! У критян старая вера, ребенок принадлежит матери. Так что царю оставалось только молчать, чтобы спасти свое лицо, — и позволить ему считаться царским сыном. Мне кажется, ему нельзя было выдавать, что он не спал с женой: народ бы сразу понял, почему.
Я кивнул, это на самом деле было ясно. А Иппий продолжал:
— Сначала Астериона держали в рамках. Говорят, Минос очень крут был с ним, тут удивляться нечему… Но теперь — другое дело: он умен и собрал в своих руках столько нитей, что почти правит в царстве. — Он глянул на меня — не для того, чтобы следить за моими мыслями, а чтобы убедиться, что я им поверил. Из-под всей его мишуры выглядывал парнишка — тот, что чистил когда-то сбрую в отцовской конюшне: зоркий, внимательный и умный. — Но ты же понимаешь, Тезей, насколько он ниже тебя, этот выскочка! Он просто недостоин твоего внимания!
— Вы правы, — говорю, — старина Геракл гораздо больше заслуживает изучения. С нашей точки зрения. Но что думает об этом Минос?
Вот тут он заговорил почти шепотом; не от страха — от почтения:
— Минос живет в своем священном пределе очень уединенно. Его никто не видит.
Тот день тянулся долго. Когда стемнело, я выбрался на двор и сел на черный цоколь высокой красной колонны. В какой-то комнате наверху переговаривались женщины, где-то пел мальчик под одну из этих изогнутых египетских арф… Я был один наконец — словно человек, кого весь день блоха грызла, а теперь он может раздеться и почесаться. «Хорошо!..» Но укус был глубок, саднило. Вспомнил, как расхохотался Коринфянин, когда услышал, что я поссорился с Астерионом… Я не видел в этом ничего смешного: мы оба были царского рода и искали бы друг друга на поле битвы. То, что я раб, — ничего не меняло в этом: я раб бога, а не человека. И разозлил я его тогда не только, чтобы избавить от него Журавлей, — из гордости тоже… Когда он все-таки купил нас, я решил, что он хочет иметь врага под рукой, в своей власти; сегодня я понял, что я для него значу: он купил меня, как богач купил бы лошадь, хоть она его и лягнула. Кажется сильной и выносливой, будет выигрывать скачки — это от нее и требуется; а что лягнула — это его чести не задевает: это же не человек ударил, а с лошади — какой спрос?.. Он назвал меня тогда дикарем с материка. Я думал, это оскорбление — намеренное, — а он просто сказал, что думал… И вот он купил меня для своей конюшни, передал тренеру и забыл обо мне. О сыне двух царских домов, от богов, ведущих род свой, о Владыке Элевсина и Пастыре Афин… Обо мне, кому был знак от самого Посейдона, Сотрясателя Земли! Он забыл обо мне — я ничего не значу для этого ублюдка!.. Лабиринт затих. Гасли лампы, поднималась луна, стирая с неба яркие критские звезды… Я поднялся и сказал громко, так, чтобы услышали меня боги этих мест: «Клянусь своей головой, отца головой клянусь — он меня вспомнит!»
5
В Бычьем Дворе — странная жизнь. Часто просыпаешься ночью — а вокруг тебя в зале еще полсотни человек, и отовсюду; так что их обычай иной раз не по вкусу эллину… Однажды получилась стычка и много было шуму: я одному тирийцу нос поломал. Люди говорили, я вел себя неприлично. Я им ответил, мол, если он имеет право на свои обычаи, то и я имею, — на свои, — а у нас обычай такой, что если среди ночи человек подкрадывается к тебе, ты считаешь его врагом. Нос у него немного скривился; и, глядя на него, каждый мог вспомнить, что со мной лучше не связываться.
Однажды я спросил Гелику, как они там живут на своей девичьей половине, когда их запирают.
Она сказала — это свой мир, мне было бы не понять… Но обронила нечаянно, что иногда девушки сражаются, как молодые воины, если две из них соперничают из-за третьей. Я не раз замечал ссадины на девчатах, которые не бывали перед тем на арене, но не ставил им это в упрек: их приучили к такой жизни, да и вообще мне нравятся боевые женщины.
Так вот… Иной раз ночью покой нарушали случаи вроде того, с тирийцем, иной раз кто-нибудь разговаривать начинал во сне или вдруг кричал от тех страхов, в которых никто не признавался днем… В Бычьем Дворе не спрашивают, кому что снилось; не спрашивают, кто о чем думает, когда лежит в темноте без сна. Про себя знаю, что я думал о многом. О смерти, о судьбе, о том, чего хотят от человека боги, как много каждый может сам определить в пределах мойры своей, что заставляет человека бороться, если все определено, можно ли быть царем без царства…
И еще я себя спрашивал — что произойдет, если Ирий, или Гелика, или Аминтор окажутся лучшими прыгунами, чем я, и станут ведущими в команде? Бычий Двор — это особый мир; его законы, естественно, вытекают из всей жизни его, и с ними нельзя не считаться…
Так я себя изводил в первые недели наших тренировок. Но, попав на арену, забыл эти заботы: пляска захлестнула меня с головой, проникла в плоть и кровь… Быть прыгуном — этого казалось вполне достаточно на одну жизнь; я так был захвачен пляской, что угроза утратить царский авторитет меня уже не пугала, но надо было остаться ведущим, капитаном команды, для этого я делал все… — а этого былодостаточно, чтобы оставаться царем.
Продержаться три месяца бычьему прыгуну — это неплохо, но ничего особого в этом нет. Но чтобы вся команда продержалась три месяца, не потеряв ни одного человека, — старики в Кноссе говорили, что такого они не помнят. А мы все были живы, потому что все знали, кто что может, и всегда были уверены — всё возможное будет сделано. Даже те, кто берег себя, — Формион, скажем, или Нефела, — они тоже держали клятву. Сначала боялись Дочерей Ночи, что приходят к предателям, да и меня боялись, чего греха таить; потом увидели, что это лучший вариант для них же самих; а в конце концов — как и все остальные — стали гордиться тем что они Журавли, и уже не могли вести себя иначе.
В Бычьем Дворе есть поговорка: чем дольше прожил — тем дольше проживешь. Узнаёшь пляску, узнаёшь товарищей, узнаёшь, наконец, своего быка… На самом деле, нет такой женщины, с кем я делил свое ложе, — кроме одной-единственной, — нет такой женщины, чье настроение я мог знать лучше, чем знал своего старину Геракла. Бедняжка Гелика — она так и не смогла ему простить, что он зверь а не человек; и при всем своем искусстве осталась средненькой прыгуньей. Она считала его безмозглым и потому не пыталась понять его мыслей… Если она прыгала — ее прыжки были так отточены, что публика всегда ликовала; но мне часто приходилось отвлекать от нее быка или прыгать самому вместо нее. А вот Хриза — та никогда не пасовала. Ее все любили, даже в Бычьем Дворе, она настолько привыкла к этому, считала это таким естественным, что наверно и от Геракла не ждала ничего, кроме любви.
Аминтор тоже был безупречен. Храбр он был как лев… Когда я ему сказал, что он должен оставить прыжки, — хуже этого я ему ничего в жизни не сделал. А надо было сказать: он стал слишком велик для прыжков и недостаточно резок — с тех пор как мы приехали, он еще вырос, — это могло кончиться чьей-нибудь смертью. Он принял это, как подобает мужчине, но переживал очень. Зато потом — потом он проявил себя лучшим ловцом из всех, кого я видел: не было никого смелее, никого не было надежней, чем он. И я, и остальные Журавли, кто прыгал, — все мы по многу раз обязаны ему своей жизнью. Через четыре месяца погиб последний прыгун из тех, что были там до нас. И с тех пор, когда приходила новая партия — еще в одеждах своей страны, сбившись в кучку или рассыпавшись в стороны с раскрытыми от удивления ртами, — с тех пор уже кто-нибудь из Журавлей прятался в Дедаловом быке, чтоб заставить их подпрыгнуть; а когда я подходил с ними познакомиться — все остальные молчали, ждали что скажу я.
Кто появится, никогда никто не знал. Египтян у нас не бывало; это сильный народ, так что Минос сам шлет подарки Фараону. Украшения из золота и хрусталя, резные ритоны, редкостные цветы, драгоценные краски… Сам подарки шлет — какая уж тут дань! Но кроме них у нас бывали все; со всех берегов, какие омывает океан, и даже дальше. Бледные, как слоновая кость, персы, с синими веками, хрупкие и изящные; минойцы со всех островов; дикие варвары из африканских лесов, темные, как полированный кизил… Эти бывали иной раз горячие, веселые, а иной раз умирали от грусти… прямо так и умирали — уходили в землю, не накладывая рук на себя: не хотели жить — и умирали. И там, в Бычьем Дворе, я впервые увидел девушек-амазонок с Понта. Они были стройны, тонкие пальцы в мозолях от лука и копья, свободная широкая походка, гордые лица… И смотрели они прямо в лицо, холодным оценивающим взглядом… — так смотрят молодые полководцы на войне. Их очень ценили на Бычьей Арене, и критяне старались захватить их как можно больше. Когда какая-нибудь из них попадалась мне на глаза — сердце начинало колотиться, я не мог понять почему… Люди сравнялись бы с богами, если бы знали все заранее.
У нас бывали самые разные чужеземцы — по одному, по два — из вообще неслыханных стран; наверно, их где-то перехватили в пути, а потом продали в рабство. Одного я запомнил, хоть он прожил недолго: уж очень странный был малый, из кочевников-скотоводов с дальних гор за Иерихоном. Богиню он ненавидел… Нет, даже не так — он говорил, что она вообще ничто, просто кукла, сделанная человеческими руками. Я спросил, он что — сумасшедший?.. Оскорблять ее в ее собственном пределе, когда он в руке ее!.. Он ответил, что его народ вообще не знает женских божеств, а служит лишь Отцу Небесному, имя которого запретно. Потому он не сказал, как зовут этого Отца, он звал его — Господь. Они считают, как и мы, что он живет вечно, но говорят, что ни отца, ни матери у него нет. Нет ни братьев, ни сестер, ни жены, ни ребенка — никого; он один правит в небе и был всегда. А еще удивительнее — закон запрещает им делать изображения бога… Я спросил: а как он выглядит? Парень ответил, что лицо его — лицо огненное. Я так и не узнал, чем они так оскорбили своего бога, что он явился к ним в таком ужасном обличье. Но у них есть предсказание, что когда-то у него будет сын и этот сын будет их героем-хранителем. Он просто удивительно ничего не знал. Я рассказал ему, что у Зевса было много сыновей на земле, от одного из них вот я произошел… Это ему не понравилось. Он пришел из дикой горной страны; из народа, который боится городов и до сих пор настолько неразвит, что полагает, будто Вечноживущий Зевс ни с кем ни связан больше, кроме них.
Его команда считала его несчастливым, и я тоже посоветовал им избавиться от него, но он это сделал сам. В первый же раз, как попал на арену, — выхватил нож, что прятал в бандаже, и кинулся на быка как бешеный. Кричал, что сокрушит идола филистимлян, — он критян так называл, — сокрушит во имя Господа. Не знаю, может он думал, что бык будет стоять и ждать, пока он это сделает?.. Таких дурных быков не бывает, даже на Крите. Но Зевс Милосердный в награду за все его жертвы был к нему милостив: он был убит сразу. Если бы в нем оставалась хоть капля жизни, он бы еще чего-нибудь натворил, это уж точно… Мы были рады, что с ним покончено: на обеих руках не хватило бы пальцев перечесть всех богов, каких он успел уже оскорбить, а нам и с быками риска хватало — зачем еще?
К этому времени у большинства из нас уже было по шраму, по два. От Геракла. У него бывали свои дни. Иногда он бывал живей обычного и едва входил в свои ворота — это сразу было заметно: как хвостом размахивает. И тогда, пока он не уставал, нельзя было угадать, что он сделает. В такие дни я принимался за дело первым, чтоб маленько его остудить. Я же знал, что перед смертью мне должен быть знак от Посейдона, а знака не было — значит, мне нечего было бояться. Когда я брал его за рога, он чуть притормаживал, и я успевал показать какой-нибудь из тех номеров, по которым меня знали: например, скрутить еще одно сальто при соскоке с его спины… И часто такие дни становились самыми удачными. Как сейчас, вижу его озорные глаза; предупреждают: «Я был слишком добр к тебе, позволил тебе стать непочтительным… Не зазнавайся, однако!» Перед входом в прыжок я обычно проводил с ним коротенький танец; шлифовал его, оттачивал — он нравился зрителям. Там надо было держать ухо востро: сам прыжок не так опасен, как эта пляска перед рогами. Однажды он чуть не пропорол мне грудь; я едва успел повернуться, так что удар прошел вскользь. В Бычьем Дворе еще не видывали таких шрамов: от правого бока до левого, через все тело. Там была одна мудрая старуха, самая лучшая из всех, кто врачевал раны, к ней я всегда ходил. Она лепила на них всякую гадость, — паутину, зеленую плесень, — но магию она знала, так что эти примочки всегда помогали.
Когда мы пробыли на арене пять месяцев — в других командах тоже стали жить дольше. Ребята видели, как мы работаем, знали — и в паре команд принесли друг другу клятву, и в основном держали ее, как могли. Но они не понимали друг друга так, как мы. А мы к этому времени уже забыли, кто из нас афинянин, кто элевсинец, и чувствовали себя друг с другом так, словно все вышли из одного чрева.
Перед пляской мы каждый раз выстраивались перед ложей и посвящали себя Богине-на-Земле, в тех ритуальных словах на древнем языке. Мы при этом вытягивали руки ладонями вниз — к Великой Матери, чтобы простила нам это богохульство, — но смотреть надо было вверх. Я часто заглядывал ей в глаза — всё ждал, что хоть глаза шевельнутся… Но она стояла словно золотое изваяние, немыслимо неподвижно; даже когда руки поднимала — и тогда невозможно было представить, что она из плоти человеческой. Но чуть погодя, когда начиналась пляска, я почти забывал о ее существовании.
Вот так мы и жили в Бычьем Дворе. Но когда тебя узнают там — в Лабиринте не остается места, где тебе не придется рано или поздно побывать. Кроме царских покоев, конечно. Уже не надо искать женщин по вечерам — не знаешь, куда деваться от всех тех, кому ты нужен… А если ты женат на Бычьей Пляске — никаких излишеств позволять себе нельзя.
В Кносском дворце даже женщины умеют писать. Это я не с чьих-то слов говорю — сам знаю! Некоторые из них мне писали; и не какие-то там записочки на листе влажной глины, — мол, где ее встретить или когда муж в отлучке будет, — нет, целые истории, по два листа египетской бумаги, длинные как доклад о войне…
Я никогда не мог понять и половины того, что там было написано, а иной раз и еще меньше. Так позакрутят одно с другим — не выговоришь… Но красиво получается, складно, только непонятно что к чему. Поклясться могу — они знают столько разных слов, что ни одному нашему арфисту не упомнить, хоть ему-то их только на слух знать надо, не писать…
Но мы бывали не только в опочивальнях. Вельможи, князья — они приглашали нас на свои пиры и ничего не просили взамен; наше присутствие само по себе было им наградой. Что до еды тамошней и питья — это только дразнило: ведь лишний вес — верная смерть на арене… Но я часто ходил к ним. Из любопытства, из тщеславия и ради того, чтобы побольше узнать. Раз уж боги до сих пор нас щадили, мы не оставляли надежды уйти с Крита.
Критяне напичканы разными утонченными манерами, и вообще — с причудами народ. Они, к примеру, считают, что твои собственные пальцы недостаточно хороши, чтобы класть еду в рот, — надо инструмент особый… Людей, непривычных к этим игрушкам, они считают неотесанными, так что поначалу я ходил к ним с опаской, — думал, смеяться будут, — но не подавал виду, из гордости. И если не мог сразу повторить их обычай, раз поглядев, — вел себя по-своему, как будто мне так больше нравится да и всё тут. И скоро увидел, что это доставляет им удовольствие, особенно женщинам. Они ни на что так не падки, как на что-нибудь новенькое.
Прямо во дворец были встроены — или по крайней мере находились внутри его ограды — дома всевозможных вельмож и аристократов. Я и говорю — это целый город был, этот дворец. Но хоть и беспорядочно он был построен, а охранялся хорошо: ни в одни ворота, ни в одну калитку нельзя было пройти, чтоб тебя не окликнули, любого. Поначалу я думал, что это в нашу честь, специально для плясунов такая стража.
Хоть имя Минос древнее, из старого языка, и цари на Крите с незапамятных времен — в их роду была лишь капля древней крови. А со времени великого Микенского похода, когда царский род предали мечу и брат Львиного Царя женился на Богине-на-Земле, — с тех пор цари правили по своему собственному праву, не только по праву мужа царицы; и их уже не приносили в жертву на девятый год. Многие победители взяли себе в жены критянок, так что большинство их обычаев сохранилось от старой веры; но потом эта новая знать вся породнилась меж собой — и к коренным критянам, у кого в роду не было эллинской крови, относилась с величайшим презрением. Я не понимал этого. Они вовсе не варвары; все знают, что лучших мастеров нигде не сыскать, хоть в каком деле; как раз у них эти полуэллины и писать научились… Правда, телом они не вышли — мелковатый народ, как большинство землепоклонников, и кожа у них темноватая, но смотреть на них приятно… Сколь я мог судить, их унижали единственно для того, чтобы хозяева сами о себе могли бы думать лучше. Меня аж в дрожь кидало, когда в их присутствии о них говорили, как о собаках, когда обзывали их разными презрительными кличками: Паршивый, там, Хромой, Косой… Дома дед лупил бы меня, пока б рука не устала, если бы услышал от меня что-нибудь подобное. И налоги с них драли по-невозможному; хоть о таких вещах во дворце говорили мало, а заботились еще меньше. Сытый голодного не разумеет — чтоб оценить чужие беды, надо иметь свои…
Мы были на арене уже с полгода, я уже почти забыл о нашем покровителе — и тут мне принесли письменный вызов: он звал меня на пир.
Я не знал, что мне делать. Если оскорбить его отказом — у него достаточно власти, чтобы разбить команду, и ребята начнут погибать. Но сидеть за столом человека, которому я отомстил бы при первой возможности, — это же смерти подобно!.. Это вопрос моей чести!.. Аминтор понимал такие вещи лучше всех остальных, ему я рассказал свою беду. Он обрадовался, что я спросил его совета, долго сидел думал… А потом говорит:
— Послушай, Тезей! По-моему, ты можешь есть за его столом, не будучи его гостем. Там тот же хлеб неволи, что и в Бычьем Дворе, только там его подадут с соусом, вот и всё. Даже если ты его убьешь когда-нибудь — твоей чести это не уронит. Ты посмотри на это письмо — он же не просит тебя, он приказывает!..
Это меня успокоило, Аминтору можно было верить: у него была благородная душа, а в Бычьем Дворе он стал гораздо выдержаннее, чем был когда-то, и очень здраво обо всем судил.
Малый Дворец стоял к юго-западу от центрального двора, там были свои ворота и своя стража. Я надел всё лучшее, что было у меня, — чего уж тут, делать так делать!.. В Доме Секиры, если я шел к кому в гости, то надевал критскую юбочку; у меня их было две или три, разных. В тот день я надел синюю с золотой каймой, из плотного шелка, что привозят с Востока, из-за Вавилона. Мне ее подарила жена одного генерала, моя главная любовница в то время. Чудесная была женщина, то что надо бычьему прыгуну: легкая, веселая… Иметь дело со слезами, со скандалами — это слишком большая роскошь для нас. А иногда подарки приходили безымянными, и тут нужна была осторожность: наденешь на себя эту штуковину, а автор подарка будет показывать ее друзьям и соперникам и хвастаться, что ты его любовник, — доказывай после… И женщины стеснялись в этом не больше мужчин.
Часто самые богатые подарки доставались от вельмож, которые хорошо выиграли на тебе. Каких только ставок они не делали!.. И сколько продлится Бычья Пляска, и прольется ли кровь, и сколько будет прыжков, и какие будут прыжки, не говоря уж о ставках на жизнь и смерть. Когда человек ходит по краешку, — жизнь на волоске, — подкупом его не соблазнишь, так что эти подарки вовсе не были рассчитаны на то, чтобы повысить шансы игроков. Это было модно: шикарный подарок плясуну. У меня было больше ожерелий, чем я мог надеть сразу, кистевые и надлокотные браслеты, перстни… Но лишь одно украшение я не снимал никогда — это был хрустальный бык Коринфянина. И всегда в Бычьем Дворе подарки погибших были самым драгоценным из всего, что мы имели.
В тот вечер я надел на себя всё, что мог. Я стал уже настолько прыгуном, что считал себя неодетым, пока не начинал звенеть золотом. И побрился тоже… Я хоть и неохотно, но поддался этому критскому обычаю. С пятнадцати лет я ждал, когда вырастет борода, и как каждый подрастающий парнишка старался помочь ей: кабаньим салом мазал и всё такое, по рецептам что мальчишки друг другу сообщают… Это же просто дико было — вот она появилась, и избавляться от нее! Но здесь она была признаком варвара, женщины морщились или уклонялись со смехом… Иногда я представлял себе, как бы дед посмотрел на мой голый подбородок. Противно бы посмотрел; спросил бы, уж не скопец ли я… Однако он был далеко, а в Лабиринте меня скопцом не считали.
К этому времени я подумал, что повидал уже несколько по-настоящему богатых покоев, но когда меня вели через Малый Дворец — тогда только понял, что такое истинная роскошь. Одна комната была обставлена специально только для игр. Столы и доски в клетку из черного дерева с золотом… Но я не оглядывался особо по сторонам: если ты проявляешь удивление, критяне начинают думать о тебе хуже.
В Большом Зале для гостей был приготовлен великолепный пир и собралась родовитая компания. Большинство из них меня знали; заговаривали со мной, пока я шел мимо них поздороваться с хозяином… Он приветствовал меня громкой шутливой похвалой — не для меня говорил, а для публики, так что похвала эта ничего не значила. Видно было — он позвал меня, чтобы доставить удовольствие своим гостям, точно так же мог бы нанять танцовщицу… Аминтор был прав: я ничего ему не должен.
Мы ели с тонкой раскрашенной посуды, рыбные блюда критяне готовят, как никто другой, — но мне не грозила опасность переесть. Вид этой компании убил бы не только аппетит, а и лютый голод: как эти высокопоставленные господа лебезили перед ним, как их лица менялись вместе с его лицом, словно воины на строевых занятиях!.. А ведь я точно знал, что несколько человек буквально ненавидят Астериона. Он скрипуче выдавал свои грубые шутки, а тем временем глаза его не упускали ничего. Я видел, как он следит за гостями, что сидят далеко. Что они говорят, ему не слышно, — но он поймет это по движению губ… А слуги его подозрительно медлили за спинами гостей. Я его ненавидел, — но было в нем еще что-то такое, что меня прямо тошнило. Понятно, каждый хочет власти, чтобы добиться чего хочет: кому нужна слава, кому богатство, замки, женщины.. Но этому власть нужна была просто так, ради самой власти, чтобы унижать других. Его гордость жирела, пожирая чужую, как крупный паук пожирает меньшего, — это было отвратительно.
Для нас танцевал смуглый фокусник, сидонец. У него была обезьянка — помогала ему в его номере, понимала все, что он говорил… Когда он закончил, Астерион бросил ему свой подарок — бросил так, что достать его можно было лишь ползком, пресмыкаясь на брюхе. Обезьянка подняла его, подала своему хозяину и поклонилась при этом, прижав руку ко лбу. Гости засмеялись. Когда он ушел, Астерион сказал что-то одному из слуг, и тот двинулся к выходу. Я слышал, другой спросил его, куда он идет.
— За обезьяной, — говорит. — Господин ее хочет.
Я подумал, что так было и со мной.
Внесли сладости, родосское вино… Я сидел в конце стола, разговаривал с кем-то из гостей, снизошедшим до разговора со мной, — вдруг он наклонился вперед в своем кресле и проревел:
— Тезей! Ко мне!
Я чувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Хотел было притвориться глухим, — но нет, думаю, если я не пленник его, значит гость… Встал и пошел к нему; так, без лишней спешки. Подошел… Он ухмыльнулся.
— Ну, Тезей, каково быть вожаком арены? Ты уже не тот парнишка, что приехал с материка в кожаных штанах, а?.. Теперь ты о Крите лучшего мнения?
Я не ответил. Он щелкнул пальцем по моим ожерельям.
— Поглядите-ка, — это уже гостям, на меня он почти не смотрел. — Могу спорить, что не все это заработано на быках. Что скажешь, малыш?
Я держал себя в руках и по-прежнему молчал.
Я изучал его, мне важно было понять его. Смотрел на его лицо — тяжелую маску — и гадал, как человек становится вот таким.
— Хоть одна драгоценность от каждого вельможи Лабиринта; о дамах я не говорю, их тайны святы, не так ли? — Он подмигнул молодой женщине, что недавно вышла замуж. У меня с ней никогда ничего не было, но она покраснела до самой груди. — Подарки ото всех, и до сих пор ничего от твоего покровителя. Могу поклясться — ты удивлялся почему…
Он снова ухмыльнулся, ждал.
— Нет, — говорю. — Нет, мой господин.
Он аж заревел от хохота:
— Вы слышите? Он думал, я для него розги замочил… за тот шум в гавани!.. Ты, дурачок! Как ты думаешь, чего мы ищем в бычьих плясунах? У нас, — кто занимается ареной, — у нас свои понятия, что хорошо и что плохо.
В прошлый раз его глаза были против моих на расстоянии руки. Теперь тоже, но он не смотрел на меня, на гостей смотрел.
— Ну так что?! Признаете, что Астерион умеет выбрать?
Гости зашумели одобрительно, наперебой зашумели… Мне было стыдно за них — больше чем за себя: ведь они считались свободными людьми!..
Он хлопнул в ладоши. Слуга нес на ладонях что-то похожее на блюдо… Я подумал было, что он решил меня отравить; даже успел представить себе, как он оглядывает гостей, когда я упаду, — провоцирует их высказаться по поводу моей смерти… Но это был небольшой поднос, обтянутый пурпурной кожей, а на нем лежало громадное ожерелье из золота и камней. Слуга протянул его Астериону, но тот, не прикоснувшись, показал жестом отдать мне.
Пальцы у меня — зудели! Прямо болели руки, до того хотелось схватить этот кистень, — ожерелье тяжелое было, — схватить и врезать по этой гнусной роже!.. Я поклялся, что жизнь каждого Журавля дорога мне, как моя собственная жизнь, но не дороже, нет, а честь была дороже жизни, — так что не клятва удержала меня: удержала, наверно, привычка быть царем, отвечать перед богом за народ свой. Я даже заговорил спокойно:
— Вы чрезвычайно добры, Бык Миноса, — говорю. — Но простите, я не могу это принять.
Раб отодвинул поднос, не зная, что с ним делать. За столом послышался тихий шорох, шелест платьев… Но Астерион лишь на миг сурово скосил свои круглые глаза, а потом спросил почти сердечно, конечно же это был спектакль для гостей:
— Не можешь? Почему же?
— Я из царского рода, — говорю. — Принять подарок от человека, который бил меня… — это уронило бы мое достоинство.
Все слушали, но ему это вроде даже понравилось: взмахнул рукой в мою сторону:
— Полюбуйтесь. Нет, вы послушайте только!.. Все такой же бешеный, как в первый день. За это я его и ценю. Все великие прыгуны — все они дикие и сумасшедшие. Рождены для быков и не годны ни на что другое. Это их демоны приводят их на Крит! — Он хлопнул меня по плечу. Так ведет себя человек, у кого есть опасная собака, а он хвастается ее свирепостью. — Ну что ж, — говорит, — будь по твоему.
Щелкнул пальцами — слуга унес подарок.
Вы бы подумали, что натолкнувшись на оскорбление, он постарается убрать меня с глаз долой, верно? Так нет же. Время от времени он приказывал мне являться на свои пиры и разыгрывал там примерно такие же сцены. Я даже слышал, как он говорил перед тем кому-то из гостей: «Вы посмотрите внимательно, вы послушайте, как гордо он будет отвечать мне. Он дик как горный ястреб. Вы слышали, как он отпустил быка?.. Я сразу это заметил, когда его только привезли с материка, совсем сырого…» Честь мою — и ту он превратил в шутовской номер, отдал ее на посмешище своим гостям. Даже Аминтору я не говорил, с чем приходилось мне мириться в те дни; мне стыдно было говорить об этом. Бывало, скажу только: «Я заплатил за свой ужин…» Он знал, о чем я.
Остальные аристократы вели себя достаточно учтиво, а среди молодых я был даже моден. Вообще-то любой прыгун может так вознестись, но я их интересовал особенно: до сих пор на арене не было царей или царских наследников. Некоторые из них спрашивали, мол, если бог разгневан — почему я не пожертвовал кого-нибудь вместо себя? Мол, если бы я одел его в свое платье, он прошел бы здесь за меня. Я был их гостем, потому не спрашивал, уж не считают ли они богов дураками; отвечал только, что меня вызвали по имени. Они всегда удивленно переглядывались, услышав этот ответ: почти все их обряды стали так же легкомысленны и похожи на игру, как и Бычья Пляска.
Эти молодые господа и дамы были напичканы всякой ерундой; у них даже язык был свой особенный, как у играющих детей. И к чести своей они относились так же легко, как к своим богам. Самые смертельные оскорбления проходили у них за шутку, а если муж не разговаривал с соблазнителем своей жены — это было верхом неучтивости… Однажды, наедине с женщиной, я спросил ее, сколько времени прошло с тех пор, как в последний раз оскорбление у них было смыто кровью. Но она лишь спросила в ответ, сколько людей я сам убил, — будто в двух войнах и в разъездах по стране я должен был вести учет. Женщины обожали разговоры о войне и крови, даже в постели это продолжало их интересовать.
В основном, что всех этих людей привлекало ко мне? Я был чем-то новеньким, таких раньше не бывало. Что-нибудь новое — это была их страсть, а удовлетворить ее было не так легко. Оказалось, Лукий говорил правду, что их записанная история уходит за тысячу лет. Если б ничего другого не осталось — они готовы были бы на головах ходить ради новизны. Это было видно, ну хотя бы по их посуде, по вазам. Все знают — критские гончары ведут за собой весь мир. Знают все и всюду, хоть самые лучшие изделия можно увидеть лишь на Крите. Во дворце было много гончаров, работавших на царя; аристократы держали своих мастеров… Мне никогда не надоедало разглядывать их работы. Цвета у них разнообразней и сочнее, чем у нас дома; узоры веселы и свободны, но полны гармонии… Они любили рисовать на вазах разную морскую живность: звезды там, коньки, дельфины, раковины… водоросли переплетаются… Возьмешь такую вазу или кувшин в руки, — просто в руки возьмешь, ощутишь ее форму, глазурь, — душа радуется. Но в последнее время они начали уродовать свои изделия, стали лепить на них разные витиеватые финтифлюшки, цветочки там разные, цепочки, висюльки… Это было трудно, это доказывало их искусство, но вещи получались такими, что казались годны только пыль собирать. По правде сказать, уж если за тысячу лет этого ни разу не сделали, значит оно того и не стоит; но их даже красота утомляла, если в ней не было новизны.
Помню, один вельможа, у которого я обедал, повел нас в свою гончарную мастерскую показать последние работы своих мастеров. У них там начался какой-то длинный разговор, а я его почти не понимал — у них ведь слов гораздо больше, чем у нас… Мне стало скучно, и вот я подобрал кусок сырой глины и слепил маленького быка; таких дома ребятишки лепят, когда играют в грязи, только у них лучше получается — я-то уже разучился… Я уж совсем было собрался скатать комок снова — мой хозяин и его друзья схватили меня за руки, поднялся шум, закричали, что быка надо обязательно обжечь. «Как свежо!» «Как чисто!» — что-то в этом роде они говорили, точно слов не помню. «Как он почувствовал, как понял глину!..»
Я возмутился — за кого они меня принимают?! Пусть я с материка, пусть они меня считают варваром, но я же гость у них как-никак. «Глину я не понимаю, — говорю, — я не среди ремесленников вырос. Но быков я понимаю и знаю, что это не бык. У нас дома, как и здесь, благородный человек знает, как выглядит хорошая работа, хоть и не может сделать ее сам. Не такие мы отсталые, как вам кажется».
Они стали извиняться; говорят, мол, я их неправильно понял, а они ничуть не смеются надо мной… Всерьез, мол… Я сделал то, за что удостоились высочайших похвал их самые лучшие, новейшие мастера… И в доказательство подвели меня к полке, заставленной грубыми жалкими вещицами, какие вы увидите дома, высоко в дальних горах в какой-нибудь захудалой часовне… Их лепит там неуклюжий крестьянин, который в жизни не видел настоящей мастерской, но может продать за горсть маслин или ячменя свои изделия, потому что лучших в округе нет; а те, кто купил, приносят их в жертву богам…
— Вот видите, — говорят, — вот так мы осваиваем простоту и силу древних образцов.
Я сказал, мол, вижу — они меня не разыгрывали, приношу, мол, свои извинения… Задумался. Одна из женщин тронула меня за руку: «Что с вами, Тезей? Вы все еще сердитесь? Или мысли о быках нагоняют на вас такую угрюмость?» Я рассмеялся, сказал какую-то из дежурных фраз, которые нравятся подобным особам… Но думал я не о ней и не о быках. «Мне бы сюда моих Товарищей и пару тысяч воинов — я прошел бы Крит из конца в конец, вымел бы их отсюда. Эти люди впали в детство, это выдохшийся, конченный народ…» — вот что я думал.
Но арена еще была. Мы, Журавли, веря друг другу, чувствуя друг друга, — мы настолько отшлифовали свою пляску, что самые старые старики стали предпочитать нас самым лучшим воспоминаниям своим. Каждый успел уже побывать на волосок от гибели, каждый уже не раз был обязан жизнью команде. Формион и Аминтор, — оба они уводили быка один от другого, — у них уже не возникало разговоров о дерзости и о глине в волосах: в Бычьем Дворе оба были вожди, оба ремесленники. Однажды, когда Хриза потеряла равновесие и повисла на рогах, мне пришлось сделать тот прыжок, что стал гибелью Коринфянина; но в тот же миг Иппий был на месте, с другой стороны, и нам на всех досталась лишь пара царапин, хоть перепугались мы не на шутку.
После этой самой пляски я шел в баню, когда во дворе меня остановила какая-то женщина: «Тезей, пойдемте, сразу же, прошу вас, пойдемте покажитесь моей госпоже. Ей сказали, что вы погибли, и она заболела от горя. Она плачет, кричит — заходится… Бедная маленькая госпожа, в ней души больше, чем тела, такое потрясение может ее убить!»
У меня уже было столько женщин, что мне трудно было управляться с ними, так что новое знакомство меня не прельщало.
— Приветствуйте госпожу от моего имени, — говорю, — и передайте мою благодарность за участие. И скажите, что со мной всё в порядке.
— Это не годится, — говорит. — В прошлый раз, когда она любила бычьего плясуна и он погиб, я скрыла это от нее, а она потом узнала. Она не поверит мне, она должна увидеть вас сама…
Я поднял брови:
— Пойдите к ней, — говорю, — уверяю вас, она уже успокоилась.
Она схватила меня за руку, тянет, давай кричать:
— О, не будьте так жестоки, не убивайте мою овечку. Посмотрите, здесь два шага всего!.. — И показала на царскую лестницу.
У меня аж дух захватило.
— Что?! — говорю. — А ты не думаешь, что быки меня убьют сразу же?
Она притихла, стала строгой — словно я ее оскорбил.
— Ты!.. Невежда и невежа!.. За кого ты меня принимаешь — за сводню?.. Ох эти дикари!.. Что ты еще скажешь?.. Ведь ей нет и десяти лет!
Я пошел с ней в чем был — в наряде и украшениях плясуна. Она повела меня по широкой лестнице, что освещалась через отверстие в крыше и держалась на красных колоннах… Потом мы долго крутились по каким-то коридорам и наконец пришли в большую светлую комнату. В одном углу детская кровать, в другом алебастровая ванна, куклы на полу… Стены были чудесные: расписаны птицами, бабочками, обезьянами на фруктовых деревьях… Я разглядывал эти картинки, когда услышал писк, тонкий, словно крик летучей мыши. От кроватки ко мне бежала маленькая девочка, совсем голенькая. Она прыгнула мне на руки и уцепилась за шею — легкая, как те обезьянки, нарисованные на стене. Нянька, что привела меня, и другая, что была в комнате, рассмеялись, принялись шутить… А мне было жалко девочку, видно было, что она горевала не на шутку. Все лицо, даже волосы ее были мокры от слез, а под глазами пятна, как от толченого пурпура. Она была из тех тонкокожих девочек, какие бывают в очень древних домах: каштановые волосы, тонкие как шелк, маленькие ручки будто из слоновой кости, глаза прозрачной чистой зелени… Я поцеловал ее, сказал — это научит ее не плакать раньше времени. Тело ее было нежно на ощупь, словно свежий цветок лилии, а груди только чуть-чуть проглянули… Я отнес ее обратно к кроватке, уложил в постель; она свернулась на боку калачиком, ухватив меня за руку, чтобы сел рядом.
— Я люблю тебя, Тезей, я люблю тебя! Я почти умираю, так тебя люблю.
— Оракулы говорят, что ты будешь жить. А пока — усни.
Она потерлась о мою руку мокрой щекой.
— Ты такой красивый!.. Ты бы женился на мне, если бы я была большая?
— Ну конечно. Я бы убил всех твоих поклонников и увез бы тебя на золотом корабле.
Она подняла на меня глаза. Ресницы слиплись от слез.
— Акита говорит, когда я стану женщиной, тебя уже убьют.
— Это в воле бога. Но я стану слишком стар для быков, уж это точно. И тогда вы, прекрасные дамы, все забудете меня.
— Нет! Я всегда буду тебя любить! Когда ты станешь старый-старый … двадцать, тридцать лет тебе будет — все равно я тебя буду любить!
Я рассмеялся.
— Посмотрим, — говорю. — Но я тебе вот что скажу. Когда ты вырастешь, я стану царем, если буду жив. Хочешь поспорим? Это пари для тебя, ясноглазка. Будешь ставить на меня?
— Буду… Но мы теперь помолвлены, ты должен дать мне подарок на память…
Я предложил ей кольцо, на мне их много было, но она затрясла головой:
— Нет, кольца — это всего лишь золото… Мне надо немножко твоих волос. Няня, иди сюда, отрежь у него прядку.
— Послушай, волосы я обещал Аполлону, я не могу их отдавать тебе. И потом, если кто-нибудь ими завладеет — мне могут причинить зло. — У нее задрожали губы, и я услышал, как одна из нянек шепчет: «Вот видишь? В душе он все еще варвар!..» И тогда, — хоть это мне не нравилось, — тогда я сказал из гордости, сказал легко и весело: — Впрочем, ладно. Если хочешь — возьми волосы.
Нянька принесла женскую бритву и отрезала ей прядь моих волос. А она:
— Не бойся, — говорит. — Я буду их хранить крепко-крепко!.. Кроме меня, их никто не возьмет!
Когда я уходил, она положила их на ладонь и осторожно гладила кончиками пальцев. Я задержался у дверей помахать ей рукой:
— До свидания, ясноглазка. А ты так и не сказала мне, как тебя зовут…
Она подняла глаза и улыбнулась:
— Федра.
6
Однажды Дедалов Бык поломался. Поломался рычаг, так что голова у него не двигалась. Привели мастеров чинить его; плясуны поначалу собрались посмотреть… но работа была кропотливая, всем надоело — разбрелись. А я остался. Мне всегда было интересно, как что сделано. Теперь я уже понимал немного по-критски — знал ритуальные слова, слышал, как говорят со слугами, — так что мог следить за их разговором. Один рассказывал, что на южном побережье строят наблюдательную башню на случай войны с Египтом. Другой ответил, что он лично ничего не имеет против Фараона. Говорят, он поклоняется лишь Богу Солнца и пренебрегает другими божествами, но ремесленникам у него не худо… «Раньше у них нельзя было делать ничего нового — только копии старых изделий, но теперь человек может получить радость от своей работы… Говорят, у них есть даже законы для ремесленников, и ты можешь работать для кого хочешь. По мне — так египтяне могут приходить хоть сегодня».
Я подошел поближе.
— И у нас в Аттике есть законы для ремесленников, — говорю. — И для крестьян тоже. Они собираются на свои советы — гончары с гончарами, кузнецы с кузнецами, и царь судит их по справедливости.
Я был так далеко от дома — на самом деле видел всё не так, как было, а как мечтал устроить. Эта мечта расширилась, выросла во мне, как во сне бывает… Поначалу они слушали меня лишь потому, что я был Тезей из Журавлей, а критяне все болеют за Бычью Пляску; но потом — потом их главный вдруг сказал:
— Знаешь, Тезей, если царь твоей страны когда-нибудь высадится здесь, у него тут будет много союзников; многие из нас пойдут сражаться за него, если он даст нам такие же законы.
Остальные его поддержали. Я ушел от них — едва не слепой от радости; с трудом вырвался из своих мыслей, чтобы ответить людям, кто обращался ко мне… Но этой радости хватило ненадолго: эллинские земли были далеко за морем, а мне некого было послать туда.
Но этот разговор не забывался. Каждый вечер я молился Отцу Посейдону, простирая руки над землей. Ответа не было — но я молился снова и снова. Я звонил и звонил у божьего уха — должно же это было когда-нибудь хоть надоесть ему, что ли… И он наконец услышал.
Я сидел на каком-то пиру, когда в зал вошел акробат. Танцевать для гостей. Это был стройный юноша, росточка небольшого, но слишком светловолос он был для минойца — наверняка эллин. Он не сводил с меня глаз — и я встретил его взгляд. Это был искусный танцор, можно было подумать, что у него все тело в суставах, как у змеи… А мне все время казалось, что я его где-то уже видел.
Когда он отдыхал, наши глаза снова встретились. Я поманил его к себе и спросил, откуда он. Он оживился, услышав мою эллинскую речь.
— Мое ремесло водит меня по всему свету, — говорит, — но родился я в Афинах.
— Нам надо поговорить.
Он кивнул, отошел.
Я попрощался рано. Никто не обратил на это внимания — бычьи плясуны должны высыпаться… Во дворе он тихо подошел ко мне и зашептал на ухо, — я не успел даже рта раскрыть:
— Говорят, вы главный среди бычьих плясунов?
— Говорят..
— Тогда, ради Зевса Милосердного, скажите где хоронят убитых, как мне попасть туда. Я прошел весь этот путь, чтобы принести жертвы на могилу сестры, ее увезли из Афин во время последней дани. Мне пришлось работать, чтобы пробраться сюда, иначе не стал бы танцевать для этих критян, я на них и глядеть бы не стал — разве что на мертвых… Мы с ней родились вместе, мы работали вместе, мы танцевали с ней раньше, чем ходить научились…
Сердце у меня подпрыгнуло — едва не задохнулся.
— Увези назад свои жертвы, — говорю, — Гелика жива.
Он принялся благодарить и благословлять меня, потом стал умолять сказать ему, как он мог бы спасти ее отсюда…
— Сам ты ничего никогда не сможешь, — говорю. — Даже мы, мужчины, никогда не выходим из Лабиринта, а девушки постоянно заперты в Бычьем Дворе. Если попытаешься — умрешь страшной смертью и погубишь ее: она должна быть спокойна на арене… Но все-таки ты можешь ее спасти, если отнесешь от меня донесение царю Афин.
Он вздрогнул, я увидел это даже в тени. Схватил меня за руку, подвел к свету, что шел из двери, и прошептал: «Мой господин! Прости, я не узнал тебя».
Все плясуны красят глаза; положение требует этого, как и золотых украшений… Но он был слишком учтив, чтобы признаться. Сказал:
— В Афинах я никогда не видел тебя так близко. Город оплакивал тебя, а царь постарел на десять лет… Как он будет благословлять богов за эту новость!
— Не только богов — он и тебя отблагодарит.
Глаза его заблестели, — это вполне естественно, — он попросил письмо, чтобы получше его спрятать.
— Нет, — говорю. — Если это выйдет на свет, мы все погибли. Тебе придется выучить его наизусть. Помни — это жизнь твоей сестры. Повторяй за мной.
Я чуть подумал, потом сказал:
— Приветствую тебя, Отец! Крит прогнил насквозь, и пять сотен кораблей могут его взять. Коренные критяне ненавидят своих господ. Попроси у Великого Царя Микен его корабли, добычи здесь хватит на всех. Флот собирай в Трезене, критские военные корабли туда не заходят. Когда вы придете, я вооружу бычьих плясунов и захвачу Лабиринт.
Парень был сообразительный и выучил это быстро, потом спросил:
— Государь, у тебя есть что-нибудь, что я могу дать Царю? Чтобы он узнал!.. Он осторожный человек.
Это было верно, но я не мог придумать ничего, что бы послать.
— Если ему будет нужен пароль, — говорю, — скажи: «Тезей спрашивает, по-прежнему ли пьет вино белая гончая».
С тем мы расстались. Я сказал, когда он сможет увидеть Гелику на арене, но предупредил, чтобы он не давал ей знать об этом.
— Это отвлечет ее от быка, — говорю, — я ей после скажу.
Я ей и сказал после, после пляски. А потом собрал Журавлей, взял с них клятву молчания и рассказал им свой план. «Это тайна Журавлей. Говорить остальным слишком рано: когда знающих слишком много — кто-нибудь да проболтается… Наши друзья и любовницы — их мы спасем, когда восстанем; но до тех пор клятва наша связывает нас — никому ни слова! А пока мы должны найти место, где прятать оружие, когда достанем его. Девушек тоже надо вооружить».
Я огляделся. В чистом поле по весне больше укромных уголков, чем в Бычьем Дворе: кроме наших узелков с одеждой да постелей — лишь голые стены кругом. Все молчали. Потом Меланто сказала: «А у нас его легко можно спрятать. Наше жилье — как старый крольчатник: полно закоулков разных, углов, доски отодраны… Охраняют только наружный выход».
— Это годится для вашего оружия, — говорю, — а для нашего не пойдет. Скорей всего нам придется подниматься ночью — вырваться наружу, а потом уж штурмовать ваши ворота.
Опять замолчали ребята. И тут Иппий глянул на меня из-под своих накрашенных ресниц:
— Тезей, если нам надо выпустить девушек ночью, то я наверно мог бы пройти туда к ним.
Мы все уставились на него ошарашенные, а он пошептался с Фебой и ушел с ней куда-то, не обращая на нас внимания. Некоторое время его не было, и мы за разговором уже забыли о его выходке, — смотрим, к нам идет Феба, но не в бычьем своем наряде, а в афинском платье. «Что она с собой сделала, — думаю, — что стала такой красавицей? Да нет, это не Феба вовсе…» Девушка шла, потупив глаза и стягивая руками шарф на груди; подошла вплотную — Иппий! Да, мы ему многое прощали, но теперь наше терпение было вознаграждено. Все понимали, какое опасное дело он берет на себя. Ирий тоже понимал — и сказал так: «Иппий прекрасен, но подождите, дорогие мои, вы еще не видели меня!»
Это уже кое-что. Мы уже знали, что лишь мужчин не пускали к нашим девушкам; а из дворцовых дам немало было таких, что приходили к ним, когда темнело, с подкупом для стражников и подарками для жриц. Это было кое-что, мы воспрянули духом.
Я только одного боялся, очень боялся. Что надежда будет держать нас в слишком большом напряжении, что из-за этого мы станем слабее на арене. А я чувствовал, что теперь — когда, быть может, это уже последняя вахта перед зарей, — теперь мне нельзя терять ни одного из моих, я этого не вынесу.
Если ты надеваешь свободное ожерелье, выходя на арену, в нем обязательно делаешь слабое звено, на ниточке, на случай, если рогом зацепит. Это старый обычай. Теперь я приказал Журавлям сделать то же самое с поясами, под пряжкой, чтобы незаметно было; на наших глазах одного мидийца бык захватил за пояс и убил… Это новшество переняли многие плясуны, но получилось так, что испытать его первым пришлось мне. Я подпустил Геракла впритир, и он меня зацепил. Пояс какой-то миг еще держался, я успел подумать — конец мне… и тут он лопнул! Я убрался в сторону, — без особой грации, но лишь небольшой порез на боку, — и тут мой бандаж с меня свалился. Я отпихнул его ногой — и стою на арене в чем мать родила.
Только что на трибунах люди орали, стонали, вопили… думали, увидят наконец мою смерть… Теперь хор звучал по-иному: женщины ойкали и повизгивали, а мужики разрывались от хохота. Менестий и Филия отвели быка, Хриза шла в прыжок… но это все они уже видели, и теперь все смотрели только на меня. Все. Пятнадцать тысяч человек.
Раньше я как-то об этом не подумал, а теперь — в жар бросило: ведь до конца пляски никуда не денешься с этой голой открытой арены!.. Я даже не заметил, что бык повернул на меня, пока Нефела не окликнула. Ей пришлось уводить его, потом мы с Аминтором спасали ее, — я забыл о себе в тот миг, — но когда снова появилосьвремя подумать, меня взяло зло на критян. На арене злиться нельзя: опасно, глупо… На самом деле глупо! «Мое снаряжение создал раб, — думаю, — а меня — Всезнающий Зевс. Так стану ли я, эллин, стесняться этих придурков, землепоклонников, считающих, что Он умирает каждый год?»
Я забежал к быку и начал плясать перед ним, начал танцевать с ним — так, что он уже не знал, чего от меня ждать. Задурил я его настолько — он даже косить начал, уже не видел меня толком. Я прыгнул на него в полусальто и поскакал на нем, стоя, разведя руки. Народ уже не смеялся — кричали, аплодировали… Вскоре настроение у него испортилось, он отвернулся и пошел к своим воротам. Пляска кончилась. А в Бычьем Дворе наш народ веселился, отпускали похабные шуточки в мой адрес, но все были рады. Наверно, я запомнил этот глупый случай не ради него самого, а из-за того, что случилось сразу после.
В тот же вечер раб принес мне письмо на глиняной табличке: молодой вельможа — я знал его — приглашал меня на пир. Когда стемнело, я выкупался и оделся… Да, у них там, в Лабиринте, повсюду вода бежит из труб, носить не надо. Есть даже специальные трубы с водой, чтобы смывала нечистоты; так что отхожие места прямо в домах сделаны — никуда не ходить… Так вот, выкупался я, оделся — и пошел. Иду вдоль колоннады — вдруг из-за колонны женщина Тронула меня за руку:
— У Телефа сегодня не будет пира, — говорит.
Лицо у нее было плащом закрыто, но волосы седые; и по спине согнутой видно, что старая.
— Он только что прислал мне приглашение, — говорю. — Он что, заболел или в трауре?
— Он ничего не посылал. Следуй за мной, я покажу куда тебе идти.
Я стряхнул ее руку. Мне уже надоели эти фокусы: все эти таинственные «следуй за мной» кончались одинаково: попадаешь в постель к женщине, которая тебе и даром не нужна, да и ей зачастую нужно лишь поквитаться с соперницей… Во дворце было не продохнуть от этих интрижек.
— Если он ничего не посылал, — говорю, — то я пойду спать. Только сначала спрошу его.
— Не смей! — говорит.
Света было мало, но тут я постарался ее рассмотреть. Она не похожа была на сводню, даже на служанку не похожа. Глаза эллинские, серые; и осанка благородная, хоть и согнуло ее время. И еще я заметил, что она чего-то боится.
Это меня удивило. Кто-то мог бы выиграть, если бы меня убил бык; смерть вне арены ничего никому не давала. Были мужья, носившие рога в мою честь, но ни один из них не пошел бы дальше сердитых взглядов — в Лабиринте мужья хорошо ко всему приучены — а от ревнивых женщин я держался подальше… И все-таки было чувство опасности и чего-то большего даже… Чего? Тут была какая-то тайна, а я был молод — я бы извелся, уйди я сейчас и не узнай в чем дело.
— Чего ты хочешь от меня? — спрашиваю. — Скажи мне правду — тогда посмотрим.
— Я ничего не могу тебе сказать, — говорит. — Но я поклянусь за себя и за тех, кто меня послал, что против тебя не замыслили никакой беды, и никакая беда не грозит тебе, если ты будешь делать что сказано.
— Это кот в мешке, — говорю. — Это не уронит моей чести?
— О нет! Тут гораздо больше чести, чем ты заслуживаешь. — Ответила вроде бы спокойно, но чувствуется, что со злостью какой-то. А потом отвернулась и добавила: — Я не по своей воле к тебе пришла.
Нет, не похожа она была ни на сводню, ни на служанку. Скорее управляющая какого-то большого дома…
— Ну что ж, — говорю, — давай послушаем твою клятву.
Она произнесла клятву — скороговоркой, на древнем языке ритуалов, — и тут до меня дошло, что это жрица. Клятва была страшная, я сказал: «Веди»… Она достала из-под руки длинный плащ и подала мне:
— Надень это. Ты слишком ярок, сверкаешь на свету.
Я надел; она приказала мне держаться позади, в десяти шагах, и побежала, словно старый кролик, по бесконечным коридорам дворца. Потом вдруг сняла маленькую лампу с какой-то полочки и повела меня по местам, каких я никогда прежде не видел: через кузни и столярные мастерские, через кухни, через зловонные внутренние дворики… Наконец мы пришли в дровяной склад, и там она позволила мне себя догнать. Мы протиснулись меж поленниц и попали на открытое место за ними; в полу был деревянный люк. Она молча показала на кольцо. Нет, она конечно же никогда не была служанкой.
Люк был недавно смазан и открылся без звука. Вниз шли деревянные ступени, сквозь них брезжил слабый свет далекой лампы… Лестница уходила куда-то в глубину; а оттуда шли запахи зерна, масла, воска, и холодное дыхание сырой земли.
Я опустился на несколько ступеней, оглядел пространство под собой — там стояли громадные амфоры, выше человеческого роста. Они были вылеплены так, что со всех сторон у них были ручки, — можно было переносить, если возьмутся несколько человек, — и теперь в полутьме казалось, что у каждой амфоры полным-полно ушей и пальцев… Я обернулся к своей провожатой. Она нагнулась ко мне и прошептала на ухо:
— Пройди к той колонне, за амфорами с зерном. Вокруг нее обвязан шнур. Возьмись за него и иди, он приведет тебя. Не выпускай его из руки — и с тобой ничего не случится. Если потеряешь — заблудишься и забредешь в сокровищницу — стража тебя убьет.
— Почему ты посылаешь меня одного? Почему не идешь со мной?
Я схватил ее за руку, чтоб не ушла. Не нравилось мне это: слишком похоже было на предательство, на западню… Она ответила сердито и гордо:
— Я поклялась тебе, — говорит. — Ни я, ни те, кто послал меня, не привыкли, чтобы нам не верили… Отпусти, мне больно!.. Там, куда ты идешь, надо быть повежливей.
Гнев ее звучал искренне — я ее отпустил. А она сказала с какой-то горечью, которая явно относилась не ко мне:
— Здесь моя миссия закончена, остальное меня не касается. Так мне приказано.
Я пошел по ступеням вниз, люк тихо закрылся. Вокруг во все стороны расходились подземелья Лабиринта: длинные проходы меж колонн, заставленные ларями, с полками для амфор и ящиков; извилистые закутки, полные амфор, запечатанных, с окрашенными боками; глубокие ниши для бочек и сундуков; путаница непроглядных галерей, запечатанных тьмой… Мимо меня проскочил большущий серый кот, что-то упало со стуком, истошно завопила предсмертным криком крыса…
Я обошел амфоры с зерном — в каждой могло уместиться по два человека во весь рост, — обошел и нашел ту колонну. На выступе колонны стояла лампа: огрызок фитиля в глиняном черепке… Из цоколя выступала жертвенная чаша, — тот же тесаный камень выходил наружу, — от нее пахло запекшейся кровью. Черная полоса сбегала на пол и дальше по неглубокой канавке, на нее налипли перья… Это была одна из основных опор здания; критяне приносят им жертвы, чтобы крепче стояли, когда Земной Бык сотрясает землю.
Тонкий шнур вокруг был обвязан недавно — на нем крови не было — и висел свободно, так что петля лежала на полу. Я нагнулся подобрать ее — мимо руки скользнула змея и со свистом нырнула в свой разбитый глиняный кувшин… Я отскочил — холодным потом покрылся, — но шнура не выпустил. И пошел по нему.
Шнур вился по темным и тесным подвалам; пахло то вином, то маслом, сухим инжиром, пряностями… Время от времени на поворотах, в непроглядной черноте, висели крошечные пятнышки света от таких же лампочек, как первая, — не столько освещали дорогу, как указывали ее. Я ощупью обходил очередную колонну — где-то внизу раздался дикий непонятный крик. Волосы встали дыбом — а возле ног моих, на стенке старого колодца, сидела огромная лягушка, бледная, как труп. Это она кричала. Пол вокруг был влажный, и из колодца пахло сыростью. Проход сузился, с обеих сторон были шершавые каменные стены, и по ним из-под пальцев разбегались какие-то ползучие твари… Я остановился на миг — услышал, из стены доносились приглушенные удары, неровные, будто сердце билось в испуге… Приложил ухо к стене — откуда-то слабо кричал человеческий голос: ругался, просил света, проклинал богов… а через несколько шагов его уже не было слышно — наверно, тюрьма была далеко.
За этим узким проходом было большое помещение, полное причудливых теней, — там была свалена старая мебель, ламповые подставки, вазы… В темноту не то глубокая ниша уходила, не то коридор — я не увидел, что там дальше, но разглядел груду запыленных щитов и копий. Оружие! Тут я пожалел, что до сих пор не замечал своего пути. Отбил от ближайшей опоры осколок камня и нацарапал на ней трезубец Посейдона, а после этого отмечал уже каждую колонну, какую проходил мимо.
Оттуда шнур пошел в полную темноту; я лишь на ощупь определил, что снова узкий проход. На лицо налипла паутина, через ногу пробежала крыса… Я вспомнил о змее и ступал как мог осторожнее. Проход поднимался куда-то, воздух стал потеплей… В конце снова светилась лампа; я попал в какой-то архив. Огромный зал, полки со свитками, заплесневелые рулоны старой кожи, ящики и корзины глиняных табличек, кипы пальмовых листьев с поблекшими чернилами, мыши шелестят… От пыли я чихнул — они разбежались…
Потом снова был узкий проход, снова лампа и снова зал — хранилище священных принадлежностей. Треножники, жертвенные чаши, вазы для елея с широким основанием и узким горлом; чаши для возлияний, с грудями, вылепленными по стенкам; священные топоры, маски, жертвенные ножи, громадная груда кукол с подвижными руками и ногами… Шнур вился дальше — между кучами курильниц и кадил, мимо позолоченной погребальной колесницы, на каких увозят в могилу лишь царей или князей… Потом был высокий шкаф, забитый женской одеждой настолько, что не закрывался; все платья были жесткими от золота, пахло корицей… Впереди были каменные ступени вверх и приоткрытая дверь; конец шнура привязан к ручке.
Я толкнул дверь — отворилась без звука — и шагнул вперед. Вокруг было громадное светлое высокое пространство, под ногами шлифованный пол, пахло маслом, воском, ладаном, пряным вином и полированной бронзой… А передо мной вздымалась громадная фигура, темная на фоне сверкающих ламп, — женщина в шесть локтей высоты с диадемой на челе. Это была Богиня большого храма, в котором вельможи торговались за право посвятить нас ей, когда мы прибыли сюда. Но теперь я видел ее со спины: стоял по другую сторону.
Я не сразу заметил, что в ее тени стоит кто-то еще — меньше и темнее. Женщина была закутана с головы до пят в длинный черный хитон, видны были только глаза. Это были критские глаза — продолговатые и темные, с густыми ресницами и мягкими бровями, а лоб над ними был гладок и бел, как сливки… Больше я ничего не видел: ни фигуры ее, ни волос — хитон все скрывал. Только рост можно было определить — невысокая женщина, — и еще казалось, что талия у нее тонкая. Я закрыл за собой дверь, сбросил на пол плащ, запачканный пылью и паутиной, и ждал.
Она подозвала меня жестом — едва-едва кончики пальцев показались из-под хитона… Я подошел и остановился в двух шагах. Теперь, глядя на ее веки, я уже мог сказать, что она молода, и потому заговорил первый.
— Я пришел. Кто посылал за мной?
Она заговорила наконец. Хитон по-прежнему закрывал ей лицо, так что голос доносился слабо, приглушенно, но он мне почему-то напомнил клинок, этот голос: клинок остер, хоть он и в ножнах.
— Ты Тезей, бычий плясун из Афин?
Неужели она меня не знает? Весь город бывает на Пляске…
— Если вы сомневаетесь, — говорю, — мне нечем это доказать. — Но веки ее дрожали и были молоды, очень, потому я добавил: — Да, я Тезей. Кому я нужен и зачем?
— Я жрица, — говорит. — Я служу Богине-на-Земле. Она прислала меня сюда спросить тебя.
Она отпустила ткань, закрывавшую лицо. Очень красивое лицо: тонкое, прямой тонкий нос, рот небольшой на фоне громадных темных глаз… Красивое лицо и очень бледное и без капли грима — даже странно на Крите… Она снова смолкла и смотрела на меня, оперевшись спиной о подножие статуи. Я подождал молча. Потом говорю:
— Ну так спрашивай.
Облизнула губы кончиком языка… Та старуха тоже была напугана — чем?.. Я не мог поверить, что здесь, в священнейшем месте всей страны, кто-то может меня убить. И вообще всё было дико и бессмысленно — чего им нужно?.. А хитон под ее грудью шевелился — она ломала себе пальцы.
— Это очень серьезное дело, — она заговорила наконец. — Очень серьезное дело, дело о богохульстве. Богиня говорит, что ты должен дать ответ… — Снова руки задвигались под хитоном, он заходил пузырями… — Ты должен отвечать правду, иначе проклятье Ее поразит тебя на месте. Мы слышали, что… верховная жрица Элевсина выбрала тебя Царем Года, но… женившись на ней… ты поднял против нее ее народ, а ее предал смерти… что ты исказил, изувечил культ Великой Матери и осквернил Таинство… Все это правда?
— Правда лишь то, что я царь Элевсина. Меня выбрала Богиня, — во всяком случае так мне сказали, — не царица, не жрица, а Богиня. И убил я не ее, а прошлогоднего царя, как это принято было у них по обычаю.
Она стянула хитон плотнее, — под тканью стали видны скрещенные руки.
— Что это за обычай? Как ты убил его?
— Голыми руками, в борьбе.
Она глянула на меня изумленно, но не сказала ничего, лишь кивнула.
— Я был в отъезде, — говорю, — на границе был, когда Змей Рода ужалил царицу. Она решила, что это знак гнева Великой Матери, и ушла. Я даже не знаю, на самом деле она умерла или нет. Но могу поклясться, если хотите, что я ее не убивал.
Она посмотрела вниз на свои спрятанные руки.
— Ты тосковал по ней? Она была очень дорога тебе?
Я покачал головой.
— Она трижды пыталась убить меня, — говорю. — Даже рукой моего отца, пока он меня еще не знал. Она заслуживала смерти. Но я оставил ее Богине.
Она помолчала, все так же глядя вниз.
— А почему она сердилась? У тебя была другая?
— Только на войне бывали, но это случается везде и со всеми. Она не из-за этого. Она думала, что я изменю обычаи страны. Я так и сделал в конце концов, — ведь я из рода царей, — но я никогда не осквернял Таинства. Народ был согласен со мной, иначе я бы оттуда живым не вышел.
Она опять помолчала.
— И ты поклянешься? — говорит. — Поклянешься, что все это правда?
— Какую клятву принести? — спрашиваю. — Ведь я говорил под страхом проклятия Богини.
Она на миг приоткрыла рот, словно ахнула беззвучно… Забыла! Она, вижу, забыла свои собственные слова!.. Да, она жрица, но что-то тут еще… Что?
— Это верно, — говорит. — Не надо клятвы.
И снова замолчала, под тканью беспокойно двигались руки… «Что дальше? — думаю. — И если все это так трудно — почему не поручили кому-нибудь постарше? Доверять такие вещи девочкам — странно…»
Она стояла задумавшись; мяла, крутила складки хитона.
— Я пробыл с быками три сезона, — говорю, — если Бог разгневан на меня или Богиня — им нетрудно меня достать.
— Это верно. — Она опять сказала так же: «Это верно». Потом быстро облизнула губы, глотнула с трудом. — Быть может, Великая Мать уготовила тебе другую судьбу.
Ну, думаю, теперь она мне хоть что-нибудь скажет. Нет — молчит опять. Ну тогда я сам.
— Может быть, — говорю, — она послала вам знак?
Она приоткрыла рот, но — лишь вздохнула. Видно было, как грудь поднялась высоко и вновь опустилась под скрещенными руками.
— Что это за знак? — спрашиваю и подался к ней ближе.
Она вдруг заговорила слабым тоненьким голоском, быстро, сбивчиво:
— Это я здесь спрашиваю, ты не должен задавать вопросы мне… Нам в храме необходимо знать такие вещи, вот и всё; потому мы и послали за тобой…
— Я ответил, как мог, — говорю. — Я должен возвращаться той же дорогой, что пришел, или могу пройти через двор? — и повернулся идти за своим плащом, но следил за ней краем глаза.
— Подожди, — говорит, — тебя еще не отпустили.
Я снова бросил плащ. Мне ничего не надо было от нее, только одного хотел — добраться хоть до какого-то смысла во всей этой истории. Но теперь я уже успел рассмотреть, что волосы у нее были тонкие, волнистые, с шелковистым блеском, что под стянутым хитоном тонкая-тонкая талия, а груди, что так мягко баюкали руки ее, должно быть свежие, нежные…
— Скажите все-таки, — говорю. — Не съем же я вас.
Прядь волос, что уходила с виска под складки хитона, вдруг резко выпрямилась, словно ее потянули за конец.
— Я еще должна была спросить… спросить для Богини… то есть для храмовых записей… — она снова умолкла.
— Что спросить? — говорю.
Она моргнула растерянно, потом заговорила:
— У нас нет никаких сведений о культе Великой Матери в Афинах. Какие там обряды, как происходят церемонии, сколько жриц принимают участие в них, сколько девушек? Какие приносят жертвы? Расскажи все с самого начала и не пропускай ничего.
Очень быстро она это проговорила, почти скороговоркой…
Я изумился.
— Но, госпожа, — говорю, — в Бычьем Дворе семь девушек, рожденных в Афинах. Все они знают ритуалы, и любая ответит на эти вопросы лучше мужчины.
Она было заговорила, но оборвала себя на полуслове; и лицо ее, до сих пор бледное, стало розовым, как утренние горы. Я шагнул вперед и уперся руками в пьедестал изваяния, по обе стороны от нее, ей некуда было деться теперь.
— Что это за игра? — спрашиваю. — К чему эти бессмысленные расспросы? Ты тянешь время и держишь меня здесь — зачем? Это ловушка? Что происходит с моими людьми, пока меня нет с ними?.. Но — довольно лжи, я из тебя вытряхну правду!
Наши лица были рядом. И тут я заметил, что глаза ее полны слез, словно у олененка, попавшего в сеть, что она дрожит вся… Даже плотный хитон не скрывал этого. Мне стало стыдно, что я угрожаю ей, будто воину, но и смешно стало тоже. Я взял ее за плечи, чтобы успокоить, — она коротко вздохнула, словно всхлипнула…
— Нет, — говорю, — ничего мне не объясняй. Я здесь, и неважно зачем это. Видишь, я слушаюсь тебя и ни о чем больше не спрашиваю. Достаточно того, что тебе это нужно. — Она подняла покрасневшее лицо, — и что-то поплыло в мыслях моих, не знаю как это назвать… Сейчас, вблизи, я ощущал запах ее волос, ее тела… Я начал: — Кто ты?..
Но ответ уже не был нужен. Мне перехватило дыхание, конец вопроса застрял в горле — я уже знал… И она увидела в моих глазах, что я знаю.
Ее глаза почернели, расширились, она слабо вскрикнула, поднырнула под мою руку и кинулась бежать. Я увидел, как тень ее исчезает за громадной статуей, и побежал следом. Огромный зал был пуст, и гремящее эхо повторило лишь мои шаги. Черный хитон, в котором была она, — черный хитон лежал на полу; но ведь должно было хотя бы платье шелестеть — а не было ни звука. Я оглядывался, искал где она могла спрятаться… Входные двери были слишком далеко, она не могла успеть добежать до них, но я точно слышал, как что-то закрылось.
— Где ты? Выходи, я все равно тебя найду!
Но голос мой в пустоте храма прогремел дерзко и непристойно, я ощутил разгневанное Присутствие — и больше не решался звать… И стоял неподвижно. И вдруг передо мной возникла черная тень. Моя собственная тень от какого-то нового света позади. Я все время помнил, что безоружен, так что обернулся вмиг, прыжком… Но когда увидел, откуда свет, — вот тогда испугался по-настоящему, дышать стало трудно. Под статуей цоколь был открыт, внутри на треножнике плясало яркое голубое пламя и освещало Мать Земли — саму, живую, во плоти!.. Она была увенчана диадемой, а в руках, простертых вперед над землей, вились змеи; свет отражался от их полированных тел, я слышал, как они шипят.
Сердце билось в груди как молот. Я дрожащей рукой сделал знак почтения… И смотрел на Мать Земли, — а ноги словно приросли к полу, — а она смотрела на меня… И я заметил, что у нее дрожат веки.
Я не шевелился, смотрел… Пламя замерцало… Мать Земли отвела взгляд и смотрела теперь прямо перед собой. Я тихо шагнул вперед, потом еще раз, еще… Она не успела накрасить лицо, и диадема была наклонена слегка… А подошел ближе — увидел, как она старается не дышать. В напряженных руках ее бились змеи, им не нравился свет, они хотели домой… Но я на них не смотрел — смотрел на ее лицо. И когда протянул к ним руки, то уже знал наверняка, что зубы у них вырваны.
В темных глазах ее трепетали два огонька, отражался треножник… У входа я остановился, протянул руки внутрь, скользнул пальцами по ее руке… А когда взял ее в свою — освобожденная змея обвила наши запястья, связала нам руки вместе, потом соскользнула на пол, утекла прочь… Из Матери Земли — владычицы всех таинств — выглядывала испуганная девушка; девушка, что сделала шаг вперед и три назад — и теперь хочет наказать то, что ее напугало… Я взял ее за другую руку — змея из нее уже сбежала, — взял за обе руки…
— Ну что ты, маленькая богиня? Чего ты боишься? Я не причиню тебе зла.
7
В углу храма, за статуей, была дверь, закрытая ковром; а за ней маленькая комнатка. Туда она заходила поесть, когда обряды длились слишком долго, там одевалась, там гримировалась… Комната была обставлена просто, как детская; только вместо игрушек по ней были разбросаны священные предметы и сосуды. В углу была устроена ванна, разрисованная изнутри синими рыбками; и кровать там стояла: отдохнуть ей, когда устанет…
В эту комнатку я и отнес ее. Здесь она снимала свою тяжелую золотую диадему, свой тяжелый хитон; здесь ее женщины расстегивали ей усыпанный каменьями корсаж… Я был первым мужчиной, кто взялся за это, а она была стыдлива; так что я едва успел оглядеться — задула лампу.
Потом, когда взошла луна и поднялась над высокими стенами и пролилась на пол светом, я поднялся на локоть посмотреть на нее. Мои волосы упали ей на плечо, она свила их в один жгут со своими…
— Золото и бронза, — сказала. — Моя мать была совсем светлая, а я уродилась критянкой. Она стыдилась меня…
— Бронза драгоценней золота, — сказал я. — Бронза — она и честь, и жизнь дает нам. Пусть у врагов моих будут золотые копья и золотые мечи.
После всего, что я слышал, мне не хотелось говорить о ее матери. Вообще не хотелось говорить — я вместо этого поцеловал ее. Она обхватила меня за шею — всем своим весом повисла, притянула к себе… Она была словно молодая саламандра, что впервые встретила огонь: сначала испугалась — но сразу почувствовала, что это ее стихия. Недаром древнее поверье говорило, что в роду Миносов солнечный огонь в крови.
Мы уснули, снова проснулись, снова уснули… Она спросила: «А я не сплю? Мне однажды снилось, что ты здесь, — до того было худо, когда проснулась! Невыносимо…» Я доказал ей, что она не спит, — уснула снова… Мы бы пробыли там всю ночь, но перед рассветом в храм вошла старая жрица и стала громко молиться, — голос высокий скрипучий, — а уходя, ударила в кимвалы.
В то время я научился спать днем, при свете. Даже шум и крик в гулком Бычье Дворе не будили меня.
На следующую ночь шнур был привязан по-другому. В старой заброшенной ламповой тоже был люк, и гораздо ближе; это та старуха специально водила меня в обход, чтобы я не запомнил дороги. Она была какая-то родственница Пасифаи, умершей царицы (по женской линии, кажется). Новая дорога приводила меня к Ариадне гораздо быстрее и тоже проходила мимо старого арсенала.
В эту ночь возле постели было вино и два золотых кубка для него. Мне показалось, что они похожи на чаши для возлияний, я спросил ее… «А это они и есть», — говорит. Как ни в чем не бывало. В Трезене мать приучила меня почитать священную утварь; но моя мать была лишь жрицей, не Богиней…
В эту ночь лампа горела негасимо. А я — я перестал видеть других женщин, буквально ослеп, и сумерки в тот день были бесконечны. Глубокой ночью она сказала мне почти то же: «Когда тебя здесь нет — я не живу. Вместо меня кукла — ходит и говорит, и носит мои платья… а я лежу и жду тебя».
— Маленькая Богиня. — сказал я, — завтра я не смогу к тебе прийти. Ведь послезавтра Пляска, а любовь не уживается с быками. — Мне трудно было это сказать, но я оставался Журавлем и был связан клятвой. — Не горюй, — говорю, — мы с тобой увидимся на арене.
Она прильнула ко мне, заплакала…
— Это невыносимо… каждый твой прыжок — нож мне в сердце, а теперь будет в тысячу раз тяжелее… я заберу тебя из Бычьего Двора, пусть думают, что хотят, я — Богиня-на-Земле!
Она совсем как маленькая это сказала, как маленькая девочка — и я улыбнулся этому. Я понял в этот миг, что ей никогда и в голову не приходило равнять себя с богами; просто это был древний титул, ранг ее и ее должность… Все священные обряды стали здесь игрой или парадными придворными церемониями Она не поняла, чему я улыбаюсь, и взгляд ее был укоризнен…
— Счастье мое, — говорю, — ты не можешь забрать меня из Бычьего Двора. Я отдал себя богу, чтобы быть в ответе за свой народ. Пока будут плясать они, буду и я.
— Но это же… — она вовремя одумалась и сказала уже по-другому — …только на материке такой обычай. У нас на Крите уже больше двухсот лет прошло со времени последней такой жертвы. Теперь мы вешаем на дерево куклу — и ничего, Великая Мать не гневается…
Я сделал над ней знак против зла. Она следила глазами за моей рукой, как дети следят, а в темных глазах ее отражалось пламя — две крошечные лампочки…
— Ты отдал себя богам, — говорит, — а Великая Мать отдала тебя мне.
— Мы все ее дети. Но Посейдон отдал меня народу моему. Он сам сказал мне это, и я не могу их оставить.
Она потянулась за талисманом Коринфянина — хрустальный бык всегда был на мне, даже если ничего больше не было, — взяла его, забросила мне за плечо.
— Твой народ! — говорит. — Шестеро мальчишек и семь девчонок! Ведь ты достоин править царством…
— Нет, — говорю, — если не достоин их, то не достоин и царства. Много или мало — не в этом суть. Это безразлично. Суть в том, чтобы отдать себя в руку бога.
Она отодвинулась, чтобы посмотреть мне в лицо… Но держала в руке прядь моих волос, словно я мог убежать.
— Я тоже в божьей руке, — говорит. — Пелида меня захватила. Ведь это же ее безумство; эта любовь, как стрела с гарпунным наконечником: хочешь вытащить, а она заходит еще глубже… Мать звала меня маленькой критянкой, я ненавидела эллинов и голубые глаза ненавидела, но Пелида сильней меня… И я знаю, что она задумала, — она прислала тебя сюда, чтобы сделать Миносом.
У меня дыхание перехватило от ужаса. И на лице это тоже, наверно, отразилось — она смотрела на меня с удивлением, но глаза были совсем невинные… Наконец я сказал:
— Но, госпожа, ведь царствует ваш отец.
У нее был обиженный подавленный вид, как у ребенка, который не знает, за что ругают его, что он сделал не так.
— Он очень болен, — говорит. — И у него нет сына.
Теперь я ее понял. Но дело было слишком серьезное, великое было дело, и я осваивался с этой мыслью медленно.
— Что с тобой? — спрашивает. — Ты смотришь на меня так, будто змею увидел!
Она лежала на боку, складочки на талии были залиты мягкими тенями… Я провел рукой по ним…
— Прости, маленькая богиня. Ведь я не здешний. В Элевсине, когда я шел бороться, меня вела царица.
Она посмотрела на мои волосы, что до сих пор держала в руке, потом на меня — и сказала, не сердито, а вроде удивленно:
— Ты совсем варвар. Няня говорила мне, что варвары едят непослушных детей. А я люблю тебя так — я тебя невозможно люблю!..
Нам долго не нужны были слова, но мужчина не женщина — скоро опять начинает думать обо всем… И я сказал:
— Ну ладно, пусть у твоего отца нет сына, ему лучше знать, но наследник у него есть…
Лицо ее ожесточилось.
— Я его ненавижу!… — Я вспомнил ее в храме, как она смотрела на него поверх разбитой таблички… А она продолжала: — Я всегда ненавидела его. Когда я была маленькой, мать всегда бросала меня, как только он появлялся. У них были свои секреты какие-то. Она смеялась надо мной, называла маленькой критянкой… а над ним — никогда, хоть он темней меня, в два раза темней. Когда она умерла и ее хоронили — я разодрала себе лицо и грудь до крови; но пришлось закрыть глаза волосами, чтоб не видно было, что плакать не могу.
— Так ты, значит, всё знала?
— Я не знала — но знала. Как все дети. Отец молчаливый человек, он редко разговаривал со мной; но я знала, что они потешаются над ним, когда шепчутся по закоулкам. Наверно, потому я и полюбила его. — Она впилась пальцами в кровать. — Я знаю, кто его убил, знаю!
— Послушай, — говорю, — ведь ты сказала, он болен.
— Да, болен. И мертв. Умер заживо. Уже больше года никто не видел его лица, а теперь он вовсе не выходит от себя. И выйдет только на погребальных носилках. — Она помолчала. — Слушай, — говорит. — Поклянись. Поклянись хранить эту тайну. Ты должен сам связать себя, ведь я никогда-никогда не смогу тебя проклясть!
Я связал себя клятвой, и тогда она сказала:
— Он — прокаженный.
Это слово — как холодный палец на коже, на всех оно действует одинаково.
— Это тяжкая болезнь, — говорю. — Но и она от богов приходит…
— Нет! Она от других прокаженных приходит или через их вещи можно заразиться. Все врачи так говорят. Когда они нашли это на отце — они раздели и осмотрели всех, кто был вокруг него, но все были чисты. Я сама думала, что это колдовство или проклятие. Но потом он вспомнил, как за год перед тем, даже больше, потерял надлокотный браслет, а он его каждый день надевал. Браслета не было почти месяц, а потом его нашли — нашли в том месте, где уже искали раньше, — и он его снова стал носить, этот браслет. Под браслетом и началась проказа.
Это мне показалось слишком фантастичным.
— Но если в доме есть предатели, — говорю, — почему им было не воспользоваться ядом? Прокаженные живут долго, если их не бросают на произвол судьбы. Астериону, быть может, придется ждать много лет, он мог бы найти более скорое средство, — я говорил все это, а сам удивлялся про себя, почему Минос сам не ушел к богу, в первый же день как узнал.
— Он выбрал самый надежный путь, — сказала она. — Если бы отец умер сразу и его бы провозгласили Миносом, родня бы этого не стерпела, началась бы война. А теперь он мало-помалу забирает власть в свои руки; одних подкупает, других запугивает… Сначала отец пересылал свои приказы, и они выполнялись; теперь они вообще не доходят до тех людей, кому предназначены, — а начальник стражи купил себе новое имение. Теперь никто уже и не знает всех людей Астериона, никто не решается спрашивать… — Она помолчала чуть и добавила: — Он уже правит, будто царь.
Теперь я на самом деле всё понял; не только то, что сказала она, но и всё остальное.
— Но раз так, — говорю, — Критом правит человек, который не принадлежит ни одному из богов, его и не посвящали никогда… У него вся власть, но он не согласился жертвовать собой. Или согласился?
У нее на щеке появилась ямочка, — вроде чуть не улыбнулась, — но лицо оставалось серьезным, и она покачала головой.
— Но тогда, — говорю, — бог никогда не обратится к нему. Как он может вести народ? Кто увидит, если народу будет грозить беда? Что будет, если бог разгневается и некому отдать себя в жертву? Он принимает услуги, подати, почести — и не отдает взамен ничего?!.. Я чувствовал, что это чудовище, я знал… Если вы оставите его в живых — он погубит народ ваш!.. Почему вожди подчиняются ему?.. Почему они это терпят?!
Она помолчала, потом потянулась через мое плечо, достала хрустального быка и снова повесила его мне на грудь.
— Ты мне сказал, — говорит, — «пусть у врагов моих будут золотые мечи». Это то, что мы сделали здесь, — отковали мечи свои из золота. Я этого не замечала, пока не узнала тебя.
Ее слова меня удивили. А она:
— Ты считаешь меня ребенком, — говорит, — потому что я не знала мужчин до тебя, но я много знаю. И я с самого начала знала, что ты принес какую-то судьбу с собой; еще там знала в Амнисе, когда ты обручился с морем.
— Так это ты тогда выглядывала из-за занавески?
Мы отвлеклись от Амниса, от судьбы… — от всего. Но потом я спросил:
— А что ты имела в виду, когда сказала, что я обручился с морем?
Она посмотрела на меня яркими, глубокими, совсем не детскими глазами.
— Как ты думаешь, зачем он бросил кольцо?
— Чтоб утопить меня. Ведь он не мог иначе меня убить.
— Так ты ничего не знал?.. Значит, так оно и есть!
Я ничего не понял, спросил, в чем дело… И она рассказала:
— Когда провозглашают нового Миноса, он всегда женится на Владычице Моря: бросает ей свое кольцо.
Я вспомнил, как переглядывались и переговаривались критяне в порту. Так вот оно что! Он в тот раз давал им запомнить предзнаменование, и оно должно было выглядеть случайным, — настоящие предзнаменования такими и бывают, — в тот раз он воспользовался мной, но собака дрессированная тоже сгодилась бы…
— Так что, когда ты вытащил кольцо обратно, он остался в дураках. Но ты сам снова бросил его в море и сам обручился с ним! Я так хохотала за занавеской!.. А потом подумала, быть может, это истинный знак судьбы? Я видела, критяне так это и восприняли. И он тоже это видел. И нашел самый умный способ выкрутиться: стал твоим покровителем. Он всегда из всего извлекает выгоду; он видел, что из тебя получится хороший прыгун, и подумал — последнее слово останется за ним.
Я немного подумал, потом спросил:
— А как он ладит с коренными критянами? По их старым обычаям, их наверно не сильно волнует, кто его отец; им достаточно того, что он сын Царицы… — Говорил и боялся, что получается слишком резко; но ее это не задело.
— Да, — говорит, — и он это знает. До последнего времени он обращался с ними безобразно; они для него попросту не существовали, разве что за рабочих скотов их считал. Ко мне они приходили. У меня должность такая — выслушивать прошения и мольбы, а критяне всегда с большей готовностью просят женщину; и я старалась им помочь… Я знаю, как это бывает, когда тебя третируют… Я часто передавала их просьбы отцу, так и заговорила с ним впервые. А он мне говорил, бывало: «Ты всего-навсего богиня, маленькая моя Ариадна. Быть чьим-то послом — это серьезное дело», — но часто делал то, что я просила.
Я вытер ей слезы.
— А теперь? — спрашиваю.
— О! Теперь Астерион их обхаживает. Прежде, если их обижали, он и пальцем не шевелил, а нынче поддерживает, даже когда они не правы, если только это не затрагивает его приближенных. Даже во Дворце он собирает вокруг себя людей с критской родней, таких как Лукий. Понимаешь, почему нужно, чтобы отец мой умирал медленно?
— Дело плохо, — говорю. — И многих он уже завербовал?
— Критяне ничего не забывают. Те, кого он оскорбил когда-то, — те его не простили. Но если кого обидели эллины — те обращаются к нему.
Мы говорили еще, но остального я не помню. Помню только, как голова кружилась — от мыслей, от бессонницы, от сладкого аромата ее волос.
Во время следующей Пляски, когда я смотрел на ложу, мне казалось, что все знают о нас; и я знал, что она чувствует то же самое… Но никто ничего не заметил. А я исполнил в тот раз новый номер: со спины Геракла — заднее сальто в прогибе с приземлением на ноги. Всё утро отрабатывал его на деревянном быке — пусть посмотрит, на что я способен.
Я не хотел тревожить Журавлей перед Пляской, но после — после рассказал всё, что мог. Сказал, узнал, мол, что царь тяжело болен, что Астерион плетет заговор, чтобы поднять критян против эллинов и захватить трон.
— Это значит, — говорю, — что времени у нас в обрез. Если критяне его поддержат, он сможет удержать побережье от эллинского флота. И будет удерживать, пока не потеряет их любовь. А любовь их будет при нем, если ничто не будет угрожать ему на троне и ему не придется прибегать к силе внутри страны. Как долго? Год, два, три?.. В любом случае дольше, чем мы продержимся на арене. Мы должны выступить как можно скорее.
— Мы делаем что можем, Тезей, но оружия у нас еще мало.
Это Ирий сказал, обиженно так. На самом деле они с Иппием натаскали больше оружия, чем все остальные вместе, — у них и возможностей было больше…
— Ничего, — говорю, — я нашел целый склад. Если всё пойдет как надо, скоро оружие будет у всех.
Я собирался каждый раз прихватывать с собой понемногу и прятать где-нибудь в таком месте, где его легко и быстро можно будет взять. Но не хотел, чтоб об этом знали раньше времени.
В тот вечер в маленькой комнатке за храмом мы бросились друг на друга, как искра на трут. Два дня и ночь врозь — будто месяц они тянулись; по правде сказать, я накануне едва не пошел к ней, — будь что будет потом, — уже поднялся было, но увидел спящего Аминтора и вспомнил о своем народе.
Прошло всего три ночи нашей любви, но у нее было уже свое прошлое, свои воспоминания… У нас уже были заветные слова — слова-улыбки, слова-поцелуи… Но смеялись мы, или играли, или погружались в любовь, как дельфины в море, — я все время чувствовал какое-то благоговение. Быть может, место наших встреч было причиной тому… Или потому, что любовь царя и царицы — даже тайная — это всегда обряд, совершаемый для народа перед богами?
На обратном пути я взял лампу со священной колонны и пошел в арсенал. Как я предполагал, там было одно старье; новое и хорошее оружие было наверху. По следам можно было бы найти туда дорогу, но там, вероятно, была охрана. Я смазал петли сундуков ламповым маслом и открыл их. Они были полны стрел, но луки были источены временем и без тетив. А вот копья и дротики — этого было вдоволь. Правда, старого образца дротики, тяжеловатые, но крепкие. Одна была беда — слишком длинные они были, даже под плащом нельзя было спрятать.
Тем не менее, ночь за ночью я стал переносить их в подвал под ламповой, где их легко было достать. У колонны там была груда старых амфор из-под масла, и по паутине видно было, что их давным-давно никто не трогал, а за ними — свободное место. Через несколько дней я нашел ящик с наконечниками для копий и точило. Это было прекрасно. Я стал перетачивать наконечники на кинжалы и относил их по нескольку штук в Бычий Двор — отдавал девушкам.
Все Журавли дали клятву молчания, — даже любимым своим никто ничего не смел сказать, — и я тоже держался этой клятвы. Ариадна была не из тех женщин, кому можно отдать лишь часть себя или сказать лишь половину. Был в ней дар неистовства, что так волнует нас, — мужчин, — неистовства, глубокого, как огонь Гефеста, который лишь землетрясение выпускает на поверхность гор. Потом она смотрела на меня неподвижными изумленными глазами; ее, как хорошо накормленного младенца, охватывал сытый блаженный покой — она засыпала.
Иногда, когда она заговаривала об отце, о делах царства, о тревогах своих, — я подумывал рассказать ей всё, попросить ее помощи. Ее сердцу я верил, а вот головке ее… Ей едва исполнилось шестнадцать, — она быстро выложила мне все свои секреты, — и я больше всего боялся ее ненависти к Астериону. Он был не таким зеленым парнишкой, как я в Элевсине; если бы женское лицо сказало ему: «Ты ничего не знаешь, но кое-что ждет тебя скоро», — уж он-то не оставил бы этого без внимания.
Как раз в это время он в очередной раз вызвал меня на свой пир, и я убедился, что она была права.
Среди гостей не было ни одного, кто выглядел бы хоть наполовину эллином. Все сплошь критяне или почти критяне; мелкие помещики, потомки тех родов, что были в силе до прихода эллинов. И его обращение со мной стало хуже. Не то чтобы он открыто оскорблял меня, — как он понимал оскорбление, — это бы ему лавров не стяжало, критяне любят бычьих прыгунов; но он старался подчеркнуть, что я там присутствую лишь ради удовольствия его почетных гостей, и за всем этим чувствовалось его желание унизить эллина у них на глазах. Вдруг он попросил меня спеть какую-нибудь песню моей родины. Да, попросил, — говорил мягко, — но так, как говорит завоеватель с пленником.
Я сначала поперхнулся, услышав это. Потом — «Ладно, — думаю, — если я подчинюсь, никто не сможет сказать, что я был его гостем».
Взял лиру, настроил ее на эллинский лад… Астерион ухмылялся. Но Лукий — я видел — глянул на него краем глаза и чуть усмехнулся: он-то путешествовал — знал, как воспитывают благородных людей в наших краях.
Пленнику не пристало воспевать победы своих предков. Дать кому-то догадаться, что я думаю о войне, — этого мне тем паче не хотелось; но я хотел, чтоб эти критяне меня запомнили, и запомнили не так, как задумал этот скот. Потому я запел одну из тех древних элегий, что выучил еще дома, в Трезене. Это та, что поют по всему острову Пелопа; иногда барды включают ее в свои предания о павших городах, но ее поют и отдельно. О царском наследнике, Пастыре Народа, который прощается с женой у городских ворот, прощается навеки — знает что погибнет в грядущей битве.
«Отпусти меня, — говорит он — не пытайся меня удержать. Если я останусь, то буду опозорен перед воинами… и женщины златопоясные, в юбках с каймою узорчатой станут меня презирать… Место мое среди тех, кто готовится к битве жестокой; вместе со всеми обязан идти я навстречу врагу; сердце мое, коль уйду, никогда не найдет уж покоя: только для доблести, но не для бегства растили меня; должен сражаться я в первых шеренгах воителей славных; жизнью пожертвую пусть во спасение чести своей… Вещее сердце твердит мне — погибнет священный наш город, будет отец мой убит и весь наш народ истреблен; в сече падут до последнего все мои храбрые братья, но не о них, не о матери горше всего я скорблю. Вижу, как тащат тебя, всю в слезах, к кораблям крутобоким, — боль раздирает мне грудь оттого, что ты станешь рабой. В дальней чужой стороне ты у властно-жестокой хозяйки будешь у ткацких станков от зари до зари погибать; либо носить на плече воду в тяжелых кувшинах, ноги сбивая себе на тропинке крутой к роднику. Глядя на слезы твои, кто-нибудь скажет другому… чьей женой ты была — от напоминания станет еще больней… еще горше… и ты снова и снова будешь оплакивать мужа, который не допустил бы этого, останься он в живых… Пусть же погибну я прежде, чем все это с нами случится, — из-под кургана не видно, как будут тебя уводить.»
В Лабиринте их слуги музыкой услаждают — он не думал, что царский сын может быть искусен. Критяне зашмыгали носами под конец песни; теперь-то я был уверен, что они не станут надо мной смеяться… А по тому, как они сгрудились вокруг меня, — было видно тех, кто еще не стал его лакеем, и их немало оказалось. Вот так я пел тогда — это был единственный способ не уронить себя. А ему не к чему было придраться: я ведь выполнил его просьбу, только и всего…
В ту ночь я сказал Ариадне:
— Я был в Малом Дворце. Ты была права. Если его нужно остановить — это надо делать быстро.
— Знаю, — говорит, — я бы сама его убила, если бы знала как.
Со мной она была нежна, как голубка, и я тогда не придал значения этим словам. Слишком уж свирепые были слова, ктому же о брате как-никак. Но ведь она всю жизнь была одна-одинешенька, прислониться не к кому, — конечно измучилась, озлобилась…
— Послушай, — говорю. — Молчи и слушай меня внимательно. Если бы я мог связаться со своими и они прислали бы мне корабли — что тогда? Сама понимаешь — это война. За кого стали бы сражаться критяне?
Она перевернулась, оперлась подбородком на руки, долго лежала молча. Потом говорит:
— Они бы сражались за себя. Восстали бы против эллинских домов, когда их хозяева ушли бы на войну. Это было бы кошмарно — вся страна в крови… Но Астерион сделает то же самое, для того ему и нужны критяне. Когда он их использует — он уж постарается, чтобы это их восстание было последним. Да, им придется платить своей жизнью за еще более тяжкие цепи. — Она скрестила руки и уронила голову на них. Потом опять заговорила. — Но… если…
Я погладил ей волосы.
— Что? — спрашиваю.
Мотнула головой…
— Подожди, — говорит, — мне надо подумать… Ой, ты посмотри, где Орион уже!.. Как быстро ночь проходит!..
Мы начали прощаться, а на это уходило много времени, так что больше уже не говорили ни о чем в тот раз.
Теперь в моем подвале было уже достаточно оружия. Для каждого плясуна в Бычьем Дворе — для всех парней и девушек было достаточно. Я рассказал Аминтору, где оно спрятано, чтобы моя смерть, если что, не порушила всего дела. У девушек в их спальном помещении было еще десятка три кинжалов. Пришла зима, иногда Бычья Пляска отменялась из-за дождя или снега — жители Лабиринта давно уже не подвергали себя неудобствам ради того, чтобы почтить бога… Но если мы не выходили на арену, то тренировались на Дедаловом Быке или устраивали свои игры: разбивались на две стороны по жребию, или юноши против девушек, или просто танцевали, если были утомлены… Во всяком случае, всё время двигались, чтобы не терять формы. Я уже видел, как в других командах ребята расслаблялись; и знал, чем это кончается, всегда.
В Бычьем Дворе мы были уже третий сезон. Уже знали всё, что только может случиться с бычьим плясуном. С маленьким теленком Посейдона, как называли нас критяне. Мы знали, что спасает жизнь плясуна; знали, что его губит; знали, что убивает через неделю, а что через полгода… И однажды, когда наши девушки боролись меж собой, — жрицы запрещали им бороться с нами, — однажды Аминтор тронул меня за руку и тихо сказал: «Наша Хриза растет».
Мы только посмотрели друг на друга — тут не нужно было слов больше. Когда нас увезли из Афин, ей было четырнадцать и она была эллинка — с ног до головы. Если она будет жить, то станет подобна Богине-Деве, будет стройной и высокой… Но высокие девушки на арене долго не живут.
«Когда пройдет зима, перед сезоном весенних штормов придут корабли», — так я сказал Аминтору. А когда он отвернулся — померил его рост против своего. Он сам тоже вырос, на три пальца.
Аминтор стал мне очень дорог. Мы столько проработали вместе, что и думать стали, как один: он знал, как я буду прыгать, — даже раньше, чем я сам. По Дворцу шли сплетни, что мы с ним любовники, — мы уже перестали отрицать. Надоело. К тому же это избавляло нас от назойливости кносских придворных: от их дурацких букетов, перстней, жеманных стишков, «случайных» встреч в темноте… И нам было над чем посмеяться вместе — тоже хорошо… А теперь эта болтовня даже пошла на пользу: мы могли шептаться друг с другом сколько угодно, и это было, так сказать, в порядке вещей; а второе — узнав Ариадну, я перестал таскаться по бабам, и могло бы возникнуть слишком много догадок, если бы не версия про нас с Аминтором.
Но накануне Бычьей Пляски я всегда спал один; иногда даже две ночи, если чувствовал, что так надо. Это нелегко давалось: ведь я был молод, а с тех пор, как пришел к ней, даже не целовал ни одну женщину, кроме нее… Да, нелегко давалось. Но мой народ, я сам — мы были далеко от дома, у меня не было ни законов, ни воинов; лишь во мне самом была опора царской власти моей, и малейшая трещина могла расколоть мое хрупкое царство.
Когда я говорил ей, что не приду, она меня не упрекала, во всяком случае вслух. Но по рукам ее я чувствовал, ей хотелось, чтобы я сказал: «Пусть будет что будет, пусть меня растерзают быки, пусть сгинет мой народ — все на свете можно отдать за ночь в твоих объятьях!» А она бы ответила: «Нет! Не приходи… Клянусь, что меня здесь не будет»… Ей очень хотелось, чтобы я сказал так, — просто чтобы услышать, — но я был молод и принимал свое призвание всерьез, как священную миссию. Играть с ней — святотатство; ее нельзя бросить девушке, словно нитку жемчугов… В те годы я постоянно прислушивался к богу.
(Теперь бы мне ничего не стоило доставить женщине такую радость. Он больше не зовет меня, с тех пор как сын мой погиб на скалах у моря. Я тогда чувствовал предостережение от земли и сказал ему: «Берегись Посейдонова гнева!» Только это я ему сказал, и он мог понять как хотел, я слишком разъярен был… Он решил, что это проклятие, а я ничего больше не сказал. И видел, как уезжал он, — высокий парень, крупные трезенские кони, — видел, как он несся вскачь к той узкой опасной дороге, — видел и молчал!.. А теперь бог молчит.)
Но я помню, — хоть так давно это было, — помню, как мы встречались после Бычьей Пляски, и эти встречи были, как вино — неразбавленное вино, полное огня, настоянное на пряном меде… Ради таких ночей стоило нам побыть друг без друга. Помню, как она плакала над какой-то глупой царапиной, — первой с тех пор, как мы были вместе. Это в ту ночь я спросил ее:
— Ты придумала что-нибудь?
— Да, — говорит, — завтра ночью я тебе расскажу.
— А почему не сейчас?
— Это займет слишком много времени, — говорит, — а сегодня мне его слишком жалко…
И укусила меня, легко-легко, словно котенок. На другой день я то и дело находил на себе следы ее зубов, но в Бычьем Дворе на синяки и царапины никто не обращает внимания.
На другую ночь я снова шел к ней через подвалы. И вижу — в темноте храмового склада что-то шевелится, тень какая-то… Я потянулся за своим самодельным кинжалом, но тень скользнула на свет лампы — это была она. Мы обнялись между позолоченным катафалком и грудой кукол… Она была закутана в тот же черный хитон, что и в первый раз.
— Пойдем со мной, — говорит, — ты должен поговорить с одним человеком.
Она взяла с полки круглую глиняную лампу, — такие можно затенять, надо лишь отверстие прикрыть, — я открыл было рот спросить — она закрыла мне губы рукой.
— Ни звука, — говорит, — нам придется идти под самым Дворцом.
Мы прошли через архив, и она свернула в сторону. Там был еще один шнур, привязанный к другой колонне…
— Это трудная дорога, я один раз едва не потерялась, — говорит.
Взялась одной рукой за шнур, другой взяла меня за руку, а свет отдала держать мне. Лампа была совсем слабая, а вокруг — хоть глаз выколи.
Наш извилистый путь лежал через самые недра Лабиринта. Мы шли мимо кладки нетесаного камня, и эта кладка казалась работой титанов или первых земных людей… На этом фундаменте стоял еще самый древний, самый первый Дом Секиры, стояла твердыня критских Миносов, после которых было еще два дворца. Эти камни, укрепленные кровью тысяч жертв, устояли перед гневом Посейдона, когда рушились все стены, что возвышались над землей.
Иногда она закрывала лампу и предостерегающе сжимала мне руку — и через пару шагов из щели в каменных плитах над нами пробивалась полоска света и сверху доносились голоса. Мы постепенно опускались куда-то, и я решил, что мы идем к западу, по склону холма.
Здесь никаких складов не было, но там и сям попадались следы древних землетрясений: разбитые горшки, вылепленные еще без круга, грубые древние инструменты… А в одном месте, где перед одной из больших колонн земля просела, из нее торчал человеческий череп, от глазниц и выше, и на нем еще держались остатки старого кожаного шлема. Это был Хранитель Порога: сильный воин, которого хоронят заживо в священном месте, чтобы дух его отгонял оттуда демонов. Я сначала вздрогнул, но потом приветствовал его как подобало. Ариадна уже не раз бывала здесь — она лишь подобрала подол, чтобы не зацепить его.
Наконец мы подошли к невысокой каменной лестнице с узкой дверью над ней. Она знаком приказала мне разуться и молчать. И задула лампу.
Дверь открылась беззвучно… Звякнули пластинки моего ожерелья — она прижала их рукой, а потом положила на них мою руку… И повела меня через какое-то небольшое помещение, совсем темное, а под ногами были отшлифованные плиты. Дальше была еще одна дверь, а за ней — простор и воздух и даже какой-то свет после подземной тьмы… Это через пролеты стропил светили звезды, из проема в крыше над большой лестницей.
За подножием лестницы был Зал, а дальше и вниз от него — полуподземный храм. И в воздухе стойко держался торжественный аромат древних священных курений. На стене Зала, обращенной к храму, были какие-то росписи, — их не разглядеть было при том свете, — а перед ней, посередине, стоял высокий белый трон.
Она провела меня мимо всего и пошла дальше. Еще одна дверь, и из-под нее неяркая полоска света… Прошептала: «Подожди» — и вошла. За дверью была вышитая портьера, так что я ничего не увидел внутри. Слышал шепот, звук металла… Потом заговорил не ее голос — мужской. И был он какой-то дивный, приглушенный и расплывчато-гулкий, — меня в дрожь кинуло… Но была в этом голосе доброта, и усталость, и даже печаль какая-то… И голос сказал: «Можешь войти».
Я отодвинул занавес и ощутил густой аромат горящих смол. Воздух был почти синий от дыма — через клубы его я увидел такое, что встал как вкопанный и сердце заколотилось о ребра.
Комната была маленькая и простая. На очаге тлели поленья, у стены были полки для кубков, посуды и умывальных принадлежностей; еще полка — со свитками, под ней стол со всякой всячиной для письма и на нем лампа из зеленого камня… А в кресле возле стола, сложив руки на коленях, сидел человек с золотой бычьей головой и хрустальными глазами.
Опять зазвучал тот усталый голос, приглушенный маской:
— Подойди, сын Эгея, и встань так, чтобы я мог тебя видеть.
Я прошел вперед и поднес кулак ко лбу.
Он глубоко вздохнул, и вздох прошелестел в его маске как ветер в камышах.
— Не обижайся, Пастырь Афин, что я закрываю свое лицо от сына твоего отца. Я давно уже приказал убрать отсюда зеркало… Гостю лучше смотреть на это лицо, Дедал сделал его еще для критских Миносов. — Он взял лампу со стола и поднял ее, повернув голову: маска мешала ему смотреть… А потом сказал: — Выйди, дитя мое, последи за лестницей.
Она бесшумно вышла. Я ждал. Было так тихо, что я слышал, как шипит ладан на порфировой курильнице. А сквозь его драгоценный аромат пробивался тяжелый запах болезни. Правая рука была тонкая с длинными пальцами, левая — в перчатке. Он молчал долго, потом сказал:
— Я слышал, что царь Эгей бездетен. Расскажи мне что-нибудь о своей матери.
Я рассказал ему о своем рождении. Потом — когда он спросил — рассказал, как рос, как жил… Он слушал не перебивая. Когда я упомянул по ходу какой-то священный обряд, он потянулся к своим табличкам и попросил рассказать все подробно; быстро записал, кивнул головой… Потом говорит:
— Вот ты поменял обычаи в Элевсине. Как это было?
— Случайно, — говорю. — Просто я всегда во всё влезаю. — И рассказал ему всё. В каком-то месте моего рассказа он вдруг будто закашлялся — я замолк, подумал, что ему плохо там под маской, но он махнул рукой: продолжай, мол, — и я понял, что он смеется.
Я рассказывал, как попал в Афины, и тут он меня перебил.
— Тезей, — говорит, — про тебя рассказывают, что ты сам написал на черепке свое имя, чтобы попасть сюда. Это правда? Или Лукий сочинил, чтобы оправдаться? Мне хотелось бы знать.
— Да, — говорю, — это так и было. Лукий любит порядок… А меня послал бог. Он дал мне свой знак, что я должен принести себя в жертву за народ.
Он наклонился в кресле и снова поднял лампу.
— Да, так она мне и сказала. Значит, это правда… — Он пододвинул к себе свежую дощечку и взял новое острое перо — оживленно так, словно был чем-то очень доволен…
— Послушай, — говорит, — расскажи мне об этом. Ты говоришь, бог призвал и послал тебя, он говорил с тобой, ты слышал голос, звавший царя. А как он звучит? Это слова или звуки музыки, или ветра? Что это за зов?
Что же, думаю, раз я ничем не могу доказать своего рождения — он прав, что хочет проверить, на самом ли деле я Слышу. Но я даже с отцом едва мог говорить об этом, и сейчас не было слов, я искал их…
— Я буду очень признателен тебе, — говорит. — Мне здесь некуда себя девать, время мучительно медленно. И я пишу книгу о древних обычаях. А то, о чем ты говоришь, — тут никакие архивы не помогут!..
Я уставился на него — от изумления будто язык проглотил. Подумал сначала, что ослышался, — что-нибудь не так было, — но не знал, как переспросить. Начал что-то бормотать из вежливости, запнулся раз-другой — и замолк вовсе, слова кончились. И вот мы сидели молча и смотрели друг на друга.
Он заговорил первым. Облокотился подбородком на руку и спросил своим приглушенным печальным голосом:
— Мальчик, сколько тебе лет?
— Если доживу до весны, мой господин, будет девятнадцать.
— Когда стемнеет и появляются летучие мыши — ты слышишь их крик?
— Конечно, — говорю. — В иные ночи просто спасу нет, столько писка.
— Они кричат молодым, — говорит. — Если мимо проходит старик, они тоже не молчат, но его слух уже слишком плох, чтобы услышать. Так же и с царскими династиями; и тогда приходит время подумать, что пора уходить. Когда бог зовет тебя, Тезей, что ты при этом чувствуешь, что на сердце у тебя?
Я помолчал, постарался вспомнить. Я почему-то верил, что он меня поймет; несмотря на всё то, что знал о них, — верил. И это было странно: ведь собственный отец не всегда понимал. С трудом подбирая слова, раскрывал я душу свою звезднорожденному Миносу, Владыке островов.
Когда я замолчал, его тяжелая маска склонилась на грудь, и мне стало совестно, что утомил его; но он снова поднял свои хрустальные глаза и медленно кивнул.
— Вот как. Значит, ты пожертвовал собой. Но ведь царь не ты — твой отец…
Его слова проникли куда-то в глубь души моей; глубже, чем те давнишние слова деда, так глубоко, что я даже мыслью своей за ними угнаться не мог…
— Это неважно, — говорю. — Хороший пастух не пожалеет отдать жизнь за своих овец.
Он посидел немного, задумавшись; потом выпрямился, отодвинул свои таблички прочь.
— Да! — говорит. — Девочка была права. Признаться, я ей не верил; наш род преследует демон извращенности… Но она выбрала верно. Смерть приводит к новой жизни; ты как раз тот, кто должен прийти, я в этом больше не сомневаюсь. — Он сделал рукой знак между нами, и стало ясно, что он не только царь, но и жрец — до сих пор, хоть его предки давно уже ушли из страны эллинов.
Он подвинулся в своем кресле и вроде собрался было освободить место на столе, но остановился и покачал головой.
— Эта болезнь прилипает ко всему, до чего я дотрагиваюсь. Если бы не она — я пригласил бы тебя к столу; предложил бы тебе чашу родства, как подобает тому, кому отдают руку дочери…
Я чуть не встал перед ним на колени. Но было ясно, что ему не поклоны нужны, не почтение, — рука ему нужна; такая, на которую можно опереться.
— Государь, — сказал я, — клянусь вам жизнью своей, я не успокоюсь, пока не возведу ее на трон.
Он кивнул, и я как-то ощутил, что ли, что он улыбается.
— Ладно, Тезей, — говорит, — хватит любезностей. Ты их вполне достоин, разумеется; но дочь тебе расскажет, что кроме них я ничем не могу тебя одарить.
Я попытался что-то ответить, но он начал рыться в своих бумагах. Качал головой и время от времени бормотал, как это часто у больных людей, что много времени проводят наедине с собой. Я не знаю, кому он это говорил, мне или себе самому:
— Ребенком он преследовал меня как тень, этот черный теленок, клейменный позором нашим. Он никогда не давал мне забыть о себе: увязывался за мной на охоту, на корабли, в Летний Дворец… И плакал, когда я отсылал его туда, где ему было место… Звал меня отцом и таращился, когда ему приказывали молчать… Я должен был знать, что он меня уничтожит… Да, да… Даже забавно… всё получилось складно, как в старой песне: я утаил жертву, и это принесло мне смерть. Если бы боги на самом деле существовали, они не смогли бы устроить это лучше, чем получилось.
Он умолк, стало слышно, как мыши шуршат за книжной полкой.
— Здесь теперь остались лишь рабы. Высочайший стоит у двери и приглашает войти нижайшего… Да, человек уже мертв и созрел для катафалка; но царь должен пожить еще немного, дожить до завершения дела своего. С этой девочки, Тезей, всё должно начаться снова. Посмотри, она не слышит нас?
Я шагнул к двери и увидел ее при свете звезд — она сидела на парапете подземного храма.
— Нет, — говорю.
Он наклонился вперед в своем кресле, пальцы впились в подлокотники… Шепот его едва пробивался из-под маски, — мне пришлось наклониться, чтобы слышать, — и я едва не задохнулся от этого запаха, но не подал виду: помнил, что он только что сказал о рабах.
— Я не говорил ей, она и так уже видела слишком много зла. Но я знаю, что сделает этот скот дома нашего. Он пообещает критянам Критское царство, к этому уже идет; но в Критском царстве он может царствовать лишь по праву Владычицы. В древние времена критские Миносы женились на своих сестрах, как египтяне сейчас…
У меня сердце замерло. Но вместе с тем — теперь, когда все стало ясно, — стало как-то спокойнее. И я на самом деле понял теперь, почему Великий Минос принимает у себя бычьего плясуна с материка, незаконного сына какого-то мизерного царя, и предлагает ему Богиню. И почему она говорила так об убийстве своего брата, сына матери своей, — тоже понял. Да, она уже видела много зла, она догадывалась.
Я собрался с духом:
— Государь, — говорю, — я послал известие отцу, что я жив, и просил его прислать мне флот.
Он выпрямился в кресле.
— Что?.. Дочь мне ничего не говорила об этом.
— Эта тяжесть не для девичьих плеч, — говорю.
Он кивнул своей золотой головой и задумался.
— Ты получил ответ? — спрашивает. — Они придут?
Я уже вдохнул для ответа — и тут сообразил, что собираюсь говорить не то что надо, детская болтовня получится. Эта встреча научила меня самооценке.
— Не знаю, — говорю. — У моего отца мало кораблей. Я сказал ему, чтобы он попытался привлечь Великого Царя Микен.
Он повернул голову, чтоб взглянуть на меня, но я уже знал, что теперь скажу все как надо:
— Допустим, Великий Царь сказал отцу: «Тезей твой сын, но не мой. Это он говорит, что Кносс можно взять, но он бычий плясун и хочет вернуться домой. Что, если мы пошлем корабли, а Минос их потопит? Мы все тогда станем рабами». Мой отец осторожный человек; если Великий Царь скажет так, то отец увидит смысл в этих словах.
Он тяжело кивнул.
— А теперь слишком поздно посылать снова, — говорит. — Зимнее море.
— Тогда, — говорю, — мы должны рассчитывать на себя. Если эллины придут — тем лучше.
Он откинулся в кресле.
— Но что ты сможешь?
— Кроме меня есть еще плясуны, — говорю. — И они будут драться. Все, даже трусы, даже девушки, — все пойдут на всё за надежду на жизнь. Я достаю оружие для них, и с ними я захвачу Лабиринт, если нам хоть кто-нибудь поможет за стенами Бычьего Двора.
Он потянулся за какими-то листками, что лежали на столе.
— Есть еще несколько человек, которым можно верить, — говорит. И прочитал мне несколько имен.
— Только не Дромей, государь, — перебил я. — Он зашатался; я видел его в Малом Дворце.
Он вздохнул и оттолкнул бумаги:
— Я воспитывал его с детства, — с тех пор как умер его отец…
— Но зато есть Пирим, — говорю. — Он устоял, у него есть сыновья… И они будут знать, на кого еще можно положиться. Но у нас две проблемы: оружие — и кто-нибудь, кто может привлечь на нашу сторону критян.
Мы поговорили еще какое-то время. А под конец он сказал:
— Как ни устал я от жизни, но буду жить до тех пор, пока вы не подготовитесь.
Я вспомнил, как плохо думал о нем из-за того, что он не вернулся к богу. Вспомнил и устыдился.
— Если получишь вести из Афин, дай мне знать.
Я пообещал. Я представлял себе, как отец въезжает через Львиные ворота, и потом вверх по крутой дороге к Микенскому Дворцу, видел его за столом с Великим Царем… Но наверху, в личных покоях Царя, отец убеждает его воевать, разжигает нетерпение вывести в море крутобокие боевые корабли — этого я не мог себе представить. Слишком много тревог пережил отец, состарился от них до времени… Я мысленно видел бурное темное море, что бушевало вокруг Крита, — оно было пустынно.
— Будет ли флот, нет ли, — сказал я, — когда подойдет наше время — мы узнаем его, государь. Я в руке Посейдона. Он послал меня сюда и не оставит. Он пошлет мне знак
Я сказал это, чтобы утешить его: ведь почти не сомневался, что корабли не придут сюда, пока я сам их не пришлю. Но боги никогда не спят, и Синевласый Посейдон воистину услышал меня.
Прошло несколько ночей, и вот однажды Ариадна говорит мне:
— Завтра день моих предсказаний.
— Тогда тебе надо выспаться, — говорю.
Она слишком нежна была, чтобы без вреда для себя выносить божественное безумие — так я думал. Я притянул ее на подушку, закрыл ей глаза поцелуями… А она продолжала:
— Эллинов приходит немного, им я ничего особенного говорить не стану. Но критянам скажу, что к ним грядет новый Царь Лета, чтобы жениться на Богине и благословить землю нашу. Гиацинт, расцветший в поле кровавом. Они это запомнят.
Я изумился.
— Откуда ты знаешь, что будет говорить через тебя Владычица, пока ты не выпила чашу или не дышала дымом? — так я спросил.
— О! — говорит, — я этой гадости почти не принимаю. От нее голова сначала кружится, а потом болит так — прямо раскалывается!.. И всякую чепуху начинаешь молоть…
Я был потрясен, но ничего не сказал ей. Если правда, что боги перестали говорить с ними, — странно было, что она так спокойно об этом говорит, небрежно. Тут бы плакать надо, а она!.. Но критяне все играют с этим как дети, так что я лишь поцеловал ее снова.
— Я сделаю так, что они это хорошо запомнят. Лицо набелю, а под веками наложу красную полосу и устрою целое облако дыма, — им все равно, что это за дым, — закачу глаза, метаться буду, биться… А когда скажу — упаду без сознания.
Я долго искал слова. Потом сказал:
— Это женское таинство… Но мать говорила мне однажды, что если уж она пришла в Яму Змея — что бы у нее ни спросили там, — бывают такие вопросы, что любой дурак на них может ответить и беспокоить богов из-за них вовсе не стоит, — всё равно она всегда отвечает не сразу, а прислушивается, не запрещает ли Богиня этот ответ.
— Я тоже всегда отвечаю не сразу… Меня тоже хорошо учили, не хуже чем твою маму. Пауза заставляет людей внимательнее слушать. Но ты же видишь, Тезей, Крит совсем не то, что материк: у нас больше людей, больше городов, больше учреждений — и они должны работать слаженно… Только во Дворце работают девяносто чиновников… У нас бы каждый месяц начинался хаос, если бы никто не знал, какими будут предсказания оракула.
Она провела пальцами по волосам моим, от висков и назад к затылку, и эти пальцы говорили: «Я люблю тебя, мой варвар».
А я подумал: «Ладно, это не так существенно. Когда мы поженимся — я буду стоять между богами и народом». Но все-таки было очень жаль, что она не Слышит. Ведь царь, как и ремесленник, хочет, чтобы его сыновья обладали врожденным талантом к делу своему. Но вскоре у меня стало меньше времени для раздумий: мы занялись делом.
В древнем архивном складе под Лабиринтом я встретился с Пиримом и его сыновьями. Пирим был потомственный придворный чиновник, их семья записывала судебные решения царей. Только они и главные их помощники бывали в этом помещении, где хранились очень старые отчеты. Если Миносу нужно было знать прецедент, прежде чем вынести свой приговор, он посылал за Главным Протоколистом. Это очень старая традиция, и тайны профессии передавались от отца к сыну со времени ее основателя, князя Радаманта.
С тех пор как царь заболел и дела начал разбирать Астерион — Пириму пришлось работать на него. Астерион вызывал его, говорил, какой приговор собирается вынести, и приказывал найти прецедент, подтверждающий правильность этого приговора. Пирим приносил ему дюжину ясных противоположных приговоров — он коротко бурчал: «Еще поищи!» Главный Протоколист не возражал: он запирался среди отчетов и искал, искал — до тех пор, пока время поджимало, и Астериону приходилось выносить свой собственный приговор. Но все знали, что когда придет его час — он не простит Пириму; и Пирим не хотел дожидаться этого часа.
Ему было лет пятьдесят. Густые жесткие брови, борода, пепельная от седины, и пронзительные круглые глаза, как у филина. Мне было жаль его: он бы хорошо поладил с моим дедом, не в его натуре было прятаться по подвалам, плести заговор в компании с раскрашенными плясунами… Ведь я всегда уходил из Бычьего Двора наряженный — как на пир или на свидание, — иначе народ вокруг стал бы удивляться. Однако я помнил всё, чему успел научиться в зале суда у деда своего и у отца, — да и в своем собственном, в Элевсине, — со временем он перестал замечать мои крикливые украшения. Сыновья его тоже производили хорошее впечатление; видно было, что это люди чести. Старший, правда, немножко слишком чиновник; а младший — офицер гарнизона, в небольшом каком-то чине, — хоть был по-критски изящный, с длинными локонами и осиной талией, но по характеру был настоящий воин. Он сказал, что может рассчитывать на каждого третьего в гвардии царя: на тех, кто уважает свою присягу, и тех, кто ненавидит Астериона. Раз так — пора было начинать двигать дело в Бычьем Дворе.
Журавлям я доверился сразу. Но скоро потребуется расширить заговор — и я искал еще кого-нибудь из капитанов команд, на кого можно было положиться. Выбор пал на девушку по имени Фалестра, из савроматов. У них много обычаев, как у амазонок: они служат с оружием Лунной Деве, а на войне сражаются вместе с мужчинами. Когда она появилась у нас, то выглядела очень нелепо: в стеганом плаще, в штанах из оленьей кожи… И воняла козьим сыром… Ее страна за спиной северо-восточного ветра, за Кавказом, и они там раздеваются только раз в году… Но когда ее раздели и отмыли — она оказалась отличной девушкой. Правда, чуть слишком мужеподобна была бы для постели, но как раз то, что надо бычьей прыгунье: сухая, спортивная красота. И храбрости ей тоже было не занимать — в первый же день она глядела на меня с завистью.
Она мне понравилась, и я научил ее всему, чему только мог. И уже когда ее назначили капитаном Грифонов — она часто приходила за советом. Я предостерег ее однажды — показал трусоватого паренька, который мог им наделать беды… А когда они отдали его быку и получили взамен стоящего парня — она связала их клятвой вроде нашей, и вот уже больше двух месяцев в их команде не было убитых. Так что все привыкли к тому, что мы с ней часто беседуем. Я рассказал ей всё, кроме того что стал любовником Владычицы. Фалестра была девушкой для девушек, мужчины ей были не нужны; но я уже знал тогда, что ни одной женщине не нравится слушать, как ты говоришь о другой.
Услышав все, она не просто подпрыгнула от радости — заднее сальто скрутила! Она еще диковатая была, вести себя не научилась… Но умница. Помечтав немного о своем доме в горах, о друзьях, которых она теперь, быть может, увидит снова, она попросила меня достать ей лук, ее привычное оружие. Я сказал — попробую. Теперь, когда у нас появилась связь с верной частью гвардии, из верхнего арсенала в подвал стало попадать и хорошее оружие. Она упрашивала меня, чтобы позволил рассказать всё ее Грифонам; мол, у них нет секретов друг от друга… Я подумал, что это говорит в их пользу, и согласился. И вскоре все команды, кто принес клятву товарищества, были с нами. Что до остальных — придет время, будут драться и они, а пока никто не мог бы поручиться за их языки.
Наши дрожжи работали в тесте тихо, без пены. Никаких глупых выходок, никаких срывов… Тайна принадлежала людям, чьи нити жизни были сплетены туго: подведи команду — и в следующий раз бык уже твой. Только тот, кто уже знал, мог увидеть что-то новое в их глазах.
Мы начали переправлять оружие в Бычий Двор. Аминтор и я показали дорогу вниз через ламповую всем нашим юношам и трем-четырем капитанам других команд; наши друзья-гвардейцы приносили туда всякую всячину. Подошли зимние холода, так что все ходили в длинных плащах… Правда, древки копий и дротики все равно приходилось обрезать, но критские луки короткие — помещались. И вес у них подходящий для женщин. Наши девушки прятали всё это в закоулках своих и в пустотах под полом, и стрел у них тоже было уже много.
А Ариадна всполошила критян своим предсказанием. Она гордо рассказывала мне, как говорила обрывками фраз, — не слишком ясно, но и не слишком неясно, — как она закатила глаза и сникла на пол и по ней вились ее беззубые змеи, как она очнулась изумленная и спрашивала у жриц, что она говорила только что… А теперь она поручила одной верной старухе ходить и слушать, что говорят, — и вспоминать к слову тот случай с перстнем в гавани. Еще немного — и пора будет предупредить вождей племен и кланов.
Весна на Крите ранняя. В раскрашенных вазах дворцовых покоев появились бледно-желтые нарциссы и ветки цветущего миндаля; молодые люди украшали фиалками волосы, а дамы — своих кукол… Кукол-мальчишек, которых они будут нянчить до середины лета, а потом повесят на фруктовых деревьях; потому что, так же как во всё остальное, они играли и в жертвоприношения. Солнце грело жарко, и снежные шапки на горах исчезали прямо на глазах, а море в этот сезон перед началом южных ветров было спокойно и мягко.
Я ходил на пиры к придворным и иногда встречал там акробата, или танцовщика, или девушку с ручными птицами, или певца — людей из-за моря. При каждой возможности я подходил к ним вплотную и давал им услышать имя мое и мою эллинскую речь — но из Афин ничего не было.
Проходили дни, миндаль в раскрашенных вазах отцвел и осыпался снегом на раскрашенные изразцы… Один из вождей отказался продать Астериону свой земельный надел неподалеку от Феста и умер от какой-то странной болезни, — а ведь он был в родстве с самим Миносом! — наследник его испугался и продал землю… Коренные критяне шептались по углам и рассказывали длинные истории о прежних временах… В Бычьем Дворе плясуны собирались кучками, как всегда бывало, — там вечно полно было сплетен и интриг… Но, если прислушаться, говорили они о доме своем, о родных. Этого раньше не бывало, это было, как замороженный ручей, что тает по весне… Но дни шли, — и однажды ночью я услышал, как поднимается ветер. Над рогатой крышей и по дворам Лабиринта засвистел штормовой южак, что запирает критские воды для кораблей с севера.
Я лежал на спине и слушал с раскрытыми глазами. Вдруг появилась какая-то тень. Когда тушили лампы, в Бычьем Дворе всегда кто-то куда-то крался — но это был Аминтор. Он наклонился ко мне и прошептал:
— В этом году рано началось, Тезей. Критяне говорят, на полмесяца раньше обычного. Это мойра, Тезей, никто тут не в силах помочь, но мы можем обойтись и сами.
— Да, — говорю, — мы обойдемся. Быть может, брат Гелики не добрался до Афин…
Критяне уже неделю ждали этого ветра, но Аминтор дрался вместе со мной на Истме и в Аттике — и теперь хотел спасти мой престиж.
На другой день Фалестра затащила меня в угол:
— Что с тобой, Тезей? У тебя такой убитый вид!.. Никто не думает о тебе хуже из-за того, что задул этот ветер. Это было прекрасно придумано про эллинский флот, так мог говорить лишь настоящий воин. Надежда на помощь помогла нам подготовиться, а теперь нам помощь не нужна!
Она хлопнула меня по плечу, как мальчишка, и зашагала прочь. Но я чувствовал, что над Бычьим Двором нависла тень, и она это тоже знала.
На следующую встречу в архивном подвале я шел медленно, через силу, но старый Пирим лишь кивнул мне с угрюмой улыбкой, словно мы с ним выиграли пари. Он был человек закона, как говорят на Крите, а у них профессиональная привычка — ожидать худшего. Я ничего не обещал, потому у него не было ко мне никаких претензий. Он неожиданно сказал: «У сына есть план. Рискованный, правда, но за неимением лучшего может пойти». Голос был суров и бесстрастен, но в глазах его я заметил гордость и печаль.
Его сын-воин, Алектрион, шагнул вперед. Среди пыльных полок и иссохших пергаментов он смотрелся словно зимородок на засохшем дереве: тусклый свет играл бликами в его ожерелье из розового хрусталя и налокотниках из чеканной бронзы; на поясе сверкали зеленые жуки, что египтяне сушат специально для украшений; и от него шел запах гиацинтов. Он сказал, что если один из вождей клики Астериона умрет, то они все будут присутствовать на его похоронах; и в это время, пока их не будет, мы можем захватить Лабиринт.
— Хорошо придумано, — сказал я, — а кто-нибудь из них болен?
Алектрион рассмеялся. Зубы у него были белые-белые; у них есть такая смола — мастика называется, — так критские модники ее специально жуют, чтобы зубы отбеливать. Рассмеялся он.
— Да, — говорит. — Фотий болен, хоть он еще не знает об этом.
Это был начальник личной стражи Астериона, здоровенный парень эллинского телосложения, со сломанным от кулачного боя носом. Я поднял брови.
— Как это можно сделать? — спрашиваю.
— О! Он очень заботится о своем здоровье. Единственный способ — заставить его драться. Я это сделаю, и он, по-видимому, выберет копья.
Что на Крите еще бывают смертельные оскорбления — это была новость для меня. Но я думал не об этом, а о том, что вот такого человека, как Алектрион, нам ни в коем случае нельзя терять. Но он был старше меня на пять лет, так что я не мог с ним спорить, я только спросил:
— Когда это случится?
— Этого я сказать не могу. Мне нужен правдоподобный повод для ссоры, иначе он догадается, что здесь что-то нечисто. Но держи своих людей наготове.
Я согласился, и мы разошлись: они с отцом к лестнице, по которой спускались сюда, а я — наверх, к святилищу. Мы никогда не пытались провожать друг друга, даже взглядом, и самые близкие их друзья среди придворных не знали места наших встреч. От тайны подвалов зависело все наше дело.
Я пришел к Ариадне и рассказал свои новости. Она обрадовалась, что не мне надо биться с Фотием, — его трудно будет убить, — потом спросила, когда будет поединок, — она должна его видеть… Я сказал — не знаю. И больше мы не разговаривали ни о чем. Со всеми этими заботами нам не хватало времени на любовь; расставаясь, мы часто мечтали о том, что вот поженимся — и не будем вылезать из постели аж пока солнце не поднимется над горами высоко-высоко… А следующая ночь была ночью поста: завтра — Бычья Пляска.
Но вечером, после ужина, у дверей Бычьего Двора раздался смех и звон золота. Удовольствие пройти к нам после наступления темноты недешево стоило. Вошел Алектрион, оживленный, блестящий, в юбочке, усыпанной жемчугом, с жасмином в волосах, в ожерелье из полосатого сардоникса… Он разгуливал среди плясунов, заигрывая то с одним, то с другим, болтая о ставках пари и о новом быке, — как болтал бы любой светский шалопай, — но я заметил его ищущий взгляд и пошел ему навстречу. «О, Тезей!.. — он состроил мне глазки и игриво поправил прическу. — Нет, клянусь, ты — это само непостоянство! Ты забыл о моем пире и поужинал здесь! У тебя камень вместо сердца, клянусь!.. Но я и сейчас готов тебя простить, если ты придешь послушать музыку. Но поспеши — вино уже налито…» Я извинился перед ним и пообещал тотчас быть. «Вино уже налито» — это значило, что дело не терпит отсрочки.
Мы вышли в Большой Двор. Было еще рано, но там было море света от ламп и множество людей с факелами. Он остановился у колонны, облокотился на нее по-критски небрежно и изящно… «Как ты можешь быть таким жестоким?!» — это мимо нас кто-то прошел. Он потрогал мое ожерелье, притянул меня к себе и сказал тихо: «Минос послал за вами. Путь отмечен как в тот раз, вы должны пойти туда один». Казалось, он выучил эти слова наизусть, но до сих пор у меня не было связи с царем иначе, как через Богиню… Я смотрел ему в глаза, пытаясь разгадать, что это — не ловушка ли. Его критское обличье, его щегольство, фатоватые манеры — всё стало подозрительно, раз уж я усомнился в нем. Он встретил мой взгляд и взял меня под руку — со стороны глядеть, так нежно взял, но пальцы впились словно бронза: «У меня есть пароль для вас. Полюбуйтесь — и возьмите словно это мой подарок. — Он раскрыл ладонь. — Я должен был сказать вам, что он очищен огнем… Носи его, дорогой мой, и думай обо мне!» — мимо снова кто-то прошел.
Перстень на его ладони был очень старый, очень тяжелый, из бледного золота. Гравировка в древнем стиле — плоская и угловатая — была сильно потерта, но можно было различить изображение: до плеч человек, а выше бык.
Он вложил перстень мне в руку и глянул предостерегающе… Я улыбнулся и стал разглядывать перстень, любуясь им в свете лампы; потом обнял его за плечи, как бывало обнимались при мне юноши на Крите, поцеловал в щеку возле уха, и шепотом:
— Этого достаточно, — говорю. — Что ему нужно?
Он обнял меня за талию и поцеловал так же…
— Не сказал. Но что-то серьезное. — Потом глянул через мое плечо… — Люди Астериона! Мы вряд ли удачно смотримся вместе, уходите, быстро.
Я застенчиво оттолкнул его и ушел. Чувствовал себя дурак дураком от всего этого театра, но в Алектрионе больше не сомневался.
Внизу в подвалах на прежнем месте был привязан второй шнур и горела такая же лампа, как в тот раз. Я не ходил этим путем один. Когда идешь с девушкой, то естественно ждешь от себя храбрости — и на самом деле не боишься; но теперь эти древние переходы внушали цепенящий ужас; казалось, по ним бродят мертвецы, раздавленные здесь, когда гневался Сотрясатель Земли; и летучие мыши, что порхали вокруг лампы, были словно души, не перешедшие Реку… Когда я дошел наконец до часового, что глядел пустыми глазницами из-под истлевшего шлема, то словно товарища встретил: про него я хоть знал, кто это, и знал что он принадлежит богу. Я приветствовал его знаком примирения, а он словно ответил «Проходи, приятель».
Дошел до двери, задул лампу, остановился, прислушался… На лестнице никого не было. Я прошел в дверь, закрыл её за собой и на этот раз увидел — луна светила, — что дверь слилась со стеной и роспись сделала ее совершенно незаметной. Там было лишь одно отверстие — в него проходил палец до засова. Белый лунный свет падал на большую лестницу, но трон был в тени. Я бесшумно прошел через зал — из-под двери выбивалась тонкая полоска света, доносился запах ладана… Я тихо постучался — его голос позвал меня.
Он сидел в своем кресле с высокой спинкой, всё в той же маске, руки так же лежали на коленях… Но что-то изменилось в комнате, я не сразу понял что. Не было его носилок. Перед подставкой, на которой что-то было — герб или идол — не разобрать в дыму — перед подставкой курился ладан… И сам он был не таким, как раньше: хоть лицо его было скрыто, но чувствовалась сила и спокойствие в нем.
Я приложил руку к груди и тихо сказал:
— Я здесь, государь.
Он поманил меня, чтобы встал перед ним чтобы видеть меня через маску. Я ждал. Спертый зловонный воздух, от дыма резало глаза, а мне и без того хотелось их закрыть, хотелось спать — а завтра Бычья Пляска…
— Тезей, — его приглушенный голос звучал яснее и звонче, чем в прошлый раз. — Тезей, время пришло. Вы готовы?
Что могло вмешаться в наши планы? Я был встревожен.
— Да, государь. Если нужно, мы готовы, — говорю, — но день похорон был бы лучше.
— Вы хорошо выбрали и день, и обряд. Но жертва недостаточна, мелкую дичь решили вы заклать на алтаре своем. Мы с тобой должны принести жертву, Пастырь Афин. Я должен это вынести, а ты — сделать.
Здоровой рукой, без перчатки, он указал на подставку за дымом — тогда я разглядел тот священный предмет, что стоял там: из плиты шлифованного камня вертикально торчал двойной топор.
Я замер. Такое страшное дело мне никогда и в голову не приходило.
— Боги могут послать знак и тогда, когда перестаешь их слышать, — сказал он. — Они послали ребенка, чтобы указать мне путь.
Я не сразу понял, кого он имел в виду. Но хотя Алектриону было двадцать три — он-то знал его с самого рождения…
Хрустальные глаза повернулись ко мне. А я смотрел на топор, закутанный облаком дыма. То о чем он просил, было правильно, со всех сторон правильно, но руки у меня не поднимались. В Элевсине я дрался за свою жизнь с сильным мужчиной, а тут… Он мне в отцы годится… Было душно, жарко, но я дрожал. А он говорил:
— Вот уже два года каждый мой вдох, каждый миг моей жизни усиливает врага моего. Я жил лишь для того, чтобы уберечь от него мою дочь. Никто из царского рода не посватался к ней, никто не осмелился встать между ним и Троном Грифона; теперь я нашел достойного мужчину — зачем же давать ему хоть один лишний день? Береги ее. В ней кровь матери, но ее сердце управится с этой бедой.
Он встал. На полголовы он был выше меня.
— Пора. — Под маской раздался тихий смех, и я вздрогнул от него, как от летучих мышей в подземелье. — Он много успел, наш длиннорогий Минотавр. Но он не может стать Миносом, пока жрецы не увидят моего тела; а они знают, кому теперь принадлежит гвардия моя. Жаль, что я не увижу его лица, когда ему все-таки предъявят обвинение в цареубийстве. Давай, Тезей, мне больше незачем оставаться здесь. Перстень уже у тебя. Лабрис ждет, подними ее с постели.
Я подошел к полированной подставке. Топор был той же формы, что применяли на бычьей арене; рукоять из бронзы, украшена змеями… Но, разглядев сам топор, я увидел, что он из камня; лезвия были отесаны и заточены вручную, и так же просверлено отверстие в шейке под рукоять. Это была священная секира, та самая Мать Лабрис, хранительница рода от начала его… Я склонился перед ней, как перед нашим родовым Змеем.
Царь сказал:
— С тех пор как она взяла последнего царя, прошло двести лет, но она вспомнит. Она так давно знает свою работу, что почти могла бы делать ее сама…
Я поднял ее с постели… Черные тени бились вокруг меня, словно вороны падали с неба.
— Если бог так сказал… — говорю. — Ведь мы лишь псы божьи, мы держим или отпускаем, услышав имя свое и веление. Но это деломне не по душе.
— Ты молод, — сказал он, — тебе не понять, что ты разрушаешь мою тюрьму, освобождаешь меня. Не тревожься ни о чем, всё правильно.
Я взвесил топор на руке. На самом деле, умный топор, балансировка отличная…
— Там, за Рекой, — говорю, — когда Мстительницы спросят, от чьей руки ты погиб, замолви за меня слово. Если останусь жив, прослежу, чтобы могила твоя была заметна и чтобы у тебя было всё, что подобает царю; тебе не придется бродить по тропам подземной тьмы в голоде и скудости.
— Я скажу там, что ты мой сын, если будешь добр с дочерью моей. Но если нет — я спрошу с тебя!
— Не бойся. Она мне дороже жизни, — так сказал я.
Он опустился на колени перед идолом Матери-Земли, согнул спину, потом снял свою маску и положил ее перед собой. В его черных волосах белели густые пряди седины, и шея просвечивала из-под них как кора засохшего дерева. Он спросил, не оборачиваясь:
— Тебе места достаточно?
Я поднял топор.
— Да, — говорю, — при моем росте достаточно.
— Ну так сделай это, когда я взову к Матери.
Он помолчал немного — и крикнул. Закричал громко на древнем языке, опустил голову… Руки все еще не слушались меня, но я не мог заставлять его ждать — и бросил вниз тяжелую секиру, и она пошла стремительно и ровно, будто и вправду знала свое дело… Голова его откатилась, а тело сникло у моих ног. Я отшатнулся. Всё было правильно, но дрожь меня не отпускала. А когда поставил Лабрис на место — облизываться после долгого поста — и снова повернулся к нему с прощальным приветом душе его, что уходила в свой далекий путь… Голова его была повернута ко мне лицом, и хоть лежала она в тени — я увидел такое, что дыхание мне перехватило: это не человеческое было лицо — львиное. Я выбежал из-под портьеры и жадно глотал свежий ночной воздух; дрожь не проходила, и руки были как лед… Но когда смог вдуматься — порадовался за него. Я понял, что боги отметили его печатью достоинства, — и вот он принес себя в жертву в трудный для народа час. Так они могут: после долгого молчания, долгого отсутствия все-таки приходят к человеку и призывают его наконец. После долгого молчания, после того как кровь и смерть, и горькие сожаления о том чего не воротишь, забивают уши тех, кто Слышал, — забивают плотнее пыли — приходят они… Так и со мной может случиться когда-нибудь, в самом конце.
Пятно лунного света упало на парапет подземного святилища… Я огляделся вокруг и увидел под стеной высокий белый трон Миноса со скамьями жрецов по обе стороны, а за ним, на стене, хранителей-грифонов, нарисованных на поле белых лилий… Ухнул филин, где-то во Дворце заплакал ребенок, мать успокоила его, и снова все стихло…
Меня давило ощущение опасности, и я бы уже ушел оттуда; но это место, казалось, было отделено от всего мира. Отделено для меня, для его богов-хранителей и для духа его, что ждал переправы у берега печали; казалось, будет недостойно всего, что было, если я сейчас стану красться отсюда словно вор; я чувствовал — он смотрит на меня… И тогда я прошел по разрисованному полу и сел на его место, как сидел он: сложив ладони на коленях и прижав затылок к высокой спинке. Сидел и думал.
Потом за дверями раздались голоса стражи, совершавшей обход, — я тихо поднялся и пошел назад через темный Лабиринт, по дороге указанной шнуром.
9
Проснулся я с тяжелой головой, все были уже на ногах. Зевая, пошел за завтраком своим… Аминтор глядел-глядел на меня; потом не выдержал — спросил хмуро, как мне спалось.
Я не привык, чтобы он упрекал меня, но вспомнил, как я вчера уходил, вспомнил, что он элевсинец…
— Послушай, — говорю, — дурень. Ты что, думаешь я по пирам таскался? За мной прислали, ты же видел. Минос умирает. Может быть, уже умер.
Ему не надо было знать больше; ради него самого не надо было.
— Умер? — Аминтор огляделся. — Нет еще. Послушай, всё тихо.
Верно. После таинства, совершенного в ночной тиши и тьме, я и забыл, что должно быть много шума. Но удар был смертелен — голова-то…
— Неважно, — говорю, — он слабеет быстро. Мне сказали наверняка.
Но ведь к этому времени кто-то уже должен был его найти… В чем дело?
— Это хорошо, — сказал Аминтор. — Наши дела теперь пойдут быстрее. Но пока — Бычья Пляска, тебе надо еще поспать хоть немного.
— Я не устал, — говорю. Соврал конечно, но Аминтор всё время порывался меня нянчить и слишком много беспокоился. — И потом, не станут же они устраивать Пляску, когда царь лежит не похоронен.
— Не продавай бычка, пока корова не телилась.
До приезда на Крит Аминтор был самым отчаянным и безрассудным из Товарищей. Это его работа на арене — ловец, подстраховщик, — работа на арене сделала его таким осторожным.
Чтобы успокоить его, я пошел все-таки на свою циновку; а ему сказал, чтобы не говорил ничего остальным; это только взбудоражило бы их и могло быть замечено чужим глазом. Я сделал вид, что сплю, но спать не мог: всё прислушивался, ждал крика, возвещающего о смерти царя. То и дело подходил на цыпочках кто-нибудь из Журавлей посмотреть на меня — я видел их из-под опущенных век… Они боялись, что я попаду в беду на арене, теперь, когда наш час уже подходит… Казалось, много времени прошло. Я был слишком неспокоен — не мог лежать больше, поднялся снова. Подошел полдень, время обеда. Журавли поели слегка — иначе нельзя перед Пляской… Еще час мы отдыхали — играли в бабки, — а потом заиграли дудки и барабаны — пора было идти.
Сияло солнце, пахло пылью и весенней листвой… Мы прикоснулись на счастье к алтарю Всех Богов, что стоял у Ворот Плясунов… Вокруг него сидели в пыли священные калеки — те, что смогли сами уйти с арены после удара рогом, но уже никогда больше не выходили на Пляску. Некоторые из них просидели там уже по полсотни лет — лысые, старые, сморщенные… Они грелись на солнце — болтали, почесывались — и грозили накликать на нас беду, если поскупимся на милостыню… Мы, почти не глядя, клали наши дары в их чашки — слушали музыку и разминались, готовясь к Пляске.
Песок был горяч от солнца. Гудели и хихикали женские трибуны, игроки выкрикивали ставки… Мы вышли на арену под ложу, и я пытался угадать по ее лицу, знает ли она о своей потере, — но под ритуальным гримом ничего нельзя было увидеть.
Мы разошлись и встали в круг на арене, я занял свое место против Бычьих ворот… Их еще не успели поднять, как за ними раздался рев. И я почувствовал, как все Журавли насторожились, словно собаки, — я тоже, — по звуку было ясно, что сегодня что-то не так.
Загрохотали цепи, я собирался присмотреться к быку, когда он остановится оглядеться по сторонам… В дурные свои дни он входил на арену с низко опущенной головой и, остановившись, начинал рыть копытом землю. Но вот со звоном поднялась решетка, я поднял руку навстречу ему в своем приветствии капитана… И еще махал рукой, кажется, а он уже был возле меня. Не глянув вправо или влево, не задержавшись ни на миг, чтоб дух перевести, — он ринулся на меня прямо из ворот через всю арену. Словно кабан из чащи, словно дротик, брошенный мне в сердце…
Я не выспался и соображал медленно, но тело думало за меня само — я прыгнул в сторону. Прыгнул… Но рог его зацепил бедро, — хоть и вскользь, — сбил меня с ног… Я откатился дальше, вскочил, выплевывая пыль, протирал глаза… А по ноге бежала горячая кровь; и на трибунах визжали так, словно всех женщин там насиловали разом.
Отбросил с глаз волосы — Иппий сидит у быка на лбу, ухватился за него, как мартышка в ураган, а Аминтор и Менестий держат его за рога и пытаются остановить. Судя по тому, каков он был сегодня, долго это продолжаться не могло: глаза налиты кровью, на губах я заметил желтую пену, и двигался он словно бешеный. Мне совсем не нравилась эта мельница вокруг его рогов, но был лишь один способ: в момент, когда он выпрямил шею, я схватился за кончики рогов и прыгнул через всю эту тройку, чтобы сесть ему на загривок. Быстро перевернулся, оседлал его, ухватил рога у самого основания, возле головы, и давай колотить каблуками по подгрудку, изо всех сил. Это отвлекло его от остальных, и они смогли убраться; а он помчался со мной вперед — стремительно, как боевая колесница; и шум вокруг тоже был словно рев битвы, и десять тысяч глоток кричали: «Тезей! Тезей!…»
Я глянул сквозь упавшие волосы — Аминтор несся рядом с быком, готовый поддержать меня, когда я его отпущу… И все Журавли вертелись рядом — слишком близко, он еще не готов был для них… И хоть я, казалось, вот-вот развалюсь на куски — не мог я его пока остановить. «Разойдитесь!.. — кричу. — Дайте ему дорогу, я его замотаю!..» Я скрестил ноги под его шеей и старался прижать ему гортань, придушить его, но он по-прежнему несся вскачь, и у меня уже зубы не держались в челюстях… — и впервые Журавли не послушались меня: цеплялись на него со всех сторон, где только могли. Он затормозил на какой-то миг — я увидел, что Меланто и Хриза тащатся по земле, повиснув на рогах… Потом они исчезли — я не заметил когда и где… Хлопья пены летели назад мне в лицо, забивали глаза, ноздри… И странный запах был у этой пены — едкий.
Кричащие лица приближались — он мчался к барьеру… Надо прыгать, иначе он меня собьет — я бросил рога. Аминтор, несмотря ни на что, был рядом; но когда он отпустил меня, я понял, что со мной покончено: когда бык снова пойдет на меня — уже не смогу пошевелиться. Аминтор тоже спекся, я слышал его дыхание — словно всхлипы… Журавли подбегали к нам, но все они уже сделали больше, чем было нужно, — ведь не послушались меня! — и теперь никуда не годились, еле двигались… Я ждал, что Геракл повернет у барьера и пойдет на нас.
Но вместо этого — он ударил в барьер. Раздался грохот, треск дерева, крики… Барьер был из кедровой плахи в руку толщиной, но закачался. Сверху посыпались орехи, сласти, веера… даже собачки их карманные… Один рог застрял… Он с трудом выдернул его — повернулся… Но для меня в тот миг всё стало безразлично, арена медленно крутилась перед глазами… И только одно я знал — я попал на рога; если сейчас упаду, то кровь моя принадлежит Матери.
Я стоял. Качался, хватал ртом воздух из последних сил — но стоял. Аминтор взывал к богам, звал меня ласковыми минойскими словами, сыпал проклятиями… Поддерживать жертву запрещено, он мог лишь стоять рядом… А бык шел на нас, шел медленно словно во сне, я подумал — брежу… Казалось, он идет уже целую вечность; глаза его — набрякшие, налитые кровью — глядели прямо на меня, мне в глаза… Я подобрался, как мог, — постараться заметить, в какую сторону он будет бить… Вдруг голова его опустилась, ниже, еще ниже, коснулась песка… Подломились колени… Он накренился, словно разбитый корабль, и рухнул в пыль.
И вокруг стало тихо-тихо… Потом волной прокатился вздох изумления и ужаса; а потом — трибуны разразились ликованием.
Чувствовал я себя скверно — слабость, боль… — но в глазах прояснилось. Увидел, что крови хоть и много, но рана неглубокая… А вся арена была — словно сад; люди будто с ума посходили и швыряли с трибун всё, что было под рукой: веера, шарфы, бусы, цветы… Журавли собрались вокруг меня — чумазые, изодранные, побитые, в волосах пыль, по запачканным лицам потеки пота… Формион хромал — Хриза после сказала мне, что он спас ей жизнь… Когда она подошла, под руку с Меланто, я увидел рану у нее на скуле; шрам останется на всю жизнь — ей уже не быть той безупречной лилией, что плыла сюда из Афин… Гелика шутила с Фебой… Сегодня было так страшно, что страх у нее прошел, — на войне тоже так бывает… А улыбка Аминтора была глупой-глупой, от слабости наверно; и я, конечно, улыбался так же слабо и так же глупо… Теламон подставил мне плечо, но я махнул рукой — не надо. Моя девочка в ложе и так достаточно перепугалась, а я еще мог по крайней мере отсалютовать ей, стоя без поддержки.
Она стояла на своем помосте прямо и неподвижно. Краска на лице проступила ярко, как у куклы, но она провела прощальный ритуал без заминочки. Я гордился ею: такая выдержка! Пусть, думаю, она не Видит и не Слышит, но царица из нее будет настоящая.
А старина Геракл лежал на том же месте, где упал. Букет анемонов, брошенный сверху, рассыпался у него на голове, словно венок на него надели… Я смотрел на него — и тут он чуть приподнялся, дернулся… и мухи облепили его глаза. И сверху, где дешевые трибуны были темны от коренных критян, раздался торжественный гул голосов, словно люди увидели знамение.
Мы шли к воротам. Устал я страшно, — но не настолько, чтобы потерять способность думать. Вспомнил, как охраняют священных быков — ни один посторонний не мог пройти к ним в ограду… Посмотрел вверх — на пустую ложу Миноса, на соседнюю, где наш покровитель принимал поздравления и похвалы его команде… Принимал поздравления — но я видел его глаза, когда он не видел моих.
Уйдя с арены, я позволил себя нести. В Бычьем Дворе наша знахарка обмыла и перевязала мне ногу, дала укрепляющего питья, горячего и пряного… Актор сидел рядом и насвистывал сквозь зубы. Глаза наши встретились — он показал взглядом на знахарку, покачал головой — молчи, мол, — и отошел.
Подошла Фалестра, встала возле моей циновки — одна рука на бедре, другой чешет свою черноволосую голову… Я поманил ее поближе, она наклонилась. И смотрела на меня не как женщина на раненого, а как настороженный воин в засаде, ждущий команды. Я тихо сказал:
— Быка чем-то напоили.
Она кивнула.
— Оружие хорошо спрятано? Астерион что-то узнал, — говорю. Говорю, а сам думаю — скоро ли он пришлет за мной и какой смертью заставит умирать.
— Много он знать не может, иначе бы нашего оружия уже не было. — Это она верно сказала, Фалестра. — Спрятано все хорошо, — говорит, — а ты не волнуйся; ведь ты же ни на что не будешь годен, пока не отдохнешь.
Она отошла и — я видел — разогнала плясунов, которые собирались подойти говорить со мной. Да, она была умница, Фалестра, — она знала, что если я не отдохну сейчас, то потом может не остаться времени. Я лежал и обдумывал ее слова, а мысли плыли медленно и словно в тумане — от слабости и от лекарства. «Он не знает, что я убил Миноса, иначе открыто казнил бы меня. Он не знает об оружии, иначе его бы уже отобрали. Но, быть может, он знает о Владычице? Или о том, кого она имела в виду, когда пророчествовала? Он допрашивал Пирима или его сыновей? Что он знает?» — так я думал. Но сон наваливался на меня, несмотря на все мои тревоги, и я снова услышал ропот критян, думавших, что бог убил быка у моих ног. Что ж, конечно же он был с нами… Мне казалось, что я и сейчас ощущаю его присутствие: суровая торжественность витала вокруг, и обычный шум Бычьего Двора казался слишком громким, непривычно мешал мне… Но даже подумав об этом, я все равно уснул. Мне снилось детство: я служил в храме на острове и слушал священный источник в полуденной тишине.
Когда проснулся, зажигали лампы и плясуны садились ужинать. Аминтор, наверно, ждал, когда я открою глаза, — тотчас подошел и спросил, чего мне принести. Я сел, хоть едва смог, и первым делом спросил, есть ли новости о смерти Миноса. Он огляделся — вокруг нас никого не было, все плясуны сидели у стола.
— Нет, Тезей… Кто тебе сказал? Ему можно верить?.. Сегодня разошелся совсем другой слух: говорят, что, когда флот уходил на Сицилию, перед штормами, Минос пошел с флотом, но это держится в тайне. Говорят, он хотел захватить остров врасплох, и потому никто ничего не должен был знать. В Малом Дворце эти слухи опровергают, потому все уверены, что это правда.
Он принес мне суп, ячменную лепешку и медовых сотов… Я ел лежа, облокотившись на локоть, и размышлял, сколько времени пройдет до тех пор, как из Сицилии придет известие о смерти Миноса. Но на самом деле, до чего умен скот! И быстро соображает… Отрицать эти слухи — это было здорово придумано; я должен был признаться себе, что сам бы не додумался. Но — раз так — ему нужно время, он еще не готов…
Подошла знахарка, ощупала меня… Потом смазала маслом и принялась массировать: растирала, стукала, шлепала, мяла… Бормоча, заклинания, осмотрела рану и сказала, что заживает быстро.
За столом плясуны сидели над нашим разбавленным вином — это был последний час общей беседы, перед тем как уводили девушек. Я растянулся под руками старухи и чувствовал, как расслабляются, оживают мышцы, как веселее бежит по телу кровь… Боль прошла. Лишь рана саднила от вина да по-прежнему хотелось спать. Когда она ушла, я повернулся на бок — собирался уснуть снова — и увидел, что Актор стоит возле моего ложа.
— Ну, — говорит, — значит, ты снова ожил. Я напишу это у входа в Бычий Двор, чтобы не бегать отвечать на вопросы о тебе. Поспал ты неплохо… Когда ты тут лежал во время землетрясения, а все эти чужеземцы не знали, что это такое, и вопили, призывая своих богов, я подошел поглядеть, не умер ли А ты — причмокивал как младенец!..
— Землетрясение?.. Ах да, конечно! — говорю. Я вспомнил ощущение присутствия бога. Настолько был замучен, что не понял предупреждения, когда оно было.
— Ничего особенного, — сказал он. — Полка горшков повалилась на кухне… А Журавлям придется ловить другого быка…
Он смотрел на меня — не просто так смотрел. И вокруг никого не было на этот раз.
— Что ему дали? От него пахло, — говорю.
— Откуда я знаю? — Он снова оглянулся. — Наверно то же, что дают собакам, перед тем как стравить. Собаки как правило выживают, но угадать бычью дозу…
До сих пор он стоял наклонившись, а тут сел на пол возле меня и заговорил еще тише.
— Сегодня одному человеку крупно не повезло. Имени называть не станем — но здорово его сегодня ободрали; если ему понадобится еще талант золота, то придется ему ждать лета, когда вернутся его корабли.
— При чем тут золото?
Я спросил, а думал еще о другом в тот момент: думал, что мое лекарство, наверно, на маке было настоено, оттого я до сих пор такой вялый.
— Дух говорит, — сказал он… Это формула такая у критян: если человек не станет повторять свои слова при свидетелях, то так он начинает. — Дух говорит, что он занялся каким-то делом и это дело опустошило его казну. Его агенты целый день потрошили город — собирали налоги и подати, продавали должников, брали взаймы у финикийцев… Ну ставки на вас ты знаешь. Три месяца назад были равные деньги, теперь — от шести до восьми к одному. Пойди к любому и попробуй поставить на то, что Тезей останется жив, — с тобой и разговаривать не станут. Если ставишь на Журавлей — придется играть поровну… Но нынче утром, я слыхал, по всему Кноссу играли на смерть, — сто против одного и даже больше — и играли втихую, в разных местах, но примерно в одно и то же время, чтобы не сбить ставки. Это тебе что-нибудь говорит?
— Говорит?.. Что я понимаю во всех ваших делах?.. Я всего лишь бычий плясун, дикарь с материка; у нас в деревне народ простой, мы без хитростей…
Голова у меня кружилась. Актор посмотрел на меня, почесал затылок…
— Выспи хорошенько свое лекарство, парень, ты еще в дурмане плаваешь. — И ушел
Глаза слипались — не выговоришь; веки словно свинцом налиты… Но я подумал, что засыпать нельзя: если усну, то потом буду думать, что это всё мне приснилось. Аминтор слонялся поблизости, я поманил его к себе.
— Есть новости. Позови Фалестру.
Они подошли вдвоем, склонились надо мной и глядели на меня так, словно я вот-вот исчезну.
— Успокойтесь. — сказал я. — Минотавр ничего не знает. Он это сделал ради золота.
Если б я говорил по-вавилонски, они бы поняли ровно столько же, и я не винил их за это.
— Минос мертв, — говорю — Это наверняка. Его где-то спрятали в Лабиринте, сплавили без обрядов, словно казненного бандита. Астериону нужно время. Ему нужна возможность покупать себе войска, — и друзей тоже, — но он не может распоряжаться государственной казной, пока не обнародована смерть царя. Положение у него трудное. Мы бы сказали — попал меж рогов, верно?.. Потому он стал играть на смерть, чтобы раздобыть денег.
До чего они стали похожи друг на друга!.. У обоих челюсти отвисли, как у деревенских дурачков, — я едва не рассмеялся.
Наконец Аминтор медленно заговорил:
— Так он сделал это ради денег? Но ведь мы — Журавли, мы плясали для него целый год…
Фалестра закинула назад голову:
— Мать Кобыл!.. — Она на самом деле смотрелась, как истинная дочь Посейдона-Коня: струилась по спине ее густая черная грива, ноздри раздувались… Она уперла кулаки в бедра и сверкала синеватыми белками черных глаз, словно норовистый жеребенок. — Чего стоят эти критяне?! Они сами, и их ванны, и бассейны, и их болтовня о варварах!.. Пустышки, сушеные тыквы!.. Если их потрясти, они будут трещать как погремушки! Тезей, чего мы ждем?!
Прежде, в Элевсине, Аминтор заговорил бы первым; а теперь вот стоял и молчал. Молчал, — но черные брови его сошлись над орлиным носом, и пальцы шарили по поясу, где должен быть кинжал.
— Тезей, как этот человек презирает нас! — только это и сказал он.
Я кивнул.
— Да, — говорю, — он никогда не принимал нас всерьез.
— Каждый мужчина, если он не баба, имеет право на месть. Если бы он сделал это, зная что в Бычьем Дворе спрятано оружие, — я бы не стал его любить больше прежнего, но и не думал бы о нем хуже. Однако всё, что он знает о нас, — всё только к чести нашей, — а он продал нас как козлов отпущения в неурожайный год… Клянусь Чернорогим Посейдоном, Тезей! — этого достаточно. За это он нам заплатит жизнью.
10
Поутру снова пришла наша старуха, принесла свои теплые растирания… Ночь я проспал как убитый, моя рана почти уже зажила и оказалась чуть глубже царапины. Я думал, мышцы порваны, а они были лишь ушиблены, так что теперь мне надо было только двигаться — больше ничего. Вечером пойду наверх в храм и выясню, знает ли Ариадна о смерти Миноса. Если они заперли вход к нему, то она ничего не сможет сделать, не раскрыв тайного хода… «Стоп, — думаю. — А что мы вообще можем?.. Она, или Пирим, или Алектрион, — и любой из нас в Бычьем Дворе, — что мы можем сделать? Любой, кто знает о смерти царя, должен быть обвинен в его убийстве. А каждый день нашего бездействия усиливает Астериона…»
Я слегка подвигался для разминки и почувствовал себя вполне сносно, но эта безвыходность, что ли, угнетала… Вокруг меня были Журавли, Фалестра, еще один капитан — Касий, из Ястребов, сын родосского пирата, попавший в плен, когда повесили его отца, — все рвались что-нибудь делать, как-то действовать… А я — ну ничего не мог. Стыдно было, что ведь ничего со мной не случилось, а я себя так скверно чувствую; хотелось хоть видимость бодрости изобразить для ребят — я даже этого не мог. По ту сторону двора Дельфины затеяли петушиный бой… Шум сверлил мне голову, я ни о чем больше не мечтал — лишь бы он только кончился… И наконец не выдержал — заорал:
— Пусть они прекратят этот гвалт! ! !
Наша добрая заботливая Феба спросила:
— Что с тобой? У тебя еще голова болит?
— Нет, — говорю, — это предупреждение. — На самом деле как раз в тот момент я понял наконец, в чем дело. — Это предупреждение, — говорю. — Земля скоро снова дрогнет. Думаю, что не очень сильно, но когда бог разгневан — шум ни к чему.
Они заговорили потихоньку; Касий поглядел на громадные потолочины и переступил ногами…
— Кажется, это будет не сильно, — говорю, — меня не давит, а только тревожит, — но все-таки пусть все угомонятся и отойдут от стен.
Нефела пошла к Дельфинам. Команда бегом кинулась к нам, бросила своих петухов, и они прыгали друг на друга, клевали и били шпорами в тишине; а потом вдруг затихли, растопырив крылья, и стояли так, растерянные и жалкие, будто бог и их предупредил. Голову мне давило всё сильнее, каждая мелочь раздражала, ноги стало покалывать… И тут подходит Актор, — ему, наверно, кто-то передал мои слова о предупреждении, — подходит и говорит:
— Что с тобой, Тезей? Если тебе еще нездоровится, так ложись в постель, не ставь Бычий Двор вверх ногами!
Я едва не ударил его:
— Отойди от колонны, — говорю.
Сказал тихо; невыносимо было голос повысить. Он, видно, собрался что-то ответить, даже рот раскрыл, — но в этот момент земля дрогнула и закачалась, и большой кусок лепки с вершины колонны разбился возле него в куски. На кухне загремела посуда, во дворце за воротами послышались крики, визг, молитвы… А вокруг нас плясуны взывали к сотне богов Бычьего Двора, чужестранцы пали ниц и закрывали головы руками, любовники прижались друг к другу; а Актор смотрел на меня выпучив глаза, и челюсть у него отвисла так, что можно было пересчитать все зубы.
А потом появился новый звук, едва заметный сначала. Я поднял руку, призывая к тишине, и тогда услыхал, что это такое. Из глубоких глубин доносился тот рев, о котором я слышал только рассказы, а его не слышал никогда: едва различимый, приглушенный, но чудовищный рев Земного Быка в тайной подземной пещере. Все остальные звуки замерли.
Потом земля успокоилась, и постепенно замер и этот рев. Голову мне отпустило, я мог уже говорить громко.
— Стойте! — говорю. — Пока бог здесь, мы принесем ему молитву нашу. — Я протянул руки вперед, ладонями к земле. — Сотрясатель Земли, Отец Быков, ты знаешь всех нас. Мы твои дети, телята твои, мы плясали здесь для тебя, ты слышал топот ног наших, ты пробовал вкус крови нашей в пыльном песке. Мы брали быков за рога, мы прыгали через них — и каждый раз рисковали жизнью своей, но никто не бежал, не старался спастись, жизнь любого из нас была в длани твоей. Твой гнев справедлив, здесь содеяно зло, но мы, дети твои, неповинны в нем. До сих пор наши жизни в руке твоей и нужна нам поддержка твоя — помоги!
Так я молился. Непосвященные думали, что я прошу его пощадить нас на арене. Но он знал, что я имел в виду; я прямо чувствовал, как слова мои уходят вглубь, — сквозь плиты Бычьего Двора, через подвалы под ними, сквозь обломки прежних Лабиринтов, сквозь нетронутую девственную землю и скалы под ней, — вниз, в священную пещеру, где темный Владыка стоит в своем бычьем обличье, длиннорогий, тяжелолобый, и огромные глаза его светятся как угли в ночной тьме.
В Доме Секиры всё стихло. В Бычьем Дворе народ долго стоял вокруг меня — смотрели на меня, перешептывались… Потом снова начались разговоры и игры, снова свели бойцовых петухов, прыгуны вернулись к деревянному быку, а я — я в конце концов последовал совету Актора и лег. Мне еще было не совсем хорошо и хотелось побыть одному; но лег — опять нехорошо, от постели едва не затошнило, на ногах всё же легче… Я поднялся, поглядел петушиный бой, сыграл в пять пальцев с Журавлями… Но голова болела по-прежнему, словно землетрясение не очистило ее от боли; и на душе было тяжко; и тело временами содрогалось с головы до пят — я уж подумал, не валит ли меня лихорадка… Ощупал свою рану — ничего: не горит, не саднит; и лоб прохладный, жара нет… Я с самого раннего детства ничем не болел, и уже не помнил как это бывает. Отравили меня, что ли? Но в Бычьем Дворе никого не кормили отдельно, мы ели из общего блюда… Не было боли ни в груди, ни в животе; и руки не дрожали; но какой-то ужас словно прилип ко мне, стягивая кожу, а перед глазами мельтешила карусель темных и светлых пятен.
Подошел ужин. Я возился с бараньей костью; делал вид, что ем. Что бы подумали все? — Тезей весь день не ест после вчерашнего дела на арене!.. Слуги-критяне убрали остатки пищи и принесли вино; плясуны, как обычно, болтали с ними, и я услышал краем уха, что говорят о празднике: нынче ночью весеннее полнолуние, и женщины будут плясать при факелах на крыше Лабиринта. Праздник… А мне было по-прежнему плохо. Это тень Миноса, наверно, давит на меня, жалуется на обиду. Изо всех людей на свете я был ближе всего к тому, чтобы стать его сыном; он хочет, чтобы я похоронил его и дал возможность душе перейти реку… «Потерпи, — думаю. — Потерпи, бедный царь, я не забыл!»
Разбавленное вино шло по кругу, за столом смеялись… А я злился на них — как они могут радоваться? Небо за высокими окнами порозовело от света факелов, раздались звуки свирелей и струн — музыка мешала мне; хотелось, чтоб она затихла… К столу подошел старик, что уже полсотни лет обслуживал стол Бычьего Двора, подошел за кувшинами из-под вина; Меланто спросила его, что говорят люди о смерти Геракла. Я заставил себя прислушаться. Он тихо ответил:
— Людям это не нравится. Вчера не понравилось, а сегодня и того пуще. Говорят, его чем-то подпоили, чтобы обманом выиграть пари. Никаких имен не называют, сами понимаете; только твое имя, Тезей; ты, мол, спас их ставки. Но сегодня говорят, что это дело не доведет до добра. Говорят, мол, Земной Бык не станет терпеть, чтобы ему крутили хвост, кто бы ни осмелился на это, будь он хоть величайший из людей на земле. До сих пор было два удара, большого вреда они не принесли, но люди считают, что это предзнаменование худших бед. А теперь вот еще и гавань.
Я не просто повернулся к нему — меня словно подбросило.
— Гавань?.. — спрашиваю. — А что там?
— Тебе не надо было вставать с постели, — говорит, — ты очень плохо выглядишь, Тезей.
— Гавань!.. Что там происходит?!.. — Меня вдруг охватило бешенство, я готов был схватить его за грудки и вытрясти ответ — и в то же время боялся, боялся его услышать.
— Успокойся, малыш! — говорит. — Да, здорово тебя вчера тряхнуло… Так сам-то я не видел, но гонец из Амниса прибежал, говорит что море там обмелело, осталось воды на полсажени, корабли все легли на дно посуху. Люди говорят — это к несчастью.
Бычий Двор пошел кругом перед глазами, потом стало совсем черно… по губам била, втискивалась чаша, старческий голос уговаривал: «Выпей, полегчает…» — а я стоял как истукан, ухватившись за стол, и ничего не видел. Потом на губах была медовая сладость пряного вина, а вокруг — лица, лица… с изумленными глазами, с раскрытыми ртами… я отшвырнул чашу и слышал, как она разбилась о плиты пола… меня держали со всех сторон, словно без этого я мог бы упасть, — а я чувствовал себя легким, словно пламя, мне чудилось, что череп мой расколот и из него струятся кверху языки голубого огня… я судорожно хватал ртом воздух, наконец наполнил грудь — и дикий вопль, будто волчий вой, заполнил Бычий Двор, забился меж высоких стен, и я вдруг понял, что это — мой голос!..
На меня надвинулись, навалились… лица, руки, кричали, хватали… я отбивался, ничего не видя вокруг, потом вдруг в глазах чуть прояснилось, — а кулак уже был занесен для удара, — и я увидел глаза, глядевшие на меня, и шрам на щеке — Хриза! Это Хриза схватила меня за плечи… Я уронил руку, она что-то говорила, а я слышал только дыхание свое, тяжкое, лихорадочное, и какой-то осколок сознания во мне заметил, что она еще подросла, уже с меня ростом!.. Потом я услышал ее наконец:
— Тезей, что с тобой! ? Скажи что-нибудь. Скажи, что с тобой, ведь ты же знаешь нас, узнаешь?.. Ведь мы Журавли, Тезей, мы хотим тебе только добра, посмотри — ведь это мы, твой народ!..
Я старался овладеть собой, я боролся с сумасшествием, хоть чувствовал, что эта борьба мне не по силам, я в клочья рвусь от напряжения… Но надо, надо! — ведь если не я, то их никто не спасет теперь… Надо!..
Борьба с тем бешеным быком была детской забавой по сравнению с этой борьбой; меня трясло всего, колотило… Душа, казалось, вырвется из тела и исчезнет во тьме, — но я кое-как одолел себя, одолел это безумие и почувствовал, что вот-вот смогу говорить. Но сначала взял руки Хризы в свои, ухватился за них изо всех сил, казалось, они меня держат… И прошептал:
— Хриза, позови Журавлей.
Вокруг раздались голоса: «Мы здесь! Посмотри, Тезей, мы здесь!» — но я смотрел только в ее глаза и не отпускал ее рук.
— Предупреждение! — я старался изо всех сил, но слово вылетело словно хрип умирающего — никто не понял.
— Что? — кричат.
— Замолчите! — Хриза говорила тихо. — Замолчите! Бог вошел в него.
Все стихли, и я попытался еще раз:
— Это предупреждение. Суровое, ужасное!.. Оно — как тень горы, я ощущал его и раньше сквозь те, что были перед этим. Посейдон идет, исполнен ярости мрачной и беспощадной, сокрушающей города!.. Мы ничего подобного не видели. Мы даже представить себе не можем, что будет. Еще не сразу. Но скоро… Бог приближается, я ощущаю поступь его.
Вокруг послышались испуганные голоса: но руки Хризы, крепкие и шершавые руки бычьей плясуньи, не похолодели, не дрогнули в моих руках, и голос ее был спокоен:
— Да, Тезей. Что мы должны делать?
До сих пор я только чувствовал предупреждение — чувствовал всем телом — и внутри меня полыхал ужас; я был словно горящий дом, в котором уже никого не осталось. Но голос Хризы был тих и спокоен, и в этом горящем доме от ее голоса появился кто-то, кто мог думать, и я сказал:
— Это здание рухнет. Если мы не вырвемся из него, мы все погибнем. — Зажмурил глаза, помотал головой, чтобы хоть чуть прояснить ее. — Где Фалестра? — спрашиваю.
— Я здесь, — говорит.
— Оружие!.. Ты должна вынести оружие.
— Посмотри, — говорит, — девушек уводят спать, большинство уже заперто, мы остались последними. — На самом деле слышен был мерзкий голос жрицы. — Двери запираются снаружи — как нам выбраться оттуда?
У меня закружилась голова, чуть не упал, но кто-то подхватил меня: Аминтор, четок и внимателен, как на арене…
— Где наши педерастики? — спрашиваю.
Мне было не по силам выбирать выражения, и они, наверно, это поняли: они должны были знать, что в здравом уме я ни за что на свете не оскорбил бы их. И они не обратили внимания на мою грубость, Иппий и Ирий.
— Мы здесь, Тезей. Мы знаем, что делать.
— Дайте девушкам время вооружиться, — говорю. — У вас есть что-нибудь, чем подкупить стражу?.. Фалестра, собери всех у двери — и будьте готовы к прорыву. Как только снаружи откроют — вперед. Времени не тратьте, если кто встанет на дороге — никаких уговоров, никакой возни — убивать на месте. Как только вы будете здесь, мы вместе пробьемся наружу. Торопитесь, быстрее, бог приближается!
Я замолк. Держать вепря на копье было легче, чем сейчас сдерживать безумие, что рвалось в меня, — и все-таки я услышал и изумился: жрица кричала нашим девушкам, чтобы немедленно шли спать, она, мол, их высечет розгами, если они тотчас не прекратят эту игру с парнями, а то ишь, мол, словно шлюхи тут…
Девчонки убежали, а голоса ребят колотили меня по ушам. Они спрашивали друг у друга, что я сказал, — ведь большинство из них слышали только первый мой крик, — спрашивали нестерпимо громко, все было нестерпимо громко, а Хриза ушла, и шум был пыткой… А предупреждение вздымалось, ревело, обрушивалось у меня в голове, будто прибойная волна, — и откатывалось, оставляя за собой кошмарную тишину, и в этой тишине слышалась поступь бога. Человек перед Бессмертными всегда ощущает священный ужас; и этот ужас побуждал меня, гнал меня — бежать!.. Бежать всё равно куда, лишь бы отсюда; бежать без памяти, без оглядки, спасать свою жизнь!.. Я удержал себя на месте, — но безумие жгло меня, я не мог дольше держать его в себе. И вот я оттолкнул Аминтора, вскочил на стол среди разбитых винных чаш и закричал.
— Посейдон идет! — кричу. — Посейдон идет! Я, Тезей, сын его, говорю вам… Священный бык убит, и Бык Земной проснулся! Дом Секиры рухнет! Дом рухнет!..
Началась паника. Люди носились вокруг, призывая своих богов — а кто любовников, — хватали свои драгоценности — или чужие, всё равно, — кто рвался бежать, кто пытался остановить бегущих — драки, свалка на полу… И крики. Крики пронзали мне голову, словно раскаленные копья. Они-то знали страх лишь с моих слов, а я его чувствовал!.. Я хлебнул воздуха и готов был закричать снова; но тут во мне словно зазвучал звонкий чистый голос, как поющая струна зазвучал, и заглушил окружающий гвалт и мое смятение: «Опомнись, не забывайся. Ведь ты мужчина, ты эллин!»
И в тот же миг я понял, что если кто и вырвется в Лабиринт без оружия — это верная гибель. Эта мысль смахнула меня со стола. Громадным прыжком я влетел в толпу, раскидал их, накричал на них, приказал ждать… Но и после того Бычий Двор продолжал гудеть от криков — и через внутреннюю дверь у женской половины вошли два охранника. Они наверно выпивали в карауле, ради праздника, и потому не сразу отреагировали на шум. Хотя, в Бычьем Дворе всегда было шумно, а их дело охранять дверь; что у нас творится, их не касалось вообще-то. И вот они стояли, глядя на нас, и спрашивали: что здесь все с ума посходили, что ли? Стояли небрежно, но в полном вооружении: щиты и копья в пять локтей.
Щиты и копья в пять локтей!.. Я почти пришел в себя, увидев их, но голова еще кружилась Пошел к ним, — однако Теламон был уже там; наш всегда спокойный, невозмутимый Теламон
— Парни пили после ужина, — говорит, — а кто-то по ошибке принес неразбавленного вина. Не обращайте внимания на эту бузу
Один из стражников сказал другому:
— С этим их тренер управится. Найди его, он должен быть на танце. — И повернулся уходить
И в этот момент послышался новый шум, — пронзительный многоголосый вой, будто стая диких кошек в лунную ночь — и в зал ворвалась толпа наших девчат. Они несли вороха оружия: кинжалы, луки, колчаны, укороченные копья… А впереди, с руками в крови по локти, мчался Ирий — в женской юбке и шарфе — и совершенно нагая Фалестра с луком и колчаном за спиной; а за ней, словно черный дым войны, клубились ее волосы на лету Девушки разделись для предстоящей схватки, остались лишь в своих костюмах для пляски; а в свалке, наверно, лопнуло то слабое звено в ее поясе, что мы специально делали, чтобы спастись от рогов, и она не обратила на это внимания: амазонки на поле боя не замечают таких мелочей.
Они ворвались в Бычий Двор, каждая со своим боевым кличем; вид у них был такой, что стражники бросили свои щиты и копья и кинулись бежать. С тем же успехом можно было бы бежать от гончих Артемиды: их вмиг настигли, и они исчезли в водовороте тонких девичьих рук. Засверкала остро отточенная бронза… Когда девушки оставили распростертые тела — груди у них были забрызганы кровью, и не только у амазонок.
Теперь парни с криками бросились к девушкам, хватали у них оружие, топтали не глядя убитых стражников… А я, — всё что осталось во мне от меня, — я был в бешенстве из-за той паники, которую сам же и вызвал. Я собирался подготовить наш прорыв как боевую операцию: спокойно, в полной тайне, с назначенным сроком выступления, с друзьями по ту сторону ворот, которые поддержали бы нас… Но людям не дано предвидение богов.
И теперь я стоял перед своим отрядом безумцев — и сам на грани помешательства — и ничего не соображал. Одно только я знал твердо: гнев божий собирается и нависает над нами, как сгущается воздух перед бурей… Но в глубине души моей была еще одна душа, свободная от безумия, и она словно бы со стороны шептала мне:
— Ты царь. Помни свою мойру. Не распускайся. Ты царь…
Я сжал рукой лоб. С закрытыми глазами молился Небесным Богам — Царю Зевсу, Аполлону Убийце Змей, — молился, чтобы вразумили меня, дали спасти мой народ… Потом открыл глаза и огляделся вокруг. Не то чтобы почувствовал себя много лучше, но вроде боги ответил и мне — я был уверен, что смогу сделать всё что надо.
Повернулся к толпе, крикнул чтоб замолчали… Голос теперь был снова моим, все обернулись ко мне и стихли. И снова издали, с северной террасы, донеслись звуки свирелей и струн — с тех пор как я закричал в первый раз, прошло оказывается совсем немного времени.
Я ходил среди своих людей, отбирал лишнее оружие и раздавал его тем, у кого ничего не было, — а сам в это время размышлял, куда нам податься. Все пути из Бычьего Двора в Лабиринт я знал, но теперь они нам были ни к чему: надо выходить на открытое место, за стены. И поскорее — голова прямо раскалывалась от страха… Был только один путь — большие наружные ворота Бычьего Двора. Мы никогда не видали их открытыми, казалось они уже сто лет стоят заперты. Никто не знал, охраняются они снаружи или нет; есть ли вообще стена по ту сторону, мы тоже не знали — замочной скважины не было… Надо было их высадить.
Чем?.. Скамьи и столы много легче ворот — долго придется колотить, будет много шума… А время уходило, бог был все ближе и ближе… И тут я увидел Дедалова Быка, его дубовую платформу на крепких колесах, его бронзовые рога.
Мы развернули его к воротам, облепили со всех сторон, уперлись плечами и погнали вперед. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее… Платформа ударила по створкам, они зашатались — и распахнулись настежь. Бык с грохотом выкатился наружу и мы очутились в портике с высокими колоннами, и в лунном свете были видны старые осыпавшиеся фрески… Бычий Двор, наверно, был когда-то залом государственных приемов. Давно, в прежние века.
А стражи снаружи не было.
Мы скатились по ступеням мимо высокой красной царской колонны; перед нами был заросший парк, а за ним — факелы и музыка. Теперь — когда мы были на улице — она оказалась очень громкой; и я понял, почему только стражники услышали наш шум. Мы мчались через парк как угорелые; и лишь когда три-четыре броска копейных уже отделяло нас от стен — лишь тогда вокруг меня раздались радостные крики моих Журавлей. Но я радости не испытывал, — ни радости, ни облегчения, — я был натянут сильней струны: бог, бог был рядом.
Мы остановились. Оружие никто не выпускал, оглядывались вокруг.
— А где все критяне? — спросил Аминтор. — Когда началось — в Бычьем Дворе были слуги…
Кто-то ответил:
— Слуги разбежались, я видел. А остальные, наверно, смотрят лунные женские пляски.
Меня словно ударило — забыл! На самом деле божественное безумие захватило меня без остатка, раз с тех пор, как оно началось, я ни разу не подумал о ней.
Запущенный парк дышал весенней свежестью… За нами сияла огнями бесчисленных ламп громада Лабиринта, а по небу над ним скользили облака; и казалось, что луна и звезды бегут по волнам, как корабли под ветром… А впереди — вершины кипарисов чеканкой лежали на красном зареве факелов, и под визг флейт и грохот барабанов и кимвалов пел многотысячный хор. Там впереди… Это было ужасно — ведь там в самом центре была дочь Миноса, Владычица Лабиринта. Ее маленькие ножки топтали в пляске разъяренную землю, она слышала дудки и лиры — но была глуха к голосу бога!.. Небо, — прекрасное небо с летящей луной, со всеми его звездами, — небо давило мне голову, будто могильный курган, а судороги ужаса пробивались из земли через сандалии и отдавались у меня в животе.
— Аминтор! — говорю. — Фалестра! Касий!.. Соберите всех вон в той роще. Спрячьтесь в кустах. И не двигайтесь — теперь уже скоро! Я тотчас вернусь, а вы — молитесь и ждите.
Они начали что-то спрашивать, новремени не было.
— Ждите!.. — И я помчался к факелам.
Толпа стояла ко мне спиной, так что никто не обратил на меня внимания. С трех сторон площадь окружали высокие деревянные трибуны; с четвертой она была открыта, но запружена стоявшими там людьми. Это были критские крестьяне. Их было немного, — вообще критян было мало, куда ни глянь, — но в тот момент мне об этом не думалось. Сквозь праздничный шум я услышал, как взлетели дворцовые голуби, как все дневные птицы снялись со своих насестов и с гомоном ринулись в ночное небо. Бог уже дышал мне в затылок, так близко, что я не боялся ни критян, ни эллинов, ни зверей — только его прихода.
Критяне пропустили меня. Они привыкли, что любой светловолосый расталкивает их. Некоторые меня узнали и изумленно кричали имя мое… Я пробился к парапету и вскочил на него, чтобы увидеть ее сверху.
Поднимался ветер, и тысячи факелов на высоких шестах бросали в стороны хвосты огня. Голова кружилась от густых запахов горящей смолы, цветов и пыли, благовоний и разгоряченных тел… Передо мной была обширная поверхность Дедалова Лабиринта: магический узор из белых и черных камней — безукоризненно гладкий, блестящий… А вокруг — украшенные колоннами трибуны, сверкавшие праздничными нарядами толпы; в руках у женщин — куклы, увешанные драгоценностями… На краю площади разместились музыканты: барабаны, кимвалы, кифары и египетские арфы, духовые — от авлоса до крошечных флейт из слоновой кости, чей звук трепещет, словно раздвоенный змеиный язык… Музыка визжала — ранила ту мертвенную тишину, в которой стоял рядом с нами разгневанный бог… А на середине Лабиринта по извилистой ломаной линии белого мрамора, сплетя руки, двигались женщины — живая гирлянда, — раскачивались их волосы, ожерелья и платья, изгибались в танце стройные тела, и весь хоровод был похож на змею, что меняет кожу: сворачивался, разворачивался, свивая голову с хвостом… Змея повернула и пошла в мою сторону — и я увидел ее лицо… радостное, сияющее, без тени страха или тревоги… Она вела танец.
Я увидел ее. Тело мое и душа, исхлестанные божьим гневом, загнанные едва не до смерти, — тело и душа стремились к ней: к ее груди, к ее теплым рукам… Хотелось спрятаться в них, как прячется ребенок у матери своей от страхов тьмы… Я прыгнул с парапета на клетчатую кладку площади — и в этот самый момент могучий голос бога крикнул мне: «Я здесь!»
Земля подо мной накренилась, содрогаясь и трескаясь, мраморные плиты встали дыбом; я споткнулся и упал на четвереньки… Вокруг — треск, грохот, рев, вопли, стоны… Пальцы судорожно ухватились за край вздыбленной плиты — плита раскачивалась взад-вперед, точно живая… А меня катало и швыряло вокруг нее, потому что каменная площадь Дедала вздымалась волнами, словно вода… А глубоко внизу, швыряя стонущую землю своими черными громадными рогами, ревел неистово Земной Бык. Громче всего остального был этот рев: громче криков ужаса, громче грохота падающих стен и колонн… Кто-то возле меня рыдал и кричал как роженица — это я кричал, я сам!.. Словно я был беременен этой ужасной катастрофой, и теперь она вырывалась из меня, раздирая тело мое, заливая меня потом агонии… Разбитый мрамор подо мной замер — я ухватился за него, едва дыша, дрожу… А вокруг — всё, что люди вознесли над землей, всё снова вернулось к ней, сокрушенное яростным богом. От разрушенных трибун неслись стоны и крики; из-под развалин Дворца — дикий вой собак и женщин, вопли детей, обезумевших от страха и боли, мужские голоса, зовущие на помощь, хруст и грохот еще державшихся и падающих камней…
И среди бури этого адского шума я лежал — и чувствовал, как в меня вливается странное блаженство. Чистое, пустое… Мое предчувствие покидало меня; гигантская рука бога отпустила меня, голова очищалась от безумия.
Я был избит, измучен — но я уже был человеком. Об меня спотыкались бегущие, вокруг рушился величайший из царских дворцов — а я дышал с облегчением и едва не засыпал.
Поднял голову… Ветер швырнул в глаза пыль и песок… Мимо меня с криком пробежала женщина, платье на ней горело… Я увидел ее — и вспомнил, зачем я здесь. Поднялся на ноги… Всё болело, — словно бык истоптал на арене, — но голова была ясной и не кружилась.
Огляделся — площадь для танцев была похожа на морской берег, куда выбросило обломки разбитого флота. Факелы, словно пьяные, цеплялись еще за свои шесты либо догорали, оплывая, на земле; на вздыбленных плитах площади чего только не было: обрывки гирлянд и растоптанные арфы, туфли, шарфы, окровавленные веера, поломанные куклы и испражнения перепуганных людей… Рухнувшие трибуны загорелись от упавших факелов; оттуда неслись крики и проклятия, раздавался треск дерева… А на середине площади, — словно стая ярких птиц, сбитая грозой в кучу, — на середине площади были танцовщицы.
Я бросился к ним, едва выбирая дорогу сквозь обломки и всеобщую свалку. Иные из них стояли на коленях и били себя в грудь, иные вопили, раскачиваясь, закрыв лицо или воздев руки, призывали своих родных… Но среди них одна стояла молча, оглядываясь вокруг безумными яркими глазами, — это была она. Это была моя — и она искала меня взглядом; она знала, что я должен прийти за ней, знала наперекор здравому смыслу, наперекор всему.
Я подхватил ее на руки. Она обхватила меня, уткнулась лицом мне в шею, и сердце ее стучало мне в грудь сквозь судорожное дыхание… Я побежал с ней прочь с площади — через вопящих распростертых людей, через шипящие факелы, по растоптанным цветам… Обо что-то спотыкался, на чем-то скользил, потом в парке нас рвали шипы розовых кустов… Но вот мы очутились на мягкой лужайке, заросшей яркими весенними цветами, — я спустил ее на траву.
У меня и в мыслях ничего такого не было, — я хотел только спасти ее, — но когда всемогущие боги нисходят на землю, то люди — как соломинка в потоке. И мы узнали в тот раз, что это значит, когда говорят, что Сотрясатель Земли — муж Великой Матери. Какой-то миг мы просто лежали рядом, потрясенные, изумленные, не могли наглядеться, не могли отдышаться… Какой-то миг. А потом — потом бросились друг на друга, как леопарды, что паруются по весне.
Эта страсть, вдохновленная богом, была целебной. Гнев Посейдона прошел по земле, словно заступ садовника, возбудив ее, освежив; и теперь, влажная и ароматная, она превратилась в сладостное ложе; и мы лежали на этой земле и впитывали силы из груди Великой Матери. Наверно, не очень долго лежали, хоть точно я не знал. Потом с трудом поднялись на ноги… Она посмотрела на меня ошеломленно, глаза налились слезами:
— Отец!
— Он умер, — сказал я. — Умер легкой быстрой смертью. — Она была настолько оглушена, что даже не спросила, откуда я это знаю. — Сейчас некогда оплакивать его, ласточка, тебе придется это отложить. Меня ждет мой народ — пойдем!
Мы отряхнули с себя землю, и я повел ее за руку. Когда выходили из парка, едва не споткнулись об пару, лежавшую так же, как только что мы; они нас не заметили. А выйдя из-под деревьев — увидели Лабиринт; увидели, что сотворил с ним бог.
Там, где высились друг над другом ярусы крыш, — возносили к небу гордые рога, — теперь там на фоне неба чернела изломанная линия, словно нагромождение скал в горах. Колоннады были обрушены полностью; окна, что совсем недавно сияли мягким светом ламп, теперь чернели пустыми глазницами или мерцали мрачным отблеском одичавшего огня… Сквозь разбитые портики, сквозь арки рухнувших балконов видно было, как растекается по полам горящее масло из опрокинутых ламп, как огонь взлетает ввысь по занавесям и портьерам, гложет дерево кроватей, стульев, обвалившихся стропил… Сильный ветер раздувал пламя, и уже слышен был рев того пожара, который будет не потушить.
Мимо нас с воплями пробежали несколько женщин; одна из них несла на руках маленькую Федру. Ариадна окликнула, но они не заметили нас и умчались… А я торопился туда, где оставил своих плясунов.
Они все были на месте; некоторые еще продолжали молиться богу, как я сказал им. Увидели нас — кинулись навстречу… В роще стало уже светло от пожара, и я видел, как из цветущих зарослей, пошатываясь, выходят те, кого поразила страстью Мать Богов… Люди передавали друг другу, что я здесь, подбегали ко мне, хватались за меня; Аминтор даже обнял — в тот момент всё это было естественно. Во время землетрясения никто не пострадал, разве что несколько ссадин было у тех, кого толчки сбили с ног. Все собрались вокруг, и я сказал:
— Бог услышал наши молитвы. Сейчас мы двинемся в Амнис, захватим там корабль и — как только стихнет буря — уйдем на нем прочь отсюда. Но прежде — поглядите все сюда! С нами Владычица, дочь Миноса, гнев Посейдона не затронул ее. Она будет моей женой, и вы должны помочь мне заботиться о ней. Посмотрите на нее хорошенько и запомните ее. Вот она!
Я вскинул ее себе на плечо — в Бычьем Дворе этому не мудрено было научиться… Мне хотелось быть уверенным, что они будут знать ее в лицо. Чтобы она не потерялась где-нибудь в суматохе, чтобы кто-нибудь не изнасиловал ее — ведь время наступило дикое… И вот я держал ее над головой, как держат знамя перед войском, — чтоб смотрели и запоминали.
Раздались приветственные клики — и я изумился сперва, что небольшая горстка людей может поднять такой шум. А потом разглядел: сколь хватало глаз в поднимающемся зареве пожаров, лужайки и дорожки парка вокруг нас были черны от критян. Они толпами карабкались вверх по склонам с открытой равнины, на которой спасались от гнева Посейдона. Слуги в Бычьем Дворе слышали мое предупреждение и разбежались, чтобы предупредить своих друзей. По всему Дворцу критяне передавали друг другу эту весть — и они бросали свои лампы, горшки, метелки, кувшины и подносы… Бросали и бежали из Дворца. Они относились к богам не так легкомысленно, как придворные в Лабиринте.
Они бежали — и остались живы. И теперь перед ними лежал в руинах тот гордый дом Миносов, где на их долю приходился лишь тяжкий труд и презрение господ; они видели сорванные двери, разбитые сундуки и шкафы, из которых выплескивались драгоценные ткани, опрокинутые кувшины и блюда с пиршественных столов, драгоценные кубки и ритоны, что они лишь наполняли и разносили — и всегда для других… И вот они подкрадывались поближе, собираясь стать наследниками Лабиринта; и как раз в тот момент, как подошли они к верхней террасе, я поднял перед ними Богиню-на-Земле.
Она для них олицетворяла всё то добро, что сделал им царь Минос, отвечая на их жалобы; все те добрые предсказания, что окрашивали их тяжкую участь таинством надежды, — маленькая критская богиня, которой стыдилась ее высокая светловолосая мать. Она принадлежала им, была их долей в сокровищнице Лабиринта; она была душой и сердцем их древней религии, воплощала в себе Великую Мать, которая прижимает людей к своей груди и утешает их, как утешают женщины побитых детей, когда у мужа пройдет припадок гнева… Она была Трижды Святая, Чистейшая, Хранительница Танца… Глядя на нее, они вспоминали и святотатство, совершенное перед нею на арене, — то святотатство, что разбудило Земного Быка, — и толпа вокруг ревела, будто море. Они видели, кто держит ее, и вспоминали всё, что было: кольцо в гавани, предупреждение, спасшее их от смерти… И вот некоторые затянули свадебную песню — с гиканьем, с пляской, — но большинство потрясало кулаками в сторону Лабиринта, над головами мелькали палки и ножи; толпа напирала вперед, увлекая нас за собой, и чей-то голос прокричал: «Смерть Минотавру!», и тысячным эхом отдалось: «Смерть!..».
Аминтор и Теламон встали рядом со мной, по бокам, скрестили руки у меня на спине, — теперь мы втроем несли Владычицу. Опустить ее на землю было опасно: слишком страшная была давка вокруг… Вспомнив рухнувшие трибуны вокруг площади танца, я подумал, что Астерион уже мертв, — десять к одному, что мертв! — и был зол из-за этой задержки, пытался найти способ убраться оттуда и увести своих людей… Но как огонь из ламп растекался по полам Дворца — так перекинулось пламя с критян на бычьих плясунов вокруг меня. Нежданно-негаданно и я ощутил это: почувствовал, что искра этого пламени попала и в мою душу — и разгорелась яростью.
Мы вспомнили дома свои, родителей наших, рыдавших, когда уводили нас… Иные из нас любили, иные были помолвлены, у кого было любимое ремесло, у кого земля, кто мечтал о подвигах и славе… От всего этого оторвали нас, оторвали от родных мест, родных людей и обычаев — чтобы мы умирали здесь на потеху раскрашенного Лабиринта. Мы вспоминали высокомерных послов, приезжавших за данью и оскорблявших наш народ… А те из нас, что стали уже плясунами до мозга костей, — те прежде всего вспоминали, как торговал Астерион нашей доблестью и кровью. Боги недорого стоили в Доме Секиры, но мы пришли из таких мест, где к ним относились с почтением; хоть мы были рабами, но мы были горды… Телята Посейдона не мирились с тем, чтобы кто-либо из смертных считал их своим собственным скотом.
Над криками толпы критян взвился резкий боевой клич амазонок… Рядом со мной, возле самого уха, Аминтор и Менестий вопили, как когда-то на Истме, как при штурме Суния: «Арес-Эниалий! Хе-йа-йа-Эниалий! Хе-йа-Тезей! Тезей!..». И я тоже запрокинул голову и бросил ввысь свой боевой клич.
Мы двигались теперь быстрее. «Как я нырял тогда в гавани, ползал в грязи, рылся в корабельном мусоре, искал то проклятое кольцо!.. Я оскорбил его как воин, а он — он купил меня, словно лошадь!.. И показывал на пирах своим гостям, будто дрессированную собаку, петь заставил… Нет, пусть только попробует умереть до моего прихода!.. Погоди, Минотавр, погоди… Дождись того паренька с материка в кожаных штанах, безумного плясуна, годного лишь на акробатические трюки и ни на что больше!.. Арес-Воитель, Отец Посейдон, сохраните его для меня!» — так думал я на бегу.
Ариадна держалась за мои волосы. Потом нам попались на пути носилки, — аристократы приехали на них танец смотреть, — мы усадили ее на одни, и критяне подхватили их. Когда она поднялась над толпой, я оглянулся на нее: не испугалась ли. Но нет, она подалась вперед, ухватившись за подлокотники кресла, и губы были полуоткрыты, словно пила встречный ветер.
Впереди ревело, словно бурлил весенний паводок когда снег тает в горах, но поток рвался вверх, поток был огненный — это пожар добрался до маслохранилища. Ветер сбивал языки пламени, сносил их к северу, и этот гигантский факел осветил Дом Секиры пуще яркого дня. Стало видно, что часть Дворца уцелела: западное крыло, где главная лестница вела вниз к подземному храму и к белому трону Миноса. Если он жив — он там!
Меня подняли на другие носилки и несли на плечах. Я приказал развернуть носилки задом наперед — высокая спинка кресла превратилась в поручни, и можно было стоять, как на колеснице. Так я был виден, и плясуны не теряли меня, а Журавли держались рядом, вплотную. Я ехал, словно на корабле по бурному морю, и критяне вокруг ликовали. Для них я был Тезей-прыгун, которого полюбила Владычица; фаворит, на кого они ставили и выигрывали… А для себя я снова был в тот час Дитя Посейдона, Керкион Элевсинский, Тезей сын Эгея сына Пандиона, Пастырь Афин — и я ехал навстречу своему врагу. «Эхей! Эхей!» — я кричал, как кричишь в атаке, ведя за собой войска, и мне отвечали боевые клики, и кровь во мне бурлила и пела.
Мы были уже совсем близко, уже чувствовалось горячее дыхание огня, — и я подумал о Миносе, которому сам бог воздвиг погребальный курган и зажег костер. Минос посылал галеры за данью. Его печать скрепляла требования Крита к городам материка: столько-то хлеба и вина, столько-то жеребых кобыл, столько-то бычьих плясунов… Если бы наши нити пересеклись на поле битвы — я бы выпустил душу из груди его. Но царь есть царь: его дело управлять, и расширять свои владения, и обеспечивать воинов добычей, и кормить народ… Зато он приветствовал меня, как подобает мне по званию и роду моему, хоть я был раб. Астерион озолотил меня, он ставил передо мной вино и лучшее мясо под звуки музыки на пирах своих — но унижал, пытался отнять единственное, что было у меня, — мою гордость… А за это можно заплатить только кровью, каждый это знает, будь он хоть наполовину мужчина.
Мы подошли с восточной стороны и увидели место, где не было пожара. Это был наш Бычий Двор. Упавшая кровля загасила лампы, а стены стояли, и одна колонна из двух — тоже, и Бык Дедала держался на своих крепких ногах, заваленный цветной штукатуркой по самые копыта. Я приказал опустить меня и повел людей за собой.
Мы перелезли через упавшие потолочные балки, через рухнувшие внутренние двери… В коридоре за ними лежал пол верхнего этажа: поломанные стулья, баночки с женским гримом, труп ребенка, свернувшийся вокруг игрушки… Над нами пролетали по ветру искры, воздух дрожал от жара… Критяне рассеялись по Дворцу, кинулись грабить, — но бычьи плясуны бежали за мной следом, все, общность была у нас в крови.
Вскоре мы оказались на широкой площади, заваленной обломками. Это был Большой Зал, тот самый, где аристократы и послы прохаживались по гладким прохладным плитам пола среди кадушек с цветущими лимонами, среди ваз с лилиями… Три его стены обрушились, южная — до самого основания; с востока за упавшей стеной повисли, перекосившись, полы жилых этажей, их лизало пламя; а западное крыло — держалось. Рухнул один из его балконов, но ярко-красные колонны подпиравшие его, сохранились, и теперь резные цветы капителей голо торчали на фоне стены… А над громадной царской колонной высокого портика сохранился и парапет над лестницей, и там наверху я увидел воинов при оружии.
Я хотел было крикнуть атаку, но рядом раздался стон. Хоть воздух звенел от криков людей, заваленных обломками, но этот стон я услышал: совсем рядом было. Груда камней шевельнулась и позвала меня по имени
Это был Алектрион. Его черные локоны были белы от пыли, рот разорван кусками штукатурки — он был как те куклы из раскрашенной глины, что критские дамы украшают по весне и что сейчас валялись на площади танца: разбитые, растоптанные… Одна его рука безжизненно лежала рядом с ним, словно сама по себе, а другая с дрожью двигалась по громадной колонне, лежавшей у него на животе. Из-под колонны торчал обрывок одежды — желтый шелк, вышитый павлинами, это когда-то было, — а теперь ткань была насквозь красной. Два критянина уже подзуживали друг друга снимать с него драгоценности.
Я отогнал их и опустился возле него на колени, не упуская из виду воинов наверху; те уже заметили нас… А он взял меня за плечо перепачканной своей рукой…
— Тезей, — говорит, — не оставляй меня огню!
Я посмотрел на огромную колонну, потом ему в глаза. Мы понимали друг друга. Я смахнул с его груди камни и мусор; он был так тонок, что сердце легко было увидеть, хоть оно едва билось.
— Будет быстро, — сказал я. — Пусть Провожатые примут тебя с миром. Закрой глаза.
Он взял меня за руку и напрягся, вроде хотел еще что-то сказать. Я ждал. Он мотнул головой в сторону западного крыла, с хрипом выдохнул: «Минотавр…» — и закрыл глаза, как я сказал. Он грыз себе губы от боли, и я постарался избавить его. Он резко дернулся и умер, а я отвернулся — слишком много дел ждало меня впереди — и так никогда и не узнал, кому достались его ожерелье и серьги.
Закрываясь щитами от камней, что швыряли критяне, по лестнице спускались люди. Из этой группы шагнул вперед Фотий, тот с боксерским носом, и, стоя перед царской колонной, закричал на критском:
— Успокойтесь, люди добрые! Вы должны оплакать своего царя — Минос погиб при землетрясении. Чем он согрешил против бога и вызвал месть его — это вам скажут, когда придет время. Но сперва надо помазать на царство нового Миноса, чтобы было кому примирить нас с Сотрясателем Земли и отвратить от нас гнев его. Время слишком ужасно, чтобы устраивать празднества, как подобало бы, но сейчас, пока я говорю с вами, в храме идет священный обряд.
Раздались протестующие крики, свист, — но Фотий был не из тех, кого легко смутить. Он вскинул руку, ладонью наружу, — а он привык командовать, — и этот жест дышал силой.
— Берегитесь! — кричит. — С ним сейчас Мать Богов! Мужчинам, не прошедшим очищение, нельзя приближаться к храму, это святотатство!.. Мало вам сегодняшних несчастий? Отойдите, чтоб не навлечь проклятия!
Критяне попятились. Они не были воины, и у них были веские причины бояться богов… И тут, в тишине, высокий чистый голос словно пропел через весь зал:
— Фотий!.. Кто ты такой, чтобы проклинать именем Матери?!
Она стояла на платформе носилок перед креслом, подняв правую руку, и отблески пламени полыхали на том самом платье, в котором она вела танец. Фотий окаменел, люди его переглядывались… Даже я смотрел на нее в священном ужасе. Никогда прежде мне не доводилось слышать ее голос жрицы — а от него бросало в дрожь, право слово.
А она продолжала, указывая на храм:
— Там — проклятие Лабиринта! Я призываю в свидетели всех богов — он убил Миноса! В священном месте перед Матерью стоит убийца, не омывший с себя крови жертвы своей, — и ты говоришь о святотатстве?!..
Вокруг все смолкли, и тишина казалась мертвой, несмотря на шум и треск огня. А она протянула руки над землей и закричала:
— Да проклянут его Великая Мать и все подземные боги!.. Да затравят его Дочери Ночи и да загонят его в царство мертвых!.. И да будет благословенна та рука, которая прольет кровь его! ! !
Тишина взорвалась ревом, критяне бросились вперед. Это было здорово, я был с ними, — ведь воин никогда не забывает о бое, — но на душе стало тревожно, и мысли путались. «Она не знает, кто ударил Миноса. Что, если ее проклятие падет на меня?.. Нет, Минос сам освободил меня от вины… Но если бы она говорила по велению кого-то из богов — она бы знала, кто убил его, ведь боги знают!..» Тут мне стало полегче. Правда, Астерион — сын ее матери, но нет на свете более правого дела, чем отомстить за отца; так что можно лишь хвалить ее за то, что хочет увидеть кровь его…
Критяне снова швыряли камни и наступали. За спиной у нас был огонь, впереди — неприятель… Я вскочил на какой-то обломок, где меня было видно, и бросил клич бычьей арены, тот что означал: «Все на быка!»
Мне ответил мальчишечий голос: это Фалестра забралась на груду камней, и ее сильное тело сверкало в свете пожара словно золото… Она потянулась назад за плечо к колчану, наложила стрелу на тетиву — тетива запела, и Фотий пал.
«Молодец!» — я крикнул и повернулся к ней с улыбкой, но она меня не видела; она падала на колени, опрокидываясь назад, и из-под груди ее торчал дротик. Упала, и ярко пылала кровь из раны ее, а дыхание захлебнулось хрипом… Рыжеволосая амазонка, что сражалась по левую руку от нее, с воплем упала рядом на колени, но Фалестра оттолкнула ее, — чтобы подняться, опершись на локоть, — потом внимательно оглядела линию воинов напротив и показала человека, метнувшего дротик. Рыжая вскочила на ноги… Под пылающим небом в глазах ее, казалось, блестели огненные слезы; она смахнула их и замерла, целясь… Тот человек схватился за горло: стрела торчала меж его пальцев.
Тогда она обернулась, но Фалестра была уже недвижна; остановился взгляд ее, и черные волосы рассыпались среди обломков раскрашенной вазы…
Рыжая девушка закричала так, что заглушила весь шум горящего Лабиринта, — закричала и кинулась навстречу копьям. Я бросил свой боевой клич и прыгнул вперед, в обгон. Мне нравился ее порыв, но я не собирался позволить женщине напасть на врага раньше меня.
Бычьи плясуны с воем неслись через груды развалин. Ноги наши были тренированы на грубом песке арены, а оружие в руках — это было роскошно, это было как пиршество после голода, ведь мы привыкли играть со смертью безоружными! Солдаты на лестнице имели щиты и копья; но у критских быков рога длинные, и лбы у них покрепче, чем шлемы с пластинками… Мы привыкли к неравным поединкам — в них была наша жизнь.
К тому же они еще метали дротики. Наши для этого не годились — укорочены были, чтобы протащить в Бычий Двор… Аминтор был рядом. Мы с ним улыбнулись друг другу, как улыбаешься в бою родному человеку, про которого знаешь каждую мысль его… Выбрали каждый по одному из врагов, подождали, пока камень, летящий сверху, заставит того поднять щит, тогда бросились вперед, под их щиты, обхватили их поперек тулова — и оба двинулись дальше со щитом и копьем в пять локтей.
Мы наступали вверх по широкой лестнице. Неподалеку от меня была и та рыжая амазонка, в шлеме Фотия и с его оружием. Стражники сомкнули свои щиты в сплошную стенку, но мы теснили их всё дальше и дальше; мимо расписного фриза, где благородные юноши приносят дары Миносу, и еще дальше, и вверх к Верхнему Залу… Некоторые из них спотыкались, пытаясь нащупать ступеньку позади себя, и попадали нам в руки… Лестница стала скользкой, но зато мы получали их оружие. Потом их задние ряды начали таять. Я поднял крик, чтобы устрашить остальных, — и вдруг они исчезли, все, будто вода из сточной трубы, растеклись в темноте… Они отступили, чтобы закрепиться в узком проходе, но в тот момент мы увидели только их бегство. Загремел наш победный клич, и в общем хоре раздался голос, который заставил меня обернуться. Это была Ариадна, — ликующие критяне несли ее наверх, — растрепанная, с безумно расширенными глазами… Она призывала нас убивать дальше.
Когда мы штурмовали лестницу, я часто оглядывался на рыжую амазонку — а у нее копейная рука уже была залита кровью из свежей раны — и пытался отогнать от себя неприятную мысль. Такое безумие боя — для девушки-воина оно естественно и уважения достойно: ведь она делит с тобой все опасности, проливает кровь свою, как и ты, жизнью своей рискует… У меня был когда-то такой товарищ, и никто лучше меня не знает, как он помогает в битве, как освещает всё вокруг себя будто факел негасимый… Но когда такое безумие охватывает домашнюю женщину, с мягкими руками, чьи крашеные ступни редко касались земли, — тогда это совсем другое дело.
«Ладно, — сказал я себе, — ей причинили зло, и еще худшее зло ждало ее впереди, она имеет право на месть. И вообще, не время размышлять, надо действовать…»
На верху лестницы был небольшой зал, а за ним — двери; и через них — с лестничной площадки, открытой небу, — проникал свет. Пока они обороняли наружные ступени, те, про кого я думал, что бежали, — те строили баррикаду из упавших камней, сундуков и тому подобной тяжелой всячины. Эта баррикада могла продержаться долго; а они кричали нам из-за нее, чтоб мы убирались вон и дали Миносу спокойно докончить его священную миссию.
— Священная миссия! — сказал я Аминтору. — Лишь одного еще хотят от него боги. Если бы он был хоть капельку царем — сам бы отдал, не позволил бы нам взять силой.
Так-то оно так, но нам надо было что-то делать. Я поглядел за баррикаду на ту лестницу, вспомнил, как там что внизу расположено, — и придумал.
— Касий, — говорю, — атакуй баррикаду. Дави их изо всех сил, чтоб у них и мысли не возникло, что ты только тянешь время. Я знаю еще одну дорогу туда, если только она не завалена. Если пройду — вы услышите мой боевой клич. — Я отыскал глазами Владычицу — критяне надежно охраняли ее, она была в безопасности… Потом собрал вокруг себя Журавлей: — За мной, ребята!
Я повел их обратно вниз по лестнице и через внутренний дворик к северному зданию, за которым находился Бычий Двор. Там была масса кладовок, кухонь и подсобных помещений; и среди них — та старая ламповая с люком в подвалы. Фасад здания рухнул, и верхние этажи уже горели; но внизу стены и колонны были мощны, и на уровне земли можно было проникнуть внутрь. По чести сказать, мне это совсем не нравилось: великая ярость Посейдона могла сделать меня глухим к менее ясному предупреждению, а всё это хозяйство, казалось, готово было обвалиться, стоит лишь чихнуть… Потому, прежде чем войти, я помолился ему — попросил дать знак, если гнев его еще не прошел. Но ничего не шелохнулось, только огонь шумел у нас над головами — и мы пошли.
Ламповая сохранилась. Только полки упали, и разбитые лампы валялись на полу. Там были и побитые амфоры с маслом, и мы переглянулись — огонь мог отрезать нам обратный путь… Но внизу были могучие колонны критских Миносов, они уже выдержали два великих землетрясения… Я решил, что попробовать стоит, — и Журавли мне поверили.
Внизу была непроглядная тьма. Но в двух лампах еще сохранилось масло, фитили мы сделали из своей одежды, а огнива нам не требовалось — огня вокруг хватало. Оказалось, что секретный шнур все так же привязан к своей колонне; я взял его в одну руку, лампу — в другую и пошел впереди.
Там тоже были перемены. Нам приходилось спотыкаться об упавшие полки и черепки амфор, брести по лужам вина и масла, скользить по чечевице и кунжуту… Проходя через склад старого оружия, мы увидели за ним свет факелов, услышали крики и шум побоища — там люди дрались словно звери… Я догадался, что в тех подвалах была сокровищница Лабиринта. Но Журавли держались рядом со мной, молчаливые, надежные… У нас была одна общая цель, и та зараза нас не коснулась.
Наконец мы добрались до Хранителя. Из опоры над ним выпало несколько больших камней, а сам он немножко поднялся из земли; теперь стали видны его скулы и прекрасные крепкие зубы — он был наверно молод… Журавли вздрогнули, но для меня он был старым приятелем, и я не видел никакой угрозы в его ухмылке. Вот опора его — ее я на самом деле боялся. Я прижал палец к губам — и мы прошли мимо нее мягко и бесшумно, как кошки.
Но вот впереди показалась дверь наверх, а под нею светлая полоска… Мы тихонько поднялись по ступеням, я прижал к двери ухо — изнутри доносились песнопения.
Уже нажимая на дверь, я всё еще боялся, что она окажется заклинена из-за перекоса и мы не сможем открыть ее тихо. Но она открылась, открылась совершенно беззвучно, петли были в масле с моего последнего прихода… Сжав в руках оружие, мы скользнули внутрь. Передняя была смутно освещена, — мерцали отблески дальних огней, — мы крадучись пересекли ее, а дальше открывалась большая лестница, вся темно-красная в свете горящего неба… Но внизу под лестницей горели лампы, и с дымом пожара смешивались клубы ладана. Я знаком приказал молчать и стал приглядываться, что там происходит.
Священный обряд продирался из всеобщего страха и хаоса: жрецы и жрицы в мирском платье, с какой-нибудь тряпкой, обозначавшей их священное облачение; лампы из простой глины на драгоценных подставках, резная курильница в руках чумазого мальчишки, брошенные вазы бесценной работы, — из трещин течет, вокруг лужи, — а рядом священные масла в кухонных горшках… Белый трон Миносов с грифонами по бокам был пуст; чумазая толпа смотрела в другую сторону, на врытый в землю дворик. Вокруг него стояли бледные от страха прорицатели; их златотканые хитоны были измазаны и изорваны, и выглядели они — словно паяцы, что нарядились в обноски богачей, купленные у лакеев. Их заклинания дрожали, словно мольбы нищих; и всё помещение было заполнено противным гнусавым гулом, который смешивался с кашлем, когда поднятый ветром пепел попадал им в горло…
Внизу в том дворике стоял человек, обнаженный до шеи, грузный, толстоногий, заросший черной шерстью на груди, в паху и на ногах, — стоял, расставив ноги, перед священной Лабрис. Торс его блестел от елея — дрожащие старики, мужчина и женщина, мазали его наполовину парализованными руками… От шеи книзу он был человек, грубый и мерзкий; кверху — зверь, благородный и прекрасный: спокойная и величественная, с длинными рогами, с кудрявым лбом, блестящая бычья маска Дедала смотрела на всю эту суматоху серьезными хрустальными глазами.
Сквозь пение был слышен шум схватки, приглушенный стенами: стук камней, звон оружия, крики мужчин, вопли амазонок… Бой наверху продолжался, — наши друзья нас не подвели, — теперь пришло и наше время. С резким боевым кличем я выскочил из темноты и ворвался в толпу.
Священнослужители с визгом бросились врассыпную; у лестницы началась давка, старики и старухи сбивали друг друга с ног, а те, кто был моложе и сильнее, бежали вверх прямо по их телам… Сверху снаружи донеслись испуганные крики оборонявшихся — они услышали, что их обошли с тыла… Несколько обезумевших стражников, располагавшихся возле самого Тронного Зала, в беспорядке вбежали внутрь — я решил, что Журавли с ними управятся. А у меня — у меня было свое дело.
Он стоял в нише напротив высокой стены, что держала над ямой верхнюю площадку лестницы. Яма была настолько глубока, что выбраться оттуда он мог только по этой лестнице, а я стоял наверху и кричал его имя. Я хотел, чтобы он узнал меня. Золотая маска повернулась, мне в лицо глянули ее изогнутые глаза… Этот царственный взгляд придавал величие даже тому, что было спрятано за ним; завороженный этим взглядом, я поднял руку — и отдал ему тот салют, каким приветствует быка капитан команды. И спрыгнул к нему вниз.
Какой-то момент он стоял так же неподвижно, потом рука его выстрелила вперед — и будто черная молния сверкнула вокруг него: он схватил с ее подставки Мать Лабрис, Поедательницу Царей, древнюю защитницу рода. На лестнице над ним завизжала жрица…
Он не признавал во мне воина, потому я был готов убить его безоружного; убить, как дикого зверя… Но раз будет бой — тем лучше! Я плясал вокруг него с обманными выпадами копьем, а он ждал, пригнувшись, топор на плече… И мне было как-то странно, дико было, что мы вооружены. Вот рога его — это нормально, и мне надо бы ухватить их и прыгнуть, чтобы игроки вокруг выкрикивали ставки и кричал бы народ на крашеных трибунах… Старики — жрец и жрица — выползли наружу, и теперь небольшое пространство было свободно. Я хотел кончить с ним поскорее и сделал уже настоящий выпад, но страх и ему придал быстроты — каменное лезвие обрушилось на древко моего копья, в пяди от наконечника, и копье надломилось, будто травинка, по которой стегнули прутом. И мы остались вдвоем в нашей маленькой бычьей яме, как в дни древних жертвоприношений: вооруженный зверь и безоружный человек.
Он приближался, поднимая топор для удара, и я слышал его мрачное ворчание внутри маски. Мясистые плечи его были мощны, а наверху, в Тронном Зале, кипела битва, и помощи оттуда быть не могло. Он обошел меня, отрезал от лестницы, отжал назад к той самой стене, у которой сам стоял сначала… Дальше мне некуда было отступать, нечего было делать — и в этот миг тело само за меня подумало, как это бывало на арене: когда секира полетела мне в голову, я камнем пал на землю. Удар пришелся по стене, а я ухватил его за ногу и рванул.
Пол земляного дворика был утрамбован в камень, упал он тяжело. Золотая маска глухо зазвенела, ударившись о землю, и увидев ее сбоку — когда хватал его — я понял, что ему теперь придется драться вслепую. Топор еще был у него в руках, но теперь он не мог размахнуться; перехватившись, он бил меня, как бил бы камнем, пока мы с ним катались по земле, но я задерживал его руку, так что эти удары большого вреда не причиняли. А я думал: «Лабрис ни за что не станет сражаться за него…» Она была стара, привыкла к почтению, ее лишь недавно кормили царем… Она не могла позволить обращаться с собой так небрежно.
И я был прав. Если бы он отпустил ее и боролся бы двумя руками — у него был бы шанс. Он был вдвое массивней меня и не измотался так, как я в тот бесконечно длинный и трудный день; но он не был борцом, хотя критяне вообще хорошо знают это дело, — он никак не мог отказаться от надежды расколоть мне голову. И поэтому у меня было время вытащить из-за пояса кинжал — пока он замахивался — и вогнать его со всей силой, какая во мне еще осталась. Кинжал долго шел сквозь его жирную тушу — но дошел-таки дотуда, где жила его жизнь. С ревом он схватился за грудь и переломился пополам, а я поднялся, с секирой в руке.
Народ на лестнице закричал, но в этом крике было больше изумления, чем печали; потом все разом стихло. Я глянул наверх — все Журавли были невредимы, стражники разбежались… А он корчился передо мной и царапал об землю благородную маску Бога-Быка. Я сорвал ее и поднял вверх к народу.
Теперь стало видно его лицо: перекошенное, зубы оскалены… Я шагнул к нему, чтобы услышать, если он скажет что-нибудь; но он только смотрел на меня, словно на призрак хаоса, увиденный в кошмарном, бессмысленном сне. Он собирался править без готовности к жертве, он никогда не ощущал дыхание бога, которое возвышает человека над ним самим, — в нем ничего не было такого, что позволяло бы ему по-царски войти в мрачный дом Гадеса. Однако на груди его, вперемешку с кровью и потом, блестело масло, — оттого он и был такой скользкий, когда боролись мы, — он был уже помазан на царство, когда мы ворвались сюда… Так что оставался еще один обряд, который надо было выполнить.
Я надел маску Миноса на себя. Сквозь толстый шлифованный хрусталь все казалось маленьким, далеким и очень четким — пришлось подождать немного, пока привык к этому и смог определять расстояние… А потом — потом я занес Лабрис над головой и бросил ее вниз, и весь пошел следом за этим ударом, головой, плечами — всем телом… Ее сила пела в моих руках, а голос внизу — смолк.
Из Тронного Зала донеслись крики Журавлей, от портика — шум бегства, когда до защитников дошла весть о моей победе… А я — я стоял спокойно и видел сквозь хрусталь маленькую яркую картинку; такую могут видеть боги, что глядят вниз с неба, — далеко-далеко вниз и на тысячу лет назад, на людей, которые жили и страдали в давние-давние дни…
Я смотрел — и на душе у меня была великая тишина.
5
НАКСОС
1
Мы все-таки отплыли наконец с Крита. Корабль себе нашли в оливковой роще.
Не только землю поразил тогда трезубец Посейдона. Отступившее море, что посадило на сухое дно корабли в Амнисе, при землетрясении ринулось назад; оно снесло дамбу, выбросило на берег корабли, затопило и разрушило нижний город, и убило людей больше, чем любая война… Но несколько кораблей волна отпустила на землю мягко; как тот, что мы нашли среди олив. Мы скатили его вниз к воде по стволам поломанных деревьев.
Мы охраняли корабль днем и ночью, пока погода не позволила нам уйти. Весь Крит полыхал мятежами. Как только разошлась весть, что Дом Секиры пал, — коренные критяне поднялись по всей стране: разрушали крепости и грабили дворцы. Иногда хозяев убивали вместе со всеми домочадцами, иногда они бежали в горы; лишь немногих, кого народ любил, оставили в покое. Каждый час приходили новые слухи, то и дело у меня появлялись чьи-то посланцы с предложением возглавить ту или другую банду… Всем им я отвечал одно и то же: я, мол, скоро вернусь. Освобожденный бычий плясун во главе освобожденных рабов, грабящих страну, — нет, не так я хотел править Критом. Я хотел прийти сюда царем — и для критян, и для эллинов… Уж теперь не будет недостатка в кораблях; если не хватит в Аттике, Трезене и Элевсине — эллинские цари будут локтями друг друга распихивать, чтобы принять участие в этом предприятии; будет больше, чем нужно, если я не поспешу в поход. Отныне материк будет править островами; никогда больше ни в одном эллинском царстве юноши и девушки не будут бежать в горы при виде критского паруса!..
На корабль вместе с нами взошли бычьи плясуны из эллинских земель и минойцы с Киклад. Только две девушки остались, чтобы выйти замуж за критян; те любили их с трибун, посылали письма и подарки, но встретились с ними только теперь. Эти девушки были из других команд, а Журавли, — даже сейчас, когда сердца наши уже почти дома были, — Журавли держались одной семьей.
Набрать экипаж было нетрудно: в общей суматохе многие покончили со своими старыми врагами и теперь стремились убраться, прежде чем их отыщет кровная месть.
Мы построили навес возле корабля; а девушкам не позволяли отходить слишком далеко, даже вооруженным, — время было беззаконное.
Когда наконец установился нужный ветер, мы собрались на берегу и убили быка Посейдону, и возлили ему меда, масла и вина: благодарили его за милости его, молили благословить нас в пути… И Пелиду, Владычицу Моря, мы не забыли; и Ариадна принесла ей жертвы. Платье ее было изношено, прислуживали ей при обрядах две старые вороны из прежних жриц, — мы нашли их нечаянно возле их костра из палочек, нечесаных, несчастных, — но она была так прекрасна, что у меня дух захватило от красоты ее; как на арене, когда видел ее в ложе Богини.
Костры залили вином, корабль сбежал по каткам и закачался, почувствовав воду… Я поднял Владычицу на руки и пошел по пояс в воду, чтобы поставить ноги ее на палубу, которая отнесет нас домой.
И вот я снова стоял на критском корабле и смотрел на беспокойное море, на желтые скалы, что вздымались из пены… Ариадна плакала по родине; пока я рассказывал ей об Аттике, последние следы ее земли ушли под воду.
На другой день к вечеру мы увидели впереди дым. Кормчий сказал:
— Это на Каллисте, где мы должны были сегодня ночевать. Лес горит или война.
— Этого нам больше не надо, — говорю. — Подойдешь ближе — смотри. Если город горит — иди на Анафу.
Мы шли прежним курсом; а дым висел в небе как громадное облако, черное от грома… И когда подошли поближе — на нас посыпался пепел. Весь корабль покрылся им, и тела наши, и одежда — всё потемнело. Вдруг впередсмотрящий позвал кормчего, и они о чем-то заговорили на смотровой площадке, взволнованно, растерянно… Я поднялся к ним — бледные оба, кормчий говорит:
— Земля изменилась!
Я посмотрел на серый обрыв — верно!.. Внутри заныло от ужаса; и небо, казалось, было напитано чудовищной яростью бога… Но я прислушался к себе — предупреждения не было; всё было тихо и спокойно, кроме черного облака. Потому я сказал:
— Подойдем ближе.
Мы шли под парусом. Свежий попутный ветер относил дым к северу, вечернее солнце было бледно и чисто; и, подходя к берегу с запада, мы увидели с ужасом, что сотворил здесь бог.
Половина острова начисто исчезла, ее словно отрезало от самых вершин центральных гор — и прямо вниз, в море. На месте дымившей горы не было ничего, бог унес ее всю: всю громаду камней и земли, лесов, козьих пастбищ и оливковых рощ, садов и виноградников, овчарен, домов… Это исчезло, всё исчезло. Там ничего больше не было, кроме воды, — громадный изогнутый залив под отвесными стенами скал, в нем плавают какие-то обломки… А сбоку от залива, на низком мысу, — сам по себе — небольшой дымящийся холмик. Это всё что осталось от громадного дымохода Гефеста.
Море вокруг нас было усеяно горелыми сучьями, мертвыми птицами, обугленными клочьями соломенных крыш… Проплыло что-то похожее на белую рыбу — это была женская рука… Ясодрогнулся. И вспомнил, как мне тревожно было здесь по пути на Крит. Здесь наверняка произошло что-то ужасное; какое-то кошмарное святотатство, что-то такое, что заставило богов в небесах закрыть лица свои. А как здесь всё было в прошлом году! — всё в цветах, сады фруктовые в белом уборе, и на вид остров был не опаснее улыбающегося ребенка… Вот только та обреченная яркость.
Мы не стали задерживаться: моряки не хотели останавливаться здесь. Они полагали, что в таком месте даже море и воздух должны быть насыщены божьим гневом, что он может прилипнуть к человеку и выесть мозг из его костей… Некоторые даже хотели принести в жертву юнгу, чтобы удержать темновласого Посейдона от преследования; но я сказал — бог без сомнения взял здесь всё, что ему причиталось, и вообще он был разгневан не на нас. И так мы покинули это место, и рады были уйти с него; гребцы так старались поскорей оставить остров за кормой, что старшой не успевал отбивать им такт работы. Солнце стало садиться, и закат был такой, какого ни один из нас никогда не видел, — великолепный и ужасный. Пурпурными башнями громоздились облака; а небо было алое, зеленое, золотое… и краски горели по всему небу из края в край, и никак не тускнело это великолепие… Мы посчитали это знаком, что боги не гневаются больше и по-прежнему дружелюбны к нам. При легком бризе мы к полуночи добрались до Иоса и заночевали на нем… А на другое утро ветер был свеж, и мы взяли курс на высокие горы острова Диа, город которого называется Наксос.
Еще до вечера мы были в гавани и глядели вверх на склоны гор, обильные оливами среди зеленых хлебов, садами и виноградниками… Великая Мать так возлюбила этот остров, так была щедра к нему — неудивительно, что его назвали ее именем. Этот остров — самый крупный в Кикладах и самый богатый. Уже издали увидели мы царский дворец, стоящий среди виноградников, — высокое яркое здание в критском стиле… Ариадна улыбнулась, показала на него; и я был рад, что это место напоминает ей дом. После Каллисты она была подавлена.
Два-три бычьих плясуна были отсюда, они рассказывали свою историю в объятиях ошалевшей от радости родни… После того как пал Лабиринт, мы были первым кораблем, пришедшим сюда прямо с Крита; до сих пор они пользовались дикими слухами, дошедшими из третьих рук. Они кричали наперебой, что видели ужасные знамения: грохот, словно тысяча громов, и ливень из пепла, и ночное небо, освещенное пламенем над Каллистой… Всё это случилось, рассказали нам, в тот самый день и час, когда был поражен Дом Секиры.
Наши новости наполнили их трепетом и изумлением. С незапамятных времен Минос был Великим Царем над всеми островами, они жили по его законам и платили ему дань… С Наксоса эта дань была велика, поскольку остров был богат. В этом году уже снова подходил срок, а теперь они могли оставить себе свои маслины, и зерно, и овец, и мед, и вино, лучше которого нигде не бывает… и все их юноши и девушки будут плясать дома… Назавтра должен был состояться праздник в честь Диониса, который сам посадил здесь виноград, когда приплыл с востока женихом Матери; завтра праздник — и уж они так отметят этот день, как никогда еще не отмечали!
Но когда они услышали, кто такая Ариадна, — эта новость затмила всё остальное. Вообще народ на острове смешанный, но двор и царский дом — чистые критяне, древнее племя без примеси эллинской крови. У них древняя вера, и правит царица; и потому, когда они увидели среди себя Богиню-на-Земле, это было большее событие, чем если бы сам Минос к ним явился. Они усадили ее в носилки, чтобы нога ее не касалась земли, и понесли наверх к Дворцу. Я шел рядом с ней, все остальные — следом.
У входа во Дворец они опустили ее, слуга вышел навстречу с чашей приветствия… Нас развели по ваннам, потом повели в Зал. Царица сидела на своем месте перед царской колонной, в кресле из оливкового дерева с инкрустацией — жемчуг и серебро, — ножная скамеечка перед ней была покрыта ярко-красной овечьей шкурой… А рядом с ней на низком стульчике сидел смуглый молодой человек со странно затененными глазами. Я решил, что это царь.
Она поднялась и пошла нам навстречу. Женщина лет тридцати, еще красивая, и истинная критянка: темные волосы завиты змеевидными локонами, груди тяжелые, но округлые и крепкие, тонкая талия туго стянута золотом… Она протянула Ариадне обе руки и встретила ее поцелуем приветствия… Дворцовые женщины богато нарядили Ариадну из гардероба царицы — в синее платье, что звенело серебряными подвесками, — а глаза ее, подведенные после купания, горели в свете ламп.
Столы ломились от изобилия, и места хватало для всех плясунов, хоть нас было почти что сорок человек. Царица была учтива и настаивала, чтобы мы поели и напились, а потом уже стали бы рассказывать о себе… Ариадну она усадила справа от себя, во главе всех женщин. Когда я сказал, что я ее муж, — мы должны были пожениться только в Афинах, но об этом не стоило там говорить, — когда сказал, что я ее муж, то меня посадили слева, рядом с царем.
Это был красивый юноша, лет шестнадцати. Легкий, грациозный — словно специально созданный для радости и любви. Он выглядел не настолько сильным, чтобы быть в состоянии драться за свое царство, и я подивился, помню, как он туда попал, — но мне не хотелось его спрашивать. Что-то с ним было не в порядке, я не мог найти этому названия. Демон был в глазах его. Не то чтобы глаза блуждали, как у человека с расстроенным рассудком, — наоборот; они, пожалуй, были слишком неподвижны. На что бы он ни смотрел, — казалось, он хочет высосать это взглядом, впитать в себя. Когда ему дали в руки его золотой кубок, он крутил его, пока не разглядел весь узор, а потом еще долго гладил пальцем… Со мной он был очень вежлив, но… как человек, из учтивости скрывающий какую-то напряженную мысль. Только однажды, сколь я видел, он посмотрел на царицу — посмотрел с печалью, которой я не смог понять; казалось, к этой печали примешано еще что-то темное, мрачное… Мне совсем не обязательно было с ним говорить, кроме обычных у стола любезностей, но что-то в его молчании угнетало меня; и я спросил, только чтоб он не молчал больше: «У вас здесь завтра праздник бога?»
Он поднял глаза и посмотрел мне в лицо. Не как-либо особенно, а так же, как смотрел на кубок, на женщин, на огонь только что зажженной лампы… Потом ответил: «Да…» Больше он ничего не сказал, но тут что-то разбудило мою память — и я вдруг понял. Вспомнил, как Пилай говорил мне в горах над Элевсином: «Я знаю, как выглядит тот, кто предвидит свой конец».
И он прочел это на моем лице. Глаза наши встретились, пытаясь говорить друг другу… У меня на языке вертелось: «Будь после полуночи на моем корабле, и с рассветом мы исчезнем отсюда; я стоял на том месте, где ты стоишь сейчас, — и ничего, смотри, я свободен… В человеке есть нечто большее, чем мясо, зерно и вино, которые питают его; как оно называется, я не знаю, но кто-то из богов должен знать…» Но в глазах его не было ничего такого, чему я мог бы сказать всё это: он был землепоклонник, и древняя змея уже плясала перед душой его.
Так что мы просто выпили. Он пил много, и я этому не удивлялся; а говорить нам, по сути дела, было не о чем, не мог я ему ничего сказать… Так что и не знаю, знал ли он, что мне жаль его; а если знал — утешало его это или злило?..
Когда мы покончили с едой, царица пригласила нас рассказывать. Ариадна поведала, как пал Лабиринт, как мне было предупреждение, и кто я такой. Когда заговорила обо мне — покраснела, а мне захотелось чтоб скорей настала ночь… Но я все-таки заметил, что царица пожалела Владычицу; когда услышала, что та собирается в Эллинское царство, где правят мужчины. А что до царя — он слушал, широко раскрыв свои темные глаза, в которых отражались огни светильников; и я видел, что если б это было сказание о титанах или о древней любви богов — ему было бы всё равно, потому что он в последний раз смотрел на ночь, на пир, на свет факелов…
Ариадна закончила свой рассказ, и царица пригласила меня рассказать о себе.
— Увы!.. — вздохнула она, когда я закончил тоже. — Кого можно назвать счастливым, пока он не дожил до конца дней своих? На вашу долю, Госпожа, выпало столько бед!.. — Потом вспомнила и, поклонившись в мою сторону добавила: — И однако в конце концов парки смягчились над вами.
Я поклонился в ответ, Ариадна улыбнулась всем вокруг… Но я вдруг вспомнил, как она мне говорила на Крите: «Ты варвар, мне няня говорила, что вы едите плохих детей…» Вспомнил и подумал: «Она всегда будет видеть меня, в сердце своем, бычьим прыгуном с материка? Даже когда стану царем — и тогда тоже?»
А царица всё говорила:
— …вы должны собраться с духом и забыть свои горести. Вы и ваш муж — и ваши люди — вы обязательно должны остаться на наш завтрашний праздник и почтить бога, приносящего людям радость.
Когда она это говорила, я, по счастью, не смотрел на юношу рядом со мной; но больше всего мне хотелось убраться оттуда с первым рассветом. Пытался поймать взгляд Ариадны, — но она уже благодарила. К тому же, снаружи поднимался ветерок, который завтра мог запереть нас в порту; если, оскорбив этих людей, мы не сможем тотчас же исчезнуть — невеселая получится история… И вообще, теперь, когда Крит пал, времена пойдут сложные и друзья могут понадобиться… Надо было соглашаться, и мне удалось сделать вид что я рад приглашению.
Когда замолк арфист, царица пожелала нам приятного отдыха и поднялась со своего кресла. Царь тоже пожелал мне доброй ночи и встал… Снова встретились наши глаза, и сердце у меня едва не разорвалось от тех слов, что надо было сказать ему, — но в тот же миг куда-то пропали эти слова, так я ничего и не сказал. А когда они подошли к лестнице, она взяла его за руку.
Столы убрали, и мужчинам постелили в Зале. Женщин увели в другое место, к огорчению тех, кто успел стать любовниками за время нашей свободы. Теламон и Нефела были в их числе… Но из того, что я слышал о завтрашних обрядах, это был только пост перед пиром. Нам с Ариадной отвели прекрасный покой на царском этаже; это была наша первая ночь на настоящей постели, потому я не стал много говорить о задержке, хоть ветер и стих. Сказал только, что дома было бы еще лучше. Она ответила: «Конечно, но жалко было бы пропустить праздник. Я же никогда не видела, как его устраивают здесь». Раз никто не сказал ей того, что знал я, — я тоже не стал говорить. Скоро мы уснули.
На другое утро, совсем еще рано, нас разбудило пение. Мы оделись, присоединились к остальным, и пошли с народом вниз к морю. Вокруг уже плясали, и из рук в руки передавались кувшины с неразбавленным вином, темным и крепким, сладким как спелые гроздья… Народ нас приветствовал, огонь вина и смеха перекинулся и на нас; и мы начали чувствовать то единение с праздником, что дарит людям Вакх.
Все смотрели в море, и вскоре раздались восторженные крики навстречу парусу… Корабль обогнул мыс и подходил к священному островку, у самого берега; и в это время женщины начали исчезать. Наксийки забирали с собой и наших девушек, и Ариадну тоже увели от меня… но я не видел в этом никакой беды, зная с каким почтением к ней относятся.
Корабль приближался. Он был сплошь увит зелеными ветвями и гирляндами; мачта, весла и форштевень были позолочены; парус — алый… На палубе распевал хор юных девушек, с бубнами, флейтами и кимвалами; а на носу корабля стоял вчерашний царь, опоясан шкурой молодого оленя, увенчан плющом и побегами винограда. Он был очень пьян, — от вина и от бога, — и когда он махал рукой толпе, я увидел в его затененных глазах сумасшедшую радость.
На священном островке его ждала его свита и повозка. Они пошли по воде навстречу кораблю и подвели его к острову, а потом под грохот музыки подняли царя на берег. Вскоре повозка поехала через пролив, воды там было по колено… Мужчины, ряженные в леопардовые шкуры и в бычьи рога, тащили ее за веревку; а вокруг них плясали другие — и огромные фаллосы из кожи, подвязанные у них в паху, болтались в такт их прыжкам. Они пели, кривлялись, выкрикивали в толпу непристойные шутки… Золоченая повозка двигалась за ними следом, а вокруг нее шли женщины.
Они били в кимвалы, размахивали длинными гирляндами из цветов или священными тирсами на высоких шестах, плясали и пели… Песня была дикая, и слова трудно было понять, потому что менады были уже в масках. Гладкие плечи, руки в гирляндах, пляшущие груди — а над всем этим львиные, волчьи, рысьи головы… и только темные критские волосы вьются, распущенные, из-под звериных морд… Я подумал, что в этой толпе не найдешь даже собственную сестру свою или жену. Царь стоял на золоченой колеснице, нетрезво покачивался на неровностях дороги и смеялся дикими глазами. Время от времени он набирал горсть зерна из корзины, что стояла за ним, и швырял зерно на людей вокруг, или взмахивал золотым своим кубком чтобы обрызгать их вином… А те рвались поближе, чтобы благословение упало и на них; женщины кричали:
«Эвой! Эвой!»…
Мужчины, тянувшие повозку, закричали, побежали, потащили ее к дороге в горы. Когда они пробегали мимо, царь размахивал своим кубком; и я услышал, что он поет.
Толпа потекла от берега в сторону гор… Я чувствовал себя своим здесь, заодно со всеми, — такова магия этого бога, — но ждал Ариадну. Обряды на острове кончились, она должна была вернуться; я хотел идти наверх вместе с ней, и с ней разделить и безумие и любовь… Колесница и музыка ушли уже далеко вперед, а она все не появлялась, меня начало грызть нетерпение; но я еще ждал, я не хотел, чтобы она там носилась одна… Женщин нельзя попрекать тем, что они делают в безумии Вакха; единственный способ удержать свою девушку — это быть с ней самому…
Несколько парней задержались — плясали под двойную флейту, — я тоже с ними подурачился, пока они не закричали «В горы, в горы!..» — и не убежали вслед остальным… Она так и не пришла. Несколько женщин шли через брод с островка, но это были либо старухи, либо беременные, почти на сносях… Я спросил одну, не видела ли ее. «Как же, — говорит, — видела, конечно, видела. Она с царицей и с менадами бога провожает…»
Если у тебя дыхалка не в порядке, то с быками долго не протянешь; потому толпу я нагнал скоро. Пока был один на дороге — зол был и встревожен; но тут несколько Журавлей пили и плясали в цветущем фруктовом саду, увидали меня, начали зазывать к себе — и я снова растворился в празднике. А хуторяне вынесли в честь бога свое лучшее вино, и было бы просто неприлично удрать от них… Вскоре мы все-таки пошли дальше, наверх, к козьим пастбищам в высокие горы. А у самых их вершин был снег.
Мы ушли далеко, много выше возделанных земель. Там был чабрец, и вереск, и гладкие серые валуны, отмытые дождями и нагретые солнцем; и на них грелись юркие ящерицы… С этих гор, с такой высоты, море и небо сливаются; вокруг тебя — одна бездна мерцающей сини, и серые острова плывут в ней словно облака. Вместе с другими упал я на упругий мох и катался по нему, смеялся, пел и пил… У нас появился откуда-то большой кувшин, расписанный сплетенными лозами и морской травой… Мы с Аминтором и еще один парень из Наксоса целились винной струей друг другу в открытый рот, захлебывались, плевались… — очень было весело. Потом наксиец посмотрел мимо нас, вскочил и бросился бежать. Смотрю — погнался за девушкой…
Часть женщин начала отходить от свиты менад на первых холмах. Те, кого безумие охватило не до конца, — те оставили таинство остальным, сбросили свои звериные маски и бродили — еще полубезумные, полусонные, — предаваясь любви.
«Теперь-то, — думаю, — я ее найду наверняка: она всего лишь гостья, долг вежливости она уже выполнила, а дальше рада будет от них уйти…» И пошел наверх со всеми. Я был уже полон вином и един со всем праздником, и тяжесть прошлого вечера исчезла… Это было их дело; от нас, чужеземцев, ничего здесь не требовалось, кроме веселья. Далеко-далеко, где-то за гребнем, слышались тонкие крики, похожие на крики птиц… Это были менады, еще не покинувшие царя, но это было далеко. Скоро я найду свою девушку… Или, на худой конец, не свою — все равно найду…» Так я подумал, а мы с песнями шли к снегу.
Шли шеренгой, взявшись под руки, пели, кричали, передавали по шеренге вино; я и какой-то миноец — рядом шел — уперлись друг в друга голова к голове, горланили друг другу в ухо наши биографии, клялись в вечной дружбе… Скоро дошли до первого снега; он лежал во впадинах, словно белые лужи и озера среди зелено-бурых горных трав, сочных от влаги… Все бросились на колени — остужать снегом лица, разгоряченные подъемом и вином.
Поднявшись на ноги, я увидел, что снежники над нами истоптаны. Там были следы множества людей, раздавленная виноградная лоза, поломанная флейта… Колесницу наверно оставили ниже, там где земля каменистой стала. Чуть в стороне лежало что-то красное, я решил что это шарф, девушка потеряла, но подошел поближе — олень. Вернее — то, что от него осталось; а осталось столько, что трудно было понять, что это такое, но чуть дальше лежала его голова. Я остолбенел на миг; кровь уже не плясала во мне — остудило ее, заморозило зрелище это; и вот я стоял и смотрел.
Но тут что-то холодное ударило меня сзади в шею — я обернулся. Прямо надо мной, в небольшой ложбине склона, был сосновый лесок, оттуда донесся смех и меж стволов мелькнула девичья фигура. Я вытащил снежок, что запутался в волосах, потом крикнул — и погнался за ней.
Сосны были могучие, а под ними мягкий сухой ковер из опавшей хвои; она с визгом лавировала между сосен, наверно испуганная слегка… Я поймал ее на краю небольшой ложбинки, и мы скатились, сплетясь, на дно. Это была девушка из Наксоса, с длинными терновыми глазами, курносая… Не знаю, как долго мы с ней там были: у Диониса время особенное, не такое как у людей. Потом я услышал, что кто-то хихикает рядом, увидел еще одну девчушку, — она подглядывала за нами сверху, — полез наверх, чтобы наказать ее за это… В конце концов мы очутились там все трое — и опять потеряли счет времени. Всё напряжение покинуло меня: не было ни прежнего сознания опасности, ни ярости боев, ни забот о царстве… Единственным благом казалось слиться вот с этой живой горой, с ее птицами, с козами ее и волками, со змеями ее, что грелись на солнце, и с цветами, — слиться, и пить крепкий мед из ее щедрой груди, и жить каждый миг лишь тем дыханием, которое пришло к тебе вот сейчас, и не заботиться о следующем.
Мы лежали в полусне, глядели на ветви, что качались над нами на синем фоне неба, слушали их тихий шелест — и тут ветер донес издалека высокий, дикий, будто птичий крик. Он долго взвивался всё выше и выше — и оборвался тишиной. Но к этому времени уже весь лес шумел шепотом, поцелуями, вскриками, вздохами… — они быстро заполнили тишину; и я тоже потянулся к девушке, что была рядом. Не было смысла об этом думать: эллин ничего не может сказать человеку с такими глазами, как у него.
Волшебное время Диониса незаметно уходило, и вот уже солнце по дороге домой закрыло золотом горы… Самые трезвые закричали, что если мы не пойдем вниз, то ночь захватит нас на горе, — и мы пошли вниз. Шли под огромным небом, что ярким желтым куполом висело над пурпурными островами; шли, распевая старинные песни, барабаня в дно пустых кувшинов и не выпуская из рук девушек наших… Потом начались хутора, и девушки исчезли.
Внизу, в Наксосе, уже горели лампы. Опьянение вытекло вместе с потом от долгой ходьбы, тело было полно приятной молодой усталостью, и глаза слипались… Я посмотрел вниз, на Дворец сиявший факелами, и подумал, что когда встречу там Ариадну — не стану ни о чем ее спрашивать и отвечать на вопросы не стану, и тогда мы останемся друзьями. Сейчас она, наверно, уже в ванне… Мне и самому стало радостно от мысли о горячей воде и благовонном масле.
Когда начались сумерки и закат тронул снизу пламенем вечерние облака, мы были на сельской дороге, что вилась среди оливковых рощ. Девушки разошлись по домам, песни затихали; мы шли по двое, по трое… Вдруг юноша, что шел рядом, потянул меня за руку и свернул с дороги в поле; и повсюду вокруг мужчины отходили в тень. Я оглянулся и увидел что-то непонятное: по склону медленно опускалось белое порхание, словно духи бесплотные шли по извилистой дороге, полускрытые оливами.
Мужчины уселись на землю — там, где она не была засеяна ячменем, возле деревьев… Я посмотрел на того, кто увел меня, — он только ответил шепотом: «Лучше с ними не встречаться».
Я тоже сел и ждал, но смотрел в сумерках на дорогу; никто же не сказал, что смотреть запрещено. И вскоре они появились, шатаясь, спотыкаясь, будто во сне брели; на некоторых еще были маски, и морды рысей и леопардов свирепо глядели широко раскрытыми глазами с расслабленных вялых тел; другие маски висели на развязанных шнурах, и тогда были видны лица: обвисшие от усталости губы, полузакрытые глаза… Безвольные руки тащили следом по земле флейты и кимвалы… Длинные волосы свисали на грудь, спутанные с вереском, слипшиеся от засохшей крови.
И все они были запятнаны этой кровью, — шли пятнистые, как леопарды, — на обнаженных руках, на груди, на одежде… На ногах она была припудрена светлой пылью, но руки!.. Кисти рук едва не по локоть были черны у всех, пальцы склеивались, а на шестах тирсов, что тащились за ними будто копья раненых воинов, — шесты были сплошь заляпаны кровавыми отпечатками. Я зажал себе рот рукой и отвел глаза. Наксиец был прав: мало было бы радости увидеть их еще ближе.
Казалось, они шли довольно долго. Я слышал шарканье шагов, слышал как они спотыкались о камни на дороге, охали, хватались друг за дружку чтобы не упасть… Потом все эти звуки стали вроде бы удаляться — я обернулся. Они растворились в сумерках у поворота дороги; вроде бы всё — можно идти… Подымаюсь, — но тут на дороге послышались колеса, и я решил еще подождать.
Это была та самая позолоченная колесница, но теперь ее везли пустую. Она была очень легкая, и ее свободно тянули два человека, каждый по свою сторону дышла. Они сняли с голов тяжелые бычьи рога, но оставались еще в своих леопардовых шкурах; а больше на них ничего не было. Брели неторопливо, иногда перекидывались парой слов друг с другом — словно мужики после долгого дня пахоты… Два черноволосых наксийца: юноша и бородатый.
Колесница проехала, за ней никто не шел. Это был конец, я собрался идти, и тут, — уже поднявшись на ноги, — заглянул в колесницу сзади. На платформе лежало тело. Оно безвольно покачивалось на неровностях дороги… — и я увидел изорванную синюю юбку и маленькую изящную ступню, розовую у пальцев и на пятке.
Выбежал из-за деревьев, схватился за поручни колесницы… Они почувствовали толчок и обернулись, остановившись. Молодой сказал: «Это ты зря, чужеземец. Это не к добру…» Старший добавил: «Оставь ее в покое до утра. В храме она будет в безопасности».
— Подождите! — говорю. — К добру или нет — я должен ее увидеть. Что с ней сделали? Она мертва?
Они переглянулись изумленно:
— Мертва?.. С какой стати? Нет, конечно! — это младший.
Но тут заговорил старший:
— Послушай, человек, от нашего вина никому вреда не бывало. Оно и вообще отменно, а на сегодня мы бережем самое лучшее — ничего ей не сделается. Оставь ее, ее сон нельзя тревожить. Пока она не проснется — она все еще невеста бога.
По тому, как он говорил, я понял что это жрец. И догадался, — не знаю как и почему, — что там, на горе, она отдалась ему. Я отвернулся от него и нагнулся к ней.
Она свернулась калачиком на боку, возле головных уборов с рогами, что сняли с себя мужчины. Волосы были спутаны, как у спящего ребенка, только кончики прядей были тверды и остры… Шелковистые веки закрывали глаза покойно и мирно, и мягко румянились щеки под черными густыми ресницами… По ним я ее и узнал; по ним — да еще по нежной груди, что покоилась на согнутой руке. Губ ее я не видел — нижняя часть лица вся была вымазана кровью… Дышала она тяжело, рот был открыт, и даже зубы были покрыты коркой засохшей крови; и ее затхлая вонь смешалась с запахом вина, когда я наклонился ниже.
Чуть погодя я тронул ее плечо, обнаженное порванным платьем… Она вздохнула, пробормотала что-то, — я не расслышал, — веки ее дрогнули… И распрямила, расправила руку.
До сих пор кулачок был прижат к груди, как у ребенка, что взял с собой в постель игрушку. Теперь она старалась разжать его, а кровь склеила пальцы, и это не получалось… Но наконец она раскрыла ладонь — и я увидел, что там было.
Почти год сидел я у арены на Крите и наблюдал Бычью Пляску, если не плясал сам; я видел смерть Сина-Сосняка и не ударил лицом в грязь…
Но тут я отвернулся, привалился к оливе — и едва само сердце не изрыгнул наружу!.. Меня выворачивало наизнанку, я дрожал от прохлады вечерней, зубы стучали, из глаз лились потоки слез… Долго!..
Потом почувствовал руку на плече, это был бородатый жрец. Он был хорошо сложен, смуглый, темноглазый; тело покрыто ссадинами и шрамами от беготни по горам, и сплошь в винных пятнах… Он смотрел на меня печально, как вчера я смотрел на царя: смотрел — и не знал, что сказать мне. Наши глаза встретились — так люди в море встречаются взглядом: они бы окликнули друг друга, но знают что ветер унесет слова. Я понял, что он увидел мое состояние, — и отвернулся.
Потом раздался какой-то шум; я обернулся — молодой уходил с дышлом на плече и уводил колесницу. Я сделал несколько шагов следом; в животе было холодно, ноги свинцовые… Жрец шел рядом, не пытался меня задержать… Но когда я остановился — он встал напротив, вытянул руку и сказал: «Иди с миром, эллинский гость. Для человека — несчастье увидеть таинство, которого он не понимает. Отдавать себя без вопросов, не требовать лишнего знания — в этом мудрость богов. И она это понимает, она нашей крови».
Я вспомнил многое: окровавленные бычьи рога на арене, тот ее голос в горящем Лабиринте… В первую нашу ночь она мне сказала, что она критянка, совсем критянка. Но не только это — она еще и дочь Пасифаи!..
Колесница укатилась уже за поворот дороги и мерцала сквозь оливы… Подымалась яркая весенняя луна, и всё вокруг стало бледным и ясным, а листья бросали черные тени… Пятнистая шкура и запачканное тело жреца сливались с деревом, на которое он опирался, глядя на меня; он думал о чем-то своем, — не знаю о чем, — а я о своем.
Бледнело закатное небо, лик луны подымался над морем, и белая дорожка сверкала меж качавшихся ветвей… Я видел эту луну, яркий свет ее… — но вокруг всё вроде поменялось: словно стоял я не здесь, а на высокой платформе и смотрел на тень громадной скалы, что закрыла равнину; а ясное, сверкающее звездами небо обнимало янтарные горы, и высокая крепость тоже сияла, сама, словно ее камни дышали светом.
«Воистину не к добру я посмотрел на нее — слишком рано и слишком близко. Меня ждет теперь не только холодная постель, но и холодная тень над судьбой, над всей жизнью моей, — мертвый Минос в царстве Гадеса не простит мне того, что я теперь должен сделать… Тем хуже для меня, — но лучше для твердыни Эрехтея, которая долго стояла до меня и долго простоит после: я не стану возвращаться к тому свету с полными руками тьмы, даже если эта тьма от кого-то из богов» — так я подумал тогда. Посмотрел на жреца… Тот тоже повернулся лицом к луне, и луна отблескивала в его открытых глазах; а сам он был неподвижен, будто дерево, будто змея на камне. Он был похож на человека, что знает магию земную и мог бы пророчествовать в безумии пляски…
И тогда я подумал о Лабиринте, о великом Лабиринте простоявшем тысячу лет, и вспомнил слова Миноса, что голос бога уже не звал их больше в последнее время. «Всё меняется, — подумал я. — Меняется всё, кроме вечноживущих богов. Впрочем, кто знает?.. Быть может, через тысячу веков и сами они, в небесном доме своем за облаками, услышат голос, что зовет царей? Услышат — и отдадут свое бессмертье, — ведь дар богов должен быть больше дара людей! — и отдадут свое бессмертье, и вся их мощь и слава поднимутся как дым к другому, высшему небу; перейдут к другому, более великому богу… Это как бы вознесение из смерти в жизнь, если такая вещь может случиться. Но здесь — здесь это падение из жизни в смерть: безумие без оракула, кровь без уха чуткого к божьему зову, без согласия освобождающего душу… Да, это воистину смерть!..»
И еще вспомнилась комнатка за храмом, где она назвала меня варваром. И будто снова ее пальцы тронули мне грудь, и голос прошептал: «Я так тебя люблю — это даже выдержать невозможно!» И я представил себе, как завтра утром она проснется в такой же комнатке, — отмытая от крови, наверно забывшая всё, что сегодня было, — проснется и будет искать меня рядом… Но колесница уже скрылась из виду, и даже шума колес уже не было слышно.
Я снова обернулся к жрецу — он смотрел на меня.
— Не к добру я сделал, — сказал я. — Наверно это не понравилось богу, ведь сегодня его праздник… Наверно, мне лучше уйти отсюда поскорее.
— Ты почтил его, — говорит, — а незнание чужестранца он простит. Но лучше не задерживаться слишком долго, ты прав.
Я посмотрел на дорогу, пустынную, бледную в лунном свете…
— А царственная жрица, призванная к вашему таинству, — ее будут чтить здесь, на острове?
— Не бойся, — говорит. — Ее будут чтить.
— Так ты скажешь вашей царице, почему мы ушли вот так, ночью, не поблагодарив ее и не попрощавшись?
— Да, — сказал он. — Она поймет. Я скажу утром, сейчас она слишком утомлена.
Мы оба замолчали. Я искал в себе слова для другой — это было гораздо нужнее, — но там нечего было сказать.
Наконец он заговорил:
— Не горюй, чужеземец, забудь об этом. Боги многолики — и часто ведут не туда, куда бы самим нам хотелось… Так и теперь.
Он отделился от дерева, и пошел прочь через рощу, и растворился вскоре в мерцании теней — и больше я его не видел.
Поле под оливами было пустынно, мои приятели давно уже ушли; я пошел в одиночестве по дороге и вскоре добрался до спящей гавани. Пост возле корабля был на месте, и кое-кто даже держался на ногах, а часть команды тоже пришла спать на берег… Ночной ветерок с юга был достаточен, чтобы наполнить парус, так что если грести народ не сможет — не беда… Я сказал им, что оставаться опасно, что они должны срочно разыскать остальных и привести к кораблю. Они заторопились; в чужой стране не трудно пробудить в людях страх.
Ушли; я вызвал помощника кормчего и послал его за матросами… И на какое-то время остался у моря один. А завтра она будет смотреть на море со священного островка, будет отыскивать в синеве наш парус!.. И будет думать, быть может, что какая-нибудь женщина на празднике заставила меня изменить ей; или что я вообще никогда ее не любил, а только использовал, чтобы вырваться с Крита… Да, так она может подумать. Но правда — правда не лучше для нее.
Я расхаживал взад-вперед; под ногами хрустели ракушки, шелестели слабые волны, набегая на берег, доносилось вялое пение ночной стражи… И вдруг услышал плач, увидел бледную тень, что брела вдоль воды. Это была Хриза. Ее золотые волосы, распущенные на плечах, серебрились в лунном свете, а лицо было закрыто ладонями, и она плакала. Я взял ее руки — на них не было пятен, кроме как от пыли и слез…
Я говорил ей — пусть успокоится, пусть не плачет, чего бы ей не пришлось насмотреться сегодня; мол, лучше не вспоминать о том, что было совершено в безумье божьем, потому что это таинство эллинам трудно постигнуть… «Ночью мы уходим отсюда, — говорю. — К утру уже будем на Делосе…» Она смотрела на меня, будто не понимала. Моя Хриза!.. Безоглядно храбрая на арене, тот единственный человек, кто смог удержать меня от безумия, — что с ней?.. Она проглотила слезы, поправила волосы и вытерла глаза. «Я знаю, Тезей, знаю. Это все безумье божье — завтра он забудет… Он забудет, одна я буду помнить!..» Тут я ничем не мог помочь. Я мог бы ей сказать, что всё проходит, но в то время еще сам этого не знал.
Начали появляться плясуны, бежавшие к кораблю; факел часового освещал их лица, и Аминтор был один из первых. У него уже рот был открыт — спросить меня, — но тут он глянул на нас еще раз, разглядел Хризу и подался назад. Я увидел, что он боится ее, смотрит застенчиво, виновато… Но глаза их встретились — и он бросился к ней, схватил за руку, и пальцы их словно сами собой сплелись в тугой узел; тот, что ювелиры делают на кольцах.
Я не стал им ничего говорить, — они бы всё равно не услышали, — сказал только, чтобы помогли поскорее собрать остальных; нам, мол, в полночь надо отойти. Они умчались в сторону Наксоса, где уже гасили лампы на ночь; умчались, так и не расцепив пальцев.
На море лежала мерцающая лунная дорожка, и ее прерывала темная тень — священный островок Диониса. Виднелась крыша храма с критскими рогами, и одно маленькое окошко было освещено. Это ей оставили лампу, подумал я; оставили, чтобы не испугалась, проснувшись в чужом незнакомом месте.
Уже миновала полночь, и мы уходили в пролив, а окошко все еще светилось… И лампа горела и горела, пока ее не скрыла линия моря, — горела, верно охраняя ее сон, в то время как я уходил.
2
Мы подходили к Делосу на рассвете; а пришли — солнце стояло как раз над священной горой.
В ясный день на Делосе даже камни, кажется, сверкают искрами серебра, сполохами и бликами излучают свет. Под поцелуями бога вода и воздух чисты как хрусталь… Идешь вдоль берега — на дне каждый камушек виден; а когда смотришь в сторону лестницы, что ведет в священную пещеру, — чудится, что можно сосчитать все цветы на горе. С вершины горы, что над святилищем, подымался в сапфировое небо дымок утренней жертвы…
Всё вокруг дышало радостью; а мы, эллины, были здесь уже дома, — хоть наша нога впервые ступила на землю Делоса, — и так были потрясены, что даже плакать не могли. Пока я шел к озеру и к священной роще, — вверх по искрящейся мощеной дорожке, — пронзительный солнечный свет, казалось, смывал с меня и подземную темень Наксоса, и кровавые сполохи Крита… Здесь всё было прозрачно, чисто и светло; и мощь бога, секреты таинства его таились не во тьме, а в свете — в свете, нестерпимом для людских глаз.
До нашей жертвы — те из нас, на ком была кровь, попросили очистить их; чтобы ни один гневный дух не вошел в наш дом вслед за нами. Мы омылись в озере, что глядит в небо круглым голубым глазом, потом поднялись на гору Кифнос… И там, — где вокруг под нами повсюду смеялось синее море, — там Аполлон очистил нас, а Мстительниц отослал восвояси.
Когда обряд был закончен и мы шли по лестнице вниз от храма, я вспомнил того арфиста, что пел в Трезене, а потом переделал таинство в Элевсине. Я повернулся к жрецу, что шел рядом со мной, и спросил, появлялся ли он на Делосе с тех пор.
Жрец сказал, они слышали, что певец мертв. Он погиб у себя на родине, во Фракии, где служил у алтаря Аполлона. Старая вера очень сильна в тех краях, юношей он сам пел в древних обрядах; и жрицы были очень недовольны, когда он построил на горе храм Убийце Змей. Но когда он вернулся туда из Элевсина, — то ли великая слава затмила разум ему, то ли на самом деле увидел он сон от бога, — во всяком случае, он вышел навстречу менадам во время их зимнего праздника и попытался усмирить их безумие песней своей. Все знают, чем это кончилось.
Но теперь, когда он умер, вокруг его имени растут и множатся песни и легенды: как громадные камни подымались под звуки его голоса и сами укладывались в стены и башни, как змея Аполлона лизнула ему уши и он стал понимать птичий язык… «Говорят, Темная Мать любила его, когда он был молод. И вот она наложила печать на уста его и показала ему свои тайны подземные. Он перешел реку крови, и реку плача, но не захотел испить из потока Леты, и семь лет пронеслись над ним словно день. А когда стало подходить назначенное время и она должна была отпустить его назад в верхний мир — искушала его, чтоб он заговорил, пока он был еще в ее власти; но он не захотел нарушить печать молчания, не захотел отведать ни яблок, ни гранатов ее, — что связывают человека навечно, — не захотел, потому что был предан Аполлону и богам света. Так что ей пришлось его освободить. И всю дорогу до выхода из ее мрачной пещеры она шла за ним и слушала его игру и умоляла, рыдая: „Оглянись! Оглянись!“ Но он так и не оглянулся ни разу, пока не вышел на солнечный свет, — и она ушла под землю, оплакивая свои утраченные тайны и погибшую любовь. Так говорят теперь», — рассказывал жрец.
— Он сам об этом не рассказывал, — сказал я. — Это правда?
— Правда бывает разная, — ответил жрец. — По-своему это правда, конечно.
Мы спустились с холма в рощу и принесли нашу жертву на алтаре, сплетенном из рогов. Все Журавли стояли вокруг меня, и я подумал, что скоро мы рассеемся по домам своим и распустятся узы, соединявшие нас; уж никогда больше не будем мы частями единого тела, как это бывало на арене… Нельзя было наше драгоценное товарищество просто взять и выбросить в реку времени; вот теперь, пока оно еще жило, надо было посвятить его и отдать, как отдают уходящую жизнь… И я сказал:
— Пока мы еще здесь — давайте станцуем наш танец. Перед богом и для него.
И вот мы позвали музыкантов — и исполнили для Него наш Танец Журавля, что впервые связал нас и превратил в команду. Жрецы, увидев что девушки становятся в один круг с мужчинами, начали было нас упрекать; но когда я рассказал им, почему это так, — тут все согласились, что не может быть ничего постыдного в действе, так благословенном богами. И снова над нами пролетали с криками чайки, вокруг неисчислимыми улыбками смеялось море… Зеленый дерн у озера был нашей палубой, а вместо мачты — священная пальма, за которую держалась Лета в трудах своих, когда рождался бог… И вот мы сплетали и разворачивали свой хоровод у священной воды — и у каждого в памяти всплывало всё, что мы сделали вместе. Когда танец кончился — глаза у многих были влажные… Только Аминтор и Хриза отражали делосское солнце как люди, которым не о чем жалеть: они не потеряли ни колоска, и всю свою жатву везут домой.
На другой день, когда мы выгребли из пролива, то встретили в море такой отличный ветер, что он донес нас до самого Кеоса; и в ясном вечернем свете мы увидели низкое серое облако над самой линией неба — это были вершины гор Аттики.
И тогда, от нетерпения, мы не стали огибать остров, чтобы зайти в порт, а нашли закрытый пляж и там разбили свой лагерь. Нас теперь было меньше; по всем Кикладам мы оставили бычьих плясунов, когда проходили вблизи их домов. Ирий пошутил, что Журавли теперь — как лучшие друзья на пиру: те, что остаются поболтать, когда остальные уже разошлись.
Мы поели уже, и костер наш рассыпался, наступила ночь… И тут Аминтор протянул руку и воскликнул: «Тезей! Смотри!» Далеко на севере, — где в темноте сходились море и небо, — там что-то слабо мерцало, и было это «что-то» слишком низким и слишком красным для звезды.
— Первый свет дома нашего, — сказал Теламон, а Менестей добавил: — Это сигнальный костер. Он должен быть на Сунийском мысе.
Мы все показывали друг другу этот огонек и воздымали руки в благодарность богам… Но надо было и поспать — все улеглись. Ночь была спокойная, только шелест волн нарушал тишину, да тонко звенели кузнечики… И тут я впервые почувствовал, что Крит наконец сваливается с меня. Я снова был в Аттике — ездил по равнинам и горам этой страны, разговаривал с ее людьми, сражался в гуще ее воинов, лазал по ее скалам… Я лежал, глядя на усыпанное звездами небо, и думал о возвращении, о том, что предстоит.
Думал, что необходимо собрать флот, чтобы навести порядок на Крите… И поскорее, не то Крит станет почище Истма… Пытался представить себе, сколько кораблей успел построить отец, если брат Гелики донес до него мое послание… Если другие эллинские цари не решались принять участие в походе против Крита, пока Минос был владыкой островов, — нельзя было их в этом упрекать всерьез. И я думал, что бы я сам стал делать на его месте. «Конечно, построил бы собственные корабли и ждал бы с богами удачного дня. И послал бы в Трезену — там бы наверняка помогли… Но я молод, а отец устал от долгих войн своих и смут; они сделали его осторожным…» — так думал я. И еще думал об Аттике, — о вечно враждующих кланах и деревнях ее, — и гадал, сумею ли когда-нибудь уговорить его попробовать мой план насчет трех сословий…
Потом поднялся со своего ложа и встал у воды, глядя на север. Огонь еще горел, — даже ярче чем прежде, наверно часовой как раз подкармливал его, — и тут я понял, что это маяк моего отца! Быть может, он горел там каждую ночь, с тех пор как меня увезли, а может, до них уже дошли какие-то слухи с Крита?.. Я представил себе, как он стоит на крепости и смотрит на это же самое пламя, — и у меня заныло в груди; как в то утро, когда он подарил мне колесницу.
Я думал о нашем прощании, когда меня увозили на Крит… И будто снова рука его легла мне на плечо, и в ушах прозвучали его прощальные слова: «Когда придет тот день — пусть парус твоего корабля будет белым. Это послужит мне вестью от бога».
«Что он имел в виду? Он рано постарел, он имел в виду больше, чем мог сказать перед народом… Весть, сказал он, весть от бога. Он, значит, собирался принять за божий знак мой белый парус? Но раз так, — если я выкрашу парус, — мне уже не увидеть его в живых!..» — так я подумал.
Мне стало страшно, сердце колотилось… Не было уверенности в намерениях его; не был уверен, что он их изменил… Ведь он — уставший человек; как угадать, что у него на уме?..
С травы на берегу доносился храп моих спящих товарищей, кто-то вздохнул, шептались двое любовников… Эх, мне бы их бессонницу!.. А передо мной был трудный выбор, и никто не мог мне помочь.
Я сдавил себе ладонями глаза и держал так, пока не вспыхнули под веками красные и зеленые цветы. Потом снова посмотрел туда и опять увидел свет сигнального костра — и меня осенила мысль. Сбросил одежду, вошел в холодное весеннее море, оттолкнулся от берега… «Отец Посейдон! Я был в руке твоей, и ты всегда направлял меня верно. Пошли же знак мне, поменять парус или оставить? Если ты будешь молчать — сделаю, как он просил, и выкрашу парус белым».
Небо было ясное, но тихий ветерок рябил воду. Когда я выплыл из-за тени берега — волны стали покачивать меня вверх-вниз, а иногда небольшой гребень и перехлестывал через меня… Я повернулся на спину, — полежать на воде, — и в этот миг накатила волна побольше остальных и накрыла меня с головой. От неожиданности я захлебнулся, начал барахтаться — и тонуть; море сомкнулось надо мной… И тогда я четко услышал в ушах божий знак.
Я прекратил борьбу — и вода вытолкнула меня на поверхность. Поплыл назад к земле, на сердце было спокойно: я переложил выбор на бога, и он ясно ответил, что делать, — сомненийбольше не было, он принял на себя эту тяжесть.
Так я думал тогда, так я и теперь говорю в сердце своем, когда в великие дни жертвоприношений стою перед богами на Высокой Крепости — священной твердыне Эрехтея, — стою и приношу им жертвы от лица народа моего. Великий Отец Коней, что приходил к зачатию моему, Сотрясатель Земли, который поддерживал меня всегда и сохранил народ мой даже в ужаснейшем гневе своем, — он никогда не толкнул бы меня во зло. Я представлял себе, что отец немного погорюет, — но тем радостнее будет неожиданная встреча… Откуда я мог знать, что он так тяжко обвинит себя? Что даже не дождется, пока корабль зайдет в порт, чтобы убедиться, правду ли сказал тот парус?
А может быть, дело и не в том? В обычной человеческой скорби он, наверно, ушел бы, как все уходят: упал бы на меч или принял бы крепкого мака, что уносит жизнь во сне… Разве нет?.. А он ведь прыгнул с того самого балкона над скалой, с которого я однажды оттаскивал его, с самого края. Наверно, бог на самом деле послал ему знак, такой же громкий и ясный, как и мне: ведь мы оба были в руке Посейдона, это ему предстояло выбирать…
Человек, рожденный женщиной, не в силах избежать своей судьбы. И потому лучше не вопрошать Бессмертных и не растрачивать попусту сердце свое в печали, когда они скажут слово свое… Положен предел нашему знанию; и мудрость в том, чтобы не пытаться проникнуть за него. Люди — всего только люди.
Книга вторая
БЫК ИЗ МОРЯ
1
МАРАФОН
1
Дельфины так и прыгали вокруг, когда я — вместе с товарищами по арене — входил под парусом в Пирей. Наши одежды и волосы еще пахли гарью спаленного Лабиринта.
Я спрыгнул на берег, набрал полные горсти родной земли — она прилипла к ладоням, будто ласкала меня… И лишь потом заметил людей вокруг; они не приветствовали нас, а глазели издали и звали друг друга посмотреть на чужеземцев-критян.
Оглядел своих ребят — и понял, как выгляжу я сам, бычий плясун. Гладко выбритый; тонкий как хлыст от непрерывной тренировки; шелковая юбочка, вышитая павлиньими хвостами, стянута в талии широким золоченым поясом; веки до сих пор темны от краски — ничего эллинского во мне, кроме льняных волос. Ожерелья мои и браслеты — не царские драгоценности, а дорогие безделушки Бычьего Двора…
Арена въедалась в душу накрепко. Нога моя уже ступила на землю Аттики — а я всё еще был Тезей-афинянин, из Журавлей, первый среди бычьих прыгунов. Они там рисовали меня на стенах Лабиринта и вырезали из слоновой кости; украшали моими изображениями золотые браслеты; поэты клялись, что мы с ними переживем века в балладах, сочиненных в мою честь… Я всё еще гордился этим — но пора было снова становиться сыном своего отца.
Вокруг нас поднялся шум: толпа разглядела наконец, кто мы такие. Люди роились около нас, передавая новость к Афинам и к Скале; таращили глаза на царского сына, разряженного как фигляр… Женщины плакали от жалости, глядя на шрамы — следы скользящих ударов рогом… Такие шрамы были на каждом из нас; и люди думали, что это от плетей. По лицам моих ребят я видел, что они слегка обескуражены: на Крите каждый знал, что эти шрамы — наша гордость, знаки отточенного искусства…
Я вспомнил, как пели мрачные погребальные песни, когда я отплывал из Афин, как рыдали и рвали на себе волосы, как причитали по мне — добровольному козлу отпущения… Слишком много было на душе — не высказать, — и всё это прорвалось из меня радостным смехом… Какая-то старушка поцеловала меня…
В Бычьем Дворе голоса моих ребят не замолкали весь день, они и теперь звенели вокруг:
— Смотрите, мы вернулись! Все вернулись!
— Смотрите, вот ваш сын…
— Нет, критяне за нами не гонятся! Миноса больше нет, Дом Секиры пал!
— О! Мы сражались там в великой битве после землетрясения, Тезей убил их принца Минотавра…
— Мы свободны! Не будет больше дани Криту!
Люди смотрели на нас изумленно и тихо переговаривались: новости оглушили их. Мир без Крита — такого не было под солнцем; чтобы обрадоваться, надо суметь в это поверить… Но вот уже юноши вскочили, запели пеан…
Я с улыбкой сказал своим: «Ужинаем дома!», а про себя думал: «Не надо, ребята, не говорите им слишком много. Вы уже сказали всё, что они могут понять…» Но они продолжали щебетать. Мой слух уже настроился на аттический лад, и теперь их говор звучал как птичий гомон:
— Мы Журавли, Журавли! Журавли — лучшая команда Бычьего Двора…
— Целый год на арене — и все живы!.. Это впервые за всю их историю, а ей уже шестьсот лет…
— Это Тезей сделал. Он тренировал нас…
— Тезей — величайший прыгун, какой только был на Крите во все времена…
— А здесь, в Афинах, вы слышали о Журавлях?.. Должны были!..
Родственники обнимали своих любимых, разглядывали их; отцы целовали мне руки, за то что вернул домой их детей; я что-то кому-то отвечал…
Как мы молились, как мы боролись в Бычьем Дворе, за то чтобы вырваться оттуда! А теперь — как трудно избавиться от него, как трудно отвыкнуть от жизни на остриях рогов, когда каждый твой день — последний, а вера в товарища — сильней любви!.. Осталась свежая рана.
Одна девушка говорила своему жениху, который едва ее узнал:
— Слушай, Рион, я теперь бычья прыгунья!.. Я могу сделать на рогах стойку, правда! Раз я даже перепрыгнула через быка… Посмотри — вот камень, мне его один князь подарил; я выиграла ему пари — вот он и подарил…
Я видел, как лицо его отупело от страха; видел, с каким недоумением встретились их глаза… В Бычьем Дворе не только славу — саму жизнь надо было заработать; я еще жил этим, для меня сухопарые атлеты моей команды были красивы, — но как не похожа была эта резкая поджарая смуглянка на молочно-дебелых афинских дев, как она проигрывала им в глазах этого сукновала!.. Я вспомнил всё, что пришлось пережить Журавлям, и готов был убить этого идиота и забрать ее себе, — но Лабиринт был обращен в пепел и руины, Журавли уже были не мои, моя власть над ними кончилась.
— Найдите мне черного тельца, — сказал я людям, — я должен принести жертву Посейдону, Сотрясателю Земли, в благодарность за возвращение наше. И пошлите гонца к отцу моему.
Бычок подошел смирно и наклонил голову, будто соглашаясь, — добрый знак, который порадовал народ… Даже после удара он почти не бился; но когда падал — глаза его упрекнули меня, как человеческие; это было странно после такой покорности. Я посвятил его богу и пролил на землю его кровь… А залив костер вином, вознес молитву:
— Отец Посейдон, Владыка Быков, мы плясали для тебя в святилище твоем и вложили жизни наши в руку твою. Ты вернул нас домой невредимыми. Будь же и ныне благосклонен к нам и укрепи стены домов наших. Что до меня — я возвращаюсь вновь в твердыню Эрехтея, дай же мне силы удержать ее. Благослови дом отца моего. И да будет так, по молитве нашей.
Все закричали «аминь», но этот крик смешался с гулом новых вестей. Мой гонец вернулся гораздо раньше, чем мог бы добраться до Крепости, и теперь медленно шел ко мне; а люди расступались, давая ему дорогу. Я понял, что известие — о чьей-то смерти… Он подошел, постоял немного молча… Не долго: ведь афинянин всегда хочет быть первым с новостью, как бы ни была она плоха.
Мне подвели коня… Несколько приближенных отца уже успели подъехать мне навстречу; когда мы поскакали из Пирея к замку — я слышал, как радостные клики затихают и сменяются причитаниями.
В проеме ворот, где слишком круто для лошади, толклась дворцовая челядь, чтобы поцеловать мои руки или кайму моей критской юбочки. Только что они считали меня мертвым, а себя — беспризорными; боялись, что станут нищими, а то и рабами, если Паллантиды снова нагрянут на страну, а они не успеют исчезнуть…
— Отведите меня к отцу, — сказал я.
— Я посмотрю, мой господин, успели ли женщины обмыть его, — ответил старейший из дворян. — Он был весь в крови.
Отец лежал в верхнем покое на своей огромной кровати из кедра, с красным покрывалом, подбитым волчьим мехом, — он всегда боялся холода… Его завернули в голубое с золотой каймой… Среди вопивших женщин, — они рвали на себе волосы и царапали груди, — среди них он лежал удивительно тихо. Одна сторона лица была белой, другая — сплошной синяк от ударов о камни; на макушке была вмятина, как чаша, но это было задрапировано тканью; а перебитые руки и ноги ему распрямили.
Глаза мои были сухи. Я прожил с ним меньше полугода до отъезда на Крит; еще не зная, кто я, он пытался меня отравить, в этой самой комнате… Я не хранил за это зла, — но он был мне совсем чужим, этот расквашенный мертвый старик. Старый дед, воспитавший меня — Питфей из Трезены, — тот был отцом моего детства и сердца моего, по нему я мог бы заплакать… Но кровь есть кровь, и того что начертано в ней — не вытравить…
Синяя сторона его лица выглядела сурово, а белая чуть заметно улыбалась… У ножки кровати, положив морду на лапы, лежал его белый пес и смотрел в одну точку пустым немигающим взглядом.
— Кто видел его смерть? — спросил я.
Уши пса дрогнули, хвост мягко стукнул по полу… Женщины глянули сквозь распущенные волосы, потом закричали пуще, а самые молодые обнажили груди и снова стали по ним колотить… Только старая Микала молча стояла на коленях подле кровати. Она, не мигая, посмотрела мне в глаза своими — черными, по-обезьяньи ввалившимися в сеть глубоких морщин… Я выдержал ее взгляд, хоть это было нелегко.
Придворный сказал:
— Его видела стража с северной стены и наблюдатель с крыши. Их показания совпадают, он был один. Стража видела, как он вышел на балкон над пропастью, встал прямо на балюстраду и поднял руки. А потом — прыгнул.
Я глянул на правую сторону его лица, потом на левую… Их показания не совпадали.
— Когда это было? — спросил я.
— Из Суния прискакал гонец с вестью, что мимо мыса проходит корабль. — Он говорил, глядя в сторону, мимо меня. — Царь спросил: «Какой парус?» Гонец ответил: «Критский, мой господин, сине-черный, с быком». Он приказал накормить гонца и ушел к себе. Больше мы его не видели.
Было ясно, этот человек знал, о чем говорит. Потому я повысил голос, чтобы было слышно всем.
— Я всегда буду скорбеть об этом, — сказал я. — Теперь я вспоминаю, как он просил меня поднять белый парус, если буду возвращаться невредимым. С тех пор было столько всего — год с быками, землетрясение, восстание, война!.. Моя вина — я забыл!
Старый камергер, белый и безукоризненный, как шлифованное серебро, выскользнул из толпы. Некоторые колонны в царском доме не боятся землетрясений, в этом их предназначение…
— Мой господин, — сказал он, — не кори себя, он умер смертью Эрехтидов. Царь Пандион в свое время ушел из жизни так же, на том же самом месте; и царь Кекроп — с бастиона своего замка на Эвбее… Знак свыше был ему, не сомневайся, и твоя память промолчала лишь по воле богов. — Он улыбнулся мне серьезной серебряной улыбкой. — Бессмертные знают букет молодого вина, они не дадут перестояться божественному напитку.
При этих словах вокруг заговорили. Тихо и с подобающим приличием, — но в голосах слышалось ликование, как в криках бойцов при виде бреши, пробитой кем-то другим.
Сквозь причесанную бороду отца я видел его усмешку. Он правил смутным царством пятьдесят лет и кое-что понимал в людях. Он казался сейчас меньше, чем был, когда я уезжал; или, быть может, я подрос немного за это время?..
— Вы свободны, господа, — сказал я.
Они ушли. Женщины покосились на меня украдкой — я услал и их. Но они забыли старую Микалу, которая пыталась подняться с негнущихся колен, цепляясь за столбик кровати. Я подошел, поднял ее, и мы снова встретились взглядом.
Она неуклюже поклонилась и хотела уйти, но я взял ее за руку — мягкая дряблая кожа на хрупкой косточке — и спросил:
— Ты видела это, Микала?
Она еще больше сморщилась и стала вырываться, как пойманный ребенок. Косточка вертелась, а дряблая плоть была неподвижна в моей руке, и череп ее просвечивал розовой цыплячьей кожицей сквозь тонкие редкие волосы…
— Отвечай, он говорил с тобой?
Она замигала.
— Со мной?.. Мне никто ничего не говорит, в дни царя Кекропа мне уделяли больше внимания… Тот сказал мне, когда ему был зов. Кому бы еще он мог сказать? — в его постели была я… Он говорил: «Послушай, еще, вот опять, послушай Микала… Наклонись девочка, приложи ухо к моей голове… Ты услышишь, это как колокол — гудит…». Я наклонилась, раз ему так хотелось… Но он отодвинул меня рукой и поднялся обнаженный, и пошел — как будто задумался — прямо из постели — на северный бастион — и вниз… Без звука…
Она рассказывала эту историю уже шестьдесят лет, но я дослушал до конца.
— Ладно, — говорю, — это всё про Кекропа. Но здесь лежит мертвый Эгей, что сказал он?
Она пристально смотрела на меня. Старая колдунья, доживающая свой век; усохший младенец, из глаз которого глядел древний Змей Рода… Но вдруг снова заморгала, захныкала, что она всего лишь бедная старая рабыня и давно потеряла память…
— Микала, — сказал я, — ты меня знаешь? Брось меня дурачить!
Она вздрогнула — и вдруг заговорила, словно старая нянька с ребенком, что топнул на нее ножкой.
— О да, я знаю тебя! Юный Тезей, которого он зачал в Трезене на девчонке царя Питфея, шустрый малый, которому везде всё надо… Ты остался таким же чужим и чудным, как и рос, — словно любовник богатого вельможи или бродячий танцор!.. Ты с Крита прислал с шутом весть, что он должен послать корабли против царя Миноса и привезти вас домой. С этого всё и пошло. Немногие знали, что его гнетет, но я — я всё знаю.
— Ему надо было выступать, а не горевать, — сказал я. — Крит прогнил до основания, и я знал это. Я это и доказал, поэтому я здесь…
— А ему!.. Думаешь ему было легко поверить тебе? Ведь его собственные братья воевали с ним за престол. Лучше бы он поверил оракулу Аполлона, прежде чем распустить пояс твоей матери!.. Да, он выбрал жребий себе не по силам, бедняга.
Я отпустил ее. Она стояла, растирая руку, что-то ворчала про себя… Посмотрел на отца — из-под ткани на голове струйкой сочилась кровь.
Я отступил на шаг. И чуть не расплакался перед ней, как плачет ребенок своей няне: «Сделай, чтоб этого не было!» — но она отодвинулась, как змея уползает к своей норе при звуке шагов.
У нее были агатовые глаза — и вообще она была из древнего берегового народа, и знала земную магию и язык мертвых в обители тьмы… Я знал, чьей слугой была она, — не моей: Великая Мать всегда поблизости, там где мертвые.
Никто не станет лгать, когда слушают Дочери Ночи, и я сказал правду:
— Он всегда боялся меня. Когда я впервые пришел сюда победителем с Истма, он пытался меня убить. Из страха…
Она кивнула. Она и впрямь знала все.
— Но когда он узнал, что я его сын, мы поладили достойно: я побеждал в его войнах, он мне оказывал почести… Казалось, мы любим друг друга, как должно. Он пригласил меня сюда… Ты же видела нас по вечерам, когда мы говорили у огня.
Я снова повернулся к нему. Кровь больше не текла, но еще не засохла на щеке.
— Если б я хотел ему зла — стал бы я его спасать в бою?!.. Под Сунием мой щит закрыл его от копья… И все-таки он меня боялся. А каково мне было на Крите?.. Но я чувствовал, что он всё равно боится. Что ж, теперь у него была причина: он предал меня с кораблями, и это могло бы нас рассорить; на его месте я бы умер от стыда…
Сказав это, я испугался: не подобало говорить так при нем, и Дочери Ночи такие вещи слышат… Что-то холодное коснулось моей руки… Меня затрясло, — но это был нос того белого пса; он прижался к моему бедру, и живое тепло успокаивало.
— Прежде чем поднять парус, я молил Посейдона о знамении. Я хотел прийти к нему раньше, чем он узнает о моем возвращении. Чтобы доказать, что я пришел с миром, что нет во мне зла за то дело с кораблями, что я спокойно ждал бы своего времени править… Я молился, — и бог послал мне знак, о котором я просил.
Хранители Мертвых молча приняли мои слова. Слова… Слова не смывают крови — расплата впереди… Однако, хотел бы я успеть поговорить с ним как мужчина с мужчиной. Я боялся, он сделает это от страха, а он сделал — от горя; была в нем эта мягкость под всей его изворотливостью… И все-таки так ли это было? Ведь он был Царь. В горе или нет — он должен был назначить наследника, распорядиться государством — не оставлять хаос после себя… Уж он-то это знал!.. Быть может, правда, что бог позвал его?
Я взглянул на Микалу, но увидел всего лишь старуху-рабыню. И пожалел, что сказал так много.
Она подковыляла к покойнику, взяла полотенце, оставленное женщинами, вытерла ему лицо… Потом повернула кверху его ладонь — коченеющее тело двигалось неподатливо, — посмотрела, положила руку на место и взяла мою. Казалось, что ее рука холодна от прикосновения к мертвому. Пес заволновался; скуля, втиснулся между нами; она отогнала его и отряхнула платье.
— Да, да!.. Его жребий был слишком тяжек для него… — Гаснущее пламя блекло в ее водянистых глазах. — А ты, ты иди со своей судьбой, но не перешагивай черты. За чертой — тьма… Истина и смерть придут с севера с падающей звездой…
Она скрестила руки и закачалась, и голос ее стал пронзительным, как вопль по покойнику… Потом выпрямилась и резко крикнула:
— Не выпускай быка из моря!
Я ждал, но она умолкла. Глаза ее снова опустели… Я шагнул было к ней, но подумал: «Какой смысл? Всё равно ведь ничего не добьешься от нее…»
Отвернулся… И услышал рычание: пес дрожал, оскалив зубы и поджав хвост, шерсть у него на загривке стояла дыбом… Словно старые сухие листья, прошелестели шаги — она ушла.
Придворные ждали снаружи. Я вышел к ним, а собачий нос был прижат к моей руке: пес шел возле меня, и я не стал его прогонять.
2
Похороны были пышные. Я похоронил его на склоне холма Ареса, вместе с другими царями. Гробница была облицована шлифованным камнем, а шляпки гвоздей гроба — в форме цветов — позолочены; еда его и питье стояли в раскрашенных чашах на подставках из слоновой кости…
Я построил для него высокую, роскошную погребальную колесницу; и завернул его в громадный саван, затканный львами… С ним положили ларцы, покрытые эмалью, лучший меч его и лучший кинжал, и два тяжелых золотых кольца, и его парадное ожерелье… Когда над сводом насыпали курган, я заколол на его вершине восемь быков и боевого коня для него, чтобы ездить там, внизу… Пес Актис был со мной; но когда он заскулил при виде крови — я приказал увести его и вместо него убил двух гончих из Дворца. Если бы он горевал до конца, я отослал бы его вниз, к отцу; но он сам выбрал меня, по своей воле.
Кровь животных впитывалась в землю, и женщины затянули погребальную песню, прославляя и оплакивая его. Люди начали утаптывать могильный холм. Только узкий проход оставили в насыпи, чтобы он смог прийти на свои Погребальные Игры. Песнь возносилась и затихала; и люди раскачивались и топали в такт; и звуки двигали их, как двигают кровь удары сердца.
А я стоял, забрызганный кровью убитых зверей, и думал — что за человек он был? Ведь он получил мое донесение, что если он двинет флот против Крита, то рабы там восстанут, а мы, бычьи плясуны, захватим Лабиринт. Я предлагал ему победу и славу — и тысячелетние сокровища критской короны — он отказался! Вот этого я не мог понять и никогда не смогу: человек хочет — и не делает.
Как бы там ни было, он был мертв. Весь день, с утра до вечера, прибывали вожди Аттики: на поминальный пир и на завтрашние Игры. С крыши Дворца были видны отряды копейщиков, пробиравшиеся по холмам; а на равнине клубилась пыль под ногами пехотинцев и копытами коней, и развевались перья над шлемами колесничих… Они шли, вооруженные до зубов, и у них были на то причины. Эти аттические владыки никогда не знали общего закона. Иные были, как и мы, из победившего племени эллинов, пришедшего с севера на колесницах, — этих можно было узнать издали, потому что другие возницы уступали им дорогу… Но были и из берегового народа — из тех, кто смог удержаться в своих берлогах где-нибудь в горах или в ущелье, куда не залезешь, а потом сумел ужиться с победителями… Были пираты, чьи владения составляла гавань и несколько грядок на берегу, жившие своим старым промыслом… Были и люди, поднятые отцом и мною, которым мы дали наделы за помощь в войне с Паллантидами. Все они, вроде бы, должны были признавать меня Верховным Царем. По крайней мере настолько, чтобы воевать вместе со мной и не укрывать моих врагов. Некоторые платили дань — вином, скотом или рабами — царскому дому и его богам… Но они правили своими землями по обычаям своих предков и не терпели вмешательства. Поскольку обычаи соседей были разными и кровная вражда тянулась поколениями, эти щиты на дорогах были не только для красоты. Но мне довелось видеть с Лабиринта широкие мощеные дороги, пересекавшие Крит от моря до моря, где оружие можно было встретить только на караульных постах, — для меня эти банды, гордые собой, выглядели жалкими.
Я глянул вниз на отвесные стены Скалы. Неприступная твердыня! Она и только она сделала Верховным Царем моего деда, отца и меня самого. Если бы не Скала — я был бы не лучше любого из тех, внизу: вождем крохотной банды, владельцем нескольких лоз и олив… Может и корова была бы, если б соседи не угнали как-нибудь ночью…
Пошел в дом проведать Богиню крепости в ее новом святилище.
Она принадлежала Скале с незапамятных времен; но в дни моего деда Пандиона, — когда братья разделили царство, — Паллас захватил ее и увез в свои владения в Суний. Взяв ту крепость в отцовской войне, я привез ее назад. Я ей оказывал почтение: когда громили и грабили Суний — я заботился о ее жрицах, как о собственных сестрах, и к ее священному сокровищу никто не прикоснулся… Но она пробыла там слишком долго, — и теперь мы привязали ее к колонне ремнями из бычьей кожи, на всякий случай, чтоб ей не вздумалось улететь назад и оставить нас. Она была очень старая; лицо и обнаженные груди — деревянные — почернели, как уголь, от времени и масла… Руки ее были вытянуты вперед; вокруг правой извивалась золотая змея, а на левую был надет щит. Настоящий. Она всегда была вооружена, и когда я привез ее назад — подарил ей новый шлем, чтоб она меня полюбила. Под ее святилищем — пещера Змея Рода, запретная для мужчин, но сама она дружит с нами: любит дерзких полководцев, и принцев храбрых в бою, и достойных наследников славы старинных семей.
Жрица говорила, что наш Змей по-прежнему дает добрые предзнаменования, — значит, Богине нравится ее новый дом. А чтобы не упустить какого-нибудь имени, к которому она привыкла, мы в своих гимнах зовем ее Афина-Паллада.
Наступила ночь, гости были накормлены и расположены на ночлег… Но у меня еще оставался долг перед отцом, пока земля не сомкнулась над ним навсегда. Большую часть ночи я бодрствовал вместе со стражей у его кургана: заботился о поминальном костре и возливал вино в жертву подземным богам. Пламя костра освещало длинную каменную лестницу, уходящую в курган, и крашеные косяки у входа в склеп, и новые бронзовые засовы, и змею Эрехтидов над дверьми… Но внутрь, за открытые двери, свет не проникал; и иногда, отвернувшись, я чувствовал спиной, что он стоит в тени за дверью и смотрит на свой погребальный обряд, как рисуют умерших на картинах.
Поздней ночью на небе показался полумесяц и осветил кладбище. Из темноты возникли тополя и кипарисы, тонкие и неподвижные как копья стражников; и старинные курганы; и стелы на них — с кабанами, львами и схватками колесниц; и столбы с обветшавшими трофеями, склоненные к востоку…
Поленья в костре рухнули, вверх рванулись снопы золотистых искр и языки пламени… Похолодало — это жизнь отливала от нас, живых. Ослабевшие от росы, подползали духи — погреться у огня, вкусить от приношений… В такие моменты, когда свежая кровь придает им сил, они могут говорить с людьми… Я повернулся к двери в глубине кургана — в сполохе блеснуло большое бронзовое кольцо… Но внутри всё было так же тихо и неподвижно.
«Что бы он сказал? — думал я. — Как там, в полях Гадеса, где нет ни восхода, ни заката, ни смены времен года?.. И люди там не меняются, ведь перемены — это жизнь… Те, кто только тени прошедшей жизни, — они должны сохранить свое земное обличье, во что бы ни превратились они, пока ходили под солнцем. Надо ли богам судить нас после? Пожалуй, жить с самим собой и вечно помнить — это достаточно суровый приговор… О Зевс и Аполлон, пусть я со славой уйду когда-нибудь в то царство теней! И когда я буду там — дайте мне услышать мое имя, оставшееся в мире живых. Смерть не властна над нами, пока певцы поют о нас, а дети помнят…»
Я обошел вокруг кургана, разогнал стражников, пристроившихся выпивать за деревом… Отец не скажет, что я пренебрег обрядом, принимая его наследство. Потом снова выложил костер и пролил масла на него, и подумал: «Когда-нибудь я буду лежать здесь, а мой сын будет делать всё это для меня».
Наконец показалась утренняя звезда. Я крикнул, чтоб дали факел, и пошел вверх по длинному склону к Крепости, и снова вверх, через темный гулкий дом… И рухнул спать не раздеваясь: с восходом мне надо было быть на ногах, чтобы начать Игры по утренней прохладе.
Они прошли хорошо. Не обошлось, конечно, без споров — в Аттике иначе не бывает, — но я рассудил их так, что зрители одобрили мои решения; и проигравшие, чтоб не срамиться, тоже с ними согласились. Призы были такие, что удовлетворили бы хоть кого… Но самые лучшие я назначил за гонки колесниц — в честь Посейдона, Отца Коней. Первым призом был эллинский боевой конь, приученный к колеснице. Вторым — женщина… Она была самой молодой из служанок отца, эта синеглазая сучка, и когда он еще жив был — в лепешку расшибалась, чтоб забраться ко мне в постель. Зная, что я про нее знаю, — она была рада попасть к другому мужчине, которого ей легче будет дурачить, да еще покрасоваться по пути перед сотней воинов. Она была наряжена как царица, и меня превозносили за щедрость… Третий приз — баран и треножник.
Отец получил всё, что ему причиталось. Теперь заперли обитые бронзой двери и засыпали проход к ним… Его тень уже должна была пересечь Реку и присоединиться к воинству мертвых. Скоро курган оденется травой, на нем будут пастись козы…
Юноши, принимавшие участие в Играх, ушли с луга искупаться и одеться, их голоса были свободны и жизнерадостны… Старики собрались отдельно. Они не согрели кровь в состязаниях и еще ощущали холод смерти, потому были поначалу суровы и торжественны. Но вскоре и от них донесся веселый шум, как стрекотание кузнечиков в погожий осенний день, когда морозы, кажется, еще далеко.
Я пошел переодеться к пиру. Вечер был теплый, царское облачение давило тело и имело какой-то противный затхлый запах… Я подумал о Крите, где только старики и простолюдины закрывают свое тело, а принцы ходят почти такими же нагими, как боги. Чтобы не выглядеть слишком чужим, я надел эллинские короткие штаны из ярко-красной кожи, широкий пояс, усыпанный ляписом; но сверху — только царское ожерелье и надлокотные браслеты. Теперь я был наполовину царь, наполовину бычий прыгун — внешне, как и в душе. Так я чувствовал себя увереннее.
Молодежь разглядывала меня во все глаза. Раньше, занимаясь борьбой, я обрезал себе волосы на лбу по брови, чтоб нельзя было схватить меня за чуб, — они подхватили это (стрижка и по сей день называется «под Тезея»). Теперь, я видел, переймут и одежду… Но мое внимание было посвящено гостям: надо было разобраться, кого не хватает, подошло время сосчитать моих врагов. Оказалось, что все сильнейшие вожди были здесь — кроме одного, самого сильного. Я много слышал об этом человеке. Это было скверно.
На другое утро я пригласил их всех в Палату Совета. Впервые сидел я на троне Эрехтея; вдоль расписных стен, на скамьях, обитых узорчатыми коврами, расположились владыки Аттики… Я постарался забыть, что многие из них имели сыновей старше меня, и сразу перешел к делу. Минос мертв, его наследник Минотавр — тоже; на Крите смута: двадцать разных хозяев, а точнее — ни одного. Эта весть должна птицей облететь царства Ахейцев. «Если мы хотим быть хозяевами островов, а не вассалами какого-нибудь нового Миноса, — нам необходимо выйти в море».
Крит — страна золота, потому меня охотно поддержали. Один из них встал и сказал, что для победы над такой большой страной нужны союзники. Это было разумно, и у меня был ответ… Но у наружных дверей послышался шум, и мои гости заерзали. На их лицах был страх пополам с ожиданием, а некоторые обменялись потаенной улыбкой, как в предвкушении забавного зрелища.
Снаружи донесся звон снятого оружия — в зал вошел человек. Это его не было на пиру; он пришел с опозданием на совет.
Его никчемные извинения звучали оскорбительно, но я их выслушал до конца, изучая его. Никогда прежде я его не видел; он редко вылезал из своего логова на Кифероне, где охотился за путниками на Фиванской дороге. Я представлял его страхолюдным, но он оказался очень мил — этакий гладкий, упитанный пончик…
— Нам пришлось ждать тебя, Прокруст, — сказал я. — Но ты пришел из горной страны, и дороги у вас наверно ужасны…
Он улыбнулся. Я стал коротко излагать ему дело. Отец не трогал его двадцать лет, не рискуя ввязаться в войну с ним, — все присутствующие это знали. С тех пор как он вошел, никто на меня не смотрел и, наверно, никто меня не слушал; было ясно, что его они боятся больше, чем меня, — и от этого стало не по себе.
Я еще говорил, когда вдруг услышал визг из-под скамьи возле него. Мой пес Актис выскочил оттуда, подхромал ко мне, держа на весу переднюю лапу, и, дрожа, лег возле меня. Как это получилось, я не заметил, но стал гладить собаке уши — и тут заметил его ухмылочку. Меня как ударило: «О Зевс! Ведь он старается запугать меня!»
Все эти подхалимские рожи вокруг вогнали было меня в тоску, но теперь я был натянут как тетива. Чтоб меня так разозлили, а я бы остался сидеть — такого еще не случалось; однако на этот раз я не подал виду и ждал.
Успели высказаться несколько человек, когда он поднялся и взял ораторский жезл. Было видно, что он воспитывался в княжеском доме.
— Я голосую за войну, — сказал он. — Те, кто боится битв, — никогда не оставят своим сыновьям домов, богатых золотом и рабами. — Раскланялся во все стороны, как будто сам придумал эту затасканную формулу… Никто не осмелился улыбнуться. Мне тоже было не до шуток. — И потому, — продолжал он, — прежде чем говорить о кораблях и войске, мы должны, следуя обычаю, выбрать военного вождя, поскольку царь наш слишком молод.
Упала тишина. Тихонько перешептывались… Никто не высказался за меня. Чуть раньше это бы меня обескуражило, но теперь — нет. Уже нет.
— Мы выслушали тебя, Прокруст, — говорю. — А теперь послушай меня. Корабли на Крит поведу я, и тот кто пойдет со мной не прогадает, потому что я знаю Лабиринт не хуже, чем ты — тропы Киферона. Ты!.. Смердящий шакал, забивший логово гниющими костями!..
Его улыбка застыла. Он на самом деле думал, что я не решусь бросить ему вызов здесь, в моем собственном доме! Он пришел позабавиться моим унижением — что же сумел вытерпеть отец, чтобы довести до такого?
— Ты не был на пиру, — продолжал я, — хотя человек, оказавший гостеприимство такому множеству путников, должен бы иметь друзей повсюду!.. А еще я слышал, будто кровать твоя настолько хороша, — ни у кого не хватает мочи выбраться из нее, разве что унесут… Я приеду ее посмотреть. Только уж не уступай ее мне, слишком долго ты ее уступал гостям… Когда я тебя навещу — ты будешь лежать в ней сам, клянусь головой Посейдона!
Какой-то момент он стоял, оглядываясь на людей вокруг. Но все владыки Аттики сидели такие довольные, словно им почесали где чешется. Вдруг кто-то громко засмеялся — и все присоединились; напряжение разрядилось хохотом, таким, что крыша дрожала.
Он надулся, как змея, переполненная ядом и готовая к прыжку, открыл было рот… Но с меня было довольно.
— Ты пришел в мой дом, — говорю, — и потому можешь уйти живым. Но теперь убирайся; если я пересчитаю десять пальцев, а ты еще будешь здесь, — я тебя скину со Скалы!..
Он в последний раз улыбнулся мне улыбкой висельника и вышел. Очень вовремя: на стене, у меня за спиной, были старинные дротики, и я боялся что не сдержусь.
Так получилось, что перед большой войной я повесил себе на шею эту.
Но оно было к лучшему. Вожди давно ненавидели себя за то, что терпели его. Если бы я уступил, — они перенесли бы эту ненависть на меня.
Большинство из них выступили со мной. Он знал, что я нападу, но не ждал, что так скоро. Он даже не сжег лес, облегчавший подход к стенам, когда мы пошли на штурм. Что мы нашли в его комнате для гостей — век бы никому о том не слышать, как мне бы век не вспоминать! Видели мы и его знаменитую кровать, а в тюрьме — тех, кому довелось полежать в ней, ожидавших своей дальнейшей участи. Иные валялись у нас в ногах, умоляя о быстром ударе мечом; это и впрямь было лучшее, что им оставалось. Поэтому мы завязали им глаза — тем, у кого они еще были, — и избавили их от мучений. Остальные — кто мог еще двигаться — просили у нас другого подарка: они хотели заполучить хозяина, чтобы воздать ему за милости его. Мы связали его — и тут мне стало худо; я ушел от них и закрыл двери. Через несколько часов он умер. Меня спросили, не хочу ли я увидеть тело, но с меня хватило и того, что я слышал; я сказал, чтоб его сбросили в пропасть. Его сыновья уже были там: этот род надо было искоренить.
Так умер Прокруст, последний из горных бандитов, самый сильный и самый сволочной. Я знал, — прежде чем он открыл рот на совете, — знал, что плохо иметь его с собой на Крите; и еще хуже — оставить за спиной в Аттике. Он стоял на моем пути и дал мне убедиться в этом. Конечно, глупо было с его стороны озлоблять меня — но он был рабом своих удовольствий, в чем бы они ни состояли. Он не знал меня и не понял, как много я должен был выиграть, разделавшись с ним… В общем, он пришел как гриф-стервятник, приносящий удачу. Теперь все мои вассалы были преданы мне и готовы идти со мной за море.
3
Подготовка флота уже заканчивалась, когда с Крита стали приходить известия, что там появился новый Минос. Я знал его имя — Девкалион — и, судя по тому, что о нем слышал раньше, считал его марионеткой, ставленником тех вельмож, чьи замки устояли во время восстания. Но он был из царского рода; и его армия, собранная из беспризорных копейщиков павших домов, выбила восставших рабов из Лабиринта. Нечто подобное должно было случиться; но это значило, что времени терять нельзя.
При всем при том я не собирался кидаться как разъяренный бык; я знал критян и строил свои планы, учитывая их хитрость… Но не учел их дерзости. От них прибыл посол.
Он вошел в мой Зал — локоны на обнаженных плечах, золотой пояс на осиной талии… Перед ним черные пажи несли, по этикету, дары: золотое ожерелье с хрустальными подвесками, раскрашенные кувшины благовонных масел, куст редкостной розы с пятнистыми цветами — будто кровь и янтарь… О дани — юношах и девушках из Аттики — на этот раз не было ни слова.
Пока мы обменивались любезностями, я думал: «Видел ли я тебя раньше, крошка-павлин? Уж ты-то меня наверняка видел… Ты успел смягчить губы маслом, с тех пор как вопил мне с трибун…» Он встретил мой взгляд и — глазом не моргнув — объявил, от кого прибыл, попросил моего расположения… Я не рассмеялся: обращаться с критянами как с эллинскими вождями — это же всё равно что пойти с рогатиной на лису… Они заставили меня прожить среди них год; мне надо было бы учиться править царством — взамен я изучил за это время бычью пляску и их нравы.
Я спросил, где тело Миноса (его нельзя было найти) и где их царская печать (я сам ее увез)… Мне все эти переговоры были — как зайцу перья. Немножко времени для подготовки — единственное, что было нужно.
— Ваш корабль в Пирее? — спросил я. Там он ничего не мог увидеть: чтобы скрыть свои планы, я строил корабли в Трезене, по другую сторону залива.
— Нет, господин мой, в Марафоне, — в его вкрадчивом голосе мне послышалось ехидное нетерпение. — Я причалил в стороне от города, потому что у нас на борту есть еще один подарок вам от моего повелителя — нечто более достойное вашей славы. Его нельзя выпускать на улицы — может начаться паника… Царь Тезей, поскольку бычьи плясуны рассеялись с Крита и с плясками покончено, мой царь посылает вам, в знак своего уважения, Подарга, Царя Быков из священного стада, ведущего род свой от Солнца. Он ваш, поступайте с ним как вам будет угодно.
— Подарг!.. — Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло. Каждый плясун в Лабиринте знал Снежного Исполина — это огромное белое чудо пегих критских стад. Он был быком Дельфинов, этот зверь, такой же коварный как и прекрасный. В команде Дельфинов подолгу не жили. Казалось, с ним должно быть хорошо работать: он бросался прямо вперед и был, вроде бы, отличным быком для прыжка… Но когда он убивал — ох, как часто! — мы, профессионалы, спорили, как он это сделал, и не могли понять. Если бы наша команда работала с ним — сомневаюсь, что смог бы вернуть домой всех. Но мне всегда хотелось испытать его самому, и даже сейчас при его имени я не смог скрыть волнения.
Я очнулся от грез. Критянин улыбался, глядя на меня.
— Это царский подарок, — сказал я. — Но не человеку, а богу!.. Такие быки священны, Аполлон разгневается, если я возьму его в свое стадо.
— Было бы очень сложно доставить его назад в Кнос…
Критянин выглядел растерянно. Я чуть не расхохотался, это было легко себе представить. Мне хотелось узнать, как они дотащили его сюда, но я уже не был бычьим плясуном.
— В этом нет нужды, — говорю. — Аполлону принадлежит наше Солнечное стадо. Мы снова отдадим его богу.
В любом случае я не мог принять такой подарок от человека, с которым собирался воевать. Отослать его в стадо Аполлона — это был выход, спасавший мою честь. Но, по правде говоря, было жалко. Впрочем, сначала можно было хотя бы случить его с несколькими коровами моего стада… Он был последним, что осталось от Бычьего Двора, в его потомстве сохранился бы отблеск нашей жизни в тот странный год… Рев арены под солнцем Крита — он долго не смолкает в памяти.
Критянин откланялся. Меня охватили воспоминания, но я встряхнулся и вернулся было к делам… И тут увидел гонца, скачущего с востока. Аминтор, теперь начальник моей стражи, встретил его — и тоже бросился бегом будто ненормальный. Он стукнул в дверь и, упав на пороге, выдохнул как на бычьей арене:
— Тезей!.. Подарг на свободе!
— Отдышись, — говорю. — Раз так, то придется его поймать, вот и всё.
— Он взбесился. Эти болваны-критяне упустили его, и он свирепствует в Марафоне. Трое мужчин убиты сразу, еще четверо и женщина умирают, и маленький ребенок…
— Старина Снежок? — удивился я. — Но ведь он никогда не бузил. Дельфинам приходилось раздразнить его, чтоб он начал нападать.
— Его везли по морю. И достаточно подразнили в Марафоне, пока пытались поймать. Кроме людей он убил трех лошадей, а мулов и собак — никто и не считал…
— Собак?! ! — я вскочил. — Идиоты несчастные!.. Они что не знают, кто он такой?
— Очевидно, нет. Мы на Крите привыкли к этим громадным зверям, но наши здешние быки — телята против него; люди приняли его за чудовище…
— Чего они полезли, болваны, прежде чем послали ко мне?
— Теперь они оставили его в покое и начали молиться. Говорят, что его послал Посейдон, чтобы истребить их. Они зовут его Бык из Моря…
Это прозвучало как гонг. Я постоял молча… Потом начал снимать одежду. Обнаженный, подошел к сундуку, где было сложено мое снаряжение бычьего прыгуна; с украшениями не возился, но надел бандаж из тисненой и позолоченной кожи. На арене привыкаешь играть со смертью, но стать кастратом — увольте.
Аминтор что-то говорил, но в ушах у меня звучали слова старой Микалы. Тогда, у смертного ложа отца, я знал, что она говорит по Воле. Тайная тень осталась с тех пор в моей душе — грядущая судьба, подстерегающая меня. И вот мы встретились. Совсем немного времени прошло: я еще быстр и силен, и не утратил молодого задора и тренированной хватки в руках… Сегодня избавлюсь — или погибну.
Аминтор схватил меня за руку, потом вспомнил, кто я, и отпустил.
— Государь!.. Тезей, что ты делаешь?! Ты не сможешь взять его теперь — бык, которого покусали!..
— Посмотрим, — говорю. Я обшаривал сундук в поисках амулета. Хрустальный бык на шейной цепочке, я никогда не выходил без него на арену. Плюнул на него, на счастье, надел и позвал своего камердинера:
— Пошли в Марафон глашатая, срочно. Пусть кричит, чтобы люди не трогали быка, а спрятались в домах и оставались бы там, пока я не пришлю вестей. Оседлай мне Грома. Мне нужна сеть для быков — пусть приторочат к седлу — и самая крепкая привязь, как при жертвоприношениях берут. Торопись. Никакой стражи, Аминтор. Я пойду один.
Слуга открыл было рот — закрыл — вышел.
Аминтор ударил ладонью по бедру и закричал:
— Святая Мать! Где же смысл?.. После целого года на арене выбросить свою жизнь под ноги критянам!.. Клянусь, они рассчитывали на это! Клянусь, у них был приказ выпустить быка! Они знают твою гордость, они на это и надеялись!..
— Я бы не хотел разочаровать критян после года на их арене. И как бы там ни было, Аминтор, мы не на арене; не ори мне в ухо.
Однако он провожал меня вдоль всей лестницы, упрашивая вызвать Элевсинскую гвардию и убить быка копьями. Быть может, те, кто остался бы под конец, и смогли бы это сделать; но бог послал эту судьбу — мне — не для того чтобы я спасался от нее чужими жизнями.
В Афинах все уже знали. Люди стояли на крышах — хотели посмотреть, как я еду; некоторые порывались следом… Я приказал своим конникам вернуть их и самим остаться у ворот. Дорога была пустынна, и когда я скакал в Марафон меж оливковых рощ и зеленых ячменных посевов — нигде не было ни души, только удод кричал в полуденной тишине да чайки на берегу.
Меж высоких черных кипарисов шла дорога к морю, а возле нее была маленькая винная лавочка. Из тех, где собираются крестьяне по вечерам, когда распрягут своих волов: скамейки под раскидистой шелковицей; вокруг бродят куры, пара коз и молоденькая телка; маленький саманный домик — старая развалюшка, дремлющий в солнечном мареве… За ней плоский болотистый луг, — длинная полоса равнины между заливом и горами, — синее море плескалось на пляже, заваленном водорослями и плавником… Медленные тениоблаков, пышных как гроздья винограда, ползли по опаленным солнцем горам; от самого берега и до оливковых деревьев, посаженных чуть повыше, росла тощая, худосочная трава с желтыми цветами мать-и-мачехи… И среди цветов, словно громадная глыба драгоценного белого мрамора, стоял критский бык.
Я привязал своего коня к кипарису и тихо пошел вперед. Это был Старина Белый — без сомнения, — на рогах я разглядел краску, оставшуюся от бычьей арены: золотые полосы блестели на солнце, хоть концы были в грязи… Подходил полдень, час Бычьей Пляски.
По тому, как он озирался вокруг, — сразу было видно, что он на грани. Хоть я был далеко, он меня увидел, взрыл землю передним копытом… Я отошел подумать: не было смысла трогать его, пока я не готов.
Потом прыгнул в седло, мой конь медленно пошел мимо лавчонки… И опять попалась на глаза телушка, медово-желтая, с мягкими карими глазами. Я вспомнил, как ловят быков на Крите, и посмеялся над своей медлительностью. Снова привязал коня — и постучал в дверь.
Прошаркали медленные шаги, дверь чуточку приоткрылась, и выглянул глаз, видно что старый.
— Впусти меня, мать, — сказал я. — Мне надо поговорить с твоим мужем.
— Ты, наверное, чужак здесь… — она открыла дверь.
Внутри было пусто и чисто, как в птичьем гнезде. Она, очевидно, давным-давно овдовела… И была такой высохшей, что казалось, ей лет сто, не меньше. Глаза были еще синими и ясными, но чудилось, вот дунь на нее — и улетит.
— Нечего тебе делать на дороге, сынок, — говорит. — Ты не слыхал крикуна? Великий Царь афинский приказал всем запереться в домах, пока он не приведет свое войско. В наших полях бешеный бык буянит, говорят он из моря вышел… Ну ладно, заходи-заходи, чего уж с тобой делать… Гость из чужой земли — свят; а я по говору слышу, что ты из дальних стран…
Мне стало неловко. Она была первой, кто сказал мне, что я подхватил критский акцент в Бычьем Дворе.
Она ковыляла вокруг, наливая вина и воды в глиняную чашу, потом усадила меня на трехногий стул и дала ячменного хлеба с козьим сыром… Пора было мне сказать, кто я такой, но мне не хотелось слишком волновать ее. Я сказал:
— Да благословит тебя Великая Богиня, мамаша, теперь я смогу работать лучше. Я ловец быков из Афин. Приехал вот за этим.
— Батюшки!.. Что думает наш Царь?!.. Один молоденький паренек, совсем один, против громадного быка в ярости!.. Ты должен вернуться назад и сказать ему, что ничего не выйдет из этого. Он-то не знает повадок скота, он других для этого нанимает!
— Царь знает меня. Я учился своему ремеслу на Крите, а этот бык как раз оттуда, поэтому я и приехал. Мать, можешь ты одолжить мне свою корову?
Бедняжка задрожала с ног до головы, челюсть у нее отвисла.
— Взять мою бедную Софрину, чтобы этот лютый зверь ее убил? Ведь у Великого Царя тысяча своих коров!
— Что ты! Он ее не убьет, — говорю, — не бойся. Она его успокоит. А если он обслужит ее — она принесет тебе лучшего теленка во всей Аттике, ты сможешь выручить за него целое состояние.
Она отошла к маленькому окошку, едва не плача и бормоча что-то.
— Будь добра, бабушка. Не ради меня — ради всех людей.
Она обернулась.
— Бедный мальчик! Бедный мальчик, ты рискуешь своей плотью, своей жизнью — что значит против этого моя корова?.. Возьми ее, сынок, и пусть Всематерь поможет тебе!
Я поцеловал ее. В этой иссохшей старушке было море юной свежей доброты — и это было добрым знамением, после старой Микалы.
— Я позабочусь о тебе перед Царем, мать, если только останусь жив. Клянусь своей головой. Скажи мне, как тебя зовут, и дай что-нибудь на чем пишут.
Она принесла мне из лавки затасканную восковую табличку. Я стер старые счета и написал: «Царь должен Гекалине трех коров, сто кувшинов сладкого вина и молодую сильную рабыню. Если я умру, афиняне должны послать в Дельфы и спросить Аполлона, как избрать нового царя. Тезей». Она глядела, как я пишу, и кивала головой: читать она конечно не умела.
— Сохрани это и благослови меня, мать. Мне пора идти.
Когда я уходил, уводя ее телку, то видел маленький яркий глаз в щели между ставнями.
Подарг отошел дальше… Я двигался к нему, когда увидел на пляже что-то слишком белое для дерева, выброшенного морем. Это было тело, почти нагое, — я бросился бегом: на нем была форма Бычьего Двора.
Это была девчушка из моей команды, одна из афинских данниц. Она вышла против быка с большим достоинством, чем я: кроме бандажа надела золоченые сапоги и ручные ремни, и все свои драгоценности, и раскрасила лицо, как для арены… У нее была страшная рваная рана в боку и, наверно, разворочено всё нутро, но она была в сознании и узнала меня.
Я опустился на колени возле нее.
— Феба!.. Ну что это такое?.. Почему ты не дождалась меня, ведь вы не могли не знать, что я приду!..
— Тезей!.. — Лихорадочно блестевшие глаза блуждали, она с трудом дышала сквозь темную кровь, что сочилась изо рта. — Тезей!.. Филия умерла?
Я огляделся. Сначала увидел бычью сеть, а потом — еще одну девушку, наполовину в воде, куда ее забросили рога.
— Да, — сказал я. — Она умерла сразу.
Они были любовницами на Крите, в Бычьем Дворе это было принято…
Феба подняла руку и пощупала свою рану.
— Мне нужен топор, Тезей. Ты сможешь это сделать?
— Нет, родная моя, у меня ничего нет с собой. Но это уже недолго, потерпи. Возьми меня за руку.
Я думал, как я берег их в Лабиринте, тренировал их, ободрял, сам выступал вместо них, если им было тяжело, — и вот тебе!..
— Что так случилось… оно к лучшему… Мы вернулись слишком… гордыми… Наша родня нас ненавидела…
Так часто бывает с воинами: пока их раны не охладеют, они все говорят, говорят… — а потом угасают, как выгоревшая лампа. Она умолкла, тяжело дыша… Я погладил ей лоб, пот был липким.
— Мой отец… обозвал меня бесстыжей шлюхой… за то что… прыгала на нашем … старом воле … мальчишкам показать … А Филия … они ее посватали … за лавочника … Жирный, как свинья, на Крите мы бы его быку отдали, а они … говорили, что она должна быть счастлива … заполучить его … после того как … была фигляршей и жила … напоказ….
— Им надо было сказать это мне, — сказал я. Но здесь не на кого было злиться, только умирающая и мертвая.
— Они нас … звали … мужененавистницами … О, Тезей! Ведь ничего-ничего здесь не осталось … как в Бычьем Дворе. Ни чести, ни … вот мы … и пошли…
Голова ее откинулась назад, и глаза закрылись, но она снова открыла их и, сжав мою руку, прошептала:
— Он бьет рогами вправо.
Душа ее вылетела с последним смертным вздохом, — рука выскользнула из моей, — я остался один.
Да, Бычьего Двора больше нет. Но, поднявшись на ноги, я увидел на грязной равнине громадную белую тушу, благородно-свирепого зверя, нюхающего ветер. Бычьего Двора больше не было, но бык еще оставался.
Я шел вдоль олив, пока не нашел старого толстого дерева, поближе к морю. Привязал там корову, длинную бычью привязь со скользящей петлей накрепко обмотал вокруг ствола… Потом залез на дерево и укрепил там сеть на двух ветвях — так, что она едва держалась… Теперь оставалось только призвать богов. Я выбрал Аполлона, раз уже критские быки ведут род от его священного стада, и пообещал ему этого, если он поможет мне его одолеть. А потом принялся за дело.
Подарг стоял ко мне задом и махал хвостом: гонял мух. Я лизнул палец, чтоб узнать направление ветра, — надеялся, что запах телки привлечет его, но бриз тянул с моря.
Вышел на прибрежный луг, ступая по шагу; под солнцем глина запеклась бугристой коркой — здесь не разбежишься… Мне не хотелось уходить от дерева слишком далеко; я подобрал пару камней, но они упали с большим недолетом. Пришлось выйти дальше — один со своей короткой тенью среди желтых цветов — и бросать снова… Камень едва не пролетел мимо, но попал, и он оглянулся через плечо. Я помахал рукой, чтобы привлечь его. Если он пойдет, то будет быстр, как боевая колесница… Он мотнул головой и хмуро глянул на меня, будто говоря: «Я отдыхаю. Будь благодарен и не испытывай меня». И отошел подальше.
У меня в ушах звучал плеск волны на пляже, и вместе с ним голос старой Микалы: «Не выпускай Быка из Моря!..» Но ведь его уже выпустили — и я должен его связать; в этом залог моей удачи на всю жизнь!.. Чего же я жду?
Я побежал прямо к нему до половины расстояния. Он наблюдал за мной, роя копытом… Я сунул два пальца в рот и громко просвистел сигнал фанфар, какой играют когда быка выпускают на арену.
Он насторожил уши; потом прочно оперся на передние ноги и опустил голову. Но не бросился. Он говорил так ясно, будто словами: «Ну что ж, плясун! Если ты знаешь игру — почему ты так далеко? Подходи, малыш, подходи… И попляши со мной, возьми быка за рога!»
В нем была мудрость зверей, в которых вселяются боги; я должен был заранее знать, что он втянет меня в Бычью Пляску… Я поднял руку — как на арене в Кносе — и приветствовал его салютом капитана.
Было непривычно не слышать криков с трибун. «Подожди, — думаю, — будет еще непривычнее не иметь команды…» Это меня рассмешило: один на арене не может ничего, если бог не вдохнет в него безумия.
Его копыто скребнуло землю… И он двинулся вперед — быстрый, как я его и помнил.
На арене нет ничего ценнее, чем совет умирающего. Зная, что он бьет вправо, я чуть подался влево, чтоб оказаться напротив, и ухватился за испачканные и покрашенные рога. Мозоли Бычьего Двора сошли с моих пальцев и ладоней, но руки сохранили силу и цепкость. Я взлетел на него — стойка на плече — и почувствовал, что мой вес для него — привычное дело. Мы поняли друг друга, и я знал что он мне рад: он был здесь вдали от дома, в чужой стране, где люди били и собаки кусали его, — его, священного сына Солнца, привыкшего к царскому почтению!.. Вес, касание, хватка плясуна — всё это было родное, оно утешало его и помогало ему прийти в себя.
Только Бычьей Пляской мог я завлечь его туда, куда мне было нужно, потому я сам стал своей командой. Это было самое последнее и самое лучшее выступление Тезея-афинянина, капитана Журавлей; в Марафоне я работал один — перед богами и мертвыми.
Когда я спрыгивал с быка, некому было подстраховать меня или отвлечь его. Но он был так же непривычен к этому, как и я, и соображал медленнее — это меня и спасало. Я уклонялся, когда он поворачивался ко мне, обходил его, чтобы встретить, и прыгал снова и снова, всё время двигаясь к своему дереву. Ладони уже были сбиты в кровь, руки начали дрожать от усталости… Я снова собрался для прыжка и думал: «На этот раз он почувствует мою дрожь, на следующий — убьет»… Но он глядел мимо меня и нюхал воздух, — а потом побежал к дереву. Телка нежно замычала и подняла свой желтый хвост.
Всё тело болело как одна сплошная рана, и я не двигался, стараясь отдышаться, пока не увидел, что он забыл обо мне. Тогда я подкрался к нему, закинул петлю на его заднюю ногу и забрался на дерево.
Поначалу он не почувствовал пут — ему было не до того, — потом стал дергать и рвать, так что дерево затряслось. Ствол был в два обхвата и простоял не меньше сотни лет, но я думал — он его выворотит; мне пришлось цепляться как мартышке, чтобы не свалиться вместе с сучьями и птичьими гнездами.
Однако веревка держалась, и в конце концов он устал. Его и раньше ловили на пастбищах Крита, и больших огорчений это не приносило… Он успокоился, и я набросил на него сеть.
Теперь я был уже не один. Будто поле было засеяно людьми и теперь проросло. Вокруг собралась толпа, — наверно, они подкрались, пока я был на дереве, — кромки сети не хватало для всех желающих ухватиться. Я спустился вниз, показал им, как поймать в сеть его ноги, чтобы, потянув, можно было свалить его… Они могли бы убить его ножами и копьями, вымещая свой страх, как делают низкие люди; и я был рад сказать им, что он обещан Аполлону, — он не заслужил такой подлой смерти.
Я приказал им ждать и пошел один, захватив телку. Надо было отдать долг. Старушка была такая хрупкая — я не хотел, чтобы она узнала, кто я, от кого-то другого. Потому подошел сам, постучал… Ответа не было. Я вошел — она лежала возле окна; поднял ее — весу в ней было что в мертвой птичке. Она растратила свое последнее дыхание, заботясь обо мне, следя за моей борьбой; надеюсь — успела увидеть и победу…
Там, где был ее домик, я построил ей гробницу и приношу ей жертвы каждый год. Служанка, которую я обещал ей, поседела, ухаживая за ее могилой… Жители Марафона тоже приносят ей жертвы. Они верят, что она делает их скот плодовитым, так что ее не забудут и после моей смерти.
И девушки лежат неподалеку. Я приказал насыпать им курган, как воинам, и похоронил их вместе. Родня ворчала — пока я не вышел из себя и не сказал им, что о них думаю!.. После этого они притихли.
А тогда я вернулся к быку. Люди всё еще смертельно боялись его, и я сказал, что останусь с ним, пока его не отдадут Аполлону. Его крепко обвязали с обеих сторон, я сел ему на шею верхом и погнал его в Афины. Он не возражал против криков и цветов из толпы — привык к этому на Крите… Так он и шел не противясь к богу, которому принадлежал, и до последнего мига надеялся на возврат Бычьего поля и добрых старых дней. Это я знал, что они никогда не вернутся.
Но когда он выдохнул в небеса свою сильную душу и я услышал пеан — моя душа вознеслась на орлиных крыльях: я встретил и победил злой рок своей судьбы. Я был — воистину — Царь.
4
Горы еще не успели умыться летними ливнями, когда мы разгромили Крит.
Я вел туда два боевых флота; второй пришел из Трезены, от царя Питфея. Он был слишком стар, чтобы идти самому, но прислал отряд своих сыновей и внуков; это были стоящие парни, свою долю добычи они вполне заслужили. Прожив на Крите год пленником Лабиринта, я знал страну не лучше остальных; но я знал тамошних крепостных, — коренных жителей этой земли, — и они знали меня. Они верили, что я дам им больше справедливости, чем их полугреческие хозяева, и помогали мне чем могли. И если кто попадет на Крит — даже сейчас он там услышит, что я их не обманул.
Перед полуразрушенным и кое-как залатанным Лабиринтом, сохранившим черные следы пожара, еще стоял портал Бычьего Двора с малиновыми колоннами и громадным красным атакующим быком на стене. Здесь мы выиграли решающую битву за Кносскую равнину. Люди в восточных горах дики, как лисы, — им нужна свобода, а не власть… Минос почти не тревожил их, я — тоже. Но тот Крит, что был владыкой морей и островов, — он был в моих руках и достался мне без большой крови. За тысячу лет владычества Лабиринта они привыкли к сильной власти, им нужен был хозяин; распад страны на мелкие владения казался им возвратом к хаосу… Это был урок для меня: позор мне, если не сделаю свою страну такой же цивилизованной, как та, которую покорил.
Даже самого Девкалиона я не тронул, когда он попросил пощады. Я был прав: он оказался куклой, которая могла плясать и под мою дудку. Не гордый, лишь тщеславный, готовый быть вассальным царем и обязательным союзником — за видимость власти у себя во Дворце… Жена его была такой же изнеженной и ленивой; иная могла быть опасна на Крите, но она — нет. Потому, когда я узнал, что они воспитывают Федру, — решил, что нет нужды забирать ее от них. Я хотел повидать ее перед отплытием, но все время было слишком много дел, и уже в гавани, когда мы выходили, я купил у нубийца клетку с яркими птичками из Африки и послал ей в подарок.
По дороге домой я зашел в Трезену, вместе с дядьями и двоюродными братьями, чтобы приветствовать своего деда — впервые с тех пор, как покинул его дом. Он ждал меня у причала — высокий сутулый старый воин, в парадном облачении… В последний раз я видел его таким, когда мы встречали царя Пилосского. Он тогда прогнал меня домой — пока мы ждали гостя — причесаться… Это было четыре года назад, мне было пятнадцать тогда…
Юноши выпрягли коней и покатили колесницу вверх, через Орлиные Ворота. Звучали пеаны, сыпались мирты и лепестки роз… На ступенях Дворца, стоя, ждала моя мать. Когда мы расставались, она пришла прямо от алтаря Матери, где спрашивала знамений обо мне; оборки ее платья звенели тогда золотом, а волосы под диадемой хранили запах фимиама… Теперь в ее прическе были фиалки и ленты, а юбки были вышиты цветами; она держала в руках гирлянду, чтоб увенчать меня… Она была ослепительно красива, но когда я подошел вплотную, чтобы поцеловать ее, увидел, что постарела. После пира в Зале дед повел меня в свои покои наверху. Табурет, на котором я сидел прежде у его ног, исчез; вместо него стояло кресло, которое он берег для царей.
— Ну, Тезей, — сказал он, — Великий Царь Аттики, Великий Царь Крита… Что дальше?
— Великий Царь Крита, дедушка, и Царь Афинский. Великий Царь Аттики — это пока только слова. Этого еще надо добиться.
— Аттика — это такая упряжка, на которую трудно надеть общее ярмо. Очень уж разные все, только грубость у них одинакова. Сейчас они платят тебе подати и воюют с твоими врагами — это уже много, в Аттике.
— Нет, мало. Слишком мало! Дом Миноса простоял тысячу лет потому, что Крит имел один общий закон.
— И, однако, он пал…
— Да, пал. Но как раз потому, что законности еще не хватало. Она кончалась на уровне крепостных и рабов. А люди, которым нечего терять, — опасны…
Дед поднял брови — так глядят дедушки на маленьких мальчиков… Но ничего не сказал.
— Царь должен был заботиться о них, — говорю. — Не только подавлять, но и защищать их от произвола… Разве мы не говорим, что все беспомощные — сирота, чужеземец, нищий, которому нечем заплатить, который может только попросить, — разве не говорим, что все они священны перед Зевсом-Спасителем? Царь должен отвечать за них — он рядом с богом. За крепостных, за безземельных батраков, за пленных… даже за рабов!
Он молча задумался. Потом заговорил:
— Ты теперь сам себе хозяин, Тезей. Себе и многим другим… Но я прожил дольше, и вот что я тебе скажу. Самое сильное в людях — это стремление сохранить свое. Тронь его — и ты себе наплодишь врагов, которые будут ждать своего часа. Ведь ты не для того стал царем, чтобы сидеть сложа руки дома по пять лет кряду, верно? Берегись камня за пазухой.
— Да, государь… Но я и не собираюсь никого гладить против шерсти. Их обычаи, что сохранились у них от предков, — все эти маленькие богини на перекрестках дорог, деревенские жертвоприношения… — это для них, как крыша в непогоду. Я ведь был на чужбине, я это всё понимаю. Но они живут в страхе, все, от вождя до свинопаса… Боятся разбойника, который выскочит из-за холма; боятся придиру-хозяина, на которого днями гнут спину за миску объедков; боятся хама-соседа, который убьет заблудившуюся овцу и искалечит пастуха… Если они придут ко мне — я дам им правосудие. Чтобы каждый знал, что можно и чего нельзя, — будь то вождь, ремесленник, пастух или раб. Я убил Прокруста, чтобы показать, что могу это сделать. Думаю, они придут.
Он кивнул задумчиво. Он был стар; но как всякий человек, знающий свое дело, был готов послушать что-то новое для себя.
— Люди могут быть гораздо лучше, чем бывают обычно, — говорю. — Я узнал это в Бычьем Дворе, когда тренировал свою команду. Есть в них вера, есть в них гордость — это надо пробудить в человеке, но потом оно растет само, в действии…
Я увидел, он наморщил лоб. Он пытался представить меня, своего внука и царя, в той жизни, которую знал лишь по песням да по картинам на стенах. Фигляр, обвешанный украшениями, верхом на быке, перед толпами простолюдинов… Ест, и спит, и тренируется вместе со всяким сбродом, отовсюду: там и сыновья повешенных пиратов, и варвары-скифы, и девушки-амазонки, взятые в плен… Словами не передать, как он переживал, что я был рабом. Он был мудрее родни моих погибших девчат, он был гораздо лучше их, — но и он не мог понять. В нормальной жизни нет ничего похожего на то величие во прахе.
Я стал рассказывать ему о делах его сыновей на войне, хваля лучших по их заслугам: я знал, что он еще не выбрал себе наследника. Мальчишкой — пока еще не знал, кто я такой, — я думал, что он выберет меня… Но нельзя было ждать от него, что он отдаст свою страну отсутствующему хозяину; и мне хотелось, чтобы он знал, что я оставил эту мысль.
Попрощавшись с ним, я пошел проведать мать; но женщины сказали — ушла принести жертвы. Я спросил, где ее найти, — был уже поздний вечер, — но мне ответили, что она будет ждать меня на рассвете в роще Зевса.
Я подыскал себе девушку, которая — видно было — не забыла меня, и пошел в свою спальню.
Утром я поднялся по тропе через лес, покрывавший склоны холмов, к тому священному месту, где Зевс сразил дуб; к тому камню, где отец мне оставил свой меч.
Возле этого камня стояла мать. Я шагнул к ней улыбаясь, хотел обнять, — но руки мои опустились. На ней были жреческие одежды и высокая диадема с золотыми змеями — я видел, что она очистилась для священного ритуала, и мужская рука не могла касаться ее. Я не успел ничего сказать — она показала глазами: под деревьями стояли две жрицы — старуха и девочка лет четырнадцати, — у них была закрытая корзина, в каких носят священные предметы… Старуха что-то шептала девочке, а та глядела на меня большими глазами.
Мать сказала:
— Пойдем, Тезей. Это место принадлежит Зевсу, оно для мужчин; нам надо в другое святилище.
Она повернулась к тропинке, уходившей в глухую чащобу. Меня охватил озноб, будто перо ночной птицы скользнуло по коже…
— В чем дело, мать? — спрашиваю. Но я знал и сам.
— Здесь не пристало разговаривать. Идем.
Я пошел за ней в зеленую тень. Невидимые, сзади шли старуха с девочкой; я слышал то их приглушенные голоса, то треск сучка, то шорох листьев…
Вскоре мы подошли к высокой серой скале. На ней был высечен огромный открытый глаз; древний, тронутый разрушением. Я остановился, зная, что это — место Богини, запретное для мужчин… Тропа уходила за скалу, но я отвернулся от нее и ждал. Жрицы сели на замшелый камень, их разговор был неслышен; мать по-прежнему молчала.
— Мама, — сказал я, — зачем ты привела меня к Ней? Разве мало я вынес и выстрадал в Ее стране, где целый год моя жизнь висела на волоске? Или этого недостаточно?
— Тихо, — говорит. — Ты знаешь, что ты сделал.
Она покосилась на камень и на тропу за ней, и отвела меня чуть дальше от них, двигаясь беззвучно и говоря шепотом. Когда она встала рядом, я заметил, что вырос на два пальца, пока был на Крите, — но это не помогало почувствовать себя больше.
В Элевсине, когда ты боролся с Царем Года и убил его, ты женился на священной Царице… Но прежде чем истек твой год, ты сверг ее и установил власть мужчин. Медея, Верховная Жрица, бежала от тебя из Афин, спасая свою жизнь…
— Но она пыталась убить меня!.. — Я говорил не очень громко, но в окружавшей тишине это казалось криком. — Царица Элевсинская была в заговоре с ней, я должен был умереть от руки собственного отца. Для этого ты послала меня к нему?! Ведь ты моя мать!..
Она на мгновение сжала голову руками, потом сказала:
— Здесь я служительница. Я говорю, что мне велено… — Тяжело вздохнула… Не сами слова ее, а вот эта ее горестность леденила мне кровь. А она продолжала: — А на Крите ты увез Пресвятую Ариадну, Богиню-на-Земле, из святилища Матери… Где она теперь?
— Я оставил ее на Наксосе, в святилище острова. Ты знаешь тамошние обряды, мать? Ты знаешь, как умирает Царь Вина?.. Она там как рыба в воде, хоть ее воспитывали мягко и она ничего не знала о таких вещах. В роду Миноса гнилая кровь, когда придет мой срок заботиться о наследниках — я оставлю своему царству лучшее потомство!..
Я почувствовал, как Глаз со скалы сверлит мне спину, и повернулся к нему лицом. Он встретил мой взгляд — сухой, немигающий каменный глаз… Мать всхлипнула, ее глаза были полны слез.
Я протянул к ней руки, но она отступила, одной рукой отгораживаясь от меня, а другой — пряча лицо. Я помолчал… Потом сказал:
— Когда я был ребенком, ты учила меня, что Богиня добра…
— Тогда ты принадлежал Ей, — говорит.
Глаз продолжал сверлить меня. Я обернулся — увидел, что те две жрицы тоже смотрят… И весь лес был, казалось, одни глаза.
Мать повернулась к скале, сделала какой-то знак рукой… Потом нагнулась до самой земли и взяла что-то, поднялась… В одной руке был проросший желудь, в другой — мертвые листья, что скоро снова станут землей. Она бросила их, показала знаком: «Молчи!» — и, взяв меня за руку, отвела в сторону от тропинки. Глядя меж деревьев, я увидел играющих лисят — мягкие, симпатичные создания… Рядом с ними на земле лежал молодой заяц, мертвый, наполовину съеденный… Мать повернулась назад к скале. Руки мои покрылись гусиной кожей, и волосы на них шевелились под слабым лесным ветерком… Я спросил:
— Так что же я должен Ей пожертвовать?
— Ее алтарь в Ее детях. Она сама берет, что Ей положено.
— Посейдон был богом моего рождения, — сказал я, — Аполлон сделал меня мужчиной, Зевс — царем. Во мне не слишком много от женщины.
— Да, — говорит, — Аполлон, который знает сокровенное, тоже сказал «не слишком много». Он — это знание, Тезей. Но предмет этого знания — Она.
— Если молитвы не трогают Ее, зачем ты привела меня сюда?
Мать вздохнула.
— Каждый бог бывает тронут жертвой, предназначенной ему.
Она показала на тропу, уходившую за скалу:
— Береговой народ говорит, еще до того как боги посеяли гальку, из которой сделали их предков, здесь было святилище землерожденных Титанов, которые бегали на руках и дрались стволами деревьев…
Мне надо было что-то сказать, — хоть я не знал что, — надо было как-то вернуть ее к чему-нибудь такому, что я знал… Она попала в какую-то беду, пока меня не было, ей было худо… Но чтобы добраться до нее, надо было сломать эту скорлупу пророчицы и жрицы. Как?..
Она пошла к глядящей скале, и я молча последовал за ней; две жрицы поднялись и пошли тоже.
У скалы она сказала:
— Когда пройдем Ворота — молчи, что бы ты ни увидел или услышал. Мужчинам нельзя разговаривать здесь. Жертву тебе дадут, принеси ее в молчании. А главное — не раскрывай того, что скрыто: Тайная Мать не показывает Себя мужчинам.
За скалой тропинка опустилась в узкий каньон, глубокое ложе старого потока. Кроны деревьев срослись над крутыми склонами, и тени были зелеными и водянистыми… Ручей казался высохшим, но кое-где нога проваливалась в воду меж камней, и было слышно журчание невидимых струй… Теснина стала еще уже, и поперек ее, меж скальных стен, была протянута веревка, завязанная каким-то странным узлом. Мать потянула где-то — веревка упала в стороны… Когда мы прошли ее, мать приложила палец к губам.
Ноги скользили по щиколотку в воде, отвесные стены возвышались над нами на три человеческих роста… Но вот они расступились, и мы вышли на округлую поляну, окруженную скалами. По краям ее росли деревья; в дальней стене, чуть выше поляны, была пещера. Из нее бормоча выбегал ручей; и низкие замшелые ступени поднимались к ней, уводя в темноту.
Мать показала в сторону, к площадке меж двух валунов; я пошел туда. По спине побежали мурашки — но там был всего лишь кабан на привязи. Я выволок его… Возле плиты под ступенями стояла старая жрица с ножом; камень был черен от крови. Кабан хрипел и вырывался; при мысли, что он будет визжать, я похолодел… Собрал все свои силы — и вспорол ему шею до гортани. Его дыхание свистело, мешаясь с кровью, ручьем бежавшей в землю… Затих. Я поднял голову — юная девочка, зрелая женщина и старуха ждали меня у входа в пещеру. Мать поманила меня молча…
В пещере было сумрачно, а в глубине — совсем темно. Ручей, подмывая одну сторону, пробил себе русло, всё в желтых и красных пятнах. На полу стояли корзины с зерном, с сушеными кореньями и листьями, некоторые были закрыты… На тусклых стенах висели какие-то неясные предметы — не то одежды, не то куски тканей, а может, мешки из выделанной кожи… По другую сторону ручья, за выступающей скалой, что загораживала свет, на деревянной раме висел занавес из козьих шкур; из-под него выглядывала каменная плита, похожая на подножие алтаря.
Они начали обряд умиротворения. Меня запятнали кровью убитого кабана, потом стали мыть водой из ручья… Старуха мыла голову, мать — правую руку; потом подошла девушка — мыть левую. Она была смуглой и изящной, эта девушка из берегового народа, с глазами, как вода в лесном ручье, застенчивыми и незащищенными… Эти глаза не отрывались от меня, когда она подходила, неуклюжая и нежная, как щенок гончей. В этом гнетущем месте я забыл свои подвиги и славу, но девушка помнила.
Я опустил руку. Она подождала, потом взяла мою руку сама и стала ее отмывать. Сначала покраснел ее лоб, потом лицо, потом груди — но она не подняла глаз и аккуратно убрала свой кувшин.
Обряд был долгим. Женщины уходили к алтарю и возвращались, что-то выносили, кропили, окуривали ладаном, уносили назад и прятали… Я смотрел на мать и думал: «Год за годом, с раннего детства, я видел, как она приносит жертву в честь жатвы, на току, при ярком солнечном свете, в блестящем платье, в юбках, переливающих золотом и драгоценными камнями, — и всё это время с такой тайной в сердце!..»
За ширмой затрещал огонь, запахло горящими листьями и смолой; от едкого дыма першило в горле и в носу… Мой страх прошел, мне стало просто скучно. Девушка ушла за занавес, и я ждал ее возвращения, думая о ее нежной груди и молодых соблазнительных бедрах… Вот она вышла… И глаза наши встретились. Случайно — или она не могла удержаться?
Мать не смотрела; я улыбнулся и сложил губы, как в поцелуе… Она смущенно опустила глаза — и зацепила плечом занавес; он качнулся и упал.
На арене и в битвах — в последние годы вся моя жизнь зависела от быстроты; и теперь я успел увидеть, не успев подумать.
Богиня сидела на алтаре на маленьком троне из крашеного дерева. Но сама она была каменная. Она была круглая и шершавая — и женщина, и в то же время камень… Ее можно было бы взять в ладони, такая она была маленькая. Талии у нее не было, — она была беременна, — маленькие ручки сложены на большом животе под тяжелыми грудями, а громадные бедра сужались к крошечным ступням. Лица не было видно, — оно было наклонено к груди, — виднелись только грубо высеченные локоны… На ней не было ни красок, ни одежд, ни драгоценностей — просто серый камень, вот и всё. Однако я задрожал и покрылся потом: она была такая старая, такая древняя! — дубрава Зевса казалась весенней травкой рядом с ней; быть может, Земля сама сформовала ее, прежде чем руки людей научились ваять?..
Мать и старуха кинулись к занавесу и водрузили его на место; старуха делала знаки против зла… А девушка прижалась к дальней стене пещеры, с остановившимся диким взглядом, прикусив пальцы и не замечая что стоит в ручье; красный ил с его дна обволок ее ноги, как кровь… Я не решался заговорить в священном месте и извинился взглядом, но она меня уже не замечала.
Наконец мать вышла из-за шторы, бледная, с пятнами золы на лбу… Поманила меня и пошла по ступеням вниз, я молча следовал за ней… Оглянувшись, увидел, что женщины больше не вместе: старуха шла возле нас, а девушка осталась одна, далеко позади.
Мы прошли скалу с глазом и вышли на несвященную землю. Мать села на камень, уронила лицо в ладони… Я подумал, она плачет; но она сказала: «Ничего, сейчас пройдет», — и я понял, что это приступ слабости. Вскоре она выпрямилась. Пока я ждал, я старался увидеть девушку. Спросил:
— Где она, мама? Что с ней будет?
Мать еще не пришла в себя и ответила рассеянно:
— Ничего… Она умрет…
— Она слишком молода, — говорю, — чтоб наложить на себя руки.
Мать сжала руками голову, как при страшной боли.
— Она умрет, вот и всё. Она из берегового народа; когда они видят свою смерть — они умирают. Такова ее судьба.
Я взял ее за руку. Рука стала теплее, и лицо слегка порозовело, потому я не побоялся спросить:
— А моя?
Она сдвинула брови и прикрыла ладонями закрытые глаза, потом опустила руки на колени, но сидела прямо и неподвижно. Дыхание ее стало глубоким и тяжелым, а закрытые глаза казались мертвыми, как мрамор… Я ждал.
Наконец она тяжело вздохнула — так больные вздыхают иногда или раненые, истекающие кровью… Глаза ее открылись и узнали меня, но она покачала головой, как будто не могла удержать ее веса, и сказала только:
— Оставь меня и иди домой. Мне надо поспать.
Я не знал, приходило ли к ней Видение и запомнила ли она его. Она легла — тут же где сидела, на сухие листья, как воин после долгого трудного боя или измученный раб… Я задержался возле нее, — мне не хотелось оставлять ее одну в чаще, — но старуха подошла, укрыла ее плащом, потом повернулась и молча уставилась на меня. Я ушел.
По дороге назад, через лес, я все оглядывался по сторонам: надеялся увидеть ту девушку. Но больше я ее не видел. Никогда.
5
Минуло пять лет…
Всё это время я работал, чтобы сплотить Аттику общим законом. Никогда прежде мне не было так трудно: на войне тебе помогает ярость битвы и надежда на славу; на арене — надежды и клики зрителей и жизнь команды… А эту работу надо было делать одному, медленно и кропотливо. Так вытесывают статую из глыбы мрамора с изъяном: изворачивайся как хочешь, но бог должен выйти богом!..
Я приходил к ним в племена и кланы — ел с их вождями, охотился с их знатью, сидел на собраниях… Иногда, чтобы услышать голос простого люда, я шел один — как заблудившийся путник — и просил крова в хижине рыбака или на бедном хуторе в горах… Делил с ними козий сыр и черствый хлеб, и молол пустую мякину их мелочных каждодневных забот — будь то скряга-хозяин или заболевшая корова… Всегда — пока не стал знаменит и не сотворил свое маленькое чудо — я интересовался алтарем их родового бога или богини и приносил жертвы; это трогало моих хозяев и шло на пользу моему делу.
Эти бедняги, запертые горами и соседями в своих долинах, не знали даже имени богов, не знали, что их чтут повсюду, — не только у них, — называли их разными чужеземными именами, принесенными с древней родины предков… Часто оказывалось даже, что они считают своего Зевса — только своим; причем Зевс соседней долины был его врагом.
Главная беда была здесь в том, что это превращало местного вождя в царя. Конечно же он был верховным жрецом их Бога — или мужем Богини — как мог он присягать на верность слуге чужого бога?!
С трудным вопросом не придумаешь ничего лучше, как пойти с ним к Аполлону. И в ту же ночь он послал мне наставление. Мне снилось, что я играю на лире, которую почти забросил в последнее время, и пою что-то чудесное. Пробудившись, я не смог вспомнить ту песню, но что значит этот сон — понял.
Сначала я попробовал сам. Одетый, как певец бедняков, который поет за ужин и ночлег, я приходил вечером на хутор в долине и выдавал им балладу об Афродите Пелейской. Они там чтили ее под другим именем, но конечно же узнавали в балладе Пенорожденную, с ее голубями и волшебным поясом… А я пел дальше — про то, как Царь построил ей храм в Афинах в благодарность за помощь на Крите, — и уходил, не открывая кто я такой. Похвалы моей музыке были искренни, в них не могло быть лести, — пока они не знали, — и это нравилось мне. Мне давали вина и лучший кусок мяса… И больше того — девушка, с которой я переглядывался пока пел, проскальзывала ко мне ночью, когда дом утихал… Было ясно, что Аполлон благословил мой план.
Тогда я собрал афинских певцов. Их нынешняя работа заставляла их опускаться ниже их положения, но если я это мог — могли и они. А платил я им хорошо; кроме того, они предвидели, насколько возвысятся в Афинах, когда там появятся главные святилища всех богов, и согласились со мной, что нет дела более угодного Бессмертным. И сделали его — отменно.
Что до меня, мне предстояло, уже в моем собственном качестве, объехать всех вождей. Это было утомительно: надо было помнить все подвиги всех их предков, аж до того бога, от которого они вели свою родословную, и замечать в залах фамильные вещи и восхищаться, и терпеливо выслушивать бесконечные и бездарные баллады, которые бренчали их прихлебатели… И — ни взгляда на женщин! Я успел так прославиться любовью к ним, что там, где другой мог увести коня, — как гласит пословица, — мне нельзя было и глянуть на уздечку, чтобы семья не ударилась в панику. Такая жизнь хоть кого доведет до ручки… Я часто мечтал о ком-нибудь, с кем мог бы поделиться своими заботами, но все вокруг погрязли в мелочах, — меня бы посчитали фантазером, — приходилось всё самому.
И вот однажды летом я ехал по Марафонской равнине к своему пастбищу. Это были царские земли. Отец не приводил их в порядок, — они были слишком открыты с моря, и он не хотел снабжать пиратов, — но при мне их расчистили и восстановили каменные стены загонов. Здесь я растил бычка, принесенного телкой старой Гекалины от критского зверя; теперь ему было три года, и он не посрамил своего родителя: уже росли его прошлогодние телята, а еще два десятка коров были стельными… За его темно-красную морду я дал ему имя Ойнопс.
Я ехал сквозь оливковые рощи, когда увидел над деревьями дымы сигнальных костров и услышал звуки рога. Мой колесничий осадил коней, остановились и всадники за нами.
— Пираты, господин мой! — сказал он.
Я понюхал воздух — пахло дымом. Критские капитаны, приходившие на материк за данью, говорили когда-то, что мы платим Криту за подавление пиратов. У них, пожалуй, были основания так говорить: с тех пор как Крит пал — это старое безобразие вновь набирало силу.
Мой колесничий глядел на меня с укоризной: мол, почему ты ездишь с такой слабой охраной; я ж тебе говорил, что твой отец взял бы с собой всю стражу, если бы ехал так далеко.
— Вперед, живей, — приказал я. — Посмотрим, в чем там дело.
Мы поскакали, и вскоре встретили подростка бегущего нам навстречу — сына местного мелкого вождя. Он прижал костяшки пальцев к соломенным волосам, облепившим потный лоб, — мальчишке было лет тринадцать, — и проговорил, задыхаясь:
— Государь, господин мой царь, мы тебя видели с башни… Отец велел сказать — торопись… то есть соблаговоли оказать честь нашему дому, государь, — пираты сходят на берег!
Я протянул руку вниз и поднял его на колесницу.
— Какие паруса у них? Какая эмблема?
Об этом всегда спрашиваешь. Некоторые морские бродяги — это просто банда головорезов, которым достаточно сжечь ближайший к морю крестьянский хутор, забрать с него зимние запасы и продать в рабство хозяев. Но бывают и люди с происхождением, — младшие сыновья, или воины, решившие поправить свои дела, — они могут пренебречь обычной добычей и превратить свой набег в настоящую войну… Так что мы могли бы оказаться и свидетелями подвигов в тот день.
Мальчишки в этом возрасте знают все:
— Три корабля, господин мой, с крылатым конем, красные. Это Пириф-Лапиф.
— Вот как? Этот парень, значит, знаменит?
— Да, государь, он наследник царя Фессалии… Говорят, что он великий разбойник там, на севере; обычно он ходит в конные набеги, но иногда выходит в море. Его зовут Бродяга-Пириф. Мой отец говорит, что он дерется из любви к искусству, — он не стал бы ждать, пока ему нечего будет есть.
— Ну что ж, он может получить это удовольствие, — говорю. — Мы должны попасть к твоему отцу раньше, чем он.
Я ссадил колесничего — он был грузный малый — и тронул коней. Помчались… Мальчик сказал:
— Он пришел за твоим скотом, государь. Он поспорил, что угонит его.
Я спросил, откуда он это знает, — он сослался на парнишку-рыбака с Эвбеи, где корабли запасались водой. Когда я гляжу на глупость мужчин, то часто удивляюсь: куда деваются такие вот мальчишки?..
— Смотри, до чего наглый пес, — сказал я, — считает свою добычу заранее!
Мальчишка изо всех сил держался за поручни, и зубы его клацали, — дорога была неровной, — но тут он поглядел прямо на меня:
— Он хочет испытать тебя ради своей славы, государь, потому что ты — лучший воин на свете.
Если бы это сказал какой-нибудь лизоблюд в Афинах, оно бы ничего не значило; но здесь — здесь это было хорошо. Так же как когда на хуторе в долине кричали: «Спой еще!» Но я ответил: «Похоже, это еще придется доказать».
Мы приближались к деревне. Сигнальный дым становился всё выше, а звуки рога всё громче; люди вдобавок били в тазы, в котлы — во всё металлическое, что только могли найти, — как это бывает, когда начинается тревога, чтобы успокоить свои чувства. В усадьбе вождя вершина башни была забита женщинами, тянувшими шеи, чтобы увидеть что происходит вдали… Слышались крики и мычание скота…
Вождь встретил меня у ворот. Он издали увидел, что со мной мало людей, и боялся теперь, что я заберу тех, что есть у него, — уложу их в схватке, — и оставлю его голым. Я никого не стал брать, но послал конника в разведку. Он вернулся, едва добравшись до пастбища; там было двое раненых, остальные пастухи разбежались… Ворота загона были разбиты, солнечное стадо исчезло, банда пиратов повернула назад к своим кораблям. Мальчишка был прав.
— Времени в обрез, — сказал я. — У вас есть пара свежих лошадей?
Он дал мне двух, единственно годных для колесницы какие у него были. Я видел, что мои всадники далеко за мной не угонятся; крупные фессалийские кони были в то время редки в южных землях, а их маленькие лошадки не могли нести человека подолгу, — но нельзя же было сидеть сложа руки!
Когда мы двинулись вниз по оливковому склону к равнине, я увидел, что сын вождя мчится следом по дороге и машет рукой.
— Государь! Госуда-арь!.. Я видел их, я на сосну лазал… Возьми меня, господин мой, — я покажу, где они!
— Это уже война, — говорю. — Отец тебя отпустил?
Он сглотнул — и твердо ответил: «Да, государь!» В его годы я бы ответил так же. Увидев, что я молчу, он добавил: «Кто-то же должен держать твоих коней, пока ты сражаешься!»
Я рассмеялся и втащил его наверх. Лучше научиться войне слишком рано и от друзей, чем слишком поздно — от врагов.
Поскакал дальше. Всадники начали отставать — махнул им, чтоб возвращались, пока их лошадки не выбились из сил… Вскоре с открытого места на склоне стала видна равнина, мальчик показал рукой.
Возле самого берега изогнутой бухты стояли три длинных пентеконтера со змеиными головами на форштевнях. На каменных якорях стояли, у пиратов это обычно: они просто обрезают их, если надо уходить в спешке. Они оставили сильный экипаж на борту. У пиратов не бывает гребцов, которые не могут быть и копейщиками, а там была примерно половина их: человек восемьдесят. Судя по такой осторожности — остальные затеяли глубокий рейд;обычно-то они не уходят за пределы видимости кораблей.
Послышалось мычание, и со следующего поворота я увидел грабителей. Они гнали стадо как люди, знакомые с этим делом. Но вот произошла какая-то заминка: собрались в кучу, заметались туда-сюда, потом один вылетел и ударился оземь… Это был бык, достойный своих предков. Но силы были неравны, вскоре на него набросили новые путы и погнали копьями дальше. Пересчитав рога, я увидел, что они взяли только критское стадо, притом — его сливки… Они далеко могли уйти, прежде чем пеший смог бы их догнать. Я прикрыл глаза от солнца… Там был человек, — в стороне от остальных, — махавший рукой, отдававший приказы; его шлем полыхал на солнце серебром. «Это Пириф, — подумал я. — Человек, который собирается обойти все эллинские земли, хвастаясь, как он утер нос Тезею!..»
— Здесь ты можешь сойти, — сказал мальчишке. — Я иду на него.
— О нет, господин мой!
— Почему? — удивился я. — Человек должен драться, если его вызывают. Пожалуй, этот малый не рассчитывает, что я появлюсь один; но если он воин и дорожит своей честью — он встретит меня сам, а не натравит свою банду. Если он подонок — мне не повезло; но двум смертям не бывать…
— Да, конечно! Но только не надо меня ссаживать.
— Не тяни время, — говорю. — Ты меня слышал? Слазь!
— Но я теперь твой человек, — он ухватился опять за поручни и покраснел, будто вот-вот заплачет. — Ты взял меня смотреть за лошадьми… Если я не пойду в бой с тобой вместе, то буду обесчещен!
— Ну что ж, тут ты прав, — говорю. — Хотя, если и дальше так, ты до старости не доживешь. Ладно, чему быть того не миновать… Держись крепче!
Мы с грохотом выкатились со склона на равнину — и понеслись.
Легкая колесница моталась из стороны в сторону и подлетала на соленых кочках, ярко сияло солнце… Марафон всегда приносил мне ощущение удачи. Стучали копыта, гремело мое оружие… Щит парусил под ветром — я снял его и отдал мальчику, держать. Он ухватил его, цепляясь за поручни одной рукой, и открытым ртом пил летящий навстречу ветер.
Пираты повернулись поглядеть на шум. Это были здоровенные волосатые мужики, кривоногие, как все лапифы, которых прямо с материнской спины пересаживают на лошадь… Теперь они с криками размахивали руками, показывая на моих коней. Я вспомнил их славу конокрадов и подумал, что будет обидно, если они меня угрохают из-за лошадей. Их крики наполовину застревали в волосах: в море они не бреют, как эллины, верхнюю губу и щеки, а обрастают как медведи, и спереди и сзади… У некоторых были бороды до пупа.
Стадо начало кружить. Лапифы перекликались на своем ублюдочном языке — древнеэллинский пополам с пиратским жаргоном, — но при всем этом шуме их вожак еще не видел меня: нас разделяло стадо. Весело будет, если один из этих обормотов наколет меня на дротик, прежде чем я до него доберусь!.. Вспомнив, что бык знает свое имя, я закричал: «Ойнопс!..» Он встал, как вкопанный, а с ним и всё стадо.
Выбежал предводитель в блестящем шлеме… Очень вовремя: один из пиратов имел лук — и уже приладил стрелу к тетиве… Главарь сшиб его с ног и поманил своего оруженосца, который держал его щит и копье.
Ему было лет двадцать пять, он был повыше остальных и причесан как эллин: щегольская короткая черная бородка и чисто выбритое лицо. Темные брови загибались у висков кверху, как крылья ястреба, а глаза были светло-зеленые, почти желтые, — дикие, яркие, и настороженные как у леопарда. Только звери не смеются. Он взял копье на руку и закричал на хорошем греческом — только с растяжкой, как говорят в горах:
— Эй, осади!.. Ты кто такой?
Одет он был богато, но старомодно: громадные бронзовые бляхи с чеканкой, серебряный полированный шлем, на плечах львиная шкура с зубами и когтями… Вокруг его правой руки извивалась длинная синяя змея, какие накалывают себе фракийцы. Но лапифские князья часто роднились с эллинскими домами, они знают правильные имена богов и знаменитые баллады и законы войны…
Я крикнул:
— Я Тезей! Тот человек, кого ты хотел видеть!..
Он улыбнулся, и кончики его бровей поднялись еще выше.
— Рад тебя видеть, царь Тезей! Тебе не одиноко так далеко от дома?
— С какой стати, — говорю, — раз здесь такая отличная компания? Я пришел за своим стадом. Можете оставить его прямо здесь; поскольку вы чужеземцы — я не стану вас штрафовать.
Пираты взревели и бросились ко мне; но он рявкнул на них, и они осадили, как послушные псы.
— Твой бык, похоже, знает тебя. Вы что, друг без друга не можете?
Он добавил такую шутку, от которой моего парнишку аж повело. По тому, как хохотали его люди, было видно — они души в нем не чают.
— Слушай, Пириф, ты кто? Повелитель людей или похититель коров? Я пришел посмотреть, — сказал я и потянулся за своим щитом.
— Считай меня похитителем коров. Таким, что знает толк и умеет выбрать.
Его яркие большие глаза были дерзки, но ленивы и беззлобны. Как у кошки, пока она не прыгнет.
— Прекрасно, — говорю. — Это мне и говорили про тебя. Ну что ж, придется нам с тобой выяснить — стоит ли выбирать моих.
Я отдал вожжи мальчику, и тот ухватился за них, будто в них была вся его жизнь. А я с оружием спрыгнул с колесницы.
Мы стояли лицом к лицу… И тут я почувствовал, что никогда прежде не видел человека, которого мне так не хотелось бы убивать.
Он тоже не рвался в драку, а стоял, опершись на копье.
— Ты, как видно, любишь неприятности, — говорит. — Что ж, раз ты пришел ко мне — я не могу отказать. Я сделаю собачью радость из тебя, как из любого, кто хорошо попросит. А как будут стонать бабы над твоим телом!.. Я слышал, они тебя любили…
— Не беспокойся, — говорю. — Ни одна зато не будет стонать под твоим. Когда мы с тобой поладим, ты будешь ублажать не женщин, а ворон.
— Ворон? — он снова поднял брови. — Так ты сам не собираешься меня сожрать? Ты, значит, не таков, как я слыхал!
— Тебе бы стоило почаще вылезать из пещеры, чтоб узнать обычаи людей, живущих в домах…
Он рассмеялся, стоя с опущенным щитом, так что правая сторона его тела была открыта; он знал, что я не нападу на него врасплох… Но ни к чему было тянуть, ни к чему жалеть, что мы не встретились как-нибудь по-другому.
— Послушай, Пириф, — сказал я. — Этот мальчик принес мне твой вызов. Он священный вестник, так что если я паду — не искушай судьбу. А теперь давай не будем лаяться, словно бабы у колодца над разбитым кувшином. К бою — и испытаем нашу бронзу!..
Я закрылся щитом. Он постоял, глядя на меня своими зелеными кошачьими глазами… И вдруг — выдернул руку из перевязи своего высокого щита, так что тот со звоном упал наземь, и отбросил в сторону копье.
— Нет, клянусь Аполлоном! Люди мы или бешеные собаки?!.. Если я тебя убью, то тебя ведь не станет, и я уже никогда не смогу тебя узнать… Громы Зевса! Ты пришел ко мне один, с мальчишкой-оруженосцем, веря в мою честь. Это я — твой враг!.. Каков же ты с друзьями?
При этих словах мне почудилось, что бог, следивший сверху, спустился на землю и встал между нами. Камень свалился с сердца — и копье выпало из руки… Нога сама сделала шаг вперед, и я протянул руку. Его — с синей змеей вокруг кисти — потянулась навстречу; и казалось, я всю жизнь знал это пожатие.
— Попробуй, — говорю. — Увидишь.
Лапифы ворчали сквозь свои заросли.
— Слушай, — сказал он. — Давай всё уладим. Я заплачу твой штраф за кражу скота. Поход был удачным, трюмы у меня полны, так что расчет с долгами меня не разорит. Ты царь — ты судишь… Если бы тебе нельзя было верить — ты ни за что не поверил бы мне.
Я рассмеялся:
— По-моему, старина Ойнопс уже свел свои счеты. А меня угостишь когда-нибудь — и будем квиты.
— Идет, я тебя приглашу к себе на свадьбу!
Мы обменялись кинжалами в залог дружбы. На моем была золотая чеканка — царь на колеснице охотится на львов… Его был лапифской работы и очень хороший, — глядя на лапифов, не подумаешь, — рукоять усыпана золотыми зернами, а по клинку бегут серебряные кони.
Когда мы обнялись, скрепляя зарок дружбы, я вспомнил про мальчика, пришедшего со мной смотреть на поединок. Он не казался разочарованным. И даже лапифы, — когда до их тупых голов дошло что к чему, — они тоже разразились радостными кликами и зазвенели щитами.
Я чувствовал — как это бывает иногда, — что встретил демона своей судьбы. Я не знал, что принесет он — добро или зло, — но сам по себе он был хорош. Так лев хорош своей красотой и доблестью, хоть он и пожирает твое стадо; он рычит на копья над оградой, и факелы высекают искры из его золотых глаз, — и ты любишь его, хочешь того или нет.
6
Мы принесли жертвы и славно попировали вместе; для меня было само собой, что он останется погостить в Афинах.
— С радостью, — сказал он, — но только после охоты в Калидоне. Похоже, что я пришел на юг раньше новостей, а у них там объявился один из тех гигантских вепрей, что насылает Бендида.
Это Владычицу Луны так зовут у них в горах; в нем было не меньше лапифского, чем эллинского.
— Как? — Я удивился. — Я же убил ту свинью в Мегаре; я думал, больше таких нет.
— Если вслушаться в легенды кентавров, то раньше они встречались в изобилии…
Его греческий был местами неуклюже-ходульным: слышна была работа его наставника, ведь у них даже при дворе говорили на нем редко. В остальном его язык был прибрежным пиратским жаргоном, и если у него он звучал лучше, чем у его людей, то только потому, что он сам был умнее их.
— … они говорят, их предки уничтожали их отравленными стрелами. Они, понимаешь, не охотятся благородно, они слишком дики…
Я подумал о его банде лапифов и подивился, что это за люди такие, которые даже этим кажутся дикими.
— Они едят мясо сырым, — сказал он, — и если спускаются со своих гор, то только для какой-нибудь пакости. Если бы свиньи перебили их предков, я бы не огорчился. Или если б их отцы устряпали свиней — тоже было б нехудо… Кентавры и сами-то достаточное проклятие, но вот и свиньи тоже появляются иногда.
Я, было, обиделся на него за отказ быть моим гостем, но у него всегда находилось что сказать, так что рассердиться на него было невозможно.
— В Калидоне, — сказал он, — они пожертвовали нескольких девственниц Артемиде. — На этот раз он вспомнил ее эллинское имя. — Трех они сожгли, а трех отправили на корабле на север, в то ее святилище, где девушки приносят в жертву мужчин. Но она послала им знамение, что ей надо вепря. Чем они ей не угодили — не знаю; но она такая богиня, что с ней надо считаться, ее даже кентавры остерегаются… Потому царь объявил охоту и дом открытый для воинов. Этого — прости меня, Тезей, — я пропустить не могу. Дружба дорога, но честь — дороже…
Я почти видел наставника, вдалбливающего в него древние баллады. И тут он добавил:
— Слушай, — говорит, — нам вовсе незачем разбивать компанию, мы поедем вместе!
Я открыл было рот сказать: «У меня много дел…» Но ведь я уже годы пахал как вол — без отдыха, — хорошо было бы прогуляться на запад с Пирифом и его лапифами!.. Это меня искушало, словно нежный взгляд чужой жены.
Он засмеялся:
— Ты сможешь размять ноги на корабле, я ведь оставлял место для твоего стада.
Я был еще молод. Недалеко за спиной был Истмийский поход, когда на заре не знал, что принесет день; был Крит и все его прелести… Мне было знамение от Посейдона: я родился, чтобы быть царем. Пока я шел к этому, всё во мне было подчинено одной цели; теперь эта цель была достигнута, и у царя было много работы… Но был еще и другой Тезей, томящийся в бездействии, — и Пириф понял это сразу. И я сказал:
— А почему бы и нет?
Так я забросил свои дела и подался в Калидон. Я видел, как катили корабли через мирный Истм, видел синь Коринфского залива меж гор и Калидон в его устье… И это была славная охота: великие подвиги, отличная компания, роскошный пир… Кончилось всё это скверно: с той охоты пошла кровавая вражда в их царской семье, и как часто бывает — погиб лучший… Но тогда все неприятности были еще впереди — и был великий победный пир в честь юного Мелеагра и длинноногой охотницы, с которой он поделил приз. Но лица вокруг стола уже потускнели в моей памяти, и оглядываясь назад, я повсюду вижу Пирифа.
Я был любовником многих женщин, но мужчины — никогда. Так же и он, и наша дружба этого не изменила… Но брал ли я копье или лиру, поднимался ли на колесницу, подзывал ли собаку или ловил женский взгляд — я всегда видел перед собой его глаза. В нашей дружбе была примесь соперничества, и даже в нашем доверии — какой-то страх, что ли… С первого дня, как я его встретил, я доверил бы ему любимую женщину или свою спину в битве, — то же и он… Но я сам сомневался в тех своих качествах, за которые он любил меня всего больше; а он умел вызвать их — как птицу из лесу высвистывал.
Возвращаясь из Калидона, я свернул с пути к дому. На север, в Фессалию, погостить у его отца. Мы двигались быстро, напрямик, с теми людьми, что он смог забрать с кораблей, не ослабляя команды. Он говорил, это для скорости; но как я видел — из любви к опасностям. Мы их навидались вдоволь: и волков, и разбойников, и леопардов, и морозов в горах… Однажды, когда тропа завела нас на отвесную стену узкого ущелья, мы попали в ураган. Ущелье пело, как огромная каменная флейта, руки бога ветров тянули и рвали наши щиты — и нас бы сдуло, если б мы не уложили их на тропу и не наполнили доверху камнями. Один лапиф улетел-таки.
Наконец мы увидели сверху долины Фессалии, где плодородные земли лежат отдельными клочками меж длинных хребтов, одетых лесом… Лапифы разбили лагерь у источника и молились богу его реки; потом умылись и причесались, побрили верхнюю губу, поправили бороды… Оказалось, что они приятные и вполне достойные люди, и на три четверти эллины. Когда они зажгли сигнальный дым — дворцовая стража вышла нас встречать. Тогда я впервые увидел подлинное богатство лапифов; оно не растет из земли, а бегает по ней, с громом, милым Посейдону. Фессалия — родина больших коней, тех что могут нести человека.
Они лоснились, как свежеочищенный каштан; гривы их были длинны, словно волосы девушек; и так они были быстры и сильны — я почти поверил Пирифу, когда он сказал, что во время их случки черный северный ветер Фракии слетает по ущельям, крыть кобыл.
Мы поехали на них вниз, к долине реки. Поток там кажется коричневым в тени тополей и серебристых берез, а застывшие горы едва проглядывают издали сквозь нежную листву… Склоны этих гор густо покрывают темные леса. Эти леса Пириф называл кентавровыми.
Лапифы — великие корабелы как раз потому, что у них так много леса. Дома они тоже строят из дерева, с резными наличниками, выкрашенными в красный цвет.
Дворец Лариссы стоит на холме у реки, посреди самой большой равнины. Там, у ворот, и встретил нас отец Пирифа. Меня он приветствовал с величайшей учтивостью, но с сыном был холоден и резок. Каждый раз, как Пириф уходил в свои набеги, старик считал его погибшим; и хотя теперь страхи были позади — воспоминание о них грызло его. А наверху, в покоях Пирифа, я увидел свежую постель и роскошные драпировки — всё содержалось в порядке, пока его не было.
Пока я был там, Пириф показывал мне лапифское искусство верховой езды: на полном скаку попадал копьем в цель, подхватывал кольцо с земли, скакал, стоя на седле, и стрелял из лука… Он мог ехать сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на каждой… Его люди клялись, что Зевс принял обличье жеребца, чтобы породить его.
Он уже ездил на больших конях в том возрасте, когда я еще тянулся на цыпочках, чтобы дать им соль с ладошки, — я так и не приобрел его стиля, но ко времени своего отъезда уже мог более или менее тягаться с ним. Не так уж и трудно стоять на лошади, — после быков, — а я скорее сломал бы себе шею, чем дал бы ему меня превзойти.
Однажды его отец отвел меня в сторону поговорить о государственных делах. Мы говорили о наших законах и установлениях, и обо всяких таких вещах, — и вдруг он спросил, не могу ли я повлиять на Пирифа, чтобы тот заинтересовался этим: «Ведь он уже не мальчик, но ведет себя так, будто я буду жить вечно…»
Он всегда двигался медленно, тело его было дряблым, а кожа слишком желтой для мужчины, не достигшего шестидесяти… Позже я сказал Пирифу:
— Твой отец болен, и знает об этом.
Он сдвинул брови.
— Я тоже. Я заметил, как он изменился в мое отсутствие. Нынче утром я снова толковал с врачом. Он все говорит, говорит… — так громко звенят только пустые кувшины. Ничего не поделаешь, придется мне его везти в горы.
Я спросил, что у них там — целебное святилище Аполлона? Он немного смутился, потом сказал:
— Нет, там есть один старый конский лекарь, к которому мы обращаемся, если все остальные не могут помочь. Поезжай тоже, если хочешь, ты ведь хотел увидеть кентавра.
Наверно, я выглядел очень удивленным после этих слов. Он принялся строгать тростинку (мы загорали у реки после купания) и, не глядя на меня, продолжал:
— Нет, на самом деле они владеют магией, надо только найти такого, кто знает.
— В наших краях, — сказал я, — это женское дело.
— Но не среди лошадников. Вы, южане, переняли это у береговых людей, которых покорили. Мы же сохраняем обычаи наших бродячих предков. Думаешь, мой отец не знает, почему я ухожу странствовать? Это у нас в крови, у всех, у него тоже… Если бы не его болезнь — он бы не переживал так. Да, у нас, у лошадников, женщины считаются имуществом, вроде скота… Чем же еще они могут быть, когда народ кочует, — если ты только не хочешь, чтобы и они взялись за оружие? Как эти дикие кошки — амазонки. Я открыл было рот… — но уже достаточно рассказывал я о Бычьем Дворе, так что не хотел повторяться.
— А кентавры — это тоже лошадники, на свой манер, — продолжал он. — Я всю жизнь охочусь в этих горах и лишь однажды увидел спину их женщины; при первом же твоем запахе они скрываются в пещерах. Даже когда я был в школе там, наверху…
— Что?!
Он резко умолк, будто прикусил себе язык, поколебался немного, потом заговорил снова.
— О! Так у нас здесь принято. Перед обрядом посвящения в мужчины. В царских семьях. Другие царские дома тоже чтут эту традицию: во Фтии и в Иолке… Это наше посвящение Посейдону Коней. Он сотворил кентавров; говорят, он сделал их раньше, чем Зевс создал настоящих людей. А иные говорят, что их посадили на коня землерожденные Титаны… Мы, лапифы, хозяева лошадей, а они — они сами лошадиного рода, они живут с ними совсем дико… А бесстыжи с кобылами — не выговоришь!.. Но они, кентавры, полны лошадиной магии, а это стоит больше женских злаковых заклинаний, любых. По крайней мере здесь, в Фессалии.
— Ну а как ты там жил?
— На открытых горах и в пещерах… Юноша должен закалиться, прежде чем назовет себя мужчиной. Когда принимаешь яд со стрел, то лежишь в священной пещере — эту ночь никто не забывает, Зевс свидетель! Видения…
Он прикрыл рот рукой, показывая, что говорить об этом запрещено.
— Яд со стрел? — переспросил я.
— Старина заражает им тебя, так что ты болеешь… Но зато этот яд тебя не может убить по меньшей мере семь лет. Потом надо принимать другую дозу, но это уже ерунда по сравнению с первой. Ладно, ты сам его увидишь.
На другое утро мы выехали с рассветом. Мы двое на конях, а царь на муле-иноходце. Сначала пробирались сквозь заросли лавра и земляничного дерева; голые колени наши были мокры от росы и горных туманов, оседавших в сером свете едва забрезжившего дня… И дальше вверх, по склонам, покрытым падубом, где роса уже блестела под первыми лучами восходящего солнца; потом сквозь густые сосновые леса, в которых была еще ночь, и копыта наших коней неслышно ступали по хвойному ковру; а дриады толпились вокруг тесно и беззвучно, и мы старались не дышать, чтоб не нарушить тишины… Тропа везде была отчетливой, — она не была пробита плотно, но нигде и не заросла, — и то тут то там попадались конский навоз и отпечатки маленьких копыт.
Даже Пириф притих. Когда я спросил его, много ли выше живет Старина, он полуоглянулся через плечо и сказал:
— Не зови его так там, наверху. Это только мы, мальчишки, звали его так.
Больной царь ехал за нами, выбирая себе дорогу полегче. И лицо у него было — как у человека, который возвращается домой. Когда мы трогались в путь, голова его была опущена на грудь — теперь же он смотрел вокруг и слушал, и однажды я даже заметил его улыбку.
Наверху воздух стал резким и свежим; мы стояли среди низких хвойных зарослей, серых скал и ковров вереска; а вокруг был голубой простор, и вдали — холодные вершины… В таком месте можно натолкнуться на Владычицу Луны, сверкающую словно застывшее пламя в своей ужасной чистоте, с пронзительным львиным взглядом.
Пириф натянул поводья.
— Надо подождать слугу с вьючным мулом. Он везет дары.
Мы ждали, слушая только что проснувшихся птиц, и поднимающегося жаворонка, и глубокую тишину позади… Но вскоре я почуял, что на нас кто-то смотрит. Оглянулся — никого… Оглянулся еще раз — на валуне, совсем открыто, лежал мальчишка; лежал свободно и покойно, словно пригревшийся кот, положив подбородок на руки. Увидев, что я на него смотрю, встал и тронул лоб, приветствуя нас. Он был одет в козьи шкуры, как пастух, босой и со спутанными волосами, но царя и Пирифа он приветствовал царским салютом, как это делается в знатных домах.
Пириф подозвал его и спросил, у себя ли в пещере жрец кентавров. На этот раз он назвал его не Стариной, а его кентаврским именем. Этот язык такой древний и неуклюжий, что эллину трудно приспособить к нему свой рот: полный каких-то странных щелчков и хрипов, вроде медвежьего рыка… Мальчик ответил на хорошем греческом, что посмотрит. Он пошел прыжками по каменистой тропе, легкий, как молодой олень, а мы тихо ехали следом. Мой конь понюхал воздух и заржал — и за ближайшим поворотом я увидел такое, что едва не выпрыгнул из седла: зверь с четырьмя ногами и двумя руками, натурально — мохнатая лошадка, из которой вырастал мальчишка с копной волос на голове. Так это казалось при первом взгляде. Подъехав ближе, я увидел низко опущенную голову лошадки, — она щипала траву, — а парнишка сидел на ней верхом без седла, спрятав грязные загорелые ноги в густую шерсть.
Он приветствовал нас взмахом грязной руки, — знак почтения, принятый в царской страже, — потом повернул коленом свою низкорослую лошаденку и поехал следом за первым мальчишкой, двигаясь через камни шустро, как козел. Вдруг снова появился первый — на такой же лошадке, ладоней в двенадцать вышиной… Он вновь произнес кентаврское имя и сказал, что тот в пещере.
Пока мы ехали, я спросил Пирифа, чей это сын.
— Кто знает? — ответил он. — Может быть, Великого Царя Микенского, а может и нет… Они приезжают отовсюду. Старина знает, кто они, а больше никто. Пока их отцы не приедут, чтоб забрать их домой.
Я взглянул на его ступни. Он сидел на своем длинногривом жеребце точно так же, как эти пацаны; и я представил себе его тогда — с дикими черными кудрями, падающими на зеленые глаза, живущего, словно горный лисенок, надеясь только на себя… Похоже, были на то и другие школы кроме Бычьего Двора, это и повлекло нас друг к другу.
Тропа обогнула валун; за ней открылся склон, заросший густой травой, дроком и ежевикой, который простирался до высокой серой скальной стены. В стене был вход в пещеру.
Пириф спешился и помог опуститься отцу. С мула сняли вьюк, наших коней увели… Я огляделся и услышал тростниковую дудочку. Играл мальчик, сидя на плоском камне под терновым кустом. Когда он убрал дудочку от губ, ему ответило странное пение: на дереве висела лира, и ветер извлекал из нее тихие звуки. А подойдя ближе, я заметил длинную тонкую блестящую змею; она обвилась вокруг ветвей и раскачивала головой под музыку. Я хотел предупредить его об опасности, но он покачал головой и, глядя на змею с улыбкой, очень учтиво помахал мне рукой, прося соблюдать тишину.
Пириф со своим слугой распаковывал дары, а я снова стал разглядывать скалу вдалеке. Вдоль ее подножия к пещере ехали двое, верхом. Я смотрел и тихонько шел вверх меж валунов; это не были принцы-воспитанники, это были кентавры.
Если не считать лоскута козьей шкуры — они были обнажены, но я подумал сперва, что одеты с ног до головы, настолько густы были их волосы. На шее и плечах волосы не свисали, а густо торчали, вроде гривы, сужавшейся на позвоночнике, наружная сторона длинных рук и кривые ноги заросли так же, как бока их диких низкорослых лошадок… Они воткнулись ступнями в густой конский мех и, казалось, ухватились за него, как пальцами. Лошадки были маленькие, как и у мальчишек, только коренастее, с сильными лохматыми ногами… И что-то в них было такое — трудно дать название. Непочтительность, пожалуй, что ли? Если они и были слугами, то только так, как шакал служит льву; они заключили свою сделку: это мне — это тебе. Люди сошли с них и оставили их совершенно свободными, они могли идти куда вздумается, если захотят.
Люди неуклюже ковыляли дальше с каким-то грузом в руках. Лбы у них были низкие и тяжелые, как наличники, носы короткие и широкие, а на мелких подбородках кустилась редкая щетина, словно вся их борода была израсходована на плечи. Они были дики, как леса вокруг, но, однако, имели почтение к святому месту: прекратили хрюкать и кудахтать друг другу, а подошли к пещере тихо, как охотничья собака у ноги. Там они наклонились и положили возле входа то, что несли. А прежде чем уйти, оба взяли по горсти земли и потерли себе лоб.
Пириф был занят своими собственными дарами: овечья шкура, крашеный кувшин с медом, плетеная сумка для трав… Он поманил меня пойти наверх вместе с ними. Больной царь был утомлен, а его сын нагружен поклажей, потому я подставил ему плечо: помочь идти через камни. Когда мы подошли к устью пещеры, я услышал слабый, но пронзительный плач — и увидел, что там оставили кентавры. Соты дикого меда и ребенка. Это был кентаврский младенец, со старческими сморщенными глазами; его завернули в кусок овечьей шкуры, а коленки его были поджаты к животу, будто у него там болело.
Пириф разложил свои дары на скале возле меда кентавров. Старый царь прошел вперед и кивнул нам, словно говоря: «Вы можете идти»… А потом лег на теплую траву возле входа в пещеру, рядом с младенцем.
Мы ждали, Пириф и я, укрывшись в валунах. Слуга отполз подальше. Шло время… Царь вытянулся под нежарким солнцем и как будто спал… Было тихо; только пищал ребенок, гудели шмели в вереске, да мальчик играл на дудочке арфисту-ветру и танцующей змее.
В пещере зашевелились тени, и из нее вышел мужчина-кентавр. Я думал, по тому что мне говорили о нем, что в нем должна быть эллинская кровь, — но то был кентавр с головы до пят, седой и старый. У входа он задержался, его широкие ноздри нюхали воздух, — как ноздри собаки, вышедшей на улицу, — а глаза следовали за носом. Он подошел сначала к ребенку, поднял его, обнюхал его голову и попку и положил ладони ему на живот. Малыш перестал плакать, и он положил его на бочок.
Я долго глядел на его лицо. Какой бы дикий облик ни принял его бог-хранитель, чтобы зачать его, — но бог в нем был, без сомнения; это было видно по его глазам. Они были темны и печальны, и смотрели из глубины веков, из древних дней земли, когда Зевс еще не воцарился в небесах.
Больной царь на траве поднял руку в приветствии. Он не подзывал, но — как жрец со жрецом — ждал, когда кентавр подойдет к нему. Тот торжественно кивнул. Как раз в этот момент он почесывался, но это как-то не умаляло его достоинства. Тут несколько звуков мальчика заставили его насторожить уши. Он подошел, взял флейту и сыграл фразу… Из чащи ответила птица; мальчик что-то сказал, он ответил… Я не слышал, на каком языке они говорили, но малыш чувствовал себя с ним легко, как дома. И я понял печаль старого кентавра: он поднялся от земли выше, чем весь его народ, боявшийся его мудрости и не понимавший его; так что всё его общество составляли вот эти ребятишки, которые спускались с гор и возвращались к людям — и забывали его науку или стыдились ее. «Старый конский лекарь, — говорили они, — который заколдовал нас от яда стрел…» Лишь когда страх болезни или смерти возвращал их к детству — вот тогда они вспоминали его.
Он подошел к царю на своих коротких кривых ногах, сел возле него на корточки, и слушал что тот говорил. Потом встал на четвереньки, обнюхал его всего и приложил свое маленькое круглое ухо к его груди, пощупал ему живот: сначала надавил резко, а потом, — когда тот вздрогнул, — стал поглаживать, как лошадь… Вскоре он ушел в пещеру с маленьким кентавром на руках.
Через некоторое время он вышел назад с какой-то жидкостью в глиняной чашке… Когда царь выпил ее, он сел рядом и долго тихо пел. Не знаю, какого кентаврского бога он заклинал. В его большой груди раскатывалось медленное глубокое гудение; звуки дудочки, и нежный звон лиры под ветром, и стрекотание кузнечиков — всё сливалось с ним; это было как голос самих гор. Наконец он умолк, царь попрощался с ним за руку и пошел прочь. Его шаг не стал тверже, но всё же в нем была перемена: он выглядел как человек, который примирился со своей судьбой.
Пириф поглядел на него мгновение и побежал вверх по склону к пещере. Кентавр встретил его, они заговорили… Я видел, как Старина всматривался в него. Быть может, чтобы увидеть черты мальчишки, которого он еще помнил?.. Когда они расставались, Пириф поднял руку, как делает человек, давая клятву. Всю дорогу домой он был очень тих, но вечером, когда мы остались вдвоем и вино нас развязало, я спросил, что он там пообещал.
Пириф прямо взглянул мне в глаза и сказал:
— Он просил меня не обижать его народ, когда я стану царем.
7
Афиняне были рады моему возвращению. Словно женщины, которые любят тебя еще больше за твою неверность. Все сложные споры и запутанные судебные дела они оставили решать мне… Развязавшись с этим — и убедившись, что они всё еще мной довольны, — я осмелел и начал продвигать свои планы: объявил, что в месяц собранного урожая будет устроен великий Всеаттический праздник. Жрецы Богини из всех ее святилищ, без различия как бы они ее там ни называли, были приглашены к общему жертвоприношению; были назначены Игры в ее честь, на которых юноши могли забыть свои распри и встретиться под защитой священного перемирия… А вождей племен, — пастухов их народов перед богами, — я пригласил как друзей гостями в мой дом.
До сих пор жреческие обязанности никогда меня не обременяли. Посейдон всегда был милостив ко мне, давал мне предчувствие землетрясений — такое, как бывает у собак и птиц; а среди людей — только у потомков Пелопа… И к нему я прислушивался постоянно, а для остальных богов лишь исполнял то, что было предписано… Но теперь — согласовать обряды всех этих ревнивых богинь — это было как судебное дело, где неверный приговор мог вызвать десятилетнюю войну. Однажды мне приснилось, что они все явились ко мне, сбросили свои священные одежды и стояли в чем мать родила, — а я должен был отдать приз прекраснейшей из них и быть проклятым всеми остальными.
Этот сон так меня потряс, что я тут же поднялся и пошел возлить вина и масла на алтарь Афины. В святилище было темно; жрицу я поднял с постели, так что ее знобило в ночной прохладе и лампа в ее руке дрожала — и казалось, лицо Владычицы в тени шлема трепещет, как лицо гордой девушки, говорящей без слов «может быть»… Остаток ночи я спал спокойно, а когда на следующий день собрал жрецов и царей, чтобы обсудить с ними предстоящий праздник, — легко привел их к согласию. Как видно, наши приношения пришлись Ей по душе. Празднества и Игры прошли так, будто нас все время вела Ее рука. Старики говорили, что такого великолепия на нашей земле не было даже в легендах их дедов. Удача сопутствовала нам всюду: отличная погода и хороший урожай, никаких новых междоусобиц, добрые знамения при жертвах, чистые победы на Играх, без споров и обид… Весь народ светился радостью, юноши и девушки сверкали красотой, песни были сладкозвучны и искренни… Когда я поднялся вручать призы борцам, из народа вознесся пеан, такой, будто они увидели бога… И я сказал себе: «Помни — ты смертный!»
Но уж так всё удачно получалось — я решился, и на этом же празднике объявил всю Аттику и Элевсин единым царством с единым законом. Вожди, ремесленники и крестьяне — все согласились разбирать свои тяжбы в Афинах; жрецы признали своих богов в наших, добавив — если им хотелось — те имена, какие они употребляли дома… Они все наконец поняли, что теперь в Аттике воцарился мир; что любой человек, если только он не убил своей рукой и его не ждет кровная месть, сможет идти безоружно через землю своих соседей. Поняли и приняли.
Как раз вскоре после того я поехал в Колон, чтобы принять знамения Посейдона.
Там есть чудесное место неподалеку от города, очень хорошее для винограда и олив; молодые влюбленные ходят туда слушать соловьев. Но вершина священна и принадлежит Посейдону-Коню, так что даже в те дни люди ее не тревожили. Там не было ничего примечательного — потрескавшиеся скалы да еловый лесок… Но если забраться на самый верх, то под тобой был округлый плоский провал — будто огромное конское копыто вмяло землю — примерно такой ширины, как мальчик может кинуть камень.
Наверно, тысяча лет прошла с тех пор, как бог ступил сюда: местность заросла кустарником и колючкой, святилище было крошечное, а жрец жирный и сонный… Но я разозлился, приехав сюда в прошлый раз и увидев, что этим местом пренебрегают, — бог явно был там: когда я стоял на гребне, у меня дрожало под затылком, бегали мурашки по спине… Я спросил у жреца, чувствует ли это и он, — он сказал «да». Я знал что он врет, но не мог этого доказать; и вот теперь Сотрясатель Земли сделал это сам: толчок был не сильный, но дом жреца рухнул, и его придавило в постели насмерть. Люди в том краю перепугались и срочно послали за мной, умоляя помирить их с богом.
Я выехал туда на трехконной колеснице, с конной стражей. Мы украсили лошадей в честь Отца Коней: у моей упряжки были султаны из красных перьев на лбу, а хвосты заплетены в косы, остальные лошади — в лентах… Лучшего жеребца моих табунов мы вели с собой для жертвоприношения. Но бог выбрал не его.
Мы были уже близко, и я искал глазами людей, которым так был нужен, — дорога была пуста. Тяжесть божьего гнева давила землю. Я чувствовал это, я был почти на пределе — и подумал, уж не ударит ли он снова… Сверху донеслись крики и женские вопли… Аминтор двинулся было вперед, но я задержал, — решил сам посмотреть, что они там вытворяют, — остановил колонну и пошел пешком, с четырьмя воинами.
Ближе стало слышно, что женский голос просит пощады, — истошный, жалобный, прерываемый кашлем, когда она била себя в грудь… Слышалась ругань и глухие удары камней… Поднявшись на гребень, я увидел, что деревенские бьют камнями мужчину. Он скрючился на земле, прикрыв голову руками, на его белых волосах была кровь; женщина, еще молодая, рвалась к нему, умоляла их пощадить ее отца, который и так достаточно страдал… Когда они отшвырнули ее, она закричала, взывая к Посейдону, — и в этот момент я шагнул вперед и окликнул их. Они обернулись, разинув рты, уронив свои камни.
Женщина бросилась бегом ко мне. Всхлипывала, спотыкалась о комья земли меж рядов винограда; ее платье было изодрано и покрыто кровью, грудь расцарапана… Она состарилась до времени, как крестьянка, но не похожа была на крестьянку: черты были вырезаны другим резцом. Упав мне в ноги, она обхватила мои колени, стала их целовать, и я ощущал кожей ее слезы.
Я поднял кверху ее лицо, — покрытое пылью, но тонкое, благородное, — спросил, в чем обвиняют ее отца; но старейшина деревни заговорил раньше. Мол, этот отщепенец, нечистый перед всеми богами, прикоснулся к алтарю Посейдона, стараясь принести смерть им всем, — ведь Сотрясатель Земли и так разгневан!.. Тем временем, услышав наш разговор, человек поднялся на колени. Он вытянул перед собой руки, ища чего-то, — наверное девушку, — и я увидел, что он слеп.
— Можешь пойти к нему.
Это я ей сказал. И поднял руку, чтобы задержать остальных. Она подошла, подняла его, вложила ему в руку посох и повела его ко мне. Он был в крови, но костей ему еще не поломали; а по тому, как он держался, — видно было, что ослеп уже давно. Она шептала ему на ухо, рассказывая кто я. Он повернул лицо в мою сторону, и меня пробила дрожь: лицо этого старика было лицом самого рока; он был по ту сторону горя, по ту сторону отчаяния, он забыл и надежду, и страх, как мы забываем молоко своего младенчества…
Он шел, ощупывая посохом землю перед собой и опираясь на девушку. На нем была короткая туника, какие одевают в дорогу… Она была порвана и окровавлена, и видно было, что запачкана и изношена уже давно; но шерсть была тонкая, а узоры на кромках когда-то надолго задержали у станка искусную ткачиху. Пояс его из мягкой выделанной кожи, был когда-то украшен золотом — остались дырочки от бляшек… Я хотел рассмотреть и его сандалии, — но не увидел их, потому что увидел ноги. Сильные, мускулистые ноги, привычные к долгой ходьбе; но они были покороблены — словно дерево, порубленное в юности и залечившее шрамы корой. Тогда я понял, кто это.
Всё тело мое покрылось гусиной кожей, а рука поднялась непроизвольно, делая знак против зла. Его сморщенные опущенные веки дрогнули, словно он увидел это.
— Ты Эдип, — сказал я, — тот, что был царем в Фивах.
Он опустился на одно колено. В его поклоне была скованность — не только от суставов, — царю трудно научиться поклонам… На момент я оставил его коленопреклоненным. Я знал — учтивость требует, чтобы я не попросил его встать, а поднял бы, взяв за плечи, — но руки меня не слушались.
Когда колонская братия увидела, что я не двинулся к нему, — словно открылась дверь псарни перед сворой шавок: с воем и лаем они ринулись вперед, снова похватав свои камни… Они будто плясали вокруг меня на задних лапах, чтобы я подхватил этого старика, как скелет, обтянутый кожей, — схватил и швырнул им в пасти…
— Назад!..
Ярость против них была сильнее отвращения к тому, кто стоял передо мной на коленях. Потому я обнял его — его старые кости и вялая плоть были такими же, как у всякого другого. Просто человек в беде, вот и всё.
Женщина, прекратив свои вопли, теперь беззвучно плакала, зажимая рот руками. Он стоял передо мной, приподняв лицо, словно его мысленный взор видел человека повыше ростом… Теперь стало тихо; и я слышал ворчание людей, бормотавших друг другу, что даже царю не пристало искушать богов.
Колон Лошадиный — всегда мне там неспокойно, хоть он и очень красив. А в тот день — я уже говорил — вокруг всё было напряжено, земля дышала тревогой… Ярость во мне кипела так, что все тело стало вдруг от нее невесомым; я повернулся к ворчавшей толпе и закричал:
— Тихо! Вы кто — люди?.. Или кабаны? волки? шакалы?.. Я говорю вам — это закон Зевса щадить просящего… И клянусь головой отца моего, Посейдона: если вы недостаточно боитесь богов, то будете это делать из страха передо мной!
Они умолкли. Старейшина вышел вперед и начал что-то хныкать… Кроме своей злости, кроме трепета перед этим святым местом я почувствовал, будто палец бога прикоснулся к моей шее.
— Этот человек под моей защитой, — говорю. — Троньте его — вы научитесь бояться гнева Посейдона, я прокляну вас именем его!
И словно дрожь вошла в меня через ноги из земли, я почувствовал, что бог со мной.
Теперь настала настоящая тишина. Лишь птица щебетала где-то, и то тихонько.
— Отойдите подальше, — говорю. — В подходящий момент я попрошу его милости для вас. А сейчас оставьте этих людей со мной.
Они отошли. Я не мог еще взглянуть на девушку. Только что я чуть не сказал «этого человека и его дочь», — но вспомнил, что она и сестра ему, из одного чрева…
Она сняла с себя косынку и вытерла ему лицо, там где были ссадины от камней. Видно было, что в душе она дочь, привязавшаяся к отцу с детства.
Пора было как-то приветствовать его, — словами, подобающими его родовитости, — но нельзя же было сказать: «Эдип, сын Лая», когда он убил Лая собственной рукой!.. Потому я сказал:
— Приветствую тебя, гость этой земли. Там, где боги заявили о себе, людям подобает кротость… Прости, что я не научил этому своих людей. Я заплачу за урон, причиненный тебе, но прежде я должен принести жертву; знамение бога не может ждать.
А сам подумал, что сначала мне надо омыться, чтобы очиститься от скверны.
Теперь он впервые заговорил. Голос его был глубок, сильнее и моложе тела:
— Я чувствую прикосновение богорожденного, обещанного проводника…
— Отдохни сперва и поешь, — сказал я. — Потом мы выведем тебя на твою дорогу, и во всей Аттике никто тебя не обидит.
— Я уже отдыхаю…
Я поглядел на него и щелкнул пальцами людям, несшим вино для священного возлияния: он был бледен как мел, я думал, он умирает… Мой виночерпий замешкался и тянул так долго, что мне пришлось вырвать чашу у него из рук. Отпив вина, старик чуть ожил, но мне приходилось поддерживать его. Кое-кто из моих людей предложил помочь, но рожи у них были кислые, словно им надо было прикоснуться к змее или к пауку, потому я махнул им — прочь… Рядом была большая каменная плита, — какой-то пограничный знак древних людей, — я усадил его на эту плиту и сел рядом.
Он глубоко вдохнул и немного распрямился.
— Великолепное вино. В Фивах нет такого вина, как в Аттике. — Это был разговор пирующих царей… До этих его слов я был слишком напряжен для слез, а тут не выдержал. — Богорожденный, — сказал он, — позволь мне узнать твое лицо.
Подняв руку, он ощутил на ней кровь и грязь — и вытер ее краем туники, прежде чем протянул ко мне.
— Покоритель быков, победитель Минотавра… И сложение юного танцора… Воистину здесь пребывают боги… — Его рука поднялась к моему лицу, и пальцы коснулись век. — Сын божий плачет? — удивился он.
Я не ответил. Мои люди были рядом, и я не мог распускаться при них.
— Сын Посейдона, благословение здесь, а не печаль. Долгожданный знак явился наконец: я здесь, чтобы жизнь мою отдать тебе…
Я промолчал. Как можно желать ему долгой жизни или лучшей доли? Что было, то было… И хоть я жалел его, — надо каменным быть, чтоб его не жалеть, — я не хотел его останков в Аттике. За такими людьми фурии носятся роем, как мухи за кровавым мясом…
Он словно увидел, как я оглянулся через плечо!
— Да, — говорит, — они здесь. Но они в мире со мной.
На самом деле, воздух был чист и светел, пахло созревающим виноградом… Это от земли шла дрожь. Язнал издавна — в Колоне Сотрясатель Земли всегда где-то совсем рядом, прямо под ногами; теперь он, без сомнения, был разгневан и мог потерять терпение в любой момент. Мне казалось, что мое новое знакомство — не тот подарок, чтобы понравится ему.
— Почему ты говоришь о смерти? — спросил я. — Хоть эти болваны и напали на тебя, но смертельных ран у тебя нет. Ты болен?.. Или смерть тебе предсказана, или ты хочешь призвать ее сам?.. По правде, у тебя больше прав на это, чем у любого другого; но такая кровь приносит несчастье земле, на которую пролилась. Мужайся, ведь ты пережил дни, хуже сегодняшнего…
Он покачал головой и помолчал немного, будто раздумывая, смогу ли я его понять. А я думал о его великих горестях и робко ждал его ответа, словно мальчик перед мужем.
Наконец он заговорил:
— Тебе я могу сказать. Ты пошел к критским быкам за афинян… Тебе ведь было знамение жертвы?
Я кивнул, потом вспомнил, что он слеп, и сказал «да».
Он тронул рукой свой разбитый лоб и поднял влажные пальцы.
— Эта кровь нисходит от Кадма и Гармонии — род Зевса, род Афродиты… Я тоже мог бы отдать свою жизнь. Когда чума поразила Фивы, я ждал только знака. Когда я снаряжал послов в Дельфы, был в душе уверен, что оракул скажет: «Царь должен умереть». Но от Аполлона пришло слово — искать нечистую тварь; и вот я начал искать, шаг за шагом во тьме прошлого, по тропе, которая привела меня ко мне же.
Он был спокоен, как бездонный колодец, в котором нет всплеска от брошенного камня.
— Что было, то прошло, — сказал я. — Не береди себя понапрасну.
Он накрыл мою ладонь своей и наклонился вперед, будто хотел поведать тайну.
— У меня было всё: здоровье, богатство, власть, — и я был готов умереть. Однако потом — потом я продолжал жить!.. Меня травили собаками в деревнях, я вынюхивал лис по ночной росе и ловил их в норах, чтоб не умереть с голоду, я спал на камнях вместо подушки, когда Дочери Ночи гоняли меня из одного кошмарного сна в другой… Однако я, который легко умер бы для фиванцев, — не мог сделать этого для себя. Почему, Тезей? Почему?..
Я не сказал, что нищие часто любят жизнь больше, чем цари.
— Всё проходит, — сказал я, — а терпение приносит лучшие дни…
— Теперь я знаю почему. Я ждал Благосклонных. Когда счет оплачен — они не требуют большего, так что хоть что-то остается тебе. Весь этот последний год горе скапливалось, как вода в глубокой цистерне. Это не то что ливень, который быстро проходит и оставляет тебя сухим. Я думал, что умру наконец, как зимний воробей, что падает в темноте с ветки и обращается в ничто — для всех, кроме муравьев, которые его обглодают… Но остатки царской мощи вновь проросли, и я ощущаю ее в себе. Теперь у меня есть еще жизнь, которую я могу отдать людям.
Девушка, которая тем временем поправила платье и волосы, подошла теперь ближе и села на землю. Я видел, она хотела услышать, что он говорит; но он понизил голос, и я не стал ее подзывать.
— Ты знаешь, Тезей, что во сне слепые видят? Да, да!. Никогда не забывай об этом, молодые этого не знают… Когда схватишь брошь или булавку — вспомни, что по ночам твои глаза будут видеть снова, и тогда уже ни бронза, ни огонь тебе не помогут… Торжественные приводили меня в такое место, где я увидел то, что должен был увидеть. Они подмели пол ветвями ольхи, а потом расположились на нем, как серые замшелые камни… Сначала там был туман, потом чистая темнота, в которой пробивался маленький язычок неподвижного пламени… Оно разгорелось ярко и высоко, и в нем стоял обнаженный Владыка Аполлон — словно сердцевина света — и смотрел на меня сверху большими синими глазами, как небо смотрит на море. Я подумал, что я нечист и мне надо избегать его, но он — безупречный в своем огне — не выказывал гнева, и мне не было страшно. Он поднял руку; Торжественные спали крепко, как спят древние камни, хоть солнце вливается в их пещеру… И он заговорил:
— Эдип, познай себя и скажи мне, кто ты.
Я стоял, задумавшись. Мне пришло в голову, что я стоял уже однажды точно так же, разгадывая трудный вопрос на Месте Испытаний, посвященном Сфинксу… И вспомнив — понял, что ответ был тот же:
— Я только человек, мой господин, — сказал я.
Убийца Тьмы улыбнулся мне. Его свет шел сквозь меня, словно я превратился в хрусталь.
— Ну что ж, — сказал он. — Раз ты наконец возмужал, сделай что подобает и принеси жертву.
В пещере был каменный алтарь, который я знал издавна, но теперь он был отмыт от крови и усыпан лавром… Я поднялся к алтарю, и первая из Торжественных подошла с ножницами, как старая жрица с добрым лицом… Она отрезала локон с моего лба и положила его на алтарь — и я снова увидел свои огненно-рыжие волосы, как при моем посвящении, когда был мальчиком.
Руки старика были сложены на коленях, и лицо его — Видело. Я молчал, чтобы не навлечь на него снова непроглядный мрак. Но вдруг он встал и позвал: «Антигона!» Такой голос бывает у людей, привыкших повелевать.
Девушка подошла. Она выглядела, как собака, что чувствует какую-то перемену в доме, но не понимает что к чему. Не очень сообразительная, но верная до конца; из тех, что будет лежать на могиле, пока не умрет сама.
Она подставила руку под его ладонь, — казалось, там должна быть вмятина от постоянного касания, — и они заговорили друг с другом. Я мог бы расслышать их разговор, но не слышал. Теперь — как только оказался предоставлен себе — я понял, почему у меня ломит во лбу и проваливается желудок, и кудахтанье кур впивается в голову словно иглы. Если бы ребенок хлопнул в ладошки у меня за спиной, я бы подпрыгнул; казалось, холодная змея извивается кольцами у меня внутри. Я взглянул на оливковые рощи благодатного Колона — испуганные птицы возбужденно щебетали… Это гнев Посейдона-Сотрясателя доходил уже до предела и готов был взорвать землю.
Я оглянулся вокруг — на старика, спокойно говорившего с девушкой, на лениво зевающую стражу, на крестьян, глядевших на нас из виноградника… Когда мои предчувствия приходят ко мне, я ненавижу всех вокруг. Я сам шел навстречу таким вещам, от которых большинство из них бежало бы без оглядки, — и вот я весь в холодном поту, а им хоть бы что!.. Но этот дар и бремя — они от богов, и никуда от них не денешься… Я не подал виду и подозвал колонцев. Они подходили с надеждой, вновь подбирая свои камни.
— Угомонитесь! — сказал я. — Я чувствую предупреждение Посейдона. Он ударит здесь очень скоро, — чего же еще ждать, когда вы бьете камнями просящего у его алтаря?!
Теперь они не бросили камни, а все как один наклонились и осторожно положили их на землю, словно яйца. Я показал им вниз по склону, и они убрались, стараясь бежать на цыпочках. Я бы расхохотался, если бы мне не было так худо.
Аминтор, который понимал, сказал тихо:
— Я позаботился обо всем. И лошади, и люди — всё в порядке. Уйди и отдохни.
— Да, — говорю. — Но сначала надо позаботиться о гостях.
Я повернулся к Эдипу:
— Пойдем. Пора.
Так оно и было, даже больше: мне трудно было удержать голос от дрожи…
Он поцеловал девушку в лоб, и она пошла вниз по склону, как послушная собака, отосланная домой. Потянувшись ко мне, он положил на мою руку свои легкие сильные пальцы с их видящим прикосновением.
— Сын Посейдона, если твой отец готов — готов и я. Веди меня туда, где отворятся его двери, и отдай меня богу.
Когда до меня дошел смысл его слов, — я чуть не бросился бежать, словно лошадь из горящей конюшни. Всегда, когда болезнь землетрясения нападала на меня, — всегда я заставлял, заставлял себя предупреждать людей вокруг, прежде чем убраться самому, и на это уходили все мои силы… Волосы зашевелились у меня на голове. Я посмотрел в его пустые глазницы… Он не знал, чего требовал от меня!.. И тогда я подумал: «Но бог — он-то знает!..»
Конечно же это был Зов: такая ужасная просьба не могла исходить от человека… И если бы я потерял сознание от страха, Его власть наверняка повела бы меня. Я сказал Аминтору:
— Уведи людей вниз с холма и жди.
Он смотрел на меня молча, наверно выглядел я неважно…
— Иди! — кричу. Мне пришлось напомнить себе, что за человек стоит передо мной, другого бы я ударил… — Иди!.. Я должен сделать это для бога.
Он схватил мою руку и прижал ко лбу, потом тихо отошел к страже и увел их вниз. Я остался один с Эдипом Проклятым. Неподвижный воздух свинцом лежал на неподвижных кронах, затихли пчелы, и птицы затаились в листве.
Он сжал пальцы, спрашивая, куда нам идти.
— Тихо, — сказал я. Малейший звук вызывал у меня дрожь и тошноту. — Подожди, мне надо сориентироваться.
Но единственное, что я мог чувствовать, — это желание удрать пока не поздно. Я подумал: «Куда мне хочется бежать?» — и медленно, словно бык к алтарю, пошел в противоположную сторону. Это повело нас к провалу в еловом лесочке, и сердце мне сдавил такой ужас, что я понял: здесь и есть то место.
Слепой шел со мной совсем спокойно, ощупывая посохом дорогу перед собой. Я вел его меж рядов винограда и вверх по склону — к воротам… С каждым шагом обруч на голове сжимался все туже, сердце билось тяжелей, шея и руки покрывались гусиной кожей… Это меня и вело: я шел, как собака, на запах страха.
Когда мы поднялись на каменистый пустырь, его пальцы скользнули по моей кисти к ладони. Они были теплые и сухие…
— Что с тобой? — он спросил мягко, но все-таки слишком громко для меня. — Тебе плохо? Или больно?
Никто не станет притворяться, когда бог дышит ему в шею. И я сказал:
— Мне страшно. Мы уже близко.
Он ласково сжал мне пальцы. В нем не было заметно страха, он давно уже был по ту сторону.
— Это только мое предчувствие, — говорю. — Когда бог умолкнет, это пройдет.
Скалы с елями были уже совсем рядом — я бы с большим спокойствием глядел на собственную могилу.
Я никогда не боялся смерти; меня воспитали в готовности умереть в любой момент — кто может знать, когда богу понадобится его жертва? Это был не страх перед чем-то — такой страх я мог бы перебороть, — это был просто страх; как лихорадочный жар, что заставляет дрожать от холода… И однако голос старика больше не раздражал меня. Даже как-то успокаивал.
— Ты — наследник моей жизни. Я не могу отдать ее своему народу. Наш род был послан Фивам в наказание, и волей богов мои сыновья умрут бездетными…
В его голосе послышалась ненависть, и на миг я увидел его в юности — рыжий барс с бешеными бледными глазами… Но видение сразу исчезло.
— Тебе, Тезей, и твоей земле отдаю я свою жизнь и свое благословение.
— Но они били тебя у алтаря, — прошептал я.
— А как же иначе? — он был спокоен и рассудителен. — Ведь я убил своего отца…
Мы уже были среди скал. Он шел по ним почти без моей помощи; казалось, он чувствует их раньше, чем прикоснется… Страх отпустил мне голову и сжал желудок. Я скользнул в сторону от старика, меня стошнило, и я почувствовал себя немного лучше, хоть пустым и холодным. Вернувшись, я вывел его на более ровное место и ответил:
— Рок властвовал тобой; ты сделал всё это, не зная… Люди делали худшие вещи за меньшую цену…
Он улыбнулся. Даже в том состоянии, в каком был, я изумился этому.
— Так и я говорил всегда, — сказал он. — Пока не стал человеком.
Мы подошли к краю провала, и страх во мне кричал: «Будь где угодно, только не здесь!..» Голова была такой пустой, что должна была улететь; женщины говорят, что так бывает у них перед обмороком… «Я больше не могу, — подумал я. — Бог возьмет меня здесь или оставит, я в его руке». И привалился к скале, бессильный словно выжатая тряпка…
А он продолжал говорить.
— Я был приемным сыном Полибия. Но он никогда меня не любил; об этом говорили, и я слышал… А когда я спросил бога в Дельфах, то он ответил мне только вот что: «Ты убьешь сеятеля твоего семени и засеешь поле, в котором вырос». Вот так. Что я не знал, что ли, что теперь каждый мужчина, каждая женщина лет сорока — должны быть моими отцом и матерью перед богами? Знал… Когда тот, рыжебородый, бранью погнал меня с дороги перед своей колесницей и ударил копьем, а женщина возле него смеялась — забыл я об этом? Нет, помнил!.. Но ярость моя была сладка мне, никогда в жизни не мог я ее перебороть. «Только один этот раз, — подумал я тогда. — Боги подождут один день». И я убил его и его скороходов, ярость сделала меня сильнее их троих… Женщина была на колеснице и пыталась управиться с вожжами; но у меня в ушах еще звучал ее смех — и я стащил ее вниз и швырнул на труп ее мужа…
Его слова усаживались во мне, как вороны на мертвом дереве. Я был настолько измочален, что едва вздрогнул, услышав это.
— А потом, когда я въехал в Фивы победителем, — бритый, умытый, украшенный цветами, — она встретила мой взгляд и ничего не сказала. Она видела меня только в схватке; кровь, и ярость, и въевшаяся грязь долгой пыльной дороги меняют человека… Она не была уверена. И этот нежный яркий взгляд волчицы на нового вожака стаи… Это закон в Фивах, что царь правит по праву женитьбы. Чтобы стать царем… чтобы быть царем… Я приветствовал ее как чужестранец, я никогда не говорил, она ни о чем не спрашивала… Никогда, до самого конца.
Я слышал эти ужасные слова, — но они доходили до меня, как детский плач. Присутствие бога давило мне череп, наполняло всё тело, проникая сквозь подошвы от дрожащей земли… Я выпрямился, словно Его рука толкнула меня, мой страх утонул в суровом благоговении — я больше не был собой: я был только струной, звучавшей для Него; я понял в тот миг, что значит быть не только царем, но и жрецом.
Слепец стоял там, куда я привел его, — чуть ниже меня, на краю священного отпечатка копыта, — опустив лицо к земле. Я сказал:
— Будь свободен от всего этого, иди с миром в мир Теней. Отец Посейдон, Держатель Земли, прими жертву!
Пока я говорил, птицы с воплями взлетели ввысь и начали выть собаки… Я увидел, как он протянул руки в молитве богам внизу, — и больше не видел ничего. Глубоко подо мной сердцевина холма надсадно захрустела — я не устоял на ногах и покатился, вместе с камнями и щебнем, пока не застрял возле корней ели, торчащих из земли. Совсем рядом послышался мощный грохочущий удар, еще один, тяжелые замирающие раскаты…
Болезнь моя враз прошла, сердце успокоилось, и голова стала ясной… Это было как пробуждение от кошмара; и я крикнул почти весело: «Где ты? Тебя не ушибло?»
Никто не отвечал. Я поднялся, опираясь на ель… Облик скал изменился: кромка копыта раскрылась разломом, который был заполнен громадными глыбами. Я сделал знак почтения богу и подполз на коленях к краю провала — глубины были спокойны.
Далеко внизу люди Колона звали бога по имени и трубили в бычьи рога; и одинокий осел возносил к небесам свой истошный рев, словно все страждущие твари избрали его своим глашатаем обвинять богов.
8
Я не виделся с Пирифом больше года. Он похоронил отца и стал царем в Фессалии; это приостановило его вылазки. Но когда он появился — это снова был морской поход. Он был обветрен, просолен, зарос, как его люди, и весь обвешан золотом: он напал на Самос, когда все их мужчины были на войне, и разграбил царский дворец. Мне он привел в подарок девчонку с Самоса, и даже оставил ее невинной.
У меня этот год тоже не пропал зря: я завоевал Мегару.
Война началась из-за пошлин на Истмийской дороге. Прежний царь, Нис, — с ним у меня был договор о свободной торговле, — умер и не оставил после себя сыновей. Он-то был моим родичем; а его преемник — и не родной, и не сговорчивый. Он обложил пошлиной всю торговлю Аттики, ссылаясь на то, что, когда договор заключался, я был царем только в Элевсине. Любой порядочный человек пошел бы мне на уступки — ведь это я очистил дороги от бандитов!.. Сначала, когда я обратился к нему, он ответил вежливо и предложил поправки к договору. Потом опять ответил вежливо и извинился, что не признает моих претензий. Затем его ответы стали короче… Это было глупо. Это заставило меня подумать, что если Мегара будет в моих руках, то граница Аттики пройдет как раз по Истмийскому перешейку. Любой царь, который не хочет, чтобы его имя умерло вместе с ним, подумал бы так же.
И вот я напал на него. Я одел своих людей как торговцев, их оружие было спрятано в тюках, а меня самого несли в закрытых носилках, в каких носят благородных женщин. Мы захватили врасплох башню с воротами, впустили войско, ждавшее за холмом, и были уже почти у крепости, прежде чем страна всполошилась. Я мог бы иметь здесь такую же добычу, как Пириф на Самосе, — не меньше, — но запретил грабежи под страхом смерти. Я еще никогда не правил народом, который ненавидел меня.
Пириф огорчился, что пропустил войну, — и уплыл домой. Я был занят Мегарой весь тот год. Как и у народов Аттики, у них были свои обычаи, которые я не собирался искоренять; но прежняя работа меня кое-чему научила, и здесь моя рука была тверже. Я решил построить прочное здание, которое будет стоять и после меня, а не времянку-развалюху, что рухнет на голову моему сыну. Эта мысль жила во мне всё время, что я наводил порядок в Мегаре и Истме, строил большой алтарь Посейдона, чтобы отметить мою новую границу, устраивал священные Игры в его честь… И чуть ни каждую неделю вспоминалось, что вот мне уже двадцать пять, а я еще не женат.
В основном это было делом случая: отец не мог помолвить меня мальчиком, поскольку он меня прятал; а едва мы успели познакомиться — я уехал на Крит; а когда вернулся — слишком много было дел и жаль было времени…
В моем доме хватало женщин. Они были под рукой, когда я хотел их, и не путались под ногами, когда был занят; еще несколько девушек я взял в войнах… Так что у меня был выбор, а если какая-нибудь надоедала — можно было убрать ее с глаз… Я прекрасно знал, что мне надо было бы сделать. Но как подумаешь обо всех этих тоскливых делах: посольства, визиты родни, визиты к родне, переговоры о приданом, с днями, полными документов и стариков; и наводить порядок в женской половине, — слезы и вопли, и угрозы прыгнуть со стены… — и куча новых служанок и барахла, которую притащит с собой невеста… — ссоры и ревность, и каждое утро одно и то же лицо на подушке… Это могло подождать еще годик. Потом стрела свистела в битве возле уха или меня сваливал приступ лихорадки, и я думал: «Ведь у меня нет наследников, кроме моих врагов, завтра же займусь этим…» Но завтра был уже другой день, с другими заботами.
Но вот, через год после Мегарской войны, в Пирейскую гавань вошел большой корабль с микенским царским вымпелом и стерегущими львами на красном парусе. Удивляясь, что бы это могло значить, я приготовился к встрече почетного гостя. Вскоре на берегу появился гонец Эхелая, наследника микенского престола: Эхелай вопросил гадателей о ветрах, прежде чем проходить Сунийский Мыс, и получил дурное предзнаменование — может ли он быть моим гостем на эту ночь?
Я встретил его в порту. Он оказался именно таким, как о нем говорили: здоровый малый, примерно моего возраста, представительный и гордый, но умеющий быть обходительным, когда хочет понравиться.
С того момента как мы встретились — по его словам, благодаря погоде и случаю, — он повел себя непринужденно как на охоте или на играх: рассказывал военные истории, шутил, хвалил моих лошадей… Вечером за вином в моих верхних покоях он дал себе еще больше воли, болтая о здоровье своего отца и строгости матери. Она слишком крута, сказал он, с его младшей сестрой, которая уже скоро станет женщиной. «Девчонка наливается как колос и становится красавицей; нельзя же без конца обращаться с ней как с ребенком…» Он смотрел не на меня, а на свои длинные смуглые пальцы и крутил перстень с печаткой.
Я продолжал мило улыбаться, но в голове у меня завертелось. Вот чем обернулись мои проволочки!.. Я подумал, как бы это обрадовало моего отца, когда вся Аттика состояла из одной скалы на клочке равнины; но теперь — теперь это был капкан с приманкой. Мое государство было слишком молодым, чтобы сохраниться под огромной тенью Микен; они бы засосали меня, и мой преемник стал бы практически их вассалом… Еще через несколько лет это был бы уже союз равных… Похоже, что и они думали так же.
Что ж, это должно научить меня, каково тянуть! Теперь или никогда: выжидать, раздумывать, затягивать — это было бы смертельным оскорблением, а Львиный Дом переваривает оскорбления немного лучше, чем сами боги…
Спешка была бы неприлична; он провел свою роль с блеском — так же надо и мне… И вот я послал за девушкой с Крита, которая играла на египетской арфе, и попросил ее спеть. Я был рад увидеть, что она ему понравилась, — это была возможность его улестить… Она тоже это увидела и аж из кожи лезла, думая о драгоценностях из золотого города. Я-то держал ее ради ее музыки и никогда не спал с ней; даже ее благовония напоминали мне Лабиринт, полночные тайны, ужасное прощание на Наксосе… Но Эхелай слушал больше глазами, чем ушами.
Когда песня кончилась, он выглядел словно малыш, у которого забирают горшок с медом. Потому я махнул ей остаться петь еще, а ему сказал: «Да, это чудесная песня. Я слышал ее на Крите от девушки, с которой помолвлен, когда она была еще ребенком, — это Федра, дочь царя Миноса. К слову, пора бы мне снова выбраться на Крит…»
Он принял это хорошо, вполне поверив мне, и даже сказал, что слышал об этом. Как я теперь понял, он приехал прощупать меня и убедиться. Вскоре он ушел спать, и я отослал девушку к нему — теперь ему было не до раздумий… А я допоздна простоял на балконе, размышляя о том, как скоро судьба повесила мне на шею эту заботу.
Это был единственный брак, какой я мог себе представить. Я полагал, что сам могу выбрать свое время, поскольку они не выдадут ее замуж, не получив моего согласия. Разумеется, они не спрашивали, ждали, пока я сам скажу… Но после нынешнего дня уже нельзя было тянуть дольше.
Я не видел девочку с тех пор, как перепуганная нянька привела меня к ней, чтобы доказать, что я еще жив… Так я ее и запомнил: голенькая зареванная девчушка на раскрашенной кроватке со сбитыми простынями, судорожно ухватившая мою руку… Сейчас ей около четырнадцати?..
Мысли мои бродили вокруг Лабиринта и перешли наконец на Наксос. Нога моя не ступала там после того полуночного отхода; но моим кораблям, когда они шли тем путем, давался приказ донести, если Ариадна, Трижды Святая, покинет святилище. Это было необходимо: любой враг стал бы очень силен, заполучив ее… Но она стала слишком святой: шли годы, а она всё еще была там, в святилище Диониса на его отдельном островке. Каждый год, в луну виноградного сбора, она уводила менад в горы; к вечеру они возвращались, шатаясь от вина и усталости, с руками по локоть в крови, а прошлогодний винный царь исчезал.
После того праздника на Наксосе я надолго онемел от ужаса. Но цари не могут сидеть, зажав рот ладошкой, как перепуганные дети, — я должен был отчитаться за нее: ведь на Крите, когда мы брали Лабиринт, я сказал народу, что она будет моей женой… Потому когда я вернулся туда и навел в стране порядок, то рассказал князьям, что на Наксосе — Острове Богини — я видел страшный сон: Дионис явился мне в своем ужаснейшем обличье и потребовал оставить его избранную невесту. В каком-то смысле так оно и было, так что я даже не солгал.
Таким образом я отделался от нее с честью. Со временем моя собственная легенда, переходя из уст в уста и с острова на остров, вернулась ко мне, полная чудес. Мол, она так дорога Дионису, что его корабль, обросший виноградом, каждую ночь подходит к острову при свете звезд, и бог поднимается к ней по ступеням, что ведут от воды к храму, в обличье черноволосого мужчины. Я надеялся, что это правда, — что она нашла себе любовника, — ей слишком не подходило спать одной.
А потом, еще через несколько лет, пришли вести, что она умерла при родах от бога. Остался ли жив ребенок, я не узнал; у храмов Диониса много тайн. Я бы солгал, сказав, что грустил о ней: это было снятое бремя, и это оставило юную Федру бесспорной наследницей Дома Миноса, последней из Детей Солнца.
Когда Эхелай прощался на другое утро, я подарил ему критянку. Это сделало его моим другом надолго, а поскольку он вскоре стал царем — подарок окупился хорошо.
Мне хотелось съездить на Крит на церемонию помолвки, чтобы самому увидеть девушку. Но в Элевсине развязалась кровная вражда, которую никто кроме меня не мог бы погасить, — потому я отправил туда посольство. С большой золотой чашей, залогом родне. Для девчушки я придумал кое-что получше: она была изящным ребенком, с тонкой костью и шелковистыми волосами, — мой придворный ювелир сделал ей венок гиацинтов из ляписа и такие же серьги, в виде веточек. Но мысленным взором я все еще видел ее в детской, с обезьянками, нарисованными на стенках; потому я послал ей и обезьянку в маленькой алой курточке. Интересно, вспомнит она?
Вернувшись, корабль привез согласие родни и ответные подарки. Одним из них был ее портрет на слоновой кости, но он в точности походил на любое критское изображение девушки или богини. Даже волосы ей сделали черными, а я помнил их чудесный темно-русый цвет.
Я отпустил своего посла, но он замешкался и выразительно посмотрел на меня. Это был седой придворный, которого я выбрал за его благородные манеры. Когда я отослал всех остальных, он сказал:
— Мой господин, у меня есть тайный подарок для тебя, — он достал пакет из вышитой ткани. — Принцесса шлет его лично, через свою старую няньку. Я должен был сказать только тебе, иначе тетка будет ее бранить. Но ты поймешь.
Внутри была косичка, сплетенная из волос двух цветов. Я смотрел, не понимая… Потом вспомнил: в тот день на Крите, после Бычьей Пляски, она попросила прядь моих волос и сказала, — как говорят детишки, не знающие, что это такое, — что когда-нибудь выйдет за меня замуж.
Старик сказал:
— Ее держат очень одинокой, это совершенная невинность… О, но птица уже стучится в скорлупу, и это будет прекрасная птица!
Я рассказал ему, в чем дело, мне было радостно поделиться с кем-нибудь. Теперь думы об этой девушке захватили меня, я в мыслях рисовал картину ее превращения из ребенка в женщину: рядом с этой картиной дворцовые девки казались грубыми и затасканными, и большинство ночей я проводил один. В стране было спокойно — мне снова захотелось поехать на Крит.
Я не стал предупреждать их заранее; решил, что сделаю это из ближайшего порта. Даже капитану не сказал, куда собираюсь, храня свой секрет как мальчишка. Когда я приказал заново покрасить мой корабль, сделать новый тент и нового причудливого грифона на форштевень — иной раз видел улыбки, но не обращал внимания. Новость о нашем союзе распространилась — и стало ясно, что она нравится всем. Даже вожди, которые надеялись, что я выберу из их рода, — и те были рады, что их соперников тоже обошли. Каждый боялся бы союза с Микенами, — как боялись бы союза с Миносом в дни его мощи, — но Крит был повержен, и теперь они видели союз, который надежно закрепит зависимость великой державы от нас. Мужчины превозносили мою мудрость; женщины узнали о подарке на память и восхищались этой историей как сентиментальной балладой…
Я был в гавани, — следил за установкой нового грифона, — когда с наблюдательной вышки донесся крик, что на горизонте показался пиратский флот.
Поднялся великий шум; люди угоняли скот внутрь страны и увозили свои пожитки… Морские грабители осмелели в последнее время; вдоль всего побережья, до самого Истма, то и дело появлялись их летучие банды. Вскоре мы увидели галеры, входящие в гавань под парусами и на веслах… Но с передней просигналили полированным зеркалом три раза по три, — я рассмеялся, и послал распустить воинов и приготовить покои для гостей.
Народ смотрел на Пирифа довольно-таки подозрительно — до самого конца побаивались, что он разграбит гавань, — я же был рад сверх меры: мне нужен был друг, чтобы поговорить свободно.
На этот раз он был свеж и брит, его корабли в отменном порядке: они только что вышли в море, хоть лето было в разгаре, дела царства задержали его. Я не стал ждать его рассказов, поскольку был переполнен своими. Наверху после обеда, отослав слуг и подвинув вино к локтю, я излился перед ним. Он был целиком за женитьбу, пока я не сказал, что уезжаю на Крит. Тут он расхохотался — и спрашивает:
— Ты что рехнулся, что ли?
Я уже привык к более изящным выражениям, даже мои женщины придерживали язык со мной… Но прежде чем я мог ответить, он продолжал:
— Неужели ты не понимаешь? Увидеть ее сейчас — всё дело испортить! Маленькая хохотушка, с нее кукольный жирок еще не сполз, и почти наверняка прыщавая… Все праздные девчонки, растущие во дворцах, проходят через это; только крестьянки, которые их сводят, бывают хороши в четырнадцать лет… О, нет сомнений, что она славная девочка и станет красавицей, — так дождись этого, не начинай с разбитых надежд и унылого ложа!.. Поверь мне, если ты женишься на ней сейчас, то надоешь ей, когда она будет в расцвете, и она начнет смотреть по сторонам.
Это меня слегка смутило.
— Но пока нет нужды жениться, — говорю, — я могу решить, когда посмотрю на нее…
— Не смотри на нее вовсе, если хочешь любить ее потом. И когда ляжешь в постель с очаровательной невестой, о которой мечтал, — не забудь сказать мне спасибо!.. А сейчас у нас попутный ветер и много дел впереди.
Я всё время чувствовал, что он клонит к какой-то своей цели, но в его словах на самом деле был смысл… А он продолжал:
— И твой корабль готов, это добрый знак!.. Слушай, узнаешь, почему я сошел с курса и потратил неделю плавания, чтобы забрать тебя с собой.
Он рассказал мне, что затеял идти на север до Геллеспонта, прорваться сквозь проливы — и дальше, в неведомый Эвксин, за золотом:
— Там есть река, что тащит в себе песок. Они пропускают поток через связанные бараньи шкуры и вытаскивают их забитыми золотой пылью… Я говорил с одним капитаном из Иолка, который привез домой одну такую; она досталась ему не просто, но что мы — бабы?!.. К чему топтать старые морские тропы, если можно увидеть мир?
Я начал было: «Мы могли бы отплыть после Крита…» — но уже знал, что тогда времени не останется. Всю жизнь я мечтал увидеть страны за проливами, на задворках северного ветра! Прочитав это в моих глазах, он выдал мне длинную сказку о чудесах, о воинах, прорастающих из зубов дракона, о колдуньях, умеющих делать стариков молодыми в волшебной купели, и о прочей чепухе, сочиненной моряками… Я рассмеялся. Тогда он зашел с другой стороны:
— Послушай! Ведь мы подойдем к побережью Понта. Это оттуда были те амазонки, о которых ты так много думал на бычьей арене. Разве ты не хочешь увидеть, как живут они у себя дома?
— С какой стати? — возразил я. — Бычьи плясуны никогда не говорят о доме. Это как боль в животе, это отвлекает тебя от быка…
Тогда он вернулся к золоту и драконам Колхиды; а я смотрел на лампу в малахитовой чаше, и в ее пламени видел картины его сказок в мельчайших деталях.
— Что же, — сказал он наконец. — Ведь тебя ждут на Крите, ты не хочешь их оскорблять…
— Я еще не предупредил их.
Это было всё, чего он от меня добился в тот день; но он уже знал, что победа за ним.
2
ПОНТ
1
Чуть ни все Афины провожали нас в Пирее, когда мы приносили жертвы Владычице Ветров. Слушая приветственные клики, я думал, как изменились времена: в дни величия Миноса к пиратам относились не лучше, чем к бандитам на суше… Но теперь не было флота, достаточно сильного чтобы охранять все морские пути; цари лишь защищали свои берега, но порой выходили в море и сами — мстить… А где война — там добыча; и тут уж недалеко до морского разбоя в чистом виде. Молодые люди могли утвердиться в жизни; цари могли разбогатеть без тяжелых налогов, а это нравилось их подданным; воины могли показать, чего они стоят, и увидеть заморские чудеса… Только седые старики ворчали, когда я собирался в море с бродягой Пирифом и набирал людей на свои корабли. Старые вожди убили бы всякого за одну лишь идею посадить их на весла, но их сыновья едва не дрались в моем приемном зале за право пойти в этот поход.
Грести — тяжело, но у них было время втянуться в работу: до самых проливов мы шли с попутным южным ветром. В бурунах под носами кораблей кувыркались дельфины и поднимали фонтаны искрящихся брызг, а море было такое синее, что чудилось — вот-вот покрасит весла… Раза два мы видели дымы на берегу и стоявшие там корабли. Наверно, те тоже вышли на промысел, но нас они оставляли в покое: по нашей силе и по гербам было видно, что мы — царский флот; а волки уступают дорогу льву.
Я был готов прыгнуть за борт и плавать с дельфинами, такая радость бушевала в груди. Долгое время бродяга во мне был рабом и пленником царя, но теперь настал его праздник; я смотрел вокруг свежим детским взглядом, и на душе было легко, как в детстве.
Если бы мы шли разорять эллинские земли, мне было бы гораздо хуже: мне все эллины кажутся родней. В тех странах, что я покорил, я обращался со всеми как со своим народом, и никого не обращал в рабство. Некоторые цари не знают ничего за соседом, с которым враждуют; для них ты чужеземец, если пришел за полдня пути… Но мне довелось быть пленником в тех краях, где чтили других богов, и то, что было дорого нам, ничего не значило для наших хозяев, — это сближает со всеми своими.
Мы прошли вдоль берега на север до устья Пенея, где люди Пирифа разложили сигнальный костер для него — в стране всё спокойно… Раз так — мы пошли дальше, благополучно обогнули гору Афон и вышли к острову Фасос, где добывают золото для Трои. Там стояли троянские корабли под погрузкой; на них, по идее, и царская плата за золото была… Но грифона не хватают за хвост так близко от его клюва, потому мы прошли Фасос мимо.
Потом перед нами выросла Самофракия, где огромные темные скалы и крутые заросшие склоны подымаются прямо из моря… Там нет бухты, пригодной для судов, — оттого остров и дикий, — но он священен. Мы с Пирифом сами подгребли к нему на кожаных лодках, взяв с собой наши флаги, чтоб заколдовать их у крошечных богов горы от кораблекрушений и поражения в битвах.
Мы карабкались по узкой тропе меж утесов вверх, сквозь хвойный лес, влажный от тумана, мимо каменистых склонов, где словно гнезда аистов лепились деревушки саев, — самых древних береговых людей, — а на их крышах гнездились и сами аисты… На самом верху — над лесами, утонувшими в облаках, — каменистое плоскогорье… А на нем — грубо вытесанный алтарь тех боженят и священная пещера. Раз уж мы попали туда — попросили и нас самих заколдовать от поражений и крушений. То тайные обряды; потому скажу лишь, что они грубы и отвратительны и пачкают тебе одежду. Я потом бросил свою внизу и, чтобы вновь ощутить себя чистым, плыл до корабля от самого берега. Однако из похода мы вернулись невредимы… Надо отдать справедливость боженятам — они свое слово держат.
Когда мы были еще в пещере, горбатый жрец с ногами рахитичного ребенка спросил нас, каждого отдельно, — до чего же скверно он говорил по-гречески! — совершали ли мы преступления, выходящие за обычные рамки. Их маленькие боги, сказал он, некогда должны были искупить убийство собственного брата, так что человек, которому нужно очищение, вызывает у них особое сочувствие. Я рассказал ему, как не сменил парус, возвращаясь из Крита, и что из этого получилось. По его мнению, это много значило для боженят. Очевидно, они были довольны и Пирифом; но он никогда не сказал мне почему, а я не спрашивал. Когда мы спускались по замшелым скалистым тропам, в ушах у нас еще гудели и ревели бычьи рога, под которые они там пляшут в пещере; а выгребли из-под длинной тени горы на освещенную солнцем воду — словно родились заново… Но после того дня отец никогда больше не снился мне; что правда — правда.
А вскоре перед нами был уже пролив Геллы, похожий на устье большой реки, — мы остановились, чтобы дождаться ночи. Летом северо-восточный встречный ветер тянет там целыми днями, а к закату спадает. За пресной водой мы высадились на берег при полном вооружении, потому что народ там — отъявленные головорезы. Пириф показал мне карту, которую составил для него капитан из Иолка. Там было указано, где к какому берегу прижиматься, чтобы местные течения попутны были. Этот человек, сказал Пириф, был царским наследником, но отца его низложил кто-то из родни. Сын-моряк был недостаточно богат, чтобы снарядить армию и забрать назад свое наследство; но в том походе он взял столько бараньих шкур, полных золотой пыли, что после того не испытывал недостатка в копейщиках. Он отдал свою карту Пирифу, потому что мальчишками они вместе были в школе Старины; а еще потому, что он, как он сказал, не доживет до другого путешествия на Эвксин. Он был теперь царем в Иолке, но здорово страдал от проклятия, которым покарала его одна северная колдунья.
— Так что держись от них подальше, — сказал Пириф, — даже если они предлагают тебе свои милости. Тот пообещал, что женится на ней, если она научит его, как достать золото в Колхиде. А теперь проклятье грызет ему кости, и по нему видать, что долго он не протянет.
— В Колхиде? — говорю. — А он называл ее имя?
— Он ее звал коварной тварью. А имя… как же оно?.. Медея!
Я рассказал, как она была любовницей моего отца и пыталась меня отравить. Он, правда, тоже принимал в этом участие, — но имел основания меня бояться, не зная еще кто я… Уважая его память, об этом я говорить не стал.
Пять ночей мы осторожно пробирались через проливы, цепляясь за прибрежные течения. Сначала через узкую часть, потом через Пропонтиду, где уже не видно дальнего берега… Днями мы останавливались и держались настороже: воды Геллеспонта ничуть не лучше, чем была в свое время суша Истма. Чтобы уберечься от стрел, мы сооружали ограждения из щитов и шкур, как посоветовал Пирифу колхидский капитан Язон; и все-таки один из наших был ранен и вскоре умер. А ведь нам пришлось иметь дело только с вождями, для мелких банд мы были слишком сильны… Этот Язон был стоящим парнем, раз пробился через проливы одним кораблем.
На шестую ночь полоса воды вновь стала такой узкой, что мы слышали лай шакалов и видели, как движутся люди возле своих костров на дальнем берегу… А перед рассветом нам в лицо ударил новый ветер — вольный и соленый, — берега расступились, корабли закачала морская волна… Мы легли в дрейф, а на рассвете увидели огромный сумрачный океан. Это был Эвксин, Радость Моряка. Так его называют, потому что с богами этого моря лучше быть повежливей.
Мы повернули на восток, и когда навстречу нам поднялось солнце — море стало синим, темно-синим как ляпис. Сначала берега были равнинные, потом взгромоздились высокими горами. Горы заросли дремучими лесами или светлыми солнечными рощами, их рассекали ущелья, что прорезали зимние ливни… Мы высадились за водой у ручья. Вода в нем сбегала по валунам, блестевшим как черный мрамор, в бочаги меж замшелых камней, в тени миртов; вокруг щебетали птицы, в лесу было полно дичи… Нам очень хотелось заночевать на берегу, поесть свежего мяса, проснувшись, увидеть солнце сквозь зелень листвы… Но Язон говорил, что лесные люди — свирепые охотники; они подстрелят тебя отравленной стрелой прежде, чем ты заметишь хоть единое движение в чаще… Потому мы выставили посты и остались на кораблях.
Ночная вахта заколола дротиками двоих — подкрадывались, чтобы поджечь нас.
На другой день был мертвый штиль, и дальше на восток мы шли на веслах, но теперь руки гребцов уже окрепли, а певец задал им хороший темп — шли ходко. К вечеру на вершинах гор появились облака, Пириф тотчас скомандовал: «К берегу!» — но мы не успели. Обрушился свирепый, черный северо-восточный шквал; нас отнесло от берега так далеко, что он пропал из виду… Ветер гнал нас, громадные черно-зеленые волны швыряли и захлестывали так, что на черпаках было занято больше людей, чем на веслах… А среди ночи шторм вдруг утих — так же внезапно, как и начался, — и мы остались на спокойной гладкой волне, под небом, полным ярких звезд. До рассвета так и качались на зыби, не двигаясь с места; и я благодарил Синевласого Посейдона, не покидавшего меня, будь то на суше или на море.
Солнце поднялось над зазубренным горизонтом… Это врезались в небо, возвышаясь за прибрежными холмами, громадные, покрытые снегом горы. Раньше, пока мы держались у берега, их не было видно. Когда мы двинулись в ту сторону, Пириф посмотрел на карту и крикнул со своего корабля, что Колхида должна уже быть где-то рядом и нам надо сойти на берег для военного совета.
Вскоре мы увидели ущелье в горах и устье реки. Подошли ближе — оказалось, что возле реки небольшая равнина и на ней городок из деревянных домов, крытых соломой, с царским домом из камня. Мы прошли мимо, — чтоб они думали, что мы поплыли дальше, — и высадились в бухте за мысом.
Наше оружие пострадало от бури: кожаные щиты промокли и потяжелели, все тетивы на луках были испорчены… Но оставались копья, мечи и дротики; и мы решили, что если Язону — с одним кораблем — приходилось добывать свое золото хитростью, подкупать колдунью… нам такая скромность ни к чему: мы дождемся темноты и разграбим город.
Так и сделали. У колхидян была хорошая стража, они заметили нашу высадку, хоть ночь была безлунной; но это не дало им времени убрать свое добро наверх в крепость, так что они много побросали, удирая. Мы дрались на улицах при свете горящих домов; потом, раскидав колхидян, прорвались на горную дорогу за городом и захватили караван мулов с золотом. Там были и богатые горожане, которые перегрузились своим барахлом и не могли бежать достаточно резво… Но матерей с детьми на руках я отпустил. Некоторые из наших, кто хотел женщин после воздержания на море, были этим разочарованы, особенно лапифы. Но Пириф, из дружбы, меня поддержал: мол, если они будут здесь волынить, то упустят столько золота, что на целый год хватит девок покупать.
Чтобы погонщики золотого каравана сказали нам, где находятся их шкуры, мы их застращали. Тут мы обещали больше, чем могли: Пириф, как и я, не выносил пыток, в этом мы были единодушны… Однако они показали нам шкуры в ручье. Их недавно сменили, так что золота на них было немного, но это был красивый трофей. Я не стал вымывать золото из своей, а подвесил ее — как есть — в большом дворцовом зале.
Мы были вполне довольны своей добычей: золотом и добром из домов царя и вождей. Кубки там, украшения, чеканные мечи и кинжалы, тонкоузорчатые ткани… И были готовы возвращаться домой, с чем боги послали, но прежде — потопили все их корабли. У Язона не было такой возможности; оттого, как сказал он Пирифу, и началисьпотом все его беды.
На рассвете было безветренно. Мы здорово устали, но гребли изо всех сил, чтоб поскорей убраться от колхидских берегов: ведь у царя могли быть соседи-союзники… Вскоре после восхода подул ветер, и гребцам было разрешено спать на скамьях; рулевые, успевшие отдохнуть, пока корабли были у берега, следили за парусами… Мы с Пирифом — каждый на своем корабле — прилегли на корме на соломенных матрацах. Я глядел в синее небо, в котором туго надувался на рее большой парус, украшенный змеей… Скрип мачты и довольство нашей удачей усыпили меня.
Потом — что-то не так; оттого наверно и проснулся. Было уже заполдень. Море — темное, как вино; а солнечное сияние разлилось светлым медом и золотит зеленые склоны холмов, поросшие лесом, всё тихо… Но корабль кренится и качается — это вся команда вскарабкалась на борт, обращенный к берегу, и глазеет на что-то, вытянув шеи… Я вскочил с проклятиями, разогнал их по местам и пошел посмотреть, в чем дело. На самом носу была площадка впередсмотрящего, — с нее подают команды рулевому в извилистом фарватере, — туда я и забрался, ухватившись за гребень бронзового грифона.
Стало ясно, отчего взбесились мои парни: за ближайшим мысом купалась группа девушек. Они не плескались у берега, как женщины, что полощут белье, а заплыли далеко в море… Теперь они, конечно, кинулись к берегу; но рулевые без команды развернули корабли следом, а воины налегли на весла.
Это было безумием: лес спускался к самой воде и мог таить в себе что угодно… Я открыл было рот, чтобы обругать их и приказать лечь на курс, — но слова застряли во мне. Я ведь тоже пробыл в море несколько недель и теперь медлил, чтоб хотя бы посмотреть на них.
Они плыли так быстро, чисто, размашисто, — я принял бы их за мальчишек, если б иные не успели уже выйти из воды. Убегая в чащу, они двигались по гальке легко — было видно, что ноги привычны, — но не похожи были на крестьянок: двигались слишком гордо. У них были длинные стройные ноги, упругие гладкие бедра; маленькие груди безукоризненны, словно чаши, сделанные на круге; тела — сплошь позолочены солнцем, без бледных следов одежды; светло-русые волосы сверкали на смуглой коже как серебро… Все они носили их одинаково: короткий тугой жгут на затылке плясал по плечам при беге. Самые быстрые уже добежали до леса; сквозь листву — там, где она была пореже, — виднелось движение смуглых тел… И я подумал: «Если женщины таковы — каковы же мужчины?! Это раса героев, сомнения нет; когда они придут, то будет битва из тех, что сохраняются в легендах, а кое-кто из нас накормит грифов… Ну ладно, если придут — так тому и быть…»
Махнул боцману и крикнул: «Живей!»
Гребцы с хохотом поднажали… Мы подходили к берегу так быстро, что девушки, заплывшие дальше других, были еще в воде, и одна была прямо перед нами на расстоянии несильного броска. У борта раздался всплеск — это юный Пиленор, знаменитый пловец, взявший много призов, стартовал с корабля за очередным. Он стряхнул с глаз воду и рванулся вперед как копье; ободряющие крики наших болельщиков напомнили мне Крит и рев арены…
Все остальные девушки были уже на берегу и в укрытии. «Это ничего, — думаю, — подъем их задержит, а от голодного пса зайцу не уйти…» Пиленор быстро догонял. Я приказал кому-то быть наготове подать весло: они наверняка схватятся и могут утонуть оба…
Но заросли раздвинулись, на пустынном песчаном пляже вновь появилась одна из них и помчалась, как олень, назад к воде. Моя команда завопила, — каждый выражал свой восторг, как умел, — я к ним не присоединился: она не стала тратить время на одежду, но за плечом у нее был колчан, а в руке — лук.
Это был скифский лук, короткий и тугой. Она вошла в воду почти до колена, сбросила серебряную косу с плеч назад, наложила стрелу на тетиву… А я — я уже был сражен. Линия от груди к выгнутой назад руке, изгиб ее шеи, нежный и сильный, — пробили меня насквозь вспышкой огня. Она стояла, целясь, — золото и серебро, тронутое розовым тоном, — брови сдвинуты, глаза спокойные и ясные… Непристойные крики не касались ее прекрасной чистоты, как дождь скатывается с хрусталя… Оглядела нас вскользь, как охотник, выбирающий себе жаркое из мычащего стада… Никогда прежде не видел я такой безупречной гордости на человеческом лице.
Она была готова, но не стреляла, а крикнула: «Мольпадия!» Голос был холодный, дикий и чистый как у мальчишки… или у птицы… Она показала головой, и я понял, что сейчас будет: подруга, плывшая прямо на нее, была между ней и мужчиной…
«Пиленор!» Мой крик был громок, как боевой клич, но он не услышал: оглох от воды и азарта. Девушка метнулась в сторону, он повернул за ней и открыл свой бок берегу. Стрела свистнула словно прыгнувший дельфин — и это был конец его дельфиньих дней: ему попало под мышку, он дернулся из воды, как загарпуненная рыба, забился — и пошел ко дну.
Теперь мои люди закричали от ярости. Корабль снова закачался, это лучники повскакивали со скамей… Глухо захлопали промокшие тетивы, — но стрелы упали в воду, не долетев… А корабль двигался, хоть весла были брошены; мне казалось, мой взгляд его тянет.
Она стояла в воде и смеялась. У меня внутри всё трепетало, такой это был смех: в нем не было ни стыда, ни бесстыдства, — просто смеялась, радуясь своей победе над незнакомыми чудовищами… Она была как Богиня Луны: смертоносная и невинная, изящная и ужасная, как львица… Она ждала, прикрывая подругу, выходившую на берег.
Корабль чуть покачивался на незаметной волне под легким ветерком с берега, и казалось, я сижу на коне… А кровь во мне — вино и пламя… Я смотрел, как ее рука тянется к колчану, и вполуха слышал голоса за спиной: «Господин мой, спустись!.. Господин, берегись!.. Государь, государь, ты у нее на прицеле!» Лук медленно поднимался, и глаза ее шли следом за стрелой — ближе, ближе к моим… Чтоб встретить ее взгляд, я выдвинулся из-за грифона, держась одной рукой. Глаза ее расширились удивленно, — серые, как весенний дождь, — но тут же сузились снова, и стрела скрылась за наконечником.
Мои кричали друг другу — стащить меня с площадки, — но я знал, что ни один не решится. Мне надо было заговорить, но как она может понять меня? Только разговор львиной пары, — он прячет когти, когда она рычит, — это, пожалуй, понятно… Пусть же узнает меня вот так, теперь или никогда! Я выдвинулся дальше, открывшись целиком, и поднял руку в приветствии.
На миг она замерла — глаза ее и наконечник стрелы… Потом чуть повернулась; стрела воткнулась кому-то в кожу шлема… А она прошла дальше в воду, схватила подругу за руку и вместе с ней убежала в чащу, ни разу не оглянувшись.
Гребцы притабанили, корабль остановился. Я возмущенно оглянулся на капитана: преследовать ее, найти — больше я ни о чем и думать не мог…
— Он утонул где-то здесь, мой господин.
Я ценил парня, но в тот момент забыл о нем совершенно. Его тело темнело расплывчатым пятном; я разделся и нырнул сам, чтобы поднять его. Отчасти, чтобы оказать ему честь, — но я думал и о том, что управлюсь быстрее других.
Даже с ним, даже под водой я думал о ней. Наблюдает она за нами сквозь листву? Что она скажет матери: «Мужчины видели, как я купалась»? Или: «Я видела мужчину».
Кто-то меня окликнул… Это был Пириф, перегнувшийся со своей кормы:
— Эй! Ну как тебе амазонка?
А мне и в голову не пришло!.. Ведь на Крите я видел такие же серебряные волосы, что прыгали по плечам в Бычьей Пляске; но она казалась только собой, единственной, несравненной… Постепенно до меня дошло: здесь не будет мужчин ее племени, чтобы сразиться за нее; я уже встретил того бойца, у которого должен ее отбить. Она со своим оружием, со своей львиной гордостью… а я — с чем я?
Потом подумал: «Она спустилась к воде одна, но остальных задержало что угодно — только не страх. Значит, она им приказала. Она из тех, кому подчиняются…» А вслух говорю:
— Они перед нами в долгу. Посмотрим, чем расплатятся…
Наши закричали: «Даешь!» — но в голосах было меньше пыла, чем прежде. Парни поглядывали на берег — подарок скрытым лучницам — и явно размышляли о своих подмокших тетивах. Они предпочли бы что-нибудь попроще, и охотно уйдут от этих берегов, если я их не задержу.
Кричу Пирифу:
— Слушай! Один из моих людей убит, и мы должны ему устроить достойные похороны. Давай пристанем к ближайшему открытому месту. Заодно и добычу там поделим.
Это дошло до всех. Советую каждому вождю, кто поведет воинов на рискованное дело, — никогда не откладывай дележ трофеев. Если они слишком долго валяются на виду, — ничьи, — люди успевают присмотреть себе, что им нравится, а потом это достается кому-то другому — и начинается базар.
Чуть дальше был скалистый мыс, а возле него отлогий берег. Я отдал распоряжения о могиле и памятнике для Пиленора; а потом отозвал Пирифа в сторону и сказал ему, что собрался делать. Он долго смотрел на меня, не отвечая; наконец я не выдержал:
— Ну что скажешь?
— А надо?.. — говорит. — Нет уж. Я уже успел проглотить всё что должен был сказать. Мы бы поссорились, — а ты всё равно пойдешь, а потом тебя убьют, и я всю жизнь буду жалеть об этой ссоре… Иди, дурень, — буду за тебя молиться… Если смогу, отвезу домой твое тело. Но уж если ты ее достанешь, — будь спокоен, я тебе не соперник.
Мы разделили добычу; я позаботился, чтобы все остались довольны… А потом сказал:
— Этот меч, кубок и браслет я даю из своей доли. Это призы на погребальных Играх — окажем честь мертвому… Однако, кроме погребальных даров мы должны ему нашу месть. Сейчас их дозорные думают, что все мы заняты обрядами; другого такого случая у нас не будет. Кто со мной?
Вперед шагнуло человек двадцать, готовых пропустить Игры из любви к Пиленору, ко мне или к приключениям. День стоял где-то между полуднем и летним закатом; здесь он начинается позже, чем у нас.
Пока остальные расчищали дорожку для бега, мы скользнули в лес; потом обошли подножие холма и вышли к тропинке, по которой девушки спускались к морю. Она повела нас вверх, через открытые поляны, вдоль излучин и перекатов горного ручья… На тропе были следы копыт, а в одном месте — лента, мокрая от морской воды.
Вскоре мы увидели расчистку и деревушку на ней… Но когда подползли, то услышали мужские голоса и плач детей, — это был обычный крестьянский хутор, похожий на все другие. «Так, значит, это не страна женщин, как о ней рассказывают, — подумал я. — Они должны быть чем-то другим, как бы народ в народе…»
Тропа миновала источник, где начинался ручей, — тут они останавливались напиться, — и повела нас дальше, сквозь лес из миртов, каштанов и дубов. Потом деревья поредели, появилась ежевика, уже с ягодами; небо показывалось всё чаще и наконец открылось во всю ширь, — а вокруг березы, земляничник и мелкие горные цветы… Я услышал пение жаворонка и что-то еще, что примешивалось к нему… Жаворонок примолк — это был девичий смех.
Сердце у меня остановилось, а потом как прыгнет — едва не задушило. Знаком приказал тишину, но жаворонку не прикажешь — пришлось переждать его веселье… Наконец он опустился на землю, и я снова уловил тот звук, далеко-далеко.
На открытом склоне перед нами из невысокой нежной травы поднимались изящные осинки… Тропа огибала деревья, и на одном из них был привязан пучок голубой шерсти. «Это место свято и запретно», — думаю… По спине поползли мурашки… Но как при рождении нельзя повернуть вспять, так и я не мог.
Впереди из горы выступал как бы контрфорс, образованный громадными глыбами, каждая с сарай величиной; тропинка огибала его. Голоса доносились оттуда, там конечно должна быть стража… Я подал своим людям знак ждать, а сам спустился в сторону по склону, к зарослям дрока, и уже по ним прополз до гребня и глянул вниз.
Широкий скальный выступ с неглубокой впадиной посредине… Это было похоже на бедра сидящей горы, а ее каменные руки покоились с обеих сторон на коленях. Над ними нависали каменные груди и возвышалась ее огромная голова, а вниз от коленей отвесно падал громадный обрыв. За его кромкой не было видно ничего: только безбрежное пространство и далекое море внизу и парили орлы. У самого края обрыва — алтарь из грубо отесанного камня; рядом с ним коренастый каменный столб, а на столбе какая-то штука, похожая на серп молодой луны. У нее была странная поверхность: неровная, но блестящая, как у пористой лавы… Я однажды видел такую, в другом святилище, но та была меньше кулака, а эта — с человека толщиной… Это был громадный грозовой камень; его прихотливые грани влажно блестели в косых лучах солнца, и казалось — он только что сплавлен ударом молнии и еще светится, раскаленный… С алтаря поднимался дым, в воздухе плыл запах душистой смолы… Я понял, что это святилище принадлежит Ей, на кого нельзя смотреть мужчинам; а те, что на траве в расщелине, — охрана.
Теперь они были одеты. Туники с бахромой по краю и скифские штаны, облегающие ногу, были сшиты из мягкой выделанной кожи глубоких и ярких цветов, какие бывают у ягод и драгоценных камней, и блестели пряжками из золота и серебра… Они выглядели как изящные юные принцы, которые собрались после охоты выпить вина и послушать певца. Беседовали, чинили свое снаряжение, просто отдыхали под лучами заходящего солнца… Иные смазывали луки и дротики; одна оперяла стрелы, и возле нее лежали пучки перьев и тростника; другая, обнаженная по пояс, вышивала свою тунику; а девушка рядом с ней, судя по выразительным движениям ее рук, что-то рассказывала… Позади них, ближе к горе, стояло несколько низких каменных домов, крытых тростником, и деревянная конюшня… Там же был и кухонный очаг; в нем горел огонь, и несколько крестьянских девушек в женских одеждах укрепляли над ним вертел… Я обшарил глазами все вокруг, но напрасно: ее не было.
В открытых дверях домов ничто не двигалось, значит, она и не там… Однако я не раздумывал: «Что теперь?» Моя судьба зажала меня мертвой хваткой и завела так далеко не для того, чтоб теперь отпустить.
Я помахал своим людям — мол, будьте готовы подождать еще — и лег за гребнем грудью на грудь горы. И смотрел сквозь кусты, вдыхая воздух ее дома, слушая его шорохи, его ветер… Одна из девушек заиграла на лире и запела… Это была древняя баллада, которую я слышал дома от арфистов береговых людей. Этот язык я знаю хорошо, некоторые из моих племен говорят на нем… Если она тоже его знает, мы сможем говорить…
Наверху на скале стояла девушка-часовой — черный силуэт на фоне белого облака — с двумя дротиками в руке и полукруглым щитом… Она подняла его, приветствуя кого-то позади себя, и я услышал охотничий рог. Я ждал. Каждый голос птицы, каждая травинка вонзались в меня, как бронза… Послышался стук копыт по камню, потом глухой топот по траве… Я молился — не знаю какому богу… Через дальний гребень скатилась вниз стая оленьих гончих, лохматых, белых как творог; они бросились к девушкам, те ласкали их, со смехом отталкивали прочь… Потом все поднялись на ноги, среди скачущих собак, словно челядь в ожидании хозяина…
По расщелине в дальнем гребне верхом съезжали охотники, и она ехала впереди.
Она была слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лицо, но я узнал ее и так: по посадке на маленькой горной лошади, по развороту плеч, по наклону ее легкого копья… Светлые волосы выбились на висках из-под маленькой шапочки, их шевелил вечерний ветерок… Поперек ее лошади висел убитый рогач; уздечка и поводья были увешаны серебряными бляхами, они сверкали и звенели в такт шагу коня… На легкой дороге, при виде своей конюшни, он пошел легким галопом, так что она приближалась — словно летящая птица…
Вот уже стало видно ее чистое, раскрасневшееся лицо; девушки побежали навстречу принять добычу, а другие всадницы подъезжали следом и громко рассказывали что-то — наверно об охоте…
Она спрыгнула с коня и погладила его по непокрытой спине, прежде чем его увели… Девушки принялись свежевать и разделывать оленя, отложив в сторону жертвенную ляжку. Они работали проворно, как молодые сильные мужчины, не морщась от окровавленных внутренностей, и это напомнило мне, что передо мной — воины; но я был готов смотреть на них без конца, не заботясь о жизни или смерти.
Они бросили потроха собакам и вымыли руки в ручье, а потом — пока кухарки нанизывали мясо на вертел — понесли ногу к алтарю.
Приносила жертву — она. Я уже знал, что она их вождь.
Густо клубился дым… Она подошла к самому краю обрыва и молилась, воздев руки к небу… А я смотрел на нее — и мощь моих мышц превращалась в воду, и горло сжималось, будто плачу… Она была так молода, но кто-то из богов коснулся ее: было видно, что ни один человек, ходящий под солнцем, — мужчина то или женщина, — не имеет власти над ней; она одинока перед тем бессмертным, кто может потребовать ответа… «Она больше чем царица, — подумал я, — она знает добровольное самопожертвование… В ее глазах видна судьба царя…»
Всё мое прошлое казалось тенью сна; как то темное утробное преддверие жизни, которое ребенок забывает, едва начинает дышать и видеть свет. «Зачем я пришел сюда? Чтобы перебить ее народ и захватить ее — как обычный военный трофей, руками залитыми их кровью?.. Наверно, Пелида, Владычица Голубей, омрачила мой разум, пока я не видел ее! Нет, я отошлю своих людей домой и никогда не стану мстить за из товарища. Если два-три человека останутся со мной из-за любви ко мне — хорошо; нет — не надо… В этих горах копье меня прокормит охотой; а когда-нибудь я ее встречу, когда она будет одна, — и она должна тогда прийти ко мне, раз бог этого хочет. Ведь я горю, — как лес горит от небесного огня, — разве я мог бы так страдать, не будь на то воли бога?!»
Она закончила свою молитву и отвернулась от света низкого солнца, уходившего в море. Одна из охотниц подошла и заговорила с ней; они говорили, как подруги, вроде как раз эту девушку она спасла от Пиленора… Я слышал на Крите, что амазонки бывают связаны любовью; некоторые говорили даже, что они дают обеты и выбирают на всю жизнь… Но это меня не тревожило: ведь у нас общая судьба — если я для нее родился заново, то и с ней случится то же, для меня…
Солнечный свет стал красным как полированная медь, внизу в долине уже сгустились сумерки… Огонь стал ярче, его отблески плясали на скалах; кто-то принес на алтарь трут, пропитанный смолой, и он вспыхнул ярким пламенем…
Зазвучал нежный перебор цитры; пять или шесть девушек подошли с инструментами и сели на землю. У них были маленькие барабаны, флейты и кимвалы; они начали петь и играть — сначала тихонько, нащупывая общий ритм, — остальные стояли вокруг широким кольцом.
Дробь и пение становились громче… Это была музыка для танца: неистовая, бьющаяся мелодия, которая вновь и вновь гнала себя по бесконечному кругу, каждый раз набирая всё больше огня. Она билась у меня в голове; я чувствовал, что начинается что-то священное, что-то запретное… но лежал на скале и смотрел, схваченный своей судьбой.
Одна из девушек вскочила… Сбросила свою тунику и стояла полунагая в красном свете заката и огня. Она была очень молода, нежный изгиб ее недозревших грудей был гладок как шлифованное золото; а лицо — решительно, почти сурово, но вместе с тем спокойно. Она вытянула руки, и ей вложили в них два кинжала, свеженаточенные лезвия мерцали бликами… Подняла руки с оружием к грозовому камню — и начала танцевать.
Сначала она двигалась медленно, перекрещивая руки мягкими округлыми движениями, потом завертелась быстрее, быстрее и вдруг — резко выбросила руки вперед, повернула клинки на себя — и вонзила их острия себе в грудь.
Я едва не закричал — а лицо девушки почти не изменилось. Чуть нахмурилась, когда металл входил ей в тело, но тотчас стала такой же сурово-спокойной. Выдернула кинжалы… Я ждал потока крови, но тело ее осталось чистым и гладким. В ритме барабанов она взмахивала руками снова и снова и разила себя в торс, в шею, в плечи… Я содрогался от ужаса и грыз себе пальцы, — а ее кожа была чиста, как слоновая кость, и барабаны гремели, и песня звучала все звонче…
Еще одна разделась и впорхнула в круг, рядом с той, подбрасывая охотничье копье. Сделала несколько легких шагов вперед и ударилась о копье грудью над сердцем, потом еще и еще… Но когда она отклонялась назад, ее кожа стягивалась без крови, белая, чистая.
«Тезей, сын Эгея, — думал я, — что ты наделал! Это — таинство, смотреть на него — смерть для мужчин. Беги, скройся в лесах, принеси жертву Аполлону, освобождающему людей от проклятья! Что тебя держит? Чего ты ждешь?» Но уйти я не мог: здесь была вся моя жизнь.
Солнце зашло; облака стали похожи на раскаленные угли, плывущие по прохладной, чистой зелени неба… Танцевали еще две девушки, — одна с охотничьими ножами, другая с мечом… Я посмотрел на остальных, — вокруг них, — она стояла спокойно, не двигаясь, хоть все отбивали ладонями такт. Глаза ее были неподвижны, и мне почудилась в них тревога. Она тоже будет танцевать?.. Я дрожал, и сам не знал от чего — от ужаса или от страсти.
Мольпадия уже танцевала, это она была с мечом. Вертела его вокруг себя, вонзала себе в горло… Но вот она вытянула руку, закричала и показала вверх: в блекнущей глубине неба показался призрачный серп молодой луны. Звонко ударили кимвалы, и песня взорвалась ликующим криком; музыка закрутилась словно огненное колесо, сверкали клинки, — и зрительницы одна за другой включались в танец, призывая своего вождя. Она подняла к полумесяцу глаза, широкие и мечтательные в тот миг, потом сбросила свою шапочку, встряхнула распущенными волосами, словно плотным покрывалом, тканным из лунного света… Песня стала пронзительной, как крики орлов…
И тут в нее вмешался звук, который вырвал меня из этого сна, как поток ледяной воды: это был лай сторожевой собаки — «Воры!»
С тех пор как собак накормили, я о них не вспоминал. Они были привязаны или заперты, как это делается и у нас когда начинаются танцы… Одна, наверно, вырвалась и наткнулась на наши следы; а когда зашумела — кто-то выпустил всю стаю…
В сумерках на меня накатывалась белая лавина. Я вскочил, отбиваясь от них копьем и щитом; и тут, — когда увидел, что вокруг меня бьются все мои люди, — тут понял: им надоело ждать в неведении, они догадались что я забыл о них, им тоже хотелось увидеть… Но собака их учуяла.
Я проклинал и людей и собак. Нас не изорвали в клочья, мы отбились от стаи и ранили нескольких псов, так что теперь все они лаяли на нас издали, прыгая вокруг туда-сюда, — но сквозь этот шум я слышал, как нестройно оборвалась музыка, а потом протрубил боевой рог. Этот звук привел меня в чувство.
— Берегитесь! — закричал я своим. — Это Лунные Девы Артемиды! Я видел святилище… Кто может спрятаться или бежать — не смейте драться; насилие над ними — смертный грех! Царица…
Договорить я не успел. Они мчались на нас с гребня, едва касаясь земли, стремительно, как падает сокол; обнаженные по пояс, с тем же оружием, с каким танцевали, с глазами, застывшими в священном экстазе, — казалось, они все еще танцуют.
Я что-то крикнул им, — не знаю что, — как кричишь морю, когда оно грохочет о скалы… Но девушка с кинжалом уже кинулась на меня. Я хотел оттолкнуть ее щитом, она поднырнула под него, словно дикая кошка, ее клинки клыками нацелились мне в грудь… Любовь к жизни, которая родится вместе с нами, сработала тут за меня сама. Копье вскинулось, ударило ее в грудь, и она умерла с пробитым сердцем, — но из смертельной раны кровь почти не текла, а лицо застыло в улыбке.
Схватка рассеялась по всему склону, теряясь в сумерках меж скал; собаки дрались тоже… Это было как кошмарный сон, от которого не можешь пробудиться. Потом послышался стук копыт — и показалась она.
Это были остальные амазонки, поднятые тревогой. Они неслись к нам галопом или бежали, держась за коней всадниц… На плечах у них были полумесяцы-щиты, а в руках боевые копья.
На западе в потускневшем небе догорало последнее облако; его красноватый отсвет окрашивал гору, так что ее красная одежда смотрелась темно-пурпурной… И она мчалась сквозь это красное сияние, в бледно-розовом шлеме распущенных волос, с открытой шеей, как приготовилась к танцу… В руках у нее был серповидный священный топор Лунных Дев, она крутила над головой тонкое топорище, — на нем сверкала серебряная насечка, — а ее чистый, холодный, юный голос пел боевой клич.
Я подумал было: «Если это смерть — ее послал бог…» Но даже в тот момент не мог забыть, что моя судьба — это судьба моего народа, судьба его богов. И решил: «Ну нет! Я буду жить. Но она будет моей. Мне это нужно больше жизни, и я это сделаю».
И стоило лишь вручить себя судьбе — душа моя окрепла, а мысли стали прозрачным потоком, полным быстро-стремительных рыб. Я шагнул навстречу и на языке береговых людей крикнул клич вестника. Он священен во всем известном мире, и стоило попытаться даже здесь, на краю Земли.
Она осадила коня. Если б вы видели ее откинутую голову на фоне неба, как тогда!.. Движением щита остановила отряд, шедший за ней… Стало слышно яростное рычание собаки, оборванное ударом копья, предсмертный хрип мужчины… Потом на горе всё стихло.
Я пошел ей навстречу. Она была сильна и изящна, как творение дикой природы — пантера, или сокол, или косуля… На убитую танцовщицу посмотрела печально, но гордо; ей приходилось видеть такое и раньше. Ни вздоха, ни жалобы — да, она не для труса!..
Она медленно заговорила на языке береговых людей:
— У нас нет вестника.
— У нас тоже, — сказал я. — Пусть Вестник Гермес встанет меж нами. Я Тезей-Афинянин, сын Эгея, сына Пандиона. Я царь.
Она снова взглянула на меня. Похоже, что мое имя дошло и досюда. Арфисты знают об арфистах — так же и воины, о равных себе. Сказала что-то через плечо своему отряду… Наверно, сообщила им эту новость, потому что они зашептались и старались меня разглядеть. Потом снова повернулась ко мне, хмуря свой чистый лоб в поисках слов… Она знала язык хуже меня и подбирала их с трудом.
— Никакие мужчины здесь… Никакие боги мужчин… — повела рукой вокруг и произнесла странно звучащее название, словно оно объясняло всё, потом подумала и сказала: — Это — Девичий Утес.
— А ты кто?
Она коснулась своей груди и ответила:
— Ипполита Дев, — голова ее вскинулась. — Царь.
Сердце мое рванулось к ней, но я сказал спокойно:
— Прекрасно. Значит, мы можем говорить, мы двое. Я пришел сюда с миром…
Она резко, сердито качнула головой. Хотела крикнуть: «Лжец!» — я видел, как она в досаде щелкнула пальцами, не найдя нужного слова… Потом показала на нас и вспомнила другое: «Пираты!..» Отряд за ее спиной закричал это на их языке.
«Да, — подумал я, — и ты меня узнала, запомнила!»
— С миром, — повторил я. — Никогда в жизни я не солгу тебе, — я старался говорить ее глазам. — Мы пираты, верно. Но это мое развлечение, а не главное дело. Я царь в Афинах, и в Элевсине, и в Мегаре до Истмийской границы, и Крит платит мне дань. Мы вели себя безобразно у берега, я сожалею об этом, но мы чужеземцы, и мои люди долго пробыли в море, и мы заплатили вам кровью за свою дерзость, этого достаточно. Давай заключим мир и станем друзьями.
— Друзь-ями?.. — она протянула это так, будто спрашивала, в своем ли я уме. Одна из девушек в отряде дико захохотала… Она положила топор на холку лошади и ворошила пальцами свои блестящие волосы, подбирая слова чужого языка. Потом, ставя слово на слово, заговорила:
— Это место — святое. — Жест руки усилил это слово. — Никакой мужчина не должен подходить. А вы — вы видели тайну… За это — смерть. Всегда. Мы — девы Девы, мы убиваем вас. Такой наш закон. — Она глянула на меня… Серое море в глазах, серые облака — эти глаза говорили, говорили больше, чем она могла сказать словами… — Быть может, нам тоже надо умирать… — Повернулась на лошади, показала на святилище: — Мы все в Ее руке.
Она подобрала топор и поводья; еще миг — и клич, атака, схватка — конец всему…
— Постой! — кричу.
— Нет! Она сердится!.. — Но успокоила лошадь ладонью и задержалась.
— Ипполита, — Имя было пьянящим и сладким… — Ипполита, мои люди, все они, не прогневили Ее. Только я видел, я один был там наверху. Они были позади. Они ничего не сделали плохого. — Я говорил медленно, следя, чтоб она поняла. — Поэтому я сам должен отвечать. Ты меня понимаешь? Это ты и я, царь с царем, это наше дело. Я вызываю тебя на бой, Царь Дев. Это наш долг перед людьми, которые нас почитают.
Она поняла. С ней это было на самом деле — царь с царем; ей это должно понравиться, хотя, как я догадался, у них не было такого обычая. На лице ее не было страха, лишь удивление и сомнение. Ее конь мотнул головой, мягко зазвенели серебряные диски… «Она слушает голос своей судьбы», — подумал я.
По склону поднялась девушка с мечом в руке. Это была та самая, что она спасла, — Мольпадия. Высокая и сильная, с мрачными синими глазами, еще затуманенными трансом… Однако он уже проходил, и раненая рука у нее кровоточила. Ипполита наклонилась с седла и осмотрела рану, они заговорили… Высокая девушка нахмурилась.
— Выйди против меня, Ипполита, — сказал я, — и пусть решают боги. Цари не отвергают царей.
Сумерки сгущались, но ее лицо светилось само и было хорошо видно. Она была молода, в ней жила честь и гордость юного воина; эта честь звала ее и гордость и что-то еще — она не знала что.
— Если я умру, — говорит, — вы не тронете святое место и Дев? Вы уйдете?
У меня заколотилось сердце.
— Клянусь, — говорю. — И мои воины тоже.
Они подошли и стояли вокруг, слушая наш разговор. Раненые опирались на товарищей, кое-кого не хватало… Услышав мою клятву, проворчали что согласны. С них было довольно.
— Никакой мести, — говорю, — кто бы из нас ни пал. Наши народы разойдутся в мире. Если я умру — похороните меня на этой горе, возле тропы, по которой вы ходите к морю. Но если победа будет за мной — ты моя.
Она посмотрела пристально и медленно спросила:
— Как это — твоя? Что это значит?
Я кивнул, и для уверенности, что она меня поймет, постарался выбрать самые простые слова:
— Если я победил, а ты живая, тогда я твой царь и ты идешь за мной. Я поклянусь, поклянись и ты. Я клянусь своей жизнью, клянусь Священной Рекой, — такую клятву не дерзают нарушить даже боги, — клянусь, что никогда не опозорю тебя, никогда ни к чему не буду принуждать тебя силой против твоей воли… Ты будешь моим другом, моим гостем. Если я лгу — пусть ваша Богиня сгложет мне сердце. Принимаешь ты мои условия?
Она удивленно нахмурилась. Потом широко взмахнула рукой, будто говоря: «Ерунда все это», коснулась своего топора с серебряной насечкой и сказала:
— Я бьюсь насмерть.
— Жизнь и смерть в руках богов. Так ты согласна?
Девушка рядом вмешалась, на их языке; я видел, что ей это не нравится, и перебил ее:
— Выбираешь оружие ты!
Девушка схватила ее за руку — она отвернулась и вроде сказала ей что-то; потом сошла с коня, вложила ей в руки свой священный топор, поцеловала ее и назвала ее имя отряду. Они печально согласились, и я понял, что она назначила преемника себе.
Она шагнула вперед, и глаза ее снова стали ужасно большими, как были когда поднималась луна. Я испугался — вгонит себя сейчас в священный транс и превратится в яростную менаду, дикую как леопард, знающую лишь один закон — убить или умереть!… Но Таинство было нарушено, лицо ее было просто суровым. И я подумал: «Ведь она приносит себя в жертву. Она готовится к царской смерти…»
— Тезей, я буду биться дротиками, а после — мечом.
Мое имя она произнесла с трудом, запинаясь, но в ее устах оно звучало музыкой.
— Хорошо, — говорю, — давай протянем наши руки к богам, чтоб подтвердить наши обеты.
Она чуть помедлила, потом подняла вслед за мной. Мы стояли рядом и казалось — ну чего проще!.. Рука вот рядом, только потянись!.. Так кажется близким другой берег в теснине, пока не прыгнешь в поток.
Я взял два дротика у своих людей, стоявших вокруг; она тоже… Потом огляделась вокруг и говорит:
— Становится темно, а я знаю это место. Нам нужны факелы. Я хочу биться с тобой на равных.
Быть может, эта любовь смертельна, подумал я, но уж не напрасна. Не часто встретишь мужчину с таким чувством достоинства, как у нее.
— Света достаточно, — говорю.
Прошел к ровному месту, приказал своим расступиться, освободить площадку, они отошли… И опять говорю ей:
— Хорошо и так. Тебя я бы даже без глаз увидел.
Теперь мы были одни; в пределах двух наших бросков не осталось никого. Настал момент, когда бойцы подогревают себе кровь, перебрасываясь руганью и оскорблениями, — она нахмурилась, словно была сердита на себя и проклинала нехватку слов…
— Не говори ничего, — сказал я, — это не для нас с тобой…
Она подняла брови. Теперь она была в своем шлеме из фригийской кожи, обшитом бронзовыми пластинками; алые щитки, яркие как фазаньи крылья, закрывали шею и щеки, но лицо ее было открыто и я его видел.
— Лучше послушай. Я люблю тебя. Ты — любовь всей моей жизни. Я пришел сюда за тобой, победить или умереть. Делай, что велит тебе твой закон. Твоя честь мне дороже собственной жизни, и если я умру — значит судьба, и я рвусь ей навстречу. Моя кровь не падет на тебя, чтоб не коснулась тебя печаль. А тень моя будет любить тебя и в доме Гадеса, под землей.
Она стояла, блестя оружием под поблекшим небом и новорожденной луной, — прямая, стройная и сильная, — но я видел, в глазах царя и воина, смятение девушки, никогда в жизни не говорившей с мужчиной. Молча смотрела на меня… Потом — ухватившись за что-то такое, что знала, — крикнула:
— Я должна тебя убить!.. Ты видел Тайну!..
— Конечно. Ты должна постараться. Давай. Начинай.
Мы разошлись и закружили по площадке, скрючившись за своими щитами. Скверно, что она выбрала дротики. Я надеялся, что сразу начнем с рукопашной, на топорах или на копьях, а теперь у меня были два, от которых надо было избавиться, не задев ее, и еще от двух — увернуться. Чем скорей, тем лучше…
Я занес дротик для броска, она тоже… Она была так быстра и легконога, что любой бросок был рискован. Я целился медленно, чтобы показать, куда полетит дротик; но она решила, что это финт, — я и сам подумал бы так же, — и прыгнула прямо под него. Я едва успел промахнуться. Никогда, ни в одном бою я так не пугался, как в тот миг, и этот страх меня подвел: я следил за полетом своего, а в это время ее дротик полоснул мне бедро лезвием наконечника. Рана была неглубокой, но крови довольно много, и она была теплой в вечерней прохладе. Нога цела и не заболит, пока не одеревенеет, — но я нарочно захромал, кидая второй раз, чтоб обмануть ее. Мой дротик шлепнулся на полпути, а у нее оставался еще один. Я повернул свой щит ребром к ней и достал из ножен меч.
Амазонки вокруг ликовали: а ну, мол, еще раз так же… Было слишком темно, чтоб увидеть полет оружия, я мог только следить за ее замахом, — и угадал, поймал дротик на щит. Это был стоящий бросок: пробил кожу щита, едва не просадив мне руку, и удар при этом был такой, что заболело плечо.
Я отскочил назад, наступил на древко ногой и выдернул его из щита, не переставая наблюдать за ней, — потом шагнул вперед с мечом в руке, и она пошла мне навстречу.
Было уже почти совсем темно, но еще можно было разглядеть, куда ставишь ногу. Это меня устраивало. Я рисковал в дуэли на дротиках при плохом свете, чтобы воспользоваться им потом: не хотел, чтоб она разглядела что я затеял. Борьба родилась в Египте и на Крите ее знали; уже со мной появилась она на острове Пелопа, а затем в Аттике… В Фессалии о ней лишь поговаривали, во Фракии — едва слыхали; а здесь был Понт… Когда она подумала, что живой ее взять нельзя, — я уже знал всё что мне надо.
Она кружила вокруг меня, гибкая и бесшумная как пантера. Сделала несколько пробных выпадов — из-за внутреннего края ее щита-полумесяца вылетал кривой клинок, и воздух свистел под ним, как вспоротый шелк… С этим оружием я мало имел дела, и оно мне не нравилось: поднырни под длинный эллинский меч — и дело сделано; а этим можно было оттяпать руку с любой дистанции… И рука моя, и оружие были длиннее; всё было бы просто, если бы я хотел ее убить…
«Как хорошо, что не каждый день выпадают такие головоломки!» — подумал и засмеялся этой мысли. Она тоже засмеялась в ответ, в сумерках сверкнули белые зубы… Она была бойцом, и в глазах ее появился боевой огонь: решила, что мой смех — знак пренебрежения, и это избавило от неловкости, навязанной признаниями моими. Теперь она фехтовала лучше… Но всё равно — в наших выпадах и защитах мы ощущали друг друга, как танцоры, кому часто доводится танцевать вместе; или любовники, говорящие между собой одним лишь касанием пальцев. Я подумал, что она тоже это чувствует, как и я… Хотя — ведь ее с детства отдали Богине так что она даже не видела мужчин — откуда ей знать?.. Если она и чувствует что-то странное в себе, — какое-то безумство, которому не знает имени, — принимает это за зов судьбы… Вот сейчас убьет меня в своей невинности, а потом будет тосковать, не зная отчего…
В основном я отбивал ее удары либо принимал их на щит, но иногда нападал и сам, чтобы она не догадалась, пока не подвернется мой шанс. А она уже почувствовала, что я затеял какую-то хитрость, это я знал точно. Хотел было выбить у нее меч, но это было ей знакомо, и такой дешевый трюк тут не проходил. «Так что же, — думаю. — Неужто я ждал, что она мне достанется даром? Надо рисковать!» Я быстро отскочил и бросил щит; в темноте мне удалось сделать вид, что на нем лопнул ремень и он упал. О таких фокусах она не имела понятия — и поверила. Когда теряешь щит, то, естественно, без оглядки бросаешься вперед. Я рубанул мимо и уже не мог защищаться мечом от ее удара, — вот оно — началось!.. Она замахнулась рубить, — меч над головой, — в этот миг я бросил свой в сторону и, схватив ее за руку, потянул с разворотом через свое плечо. Она так была ошеломлена, что я успел забрать у нее меч, пока она взлетала вверх. Было слишком поздно тормозить бросок, и она пошла дальше, как летучая кобылица, и упала чисто, но жестко, так что вышибло дух… Я бросился рядом с ней на траву.
Ее рука была еще в щите. Я лег на него, а другую руку прижал к земле. Она лежала лицом к небу, неподвижная, полуоглушенная… Я тоже не шевелился — голова кружилась от напряжения и от ее внезапной близости. Ее светлые волосы, пахнущие горами, щекотали мне губы, а под рукой, под вышитой кожей, ощущалась нежная грудь… Но боец во мне, не успевший расслабиться, вспомнил, что она быстра, как рысь, и еще не сдалась. Я поднес губы к ее уху и позвал: «Ипполита…»
Она повернула голову и глянула на меня дикими глазами, такие бывают у оленя в сетях. Отпустить ее сразу я не решился — и начал говорить. Что говорил — не помню, да это и не важно: всё равно я говорил по-гречески и она не понимала. Нужно было только, чтобы она знала, когда придет в себя, что я не враг ей. Но вот она начала оглядываться вокруг, и тогда я сказал на языке, который она понимала:
— Бой закончен, Ипполита, а ты жива. Сдержишь ты свое слово?
Стало уже гораздо темнее, но я видел, как она вглядывается в небо, словно прося совета. Не было совета: с горного хребта спустились тучи, и тонкий серп молодой луны спрятался за них.
Мои воины тихо переговаривались… Временами от амазонок доносился быстрый шепот… Было тихо. Вдруг она рванулась вверх; но не яростно, а так, будто хочет очнуться от непонятного, страшного сна… Я прижал ее к земле:
— Ну так как же?
Она выдохнула шепотом:
— Да будет так.
Я отпустил ее, встал и помог ей подняться, сняв щит с ее руки… Едва встав на ноги, она качнулась, — закружилась голова, — я поднял ее на руки, и голова ее поникла мне на плечо. Она лежала тихо, а я уносил ее с поля — и знал, что руки мои рождены ее носить; что я ее судьба, я ее дом.
2
Они дали мне коня для нее, я вел его в поводу. Позади, на Девичьем Утесе, звучал плач, — с флейтами, с приглушенными барабанами, — это была похоронная песнь по павшему, по погибшему царю… Я заглянул ей в лицо, но она смотрела прямо в ночь перед собой, неподвижными глазами.
Мы подошли к деревушке, которую миновали днем, и нашли ее опустевшей: все жители бежали при звуках боя в какую-то крепость в горах. Чтобы не ломать себе шеи на горной тропе в темноте, мы остались там до рассвета. Я приказал своим людям брать не больше, чем необходимо для ужина; мы ведь не истмийские бандиты, чтобы грабить бедняков, а там даже в доме старейшины была лишь одна комната и одна кровать. Я устроил ее в этом доме, зажег лампу… Она выглядела смертельно уставшей, и под глазами черные круги — ничего удивительного… после заплыва, и охоты, и боя…
Принес ей ужин, что сумел найти: немного скверного вина и сыру, ячменный хлеб с медом… Она поглядела на еду, как необъезженный жеребенок в загоне: глядит на кусок соли — и боится веревки в другой руке. Но я стоял рядом спокойно, тоже как в загоне, и она вскоре взяла всё, кивнув мне в знак благодарности. С тех пор как мы покинули святилище, она молчала.
Есть много она не могла, но вина выпила. Тем временем я пошарил в пристройке для слуг, нашел там соломенную постель и затащил ее в дом. Мне не хотелось, чтобы мои люди это видели: они решили бы, что я околдован, или стали бы смеяться надо мной… Бросив солому на пол возле двери, я оглянулся и увидел, что она внимательно следит за мной. И почувствовал, о чем она думает, как чувствовал во время боя: жизнь на привязи не для нее, бесчестья она не переживет — найдет какой-нибудь выход… И, однако, видно было, что она старается судить обо мне справедливо, не поддаваясь страху перед мужчиной; в этой светловолосой девочке на самом деле жил царь.
«Какова она? — думал я. — Где была ребенком? Ведь не родилась же она в этих горах, словно лиса или птица… Эти дикарские обряды, эта суровость — как глубоко всё это въелось ей в душу? Львица благородна, но надо быть сумасшедшим, чтобы лезть в ее логово… Она дала мне обет перед боем, но ее обычаи — связывают они ее? Она вообще-то поняла, что обещала, — на чужом-то языке?.. Она горда — предложила факелы, чтоб осветить площадку; она верна — стояла обнаженной перед воинами, чтоб спасти подругу… Но львица — гордая, верная львица, готовая погибнуть за своих детей, — это же смерть для человека! Зачем боги ее послали мне — наполнить жизнь мою или оборвать? Не одно, так другое, уж это точно… Ну что ж, надо идти судьбе навстречу; поживем — увидим…»
Она сидела на краю кровати, рядом стояла чаша и хлебный поднос. Когда я забирал посуду — смотрела на меня неотрывно, и в неподвижности ее я чувствовал, что вся она напряжена, какзагнанная кошка… Я заговорил мягко, медленно, давая ей время понять меня: «Мне надо ненадолго выйти. Проследить за порядком в лагере, выставить часовых. Никто сюда не войдет, но нехорошо быть безоружным среди чужих. Возьми». Отцепил свой меч и вложил ей в руки.
Она изумленно посмотрела сначала на меч, потом на меня — взяла. Я не шелохнулся, хоть вспомнилось Таинство, девушка с кинжалами, что бросилась на меня… В свете лампы — глядящая на меч невероятно большими глазами — она была прекрасна, как бывают прекрасны смертельные создания: рыси, или волки, или горные духи, что заманивают людей в пропасть… Я стоял перед ней с пустыми руками. Она вытащила меч из ножен до половины, потрогала пальцами лезвие, погладила чеканку, щупая работу…
— Это был меч моего отца, и деда тоже, — сказал я. — Но мой критский оружейник сделает для тебя такой же.
Волосы у нее снова были заплетены в тугую косу, — они распускают их только для танца, — но надо лбом оставались свободными, как у ребенка. Когда она склонилась над мечом, коса ее упала вперед; она потянула ее — впервые я увидел этот ее жест — и впилась в меня горящими глазами: боялась какого-то подвоха.
— Что ты удивляешься? — сказал я. — Я делаю только то, что обещал тебе. А почему — я уже говорил…
И оставил ее с мечом на коленях. Склонив голову набок, она рассматривала насечку и тянула себя за волосы.
Когда я расставил охрану, ко мне подошел слуга и спросил, пойдет ли девушка за водой и будет ли мыть меня, — словно она была обычной пленницей! Я посоветовал ему не совать нос куда не следует, и сам набрал горячей воды для нее; а вымылся у колодца. Но я видел, что мои люди смотрят на меня, все, — кто украдкой, а кто с нескрываемым любопытством. Если я не проведу ночь возле нее — подумают, что я не в своем уме… или, чего доброго, что испугался…
Постучался и открыл дверь. Она оставила лампу зажженной, и я увидел, как ее голая рука скользнула с кровати на пол и ухватилась за меч. На ней была льняная рубашка, верхняя одежда висела на спинке кровати, — значит, поверила мне; но не могла теперь понять, почему я вернулся. Тело ее напряглось, глаза сузились, — если ей суждено умереть, она собиралась спуститься к Реке вместе со своим врагом, как и подобает воину. Тем больше чести ей!..
— Это я, — говорю. — А ты что не спишь? У тебя был трудный день… Я лягу здесь, возле двери, чтоб никто не мог войти. Это лучше всего в такой компании.
Посмотрел на тени, окружившие ее большие яркие глаза… Судьба влекла ее чересчур быстро; оторванная от своих, от всего что знала, она могла теперь рассчитывать только на меня.
— До утра оставь меч у себя, — говорю. — У меня есть копье.
Я снял свои кожаные доспехи, нагнулся погасить лампу — и тут она заговорила. Голос был низкий, хриплый, приглушенный — совсем не такой, как перед нашим боем. Я хотел подойти к ней, но глаза у нее были, как у дикой кошки в дупле, потому остановился и спросил:
— О чем ты? Я тебя не слышу.
Она выпростала руку из-под одеяла и показала на мою рану, которой я не успел заняться.
— Мыть!.. — говорит. И тыча большим пальцем вниз, несколько раз повторила: — Плохо, плохо…
Я сказал, что рана подсохла и ее можно промыть завтра в море, но она показала на флягу с вином: «Хорошо!..» Настолько перегружена была она в тот день, что забыла слова. Я подумал: «Бедная девочка! Каждый знает, какова участь пленницы, если умрет тот человек, что ее захватил». Чтобы немного успокоить ее, промыл рану, хоть она саднила от вина и закровоточила снова.
— Смотри, — говорю, — всё чисто.
Она подняла голову с груботканой подушки и что-то пробормотала.
— Доброй ночи, Ипполита. Ты мой почетный гость, священный перед богами. Будь благословен твой сон.
Постоял момент возле нее… Хотелось погладить ей голову: она должна быть мягкой как у ребенка, волосы вон какие шелковые!.. Но это могло испугать ее, потому я улыбнулся и пошел назад к лампе. И тогда услышал ее голос из-под одеяла: «Доброй ночи!»
Ощущение счастья не давало мне уснуть, блохи в тюфяке — тоже… Я мечтал, конечно, о грядущей любви; но уже то время — просто быть рядом с ней, — даже это казалось драгоценным. Должно быть, кто-то из богов предупредил меня, что времени у нас не так уж много.
Снаружи была деревенская площадь, — земля утоптана, — часовые развели там костер и поддерживали его всю ночь; его свет проникал через дверные щели и маленькое окошко и освещал комнату почти так же ярко, как лампа перед тем. Она повернулась на бок, увидела что я смотрю на нее, и снова отвернулась, — лицом к стене, — но вскоре задремала и наконец заснула по-настоящему. Она устала, и была молода… Понемногу ее ровное дыхание убаюкало и меня, я тоже задремал; ведь и у меня был нелегкий день позади.
Проснулся от скребущего звука возле стены. Стенка была тонкая — плетеные прутья обмазаны саманом… Крыс я терпеть не могу, — они приходят на поле боя за объедками коршунов и собак, — с первым же звуком их возни я просыпаюсь мигом… Костер на улице догорал, низким красным пламенем, должно быть уже подступало утро. Я еще сонный был, подумал: «Ладно, пусть копошится, раз мой пес в Афинах…» Но со стены, возле ее кровати, упал кусок штукатурки, образовалось отверстие, и в нем показалась рука.
Я подумал сначала, что кто-то из моих набрался наглости подглядывать через дырку, — и потихоньку потянулся за копьем, — но тут разглядел, что эта рука тоньше мужской и в рукаве из вышитой кожи. Рука потянулась вниз и коснулась ее плеча… Я лежал не двигаясь, и смотрел из-под прикрытых век.
Она проснулась толчком, не сразу сообразив, где находится; потом увидела, оглянулась на меня… Но я затаился вовремя. Она взяла руку в свои ладони, прижала к щеке и сидела так, свернувшись у стены. Голова ее выступала из тени, возле ключиц, на слабый свет костра; и лицо было таким юным, таким растерянным… И все-таки казалось, что она больше утешает сама, чем принимает утешение.
Рука сильно сжала ее ладони и ускользнула назад в стену… А когда появилась снова — в ней был кинжал. Она смотрела на кинжал не двигаясь, — я тоже, — он был похож на кинжалы Таинства: короткий, тонкий, острый как игла… За стеной чуть помедлили, потом заскребли в стенку, — я догадался, что охрана где-то рядом, потому шептаться им нельзя, — при этом звуке она взяла кинжал, погладила руку и поцеловала ее… Рука исчезла.
Она встала на кровати на колени, прижалась глазом к отверстию в стене, — наверно слишком поздно, потому что тотчас отодвинулась и села, скрестив под собой ноги, держа оружие в руке. Ее рубашонка оставляла открытыми руки до плеч и длинные стройные ноги; она дрожала в предрассветном холоде, и свет мерцал на клинке. Попробовала острие на пальце, положила кинжал на одеяло, какое-то время сидела неподвижно, обхватив грудь руками… И смотрела на пол возле кровати. Не двигаясь, я не мог увидеть этого места, — но помнил, что туда она положила меч.
Но вот она воздела руки в молитве и подняла лицо к луне — луны не было, были только стропила, покрытые пылью. Взяла кинжал, соскользнула с кровати и бесшумно пошла ко мне.
Теперь она увидела бы, что я смотрю, потому пришлось закрыть глаза. Я слышал ее легкое дыхание, ощущал запах теплой рубашки и волос… Будь на ее месте любая другая женщина — рассмеялся бы, вскочил и поладил бы с ней; но здесь я этого не мог: лежал, будто связанный богом. Я не знал, что возложено на нее этим кинжалом, — ведь она уже больше не царь, быть может их законы сильнее клятвы, которую она дала мне, — не знал, но всё равно не мог этого сделать. Я слушал удары своего сердца и ее дыхание, и вспоминал, как ее дротик пробил мой щит… «Если так — это будет мгновенно», думаю… Ожидание казалось бесконечным, сердце мое стучало: «Знать!.. Знать!.. Знать!..»
Она низко наклонилась надо мной, коротко резко вздохнула… «Она готова», думаю… И в этот миг что-то коснулось меня: не рука и не бронза — капля теплой влаги упала мне на лицо.
Ушла, я слышал ее мягкие скользящие шаги… Забормотав, будто во сне, я перевернулся и лег так, что мог видеть ее краем глаза.
В костре на улице кто-то сдвинул поленья, из него взметнулся столб пламени… Свет заблестел на ее слезах; а она стояла, давясь рыданиями, стараясь не издать ни звука. Тыльная сторона руки, с кинжалом, была прижата к губам; грудь судорожно вздымалась под тонкой сорочкой… Когда она подняла подол, чтобы вытереть глаза, — я этого почти не заметил, настолько мне было жаль ее. Хотел заговорить — но вспомнил ее гордость и испугался, что она не простит мне своего стыда.
Вскоре она затихла. Руки повисли вдоль тела; стояла прямо, как копье, глядя перед собой… Потом медленно подняла кинжал, словно посвящая его небу… Губы ее зашевелились, руки задвигались, плетя какой-то тонкий узор… Я смотрел, не понимая, и вдруг вспомнил: это был Танец. Вот она снова подняла кинжал, пальцы побелели на рукояти, клинок навис над грудью…
На арене жизнь моя зависела от быстроты, но никогда в жизни я не двигался так быстро. Я не успел заметить, как это получилось, — но уже был там: одной рукой обхватил ее за плечи, а другой поймал за кисть.
Забрал у нее кинжал, швырнул его в угол, — а ее увел от окна; взял ладонями за плечи, чтобы не дать себе забыться. Она дрожала как тронутая струна и старалась заглушить слезы, словно они были чем-то противоестественным…
— Не надо, малыш, — сказал я. — Всё прошло. Успокойся.
Теперь она уже совершенно не могла говорить на чужом языке. Глаза ее пытливо вглядывались мне в лицо, задавая вопрос, которого сама она ни за что бы не задала, из гордости, даже если бы знала слова…
— Пойдем, — говорю, — а то простудишься. — Усадил ее на край кровати, закутал в одеяло; потом подошел к оконцу и крикнул часовому: — Принесите мне огня!
Тот вздрогнул от неожиданности, у костра заговорили потихоньку… Я повернулся к ней:
— Ведь ты — воин; ты знаешь, как часто человек отдает жизнь за мелочь. Зачем? Уж лучше за что-то великое!
— Ты победил в бою… — Пальцы ее мяли одеяло, она сидела опустив голову, так что я ее едва слышал. — Ты сражался честно, поэтому…
Часовой постучался и закашлял под дверью: он принес огонь, в большой глиняной миске… Я забрал у него миску прямо в дверях и поставил возле ее ног на земляной пол. Она сидела, глядя в огонь, и когда я сел рядом — не обернулась.
— Я побуду с тобой до света, чтобы никто больше не потревожил тебя. Спи, если хочешь.
Она молчала, глядя на уголья.
— Не отчаивайся, — говорю. — Ты можешь гордиться собой, ведь ты сдержала свою клятву.
Она покачала головой и прошептала что-то. Я знал, что это значило: «Но я нарушила другую».
— Мы всего лишь смертные, — сказал я, — и делаем лишь то, что в наших силах. Было бы совсем худо, если бы боги стали ненадежнее людей.
Она не ответила, но теперь я видел, — я ведь совсем рядом был, — она просто не могла говорить. Каким бы там воином она ни была — ей сейчас надо выплакаться… Это было яснее ясного, потому я обнял ее за плечи и сказал тихо:
— Ну что ты?
Тут ее прорвало. Ее приучили, что плакать стыдно, и поначалу слезы ранили ее, прорываясь наружу; но вскоре они облегчили ей сердце, и она лежала у меня на руках — отрешенная, расслабленная, доверчивая как ребенок… Но она не была ребенком — она была женщиной восемнадцати лет, здоровой, сильной, с горячей кровью… А когда мужчина и женщина рождены друг для друга, — как были мы с нею, — они никуда от этого не денутся. Мы понимали друг друга без слов, как это было в нашем бою; и любовь пришла к нам — как роды, что знают свое время лучше всех тех, кто ждет их. И хотя она знала меньше любой девчонки, слышавшей женскую болтовню, — одного меня ей хватило, чтобы знать больше всех.
А моя жизнь словно ушла из меня и зажила в ней, а ведь раньше со всеми женщинами я бывал сам по себе… И хотя всё, чему я с ними научился, — я думал, что это много, — хотя всё это стало лишним, но ее доверчивость была мне новой школой — и этого было достаточно.
К рассвету мы забыли, что оба говорили не на своем языке; забыли нужду в словах. Когда стража на улице заспорила, можно ли им будить меня, — она знала, о чем они говорят, по моей улыбке… Мы с головой спрятались под одеяло и дождались, чтобы они взглянули в замочную скважину и ушли… И пока не раздались голоса скороходов, которых Пириф послал с кораблей, чтоб узнать, жив ли я, — я не выходил к людям, словно чужой миру смертных.
3
Проливы Геллы прошли как сон. Даже боевые схватки казались какими-то нереальными… Вообще всё было сном, от которого мы просыпались только друг для друга. Мне было безразлично, что думали об этом мои люди; а они были достаточно умны, чтобы ничего мне не говорить… Пока они оказывали ей почтение, я был ими вполне доволен.
Когда я привез ее вниз в лагерь — Пириф закатил глаза в небо. Он уже не чаял меня увидеть и был очень рад мне, так что повел себя как надо. Она была горда, и ей было отчего смущаться — поначалу он ранил ее своей грубостью… Но доблесть покоряла его всегда, — в женщинах тоже, — и когда мы выяснили, что она знает военные обычаи всех народов побережья до дальнего пролива, — тут он заговорил с ней по-другому. На военных советах они оказывали друг другу уважение, скоро оно перешло в симпатию… Она не подходила под его понятия о женщине; если бы она была юношей — он приспособился бы к этому проще; и половину времени тех первых дней он обращался с ней как с мальчиком из какого-нибудь царского дома, по которому я схожу с ума. Но она ничего не знала о таких вещах и просто чувствовала его расположение… И вскоре он уже обучал ее пиратскому жаргону.
Среди прочего она предупредила, что племена, спокойно пропустившие нас раньше, на обратном пути, когда пойдем с добычей, будут нападать. Мы соответственно приготовились. Когда я вспоминаю теперь эти битвы, они сверкают в моей памяти как баллады арфистов… Она была рядом со мной, и потому я не мог сделать ни одного неверного движения в бою. Любители мальчиков могут сказать, что там то же самое; но, по-моему, легче, когда на тебя снизу вверх смотрит парнишка, которого ты сам научил всему что он может, которому помогаешь, когда ему трудно… А мы двое сражались как один. Мы еще открывали друг друга, а война — для тех, кто понимает, — проявляет человека; так что в боях мы узнали друг о друге не меньше, чем в любви. Когда тебя любят за то, как ты держишься перед лицом смерти, когда тебя любит за это женщина, которая не стала бы приукрашивать свое мнение о тебе, — это здорово. Ее лицо было чистым в бою, как во время жертвоприношения Богине; но не кровь она посвящала ей, не смерть врага — свою верность и доблесть, и победу над страхом и болью… Так на львином лице не увидишь жестокости.
Мы сражались в гуще галер, выходивших нам навстречу; и у источников чистой воды на горных склонах; и в бухте, куда зашли конопатить днища кораблей, а фракийцы, раскрашенные темно-синим, напали на нас нагишом из-за песчаных дюн и колючих зарослей тамариска… По ночам мы разъединяли объятия, чтобы схватить щит и копье, но зато иногда днем, после очередного боя, уходили от всех, даже не смыв с себя крови и пыли, и любили друг друга в зарослях папоротника или среди дюн; и если уйти было некуда — нам очень этого не хватало.
Мои люди находили это странным и заподозрили неладное. Это характерно для низких людей: им нравится лишь то, что они знают; шаг в сторону — и им мерещится черный холод хаоса… Они с первого дня были уверены, что я постараюсь ее обломать и не почувствую себя полноценным мужчиной, пока не сделаю из нее такую же домашнюю бабу, как все прочие. Ну, что касается до моего мужества — я считал, что оно уже не нуждается в подтверждениях, так что эти заботы мог оставить другим; а до всего остального — кто же стрижет своего сокола и запихивает в курятник!.. Для нее я был мужчиной и так.
Пириф, который был умнее всех прочих, все-таки удивлялся вслух: как это я, — при том, как я к ней отношусь, — как это я позволяю ей рисковать в боях. Я сказал, что слишком долго объяснять. Ведь, кроме всего прочего, я нанес ей первое поражение… И как наши тела знали, не спрашивая, что нужно другому, — так же знали и души: радостно было чувствовать, как к ней возвращается ее гордость… Однако он бы этого не понял; тем меньше могли понять мои болваны-копейщики. Если бы я оторвал кричащую девушку от домашнего алтаря и изнасиловал бы на глазах у ее матери — вот это, для большинства из них, было бы делом естественным; а теперь я начал находить знаки от дурного глаза, нарисованные мелом на скамьях. Они думали, она заколдовала меня; Пириф сказал, это потому, что когда мы деремся рядом — ни на ней, ни на мне не бывает и царапины, а амазонки известны своим колдовством против ран… Тут я оборвал разговор: если кто из них и видел Таинство — я вовсе не хотел об этом знать.
Мы вышли в эллинские моря в чудесную солнечную погоду. И теперь целыми днями сидели на площадке у грифона, взявшись за руки; глядели на берега и острова и учились говорить словами. Ее язык, и мой, и береговых людей, — чтоб связать наши, — поначалу у нас получалось не слишком гладко, но это нас устраивало. Однажды я спросил:
— Когда я назвал свое имя, ты знала его?
— О да!.. Арфисты приходят к нам каждый год…
Я знаю этих арфистов, и решил — она ожидала увидеть гиганта, а между нами всего-то вершок разницы… Потому спросил еще:
— А я оказался таким, как ты думала?
— Да, — говорит, — как бычьи плясуны на картинах: легкий и быстрый… Но у тебя волосы были собраны под шлемом, мне не хватало твоих длинных волос. — Она тронула мои волосы, лежавшие у нее на плече, потом сказала: — В Вечер Новой Луны я видела знамение: падающую звезду. И когда ты пришел, я подумала: «Она падала для меня. Я должна умереть; но с честью, от руки великого воина, мое имя вставят в Зимнюю Песню…» Я чувствовала перемену, конец.
— А потом?
— Когда ты бросил меня и забрал мой меч — это была смерть. Я очнулась вся пустая… Думала: «Вот она выдала меня из Руки Своей, хоть я выполняла Ее законы. Теперь я ничто…»
— Так всегда бывает, когда протягиваешь руку судьбе. Я чувствовал то же самое на корабле, который шел на Крит.
Она попросила меня рассказать о бычьей арене… О кинжале в стене мы не говорили: я знал, что она разорвана надвое и рана еще не заросла. Но чуть погодя она сказала мне:
— На Девичьем Утесе, если Лунная Дева пошла с мужчиной, — она должна броситься со скалы. Это закон.
— Девичий Утес далеко, — говорю, — а мужчина близко…
— Иди еще ближе!
Мы прижались друг к другу плечами… О, хоть бы стало темно!.. Не так-то просто побыть вдвоем на боевом корабле.
Вот так оно и было с нами, когда наши корабли достигли Фессалии. Мы ехали верхом вдоль реки по дороге к дворцу Пирифа — он поравнялся со мной:
— Послушай, Тезей. Ты смотришь, наверно, славный сон, хоть мне он спать не мешает. Вернешься в Афины — тебе придется пробудиться от него… Так, пожалуй, останься-ка в моем охотничьем домике, чтобы проснуться попозже. Смотри, вон видно крышу под тем склоном горы.
Я отослал на корабле всех своих людей, кроме личного слуги и восьмерых воинов. И полмесяца мы оставались там, среди просторных горных лесов, в бревенчатом лапифском доме с крашеной дверью. Там был сосновый стол, такой старый, что руки сидевших отшлифовали его, и круглый каменный очаг с бронзовой жаровней для холодных горных ночей, и резная красная кровать. По вечерам мы снимали с нее медвежьи шкуры и бросали их на пол к огню… Пириф прислал наверх конюха, егеря и старуху-повариху; мы для всех находили поручения вне дома, чтоб остаться наедине.
Спали мы не больше соловьев. Еще затемно поднимались, съедали по куску хлеба, обмакнув в вино, и под бледнеющими звездами ехали в горы. Иногда на уединенных вершинах встречали испуганного кентавра, который бросался бежать от нас… Мы окликали их со знаком мира, которому научил нас Пириф, и тогда они останавливались и разглядывали нас из-под низких тяжелых бровей, или даже показывали где есть дичь… За это мы оставляли им в награду ломоть мяса. Когда нам хватало, чтобы прокормить всех своих, — больше мы не убивали; но и богам отдавали их долю, — мою Аполлону, а ее Артемиде, — вот так и пошел обычай двойного приношения, который вы теперь встретите во всех моих царствах. А потом, когда солнце начинало пригревать, мы сидели где-нибудь на скале или на открытой лужайке и учили друг друга нашим языкам; или молчали, чтобы птицы и маленькие зверюшки подходили к нам совсем близко; или смотрели на конские табуны, что ползали по долине внизу будто скопища муравьев… Или спали, чтобы подкрепиться к ночи; или, не дожидаясь этой ночи, сплетались в объятьях — и ничего уже не видели вокруг, кроме какой-нибудь травинки или улитки, что случайно оказалась возле глаз.
Ей нравились крупные фессалийские кони, о которых раньше она только слышала; и скоро она уже управлялась с ними не хуже лапифского мальчишки… Но наверху, в горах, мы ездили на маленьких лошадках со зрячими ногами, какие были у кентавров и каких она знала дома. Ей было всего девять лет, когда ее посвятили Богине. Отец ее был вождем племени внутри Колхиды, горного народа; и ей помнилось — родители вроде обещали отдать ее, если у них будет сын. С тех пор как они отдали свой долг, она их никогда больше не видела и помнила смутно. Самое сильное воспоминание об отце — как он затемнял весь дверной проем, когда пригибался, чтобы войти в дом; а мать лежала в постели с новорожденным мальчиком… Она молча смотрела на их радость и знала, что они не жалеют о цене. Ее отослали к подножию горы, в лагерь, где маленьких девочек обучали и закаляли, как мальчишек, до тех пор как смогут носить оружие. «Однажды, — сказала она, — Боевая Жрица увидела, что я плачу. Я думала, она меня побьет; она всегда била трусов… Но она рассмеялась, взяла меня на руки и сказала, что я стану лучшим мужчиной, чем мой брат. С тех пор я никогда больше не плакала, до того дня».
Однажды я спросил, что делают Девы, когда стареют. Она ответила, что некоторые становятся пророчицами и почтенными прорицательницами; другие могут служить, если хотят, в святилище Артемиды внизу, на равнине; но многие предпочитают умереть. Иногда бросаются с утеса, но большинство убивает себя в священном трансе, когда танцуют при Таинстве. «Я бы тоже так сделала. Я настроилась на то, что никогда не позволю себе иссохнуть, одеревенеть и стать живым мертвецом. Но теперь я этого не боюсь, раз мы будем вместе». Она не спросила, как другие, буду ли я ее любить до тех пор.
Однажды к нам подошел кентавр с подношением из дикого меда — больше у них ничего нет, что можно дарить, — и знаками попросил нас убить зверя, который уносил их детей. Мы обшаривали лес в поисках волка, но в чаще такой раздался рев!.. Я кинулся к ней — это был огромный леопард, и она шла на него с копьем. И прежде чем я успел броситься на помощь, закричала так же яростно, как и сам зверь: «Не трогай! Он мой!..» Нелегко было оставить ее один на один с ним; она потом это поняла и извинилась, — но всё равно была переполнена своим триумфом. И при этом могла свистом подозвать себе на руку птицу, приводила в дом всякое зверье: подбитого голубя, например, или лисенка, которого она кормила, пока мать не пришла за ним… Меня он укусил, а она делала с ним что хотела, как со щенком.
Она все время приставала ко мне, чтоб я научил ее бороться. Чтобы подразнить ее, я отвечал, что это моя тайна, но однажды рассмеялся и говорю: «Ладно, найди где-нибудь местечко помягче, где падать. Не хочу я, чтоб ты вся была в синяках и ссадинах, а без этого, девонька, не научишься…»
Мы нашли ложбинку в сосновом бору, всю заполненную опавшей хвоей, и вышли на нее, как полагается, раздетые до пояса. Она была так же быстра, как и я, силы тоже хватало… Ни один из нас не мог застать другого врасплох, — слишком хорошо мы друг друга понимали, — но она училась быстро, и ей понравилось. Сказала, что это похоже на игру львов.
Получилось так, что она меня повалила, я увлек ее за собой, мы покатились по упругому хвойному ковру, не торопясь подниматься снова… Она вдруг перестала смеяться и отодвинулась: «На нас смотрят…»
Я оглянулся. Там, покашливая и теребя бороду, стоял афинский вельможа, которого я оставил судьей, отправляясь в плавание.
Я поднялся и пошел к нему, удивляясь, какие скверные новости могли заставить его самолично ехать так далеко, вместо того чтобы послать гонца. Восстание в Мегаре? Или Паллантиды высадились с моря? Когда он приветствовал меня, — как-то суетливо, и глядя мимо, — я уже понял, в чем дело, но не подал виду.
— Ну, что случилось? — спрашиваю.
Он выдал какую-то историю, заранее отрепетированную, о том и о том, — всё такие дела, которые могли бы уладить несколько копейщиков или он сам своим приговором… Сказал, что какой-то корабль принес слух, будто я болен… Но все его уловки были видны насквозь: мои люди начали болтать. «О да, Тезей был в порядке на пути туда; он разграбил Колхиду и наполнил их руки добычей; всё было прекрасно, пока амазонка не зачаровала его скифской магией, украв душу из его груди взамен на заговор против оружия; и тогда он бросил свой флот, как вожак стаи уходит на след волчицы в полнолуние и носится с ней по лесам, сойдя с ума…» — что-нибудь в этом роде.
Я не стал унижаться, читая ему вслух его мысли. Сказал, что если уж в Афинах нет никого, кто мог бы управиться даже с такими мелочами, пока я в отлучке, — придется ехать самому и разбираться на месте. Я видел, что выбора не было: время игр отошло… Если слухи разойдутся и пересекут границы — эти идиоты накличут беду, которой боятся: кто-нибудь из врагов решит, что пришел его час.
Я обернулся поговорить с ней — ее не было. Ушла так, что я не услышал ни шороха… Так это было тогда — и потом нередко — если она думала, что мешает мне, то исчезала как олень в чаще. И возвращалась так же незаметно, никогда, из любви и гордости, не говоря об этом.
Моя бородатая нянька приехал не один. Наверху, чуть подальше, сидели еще трое таких же, жаждавших увидеть, во что я превратился с тех пор как заколдован. Лучший из них — думаю он на самом деле боялся за меня — отдал мне таблички, перевязанные шнурком, от Аминтора. Когда уезжал, я оставил его командующим армией; он от них не зависел и мог поступать, как ему вздумается… Ему вздумалось написать мне на древнекритском языке. Мы-то освоили его в Бычьем Дворе, но для этого надо было пожить на Крите. По унылым мордам моих придворных было видно, что в таблички они заглядывали. После приветствий записка гласила: «Здесь нет ничего такого, с чем мы не могли бы управиться. Возвращайся когда захочешь. Я видел твое сердце на Бычьей Арене, государь, но то не была судьба. Мы все, кто помнит, будем приветствовать доблестную и достойную».
Он женился на Хризе, когда мы вернулись с Крита, так что он — понимал… Но дело зашло, очевидно, достаточно далеко, раз он счел эту записку необходимой.
Я велел слуге принести вина… Они, наверно, собирались заночевать в моем доме, пока не увидели его, этот дом. Глаза их ползали по голым стенам, застревая на кровати, они начали меня раздражать…
— Не стану вас задерживать, — говорю. — Дорога здесь опасна в вечернем тумане. Пошлите приказ Главному Распорядителю в Афинах; если ни один корабль не уходит, то пошлите гонца. Я хочу, чтоб покои царицы, — запертые при моем отце, — были открыты, убраны, покрашены и украшены. Я хочу найти их готовыми, когда прибуду.
Они молчали. Они не решались даже посмотреть друг на друга, но их мысли вертелись между ними, как паутина на ветру.
— Вы добрались сюда на корабле, — говорю. — Подходит он для меня?
Да, сказали они, он для меня приготовлен.
— Прекрасно, — говорю. — Госпожа Ипполита едет со мной. Она была царствующей жрицей в своей стране, и ей будут оказываться царские почести. Вы можете идти.
Они прижали кулак к груди и начали пятиться к выходу, но в дверях застряли, перемигиваясь, — и те, что помельче, старались спрятаться за спины других. Главный из них, который нашел нас в лесу, давился чем-то недосказанным, словно рыбьей костью… Я барабанил пальцами по поясу, ждал. Наконец он решился:
— С твоего позволения, мой господин. В Пирее ждет отплытия корабль, он идет в Крит за данью. У тебя нет каких-нибудь распоряжений? Быть может, послание?..
У него не хватало смелости взглянуть на меня. Я разозлился:
— Вы, — говорю, — уже получили мое послание для гонца в Афины. А на Крите нет ничего спешного.
4
У каждого народа есть свои отметки времени. В Афинах говорят «это было, когда еще платили дань Миносу», или «в год быка»… Но иногда, при мне, замолкают — и, помявшись, начинают считать от праздников Афины или от Истмийских Игр. Никто не скажет «во времена амазонки», хоть весь город говорит именно так. Они думают — я забуду?
Была щедрая осень, — виноград созревал, — когда я привез ее домой. Часто, бывало, стоим мы на крыше Дворца, я ей показываю деревни и поместья… — а она вдруг покажет на какую-нибудь вершину Парнасских или Гиметтских гор и говорит: «Давай поедем туда!» Я брал ее с собой повсюду, когда только мог. Она не привыкла сидеть взаперти и часто попадала впросак, не видя в этом ничего плохого: то вбежит ко мне в Палату Совета с парой огромных волкодавов, которые сшибают с ног стариков и топчут писцам их глину; то уговорит какую-нибудь дворянскую дочку раздеться и бороться с ней — а мамаша, увидев это, вопит и шлепается в обморок; то карабкается по балкам Большого Зала, чтоб поймать своего сокола… Однажды я нечаянно услышал, что мой дворецкий зовет ее юной дикаркой. Увидев меня, он перетрусил так, что я остался доволен и не стал его наказывать. Я был слишком счастлив, чтобы быть жестоким.
Покои царицы были в наилучшем виде, но она заходила туда только выкупаться и одеться: предпочитала мои, даже когда меня там не было. Наше оружие висело на стене рядом, и копья вместе стояли в углу… И даже оленью гончую я подарил ей, такую же как у меня, — высокую суку из Спарты, — и мы повязали ее с Актисом, как только она подросла.
К ее приезду разложили целое сокровище из драгоценностей и платьев. С вышитыми корсажами, с оборками, увешанными золотом… Она подошла к ним потихоньку, как олень, вынюхивающий ловушку, нахмурила брови, отодвинулась и посмотрела на меня. Я рассмеялся, но драгоценности все-таки отдал ей, — она любила яркие, красивые вещи, — а все платья раздал дворцовым женщинам. Для нее мои ремесленники сделали новые, в ее собственном стиле, только богаче: кожа была сидонской выделки, галуны из чеканного золота с агатами и хрусталем, пуговицы — из ляписа или гиперборейской смолы… А для головных уборов ей я нашел единственное, что было достойно ее волос: шелк, который только до Вавилона везут с Востока целый год, затканный крылатыми змеями и диковинными цветами.
Как и обещал, я дал ей оружие. Щит со шкурой ее леопарда, шлем, закрывающий щеки, с серебряной пластинкой, с султаном из лент золотой фольги, что сверкали при каждом ее движении… С Геллеспонта я привез ей скифский лук… И она ходила со мной в кузню смотреть, как делают меч для нее. Это был лучший меч, какой сделали при мне в Афинах: центральное ребро было украшено линией кораблей из синей эмали, в память о нашей встрече; головка эфеса из зеленого камня, похожего на воду под облаками, — его привозят из шелковой страны, — и на ней вырезаны были магические знаки; а на золотой рукояти начеканены лилии. Я сам обучил ее владеть им; она часто говорила, он ложится в руку как живой. И нередко по вечерам клала его поперек колен и пробегала пальцами по насечке, чтобы ощутить его тонкость… Ее руки и сейчас лежат на нем.
Тот корабль так и ушел на Крит. Иногда я жалел об этом, — как жалеешь, что забыл поздравить ребенка в именины, — но Федра уже выходила из детского возраста, и я думал: еще более жестоко дать ей надеяться, что я вот-вот приеду. «Времени еще достаточно», — говорил я себе; но для чего достаточно — не знал.
Со стороны всё выглядело просто: ну в моем доме появилась еще одна женщина, еще одна пленница копья моего, к которой я привязался больше, чем к остальным, — что с того? Цари женятся, несмотря на это, и получают наследников… Один я знал, — и еще она, хоть ей и в голову не приходило спросить, — знал, что я никогда не допущу, чтобы другая женщина стояла выше ее.
Дворцовые девушки однако догадывались, видя, как я переменился; ведь раньше я никогда не ограничивался какой-то одной из них. Всем им я привез подарки из Колхиды; и если они чувствовали себя одиноко — позволял уйти с моими почетными гостями… Те, у кого подрастали мои дети, — те рассчитывали, что я буду заботиться о них и впредь, и приняли это спокойно; но я заметил несколько взглядов, которые мне не понравились. Женщины — это такое же богатство, как зерно или скот, они должны быть в большом доме: и чтобы прислуги было достаточно, и, кроме того, они живые свидетельства побед хозяина… Но я сказал Ипполите, если что не так — пусть сразу говорит мне.
Она ничего не говорила, и я ни о чем не догадывался. Но однажды вечером захожу, — она одевалась, — а она меня спрашивает:
— Тезей, мне распустить волосы?
— Что за нужда? — говорю. И улыбаюсь еще, как она оглядывается на служанку; я обычно сам распускал их в постели…
— Этот подарок твой иначе не наденешь, — говорит.
И подняла ее в руках: тяжелую золотую диадему, украшенную золотыми цветами, с ливнем цепочек по бокам, чтоб смешались с волосами. Уже совсем было положила ее себе на голову — я прыгнул вперед, схватил ее за руки.
— Стой! — кричу.
Она уронила ее со звоном, смотрит на меня, удивленно так…
— Я этого не посылал, — говорю. — Дай-ка гляну, что это такое…
Протягиваю руку — а рука назад, сама пятится, будто от змеи.
Тут уж не было сомнений, что это такое: кто-то вытащил на свет корону ведьмы Медеи. Она была в этой короне, когда я впервые увидел ее, — сидела возле отца в Палате. Ипполита тоже сидела там, по правую руку от меня, быть может, в том самом кресле… И ради меня она надела бы эту штуковину перед всеми, если бы я не вошел вовремя. В ту ночь я почти не спал: то и дело спохватывался и слушал — дышит она еще?.. А утром взялся за это дело.
Казначей признался мне, — а куда ему было деться?! — признался, кто упросил его пустить ее в сокровищницу. Он был всего лишь кретином, впавшим в старческое слабоумие, кроме того, он служил еще отцу, — потому ему я ничего не сделал, только отобрал у него должность. А потом послал за женщиной.
Я шагал взад и вперед в ожидании, и тут вошла Ипполита. Я слышал это, но не обернулся: злился на нее за ее молчание. Любая женщина может определить, если другая ее ненавидит, а ведь вместо этого фокуса ее уже могли отравить! Конечно, она чувствовала себя победителем, топтать поверженного было ниже ее достоинства, но… Ее дыхание приблизилось, зазвенела бронза… Я старался не поворачиваться, но все-таки не удержался и быстро оглянулся через плечо. Она была одета для боя, вплоть до щита.
Глаза наши встретились; она была так же сердита, как и я.
— Говорят, ты вызвал ее сюда?
Я кивнул.
— А почему без меня?
— Это еще зачем? — спрашиваю. — Ты что, еще не насмотрелась на нее? Если б ты вела себя, как я просил, это было бы лучше во всех отношениях.
— Вот как! А с какой стати ты собираешься драться в моей ссоре?
— Драться?.. Ты забываешь, что я царь. Я судить буду, а не драться. Теперь иди, поговорим после.
Она быстро подошла ко мне вплотную и неотрывно смотрела мне в глаза.
— Ты собираешься убить ее!
— Это быстрая смерть, — говорю. — Со Скалы, гораздо лучше чем она заслужила. Теперь уйди, еще раз прошу, и оставь это дело мне.
— Ты хотел бы убить ее сам!.. — Глаза ее сверкнули и сузились, как у рыси, даже в нашем бою на Девичьем Утесе я не видел ее такой яростной. — Кто я, по-твоему? Крестьянская баба, одна из твоих банных девок?.. То же самое было, когда я убила своего леопарда! Да-да, я помню, мне пришлось крикнуть, не то ты присвоил бы и его… И ты клялся не бесчестить меня!..
— Бесчестить? Что же я, должен стоять рядом и смотреть, как тебя убивают? Я предупреждал, чтобы ты не доводила до этого, ты не захотела меня послушать… Как же мне уберечь твою гордость вместе с тобой?
— Сама уберегусь! Ты думал, я стану приползать к тебе как рабыня, с низкими сплетнями?.. Или меня никогда не учили законам чести и оружия?.. Я знаю, за что и как вызывать врага, не хуже тебя знаю. Будь на твоем месте любой другой — я бы потребовала и твоей крови за это унижение!..
Я чуть не рассмеялся, но почувствовал, что это опасно: если она потеряет голову настолько, что вызовет меня, то уже не возьмет слова назад, — слишком она горда, — и кто знает, чем это кончится… Но если я уступлю первым — не станет она презирать меня?
Мы стояли друг против друга, словно коты на заборе. Не знаю, чем бы это кончилось, но снаружи послышался шум, — привели ту бабу, — и это меня встряхнуло.
— Хорошо, — говорю. — Отдаю ее тебе. Но помни — ты сама просила.
Отошел в сторону и сел возле окна. Но та, когда ее ввели, пробежала мимо Ипполиты, упала, обхватив мои колени, и давай вопить, молить… Она валила всё на казначея, который любил ее, старый осел.
— Встань, — говорю. — Я здесь ни при чем. Госпожа Ипполита может постоять за себя и без моей помощи. Обращайся к ней — вот она.
Посмотрел на Ипполиту — ей уже стало худо от этого пресмыкания. Она не могла встретиться со мной взглядом, но стояла на своем: показала оружие — топор, копье и дротик, если помню, — и предложила той первый выбор.
Вместо ответа раздался вопль ужаса. Когда она утихла и лишь продолжала всхлипывать, Ипполита сказала спокойно:
— Я никогда не дралась ножом. Я возьму нож против твоего копья. Теперь ты согласна?
Та с криком бросилась обратно ко мне, упала на колени, выдирая волосы, умоляя меня не отдавать ее на растерзание… И прежде чем я догадался остановить ее, — о таких вещах вообще обычно не думаешь, — она излила поток желчи, которую такие женщины прячут от мужчин, пока страх или ненависть не развяжут им язык. Мол, амазонка наверняка околдовала меня, иначе что бы я нашел в этом противоестественном капризе природы?!.. Из нее выплескивались прошлогодние помои, трижды пережеванные сплетни, клевета со всей грязью, какая бывает в банях… Я едва не задохнулся, слушая всё это, потом встал. Она упала и лежала на полу, глядя то на меня, то на Ипполиту, глотая слезы и жалуясь… Она попала в неожиданный переплет и не знала, как себя вести.
— Ну что будем делать? — сказал я Ипполите. — Она твоя.
Ипполита долго смотрела на меня, — не могли же мы говорить при той, — наконец сказала тихо:
— Я никогда еще не убивала просящего. Если она моя — ушли ее куда-нибудь.
Я приказал увести ее. Она всё еще хныкала, для любых ушей готовых ее слушать… Мы снова остались одни.
— Знаешь, — говорю, — я бы избавил тебя от этого, — с твоего позволения или без него, — если бы знал заранее.
Она медленно обернулась… Если она меня сейчас ударит, что я стану делать?.. Но она закрыла лицо руками и прошептала:
— Мне стыдно!
— Тебе?.. Почему?.. Это мне стыдно. Этим я довольствовался, пока не появилась ты.
Мы помирились; и любили друг друга еще больше, если это возможно… Что до той — я сдержал слово и продал ее в Пирее какому-то сидонскому купцу.
Но с меня было довольно — я очистил дом от всех девок, в которых хоть каплю сомневался. Ипполита по-прежнему ничего не говорила, потому я наказывать никого не стал, но отдал их своим дворянам или выдал замуж с приданым за достойных ремесленников. В доме стало спокойно, зато мы остались почти без прислуги… Но хотя это безлюдье было лучше того, что мы имели до сих пор, душа ее была отравлена всем происшедшим; мне больно было видеть, как она сникла.
И вот однажды она мне говорит:
— Слушай, я разговаривала с Аминтором…
Говорила она, как мальчишка; в ней осталось еще много непосредственности, и я был рад это видеть, после всего что произошло. Я улыбнулся.
— Ты неплохо выбрала, — говорю. — Он был самым чудным парнем у меня в Бычьем Дворе.
— Он говорит, его жена тоже была там, и была лучше его… Я хотела бы ее увидеть. Но он говорит, ему нужно твое позволение.
— Считай, он уже его получил, — сказал я. И подумал, до чего ж изменились времена, если люди хотят приводить своих жен под мою крышу!.. А было ясно, что он именно на это и рассчитывал; когда я за ним послал, он почти признал это.
— Она теперь успокоилась, государь, с тех пор как у нас мальчик. Думаю, она в основном счастлива, а полное совершенство — это удел одних лишь богов… И она знает, что я понимаю ее… Но Бычьего Двора не забывает никто.
— Неудивительно. И я никогда не забуду того прыжка назад, что она делала прямо с кончиков пальцев: она взлетала, как песня…
— А ведь и песня была, — сказал Аминтор.
Мы мурлыкнули вдвоем…
— Она должна была стать чересчур высокой, — сказал я. — Мы попали туда как раз вовремя.
— Я однажды нашел ее плачущей о том времени. Правда, это было еще до ребенка.
— Она может привести его с собой… А она вообще-то согласится приехать?
— Согласится? Да она мне покою не дает!.. Но ты — за то время, что госпожа здесь, — ты должен был заметить, государь: каждый бычий плясун, кто еще остался, — каждый готов умереть за нее.
Так Хриза приехала из Элевсина. Она выросла в высокую полногрудую эллинскую красавицу; все, кроме нее самой, наверно уже забыли бесстрашное золотое дитя критских песен… Она любила Аминтора… Но когда-то князья ставили на нее колесничные упряжки и загородные виллы; молодые аристократы разорялись, подкупая стражу, и рисковали свернуть себе шею на стенах, чтобы послать ей, согласно обычаю, стихи о своей безнадежной любви; она слышала рев десятитысячных трибун, когда хваталась за рога… — ей должно было не хватать чего-то среди выросших дома женщин, с их разговорами о няньках, детях, скандалах, тряпках и мужчинах.
Они с Ипполитой подружились с первого взгляда, у них не возникало ни одной мысли, которую надо было бы скрывать. По вечерам я часто находил их вместе; они рассказывали друг другу о Крите и Понте или хохотали, глядя как малыш играет в бычьи прыжки со скамеечкой для ног… На женской половине воцарился покой и порядок, — раньше этого, пожалуй, не хватало, — и люди начали говорить, что амазонка, при всей ее странности, сделала царя Тезея более серьезным.
Но дворяне — я знал это — думали больше, чем говорили вслух, когда видели ее возле меня вПалате. Они знали — это значит, что я еще не собираюсь жениться; и боялись, что возникнут раздоры, когда наконец решусь; и хотели, чтобы союз с Критом был упрочен надежно… А кроме того, они не забывали Медею, которая была не только колдуньей, но и жрицей Матери; и собиралась вернуть старую религию и покончить с властью мужчин. Теперь здесь была другая жрица Богини, тоже, по их сведениям, знавшая магию… То, что она ничего не хотела, кроме свободы, — в горах, или в лесах, или со мной, — это их не трогало и не уменьшало их опасений.
Так прошла зима. Мы устроили большую охоту на волков в горах Ликабетта, пройдя по следам на свежем снегу до их логова в высоких скалах над сосновыми лесами… Там была жестокая схватка и хорошая добыча; и мы смеялись, глядя, как наши собаки дерутся плечо к плечу, точь-в-точь как мы с ней… В красной куртке, в красных сапогах и шапке, с горящими глазами и щеками — она сверкала на холодной белизне, словно жар-птица. Она любила снег.
Я пригласил на эту охоту и на пир после нее всех тех, кто был со мной на Крите, — всех, кто захочет приехать. Из девушек первой была Хриза, постройневшая и окрепшая от бега и верховой езды; приехали еще две, служившие Артемиде в храме возле Элевсина… Для Фебы и Филии было слишком поздно.
После этого разошелся слух, что всем, знавшим Бычий Двор, будут рады в моем Зале. Так, впрочем, было всегда; но я часто отсутствовал, — то на войне, а то по царствам, — некогда было специально разыскивать их. Теперь стали появляться не только те, кого увозили со мной из Афин, но и ребята из других подвластных Миносу земель, которых я освободил. Они приезжали с Киклад и с двенадцати островов Азии, с Феникуссы, с Родоса, с Кипра и с самого Крита… Некоторые приезжали за чем-нибудь; другие — чтобы поблагодарить за жизнь и свободу; третьи — кого я помнил среди лучших по искусству и отваге — просто от беспокойства, потому что печать Бычьего Двора еще лежала на них.
Все они были еще молоды, — ведь критские корабли увозили их начиная с тринадцати лет, — и хотя большинство приезжало издалека, всех сближало прежнее товарищество, в котором люди жили и ценились за счет личных качеств каждого, без титулов и званий. Некоторые остались на Крите и были там объездчиками лошадей и колесничими; они появлялись в кносских бахромчатых юбочках, с бритыми лицами и завитыми волосами, в украшениях Бычьего Двора… Хоть Дом Секиры пал, но слава бычьей арены умирала медленно… Иные подались бродяжничать и стали копейщиками на пиратских кораблях; или утвердились с помощью этого на островах и обосновались там… Другие — не знавшие никакого ремесла, или бедняки, или прежние рабы у себя на родине, — обратились к жизни акробатов и ходили из города в город… Лучшие из них сохранили свою гордость и танцевали с мечами или с огнем, вместо быков; худшие довольствовались тем, что забавляли невежд и опустились до мелких фокусов, а то и до простого воровства. Даже этих, — ради того, что нам пришлось пережить вместе, — даже этих я не отпускал без угощения, ночлега и подарка; а дворцовая челядь, прожившая всю жизнь в тепле и довольстве, могла думать об этом что хотела.
В открытую никто не ворчал: все знали, что если б не мы — быть может и их сыновьям и дочерям довелось бы повидать Бычий Двор. Но на самом деле, кое-кто из моих гостей в царском Зале выглядел странно. Солидные и спокойные, — те, что вернулись к прежней жизни среди своей родни, — те были заняты и не приезжали. Приходили легкие на подъем, любители приключений, привыкшие к веселью и блеску, которым можно было научиться на Крите.
Для лучших из них, для многих, я нашел место у себя — не только в конюшнях и при колесницах, но и во Дворце. На арене долго жил только тот, кто учился быстро; независимо от рода и племени они усвоили обхождение в Лабиринте, сидя там за одним столом с вельможами, так что манеры у них зачастую бывали получше, чем у моих доморощенных аристократов… Их любовь к Ипполите была не показной, — ради меня, — а шла от самого сердца… И они придали двору блеск; но принесли с собой не изнеженность Крита, а его искусство, яркость и живость, — так что это было не во вред.
А раз уж появился такой рынок, то не заставили себя ждать и торговцы: певцы и арфисты, мастера-колесничники и знаменитые оружейники, ювелиры и резчики по камню… Всех их Ипполита встречала с радостью. Она любила красивые вещи; но еще больше — разговоры ремесленников, их рассказы о путешествиях, их рассуждения, саму их работу… Она никогда не стремилась привлечь к себе всеобщее внимание, или принизить другую женщину, или вообще как-то показать себя. Но могла взять какую-нибудь совершенную вещь и держать при себе весь день, пока не почувствует и не поймет ее… Барды любили петь для нее, потому что — как сказал мне один — она никогда не задавала глупых вопросов и всегда сразу понимала суть.
Жены придворных и другие знатные дамы, что годами болтали об одном и том же, чувствовали, что она опережает их во всем; как обогнала бы, вздумай они состязаться с ней в беге по холмам. Но глядя, как она разговаривает с мужчинами, они делали постные мины и посматривали на меня: ревную ли. Они были переполнены искусством, о котором она и понятия не имела: держать своих мужчин в сомнениях и затуманивать ясную правду любви. Если бы она изменилась в отношении ко мне, я узнал бы об этом сразу, как о пыли попавшей в глаза.
Но ради других — тут она умела молчать. В моей гвардии было несколько человек, которые возвели ее обожание в культ и ради нее стали поклоняться Артемиде. Это началось как изящная причуда, но один из них загорелся в огне, который сам зажег. В конце концов, потеряв голову от любви, он начал втайне домогаться ее взаимности. Из жалости к нему она не обмолвилась мне ни словом, пока он не утопился от отчаянья, — только тогда пришла ко мне со своей печалью, за утешением. В полноте моего счастья я мог представить себе меру его страданий, потому понял и тоже пожалел его, — и назвал его именем один из своих новых городов, раз от него не осталось сына.
Но эта грустная история пошла нам на пользу, натолкнув меня на мысль: я дал ей собственную гвардию и назначил туда офицерами этих самых молодых людей. Они носили ее эмблему — леопард в броске, — она сама обучала их… Таким образом я показал всем свое доверие к ней; и то что грозило стать опасным — было извлечено на свет, где превратилось в дело гордости и чести. Больше не было мрачных смертей, но появилось хорошее, чистое соперничество; оно сохранялось и тогда, когда они выступали против моей гвардии на Играх, — мы одинаково не потерпели бы возникновения низменных страстей… Мы окружали себя людьми, которые понимали такие вещи, а до остальных нам дела не было.
Конечно, по закоулкам шептались и ворчали. Это было время молодых; мир изменился и не мог быть повернут вспять, в нем не оставалось места для людей с окостеневшими мозгами… Всю свою долгую жизнь они гнили под властью Миноса, — но теперь думали, что лучше было бы свергнуть эту власть, не трогая всего остального, на чем она держалась. Если б я не дал хода переменам, то не смог бы провести свое царство через те опасности, что уже были позади, но они уже построили свои дома и поженили сыновей — и полагали, что пора бы и притормозить… А я, — поводья в руках, и ветер в ушах, и рядом со мною любовь в колеснице, — мне казалось, я никогда не устану мчаться вперед.
Эллинские земли были в расцвете; теперь не было критского флота, чтобы подавить его в зародыше… В торговле, как в борьбе: и робость, и самонадеянность до добра не доводят; надо иметь чутье — когда взять, когда дать… В те годы все царства учились использовать свои богатства, и каждое занимало свое место в общем хозяйстве.
Это было время Фиванской войны. Эдипово проклятие дошло до его дома, и его сыновья-братья сражались за царство. Я наблюдал, выжидая свой час. Меня подмывало подобрать эту кость, пока собаки из-за нее грызутся, но одного из братьев поддерживал народ в Фивах, а другой — осаждавший — имел союзниками аргосских вождей, с которыми я не хотел враждовать. Обе стороны слали мне послов, я вел переговоры… А тем временем спросил оракула, и знамения оказались плохими для обоих. Через месяц они убили друг друга, аргоссцы убрались восвояси, и царем стал дядюшка Креонт.
Но я сомневался, что проклятие уже исчерпано. Я присматривался к Креонту во время войны и был уверен, что это он натравил своих племянников друг на друга, надеясь именно на такой исход. Во время осады боги потребовали царской жизни — он толкнул шагнуть вперед и умереть своего сына… Он уже старел и хотел запугать своих подданных так, чтобы они не заметили его слабости, — и ради этого оставил мертвых вождей гнить под солнцем непогребенными. Бедняга Антигона, прикованная к своей родне, словно терпеливый вол, выползла ночью, чтобы присыпать землей своего никчемного братца… Ее царь Креонт почтил могилой, — но замуровал ее живьем, сволочь. Это возмутило и его собственный народ, и все эллинские земли; родственники поруганных мертвых пришли ко мне с пеплом на головах… Тогда я выступил.
К тому времени фиванцы уже были уверены, что я не стану вмешиваться, так что взять их внезапно не составило труда. С наступлением ночи мы соскользнули с Киферонских холмов, а когда взошла луна — пошли на стены. Обошлось почти без крови: народ был сыт по горло и войной, и Креонтом. Я только заточил его в тюрьму, — не хотел брать на себя крови в этой проклятой истории, — но его грехи давили его, и вскоре он умер без моей помощи. С тех пор я фактически правил Фивами.
Больше чем сам штурм мне запомнился конец той ночи, во взятой Кадмее, когда мы с Ипполитой пошли снять оружие и отдохнуть. Мы не подозревали, пока не попали туда, что нас отведут в царскую опочивальню. Тяжелые потолочные балки, окрашенные в пурпур, покрыты были резными клубками змей; на ковре, что закрывал одну из стен, припал к земле огромный черный Сфинкс, древнее фиванское божество, с мертвыми воинами в лапах… Мы не могли спать из-за шорохов, наполнявших темноту словно скрип подвешенной веревки; не могли и слиться в любви… В этой постели — ни за что!.. Лежали там, судорожно обнявшись, словно окоченевшие дети, и вскоре засветили лампу.
Но нет худа без добра — мы проговорили до самого рассвета. Я всегда становился умнее, поговорив с ней; и в тот раз четко понял, что трон Кадма станет тем лишним грузом, который потопит корабль: сильнейшие цари испугаются и объединятся, чтобы опрокинуть меня. Да и вообще — половина ночи, проведенная в этом покое, говорила мне, что с Фивами лучше не связываться, до добра это не доведет. Потому, когда настало утро, я провозгласил царем малолетнего сына старшего из братьев; пообещал ему гарантии безопасности; и выбрал для него совет из числа тех людей, что звали меня на помощь. И вернулся домой. Все превозносили мою справедливость и бескорыстие, — а Фивы оказались в моих руках надежнее, чем если бы я стал там царем.
Мы возвращались с великим триумфом. Народ воспевал меня как судью и законодателя всей Эллады и гордился своей причастностью… И на самом деле, с тех пор обиженные из всех племен Аттики приходили сидеть на моем пороге: рабы жестоких хозяев, притесняемые вдовы, сироты у кого отняли наследство… И даже вожди не дерзали ворчать, когда я выносил свой приговор. Мой суд называли славой Афин, сам же я считал его приношением богам: они хорошо меня использовали на земле.
Я часто думал тогда, что уйди я снова в поход с Пирифом — не видать бы мне Фив, ведь время летит быстро. А впрочем, зачем мне эти походы? — такого трофея они мне больше никогда не принесут! Мне и дома хватало дел и радостей.
Но вот однажды утром — мы поднимались рано на верховую прогулку — Ипполита села на кровать и говорит:
— Тезей, меня тошнит!..
Лицо у нее позеленело, руки холодные; чуть погодя — вырвало ее… Пока бегали за лекарем, меня самого затошнило от страха; в голове крутится «яд!». Он пришел, вызвал ее женщин, ждет пока я выйду… Только когда он вышел и сказал, что не собирается отнимать хлеб у повитухи, — только тогда я понял.
Я вошел к ней — она была оживленной и светлой, будто получила в бою легкую рану, из-за которой не хочет поднимать шума… Но когда обнял ее, сказала тихо:
— Ты был прав, Тезей. Девичий Утес далеко.
На пятом месяце она оделась в женское платье впервые. Я как раз в это время зашел к ней — стоит, расставив ноги, руки на бедрах, и смотрит вниз, на свои юбки и на растущий живот. Услышав меня, не обернулась, проворчала мрачно так:
— Я, наверно, сошла с ума, иначе я бы сейчас тебя убила.
— Я, наверно, тоже, — говорю. — Я теперь не могу быть с тобой, но не могу даже подумать ни о ком другом, а так со мной не бывало никогда в жизни…
Она носила платье хорошо, — не хотела, чтобы над ней насмехались, — а я, глядя, как она проплывает мимо, не знал, смеяться мне или плакать. Но вскоре — стоял однажды на балконе, глядя на равнину, — я услышал ее прежний твердый шаг. Она положила ладонь на мою, на балюстраде, и сказала:
— Это будет мальчик.
Позже, став тяжелой и малоподвижной, она часто посылала за певцами. Песни тщательно выбирала: никакой кровной вражды, никаких проклятий — но баллады о победах, о рождениях героев от любви богов… «Кто может поручиться, что он не слышит?» А по ночам брала мою руку и клала на то место, где был ребенок, чтобы я ощутил его движение. «Он бьет высоко; говорят, это признак мужчины…»
Схватки у нее начались, когда я был в Ахарнае: разбирался с одним мерзавцем, который насмерть забил своего крестьянина. Вернувшись домой, узнал, что она трудится уже три часа. Она была сильна, всё время на воздухе, никогда не болела — я думал, что родит быстро; но она промучилась всю ночь, с долгими, тяжелыми болями… Повитуха сказала, это часто бывает с девушками, которые живут жизнью Артемиды: то ли богиня злится, то ли мышцы у них слишком плотные и не растягиваются как надо. Я шагал взад-вперед за дверью и слышал приглушенные голоса и шипение факелов, но от нее — ни звука. В холодный предрассветный нас меня охватил ужас: она уже умерла, а они боятся сказать мне!.. Растолкал кучу сонных женщин на пороге, вошел — она лежала спокойно, — схваток не было, — бледная, с каплями пота на лбу… Но увидела меня — улыбнулась и протянула руку.
— Он драчун, этот твой парень. Но я уже побеждаю.
Я подержал ее за руку, потом почувствовал, как она напряглась… Она забрала руку. «Теперь уйди», — говорит.
Когда самые первые лучи солнца коснулись Скалы, а равнина была еще в тени, — тогда я впервые услышал ее крик, но в этом крике было и торжество вместе с болью. Разом заговорили повитухи, потом раздался голос ребенка…
Я был так близко от дверей — слушал, что ей сказала повитуха; но когда вошел — дал ей первой сказать мне. Теперь она не выглядела больной, только смертельно уставшей, будто после целого дня в горах или долгой ночи любви… Всё тело было расслабленным, но серые глаза сияли. Откинула простыню:
— Ну что я говорила!
Повитуха кивнула, затараторила, мол, нет ничего удивительного, что госпоже пришлось потрудиться всю ночь с таким крупным мальчиком… Я взял его на руки — он показался тяжелее, чем другие мои дети, которых мне доводилось держать; однако не слишком большой, не маленький — в самый раз… И был не красный, не сморщенный, а налитой и румяный, словно созрел под солнцем в удачный год. И хотя глаза у него были туманной голубизны, как у всех новорожденных, — ничего не понимающие, косящие, — это уже были ее глаза.
Я отдал его назад, поцеловал ее и дал ему в ручонку свой палец, чтобы ощутить его хватку… И подставил ему под ладошку царское кольцо Афин. Его пальцы сомкнулись на печати… А я смотрел ей в глаза. Мы молчали, — слишком много ушей было рядом, — но нам никогда не нужно было говорить, чтобы понять друг друга.
5
Он расцветал, как весенние цветы, и рос — словно тополь возле ручья.
Мы нашли ему хорошую кормилицу… У его матери было мало молока, и она слишком уставала от диких гор и от меня. Но она часто вбегала к нему, прямо с охоты, подхватывала его, сажала себе на плечо, — он любил ее сильные руки и визжал от восторга. Он еще не умел ходить, а она уже скакала с ним галопом, посадив перед собой верхом на коня; лошадей он боялся не больше, чем своей няньки… Но по вечерам у огня она сажала его на колени, как всякая мать, и пела ему длинные северные песни на своем языке…
У меня было порядком сыновей; и не было ни одного ребенка, если только я знал о нем, о котором бы я не заботился. Только во Дворце было шесть или семь. Но казалось в порядке вещей, что, когда я шел проведать кого-то из них, мать говорила: «Утихни и веди себя хорошо, к нам царь придет…» Что к этому сыну я отношусь по-особому, люди поняли очень скоро.
А чем ярче свет, тем дальше видно… Всё вместе было слишком ясно: наша любовь и совершенство нашего сына разоблачали мои намерения, которые я хотел пока сохранить в тайне. Теперь я правил в Афинах уже девять лет и знал свой народ; и чувствовал, как капитан чует начало прилива, что тут они не со мной.
Когда я имел женщин во многих местах — это принимали легко, даже хвастались мной; если бы все истории, что рассказывали про меня, были правдой, я один смог бы заселить еще одну Аттику. То, что я даже Владычицу амазонок уложил в постель и прижил с ней сына, — это тоже было вроде подвига и очень всем нравилось поначалу. Но время шло, она жила как моя царица; все увидели, что будь моя воля — она и стала бы царицей… Тогда у них настроение изменилось.
Опасность была не в том страхе перед всем новым, непривычным, который живет внутри каждого маленького человека. Их страшило другое, и этот страх издревле укоренился в каждом эллине: она служила раньше Богине, и я ее не переломил… Слишком хорошо они помнили Медею. Они думали, — и, быть может, были правы, — что если бы я не пришел тогда, она спихнула бы отца с трона и принесла бы его в жертву в конце года, как это делалось во времена береговых людей, владевших этой землей до нас, и возродила бы старую религию.
А теперь поползли такие же слухи про нее; поползли понизу, среди крестьян в основном. Если бы я предвидел такое, то пожалуй не назвал бы нашего сына Ипполитом: это был обычай береговых людей, что сын назывался по матери… Но изменить имя теперь — это было бы публичным оскорблением для нее, да я и не представлял себе как можно называть его иначе.
Дворяне, если бы захотели, много могли бы сделать, чтобы пресечь эти выдумки. Они-то знали, как она себя ведет, и видели правду собственными глазами… Но у них были свои основания для недовольства: слишком много новых людей появилось во Дворце, слишком влиятельны были она сама и ее друзья, слишком распускались, по их мнению, их дочери, следуя ее примеру… А главное — они ждали от меня женитьбы на Крите.
Судьба, на которую я так надеялся, не спешила вмешаться, чтобы освободить меня. Девочка была дочерью Миноса, а на Крите слишком много старых верований, чтобы там можно было пренебречь женской линией. Если бы я отдал ее другому мужчине, достаточно высокородному, чтобы не нанести ей бесчестья, — Крит оказался бы в его руках. Если бы выдал за крестьянина, — как было однажды сделано в Аргосе, — оказался бы обесчещен сам, и критяне не потерпели бы больше моей власти… Оставить ее незамужней — она превратится в приманку для каждого честолюбивого царя в Элладе и каждого аристократа на Крите… Быть может я и пошел бы на такой риск ради своей любимой и ее сына, но тут было еще кое-что: Микены.
Теперь там царствовал Эхелай. Он давно уже выдал замуж свою сестру; но когда он узнает, что я ради своей пленницы сделал то, в чем отказал Львиному Дому, — не успокоится, пока не смоет это оскорбление моей кровью. Больше того, он просто-напросто не поверит, что ради такой мелочи, — подумаешь, женщина! — что ради такой мелочи можно отказаться от политического союза. И будет убежден, что от союза с ним я отказался по каким-то другим причинам, а критская помолвка была лишь отговоркой… А раз так — я что-то замышляю против него… И тогда Крит и Микены превратятся в пару жерновов, а Афинам придется стать зерном.
Время уходило, и у меня оставалась только одна надежда — смерть Федры. Я мечтал об этом в глубине души; я думал об этом, как думаешь о любом средстве добиться нужного результата… Каждый царь имеет возле себя таких людей, что им достаточно одного взгляда, им ничего не надо говорить… Но в каждом человеке есть своя граница зла, — как и добра, — и уж через нее не переступишь.
Вот эти заботы одолевали меня, когда пришло письмо от Пирифа: он приглашал нас обоих на свадьбу. Мы думали, пока нас не будет видно, — народ в Аттике займет свои мысли чем-нибудь другим; потому поехали с особой радостью… Но получилось так, что этот пир стал самым злосчастным в Элладе; даже хуже того, что был в Калидоне после охоты на вепря.
Началось всё прекрасно. Пириф нашел себе как раз такую девушку, какая была ему нужна: дочь одного из крупных вождей и лапифка до мозга костей, она была способна всю жизнь мириться с мужем-бродягой, как мирилась и ее мать. Дворец был забит снедью, вином и гостями до самых ворот. Лапифы очень гостеприимный народ; не только Зал, — для царей, вождей и воинов, — но и весь двор был заставлен столами, — для конюших, слуг и крестьян, — а дальше, под деревьями, стояли еще столы… Пириф сказал, что те — для кентавров.
Я посмотрел на него с удивлением.
— А почему бы нет? — сказал он. — Я обещал Старине сделать для них всё что смогу, и я держу слово. Я не позволяю никому ни охотиться на них, ни красть их лошадок, ни выжигать их медовый вереск; если их ловят на краже ягненка — я сужу их нормальным человеческим судом, а раньше крестьяне прибивали их гвоздями к деревьям для острастки остальным… И они не остаются в долгу, я даже не ожидал. Они, как лошади, — чуют друзей. Месяц назад предупредили меня о грабителях, напавших на мой скот; ради этого пришли прямо вниз, на равнину!.. Такого никто в Фессалии и не слыхивал… Так что я должен им обед, и он им понравится, ведь я знаю их вкусы, должен бы… Мясо, и вдобавок целая телега сырых костей — они их любят колоть и доставать мозг — и кобылье молоко, заправленное медом… Я поместил их там, а то от их запаха большинство блевать начинает. И там, в сторонке, не страшно что им вино попадет нечаянно. От вина они бесятся…
В день свадьбы мы с Пирифом везли домой его невесту в свадебной карете, а за нами следовала громадная кавалькада верховых лапифов. Это было великолепное зрелище: лента всадников извивалась от замка ее отца и текла через равнину как река. Крестьяне приветствовали нас криками и песнями; в них вливались и голоса кентавров — кошмарный рев, от которого лошади перебесились бы, управляй ими кто другой, кроме лапифов… Потом мы расселись пировать, и я — выполняя свои обязанности шафера — обходил всех гостей, чтобы убедиться, что везде всё в порядке. Пир кентавров под тенистыми деревьями был в разгаре; и верно — Пириф не ошибся — это было тошнотворное зрелище. Только в одном углу соблюдались приличия: там сидел Старина и ему прислуживали его мальчики; пожалуй, они его тоже кой-чему научили, хотя он их научил большему. Они были умыты, причесаны, одеты как подобает, — издали я бы их не отличил от прочих, — но все они были здесь, и в любой момент не меньше двух-трех из них находились возле него, покинув своих родных, ради того чтобы оказать ему учтивость среди зловония этого пира.
В Фессалии женщины на празднествах сидят отдельно, но я видел Ипполиту, возле невесты. Она надела женское платье, зная, что Пирифу это понравится, — и ни одна не могла сравниться с ней красотой. Впрочем, так мне казалось всегда…
Среди прочих слуг я привез с собой моего пажа, юношу по имени Менестей. Он был из царского рода — сын двоюродного брата моего отца, Петея… Петей умер в изгнании во время войн за царство, и я не видел нужды вешать на парня старые грехи его родни; тем более что он не очень-то оплакивал своего отца; тот, по рассказам, был несносный человек… Потому я дал Менестею место при дворе и считал его дельным парнем: он быстро соображал и ему не надо было повторять дважды… Если у него был недостаток — это стремление забегать вперед и делать больше, чем с него спрашивали; в детстве ему не давали шага сделать, и теперь он страшно любил показать себя там, где другие не справлялись. Но чрезмерная самостоятельность всегда кажется меньшим злом, чем тупость…
На этот раз он прислуживал за нашим столом вместе с другими высокородными юношами. Но когда я усаживался на свое место, ко мне подошел мальчик, наклонился и спросил шепотом: «Ты знал, господин мой, что твой паж дает Старине вино?»
Он был аккуратно причесан и носил короткие штаны с бахромой, но тело его побурело, как старое дерево, и он назвал Старину тем непроизносимым именем, потому я мигом пошел за ним. На самом деле, Менестей со своим кувшином стоял перед Стариной. Один из мальчиков, подававший Старине мясо, зашел ему за плечо и показывал Менестею: «Не надо!» Но Менестей не заметил этого или не захотел замечать.
Голова Старины подалась вперед, ноздри задрожали от незнакомого сладкого запаха… Но его мудрость остановила его, или, быть может, он верил своим мальчишкам, — он отвернулся и оттолкнул кувшин; жест был прост, как жест животного, но у него было в этом жесте что-то царственное. Один из мальчишек схватил Менестея за руку и показал ему, что я его зову; но теперь ему надо было пройти мимо скамей кентавров, — и те унюхали вино. Один протянул руку и выхватил кувшин, потом у них завязалась свалка — двое тащили кувшин каждый к себе и успевали хватануть по глотку…
Менестей подошел как ни в чем не бывало. Я уже успел разозлиться: ведь отлично помнил, что передавал ему предупреждение Пирифа.
— Как тебя понимать? — спрашиваю.
А он — сама справедливость во плоти — говорит:
— Я подумал, государь, что они недостаточно к нему почтительны. Во-первых, его поместили на улице; потом они прячут от него вино, а во Дворце его дают даже каждому писцу… Он все-таки их наставник, хоть он и кентавр!
— Наставник? — говорю. — Он царь!.. И он никогда не заходил под крышу, с самого рождения. Его мальчишки знают, кто он, и любят его. А ты любишь только свои побуждения, то есть себя самого. Когда научишься учиться сам, прежде чем учить других, — только тогда ты станешь мужчиной…
Тем временем кентавры вылизывали из кувшина последние капли. Они много пролили, потому я думал, что большого вреда мы не наделали, — и ничего не сказал Пирифу, который шептался со своей невестой. Ужин подходил к концу, и скоро должен был начаться танец.
Женщины поднимались… По обычаю лапифов, сначала невеста со своей свитой женщин проходит в танце среди гостей, а те осыпают ее цветами и благословениями; потом уже следует мужской танец, который кончается тем, что ее уносят. Подступал вечер, и в Зале уже зажигали факелы… Мы с Ипполитой улыбнулись друг другу, когда она выходила из-за стола, — наш свадебный пир был не таков…
Заиграла музыка… Женщины пошли в обход Зала, дети несли факелы, а невесту вел под руку ее отец. Они вышли, и мы услышали во дворе приветственные клики и песни, которые постепенно удалялись от дверей. Потом шум изменился, стал нестройным и громким, вдали какой-то старик сердито закричал… Пириф вскочил на ноги, я за ним — и в этот момент услышал звонкий крик: «Тезей!..» Это был голос Ипполиты, перекрывший общий гвалт.
Мужчины поднялись, в суматохе бросились к дверям… «Стойте! — кричу. — Возьмите оружие!» На стенах были старые военные трофеи, а люди, приехавшие издалека, сложили свое оружие у входа… Я схватил лапифский боевой топор и меч. Пока мы вооружались, несколько ребятишек в изорванных и запачканных праздничных платьицах вбежали в Зал, плача от страха… У нас не было времени утешать их — мы ринулись в сумерки.
Двор был пуст, скамьи крестьян опрокинуты — шум доносился из-за ворот. Там творилось что-то несусветное, как при разгроме города: визжали и царапались женщины, брошенные на столы среди рассыпанного мяса и творога: кентавры с хрюканьем сдирали с них одежду, рычали друг на друга… Крестьяне, которые кинулись было на помощь, сами теперь вопили о помощи, так же пронзительно, как и женщины… Стыда в этом не было: ведь в кентаврах течет кровь Титанов, так что разъяренный кентавр сильнее двух-трех человек: один просто оторвал руку напрочь какому-то бедняге… Я мчался через весь этот хаос, крича свой боевой клич и имя Ипполиты… Когда она отозвалась — словно светлее стало. Под ногами корчились тела, хрустели черепки и коптили факелы — я бежал дальше, и вот наконец увидел ее. Она отбивалась большим ножом со стола хлебореза, защищая невесту; а отец той лежал перед ними, затоптанный, весь в крови. Я успел как раз вовремя: когда кентавр вырвал у нее нож, я всадил ему в череп топор. Череп оказался таким толстым, что едва не вывернул топор из руки, а потом я с трудом его выдернул… Топор я отдал Ипполите, сам выхватил меч — и мы с ней снова стояли плечо к плечу. Пириф прижал невесту спиной к дереву и, загородив собой, работал своим длинным копьем… Женские вопли затихали, отовсюду неслись боевые клики и могучий рев кентавров.
Я видывал кровавые битвы, но эта была самой кровавой и самой отвратительной: не война и не скотобойня — но хуже и того и другого. Я уже забыл почти все подробности, и рад этому; но помню, как ободрал себе голень об огромный винный кувшин, который кентавры стащили со двора, найдя его по запаху, как находили они овечьи загоны… И еще помню Старину. Стол его был перевернут, а он стоял перед своим почетным креслом, защищая двух мальчишек. Прижал их к себе по бокам обеими руками, словно это были его собственные дети; старые желтые зубы были оскалены, шерсть на спине дыбом… И рычал своему народу на языке кентавров, пытаясь их остановить. Но они были слишком бешены — они не слышали. И пока я смотрел, мальчишки завертелись у него в руках, вырвались и, выхватив маленькие золотые кинжалы из-за поясов, полетели, крича как соколы, в бой.
Потом мне стало не до него, но незадолго до конца я снова посмотрел в ту сторону. Старина стоял одиноко, его волосатые руки свисали у согнутых колен так низко, что кулаки почти упирались в землю, голова ввалилась в плечи… Он смотрел прямо перед собой. Говорят, кентавры слишком примитивны, чтобы плакать как люди, — но тогда я это видел своими глазами.
Наконец все было кончено. Кентавры с воем бежали в горы; лапифы потом травили их, как волков… Те из них, что остались, — те ушли дальше в дикие леса, и нынче их в Фессалии уже нет.
Когда шум погони затих, мы, гости этой земли, сделали что могли для раненых, подобрали мертвых… Людей, я имею в виду, потому что лапифы больше не считали кентавров людьми и на другой день сожгли их, без обрядов, словно ящурный скот. Я потом думал — и не один раз, — если бы не этот злополучный пир, который подавил в них людей и возбудил скотов, — быть может, со временем, подружившись с людьми, они могли бы очеловечиться? Быть может, у Старины были сыновья, а мы их наверняка убили… И он ушел, с остатками своего народа, нести свое жреческое бремя на какой-нибудь другой горе, подальше от людей, — и теперь никто никогда не узнает, смогли бы они стать людьми или нет.
Ипполита, хоть вся избитая, была во Дворце, помогая женщинам; а я пошел к фонтану во дворе — умыться — и тут встретил Менестея. Дел вокруг было много, но он стоял безучастный, белый как мел — словно больной. Я был весь покрыт грязью и кровью и изодран когтями кентавров; а сколько народу погибло, а как сейчас рыдала невеста на своей девичьей постели! — ведь отец ее еще не похоронен, кто станет зачинать детей в такую злосчастную ночь?.. При виде его раны мои засаднило.
— Это твоя работа, — говорю. — Слышишь ты, щенок, всезнайка самодовольный? Нравится тебе всё это?
Ну и — дал ему по башке.
Он только посмотрел на меня — и ушел. Наверное, снова вспомнил своего отца. Иногда я задумывался, сколько хороших качеств было примешано к его самомнению; быть может, и он, как кентавр, мог бы измениться, если бы постарался чуть больше? Впрочем, вряд ли: уж такой у него был характер — он не в состоянии был поверить, что может ошибаться. Но тогда, во всяком случае, я об этом не думал; я вышел из себя и мне было не до того, чтобы нянчиться с ним. И он ушел со своими мыслями, о которых не стал мне говорить… А потом — когда я узнал о них — было уже слишком поздно.
6
Пока нас не было, за нашим мальчиком ухаживала Хриза, и ему было хорошо; даже за этот короткий срок он успел подрасти. Дворянство и простой народ не забыли о Крите, как я надеялся, — но это было мелочью рядом с тем, что рассказал мне Пириф в Фессалии и что я должен был носить в себе.
Далеко на севере, за Эвксином и Истром, шло великое движение народов. Бескрайняя равнина, за спиной северного ветра, расположена так далеко от моря, что если принести туда весло — люди принимают его за опахало веялки… Однако там бушевали свои бури; и народы шли ко дну, как корабли на рифах. Южные фракийцы слышали это от северных, а те от южных скифов, а те — от скифов с севера… Из великих северо-восточных степей выходил народ, который называли Черные Плащи, и выедал равнины перед собой как саранча. Пириф не знал, что они из себя представляют; знал только, что у них нет других богов, кроме дня и ночи, и что страх летит перед их пиками как холодный ветер перед дождем.
Пириф не думал, что они дойдут до эллинских земель; они были слишком далеко и двигались медленно из-за своих огромных стад…
— Ho, — сказал он, — если они пойдут на юго-запад, то выдавят скифов на юг, и те навалятся сюда. Лишенные своей земли, голодные… Как, говорят, пришли когда-то и наши предки… Будем надеяться, мы сможем держаться лучше береговых людей, что были здесь до нас. Если Черные Плащи пойдут каким-то другим путем, то ничего может и не случится. Но смотри, Тезей, если они все-таки придут — у меня руки будут связаны. И если тебе могут понадобиться добрые друзья в худое время, то стоило бы снова подумать о Крите… Ты знаешь, у меня и в мыслях нет унижать твою госпожу; она умнее всех женщин, каких я знаю; готов клясться чем угодно, что она никогда не помыслила ничего тебе во вред… Но как раз поэтому она должна всё понять не хуже меня.
Это он сказал мне. Говорил ли он что-нибудь ей — не знаю. Но однажды, уже в Афинах, — когда я лежал без сна, размышляя обо всем этом, — она положила руку мне на грудь и сказала:
— Тезей, мы это мы. Но ты должен жениться на критянке.
— Мы это мы, — повторил я. — Но если я отдам ей то, что по праву принадлежит тебе, — ты этого уже не получишь.
— Я воин, — сказала она, — а ты мой царь. Моя честь — в служении твоей. Клятва моя у меня в сердце, и ничто меня от нее не освобождало, — не делай из меня предателя.
— А малыш? В Доме Миноса скверная кровь. Мне привить черенок на тот ствол — и обделить его?
Она помолчала немного, потом сказала:
— Он в руке какого-то бога, Тезей. Я чувствовала это, уже когда носила его: он казался сильнее меня… Он наверно и сам это чувствует; иногда я вижу, как он прислушивается…
Мы заговорили о мальчике, но она прервала это и снова повторила:
— Женись на критянке, Тезей. Со времени вашей помолвки ты ни разу там не был. Можешь ты навсегда доверить страну своему наместнику и критским вельможам?.. Конечно же нет. И это не выходит у тебя из головы.
Она всегда знала о чем я думаю, хоть и не спрашивала.
Она заснула наконец, а я не спал. Когда подали голос первые птицы и небо посветлело, я уже знал, что делать.
Я созвал дворян и объявил им, что решил отплыть на Крит. Обдумав их совет и интересы государства, — решил отплыть на Крит и взять в жены дочь Миноса. Но чтобы поддержать спокойствие в стране, я должен уважать ее древний закон, происходящий еще от их прежней религии: наследование происходит по материнской линии; и женщина, которая выходит за чужеземца, теряет право на наследство, если покидает страну вместе с ним. Поэтому я оставлю ее на Крите — в подобающих ее рангу условиях, с надлежащей охраной — и буду навещать ее, приезжая туда по делам государства… Таким образом, порядок и безопасность будут надежно обеспечены в обеих частях объединенного царства.
Они были рады — аж не выговоришь. Я хорошо сделал, напомнив им, что та царица тоже, быть может, служит Богине. Они едва не вслух благодарили меня за то, что я ее не привезу сюда.
В тот год я отменил дань с Крита и приказал лишь построить дом для невесты — и для меня, когда я буду с ней. Я выбрал старый форт у южной реки, возле святилища Святой Троицы. Его в любом случае следовало укрепить, но и уютным сделать было нетрудно. Ни за что в мире не стал бы я отстраивать Лабиринт, даже прах его был пропитан гневом богов… Правда, Девкалион кое-как залатал западное крыло, — это на здоровье, но без меня.
Так прошел еще год, пока строился дом. Мальчик всё рос и рос… Как только глаза его очистились от первой дымки, они стали точь-в-точь материнскими — серыми, как безоблачный рассвет, — и серебристые волосы, с которыми он родился, почти не темнели; она любила их блеск и не хотела завивать. Кожа его, как и волосы, была светлой; но чуть обожженная солнцем — румянилась, как золотистый плод… Он был резвым и сильным, и лазал повсюду… Когда ему было три года, его нашли в соломе возле кобылы, в обнимку с новорожденным жеребенком… Он хотел сесть на него верхом; а когда оба младенца упали — лошадь наклонилась и стала облизывать обоих. Видно, сказала его мать, что в нем кровь Посейдона… Когда я на другую весну собрался на Крит — расставаться было тяжело.
На великом острове снова цвела жизнь, как это всегда бывает пока продолжают жить люди… И если держаться в стороне от разрушенных крепостей (некоторые из них я сам спалил во время войны), то трудно было заметить следы прошедших бедствий. Поля были вспаханы, зеленели виноградники, у разрушенных стен цвели миндальные рощи… Строились новые дома — не такие роскошные, как прежде, но светлые и уютные… Гончары — те, что остались, — снова взялись за свое ремесло и даже изобрели новую моду; на этот раз на птиц.
Коренные критяне приветствовали меня так же шумно, как в день восстания, когда я повел их на Лабиринт. Их радовало, что я устраиваю свой брачный пир здесь, среди них, — как их собственный царь, не как захватчик… Иные из эллинских дворян, получивших здесь власть от меня, — те, что обнаглели в мое отсутствие и начали притеснять народ, — эти были не так довольны. Самым лучшим, самым надежным из моих можно было доверять и сейчас, — но я хорошо сделал, что выбрался сюда: откладывать на больший срок было бы опасно. Покончив с самыми срочными делами, я поехал в дом Девкалиона: встретить свою нареченную.
Что бы он ни думал, — но приветствовал меня чрезвычайно учтиво. После моей женитьбы его трон будет еще больше зависеть от меня, он это знал; он и был-то царем лишь по названию, — а сейчас почти ничего не останется, — но он дорожил этой видимостью или, быть может, жена его?.. Она выплыла ко мне, окутанная драгоценным платьем и облаком египетских духов, покривлялась немножко и, играя томными глазами, удалилась за принцессой. Всё это долгое время я представлял себе ребенка, — девочку, влюбленную в бычьего плясуна, — ту, что улыбалась сквозь слезы, в детской, разрисованной цветами и обезьянами… Теперь ко мне выводили за руки маленькую критскую даму, точь-в-точь как на портрете. Ее волосы потемнели и были завиты прядями, которые змеились с головы… Брови и ресницы зачернены, веки окрашены ляписной пастой, груди напудрены толченым кораллом; открытый корсаж плотно облегал тело над тугим золотым поясом, а длинная юбка с семью оборками открывала лишь кончики пальцев…
Она опустила глаза, маленькими тонкими пальцами коснулась лба… Когда я взял ее за руку — эти пальцы не дрогнули. Я поцеловал ее в губы, — это принято на Крите, — губы были свежими и теплыми под помадой; но так же неподвижны.
Весь день тянулись брачные церемонии: жертвоприношения в храмах, подарки родне, поездка в позолоченной карете перед закатом… А вечером был пир — яркий и жаркий, как полдень, из-за тысячи ламп с ароматным маслом, горевших на крашеных подставках… С песнями женщины повели ее в брачный покой и делали там что-то, на что у женщин всегда уходит не меньше часа; потом юноши с факелам, и тоже с песнями, отвели меня к ней… Потом эти толпы ушли, двери закрылись, лампы были притушены — наступила неожиданная тишина; только нежные звуки арф доносились из-за дверей.
Я лег рядом с ней, взял ее за подбородок и повернул к себе ее лицо. Она смотрела вверх молчаливыми темными глазами… С нее сняли дневной грим и наложили ночной; цвета были мягче, но все-таки прятали ее лицо.
— Посмотри, Федра, — показал ей старый шрам на груди. — На мне осталась отметина Бычьего Двора. А ты помнишь, как тебе сказали, что я убит?
— Нет, сын Эгея.
Она ответила чопорно, будто мы были в приемном зале, и хотела, чтобы глаза ее при этом ничего не выражали… Но она была молода, и они сказали мне много: и то, что она дочь Миноса, и то что она все знает.
— Я всё тот же Тезей, — сказал я. — Я обещал тебе тогда, что если быки меня не убьют, я стану царем — и вернусь, чтобы жениться на тебе… И вот я здесь. Но судьба никогда не приходит такой, как ждут ее люди; чего только нам не пришлось пережить с тех пор — война, восстание, землетрясение, и еще много всего, что посылает жизнь людям… Но я никогда не забывал, как ты оплакивала меня.
Она не ответила. Но я перестал бы себя уважать, если бы пролежал всю ночь с женщиной, не сумев ее разогреть. Еще не было сына или дочери в Доме Миноса, в ком не горел бы огонь Гелиоса, от которого они ведут свой род… И я служил своему государству… Если бы я не слишком старался исправить наши отношения и оставил бы тот огонь неразбуженным, — быть может, изменился бы облик грядущего… Но мне было жаль ее: ведь судьба над ней властвовала, как и надо мной; и потом, это у меня в крови — добиваться победы в этом, как и во всем остальном… И никому не уйти от предначертанной судьбы, с первого дня жизни мы связаны своей нитью.
Дни мои были заполнены делами, много всего накопилось за эти годы… Когда я встречал ее, она была спокойна и сдержанна; с превосходными манерами, каким обучают на Крите благородных дам и которые одинаковы для всех окружающих… Она редко поднимала на меня глаза, при свете дня мы не говорили о ночах и не обменивались тайными знаками любовников… Но у ночи свои законы; и когда настало время уезжать — мне было бы грустнопокидать ее, если бы я не возвращался домой.
7
Эллинские земли были в порядке. Чтобы народу не было обидно, что свадебные празднества прошли мимо него, я превратил в великий праздник Истмийские Игры, которым подошел срок в то время. Этот праздник я посвятил Посейдону, принеся ему в жертву черных быков, и объявил, что отныне он должен проводиться каждый второй год и учреждается навсегда. Так что я дал им зрелище, не связав его со своей свадьбой: это было бы оскорбительно для Ипполиты и нашего сына.
Мы с ней очень гордились тем, что он ничего не боится; но когда он чуть подрос — его бесстрашие даже нас лишало покоя. В пять лет он выскользнул из Дворца и отправился лазать по отвесным скалам под ним. В шесть — утащил рысенка из логова в расщелине; а когда услышал жалобный вой и плач матери — полез вниз, чтобы отнести его обратно. Счастье, что кто-то поймал его и спас от верной смерти. А когда рысенок умер, он плакал безутешно; хоть мог разбиться в сплошной синяк, не проронив и слезинки.
Вскоре после того его не нашли, когда пора было идти спать. Поначалу нянька пыталась скрыть это от матери, а та — от меня… Когда стало совсем поздно, я поднял гвардию и послал их обшарить Скалу. При луне было светло как днем, но они не нашли и следа. Ипполита расхаживала, скрестив руки на груди, ухватившись за свою косу, и шептала лунные заклинания Понта… Вдруг, взглянув вверх, она схватила меня за руку и показала: малыш был там, на крыше Дворца. Сидел между двумя зубцами, свесив ноги над пропастью и подняв лицо к небу, неподвижный как камень. Мы вбежали наверх, но там остановились, боясь напугать его; Ипполита сделала мне знак молчать и тихонько свистнула. При этом звуке он сдвинулся внутрь и пошел к нам удивительно легкой походкой, словно ничего не весил, как во сне… Страх во мне сменился гневом, но в той тишине я не мог повысить голоса, глядя на его спокойное лицо и широко распахнутые глаза. А он посмотрел на нас обоих и говорит:
— Ну что с вами? Мне ничто не грозило, я был с Владычицей.
Я дал матери увести его, она его понимала лучше… Но кое-кто из дворцовой челяди поднялся за нами на крышу, они слышали, — и начали расползаться слухи, что мальчика учат ставить Богиню превыше богов.
Очень неподходящее время было для таких слухов: у Федры родился сын.
Я ездил на Крит посмотреть на него. Крошечный, очень живой малыш с копной черных волос, которые — няньки сказали мне — со временем выпадут… Пока что они делали его до невозможности критянином. Федра была довольна и им, и собой и казалась более удовлетворенной… Но мне теперь добавилось, о чем подумать. Мы назвали его Акамом; это было старинное царское имя, и было очевидно, что он должен унаследовать трон на Крите. Но материковые царства я уже отдал, в душе, Ипполиту, даже если это означало раздел империи.
Я был уверен, что люди в конце концов примут его с большей охотой, чем чужеземца, если только он хоть чуть-чуть постарается понравиться им. Он выглядел безупречным эллином, уже шла молва о его храбрости, а на своей маленькой кентаврской лошадке он сидел не хуже мальчишек Старины… О делах он ничего еще не знал и еще меньше ими интересовался; но у него было собственное чутье во всем, касавшемся взрослых, и лжеца он определял сразу, хоть не понимал самой лжи; я знал, что надо быть настороже со всяким, кто ему не нравится… Однако на него часто находила, как облако, эта его непонятная странность.
Однажды ночью я заговорил с его матерью:
— Конечно, он должен чтить Артемиду, — говорю. — Я бы даже сердился на него иначе, ведь он твой сын… Но перед народом мы должны следить, чтобы он отдавал ей не больше, чем должно, и проявлял почтение к Олимпийцам. Ты же знаешь, что от этого зависит.
— Тезей, — сказала она, — я знаю, что говорят люди: что я учу его тайному культу. Но ведь ты знаешь лучше их, что Таинство — оно не для мужчин. Что бы ни было в нем — это его собственное…
— Все дети рассказывают себе сказки. Надеюсь, он из этого вырастет, но это меня тревожит…
— Вот я когда была маленькой — придумывала себе подружку для игры… Но я была одинока. А он, когда совсем один, может петь от радости, ему хорошо; и дружит со всеми, везде… Но потом начинается это — и с него как будто спадает всё. Я видела, как это начинается: он долго смотрит на что-нибудь: на цветок, на птицу, на огонь… Как будто душа его уходит из тела на чей-то зов.
Я сделал в темноте знак против дурного глаза.
— Так это колдовство? Нам надо его обнаружить!..
— Если б колдовство — он бы чах у нас, болел… А он сильнее и выше всех своих сверстников. Я тебе уже говорила — с ним бог.
— Он сказал «Владычица». А ты — жрица. Можешь ты получить знамение, какой-нибудь знак?..
— Я была девой, Тезей. Теперь она не станет говорить со мной. Иногда во время танца приходило Видение, — но это осталось на Девичьем Утесе.
Вскоре после того разговора я услышал какое-то смятение за стенами Дворца, но приглушенное, словно люди старались говорить потише. Послал узнать в чем дело… Вошел один из дворцовых старейшин и привел с собой слугу жреца, из храма Зевса. У того кровоточила порезанная рука. Мой придворный состроил грустную мину, — но глаза у него были очень довольные, когда он объяснял мне, что это сделал мой сын. Мальчик, как видно, нашел козленка, привязанного для жертвы, и начал его ласкать. Когда человек пришел, чтобы вести козленка к алтарю, малыш стал защищать его. Слуга выполнял свой долг — иначе он не мог — и стал отбирать козленка силой; тогда Ипполит в ярости выхватил свой игрушечный кинжал и напал на него. «Какое счастье, — он говорил это, словно смаковал, — какое счастье, что это был всего лишь слуга, а не сам жрец!»
Да, хорошо, что не жрец. Конечно, это была мелочь, — но все же святотатство; и все это знали. Всякое святотатство может навлечь беду; но оскорбить Царя Зевса — хуже он ничего не мог бы натворить. Я должен был наказать его публично не только ради почтения к богу, но и ради безопасности его матери.
Он вошел весь красный, взъерошенный, еще со слезами ярости на глазах… но, увидев меня, немного успокоился. Я сказал, должно быть стыдно бить слугу, который ничего не может ему сделать… Наверно, лучше было бы начать с Царя Зевса; но, впрочем, он сам же требует, чтобы цари были порядочными людьми. Малый понял меня, это было видно. Но ответил так:
— Да, отец, я знаю. Но ведь козленок тоже ничего не мог сделать. Как же с ним?
— Но это же животное!.. Без знания, без понятия смерти… И ради него ты грабишь Царя Небес?
Малыш посмотрел на меня материнскими глазами.
— Он знал. Он смотрел на меня.
Ради него самого я не мог быть мягок.
— Ипполит, — говорю. — Ты прожил семь лет, и за все это время я ни разу не поднял на тебя руку. Потому что люблю тебя. И потому же, что я тебя люблю, теперь я тебя побью. — Он не испугался, но изучал мое лицо, стараясь понять. — Ты рассердил бога — кто-то должен за это пострадать. Будешь это ты, виновный, или ты предпочтешь уйти свободно, чтобы он проклял наш народ?
— Если кто-то должен быть наказан — пусть это буду я.
Я кивнул.
— Молодец, — говорю…
— Но почему Зевс проклянет людей, раз они ничего не сделали плохого? Ты так не стал бы.
Неожиданно для себя я ответил ему, как взрослому.
— Я не знаю, — говорю. — Такова природа Необходимости. Я видел, как Посейдон, Сотрясатель Земли, сокрушил Лабиринт, истребив правых вместе с виноватыми… Законы богов выше нашего понимания. Люди — всего лишь люди. Иди сюда, давай покончим с этим.
Мне было тяжко, но я знал — должен. Я должен был показать всем, что я справедлив.
Он ни разу не ойкнул. Когда всё было позади, я сказал:
— Ты перенес это по-царски, и Царю Зевсу это понравится. Но не забывай об этом и почитай богов.
Он сглотнул и сказал:
— Теперь он уже не поразит народ, — значит, мне можно взять козленка?
Я сдержался и отослал его к матери. Конечно же, целый месяц только об этом и говорили, не забыли этого случая и потом… Она была слугой Артемиды, — а Артемида любит молодых зверят, — потому это был подарок ее врагам, которые по большей части были моими врагами. Она была их оружием в борьбе против меня. Эти престарелые владыки, которых я ограничил в их власти над крепостными и рабами, — они ненавидели перемены, они завидовали новым пришельцам из Бычьего Двора: их юности, веселью, их непривычному жизненному укладу… А те со своей стороны скоро почувствовали это — ребята были умные — и дали понять, что они на стороне амазонки. Так что теперь — вместо личного соперничества прежних времен, — теперь во Дворце возникла борьба двух партий.
Я знал, что Ипполите все время приходится иметь дело с тайными подвохами: так ведут себя те, кто не решается на открытую вражду. Теперь речь шла не о рабынях, от которых можно избавиться в любой момент, — зато и она ничего от меня теперь не скрывала. Она уже не была той прежней дикаркой, разбиралась во всех делах не хуже любого мужчины — и была озабочена ими, ради меня и ради нашего сына.
За ней посылали шпионов, когда она ездила в горы, в надежде выследить ее тайные обряды… Это я предполагаю. А что пытались использовать малыша — это знаю наверняка: не понимая, что это значило, он бесхитростно рассказывал нам, кто о чем его расспрашивал… Хотя его матери нечего было скрывать, в его невинности таилась опасность: ее друзья любили посмеяться и могли в шутку сказать что-нибудь такое, что в серьезной трактовке могло бы звучать совсем по-другому… Да и его собственные причуды могли быть извращены коварными устами… Но я не стал предупреждать его. Он был чист как вода, и всякая перемена в нем была бы заметна и возбудила бы лишние подозрения; я больше верил в его собственное нежелание говорить с людьми, которые ему не нравились.
Как ни был я зол — я был вдвойне осторожен, разбираясь с этими людьми: надо было уберечь ее от нападок, но при этом никого из них ни в чем не обвинить. Меня тошнило от этого, — я привык сражаться лицом к лицу при ясном свете дня, — но с севера сочились слухи. В основном искаженные, глупые, однако за ними ощущалась грозная правда… А когда надвигается шторм — не время разгонять команду.
И скоро стало ясно, что он действительно надвигается. Пириф прислал ко мне не кого-нибудь, а брата своей жены; письмо, скрепленное царской печатью, он отдал мне, когда мы остались одни. Оно гласило: «Черные Плащи повернули прямо на юг. Племена к востоку от Эвксина пришли в движение. Они идут к Геллеспонту, и я не думаю, что проливы смогут их задержать. Если так — они будут во Фракии в этом году. Не рассчитывай, что зима их задержит, голод и холод могут погнать их быстрее. Остальное Каун тебе расскажет».
Я повернулся к лапифу. Он ждал этого и сразу ответил:
— Пириф решил, что этого лучше не писать. Предупреди свою госпожу, что вместе со своими мужчинами идут воительницы Сарматии, которые служат Богине, и что их ведут Лунные Девы.
8
Я ничего не стал говорить ей, думал, у нас еще хватит времени для тревог. Сказал, как и всем остальным, что Каун путешествует — и вот заехал по пути в гости… Но едва мы легли в тот вечер: «Говори, что случилось?» Она всегда чуяла мои мысли и вытянула из меня все.
Когда я рассказал, она долго лежала молча, потом сказала:
— Наверно, опять появилась длинноволосая звезда.
— Как? — спрашиваю. — Разве Лунные Девы уходили от своих святилищ?
— Говорят так. Говорят, что очень давно — с тех пор дубы успели вырасти и умереть — народ Понта жил за горами, на берегу другого моря. Потом появилась эта звезда с огненными волосами, которые струились через все небо, и потянула все народы, как приливную волну. Жрицы той поры прочли знамения и увидели, что их страну нельзя отстоять от киммерийских орд; тогда они ушли оттуда с нашим народом, сражаясь впереди всех. А когда дошли до Понта — часть звезды упала на землю. Потому они взяли ее, ту землю, и удержали ее.
Я вспомнил тот громовой камень, но она не хотела говорить с мужчиной об этих священных тайнах, даже со мной.
— Перейти Геллеспонт целому народу — это не шутка, — сказал я. — Потом перед ними будет Фракия — обширная страна, полная свирепых воинов… Где-то к северу от Олимпа их остановят, мы их вообще не увидим.
Она молчала, — но лежала слишком легко для спящей; а я чувствовал ее сокровенные мысли так же, как она мои.
— Что с тобой? — спрашиваю. — Чего ты боишься, тигренок?.. Я люблю тебя, твоя честь для меня — как моя; я никогда не позову тебя биться с твоими прежними товарищами, даже если они пойдут на штурм Скалы. Если дойдет до этого, придет твое время стать женщиной: ты будешь с ребенком, или заболеешь, или получишь знамение не принимать участия в битве, ни на одной из сторон… Оставь это всё мне.
Она прильнула ко мне:
— Ты думаешь, я смогу глядеть на тебя со стены и не спрыгнуть вниз? Ты же знаешь: мы — это мы.
При свете звезд я видел ее глаза, горевшие как в лихорадке. Я погладил ее, сказал, чтоб успокоилась, этого никогда, мол, не случится… Наконец она заснула, но вздрагивала, вздыхала во сне и вдруг — в сонном полуудушье — издала боевой клич Лунных Дев, как я его запомнил с Девичьего Утеса. Я разбудил ее — и ласкал, пока не уснула снова… Но на другой день, не сказав ей ничего, послал в Дельфы: спросить у бога, что делать.
Тем временем народ во Дворце всё ссорился, а малыш всё рос. Он мог ускакать в горы и потерять там своего конюха; а потом его находили на вершине или возле ручья — он разговаривал сам с собой или пристально глядел в одну точку… Однако в нем не было признаков безумия: он отлично, быстро соображал, — а писал и считал, сказать по правде, лучше меня, — и ничего не вытворял после той истории с козленком, и был мягок со всеми окружающими… Но однажды один из придворных подошел ко мне и, притворяясь, что узнал об этом случайно, рассказал: мальчик сделал себе святилище Богини в пещере среди скал.
Я отшутился как-то, но когда упали сумерки, — сам полез вниз, посмотреть. Тропа была крута и опасна — для горных коз тропа, а не для людей, — но я наконец добрался до маленькой площадки, обращенной к морю, на которую выходило устье пещеры, приваленное камнями. Там на Скале был высечен глаз. Настолько он был древний, так стерся, — я его едва разглядел. Святилище было давно покинуто, но на каменистой площадке перед ним лежали цветы, ракушки и яркие камушки.
Я ничего не сказал мальчику, но спросил у его матери, знает ли она, — она покачала головой. Позже, сумев поговорить с ним, она сказала мне:
— Тезей, он даже не видел знака; ты сам говоришь, он стерся. Он, оказывается, даже не знает, что значит этот глаз. И откуда бы ему знать? — это женское дело… Однако, он говорит, что Владычица приходит туда…
Меня зазнобило. Но я улыбнулся и говорю:
— Он видит богов в твоем обличье, вот и всё. Мне ли порицать его за это?..
Мне хотелось ее успокоить, ей и так доставалось от зависти дворянства и невежества крестьян.
Вскоре дошли до нас новости с севера. За Геллеспонтом шли яростные войны, и люди там заперлись в крепостях.
Рассказывали, что они выжгли свои нивы, не успев собрать урожай, — и сами остались на всю зиму, как птицы, — лишь бы изгнать орду со своих земель. И без оракулов было ясно, к чему это приведет… Но вернулся и мой посол из Дельф, увенчанный гирляндой добрых вестей: бог сказал, что Скала падет не раньше, чем отживет столько же поколений, сколько было до сих пор. Буря разобьется об нее, но стихнет лишь после назначенной жертвы… Посол спросил, что это за жертва; но оракул ответил, что божество, которое ее требует, — само и выберет.
Я обдумал это… На другой день мне привели в крепость по нескольку всех животных, угодных богам, и я бросил жребий среди них. Жребий пал на козу, и я принес ее в жертву Артемиде; так что предсказание как будто было выполнено — но скотина пыталась удрать с алтаря, дралась за жизнь… Это худо, когда жертва не идет добровольно, но я сделал, что было предписано.
В тот год осень была ранняя и холодная. Я послал на Аргос три корабля за зерном и спрятал его в подвалах под Скалой… И предупредил всех, чтобы не устраивали пышных пиров в честь урожая, а берегли продовольствие. Слухи были повсюду, было уже слишком поздно для молчания: от него всем стало бы еще страшней.
А через месяц после самой длинной ночи пришла весть, что орда перешла Геллеспонт. Они это сделали без кораблей; сама зима построила им мост: в большие морозы из Эвксина приплыли громадные глыбы льда, забили узкие места и смерзлись в проливах. Они перешли, не замочив ног, — за одну ночь и день, — и теперь опустошали Фракию, словно голодные волки.
Стало ясно, что они дойдут и до Аттики. Я созвал вождей на совет и приказал, чтобы все крепости были обеспечены продовольствием и оружием. Урожай, по счастью, был хороший. На Эвбее, где проливы служили защитой, по моему приказу построили лагерь для женщин, детей и стариков, — и громадные загоны для скота… Морозы миновали, на фиговых деревьях уже появились первые твердые почки — в это время можно было не опасаться льда. Если у кого было золото, я позволил сдать его на хранение на Скале и проследил, чтобы все получили соответствующие бирки… Потом принес жертвы Посейдону и Афине — богам Города — и всем мертвым царям на их могилах… Помня Эдипа и его благословение, я съездил и в Колон и ему отвез подарок… Все дела были сделаны — осталось только ждать.
Всю зиму орда продвигалась на юг, выедая деревни и хутора. Несколько мелких крепостей пало; но крупные, где собралось много народу с припасами, — те держались, так что орде нечем было поживиться. Они жили на колосках, на диких кореньях, на дичи; ели старых лошадей и больной скот, который не стоило беречь; и лишь иногда удавалось им разграбить одинокий хутор, потом они его сжигали. Когда они дошли до Фессалии — Пириф известил меня, прежде чем закрылись ворота его крепостей. Я знал теперь, что скоро наша очередь.
Итак, на Эвбею был переправлен скот со всей Аттики, а затем и всё население, неспособное сражаться. Это был день плача. Чтобы внушить людям надежду, я принес жертвы Гере, Богине Очага. Но Ипполита я туда не послал. Не хотел выпускать его из-под надзора — туда, где этим могли воспользоваться враги его матери. Я послал его за море в другую страну: в Трезену, к Питфею, деду моему. Он и моя мать поймут его, если на это вообще кто-нибудь способен; и он там будет в безопасности — как был я, когда мой отец воевал за царство… Сначала он прощался с матерью, уже потом со мной. Он был тих и бледен, но не просился остаться; я догадался, что это уже было — при прощании с ней… Под конец он даже ухитрился улыбнуться. Каждый должен улыбаться воину перед битвой, но не каждый может; так что в нем уже были видны задатки царя… Однако он был слишком мал, чтобы можно было сказать ему, что ему я оставлю эту страну — если погибну — и что ему придется драться за нее. Старик в Трезене знал мои мечты; но он, наверно, совсем уже сдал, ему недолго оставаться на земле… Так что богам поручил я сына — и долго смотрел на его яркую светлую голову в ярком солнечном свете, пока корабль не отошел так далеко, что ее уже было не различить.
Теперь свежие новости доходили до нас каждый день, вместе с беженцами. Они приходили через перевалы Парнаса, с детишками на спинах, полумертвые от холода в горах, с почерневшими пальцами, которые отгнивали с ног… Я отсылал их на Эвбею или в Суний, а над перевалами выставил наблюдательные посты с огромными сигнальными кострами, которые можно было поджечь в любой момент. Я понимал, что Аттика для орды — это Край Земли. До сих пор им приходилось драться лишь за сегодняшнюю жратву, — не взяли город — не надо, дальше пошли, — а здесь дальше идти некуда, здесь они будут драться за жизнь.
Беженцы рассказывали свои сказки; люди слушали, насторожив от страха уши… И в каждом рассказе было хоть несколько слов о воительницах. О сарматских женщинах, каждая из которых должна иметь в своем свадебном приданом голову врага, убитого в бою ее рукой… И о ярко одетых Лунных Девах, заговоренных от страха и от оружия, которые наступают впереди всех… Всё это я слышал от просителей, когда расспрашивал их; мои люди никогда не говорили об этом при мне. И мы оба знали, что это значит.
Однажды утром Ипполита, поднявшись с постели, подошла к оружию на стене и стала одеваться в то платье, что носила, когда обучала свою гвардию.
Я вскочил, положил руку ей на плечо, чтобы ее остановить, — она покачала головой.
— Уже пора, на самом деле.
— Успокойся, тигренок, — говорю. — Я же просил тебя, оставь это мне. Я забираю твоих парней обратно в дворцовую стражу, ты за них больше не отвечаешь.
А она как-то осунулась и слишком светлая стала, будто у нее огонь горит внутри… Посмотрела мне в лицо и говорит:
— Тебе никто не сказал?.. Значит мне придется, раз боятся все. Дворяне распустили слух, что Девы идут ради меня; чтобы отомстить за оскорбление, которое ты мне нанес, женившись на критянке. И будто бы я их вызвала.
Не замечая что делаю, я взял у нее из рук один из дротиков, а потом гляжу — сломал его. Пополам. А она и говорит:
— Любимый мой, вот твое собственное знамение. Вот с таким поломанным оружием придется тебе вступить в битву, если ты сейчас, в сердцах, разделишь вождей и воинов. Ничего нельзя сделать, Тезей. Афиняне поверят лишь тому, что увидят… Я должна сама за себя отвечать, и никто другой этого сделать не может.
— Когда мы впервые встретились, ты назвала меня пиратом. Так чем же я для тебя лучше пирата, если дошло до этого?!
— Молчи, — говорит, — это всё слова. — Поцеловала меня… — Здесь Судьба и Необходимость. И они вроде нас с тобой: они — это они.
Вышла, вызвала свою гвардию… Говорила с ними о грядущем испытании, взывала к их доблести… Потом дала им задание: метать в цель. Юноши запели ей пеан, дворянская клика выглядела уныло… На самом деле, она управилась с этим в два счета, — а я бы… — я бы вообще не смог!.. И потом была веселая, радостная… Это всех остальных обманывало; меня — нет.
В ту ночь наша любовь вновь вспыхнула так же ярко, как на Эвксине. Но в тишине после того, когда сердце говорит всё что знает, она сказала:
— А что, если они меня не напрасно обвинили? Быть может, на самом деле я навлекла всё это на твою страну?
Я постарался угомонить ее. Есть такие вещи, о которых лучше молчать, иначе даешь им силу… Но она все равно прошептала:
— То, что я отдала тебе, Тезей, я до того обещала Деве. Поклялась. Ты догадывался?
— Да… Но какой-то бог был в нас — что мы могли сделать?
— Наверно, ничего… Если два бога бьются из-за нас — это наша судьба. Но побежденный будет рассержен, а он ведь — бог…
— Победитель — тоже бог. Давай будем верить в защиту сильнейшего…
— Не в этом дело, Тезей. Просто будем хранить верность. Кто же выбирает на поле боя, на какой стороне сражаться?.. Мы говорили, Девичий Утес далеко, а вот он пришел и нашел нас…
— Спи, тигренок. Завтра много дел.
Я не ошибся. Еще не поблекли звезды, когда взметнулось пламя костров на Парнасе, а к рассвету сигнальные дымы поднялись и на наших горах.
Два дня ушло у них на то, чтобы спуститься с перевалов. Мои дозорные изводили их, завывая на вершинах и скатывая на них валуны; на большее я не мог размахнуться, надо было беречь людей… И вот мы увидели со стен темный поток, выливавшийся на равнину, словно воды размывшие дамбу. Я не вышел в поле им навстречу, нас было слишком мало. Элевсинцам надо было защищать свои крепости, мегарцы закрывали Истмийский перешеек… Но даже если бы мы все вместе вышли на равнину — они бы нас смели.
Я верил в Скалу, как верили мои предки с незапамятных времен. Ну будет осада — мы ее выдержим… В эти ранние месяцы в полях не было ничего, они не могли окружить нас и спокойно ждать. Это мы будем сидеть и ждать, пока их одолеет голод, — а им без боя не достанется ни крошки… Хутора мы вычистили под метелочку, замки были хорошо снабжены и имели сильные гарнизоны… Я рассчитывал, что голод и безуспешные попытки штурма крепостей понемногу подточат их силы; а когда они ослабнут и рассеются по стране — вот тогда наступит мой час.
Когда они подошли, я увидел, что они гонят с собой стада. Но скот отощал за зиму, его надолго не хватит, и больше им рассчитывать не на что… А у нас — ячмень, сыр, сушеный виноград, оливковое масло и вино, — мы могли жить припеваючи.
Элевсинцы отослали свой скот и лишние рты на Саламин. Туда же ушли и мои корабли. У нас были условлены сигналы, — дымы днем, огни по ночам, — они знали, что должны сделать по моему плану, когда придет время.
Движущаяся масса разливалась по равнине под нами. Медленно двигался скот… Воины впереди и по сторонам — верховые и на колесницах — не имели строя, а свободно двигались вокруг подступавшей орды. Я вспомнил древние предания, как наши собственные предки пришли вот так же, с севера. Наверно, точно так же они смотрели на береговой народ, собравшийся тогда на Скале и глазевший на них сверху… Те не смогли удержать Скалу. Интересно, как ее взяли: штурмом или чьим-то предательством?.. Я позвал трубача и сказал: «Зажигай костры!»
Он протрубил сигнал; и из домов под нами, вне стен, появились тонкие струйки дыма. Скоро сквозь них прорвались языки пламени: внутри дома были завалены хворостом… Я специально отложил это зрелище до подхода неприятеля, чтобы испортить им настроение. Вскоре на Скале стало жарко как летом; мы кашляли от дыма; бойцы, чьи дома горели внизу, мрачно улыбались… Факельщики быстро поднимались к нам… Потом ворота закрыли и привалили громадными жерновами. Скала была запечатана.
Теперь, после всех трудов и спешки, наступила передышка. Дым исчез, вокруг бушевало пламя; дальние холмы, казалось, ожили и плясали в воздухе, рвавшемся ввысь; не было слышно ничего, кроме рева огня да громкого треска горящих бревен. Пожар бушевал всю ночь; часовые ничего не видели позади этой стены огня. Но на рассвете орда была уже в движении, и к полудню авангард подошел к Скале; а вскоре вся равнина между нами и гаванью казалась покрытой полчищами муравьев. Было видно, что их ведут воины: они заняли холмы перед Скалой и сразу начали укреплять их стенами.
Ипполита стояла на крыше Дворца рядом со мной. Глаза у нее были не хуже моих… Издали, когда не видишь орнамента, одежда скифов кажется темной, так что даже от нас нельзя было не заметить яркие пятна, мелькавшие впереди, — алые, шафрановые, пурпурные, — то были Лунные Девы. Она мне говорила когда-то, что их командиры носят свои цвета, по которым их узнают… Я повернулся к ней — она смотрела на меня. Постояла так, потом сказала:
— Я не видела там никого, кроме твоих врагов. Пойдем спустимся к людям.
Так началась осада. Они заняли все холмы: Пникс, где я собирал народ на ассамблеи, Холм Аполлона и Муз, Холм Нимф, — все, кроме Холма Ареса, что расположен против ворот. Он слишком близко, и мои критские лучники доставали его. Однажды безлунной ночью они забрались и туда, и успели построить укрытие; с тех пор к нам залетали шальные стрелы; но нам сверху было легко подавлять их, так что по-настоящему они там так и не закрепились.
Хуже всего было по ночам: казалось, на равнине не меньше костров, чем звезд на небе. Но во время своих ночных обходов я говорил своим людям на стенах, что большая часть этих костров принадлежит не воинам, а прочему люду, что у этих костров они съедают свои скудные запасы… Я всегда обходил стены в мертвый час ночи; в дождь и в снег, невзирая на усталость… Отчасти чтобы проверить надежность стражи, но и для того, чтобы женатый народ не завидовал мне: ведь, кроме жрицы, моя женщина была единственной на Скале… Часто она делила со мной этот круг. Она знала по имени каждого, так же, как я… Теперь старики, ненавидевшие ее больше всех, были на Эвбее вместе с женщинами; борьба партий сошла на нет, а подступившая опасность сплотила всех… Доблесть, стойкость и звонкий смех ценились у нас тогда превыше всего — ее просто не могли не любить.
А однажды утром — уже было светло — нашли стрелу, залетевшую с Холма Ареса. У нее был серповидный наконечник, — такие бывают для колдовства, — и она была обмотана письмом на ткани. Никто не мог прочитать этот язык, и его принесли мне. Ипполита взяла его из моих рук и сказала: «Я могу прочесть».
Стала читать…. Лицо было неподвижно, — но казалось, это письмо высосало из нее всю кровь, так она побелела. Потом помолчала, недолго, и сказала — мне сказала, но громко, так чтобы слышали бойцы, стоявшие вокруг:
— Это мне. Я была когда-то Лунной Девой, и поэтому они предлагают мне впустить их через черный ход.
Я стоял совсем рядом — только я заметил, что она дрожит. А она продолжала уже ко всем:
— Если будут еще — мне они не нужны. Отдавайте их царю.
Они тихо заговорили меж собой, но я слышал, что хвалят ее. И вдруг Менестей — жадно так, словно боялся, что его опередят: «А они назначили сигнал? Или ночь?»
Вот тогда я впервые пожалел, что не прикончил его вместе со всем его родом. Он ни с кем не считался, кроме себя, и только себя видел во всем; у таких людей даже добрые намерения оборачиваются мерзостью.
Я взял у нее письмо, изорвал его в клочки и пустил по ветру.
— Ее честь — это моя честь, — говорю. — Ты думаешь, разыграть предательство и заманить прежних товарищей в ловушку — достойно воина?.. Если кто-нибудь здесь готов на это — я не доверил бы ему в бою свою спину… — И гляжу ему в глаза. Он покраснел и ушел.
Когда мы остались вдвоем, она сказала:
— Они бы всё равно догадались. Сказать правду было лучше.
— Да, тигренок. Но теперь говори всё. Чем они угрожают тебе, если ты откажешься?
— О!.. Они упрекают меня за то, что осталась жить, утратив девственность… И говорят, что Богиня простит меня, если я предам крепость, потому что ты взял меня против моей воли…
Она улыбнулась. Но когда я обнял ее, то ощутил на своей щеке слезы, — они капали в тишине, как кровь, — и понял, что они ее прокляли. И проклятию было недалеко лететь… Холод и слабость разлились по всему телу, будто меня прокляли вместе с ней… Но проклятия питаются страхом, — я часто это видел, — потому я постарался сделать веселое лицо и говорю:
— Аполлон его снимет. Он может очистить человека даже от крови его родной матери; а уж это для него — проще простого! И потом, он родной брат Артемиды, она должна его слушать… Однажды он сам забрал девушку у нее, и она родила от него сына, и их сын основал город… Вот увидишь, он будет твоим другом. Собирайся, мы пойдем в его святилище вместе.
Она согласилась; но кто-то из офицеров пришел ко мне по делу, и пока я был занят она выскользнула туда одна. А когда вернулась, то была спокойной и ясной: сказала, что бог явил знамение — он согласен отвратить проклятие… Я обрадовался — и перестал об этом думать.
Две ночи всё было спокойно. Я догадался, что они ждут назначенного часа для ее знака. На третью ночь они попытались взять стены.
Чуть раньше я специально отобрал людей, видевших в темноте лучше всех; и один-два из них были в каждой ночной вахте, но не имели своих постов, а обходили без передышки всю стену. Если бы не это — у них могло бы получиться: атаку вели искусные скалолазы, зачернившие себе лица и кисти рук… По тревоге мы швырнули вниз факелы и подожгли кустарник под стенами, а при этом свете уже могли целиться копьями, стрелами и камнями из пращей. Ипполита была возле меня на стене со своим тугим, коротким критским луком. Стреляла тщательно и спокойно, как по мишеням… С тех пор как пришло письмо, она изменилась; я чувствовал, что уже не рвется больше на две части. Когда внизу уносили убитых — смотрела на это спокойно и холодно, и пела победный пеан вместе с нашими людьми; а когда ушла со мной, то была нежна, хоть неразговорчива… В свете факела ее спокойное лицо напомнило мне лицо нашего сына.
Время шло… Мы видели, что стада на равнине тают, а отряды скифов расходятся по стране вокруг. Они редко приводили с собой назад крупный скот, — больше коз, — а иногда и людей приходило меньше. Тогда из какого-нибудь замка, который еще удерживали хозяева, — на Гиметтах или в стороне Элевсина, — поднимался столб дыма, сообщая что они отбились; а если дым шел двумя столбами, было ясно, что перебили много врагов. Но однажды на Кифероне вместо сигнального дыма поднялось громадное черное облако, и больше мы ничего там не видели с тех пор. Это была прежняя крепость Прокруста; а с такой толпой разгневанных духов, как там, конечно, нечего ждать удачи. В тот раз их отряд вернулся с богатой добычей, и мы слышали ликование в их лагере; но запасы в крепости были рассчитаны на гарнизон, а не на целое племя… Вскоре они начали уходить в рейды всё дальше и дальше.
Еще дважды они пытались взять Скалу ночным штурмом. А на седьмой день после того, рано утром, мы увидели, как орда собирается в кучу и пухнет, словно тесто на дрожжах, — и поняли, что они решили попытать счастья при свете дня.
Они повалили на нас одновременно с юга и с запада. Несли лестницы и сосновые стволы с зарубками, чтобы взбираться на стены, не останавливались над убитыми, а продолжали наступать через тела… Когда они уже были рядом, я закричал: «Нам надо выстоять сегодня — и мы победим! Это девятый вал! Они в отчаянии, у них не хватит духу пробовать снова… Посейдон Синевласый! Паллада Афина, Владычица Замка! Спасайте свои алтари! Помогите нам в этот час!»
К этому времени вдоль всей стены у меня были сложены буквально горы камней: галька для пращей, удобные камни бросать рукой и крупные валуны, с рычагами и вагами возле них, готовые скатиться вниз… Мы не трогали их, пока склоны под нами не были забиты людьми. А вот тогда — начали. Оружие мы берегли для рукопашного боя.
В этом бою мы впервые смогли рассмотреть их воинов. Скифов в плащах из бараньих шкур, в свободных штанах, обвязанных на лодыжке, в кожаных шлемах, закрывавших шею и часть спины; сарматов, которые шли парами — мужчина и вроде бы юноша, но по пронзительному крику этих безбородых можно было узнать в них женщин… Они выглядели дико, — грязные и лохматые, — но когда одна из них сникла, а он склонился над ней, — я был рад отвернуться, чтоб не видеть их. И куда б ты ни глянул — всюду в первых рядах были Девы Богини. С луком и дротиком, стройные, быстрые, — яркие, словно бойцовые петухи, — они шли легким шагом, охваченные трансом битвы, и не чувствовали ни страха, ни ран, пока не падали замертво.
Позади наступавших стояли толпы людей, глядя с холмов. Теперь можно было отличить боевую силу от бесполезных ртов; оттуда, где я стоял, казалось, половина на половину. Большинство слабых — старики и малые дети, — те, очевидно, погибли во время зимнего перехода. Наблюдали в основном женщины, — только амазонки и сарматки принимали участие в бою, — но среди стад я увидел пастухов-мужчин и удивился, почему в такой день их не поручили мальчишкам. Но Ипполита объяснила:
— Это наверно рабы, из пленных. Скифы их ослепляют. Они и так обходятся — доят коров и делают сыр, — а убежать не могут…
— Тогда лучше нам победить, — говорю. — Зевс Милосердный — свидетель, я дал своим народам лучшие законы…
А новость эту передал людям на стенах, чтоб еще укрепить их решимость.
Волна осаждавших поднялась вторично, и я знал: если отобьем ее — худшее позади. Скала знавала много осад и штурмов; внизу в казематах я нашел громадные багры с бронзовыми крючьями, чтобы сбрасывать со стен лестницы и людей. Они сохранились от войн моих предков и теперь мелькали повсюду, делая свое дело. Боевые клики и предсмертные стоны слились в сплошной ужасающий рев; грохотали камни, выкашивая целые просеки в толпах кричащих людей; не попавшие в тело стрелы звенели, ударяясь о камень… Битва накатывалась на Скалу, словно бушующее море. Ипполита была возле меня на западной стене, где уклон подходит к воротам и крепость всего слабее. Здесь я поставил маленьких смуглых критских лучников, в их стеганых кожаных безрукавках, и эллинов-копьеметателей, высоких молодых людей, бравших призы на Играх. Я и сам неплохо бросал в тот день… Под уклоном внизу собралась толпа. Они готовились к атаке.
Их пеан был похож на волчий вой. Нестройная масса вытянулась в плотный поток, который пополз вверх по зигзагу прохода, словно рассерженная змея… И, как у змеи, у него было пятно на голове: там, впереди всех, шли амазонки, а перед ними шагала Лунная Дева в пурпуре, потрясая кривым топором царя.
Свистели стрелы и дротики, тела падали вниз на скалы с края уклона… Но девушка вбежала наверх легко, как на охоте, и, вскочив на скальный выступ возле тропы, закричала звонко и яростно. Язык был не таким чужим, как прежде, для меня.
— Ипполита!.. Ипполита!.. Где твоя вера?..
Ипполита шагнула вперед. Я просил ее поберечься, но она не слышала, и я прикрыл ее своим щитом. Она сложила ладони рупором и ответила:
— Она здесь! С моим мужем и моим царем! Здесь мой народ… — Говорила еще что-то, чего я дословно не понял, но голос ее просил: «Не надо меня ненавидеть! Я не могу иначе!»
Девушка замерла на миг; Ипполита тоже не двигалась в ожидании. Я чувствовал, если б она услышала хоть слово прощения, это принесло бы ей отраду. Пусть бы та сказала, ладно, мол, такова уж судьба… Но амазонка внизу закричала пронзительно, как кружащий орел:
— Вероломная шлюха!.. Твоего мужа сожрут псы, а народ твой склюют вороны, и когда ты увидишь всё это — мы сбросим тебя со скалы!..
Ипполита содрогнулась и охнула. Потом рот ее сжался, она оттолкнула мой щит и наложила стрелу на тетиву… Но я видел, как ей было больно, руки ее едва слушались, — и Царица Дев успела спрыгнуть в толпу. Куда она делась потом, я не заметил: слишком много было всего.
Они подошли к самим воротам, но в конце концов мы их развернули. Потери их были ужасны; они заколебались — и откатились обратно на равнину, как кипящая волна в море, оставив под стенами груды камней и мертвых тел. Наша радость была слишком глубока для криков или песен. Старые воины обнимали товарищей, стоявших рядом; люди, по отдельности, возносили молитвы своим родовым богам-хранителям и обещали благодарственные жертвы… Мы с Ипполитой обходили стены, взявшись за руки как дети на празднике, поздравляли и хвалили всех, кто попадался на пути… Мы слишком устали, чтоб говорить в ту ночь, и заснули друг с другом рядом, лишь только упали в постель. Но в полночь меня разбудили, как обычно, чтобы победа не сделала нас беззаботными. Это мы их должны захватить врасплох…
Я рассчитывал на три дня. В первый они будут зализывать раны — и ждать, что мы попытаемся развить успех и нападем на них. Сделай мы это — дорого бы нам обошлось. На второй день они начнут думать, что делать дальше, — и считать остатки припасов. На третий, — если только я что-нибудь понимаю, — половина из них уйдет на розыски провианта, у них нет другого выхода. А поскольку вблизи земля была опустошена, я сомневался, что они смогут вернуться к ночи.
Так оно и вышло. На третью ночь, подготовив всё остальное, я приказал зажечь сигнальные костры. Чтобы скрыть наши намерения, мы пели возле костров громкие гимны, будто это праздник в честь какого-то бога… Вино и масло, которые мы лили на костры, — больше нам нечего было предложить богам, — вздымали пламя еще ярче и выше… Враги не знали наших обычаев, а нам на самом деле надо было молиться.
Я спросил жреца Аполлона, какого бога нам просить быть нашим покровителем в битве; глядя в дым, он сказал, что я должен молиться Ужасу, сыну Ареса. Воздев руки, я увидел светлую точку на вершине Саламина; единственный костер, что означало «да».
Афина дала нам темное небо… Это была ее вторая милость, о первой я уже попросил. Войско, выходящее из ворот по уклону, было бы замечено даже в темноте, потому нам был нужен другой путь. Он был, но он был тайным, священным и запретным для мужчин; я слышал о нем от отца, но никогда не видел его до предыдущей ночи, когда пошел туда со жрицей просить разрешения.
Там всегда была ночь: ход опускался через пещеру Родового Змея в самом сердце Скалы. Его устье было где-то на западном склоне, далеко от стен, говорил отец; но оно было закрыто простым камнем, так что даже я, знавший о нем, никогда не мог найти этого места. Открыть его можно было только изнутри.
Жрица была старой, — она служила в святилище еще до того, как мы привезли Афину назад из Суния, — но рядом со Змеем Рода она была совсем младенцем. Иные говорили, что Змей — это сам Эрехтей, древний Змей-Царь, основатель нашего рода. Ни отец мой, ни дед никогда его не видели; и когда старуха со своей лампой пошла вниз, впереди меня, — ладони мои похолодели от ужаса. Спуск был крутой, ступеньки узкие, коридор низкий… Мне часто приходилось нагибать голову, а ведь я невысок… Но когда мы достигли пещеры, кровля над узкими стенами затерялась в тени. Это была трещина в теле Скалы, идущая вверх до камней, на которых стоит Дворец. Хотя здесь ходили лишь босые ноги жриц, — и каждая из них служила всю жизнь одна, — каменные плиты лестницы были истерты в глубину на целую пядь.
На шершавой отвесной стене, уходящей высоко во тьму, были картины, будто нарисованные детьми: маленькие люди с луками и копьями охотятся на зверей, каких никто никогда не видел… В мерцающем свете казалось, они прыгают и бегут. Жрица остановила меня движением руки и показала: возле стены была узкая полость — расселина в расселине… Она подняла лампу и стояла, приложив палец к губам. Глубоко внизу вздымались и извивались переплетенные кольца, толщиной с человеческую ногу. Я зажал себе рот, волосы на затылке зашевелились…
Жрица взяла с уступа раскрашенный глиняный кувшин с молоком. Кольца сворачивались и исчезали, потом где-то между ними заблестел глаз… Поднялась голова, бледная как кость, со странным выцветшим узором; глаза были синие, затянутые молочной пленкой, и голова не видела меня, она смотрела только на судьбу. Рот был закрыт, но из него сверкнул раздвоенный язык, окунулся в молоко и начал пить… Жрица простерла иссохшие руки… И хоть я был весь покрыт липким потом — я разглядел благодарность в ее глазах.
Раз он дал свое согласие, она провела меня до закрытого конца хода и показала древние знаки, начертанные там, где надо было разместить рычаги. Потом, когда она спрятала священные предметы, я проводил туда своих каменщиков, и теперь проход был открыт. Этой дорогой мы пойдем в бой.
В темноте перед рассветом мы начали собираться. Когда я потянулся за доспехами, Ипполита остановила меня:
— На этот раз, — говорит, — я буду как все женщины.
Опоясаламеня мечом; я забросил на плечо щит — подала шлем… Я засмеялся — мол, ни одна другая женщина не сделала бы этого и вполовину так изящно и точно… Забросил щит на спину, обнял ее — получилось, вроде мы в раковине из бычьей шкуры, щиты как створки… Она прижалась ко мне, погладила мне лицо пальцами, и ее молчание обдало меня печалью.
Я спросил шепотом:
— Что с тобой, тигренок?
Но она ответила весело, отодвинулась и надела свой шлем. Султан сверкающих золотых лент плясал на нем и играл светом лампы…
— Скоро настанет день, — говорю, — а у тебя там много врагов. Надень что-нибудь не такое заметное.
Она засмеялась, тряхнула головой, чтоб еще ярче полыхнуло:
— А ты?
У меня был алый султан, чтоб мои люди меня видели.
— Или мне держаться от тебя подальше, чтоб они не знали, где меня искать? Мы — это мы! Мы ведь не станем унижать свою гордость, правда?
Так мы и вышли, вместе, и присоединились к бойцам.
Прежде чем войти в запретные пределы, каждый очистился и вознес молитву… И все крались вниз, стараясь ступать неслышно, закрыв рты ладонью. Близость врага не могла бы внушить им большей осторожности, чем ужас перед этим подземельем. В древних углублениях дымили редкие факелы; если кто-то кашлял или цеплял оружием за стену — эхо металось взад и вперед, замирая словно шепот теней, следящих за нами… Кара постигает того, кто первым нарушит запрет, и я шел первым, чтобы люди не страшились мести. У выхода нельзя было светить, потому мы двигались на ощупь; но после сплошной черноты подземелья облачная ночь показалась светлой. Разведчики пошли вперед нащупать нам дорогу, и тут я почувствовал, что место мне знакомо. Огляделся вокруг — увидел какие-то знаки на Скале; а потом нашел высеченный глаз, стертый временем. Под ногой хрустнула ракушка, рядом на плите порога лежали увядшие цветы… Я сделал знак против зла, чтоб никто не видел. Ведь подземелье не открывалось с незапамятных времен — откуда он знал?!..
Когда тропу нашли, идти было уже нетрудно. Люди выходили, касаясь идущего впереди, иногда кто-то спотыкался, кто-то шикал: «Тихо!..» Казалось, это заняло полночи, и я сомневался, хватит ли нам времени; но прежде чем побледнели звезды, все были снаружи. Ипполита оставалась в святилище, следя за порядком, и вышла последней. Когда ее рука коснулась меня — я скомандовал марш. Приказ зашелестел вперед по цепи от бойца к бойцу, словно ветер в тростнике.
Мы крались по низине к Холму Аполлона; он самый высокий в гряде и господствует над остальными. Уже прокричали первые петухи, и небо стало не таким черным, как очертания под ним… Вот мы добрались до склонов холма и заскользили меж деревьев к вершине…
Они нас так и не заметили. С началом серого рассвета мы вышли на открытую вершину и с громким боевым кличем напали на лагерь. Знамения были верны — Ужас был нашим другом. Их часовые следили за уклоном возле ворот и за тропой с севера, где тоже был выход из крепости, но там где наши стены были отвесны — там у них вообще никого не было. По самым первым крикам в лагере было ясно, что мы их взяли; заря еще не зажгла вершин Парнаса — а мы уже овладели холмом.
На нем были только воины, орда располагалась на равнине за ним. Среди убитых мы нашли несколько сарматских женщин, но Лунных Дев не было; если и были раньше, то ушли. Подготовить к бою другие форты.
Но я не собирался давать им время на это; мои глашатаи затрубили в рога, со Скалы ответили рога Аминтора… Он был уже наготове, — ворота разбаррикадированы, — и теперь, с теми силами, что я ему оставил, и под прикрытием критских лучников, он нападал на Холм Ареса, чтобы взять неприятеля с фланга.
Наступил день, ясный и холодный; он сиял на Скале и на Дворце Эрехтея с его красными колоннами, с клетчатым сине-белым орнаментом… Дом моих предков — сейчас решалась его судьба. Он был так близко, — там за ущельем, — казалось, до него можно добросить камень; но если мы проиграем, я никогда больше не войду в его ворота… Мои люди оживленно и радостно приветствовали что-то позади меня, и я повернулся туда же — в сторону Пирейской долины и моря.
С юга стекались банды грабителей, это было худо… Но за ними все побережье Фалеронского залива пестрело кораблями — это подошел объединенный флот Афин и Элевсина, а с ним и саламинцы, пришедшие нам на помощь.
Перед нами на холмистой гряде роилась и бурлила масса скифских воинов… На вершине Пникса — ближайшего холма за первой седловиной — негде было яблоку упасть. Пока мы были выше их, но штурмовать их нам придется снизу, и внезапность нам больше не помощник… За ними я слышал шум орды, но еще дальше Аминтор протрубил сигнал победы — он взял Холм Ареса. Пора. Я воздел руки к Зевсу… Где-то над небом сидит он с большими весами в руках, и на чаше их — наша судьба… Я бросил на эти весы и свою молитву, хоть одних молитв мало, чтоб склонить чашу. Ипполита тронула мою руку:
— Слушай! Жаворонок поет!
Он кувыркался в синем воздухе над нами, бурля своей радостной музыкой…
— Он несет нам победу!
Она улыбнулась мне, и серые глаза ее были светлы, как песня; свежий ветер шевелил сверкающий султан, играл золотыми волосами на щеке, раскрасневшейся в схватке… Она вся была — пламя и золото.
Я тоже улыбнулся ей в ответ, что-то сказал… Что — не знаю. В голове у меня была странная легкость, и в ней все отражалось эхом, как в пустой раковине. И холмы, и море с разноцветными парусами, и Дворец, и воины — всё было ярким, плоским и далеким, словно картины, нарисованные искусным критянином на стенах Большого Зала, где я стою совсем один… Только судьба, ниспосланная богом, была со мной. Душа моя ждала зова.
Море было далеко, корабли на нем — как игрушки… Однако мне казалось — я слышу его шум. Сначала далеко, потом всё ближе и ближе грохотал прибой в моих ушах; и я знал — то не был голос смертных волн.
Я слышал этот шум и раньше: когда поднимал камень в Трезене и брал отцовский меч; когда отдавал себя богу, чтобы плыть на Крит… Его слышали все Эрехтиды с незапамятных времен; в поворотные моменты судьбы звучал в нас этот голос, а когда совершалось дело, на которое он звал нас, затихал… Но на этот раз было так — будто шторм бушевал вокруг моей души, стремясь сорвать ее с якорей и унести в безбрежный океан; и я знал, что это значит. Великая торжественность охватила меня, великая печаль одиночества, великое вдохновение обреченности… То был голос мойры — голос, звавший Царя.
Аполлон в Дельфах сказал, что прилив докатится до Скалы, но будет повернут вспять назначенной жертвой, которую выберет сам бог. Как мог я не понять тогда сразу, что в такой великой опасности жертва может быть лишь одна? Мне подумалось, что надо было жениться пораньше: теперь я оставлю наследниками детишек, а царство расколется — Крит без меня не удержат… Но и это было предопределено… Бог моего рождения, Синевласый Посейдон, распорядится всем, как и моей судьбой. Он указал мне, что мне делать, — отдать жизнь за мой народ, — бог и не должен говорить человеку больше. Я паду в этой битве, к этому вела меня вся моя жизнь, — но я спас свое царство и возвеличил его, и барды не дадут моему имени исчезнуть… «Да будет так; ведь я всегда молился о славе лишь, а не о долголетье… Отец мой Посейдон, прими же жертву, я готов!..»
Я молился молча. Ведь воинам, идущим в бой, не о смерти должно слышать — о победе… А шум моря всё усиливался и заполнял собой всё вокруг. Могучий глас триумфа, он поднимал меня, наполнял тело легкостью… Я повернулся к Ипполите. Она прямо светилась доблестью и красотой; но даже она — самая близкая мне среди смертных, — казалась далека, за той хрустальной стеной, в которой я стоял один с поющим богом. Если бы я предчувствовал приближение обычной смерти, то попрощался бы с ней, посоветовал бы, как жить без меня, что сделать для сына… Но я шел с судьбой. Что будет — будет. А это наш последний подвиг, наша последняя общая битва — так пойдем в нее гордо и радостно!.. Пусть она заплачет потом…
Она пристально смотрела на меня… Я не знал, сколько времени прошло с тех пор, как я услышал голос Посейдона, но все были спокойны, так что наверно совсем немного… А она мне сказала:
— В тебе словно факел, Тезей! Ты светишься победой!
— Ты тоже, — говорю. На самом деле было видно, что великое предчувствие коснулось и ее. — Ну что ж, пора. Во имя богов — вперед!
Мы сбежали в седловину меж холмов и, закрывшись щитами от стрел, начали подниматься на Пникс. Тот человек, что пошлет мою жизнь богу, — он там, наверху… Быть может, это женщина — Лунные Девы с их звонким боевым кличем тоже были там, яркие в утреннем солнце, как фазаны… Подъем был крут, но меня несла на себе волна судьбы, и я его почти не ощущал; однако что-то мне мешало — это был мой щит, тяжелый, с бронзовыми бляхами на бычьей шкуре. Уже обреченный, я тащил с собой по привычке этот груз, годный лишь на то чтобы спасать мне жизнь… Отстегнул пряжку ремня, бросил щит и побежал дальше открытый — не мое дело выбирать, когда меня настигнет смерть…
Без щита стало хорошо: теперь я полностью был в руке бога и чувствовал себя свободно и радостно. Это тайна, которую я доверяю только царям, поскольку их это касается: иди с готовностью и ничего не бойся, ибо бог войдет в тебя — и взамен скорби наполнит тебя восторгом. Все испытавшие это погибли раньше, чем смогли об этом рассказать; только я могу дать этот совет. Наверно, он должен пригодиться когда-нибудь какому-то народному вождю, когда настанет час его… Иначе зачем бы я остался жив?
Воины не отставали от меня. Пока крутизна не сбила им дыхание, не смолкали радостные клики и пение пеана… И ни один не крикнул мне, чтобы я взял щит. Они видели, что бог вдохновлял меня, и думали — мне было знамение, что мне ничего не грозит… И это их ободряло. Даже Ипполита меня не укорила. Она всё время была рядом, разве что задерживалась для выстрела… Лунные Девы увидели ее и кричали ей, потрясая кулаками, — но ее разгоряченное лицо было спокойным, оно не изменилось даже тогда, когда на валу появилась Мольпадия, Царь Дев, и воззвала к Богине, подняв священный топор.
Вершина была уже близко. Стрелы, камни и дротики летели тучей, но всё проносилось мимо меня, будто бог прикрывал меня своей ладонью. Я подумал: «Когда паду — эта сила, что бушует во мне, перельется в мой народ; их не обескуражит моя смерть.» И я любил их… Но не испытывал ненависти к врагам: ведь им пришлось вторгнуться сюда, как пришлось когда-то нашему народу… Их судьба была в руках богов так же, как наша…
Царь Дев опустила свой топор и потянулась за луком… Она целилась — и песнь бога вознеслась во мне как звук тысячи сладкозвучных рогов; я слышал в ней, что не покину Скалу и мой народ, что тень моя будет приходить к ним в великие дни радости и опасности, услышав их и пеаны и молитвы…
Лук выпрямился, я подумал: «Вот оно!..» Но удара не было — только музыка вдруг оборвалась, как обрезало ее, в голове звенело от тишины… И тут я услышал вскрик.
Золотой султан, что реял так легко и гордо, — падал передо мной, трепеща как подстреленная птица… Отгороженный богом, — уверенный в своей смерти, — я не заметил, как она бросилась вперед и прикрыла меня. Раскинув руки, она упала на колени, потом — я не успел подхватить — качнулась вперед — и опрокинулась на бок, перевернутая стрелой, торчавшей в груди.
Я встал на колени на острые камни, я обнял ее… Голос бога, ветророжденная легкость — всё исчезло, как счастливый сон утром жесткого дня. Ее глаза блуждали, уже ослепленные смертью, и только рука осмысленно искала что-то вокруг… Я взял ее в свою — ее пальцы сжались, а губы тронула улыбка.
Она хотела что-то сказать, — но только предсмертный вздох вырвался из раскрытых губ. Душа еще какой-то миг поддержалась на трепещущем дыхании… Но вот она резко дернулась, и дрожь прошла по ней, словно лопнула тугая струна… А потом отяжелела — и я понял, что она ушла.
Вокруг гремела битва, а я сидел над ней и ничего не видел. Я не заметил бы, если б все прошли мимо и оставили меня… Так волк лижет свою подругу, убитую охотниками, — ничего не слышит, не понимает… и если нечаянно подвинет ее, то ждет, что она вновь задвигается сама…
Но ведь я был человек и знал… Я видел, как она ускользнула втайне, чтобы обмануть меня с Аполлоном, чтоб уговорить его — любившего охотницу, — чтобы он позволил ей принять мою смерть…
Потом я услышал новый шум и поднял глаза к вершине холма. Мольпадия вновь подняла свой топор к небу, и победный крик амазонок был похож на дикий хохот…
И тогда я поднялся. Парни из ее гвардии стояли вокруг… И плакали… А мои глаза были сухи — много дней пройдет, прежде чем эта отрада облегчит меня… Я сказал им: «Оставайтесь с ней, пока я не вернусь». За ними стояли другие воины и смотрели на меня. Они были готовы, они поняли меня раньше, чем я сам; и я теперь почувствовал, — как чувствует это волк, — ничто не облегчит боль утраты, но ярость насытить можно.
Я вскочил на скалу, где меня было видно всем, и прокричал свой боевой клич.
Трижды прокричал я, — и с каждым разом ответный рев войска отзывался всё мощней, словно я взывал к морю. Я видел, как наверху опустились руки лучников и метателей, как они стали переглядываться… И бросился вперед.
Подъем по склону и на земляной вал — это я помню. Помню, как карабкался на стены, цепляясь руками и древком копья… И вот я уже там… Но с тех пор как начал убивать — мало что осталось в памяти. Знаю, что я не обнажал меча, — он был в ножнах чистый, когда всё кончилось, — но едва я поднялся наверх, в руках у меня очутился топор. Топор был хорош, он крушил всё вокруг, и это мне подходило. Я не смотрел, идут ли за мной мои люди; я чувствовал их — словно красные искры летели вслед моей ярости… Иди я прямо вперед — я бы их обогнал; но я не мог видеть живых врагов около себя — и рубил всех, и справа и слева.
Насытить жажду, гнавшую меня всё дальше, я не мог. Людей убивал, их кровь лилась по топору, и руки стали липкими… Но я не мог убить судьбу, богов — и то душераздирающее чувство, что я на нее зол. Зачем она вмешалась, когда все было так хорошо?!.. Она слишком много на себя взяла: мы были равны в бою, но царем был лишь один из нас… Я был в союзе со своей судьбой и уже видел свои последние дни как песню бардов… Нам не надо было расставаться; раз она относилась к смерти так легко — мы могли бы вместе перейти Реку к дому Гадеса… А она бросила меня одного, с моим народом у меня на шее — и без бога, который вел бы меня, чтобы быть мне царем, чтобы просто жить…
Душа моя кричала о мести, и я мстил, где только мог. Скоро на вершине Холма Пникса уже некого было убивать; я повел своих дальше, через седловину, на Холм Нимф… Они были на вершине, и я звал их на бой… Оттуда прилетело несколько стрел; но они дрогнули, и по их крикам стало ясно, что бегут. Позади меня люди кричали, что мы спасли город, но для меня было важно другое — слишком много их успеет спастись!.. Я споткнулся и упал, мой гвардеец помог мне подняться… Огляделся вокруг — вижу, скифы скатываются со склонов на равнину, а там их ждет десант с кораблей; но на следующем холме — вооруженное стройное войско. «Ну, эти от нас не уйдут!» — кричу — и к ним… Их вожак бежит впереди… Я — боевой клич, а он кричит: «Государь, это я!.. Кто-нибудь, посмотрите вместо царя, он не видит!.. Я Аминтор, Тезей! Мы победили!.. Но что с тобой, государь?»
Я опустил топор, и люди, державшие меня, расступились. В глазах прояснилось — передо мной была армия из крепости. Они обнимались с моими людьми, плача от радости… А я стоял, боясь очнуться, и вокруг говорили тихо, как над умирающим.
Кто-то сказал:
— Ему, наверно, попало в голову.
Другой возразил:
— Нет, не то… Где амазонка?
Это я понял и сам ответил:
— На Холме Пникса. Я отнесу ее домой.
Пошел было назад; потом остановился и говорю:
— Только сначала приведите мне Мольпадию, Царя Дев. Она передо мной в долгу.
Один из афинских офицеров, который в бою был возле меня, сказал, что она убита. Это мне не понравилось.
— Кто ее убил? — спрашиваю.
— Как же, государь!.. Ты сам, в самом начале, ее собственным топором… Вот он до сих пор у тебя в руках.
Я вытер его об траву и посмотрел. У него было тонкое древко, а лезвие — как изогнутый полумесяц, с серебряными знаками, зачеканенными в бронзу. Этот топор был у нее в руках, когда она скакала ко мне на вершине Девичьего Утеса… И в тот день всё время был со мной, будто чувствовал то же, что и я. С тех пор я не ходил в бой ни с каким другим оружием; даже годы спустя он, казалось, сохранял что-то от нее… Но всё проходит. Он забыл уже ее руку и знает только мою…
Она лежала на склоне, ее ребята стояли вокруг. Они распрямили ее и положили на щит… Но стрелу трогать не решились, а послали одного в крепость за жрецом Аполлона. Тот подтвердил, что она мертва, выдернул стрелу и накрыл ее алым плащом с синей подкладкой; а ребята положили ее руки на меч. Жрец обратился ко мне:
— Владыка Целитель послал ей знамение. Но она спросила, должна ли сохранить его в тайне, и он ответил — как хочет.
— Государь, за ней посланы носилки из крепости. Нам снести ее с холма? — это сказал юноша, ходивший за жрецом.
— Хорошо, — говорю, — но хватит с вас. Оставьте ее мне.
Я снял покрывало, поднял ее на руки… Тело было холодное, уже начало костенеть. Слишком долго меня не было, ее тень была уже далеко, — я держал труп с ее лицом, вот и все; а когда уходил, она, казалось, спала…
У подножия холма нас встретили с носилками, и я положил ее на них; бой был долгий, и я устал… Подходя к Скале, услышал победные пеаны… И разозлился было, — но ведь их-то она и хотела бы услышать!.. Скоро и мне придется благодарить, стоя перед богами, за афинян — это моя работа… Город спасен на тысячу лет вперед, об этом дне будут слагать баллады… Я ведь уже почти слышал, как будут петь: «Так пал царь Тезей, за народ свой пожертвовав жизнью, врагов от Афин отвратив и покрыв себя славой бессмертной. В битве победной с ним вместе любовь его храбро сражалась. Молод он был, но отважен, и чтили его даже боги…»
На мне остывал пот битвы: от резкого морского ветра стало холодно… Дворец стоял на своих скалах и ждал… Было чуть за полдень — и я не знал даже, чем мне заполнить хотя бы один тот день до вечера, а впереди были годы!..
Она приняла смерть за меня, за любимого, — она была в конце концов женщина, — но ей, прежнему царю, надо было бы знать, что только царь приносит себя в жертву за народ!.. Боги справедливы, их не обманешь. Она спасла во мне лишь человека, который будет всю свою жизнь оплакивать ее…
Но звали царя. И царь — умер.
3
ЭПИДАВР
1
Я обошел все моря с тех пор и много разорил городов. Если не было войны — уходил с Пирифом в набеги, каждый год… Видеть что-то новое, и хоть со дня на день, но жить — это более достойно мужчины, чем вино или маковый настой. Я прошел между Сциллой и Харибдой, укрывшись в снежном шквале; я ушел от Скалы Сирен, где девки мародеров заманивают вас на рифы своими песнями… Одну сирену я поймал и остался жив, так что могу рассказать об этом… Женщин у меня было много, но подолгу они не задерживались: сверкало лицо за чужими стенами, — так что нельзя было его достать без хитрости, без опасности, — и пока оно не было завоевано, некогда было думать о том, что было раньше, что будет после, — и можно было верить, что она окажется не такой, как все остальные…
Мой народ прощал мне это в течение многих лет. За то, что я спас город. Зимнего времени хватало на то, чтобы привести царство в порядок; если оказывалось, что без меня чья-нибудь тяжелая рука начинала давить народ, я ее обламывал… Но к весне я уставал от дел; и от царских покоев, где на стене одиноко висело мое оружие… Запирал двери — и уходил прочь, в море.
Если бы я хоть раз остался в Аттике на весь год, то послал бы за Ипполитом и постарался бы, чтоб его приняли как моего наследника. Каждую весну я вспоминал об этом; но меня звало море, звали новые места, в которых не было воспоминаний… А его можно было оставить в Трезене еще на годик; ведь ему хорошо было там, со старым Питфеем и с моей матерью. Как-то я услышал, что за три царства вокруг он известен как Дитя Девы, и подумал — надо бы зайти в Трезену по пути… Но ветер был встречный — так я это и оставил: я помнил, как он упрямо молчал. Парнишка на Крите — с ним я всегда мог поговорить; он был веселый и податливый, любил сидеть у меня на коленях, когда приходил час рассказов о морских приключениях… Но вот нельзя было глянуть на него и сказать: «Это идет царь».
Однажды, под конец зимы, гонец привез от Питфея царское письмо, запечатанное Орлом. Это было первое со времени Критской войны. В письме говорилось, что он чувствует бремя старости, — почерк был не его, а писца, и подпись выглядела так, словно паук упал в чернильницу, — он чувствует бремя старости и должен назначить себе наследника. И выбрал Ипполита.
Вот это не приходило мне в голову никогда. Сыновей у него было не счесть; правда, из законных детей в живых оставалась лишь моя мать… Он мог бы выбрать меня, но нынешняя моя жизнь не могла его к этому расположить, так что я не был в претензии; к тому же, будь Трезена присоединена к моим царствам, мне пришлось бы отказаться от моря… Старик распорядился справедливо и мудро: у мальчика будет положение, когда он приедет в Афины, и народ там примет его, наверно, с большей готовностью. А когда меня не станет — он сможет объединить царства… Письмо напомнило мне, что я не появлялся в Трезене целых четыре года; мальчику должно быть уже семнадцать…
Как только установилась погода, я снарядил туда корабль. Когда мы на веслах входили в гавань, толпа встречавших на берегу расступилась, пропуская трехконную колесницу. На ней стоял мужчина, а в последний раз я видел его еще ребенком…
Он ловко скатился вниз к причалу… Люди прикладывали руки ко лбу, прежде чем он успевал глянуть на них, и делали это с улыбкой, — хорошо… Когда он спрыгнул и юноши подбежали держать его коней, я увидел, что он выше любого из них на полголовы.
Вбежал на борт, чтобы приветствовать меня, сразу опустился на колено… А потом, поднимаясь, подставил мне щеку и сам меня поцеловал, но продолжал расти всё выше, выше… Он был слишком вежлив, чтобы сутулиться при мне.
Командуя войском, я привык видеть вокруг себя высоких людей; и в боях встречался со многими и выходил победителем… Я не знал, почему меня так ошеломил его рост; словно я сам стал меньше или сморщился от старости. Потом я разглядел, насколько он красив, — и это тоже меня как-то покоробило. Он так был похож на изображение бога, что в этом чудилось какое-то высокомерие, хоть на самом деле его и не было: меня он приветствовал с торжественной почтительностью, достойной какого-нибудь чужеземного божества. Его серые глаза — чистые, словно снеговая вода, — были прищурены, как у моряков, от постоянного взгляда вдаль, но более спокойны… Казалось, они говорят со мной, — просто и открыто, — но я не знал их языка; это больше не были ее глаза.
На ее кургане выросли высокие деревья; щенки от последней вязки наших гончих поседели и умерли; у ее гвардейцев были уже такие сыновья, что сами учились владеть оружием… А я — она вряд ли узнала бы лицо, которое нынче показывали мне зеркала: седобородое, потемневшее от соли и солнца… Казалось, во всех этих переменах она умерла еще раз. Но вот — только что — я увидел издали на колеснице волосы светлые, как серебро, упругую стойку, радость бешеной скачки — и на мгновение она ожила снова… Но теперь ушла. Безвозвратно.
Он подвел меня к колеснице, поднялся сам, обмотал вокруг себя вожжи и держал коней неподвижными, будто они из бронзы, пока поднимался я. Народ приветствовал нас; он наклонился над упряжкой, словно наемный возница, — все клики оставил на мою долю, — но обернулся с застенчивой улыбкой, чтобы увидеть, что я доволен. Он все-таки был еще мальчик… Странно и глупо было мое чувство только что, при встрече с ним… Это же мой сын, ее и мой, — я же гордиться им должен!
Я похвалил его лошадей и его искусство возницы, спросил, давно ли он правит тройкой… Нет, сказал он, недавно; у него обычно пара, а третья — для больших дней, для праздников… Он улыбнулся снова; так солнце, светящее всё время, вдруг вспыхивает на колосьях под ветром. Я надолго оставил его в этом маленьком царстве, — а в Афинах было большое, — и не ожидал, что он так доволен своим положением.
Мы проехали через город у бухты… Повинуясь его большим рукам, кони шли ровно, как один; а он был настолько внимателен, что даже ради деревенских дворняг наклонялся с колесницы, чтобы согнать их с дороги легким щелчком кнута. Все приветствия он оставлял мне — только улыбался ребятишкам, звавшим его по имени… Его обнаженное тело — он был в коротких кожаных штанах — было стройным и сильным; широкие загорелые плечи колыхались передо мной в такт с шагом его коней и лоснились, как их спины… У него такие крупные ноги и руки — он еще будет расти… Когда я был здесь ребенком, — до того как ушел к отцу, — когда был ребенком и старался поверить, что я сын бога, я молился о том, чтобы вырасти вот таким. Ладно, обошелся тем, что было дано; многие сделали меньше, хоть имели больше…
Мы выехали из города. Он показывал мне всё, что было нового, рассказывал о новостях царства… Рассказывал подробно и ревностно, как молодой помещик; но в нем не было сознания, свойственного деревенщине, что его дела — самые главные во всем мире; он рассуждал очень здраво… Однако после Аттики и Крита всё это и впрямь казалось мелким поместьем, и я удивлялся — что он здесь нашел для себя?
Он как раз выехал на широкую дорогу и тронул коней, когда какая-то женщина бросилась из хижины с плачущим младенцем на руках и встала на пути. Вместо того чтобы крикнуть ей поберечься, он осадил коней намертво, захлестнул вожжи вокруг талии еще одной петлей и без слова протянул руки. Мать подала ему ребенка, а тот весь с лица почернел и дергался всем телом… Ипполит подержал и погладил его — малыш вскоре задышал ровнее, порозовел и успокоился. Ипполит отдал его назад…
— Ты же, — говорит, — знаешь, что сама могла бы это сделать, и лучше меня.
Кажется, она поняла его. Благословила, сказала, что теперь это случается редко… Когда мы поехали дальше, он сказал:
— Прости меня, государь. Он на самом деле был полумертвым, не то я не заставил бы тебя ждать.
— Всё в порядке, — говорю, — я рад видеть, что ты заботишься обо всех своих детях, даже о тех, что достались легко.
Он обернулся, распахнув свои серые глаза… Потом расхохотался.
— О! Это не мой, государь. Это — дровосека…
Он продолжал улыбаться про себя, потом повернулся ко мне уже серьезный, словно хотел что-то сказать, — но передумал и снова наклонился к лошадям.
Во Дворце меня встречала мать. Пока я был на Крите, — в юности, — она, казалось, постарела за год на пять лет; но с тех пор, в этом спокойном месте, она не менялась больше, и теперь могла бы быть матерью мальчика, а не моей. Там же были несколько ее сводных братьев, пришедших приветствовать меня, — мужчины еще в расцвете лет, — и я присматривался, как они относятся к Ипполиту: ведь он тоже незаконнорожденный, как и они… Но, казалось, они его приняли, так же как весь народ. Быть может, это из-за его целебного дара? Мне никто об этом не сообщал, но ведь я и не спрашивал…
Когда мы вошли, мать сказала:
— Пойду гляну, готов ли отец. Я ему говорила, что ты приезжаешь, Тезей, но он всё забывает нынче… Только теперь наконец позвал женщин умыть и причесать его. Ипполит, ты о чем мечтаешь? Поухаживай за отцом, позаботься, чтобы ему принесли вина…
Он отослал виночерпия и прислуживал мне сам. Когда я сказал ему сесть — взял низенький табурет и сложил руки на коленях… Я смотрел на его длинные мускулы, вспоминал эти руки в работе с лошадьми и подумал — как же должны любить их женщины! Ему пора жениться… Если Питфей стал слишком стар, чтобы позаботиться об этом, лучше мне взять это на себя…
Но когда спросил, есть ли у него девушка на примете, он глянул на меня изумленно и ответил.
— О нет, государь. Теперь уже поздно об этом думать.
— Поздно? — тут уж я изумился. Не рассмеялся: это было бы обидно ему и ничего хорошего не могло из этого выйти… — Послушай, — говорю, — малыш, что бы ни случилось — всё проходит. У тебя была девушка? Или, быть может, мальчик?
— Я думал, государь, ты знаешь… — Теперь он стал очень серьезен, и это сделало его старше, а не моложе, как часто бывает в таком возрасте. — Я принес всё это в жертву. С этим решено и покончено.
С момента нашей встречи в гавани меня не оставляло какое-то беспокойство; и теперь — будто скрипнула дверь, приоткрывшись, и показала мне старого врага. Но я не стану на него смотреть…
— Ты уже мужчина, — говорю, — наследник царства. Игрушки пора отложить.
Брови у него сошлись. Густые, темные — темнее волос… Я видел, что его спокойствие не от смирения.
— Что ж, государь. Называй это как хочешь, но как же нам тогда разговаривать? Это достаточно сложно, даже если ты постараешься меня понять; ведь слова говорят немного…
Его терпеливость меня разозлила: так терпеливы крупные собаки, что позволяют шавкам себя кусать.
— Так в чем же дело? Объясни… Ты единственный сын твоей матери, только в тебе ее кровь. И ты готов похоронить ее вместе с собой, ты так легко к этому относишься?..
Он помолчал немного… Его спокойный взгляд, казалось, говорил: «О чем еще вспомнит этот человек? Он же ничего не понимает!» Это разозлило меня еще больше… Наконец он сказал:
— Она бы так не думала.
— Вот как? — говорю. — Продолжай, говори до конца… Ты дал какой-нибудь обет или что?
— Обет? Не знаю… Пожалуй, да. Но это неважно…
— Как?.. Ты — не знаешь?!
Он говорил очень старательно. Он был так молод, что не ожидал, чтобы человек моего возраста мог его понять.
— Обеты, клятвы — это ведь для того, чтобы связать себя, если передумаешь. Я дам обет, если меня попросят, но это неважно.
— Какому богу? — спросил я. Лучше было покончить с этим поскорей.
— Если я дам обет, — говорит, — то Асклепию. Когда буду готов.
Это было нечто новое. У него и теперь было что-то на уме, о чем он не станет говорить, — как было всегда, — но это он сказал без раздумья, сразу и искренне. Да он всегда был загадкой, с самого рождения… Я ожидал каких-нибудь высокопарных слов, но он продолжал:
— Знаешь, это началось с лошадей… — Помолчал, задумавшись… — Я часто лечил их, мне это всегда нравилось… Быть может, это идет от Посейдона? — Улыбка у него была чудесная, женщина бы от нее таяла… — А потом так случилось, что пришлось помочь человеку, и это меня захватило. И я начал задумываться: а зачем люди?
Такого вопроса я никогда не слыхал. Меня будто ударило: если человек начинает спрашивать такое — чем это кончится?.. Это же всё равно что заглядывать в черный водоворот, а его воронка — глубокая, бездонная — тянет в закрученную глубину — вниз, вниз… Посмотрел на парня — ничего… Он не напуган, не плохо ему, только чуть-чуть не в себе; другой на его месте был бы таким, если бы под окном прошла девушка, по которой он сходит с ума.
— Слушай, — говорю. — Боги нас создали — это их дело.
— Да, но зачем?.. Мы должны соответствовать своему предназначению, в чем бы оно ни состояло. Но как мы можем жить, если не знаем его?
Я не сводил с него глаз. Такие отчаянные слова — но он, казалось, светился изнутри. Он видел, что я его слушаю, и это подтолкнуло его дальше:
— Я ехал однажды на колеснице, в Эпидавр. Давай поедем туда вместе, государь, хоть завтра, ты сам увидишь… Хотя ладно, это необязательно. В общем, мы скакали по дороге вдоль моря, и ветер был попутный…
— Мы? — Я перебил его, думал услышать что-нибудь полезное.
— О, это я про упряжку! Когда они идут, как один, и сам вместе с ними — это так получается.
Я его отвлек, ему понадобился какой-то момент, чтобы вернуться к своей мысли.
— Дорога была хорошая и совсем пустая, не надо было придерживать… Я отпустил их — и они пошли, как ураган!.. И тогда я это почуял, почуял, как Бог сходит вниз, наполняет коней, меня — словно непрерывная молния, только не сжигает… У меня волосы поднялись на голове… И я подумал: «Вот оно! Вот оно — мы для этого! Чтобы притягивать богов, как дубы притягивают молнии, чтобы через нас боги могли нисходить на землю… Но зачем это?» Колесница летела вдоль берега, и всё вокруг такое синее, и наши гривы струятся в воздухе… Они бежали сами, от радости, как носятся на равнине в табунах… И тогда я понял, зачем это, — но этого нельзя сказать словами, слова убивают смысл.
Он вскочил на ноги — так, будто вовсе ничего не весил, — и быстро отошел к окну. Постоял там, глядя наружу… Потом успокоился и сказал почти стыдливо:
— Ну вот… Но все это можно почувствовать, когда берешь на руки больного щенка…
Она словно услышала его — громадная сука, набрякшая молоком, волкодав, вошла и оперлась ему на грудь лапами. Он почесал ей за ухом… Точно так же стояла однажды его мать, когда я только привез ее в дом, ей тогда было восемнадцать… Он был живым воплощением нашей любви, через него мы могли бы жить вечно; а без него — умрем…
— Если ты целитель от кого-то из богов, — говорю, — тем более нужно иметь сыновей и передать им свой дар. Бессмертные не скажут тебе спасибо, если ты его растратишь, уж это точно!
Он не сразу отрезвел, не сразу понял, что все-таки нужны будут еще слова. Вы видали скакуна, на котором таскают бревна? — вот так он мучился со словами, я видел, как он их ворочает.
— Но в том-то и дело, — говорит. — Не растратить его. В этом самое главное!.. Эта сила требует человека целиком; начни отвлекаться на одно, на другое — от нее ничего не останется… Ну вот, девушки. Стоило бы мне начать — женился бы я или просто сошелся бы с какой-нибудь на празднике Диониса, — я, наверно, не смог бы без них потом… Они такие красивые и мягкие — как лисята… Очень похоже, что стоит начать — ими потом не насытишься… Так уж лучше и не начинать.
Я буквально остолбенел. Я едва мог поверить, что понял его. Наконец говорю:
— Ты что — шутишь или хочешь меня одурачить? Ты хочешь сказать, что ты еще девственник? В семнадцать-то лет?!
Он вспыхнул. Но не от смущения, нет: он был достаточно взрослым, чтобы расслышать оскорбление, он был воин… Но дисциплинированный воин — и ответил совсем спокойно:
— Да, государь. Это часть того, что я хочу сказать.
Значит, не было даже дикого побега, чтобы продолжить наш род, — где-нибудь на холмах Трезены или на хуторе каком, — ничего!.. Я вспомнил, как она показала мне его утром, после целой ночи мучений… А теперь он кидает мне в лицо наши погибшие надежды! Будь он женщиной, его можно было бы заставить подчиниться, но он — мужчина, он сам себе хозяин…
— В твоем возрасте у меня в Трезене уже были дети, уже бегали… — я не нашел ничего другого, что сказать.
Это его позабавило, лицо его прояснилось, как летний день…
— Я знаю, государь. Не могу же я не знать своих братьев.
— Ты слишком легко на это смотришь… — Я был зол и добавил кое-что еще. На палубе галеры это прозвучало бы нормально, но сыну от своего отца такие вещи выслушивать не очень-то… Я это знал, но уже не владел собой.
А он посмотрел на меня — и ему стало противно, видно было. Если бы от меня — я, пожалуй, перенес бы это легче; но нет — от себя самого, за то, что старался излить передо мной душу… И это было для меня самой большой обидой: ведь злился-то я как раз потому, что любил его, гордился им… Если бы это был Акам на Крите — пусть бы он оскопил себя во время обрядов в честь Аттиса, и я наверно смог бы через это перешагнуть: он был славный паренек, но в нем было очень мало своего.
Ипполит молчал. А мне казалось, я слышу смех, не человеческий смех: хохотал Лабиринт, и холмы Наксоса, и Девичий Утес, и пещера за Глазом… Они сплелись в хороводе — Мать, Дева, Старуха — три, как одна, и я слышал их шепчущий хохот.
Злость во мне кипела, но я понизил голос и говорил тихо. Я давно этому научился: чтобы зацепить человека выше себя — есть лучшие способы, чем на него кричать. Я сказал среди прочего, что бесчестно было принимать царство, воспользовавшись старческим слабоумием некогда Великого Царя, что у него есть свои сыновья, имеющие больше прав, которые продолжили бы династию… А он — он издевается над последними надеждами доживающего свой век старика… «Ведь он любил тебя. Есть в тебе хоть капля совести?!»
Он и рта не раскрыл, но лицо его было красноречиво. Покраснело, с желваками на скулах… Он был не из тех, кто много говорит; и глядя, как он стиснул пальцами подоконник, я знал, что сейчас ему не говорить хотелось. Быть может, он думал, что я его не разглядел, но уж если кто знал такую ярость — так это я. Чуть не сказал ему об этом. Но пока мы молча глядели друг на друга — словно враги на поле боя — вошла мать и сказала, что царь готов принять меня. Она внимательно поглядела на нас, но ничего не сказала больше; а мы оба избегали ее взгляда, как мальчишки.
Деда усадили в постели… Он был чист и легок, как пух чертополоха; молочно-белая кожа обтягивала кости рук, а они лежали на синем шерстяном покрывале, под которым едва угадывалось его тело… Приветствуя меня, он поднял руку чуть-чуть, как маленькому ребенку, и я увидел пленку на его глазах. Я встал возле него на колени, он погладил мне волосы и сказал:
— Не теряй веры, сынок, это единственное, что мы можем… А боги знают, что делать с нами. — Голос был, как шелест тростника.
Он снова задремал… А мне снова вспомнилась юность: как мне был зов идти к быкам на Крит, как рыдал народ, как кричал мне отец, что оставляю его врагам на склоне лет… Да, это была правда, но я ушел, и не мог иначе…
Раздался стук копыт — я выглянул в окно. Парень был внизу на дороге; в свете заката пыль из-под колес тянулась розовым шлейфом… Когда он брал поворот, я представил себе, как его глаза пожирают пространство впереди, пока он не выберется на равнину, где сможет дать волю коням.
Я бегом бросился в конюшню, на ходу крича, чтобы дали колесницу и пару свежих лошадей… Прибежал и колесничий, но я отослал его и взял вожжи сам. Когда скитаешься по разным странам, то время от времени приходится править чужими лошадьми, так что и эти сразу почуяли хозяина. Через Орлиные Ворота я погнал их к морю; и люди в Трезене, мимо которых я совсем недавно ехал с царем-возничим, изумленно глядели мне вслед и вспоминали об учтивости, когда я уже проезжал.
Я его видел у поворотов, но он ни разу не оглянулся — смотрел только вперед, к равнине Лимны, что покрыта затвердевшей глиной; а добравшись до нее, нагнулся над упряжкой, и они рванулись — вихрем. Но я думал, что еще нагоню, хоть он и ушел раньше; ведь он крупнее меня, — моим надо везти меньший вес, — а он отпряг свою третью, праздничную, и правил только парой.
Рябь Псифийской Бухты плескалась о сверкающие влажные камни… По этой самой дороге я уезжал на поиски своего отца, на испытание мужества на Истме — как раз в его возрасте… И вот я снова мчался по ней во всю мочь — словно опять был мальчишкой и надо было выиграть гонку у другого, высокого… Я не был мальчишкой. Когда год за годом мокнешь на море — то тут, то там костенеют суставы, завтра всё будет болеть… Но всё равно я хотел выиграть эту гонку.
Против его каприза была моя воля; я уже доставал, когда его закрыл длинный поворот. Он меня так и не видел. Я обогнул мыс — и вот, совсем рядом, стоит его колесница… Но она стояла пустая возле дороги. Сердце у меня прыгнуло, ударило в горло — безо всякого смысла, потому что пара была привязана к оливе и стояла спокойно… Увидев, что всё в порядке, я привязал и своих коней рядом и пошел по тропе вверх.
Зная его, я думал, что мне придется карабкаться долго; но он ушел не очень далеко. Там была роща, а я шел тихо, — он меня не видел за деревьями. Он стоял, тяжело дыша… От скачки, от подъема и — я видел — от ярости. Руки его висели, но пальцы сжимались и разжимались. Потом начал ходить по поляне, словно зверь в клетке, — и вдруг подпрыгнул и с треском обломил сук, толщиной в мою руку. Разломал его, наступив ногой на середину, потом принялся за тонкие ветви… Вокруг была целая куча листьев и белой щепы изодранного дерева; он встал над этим месивом, угрюмо глядя вниз… Потом опустился на колени, пощупал руками и поднялся, держа что-то в сомкнутых ладонях; держал мягко, заботливо — но оно было мертвое. Не знаю, что это было, птичка или бельчонок, — что-то маленькое. Уронил убитую зверушку, взялся рукой за лоб… Я увидел его огорчение, понял, что он опомнился, что корит себя и за то, что произошло между нами, — мне было достаточно. Я вышел из-за деревьев, протянул ему руки:
— Ладно, малыш, это прошло, — говорю. — Зато теперь мы будем знать друг друга лучше…
Он посмотрел на меня, — так, будто я с неба свалился, — опустился на колени и прижал мою руку ко лбу. Пока он поднимался, я опять поцеловал его; но на этот раз, когда он распрямился во весь свой богатырский рост, я ощутил уже только гордость.
Мы поговорили немного, вместе посмеялись над нашей гонкой, замолчали… Уже вечерело, вершины холмов золотились над бухтой, утонувшей в тени; пахло водорослями с пляжа, чабрецом, влажной от росы пылью… Трещали кузнечики… Я сказал:
— Знаешь, я забрал твою мать у Девы, а теперь она требует вернуть долг. Боги справедливы, их нельзя обмануть… И хотя ты служишь тому из них, кто никогда не любил меня, будь верен, и ты останешься мне сыном. Верность — это мера человека.
— Вот посмотришь, отец, — он впервые назвал меня так с тех афинских дней, — вот посмотришь, я и тебе буду верен.
Он замолчал, но я видел, что он еще что-то хочет сказать — и стесняется.
— Ну что? — говорю,
— Когда я был маленький, — сказал он, — я однажды спросил тебя, почему невинные тоже страдают, когда боги разгневаны. И ты мне ответил: «Не знаю». Ты — мой отец и царь! — сказал: «Не знаю». За это я всегда тебя любил.
Я ответил ему что-то ласковое, а сам думал: удастся ли мне когда-нибудь его понять?.. Ладно, хватит с меня и веры в него. Когда мы шли назад к колесницам, я спросил, куда он ехал.
— В Эпидавр. Чтобы вылечиться от одной старой болезни. Я-то думал, что она уже прошла… А вместо этого пришел ты…
Он не сказал, что за болезнь; но я понял, что он говорил о своей ярости. Странные слова для человека его силы и в самом воинственном возрасте.
В лучах заката ярко горело небо, светилась земля; и лицо его тоже светилось — изнутри… Я ехал домойумиротворенный; и так славно, сладко спал в ту ночь… Но только богам дано вечно жить в радости.
2
В то лето мы с Пирифом добрались до самой Сицилии, чтобы оттуда напасть на Фапс. Ночной штурм с моря был так успешен, что мы были уже на стенах, когда они забили тревогу. Я слышал крик наблюдателя; раньше бывало кричали: «Тезей Афинский!», а этот вопил: «Тезей-Пират!.. Тезей-Пират!..»
Я разозлился, и фапсийцы дорого за это заплатили… Но всё равно это заставило меня задуматься. В те дни все, чем я мог похвастаться к концу года, — это груз добычи да очередная деваха, от которой меня через год затошнит. А когда-то это были области, очищенные от бандитов; укрепленные границы; законы, вершившие правосудие; улаженные распри между племенами; просители, освобожденные от жестоких хозяев… Если вдуматься — от того, что я живу, никому не стало лучше ни в этот год, ни в прошлый, ни в позапрошлый…
Когда мы шли назад вдоль берегов Италии, я вспомнил Трезену. Нельзя больше пускать дела на самотек: Ипполит сам выбрал свое наследство — значит, юный Акам, сын Федры, должен стать наследником всех моих царств. Он должен приехать в Афины, чтобы к нему там привыкли.
Парнишка был неплохой, в нем было немало достоинств… Но он был очень легкомыслен и жил со дня на день. Храбрости ему было не занимать, я часто это замечал, но честолюбия, казалось, в нем не было вовсе. Он был сыном моей законной царицы, с чистым титулом для материковых царств, если бы я его выбрал наследником, — однако, насколько я мог видеть, он спокойно ждал, пока Крит сам упадет ему в руки, и ни о чем больше не помышлял. Правда, он был критянин до мозга костей — как те изящные принцы Старого Царства, нарисованные на стенах Лабиринта, что гуляли по газонам ирисов с царским грифоном на веревочке; правда и то, что я сам сделал его таким… За всю его жизнь я привозил его в Афины лишь несколько раз, да и то ненадолго… У меня было оправдание, — он был слабым ребенком, — но я сам хотел, чтобы он оставался доволен своим Критом: достаточно уж братья повоевали из-за Аттики во времена моего отца. Однако теперь надо было показать его там, иначе народ его вовсе забудет; да и пора было приучать его к делу.
Он был беспомощен, как дитя малое. Ему было уже достаточно много лет, чтоб успеть призадуматься, как долго он сможет усидеть на Крите без поддержки аттического флота; но казалось — это его ничуть не заботит. А заботиться было о чем: Девкалион умер, сын его Идоменей был совсем не тот человек… Если он еще не строил заговоров, чтобы захватить трон, то удерживал его не страх: он слишком был горд, чтобы рисковать своей честью, и потому не хотел поражения. В нем была кровь Миноса, — и по критской линии, и по греческой, — и ему было двадцать пять, а мне уже за сорок, и я не слишком берег себя, — все это знали, — он мог и подождать. Но как только я уйду, Акаму придется держаться обеими руками…
Женщины на Крите всегда разбирались в делах; интересно, как ко всему этому относится его мать, пыталась ли она говорить с ним на эту тему?.. Он относился к ней с истинно критским почтением, но когда я был у них в последний раз, ему, кажется, со мной было лучше.
Она никогда не просила меня взять ее в Афины, хоть теперь уже ни ее народ, ни мой не стали бы возмущаться… Я часто думал об этом; но каждый раз, посмотрев на запертые двери покоев, еще хранивших тень Ипполиты, откладывал на будущий год. Ей было уже тридцать, а это поздно чтобы привыкать жить в чужой стране… И потом, она ведь дочь Миноса; быть может ей вовсе не хотелось занимать место мертвой, которое никогда бы ей не досталось, останься та в живых, — или ехать в такое место, где незаконнорожденный будет выше ее сына… Возможно, она слышала, что в моем доме слишком много баб и что они отбились от рук за время моих отлучек… Вполне вероятно, что всё это играло свою роль.
Лето уже кончалось. Если опять стану долго раздумывать — придется снова отложить… Потому я расстался с Пирифом в море и повернул прямо на Крит.
Мальчишка встретил меня в гавани. Встретил с восторгом. Спрашивал, где я был, что привез ему, как скоро он сможет отправиться со мной в плавание, — а ему едва исполнилось тринадцать… Всю дорогу он щебетал на колеснице, как скворец.
На террасе царского дома нас ждала его мать — маленькая, изящная, вся в украшениях; ее чудесные каштановые волосы блестели на солнце, а обнаженные груди были круглы и упруги, словно гроздья винограда в саду под террасой, откуда доносился его аромат… Когда мы остались наедине, я рассказал ей, как обстоят дела. И еще сказал так:
— Было бы несправедливо обойти Ипполита, после того как его мать отдала свою жизнь за меня и за Аттику. Если бы я тогда погиб, — а оба сына малыши, — ни один из них не мог бы рассчитывать ни на что… Но он посвятил себя Артемиде, чтобы отдать ее долг. Богам виднее… Но мы должны делать то, что остается нам.
— Да, — сказала она, — это верно.
Она сидела молча, сложив на коленях свои тонкие белые руки… Я чуть не сказал, что ей необязательно ехать в Афины, если она не хочет. Я прямо чувствовал, как эти слова скулились из меня наружу, как собаки просятся у закрытой двери, — но я знал, что это ее оскорбит. Она и так со многим мирилась: мои наезды к ней, между Афинами и морем, были коротки; я сам никогда не говорил ей о своих женщинах, но острова были полны и песен, и басен о моих морских походах, в которых я их добывал, так что она не могла не знать… Потому я сказал, что ей надо будет поехать, чтобы разделить почести с сыном, и что она может доверить мне привести в порядок дом и позаботиться о ее комфорте.
— Я хотела бы повидать Афины… — Она сказала это совершенно спокойно. Потом задумалась на момент… — Но что за странный юноша — отказаться от царства!.. А он не передумает? В этом возрасте молодежь полна прихотей, которые через год забываются…
— Только не он. Если он что-то решил, то не отказывается от этого легко.
Она подняла свои темные брови:
— Ты тоже.
— У него была возможность, и он это знает. Но прежде чем он научится интригам — лошади начнут летать, тут ты можешь мне поверить.
Итак, она согласилась ехать, а я отдал ей несколько украшений, которые нашел на Сицилии. Я больше думал об Акаме — как он примет эту новость?..
Он выглядел ошеломленно, словно такая мысль никогда ему и в голову не приходила. И что еще хуже — я понял, что так оно и было. Когда я умолк, он спросил:
— Отец, а ты точно знаешь, что Ипполит не хочет Аттику? Если хочет — я не могу ее взять! У друга — не могу…
Так можно говорить о детском подарке: о луке, ну о колеснице… Это вернуло назад все мои сомнения. «Какое легкомыслие, — думаю. — Славный парнишка, но величия — ни капельки…»
— Он твой брат, — говорю. — Ты думаешь, что я могу быть несправедлив со своими сыновьями? А что до дружбы — вы же никогда не виделись.
— Не виделись?.. Что ты, пап, конечно же виделись!.. — Ребенок вдруг обнаружил, что его заботы не заполняют собой весь мир, и изумился, и широко раскрыл свои темные критские глаза. — Это было, когда я возвращался домой из Афин. В последний раз, как я был у тебя. Ты послал какие-то письма в Трезену, и мы целую неделю оставались там — ждали ветра… Он как только узнал, что я там, сразу приехал вниз, и мы всё то время провели вместе… Он давал мне править колесницей — один раз, на ровном месте; и я совсем сам правил, — он сам так сказал, — он только чуть-чуть поддерживал вожжи… Мой пес Морозко — это его подарок… А ты не знал? Его отец был из священных собак Эпидавра… Неужели тебе не говорили, что это Ипполит меня туда отвез и вылечил?
— Вылечил? Но ты уезжал из Афин вполне здоровым…
— Да, но когда мы туда приплыли, у меня был один из тех приступов кашля…
Я совсем забыл, а в детстве он буквально синел от них…
— Жрец в Эпидавре знал всё-всё про это, он называл это астмой, а Ипполит тоже так сказал, еще раньше… Знаешь, пап, он почти врач; он мог бы стать настоящим врачом, если бы ему не приходилось стать царем. Ну вот, я проспал ту ночь в священной роще и видел настоящий сон от бога! — Его живое смуглое лицо стало торжественным, он приложил два пальца к губам… — Я не могу его рассказывать, но он был настоящий. А потом Целитель ушел с музыкой, а я — вылечился… Пап, а Ипполит может приехать в Афины, когда я буду там? Он тогда увидит, каким стал Морозко… Он на самом деле самый большой мой друг, а если мы не увидимся скоро, то вообще наверно друг друга не узнаем…
— Почему же нет? — говорю. — Там видно будет…
Эта негаданная любовь упала с неба словно дар божий. Мне стало стыдно, что держал мальчишек вдали друг от друга, — но разве забудешь войны Паллантидов?.. Конечно, он должен приехать! Но за всем этим была и другая мысль: будет он в Афинах, увидит, как слабо держит вожжи его младший брат, и придется ему самому приложить руки… Федра была права: я нелегко отказываюсь от того, к чему прикипело сердце.
А вскоре он сам написал мне из Трезены, по собственному почину: он хотел приехать в Элевсин, чтобы пройти обряд посвящения при Таинстве, и просил моего согласия. Я подумал, счастье само бежит мне навстречу.
Я выставил дозорных встречать его корабль, а когда он появился — вышел на крышу Дворца посмотреть. И сейчас будто вижу, как шел он к берегу мимо Эгины, как сверкал на солнце белый парус…
Когда я ехал в Пирей встречать его, то подумал, что рановато, пожалуй, оказывать ему такое внимание перед всем народом… Ладно, наплевать… Он спускался по сходням — я увидел, что он еще больше вырос; и лицо стало тверже, более взрослое… Неужели это я породил его? Нет — это всё она: мне вспомнилось, что у нее осталось единственное воспоминание об отце из ее детства — как он загораживал собой всю дверь.
Мы поехали вверх — через Морские Ворота — и дальше в Афины… Как капитан чует погоду, так ощущал я настроение толпы по их крикам и песням. В детстве он был сын амазонки, и только; а теперь они им восхищались, как детишки новой игрушкой: женщины ворковали, мужчины сравнивали его с Аполлоном-Гелием… Если бы могли, они кричали бы мне: «Почему ты его от нас прятал!..»
Во Дворце было то же самое. Старики, ненавидевшие его мать, вымерли; их больше не было… Всё было забыто, — и я давно уже знал об этом, хоть сам не забыл ничего. Молодые люди, которые были детьми, когда она погибла, восхищались тем, что они называли его эллинской чистотой… Это слово — «эллинский» — можно было услышать в каждом углу, и оно часто имело смысл. Смуглый Акам, — с его тонкой талией, гибкой критской походкой и певучим акцентом, — это он был теперь чужеземцем; это на его матери лежала теперь тень Богини, ее надо было опасаться… Как мог я не предвидеть этого? Если Ипполит только руку протянет за своим правом первородства — они его кинут ему, как букет цветов…
Он был теперь более уверен в себе, в нем росла привычка к царской власти — теперь в мире нет такого человека, чтобы смог его подчинить… Что ж, тем лучше; но я тоже кое-что понимаю в нашем деле — посмотрим…
Акам встретил нас в Зале. Сначала он был напуган ростом брата, но Ипполит вспомнил какую-то их прежнюю шутку — и скоро они уже болтали меж собой, как всякие мальчишки. Когда мы подходили к внутренним покоям, Акам спросил Ипполита, не холодно ли там, наверху. Тот рассмеялся, посадил его себе на плечи — посмотри, мол, сам… В разгаре этой игры в лошадки младший вдруг притих, и старший повернул голову. Там была Федра, ждала, когда к ней подойдут. Она плохо спала в ту ночь и с утра воевала со своими служанками… Причесана она была плохо и, очевидно, не могла сидеть спокойно, когда ей красили губы… Решив, что к ней недостаточно внимательны, она встретила его холодно и любезностей тратить не стала. Он подошел было к ней с улыбкой, просить прощения, но смутился и сразу посерьезнел и, сказав что положено, постарался уйти вместе с братом как можно скорей.
Вскоре и я последовал за ними. Мне было жаль, что она обиделась, — но быть может оно к лучшему, что она впервые увидела его именно так, в невыгодном свете, не слишком похожего на царя? Говорят, первое впечатление остается надолго…
Но что на самом деле было жаль — что я вообще притащил ее в Афины. Она не могла не разглядеть в нем красоты своей соперницы, и уже это было скверно; но если она увидит в нем соперника своему сыну — это и того хуже, это опасно… У меня был опыт по этой части: Медея считала соперником меня…
Потому я убрал его подальше на первое время, чтобы она о нем поменьше думала. Он катался или охотился, — с братом или со мной, — она видела его лишь среди прочих, во время обедов в Зале. Там он хорошо смотрелся, на самом деле. Он ходил обнаженный до пояса, по моде, что я привез с Крита, в коротких ярко-красных штанах, и носил большое ожерелье царского наследника Трезены, собранное из золотых орлов с распростертыми крыльями… Гладкая смуглая кожа оттеняла золото, а волосы падали на плечи, как серебро по бронзе. Когда он проходил на свое место рядом со мной, я каждый раз слышал тихий шепот среди женщин. Когда-то он звучал в мою честь, — но люди должны жить по своим сезонам, иначе боги станут смеяться над ними…
Вскоре он собрался в Элевсин на обряд очищения. Было еще полмесяца впереди, но он сказал, что ему надо там что-то спросить. В первые дни он приезжал по вечерам домой, затем вошел во внутренние пределы храма и уже перестал появляться. Вскоре Верховный жрец Элевсина сказал мне, как жрец жрецу, что Ипполит избран для посвящения в тайные догматы веры, которые они узнали от Орфея, прежде чем менады убили его, и которые вообще-то доверялись только жрецам.
Мне его здорово не хватало; но его отсутствие вроде было к лучшему, потому что Федра пришла наконец в себя. Она и выглядела лучше, и перестала жаловаться на воду и воздух в Афинах и на невежество людей; одевалась более тщательно и была любезна с влиятельными людьми… Я решил, она увидела, что ее угрюмость может пойти во вред сыну. Когда до обрядов осталось совсем немного, — женщины уже начали готовить к празднику новые платья, — она сказала, что тоже хотела бы пройти посвящение.
Я восхитился ее политическим тактом. Это должно было понравиться: ведь афиняне боялись старой религии, а в Элевсине — каждый знает — ее обряды исправлены… Так что я не стал препятствовать ей, хоть и видел в этом прежде всего заботу о сыне. Она была у нас слишком одинока, а теперь могла бы подружиться с кем-нибудь из женщин… И вообще, с чего я взял, что Ипполит передумает? А если нет?.. Иногда мне хотелось, чтобы парни уладили это дело меж собой, никому не сказав ни слова, как-нибудь у костра во время охоты. Молодым бывает трудно подчиняться своим родителям, они должны до всего дойти сами… Так что же остается, кроме как оставить всё это богам?.. Но я по характеру предусмотрителен, и потому продолжал планировать, хоть и знал что бесполезно.
В надлежащие дни она пошла вместе с другими женщинами научиться обрядам очищения. Ей сказали там, от чего она должна воздерживаться… В числе прочего была и наша постель. Это был ее пост — не мой, — а с Сицилии я привез одну темно-медовую девчушку, искусную в танцах Афродиты… Ради мира в доме я не держал ее на виду, но сейчас был рад снова встретиться с ней.
За два дня до обрядов, участники Таинства вернулись в Афины, чтобы жрецы могли организовать торжественное шествие. Вести молодежь я назначил Ипполита, поскольку его брат был еще слишком мал. Если б я попросил, для Акама пошли бы на уступки; но никто не мог сказать, что я его обидел. Народная хвала в великие дни празднеств — это крепкое вино; если Ипполит хлебнет добрый глоток его — быть может он лучше себя поймет…
Он появился среди самых последних, когда на Агоре уже было полно народу. Хоть он и похудел — глаза его светились, и кожа была чиста… Умылся и причесался он, как маленький, который делает это по обязанности и предпочел бы вместо этого поиграть, но всё равно — будто сиял. И казался счастливым… Мне подумалось: «Вот я посеял это семя жизни, а из него выросла тайна — жизнь, в которой я чужой. Пути богов неисповедимы…»
Потом я был занят, как всегда перед началом праздника… А когда выехал на колеснице и повел к храму афинских мужей, — юноши уже ушли, и унесли с собой изображение бога-жениха и священные предметы.
По дороге я вспоминал свое собственное посвящение. Я был последним, кто принимал участие в прежнем Таинстве, и первым — в нынешнем. Хоть от жрецов и от поэта я знал частично, что там будет, но все-таки в Таинстве была большая сила: и мрак и страх, и свет и радость… Прошедшие годы со всеми их делами и заботами стерли это в памяти; но теперь я вновь вспомнил те обряды и думал о сыне, которому предстояло через них пройти. А что он сделал бы со старыми? Смертельная схватка перед глазами Царицы, сидевшей на троне; и брачное ложе в темной пещере, и бесстыдный свет факелов… Он бы покраснел и сбежал в горы?.. Однако он не мог не слышать об этом: она — кому он служит — не всегда дева, и она любит чтобы фимиам курился перед каждым обликом ее… А он — он более мужчина, чем большинство мужчин; и когда-нибудь невеста скажет ему: «Неужто мой алтарь останется вечно холодным?»
Была чудесная ясная ночь. Внизу все сняли одежды — мужчины и женщины — и вошли с факелами в море. Это был последний обряд их очищения; когда-то он смывал с них кровь убитого царя. Он и тогда был серьезен и пристоен, а насколько это торжественно сейчас — знает весь мир… Долго впереди был факел жреца, потом другой обошел его — его нес кто-то высокий, кто мог войти дальше… Свет факелов удваивался их отражением в воде, и где-то среди этих блуждающих огней была Федра. Она была с Благой Богиней, наверняка, и не могла там набраться ничего дурного.
Огни погасли. Внизу всё стихло — там переодевались пока… Сквозь мрак я видел с крепости лишь шевеление смутных теней; они выстраивались для священного шествия… А тем временем все проходы в скалах были перекрыты, чтобы сохранить секреты Таинства. Потом в глубокой тишине возникли звуки песнопения, — сладкозвучные и полные печали, — слов не было слышно на таком расстоянии… И снова ночь упала в тишину… Где-то завыла собака, — собаки часто воют, когда чувствуют торжественность, — потом взвизгнула и смолкла… Затихло всё.
Пришло время умирать, — Дважды Рожденные меня поймут, — и я снова думал о мертвой, и снова душа моя умерла вместе с ней. Наконец откуда-то из глубин земли ударил гонг, глас тьмы, — даже на таком расстоянии он внушал ужас… Но во мне не было страха. Ни страха, ни надежды.
Но вот во тьме возникло яркое чистое сияние. Молчаливое изумление, потом крики радости, потом гимн… Словно светлячки, разлетались из пещеры вновь зажженные факелы — и начался танец. Я смотрел на него до самой зари, своей неутомимой неизменностью он был похож на движение звезд… На горах забрезжил рассвет, и я повел народ вниз — встретить посвященных и привести их домой.
А когда появилось солнце и проложило сверкающую дорогу по морю к Афинам, они встретили нас на берегу, одетые в новые белые одежды, в венках из пшеничных колосьев и цветов… Их лица — такие лица можно увидеть каждый год: еще слегка ошеломленные всем пережитым — страхом и восторгом… Те, кто заранее боялся обрядов, те были просто рады, что всё уже позади; другие были счастливы, что заслужили счастливую судьбу в Стране за Рекой… Я глянул на молодежь, на того, кто шел впереди всех. Думал, он всё еще в трансе своих видений, — нет, он с восторгом смотрел вокруг, словно всё было ему дорого и мило… На лице его было великое спокойствие и мягкое удивление и нежность… Но нежность — мудрого, старшего… Представьте себе взрослого человека, который видел только что, как детишки, спотыкаясь, запинаясь, пытались что-то изобразить… играли во что-то торжественное, великое… Они не могут постичь истинный смысл своей игры; они сами не знают, насколько она была прекрасна, — это лишь он, взрослый, знает… Вот так он выглядел.
Я произнес ритуальное приветствие, жрец ответил… Посвященным пора было разговеться в кругу друзей… Когда Ипполит, улыбаясь, подошел ко мне — солнце перечеркнули чьи-то широкие крылья. Громадный ворон, слетевший со скал, остановился над нами в воздухе так низко, что был виден пурпурный отсвет на его груди, словно эмаль на драгоценном мече. Люди показывали его друг другу, заспорив о смысле этого знамения… А парень просто любовался им — счастливый и спокойный, казалось он не видел там ничего, кроме красоты, распростертой в вышине. Ворон опустился ниже — он протянул руку, словно приветствуя птицу; и та почти коснулась его пальцев, а потом улетела в сторону Саламина, к морю.
Мне стало не по себе слегка — я следил за полетом птицы, — но шум среди женщин меня отвлек. У Федры поникла голова, ее отпаивали вином… После поста, и целой ночи на ногах, и переживаний во время обрядов — при Таинстве всегда одна-две женщины падают в обморок. В тот раз их оказалось четыре — что с того?.. И я забыл об этом.
3
Совсем вскоре после того, Акам однажды с утра появился бледный, под глазами круги… Я спросил, как он себя чувствует, — он ответил, мол, лучше не бывает; но его мать сказала мне, что в ту ночь у него был приступ кашля, впервые за последние годы. Я подумал, плохо дело, если будущий царь окажется так же слаб телом, как умом…
— Я пришлю лекаря, — говорю. — А пока ему может быть полезно повидаться с братом. У Ипполита много дел сегодня, он завтра отплывает; но ведь когда-то он помог малышу.
Послал за Ипполитом, велел чтоб нашли… Он прощался со своими друзьями, и когда пришел — их любовь еще окружала его, как аромат лета. Он растрачивал попусту свою власть над людьми, которую мог бы обратить в господство: его любили все вокруг, и он был счастлив этим, — прямо расцветал, — и этого было ему достаточно.
Побыв немного с Акамом, он вышел задумчивый, присел возле меня… Если бы я ему не пододвинул скамеечку для ног, он так и сидел бы на корточках, словно паж. Это было не от скромности: просто человек его роста может себе позволить не обращать внимание на такие мелочи; и говорил он совсем спокойно, как говорит о своем быке хороший пахарь:
— В прошлый раз, когда начались эти приступы, у него на душе была тяжесть. Ничего серьезного, — Аполлон доказал ему, — немного воздуха и всё прошло… Теперь Акам не хочет говорить, жаль, но мне кажется, что причина та же… Его мать выглядит хуже чем до Элевсина, тебе не кажется, отец? Быть может, она скучает по Криту?
— Может быть. Я во всяком случае у нее спрошу… Но малыш — как он сможет вести воинов в бой, если так пойдет? Ему бы хоть немножко твоей силы… Да, он будет огорчен, что ты завтра уезжаешь.
— О, я сказал ему, что задержусь на пару дней; если ты позволишь, отец. Можно мне послать гонца на корабль?
В тот вечер я пошел к Федре. Она почти не выходила из своих покоев после Таинства. В ту первую ночь она была утомлена, а у меня была девочка с Сицилии — и так это и пошло с тех пор; и ни она мне ни слова, ни я ей. Когда я вошел, она быстро глянула на меня и приказала подать шаль. Она похудела, и вид у нее был какой-то лихорадочный, напряженный, — казалось, с волос под гребнем вот-вот искры посыпятся.
Когда служанки вышли, я спросил об Акаме — его я только что видел, он мирно спал, — а потом о ней самой. Она сказала что всё в порядке; ну голова побаливала, ничего, мол, особенного, однако это утомляет. Я говорю, Ипполит, мол, беспокоился о ней… Тут она выпрямилась в кресле, засмеялась над его причудой воображать себя целителем и спрашивает, что он сказал.
— В Трезене, — говорю, — не смеются. Там верят, что у него целящие руки.
— Что ж! Эта вера их и исцеляет… Но что он сказал?
Я рассказал ей. Она окаменела в кресле, потом вскочила на ноги, — шаль потащилась за ней, — и давай кричать! С какой стати я позволяю такую дерзость?.. Этот сосунок считает себя лучше всех на всем белом свете — так поэтому я позволю ему хозяйничать в моем доме, как ему вздумается? Где моя гордость?.. Она буквально визжала от ярости и вся тряслась с головы до ног; я никогда ее такой не видел. Я подумал, у нее наверно месячное время, и ответил спокойно, что парень говорил из лучших побуждений и не имел в виду ничего худого…
— Ничего худого?.. А ты откуда знаешь? Нет, за этим что-то кроется!.. Почему он хочет, чтоб меня услали? Он хочет, чтобы здесь забыли нас, — меня и моего сына, — чтобы он занял первое место перед народом?..
— Ты очень ошибаешься, — говорю.
Она настолько опоздала со своими страхами, что я едва не рассмеялся над ними; но она была дочь Миноса!..
— Ты же знаешь, — говорю, — он уже сделал свой выбор.
Но она несла всё дальше и дальше: про его гордость, про его холодность… Такая мелочность была не в ее духе; уж не разгадала ли она моих тайных надежд?.. Какая жалость, что я привез ее сюда, ведь она должна была встать на дыбы из-за сына… Однако надо быть идиотом, чтобы пытаться спорить с бабами, когда у них это дело, — я ушел. Ночь еще только начиналась — так что нашел себе другую компанию.
На другой день Ипполит повез Акама купаться на Фалеронскую бухту. Они вернулись к вечеру, покрытые солью, почерневшие от солнца, и оба в отличном настроении. Видя их вместе, я подумал: «Вот так будет всегда. Он будет опираться на Ипполита во всем, и когда станет царем — тоже; фактическим властелином здесь будет старший. Но что это за жизнь для такого человека, каким будет он? Безымянная тайная власть бывает и у коварных старых сводников, у шлюх… Стоять перед богами за народ — вот в чем истинная царственность; а власть сама по себе — это бронза без золота…»
Когда-то примерно в те же дни Ипполит меня спросил:
— Отец, а что за человек Менестей? Чего он хочет?
— Чего он хочет? — говорю. — Хочет хорошо о себе думать. Что не жалеет трудов и не делает ошибок… Он полезный человек, из него может выйти неплохой посол, если только не позволять ему вмешиваться в дела.
— Ты имеешь в виду Хэлай? — спросил он.
У них там возник спор из-за земли, и я посылал Менестея повидаться с вождями.
— Да, — говорю. — Ты знаешь, он планировал великий день встречи племен: они должны были выступать здесь с речами друг перед другом и передо мной. Конечно, они бы вспомнили все старые обиды, за много поколений назад, к полудню дошли бы до смертельных оскорблений, к вечеру — до угроз… И первая кровь пролилась бы тут же, в начале их пути домой; и нам хватило бы этого добра лет на десять. Так я ему и сказал. Когда я узнал от него, в чем там дело, то поехал туда без шума, один, поговорил спокойно с вождями и привел их к соглашению. Каждый из них чем-то поступился, зато в выигрыше оказались все крестьяне — они бы голодали, если бы выжгли их поля… Быть может, Менестей надеялся на какие-то последствия этой встречи для себя, но нам надо было заботиться о хэлайцах, а не о нем.
— Так ты думаешь, ему не хватало последствий? — спросил Ипполит. — А я думал злости. Не знаю почему, но ему, кажется, вражда нужна как воздух.
Я задумался. Ипполит такого зря не скажет, никогда…
— Но это не принесло бы ему никакой выгоды, — говорю.
— О нет, выгода тут ни при чем. Он чрезвычайно честен; чтобы он взялся за какое-то дело, прежде всего оно должно ему нравиться. Быть может, гнев ему помогает?.. Ты заметил, отец, если человеку просто не повезло, — как бы он ни страдал, — Менестей этого просто не видит! Чтобы он пожалел кого-то, тот должен быть обижен кем-то другим: должен быть виновный, вызывающий гнев, у Менестея все чувства начинаются с него.
— Его отец его бил, — говорю. — Хотя, впрочем, многих в детстве били… Не знаю, почему именно Менестей, и только он, не может этого забыть. Ладно, в конце концов не стоит он того, чтобы говорить о нем весь день.
И так часто случалось, когда мы говорили о делах. Он не научился хитрости и был прямодушен как в детстве, но походя разрушал интриги хитрецов. Он просто не замечал этих интриг — им было не за что зацепить его; он не знал, что такое зависть, алчность или злоба. Да, но был он как те люди, заколдованные от оружия: то место, где их держат боги, окуная в огненную купель, — то место остается уязвимым… Так было и у него.
Через день-другой после того разговора мне передали, что царица больна. Это меня озаботило, — я отложил в сторону все дела, — но и разозлило тоже: ведь я разрешил ей уехать, раз Афины ей не подходят; если она осталась — только потому, что не хотела оставить Акама с братом и со мной… А он и так слишком долго продержался за ее юбки, ему нужны были мужчины рядом…
В ее покоях все шторы были задернуты, она лежала в темно-красном сумраке с повязками на лбу, и женщины постоянно меняли их, макая в холодную воду… Воздух был густым и сладким от критских эссенций.
Я спросил, что думает об этом лекарь.
— О, я его просто не выношу!.. Он ничем не может мне помочь, ну так ушел бы и оставил бы меня в покое — нет!.. сидит… и говорит, говорит, пока голова у меня вовсе не начнет раскалываться… — Она заметалась в постели, девушка поднесла ей понюхать ароматический шарик, она закрыла глаза… Я уже двинулся к выходу, когда они вновь открылись, и она сказала: — А Акам сводит меня с ума своим вечным «пошли за Ипполитом». О, пусть он придет, пусть он придет, я знаю, что это мне не поможет, но пока вы все в этом не убедитесь сами — мне же покоя не будет… Приведи его сюда, с этими его большими целящими руками, и пусть уж это будет позади.
— Раз ты просишь, то он придет, — говорю. — Но я в этом смысла не вижу, это только еще больше тебя взбудоражит…
Я подумал, что она хочет выставить его дураком, чтобы выместить свое раздражение.
Она сбросила со лба влажную повязку, потянулась за новой:
— Да, да, — говорит, — но со всеми этими разговорами я уже просто не могу больше. Я чувствую, что не будет мне покоя, пока это не сделано. Пришли его, хоть это и бессмыслица, — потом мне по крайней мере дадут уснуть…
Я нашел парня. Он был в конюшне; они со старым конюхом разглядывали больное копыто, а лошадь уткнулась носом ему в шею. Отвел его в сторону, сказал в чем дело…
— Хорошо, отец, если хочешь — я пойду… Но, пожалуй, от меня больше пользы здесь: лошадь мне верит, а это нужно чтобы дойти до бога.
— Знаю. Она устала и вообще капризна, так что много благодарностей ты не заслужишь… Но все-таки пойди. Ведь не умрешь же ты от этого…
Я помню, он улыбнулся…
Когда мы шли по двору, я думал, как часто он говорит теперь с благоговением об Аполлоне. Когда-то была одна лишь Владычица… Но, конечно, в Эпидавре его научили чтить Целителя, и как-никак они ведь родные брат с сестрой…
Служанки Федры приотворили шторы, чуть-чуть. Она была причесана и опиралась спиной на свежие подушки, глаза ей слегка подсинили… Я ввел мальчика наверх, и он остановился возле ее постели. Неуклюжий, застенчивый — таким я его никогда не видел… Его длинные большие руки висели нерешительно, словно задумались. Пробормотал что-то, в смысле ему, мол, очень жаль, что она болеет…
Я обрадовался, что она ответила любезно. Это, мол, приходит и уходит, но сегодня особенно тяжкий день… «Я уже испробовала все средства, кроме тебя. Так сделай, пожалуйста, что сможешь».
Он углубился в себя, — как я видел и у других целителей, — смотрел и думал. Потом положил руку ей на лоб и словно прислушался… Она закрыла глаза. Вскоре он взял руками ее виски и сжал слегка, чуть-чуть нахмурясь и всё с тем же слушающим видом… Через некоторое время он убрал руки, но она прижала их к лицу, так что он подержал еще немного, наконец выпрямился и покачал головой:
— Извини. Но, быть может, станет легче от отвара из ивовой коры?
Она открыла глаза:
— Почему же? Все уже прошло!
— Прошло? — Он снова наклонился посмотреть на нее. — Как странно, я этого не почувствовал. Но я рад, что тебе лучше. Надеюсь, теперь ты сможешь заснуть. До свидания.
Когда мы вышли, я сказал:
— Раз она забыла — я должен поблагодарить тебя за нее.
Он улыбнулся.
— Бог сам это сделал; хотел бы я знать как… Ну ладно, пойду назад к лошади; там случай простой.
В ближайшие несколько дней она посылала за ним еще пару раз. В первый раз я сам его отвел, в следующий был занят и отослал его с ее служанкой… А на следующий день она позвала его снова, но он уехал кататься на колеснице вместе с младшим братом. В конце концов, сказал я ей, он и задержался-то, чтобы помочь малому, и у них не так уж много времени осталось побыть вместе…
У меня еще были дела в Хэлае, где границы были запутаны несколько веков назад. Слишком много я запустил за свои бродячие годы и теперь ездил туда чуть ли не каждый день. На другой вечер я узнал, что Федра снова посылала за Ипполитом, но он не пошел, хоть был во Дворце. Я спросил почему, он ответил совсем коротко:
— Я послал ей лекарство. Оно ей поможет лучше.
— Может быть, — говорю, — но пойди хоть из вежливости. В доме будет легче жить без обид.
— Тогда пойдем вместе, — говорит, — посмотрим, как она себя чувствует.
— Мне некогда… — Пожалуй, я был груб, но не ему было указывать мне, что я должен делать… — Иди, — говорю, — пока не слишком поздно.
Он вышел вместе с ее служанкой. Мы как раз только что поели, он был одет для Зала, в своем большом золотом ожерелье… Тогда я не обратил внимания, а вот сейчас вспоминаю в деталях и пояс его, усыпанный ляписом и кораллами, и только что вымытые волосы, — мягкие, блестящие, — и как от него пахло душистыми травами после ванны…
Я рано ушел наверх со своей сицилианкой, а на другое утро был в Совете, — только к полудню хватился, что его не видно. Его паж сказал, что его не было всю ночь и что он еще не вернулся.
Вообще-то в этом не было ничего особенного, но я пошел спросить у Федры, послушался ли он меня, прежде чем исчез. Она была еще в постели, одна из ее девушек пробежала мимо меня в слезах, со следами побоев на теле… И сама она выглядела дико, словно всю ночь не спала, и всё вокруг дышало ссорой. Она глянула на меня так, будто ненавидела, — но, конечно, никто не мог ей нравиться в ту минуту…
— Откуда мне знать, где твой сын? И какое мне дело?.. Пусть будет где угодно, он был такой странный и грубый вчера!
— Грубый? — говорю. — Это на него не похоже. Что он тебе сказал?
Она продолжала кричать безо всякого смысла. Он бессердечен; врачевание для него только средство удовлетворить его гордость; его научили каким-то дикостям, это уж точно; ей стало не лучше, а хуже, теперь она весь день ни на что не будет годна; пусть он лучше к ней вообще и близко не подходит, но он должен прийти, чтобы хоть извиниться перед ней… И так далее. Я вспомнил про побитую девушку и решил, что она делает из мухи слона, но пообещал, что поговорю с парнем, как только он отыщется. Тут она вскочила, спрашивает, куда он уехал, — при этом я получше рассмотрел ее лицо. Она казалась лихорадочной и похудела, но не постарела от этого, как это бывает у женщин, нет: болезненная, дикая, полностью утратившая свое обычное спокойствие, она напомнила мне ту своевольную девочку в Лабиринте, с влажными волосами, разметанными по подушке, с распухшими от слез глазами… Напомнила впервые со дня нашей свадьбы.
— Он вернется домой, — говорю, — устанет или проголодается и придет. Ты же знаешь, каков он… Когда появится, я его отчитаю. А теперь я пришлю тебе настоящего лекаря, который знает все фокусы своего ремесла, он даст тебе что-нибудь, чтоб ты спала.
Она вдруг схватила мою руку, прижалась к ней, плачет навзрыд… Я не знал, что сказать; просто погладил ее по голове…
— Ох, Тезей, Тезей!.. Зачем ты меня привез сюда?!..
— Только ради твоей чести, — говорю. — Но если тебе там будет легче, то уезжай на Крит.
Она задрожала вся и аж ногтями мне в руку впилась:
— Нет, нет! Не сейчас!.. Я не могу покинуть вас, Тезей, не отсылай меня, иначе я умру!.. — вздохнула и, уже чуть совладав с собой. — Я слишком больна, море меня убьет.
— Ну успокойся, — говорю, — всё будет так, как ты захочешь; поговорим, когда тебе станет полегче.
Мне не хотелось продолжать при женщинах. Я вышел, послал за лекарем… Но мне сказали, что он у принца Акама, которому очень плохо; меня уже искали, чтоб сообщить об этом.
Я пошел к нему — и едва не задохнулся уже в дверях: слуга лекаря кипятил в котле какое-то зелье, и вся комната была полна удушливого пара. Дрова дымили; рабы, стоявшие возле них на коленях в попытках раздуть огонь, разрывались от кашля… Малыш задыхался в своей постели, лекарь лепил ему на грудь какой-то компресс — я их едва разглядел. Заорал, чтоб они убирались вон со всей своей дрянью, пока не задушили его совсем, спросил его, давно ли ему плохо… Со вчерашнего вечера, говорит, а слова — едва выговаривает сквозь удушье.
— Слушай, — говорю, — судя по твоему виду, эти идиоты не много тебе помогли своей вонью. Не знаю, что сегодня со всеми творится… — Дом, казалось, был полон болезнями и унынием, и я от этого почувствовал себя стариком. Снова вспомнились годы амазонки — стремительные, как бег колесницы, когда я знал, зачем я… — Я найду твоего брата, — говорю, — он должен быть где-то близко. Он сможет что-нибудь сделать, лучше этих.
Акам покачал головой и старался что-то сказать, но его опять одолел кашель. Я знал — он не любит, чтобы его видели во время приступов, и поднялся уходить; он ухватил меня за руку, пытаясь задержать, но я подозвал его старую критскую няньку, понимавшую больше всех остальных здесь, и пошел искать Ипполита. Я думал — если болезнь здесь, то лекарь не может быть далеко.
В его покоях был только паж, коренастый парнишка лет пятнадцати. Смотрел в окно… Как только увидел меня, сразу сказал:
— Я знаю, где он сейчас, мой господин: он ушел вниз со Скалы. — Потом увидел мое лицо и добавил: — О нет, государь, всё в порядке, я видел — он там сидит.
— Где? — Я был на грани терпения.
— Сверху не видно, мой господин, надо обойти понизу. Я думал, мне стоит взглянуть; я знаю большинство его любимых мест.
Он не был моим подданным, потому я спросил спокойно:
— Почему ж ты его не привел?
Он изумился:
— О, я никогда не хожу за ним, государь, разве что он мне заранее прикажет.
Я знал, глядя на него, что если я прикажу он мне не подчинится; так иногда знаешь заранее, что собака укусит. Потому просто спросил, что это за место.
— У устья старой пещеры, государь, на западном склоне. Там, где храм Владычицы.
Его построили после Скифской войны в благодарность за победу. Я вспомнил приношения, кровь и цветы и необработанный камень — там, где снова сомкнулись валуны над входом… С тех пор я там ни разу не был, — это была последняя дверь, через которую она прошла при жизни, — но теперь меня так тошнило от всех вокруг, что я пошел сам.
Дорога успела зарасти, стала почти такой же дикой, как была, когда открыли подземелье… А я теперь был не так гибок, как тогда, — пару раз нога соскальзывала, срывался, — но в общем спустился, без особого труда.
Он сидел, опершись спиной о скалу и глядя в море, и — похоже — не двигался уже много часов. И не обернулся, пока я не подошел совсем близко. Я знал, как он подвержен настроению, с первых лет, но такой перемены не видывал никогда: казалось, тоска высосала из него даже молодость, от его цветущего обаяния и следа не осталось… Там сидел хорошо сложенный мужчина; и лицо его можно было бы назвать красивым, если бы в нем была хоть капля радости… Но оно было угрюмо, иссушено заботой, — как лицо крестьянина над издохшим волом. Это я увидел прежде всего: страшную утрату, и незнание как жить дальше.
Он поднялся на ноги и даже не удивился, увидев меня… На его спине остались глубокие красные отпечатки от камня…
— Я думал, ты остался в Афинах присмотреть за братом, — сказал я. — Он едва жив, а я целый день тебя ищу…
Он вздрогнул, в отчаянии ударил себя рукой по бедру:
— Святая Мать! Я должен был знать это!..
— Тогда мне не пришлось бы рвать сандалии на этой козьей тропе. Но я полагаю, ты сам себе хозяин… Ладно, если хочешь помочь брату, то тебе стоит поторопиться чтоб не опоздать. Двигай!..
Он пошел по тропе, потом остановился… Я подумал, он возмущен, что его выследили здесь, и принимает это слишком близко к сердцу, что бы там ни привело его сюда… Он молчал. Нахмурился, в глазах тревога… А мое нетерпение было, наверно, заметно… Наконец он выжал из себя:
— Я не знаю… смогу ли помочь ему теперь. Ты… уверен, что он звал меня?
— Он не может звать. И дышать тоже уже почти не может!.. Идешь ты или нет?
Он постоял еще, всё с тем же замкнутым тяжелым видом, не глядя мне в глаза… Потом:
— Хорошо, — говорит, — я попытаюсь, раз так. Но если он меня не захочет — мне придется оставить его как есть.
И пошел прямо вверх, — легкий, как кошка, несмотря на свой вес, — срезая по скале повороты тропы. Его длинные руки позволяли ему ухватиться где угодно. Я поднялся следом за ним по тропе и ушел к себе.
Его так долго не было — я уж подумал, он снова где-нибудь заблудился. Наконец у двери раздался его голос, но когда дверь открылась — первым вошел Акам. Он был одет, умыт и причесан; и хоть глаза провалились в черные ямы и весь он был измотан до предела, — но дыхание было спокойным. Ипполит шел за ним, обнимая его за плечи. На мой взгляд, он выглядел немного лучше своего пациента; казалось, оба они не спали по многу ночей.
— Отец, я должен отплыть завтра. Может Акам поехать со мной? Я хочу взять его в Эпидавр, там мы его поставим на ноги. Если он останется здесь, ничего хорошего не выйдет.
Я посмотрел на них… Все еще не верилось, что Акам вообще стоит на ногах…
— Завтра? Что за ерунда! Ты погляди на малого… — Акам кашлянул и сказал мне, что чувствует себя хорошо, — но до чего хрипло сказал… — И послушай его! — говорю.
— Но тут всего один день плавания.
Я знал этот его вид: с тем же успехом можно беседовать с ослом, который не хочет двинуться с места… Но я сказал:
— Принцы не могут собираться в путь за ночь, словно конокрады. Пойдут разговоры… Приходите с этим на будущей неделе.
— Ему надо уезжать сразу, отец. Ты просил меня помочь ему — это единственный способ…
Мальчик подвинулся к нему и обнял, — но не повис на нем, чтобы я не подумал, что это от слабости…
— Но к чему такая спешка? — Все казались околдованными, я ничего не мог понять. — Еще вчера у тебя не было никаких неотложных дел, а писем мы не получали за это время. Я полагаю, ты мог бы подождать, чтобы отбыть достойно и дать брату возможность хоть отдышаться перед дорогой.
— Отец, я должен ехать. — У него снова был тот же загнанный вид, что на Скале. — Я должен. Мне было знамение.
Яподумал, как он сидел всю ночь без сна на Скале, словно ночная птица, и почуял касание сверхъестественных сил. Стало жутко, не по себе… Спросил:
— От Богини?
Он помолчал, — рот сжат, складка меж бровей, — потом кивнул.
Я устал как собака: день работы, вся эта кутерьма, да еще лазай по скалам, ищи его…
— Ладно, — говорю, — езжайте. Это, наверно, не хуже, чем душить его здесь дымом. А кто из вас скажет его матери? — Оба молчали как глухонемые. — Конечно, никто. Это удовольствие достанется мне…
Я пошел сразу, чтоб поскорей с этим покончить. Федра так и не вставала; лекарь дал ей макового отвара, но она не спала и угрюмо смотрела на дверь. Я начал с новости, которая должна была ее порадовать, и рассказал, что Ипполит уезжает, а потом уже заговорил о ее сыне. Она напряглась и стиснула руки, но когда я закончил — молчала; и я сразу ушел.
На другое утро мои сыновья уезжали. Шел дождь, и я послал Акама под тент… Ипполит прощался со мной на корме. Завернулся в черный плащ, волосы прилипли к щекам от ветра и дождя… Вот такие бывали и у его матери иной раз на охоте… Но ее секреты от меня были не темнее, чем тень листа на воде, ее я всегда понимал.
Под самый конец он глянул на меня, будто хотел что-то сказать… Эта его спешка была очень странной: я ничем вроде его не задел, почему он так скрытен со мной?.. Мне показалось, что в глазах его что-то мелькнуло, — но он никогда не был из разговорчивых. Капитан крикнул: «Отдать швартовы!», мокрые спины гребцов склонились над веслами… Я не стал ждать, пока они выйдут в открытое море.
4
Наступила осень. То лето я провел дома, потому у меня было меньше дел, чем в прошлые годы в это время. Дом казался пустым: ведь не обо всем станешь разговаривать со слугами, а больше поговорить было не с кем. Аминтор давно погиб в какой-то семейной стычке, не стоившей его меча… Я научился одиночеству до этих последних недель, что провел с сыновьями.
Корабль из Трезены привез мне письмо… Ипполит писал, что Акаму много лучше, он ездит в святилище лишь каждую третью ночь, чтобы принимать лекарства и спать там в роще… «Теперь ты простишь мне наш отъезд, отец? Я уезжал не по своей воле. Никто другой меня не научит тому, чему я учился у тебя. И мне было хорошо с тобой…»
Письмо было на двух восковых табличках, и воск был сильно истерт, словно он долго думал над ним. Я убрал его в сундук, где были вещи его матери.
В доме было так тихо, что можно было бы надеяться и на покой; но лишь только сын ее уехал, Федра начала страдать. Сначала, что у него там будет припадок и он умрет вдали от нее; потом, — когда появились добрые вести, — что он ее забудет… Она беспрерывно болела, но врачи ничего не могли определить, кроме этой тоски по сыну. Я пытался ее убедить: разве, мол, это любовь — хотеть, чтобы он вернулся недолеченным? Эти приступы могут покалечить не только его жизнь, но и его царствование; по правде говоря, он вообще не сможет править… Я боялся, она разъярится, но она сказала мягко и робко:
— Ты прав, Тезей. Но мне нет покоя ни днем ни ночью, мне все время чудится, что он там в какой-то опасности и бог предупреждает меня… Сделай для меня лишь одно: позволь мне самой поехать в Трезену и побыть там немного у твоей матери. Я повидаю и врачей в Эпидавре… Позволь мне поехать, ведь я не так уж много прошу.
— Не так уж мало, — говорю. — На Крит — другое дело; но Трезена заставит людей думать, что я тебя сослал. Нам лучше обойтись без таких сплетен.
Плыть на Крит было поздно, уже начались штормы.
Я оглядел ее комнату. Мешанина платьев и украшений: тряпки висят и валяются где попало, пузырьки, кувшины, зеркала, повсюду горшки с лекарствами… И в этой тесной, захламленной клетке — теплый спертый воздух, полный женских запахов. Вспомнил, как всё здесь было когда-то: в распахнутые шторы вливается солнце; чистое полированное дерево; пахнет пчелиным воском, лимоном, чабрецом; на нетронутой постели — лук и шелковая шапочка; к оконному косяку прислонена лира, на подоконнике — крошки для птиц…
Это место было осквернено и загажено — я ненавидел его теперь, мне хотелось исчезнуть отсюда… Но море было заперто штормами до весны, и я сказал:
— Прекрасно. Мы вместе поедем в Трезену и навестим мальчика. Тогда ни у кого не будет сомнений на этот счет.
Она снова предложила, что поедет одна; она, мол, не будет там в тягость…
— Конечно, — говорю, — до тех пор, пока не поссоришься с Ипполитом. Он там уже хозяин в доме, полный хозяин, и ты будешь его гостьей. Любое свое недовольство ты сможешь высказывать только мне.
Я послал гонца по сухопутью, через Истм, чтоб известить о нашем приезде; но дороги были разбиты, он где-то свалился в овраг, его подобрали и лечили невежды… Так что когда мое письмо попало туда, мы сами уже тронулись в путь.
Когда Акам разболелся, афинские жрецы заявили, что это кровь Паллантидов, убитых давным-давно в войнах отца, пала проклятием на мой род. Мне казалось, их побудила просто зависть врачей к коллегам в Эпидавре, а не какие-то там знамения; но чтобы успокоить и умилостивить Благосклонных, — если они на самом деле были разгневаны, — я распустил слух, что увожу свой кровный грех из Афин и вернусь назад очищенным.
Это было осеннее путешествие, медленное и тоскливое. Дорога была скользкой, ее завалили оползни с гор… Кожаные занавески дамских носилок едва спасали женщин от проливных дождей… У меня у самого всё тело ломило от сырости, я боялся что Федра вообще не выдержит дороги через Истм; но она с каждым днем веселела, ела с аппетитом и выглядела всё лучше, хоть все ее женщины расхворались.
Мы свернули с приморской дороги, чтобы задержаться в Эпидавре. Его закрытая долина была похожа на таз для сбора дождевой воды. В доме для гостей пахло смолой и сосновой хвоей, слуги растирали меня полотенцами, а я смотрел на извилистые прогалины в лесу — с пожелтевшими осенними листьями, с мокрыми кустами зеленых лавров… Спальные домики для больных были заперты против непогоды, с соломенных крыш лилась вода, бревенчатые стены были в мокрых потеках… Желтые буки роняли свои листья в разбухший ручей, хрустевший камнями в водоворотах; на лужайках стояли громадные лужи, и из воды торчали лишь верхушки травы… Вы скажете — нерадостное зрелище. И все-таки было во всем этом что-то умиротворяющее, что порождало душевный покой, ощущение соответствия жизни с временем года и с волей богов… Я был бы рад отослать всех своих людей — и просто сидеть в одной из этих хибарок под соломенной крышей и смотреть, как пролетают мимо шквалы дождя, и слушать, как шумит ручей, и ждать, никуда не спеша, когда запоздалое солнце бросит сквозь ветви на воду золотистые пятна света, и сладко запахнет перед вечером влажная земля, и засвистит черный дрозд или пробежит по траве трясогузка…
У них было не много времени, чтобы приготовиться встретить нас, но врачи привыкли спешить. Всё делалось быстро и четко; было видно, что, если бы я крикнул: «Помогите, умираю!» — это почти ничего не изменило бы здесь. Скоро пришел сам Царствующий жрец, любезный и живой, но как-то по-особенному сдержанный; от привычки носить в себе секреты больных, скрывая их даже от царей, как обязывает клятва их богу. Он был моложе меня, одет очень просто — скорее не царь, а жрец, готовый своими руками работать среди больных. Его царство было священно, так что воевать ему не приходилось; и богатство ему было не нужно — хватало приношений приезжих… Я спросил об Акаме — он ответил, что мальчик как раз у них и чувствует себя хорошо, но не стоит его будить после принятого лекарства и водить по дождю. Он был очень вежлив, но говорил как царь, — и я не стал спорить: слишком спокойно было там.
Федра приехала в такую даль повидать сына — я боялся, что она станет скандалить… Но она сказала нетерпеливо, мол, раз уж здесь оставаться незачем, то лучше поспешить и закончить наше путешествие.
По дороге дождь развеялся. Воздух был свеж и мягок, но я подумал — в Эпидавре он еще лучше… А оглянувшись с колесницы на повороте дороги, услышал вдали пение жертвенных петухов. Это птицы света приветствовали солнце.
К границе Трезены мы добрались к вечеру. Тень лесистой горы погрузила Дворец в сумерки, по небу протянулись огромные смятые простыни из кроваво-красного света и окрасили острова на голубом море… А на дороге перед нами — сверкало золото, словно пламя факела; развевались перья и гривы… А над ними сияли светлые волосы: это встречал меня сын.
Мы съехались в сумерках. Он был в полном параде, с возничим на колеснице… И тот держал его коней, когда он спрыгнул, отбросив церемонии, и подошел к моей. Его глаза, окруженные тенью, казались почти черными. Я заглянул в них, — пока спускался, опершись на его руку, — и меня коснулась тьма, как коснулся Дворца перст ночи. У него был взгляд обреченного воина, идущего на безнадежную битву, но в этом взгляде было и сострадание ко мне — почему?.. И он позволил мне заметить, как ему плохо, словно нечаянно, как смертельную рану; в последней отчаянной надежде, что я его спасу, хоть знал заранее — ничего не выйдет.
Я промерз и устал в дороге, всё болело; хотелось горячей ванны, подогретого вина, настоящей теплой постели… Только душа была в покое после Эпидавра, но тут обдало холодом и ее. Вспомнилось его бегство из Афин, его непонятные бдения перед тем… Всё наверно из-за того, что он вмешался в женские тайны; из этого никогда ничего хорошего не выходит — только дурные сны и больные фантазии… Я подумал, что лучше всего не принимать это близко к сердцу, и поздоровался с ним весело, с какой-то шуткой о нашей поездке…
Страх и скорбь ушли с его лица, он улыбнулся… Так плащом прикрывают кровь, устыдившись что показали ее. Потом подошел к носилкам Федры… Я видел, как он склонил перед ней голову, — но она, отвечая, приоткрыла занавеску едва на ширину ладони. Это мне не понравилось: она могла бы быть поучтивее — и с наследником царя Питфея, и с моим сыном… Плохая получилась встреча.
5
По склону движется камушек, стронутый козьим копытом или струйкой дождя. Сначала едва катится, и его могла бы остановить детская ручонка… Но вот он уже летит громадными прыжками, быстро как из пращи, и всё быстрее и дальше — и низвергается с утеса, словно стрела Аполлона, и даже боевой шлем от него уже не защитит…
Так быстро накатывался конец. Или это теперь так кажется?.. Ведь в Трезене проходили дни, даже году хватило времени подвинуться… В горных дубравах повисли туманы — и улетели; опавшие дубовые листья закрыли землю по щиколотку и хрустели под ногами, распугивая оленей; на листья пали дожди и превратили их в мягкий ковер, прилипший к земле, темный, как старые шкуры, и пахнувший дымом…
Питфей уходил из жизни, как старый корабль, что тихо погружается в вечный покой. Его глаза стали уже молочно-белыми и видели лишь движущиеся тени; и память — почти такой же. Он любил чтобы моя мать была возле, но очень часто принимал ее за давно умершую служанку, которую захватил на войне, когда был еще молод. Он просил ту служанку петь, и чтобы доставить ему радость, мать переспросила всех стариков, какие песни знала та девушка, — но никто не помнил даже ее имени. С тех пор как в Трезене умер последний царь, прошло уже шестьдесят лет; когда нам придется хоронить Питфея — некому будет сказать, какие обычаи были прежде… Всё вокруг казалось странным; даже свет был странным, как перед грозой, когда далекие острова видятся близко и отчетливо… Я думал, что причина тому в угасании этой великой жизни.
Мать проводила целые дни в его верхних покоях и появлялась лишь по делам хозяйства или ради обрядов или уходила отдыхать к себе — нас она почти не видела. Быть может, в паутине и в криках птиц ей попадались знамения смерти — кого это могло удивить в те дни?..
Акам снова вернулся из Эпидавра, но все-таки спал в священной роще каждую третью ночь; жрецы говорили, что еще не было знамения о его окончательном исцелении. Эпидавр сделал его серьезнее; он был так спокоен, что сам мог бы сойти за жреца… Дома он почти все время проводил с одним из дворцовых ремесленников, мастеря лиру; ему велели ее сделать в дар Аполлону. Но когда ему удавалось увязаться за братом — он следовал за Ипполитом словно тень. Было заметно, что Федре не нравилось когда они исчезали, но что я мог сказать малому? Сказать: «Ипполит старше тебя на четыре года: на те годы амазонки, когда твоя мать — дочь Миноса из тысячелетней династии царей — ждала на Крите, пока у меня появится время для нее»?.. В его возрасте он мог понять это и сам.
Однажды я сказал ему другое:
— Ты должен побольше бывать с матерью, — говорю, — ведь ради тебя она проделала этот путь в такое скверное время.
Он, казалось, ушел в себя, потом очень серьезно ответил:
— Она ничего не имеет против, государь; она знает, что мне теперь лучше.
Так мог бы говорить взрослый, всё понимающий человек… Но и на самом деле — она никогда не спрашивала о нем, когда его не было рядом.
Я не привез с собой ни одной своей служанки — не потому, что не хотел, а ради приличия: как бы там ни было, пора было привести в порядок нашу семейную жизнь. Но по ночам всегда что-то случалось: головные боли, обмороки, дурные приметы, месячные… Давно прошли те времена, когда я с охотой отсылал женщин из ее спальни и проводил с ней ночь; но она никогда от этого не отказывалась до нынешнего года… А теперь — мне еще не было пятидесяти, и ни одна женщина не могла сказать, что я ее разочаровал, — но теперь я начал думать: «Старею, что ли?» От осенних туманов отсырела душа, беспрерывные дожди даже на охоту не выпускали… Запертый под крышей, я стал беспокоен — и уже собрался было вернуться в Афины, оставив Федру там, — но в тот самый вечер среди служанок в бане появилась новая миленькая девушка, пленница кого-то из придворных, умершего недавно. Было ясно, что ее слезы никогда не потревожат его тень. Царь Питфей прислал ее прислуживать мне, она сказала это с удовольствием и без запинки… А я видел его в тот день, — он вряд ли отличал день от ночи, — так что этот подарок пришел от моего сына.
Я подумал, он славный парень и желает мне добра… Однако, как раз этот случай казался странным, непохожим на него. Хоть я и оставил ту девушку у себя — и она мне понравилась, — но узнать, что вокруг все болтают, что я сплю один, — это было унизительно. Я ничего ему не сказал, считая, как и он, что говорить об этом не пристало; да и вообще мы теперь редко разговаривали. Его угрюмость не прошла, а стала еще заметнее… Это было хуже его прежних приступов транса, какая-то новая напасть; парень тосковал, я даже подумал бы, что он болен, если бы не видел, как он лазает по скалам, словно горный лев. Подавленное, измученное выражение, какое было у него в Афинах накануне отъезда, теперь почти не сходило с его лица; он худел, по утрам глаза у него были мрачные; пропадал целыми днями, никто не знал где… Слыша, как о нем спрашивают, я понял, что он пренебрегает даже делами царства: назначает время, забывает об этом и уезжает… Я часто видел со стен, как его колесница мчится по дороге в Эпидавр, словно на призовых скачках; он возвращался заляпанный грязью с головы до пят, но всё так же погруженный в свои невеселые мысли, — и едва вырывался из них, чтоб улыбнуться и поздороваться со мной. А иногда он уходил пешком, и я мог проследить его яркие волосы на тропе, что вела к Зевсову дубу и дальше. Мысленным взором я провожал его туда — за скалу с каменным глазом… Чего он искал? Его там встретят лучше, чем меня?
Однажды его неповоротливый паж поднялся ко мне и неуклюже спросил, не видел ли я его. Надо передать записку от царицы. Я предложил, чтобы он передал ее мне, и он отдал безо всякого. Он был простачок, быть может, а может и наоборот…
Табличка гласила: «Ты совсем оставил Тезея; забыл, что ли, что он твой гость? О себе я уж молчу. Ты обижаешь и оскорбляешь его. Чего ты боишься?»
Я сказал пажу, что улажу это сам, и пошел прямо к ней. Заговорил лишь, когда она осталась одна.
— Что это значит?! Что ты затеяла против Ипполита?.. Так ты держишь свое слово?
Я закончил спокойнее, чем начал, — увидел, что ей нехорошо: прижала руки к горлу, осела… Всё последнее время она хандрила, но наотрез отказывалась ехать в Эпидавр.
— Ладно, ладно, — говорю, — успокойся, я сам виноват. Я должен был знать, что вы никогда не уживетесь; мы оба это знаем, но что теперь толковать?.. Что было — было, и было давно, и она давно умерла… Ты приехала сюда повидать Акама и знаешь теперь, что он в порядке. Старик может помереть со дня на день; я не хочу приносить в дом раздора, в то время когда сыну придется принимать наследство. Через два дня я возвращаюсь в Афины, и ты едешь со мной.
Она мгновение поглядела на меня — и засмеялась; сначала тихий смех, потом громче, громче — и дикий, пронзительный хохот, без остановки, взахлеб… Я позвал ее женщин и ушел. Когда я только женился на ней — я и тогда знал, что она из дряхлого, прогнившего рода, подверженного всяким крайностям. Но мне приходилось думать о царстве…
Ипполита, как обычно, не было. Только к сумеркам он притащился домой, измотанный словно раб на полевых работах, в одежде, покрывшейся в лесу зелеными и бурыми пятнами… Учтивость приветствия не восполняла его пренебрежения ко мне в последнее время; но — помня, что ради меня он терпеливо сносит сварливость мачехи, — я не рассердился; и только сказал ему, что мы уезжаем.
Он начал говорить что-то, но запнулся и умолк. Потом встал на колени, приложил мою руку ко лбу и стоял так — так долго, что я велел ему встать. Он поднялся — очень медленно — и вдруг заплакал. И стоял неподвижно, тяжело дыша, а слезы беззвучно сбегали по щекам… Наконец невнятно сказал:
— Мне очень жаль, отец. Я не знаю, что это такое… Мне жаль, что ты уезжаешь… — Голос его прервался. — Прости меня.
Он поспешно ушел; обернувшись, я увидел, что Акам, который слонялся вокруг в надежде увидеть его, — в последнее время он часто отделывался от малыша и уходил один, — Акам с ужасом посмотрел ему вслед и кинулся бежать в другую сторону. Он слишком почитал своего брата, чтобы не испытать стыда, увидев как тот утратил мужество.
Прошли тот день я ночь и следующее утро… Не помню, как я убил всё это время, — это стерлось. Но незадолго до полудня я вышел в конюшню, чтобы проверить перед дорогой лошадей. Дождя не было, но небо закрывали серые тучи, и ветер, дувший с моря, был промозглым…
Вдруг я услышал высокий, пронзительный женский крик. В первый момент я почувствовал только, что крик сверлит мне голову, — до того я не замечал, что начинается боль. Потом крики стали выплескиваться обрывками, словно сама женщина билась в конвульсиях… Я подумал: «Здорово ее муж колотит»… И тут донесся дикий вопль: «Помоги-и-те! Помоги-и-ите!..» Я узнал голос. Мы с колесничим глянули друг на друга — и, как один, кинулись вперед.
Крики доносились из оливковой рощи за амбарами. Она была посвящена Матери Богов, и там был небольшой алтарь. Среди деревьев, неподалеку от алтарного камня, на земле сидела Федра. Всхлипывая и причитая, она раскачивалась из стороны в сторону и била сжатыми кулаками по земле, потом себе в грудь… Ее волосы были разметаны, у оборванных застежек платья светилось обнаженное тело, а на плечах, на руках и шее красными рубцами отпечатались пальцы, и было видно что это за пальцы.
Я подбежал к ней… Она ухватилась за мои руки, тяжело дыша и бормоча невнятно, — я не мог ничего понять… Попытался ее поднять, но с нее стало сваливаться платье; она выдернула руки, чтобы затянуть на себе пояс, потом кое-как поднялась, придерживая юбку одной рукой, а другой — показала через рощу. Сквозь натужное судорожное дыхание голос прорывался хрипло, будто карканье ворона:
— Там… Там!..
Послышались мужские голоса, топот бегущих ног, звон оружия — это на крик бежала стража. Они еще поднимались к нам, но самые первые услышали ее слова и тут же кинулись дальше меж деревьев, словно гончие по свежему следу… Они перекликались друг с другом, но вдруг их голоса изменились — и, взглянув через рощу, я увидел его.
Он убегал в сторону гор, перелетая через валуны, как олень… И морской ветер раздувал его светлые волосы. Во всей Трезене не было других таких волос.
Я стоял как громом пораженный. Чудовищная боль скользнула из головы и наполнила всё тело, казалось во мне не осталось места ни для чего больше…
Всё вокруг превратилось в шум погони, он стучал в висках… Пока только самые первые поняли, кого они преследуют. Но когда имя дойдет до остальных — никто не остановится. Существуют законы, впитанные в самые кости людей, эти законы были на земле уже задолго до принцев…
Я послал кого-то привести служанок царицы, а остальным приказал разойтись и оставить нас вдвоем.
Она кое-как скрепила пряжку юбки… И теперь стояла, ломая руки, раз за разом выкручивая кисти, словно мыла их, мыла — и никак не могла отмыть…
— Быстрей, — говорю. — Никто тебя не услышит. Во имя Зевса, что произошло? Говори.
Она тяжело дышала; с каждым вдохом слышалась дробь стучащих зубов — ничего больше. Я еще держал себя в руках, по привычке вершить правосудие.
— Говори скорей, пока его не привели сюда.
Но она только раскачивалась и всё умывала руки… Меня ослепила внезапная вспышка горячего света, я шагнул к ней, встал над нею и рявкнул:
— Говори, женщина! Он сделал это или нет?
— Да!..
Рот у нее остался открытым, и я думал, она снова завопит, — но теперь наконец полились слова:
— Это началось в Афинах, он преследовал меня, но говорил, что это чтобы лечить мне голову… В Афинах я не знала, это здесь он мне сказал, здесь в Трезене, я тогда чуть не умерла от страха… Я не решалась сказать тебе — как я могла сказать тебе про твоего сына, что он такой… что он замыслил такое?.. Он хотел меня, о да!.. Но это не всё, это не всё… Это правда, Тезей! Он дал клятву Богине возродить Ее владычество…
Мы были одни в роще возле древнего алтаря; люди, которых я отослал, присоединились к погоне… Казалось, громадные руки давили на мою голову, пригибая ее к земле.
— Он сказал — ему были знамения, что он должен взять в жены дочь Миноса и сделать ее Богиней-на-Земле… Тогда вернется прежнее могущество и мы будем править миром. Я клянусь, Тезей, клянусь этим священным камнем… — Тело ее содрогнулось. — Он говорил: «Позволь мне править с тобой и любить тебя, а когда Она позовет меня — я умру легко. Потому что мы будем как боги, нас будут помнить вечно…» Так он говорил!..
Шум погони затих, толпа возвращалась к роще. Он наверняка остановился, чтобы подождать их. «Только не сейчас! — думаю. — Неужели они не могут дать мне немного времени, хоть чуть-чуть?!» Лоб у меня раскалывался. Мне нужно было побыть одному, как нужна вода раненому, но ее голос рвался дальше:
— Я ему сказала: «О, как ты можешь это говорить при живом отце?», а он ответил: «Она прокляла его, и страна больна от этого. Она призывает мужчин и отсылает их, и его время уже прошло»…
Сквозь шум в голове я услышал голоса людей и их дыхание, трудное после бега… Он шел среди них, свободный, и глядел прямо перед собой, как человек, которого ведут на казнь.
Из Дворца подошли женщины; они прятались за деревьями, словно напуганные птицы, дрожали, толкали друг дружку вперед и шепотом охали по поводу ее синяков и порванного платья… Вдруг она снова схватила меня за руку:
— Не убивай его, Тезей! Не убивай его! Он не виноват, он был не в своем уме, как менады!..
Я вспомнил Наксос: окровавленные руки, растерзанное тело, спящую девушку, залитую кровью и вином… Кровь, казалось, была повсюду, гудящее небо было цвета крови… «Похоже, землетрясение будет», — подумал я, но эта мысль прошла. Ее руки на мне были похожи на руки ее сестры двадцать лет назад, я сорвал их и подозвал женщин… Приземистый старый алтарь смотрел на меня; каждая трещина в камне — рот в ухмылке, каждая щербина — глаз…
Они уже были здесь; и он стоял передо мной. Волосы растрепаны, в одном месте вырваны и кровоточит, туника разодрана на плече… Глаза наши встретились. Так стоит олень, когда ты загнал его и он не может больше бежать, — стоит и смотрит на тебя, словно перед ним призрак, и ждет копья.
Женщины подползли к Федре; одна завернула ее плащом, другая поднесла к губам флягу… Они ждали моего разрешения увести ее. Ее кровоподтеки потемнели, она могла бы сойти за побитую рабыню… Я почти сходил с ума от боли и шума в голове — и вдруг заметил, что рука лежит на кинжале. Крики птицы, мычание скота из хлевов, долгий протяжный собачий вой — это были голоса земли; земля орала: «Все это — правда!» Я показал на жену, дрожавшую под плащом, и спросил сына:
— Ты это сделал?
Он молчал. Но повернулся к ней. Это был долгий тяжелый взгляд… Она закрыла лицо и разрыдалась, зажимая рот тканью… Я сделал женщинам знак, и они повели ее через рощу, бормоча утешения.
Наши глаза встретились снова… Но теперь его лицо замкнулось, и рот был твердо сжат, словно запечатан. Всё это время, — пока ужас во мне поднимался и превращался в ярость, — всё это время во мне держалась какая-то надежда, как одинокий наблюдатель на стене обреченной крепости. Он не увидел сигнала и уже не увидит… Теперь враги всей моей жизни соединились в Ипполите.
Я заговорил. Все те слова ушли от меня; вскоре после того я заболел, а когда пришел в себя — те слова пропали… Иногда просыпаюсь — и слышу, как затихает их звук, — где-то во мне они живы, — и тогда я боюсь заснуть, чтобы сон не высвободил их.
Его вина виделась ясно, словно дальние горы перед бурей: как он пропадал в Ее храме, как сказал мне о знамении; как увез Акама в Трезену, чтобы увлечь ее следом; и прислал мне женщину, чтоб держать меня вдали от нее; и день за днем избегал меня, чтоб я не мог разгадать его мыслей… Он плакал, услышав, что она уезжает, сегодня был его последний шанс… Всё казалось так ясно, будто бог кричал мне это в уши; в ушах и на самом деле звенело…
И вот — пока я говорил те слова, что забыл потом, — люди вокруг него расступились, все. Он еще не был царем Трезены и теперь никогда уже не станет. Он нарушил священные семейные законы, изнасиловал жену своего отца; а я был не только его отец и гость — я был Великий Царь Аттики, Мегары и Элевсина, Хранитель Фив и Владыка Крита!.. Как могли они дерзнуть избрать моего врага?
Он стоял и слушал, скрестив на груди руки. Ни разу не разжал он губ, чтобы ответить… Но перед концом я увидел, как его пальцы впились в бока, ноздри раздулись, — и глаза стали такими, какие видишь в бою над щитом… Он шагнул вперед, стиснул зубы — и отступил назад. И я прочел на его лице, словно слова на мраморе: «Какой-то бог удержал меня, иначе я задавил бы этого человека». В тот миг я был готов его убить.
Казалось, сама земля наполняет меня своим гневом. Он вливался в меня через ноги, как поднимается глубинный огонь в горящей горе, прежде чем испепелит всё вокруг… И вдруг я понял — так это и было, это не только мой гнев. Завыла собака, закричали птицы, и голову мне сдавило… До сих пор я не замечал предостережения Посейдона, — собственная ярость заглушала во мне его гнев, — но теперь я ощутил его, и знал что скоро он падет. Бог-отец стоял вместе со мной, готов был отомстить мою горькую обиду.
Это было — словно в руке у меня перун. Все смотрели на меня со страхом, будто не смертный стоял перед ними. Да, все — и он тоже… И наполненный божьей силой, я ударил ногой оземь и закричал:
— Убирайся с моих земель и с глаз моих навечно! Иди с проклятием моим и с проклятием Посейдона, Сотрясателя Земли! И берегись его гнева, ибо он не заставит себя ждать!
Он еще момент постоял, неподвижный как камень, с побелевшим лицом — и вот уже пусто там, где он стоял, и люди смотрят ему вслед… Они стояли и смотрели, — но ни один не бросился за ним, как бросились бы за кем-нибудь другим, чтобы гнать камнями: ведь они любили его… Наверно им казалось, что его неистовство, его судьба, — это ниспослано небом, и лучше оставить его богам… Он скрылся; и когда ярость стала стихать во мне — словно приступ лихорадки, — я ощутил болезнь землетрясения, такую же как всегда.
Я закрыл болевшие глаза… И словно эта картина только и ждала, чтоб я отвлекся от всего другого, — передо мной мелькнули рощи Эпидавра, пропитанные дождем и покоем. Я ведь был не только царь, но и жрец; и мне вспомнилось, как всю мою жизнь, — с тех пор как ребенком был в храме Посейдона, — его предостережения служили мне, чтобы спасать людей, а не карать…
Пришел в себя, огляделся и сказал трезенцам:
— Мне был знак от Посейдона. Он ударит, и скоро. Предупредите людей во всех домах, чтоб вышли наружу. Передайте это во Дворец.
Они завыли от ужаса и бегом кинулись прочь, вскоре затрубили рога глашатаев… Вокруг меня не осталось никого, кроме моих людей из Афин; они нерешительно стояли поодаль, боясь и подойти и оставить меня. Я стоял один, слушая шум тревоги, катившийся вниз от Дворца к городу… И вот в него вмешался другой звук — дробный топот копыт колесничной упряжки на нижней дороге. Услышав его, я содрогнулся: слишком близок был божий гнев, — вот он, рядом, — сердитый стук из-под земли отдается в голове болью… И тут я вспомнил: каждая душа в Трезене знала о моем предупреждении — только он не знал. Он один был во мраке неведения, и если даже сам почует это — может не понять.
Земля покалывала мне ноги, а сердце колотилось от гнева — моего и божьего… Дворец был похож на разворошенный муравейник: выбегали женщины, — с детьми, со свертками, с горшками, — слуги выносили ценности… Вот засуетились у главного входа — в закрытых носилках выносили старого Питфея… Я перевел взгляд дальше — там, далеко внизу, на дороге к Псифийской бухте, в последний раз мелькнула на повороте яркая голова. Теперь даже лучшая упряжка в Трезене не смогла бы его догнать.
Страх землетрясения заливал меня, как было с детства: холодный, тяжелый, затмевающий все остальное… Ведь самая яростная ярость человека — всё равно что топот детской ножки по сравнению с божьим гневом. Но старая привычка подсказывала: будет не так страшно, как бывало, или во всяком случае не здесь. Вроде я стоял на краю, а центр где-то далеко. Я закрутился, как собака на запах, и когда повернулся к морю — почуял, как волосы встали дыбом. Вода в проливе была неподвижна, словно расплавленный свинец.
В застывшем воздухе разносилось ржание и визг лошадей, которых выгоняли из конюшен в поле… И вот сквозь этот шум послышался голос, совсем рядом, хриплый и прерывистый:
— Царь Тезей!.. Государь!..
Высокий воин, — дворцовый борец, обучавший молодежь, — продирался ко мне через рощу с какой-то ношей в руках. Когда я обернулся, он положил ее на землю. Это был Акам. Он оттолкнул воина — тот хотел поддержать ему голову — и, опершись на локти, отчаянно боролся с удушьем, содрогаясь всем телом, хватая воздух… Воин сказал:
— Он хотел прийти, государь. Я нашел его внизу, он пытался бежать и упал… Он без конца твердит, что должен увидеть тебя раньше, чем умрет, государь.
Мальчик поднялся на одной руке, а другую протянул ко мне, подзывая ближе. Лицо его побелело, губы были почти совсем синие… «Отец!» — это слово вырвалось свистящим хрипом, и он снова схватился за грудь обеими руками, словно хотел разорвать, чтобы впустить в нее воздух… И неотрывно смотрел мне в глаза, но во взгляде был не страх — что-то другое, что он хотел высказать.
Я подошел и наклонился над ним, над сыном, который остался у меня. И подумал: «Может ли быть, что божий знак дан и ему, и у него нет сил это выдержать? Однако если так — он мне в самом деле сын, хотя бы он…» А ему говорю:
— Держись, парень, скоро это случится, и страх пройдет.
Он замотал головой и захрипел, пытаясь сказать что-то; потом закашлялся, лицо налилось кровью, как у повешенного… Но все-таки ухитрился вдохнуть — и выкрикнул имя брата.
— Ни слова больше! — говорю. — Ты болен, и ты не знаешь ничего. Молчи и отдыхай. — Его грудь ходила ходуном, переполненная словами. — Успокойся. Потом ты поймешь… — Его глаза наполнились слезами боли и бессилия; хоть я и был почти не в себе, но пожалел его. — Молчи, — говорю. — Он уехал.
Его схватила такая спазма, что я забыл даже о землетрясении, — казалось, он уже не задышит вновь… Но уже совсем черный, он перевернулся на колени и как-то сумел встать, воздел руки к небу… В горле забулькало, захрипело, и он громко крикнул: «О, Аполлон!..» Он качался, но стоял. Потом повернулся к человеку, принесшему его, и сказал хрипло, но уже твердо: «Благодарю тебя, Сирий. Можешь идти». Тот посмотрел на меня — я кивнул, и он ушел. Я помог мальчику снова сесть, опустился на колени возле… Он еще не начал говорить, когда меня коснулся какой-то холод, но я решил, что это землетрясение подходит…
— Теперь молчи, — говорю, — а то снова начнется.
— Я могу умереть. Я боялся раньше… — Он говорил осторожно, обращаясь со своим голосом, как с загнанной лошадью; он был очень слаб. — Но если успею сказать, то я могу умереть. Ипполит… за что ты его проклял… это неправда!..
— Молчи, с этим покончено. Боги будут судить…
— Так пусть они услышат меня!.. Пусть они меня удушат, если я лгу!..
Глаза его расширились, он снова стал ловить воздух; потом задышал спокойно, но дальше говорил шепотом, чтоб сберечь силы. Так, должно быть, выглядят грабители в царской гробнице: бледные и говорят шепотом.
— Он сказал «нет». Это она просила его, она… — Его пальцы скребли землю, — …в Афинах. Я слышал!..
Я смотрел, не глядя, прямо перед собой; и знал — рана смертельна. Скоро придет боль, скоро пойдет кровь… Мальчик протянул ко мне руку, и я взял ее, хоть почти не думал о нем в тот момент. Только бог может понять, сколько выстрадал он, не просто сын — критянин, для которого мать — это бог на земле…
Он помолчал, потом воровской голос зашептал дальше:
— Я тогда чуть не умер. Я и его ненавидел за то, как он обозвал ее тогда… Но он сказал мне после: «Я был не прав, что рассердился. Ведь она доверилась мне…» Он пришел ко мне на другой день, когда я заболел, и сказал, что просит у меня прощения. И еще сказал: «Не бойся, Акам. Я не скажу ни отцу, ни кому другому на земле. Я бы поклялся тебе в этом, но клятва богу значит больше; а я дал обет Асклепия, который связывает человека до самой смерти».
У меня не хватило сил даже на то, чтобы попросить его «Хватит», и он продолжал:
— Понимаешь, это была тайна ее болезни, потому он должен был ее хранить.
Передо мной возник образ той женщины. В синяках, как рабыня, и страх тоже рабский, и рабская ложь… Если б ее рассказ был правдой — она исцарапала бы ему лицо, укусила бы его… Его рваная туника, вырванные волосы — это она тянула его к себе, а не отталкивала; синяки на плечах и шее были знаками не похоти его, а гнева — так лев ярится, видя решетки западни со всех сторон… Когда она закричала, он схватил и тряс ее в слепом бешенстве, забыв свою силу; но я-то, я — как я мог этого не понять?!
— Он сказал мне, — голос мальчика окреп, — мы с тобой уедем вместе и будем гостями Аполлона. Всякое зло — это болезнь, а Его музыка излечивает… В Эпидавре всё будет хорошо.
Я встал. Голова у меня кружилась, ноги дрожали… От гладкого маслянистого моря мутило страшнее, чем от любого шторма… И вдоль берега этого кошмарного моря шла дорога: дорога в Эпидавр.
— Отец, это правда, я клянусь!.. Клянусь, если я лгу — пусть Аполлон убьет меня своей стрелой! Это правда!.. Скорее, отец, останови землетрясение!
Ужас охватил меня.
— Я не бог! ! ! — кричу.
Но его темные глаза не отрывались от меня, и это были не только его глаза: он бросил вызов смерти, он принес в жертву свой страх, — и эта святость еще жила в нем, бог в нем взывал к богу во мне… Но в душе моей больше не было бога, который мог бы ответить, — лишь боль земли я чувствовал…
— Оставайся тут, где лежишь, — сказал я. — Я найду его.
Побежал вниз по склону через оливы, скликая на ходу своих людей; они топали следом с лицами, перекошенными страхом… Через плечо я успел увидеть, что старый борец поднимается к мальчику. Тот сидел спокойно. Не знаю, какие внутренние путы порвались в нем в тот день, но с тех пор приступы становились всё короче и слабее, а теперь — когда он повзрослел — прошли совсем…
Внизу в загоне лошадей привязывали к кольям, чтоб они не разбежались, когда задрожит земля. Большинство из них ржали и бились на привязях, но я выбрал спокойную пару и крикнул, чтобы подали гоночную колесницу. Впервые, сколько себя помню, я перед землетрясением повысил голос.
Когда я погнал их вниз к берегу, то не чувствовал ни страха, ни трепета — только что-то странное, вроде сильной лихорадки. И кони тоже чуяли это во мне, они рвались вперед без кнута, словно хотели убежать от меня… Я и сам хотел.
Еще есть время, я думал, все-таки еще есть. Он уехал — как давно?.. За это время можно натянуть струны и настроить лиру, или вывести корабль из бухты, или проехать несколько поворотов вдоль дороги… А скоро начнется?..
С трудом пробираясь по мокрой грязной равнине, я вспомнил, как он прислал мне девушку-рабыню; иначе, поссорившись с Федрой, я мог узнать правду… Он боялся за меня и за своего брата, — а опасность для себя самого разглядел слишком поздно, таких вещей он не умел предвидеть…
Дорога снова поднялась, и далеко впереди, в кипарисах, я вновь увидел его колесницу. Его кони двигались шагом. Я подумал — он увидел меня, он ждет, всё спасено… Помахал рукой, чтоб привлечь его внимание… Но он просто давал отдышаться своей упряжке и теперь погнал снова. У него были все три его лошади — ведь он уезжал навсегда… Когда они тронулись, стало видно, что кони начинают беспокоиться; но в следующий миг он скрылся из виду.
Наверху дорога была хороша: дождей не было уже дня три. Я взялся за хлыст, — но упряжка была уже не та: в загоне лошади еще не знали, а теперь почуяли; они то осаживали, то рвались вперед, одна с визгом поднялась на дыбы… Я удерживал их из последних сил… И — повиснув на вожжах, откинувшись назад, — поверх задранных голов лошадей я вдруг увидел залив под собой. Он уходил. Вода на глазах откатывалась от берега, обнажая морское дно, которого не видел ни один из смертных, — груды водорослей, гниющие обломки затонувших кораблей… И уходила всё дальше и дальше, словно ее засасывала гигантская глотка.
Я знал не меньше своих коней. Колесница развернулась, и мы рванулись прочь от моря, — один трехголовый зверь, наполненный общим ужасом, вверх от дороги через земли какого-то хутора, — по полям, через арыки, сквозь виноградники… Жена того крестьянина и все его детишки с криком выбежали из дома…
Бог был их другом: благословил их и спас моим появлением. Кто может проследить пути Бессмертных?
Кони мчались через виноградники в дикую чащу; колесница раскачивалась и прыгала на кочках и камнях… Я обмотал вожжи вокруг себя, но только один раз, — боялся, что опрокинусь. Когда чаща замедлила их бег — я освободился и прыгнул. Упал, покатился, поднялся на ноги весь избитый и ободранный, содрогаясь от прикосновения к земле… Весь скот в хлевах мычал и ревел; снаружи козел с ошалевшими глазами разразился диким криком… И в этот момент земля содрогнулась.
Под ногами загрохотало и заходило ходуном, с треском рассыпались каменные стены дома… Я слышал, как завопила женщина и охрипшим от страха голосом ей ответил с поля ее муж; слышал, как заплакали детишки и завыли собаки… И чувствовал, что болезнь землетрясения ушла из головы моей и из живота. И не мог понять: ведь все уже позади, так почему же этот страх?
Мимо пробежал заяц… Почти коснувшись моих ног, он огромными прыжками промчался вверх по склону, — и тогда я глянул на море.
Залив наполнялся снова, — вода возвращалась, — но не потихоньку, как уходила, а громадной стремительной волной, захлестывая берега. Рыбачьи лодки перелетели на ней Псифийский мол, словно детские игрушки на веревочке; прямо подо мной соленое море залило дорогу и поднялось вверх на распаханные склоны, потом замерло — и откатилось назад, смывая и унося с собой всё подряд… Настала мертвая тишина; и пока еще не начался снова гвалт вокруг — с севера, вдоль дороги, донесся истошный крик взбесившихся лошадей и свирепый рев быка.
Я не удивился, что там такое, — это был голос моего страха… Из этого шума, словно царский боевой клич из шума битвы, вырвался крик — голос, который я бы узнал из тысяч… И оборвался. Снова раздалось дикое ржание, опять стихло, опять началось… Моя пара, запутавшись в постромках опрокинутой колесницы, тоже вопила от ужаса…
Я подбежал к своим коням, продираясь через кустарник, крича, чтоб кто-нибудь помог… Но крестьянская семья продолжала ковыряться в своих руинах; только что они слышали бога и не могли пока услышать царя… Я обрезал кинжалом постромки и вожжи охромевшей лошади; сколько осталось я мог проехать и на одной.
Дороги больше не было: грязь и слизь, груды плавника, рытвины от камней и сами камни… Конь скользил и спотыкался, и я не мог подгонять его; будь то несколько лет назад — я сам бежал бы быстрее.
В грязи корчилась умирающая рыба… Возле дороги раздался свист, — конь шарахнулся и едва не сбросил меня, — это дельфин, сопя своей ноздрей, пытался добраться до воды… В том месте склоны круче, дорога поднималась и должна была вот-вот выйти за линию потопа, а лошади всё кричали на том же месте, где я их услышал сначала, замолкая иногда, как умолкают от усталости звери в западне… Еще раз проревел бык, с яростью или с болью, мой конь снова забился от страха; усмиряя его, я всё время ждал, что прозвучит еще один голос… Не было.
В конце подъема дорога изгибалась, и там я увидел. Спрыгнул и побежал.
До них было меньше полета стрелы; на берегу под дорогой копошилась окровавленная масса спутанных зверей, — рвались и бились искромсанные кони, — а над ними, на том месте откуда они упали, на дороге, опустив голову, стоял бык. Волна выбросила его из загона и забросила сюда; передняя нога у него была сломана; он ревел — от страха, ярости и боли — и хромал, пытаясь рыть землю копытом… Облепленный водорослями и тиной, черный бык Посейдона.
Бык из моря.
Там, внизу, были люди. Пока я бежал, они добивали ножами искалеченных лошадей; те одна за другой издавали последний смертный крик, кровь хлестала из них, а люди теснились, нагнувшись над чем-то под ними.
Когда я спустился с дороги, они уже вырезали его из путаницы вожжей и выдергивали из его тела обломки колесницы, торчавшие в нем словно копья. Он был изуродован, как егокони, — живого места не было, — его богоподобное тело было всё изломано, изуродовано, ободрано об камни, облеплено грязью… Но звери были тихи, — мертвая плоть, избавленная от боли, — а он шевелился и стонал… И глаза, на лице залитом кровью, были открыты и смотрели на меня.
Люди кричали мне, говоря, кто он такой… Увидев меня — пешего, грязного, избитого, — они решили, что я путник, проходивший мимо; и говорили все разом, как всегда бывает, когда люди потрясены. Они работали на полях наверху, их дома выдержали толчок, и они всё это видели. Рассказывали, как видели его на дороге из Трезены, как вздыбились его кони в момент толчка, как он все-таки сумел совладать с ними… Но накатилась волна и принесла быка, и он выбрался из воды как раз на дороге… А потом… Они показали на обрезанные вожжи, всё еще замотанные вокруг его талии двойной петлей колесничего.
Он оперся одной рукой о землю и попытался подняться, но вскрикнул и упал назад: у него была сломана спина. Кто-то сказал: «Умер», но он снова открыл глаза… Двое спорили, с какого хутора этот бык и кому он должен принадлежать теперь; третий сказал, что быка надо принести в жертву Посейдону, иначе тот разгневается и ударит снова… А тот, что резал вожжи, обратился ко мне:
— Послушай, друг, всегда лучше, чтобы дурные вести приносил чужеземец. Ты не сходишь в Трезену сказать царю?
— Я Тезей, — говорю. — Я его отец.
Они приложили пальцы ко лбу, но разглядывали меня больше с изумлением, чем с почтением. Грязный и растрепанный, изможденный, спотыкающийся, я пришел к ним как один из них; они едва взглянули на меня… Я велел им принести кусок плетня, один из них оставил мне свою одежду на повязки, остановить кровь… Мы остались одни.
Кровь шла из дюжины открытых ран, и внутри она тоже лилась — я знал, что ему уже не помочь… Но я не хотел этого знать — и принялся бинтовать его, хоть это было бессмысленно… И за этой работой я говорил, говорил ему, что всё знаю, просил, чтоб он дал знак, что понял меня… Глаза его были пусты. Но вот они изменились, губы шевельнулись — он заговорил. Он не узнал меня, но умирающие всегда рады хоть кому… Сказал:
— Даже боги несправедливы!..
Потом он надолго затих. Я положил ему руку на лоб, целовал его, старался, чтобы он меня узнал, понял… Но не знал даже, слышит ли он меня. На момент глаза его будто бы ожили, — они смотрели прямо вверх и были полны горечи одиночества, — но снова затуманились беспамятством… Через лоскутья сочилась кровь, и лицо становилось всё белее… Наконец пришли люди с плетнем. Когда мы клали его на эти носилки, он кричал в голос, но непонятно было, сознает ли он что-нибудь.
Я помогал им нести его, пока не подошли еще двое, которые тем временем убили быка, — ведь его нельзя было сдвинуть с места с поломанной ногой… Мы вынесли его на дорогу, и люди спросили:
— Куда нести его, государь? К этому дому или, может, в Трезену?
Мне послышалось — он задышал, и рука шевельнулась… Я взял ее в свою и ответил:
— Нет. В Эпидавр. — И его пальцы сжали мне руку.
Тучи разошлись. Над морем небо было мрачным, но над горами уже синело… Все птицы заливались пением, как всегда после землетрясения — заявляли свои владения или просто радовались жизни, кто их знает… А мы шли. Кто-то пошел вперед вызвать еще носильщиков; он был слишком тяжел, чтоб нести его далеко без подмены… Он был неподвижен, и я надеялся, что ничего не чувствует, но когда носилки однажды встряхнуло — его зубы сжались от боли…
Люди уже устали, а другие еще не подошли. Возле дороги было ровное место, и несколько платанов там, и ручей… Я сказал носильщикам, чтоб отдохнули немного.
У одного была бронзовая чашка на поясе, он набрал воды из ручья, и я смочил мальчику губы — они у него совсем пересохли… Глаза его были закрыты, но тут он их открыл и посмотрел вверх, а там на синем небе покачивались голые ветви с несколькими золотыми листьями… Он пошевелил рукой и прошептал:
— Слушай…
В небе над нами звенел жаворонок, тихо журчал ручей, а с холмов доносилась дудочка пастушонка, который пережил землетрясение так же легко, как птицы.
— Слушай… — Он улыбался, — Эпидавр!..
Я смотрел на него и видел, — теперь уже ясно видел, — что он никогда не попадет туда живым. И поэтому ответил:
— Да.
Он снова закрыл глаза. Его дыхание было так тихо, что я не слышал его, и решил что это конец… Люди маленько отошли, а я встал возле него на колени и закрыл лицо руками, — и тут он позвал:
— Отец…
— Да? — Наклонился к нему, а сам по голосу его слышу — знает он, что умирает…
— Прости мне твою кровь, — говорю. — Боги не простят, я сам не прощу, но прости ты!
— Отец, — он почти шептал… — Извини, что я на тебя сердился… Это всё… должно было случиться. Потому что…
Посмотрел на меня — и взглядом прощения просит, что нет у него сил договорить… И опять глаза стали незрячие. Голова запрокинулась лицом к синему небу, и лицо тоже стало, как небо, — ясное и спокойное…
— Мой сон был верен… Я… умру теперь здоровым…
Его пальцы снова сжали мне руку, такие холодные — словно он говорил уже из-за Реки:
— Отец… принеси Асклепию петуха… за меня… не забудь.
— Не забуду. Что еще?..
Он не ответил. А вскоре губы его разомкнулись и выпустили душу с последним вздохом… И я закрыл ему глаза.
Из Эпидавра появилось несколько жрецов-врачей, которые узнали, что случилось; они понесли его дальше, в святилище, хоть все знают, что по закону труп не может там лежать… Переглядываясь через меня, как всегда у врачей, они говорили, что не уверены, что, быть может, он на самом деле еще жив… Они его очень любили. Даже когда его тело начало коченеть, они не признавали этого и грели его; и мне рассказывали, что когда всё их искусство оказалось бесплодным — они обратились к древней магии берегового народа, которая не практиковалась уже сотни лет и была им запрещена их законом… Вскоре после того их Царь-Жрец умер внезапно, во время работы, сраженный мгновенной смертью Аполлона; говорили, что бог был разгневан на него за попытку воскресить мертвого.
Я этого всего не видел. Оставил им тело и ушел. Я знал, что он мертв и ни один бог его не воскресит; а меня ждало дело в Трезене.
Там женщины заливались плачем; к моему приходу люди сопоставили всё увиденное — и все уже всё знали. Плач заводила моя мать, остальные вторили ей… А она бессвязно выкрикивала ему посмертную хвалу, по мере того как слова приходили к ней; из них потом она составила свою погребальную песнь. Она прервала свой плач, чтобы подойти и встретить меня; все остальные закрыли глаза распущенными волосами.
Она предвидела божью кару так давно, что теперь ей нечего было сказать; просто обняла меня, с обычными словами любой матери… Я поцеловал ее — ведь он был для нее как младший сын — и сказал, мы поговорим позже. А потом спросил о своей жене.
— Женщины были в ярости, — ответила мать, — я ее предупредила… Не ради нее; но не хотела, чтобы что-нибудь непристойное произошло. Наверно она в своих покоях.
Я пошел вверх через пустой Дворец. Кто видел меня издали, — те старались увильнуть куда-нибудь в сторону, но их и было немного. Старик-слуга, на которого я наскочил в каком-то углу, сказал мне что царь Питфей спит; никто еще не решился сообщить ему… Я было задержался, но передумал: забот и так хватало. Лучше бы он умер вчера, хоть и говорят, что конец человеческой жизни всегда печален.
Поднимаясь по лестнице, я вспоминал рассказ Федры о том, как Ипполит клялся вернуть прежнюю религию, о его словах. Длинный рассказ — слишком там было много всего, чтобы запомнить только что изнасилованной женщине… И слишком много, чтобы выдумать так сразу, даже в припадке отчаянного страха… Теперь я это видел. Конечно же она могла помнить — каждое слово!.. Не одну ночь провела она без сна с этими словами на уме, пробуя их так и эдак, подгоняя их, доводя до совершенства — как арфисты свои баллады, — чтобы иметь их наготове… Это были ее слова, сказанные ему!
Я подошел к ее комнате, постучал в наружную дверь… Никто не ответил. Вошел в свою и попробовал дверь между нами — тоже заперто… Крикнул ей, чтоб открыла… В ответ — тишина. Я прислушался и чую — тишина дышит… Наружная дверь, та была крепкая; а эта так — одно название… Я ее скоро открыл.
Комната была пуста, но огляделся получше — куча платьев дрожит. Я порылся в них, выволок ее оттуда… Она валялась у меня в ногах, пресмыкалась, умоляла… Как рабыня, я подумал, как лживая рабыня — и это дочь тысячелетней династии!.. А на ее горле еще были следы его пальцев. Я схватил ее за это горло, чтобы оттолкнуть от себя. Пожалуй, я и не знал, что задушу ее, пока не увидел ее глаз — и того ожидания в них. Она сама подсказала мне свою участь.
Умирала она трудно. Я думал, что давно уже конец, и отпустил — она зашевелилась снова… Наконец я ее бросил, и она уже больше не двигалась — еще один узел среди кучи платьев и прочей рухляди, пахнувшей Критом… И тогда я подумал: «Неужто ее ложь останется жить после нее? Всегда находятся люди, которые рады верить худшему. Надо было, чтобы она сначала принесла свидетельство перед народом. Я опять его подвел!..» «Ну нет, — говорю, вслух сказал… — Клянусь Зевсом, она даже теперь скажет свое слово за Ипполита! Живая или мертвая, она восстановит честь моего сына.»
В комнате были чернила и бумага, а я могу писать по-критски… Писал я мелко, как женщина; здесь, в Трезене, этого было достаточно.
«Я оклеветала Ипполита, чтобы спрятать свой позор. Я просила его, он отказался. Жизнь стала мне нестерпима.»
Лентой из ее платьев я привязал эту записку к ее ладони… И пока делал это — увидел, как белы и нежны ее руки, как округлы и упруги груди… Вспомнил, какие тяжелые были у него глаза по утрам, как он скитался целыми днями, как возвращался домой смертельно уставший… Ему было тяжко бороться?.. Ну что ж, только трудная борьба заслуживает венка. Ладно, он по крайней мере отомщен.
Я сделал из пояса петлю и привязал ее к простыне, завязанной на балке под потолком… Когда она уже висела — перевернул стул, на котором стоял у нее под ногами… А потом пошел вниз звать людей, чтобы они посмотрели, как я взломал дверь и что за ней нашел.
В Трезене его имя в почете… Оно даже становится священным: девушки каждый год приносят жертвы на его могиле и стригут себе волосы… А я сделал для него что мог. Быть может, это не то, что он попросил бы, если бы мог сказать перед смертью… Но человек — всего лишь человек; и может дать лишь то, что есть у него.
4
СКИРОС
Всё это держится в памяти так ясно, будто было вчера. Вот что вчера было — не помню… В какое лето после того поразил меня бог? Во второе, третье?.. Знаю, что я был в море с Пирифом. Ведь человек должен где-то быть, пока ходит под солнцем.
Мы тогда увидели на горизонте мелийских пиратов, уходивших с добычей, и бросились за ними в погоню, чтоб отбить ее. И вроде бы помню, что они уже были близко… Тут голова закружилась, в глазах потемнело… А когда я их открыл — была ночь, я лежал на нарах в крестьянском доме, слышался женский говор… И двое из моих людей, склонившись надо мной, призывали остальных в свидетели; они, мол, говорили, что я не умер, и вот — пожалуйста! — глаза открыл…
Они все кинулись спрашивать, как я себя чувствую; но когда я попытался ответить, половина рта оказалась неподвижной и речь была косноязычной, словно у пьяного; а пошевелился — слушалась только правая сторона. Я потянулся правой рукой пощупать левую — правая, казалось, взяла руку трупа, а левая не чувствовала ничего.
Мои люди рассказали мне, что корабли еще не сошлись, когда я рухнул точно мертвый — как раз в тот момент, как закричал свой боевой клич. Было уже слишком поздно, чтобы избежать боя, и бой был жесток… С обеих сторон так много было убитых, что победителей там не оказалось, и оставшиеся корабли разошлись в море. Спросил про Пирифа — мне сказали, что его корабль был протаранен и пошел ко дну со всей командой… Я воспринял это спокойно, как нечто маловажное…
Моя команда тоже почти вся была перебита и утонула; осталось всего двенадцать человек, которые были со мной в хижине. Они вынесли мое тело с корабля и собирались завернуть его и нести домой хоронить — и уже складывали парус, на котором я лежал, — и тут заметили, что я еще жив. Искали на мне рану — не нашли… И вообще, сказали, я упал раньше, чем оружие пошло в ход.
Крестьянки напоили меня молоком с ложки, вытерли мне лицо… Я приказал всем выйти и долго лежал в раздумье.
Быть может, это Матерь поразила меня: я увел из ее святилищ двух ее дочерей и низверг ее культ в Элевсине… Все, кто придерживается старой религии или еще боится ее, — те говорят, что она. А может Аполлон?.. Ведь я был сбит без боли, как убивают людей его благостные стрелы… А раз я только наполовину был виновен в смерти его верного слуги, то он и оставил меня полуживым… Но я пришел к мысли, что то был Посейдон, Сотрясатель Земли; а покарал он меня за то, что я обратил его благословение в проклятье. Да, так я думаю, и у меня есть к тому основания.
Я не ощущал боли — ни телесной, ни душевной… Поначалу даже не корил богов за то, что не умер… Просто как-то забыл или перестал тревожиться, что я уже больше не человек, но помнил, что я еще царь. Я часто и прежде повторял себе, что не должен умереть, пока мой наследник не достиг зрелости. Но все равно уходил в набеги: мол, чему быть, того не миновать… Но никогда и в голову не приходило, что придется быть и не мертвым, и не живым.
Когда один из моих людей вошел, я спросил его, знают ли здешние, кто я. Оказалось — нет. Это были убогие люди из берегового народа, они знали лишь свой язык, да и то плохо; и им сказали только, что я был капитаном. Я велел ему так это и оставить.
К северу от Крита в открытом море есть один островок, мой. Мы с Пирифом частенько заходили на него: за водой, или привести корабли в порядок, или припрятать добычу до той поры, когда сможем увезти ее домой… У нас там была небольшая крепость и дом в ней, и за домом присматривали несколько наших прежних девушек, к которым мы были по-прежнему добры, хоть они и старились.
Как только меня можно стало двигать, я приказал своим увезти меня туда. И там — лежал целыми днями, или сидел в кресле, в которое меня переносили, и смотрел на низкую стену, на фиговое дерево перед ней, на ворота и на кусок моря за ним… Женщины кормили меня, умывали и вообще ухаживали, как за грудным младенцем… А я сидел час за часом, — глядя, как птица клюет плод или как скользит на горизонте парус, — и думал: как мне удержать моих врагов в страхе, пока не придет время на самом деле умереть. Да, пока младенец ждал свою няню, — с ложкой или с губкой, — царь безотрывно думал!.. Его божий удар не коснулся; он пережил и воина, и любовника, и борца, и певца — всех. И похоже, он остался Тезеем.
На острове было золото, — я уже говорил, — и лодка была, с которой могли управиться мои люди. Я послал их за припасами и гадал: увижу ли их когда-нибудь снова? С какой стати людям поддерживать того, от кого отреклись все боги? Но они вернулись назад, с запасами на всю зиму… Долгих четыре года моя жизнь была у них в руках. Они мне рассказали, что среди них был один, который предложил остальным так: «Давайте заберем золото и спросим у него, где лежит остальное; больного нетрудно заставить говорить. А потом можем его убить и продать эту новость Идоменею на Крите…» Рассказали не сразу… Я их извел своими вопросами, куда подевался тот человек, — тогда только узнал. Потом мне показали его могилу.
Когда я придумал, что сделать, я послал в Афины нашего корабельного запевалу с письмом, запечатанным моей печатью. Он был отличный арфист и находчивый парень, этот запевала.
В письме говорилось, что мне было знамение и предсказание — я должен спуститься в тайное святилище под землей и там очиститься перед Матерью Богов, перед которой я грешен. Я вернусь преисполненным могущества и сокрушу своих врагов, а пока мой Совет должен править страной по моим законам и отчитается передо мной, когда вернусь. Человек должен был совершить большой круговой путь, часто меняя корабли, и прийти в Афины с севера; он не будет знать, в каком именно святилище я остался, поскольку мы расстались в пути… Если его прижмут, он скажет, что в последний раз видел меня в Эпире: там, в горах, много пещер, про которые говорят, что по ним можно спуститься в царство Гадеса. С тем он уехал и сделал свое дело хорошо, впрочем и я перед ним в долгу не остался. Ни один из тех одиннадцати никогда не будет знать нужды, ни сыновья их, ни сыновья сыновей.
Я полагал — неважно, проглотят ли афиняне мою историю целиком. Вполне достаточно, если они будут знать, что я в отлучке по каким-то своим соображениям — и в свое время вернусь.
Девушки заботились обо мне от души. У них были добрые сердца; и я знал это, когда подарил им обеспеченную старость в этой тихой гавани, не подозревая, что она пригодится и мне самому. Они привели ко мне древнюю знахарку острова, и та каждый день растирала отнявшуюся половину тела вином и маслом, приговаривая, что без этого плоть мертвеет… Она знала старые легенды берегового народа, уходящие ко времени Титанов и первых людей на земле; и я, как маленький не отпускал ее, пока она мне что-нибудь не расскажет. Никогда в жизни не сидел я без дела, — разве что думал, что делать дальше, — и порой в те дни мне казалось, что день никогда не кончится… А потом он все-таки кончался, но начиналась такая же бесконечная ночь; и я лежал, глядя на звезды, и отсчитывал часы до утра…
Думал о своей жизни — о светлых и тягостных днях… О богах и о судьбе: как много в человеческой жизни и в душе заложено ими — и столько он сам для себя может сделать… Что, если бы Пириф не пришел ко мне, когда я уже собрался было на Крит? Каким человеком я стал бы? Какой сын не родился у меня на Крите в те годы, что появился Ипполит?.. Или что было бы, если бы Федра закричала: «Помогите!» — в другой день, когда у меня не было болезни землетрясения?.. Но я и сам немало сделал, чтобы стать как раз таким человеком, который услышал тогда ее крик. Судьба и воля, воля и судьба… — они как земля и небо, что вместе растят зерно. И никто не знает, чей же вкус в хлебе.
Я пробыл там уже с месяц, а может, и больше, когда это случилось. Лежал я перед утром, без сна… Петухи уже пропели, и можно было различить кромку моря на светлеющем предрассветном небе… Мысли блуждали где-то далеко, — на бычьей арене или на какой-то старой войне, — и вдруг пол под моей постелью содрогнулся и с подставки возле меня упала чашка. Дом наполнился голосами разбуженных людей, они молились Сотрясателю Земли Посейдону… Вновь закричали петухи, я вспомнил, как беспокойны они были перед тем, как кричали все разом… Им бог послал свое предупреждение, а мне — нет.
Так я узнал, кто поразил меня и за что: он отверг своего сына, как я отверг своего.
Одна из женщин вошла посмотреть, не повредил ли мне толчок; подняла упавшую чашку, вышла… Когда все снова успокоились, я приподнялся немного на здоровой руке и посмотрел на стол в другом конце комнаты: там лежал нож, которым мне резали еду. Я подумал: если скатиться с кровати и потом по полу доползти, то наверняка смогу до него дотянуться. Земля слишком долго носила меня и устала от моей тяжести…
Чтобы повернуться, мне надо было переложить здоровой рукой неподвижную левую… И вот, принявшись за это дело, я увидел, что левая тоже двигается, вместе с правой. Чуть-чуть, едва заметно, но пальцы распрямлялись и сгибались, подчиняясь моей воле. Я ощупал их — они ощущали касание, хотя и слабо… Жизнь возвращалась в них.
Поднималось солнце… Я подумал об Афинах, обо всем, что я там построил… И хотя божьей благодати больше не было со мной — всё во мне кричало: «Это мое!»… И я остался жить. И ждать.
Проходили долгие месяцы; и медленно, мало-помалу в омертвевшие члены вползала жизнь, как впитывается сок в иссохшее дерево. Когда вернулось осязание и движение — еще долго мне пришлось ждать, пока в мышцах появилась хоть какая-то сила. Сначала я поднимался, опираясь на двух человек, потом на одного, потом — держась за стул; но и с этих пор прошел еще целый год, пока я смог ходить сам. Да и тогда одна нога волочилась, и это так и не прошло до конца.
Однажды весной я позвал женщин, чтобы они привели мне в порядок волосы и бороду, — и велел подать зеркало. Я был почти совсем седой и выглядел на десять лет старше… Левый угол рта и левый глаз были слегка скошены книзу, так что эта часть лица выглядела печальной, но, по-видимому, люди все-таки будут узнавать меня. Собравшись, я взял свой посох и вышел без чьей-либо помощи наружу, в солнечный день, — меня встретили ликованием.
В тот вечер я вызвал своего штурмана Идая:
— Готовься, — говорю, — скоро пойдем домой.
— И я так думаю, что пора, государь.
Я спросил, что он имеет в виду. Он сказал, что в Афинах что-то неладно, беспорядки какие-то вроде… Но, мол, люди, от которых он это слышал, — безграмотные островитяне и ничего толком не знают.
Когда мои люди появлялись и исчезали в других местах, они мудро держались так близко к правде, как только могли: рассказывали, что они мои матросы и что я оставил их на острове содержать базу для кораблей. Частные владения мало кого интересуют, — потому никто их не трогал, — а они могли спрашивать, что обо мне слышно, и узнавать, что говорят.
Раньше Идай делал вид, что передает мне всё; но теперь сознался, что знал недобрые слухи об Афинах уже в течение года.
— Мой господин, ведь я тебя знаю. Ты делал бы слишком много или слишком мало, — но так или иначе ты навлек бы на себя смерть. Я готов держать ответ. Я делал как лучше.
Я уже почти забыл то время, когда другие решали, что для меня лучше; но слишком многим был ему обязан, чтобы рассердиться на него. Ему казалось, что он прав; и я до сих пор рад, что мы расстались друзьями.
Но когда я попал в Афины — не раз пожалел, что не умер там на острове от руки бога; говорят, второй удар убивает всегда… Пока я был там, и сидел возле окна, и глядел, как цикада обгрызает лист или ящерица ловит мух, — я думал, что несчастен. Но мысленно я владел плодами трудов всей моей жизни — и был уверен, что когда придет время вернуться, найду свое царство в прежнем величии… Я и не подозревал тогда, насколько был богат.
Что за человек Менестей?.. Так Ипполит однажды спросил; он разглядел этого человека лучше чем я, но все-таки не до конца. Он был слишком простодушен, и видел в каждом человеке не его самого, а божье дитя, рвущееся на волю; он посвятил всего себя богам света — и никогда бы не смог постичь темные тайны того лабиринта запутанных страстей и побуждений, которые непонятны даже самим себе. Нет, даже он, будь он царем, не смог бы понять, с чем ему приходится иметь дело. Быть может, кто-нибудь из любивших его богов вступился бы за него… За меня не вступился ни один.
Я мог бы понять соперника, узурпатора… Тот захватил бы всё, что я создал, — и гордился бы этим; и его барды слагали бы песни о том, как он отобрал у царя Тезея великое царство для себя и для своих потомков… Такой человек ни за что не оставил бы меня в живых, — но сохранил бы всё, что я построил. А Менестей… Он похож на врача, который плачет над больным — и дает ему яд при этом, и убеждает себя, что это принесет пользу. В нем сидит другой человек, которому он подчиняется, хоть никогда не видел его лица.
Пока меня не было, власть постепенно перешла в его руки. Но я даже не уверен, что он интриговал как-то ради этого, — во всяком случае тот Менестей, которого Менестей знает… Он сам сказал бы, что учил людей быть свободными, верить в себя, высоко держать голову перед другими людьми и богами, не сносить обид… Быть может, он и на самом деле научил бы народ всему этому, если бы хотел не одной своей половиной. Быть может, Менестей хотел, чтобы люди его любили?.. Но сам он не любил никого; ни один человек его не интересовал, если только не служил поводом для драки. Вот если кто-то под его влиянием наживал себе сильных врагов, против которых сам Менестей был бессилен, — и увеличивал свои невзгоды и напасти вшестеро, и ненавидел уже шестерых, там где раньше был только один, — вот тогда Менестей начинал пылать к нему любовью и ставил себе в заслугу свою бескорыстную дружбу с ним. В свое время, когда мне надо было убрать такого дикого зверя, как Прокруст, я не шевельнулся прежде, чем мог быстро сокрушить его и освободить его пленников. А Менестей — если кто-то проявлял деспотизм — начинал размахивать своим негодованием и угрозами задолго до того, как мог что-либо сделать… Все могли любоваться, как он ненавидит зло и несправедливость; но тот человек впадал в бешенство и притеснял уже всех, кто только был в его власти, и зло множилось, — и у Менестея было тем больше оснований для его благородных воплей… Людей, делавших добро тихо и без злости, он считал трусливыми или продажными. Гнев был ему доступен; но пока человек не был обижен — он никогда не проявлял к нему ту доброту, которая могла бы предотвратить еще не нанесенную обиду.
Он ненавидел все обычаи, отжили они свой век или нет… Он ненавидел любое подчинение, даже хорошему закону. Ради того чтобы не позволить кому-то получить на крупицу больше, чем тот заслуживал, — он готов был выкорчевать всякое почтение на земле, всякую честь… Быть может, в основе всего этого была одна голая ненависть, и он рушил бы что угодно, что ни застал бы вокруг себя?.. На самом деле, ведь если бы он любил людей или справедливость, то мог бы и построить что-нибудь на тех развалинах, которыми себя окружил!
Прежде, когда я старался понять своих врагов, это было мне нужно, чтобы бороться с ними. Зачем это теперь, когда всё позади? Почему не удовольствоваться проклятием?.. Но пока человек — человек, он должен смотреть и думать; если не вперед, то назад… Мы рождаемся с вопросом «почему?» и умираем с ним же; такими нас создали боги…
Быть может, он хотел бы отравить или заколоть меня, если бы решился?.. Во Дворце было видно, что люди еще любят меня, так что он ненадолго смог бы меня пережить. Что это было — недостаток воли, желание хорошо о себе думать или коварство?.. Что это было, когда он оставил меня жить — и бороться с хаосом разваленного государства, гораздо худшим, чем был во времена моего отца? Он даже уехал, когда я изгнал его за никудышное управление, хоть и недалеко… Теперь не надо ехать далеко, чтобы покинуть царство Аттики.
Крит откололся два года назад, и больше того — там царствует Идоменей; пока я был болен, все на острове знали это, кроме меня… В Мегаре нашелся принц их древнего царского рода; и говорят, что теперь на Истме опять можно пройти лишь с отрядом не меньше чем в семьдесят копий… Только Элевсин придерживается своего Таинства в том виде, как создал его Орфей. Там наше дело переросло его или мою жизнь; и уничтожить его Менестею не по силам: для этого нужна не тьма, а новый, более яркий свет.
Тайна моей болезни сработала против меня. Несколько человек из берегового народа что-то узнали… Это были дикие, невежественные люди; они не знали, что эти новости можно продать, а пустили их летать по свету, словно пух чертополоха… Быть может, старая знахарка вплела мою историю в одну из своих сказок?.. Правда была перемешана с той ложью, которую распускал я сам: теперь говорили, что я ушел под землю, чтобы похитить священную жрицу, и был проклят Богиней, и провел там четыре года на волшебном кресле, к которому приросли мои руки и ноги… И что у меня теперь такая походка потому, что когда я в конце концов вырвался из этого кресла, куски моего мяса остались на нем… Из всего этого делали вывод, что боги покинули меня, что счастье мне изменило… — что ж, даже пропустив маяки, можно добраться до гавани.
Я виделся с Акамом… Он на Эвбее, у одного вождя, которому я доверяю; там он вполне в безопасности. В Афинах его не то чтобы не любят, но считают слишком критянином; а Менестей — тот из древнего аттического рода… По сути дела, Акама нельзя винить, что он не остановил Менестея; ведь когда тот принялся за свое дело, ему едва исполнилось пятнадцать… Акам был так потрясен переменой, происшедшей со мной, что всё его внимание было занято стараниями не показать этого; очень трудно было угадать, что он думает обо всем остальном. Но, похоже, он не только не ненавидит Менестея, а даже думает, что тот сделал всё что мог… Год за годом, пока он рос, его наследство всё уменьшалось, — но и его стремления, по-видимому, тоже. О матери его мы не говорили.
Он лучше всего себя чувствует среди таких же парней на Эвбее: пляшут, катаются верхом, предаются любви (девушки их не интересуют) — и счастливы… И он старается не отличаться от остальных. Могу представить себе, что, если Менестей поведет афинян на какую-нибудь чужую войну, от которой он должен был бы их оградить, Акам понесет свой щит под его командой и будет вполне доволен, если завоюет себе славу среди товарищей как рядовой боец. Однако он мой сын; и я видел, что бог коснулся его… Я верю, что когда-нибудь, когда Афинам придется туго, бог вновь заговорит и вернет им царя.
А я — я теперь не могу ни стоять на колеснице, ни даже поднять щит; пальцы левой руки так и не пришли в норму… Я отстоял Афинскую Скалу и отразил северные орды, я очистил Истм и изменил законы Элевсина, я убил Минотавра Астериона и раздвинул границы Аттики до острова Пелопа — не пристало мне беспомощно сидеть в доме моих отцов, чтобы рано или поздно услышать, как малые дети спрашивают: «Это он бы Тезеем когда-то?»
Менестей посеял — пусть он и пожинает. Но это мой народ, и прежде чем уйти, я хотел предостеречь их… Век за веком вздымались приливы в северных землях; такой прилив нахлынул в мои дни и снова нахлынет; я знаю, что нахлынет… Но лицо мое изменилось, и голос тоже, — люди меня не понимали; они думали, что я накликаю на город зло, что проклинаю их. Вот так я расстался с Афинами. Может быть, боги на самом деле справедливы; но был один только человек, который мог бы мне это доказать, — а он умер.
Я собирался плыть на Крит. Идоменей — это человек, которого я могу понять. Я был уверен, что укрепив свою власть, он теперь будет достаточно благороден; а я никогда не сделал ему ничего плохого, так что у него нет оснований меня позорить… Если бы я поселился в своем дворце на юге, чтобы скоротать там остаток дней, он наверно предоставил бы мне видимость царской власти, как я когда-то его отцу. Это было бы красиво с его стороны и ни в чем бы его не стесняло практически… А сидеть на террасе на Крите и следить, как наливаются виноградные гроздья, — не такое уж плохое занятие для того, кто ничего больше не может.
Так я отплыл с Эвбеи на Крит. Но ветер судьбы занес меня на Скирос.
На этом острове всегда ветры. По форме он похож на бычий лоб, и на одном из рогов — на высоком утесе — висит их крепость… Она так расположена для защиты от пиратов, таких, каким был и я. Правда, от меня Скирос не страдал: он прославился своими каменистыми полями и скудными запасами зерна в кувшинах — а я никогда не грабил бедняков. Царь Ликомед встретил меня так, как встретил бы и десять лет назад. Когда мы сидели за чашей вина, он рассказывал, что тоже частенько выходит в море на поиски удачи, если урожай оказывается плох… Я слышал об этом, хоть наши пути никогда не пересекались. Ликомед — из берегового народа. Чернобородый, с мрачноватыми глазами, из тех, что говорят не всё, что думают… Про него ходит слух, что его воспитали в храме на Наксосе и что он сын жрицы и бога… Об этом он не говорил. Мы обменялись старыми морскими историями; он рассказал мне, что и он, как Пириф, тоже в детстве был послан в горы к кентаврам… Сказал, что Старина еще живет в какой-то высокогорной пещере на Пелионе, народ его стал совсем малочислен, но школа его по-прежнему открыта — и один из его мальчишек, наследник Фтийского царя, как раз сейчас гостит на Скиросе. Его спрятали от какой-то ранней смерти, которую увидела в знамениях его мать-жрица: специально завезли на остров, чтобы он не смог удрать, потому что ранняя смерть должна принести за собой бессмертную славу, а мальчишка пошел бы на это с радостью…
Мы сидели у окна, и Ликомед показал его мне: он как раз поднимался по крутым ступеням, высеченным в скале. Обняв темноволосую подругу, он выходил вверх из вечерней тени в последнее ласковое пятно заходящего солнца, — сам живой и яркий, будто солнце, будто полдень… Тот бог, что послал ему эту пылающую гордость, не должен был добавлять еще и любви — ведь она сгорит в гордости… А его мать напрасно старалась: он носит свою судьбу в себе. Он не видел меня, но я успел заглянуть в его глаза.
Царь Ликомед стоял рядом со мной и тоже смотрел на него. И говорит:
— Должно быть, мальчик был где-то далеко, когда подошел твой корабль. Когда он узнает, кто приехал к нам, — вот будет для него праздник!.. Ради его отца я часто стараюсь удержать его от разных рискованных проделок, а он каждый раз отвечает: «Тезей бы это сделал!» Ты для него — идеал.
Он подозвал слугу:
— Пойди скажи принцу Ахиллу — пусть умоется, оденется во всё лучшее и поднимется к нам сюда.
Я сослался на усталость с дороги и сказал, что нам лучше было бы встретиться завтра. Ликомед отозвал слугу назад и больше не говорил об этом, а повел меня в мою комнату. Она возле вершины утеса… Весь замок встроен в утес, словно ласточкино гнездо. В свете заходящего солнца отсюда виден весь остров, а за ним — громадный простор моря.
— В ясную погоду, — сказал Ликомед, — видно Эвбею… Да вон та точка света — это, должно быть, костер часовых там. Но ведь ты привычен к высоте орлиного гнезда; я думаю, твоя Скала еще выше?
— Нет, — сказал я, — под твоей скалой гора, а под моей равнина, так что эта гораздо выше. Хотя если брать скалу саму по себе, по отвесу, то в ней, пожалуй, не так уж и много…
— Если мой дом понравится тебе, — сказал он, — будь как дома и живи сколько захочешь. Я буду рад.
Я на самом деле устал, так что лег сразу и отослал своих слуг… И пока не уснул — думал о том ярком легконогом мальчике, ждущем завтрашнего дня. Хорошо бы избавить его от этого, пусть бы он сохранил в душе того Тезея, который говорит в нем вместо бога; зачем подменять бога хромым стариком с перекошенным ртом?.. Я мог бы предостеречь его от него самого, но это его не изменит; человек, рожденный женщиной, не может избежать своей судьбы… Так какая нужда тревожить его короткое утро будущими горестями? Ведь он никогда не узнает тех горестей — он до них не доживет…
Тут меня сморила усталость, я заснул. И мне приснился Марафон.
Это было — словно меня разбудил шум битвы. Я вскочил с незастеленной кровати… Я был в домике старой Гекалины, снова молодой, и оружие было рядом; я схватил его и бросился наружу. Ярко сияло солнце, а к берегу подходил громадный флот чужеземных воинов. Это были не пираты, — слишком их было много, — это была война, и большая война: все мужчины Афин были стянуты сюда защищать свои поля. Как это часто бывает во сне, они были какие-то странные: у них были бронзовые шлемы с изогнутыми гребнями, как у удодов, и маленькие круглые щиты, разрисованные зверями и птицами… Но я узнал в них мой народ, и их было очень мало по сравнению с этой ордой — как нас во время нашествия скифов. Я подумал о городе, о женщинах и детях, ждущих там, — и забыл, что когда-то потерпел обиду от Афин. Я снова был царем.
В бой шла одна пехота. Не знаю, куда подевались колесницы. Тут один из вождей затянул пеан, они издали боевой клич и пошли бегом.
Я подумал: «Они знают, что я с ними! Марафон всегда приносил мне счастье, и теперь я — счастье Марафона». Я легко пробежал через войско в авангард, и когда дошел до цепей варваров — в руках у меня оказался священный топор Крита, которым я убил Минотавра… Я взмахнул им над головой — чужеземцы подались назад, и тут афиняне узнали меня и начали кричать мое имя… Враги бросились бежать к своим кораблям, карабкались на них, падали, тонули… Это была победа, полная и бесспорная. Мы издали победный клич — и мой собственный голос меня разбудил. Луна светила мне прямо в лицо; а я лежал у окна, выходящего на утесы Скироса. Тихой ночью звук летит далеко — даже на этой высоте я слышал шум моря.
Сон исчез. Но почему от него не осталось печали утраты?.. С этим плеском волн приходит надежда, как вода наполняет иссохший бассейн. Отсюда из окна мне видно море — гладкое как зеркало, распростертое под луной, — но шум его всё сильней… Так, значит, Эдип в Колоне сказал мне правду? Мощь возвращается?.. Боги послали меня провожатым ему; послали они теперь мне Ликомеда? «Если мой дом понравился тебе — будь как дома и живи сколько захочешь».
Да, шум растет… Не так торжественно и ликующе, как на Пниксе, но без сомнения, растет, ровно и сильно, и горечь растворяется в нем… Я не отдам свою жизнь чужим, как сделал это Эдип Фиванский. Пусть Отец Посейдон возьмет ее и сбережет для моего народа… А придет такое время, когда она будет нужна, — мой сон предсказал это!.. Во сне у них не было царя. Быть может, он не захочет принести себя в жертву?.. Они узнали меня и кричали мое имя, какой-то арфист донес его до них… Пока певцы поют и дети помнят — вовек я не исчезну со Скалы!..
Балкон прилеплен к отвесному обрыву, а за ним видно тропинку — лепится по утесу… Это подойдет. Если я уйду отсюда, могут сказать, что Ликомед меня убил. Конечно, неучтиво опозорить моего хозяина; но, кроме Акама, не осталось никого, кто мог бы требовать расплаты за мою кровь; а он — хоть и критянин наполовину — достаточно хорошо знает, как умирают Эрехтиды.
Тропу наверняка протоптали козы; этот мальчик, Ахилл, наверно лазал здесь, ради риска… Да, место конечно не для хромой ноги, но тем лучше: кроме тех, кто знает, — подумают, что несчастный случай…
Прилив подымается. И дышит море — спокойное, яркое, мощное… Сейчас бы плыть под луной — вперед и вперед… нырять с дельфинами, петь…
Вот шагнуть — и опять засвистит в ушах ветер!..
ОТ АВТОРА
Я приведу здесь вкратце миф о Тезее в том виде, в каком он дошел до греков классического периода. Но прежде мне кажется уместным объяснить, каким образом возникла эта книга.
Недавние открытия в Греции и на Крите позволяют предположить, что легендарный герой Тезей — это не сказочный персонаж, а реальный царь Афин, динамичный лидер, которого по его влиянию на забытую историю тех времен можно сравнить с Александром Македонским.
К классическому периоду легенда о Тезее уже обросла столь невероятными подробностями, что многие принимали ее попросту за сказку, а иные — вслед за Фрезером — за религиозный миф. Исследователи, обратившие внимание на замечательную устойчивость греческих преданий, не разделяли этого мнения. И когда сэр Артур Эванс обнаружил Кносский Дворец с его лабиринтовой сложностью, с его священными топорами, давшими имя самому дворцу, с многочисленными изображениями юношей и девушек, исполняющих Бычью Пляску, с печатями, на которых вырезан быкоголовый Минотавр, — когда это произошло, то рационалисты получили первое подтверждение своих догадок. Та часть истории, что казалась наиболее фантастической, увязалась с очевидными фактами; и стало заманчиво попытаться угадать, где еще под сказочным домыслом кроется историческая реальность давно минувших дней.
Для греков классического периода было аксиомой, что древние герои были людьми гигантского телосложения. Когда Кимон раскопал на Скиросе кости воина бронзового века, они были без колебаний определены как останки Тезея на основании одного лишь их размера. Но юноша, допущенный к Бычьей Пляске, мог быть лишь невысоким, изящным, сухим — такого телосложения требовала рискованная акробатика этого дела, такими изображены плясуны на критских фресках и в фигурках. И на самом деле, основные эпизоды его истории выявляют, что и Тезей был именно таким. Человек, который башней возвышается над всеми своими врагами, не нуждается в том чтобы развивать искусство борьбы. А Тезей всегда сражается с громадными, неуклюжими, зачастую чудовищными противниками — и всегда побеждает быстротой и смекалкой. Предание, что он соперничал в подвигах с Гераклом, вполне может быть отголоском какой-нибудь древней насмешки над чрезвычайно самоуверенным человеком небольшого росточка. Возьмите хотя бы Наполеона.
И если рассматривать миф о Тезее в этом свете — отчетливо выявляется вполне определенная личность. Это человек небольшого роста, но недюжинной силы, очень быстрый, храбрый и агрессивный, в высшей степени сексуальный, чрезвычайно гордый, но способный простить побежденного, — напоминающий Александра своим ранним развитием, даром вождя и романтическим представлением о судьбе.
В уравнительной моде наших дней можно было бы представить Тезея безымянным авантюристом, который добирается до Афин, преуспевая по дороге в грабежах на Истме, и принуждает афинского царя назначить его своим наследником. Но — помимо того что такой шаг был бы для Эгея равносилен самоубийству, не будь он защищен близким кровным родством, — добровольный отъезд Тезея на Крит характеризует его как человека, хорошо подготовленного к своей роли в типичной трагедии ахейского царства.
Книга построена на предположении, что в Микенской Греции существовали две формы «божественной» власти. Пеласги (береговой народ) и минойцы поклонялись Матери-Земле; их царь-супруг был подчиненной фигурой, и каждого царя в конце цикла земледельческих работ приносили в жертву, дабы обеспечить вечное обновление юности и оплодотворяющей силы спутника кормилицы-Земли. Хотя греческое завоевание и принесло на Крит наследственную власть, прежний культ сохранял значительные позиции. Ариадна была Верховной жрицей этого культа по праву рождения.
Предки Тезея, вторгшиеся в Грецию с севера, были уже патриархальны и считали своих царей прямыми посредниками между людьми и Богами Неба, которые давали жизнь злакам, ниспосылая дожди. Такого царя не приносили в жертву, но на нем лежала благородная ответственность: он должен был сам отдать свою жизнь в качестве величайшей жертвы, если авгуры требовали этого в критический для народа час.
Нет сомнений в том, что жертвоприношение царя иногда происходило по его собственному почину и практиковалось вплоть до исторических времен. Полуисторический Кодр сам организовал свою смерть в битве с дорийцами, потому что пифия предсказала их поражение в случае его гибели. Геродот рассказывает, что после такого же предсказания Леонид Спартанский занял Фермопильский проход, распустив своих союзников. Даже в 403 году до н. э. предсказатель освободительной армии Фразибула пообещал своим бойцампобеду, если они пойдут в атаку, как только падет первый из них, и сам — возможно по праву своего наивысшего жреческого ранга — бросился на вражеские копья.
Будучи признан наследником царя Эгея, Тезей добровольно предложил себя в жертву, когда подошел срок платить дань Криту юношами и девушками. Как соглашается большинство исследователей, этим молодым людям выпадал жребий принимать участие в опасных играх бычьей вольтижировки, которая так часто встречается в минойском искусстве. Они становились «рабами бога», предназначенными для рискованной Бычьей Пляски, любимого зрелища той блестящей и легкомысленной цивилизации.
Кносские находки ясно показывают, что на древнем Крите бычья арена пользовалась не меньшей популярностью, чем в нынешней Испании. Отнюдь не исключено, что ведущий «тореро» — быть может, заслуживший себе славу не только Манолето, но и Нижинского — мог стать любовником принцессы и сыграть какую-то роль в падении режима. Археологи единодушны в том, что дворец горел, был разграблен и разрушен землетрясением; неясно только, происходило это одновременно или нет. О презрительных кличках, которые давались критским слугам, можно получить представление из расшифрованных надписей, сделанных линейным письмом «Б». Близ Тронного Зала была обнаружена небольшая жилая комната, в которой, по-видимому, царь проводил какое-то время, быть может по религиозным мотивам. В самом Τронном Зале сохранились свидетельства того, что церемония помазания была насильственно прервана.
Миф содержит множество невероятных подробностей, но если вдуматься — это несущественные мелочи. Например, Тезей не мог привезти с собой из Афин юношей, переодетых в женское платье, поскольку плясуны были почти обнажены. Тем не менее, хитрость с дверью выглядит вполне правдоподобно. И с отравленным кубком — единственно неправдоподобно, что Эгей дал Тезею этот кубок во время пира. Вряд ли он пошел бы открыто на такое серьезное преступление, как убийство гостя. Но попытаться отравить такого соседа — с его славой молниеносного завоевателя — нет ничего естественней! Этот эпизод был наверно одним из любимых в греческом театре, с его неизбежным присутствием хора на сцене, от начала и до конца представления. Из театра толпа — теперь уже гостей — перебралась и в миф. Что же касается до его убежища в Τрезене, то тема наследника, спрятанного до тех пор, пока он сам себя не может защитить, — эта тема распространена во всем мире и является едва ли не самой ходовой в нынешних африканских сказках. Это тривиальная уловка всех ненадежных обществ; уловка настолько естественная, что ее используют даже животные. Имея дело с любым очень древним сказанием, полезно помнить, что у примитивных народов весьма развито чувство драмы, что они драматизируют свою жизнь. Мы себя обманем, если откажем в доверии таким событиям только потому, что нам, сегодняшним читателям, они покажутся слишком банальными.
Не знаю, предполагал ли кто-нибудь раньше, что у Тезея был дар предчувствовать землетрясения. Этот инстинкт хорошо развит у многих животных и птиц. Такой дар и сегодня был бы неоценим в любом городе, в любой деревне Греции; для людей Бронзового века он, безусловно, был бы даром божественным, так как других объяснений быть не могло. Милость и защита Сотрясателя Земли подчеркиваются по всему мифу о Τезее, и примечательно, что смертное проклятье — его дар Тезею — влекло за собой гигантскую волну. Страсть Посейдона к Пелопу (прадед Тезея по мифу) предполагает наследственную линию; а Пелопоннес — настолько сейсмический район, что все статуи в Олимпийском музее окружены ящиками с песком, чтобы не разбились, если упадут.
Нет никаких свидетельств того, что в Микенское время существовало слово «эллин», но я воспользовалась им, потому что для большинства читателей термин «ахеец» слишком узко локализован.
Амазонки классического мифа являются, по-видимому, продуктом смешения двух традиций. Я не вижу оснований сомневаться в правдивости рассказа Геродота о племени, в котором женщины — после истребления всех их мужчин — предпочли создание своей собственной боевой общины тем мытарствам чужеземной неволи, которые так трогательно описаны гомеровским Гектором и которые так мало изменились даже в исторические времена. Однако я предпочла другую версию — отчасти потому, что это лучше объясняет роль амазонок в великом нашествии — и описала их как воинственных жриц Артемиды, вроде тех, что охраняли, как говорит Павсаний, ее храм в Эфесе.
Нечто подобное мы находим в разных религиях и у разных народов, иногда формирования амазонок сохраняются как отряды телохранителей священных царей. Мегафен обнаружил их в арийских царствах Северной Индии в 300 году до н.э., а сэр Ричард Бэртон — двумя тысячелетиями позже, хотя к этому времени их функция стала уже чисто декоративной.
Амазонки Понта традиционно причисляются к народу Белых Скифов из-за их серебряных волос; хвост-коса украшает анатолийские фигурки девушек и богинь в течение нескольких тысячелетий; описаны танцы эфесских амазонок с систрой и кимвалом. А танец с оружием я списала с танца, который видела собственными глазами, хотя исполняли его мужчины, — это мусульманская «Халифа». Это поразительно впечатляющее и, без сомнений, правдивое представление. Наточенные клинки перед началом предлагаются зрителям на проверку, а в разгар танца они вонзаются в тело — и крови нет.
Позднейший миф заставляет Тезея жениться на Федре лишь после смерти Ипполиты в бою либо после его вероломной измены, побудившей Ипполиту начать в отместку войну (версия, которую Плутарх отвергает). Однако брак с критской принцессой был настолько очевидной династической необходимостью, что свадьба — или по крайней мере помолвка — должна была состояться сразу же после завоевания острова. Согласно мифу, у Федры был не один ребенок — больше. Но и об Акаманте (Акаме) мы знаем очень мало. В изгнании на Эвбее он воспитывался как частное лицо и, по-видимому, в том же качестве пошел на Τроянскую войну. Там он проявил достаточно храбрости и надежности, чтобы попасть в экипаж деревянного коня, но ничего не сказано о какой-либо его ссоре с Mенестеем, который вел афинян в качестве царя. О Менестее одни говорят, что он был убит, другие — умер, третьи — низложен афинянами. Во всяком случае, Акамант сменил его на троне, хотя и неизвестно при каких обстоятельствах.
Роль Акаманта в разоблачении Федры — это мое. Тезей узнал правду, и каждый рассказчик называет своего глашатая этой правды, бога или человека. Постоянно присутствующие в мифе элементы — это попытка соблазнения, молчание юноши под потоком клеветы, обращение Тезея к Посейдону и рожденный волною Бык-из-моря. Поскольку Тезей был умен, необходимо предположить, что было еще что-то кроме внезапного дикого обвинения, что заставило его поверить, будто сын так не оправдал его надежд.
Эврипид заставляет Федру повеситься, оставив письменное обвинение в адрес Ипполита, — жест достаточно убедительный, но пожалуй слишком красивый для такой низменной цели. Последние слова умирающего Ипполита я позаимствовала специально: мне кажется вполне вероятным, что Сократ, встретивший смерть с такой непоколебимой твердостью, принес свою жизнь в жертву в благодарность за вещий сон.
Погибший юноша таинственно исчез. Иные говорят, что трезенцы знали его могилу, но не показывали ее чужим. Другие — что Артемида унесла его в Эпидавр, где Асклепий поднял его из мертвых. Асклепия за это Зевс поразил перуном, Ипполита же богиня переправила в Италию, где он охотится в священных рощах Тибра, замаскированный под древнего человека. Чтобы он не вспоминал о своих прежних страданиях (или, быть может, о безжалостном боге своего отца), в тех лесах никогда не появляются лошади.
Обращают на себя внимание многочисленные и далекие походы Тезея, связанные с похищением различных женщин. Их объясняли в религиозном аспекте как борьбу с храмами богинь, но мне кажется, что эти походы проще объясняет древнее и аристократическое занятие — пиратство.
В 490 году до н.э. персы высадились в Марафоне, но были отброшены афинянами, несмотря на подавляющее превосходство в силах. Впоследствии победители говорили, что на поле боя появился Тезей и вел их, как ангел-воитель Ман. Это дало мощный толчок к усилению его культа в Афинах, и в 475 году до н. э. Кимон перевез со Скироса то, что считалось останками Тезея. В пропагандистской кампании, предшествовавшей этому перепогребению, широко использовалась история о гостеубийце Ликомеде (если не он — сами Афины виноваты в смерти Тезея на чужбине!). Но в мифах самих наследников Тезея ничего подобного нет, и другая версия — что он упал, поскользнувшись, со скалы — продолжала существовать. Очень впечатляет схожесть его смерти со смертью его отца.
Лучшую эпитафию ему составил Плутарх: «В память о том, что Тезей при жизни защищал угнетенных и выслушивал с участием мольбу просящего, могила его стала святилищем и прибежищем для рабов и вообще для всех слабых и униженных, которые боятся сильных мира сего».
МИФ О ТЕЗЕЕ
Царь Эгей Афинский, преследуемый бедами и бездетный из-за враждебности Афродиты, учредил ее культ в Афинах и поехал за советом к дельфийскому оракулу. Ему было велено не развязывать бурдюка с вином, пока не вернется домой, иначе он умрет однажды от горя. По дороге домой он рассказал свою историю трезенскому царю Питфею. Тот догадался, что предвещано рождение какого-то героя, и уложил пьяного гостя в постель к своей дочери Эфре. В ту же ночь, во сне, ей было приказано пойти в храм Афины на острове, где с нею сошелся Посейдон. Когда Эгей проснулся, он оставил под алтарем Зевса свои сандалии и меч и сказал Эфре, что если у нее родится сын, она должна отправить его в Афины, как только он сможет поднять камень. Этот подвиг Тезей смог совершить только в шестнадцать лет. К этому времени он был уже юношей героического сложения, могучей силы, искусно играл на лире и изобрел борьбу.
Чтобы испытать себя в опасностях, он двинулся в Афины по Истмийской дороге и победил там всех тиранов и чудовищ, нападавших на путников.
В Мегаре он убил гигантскую свинью Файю, а в Элевсине — царя Керкиона, который избивал воинов, заставляя их бороться до смертельного исхода.
Когда он добрался до Афин, колдунья Медея, любовница его отца, догадалась, кто он, и, чтобы сохранить престол для собственного сына, убедила Эгея, что этот могучий юноша представляет угрозу для его трона. Эгей приготовил чашу с ядом, чтобы дать ее Тезею во время пира, но в последний момент увидел у Тезея свой меч. Он выбил чашу, уже поднесенную к губам, из рук сына и радостно обнял его. Колдунья скрылась на своей колеснице, запряженной крылатыми драконами.
При всеобщем ликовании Эгей провозгласил Тезея своим наследником. Прежний наследник Паллас и пятьдесят его сыновей были либо убиты молодым принцем, либо изгнаны. Тезей заслужил новую славу, укротив дикого быка, который свирепствовал на Марафонской равнине. Вскоре, однако, город был повержен в печаль и уныние: пришел с Крита корабль за данью — подошло время отправлять юношей и девушек на съедение Минотавру.
Царь Минос Критский дал обет Посейдону, и тот послал ему для жертвоприношения великолепного быка, но царь оставил быка себе. В наказание Афродита наслала на царицу Пасифаю чудовищную страсть к этому быку. Царица удовлетворила свою страсть, забравшись в полую корову, сделанную для нее мастером Дедалом. У нее родился Минотавр — чудовище с человеческим телом и бычьей головой, которое питалось человеческим мясом. Чтобы спрятать свой позор, Минос удалился от мира в непроходимый Лабиринт, построенный все тем же Дедалом, а Минотавра поместил в самом центре, куда и посылались к нему его жертвы.
Афинская доля состояла из семи юношей и семи девушек. Среди них был и Тезей, по большинству версий пошедший добровольно, хотя некоторые говорят — по жребию. Когда он уезжал, отец попросил его поменять черный парус жертвенного корабля на белый, если он будет возвращаться живым.
Когда Тезей появился на Крите, Минос поднял его на смех за утверждение, будто он сын Посейдона, и предложил ему достать кольцо, брошенное в море. Морская нимфа принесла Тезею не только это кольцо, но и золотую корону Фетиды.
Это внушило Ариадне, дочери Миноса, любовь к Тезею; она тайно дала ему клубок ниток, чтобы найти обратную дорогу из Лабиринта, и меч, чтобы убить Минотавра.
Минотавр был убит, Тезей был на свободе — он собрал афинских юношей и был готов уходить. Но девушки были заперты отдельно. К этому Тезей был готов еще в Афинах: он обучил двух храбрых, но женственно выглядевших мальчиков и подсунул их вместо девушек. Эти мальчики отомкнули женскую половину, и все жертвы бежали на Наксос, забрав с собой Ариадну. Там ее нашел Дионис, влюбился в нее и сделал предводительницей своих менад. Подходя к Афинам, Тезей забыл поменять траурный парус на белый, в результате чего Эгей с горя бросился то ли с Акрополя, то ли со скалы в море (потому и Эгейское). Таким образом Тезей стал царем.
За время своего правления он объединил Аттику и дал законы трем сословиям: землевладельцам, крестьянам и ремесленникам. Он был знаменит тем, что защищал обиженных слуг и рабов, для которых его храм оставался священным вплоть до исторических времен.
Пирифой (Пириф), царь лапифов, бросил ему вызов, угнав его скот; но юные воины понравились друг другу при встрече и поклялись в вечной дружбе. Тезей принимал участие в Калидонской охоте на вепря, в битве лапифов с кентаврами — и своими подвигами соперничал с Гераклом. В походе против амазонок он увел с собой их царицу Ипполиту. В отместку ее народ напал на Аттику, но Ипполита сражалась на стороне Тезея и была убита стрелой. Перед тем, однако, она родила Тезею сына Ипполита.
После ее смерти Тезей послал за младшей дочерью Миноса, Федрой, и женился на ней. Ипполит был теперь сильным, красивым юношей, любившим лошадей и преданным целомудренному культу Артемиды, богини его матери. Вскоре Федру поразила пожирающая страсть к пасынку, и она послала к нему свою старую няню. После его отказа она повесилась, оставив записку, где обвиняла его в изнасиловании. Тезей, убежденный ее смертью, изгнал сына и проклял его смертельным проклятием, имевшим божественную силу от Отца-Посейдона. Когда Ипполит гнал свою колесницу по каменистой прибрежной дороге, бог послал громадную волну, которая несла на гребне морского быка, растерзавшего его коней. Изуродованный труп Ипполита принесло обратно Тезею, слишком поздно узнавшему правду.
После этого удача изменила Тезею. Помогая Пирифою похитить Персефону, он был схвачен в подземном мире и провел там в муках четыре года, пока Геракл его не освободил. Вернувшись, он застал Афины в смуте и беззаконии. Его попытка восстановить закон и порядок не удалась; тогда он проклял город и отплыл на Крит. По дороге он остановился на Скиросе, где из-за вероломства хозяина упал со скалы в море.
Раффи
Самвел
Книга первая
«Вслед затем Ваган Мамиконян и Меружан Арцруни, те два гнусных и нечестивых мужа, которые отреклись от заветов богопочитания и согласились почитать безбожную религию маздеизма, начали разрушать в армянской стране церкви и молитвенные дома христиан… Строили капища во многих местах и насильственно обращали людей в веру маздеизма… и своих детей и родственников давали на обучение религии маздеизма. Тогда один из, сыновей Вагана, по имени Самвел, убил отца своего Вагана и мать свою Вормиздухт, сестру персидского царя Шапуха…»
Фавстос Бузанд, книга IV, гл. 59.
«После смерти Аршака Шапух собрал многочисленное войско под начальством Меружана (Арцруни) и отправил его в Армению… И отдал ему в жены сестру свою Вормиздухт, и обещал дать ему армянское царство, только бы он, покорив нахараров, обратил страну в веру маздеизма. Он взял это на себя и прибыл… и пытался уничтожить все христианские порядки… И какие только ни находил библейские книги — сжигал и отдал приказ не учиться греческой письменности, а только персидской и чтобы никто не смел говорить по-гречески или переводить с греческого… Ибо тогда не было еще армянского письма, и церковная служба велась на греческом языке».
Мовсес Хоренаци, книга III, глава 36.

I. Два гонца
Полумесяц скрылся за горою Карке, и Тарон[244] погрузился в ночной мрак. Не было видно ни одной звезды в эту ночь. Серые облака заволокли небо; тихо плыли они в сторону Кыркурских и Немрутских гор и сгущались в черную мглу. Оттуда порою сверкала молния, доносились глухие раскаты грома, — все предвещало сильную грозу.
В эту тревожную ночь по Мушской равнине ехали два всадника. Они возвращались из очень дальних мест. Покинув месяц тому назад железные ворота Тизбона[245], они миновали пустыни Хужистана, выжженную солнцем Ассирию, проехали армянскую Месопотамию и всего лишь день как достигли равнины Муша. Всадники были гонцами.
Один из них ехал на вороном коне, другой на сером. Всадник на сером коне был осведомлен о поездке гонца на вороном коне и осторожно следовал за ним, ни на минуту не упуская его из виду. Всадник на вороном коне не подозревал, что за ним наблюдают. Это и было причиной того, что они, подобно двум планетам, хотя, и следовали в одном и том же направлении, но по параллельным орбитам и потому не встречались. Оба они знали друг друга.
Путники уже достигли берегов Арацани[246].
Всадник на сером коне остановился. Озираясь, он посмотрел на небо, чтобы узнать, долго ли до рассвета, но не было ни единой звезды, чтобы определить время. Все вокруг было погружено в непроницаемую мглу. Гонцу нужно было спешить…
Две мысли несколько минут удерживали его в нерешительности: пуститься ли вплавь или переехать через мост? Ехать через мост — значит, чересчур отдалиться и, быть может, встретиться с «ним», а то и попасть в руки ночной стражи. Он решил пуститься вплавь.
Обычно тихая серебристая Арацани бушевала теперь после весенних ливней и мутными потоками заливала берега. Но наш путник знал все броды.
Он сошел с коня и, погладив красивую голову и гриву серого, ласково сказал: «Ты смело рассекал бурные потоки Тигра; разве тебе могут быть страшны волны нашей родной Арацани?» Он разнуздал коня, чтобы тот во время переправы не чувствовал принуждения, снова вскочил на него и, перекрестившись, стремительно въехал в воду.
Река ревела, как страшное чудовище. В ночном мраке мутное течение ее казалось еще мрачнее. Конь, погрузившись в воду и высоко подняв голову, плыл, фыркая, боролся с волнами; его ноги не касались дна. Всадник держал коня за гриву, рукою направляя его движения. Местами водоворот, затягивал их, они скрывались под водою, но снова выплывали. Порой проносились мимо пни, куски бревен, — волны, вздымая их, с плеском уносили вдаль. Всадник старался лавировать между ними. Но вот издали донесся грохот. Надвигалась опасность. Однако всадник не растерялся и хладнокровно, с глубоким вниманием посмотрел в ту сторону, откуда доносился грохот. Навстречу неслась темная, бесформенная громада. И чем ближе, тем она становилась все ужаснее и грознее. Казалось, по реке движется огромный холм. Он то исчезал, то возникал снова страшным видением. Всадник догадался, что это такое. Он мгновенно соскользнул с седла на круп лошади, чтобы облегчить ей ношу. Держась за хвост, он торопил коня. Наступала роковая минута: мрачная громада, похожая на безобразное чудище, приближалась. Своим грохотом она заглушала все звуки. Надо было вовремя ее миновать, иначе она, как щепку, унесет и коня и всадника. Даже конь почувствовал надвигающуюся опасность и, удвоив усилия, с невероятной быстротой пересекал волны. Чудовище пронеслось. Это были не более, как вывороченные с корнями деревья из ближайших лесов, сбитые и скрученные водоворотом в такую безобразную массу.
Достигнув берега, всадник с облегчением осенил себя крестным знамением.
Он выжал платье, наскоро обсушил его, затем взнуздал коня и продолжал свой путь пешком, ведя животное на поводу, чтобы дать ему отдохнуть. Но конь едва плелся. Насколько быстро плыл он в воде, настолько же медленно передвигался на суше. Хозяин объяснял это усталостью.
Значительно отойдя от берегов реки, путник приблизился к горным отрогам Карке. Отлогая дорога, извиваясь по склонам гор, то спускалась в глубокие овраги и лощины, то опять поднималась на холмы. Путнику еще с детства были знакомы эти горы, покрытые лесами; знакомы все эти тесные ущелья и тропинки; он вырос в сырой мгле этих долин, куда никогда не проникало солнце. Он был сыном этих лесов и скал.
Молния ударила по вершинам соседних деревьев, озарив окрестность бледно-розовым светом. Удар грома страшным гулом отозвался в темных ущельях. Путник взглянул на покрытое тучами, небо и ускорил шаги. Он не боялся волн Арацани, но буря страшила его: в этих девственных лесах она свирепствует с ужасной силой, особенно в ночную пору. Горные потоки вырывают с корнями растущие на скалах деревья и сбрасывают их на дорогу. Вместе с деревьями низвергаются громадные каменные глыбы. Злосчастный гонец неминуемо погиб бы под их обломками.
Снова загремел гром, и тут же хлынул дождь. Ветер свирепствовал, и ливень, усиливаясь, крупными каплями хлестал по воспаленному лицу. Но путник ничего этого не замечал. Вся его энергия сосредоточилась на одной цели, настойчиво толкавшей его вперед, поглотившей все его мысли и чувства. Он спешил к месту своего назначения, стараясь на несколько часов опередить гонца на вороном коне.
Однако конь еле передвигался. Путник только, теперь заметил, что лошадь хромала на заднюю ногу: несомненно, ее ранило быстро несущимся бревном во время переправы. Это весьма огорчило бесстрашного путника. Надо было спешить, а он лишался своего быстроногого коня Что делать? Неужели бросить его и продолжать путь пешком? Но как оставить любимого коня, который столько лет был его верным товарищем и на поле брани и во время путешествий? Подумав немного, путник свернул с большой дороги на тропинку, ведущую к Аштишатскому монастырю.
Через час он добрался до монастыря. В чаще вековой заветной рощи, на древних священных высотах покоилась в своем славном величии эта древняя святыня Тарона. Среди ночной тьмы монастырь, защищенный высокими стенами и крепостными башнями, казался неприступным замком. Ни жестокая буря, ни рев ветра, ни ливни не тревожили его мирной благочестивой дремоты.
В узком окошке домика, перед монастырской оградой, мерцал свет. Путник направился к домику и подошел к запертой двери. К деревянному столбу у входа была привешена доска, у основания лежала деревянная колотушка. Путник поднял колотушку и три раза ударил по доске. Окошко вверху открылось, высунулась чья-то голова, и послышался сонный голос:
— Кто там?
— Путник, — последовал ответ.
Это строение перед монастырскими стенами служило пристанищем для запоздалых прохожих, чужестранцев и странников. Привратник, удовлетворенный кратким ответом путника, открыл дверь и показался на пороге со светильником в руках.
— Совсем промок, — с участием заметил он, — войди, я разведу огонь, и ты высушишь одежду.
— Премного благодарен за твою сердечность, — ответил путник, — но я прошу приютить только моего коня.
Почему только коня? — удивился привратник.
— Он хромает, повредил ногу… а я должен продолжать путь.
— Войди, по крайней мере, обогрейся немного, я живо разведу огонь…
— Не могу… спешу… — Путник подошел ближе к свету.
Вынув из-за пазухи гребень, сделанный из рога буйвола в виде полумесяца, он показал его привратнику и сказал:
— Запомни этот гребень — вот здесь не хватает двух зубьев. Если я не вернусь, ты отдашь моего коня тому, кто покажет этот гребень.
— Но кто же ты? — недоверчиво спросил привратник.
— Я воин… — ответил путник.
Привратник довольствовался этим неопределенным ответом, потому что в те беспокойные времена было небезопасно расспрашивать воина.
Пришелец между тем отвязал легкий дорожный хурджин[247], привязанный к седлу лошади, перекинул его через плечо и, пожелав хозяину доброй ночи, удалился.
Удивленный привратник со светильником в руке долго стоял на пороге и следил за незнакомцем, пока тот не исчез в ночной темноте. Рев ветра заглушил его шаги.
Оставив позади себя монастырь, путник направился по дороге, ведущей в Вогаканский замок.
II. Утро Тарона
Бурную ночь сменило тихое и свежее весеннее утро. Над лесистыми холмами, окружавшими замок Вогакан, клубился белый, как снег, пар. Непроницаемый туман окутывал обрывы и равнины, долины и горы. В воздухе плавали крупинки влаги, вспыхивая несметным золотым бисером в первых лучах солнца. Орошенные дождевыми каплями листья деревьев, стебли трав, цветы долины, казалось, были разукрашены самоцветными каменьями.
В воображении путника вставало торжественное утро глубокой древности, когда Астхик, богиня Тарона, выходила из Аштишатского храма. Спускаясь с высот горы Карке, она в сопровождении прелестных прислужниц шла купаться в серебристых волнах Арацани. А в священной роще Аштишата за густыми деревьями скрывались молодые богатыри Армении, чтобы издали созерцать омовение прекраснейшей богини. Но Астхик покрывала всю равнину Муша непроницаемой мглой, скрывая от нескромных взоров место своего купания.
Чем выше становилось солнце над горизонтом, тем больше редел, растворяясь в воздухе, утренний туман. Сквозь прозрачную пелену из дымки стали вырисовываться вдалеке очертания гор. Показалась волнистая зеленая цепь Симских гор с их вечно снежными вершинами, которые в лучах восходящего солнца сияли розовым светом. А еще дальше, в сторону гор Кыркур и Немрут, как синяя лента, блеснула узкая полоса Бзнунинского озера. Показались и отроги горы Карке с ее тенистыми мрачными лесами — колыбель сурового и сильного народа. А посреди этого как бы гигантского обрамления, будто чудесное видение, раскинулась обширная равнина Муша. На ее роскошном зеленом ковре рассыпались бесчисленные деревни, посады и богатые города Таронской области. Вот Муш, гордо и величаво разместившийся на склонах Тавра. Вот у извилистых берегов речки Мелти вырисовываются высокие башни города Одз. Вот город Вишап с его громадными городскими воротами, раскрытыми как пасть чудовища. Вот город Кавкав, вот белый Дзюнакерт…
Арацани рассекает обширную долину Муша на две части. На ее плодородных берегах, кроме туземного населения, поселился пришлый народ, перекочевавший сюда с берегов далекого Ганга. Плуг индуса сверкал под солнцем Армении, и армянская песня индуса-пахаря звучала в тишине лучезарного утра Тарона.
У берегов Арацани жил и другой народ, желтокожие китайцы с берегов Хуанхэ, ставшие внешностью постепенно похожими на армян: найдя здесь приют, они трудились над обработкой армянской земли. Многочисленные стада их паслись у реки, поросшей камышом. Красивые китаянки булавками собирали на зеленых росных лугах кошениль, чтобы приготовить из нее красную краску для тонких рукоделий, украшавших дворцы армянских князей.
Гневной была в это утро Арацани. Но ее материнский гнев не пугал сыновей. Ее мощные волны увлекали за собой целый флот — флот первобытного человека. Сородичи, стоя на берегу, посылали пожелания удачи путникам. Отчаливающие гребцы кричали: «Счастливо оставаться!» Легкие, обшитые кожей лодки были нагружены дарами богатой Армении; они плыли в дальние страны, в Вавилон. Веселые песни, возгласы гребцов, смешиваясь с глухим гулом реки, нарушали глубокий покой окрестностей.
Равнина Муша окружена с четырех сторон высокими горами: эти горы, как гигантские стены, защищали ее от нападения врагов. Кроме этих укреплений, воздвигнутых природой, вход в долину преграждали неприступные крепости и замки, построенные князьями Тарона на вершинах Таронских гор. Таковы были замки Ехнут, Мецамор, крепости Астхаберд, Айциц и Вогакан.
Близ Аштишатского монастыря, на утесах горы Карке, грозно высился замок Вогакан. Он гордо смотрел на бушующую внизу Арацани. Тайные ходы и подземные пути вели из него либо к реке, давая возможность укрывшимся обитателям замка пользоваться водой во время осады, либо вглубь лесов, через которые поддерживались тайные связи замка с внешним миром. Ходы эти были известны только владельцам замка. Высокие стены, окружавшие крепость, огромные башни, высокие бойницы, веками боровшиеся со стихией, служили защитой от врага и всегда оставались непобедимыми. Замок был расположен под сенью древних гигантских дубов, высокие вершины которых мерились с небом.
Еще задолго до начала христианской эры Вогакан принадлежал роду князей Слкуни, первым владельцам Тарона. В дни царствования Вагаршака Первого, за полтораста лет до начала нашей эры, влияние князей Слкуни в Армении усилилось. Вагаршак, установив порядок местничества среди нахараров[248], возвел князей Слкуни в разряд нахараров за их храбрость и удачи в охоте и поручил им начальство над придворной охотой. Но в царствование Трдата, в 320 году н. э., Слкуниды восстали против царя, и Трдат обещал отдать все владения Слкуни и Тарон тому, кто захватит мятежного князя Слука. Ченский князь Мамгун взялся исполнить желание государя и предательски убил Слука. Весь род князей Слкуни был истреблен, а Мамгун в награду получил Вогаканский замок и весь Тарон. От Мамгуна и пошло выдающееся нахарарство Мамиконянов, которые наследовали Таронскую область, передавая ее из рода в род.
В это утро, еще до рассвета, два человека проникли в замок Вогакан. Один из них прошел через главные ворота, — это был всадник, ехавший на вороном коне. Другой же, ехавший на сером, пробрался в замок по тайному ходу из леса.
III. Зловещатель
В одной из комнат Вогаканского замка, на диване, покрытом дорогим ковром, обложенном роскошными шелковыми подушками, сидел молодой человек. Он только что покинул спальню, и, как можно было заметить по его заспанному лицу, встал значительно раньше обычного часа. Он не был еще ни одет, ни умыт, ни причесан. Он кутался в широкополую, из тонкой овечьей шерсти накидку, и длинные его волосы, спускаясь с непокрытой головы волнистыми прядями на плечи, почти закрывали его красивое бледное лицо. Он беспокойно крутил небольшие усы, обрамлявшие алые, немного припухшие губы. Этим обнаруживалось глубокое волнение его души. Черные миндалевидные глаза выражали необъяснимую тревогу. На вид ему было лет двадцать пять. Красивое телосложение и смугло-желтоватый цвет лица говорили о сохранившейся наследственности.
Этот молодой человек был Самвел, сын Вагана Мамиконяна.
Комната служила приемной палатой. Пол в ней был устлан пестрыми мохнатыми коврами. В углах стояли тяжелые и легкие копья, пики, дротики и громадные железные палицы, украшенные тонкой резьбой с золотой насечкой. Позади ложа со стены спускалась широкая шкура тигра. Этого зверя Самвел убил собственноручно, будучи еще восемнадцатилетним юношей. На шкуре было развешено разнообразное оружие: колчан со стрелами, большой лук, секиры с длинными железными рукоятками, два щита — один легкий, из прозрачной верблюжьей кожи, другой тяжелый, стальной, усеянный крупными, похожими на пуговицы, гвоздями; шлемы — либо остроконечные, как копье, либо с султанами из волос, кольчуга из мелких колец; массивный медный нагрудник с выпуклым изображением извивающегося дракона, мечи, кинжалы, сабли длинные и короткие, прямые и кривые, с двумя или одним лезвием, ножны которых были украшены золотом и серебром, а рукоятки — драгоценными каменьями; многие из этих мечей легко пробивали железо кольчуг и были смазаны ядом.
Комната напоминала скорее оружейную, чем приемную палату. Молодой князь любил окружать себя предметами, близкими его сердцу. Лишь роскошные сиденья, стоявшие у стен, говорили о том, что комната предназначена для приема почетных гостей.
Все двери были тщательно заперты изнутри, а пурпурные с тяжелыми золотыми кистями занавеси окон спущены. Лишь одна дверь была открыта, она вела в опочивальню. У этой двери, держась обеими руками за рукоятку кинжала, стоял человек в легкой одежде гонца. На нем была короткая шуба с кожаным верхом; широкий кожаный пояс охватывал часть груди и стягивал низ живота для предохранения от тряски во время быстрой езды. Кожаные узкие штаны у бедер были пристегнуты к кожаным ноговицам. На ногах были туго сплетенные волосяные башмаки с подошвами из грубого волоса, на голове — круглая войлочная шапка, обернутая куском шелковой материи, концы которой закрывали голую шею и спускались на широкие плечи. Ему еще не было тридцати пяти лет, но в короткой курчавой бороде уже пробивалась седина. От ветра и палящего солнца мужественное лицо его, смуглое от природы, приобрело еще более темный оттенок. Суровое выражение лица смягчалось блеском ясных глаз.
— Значит, ты не привез мне письма, Сурен? — продолжал свои расспросы князь.
— Не дали, господин мой, — отвечал гонец. — Опасались, что по дороге перехватят. Да и мне, живому письму, с большим трудом удалось добраться до моего господина. Я уже все рассказал вам, вы уже все знаете.
— Да, но ты толком ничего не объяснил, — взволнованно прервал его князь: — что же побудило моего отца изменить своей вере и принять участие в таком позорном деле… Или Меружан, злодей, лишил его разума… Я хорошо знаю Арцруниев, они мне дяди… Ради славы, власти и почета они готовы пожертвовать самым святым. Но мой отец… он никогда не был таким… или его обманули?..
При последних словах голос молодого князя задрожал, он провел рукой по лбу, поник головой и несколько минут оставался в тяжелом раздумье. Сурен с глубоким состраданием смотрел на него. Когда Самвел снова поднял голову, Сурен ответил:
— Его не обманули, господин мой. Но с того дня как царь Шапух умертвил вашего дядю после жестоких мучений в Тизбоне, отец ваш стал домогаться должности спарапета[249] армянских войск. Шапух дал ему это звание, и ваш отец исполнил его желание…
— Теперь понятно… — как бы про себя промолвил молодой князь. — А теперь расскажи. Сурен, все, что знаешь о смерти моего дяди.
Тяжело было гонцу описывать смерть героя, у которого он был одним из самых преданных телохранителей и вместе с которым участвовал во многих сражениях. Но молодой князь настаивал, и Сурен приступил к рассказу.
— Вам известно, господин, что Шапух обманом завлек в Тизбон нашего царя Аршака и вашего дядю. Царя заковали в цепи и заключили в крепость Ануш в Хужистане, — я уже вам об этом говорил. После этого Шапух приказал привести на судилище вашего дядю. В тот день площадь царского судилища была полна народа. Присутствовал и я. Когда дядю вашего поставили перед судьями, Шапух окинул его взглядом с головы до ног — дядя был маленького роста — и с насмешкой сказал: «Неужели это ты избивал многие лета арийцев (персов) и осмеливался беспокоить нас столько времени?» Ваш дядя смело ответил ему: «Да, царь, это я». — «Лисица! — с гневом воскликнул Шапух. — Я велю умертвить тебя смертью лисицы». — «Над ростом моим смеешься, царь? — ответил ваш дядя. — Или силу мою до сих пор еще не узнал? Прежде я казался тебе львом, а теперь кажусь лисицей. Так слушай же, царь, я тот самый Васак, Васак-великан, которой упирался правою ногой в одну гору, — и гора равнялась с землею, упирался левою ногой в другую гору, — и другая гора равнялась с землею». Шапух спросил: «Скажи мне, какие же это горы ты сравнял с землею?» Князь отвечал: «Одна гора — это ты, другая — греческий царь. Пока среди армянских нахараров было единство и крепкая связь с царем армянским, пока мы хранили заветы отца нашего Нерсеса[250], до тех пор бог нас не оставлял, и мы не раз учили врагов нашей, отчизны, в том числе и тебя, царь Шапух. Но когда раздоры наших нахараров предали в твои руки нашего царя, с того дня мы сами уготовили себе гибель. Теперь же делай со мной, что хочешь, — я ко всему готов». Весь народ, собравшийся на площади, был поражен смелыми речами вашего дяди. Поражен был и царь и похвалил его за отвагу. Но затем приказал его, умертвить, извлечь внутренности, набить труп сеном и отправить в крепость Ануш. Там поставили его, как бесчестие, пред глазами закованного в цепи царя Аршака, и с тех пор бесконечные слезы льются из очей несчастного царя, когда он смотрит на своего храброго, верного спарапета.
Молодой князь, слушая этот печальный рассказ, приложил платок к влажным глазам, стараясь скрыть слезы.
— Он герой, и умер смертью героя! — воскликнул он наконец. — Сын его, Мушег, должен гордиться таким отцом. А я… чем мне гордиться? Вечный позор покрыл мою голову. Мой отец ради должности спарапета, которую занимал его брат, стал презренным орудием в руках убийцы брата и теперь во главе персидских войск идет на Армению, чтобы залить ее кровью… Горе мне, горе! Чем искуплю я этот позор?
Первые лучи солнца, падая на пурпурные занавеси, залили комнату алым светом. Молодой человек с неудовольствием заметил, что день уже настал. Он обратился к гонцу:
— Спасибо тебе, Сурен, твоей службы я не забуду. Теперь, пока в замке все спят, поспеши скрыться. Когда понадобишься, я тебя позову.
Сурен поклонился до самой земли.
— Ты, конечно, отправишься домой? — спросил его князь.
— Нет, господин, я поклялся не видеть ни жены, ни детей, пока…
Он не докончил своих слов, но князь догадался, что он хотел сказать. Доблестный и храбрый воин уже пять лет не был на своей родине. Целых пять лет служил он в Персии в армянской коннице[251] и участвовал во многих походах против кушанов[252]. Теперь он вернулся на родину; его родное местечко Хорни было недалеко от замка Вогакан, но он решил не возвращаться домой, так как был поглощен делом, которое было ближе его сердцу, чем жена, сын и друг.
— В таком случае скажи, где найти тебя?
— В Аштишатском монастыре, — ответил гонец. — Меня там не узнали и приняли за чужестранца. Коня своего я оставил там же.
Молодой человек поднялся с дивана и, запахнув широкий халат, направился в опочивальню. Сурен последовал за ним. Самвел подошел к своему ложу и откинул лежавший перед ложем ковер. Затем он нажал на полу едва заметную пружину, доска быстро поднялась и открыла квадратное отверстие.
— Тебе, я думаю, знаком этот ход? — обратился он к Сурену.
— Еще бы, господин, — ответил тот многозначительно. — Эта комната была опочивальней вашего покойного дяди, спарапета. Я был тогда еще безусым юношей и подметал в этой комнате пол.
Все детство Сурена прошло в этом замке. Будучи крестьянином Мамиконянов, он был взят в замок как способный и исполнительный мальчик. Когда же он достаточно освоился, то стал исполнять должность постельничего.
Князь взял огниво, кремень и трут, ударил огнивом. Посыпались искры, и трут начал тлеть. Князь зажег об него серную спичку, а от нее клубок навощенных ниток и подал его Сурену, говоря:
— Ну, теперь ступай.
Сурен еще раз молча поклонился и, по привычке перекрестившись, стал спускаться в отверстие, которое было так узко, что человек с трудом мог пролезть в него. Князь опустил доску и снова накрыл ее ковром.
Под полом замка было много подземных ходов, которые, подобно сети лабиринта, вели в разные стороны. Главные помещения, где проживали хозяева замка, имели свои особые потайные ходы, которые, соединялись в глубинах подполья и таким образом сообщались между собой и с внешним миром.
IV. Смутная идея зарождается в нем
Самвел вернулся в приемную палату.
Сегодня ему казалось, что стены этой роскошной обширной комнаты давят на него. Он подошел к окну, откинул тяжелую шелковую занавесь и раскрыл одну из створок, чтобы в комнату проник свежий воздух. Затем отворил дверь для слуги. В комнату вместо слуги вбежала его борзая красивой золотистой масти; умное животное, видимо, ожидало в прихожей, когда его впустят. Кожа собаки была так тонка, что можно было сосчитать все ребра. На длинной шее висел серебряный ошейник. Собака подбежала к Самвелу, встала на задние лапы, передние положила ему на грудь и с какой-то нежностью посмотрела ему в лицо, точно стараясь угадать, отчего хозяин сегодня так печален. Самвел ласково потрепал длинные уши и красивую морду борзой. Собака, успокоенная этой лаской, опустила лапы, отошла и легла в угол, не переставая следить покорными глазами за любимым хозяином, который медленными, неровными шагами прохаживался по комнате.
Душа Самвела была охвачена волнением, молодая кровь кипела. Чем больше он думал о наступающих бедах, тем все мрачнее казалось ему будущее. Армения стала беспомощна и беззащитна. Царь Аршак, закованный в цепи, томился в Хужистанской крепости Ануш. Наследник престола Пап с женою Зармандухт и двумя детьми, Аршаком и Вагаршаком, был задержан в Константинополе. Царя Аршака изгнал персидский царь Шапух, а наследника престола задержал греческий император Валент. Первосвященник Армении Нерсес Великий, могучий заступник родины, по приказу того же греческого императора, сослан на пустынный остров Патмос. Армения осталась беспомощной. И царь и первосвященник — ее защитники — вне пределов страны. Греческий император, с одной стороны, персидский царь — с другой, как два жадные чудовища с разинутой пастью, алчно боролись друг с другом за право овладеть беззащитной страной…
Эти печальные размышления не давали покоя молодому человеку, и он с ужасом видел великие бедствия своего отечества — его приближающуюся гибель.
А тут еще раздоры среди нахараров. Одни из них стояли за то, чтобы признать власть греков и сделаться их данниками, другие желали принять персидскую власть и стать данниками персов. Нахарары, которым была дорога свобода и независимость Армении, пребывали в полном отчаянии и не находили средств для спасения страны. Не было никого, кто сумел бы объединить их. Не было царя, не было первосвященника. Одни предатели.
Предателями оказались представители двух самых могущественных нахарарств: Ваган Мамиконян и МеружанАрцруни. Первый был отцом Самвела, второй — дядей, братом его матери. Оба изменили христианству, оба приняли персидскую веру и превратились в руках царя Шапуха в оружие уничтожения всего святого и заветного в Армении. Это ужасало молодого человека и в то же время наполняло его сердце невыразимым гневом.
«Окруженный магами[253] и архимагами едет сюда мой отец… — думал он с глубокой горечью, — и ведет за собой как опору персидское войско… Едет, чтобы уничтожить наши церкви, школы, литературу, обратить нас в персов… Рука об руку с Меружаном… Они уже уничтожили государство, ныне хотят уничтожить народ и религию. Мы должны впредь говорить и молиться по-персидски. И мой отец принимает ревностное участие в преступлении, которое вечным проклятием покроет род Мамиконянов…»
Губы Самвела побледнели, колени задрожали, в глазах потемнело, он едва нашел силы добраться до дивана и опустить отяжелевшую голову на подушки. В таком положении, охватив руками голову, он находился долгое время, чувствуя во всем теле лихорадочную дрожь. Тяжелые, как густой туман, неясные мысли проносились в его воспаленном воображении. Но вот он вздрогнул, вскочил с дивана, говоря, как в бреду:
— Мамиконяны родят и изменников… родят и героев. Когда мой дядя Вардан вместе с царевичем Тиритом восстали против царя Аршака и перешли на сторону Шапуха, мой дядя Васак погнался за ними, и, настигнув в пути, убил и Тирита и своего брата. Рука его не дрогнула, проливая кровь родича, изменившего своему царю и отечеству. А я?.. — Ему показалось, точно эти слова обожгли его уста. Не досказав, он снова упал на диван и, закрыв лицо, стал горько рыдать.
— Ах, отец, отец!.. — повторял он сквозь бурный поток слез.
Он любил своего отца, любил горячей, искренней любовью. Но любил и родину. Его воспитатели с детства внушили ему самоотверженную сыновнюю любовь — прежде всего к родине, а затем к родителям.
Дверь приемной открылась. В комнату бесшумно вошел юноша и, взглянув на молодого князя, от удивления застыл у стены.
Он походил на нарядного комнатного прислужника. На нем была пышная, сияющая всеми цветами радуги одежда. Цветная косая повязка закрывала маленькую шапочку и правую бровь; левая же бровь и часть лба оставались открытыми. По плечам рассыпались длинные золотистые пряди. Цветной пояс из тонкой ткани складками охватывал стройный стан и развевался свободными концами. Накидка и куртка сверкали яркими красками. Шаровары, мелкими сборками доходившие до колен, были перевязаны у голени цветными лентами и, спускаясь ниже, закрывали ноговицы. Роскошные чоботы, сплетенные из разноцветных шелковых нитей, были мягки, как лапы кота, и не производили при ходьбе ни малейшего шума. В левом ухе висело серебряное кольцо — отличие княжеских слуг.
Он все еще ошеломленно глядел на своего господина. Красивые голубые глаза его выражали одновременно насмешку и удивление. Почему молодой князь поднялся сегодня так рано и вышел из опочивальни неумытым и неодетым? За ним не водилось такой привычки. Слуга ухмыльнулся про себя, полагая, что если его всегда такой веселый господин вдруг загрустил и лежит, уткнувшись лицом в подушку, значит он чем-то удручен.
Так он понимал виденное. Желая как-нибудь привлечь внимание князя, он подошел к собаке и наступил ей на лапу.
Собака зарычала от боли.
Князь поднял голову.
— Это ты, Иусик?
— Я, господин, — ответил слуга кланяясь. По установленному обычаю, слуга не мог первым обратиться к своему господину и должен был молча ожидать приказаний. Обычно в этот час Самвел умывался и одевался.
Иусик ждал, пока господин соблаговолит потребовать воды, но молодой князь продолжал лежать, не говоря ни слова.
— Знает ли господин мой, что в эту ночь произошло в замке? — спросил Иусик с хитрой усмешкой, желая рассеять грусть господина.
— Что произошло?
— Мыши отгрызли у Папика бороду. (Речь шла о привратнике замка). Вчера вечером, — продолжал юноша, — он чисто вымылся, умастился и отправился в гости к своему зятю. Оттуда приплелся пьянехонек, крепко заснул и даже не заметил, как мыши поужинали у него на подушке.
Князь посмотрел в неспокойные, горящие глаза молодого слуги и строго произнес:
— Это твои проказы, озорник?
— Да нет, бог свидетель!
— Поклянись моей головой!
Юноша, покраснев, умолк.
— Смотри, чтоб эти глупости больше не повторялись.
Шутка не удалась.
— Что же мне было делать?.. — промолвил юноша, смущенно опустив голову. — Притащился пьяный и заснул. В замок ночью прибыл человек, а он даже не почесался.
— Какой человек? — спросил князь настороженно.
— Гонец. Я ему открыл ворота; ой прошел прямо к княгине.
— Ты не спал?
— Я всю ночь не спал…
При этих словах юноша покраснел еще сильнее.
— Опять, видно, возле «ее» дверей томился? — спросил князь смягчаясь.
— Мне ли таиться перед моим князем?.. Так и было…
Юноша был влюблен в одну из служанок княгини, матери Самвела. Князь знал об этом. Проделка с бородой старика-привратника была одним из последствий этой влюбленности. Старик-привратник мешал ночным похождениям влюбленного. Но князь оставил эту тему и перешел к другой.
— Ну, а гонца ты узнал?
— Сатану узнать не трудно.
— Кто же это?
— Воскан Парехский. Тот самый, что убил свою жену и взял жену родного брата. Он привез письмо от старого князя.
— Он все еще у княгини?
— Нет, он передал письмо, они изрядно поговорили, и он отбыл до рассвета. Я же и выпускал его из замка.
— Об этом никому ни слова. Понял?
— Я глух и нем.
Наивному и веселого нрава Иусику не раз удавалось изгонять печаль из души порой охваченного тоскою господина и рассказами о своих проделках над обитателями замка довольно часто увеселять молодого князя. Но в это утро он был недоволен своими шутками: его господин по-прежнему был печален, опять погрузился в мрачные размышления.
Не очень-то много узнал Самвел от слуги относительно гонца. Одно лишь его заинтересовало: отчего мать так поспешно удалила его? Обычно гонец оставался в замке до получения ответа на привезенное письмо. Что же теперь заставило мать отослать гонца и укрыть его в отдаленном от замка селе?
Он обратился к прислужнику:
— Иусик, не можешь ли ты заранее разузнать о новом приезде гонца к княгине?
— Могу! — с уверенностью ответил юноша.
— У кого?
— У «нее». «Она» мне обо всем расскажет. — Речь шла о служанке княгини, пылко любившей Иусика.
— И можешь узнать, о чем будут говорить княгиня и гонец?
— И это могу.
— Каким образом?
— Скажу «ей». «Она», как бес, всюду пролезет: подслушает и все расскажет.
— Но «она» не должна знать, что это делается по моему приказанию.
— Иусик не дитя, он все понимает.
— А если «она» разболтает?
— «Она» не такая девушка. Велю ей: «молчи», и она будет нема.
Прибывший к княгине гонец был одним из танутеров[254] Тарона. Его тайный разговор с княгинею мог бы многое объяснить Самвелу, и потому именно он интересовался этим.
Солнце стояло уже довольно высоко над горизонтом, и его теплые, золотистые лучи заливали комнату князя. Он поднялся с дивана и приказал юноше подать воды для умывания.
Князь прошел в опочивальню. Там на полу был разостлан мягкий дорогой ковер. Слуга накрыл его куском тонкотканного полотнища. Князь, поджав ноги, сел на подстилку. Это делалось для того, чтобы не забрызгать ковер. Затем слуга накрыл колени князя белым холщевым передником и поставил перед ним серебряный, художественной работы таз с резными краями, напоминающими тупые зубья пилы. Таз был накрыт плоской сеткой, а мелкие отверстия сетки разукрашены узорами. Использованная вода через сетку стекала в таз, и умывающийся, таким образом, не видел грязной воды. Иусик, встав на колени перед князем, правой рукой лил воду из серебряного кувшина, изображавшего павлина с широко раскрытым хвостом, а в левой держал маленькую серебряную чашечку с душистым мылом. Ручками кувшина служили крылья павлина, а вода лилась из его клюва. Павлин был любимой птицей рода Мамиконянов и служил им напоминанием об их прежней родине — Китае.[255]
Окончив умывание, юноша отставил таз и кувшин и чистым полотенцем, перекинутым через плечо, насухо вытер лицо, шею и руки князя. Затем достал гребень из слоновой кости и стал расчесывать ему голову. Голова князя была кругом выбрита, и только с макушки спускались длинные черные пряди; на самой макушке также был выбрит маленький кружок величиною с монету. Расчесав волосы, Иусик хотел натереть голову благовониями.
— Не надо, — сказал князь.
Юноша удивился. Никогда еще не бывало, чтобы князь оставил свои волосы не умащенными.
«Мне надо скрыть свою печаль», — подумал князь и разрешил слуге продолжать обычный убор.
Умастив голову, Иусик собрал толстым узлом все волосы на макушке, а концы спустил на уши и шею свободными прядями. Затем он занялся головными украшениями. Они состояли из тиары, покрытой красивыми вышивками, и разноцветной шелковой повязки. Этим увяслом он обвязал тиару. Спереди к повязке, на лбу, он прикрепил серебряный полумесяц, испещренный таинственными знаками. Две тонкие цепочки, пристегнутые к рогам полумесяца, окружали повязку и скреплялись на затылке серебряными застежками. На каждой из застежек сверкал крупный драгоценный камень. Оставались еще глаза, которые следовало подвести черным порошком сурьмы. Юноша достал из-за пазухи маленькую кожаную сумочку, взял тонкую заостренную золотую палочку, поднес к губам, подышал на нее, чтобы она сделалась влажной, и опустил в порошок. Палочка покрылась тонким слоем черной пыли. Он начал накладывать сурьму на глаза. С большой осторожностью искусными движениями пальцев он водил палочкой по векам, пока они не окаймились черными линиями.
Теперь можно было приступить к одеванию. Иусик помог князю облачиться в шелковую цветную хламиду с разрезным подолом, доходившим до колен. Золотые пуговицы на широких рукавах хламиды имели вид свешивающихся черешен и служили скорее украшением, чем застежками. Такие же золотые пуговицы были и на груди. Талию он стянул тяжелым золотым поясом, усыпанным драгоценными каменьями. Замыкающиеся концы его образовывали большую выпуклую резную звезду, усеянную блестками. В центре звезды горел крупный розоватый алмаз, окруженный мелкой алмазной сыпью. Слева к поясу он пристегнул, как всегда, короткий меч, кончик которого касался колена. Как ножны, так и рукоять этого обоюдоострого оружия были окованы золотом и украшены красивыми узорами. Поверх хламиды князь надел короткую накидку из овечьей шерсти, расшитую золотом. Из-под длинной хламиды спускались пунцовые шаровары, охваченные цветными подвязками, сборки падали на красные сапоги. Этот княжеский наряд завершали два золотых шарика вдетых в уши князя. Самвел знал, что мать непременно позовет его к себе, чтобы поделиться полученными от отца известиями. Поэтому он хотел показаться ей в своем обычном виде, чтобы не вызвать подозрений: она не должна знать, что сын уже получил плохие известия об отце.
Он снова вышел в приемную и принялся растерянно ходить из угла в угол. Его волновала мысль, как вести себя с матерью, когда она начнет говорить о вестях, полученных из Тизбона. Его брал ужас при мысли, хватит ли у него сил, чтобы хладнокровно выслушать ее.
Одно неосторожное слово или движение могло его выдать.
Иусик собирался уже подать завтрак, когда дверь раскрылась и в комнату с низким поклоном вошел и молча остановился человек. Полное отсутствие усов и бороды, лицо, покрытое ранними морщинами, потухший взгляд узких глаз, красные веки, лишенные ресниц, торчащие желтые зубы и бесцветные губы — все говорило, что вошедший — евнух.
— Что тебе нужно? — спросил князь.
Евнух вторично поклонился.
— Госпожа приказала передать моему князю, чтобы он пожаловал к ней.
Князя передернуло, но он, подавив чувство неудовольствия, ответил:
— Хорошо. Скажи, что я приду.
Евнух, еще раз поклонившись, удалился.
Иусик с особым отвращением поглядел ему вслед и, растопырив пальцы правой руки, сделал пренебрежительный жест. Князь это заметил.
— Когда ты поумнеешь, Иусик? — укоризненно сказал он.
— Право, я не лгу, — ответил юноша с некоторым смущением. — Если утром вижу этого человека, то этот день у меня бывает неудачным: либо я что-нибудь разобью, либо разолью, либо еще какая-нибудь беда случается.
Князь улыбнулся.
V. Мать и сын
Утренний туман рассеялся. Наступил теплый лучезарный день. Воздух благоухал бальзамическим ароматом елей. Все улыбалось, все дышало радостью; только сердце Самвела было переполнено глубокой, безутешной тоской.
Выйдя из своих покоев, он прошел через обширный двор замка. Стоявший у входа Иусик сочувственно смотрел ему вслед. Заметив, что господин его грустен, и не зная причины, он также искренно опечалился. Он любил своего доброго и благородного господина, который был к нему всегда снисходителен и никогда его не обижал.
На Самвеле была весенняя легкая одежда. Рукава в широкие складки развевались по ветру. Нарядная хламида и белая легкая накидка придавали его стройной фигуре особое изящество. Появление его по утрам во дворе замка вызывало всеобщую радость; отовсюду устремлялись к нему восхищенные взоры.
Но сегодня он шел, не глядя по сторонам, не поднимая лица, точно в трауре. Таким его еще никто не видел. Как вести себя с матерью? Притворяться? Обманывать ее? Или же открыто осудить поведение отца?.. Он был в замешательстве и не знал, на что решиться. Эти размышления терзали его.
Жизнь в замке уже началась, все пришло в движение. С карнизов башен слетали голуби и влюбленными парами кружились по двору. Служанки в разноцветных одеждах весело шутили, смеялись и разбрасывали корм любимой птице. Евнухи с озабоченным видом молчаливыми тенями выскальзывали из одних дверей и бесшумно скрывались в другие. Тут же бегал хорошенький мальчик, играя с оленьим детенышем, шею которого украшал серебряный ошейник. Это был младший брат Самвела.
При свете дня замок выглядел страшным гигантом. Толстые стены подымались до уровня окружающих утесов и скал, точно руки циклопов, нагромоздив глыбы гигантских камней, воздвигли это мощное кольцо стен, внутри которого находились все жилые помещения большого княжеского дома. Замок был так обширен, что в случае опасности в нем свободно размещалась большая часть окрестных поселян. Вогакан походил скорее на крепость, чем на замок. Простота и прочность преобладали в нем над красотой и изяществом. В замке было множество служб, необходимых для различных надобностей. Самвел проходил теперь по одному из тех дворов, где помещалась девичья.
Он на несколько минут остановился, чтобы поговорить с младшим братом. Красивый мальчик с восторгом стал рассказывать ему о выросших рогах своего красавчика-оленя.
Тут их окружили молодые служанки. Одна из них, черноокая, не робея протянула руку и поправила загнувшийся воротник на хламиде Самвела.
— Благодарю, Нвард, — улыбаясь сказал князь, — мой Иусик такой бестолковый, что даже не умеет как следует одеть своего господина.
— Да, господин, он очень бестолковый, — проговорила девушка, и от смущения ее бледные щеки зарделись. Это была та самая служанка, которая пленила Иусика.
Самвел еще несколько минут занимался своим братом, его изящным оленем и слушал шутки беззаботных девушек. Он хотел выиграть время, чтобы хорошенько обдумать ту роль, которую собирался играть перед матерью.
В это самое время в одном из роскошных помещений женских покоев перед металлическим полированным зеркалом стояла женщина. Она самовлюбленно, не отрываясь, смотрела на свое изображение и с восхищением поправляла свои головные украшения. Уже не в первый раз подходила она к зеркалу, желая еще раз проверить, на самом ли деле идут ей все эти новые наряды.
В передней раздались шаги. Женщина торопливо отошла от зеркала, опустилась на диван и облокотилась на бархатные подушки. Лицо ее приняло серьезное выражение. Она выглядела моложе своих лет и казалась цветущей. Хотя ей было уже около пятидесяти лет, она производила впечатление юной невесты, и если бы не полнота, придававшая ей несколько грубый вид, ее можно было бы назвать красивой. Ее большие глаза смотрели гордо и надменно, что несколько портило их нежную красоту. Эта пышная женщина была Тачатуи, мать Самвела.
Самвел вошел, принужденно улыбаясь.
— Доброе утро, дорогая матушка, — сказал он и приблизился к матери, чтобы, как всегда, поцеловать у нее руку. Но, отступив, он воскликнул, будто бы удивленно и с оттенком насмешки: — Что я вижу!.. Бог свидетель! Не спрашивая, могу сказать, что едет отец.
— Как ты узнал? — с ласковой улыбкой спросила мать.
— Ты такая нарядная, руки выкрасила, брови навела… Для кого же все это, как не для него?
Она обняла Самвела, поцеловала его в лоб и усадила возле себя на диван.
— Да, отец возвращается домой, Самвел. А что ты подаришь мне за такую радостную весть? — сказала она и обняла его за шею левой рукой, а правой взяла его за ухо и повторила: — Что подаришь?
— Дважды поцелую тебя, вот и подарок, — ответил сын, стараясь высвободить ухо. — Может ли быть лучший подарок за такую благую весть? Чего же ты еще хочешь?
— Вот этого я и хочу. — Она прижала его к груди и расцеловала в обе щеки.
И приветливость сына и ласка матери были искренни. Она обладала добрым сердцем и любила своих всегда послушных и почтительных детей. Самвел же был покорным сыном, любившим своих родителей. Но сегодня в их искренние отношения впервые вкралось нечто дурное, какая-то злая мысль, которая должна была внести в эту дружную семью раздор и ненависть и, быть может, посеять сильную вражду между сыном и родителями. Всякий раз, думая об этом, Самвел содрогался всем телом.
Те же опасения с неменьшей силой волновали и сердце матери. Горячий патриотизм Самвела, его твердая вера, религиозное рвение были ей хорошо известны. Как же она скажет ему, что отец изменил вере и во главе вражеского войска идет на Армению?
Сама она давно уже была во всем согласна с мужем. Оба они принадлежали к тем ярым персофилам, которые ненавидели греков, а с ними и всю армянскую династию царей Аршакуни. Княгине не приходилось еще открыто высказывать свои персофильские взгляды в политических вопросах. Но зато у себя в доме она упорно старалась вводить персидский язык и персидские обычаи, что всегда вызывало сильное недовольство сына. Глухая семейная борьба между матерью и сыном началась уже давно, и давно уже Самвел готов был решительно воспрепятствовать намерениям матери. Однако обстоятельства были столь незначительны, поводы столь невинны, что еще не находилось причин для резких семейных разговоров. Но как быть теперь? Теперь надо было либо порвать навсегда все кровные узы, либо безропотно покориться воле родителей. На последнее мать не надеялась, зная настойчивость и твердость Самвела. Всю ночь она размышляла об этом и все же не пришла к определенному решению. В конце концов она решила сообщить сыну только часть полученных сведений, а об остальном поговорить при более благоприятных условиях.
Для начала она стала занимать сына посторонними разговорами.
— Как ты находишь мои новые уборы? — спросила она.
— Клянусь головой отца, они великолепны. Жаль, что ты забыла покрасить губы. Тогда ты была бы во всем схожа с персидской царицей.
— Ты издеваешься надо мной, Самвел?
— Над чем же мне издеваться? — усмехнулся сын, с большим вниманием рассматривая ее украшения. — Все так красиво, так чудесно! Посмотри вот на этот серебряный, усыпанный алмазами рог луны, который так искусно повязан у тебя на лбу. Он сверкает, словно молодой месяц на ясном небосводе. Этот полумесяц сулит тебе радость так же, как луна дает блага живым существам. А эти алмазы вокруг полумесяца? Они наполнят твое сердце постоянным весельем, ты во всем будешь иметь успех, всегда будешь приятна царским очам… Хороша и эта тана[256], имеющая форму гвоздики, она услаждает тебя своим благоуханием; бирюза небесного цвета наполнит золотом и серебром твою сокровищницу, сделает обязательным для всех любое твое слово, любое желание и оградит тебя от царского гнева. А как красиво горят изумруды на этих золотых шариках. Они будут охранять твой слух от неприятных звуков и радостной музыкой веселить твое сердце. А эти изумруды? Они ослепят змей и чудовищ и сделают тебя неуязвимой, ты можешь не страшиться тогда укусов ядовитых пресмыкающихся и насекомых. А вот жемчужное ожерелье — таинственный талисман, в нем заключено твое счастье, твоя чарующая сила и твое волшебное обаяние, столь необходимое женщине…
Самвел взял руки матери в свои и продолжал:
— Сколько красоты и таинственности в этих змеевидных браслетах! Они дают твоим рукам проворство, а тебе мудрость, какую змий дал нашей праматери Еве. А эти нарукавники, украшенные кораллом и цветными бусами, в которых содержатся, кто знает, какие талисманы, они оберегают тебя от злого глаза и лихого случая, охраняют от соблазнов дэвов, каджов[257] и всех невидимых духов. Я уверен, что в этих нарукавниках зашиты таинственные письма какого-нибудь мага.
Княгиня нахмурилась. Сын продолжал объяснять значение перстней:
— Вот перстень с красным яхонтом, с его помощью ты будешь привлекательной для всех. А вот другой, с сердоликом, — он предотвращает кровопролитие. Вот этот, третий, с розовым лалом — рассеивает печаль и прогоняет демонов. Вот четвертый, с змеевиком, — перед ним бессилен яд. А этот, пятый, с желтым камнем, разрушает злые помыслы…
Княгиня поняла, что сын смеется над ее суеверием, и языческими предрассудками, и потому строго и обиженно прервала его:
— Довольно. Я знаю твое слабоверие, ты таким вещам не веришь…
— Напрасно ты так думаешь, дорогая мамаша, — ответил Самвел невозмутимо, — я хочу только показать, что я не такой уж невежда и кое-что понимаю во всем этом…
— Разве прежде я не носила таких украшений? Разве их нет у жен наших нахараров?
— Ты права… И то правда, что жёны наших нахараров тоже их носят, но существует некоторая разница: твои чересчур похожи на персидские.
— Пусть так. Что тут такого?
— Ничего… Меня лишь одно удивляет: как быстро, ты успела все это подготовить.
— Я давно поручила… я только ожидала…
— Чтобы надеть, когда услышишь, что едет отец? Не так ли?
Мать ничего не ответила и, заметив, что разговор принимает неприятный оборот, перешла к другому:
— Знаешь, Самвел, для чего я тебя позвала?
— Не знаю…
— Я получила письмо от твоего отца и позвала тебя, чтобы сообщить тебе об этом.
— Получила письмо? — воскликнул Самвел. — Вот радость! Очень большая радость! Когда же получила?
— Сегодня ночью. Прибыл гонец.
Она поднялась, всунула ноги в голубые туфли, стоявшие на полу перед диваном, прошла через залу к одной из ниш и подняла шелковый занавес. Только теперь, когда она отвернулась, Самвел обратил внимание на узел из косичек, завязанный у нее на затылке, где среди украшений виднелся талисман из когтя гиены, вставленный в серебряный черенок.
Княгиня достала свернутый в трубку пергамент, перехваченный шелковой разноцветной тесьмой, и подала его сыну.
— Вот письмо от отца, — сказала она.
Самвел радостно развернул пергамент, посмотрел и разочарованно произнес:
— Здесь написано по-персидски…
— Я неоднократно советовала тебе учиться персидскому языку, — сказала мать поучительно и с упреком, — но ты не слушался меня; ты предпочитал эти проклятые языки — греческий и сирийский. А теперь, вот видишь, не можешь прочесть письмо отца. Ты даже своему маленькому брату Вагану запрещал учиться по-персидски. И все же он не только свободно говорит на этом языке, но и умеет писать.
Наставления матери задели Самвела, однако он постарался сдержать себя и сказал:
— Ты, конечно, читала письмо, расскажи мне, о чем пишет отец.
Княгиня передала Самвелу все, что ему было уже известно: что царь Шапух сделал ее мужа спарапетом Армении, что Меружану, брату княгини, он обещал армянский престол и как награду свою сестру Вормиздухт, что оба, отец и дядя, идут вместе с персидским войском в Армению. Один — чтобы стать армянским царем, а другой — спарапетом.
Во время этого рассказа лицо княгини сияло беспредельной радостью. Самвел слушал ее с глубоким волнением, рука его все крепче сжимала зловещий пергамент. Но эти горестные и позорные вести, предвещавшие гибель родины, не застали его врасплох. Он был к ним подготовлен.
Княгиня поведала сыну не обо всем. Она сообщила ему только то, что было написано в письме. Но скрыла, что его отец и Меружан Арцруни отреклись от христианства, приняли персидскую веру и обещали Шапуху распространить ее в Армении и что для этой цели Шапух направил с ними в Армению множество персидских жрецов, чтобы взамен церквей воздвигнуть капища и всюду открыть персидские школы, в которых должны будут воспитываться дети нахараров и знати в персидском духе и в догматах персидской религии. Умолчала она также и о мученической смерти Васака, дяди Самвела, и о заточении царя Аршака в крепость Ануш. Обо всем этом княгиня, конечно, знала; обо всем этом, без сомнений, ей устно должен был сообщить гонец, доставивший письмо.
Тяжелое впечатление, которое произвел на Самвела ее рассказ, не укрылось от внимания княгини, но, делая вид, что она ничего не замечает, княгиня обняла и прижала сына к груди.
— Поздравь же меня, дорогой Самвел. Брат мой станет царем Армении, а твой отец — спарапетом.
Самвел оказался в незавидном положении: ему оставалось либо открыто высказать свое возмущение поведением отца и Меружана, рассказать все, что было ему известно об их предательстве, либо промолчать, чтобы неосторожной выходкой не выдать своих замыслов и решений. Но он не мог молчать; надо было что-то ответить. Из таких затруднительных положений Самвела обычно выручала, с одной стороны, его недоверчивость, а с другой — ирония.
— Не преждевременно ли ты радуешься, дорогая мамаша? — насмешливо сказал он, высвобождаясь из ее объятий.
— Почему преждевременно? — спросила мать дрогнувшим голосом.
— Армянский царь еще жив…
Княгиня не выдержала и высказала то, что пыталась скрыть.
— Царь Армении заключен в крепость Ануш, а оттуда никогда не возвращаются.
— Да, я знаю… оттуда не возвращаются. Но ведь существует наследник престола. Он в Константинополе, у христианского императора.
— Кто же его доставит в Армению и возведет на престол?
— Греческие войска и армянские нахарары…
— До их прибытия Армения будет занята персидскими войсками, а мой брат станет царем.
— Желаю удачи…
— Не веришь, Самвел? Ну, да ты сам скоро во всем убедишься, — сказала мать наставительно. — Ты говоришь, что наследник армянского престола находится у императора, что он придет во главе греческих войск и займет престол отца? А знаешь ли ты, кто теперь греческий император? Валент — злейший враг армян. Он не только не принял армянского первосвященника Нерсеса, приехавшего к нему просить о помощи, но даже сослал его на остров Патмос в Средиземном море. Разве это тебе не известно?
— Нет, я слышу об этом в первый раз…
Но об этом бесчестном поступке гонителя Валента Самвел знал уже давно. Он с большим напряжением следил за всеми бедствиями, которые переживала его родина. И его чувствительное сердце было изранено творившимися злодеяниями.
В нем появилось желание выразить матери свое негодование по поводу одобрения ею бессовестного поступка Валента. Ему даже захотелось высказать ей свое глубокое возмущение поведением отца и Меружана, объяснить, какие губительные последствия могут повлечь за собой их действия. Наконец, раскрыть перед ней свое непреклонное решение противостоять всеми силами намерениям отца.
Но Самвелу хорошо было известно закоренелое честолюбие матери. Она желала быть супругой спарапета и сестрою царя. Перед этим страстным желанием все его доводы были бы бессильны.
И благоразумие сковало ему язык.
VI. Двоюродные братья
Нахарары из рода Мамиконянов издревле пользовались преимущественным правом быть спарапетами Армении. Эта высокая должность передавалась из поколения в поколение: сын наследовал ее после смерти отца. Впрочем, бывали исключения, когда и из других нахарарских домов Армении избирались спарапеты, но это случалось только тогда, когда Мамиконяны и армянские цари враждовали между собой.
Таронская область была наследственным уделом Мамиконянов. В Глакском монастыре находились их фамильные гробницы; замок Вогакан был резиденцией их княжества. Помимо Тарона, нахарары из рода Мамиконян владели также землями в области Тайк, где была расположена неприступная крепость Ерахани.
Род Мамиконянов был известен не только военачальством. Он славился храбростью, патриотизмом и благородством. Из этого рода выбирались наставники престолонаследников Армении и их дядьки.
Все армянские нахарары относились с большим почтением к представителям этой семьи, даже сам царь оказывал им особое внимание: столь велико было нравственное влияние этого рода. Вот почему во всех значительных событиях Мамиконяны являлись главными участниками. Самоотверженность, высокие добродетели и беззаветная храбрость были отличительными чертами этого рода.
В царствование Аршака II наиболее выделялись из рода Мамиконянов два брата Васак и Вагач. Васак, бывший наставник царя Аршака, получил звание спарапета Армении; Ваган же был в должности азарапета[258].
И вот ни одного из этих братьев в Вогакане уже не было. Гонцы привезли из Тизбона скорбную весть об их гибели. Васак принял смерть от руки персидского царя Шапуха. Ваган же умер духовно еще при жизни: стал предателем. В замке остались лишь их сыновья: Самвел — сын Вагана и Мушег — сын Васака.
Стояла ночь. В той части замка, которую занимала семья Васака, погасли огни. Только в одном окне сквозь плотные занавеси пробивался слабый свет: там еще не спали. Какой-то мужчина нетерпеливыми шагами ходил взад и вперед по комнате, иногда присаживаясь на диван. Его беспокойные взоры то и дело обращались на дверь. «Что это значит? — думал он. — Самвел просил у меня тайного свидания. Что случилось? Он хочет мне что-то сообщить?.. Неужели опять получены тревожные вести? Ведь если случилось что-то радостное, зачем ему приходить ночью?»
Так думал Мушег, сын Васака Мамиконяна. Он был на шесть или семь лет старше Самвела — красивый, хорошо сложенный мужчина, каждая черта которого выражала благородство воина.
Комната, где он находился, не блистала роскошью. На полу ковры из грубого волоса и у стен несколько сидений, покрытых также грубыми коврами. Всюду бросалось в глаза оружие, не отличавшееся богатством украшений. Куда ни посмотреть, ясно было видно, что Мушег и в своем княжеском доме сохранил суровость боевой обстановки. Простота его одежды вполне соответствовала простоте его жилища. Все свидетельствовало скорее о стойкости и выносливости, чем об утонченности и изощренном вкусе.
Мушег подошел к окну, отдернул занавеску и открыл одну из створок. Он долго стоял неподвижно и вглядывался в темноту ночи. Не видно ни зги, не слышно ни звука, все погрузилось в сон. Пока он вглядывался во тьму, его мысли унеслись далеко, далеко — ко двору Тизбона. Там его дорогой отец. Там же и его дорогой государь. Со времени их отъезда от них нет никаких известий. В чем причина столь долгого молчания? Быть может, их обманул Шапух? Неужели все пути от резаны? Он ничего не знал, его думы были так же печальны и беспросветны, как темна была эта ночь, в которой блуждали его полные гнева глаза.
В таком состоянии духа застал его Самвел, когда, тихо отворив двери, он сзади подошел к двоюродному брату и положил ему руку на плечо. Мушег очнулся от глубокого раздумья и, обернувшись, сказал:
— Ты изрядно помучил меня, Самвел.
— В этом виновата моя мать, которая окружила меня шпионами, — с гневом ответил Самвел, — я еле выбрался.
— Значит, случилось что-то важное, раз она прибегает к помощи шпионов, — сказал Мушег, и его грустное лицо еще сильнее омрачилось.
— Сядем, я расскажу тебе обо всем.
Братья сели на диван. Самвел несколько минут колебался, не зная, с чего и как начать рассказ, чтобы не причинить Мушегу сильной боли. Он начал с небольшого предисловия, выразив уверенность в том, что могучая воля и мужество Мушега помогут ему спокойно выслушать сообщение и что они вдвоем, несомненно, найдут способ предотвратить зловещие события.
Но Мушег нетерпеливо прервал Самвела:
— Ради бога, не надо лишних слов. Рассказывай, что тебе известно. Можешь быть уверен, я не заплачу, как женщина.
Тогда Самвел сообщил ему все, что узнал от гонца: о том, что отец и Меружан заключили союз, что они изменили христианству, перешли в персидскую веру и ведут языческих жрецов и персидские войска на Армению, чтобы завладеть ею. Рассказал и о том, что Шапух отдал Меружану свою сестру Вормиздухт в супружество и обещал ему армянский престол, если он сумеет захватить и отправить в Персию армянских нахараров и видных представителей церкви, а затем распространить в Армении огнепоклонничество. Рассказал также и о том, что Ваган назначен спарапетом Армении, а царь Аршак заключен в крепость Ануш.
— А мой отец? — прервал его Мушег.
Самвел в смущении остановился, но затем ответил:
— Твой отец также…
— Заключен в темницу?
— Да, заключен в темницу…
— Вместе с государем?..
— Да, вместе с государем…
Самвел говорил правду: отец Мушега действительно находился вместе с царем в крепости Ануш, но перед закованным в цепи царем стоял не живой Васак, а набитый соломою его труп. Еще до встречи с Мушегом Самвел мучился целый день, раздумывая, как сообщит другу о жестокой смерти отца. Это известие могло тяжело подействовать на Мушега, который сильно любил своего отца и, узнав о его смерти, мог впасть в полное отчаяние. В конце концов Самвел решил смягчить удар и сообщил, что отец Мушега заключен в крепость вместе с царем.
— О, вероломный перс! — воскликнул Мушег гневно. — Для тебя не существует ни святости слов, ни клятв! Перстень с изображением вепря ты вдавил в соль, — ведь это наисвященнейшая клятва по законам твоей религии; соль эту в знак мира ты прислал сюда, приглашая к себе моего отца и царя Аршака. И после этого ты вероломно заключил их в крепость. О, нечестивец!
Эти слова относились к царю Шапуху, который злодейским обманом заманил в Тизбон армянского царя и спарапета Армении. Мушег повернулся к Самвелу:
— Правда, что в течение тридцати лет мой отец беспрерывно воевал с войсками Шапуха и постоянно их побеждал. Но он воевал благородно. В душе Шапуха нет ни капли благородства, раз он мог забыть, с каким великодушием отнесся к нему мой отец. Однажды, когда Шапух, разбитый наголову, бежал с поля битвы, — весь его лагерь вместе с его женами был взят в плен моим отцом. Но отец с почетом отправил его жен обратно на паланкинах во дворец персидского царя. Обо всем этом Шапух забыл. Изменил клятве и обманул… О, мерзкий злодей!..
Такие полные горечи слова срывались с уст опечаленного сына. Сердце его горело жаждою мщения. Переполненный гневом он встал и, остановившись перед Самвелом, сказал:
— Слушай, Самвел. Мы будем недостойны своих предков, мы будем сыновьями потаскушек, если оставим эти злодеяния неотомщенными. Чаша терпения переполнилась, враг исчерпал меру злодейства.
Мушег сделал несколько шагов по комнате; заметив, что окно открыто, он закрыл его и опустил занавес. Он пылал гневом, большие глаза его горели, губы дрожали, как в лихорадке. Мужественное лицо побелело словно мрамор. Он остановился перед Самвелом и, глядя в его скорбные глаза, спросил:
— Что же ты молчишь? Почему не отвечаешь?
— Ты счастливее меня, Мушег, — сказал Самвел. — Твой отец был герой и не дрогнул даже перед лицом смерти. Он всю жизнь провел в борьбе с врагами родины и до конца остался верен своему несчастному царю… Мне рассказывал гонец, с каким величием держался он на суде перед Шапухом, обличая его вероломство. Все судьи и даже сам царь были удивлены его смелостью. Я же несчастный. Мой отец, недостойный брат достойного родича, изменил родине, изменил своему венценосцу. Сделавшись гнусным орудием в руках Шапуха, он идет теперь, чтобы предать родную страну огню и мечу. Он идет разрушить те храмы, которые были сооружены его предками и в которых он сам был крещен. Он идет, чтоб заставить нас молиться по-персидски и поклоняться персидским богам…
Слезы помешали ему говорить. Он обеими руками закрыл глаза и горько зарыдал. Самвел не обладал жестокосердием и твердостью Мушега. Он был столь мягок сердцем, его чувства были столь нежны, что даже незначительные события могли оказать на него огромное влияние. Но Мушег не обратил внимания на его слезы и в бешенстве воскликнул:
— Да, твой отец изменник! Он запятнал честь дома Мамиконянов. Надо стереть это пятно.
Он отвернулся и устремил взгляд на портрет деда Ваче, висевший на стене. Несколько минут глядел на него Мушег с выражением глубокого почтения. Затем, указывая на деда, сказал Самвелу:
— Когда на поле битвы, после кровопролитной борьбы с персами, герой этот пал, — всю Армению охватило горе. Плакал царь, плакало войско, плакали поселяне. Во время его похорон великий армянский первосвященник Вртанес, сын Григория Просветителя, в своем надгробном слове так утешал народ:
«Утешьтесь во Христе. Он умер, но смертью своей он обессмертил себя. Ибо он принес себя в жертву нашей стране, нашим храмам и нашей богом данной вере. Он умер ради того, чтобы наша страна не подверглась опустошению захватчиками, чтобы не был нарушен чин наших храмов, чтобы наши святыни не попали в руки неверных. Если бы враги наши завладели нашей страной, они утвердили бы в ней свою нечестивую веру. Этот боголюбивый мученик сражался за то, чтобы изгнать, исторгнуть зло из нашей страны, и он умер ради того, чтобы в нашу благочестивую страну не проникло беззаконие. Пока он был жив, он боролся за правое дело, когда же приблизилась смерть, пожертвовал собою за истину господа и за спасение его паствы. Он не пожалел отдать свою жизнь за родину, за братьев и за святую церковь, и он будет сопричислен к мученикам во Христе. Не будем оплакивать эту великую потерю, но почтим усопшего за его самоотверженность и установим обычай всегда и во веки веков чтить в наших церквах память о его храбрости наряду с памятью о мучениках христианских».
Произнеся надгробное слово патриарха, которое Мамиконяны знали наизусть, так как оно являлось их традиционным символом веры, Мушег добавил:
— Армянская церковь во время литургии перед святым престолом поминает в числе своих мучеников и нашего деда. Но отныне та же церковь будет произносить проклятие его недостойному сыну.
— И это мой отец!.. — воскликнул Самвел горестно.
Мушег ответил:
— Враг родины, изменник родины не может быть ни твоим отцом, ни моим дядей. Отныне он для нас чужой, и даже более чужой, чем какой-нибудь перс. Согласен ли ты со мной, Самвел?
— Целиком!
— Дай руку!
Самвел протянул дрожащую руку.
— Решено, — сказал Мушег и подсел к брату. — Теперь подумаем, что нам предпринять.
Воцарилось долгое молчание.
— Слушай Самвел, — начал Мушег. — Никогда еще Армения не была в такой опасности, как теперь. Царь, патриарх и спарапет — все в плену, и, враги поспешат этим всемерно воспользоваться. И еще сильнее, чем внешние враги, угрожают нам внутренние раздоры. По полученным мною сведениям, многие наши области и провинции восстали против царя и хотят свергнуть власть. Восстал Агдзникский бдешх[259], он возвел громадную дзорайскую стену и отгородился от нас. Восстал Норшираканский бдешх. Восстали бдешхи дома Махкера, Нихоракана и Дасынтрея. Восстал бдешх Гугарка. Восстал тер[260] провинции Дзороц, тер провинции Кохб и тер Гартманадзора. Охвачена восстанием сильная провинция Арцах, гавар[261] Тморик и Кордрикский ашхар; восстал Кордухский тер. Восстал весь Атрпатакан, сильный ашхар Маров и ашхар Каспов. Восстали также князья Анцитский и Великого Цопка. Пограничные с персами князья присоединились к персам, пограничные с греками — перешли на сторону греков.
Самвел, слушавший все это с глубоким возмущением, прервал Мушега и воскликнул:
— Нет совести у тех князей, которые, являясь хранителями границ, в минуту общей опасности, вместо того чтобы защищать страну от врагов, сами восстают и протягивают руку врагу. Что же мы можем предпринять, когда главные силы нам изменили?
— С нами народ! — грозно произнес Мушег. — Враг допустил большую ошибку, и мы ею воспользуемся. Враг посягнул на священные чувства народа — на церковь. Если бы твой отец и Меружан Арцруни знали душу армянского народа, они бы не посмели трогать церковь. Тогда, быть может, они и сумели бы покорить Армению. Но теперь они проиграют, я в этом уверен.
— Народ еще ни о чем не догадывается…
— В этом нам сильно поможет духовенство. У тебя, Самвел, близкие отношения с Аштишатским монастырем. Завтра, не теряя времени, отправляйся туда и сделай, что следует. Я тоже разошлю людей по всем монастырям.
— Но я не знаю, как мне поступить с матерью. Она совсем связала меня.
— Твоя мать, Самвел, ужасная женщина; она может причинить нам большой вред; ты должен быть с ней осторожен.
— Осторожен? Как?
— Ты должен показать, будто согласен с ней.
— Значит, надо лицемерить? Это будет тяжко для меня.
— Пока другого выхода нет.
VII. Предлог
Солнце стояло уже высоко, но Самвел все еще не выходил из опочивальни. Он поздно ночью вернулся от Мушега и лег в постель почти на рассвете. Иусик уже несколько раз подходил к дверям его опочивальни и с нетерпением прикладывал ухо к замку, долго, с осторожностью прислушиваясь к тяжелому дыханию и вздохам своего господина. «Не захворал ли?» — подумал он наконец. Приветливое лицо доброго юноши приняло глубоко опечаленное выражение.
После ухода Иусика в приемную палату вошел старик, сухой и тонкий, как скелет. Голова и борода его были совершенно белые, холодное лицо цвета пергамента, с резкими чертами говорило о твердом характере. Казалось, он сам не знал, зачем пришел, но вскоре нашел себе занятие. Он стал ходить от одного предмета к другому, рассматривать каждый, переставлять с места на место; подошел к стоявшим в углу пикам и копьям и, взяв одно из них, перенес в другой угол, а копье правого угла переставил в левый. Посмотрел на пику и, заметив, что она стоит косо, поправил ее. За этим занятием застал его вошедший в комнату Иусик.
— Разве это твое дело? — сказал Иусик, хватая старика за руку. — Опять пришел, чтобы все перепутать?
— Молчи, щенок! — крикнул старик и с такой силой отшвырнул Иусика, что, не обладай тот ловкостью кошки, он, наверное, рассыпался бы, как штукатурка, по полу.
— Тише, милый Арбак, — взмолился юноша, — князь еще спит.
— Спит… — насмешливо протянул старик, — нашел время спать! Ничего, сейчас проснется…
Шум в приемной палате действительно разбудил Самвела. Старик Арбак был дядькою Самвела. Молодой князь вырос у него на руках; поэтому Арбак и вел себя с такой непринужденностью. Это был старый воин с суровым и чистым сердцем. Несмотря на свой возраст, он сохранил свежесть мужественной души. Самвел уважал этого человека, уважал его старость и его нестареющую храбрость. И теперь еще стрела, пущенная стариком, попадала в цель, его глаз не утратил меткости. Арбак был учителем Самвела во время охоты и военных упражнений; он учил его бегать, прыгать с крутизны, укрощать строптивого коня, стрелять из лука и пробивать стрелою железную броню, — эти упражнения делались и на медных досках; учил одним взмахом меча отсекать человеку голову или с размаху разрубить его пополам, — эти опыты производились на животных.
Учил переносить голод и жажду и спать под открытым небом, на голой земле. Словом, Арбак развивал в Самвеле те качества, какими должны были обладать в ту суровую эпоху дети нахараров, для того, чтобы стать хорошими воинами и храбрыми людьми. Основы нравственного воспитания дядьки Самвела были весьма несложны. Они состояли лишь из нескольких требований: не лгать, исполнять данное слово, быть милосердным к больным и слабым, быть верным царю и отчизне, довольствоваться малым и быть воздержанным. Более же углубленное нравственное и духовное воспитание Самвела было поручено особым педагогам, которые обучали его религии, языкам и наукам. Эти учителя приглашались из находившегося поблизости Аштишатского монастыря.
Арбак, как человек очень скромный, предпочитал, чтобы о нем говорили другие. Но временами, когда кому-нибудь случалось рассердить его, он напоминал провинившемуся о своей родовитости. «Я не какой-нибудь подкидыш», — говорил он в таких случаях. Арбак особенно любил рассказывать о том сражении, во время которого персы разрушили плавучий мост на Евфрате и не хотели пропустить Юлиана, а армяне, прогнав персов, открыли дорогу Юлиану. «Ах, если бы я знал, каким недостойным окажется Юлиан», — этими словами заканчивал обычно он свой рассказ.
Всякий раз, как Арбаку рассказывали какие-нибудь военные чудеса, он неизменно отвечал: «А вот когда мы дрались у Евфрата…», и затем излагал историю боя у плавучего моста. Он не мог простить Юлиану Отступнику его поступок с армянским царем Тираном, послуживший причиной гибели выдающегося армянского первосвященника.
Наконец Самвел, вышел из опочивальни и, увидев Арбака, приветствовал его словами:
— Здравствуй, Арбак, что скажешь?
— Будь здоров! — ответил старик и, поджав ноги, уселся на ковер.
Он не любил сидеть на высоких креслах и диванах, считая такой обычай смешным. «Это значит садиться на деревянного коня, который не двигается», — говорил он, выражая свою иронию в форме такой загадки.
— Хорошо, что пришел, Арбак, — сказал Самвел. — Я хочу сегодня отправиться на охоту.
Старик улыбаясь ответил:
— Поглядите-ка на этого охотника: нечего сказать — раненько изволил подняться. Солнце-то уж на целых пять джид[262] поднялось на небе.
Этим он хотел сказать, что солнце поднялось над горизонтом на высоту пяти пик. Пика являлась для Арбака мерой, с помощью которой он измерял любое расстояние.
Упрек старика был справедлив. Самвел никогда не имел привычки вставать так поздно. Кроме того, на охоту отправлялись обычно до восхода солнца.
Самвел стал оправдываться говоря, что прошлой ночью ему не спалось и что он уснул лишь на рассвете. Но эти объяснения совершенно не убедили Арбака. Он полагал, что раз молодой человек по ночам не спит, значит ему в голову лезет всякая «чертовщина», а это он находил крайне недостойным.
На Самвела он привык смотреть как на ребенка, который когда-то не умел высморкать нос в платочек, данный матерью. Он никак не мог примириться с тем, что ребенок этот уже вырос, возмужал, имеет собственную волю и желания. Хотя Самвел давно вышел из-под его опеки, но, уважая старика, иногда обращался к нему за советом. И тогда Арбак становился крайне требовательным.
Теперь, уступая мольбам своего питомца, он сказал:
— Ну, если уж едешь, пойду прикажу подать тебе гнедого.
— Почему гнедого? Ты же знаешь, что мой любимый конь белый.
— Белый пока не годится, — ответил Арбак деловитым тоном. — Этот негодяй, как я заметил, все еще дурит. Он когда-нибудь доведет тебя до беды.
Самвел ничего не возразил, но предупредил его, что возьмет с собою только двух слуг и двух борзых. Арбаку это показалось очень странным, так как он привык соблюдать строго все обычаи и правила охоты. Всякий раз, когда князь отправлялся на охоту, его сопровождали десять — двадцать всадников и такое же количество собак. За несколько дней до охоты рассылались приглашения сыновьям соседних нахараров. Наконец, заранее назначались приготовления. «Что это ему вдруг сегодня с утра взбрело в голову скакать на охоту… и только с двумя всадниками?.. Виданное ли дело? Прилично ли это молодому князю?»
Но Самвел поспешил успокоить старика. Он объяснил, что ему скорее хочется просто прогуляться, чем охотиться, потому что чувствует себя плохо, прогулка несколько развлечет его.
В замке уже знали о близком возвращении спарапета Вагана из Тизбона, но подробности, сообщенные гонцами, конечно, никому еще не были известны. Самвелу хотелось узнать, какое впечатление произвела эта весть на старика.
— Знаешь, Арбак, отец возвращается… Теперь он спарапет Армении.
Арбак вместо ответа провел рукой по голове и принялся усердно потирать лоб. Казалось, он затруднялся с ответом.
— Что же ты молчишь?
— Плохо это пахнет! — прямодушно отрезал старик и начал еще энергичнее потирать себе лоб.
— Почему, Арбак? Разве так можно говорить? — спросил Самвел, представляясь обиженным.
Арбак провел рукой по седой бороде и, зажав ее в кулак, проговорил:
— Каждый волос этой бороды побелел в опасности, Самвел! Я многое видел и многое испытал.
Он умолк, ничего больше не прибавив, но его опечаленное лицо досказало Самвелу остальное. Старик еще не знал, какие злодейские поручения дал Шапух отцу Самвела для проведения в Армении. Но одна мысль о странном назначении Вагана спарапетом внушала ему беспокойство, так как эту должность, по установившемуся в роде Мамиконянов обычаю, должен был занимать его старший брат Васак. По какому же праву персидский царь Шапух вмешался в распоряжения, которые всецело, зависели от армянского царя? Все эти сомнения высказал с большой горечью старик, поднявшись с места и направляясь к двери.
— Радостен был бы приезд нашего тера, если бы он возвращался из Тизбона вместе с царем, а не с Меружаном Арцруни…
Арбак сильно хлопнул за собой дверью и ушел в переднюю, что-то бормоча себе под нос.
Возмущение Арбака больно отозвалось в сердце Самвела. «Какая глубокая печаль охватит всех в замке, когда обнаружится истина, — подумал он. — Поступок отца никого не обрадует, кроме моей матери… Отец привезет с собой в дом ссору, зависть и ненависть…»
В течение всего разговора Иусик находился в комнате. У него не было ни знаний Арбака, ни его опытности, но он чуял недоброе и не мог себе объяснить, почему его господин, узнав о приезде отца, вместо того чтобы обрадоваться, впал в уныние.
В это утро Иусик, словно изменив своей обычной веселости, был в каком-то грустном настроении.
Самвел обратил на это внимание и спросил с участием:
— Что с тобою, Иусик? Почему ты такой молчаливый?
Тот тревожно оглянулся и, приблизившись к Самвелу, чуть слышно прошептал:
— Знаешь, мой господин, что я узнал…
— Что? — с любопытством спросил Самвел.
— Человек этот… сегодня ночью опять был у госпожи.
— Какой человек?
— Гонец, который привез письмо от старого тера.
— Кто тебе сказал это?
— «Она».
— Нвард?
— Да. Нвард. Она сказала, что поздно ночью евнух Багос провел гонца к княгине. До прихода гонца княгиня сидела у себя в ожидании. Они заперли двери и, уединившись, долго совещались.
— О чем они говорили?
— Нвард не все расслышала; они говорили шепотом. Но сквозь дверную щель ей удалось подсмотреть: госпожа передала гонцу пачку писем и приказала ему объехать многие страны, повидаться со многими людьми и передать им эти письма.
— Нвард не сообщила тебе названия этих стран: и имена людей?
— Я спрашивал, но она не запомнила, так как имена все незнакомые. Но она лишь слышала, как госпожа строго-настрого приказала гонцу немедленно отправиться в путь, объехать все места в течение двух недель и повидаться с теми людьми, которых она ему указала.
— Неужели Нвард не запомнила ни одного имени?
— Да! Забыл сказать, она запомнила имя одного. По словам Нвард, госпожа велела гонцу прежде всего отправиться к Вараздату, верховному жрецу «детей солнца»[263].
Услышав это имя, Самвел сильно побледнел. Одного этого имени было достаточно, чтобы догадаться об опасных намерениях его матери. В Тароне еще существовал в это время среди армян древний культ солнца. Его последователей называли «детьми солнца». Во избежание гонений со стороны армян-христиан они, оставаясь приверженцами старой религии, внешне старались выдавать себя за христиан. Но, подвергаясь гонениям и притеснениям, они постоянно ждали только подходящего случая, чтобы поднять восстание. И вот теперь такой случай представился: княгиня Мамиконян, владетельница Тарона, возвещала благую весть их, главному жрецу и призывала его на помощь. А кому, же, как не «детям солнца», откликнуться на призыв княгини? Ее супруг, тер Тарона, возвращается из Тизбона на родину с целью уничтожить христианство. Он несет с собой персидский культ солнца. И кому же, как не «детям солнца», встретить его с распростертыми объятиями? Число же их в Тароне, особенно у границ Месопотамии, было немалое. Следовательно, была уже готова почва, на которой мать Самвела начинала сеять семена внутренних раздоров.
Все это было ясно Самвелу.
В это утро гонец матери пустился в путь, направляясь к главному жрецу «детей солнца». А Самвел под предлогом охоты собирался поехать в Аштишатский монастырь — к матери всех церквей Армении. Там были сосредоточены видные силы христианства. Он отправлялся сообщить местному духовенству о наступающей опасности, собирался увещевать священнослужителей, чтобы они со своей стороны призвали к борьбе христианский люд. Представители двух единоплеменных армянских религий должны были бороться друг с другом. Первых побуждала мать, вторых — сын.
Одна из дверей приемной палаты вела в одевальню, иначе называвшуюся «домом хламид». Там, в нишах, в больших и малых узлах, хранились наряды Самвела. Собольи же шубы и разного рода верхняя одежда для всех времен года висела в более обширных нишах и была закрыта занавесками. Особое место занимали его военные и охотничьи одеяния. Все это было дорогое, все разукрашено золотом и серебром. Самвел вошел в одевальню и выбрал там короткий и легкий охотничий наряд. В этой прекрасно облегавшей его изящную фигуру одежде он был особенно хорош.
Иусик в это время был занят в другом помещении, дверь в которое открывалась со стороны одевальни. В комнате этой находилась сокровищница князя. Здесь хранились его личные украшения, а также драгоценные украшения для лошадей. Иусик отобрал самую обыкновенную конскую сбрую, так как его господин отправлялся на охоту. Более роскошные предназначались для торжественных случаев.
Когда Самвел был уже одет, Иусик взял сбрую и отправился вместе с господином в княжескую конюшню.
Конюшня находилась вне замка, в особом помещении, по своей красоте скорее похожем на дворец. Там же помещалась княжеская псарня. Здесь содержались и охотничьи соколы разных пород. Когда князь вошел через большие ворота широкого квадратного двора конюшни, слуги заметили его издали и поспешили сообщить главному конюшему. Последний немедленно явился и, приблизившись к Самвелу, несколько раз отвесил низкий поклон.
— Здравствуй, Завен, — приветствовал его князь.
Главный конюший снова молча поклонился.
Во двор уже вывели гнедого коня, покрытого красивой попоной, края которой были разукрашены разноцветными шерстяными кистями. Сильный конюх держал коня под уздцы, но беспокойный, горячий конь не переставал издеваться над ним: ржал, сопел, подымался на дыбы, точно хотел повергнуть в прах своего укротителя. Но конюх мощной рукой сдерживал буйное животное. Группа других конюхов, стоя вокруг, с живым интересом наблюдала за опасной борьбой. Старик Арбак несколько раз подходил к коню, и, поглаживая его красивую шею, наставительно говорил:
— Тише, Егник, будь умником.
Подошел Самвел и, поглядев на игру коня, обратился к Арбаку:
— Ты мне запретил садиться на белого, но Егник не слишком-то умней его.
— Это он от радости, — ответил старик и велел, чтобы коня немного поводили, успокоили, а затем оседлали.
Конюшня была разделена на несколько частей: в одной находились княжеские мулы, в другой — ослы, в третьей — обыкновенные лошади, в четвертой — породистые. Самвел в сопровождении главного конюшего отправился посмотреть на породистых коней. Они вдвоем вошли в конюшню. Это было длинное помещение, конец которого терялся вдали. У яслей стояли рядами на привязи кони: чистые, здоровые, один краше другого. Их было свыше сотни. Для острастки каждый из них был привязан двойными концами поводьев к железным толстым кольцам, прикрепленным с двух сторон к яслям. Кроме этой предосторожности, у наиболее игривых, беспокойных задние ноги были связаны цепями, хотя кони были отделены друг от друга крепкой деревянной перегородкой.
Проходя мимо, Самвел внимательно разглядывал животных. Ему всегда доставляло большое удовольствие бывать в этой богатой конюшне. Он знал клички всех коней, их происхождение, возраст и был знаком с нравом каждого из них. Главный конюший с особой охотой отвечал на замечания своего господина, выражавшие его глубокое удовлетворение. Самвел подходил к некоторым из коней, гладил их по голове. Это особенно радовало конюшего: так радуется заботливая мать, когда в ее присутствии ласкают ее красивых, бойких детей.
— Завен, пора уже начать выезжать лошадей, — сказал Самвел. — Возможно, они скоро понадобятся…
— Понимаю, мой тер, — ответил главный конюший. На его обросшем лице появилась добродушная улыбка. — Старый князь возвращается, и вы, вероятно, собираетесь его встречать?
— Да! И с большим отрядом…
— Я знал об этом и потому как раз с сегодняшнего дня велел начать выезжать лошадей. Отныне ежедневно будут выводить коней на несколько часов.
Выйдя из конюшни, Самвел увидел своего оседланного коня, сел на него и пустился в путь.
VIII. Охота
На своем красивом гнедом коне, с колчаном за спиной, луком на плече и с длинной пикой в руках Самвел ехал по той дороге, которая вела от замка Вогакан к Аштишатскому монастырю. Резвый конь играл, подскакивал, грыз удила, и губы его довольно быстро покрылись белой пеной. Но вскоре он затих, как будто угадав, что хозяину не до веселья. Прежде, когда ему случалось вместе с хозяином отправляться на охоту, он слышал от него много ласковых, бодрящих слов. Но сегодня тот почему-то молчал. Вот это-то и опечалило умное животное.
В убранстве коня не было недостатка в украшениях, недостатка, который мог бы его опечалить. Голова его была украшена розовыми хохолками, перехваченными серебряными застежками, похожими на колокольчики. На шее висел также серебряный ошейник, маленькие бубенчики которого при всяком движении головы приятно позвякивали. На груди красовалась шлея с нанизанным на ней разноцветным бисером и с треугольным талисманом. Он охранял коня от дурного глаза и от несчастного случая. Седло было обито барсовой шкурой, стремена и луки — из серебра.
Две одномастных борзых с дорогими ошейниками бежали впереди всадника. За князем ехало двое оруженосцев; у каждого из них на руке было по соколу.
Оруженосцев также удивляло молчание князя. Занятый своими думами, он погонял коня, не обращая внимания на окружающее и не интересуясь разнообразной дичью, которая то и дело попадалась им на пути. Дорога тянулась через ущелье, по обе стороны его высились горы, покрытые густым лесом. Яркие лучи солнца не проникали через листву деревьев, ветви которых, переплетаясь друг с другом через дорогу, образовали живой зеленый свод. Иногда ущелье расступалось, и тогда взорам охотников открывались зеленые бархатистые луга, усеянные пестрыми цветами.
Как сладостно было раннее щебетанье птиц, как сладостен был нежный шелест листьев! Но еще приятнее было журчание горной реки, быстро сбегавшей между берегами, поросшими кустарником. От всего веяло радостью, все дышало жизнью и весельем, только сердце Самвела было полно горечи. Чем больше он думал о злых последствиях предстоявших бедствий, тем значительней они ему казались. «Кто знает? — думал он. — Быть может, скоро наступит день, когда покой этих прекрасных лесов будет нарушен бескрайним смятением, взамен благоухания этих красивых цветов повеет смертью и зеленые долины обагрятся братской кровью».
Казалось, и звери понимали, что Самвел для них сегодня не опасен: они смело, без боязни пробегали мимо него. Вот чуткая газель выскочила с быстротой молнии из приречных кустов, пересекла дорогу, скрылась за деревьями, в несколько прыжков очутилась на покрытой мхом скале и оттуда насмешливо поглядывала на князя. Борзые, заметив ее дерзость, вопросительно посмотрели на князя, но не получив поощрения, огорченные, продолжали свой легкий бег. Вот шумливая стая куропаток, быстрокрылых птиц, нарушила тишину. Она пронеслась близко, как сизая туча, и исчезла за соседними скалами. Соколы, спокойно сидевшие на руках оруженосцев, увидев этих красноклювых и краснолапых осмелевших птиц, взмахнули широкими острыми крыльями, и, готовые к преследованию, гневно рванулись. Но шелковые шнурки на ногах заставили их опуститься.
Солнце поднялось уже высоко. По лесу разливалась приятная теплота. Деревья, омытые накануне проливным дождем, ярко блестели чудесным нарядом своих листьев. Трава посвежела, еще больше отрос зеленый мох и мягким ковром покрывал обнаженные скалы.
Местные крестьянки обычно бывали очень недовольны лесным дождем: он смывал с листьев выделявшийся из них сахарный сок — эту манну небесную. Но на этот раз крестьяне успели заранее собрать сахар.
Тут и там среди деревьев мелькали маленькие шалаши, сплетенные из свежих ветвей. Из шалашей подымался дымок и облачками медленно рассеивался в воздухе. Девушки поселянки в красных рубашках, невесты в красных накидках весело сновали, как бабочки, вокруг огня. На костре кипел большой котел, наполненный сахаристыми листьями. Когда сахар растворялся, листья выбрасывали нектар, вода закипала, делаясь густой. Таким способом приготовляли растительный мед или иначе — руп. Наиболее нежные листья, на которых слой сахара был гуще, отбирались, их накладывали друг на друга и прессовали. Таким способом приготовлялось душистое и вкусное лакомство, называемое газпен. Эти дары природы являлись для крестьян приятной пищей, особенно зимой, в постные дни.
Самвел проехал мимо одного из шалашей. К нему подбежала, девочка-подросток. Если бы лесные нимфы оделись, как она, в красные рубашки, обвязались, как она, поясами с радужными цветами, и если бы, подобно девочке, свои длинные косы они заплели венками на голове, все же нимфы не были бы так прекрасны и привлекательны, как эта наивная девушка. Увидев ее, Самвел остановил коня. Девушка, зардевшись, подошла и, протянув руку, сказала:
— Пусть мой господин усладит свои уста.
Самвел взял у нее лепешку газпена, похожую на круглое печенье, и, откусив, спросил:
— Верно, твоего приготовления?
На лице девушки засияла нежная улыбка.
Самвел дал ей несколько серебряных монет.
— Вот тебе за то, что ты такая искусница и так хорошо приготовляешь газпен.
Девушка сначала отказывалась, но потом приняла деньги, и поклонившись, побежала к подругам.
Каждый путник, проходивший мимо шалашей, получал угощение: таков был обычай.
Самвел поделился полученным со своими оруженосцами.
Чем выше поднималось солнце, тем оживленнее становилась дорога. Все чаще встречались горожане, ехавшие верхом на лошадях и мулах; шинаканы[264] плелись пешком. Пешеходы, завидя князя, сторонились при его приближении и, смиренно склонясь, ждали, пока он проедет. Самвел приветливо им кланялся и со многими ласково заговаривал, спрашивал о здоровье. Ехавшие верхом, спешившись, также отходили в сторону, покорно становились рядом со своими животными и кланялись князю, когда он подъезжал.
Самвел ненавидел этот обычай. Он еще издали делал знак рукой, чтобы люди не беспокоились. Но путники, невзирая на его запрещение, оказывали почет своему молодому князю.
Народ любил Самвела за его мягкость, за исключительную доброту и приветливость как по отношению к шинаканам, так и к горожанам. Его почитали. Обращение его не походило на жесткое высокомерие молодых людей из других нахарарских домов; для тех породистый конь, собака или сокол значили больше, чем простолюдин. Среди крестьян сложилось странное мнение о Самвеле: «Он точно бы и не князь — не бьет и не бранится».
Из ущелья дорога спускалась вниз по горному скату, и перед глазами Самвела открылась широко раскинувшаяся равнина Муша. Внизу, среди тенистых деревьев священной рощи, виднелись высокие купола Аштишатского монастыря. Невдалеке раскинулось местечко; оно называлось Аштишат и походило на маленький городок. Принадлежало оно Мамиконянам.
По дороге к Аштишату медленно шел какой-то человек с длинной косой на плече. Он пел песню, слов которой нельзя было разобрать, но звуки выражали глубину чувства. Он был так увлечен своим пением, что не расслышал лошадиного топота за собою. Самвел окликнул его:
— Малхас!
Крестьянин обернулся, увидел князя и, радостно подбежав к нему, ласково взял его лошадь под уздцы. Его плотная фигура и мужественное лицо говорили о здоровой, выносливой натуре.
— Ты мне нужен, Малхас, — сказал ему Самвел.
— Слуга ждет твоих приказаний, — отвечал тот.
— Не сейчас. Завтра вечером приходи в замок, прямо ко мне.
Крестьянин в знак согласия кивнул головой.
Самвел поехал дальше, а Малхас снова запел.
Так, выехавши под предлогом охоты из замка, Самвел хотя и не поймал дичи, но зато случайно встретил нужного ему человека.
IX. Аштишатский монастырь
Тарон — обитель веры и богопочитания! Тарон — родина армянских богов и богинь! Вот снова показалась величественная Арацани — священный армянский Ганг. Семьдесят лет тому назад здесь еще совершенно свободно паслись белые бычки, принесенные в дар храму богине Анаит. По берегам этой реки прогуливались посвященные армянской богине олени с золотыми ошейниками. На этих берегах восхищался ими римлянин Лукулл[265].
Река эта была теперь перед глазами Самвела. Он пересекал Карке. Красивые возвышенности этой горы исстари покрывали леса, посвященные языческим богам. Грустные мысли князя невольно обратились к прошлому, к недалекому прошлому. Здесь, в этих дремучих лесах, на этих чудесных высотах когда-то стояли Яштские храмы[266]. Здесь приносились жертвы богам Армении. Перед мысленным взором Самвела встал храм Вахагна «Вишапакаха» — храм бога храбрости, наполненный сокровищами армянских царей. Рядом возвышалось другое святилище — «чертог Вахагна», где стояла вылитая из чистого золота статуя возлюбленной непобедимого витязя — богини Астхик. Здесь же был храм «златорожденной богоматери» Анаит, под покровительством которой некогда процветала во славе Армения.
Эти три храма с их огромными богатствами были местами языческих жертвоприношений — «Яштскими местами».
На новый год армян, в начале месяца Навасард[267], здесь происходило всенародное празднество, на котором присутствовали армянский царь, верховный жрец Армении и нахарары. Царь открывал великое торжество жертвоприношением — гекатомбой из белых волов с позолоченными рогами. Примеру его следовала вся знать.
Новый год приносил с собой и новую жизнь. Армении во время этого празднества надлежало показать своим богам плоды успехов прошлого года. Вахаги требовал от своего народа храбрости, Анаит — успеха в ремесле, Астхик — любви и поэзии.
Совершались соревнования в талантах и доблестях. Поэт пел сложенные им песни, музыкант играл на бамбирне[268], борец показывал силу своих мускулов, а мастер — произведения своего искусства.
Здесь происходили военные игры, поединки между смелыми борцами, бои с разъяренными быками и зверями. Здесь происходили ристания на лошадях, на колесницах, а также бега, в которых люди состязались с быстроногими оленями. Победитель получал один из тех розовых венков, которыми был украшен храм Астхик, и потому празднество это называлось Вардавар[269].
Новый год приносил с собой и новую жизнь. Старый год уходил. Надо было искупить старые грехи и очищенными вступить в новую жизнь: для этого совершалось общее омовение. Верховный жрец брал из волн Арацани святую воду и золотой кистью окроплял народ. Богомольцы, следуя его примеру, брызгали водою друг в друга.
Каждый из народа выпускал при этом белого голубя. Посвященные богине любви Астхик, чистые и непорочные, как невинные духи любви, голуби, порхая, окружали белый мраморный храм Астхик.
Жертва, вода и голубь — сколько в этом затаенного значения! Это символы мира, искупления и любви.
Каждый год, в месяце Навасард, в праздник Вардавара, языческая Армения совершала в «Яштских местах» на высотах Карке умилостивление богов кровью всенародного жертвоприношения. В начале каждого года Армения совершала это искупление, омываясь в священных водах Арацани. В начале каждого года Армения совершала и это таинство любви, посвящая храму Астхик голубей.
Но ведь обычай этот был очень древним, может быть старше начала самого времени.
Когда, по преданию, бог очистил потопами грешную землю, прародитель Ной[270] был первым после этого всемирного омовения, выпустившим с вершины Арарата голубя, благого вестника божественной любви. Это произошло в начале месяца Навасард. Выйдя из ковчега, у подножья той же горы патриарх принес первую жертву, — то была жертва умилостивления. Сын Ноя, хранитель его заветов Сим, спустившись с Арарата в Тарон и поселясь у подножья горы Сим, совершил такое же жертвоприношение.
Прошли века, века неисчислимые, но обычай этот свято соблюдался в Армении до появления голубя над водами Иордана. И христианская Армения, освятив языческий обряд, повторила те же священнодействия и в тот же день Вардавара.
Все это знал Самвел, и все это незабвенное прошлое вставало теперь в его памяти.
За семьдесят лет до того, как Самвел направлялся к Аштишатскому монастырю, два белых мула везли к Тарону закрытую колесницу. Ее окружали ехавшие на конях шесть знатных армянских князей: нахарары Аштенский, Арцруни, Андзеваци, Ангехский, Сюникский и Мокский. На колеснице заветным знаменем сиял серебряный крест. Впереди ехал просветитель Армении Григорий; лицо его было закрыто густой черной вуалью. Позади него — пять тысяч восемьдесят воинов, собранных шестью князьями. Христианское воинство, проникнутое священной отвагой, проходит по Тарону, наводя ужас на язычников. На колеснице — святые дары, вывезенные из Кесарии Просветителем.
Занималась заря. Колесница, переехав Арацани, приблизилась к высотам Карке и здесь остановилась. Ее появление вызвало страшное волнение в горах, нарушив вековой покой священной рощи. Старые боги армян возмутились, и жрецы разъяренной толпой выбежали из храмов. Под знаменами верховного жреца Ардзана, его сыновей Деметрия и Месакеса в продолжение часа собралось шесть тысяч девятьсот сорок шесть человек, жрецы и прислужники капищ. Завязалась кровавая битва — битва христианства с язычеством.
Из глубины священного леса, как муравьи из гигантского муравейника, двинулось языческое войско и заняло все проходы и высоты в горах. Верховный жрец Ардзан и один из его сыновей вооружились. Отец и сын, осыпая укорами и бранью армянских князей, восставших против своих богов, вызвали их на поединок. Вскоре язычники настолько оттеснили князей, что князь Мокский вынужден был укрыть Григория Просветителя в Вогаканском замке. Перед бегством Просветитель зарыл привезенные им из Кесарии дары в лесу, в глухом месте.
Битва продолжалась несколько дней, пока князья не получили подкрепления. Христианство восторжествовало: победа осталась за ним. Верховные жрецы Ардзан, его сыновья Месакес и Деметрий пали на поле битвы с мечом в руке, как герои. Пало тысяча тридцать восемь храбрых жрецов. Великолепные языческие храмы на вершинах Карке были разрушены. Погибли прекрасные произведения армянского искусства и архитектуры. Огромные же сокровища капищ стали добычей армянских крестоносцев.
Золото, серебро и мрамор легко было уничтожить, но уничтожить в сердце народа чувства, с которыми он сроднился, уничтожить обожание, какое он питал к родным богам, было гораздо труднее. Эти чувства сохранились на много веков после сокрушения богов. Они устояли против огня и меча. Религия сменилась, но стародавние обычаи народа остались.
Были уничтожены те храмы, в которых всенародно в дни Навасарда праздновался Вардавар. Во времена язычества всенародные празднества устраивались семь раз в году; и на каждом празднестве присутствовали царь и верховный жрец.
Григорий Просветитель на месте капищ основал первый христианский престол — матерь армянских церквей. Монастырь сохранил свое прежнее языческое название — Аштишат. Праздник Вардавара превратился в праздник преображения Иисуса Христа, но прежние обряды сохранились. Снова раз в году появлялся здесь армянский царь христианин со своими нахарарами и армянский первосвященник. Они открывали всенародные праздничные торжества Аштишата. Опять приносились жертвы, выпускались голуби, и народ окроплялся водою. Опять происходили те же игры, устраивались те же соревнования, раздавались те же награды, как это бывало в языческие времена. Венки из роз, венчавшие прежде храм Астхик, украшали теперь священный алтарь Аштишатского монастыря. И праздник этот, как и прежде, происходил в начале месяца Навасард и назывался праздником Вардавара.
Самвел все это знал. Он не раз участвовал в этих торжествах. Не раз случалось ему получать высокую награду во время игр и соревнований, не раз его за отвагу царь Армении награждал поцелуем в лоб.
Теперь предстояла новая война за веру. Как-то отнесется к этой войне народ, в котором еще живут старые исконные верования? Эта мысль волновала Самвела, когда он сошел с коня и перешагнул порог Аштишатского монастыря.
X. Три молодых силы
Ночью, когда вся братия Аштишатского монастыря уже спала, трое молодых мужчин сидели в одной из келий на широкой тахте. Светильник горел на медном треножнике, и огонь, мерцая, тускло освещал их озабоченные лица.
Они молчали: каждый углубился в свои думы. Их лица показывали, что горячий спор только что был прерван, точно собеседники решили передохнуть, успокоиться, чтобы снова начать спор.
Один из них, высокий, крупного телосложения, своей величественной фигурой и красивым лицом олицетворял мужественность, здоровье и силу. Второй был скорее маленького роста и хрупкого сложения; на его тщедушное тело природа как будто по ошибке посадила прекрасную голову, — на статной фигуре она была бы больше на месте; в его пламенных глазах светилась неуемная энергия.
Первый был Саак Партев, второй — Месроп Маштоц[271], третий Самвел.
Саак Партев был сыном могущественного первосвященника Армении Нерсеса Великого. В юности, окончив курс наук в Кесарии и изучив греческий и сирийский языки, он отправился в Константинополь и там завершил эллинистическое образование, изучив философию, музыку и ознакомившись с греческими поэтами. В Константинополе он женился. Вернувшись на родину, Саак, как и его отец в дни юности, поступил на военную службу, никак не полагая, что впоследствии ему придется унаследовать патриарший престол. С того времени как патриарший дом Армении оказался в свойстве с царским домом и с семьями крупных нахараров, дети патриархов получали вместе с духовным воспитанием и военное образование. Это было необходимо, так как первосвященник Армении являлся вместе с тем высоким должностным лицом в государстве. Он служил святому престолу, но в случае надобности вел войска на войну. С амвона он произносил проповеди, но в случае необходимости обсуждал с царями государственные вопросы.
Саак Партев, посетив Аштишатский монастырь по своим делам, случайно встретил там Самвела. Самвел знал, что Саак собирается проехать через Тарон, но не ожидал встретить его в этот день в Аштишатском монастыре. Два месяца тому назад Саак вместе с Месропом начал объезд своих вотчинных земель. Обширные владения, разбросанные в разных провинциях, простирались от Арарата до Тарона. Богатый патриарший дом имел больше поместий, сел и посадов, чем самое могущественное нахарарство.
Месроп, сын дворянина Вардана, был родом из местечка Хацик в Тароне. Местечко это находилось на расстоянии полудня ходьбы от Аштишатского монастыря. Месроп, бодрый, энергичный юноша, еще с детских лет стремился к науке. Он изучил греческий, сирийский и персидский языки и все науки, какие существовали в то время. Как дворянин, Месроп был обучен и военному делу. Поэтому, занимая должность составителя царских грамот при дворе в Вагаршапате, он вместе с тем исполнял и воинские обязанности. Однако вскоре он оставил дворец и стал секретарем Нерсеса Великого.
Помещение, смежное с кельей, в котором они сидели, напоминало Сааку о весьма печальных событиях из истории предков…
Пышную одежду Саака украшали драгоценности, какие носили тогда князья царского рода. Он восседал поджав ноги и положив себе на колени саблю в золотых ножнах, пристегнутую к золотому поясу. Рядом с ним сидел Самвел, напротив Месроп.
Самвел сообщил им прискорбные вести, полученные из Тизбона, рассказал о злодейских намерениях своего отца и Меружана. Об этом они и спорили: какими мерами предотвратить надвигавшуюся опасность. Угроза, родине настолько волновала их молодые души, что они порой забывали необходимую меру приличий в отношении друг к другу.
Месроп первый нарушил молчание.
— Опасность чрезвычайно велика. Мы вкушаем теперь плоды прежних ошибок.
— Каких ошибок? — спросил Саак.
— Тех, что совершили твои великие предки Саак…
Невидный молодой человек произнес эти слова желчно, и они как стрелы вонзились в сердце величавого Партева. Кровь предков — первосвященников и царей — вскипела в нем; большие глаза зажглись гневом. Он сделал угрожающее движение. Месроп в свою очередь ухватился за серебряный пояс, на котором висел короткий меч.
Но Сааку удалось подавить свое волнение. Гневно прозвучал его громовой голос:
— Не в том ли видишь ты ошибки моих предков, Месроп, что они вырвали из болота язычества нашу варварскую Армению и озарили ее светом христианства?
— Нет, Саак, вина их не в этом, — с оскорбляющей мягкостью ответил Месроп, — но скажи мне: разве свет, которым они просветили Армению, проник дальше монастырских стен? Разве он проник в убогие хижины шинаканов? Да и мог ли он туда проникнуть? Прошло уже почти столетие, как свет христианства проник в Армению. Однако и до сих пор в наших церквах библию читают по-гречески и по-сирийски, до сих пор в храме молятся на чужом языке. Разве шинаканы, горожане и вообще армяне понимают эти языки? А при таком положении дела, каким светом могла просветить, какое нравственное или умственное направление могла дать церковь народу, когда он видит лишь обряды и слышит какие-то непонятные слова.
— И ты полагаешь, Месроп, что народу от этого мало пользы?
— Польза — нам, но не народу. Тебе, мне и вот этому скромному юноше, который молчит. — Он указал рукой на Самвела. — Мы все питомцы греческой или сирийской культуры, питомцы византийства, которое разлагает и убивает наше национальное чувство. Что представляет собой наш несчастный народ? Он утратил старое, но ничего не приобрел взамен.
— Нет, много приобрел. Месроп.
— Ровно ничего, Саак. Ты забыл, как некогда Вртанес Святой, твой дед, в этом самом монастыре Аштишата служил обедню и как внезапно двухтысячная толпа окружила монастырь и хотела закидать его камнями?.. От ярости черни его защитили только крепкие стены храма. Ты забыл, Саак, что когда твои предки, Пап и Атанагинес, пировали однажды здесь, в Аштишате, к ним, как злой дух, влетел с мечом в руке какой-то человек и уложил их обоих на месте. Много месяцев их трупы валялись без погребения, и никто не смел приблизиться к ним в страхе перед чернью. Вот тут, рядом с нами, совершилось это злодеяние.
Он указал на смежное помещение, приемную монастырского епископа, и продолжал:
— После этого печального события прошло всего тридцать лет. Что же изменилось? Народ остался таким же варварским, как и был.
— Нельзя за тридцать лет искоренить в народе то, что сложилось в течение многих и многих веков, — ответил Саак.
— Да, нельзя… Но это не возражение. Дело народного просвещения у нас основано на ложных и, я позволю себе сказать, на совершенно вредных началах.
Заметив, что спор снова обостряется, Самвел вмешался и сказал:
— Какой толк от ваших пререканий, Месроп? Что было, то прошло. Теперь надо думать о настоящем, — о том, как предотвратить грозящую нам беду.
На бледном лице Месропа появилась горькая улыбка. Он посмотрел на Самвела, как на ребенка, и ласково сказал:
— Не торопись, милый Самвел. Тяжелое положение в настоящем вытекает из прошлого. Не разобрав причины старых бед, мы не сумеем предотвратить новые, угрожающие смертью нашей родине. Я знаю, что твой отец не глуп, и дядю твоего, Меружана Арцруни, тоже нельзя назвать безумцем. Я уверен также и в том, что царь Шапух, обласкавший этих двух предателей, не отличается особым благочестием. Он посылает твоего отца и дядю, чтобы они уничтожили христианство в Армении и отдали в руки персидских магов наши церкви и школы. Ты можешь не сомневаться, милый Самвел, что Шапух предпринял этот поход не ради спасения души и не в угоду своим богам; просто-напросто он желает раз навсегда разрешить тот трудный политический вопрос, который очень его беспокоит…
Самвел задрожал всем телом; он почти не расслышал последних слов. Над ним смеялись, его отца называли предателем! И это позволял себе делать тот, кто подушкой и почестью[272] был неизмеримо ниже его. Он воскликнул с огорчением:
— Тебе, Месроп, надо укоротить язык, у тебя он не по росту длинный. Будь благовоспитаннее.
Месроп вскочил с места и прошелся несколько раз по келье. Затем остановился перед князем Мамиконяном и спокойно сказал:
— Напрасно обижаешься, мой славный Самвел. Дядя твой Васак был тоже невелик ростом, однако в нравственном отношении он оказался намного выше твоего исполина отца.
— Грехи отца искупит сын…
— О! Тогда я тебя полюблю еще сильнее!
— Оставьте все это. Теперь не до шуток и упреков! — прогремел Саак. — Садись, Месроп.
«Шапух желает раз навсегда разрешить тот трудный политический вопрос, который очень его беспокоит»…
Чтобы лучше понять эти слова Месропа, надо вспомнить, какой участи подвергалась Армения в продолжение ста с лишним лет, начиная с царя Трдата и кончая последними днями Аршака II, то есть со времени распространения христианства и до религиозных гонений, начатых Шапухом.
До введения христианства в Армении армяне и персы жили относительно в мире, потому что в религии у них было много общего, и, кроме того, царствовавшие династии в Армении и Персии происходили из одного и того же Парфянского или Аршакидского рода. Армянские и персидские цари находились в братских отношениях.
Однако после введения христианства как на востоке, так и на западе произошли крупные перемены, совершенно изменившие политическое положение Армении. На западе образовалась Византийская империя со столицей Константинополем, на востоке — государство Сасанидов со столицей Тизбон. Царство персидских Аршакидов пало, армяне лишились своих союзников.
Армения оказалась яблоком раздора между двумя постоянно враждовавшими государствами. Она не обладала достаточной силой для того, чтобы сохранить независимое положение, ей приходилось склоняться то в одну, то в другую сторону.
Как Византия, так и Персия, каждая в отдельности, старались привлечь Армению на свою сторону, потому что Армения являлась тем мостом, по которому должны были проходить силы Византии и Персии во время их военных столкновений. Столкновениям же и войнам между ними не было конца. При этом победа всегда доставалась тому государству, на стороне которого выступала Армения.
Христианство отдалило армян от персов и сблизило их с вероломными византийцами. Этопородило вражду между персами и армянами. Армения находилась между двух огней и воспламенялась от приближения к каждому из них.
Всем этим объяснялась та двуличная роль, какую играли армянские цари и в результате которой в первую очередь страдали они сами. В зависимости от обстоятельств, они переходили то на сторону Византии, то на сторону Персии. Когда они поворачивались, лицом к Византии, сзади их била Персия, и наоборот.
Трдат был первым христианским царем в Армении, заключивший дружеский союз с первым римским христианским императором Константином. Жертвою этой политической сделки стали все преемники Трдата, да и сам он пал от руки персов.
Сын его, Хосров II, приняв от Константина корону и порфиру, страшно разгневал персидского царя Шапуха, который послал своего брата Нерсеха, чтобы покорить армянское царство и воцариться там.
Сын Хосрова, Тиран, за помощь, оказанную, императору Юлиану в войне против персов, был завлечен, обманом в Персию царем Шапухом. Шапух велел выколоть ему глаза.
Сын Тирана, Аршак II, наученный ошибками своих предшественников, отрекся от Византии и заключил дружеский союз с тизбонским двором. Тогда император Валент приказал убить брата Аршака Трдата, который был оставлен заложником в Константинополе.
Аршак вынужден был заключить мир с Валентом и взять себе в жены его родственницу, Олимпиаду. Эта дружба возмутила Шапуха. Он разрушил Тигранакерт, захватил крепость Ани, разграбил казну и, разрыв могилы царей из рода Аршакидов, увез в плен их кости. После многих сражений, то побеждая, то терпя поражение от армян, Шапух, под предлогом заключения мирного договора, обманом завлек царя Аршака в Тизбон и заключил его в крепость Ануш.
— Я считаю поступок Шапуха бесчестным, но он умеет соблюдать выгоды своего государства, — говорил Месроп. — Этот долго царствовавший царь Персии имел дело с четырьмя армянскими царями: Трдатом, Хосровом, Тираном, Аршаком. Почти семидесятилетний опыт убедил его в том, что основным звеном дружбы армян с константинопольскими императорами является прежде всего христианская религия и затем византийская культура. Поэтому теперь он стремится порвать эту связь, уничтожить религию и господствующие в наших церквах, монастырях и школах греческий язык и греческую письменность. Для слияния Армении и Персии в единое целое он хочет распространить у нас свою религию, свой язык и свое обучение. С этой целью он поручил Меружану уничтожить греческие книги, запретить изучение греческого языка и насильно обучать армян персидскому языку. Для нашего просвещения Меружан ведет за собой целый караван магов.
— Все это мы знаем, Месроп, — прервал Саак. — Напрасно тратишь время.
— Но нам следует знать и то, что все эти беды не произошли бы с нами, если бы мы не страдали большим влечением ко всему иноземному и если бы мы не подражали ни грекам, ни персам. Следуя одним, мы открыли глаза другим, и те тоже стали настаивать на своем. Наша самая большая ошибка состояла в том, что основу нашей культуры мы заложили на чужой земле. Персы отнеслись бы терпимо, если бы мы совершали наши культовые обряды на родном языке, и на этом же языке обучали детей в школах. Но они терпеть не могут все византийское, потому что оно вредит их политическим интересам.
Он остановился и после минутной передышки продолжал:
— Нашими учителями были греки и сирийцы. Христианство привлекало в нашу страну множество греческих, и сирийских духовных лиц. Эти предтечи византийской цивилизации распространили свой язык и свою письменность в наших церквах и школах. Так продолжается по сей день. До сих пор у нас еще нет перевода священных книг. Нет изложенных на родном языке молитв и шараканов[273]. Мы отреклись от всего старого языческого. Произведения наших певцов и випасанов[274] мы предали огню. Мы покинули наше исконное, наше родное и возлюбили все чужое. В своем христианском фанатизме мы дошли до того, что отвергли как нечто кощунственное нашу древнюю литературу, нашу языческую священную письменность и приняли греческие и сирийские письмена. И немудрено, что у нас не оказалось достаточно сил для создания своей собственной, национальной культуры, своей литературы. С другой стороны, мы навлекли на себя ненависть персов. Они стали думать: если, изучая греческий язык и греческую литературу, армяне полюбили их и духовно связались с Византией, то отчего бы и нам не ввести свой язык и свою литературу, чтобы армяне полюбили нас и были с нами в союзе. Теперь, мне кажется, ясно, что действия Шапуха продиктованы отнюдь не религиозными соображениями, а преследуют исключительно политическую цель. Армения — крепкий барьер между Персией и Византийской империей, Шапух стремился снести этот барьер, чтобы расчистить себе дорогу, — уничтожить его молотом своей цивилизации. Армения, как крепкая кость, застряла у него в горле, — он пытается разжевать, раскрошить ее и проглотить, чтобы свободно дышать…
— Но удастся ли ему переварить эту кость? — прервал его Самвел.
— Он сможет это сделать, если нынешнее положение не изменится, — гневно сказал Партев. — Но оставим все это. Я хочу ответить на некоторые тяжелые обвинения Месропа, которые он возложил на моих предков.
Он повернулся к Месропу, тоскливо ожидавшему его ответа.
— Я хвалю тебя за благоразумие, хвалю и за серьезность. Но не могу простить тебе клеветы. Избыток твоей энергии заставляет тебя говорить недопустимые вещи. Ты обвиняешь моих предков в том, что они беспощадно разрушили, уничтожили старое, заветное, чтобы взамен утвердить новое. Это верно. Но ведь таково начало всякого перелома. И разве наш господь Иисус Христос поступил иначе? Ведь и он не оставил камня на камне. Моего прадеда Григория Просветителя ты обвиняешь в том, что он заполнил Армению греческими и сирийскими монахами. Но ведь иначе и не могло быть. Ему нужны были подготовленные люди, и он привел их с собой из Кесарии. Мастер, собираясь возвести здание, ищет нужных работников за пределами своего края, если нет надежды найти их на месте. Но прадед мой не передавал этим чужеземцам права на духовное и умственное воспитание армян. То были временные наемные люди, которых приходилось терпеть, пока в Армении появятся новые силы из местных людей. С этой целью мой дед и основал множество школ, в которых даже дети жрецов должны были получить христианское образование. Если эти школы не дали нам желаемого результата и чужестранцы остались надолго в нашей стране, то винить в этом надо те злосчастные обстоятельства, жертвами которых сделались все мои предки. У них не было времени полностью осуществить дело просвещения армян. Мой дед, как Моисей, вынужден был бежать от ярости народа и последние годы своей жизни провел в безвестности, скрываясь в пещерах горы Сепух. О его сыне Вртанесе ты сам рассказал, как его хотели зверски убить здесь, в храме. Другой же его сын убит в провинции Цопк князем Архелаем. Аристакес остался монахом и не имел наследников, но один из сыновей его брата Вртанеса, Григорис, мученически умер за веру на равнине Ватнян; другой, Иусик, убит твоим тестем, царем Тираном. Два сына Иусика — Пап и Атанагинес — пали от руки убийцы в соседнем зале. Сын Атанагинеса Нерсес, мой отец, в настоящее время сослан на необитаемый остров Патмос. Как видишь, Месроп, ни один из моих предков не умер естественной смертью, — все они пали жертвами вероломства наших царей, нахараров или свирепости черни. Меч не дал им возможности совершить их великие замыслы, предназначенные для своей родины. Всю жизнь они провели в борьбе с закоренелым суеверием и погибли в этой борьбе. Но меня это не печалит, — смерть их была нужна, чтобы на их крови взошли и зацвели святые семена, посеянные в родную землю.
Месроп слушал его не прерывая; но бледное лицо Самвела выражало сильное волнение.
Славный сын великого первосвященника так закончил свои печальные объяснения:
— Если воля всевышнего когда-нибудь призовет меня, подобно моим предкам, на патриарший престол, моей первой заботой будет перевести на армянский язык священное писание и поставить воспитание армянского народа на подлинно национальной основе…
— А моей задачей будет, — добавил Месроп, — восстановить забытый армянский алфавит и освободить наш народ от чуждой нам персидской, греческой и сирийской письменности.
Кто бы мог думать, что через двадцать три года после этого горячего ночного спора эти два гениальных человека исполнят свою клятву и положат начало «золотому веку» армянского просвещения.
Дверь тихо приоткрылась; в келью вошли два монаха и одновременно сказали:
— Мы все слышали. И мы решили доказать, что греки и сирийцы не так уж плохи, как вы думаете…
Оба монаха были из числа монастырской братии. Один был грек, другой сириец. Первого звали Епифан, а другого — Шалитан.
XI. Мачеха
На следующий день в замке Вогакан царило большое оживление. Слуги оделись наряднее обычного; служанки нацепили на себя цветные украшения, и даже евнух Багос облекся в пестрый балахон.
В замке ждали почетного гостя — Саака Партева.
Саак Партев не был чужим этому дому. Мамиконяны доводились ему дядьями. Его отец, Нерсес Великий, был зятем Мамиконянов. Мать Саака — Сандухт, была дочерью Вардана Мамиконяна, дяди Самвела. Отправляясь учиться в Кесарию, Нерсес взял с собой туда жену Сандухт. Там и родился Саак. Спустя три года Сандухт скончалась. Отец ее, Вардан, привез тело Сандухт в Армению и похоронил в фамильной усыпальнице патриаршего дома, в местечке Тил. Потеряв любимую жену, Нерсес недолго оставался в Кесарии. Он отправился в Константинополь для завершения своего образования и там снова женился на дочери греческого вельможи, которую звали Аспионэ.
Самвел рано утром вернулся из Аштишатского монастыря и немедленно известил мать о предстоящем прибытии в замок Саака. Известие это хотя и смутило княгиню, но, скрыв свое недовольство, она приказала приготовиться к приему гостя. Она терпеть не могла весь патриарший род, а Саака в особенности: его высокая знатность колола ей глаза. А на этот раз приезд сына великого армянского первосвященника был особенно некстати, так как в доме Мамиконянов горячо готовились к тайному антиармянскому и антихристианскому заговору.
До обеда оставалось несколько часов.
Зал княгини был разукрашен. Со стенных ниш и ларей сняли шелковые покрывала, чтобы можно было видеть расставленную в них драгоценную утварь. Золото, серебро и медь сверкали во всей красе и роскоши. Изящной работы блюда, тарелки, всевозможные кубки, чаши, пиалы, тонко разрисованные красные и черные кувшины из местной глины — все эти предметы роскоши служили только украшением, и ими никогда не пользовались.
Зал благоухал ароматом роз. Все сиденья, ковры, подушки — все было опрыскано розовой водой. На окнах в громадных вазах стояли букеты свежих цветов.
Княгиня сидела в своем обычном мягком кресле и в раскрытое окно смотрела в раскинувшуюся перед ее взором широкую даль. Отсюда была видна часть скрытой деревьями дороги, ведущей от монастыря Аштишата к замку. Беспокойный взгляд княгини был устремлен именно на дорогу. Она с глубоким волнением ожидала прибытия Саака. Но, вместе с тем, она мечтала о том счастливом дне, когда на этой же дороге покажется ее милый супруг и принесет с собой новое счастье и блеск нового величия.
Возле княгини сидела женщина, которая была гораздо моложе и привлекательнее своей соседки. Невинность и покорность выражало ее лицо, ее розовые губки. Большие черные глаза светились кротостью и бесконечной добротой. На ее лбу сверкал персидский царский знак — полудиск солнца с золотыми лучами. И верно: она была из рода персидских царей — сестра могучего Шапуха, Вормиздухт.
Это была вторая жена Вагана Мамиконяна и мачеха Самвела.
Эта красивая женщина пленила сердце Вагана; она связала отца Самвела и с персидским двором и с персидской верой. И, наконец, Шапух через эту женщину приобрел из нахарарского рода Мамиконянов верного соучастника…
Многоженство в то время было обычным явлением среди нахараров. Имея законную жену, они кроме того, держали и наложниц.
Вормиздухт стала женою Вагана в то время, когда Нерсес Великий, после несчастной гибели Аршакавана[275], помирил царя Аршака с его нахарарами. Но Ваган Мамиконян и Меружан Арцруни не примирились с царем и, отделившись от нахараров, отправились в Тизбон и перешли на сторону персидского царя Шапуха.
Сегодня две хозяйки одной семьи сидели вместе на диване. Вормиздухт — мачеха Самвела, и Тачатуи — его родная мать. То были две непримиримые соперницы, две ревнивые жены, разделявшие любовь общего супруга, две соперницы по знатности происхождения. По обычаям того времени, мать Самвела должна была во всем смиренно уступать царской дочери: мать Самвела была всего только сестрой Меружана Арцруни, а Вормиздухт — сестрой персидского царя. Но обстоятельства сложились так, что все вышло как раз наоборот: мать Самвела, жестокосердная и надменная Арцруни, пользуясь мягким и податливым характером Вормиздухт, не только удержала за собой славу и честь «госпожи над госпожами», но даже сумела подчинить Вормиздухт своему влиянию. Вот почему и сегодня присутствие Вормиздухт почти не было заметно для матери Самвела.
Она продолжала смотреть в окно, на аштишатскую дорогу, не обращая никакого внимания, на Вормиздухт.
Неожиданное появление Саака в Тароне вызвало у нее всевозможные предположения.
«Зачем едет он сюда?.. — размышляла она. — Осматривать свои владения? Что это значит? Этим счастливцам досталось без меча и без крови столь много земель, что они даже не помнят, где находятся эти владения, и никогда их не посещают. Несомненно, его прибытие имеет какую-то скрытую цель!»
Вормиздухт уже начинала томиться. Несколько минут ее занимала веселая ласточка, которая, вспорхнув в открытое окно, щебеча покружилась по обширной зале и затем опустилась на голову большого медного бюста, стоявшего на мраморной поставке. Это был бюст Мамгуна, родоначальника Мамиконянов. С большим любопытством ласточка разглядывала окружающую роскошь и остановила взгляд на двух женщинах, сидевших в раздумье. Неудовлетворенная, она вспорхнула, снова покружилась по зале и с веселым щебетаньем вылетела в окно.
Сегодня Вормиздухт была приглашена в гости к матери Самвела. Она жила в отдельном дворце. Толпа ее служанок, евнухов и рабов составляла четвертую часть всего населения замка. Все они были персы. Отправляя ее в Армению, брат дал ей, кроме богатого приданого, и целый отряд слуг. В приданое получила она доходные поместья, расположенные по правому берегу Тигра, села и поселки у границ Ассирии.
Чтобы рассеять скуку, молодая женщина порой брала лежавшее около нее пышное опахало из павлиньих перьев с ручкой из слоновой кости, обмахивала им свое разгоряченное лицо. В такие моменты браслеты из красного коралла на ее обнаженных руках приятно постукивали. Тачатуи все еще продолжала смотреть в окно, Вормиздухт, чтобы напомнить о своем присутствии, спросила:
— Саак едет сюда один?
— Нет, с ним Месроп, секретарь его отца, — ответила княгиня, оборачиваясь к своей забытой гостье.
— Я Месропа никогда не видела, — сказала Вормиздухт.
— Скоро увидишь: красивый, изящный молодой человек.
Последние слова Тачатуи произнесла особо отмечая. Вормиздухт вспыхнула.
Разговаривали по-персидски.
— Саак тоже красивый молодой человек, — заметила она.
— Он даже красивее Месропа, — добавила Тачатуи с горькой усмешкой.
Вошел Самвел.
— Здравствуй Вормиздухт, здравствуй мать моя, — сказал он и приветливо поцеловал сначала руку матери, а затем Вормиздухт.
Появление Самвела рассеяло тоску Вормиздухт, и ее красивое лицо заметно оживилось.
— Ну, что же, где «твои» гости? — спросила мать с особой интонацией.
Самвел подошел к окну и взглянул на каменные солнечные часы, вделанные рядом с башней.
— Опоздали немного, должны скоро приехать. Теперь я вижу, — сказал он, меняя разговор, — как ты любишь Саака.
— Что же ты видишь? — с тайной досадой спросила мать.
— Вижу, как ты разукрасила зал и как нетерпелива из-за того, что Саак опоздал.
Княгиня засмеялась.
— Знаешь ли, Самвел, скоро к нам пожалуют и другие гости… Отчего ты не сядешь?
Самвел сел напротив Вормиздухт и матери.
— Какие же это гости? — спросил он.
— И ты еще спрашиваешь, Самвел! — упрекнула его мать, точно хотела сделать ему выговор за забывчивость. — Ты же знаешь, вместе с твоим отцом прибудут именитые персидские полководцы: князья Зик и Карен. Нет сомнения, что, проезжая через Тарон, они погостят и у нас в замке.
— Я это знаю, — ответил Самвел и, взяв опахало у мачехи, стал вертеть его в руках. — Но мне кажется, что ты их преждевременно ждешь… Персидские полководцы прибудут не так скоро. До их вступления в пределы Тарона мы еще успеем подобающим образом подготовиться к встрече этих высокочтимых гостей…
Не догадываясь об истинном смысле слов сына, княгиня ответила:
— Конечно, у нас достаточно времени, чтобы приготовиться к встрече гостей. Но ты не знаешь, как бестолковы наши слуги. Сколько им ни приказывай, они все равно забудут, куда что поставить, что откуда взять. Мне всякий раз бывает стыдно, когда я принимаю какого-нибудь именитого человека.
— Но Саак нам не чужой, матушка, он не взыщет.
— Опять ты про Саака, — раздраженно перебила мать. — Я не о нем думаю.
— Да! Забыл… Полководцы Зик и Карен…
— Знаешь ли ты, Самвел, кто такие Зик и Карен и какое внимание им оказывают при дворе Шапуха?
Услышав эти часто повторяемые имена, Вормиздухт по наивности вмешалась в разговор.
— Они просто прислужники моего брата. В моем присутствии они не осмелятся даже сесть.
Самвел признательно взглянул на мачеху.
— Верно, милая Вормиздухт, — сказал он. — Однако, когда низшие слуги персидского двора приезжают к нам, мы не только усаживаем их на самые почетные подушки, но даже сажаем себе на голову…
Слова эти не обидели Вормиздухт, но задели княгиню. Она сердито посмотрела сперва на сына, затем на Вормиздухт.
— Тебя, по-видимому, вовсе не огорчают мои жалобы на бестолковость наших слуг, — сказала она раздраженно. — Сегодня утром я прогнала четырех. Представь себе, мне с большим трудом удалось раздобыть соловья. Я подробно объяснила, где повесить клетку и чем кормить птицу. И что же? Вхожу сегодня в зал и вижу — соловей лежит мертвый. Оказывается, вместо того, чтобы повесить клетку, ее поставили на окно; кошка просунула лапу и задушила несчастную птичку!
— Какое безобразие! — воскликнул Самвел, сочувственно качая головой. — Из-за этого, конечно, стоило прогнать не только четырех, но и всех слуг. А кошку ты наказала?
— Твои насмешки неприличны, Самвел, — заметила мать. — Ты обижаешь Вормиздухт.
Самвел обратился к мачехе:
— Ты очень обижена на меня?
Она, улыбаясь, посмотрела на него из-под длинных ресниц.
— Нисколько! В ваших лесах соловьев сколько угодно!
— Но такие, что поют по целым дням, встречаются очень редко, — сердито заметила Тачатуи. — Ты даже не понимаешь, Вормиздухт, обычаев своей религии и насмешки Самвела тебя не оскорбляют… Это не похвально!..
Вормиздухт покраснела.
О чем же шла речь? Дело в том, что мать Самвела не обладала таким утонченным вкусом, чтобы любить пение соловья. Тут в некоторой мере затронута была религия. В соловье, по верованиям персов, жил добрый дух, и каждый почитатель Зороастра[276] считал своим долгом держать у себя в доме соловья, пение которого считалось ежедневным благословением и приносило счастье. Мать Самвела, поместив у себя в доме священную птицу персов, хотела этим показать свои симпатии к персидским верованиям. Это было необходимо, так как она надеялась в скором времени принять у себя в доме полководцев Зика и Карена.
Самвел опять обратился к мачехе:
— А как ты, Вормиздухт, готовишься к приему?
— Никак, — ответила она простодушно.
Она не знала о последних известиях из Тизбона: мать Самвела еще ничего ей не сообщила. Самвел решил проверить, какое впечатление произведут на Вормиздухт эти вести.
— Ты тоже должна готовиться, — сказал Самвел. — Могу тебе сообщить, что тебя ждет очень и очень приятная новость.
Лицо Вормиздухт заранее просияло от радости. Княгиня глазами делала сыну знаки, чтобы он молчал, но Самвел продолжал, будто ничего не замечая:
— Царь Шапух, твой брат, выдал твою младшую сестру за Меружана Арцруни. Они уже выехали из Тизбона вместе с моим отцом и едут в Армению.
— Вот хорошо! — с ликованием воскликнула Вормиздухт, схватив Самвела за руку. — Значит, я скоро увижу сестру?.. Значит, они скоро будут здесь?
— Да, конечно, увидишь свою сестру… и своего нового зятя… Возможно, они скоро будут здесь, — повторил Самвел, не отнимая у возбужденной Вормиздухт своей руки. — И еще одна радостная новость…
— К чему ты ей все это рассказываешь, одумайся, Самвел! — сказала княгиня по-армянски, так как Вормиздухт не знала армянского языка.
— А почему же не рассказать? Разве она не должна знать, что ее супруг и вместе с тем твой супруг и мой отец скоро прибудет? Почему ей не сказать, что ее сестра выходит замуж за Меружана? Зачем делать из этого тайну? — сказал Самвел возмущенно.
— А потому, что она не умнее малого ребенка. То, что она узнает, через минуту станет известно всему замку.
— Ты к ней несправедлива! Правда, у Вормиздухт сердце невинного младенца, но ум толковой женщины.
Хотя Вормиздухт и не понимала этого спора, но все же догадалась, что между матерью и сыном произошла размолвка, и потому сочла нужным вмешаться.
— Не огорчай свою мать, Самвел!
Затем, обратившись к Тачатуи, она спросила:
— Разве ты не рада, что моя сестра выходит замуж за твоего брата?
— Как не рада? — смягчая голос, ответила княгиня, — радость моя безгранична. Не всякому выпадает счастье стать зятем могучего персидского царя.
— Значит, надо благодарить Самвела за то, что он советует мне подготовиться к этой встрече. Я должна оказать царские почести и моей сестре и новому зятю моего брата. Ах, как радостен будет день их прибытия сюда!
При этих словах очаровательное лицо ее стало еще привлекательнее. Но мать Самвела была недовольна: она боялась, как бы сын не зашел слишком далеко в своей откровенности перед Вормиздухт, которую она считала неопытной и неосторожной женщиной.
Все сестры царя Шапуха носили имя Вормиздухт. Как среди древних армян, так и у персов существовал обычай: имена, данные дочерям при рождении, обычно не употреблялись; дочерей звали по имени отца. Отец царя Шапуха был Вормизд, и все его дочери носили имя Вормиздухт, что означает дочь Вормизда.
Дочь армянского царя Санатрука именовалась Сандухт, дочь героя Вардана Мамиконяна — Вардандухт, дочь первосвященника Саака Партева — Саакануйш, дочь Смбата Багратуни — Смбатуи.
Точно так же обе сестры Шапуха, одна из которых была выдана замуж за отца Самвела, Вагана Мамиконяна, а другая за Меружана Арцруни, звались по имени своего отца Вормизда — Вормиздухт.
С целью если не поглотить целиком, то, по крайней мере, подчинить себе Армению, персидский двор придерживался той же политики, что и Византия. Император Валент для привлечения Армении на свою сторону выдал Олимпиаду, свою родственницу, замуж за армянского царя Аршака. Наперекор ему царь Шапух решил выдать замуж двух своих сестер за знатных нахараров царя Аршака — Меружана Арцруни и Вагана Мамиконяна, а затем склонить их на восстание против своего царя.
Наследственным владением рода Арцруни являлся обширный Васпуракан, а нахарарской областью Мамиконянов — Тарон. Васпуракан примыкал к персидским границам со стороны Атропатены, а Тарон — со стороны Ассирии. Замужество двух сестер Шапуха открывало широкие возможности для вступления в Армению через эти две области.
— И еще одна приятная новость, Вормиздухт, — продолжал Самвел, не обращая внимания на недовольство матери: — твоя сестра скоро станет царицей Армении.
— Ах! Что ты говоришь! — воскликнула Вормиздухт и от радости настолько забылась, что вспорхнула, как невинная бабочка, бросилась на шею Самвела и долго не выпускала его из своих объятий, все спрашивая: — Это верно? Верно? Ты не шутишь Самвел?
— Нет, не шучу! Истинная правда!.. Твой брат обещал Меружану армянское царство! — ответил Самвел, высвободившись из ее объятий.
— Ах, как это будет хорошо! — сказала Вормиздухт, хлопая в ладоши. Усевшись на место, она обратилась к матери Самвела:
— Разве это не хорошо?
— Конечно, хорошо, — ответила та, вполне разделял ее ликование.
Самвел встал, несколько раз прошелся по залу и затем, остановившись перед Вормиздухт, сказал:
— Все это очень хорошо, Вормиздухт, но ты еще не знаешь, что Меружану, прежде чем сесть на царский престол, придется совершить немало дел…
— Каких же именно? — с любопытством спросила Вормиздухт.
— Я тебе все расскажу…
Мать снова, сделала знак сыну, чтобы тот замолчал.
— Она должна знать, от этого зависит в будущем успех дела! — сказал Самвел по-армянски. — Почему ты мне запрещаешь?
Он подошел к одному из окон и остановился. Несколько минут он молча смотрел с этой страшной высоты на расстилавшиеся перед ним окрестности. Внизу в глубокой пропасти неистово шумела Арацани. Сжатая теснинами Вахеваханской долины, река, как рассерженный чудовищный змей, извиваясь, билась о скалистое подножье замка. За рекой, на высокой скале, высились развалины древнего города. По преданию, этот город, выстроенный царем Санатруком, был столицей прежних владетелей Тарона — князей Слкуни, и был разрушен предком Мамиконянов — Мамгуном. Величественные развалины этого таинственного города покрылись лесами, а из щелей разрушенных башен выросли вековые дубы. Некогда огонь произвел здесь страшное опустошение, и по этой причине город назывался Мцурк[277]. Самвел смотрел на это превращенное в пепел величие, на эту угасшую славу… Он отвел глаза от столь печального зрелища и стал вглядываться вдаль. Вот Аветиац, а на склонах этой священной возвышенности красивая роща, где скрывался славный Глакский монастырь. Еще не умерло предание о хромом демоне, который потайными подземными ходами выносил пепел из монастырских печей и бросал в волны Арацани.[278]
В Глакском монастыре погребены все предки Самвела. И мерещится ему, что из заветных могил поднимаются мрачные приведения великих покойников и обращают свои разгневанные лица к замку Вогакан, где теперь гнездится позорная для Мамиконянов измена. С тяжелым чувством отвел Самвел взор от Глакского монастыря и посмотрел направо. Он увидел там Ацяцский эдем: там среди чудесной гущи ясеневых деревьев возвышались вблизи Аштишатского монастыря купола церквей, выстроенных предками Самвела.
И он снова обратился к своей второй матери:
— Подойди сюда, Вормиздухт.
Вормиздухт легкими шагами подбежала и стала возле него в оконной нише. Мать Самвела посмотрела на них с явным неодобрением.
— Сейчас я расскажу тебе, Вормиздухт, что нужно сделать Меружану, прежде чем воссесть на армянский царский престол. И мы должны помогать ему в его начинаниях… в особенности ты, Вормиздухт.
Он протянул руку к ясеневой роще:
— Взгляни, дорогая Вормиздухт, как красиво освещает солнце своими яркими лучами эту рощу. Своей божественной теплотой оно вселяет жизнь в этот чудный рай. Там веет прохладой, и гибкие вершины деревьев, как нежно-зеленые волны, колышутся, вздымаясь, и сливаются с небом. В гуще этих деревьев стоят храмы, построенные Мамиконянами. Сколько сокровищ истощили мои предки, украшая всевозможными драгоценностями священные престолы этих храмов!.. Несколько сот монахов кормятся там нашим хлебом и молятся за души своих благодетелей. А теперь, милая Вормиздухт, мы же, Мамиконяны, сокрушим эти храмы, а на их место воздвигнем персидские капища. Пусть прахом и пеплом покроются эти священные места! Да сгорит эта прекрасная роща и станет пеплом в неугасимом пламени Ормузда[279]! Пусть вместо благоухания христианского ладана и иных благовоний в этих священных местах подымется чад от жертвоприношений магов!.. Пусть умолкнут тоскливые звуки колокола и молитвенного клепала! Пусть на этих чудесных высотах каждое утро при восходе солнца и каждый вечер при его закате будут звенеть литавры и звучать трубы магов! И пусть благочестивый армянский… шинакан, услышав этот призыв, дрожа от страха, поднимется на крышу своего дома, чтобы возносить поклонение восходящему и заходящему светилу. Слышишь, милая Вормиздухт, чего требует твой брат и что должен сделать Меружан, чтобы стать царем Армении?
Но Вормиздухт не слышала его. Она была в каком-то сладостном забвении. Рука ее лежала на плече взволнованного юноши и, прижавшись к нему, упоенная его дыханием, она прислушивалась только к музыке его слов. Всякий раз, когда он делал небольшое движение, указывая на тот или другой предмет, сердце молодой женщины замирало от знойной истомы…
Однако прислушивалась к словам сына княгиня.
— Довольно! — угрожающе воскликнула она.
Голос матери заставил Самвела очнуться от горячего увлечения.
— Насмехаешься, Самвел?! Подумай, о чем ты говоришь, — продолжала она. — Вормиздухт, отойди от него!
— Да почему ты считаешь насмешкой мое воодушевление, дорогая мать? — сказал Самвел, отступая от окна. — Я совершенно не насмехаюсь, я хотел лишь угодить тебе…
Вормиздухт с сожалением отошла от окна, лишившись минутной близости Самвела. Неровными шагами она направилась к двери, не глядя на Тачатуи.
— Куда же ты, Вормиздухт? — спросила княгиня.
— Мне не по себе… голова закружилась… пойду немного отдохну…
Она быстро вышла, забыв свое опахало, лежавшее на диване. Самвел взял его и быстро пошел следом за мачехой. Он догнал ее в прихожей.
— Благодарю, Самвел, — сказала мачеха, взяв от него опахало, и ее грустное лицо снова озарилось радостной улыбкой.
— Ты с нами сегодня обедаешь, не так ли? — спросил Самвел.
— Нет!..
— Саак очень хотел тебя видеть…
— Извинись за меня.
Она вышла. Два черных евнуха ожидали ее у дверей. Они пошли вперед по дороге к ее дворцу.
Вернувшись в зал, Самвел сказал матери:
— Ты обидела Вормиздухт.
— Я не потерплю у себя эту персидскую чувственность!.. — ответила мать.
— Но ты же так любишь все персидское.
— Подумай, Самвел, она ведь жена твоего отца…
— И моя уважаемая мачеха… Если ты еще будешь так непристойно говорить о ней, я немедленно, как она, уйду и больше не приду сюда никогда.
Княгиня ничего не ответила. Угроза сына на нее подействовала. Слезы женщины, особенно матери, в такие минуты являются самым сильным ответом. Она поднесла платок к глазам и начала горько рыдать.
Чрезвычайно взволнованный, потирая от гнева руки, Самвел быстро ходил по залу, не обращая внимания на мать. Он еще чувствовал близость милой женщины, приятное прикосновение пленительной Вормиздухт, в ушах еще звучали ласкающие звуки ее последних слов.
Самвел любил эту юную женщину, которой не было еще и двадцати лет, любил за то, что она не только не захотела играть ту роль, ради которой браг ввел ее в семью Мамиконянов, но даже презирала ее. При персидском дворе занимались главным образом воспитанием мальчиков; девушки же оставались почти без всякого образования и обучались преимущественно развлечениям и придворным церемониям. Это и было причиной того, что они оказывались совершенно непригодными служить орудием в политической борьбе. Они являлись лишь связующим звеном между своими мужьями и царским двором. Сами же не имели никаких убеждений. Длинные объяснения Самвела, высказанные у окна, были не чем иным, как попыткой узнать, как отнесется Вормиздухт к действиям своего брата. Ее, персиянку и язычницу, должны были скорее радовать предстоящие события, но она осталась к ним совершенно равнодушна. И то, что больше должно было интересовать ее, в чем она должна была проявить свое влияние, то именно интересовало родную мать Самвела. Это и возмущало Самвела.
Раздались звуки трубы. Самвел встрепенулся, встрепенулась и его мать. Она вытерла слезы и посмотрела в окно. Самвел подошел к другому окну.
По дороге из Аштишата к замку двигался большой отряд всадников. Их оружие и украшения сверкали на солнце. Когда они приблизились к замку, снова зазвучала труба.
Самвел вышел встречать своего высокородного гостя.
XII. Неудавшийся заговор
Появление гостей прервало неожиданную ссору между матерью и сыном. Лицо княгини Мамиконян снова приняло обычное надменное выражение.
После ухода Самвела княгиня стала беспокойными шагами расхаживать по залу в ожидании прибытия гостей и церемонии поцелуя руки. Но гости не показывались. Она позвала дворецкого. Вошел человек среднего роста. Он исполнял обязанности эконома, казначея и одновременно стольника.
Дворецкий, войдя, низко поклонился и стал у двери.
— Все ли готово, Арменак? — спросила княгиня.
— Все, госпожа! — ответил дворецкий.
— Музыканты?
— Есть и музыканты!
— Прикажи виночерпию отпустить для гостей самого старого и крепкого вина.
— Прикажу, госпожа.
— А для меня — самого слабого, понимаешь?
— Понимаю, княгиня.
— Но чтобы в цвете разницы не было!
Отдав еще несколько приказаний, она сказала:
— Теперь можешь уходить.
Он поклонился и вышел.
После ухода эконома явился главный евнух Багос. У него было сморщенное безобразное лицо, красные, лишенные ресниц веки, вытаращенные, как у лягушки, беспокойные глаза. Он приблизился к дивану княгини таким осторожным шагом, точно боялся, что ноги выдадут его, и, подобострастно наклонившись, хрипло проговорил:
— Прошли сперва к княгине Заруи поцеловать ей руку.
Надменные глаза княгини Мамиконян зажглись гневом.
— А потом?.. — спросила она встревоженным голосом.
— Потом придут сюда обедать.
— Когда?
— Кто знает? Если княгиня Заруи не задержит, быть может, придут скоро. Только такая уж у нее привычка, — пока не накормит, не напоит гостей, не отпустит.
— Самвел также пошел с ними?
— Он раньше всех был там.
Княгиня еще более взволновалась.
Главный евнух, считая свою цель достигнутой, продолжал нашептывать с еще большим подобострастием:
— Самвел приказал пригласить к обеду и князя Мушега.
— И Мушег дал согласие?
— Да… они с Самвелом — вот…
При этих словах интриган сложил вместе указательные пальцы, желая показать, что Самвел и Мушег неразлучны.
Проживавшие в одном и том же замке семьи братьев Мамиконян — Вардана, Васака и Вагана, с виду дружные, в душе ненавидели друг друга.
Ужасны были причины этой смертельной ненависти. Васак убил своего родного брата Вардана; Ваган же, отец Самвела, предав братоубийцу Васака в руки Шапуха, персидского царя, тоже стал братоубийцей.
В доме Мамиконянов царила непримиримая семейная вражда. Но она прикрыта была фальшью приличий, принятых у знати.
Княгиню не столько возмутило то, что Самвел пригласил на обед Мушега, сына своего дяди, сколько сообщение о том, что Саак Партев прежде всего отправился приложиться к руке княгини Заруи, которая была вдовой убитого Вардана Мамиконяна. А Саак, как уже было сказано, был внуком Вардана, сыном его дочери. Вот почему Саак, посещая замок своих дядей, прежде всего отправлялся к княгине Заруи, утешал ее и выражал свое почтение вдовствующей бабке. Понятно, это очень сердило мать Самвела. «Этот заносчивый Партев, всякий раз бывая в замке, не пропускает случая обидеть меня», — думала она, и ее пухлые губы дрожали от волнения.
— О Вормиздухт ничего не узнал? — снова обратилась она к главному евнуху.
— Ей нездоровится…
— Значит, она не придет обедать?
— Если бы и была здорова, то все равно не пришла бы, — ответил Багос. Он еще более сморщился, что-то похожее на смех перекосило его хитрое лицо.
Лицо же Тачатуи просияло от искренней радости: Вормиздухт не придет обедать. Прекрасная, приветливая персиянка затмила бы ее в окружении молодых гостей. Беспредельная зависть мучила тщеславную княгиню из рода Арцруни, хотя она была уже в возрасте увядающей женщины.
Во время разговора главного евнуха с княгиней дверь зала временами чуть-чуть приоткрывалась, и из узкой щели выглядывали чьи-то блестящие глаза: кто-то подслушивал из прихожей.
Известия, которые сообщил главный евнух, хотя и порадовали княгиню, но еще больше усилили ее подозрения. Она была встревожена, в ее затуманенной голове проносились неясные мысли. Приезд гостей произошел так неожиданно-негаданно, что у нее не было времени привести в порядок свои думы и прийти к определенному решению. Теперь она колебалась, не зная, что предпринять.
Она снова обратилась к евнуху:
— Ты уверен, что Мушег будет сегодня обедать у меня?
На лице евнуха снова появилась отвратительная улыбка, и беспокойные зрачки расширились.
— Твой покорный раб никогда не говорит своей госпоже того, в чем сам не уверен, — ответил он, несколько развязно протянув руку, чтобы поправить одну из сбившихся на диване подушек.
Дверь зала опять дрогнула, любопытные глаза вновь блеснули из щели. По-видимому, этим пытливым глазам не удалось проследить, кто был собеседником княгини, так как диван, на котором сидела княгиня, стоял у противоположной стены, зал же был так велик, что к дверям доносились лишь неясные звуки.
Княгиня в задумчивости поднялась с дивана и направилась в соседнюю комнату.
— Иди за мной, Багос! — приказала она евнуху.
То была уютная комната, в которой княгиня проводила часы уединения. Одна дверь вела в спальню, другая выходила в небольшой тенистый дворик с вечнозелеными растениями, расположенный позади помещения для наложниц. Княгиня тщательно заперла за собою дверь. В зале никого не осталось.
Невидимая слушательница осторожно вошла в зал. Это была Нвард. Неслышно, легкими шагами проскользнула она по мягким коврам и, внимательно осмотревшись вокруг, подошла к цветам у окон, понюхала, направилась к металлическому зеркалу, поглядела на свое лицо, а затем подкралась к той двери, за которой скрылись княгиня и евнух. Отсюда доносился приглушенный разговор. Она осторожно приложила ухо к замочной скважине. Девушка затаила дыхание, чтобы лучше слышать. До нее доносилось лишь неясное бормотанье, из которого она не могла разобрать ни одного слова. Ее душила досада. Недоброе предчувствие говорило ей, что готовится какой-то ужасный заговор. Она отошла от двери и стала искать какую-нибудь вещь для того, чтобы в случае внезапного появления княгини притвориться занятой делом. В это время двери зала с шумом раскрылись и, как воробей, влетел маленький Ваган, младший брат Самвела.
Весь потный от игры, краснощекий веселый шалун подбежал к девушке и, обхватив ручонками за ее шею, поцеловал ее. Потом, быстро отскочив, прыгнул на диван и, собрав в кучу все подушки, уселся на них верхом, пришпоривая и нахлестывая воображаемого коня, весело покрикивая «ну-ну». Заметив, что его бестолковый конь не двигается, он заскучал и спрыгнул с дивана в поисках новой игры. Шалун вытащил один из букетов, стоявший в цветочной вазе. Тут Нвард бросилась к нему и с трудом отняла у него цветы. Но они были уже довольно помяты. Видя, что упрямый ребенок не унимается, девушка схватила его за руку, почти насильно вытащила из зала и заперла дверь изнутри. Но тот, прежде чем убежать, некоторое время сердито барабанил в дверь.
Шалости Вагана хотя и отняли у девушки несколько драгоценных минут, но зато помогли ей найти благовидный предлог для того, чтобы остаться в зале. Она подошла к «коню» Вагана и еще больше разбросала подушки. Взяла помятые цветы, оборвала лепестки и расшвыряла по коврам. После всего этого она снова подкралась к двери комнаты княгини и приложила ухо к щелке.
Теперь там говорили еще тише. Девушка вся превратилась в слух, но ничего не могла разобрать. Сердце у нее колотилось от любопытства, и кровь приливала к щекам. Ей бы только узнать, с кем разговаривает госпожа!
Дверь снизу была неплотно пригнана к порогу. Там оставалась узкая щель. Она нагнулась и стала глядеть через эту щель. Ничего не видно! Неожиданно до нее донеслись звуки удушливого кашля, которые то усиливались, то, постепенно ослабевая, наконец, перешли в хрип. Девушка вздрогнула. Этот кашель был известен всему замку. Он исходил из впалой груди и сгнивших легких. Теперь она знала, кто был собеседником госпожи. «Они что-то замышляют!» — подумала она и опять вся превратилась в слух.
Вдруг она побледнела, как бледнеет человек, когда вблизи ударит молния с раскатами сильного грома. Она услышала всего два слова: первое — «Мушег», второе — было ужасное…
В комнате княгини наступила глубокая тишина. Должно быть, собеседник княгини, получив последнее указание, удалился через ту дверь, которая выходила на малый двор женской половины.
Девушка отошла от двери, опасаясь, что княгиня неожиданно войдет и застанет ее врасплох. Она открыла запертые ею двери зала и принялась за уборку разбросанных по ковру листьев и лепестков. Подушки все еще валялись на полу. Оставалось еще много дела и, если бы княгиня вошла, то застала бы ее за уборкой. Но княгиня все еще не выходила. Быть может, совесть мучила ее за то бесчеловечное приказание, которое она только что отдала своему верному слуге…
Не один раз подбирала Нвард и снова разбрасывала лепестки, стебельки и листья; наконец княгиня вышла из своей комнаты.
— Что это такое? Кто это сделал? — воскликнула она, окидывая зал сердитым взглядом.
— Известно — кто! — ответила девушка, усердно подбирая цветы. — Вошла сейчас и вижу: Ваган все раскидал. Как увидел меня, бросился бежать.
— Ах, озорник! — воскликнула возмущенная мать. — Когда же поумнеет этот мальчик? Сейчас могут войти гости и застать этот беспорядок.
— Я мигом все уберу, госпожа, — ответила девушка, суетясь по залу.
— Пока ты уберешь, наступит полдень! Пришли кого-нибудь из слуг, чтобы подмел, а сама беги в сад, нарви свежий букет и принеси сюда.
Нвардбыстро вышла.
В трапезной палате толпились слуги; смеялись, гоготали, шутили, накрывая на стол. Тут же был и юный Иусик, возлюбленный Нвард.
Кликнув издали одного из слуг, девушка, передала ему приказание госпожи, а сама побежала в сад.
Глаза Иусика загорелись. Он стал следить, куда направится Нвард, так как заметил, что шустрая девушка уходя поднесла руку к правому уху, — это был условный знак: «следуй за мной».
Иусик, чтобы не навлечь подозрения товарищей, выждал несколько минут, а затем незаметно вышел из трапезной. Издали он заметил, что девушка отправилась в сад. Он поспешил туда же другой дорогой.
Он нашел свою возлюбленную возле кустов роз, но не такой веселой, какой обычно встречал ее здесь! Она только что начала вязать букет.
— Не для меня ли? — спросил он и хотел было ее обнять.
— Не время, Иусик, — сказала Нвард. — Я позвала тебя по очень важному делу.
— По какому это делу? — с обидой в голосе спросил юноша, впервые столкнувшись с такой холодностью любимой девушки.
— Иди к Самвелу. Как-нибудь намекни, чтобы он предупредил Мушега ни в коем случае не приходить сегодня на обед к нашей госпоже… Иди, не медли!..
Серьезный тон, которым девушка произнесла эти слова, заставили Иусика забыть на время свою любовь, и он спросил с удивлением:
— А почему бы князю Мушегу не прийти на обед? Что случилось?
— Есть причина… потом скажу… торопись!
— Но князь Самвел захочет узнать причину, чтобы сообщить о ней князю Мушегу.
— Если твой князь сейчас все узнает, будет нехорошо, дорогой Иусик, — твердо ответила девушка. — Может произойти ссора. Когда гости разъедутся, тогда я тебе обо всем расскажу и ты сообщишь своему господ дину. Ступай же, не медли!
— Дай личико…
— Иди…
— Ну, хоть эти милые пальчики!..
Иусик поймал руку девушки, поцеловал кончики ее пальцев и выбежал из сада.
О, дали бы мне дым благоуханий
И утро Навасарда,
Прыжки ланей,
И бег оленей!
Мы в трубы протрубим
И в барабаны забьем!
[280]
Из трапезной палаты донеслись звуки лютни, бамбира и страстная песня царя Арташеса. Два гусана, стоя у дверей, пели и играли на своих старинных инструментах. Стара была песня, стары были и певцы.
Арташес спел эту песню на смертном одре. Царь, патриот в последние минуты жизни жаждал участвовать в торжествах, происходящих в первое утро месяца Навасарда. С тех пор прошло около трехсот лет. И вот та же песнь лежавшего на смертном одре царя-язычника пелась в христианский век.
Посреди обширной палаты стоял мраморный, стол. Он был длинен настолько, что по обеим сторонам его могли свободно разместиться более пятидесяти человек. Но на красивых скамьях, украшенных резьбой, сидело всего пятеро. В центре стола на великолепном кресле восседала княгиня Тачатуи, справа — Саак Партев, слова — Месроп Маштоц. Рядом с Сааком сидел Самвел, а напротив него — старик Арбак, дядька Самвела. Среди гостей не было ни князя Мушега, ни княгини Вормиздухт.
Стол был уставлен всевозможными яствами. На высоких серебряных вазах лежали сладости и сушеные фрукты. Весь стол был украшен разнообразными цветами и свежими листьями. За спиной каждого гостя стаял пышно одетый юноша с венком на голове, держа в одной руке серебряный кувшин с вином, а в другой серебряный кубок в виде маленькой чаши. Это были виночерпии, число которых равнялось числу гостей. Немного поодаль стояли вооруженные телохранители, неподвижно наблюдавшие за господами.
Певцы, которым было предоставлено место у дверей, пели не переставая и играли на инструментах. Один из них был слепой, как Гомер, другой — хромой. Они были бедно одеты. Убого выглядели эти любимцы народа в княжеской трапезной.
Звуки из печальной песни, ее грустная мелодия, звон золотых вилок и звучное чоканье серебряных кубков заглушали разговор, который становился все оживленнее.
Молчал лишь Самвел. Горькие, томительные размышления волновали его душу. Двое близких его сердцу людей по разным причинам не приняли участия в трапезе: князь Мушег и Вормиздухт. Причины отсутствия обоих были для него тоже очень неприятны.
Больше всех говорила княгиня Мамиконян, то и дело обращаясь к Сааку Партеву. Обыкновенно среди гостей она чувствовала себя свободно, но сегодня ее разговор все время обрывался, и слова казались бессвязными. Ее мучила, мысль о том, рассказал ли Самвел гостям о возвращении князя Вагана из Тизбона, и если рассказал, то в какой форме? Гости не заговаривали об этом, да и сама княгиня старалась избежать этой темы. Но совершенно умолчать об этом было неудобно. У нее было намерение отправить в ближайшие дни Самвела для встречи отца, прежде чем последний вступит в пределы Тарона. Нельзя, чтобы самые близкие друзья их дома не знали об этом. И сколько бы она ни скрывала, все равно Самвел сам сообщит им. Но она не успела сговориться с Самвелом, как возвестить о предстоящем приезде отца, и какой характер придать его встрече. Кроме того, ее мучил вопрос: почему Мушег не пришел к обеду? Неужели в ее доме завелись шпионы? Неужели ей изменил евнух Багос?.. Сам посоветовал и сам же тайно сообщил Мушегу о подготовленном заговоре. «Если Мушег все знает, то последствия могут быть ужасны» — размышляла она, скрывая свою тревогу за поддельной веселостью. Никто не внушал ей такой страх, как этот смелый и храбрый юноша, который мог разрушить все ее намерения.
Лишь исключительное самообладание помогло княгине сохранить хладнокровие и не выдать себя перед гостями. И все же она была в тяжелом положении и не знала, какой найти выход из такого сложного стечения обстоятельств.
Она старалась говорить о посторонних вещах. Несколько раз по-разному она выразила сожаление по поводу ссылки Нерсеса Великого, отца Саака.
— С того дня, — говорила княгиня со слезами в голосе, — как до моего слуха дошла эта печальная весть, я не знаю покоя. Всякий раз как вспомню о нем, на моих глазах навертываются слезы… Армения без пастыря! Горе нам всем! — и она поднесла платок к глазам.
Саак стал ее утешать, говоря:
— Не печалься, княгиня, не мучь себя этими тяжелыми воспоминаниями. Моему отцу пришлось в жизни перенести немало испытаний, но каждый раз всемогущий господь помогал ему. И от этого испытания, я уверен, он избавится…
— Избавится… — повторила княгиня, приняв несколько утешенный вид. — Святые молитвы помогут ему.
Партев перевел разговор и спросил:
— Скажи, тетушка, какие вести у тебя от дяди? Не знаю, откуда, но дошло до меня, будто он на этих днях возвращается домой?
Княгиня смутилась, но быстро овладела собой.
— Говорят, возвращается, но точных сведений нет. Видно, за грехи наши… Дороги преграждены… отовсюду слышно о неудачах… Нет ничего утешительного… Что делается в Тизбоне, что с государем нашим — ничего не известно. Лишь на днях прибывший из Тизбона, должно быть беглый воин, принес известие, будто твой дядя возвращается. Но не было ни письма, ни другого доказательства. Боюсь, что воин обманул меня, надеясь на награду. Как твое мнение, дорогой Саак? Я совсем растерялась, не знаю, что и делать…
— Не думаю, чтобы прибывший воин посмел тебя обмануть, дорогая тетушка! Он здешний уроженец?
— Да, из наших крестьян.
— Ну, значит, нельзя сомневаться, твои люди не обманут тебя!
— Я тоже склонна так думать, вот собираюсь послать Самвела встречать отца.
— Конечно, следует послать! — воскликнул Саак, стараясь казаться веселым, и обратился ко всем остальным, как бы желая привлечь их к этому притворно дружественному разговору: — Слышишь, Месроп, дядя мой Ваган возвращается, Самвел едет его встречать… Поднимем кубки и пожелаем Самвелу счастливого пути!
Месроп, занятый шутливой беседой со стариком Арбаком, не сразу расслышал Саака. Партев повторил свой тост.
— Выпьем, выпьем! — ответил Месроп и обратился к певцам: — Спойте нам новую песню.
Они спели песню о ночном посещении Вахагном золотого чертога Астхик, стоявшего на вершине горы Астхонк:
Померкло солнце. Ночь темна.
Над тихою рекой
Рассыпал бог земного Сна
Дремоту и покой.
Волны полночной перекат
Чуть слышен в тишине,
Чтоб забытье речных Наяд
Не нарушать на дне.
Не слышно камышей ночных
Над сонной Арацани, —
Тяжелый Сон у водяных —
Пусть мирно спят они.
Лес, не шумя листвой, стоит,
Как вымер тихий мир.
В замшелом гроте крепко спит
Парик — лесной Сатир.
Молчат земля и небосвод,
Повсюду тишина.
Трава и гладь прохладных вод
В объятьях томных Сна.
И только на горе Астхонк
Богине спать невмочь
И слышит тяжкий долгий стон
Отзывчивая ночь.
Богиня мечется, томясь,
Покров ее измят,
А пламя глаз летит, стремясь
В далекий Аштишат.
Вдруг задрожал, трясясь, Тарон,
Объял все души страх.
Гром загремел со всех сторон,
В лесах и на горах.
Светловолосый то Вахагн
Рукой богатыря
Потряс, как грозный ураган,
И горы и моря.
Богиня дрогнула, бледна,
И грусть сошла с лица,
Когда почуяла она,
Что Витязь у дворца.
Мир снова погрузился в Сон,
Земли спокоен лик, —
Умолкнул Витязь, заключен
XIII. Обстоятельства усложняются
После обеда гости снова перешли в залу. Для них здесь был приготовлен шербет и другие прохладительные напитки.
Слуги беспрестанно входили и выходили; у дверей же неподвижно стояли вооруженные телохранители Саака и Месропа.
Княгиня Мамиконян теперь совсем развеселилась и ласково занимала гостей. Она даже разговаривала и шутила с Месропом, на которого прежде не обращала особого внимания. Она считала его невидным дворянином, кто с крыши своего невзрачного замка может обозреть границы всех своих владений.
Старик Арбак тотчас же после обеда незаметно исчез.
Самвел был по-прежнему мрачен. Не будь гостей, он следом за своим дядькой охотно бы удалился к себе, чтобы дать покой возбужденному, сердцу. Он сидел в отдалении, прислонясь к спинке дивана, и, казалось, дремал. Но его отяжелевшая голова была в ужасном смятении. Помимо его воли, гости подняли заздравные кубки с вином и пожелали ему счастливого пути. Он должен был выехать навстречу отцу; он должен был приветствовать изменника родины… Но с каким сердцем ехать? Как встретить? Эти горькие, полные отчаяния мысли не давали ему покоя.
Княгиня, продолжая нескончаемую беседу с гостями, спросила Саака, в каком состоянии он нашел свои родовые владения.
— Не совсем утешительном, тетушка, — ответил тот, несколько смущенный неожиданным вопросом. — Тебе ведь известно, что наши негодяи управители изо всего извлекают выгоду. После несчастья с моим отцом некоторые из них сочли себя, кажется, владельцами вверенных им земель. Они даже отказались своевременно доставить доходы. Много сил пришлось затратить, чтобы покончить с безобразиями и привести дела в порядок.
Княгине не удалось поймать Партева на слове. Тогда она заговорила о другом:
— Но все же, слава богу, тебе удалось немного привести свои дела в порядок? Теперь ты должен отдохнуть в доме твоих дядьев, милый Саак, и доставить им радость.
— Хотел бы очень, тетушка, но, к сожалению, больше одного дня остаться не могу. Очень спешу…
— Почему? Погости хотя бы до приезда отца Самвела. Ты ведь знаешь, как он обрадуется, застав тебя здесь.
— Дома меня ждут с большим нетерпением. Маленькая Саакануйш больна, мать безутешна, я не могу медлить, дорогая тетя!
Лицо княгини выразило огорчение, хотя она не верила ни в болезнь маленькой Саакануйш, ни в безутешную печаль ее матери, как не верила и тому, что Саак прибыл в Тарон для приведения, в порядок своих владений. Она обернулась к Месропу, который стоял у одной из ниш и рассматривал изящную резьбу на серебряном сосуде.
— Ну, чем же кончился ваш спор с жителями Одза, Месроп?
— Я совсем не думаю об этом, княгиня, — ответил равнодушно Месроп. — Заботу эту я предоставил своему отцу, — со змеями иметь дело опасно.[282]
— Ну, и жители Хацика тоже хороши! — заметила княгиня улыбаясь.
— Потому-то их и прозвали «скорпионовым отродьем», — ответил смеясь Месроп.
Месроп был владельцем местечка Хацик, где он родился. С жителями города Одз он вел давнишнюю тяжбу о спорных земельных межах. Одзунцы считались людьми змеиного нрава. Хацикцев же прозвали «скорпионовым отродьем», то есть язвительными, ядовитыми, зловредными. Княгине хотелось своим намеком уязвить молодого «скорпионца» за его ядовитый язык. Одзунцы пользовались ее особым покровительством и находились под ее непосредственным попечением.
После этой незначительной шутки, не показавшейся княгине особенно приятной, разговор снова перешел на предстоявший отъезд Самвела. Поводом послужило замеченное княгиней мрачное настроение сына. Она встала с дивана, подошла к сыну и, перебирая его густые кудри, спросила:
— Что с тобой, мой милый? Ты что-то после обеда загрустил…
— Ничего… — ответил Самвел, поднимая голову, — это часто бывает со мной… Особенно после шумного веселья… За столом я выпил лишнее…
Княгине бросилось в глаза бледное лицо сына. Она встревожилась.
— На тебе лица нет, Самвел, — сказала она с дрожью в голосе. — Ты, должно быть, болен. Глаза твои блестят, точно в лихорадочном жару… На тебя страшно глядеть…
— Я же говорю, что со мной так бывает, — повторил сын, вставая с места.
Задумчиво пройдясь несколько раз по залу, он остановился возле Месропа. Тот продолжал рассматривать древнюю посуду. Княгиня вернулась на прежнее место…
— У молодых людей часто бывают такие минуты, — заметил Саак. — Может быть, он вспомнил о чем-нибудь? Быть может, о невесте…
Княгиня сердито воскликнула:
— Прошу тебя, Саак, не напоминай об этом. Я ненавижу всех князей Рштуни и всю область Рштуник…
Саак не ожидал такого ответа. Слова матери не только острием вонзились в сердце Самвела, но обидели даже Саака, который пожалел, что по недомыслию завел об этом речь.
— Почему? Рштуник — прекрасная страна. И отчего ты ненавидишь Рштуниев, этих доблестных князей, княгиня? — холодно спросил он.
— Не знаю почему, — ответила княгиня с прежним возмущением. — Но я знаю, что дочь этих грубых, диких, кровожадных горцев не может быть женой моего сына… Я — Арцруни и выбрала из нашего рода достойную невесту для Самвела… Он это знает. Мы уже сто раз говорили об этом.
Выслушав мать, Самвел подошел к ней и с некоторой усмешкой сказал:
— Да, да: не сто, а тысячу раз ты говорила об этом, но, кажется, не забыла и мои ответы.
— А если отец тебе предложит, Самвел, то же самое? — сказала мать как бы в упрек за его упорство, — я думаю, ты не посмеешь противиться воле отца?
— Воля отца мне пока еще неизвестна, — очень хладнокровно ответил Самвел.
— Но зато она известна мне! — сердитым тоном сказала княгиня.
Саак, заметив, что его невинная шутка послужила поводом к неуместному спору между матерью и сыном, поспешил вмешаться.
— Оставим этот разговор! В этом деле воля отца имеет, конечно, большое значение… подождем его приезда. Я уверен, что Самвел исполнит желание отца.
Затем, желая направить разговор на более необходимый предмет, он обратился к Самвелу:
— А ты, дорогой Самвел, должен приготовиться к выезду.
Самвел ничего не ответил.
Княгиня, очень довольная предложением Саака, взяла сына за руку, усадила возле себя и, глядя на него с нежностью, сказала:
— О твоем отъезде я позабочусь сама, дорогой Самвел. Забудем обо всем! Ты еще не знаешь, что такое сердце матери! Ты не знаешь, с какой горячностью оно бьется за счастье сына! Сегодня же прикажу приготовить для тебя коней. Я велю украсить их серебряной сбруей и драгоценными попонами. Более пятидесяти воинов будут тебя сопровождать для встречи с отцом. Большой отряд юных ратников, прекрасно одетых и богато вооруженных, будет с тобой. И всякий, кто увидит твой блеск, будет славить твоих родителей!
Приезд князя Вагана, о чем раньше княгиня говорила неопределенно и скорее стремилась его скрыть, чем сделать известным, теперь, помимо ее воли, сделался предметом откровенного разговора. Княгиня, не видела ничего плохого в том, чтобы ее гости знали о приезде Вагана, лишь бы не догадывались о целях его приезда. Она была уверена, что о целях не было еще известно ее гостям: иначе они не удержались бы и как-то намекнули об этом. Именно ради этого она велела подать к столу самое крепкое вино, чтобы винные пары развязали им языки. Но она ничего не услышала. Все же ее подозрения относительно цели посещения Саака и тайного секретаря его отца, Маштоца, еще не рассеялись.
Самвел понял, с какой целью Саак так ловко заставил мать рассказать все то, что относилось к его путешествию. Желая вызвать ее на дальнейшую откровенность, он сказал:
— Все это касается только достойной встречи моего отца, дорогая мать, но ты умалчиваешь с том, какой прием собираешься оказать его высокочтимым спутникам.
При этих словах он повернулся к Сааку и Месропу.
— Вы еще не знаете, что вместе с отцом едут к нам из Персии два видных персидских полководца — Зик и Карен. Они будут защищать нашу страну, оставшуюся без царя и патриарха. Им нужно тоже оказать пышную, встречу.
Сердце матери тревожно забилось; что собирался сказать Самвел? Неужели он хотел выдать ее тайны Сааку и Месропу?
Самвел, заметив замешательство матери, продолжал:
— Да! С моим отцом прибудут полководцы Зик и Карен. Когда эти полководцы вступят на Таронскую землю и приблизятся к Арацани, тогда ты, дорогая мать, повели устлать дорогу от берега реки вплоть до нашего замка драгоценными коврами. И пусть персидские полководцы войдут в наш замок, шествуя по этому славному, красному пути. Вот тогда-то мы справим торжественный пир!.. Не забудь распорядиться, чтобы им по пути приносились священные жертвы, как велит персидский обычай… Пусть кровью очистится их путь. И пусть по трупам жертв доберутся до нас эти почетные гости…
Княгиня с облегчением перевела дух, когда полные горьких намеков слова Самвела были прерваны.
Разговор кончился, так как Саак и Месроп поднялись и, поблагодарив княгиню за радушный прием, сказали, что теперь отправятся к князю Мушегу. Княгиню неприятно поразило это известие, тем более, когда она узнала, что гости будут ужинать и ночевать у князя Мушега.
— Почему же у него? — упрекнула она. — Вы меня обижаете. Я прошу, приходите ночевать к нам.
— У тебя столько дел, дорогая тетушка, я и Месроп не хотели бы тебя утруждать, — ответил Саак; — Мушег же ничем не занят у себя в замке.
Княгиня весьма дружелюбно проводила гостей до прихожей, взяв с них слово, что перед отъездом они повидаются с ней еще раз.
После их ухода она вернулась в опустевший зал и всем своим усталым телом опустилась на диван. Охватив руками отяжелевшую голову, она стала разбираться в проведенной ею за день роли. Итог был безнадежный! Неудача заключалась в том, что она не выдержала намеченной роли перед гостями. Ведь они узнали много такого, чего им не следовало знать! Не удалась ее и злая затея в отношении Мушега. Она подумала, не позвать ли главного евнуха и не расспросить ли его. Но через четверть часа он явился сам. Лицо его выражало тоску и печаль так же, как лицо его госпожи.
Самвел пошел проводить Саака и Месропа до дворца Мушега. Долго шли они, минуя лабиринт бесчисленных дворов и строений, пока добрались наконец до огромных сводчатых ворот дворца, украшенных изваяниями двух больших каменных орлов с распростертымы крыльями, которые, точно бдящие существа, охраняли вход в княжеский дворец.
Отец Мушега, Васак, был самый богатый из всех братьев Мамиконянов, и дворец его был самый пышный. Кроме Тарона, наследственного нахарарства рода Мамиконянов, Васаку принадлежала еще часть области Екехяц, где он основал город, названный в честь его Васакакерт.
Пройдя через ворота и длинную улицу, они вошли в обширный двор, густо обсаженный вечнозелеными растениями и цветочными кустами. Посреди двора в мраморном бассейне высоко бил фонтан, и вода, подобно жемчужному ливню, падала на курчавую голову красивого морского зверя, из пасти которого била струя. Два павлина кружились вокруг этого прекрасного журчащего бассейна. От нежного движения волн по краям бассейна образовался пестрый венок из цветов. В этом душистом прохладном эдеме солнечные лучи точно растворяли свое тепло; здесь царила вечная, цветущая весна.
Они нашли Мушега в беседке возле фонтана. Он сидел один и смотрел на лужайку, где двое резвых юношей состязались в стрельбе из лука, стараясь попасть стрелою в шар, укрепленный на высоком шесте.
Увидев почетных гостей, Мушег быстро пошел им навстречу, обнял сначала Саака, а затем Месропа.
— Вижу, — сказал он смеясь, — что княгиня Тачатуи накормила вас на славу. Долго же вы обедали! Я давно уже поджидаю вас.
Они вошли в беседку и расположились на сиденьях, сплетенных из веток.
Самвел стал прощаться.
— Ты уже уходишь, Самвел? — спросил Мушег.
— Я приду к вам ночью… и, вероятно, очень поздно! — ответил тот удаляясь.
У входа в беседку стояли постоянные телохранители Саака и Месропа. Им приказано было уйти и посидеть где-нибудь в саду, так как они целый день провели на ногах.
Юноши, стрелявшие на лужайке, увидев Саака и Месропа, бросили упражнения и прибежали к беседке, Саак обнял обоих и поцеловал. Один из них был Амазасп, сын Вардана Мамиконяна, другой — Артавазд, сын Ваче Мамиконяна. Белокурый Артавазд, семнадцатилетний бойкий юноша, положив руки на колени Саака, сказал:
— Знаешь, сколько раз промахнулся Амазасп? Пять ударов из двадцати!
— А ты, хвастун, сколько раз промахнулся? — спросил Саак, забирая в свою ладонь его ловкие руки.
— Всего только один.
— Рука моя сегодня дрожала почему-то, — оправдывался Амазасп.
Этот кудрявый мальчик с блестящими глазами был нареченным женихом дочери Саака, красавицы Саакануйш. Сам из рода Мамиконянов, он и свою дочь просватал за Мамиконяна и в тот дом, откуда происходила его мать. Браки между близкими родственниками были обычными в то время в Армении, особенно в высших кругах. Обычными были также обручения не только несовершеннолетних, — обручали детей еще в колыбели и даже не родившихся.
— Ну, теперь идите попытайте еще раз счастье! — сказал им Саак.
Юноши подхватили свои луки и побежали к высокому шесту с шаром на конце.
День уже клонился к закату. Догорающие лучи солнца играли в белой, как снег, пыли фонтана, сверкая яркими радужными переливами. Эти краски освещали мрачный фасад старого замка, обращенный к саду.
Мушег поднялся с места.
— Пройдемте ко мне, — сказал он Сааку и Месропу, — нам нужно о многом потолковать.
Они отправились в покои Мушега, окна которых в этот момент сияли цветами радуги.
Вернувшись к себе, Самвел не знал, что предпринять. Разного рода мысли роились у него в голове. Смутные замыслы волновали его, и он колебался, затрудняясь определить: с чего начать и от чего отказаться?
Он прошелся несколько раз по комнате, затем направился в опочивальню и прилег на постель. Он старался заснуть, чтобы дать отдых измученному сердцу. Но заснуть не мог.
Мать обещала ему набрать отряд из всадников, подобающий члену семьи князей Мамиконян, и устроить торжественную встречу отцу. Именно это последнее и было главным предметом его раздумья. Отряд всадников, составленный матерью!.. Он должен ехать с людьми, выбранными ею… Говоря попросту, эти люди поведут за собой Самвела. Поведут, чтобы порадовать отца! Чтобы показать персидскому войску украшенную золотом и серебром куклу… На удивление персидским полководцам. Такова была цель тщеславной матери.
Но у Самвела были свои намерения. Если бы даже мать не предложила, он все равно отправился бы встречать отца. Но поехал бы со своими людьми. Он не мог ехать с людьми, избранными матерью и под их наблюдением. Ему нужны были верные люди, на которых он мог положиться.
Именно вчера утром, когда гонец привез ему мрачные вести из Тизбона, у Самвела зародились недобрые замыслы; они постепенно видоизменялись, разрастались. Чтобы осуществить их, ему необходимы верные люди, которые были бы при нем.
Но Самвел ничего не возразил матери, когда она заявила, что сама составит для него отряд всадников; не возразил с целью не дать повода для подозрения. Но как теперь примирить две крайности, чтобы исполнить желание матери и вместе с тем осуществить свою цель? Он никак этого не мог решить. Охватив руками голову, одолеваемый тревожными мыслями, Самвел закрыл глаза…
В то же самое время его мать, лежа в такой же позе на диване, тоже размышляла…
Было совсем темно, когда Иусик со светильником в руке вышел и разбудил Самвела.
— Что такое? — спросил князь, протирая глаза.
— Какой-то поселянин просит пропустить его к тебе, — ответил юноша.
Самвел сообразил, кто это мог быть.
— Приведешь его сюда, но так, чтобы никто не видел, — сказал он.
Иусик поставил светильник и вышел.
Самвел из опочивальни перешел в приемную.
Спустя немного в сопровождении Иусика вошел Малхас. Руки у него были обнажены по локоть, волосатая грудь открыта, в руке было копье. Он лениво поклонился и встал, опираясь на копье.
Иусик удалился, думая, что господин, быть может, хочет остаться наедине с этим человеком, разбойничье лицо которого внушало ему недоверие.
— Ты бывал когда-нибудь в области Рштуник, Малхас? — спросил его Самвел после ухода Иусика.
Резкие черты лица храброго селянина смягчились. На его лице промелькнуло что-то вроде улыбки; он с презрением ответил:
— В Рштуникских горах нет ни одного камня, которого бы не знал Малхас, князь!
— А на острове Ахтамар бывал?
— Не раз.
— Сколько времени понадобится тебе, чтобы добраться туда?
Поселянин, подумав немного, сказал:
— Как повелишь, князь. Если что-нибудь спешное, то ночь превращу в день и через два дня буду там.
— Да, дело очень спешное, — сказал Самвел. Он достал из ниши приготовленное утром письмо и вручил Малхасу, говоря: — Вот, постарайся доставить это письмо как можно скорее князю рштуникскому Гарегину.
Малхас, взяв письмо, тщательно запрятал его в свой головной убор.
— Других приказаний не будет? — спросил он.
— Нет, больше ничего. Счастливого пути!
Малхас покорно кивнул головой и вышел.
В прихожей у двери ждал Иусик. Он вывел этого чужестранца из замка так же незаметно, как и привел.
Этот смелый, самоуверенный человек был тем шинаканом, которого за день до этого встретил Самвел по дороге в Аштишатский монастырь. Он должен был доставить письмо князю Гарегину Рштуни, дочь которого, Ашхен, была предметом любви и сладостных мечтаний Самвела и предметом ненависти его матери.
XIV. Новые вести
Отправив письмоносца, Самвел обратился к своему верному Иусику:
— Сегодня ночью я собираюсь к князю Мушегу. Пусти в ход всю свою ловкость. Осмотри тщательно все проходы, чтобы меня никто не заметил.
— Приказ моего тера будет исполнен, — самоуверенно ответил юноша и вышел, думая про себя: «Я так устрою, что сам сатана не увидит князя».
Самвел остался один. Никогда еще он не был так возбужден, как в эту ночь, никогда еще его чувства не пылали так сильно, как в эту ночь. В письмо, посланное с гонцом, он вложил свое сердце, свою душу, все свои нежные чувства. Теперь лишь тень его ходила по этой пустынной комнате, богатое убранство которой его душило.
Его мысли неслись туда, к тем страшным горным вершинам, куда не осмеливались залетать даже быстрокрылые орлы, к тем скалистым вершинам, где вечнозеленые сосны обнимаются с облаками, где горные водопады сверкают серебристыми каскадами, где лишь тигры, барсы и гиены нарушают глубокое молчание мрачных лесов.
Там, в каменной стране, царит, как седой патриарх, величественный Артос, вознося свои снежные вершины над окружающими горами. Там, в этой чудесной стране, в ясном и ярком зеркале Ванского озера, отражается причудливыми изгибами священная гора Ындзак. Там горец все еще в первобытном одеянии из звериных шкур, с длинным копьем в руке, прыгает с камня на камень, преследуя быстроногую лань.
Там, в трепетном объятии вод, стоит желанный остров с неприступным замком Ахтамар, и в мирном, молчаливом уединении этого острова живет, как морская богиня, его прекрасная Ашхен.
«Дорогая Ашхен! — воскликнул он в глубоком забвении. — Я твой, навеки твой, я принадлежу тебе всей силой моей души. Жестокая строгость родителей, безжалостные преграды жизни не могут отнять у тебя то, что я со всем жаром любви посвятил тебе. Ничто не в состоянии затмить тебя: ни слава, ни величие, ни царская корона! Ты для меня все, драгоценная Ашхен! Ты покой моей души, ты мое утешение: при звуках твоего имени исчезают заботы, забываются горести, и в моей душе восходит яркое солнце радости. Когда глубокое отчаяние овладевает мною, когда неожиданное зло ослабляет мои силы, ты вдохновляешь меня божественным вдохновением, ты оживляешь во мне умершую энергию и потерянную веру. И теперь, когда моя родина в большом смятении, когда все священное под угрозой разрушения, когда беспощадный враг стоит над нашей головой, — в эти роковые дни твоя любовь, прекрасная Ашхен, как ангел-хранитель, зажигает в моем сердце огонь самопожертвования и толкает меня на опасности… на войну… на кровь… Пройдет буря, умолкнет лязг оружия, придет счастливый день, и за свои заслуги воин успокоится в дорогих объятиях!..»
В увлечении Самвел не заметил, как дверь тихо отворилась и кто-то, закутанный в черный широкий плащ, вошел в комнату. Проскользнув вдоль стены, как темное привидение, вошедший остановился в углу и долго следил за взволнованным Самвелом, прислушиваясь к его страстному разговору с самим собой. Лицо его было закрыто черной шелковой маской, Самвел все еще неподвижно стоял у окна и пристально всматривался в ту сторону, где находилась область Рштуник. Затем, снова поникнув головой, скрестил руки, прошелся несколько раз по комнате и, точно во сне, подойдя к сиденью, оперся на него руками. В таком горячечном состоянии он мучился и вдруг почувствовал прикосновение чьих-то холодных рук. В ужасе он вздрогнул. Мрачное привидение быстро отбросило маску и плащ.
Самвел пришел в еще больший ужас, когда увидел перед собой бледное лицо Вормиздухт.
— Не смущайся, — сказала она спокойным голосом, — я все слышала, все поняла… Хотя армянский язык мне незнаком, но язык любви понятен каждому…
— Вормиздухт! — воскликнул пораженный Самвел. — Ты здесь ночью, в такой поздний час!
— Да! В такой поздний час пришла к тебе по важному делу, Самвел. Только имей терпение и выслушай меня.
Она дрожала всем телом. Самвел взял ее за руку, усадил на диван рядом с собой. Немного успокоясь, она сказала:
— Закрой двери, наш разговор будет наедине.
Самвел исполнил ее желание.
— Прости меня, Самвел, — сказала она печально, — я нарушила очарование твоей души, я отняла у тебя те дорогие минуты, когда ты хотел говорить со своим сердцем.
Самвел не знал, что сказать. Она продолжала:
— Да, люби ее, Самвел, люби ту, которой ты подарил горячее сердце. Ты достоин хорошей спутницы жизни. Ты можешь осчастливить любую женщину…
Последние слова она произнесла рыдая.
Поднеся руку ко лбу, она откинула кудри, которые, казалось, хотели скрыть ее слезы.
— Слушай, Самвел, — продолжала она после минутного молчания. — В этом доме лишь ты был моим утешением. Внешний почет воздают мне здесь все, но в душе меня все ненавидят. Воздают почет как сестре великого персидского царя, ненавидят как персиянку и язычницу, случайно попавшую в христианскую семью. Я задыхаюсь в своем золотом и жемчужном великолепии, как в мрачной могиле. Но ты, только ты, благородный Самвел, услаждал горечь моей жизни, и смягчал тоску несчастной чужестранки. Не будь тебя, я давно бы покинула этот замок и уехала на родину. Теперь выслушай меня, дорогой Самвел, зачем я пришла ночью в столь поздний час.
Смущенный Самвел, не вполне оправившийся от своего недавнего возбуждения, поднял голову и посмотрел в пламенные глаза взволнованной женщины.
Она взяла Самвела за руку.
— Религия наша учит платить добром за добро, благодеянием за благодеяние. Ты всегда был добр ко мне, дорогой Самвел… я пришла оплатить свой долг. Твоя жизнь в опасности… В опасности и жизнь той, которую ты любишь…
— Что ты говоришь? Какая опасность?.. — воскликнул Самвел гневным голосом. — Ей угрожает опасность? Скажи, Вормиздухт… Я сейчас же готов броситься в огонь и в кровавую схватку, чтобы спасти ее… Скажи, какая опасность?..
Он вскочил с дивана и, стоя перед Вормиздухт, все повторял последний вопрос.
— Успокойся, Самвел, и сядь, — ласково проговорила Вормиздухт; — опасность еще не так близка, чтобы надо было спешить… еще есть время ее предотвратить. Садись, я обо всем расскажу тебе.
Самвел сел и стал умолять:
— Ради бога, не мучай меня. Говори поскорее!..
Добрая Вормиздухт, не желая сразу поразить чувствительное сердце молодого человека, начала довольно издалека.
— Ты, — сказала она, — сегодня в присутствии матери рассказывал о возвращении моего супруга и Меружана Арцруни из Тизбона. Рассказывал и о прибытии с ними двух персидских полководцев и о том, что они собираются делать в вашей стране. Но самое главное либо тебе неизвестно, либо ты скрыл от меня.
— Я не скрыл от тебя ничего, Вормиздухт, Я рассказал все, что знаю сам.
— В таком случае тебе неизвестно самое важное. Слушай, Самвел. Прежде всего, ты и твоя мать напрасно думаете, что они прибудут через Тарон. В Армению они войдут не через Тарон, а со стороны Васпуракана, княжества Меружана. Прежде всего они постараются взять под стражу всех нахараров и отправят их закованными в Тизбон, а оттуда в крепость, где заключен ваш государь. Вторым их делом будет захватить жен заключенных нахараров и их детей и держать отдельно в различных крепостях под строгим наблюдением.
— И с ними ту прекрасную, как ангел, которую я люблю… — прервал Самвел с глубоким волнением. — Не так ли, Вормиздухт?
— Разумеется, — ответила она печальным голосом. Если пленят семьи нахараров, то заберут и семью нахарара Рштуни, а также и твоего ангела. Приказано не щадить ни пола, ни возраста, ни звания. Сопротивляющиеся будут преданы смерти. Пощадят только тех, кто примет маздеизм. Войско они ведут с собой такое громадное, что исполнить задуманное им будет не трудно… Чуть не забыла! Строго приказано во что бы то ни стало захватить армянскую царицу и доставить в Персию.
— Я всего этого ожидал, — сказал Самвел, сокрушенно качая головой. — Но, скажи мне, откуда это стало тебе известно, Вормиздухт? Утром ты еще ничего не знала и даже не имела сведений о возвращении моею отца.
— Да, утром я еще ничего не знала и не имела никаких сведений. Я впервые услышала от тебя, что мой муж и Меружан едут сюда. Меня очень поразило, что о таком весьма важном известии мне не сообщили. Во мне возникли подозрения, особенно когда подумала, что мой главный евнух, который должен был знать раньше всех, скрыл от меня эти известия. Когда я вернулась к себе, гнев мой не имел границ. Я велела приготовить веревку, позвала главного евнуха и сказала ему: «Ты сейчас же будешь повешен на этом дереве, если осмелишься утаить от меня хоть одно из тех известий, какие получил из Тизбона». И он рассказал мне все.
Самвел был поражен.
— Каким же образом твой главный евнух замешан в этих делах? — спросил, он, пристально глядя в изменившееся лицо молодой женщины.
Вормиздухт, точно уличенный в краже ребенок, вспыхнула, потом побледнела.
— Прости мою наивность, Самвел, и верь в мою невинность, — сказала она рыдая. — Сколько лет этот негодяй служит мне в качестве евнуха, но до сегодняшнего дня я не подозревала главной цели его пребывания здесь. Я лишь видела, что у него бывают какие-то неизвестные мне люди, замечала, что он часто получает письма, отвечает на них, но я не придавала этому значения, зная, что в Тизбоне, особенно во дворце моего брата, он имеет большие знакомства и связи. Но сегодня я просмотрела всю его переписку и убедилась, что у него и здесь большие связи. В его распоряжении множество людей, и даже армян, которые доставляют ему со всех концов разнообразные сведения о том, что и где делается или же готовится. За эти сведения он щедро платит. Все эти сведения он тайно передает в Тизбон и получает оттуда указания.
— Значит, в нашем доме под видом главного евнуха таился персидский шпион? — спросил в еще большем волнении Самвел.
— Видно, так! Ему было велено все сообщать в Тизбон, — сказала Вормиздухт тихим голосом.
«Наемник врага находился в нашем доме, и мы так долго этого не подозревали, — с досадой подумал Самвел. — Мы еще жалуемся, что дела наши идут плохо. В наш дом вводят невестку, с ней отправляют богатое приданое и вместе с массой служанок и слуг подсылают шпиона… Какое вероломство персидского царя!..»
Он обратился к Вормиздухт:
— Ты, Вормиздухт, так добросердечна, что я не осмеливаюсь даже малейшим подозрением запятнать твою ангельскую чистоту. Но как ты думаешь, разве это не мерзко — шпионить в чужом доме?
— Я это понимаю, — ответила она тоном, в котором заметно было глубокое негодование и вместе с тем безутешная печаль. — Я это понимаю и предвижу горькие последствия. Меня ужасает мысль о том, что льется человеческая кровь, что отцы и матери томятся в тюрьмах, а дети, бесприютные и сиротливые, скоро окажутся в руках палачей. Я не могу вынести такой жестокости.
— Но ведь это желание твоего брата, — заметил Самвел.
— Не порицай меня, Самвел, за него. Персидские цари бессердечны. Они утверждают основание своего престола на человеческих трупах, — так сказал один из наших философов.
Самвел впал в раздумье. Вормиздухт прервала его молчание:
— Не печалься, Самвел! Ради успокоения своей совести я сегодня же велю подготовить караван для путешествия, отправлюсь в Тизбон, паду ниц перед братом и слезами укрощу его гнев. А если он бездушно отнесется к слезам своей сестры, то подножие его трона будет запятнано родной кровью…
— Я знаю, Вормиздухт, что ты способна на большое самопожертвование, — сказал Самвел. — Но теперь уже поздно… Дела настолько усложнились, события настолько неотвратимы, что твое заступничество едва ли поможет предотвратить наступающее бедствие.
— Но ведь и твоей жизни угрожает опасность, Самвел! Я не сомневаюсь, что главный евнух, или, как ты сказал, этот подлый шпион, внес и твое имя в список «неблагонадежных».
— Я тоже в этом не сомневаюсь! — сказал Самвел. — Заботу обо мне я возлагаю на бога…
Он снова задумался и после минутного молчания добавил с иронией:
— Ты забываешь, Вормиздухт, что мой отец и дядя ведут персидские войска. Меня-то они, надеюсь, пощадят…
— Велено никого не щадить: ни друга, ни родню! — сказала опечаленная женщина. Она стала умолять князя, чтобы он хотя бы на время, ради своего спасения, покинул страну и скрылся куда-нибудь, пока не утихнет гроза.
— Вот этого я не прощаю тебе, Вормиздухт, — с улыбкой проговорил Самвел в ответ на ее мольбы. — Ты склоняешь меня к позорному делу. Неужели ты хочешь, чтобы я во время сражения, как трус, покинул поле брани?
— Подумай, Самвел, что опасность угрожает и той, кого ты любишь, — заметила Вормиздухт печальным голосом.
— Вот именно поэтому я не должен покидать поля битвы, — сказал Самвел, и глаза его зажглись огнем мести.
С завистью глядела Вормиздухт на юношу, который был олицетворением самопожертвования и в котором чувство любви было так сильно и так неугасимо.
— Скажи мне, Вормиздухт, — продолжал Самвел, переменив разговор, — во всем том, о чем ты рассказала мне, твой евнух признался тебе лично?
— Среди его писем я нашла еще одно, — ответила она. — Я принесла его с собой.
— Можешь показать его мне?
Она достала из кармана сверток пергамента и передала Самвелу. Он посмотрел на письмо, и, немного подумав, спросил:
— Могу ли я оставить его у себя?
— Почему же нет, если оно тебе нужно.
— Но не спросит ли твой главный евнух, куда девалось письмо?
— Ты смеешься надо мной, Самвел? Как он смеет задавать мне такие вопросы? Я в ту же минуту велю повесить его на дереве в моем дворе. Разве ты не знаешь, сколько слуг в моем распоряжении?
В душе Вормиздухт закипел гнев и заговорила гордость царской дочери. Она встала.
— Однако я очень запоздала: уже поют петухи…
Встал также и Самвел.
— Я немного успокоилась, — сказала Вормиздухт, подняв свой нежный взор на молодого человека. — Хотя мне ни в чем не удалось тебя убедить, но, по крайней мере, ты теперь будешь знать, как действовать.
— Благодарю тебя, Вормиздухт, за твое бесконечно доброе отношение ко мне и за искреннее сочувствие. Я чересчур многим обязан тебе!
Молодая женщина взяла плащ и маску.
— Ах, прости, Вормиздухт, — воскликнул Самвел. — Меня так смутило твое неожиданное появление, что я забыл даже спросить, каким образом ты пришла и как собираешься возвращаться.
Вормиздухт улыбнулась в ответ:
— Ты же видел, что я была скрыта вот под этим одеянием! — Она указала на черный плащ и маску, которые держала в руке. — В таком же виде я вернусь обратно. Меня примут за одну из моих служанок.
— Разреши, по крайней мере, проводить тебя до дома.
— Не нужно! Во дворе меня ждут двое слуг. Они проводят меня. Если ты будешь со мною, то это может меня выдать.
— А слуги не знают, что под черным плащом скрыта их госпожа?
— Не знают. Они привели меня сюда как одну из моих служанок и в таком убеждении останутся. Ведь не раз и раньше моислужанки приходили к тебе с разными поручениями.
Она надела маску и завернулась в широкий плащ. Самвел сердечно выразил ей благодарности и проводил ее до двери прихожей. Там из темноты вынырнул Иусик.
— Проводи эту женщину, — приказал Самвел, — на дворе, ее ожидают слуги госпожи Вормиздухт, препоручи им.
Иусик поднес палец ко рту и прикусил его: какая-то мысль промелькнула у него в голове.
Иная мысль мелькнула у Самвела: «Ах, если бы Вормиздухт пришла ко мне немного раньше…»
Он вспомнил князя Гарегина Рштуни и письмо, отосланное своей дорогой Ашхен.
XV. Княжна гор
Женщина в черном плаще медленно шла по извилистым проходам замка; она едва держалась на ногах. После того как она рассталась с Самвелом, ею овладела та болезненная, унылая слабость, которая следует за бурным возбуждением.
Один из слуг нес впереди зажженный фонарь, другой следовал за нею. По пути она не сказала ни слова. Молча, не останавливаясь, проходили они сквозь многочисленные ворота, бдительно охраняемые стражей. На фонаре краснел вензель Вормиздухт. Он возвещал страже, что проходящая была одна из прислужниц женской половины замка.
Во всем замке царила гнетущая тишина. Лишь изредка с вышек башен раздавалась перекличка бодрствующей ночной стражи. Голосу с одной башни отвечали голоса с других башен, и тишина на минуту нарушалась. Так разговаривал замок своим наводящим страх железным языком.
Закутанная женщина уже дошла до дворца Вормиздухт. Около входа в женскую половину оба служителя остановились, а женщина вошла в. это доступное лишь евнухам место, куда не ступала мужская нога.
Войдя в свою опочивальню, Вормиздухт сбросила покрывало и маску и, не раздеваясь, легла на постель. Усталость овладела ею: устала она всем сердцем, устала всей душой… Она окинула взором свою роскошно убранную комнату. Никого. Ни одна из служанок не явилась. Неужели все спят? Неужели так поздно? Тем лучше. По крайней мере, ей никто не мешал. Она погрузила пылающее лицо в мягкие подушки и долго оставалась неподвижной. Глухие, душераздирающие стоны иногда прерывали это цепенящее молчание, и помимо ее воли, поток слез хлынул из ее глаз. О чем она плакала? Она сама этого не знала. Есть минуты, когда взаимоотношения сердца и рассудка нарушены. В такие минуты человек не отдает себе отчета ни в чем.
Вормиздухт подняла голову и мутными от слез глазами посмотрела вокруг. Ей хотелось говорить, хотелось облегчить душу от нахлынувшего горя, но никого возле нее не было. Единственным живым существом был огонь, горевший в серебряном светильнике. Она долго смотрела на него и мысленно вела с ним разговор. Пламя, оно дает свет, тепло и пепел! Оно расходует, оно уничтожает самого себя! Таково и ее сердце!
Она снова спрятала лицо в подушки, и слезы снова хлынули из ее глаз. В соседней комнате послышался плач. Там плакал проснувшийся ребенок, а здесь его мать. Этот плач заставил ее очнуться, он напомнил ей, что она — мать и жена!
Вормиздухт поднялась с постели, отерла слезы и поспешила к ребенку; кормилица, сидя возле колыбели, крепко спала. Госпожа разбудила ее; та непроизвольно, полусонная подняла голову и прижала свою грудь к губам ребенка, он замолчал. Теперь доносилось только его торопливое чмоканье.
Мать стояла и с восхищением смотрела на своего первенца, в котором души не чаяла. Но вдруг она с испугом заметила, что голова кормилицы медленно опускается к краю колыбели: та снова засыпала.
— Ты когда-нибудь задушишь ребенка! — воскликнула мать, тормоша кормилицу.
На черном лице кормилицы блеснули белки крупных глаз — очнулась.
— Я не сплю, — проговорила она и снова наклонилась к колыбели. Кормилица была эфиопкой: молоко из горячей груди эфиопки считалось самым полезным для ребенка.
Какое сочетание! Мать — персиянка, кормилица — эфиопка, а ребенок — дитя князей Мамиконян!..
Мать постояла у колыбели, пока ребенок насытился и заснул. Затем она наклонилась, прикоснулась губами к пухлым щечкам младенца и, приказав кормилице не спать, пошла к себе.
Вернувшись в опочивальню, она разделась сама, без помощи служанок, и легла в постель.
Ее роскошное ложе из шалей и шелков было предназначено для неги и наслаждений. Но в эту ночь оно казалось ей сделанным из терновника. Вормиздухт поминутно поворачивалась с боку на бок и не находила покоя. Все в ней волновалось. Ее невинная душа была полна запутанных и неясных мыслей и чувств, подобно тому как лучезарный горизонт внезапно затмевают черные тучи. Она думала о Самвеле, о той счастливой девушке, которую он любит, и вдруг вспомнила о главном евнухе и его проделках…
«Убедился ли Самвел в том, что я не виновна, исчезли ли у него сомнения относительно меня? — шептала она, припоминая, какое тяжелое впечатление произвели на опечаленного юношу сообщенные ею известия. — Он так добр, так благороден, он простит мне. Он не будет подозревать меня в соучастии в мерзостях евнуха… Но ведь этим не устраняется моя вина! Кто, как не я, причина появления в этом доме коварного евнуха? Я привела с собой сюда шпиона. Нет, нет, я ничего не знала! Независимо от меня подослали его… Но как бы там ни было — тяжесть преступления падает и на меня. Я должна искупить то, что было совершено без моего ведома, чтобы успокоить свою совесть! Мне не удалось убедить Самвела. Он воспротивился моему намерению поехать в Тизбон. Как и всегда, он проявил безграничную доброту. Но я должна, должна поехать, должна уговорить немилосердного брата моего. Я не могу оставаться здесь и быть свидетельницей ужасных событий. Но мой муж? Что подумает мой супруг? Он придет и не застанет меня дома?..»
Этот вопрос заставил ее задуматься. После долгих, мучительных размышлений она позвала служанок. Никто не откликнулся. Она взяла лежавшую возле ложа белую шаль из овечьей шерсти, завернулась в нее и встала с постели.
В этой шали полунагая красавица напоминала изящную нимфу, выглянувшую из прекрасной раковины.
Она вошла в соседнюю комнату. Там спали вповалку служанки: видно, они долго ожидали свою госпожу и сон одолел их. Вормиздухт пожалела их и не стала будить. Она прошла в следующую комнату. Там на сидении дремала пожилая женщина. Шум открывающейся двери разбудил ее. Она приоткрыла глаза, посмотрела вокруг и, склонив снова голову, задремала.
Вормиздухт вернулась в свою опочивальню. Она забыла, ради чего хотела позвать служанок, забыла, зачем прошла в следующую комнату.
Как бы ощупью она ходила по опочивальне, словно что-то искала. Заметила серебряный ларец, стоявший в. нише. Этот красивый предмет вызвал в ней страх. С отвращением протянула руку к замку, отперла ларец и вынула несколько рукописей. Это были копии и черновики писем, отобранных сегодня среди документов евнуха. Одно из них она поднесла к огню и стала читать; ее внимание привлекли следующие строки:
«…Среди оставшихся здесь князей Мамиконян есть двое молодых, которые могут быть опасны: Самвел, сын Вагана, и его двоюродный брат Мушег, сын Васака. Первый из них, хотя неопытен и юн, но предан беззаветно своему царю и родине; любовь восполняет в нем недостаток опыта и изворотливости; он храбр и смел; народ любит его, и его зову последуют многие; он неподкупен. Ничем нельзя угасить и его любовь к родине. Этот преданный родине молодой человек наделает много хлопот войскам персов, если заранее его не устранить… Второй, Мушег, такой же патриот, опытный воин и глубокий знаток военного дела. Это — страшный человек. Персия много выгадает, если за его голову посулит даже целую область. Его влияние велико и среди знати и среди духовенства. Хороший полководец, храбрый воин и заклятый враг персов…»
Она не могла продолжать чтение: руки задрожали, и кусок пергамента выпал из рук на пол.
В опочивальню неожиданно вошла та самая пожилая женщина, которая за несколько минут до того дремала на сидении в соседней палате.
— Ах, Вормиздухт, свет очей моих, — воскликнула она, — ты еще не спишь! — Подойдя к молодой женщине, она стала гладить ее растрепавшиеся волосы; но, вглядевшись внимательно в ее взволнованное лицо, ужаснулась и отойдя спросила:
— Что с тобой?.. Отчего ты так запоздала?.. Что сказал Самвел?.. Когда ты пришла?
Этими словами она еще больше смутила и без того взволнованную Вормиздухт.
Эта худая, высохшая женщина была кормилицей Вормиздухт. Сердобольная женщина воспитывала ее с детства. Когда Вормиздухт выдали замуж и отправили в Армению, с нею вместе отправили и эту толковую и опытную женщину в качестве советчицы и опекунши.
Появление кормилицы немного успокоило Вормиздухт. Бывают минуты, горькие минуты, когда человек в своем грустном одиночестве находит утешение даже в кошке, внезапно вбежавшей в комнату и участливо ласкающейся у его ног.
Вормиздухт легла в постель и подозвала к себе старушку.
— Сядь возле меня, Хумаи, сядь поближе, — сказала она ослабевшим голосом.
Кормилица села у ее изголовья.
— Положи руку мне на лоб, Хумаи, приласкай меня!
Старая женщина положила худую руку на лоб Вормиздухт: он был покрыт холодным потом.
Несколько минут Вормиздухт молчала; воспаленный взор ее блуждал по комнате. Затем глаза ее закрылись, и она тихо произнесла:
— Говори, Хумаи, говори без умолку, я буду слушать.
Та не сразу нашла, о чем говорить. Лихорадочное состояние Вормиздухт смутило ее.
— Расскажи что-нибудь, Хумаи, — повторила Вормиздухт, открывая свои печальные глаза и обратив взор к кормилице. — Разве ты забыла те ночи, когда я была еще девушкой, и ты вот так же, как теперь, сидела у моей постели и говорила? И речам твоим не было конца… Проходили часы, петухи уже пели… я засыпала и просыпалась и снова слушала твои рассказы. Ах, хорошее то было время! Не было ни заботы, ни печали! Жила я, как веселая птица, и не знала, что такое печаль.
И она опять закрыла глаза, повторяя:
— Говори, Хумаи, расскажи что-нибудь, чтобы я заснула…
Встревоженная женщина приложила руку к ее сердцу — оно сильно билось.
— Там огонь, внутри что-то жжет меня, Хумаи, — прошептала Вормиздухт, опять открывая глаза.
Хумаи испугалась не на шутку.
— Ты молчишь, Хумаи, ничего не говоришь! Тогда я буду говорить… я хочу говорить… много говорить.
Старуха начала что-то бормотать про себя; она молилась.
Вормиздухт взяла сухие руки Хумаи в свои горячие ладони и спросила:
— Помнишь ли, Хумаи, празднество в Аштишате? Это было последнее торжественное празднество. Мы сидели в пурпуровом шатре армянской царицы и смотрели на состязания. Невдалеке от нас в другом шатре сидели царь с первосвященником и нахарарами и наблюдали за происходящими играми. Помнишь ты этот день?
— Помню, — ответила та изумленно.
— Помнишь и то, как началась игра в макан[283], когда закованные в латы сыновья нахараров разделились на две партии, и как звенели маканы, и огромные деревянные мячи, точно в бурю, метались из стороны в сторону? А во время этого страстного состязания появилась девушка на золотистом коне? Помнишь эту девушку?
— Помню, — ответила кормилица.
— Тысячи голосов и бурные рукоплескания встретили ее появление! Царь долго махал ей платком. Она появилась, точно богиня, и своим присутствием внесла в игру новую силу, новую энергию. Как прекрасна была эта юная девушка в своих блестящих латах! Грудь ее покрывал стальной позлащенный панцирь, маленький медный шлем сверкал на солнце, ее золотистые пряди развевались по плечам, закованным в железо. Через узкие щели красивого забрала едва виднелись ее сверкающие глаза и черные, изогнутые, как лук, брови. Зазвучал рог, забили барабаны; длинный тяжелый макан завертелся в ее искусной руке, как легкое перышко. Ее красивый конь, как птица, делал громадные прыжки, и под ловкими ударами макана мужественной девушки мяч летал до самого края ристалища… Ты помнишь, с кем она состязалась?
— С Самвелом.
— Да, с Самвелом. А когда окончилось состязание, армянская царица пригласила ее к нам в шатер и вручила ей высшую награду — золотую, изукрашенную изящной резьбой чашу. Девушка осталась с нами в шатре, обедала и за обедом пела песню. Помнишь эту песню?
— Помню.
— Это была песня гор, Хумаи; горная княжна воспевала свои горы и долы. Ее чудесный голос звучал, как звучит горный ветер, с силою ударяясь о скалы, о вековые пихты, все усиливаясь и постепенно глухими печальными звуками замирая в отдаленных глубинах ущелья… Грустная мелодия этой волшебной песни как будто все еще ласкает мой слух… Как будто и сейчас еще я смотрю в огненные очи вдохновенной певицы, в которых было так много огня, очарования и любви… Помнишь, Хумаи, кто была эта девушка?
— Говорили, дочь Рштуникского князя.
— Да, дочь князя Рштуни, счастливая дочь неприступных гор и мрачных лесов. Она привела с собой тогда своих храбрых горцев. Любо было смотреть на простое и неприхотливое вооружение этого пастушеского народа. Они явились на торжество с легкими щитами, сплетенными из козьей шерсти, в латах и шлемах из овечьей шерсти и в туго сплетенных из той же шерсти ноговицах. С головы до ног они были закутаны в шерсть и шкуры, но эта грубая одежда была крепка, как железо. Грубы, неотесанны были и сами горцы. Все зрители ужасались, видя их луки длиной в три локтя и стрелы длиной с копье. Грозны и пылки были эти храбрецы, а их царевна сияла среди присутствовавших, как горная богиня…
При этих словах Вормиздухт закрыла глаза и продолжала, словно во сне.
— Эти бородатые храбрецы с пламенными глазами, как густогривые львы, охраняли свою княжну. Тот, кто посмел бы чуть дерзко взглянуть на нее, в один миг был бы предан смерти. С этого празднества она унесла с собою две бесценные награды: золотую чашу, полученную из рук царицы, и сердце Самвела.
Вормиздухт умолкла.
Крайне встревоженная Хумаи с испугом всматривалась в ее бледное лицо, которое порой перекашивалось от лихорадочной судороги. Сжатые пунцовые губы царевны вздрагивали. Она снова заговорила, но кто знает с кем, уже охваченная сновидениями… Голос ее постепенно затихал…
Старуха укрыла ее. До рассвета без сна просидела она, не сводя глаз со своей милой питомицы, которая металась в жару. Из потухших глаз бедной женщины по ее иссохшему лицу тихо катились слезы…
XVI. Самозванцы
Было уже далеко за полночь. Во дворце князя Мушега, в его приемной палате, все еще продолжали беседовать четверо заговорщиков. Занавеси в палате были тщательно задернуты, двери заперты изнутри, а снаружи по обеим сторонам дверей прихожей стояла стража.
Месроп сидел возле светильника. Он углубился в чтение писем, разложенных перед ним. Он читал, делал какие-то расчеты, снова читал и порой ладонью прикасался к голове, как будто желая разрешить свои сомнения. В числе писем находилось и письмо, врученное Вормиздухт Самвелу.
По комнате взад и вперед ходил Самвел, время от времени останавливался позади Месропа и молча следил за его движениями.
Мушег взволнованно теребил свою маленькую бородку, которая, как черный бархат, обрамляла его мужественное лицо. В его грозных глазах можно было прочитать нетерпение и возмущение.
Саак Партев иногда поднимал стоявшую около него чашу с вином и прикасался к ней пересохшими, от волнения губами.
Все ждали, что скажет Месроп.
Наконец Месроп, с недовольным видом отбросив в сторону письмо, обратился ко всем:
— Бесполезно разбирать их и делать из них какие-либо выводы. При нынешнем положении расчет не только введет нас в заблуждение, но окончательно все запутает. Наши дела с самого начала велись без расчета. Так и следует продолжать. Я хочу сказать, что времени так мало, а обстоятельства настолько убедительны, что нам некогда исправлять старые промахи и прибегать к новым мерам. Нам надо сделать решительный шаг, если бы даже этот шаг противоречил доводам рассудка.
— Совершенно верно! — остановившись, сказал Самвел.
Саак Партев молчал.
— Все же нам надо подсчитать свои силы, — заметил Мушег.
Нельзя взвесить и рассчитать то, чего пока еще не существует, — ответил Месроп. — Наши силы зависят от обстоятельств и успеха дела, которое мы начинаем.
— Но можно хотя бы предугадать успех или неуспех нашего дела, — возразил Мушег.
— Мы исходим только из возможностей, — ответил Месроп. — Повторяю, мы должны руководствоваться только убеждением, а удача зависит от воли судьбы.
Саак Партев прервал спор и спросил:
— Это «мы» повторялось здесь несколько раз. Прежде чем предпринять какие-либо шаги, следует определить, кто же это «мы».
Наступило общее молчание. Вопрос был весьма уместным. Самвел, сделав шаг вперед, обратился:
— Разрешите мне сказать?
— Говори, — ответил Партев.
Сильно волнуясь, он остановился перед собеседниками и, обратив горящий взор на своих сообщников, сказал:
— Кто это «мы»? Поистине это самый трудный вопрос. Решив его, мы положим начало делу. Кто же «мы»? Мы — это все. Мой ответ, быть может, покажется вам чересчур дерзким, но я постараюсь объяснить свою мысль. В управлении нашей страной играли первенствующую роль три высших лица: царь, первосвященник и спарапет. Теперь никого из них нет. Царь заключен в Хужистане в крепости Ануш, спарапет находится там же, а первосвященник сослан на остров Патмос, в Средиземное море. Наша страна лишилась трех главных правителей, которые во время опасности могли бы встать против врага. А враг у наших ворот. Кто окажет ему сопротивление? Кто должен защитить родину от огня и крови? Кто должен очистить ее от персидской нечисти, которая угрожает испоганить все наши святыни? Царский престол в опасности. Церковь в опасности. Наш язык, наша культура, наши обычаи, наши заветные ценности — все в опасности. Кто же должен их защищать? Повторяю: царя нет, первосвященника нет, спарапета нет. Но имеются их представители, из которых двое вот здесь слушают меня.
Он указал рукой на Саака Партева и на Мушега и продолжал:
— Ты, Саак, сын первосвященника и можешь заменить своего отца. Ты, Мушег, как сын спарапета, тоже займешь место своего отца. Должность первосвященника, как и спарапета, по обычаю нашей страны, наследственна. Первая принадлежит дому Григория Просветителя, вторая — роду Мамиконянов. Против этого никто не может ничего возразить. Незанятым остается царский престол. Наследника нет, он остался в Византии. Но зато с нами царица. Ее именем мы можем издавать всевозможные приказы. Мы организуем временное управление, возглавим страну и будем сопротивляться врагу. И, я уверен, народ пойдет за нами. Народ склонен слушать только приказания, не раздумывая долго о том, откуда они исходят. Теперь, мне кажется, достаточно ясно — кто «мы»…
— У нас нет свободного народа, — заметил Месроп. — У нас имеются только нахарары, которые управляют различными слоями народа.
— Совершенно верно — ответил Самвел. — Из письма, переданного мне, вы узнали, что настрого приказано схватить всех нахараров и отправить их в Тизбон, а их жен и детей держать в особых крепостях в качестве заложников под строгим надзором. Мы можем прибегнуть к этим строгостям, так как это заставит нахараров если не ради защиты родины, то хотя бы ради защиты самих себя и своих семейств присоединиться к нам и идти на врага.
— Это весьма возможно, — сказал Месроп, — но некоторые из наших нахараров настолько трусливы, что, едва узнав о приказе Шапуха, заберут немедленно своих домочадцев и бросятся искать убежища в Византии.
— Пусть так, — ответил Самвел. — Враг решил не щадить сопротивляющихся. А мы не будем щадить тех. кто будет уклоняться. Если некоторые из наших нахараров окажутся столь низки, что во время всеобщей опасности попробуют убежать в чужую страну для спасения себя и своих семейств, то мы будем первыми, кто зарубит их на порогах собственных замков.
Саак Партев и Мушег слушали молча. Они с восхищением смотрели на юношу, стоявшего перед ними как олицетворение мести. Вообще Самвел был человек меланхоличный и молчаливый, но когда он начинал говорить, говорил с воодушевлением и красноречиво.
— Обратите внимание, друзья, — продолжал Самвел, — на то место письма, в котором упоминается о приказе взять в плен армянскую царицу и отправить ее в Персию. Мы должны приложить все усилия, чтобы оградить ее от опасности! Лишившись ее, мы многое потеряем. Мы должны действовать от ее имени, подымать народ ее именем. Я уверен, что опасность, угрожающая колеблющемуся трону, потеря супруга-царя и наследника-сына, все эти несчастные события, как никогда, должны заставить царицу, больше чем каждого из нас, при нынешнем положении стать на защиту погибающего трона Аршакидов. И у нее хватит мужества на это.
Месроп снова взял письмо, врученное Вормиздухт Самвелу, и стал читать его.
В той же комнате на стене висел портрет Вачэ Мамиконяна. А под портретом висел меч этого героя. Закончив свою небольшую речь, Самвел с благоговением подошел к портрету, взял меч и, положив перед Сааком Партевом, сказал:
— Вот меч героя, бодрый дух которого царит теперь среди нас! — Он указал рукой на портрет. — Прошло всего сорок лет с того дня, когда в кровопролитном бою с персами пал этот герой и своей смертью поверг всю Армению в печаль. Из рода Мамиконянов не осталось никого, кто бы мог наследовать должность спарапета Армении. Все погибли в том же бою. Остался лишь сын покойного, Артавазд, который был еще ребенком. Тогда царь Хосров II и твой дед патриарх Вртанес взяли малыша Артавазда в царский дворец. Там находились армянские нахарары, там была и вся высшая знать Армении. Царь обнял малыша, а великий патриарх взял почетный знак спарапета, принадлежавший отцу Артавазда, и торжественно надел его на голову сына, взял меч, благословил и привязал к его поясу. Затем ребенка отдали на попечение ширакскому князю Аршавиру Камсаракану и Сюникскому князю Андовку, которые были зятьями Мамиконянов Они должны были заботиться о нем до совершеннолетия, когда Артавазд наследует должность спарапета. Вот этот меч лежит теперь перед тобой, Саак, тот меч, который некогда благословил твой дед! Тебе, как преемнику священного патриаршего престола, следует взять этот меч и вручить его Мушегу, моему двоюродному брату, и объявить его спарапетом Армении.
Это предложение тронуло всех. Благородный Партев не мог сдержать слез. То, что предлагал Самвел, было повторением событий, происходивших сорок лет тому назад. Вачэ Мамиконян был убит в бою против персов, и дед Саака — патриарх Вртанес — объявил спарапетом его несовершеннолетнего сына. Отец Мушега — спарапет Васак — был также убит персидским царем Шапухом. Но Мушег еще не знал об этом. Он считал, что отец его жив и находится в заключении вместе с царем. Сообщить ему о горестной смерти отца — значило повергнуть его сердце, и без того обремененное скорбью, в новую печаль. Именно это взволновало сердце Саака. Но он предпочел умолчать об этом. С глубоким чувством он взял меч и произнес следующие слова:
— Я счастлив, — сказал Партев, — что в торжественную минуту, когда решаются судьбы нашей родины, на мою долю выпала честь вручить тебе этот меч, Мушег. В нем — слава предков и гордость их достойных преемников. Да! Род Мамиконянов имеет право гордиться этим мечом, который всегда во времена испытаний, пережитых нашим отечеством, являлся их защитником. Во дни Трдата этот меч уничтожал храбрый род князей Слкуни, восставших против своего государя и перешедших на сторону врага. В дни Хосрова, сына Трдата, он разил наших извечных врагов — персов. В дни Тирана, сына Хосрова, он был обнажен против самого царя армянского, когда тот стал безжалостно уничтожать малолетних детей нахараров. В дни же нашего несчастного царя Аршака, сына Тирана, этот меч, Мушег, в руке твоего отца, не раз поражал многочисленное войско Шапуха. Меч оставался незапятнанным. Никогда ни измена, ни трусость не касались его. В этом величие Мамиконянов. Этот меч всегда, был беспристрастен как к чужим, так и к родным, Твой отец, Мушег, этим мечом зарубил своего брага Вардана, изменившего родине. Мужество, справедливость, защита униженных и скорбящих — вот высокий девиз этого, доблестного меча. Твой отец, Мушег, пал жертвой своей горячей любви к родине. После его гибели тебе, достойному сыну его, подобает носить этот меч и стать во главе армянских войск. Беда приближается. Скорбные стоны, угнетенной родины призывают тебя, Мушег, взяться за оружие, в котором родина найдет свое спасение. Ты так храбр и предан, что оправдаешь надежды родины.
С глубоким чувством грусти принял благородный юноша меч своих предков.
— Я считаю себя самым несчастным в нашем роду, беря в руки этот меч. Мои предки сражались этим мечом против чужеземцев, а я принужден поднять его на своих близких. Неприятельские войска ведет мой дядя.
Но, да будет благословенна воля всевышнего, да придаст он силу моей руке, и поможет мне этим мечом очистить наш славный род от позора, которым собирается его покрыть мой родич…
До этой минуты лицо Самвела сияло от радости, но, услышав последние слова, он помрачнел. Намеки Мушега относились к его отцу. Саак заметил волнение несчастного юноши и, обратившись к нему, спросил:
— Разве ты не сделал бы того же, что Мушег?
— Сделал бы и сделаю больше, — ответил Самвел с горечью.
— Итак, все решено, — сказал Саак, — теперь приступим к делу.
Благородный Партев окинул взором сообщников и продолжал:
— Самвел прав, мы должны действовать от имени армянской царицы и, по ее велению, двинуть нахараров и народ. Имея в виду, что это необходимо, я еще до своего приезда в Тарон повидался с царицею в Вагаршапате. Она более, чем мы все, горит желанием спасти Армению. Она дала нам право располагать всей царской казной, ее собственным имуществом и даже своими драгоценностями. Царица вручила мне свой перстень для наложения печати на приказах.
Он достал из-за пазухи перстень армянской царицы и положил его на стол, говоря:
— Временное верховное управление, которое предложил основать Самвел, и с чем мы все согласны, с этой минуты нужно считать утвержденным. Бог Трдата и отца нашего Просветителя да укрепит наше предприятие! Защита веры, народа и отчизны и жертвы для их спасения — пусть станут отныне нашим боевым девизом. Я убежден, что если победа окажется не за нами, мы сумеем погибнуть с честью!
Он остановился и после минутного молчания продолжал:
— Я выеду отсюда утром вместе с Месропом. Ночь еще глубока, времени хватит. Пусть Месроп займется необходимыми указами, которые следует разослать влиятельным нахарарам. На этих указах будут печати царицы и наши печати. А где мы сосредоточим наши главные силы, об этом ты, Мушег, подумай. Ты более сведущ в ратных делах.
— В замке Артагерс, — ответил Мушег.
— Я того же мнения, — сказал Партев. — Арарат — сердце Армении — должен быть защищен. Потеряв его, Армения потеряет и жизнь… Пиши, Месроп, — обратился он к секретарю и стал диктовать имена наиболее знатных нахараров.
Месроп взял перо и пергамент.
В эту ночь в замке не спали не только в палатах Мушега Мамиконяна. Княгиня Тачатуи сидела в своей комнате на высоком сиденье, а у ее ног на полу съежился какой-то маленький человек. Он держал лист пергамента на коленях и писал; время от времени он поворачивал свое сухое лицо с узкими глазами к госпоже с вопросом:
— Что писать дальше?
Окончив два письма, он положил их перед княгиней со словами:
— Вот это письмо к князю Меружану, а это к господину моему, князю Вагану.
Княгиня собственноручно перевязала письмо к супругу.
XVII. Совет женщины
На другое утро, несмотря на дождливую погоду, Саак Партев и Месроп рано выехали из замка Вогакан, простившись предварительно с княгинею Тачатуи. Просьба княгини, даже ее слезы не в состоянии были удержать хотя бы на день упрямых гостей и дать ей возможность проявить свою глубокую «дружбу» и «гостеприимство».
Самвел поехал проводить гостей до ближайшего места отдыха. Вечером он должен был вернуться обратно.
После отъезда гостей князь Мушег, оставшись один, решил привести в порядок домашние дела ввиду того, что и ему скоро предстояло выехать из замка. Предавшись со всей энергией, всеми помыслами, делам родины, он забыл о доме. Лишь теперь в нем проснулась эта забота. В нем, спарапете и полководце, боролось чувство долга перед родиной с чувствами мужа и отца. Он должен уехать. Кто знает: быть может, он никогда не вернется. Каково тогда будет положение его беззащитной семьи? Кому ее поручить? На чье попечение оставить? Он должен был сразиться с врагом, но ведь главный враг находится у него же дома. Он не сомневался, что как только начнется пожар войны, мать Самвела выдаст его детей и его жену персам, и их уведут в качестве заложников для того, чтобы сломить отца.
Будущее со всеми ужасами предстало перед ним. Ему было понятно хитрое распоряжение персидского двора: пленить семьи видных нахараров Армении и содержать их в особых крепостях. И это будет осуществляться руками Меружана и отца Самвела. Цель была ясна. Они хорошо рассчитали, что отцы будут находиться в войсках, а семьи останутся дома. Захватив семьи, они укротят нахараров, дав им почувствовать, что всякое неповиновение может подвергнуть опасности жизнь их детей и жен.
И, конечно, прежде всего они устремят свое внимание на семью Мушега, спарапета Армении!
Такими невеселыми думами был занят Мушег, когда, отворилась дверь и вошла его молодая жена. Служанка несла за нею толстенького мальчика.
— Па, па… — послышался лепет ребенка, протянувшего маленькие ручонки к отцу.
Отец подошел, взял ребенка из рук няни и прижал к своей груди.
Проводя всю ночь с Сааком, Месропом и Самвелом, он со вчерашнего дня не видел жену. Она пришла проведать его.
Держа ребенка, князь сел в кресло, а жена стала перед ним, с глубокой радостью наблюдая за игрой отца и сына. Отец прикасался пальцем к пухленьким щечкам малыша, а тот при этом весело смеялся, открывая свой маленький ротик.
— Со вчерашнего дня он кой-чему научился, — весело сообщила мать.
— У моего ягненочка всегда какие-нибудь новости! — сказал отец, лаская светлые волосы сына. — Чему же он научился?
Мать обратилась к служанке, которая стала на колени перед маленьким Мушегом и стала показывать его новые шалости. Она наклонила голову и, закрыв глаза, сказала:
— Мушег, бай-бай!
Малыш тоже закрыл глаза, положил головку на грудь отца и притворился спящим. Но ему быстро надоела эта игра. Он открыл глазки и засмеялся.
— Ах, бесенок, — сказал отец, сжимая его в объятьях, — она обманывает тебя, а ты — ее?
Мальчик, точно обидевшись на замечание отца, ловко перевернулся и протянул ручонки к матери.
Мать взяла ребенка и сказала с усмешкой:
— Ты не умеешь играть с ребенком.
— Я ему надоел, — сказал отец, и на его веселом лице промелькнула грусть.
Жена это заметила.
Но живой ребенок вскоре заскучал на руках у матери и стал тянуться в сторону няни. Мать передала ей ребенка, сказав:
— Унеси его!
Малыш теперь успокоился, он был в привычных руках. Из передней послышался его голосок — последнее «аю, аю», детский прощальный привет, вызвавший вздох отца, лицо которого стало еще более грустным.
Когда супруги остались одни, жена с любовью посмотрела на мужа и спросила:
— Ты сегодня очень бледен, Мушег; верно, не спал всю ночь?
— Откуда ты знаешь, что я не спал? — спросил князь.
— Я несколько раз ночью выходила смотреть на твои окна: всю ночь у тебя был свет. А ведь ты не привык спать при свете.
— Значит, и ты не спала?
Нежная улыбка была ему ответом. Эта улыбка обожгла его сердце. Только на одну ночь он оставил дорогую жену, и она уже беспокоилась, не могла заснуть. А что будет, если придется расстаться с ней надолго?
Сатеник села возле мужа, взяла его за руку и обратилась к нему с тем же вопросом, ответ на который ее не успокоил.
— Что случилось? Почему ты так печален?
Как ей объяснить, что случилось? Случилось многое. Но самое главное еще впереди… Разве слабое сердце женщины способно вынести то, что ей предстоит услышать?
Мушег начал мягко:
— Видишь ли, Сатеник, только на одну ночь я расстался с тобою, и ты уже встревожена. А что, если бы нам пришлось расстаться надолго?
— Я буду страдать еще сильнее, — ответила жена.
— А ты могла бы перенести разлуку?
— Я научилась бы терпеть, если бы разлука была необходима.
— Что ты считаешь необходимым?
— Если бы случилось, например, так, как это было не раз, если бы ты уехал воевать.
— Да, скоро я должен буду уехать.
Жена не ожидала такого ответа. Она была готова взять свои слова обратно, но было уже поздно. Она дала свое согласие, не зная заранее о намерениях мужа. И точно потеряв что-то, склонив голову, она со слезами на глазах стала разглядывать разостланные на полу роскошные ковры, хотя и была далека от надежды найти потерянное. Ее смущение сильно подействовало на мужа, которому впервые приходилось испытывать ее душевную твердость. Он обратился к ней со словами:
— Сатеник, вот ты уже и приуныла! Я не думал, что ты так малодушна.
— Я не малодушна, — ответила она рыдая, — но что мне делать… не прошло еще трех лет, как мы женаты, и с того момента, как я вступила в этот дом, я ни одного дня не видела тебя спокойным. Ты всегда стрелами отирал пот со своего лба… вечные войны… вечная кровь, вечные битвы… Когда же наступит конец этим кровопролитиям?
— Они не прекратятся до тех пор, — твердо ответил Мушег, — пока меч будет решать права человека.
Жена ничего не сказала. Она сидела с поникшей головой, как бы страшась взглянуть в разгневанное лицо мужа.
Тот продолжал мягче:
— Что бы ты сделала, милая Сатеник, если бы однажды утром твой мирный сон в мягкой постели нарушили дикие крики разъяренной толпы, и ты, открыв свои прекрасные глаза, увидела бы свое чистое брачное ложе окруженным кровожадными зверьми… Что бы ты сделала, если бы твое дорогое дитя, каждая улыбка которого тебе так сладостна, голосок которого доставляет тебе такую радость, — если бы этого ребенка — кусок твоего сердца — вырвали из колыбели и швырнули на землю… Разорили бы твой роскошный чертог, а тебя, босую и истерзанную, поволокли в Персию? Там, в стране рабов и несчастных, каждое утро на заре подлый надсмотрщик выгонял бы тебя железным кнутом вместе с толпой других пленных в выжженные солнцем Сузийские поля, чтобы ты своими нежными пальцами полола дикий мак, яд которого доставляет так много наслаждений и веселья персам… Прошли бы годы, тоска по родине и близким, мучительная работа истерзали бы твою душу и тело… А когда случилось бы пройти мимо тебя одинокому путнику и обратить на тебя, несчастную женщину, внимание, — твой надменный надсмотрщик указал бы на тебя пальцем и сказал: «Это жена спарапета Армении и дочь князя мокского». Теперь ты понимаешь, Сатеник, ради чего нужна борьба или для чего льются потоки человеческой крови? Ради того, чтобы всего этого не было…
Кровь мокских князей вскипела в Сатеник. Голубые глаза ее вспыхнули, и она воскликнула с негодованием:
— Этого никогда не случится! Я не позволю выбросить моего ребенка из люльки… До того, как это произойдет, земля будет усеяна многими трупами, и мой труп будет последним…
— Это может случиться, милая Сатеник, ибо дни несчастий приближаются, — печально продолжал Мушег. — Ты еще не знаешь, сколько горя предстоит перенести Армении. Я как раз сегодня утром думал об этом, когда ты вошла ко мне. Ты должна знать все, чтобы вместе со мной обдумать, как лучше обезопасить нашу семью!
И он рассказал жене об измене Меружана и Вагана, о том, что они приняли персидскую веру, об их походе на Армению во главе персидских войск, о предстоящих злодействах, — словом, все, что знал, и все, что считал необходимым ей сообщить.
— Позор, тысячу раз позор! — воскликнула опечаленная женщина. — Мало того, что до сих пор у нас были внешние враги, теперь враг выходит из нашей же среды!
— Да… выходит из нашей среды! — повторил Мушег, с сожалением качая головой. — И по этой причине мы должны вести одновременно две войны: внешнюю и внутреннюю. Внешний враг, наш вековой противник перс, не столь опасен, как наш семейный враг. Мой дядя Ваган оказался настолько низким человеком, что, добиваясь должности спарапета, принадлежавшей моему отцу, предал его в руки персидского царя и ценой гибели своего родича достиг власти. Теперь он идет сюда. Я не сомневаюсь, что этот трусливый человек, чтобы еще больше угодить персам, первый выдаст им меня, тебя и всех наших…
— Знает ли об этом Самвел? — спросила жена.
— Знает, — ответил Мушег.
— Бедный юноша, как ему должно быть тяжело!.. Утром я его видела из окна моей комнаты, когда он шел провожать Саака и Месропа. На нем лица не было. Он был так грустен, так осунулся, точно хворал несколько месяцев. За эти несколько дней он стал неузнаваем.
— У него чувствительное сердце. Всякое зло причиняет ему боль.
— Что он собирается делать?
— То же, что и мы, — ответил Мушег неопределенно, а затем, перейдя на другое, сказал: — Теперь ты все знаешь, дорогая Сатеник. Через два дня я должен отправиться в путь. Мы должны постараться пресечь зло в самом корне. Иначе говоря, необходимо отрезать дорогу врагу, пока он еще не вступил в нашу страну. Но меня беспокоит судьба ребенка и твоя. Что будет с вами во время моего отсутствия? Ты ведь слышала, какие сети расставляет мать Самвела?
— Слышала. Это не женщина, а чудовище! — сказала Сатеник с горечью в голосе.
— Да! Чудовище! Из-за нее наш замок оказался на вулкане, который в любую минуту может вспыхнуть. Это и принуждает меня подумать о том, чтобы обезопасить вас, пока не пройдет буря войны. Но я затрудняюсь найти безопасное место.
— Самым безопасным местом для нас будет войско, — ответила спокойно Сатеник.
Ответ жены удивил Мушега и в то же время обрадовал его своим благоразумием и смелостью. В этом ответе чувствовалось мужественное сердце дочери мокского князя.
Слова эти были сказаны Сатеник не случайно; она их глубоко обдумала. Когда Мушег описал жене печальное положение страны, в сознании Сатеник сразу возникла эта мысль. И чтобы пояснить ее, она добавила:
— Ты мне рассказал, что Меружан и твой дядя намереваются захватить семьи нахараров, в том числе, несомненно, и нашу семью. В таком случае где же нам, женам нахараров, искать убежища, как не в рядах войск? Мы пойдем вместе с войском, захватив наши люльки, и собственными руками будем залечивать раны наших мужей…
Совет, поданный женой, показался Мушегу разумным. Другого выхода не было. Надо было поступить именно так. Объединившись всеми силами против врага, нахарары должны, следовательно, оставить без защиты свои замки — убежища своих семей. Враг же всеми средствами будет стремиться овладеть ими. А если они будут защищать свои замки, то силы их распылятся и границы страны останутся открытыми перед врагом.
Но теперь возникло другое препятствие. Мушег через два дня должен покинуть замок. Если он возьмет с собой семью, то этим явно обнаружит свои намерения, которые до времени надо было скрывать. Кроме того, на нем лежала забота о защите семейств его дядей и двоюродных братьев, которых он не отделял от своей семьи.
Он снова обратился к жене за советом.
— У нас существует обычай, — сказала жена, немного подумав, — ежегодно посещать всенародные празднества в Шахапиване. Часто мы выезжали заранее, на несколько месяцев до начала праздника. Там находился стан царя, там бывал и он сам. В ожидании праздника мы наслаждались красотой цветочных гор.
Это паломничество — удобный повод для нашего отъезда! Ты, Мушег, можешь ехать, как решил, через два дня, а мы последуем за тобой через неделю.
— Прекрасная мысль! — с радостью сказал Мушег. — Священные места Шахапивана недалеко от крепости Артагерс, а наш стан будет находиться как раз в этом месте.
— Аю… аю…, — послышался из передней голосок маленького Мушега. Муж и жена замолчали.
Няня внесла ребенка, сказав, что мальчик никак не хочет уснуть на дворе. Мать взяла его на руки. Маленький человечек, являвшийся главным предметом размышлений родителей, мешал им прийти к какому-нибудь выводу.
Сатеник дала понять няне, чтоб та ушла.
Ребенок переполз из рук матери к отцу. Он встал на толстенькие ножки и, протянув ручки к отцу, стал играть его бородой.
— Священный Шахапиван, — повторил Мушег, — это самое удобное место, и как хорошо, что ты напомнила о нем, дорогая Сатеник. Правда, ты уже больше не встретишь там нашего несчастного царя, но найдешь нашу еще более несчастную царицу. Твое присутствие утешит ее. Там теперь все царское войско. И войска царицы должны оттуда пойти на соединение с нашими силами, сосредоточенными в крепости Артагерс. Значит — решено!
Отец еще не закончил своих слов, как маленький Мушег дважды чихнул, и этим благим предзнаменованием закрепил решение своих родителей.
XVIII. Юный Артавазд
Уже сгустился вечерний сумрак, а Самвел, поехавший провожать Саака и Месропа, все еще не возвращался. Старик Арбак одиноко ждал его в приемной палате. Снаружи у дверей стоял юный Иусик. Оба они начали терять терпение: князь чересчур запаздывал.
Старик несколько раз вставал, поправлял фитиль в медном светильнике, усиливал свет, затем убавлял, и наконец, не зная куда себя деть, от скуки стал считать копья и оружие, расставленные по углам. Хотя он уже сто раз их считал, это занятие ему не надоедало.
Иусик иногда входил, говорил старику какой-нибудь вздор, поддразнивал его и снова уходил. А князя все не было.
Вошел опять Иусик, остановился перед стариком и, подбоченясь, спросил его с хитрой усмешкой:
— Знаешь, Арбак, что я сейчас видел на дворе?
— Что же ты видел, чертенок? — спросил старик, устремляя суровый взгляд на хитроватое лицо юноши.
— Вижу, кто-то несколько раз прошел мимо замка… Я притаился у стены. Человек не заметил меня и, покружившись, ушел. Он все бродил около нашего замка и все время озирался. Иногда он подкрадывался к окошку и подслушивал, а чтобы его не заметили, уходил и возвращался. Я выждал, пока он уйдет, притащил здоровенный сук и положил на то место, на которое он становился, когда поглядывал в окно. Смотрю, он опять подкрадывается! Смотрю, запнулся ногой об сук и шлепнулся башкой о камни. Не знаю: голову онсебе расшиб или нос, но только заохал и заковылял восвояси!
— Узнал ты его?
— Как не узнать старого черта? Это Багос, евнух княгини.
— Этого негодяя давно следовало бы прикончить… убить, как собаку! — сердито пробурчал старик.
— Он вполне вознагражден! — ответил юноша, выходя из комнаты.
Арбак остался один. Он был опечален. Полвека был он в этом доме свидетелем дурных и хороших дел, радовался его счастью, горевал над его бедами, но никогда еще его сердце не наполнялось такою горечью, как в эти последние дни. Ему не совсем было ясно, что творилось кругом, но чутье подсказывало ему, что творится что-то недоброе. Соглядатаи матери осаждают жилище сына, сын что-то затевает втайне от матери, по ночам неизвестные люди тайком проникают в замок, шушукаются, исчезают… Что все это означает?
Старик не первый раз задавал себе этот вопрос, но бесхитростная душа его не находила ответа.
Так сидел он в раздумье, насупившись, когда в приемной раздался топот тяжелых шагов, распахнулась дверь и в комнату вошел Самвел. Оруженосцы, шедшие за ним, стали по обе стороны двери.
— Добрый вечер, дорогой Арбак, — весело сказал Самвел, подойдя к старику и положив руку ему на плечо. — Давно меня ждешь?
Веселое настроение молодого князя несколько рассеяло грусть старика. Подняв отяжелевшую голову, он спросил:
— Почему ты так запоздал?
— Не легко расстаться с дорогими, близкими сердцу друзьями, почтенный Арбак. Ели, пили, обнимались, попрощались было, а потом опять сели, опять попрощались — так день-то незаметно и пролетел, и солнце закатилось.
Повелительным жестом Самвел приказал оруженосцам удалиться. Они, поклонившись, ушли.
Вошел Иусик и встал у дверей.
— Ну, что, Арбак, был ты у моей матери? — спросил Самвел, устало растягиваясь на диване.
— Был два раза, — ответил старик.
— Нет, три, — поправил его Иусик.
— Да, прости господи, три раза… — сказал старик, бросая недовольный взгляд на юношу. — Один раз утром, один раз в полдень…
— И один раз вечером, — докончил за него, смеясь, Самвел.
— Да, и один раз вечером, — повторил старик, не понимая, чем вызван смех Самвела.
Самвел, слегка возбужденный выпитым вином, был в шутливом настроении. Обычно он никогда не подшучивал над стариком, так как очень уважал своего воспитателя. Заметив, что огорчил старика, он перестал смеяться и очень серьезно спросил:
— Значит, ты был у моей матери? Расскажи же, как она готовится к моему отъезду? Завтра утром я непременно должен выехать, непременно…
— Княгиня тоже хочет, чтобы ты выехал завтра утром.
Арбак поднялся со своего места, подошел к Самвелу и сел возле него на ковре, чтобы легче было разговаривать.
— К твоему отъезду, по велению твоей матери, все готово. Сопровождать тебя будут пятьдесят юношей в серебряной вооружении, все на конях одинаковой серой масти. Двадцать буланых мулов повезут палатки, провиант и одежду. В княжескую колесницу запрягут двух белых мулов; позади поведут двадцать коней буланой масти. Княгиня сама выбирала из собственного хранилища драгоценную сбрую для этих коней. Кроме пятидесяти молодых телохранителей, с тобой отправятся семь оруженосцев, семь сокольничих, семь псарей и два повара. Вина, всевозможные напитки и разные сладости, как полагается, уложены в особых ларцах. Забыл сказать, что среди пятидесяти телохранителей будет один, который понесет княжеское знамя, и отряд литаврщиков и трубачей.
Перечисляя все это, Арбак не ошибался, так как держал в руке записку. Когда он кончил, Самвел заметил:
— Очень торжественно, но довольно неудобно!.. Я бы предпочел легкий отряд из вооруженных всадников.
— Княгиня желает, чтобы твоя свита соответствовала блеску имени твоего отца и твоего имени, — ответил старик тоном, в котором было заметно глубокое недовольство.
— А кого она выбрала из моих людей?
— Никого. Она предоставила это тебе; можешь взять, кого хочешь.
— А ты поедешь со мною, дорогой Арбак?
— Разве Арбак когда-нибудь отпускал тебя одного? Арбак голову свою сложит на твоем пороге! — Старик указал на порог комнаты Самвела.
Юный Иусик стоял у стены и сверкающими глазами смотрел то на своего господина, то на старика Арбака. Он беспокоился. Ему хотелось знать, возьмет ли господин его с собою? Радость его была безгранична, когда Самвел, обратившись к Арбаку, сказал:
— Я благодарен матери, что она предоставила мне выбор. Я возьму с собою всех своих людей. Распорядись, дорогой Арбак, чтобы к утру все были готовы.
— Я уже распорядился! — ответил старик.
Тут Иусик, сильно краснея, выступил вперед и пробормотал:
— У меня просьба к моему князю.
— Какая?
— Лошадь моя прихрамывает после того, как ее подковали.
— Арбак прикажет дать тебе другую из моей конюшни по твоему выбору.
Лицо юноши засияло от восторга.
Арбак поднялся.
— Куда ты? — спросил Самвел.
— Еще много дел… пойду распорядиться.
— Спасибо, дорогой Арбак. Я должен выехать рано утром!
Старик многозначительно покачал головой и, не оглядываясь, вышел из комнаты.
После его ухода Самвел еще больше, повеселел. Подготовка к путешествию, хотя и не вполне, но в некоторой степени соответствовала его планам. Он не ожидал, что мать позволит ему взять с собой своих людей. А их было больше, чем тех, кого назначила она.
Самвел ходил по комнате, усиленно потирая руки и делая в уме расчеты. Иусик, пользуясь хорошим настроением князя, осмелел и решил обратиться к нему с новой просьбой. Однако на сей раз он колебался, и бойкий язык его, никогда не нуждавшийся в словах, на этот раз не повиновался ему. Сконфуженно опустив голову, он переминался с ноги на ногу и уже несколько раз почесывал затылок: «Сказать или не сказать?»
Если бы Самвел хоть раз взглянул на бедного юношу, он сразу заметил бы его беспокойство. Но Самвел был увлечен приятными размышлениями и совершенно не обращал на него внимания.
Юноша несколько раз кашлянул. Его покашливание привлекло внимание Самвела, который посмотрел на возбужденное лицо Иусика и спросил:
— Ты хочешь еще что-то сказать?
— Как мне сказать?.. господин мой, — чуть слышно, потупясь, пробормотал Иусик.
— Ну, так говори, как всегда говоришь, — засмеялся Самвел. — Что же ты стесняешься?
Смех господина приободрил юношу, и он со слезами на глазах сказал:
— Сегодня «она» целый день плакала…
— Кто? Нвард?
— Да, князь.
— Из-за чего же?
— Она узнала, что я поеду с моим князем…
— И загрустила?
— Нет, господин мой. Я дал ей слово…
— Какое слово?
— Что на этих днях…
— Поженитесь? Не так ли?
— Да, князь.
— Так чего же ты хочешь? Остаться и жениться?
— Нет, нет, господин мой, но… Я еще с нею не обручился.
Самвел немного подумал и сказал успокаивающе:
— Половину твоего обещания можешь сдержать теперь: обручись сегодня, а обвенчаешься, когда вернемся. Не знаю, правда, когда вернемся… Но когда бы то ни было, я обещаю обвенчать тебя с Нвард. Она хорошая девушка! За эти дни она оказала мне много услуг и потому достойна особой награды. Я прикажу Арбаку выдать ей из моей казны самый дорогой обручальный перстень.
Смущенный Иусик не знал, как выразить свою благодарность. Слезы радости брызнули у него из глаз. Он упал на колени и хотел поцеловать ноги князя.
Самвел остановил его.
— Встань! Как Нвард — хорошая девушка, так ты — хороший слуга.
В это время дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел юный Артавазд, сын Вачэ Мамиконяна. Он бросился Самвелу на шею, крепко прижал свою красивую голову к его лицу и в величайшем восторге воскликнул:
— Ах, если бы ты знал, Самвел, как я рад, как я рад! Трудно даже выразить!..
— Что это тебя так обрадовало? — спросил Самвел, с трудом высвободившись из объятий бойкого юноши.
— Сядем, расскажу. Ужасно устал, ужасно!..
Они сели на диван. Лицо юноши раскраснелось. Видно было, что он от своего дома до дома Самвела все время бежал. Передохнув немного, сказал:
— Сегодня утром я узнал, что ты едешь встречать своего отца; я и подумал: «Самвел едет, отчего бы и мне не поехать?» Сейчас же побежал к Мушегу, поцеловал ему руку, поцеловал ногу, и, наконец, получил его согласие. Потом побежал к твоей матери, расцеловал ее, — и она тоже согласилась. Осталась еще моя мать, но ее убедить поцелуями было довольно трудно. «Знаешь, — говорю я ей, — Меружан едет, Ваган едет, с ними великие полководцы персидского царя, надо и мне явиться к войскам, показаться им. Там соберутся все сыновья нахараров, а я чем хуже их? И стрелять умею, и копья бросать…» Словом, сказал ей все, что только мог. Ты ведь знаешь, все матери тщеславны, особенно в отношении сыновей! Ей захотелось, чтобы ее сын был также среди сыновей нахараров и удивил персов. Ловко я устроил?
— Неплохо, — ответил Самвел, — хотя и много наврал.
— Нет, бог свидетель, я не врал, только немного прихвастнул! — ответил юноша краснея. — А что мне было делать? Хочется поездить, увидеть свет, а они держат меня дома, как робкую девицу. Я уже не маленький, пройдет год, другой, и у меня уже вырастут усы… Тогда скажут: «Ты мужчина!» Теперь же меня и за мужчину не считают. Всю ночь не буду спать, — перешел он к другому, — не буду спать до рассвета. Когда утром надо куда-нибудь ехать, мне всю ночь не спится. Надо все подготовить, все предусмотреть…
Этот словоохотливый юноша, которого мы видели в первый раз в саду князя Мушега, когда он упражнялся с подростком Амазаспом в стрельбе из лука, был полон жизни и огня, и, конечно, мог принять участие в походе. Но Самвел опасался, как бы неопытный и простодушный мальчик не помешал его планам, не оказался лишней обузой. Поэтому он медлил с ответом. Артавазд, взяв его руки в свои и прижав к своим губам, сказал:
— Все согласны, милый Самвел, теперь все зависит от тебя. Скажи, ты согласен взять меня с собой?
Заметив, что Самвел не торопится с ответом, он добавил:
— Если ты не согласишься, я все равно поеду!..
Самоуверенность юноши была несколько преувеличенной. Но Самвел знал его безудержный, пылкий характер. Действительно, если бы Самвел не взял его с собой, он поехал бы и один.
Самвел подумал: «А ведь он может мне пригодиться…» и, обняв его, сказал:
— Не огорчайся, дорогой Артавазд, ты будешь украшением моего конного отряда. Я без тебя и шагу не сделаю. Беги, готовься к отъезду.
Артавазд вскочил и, от радости забыв даже проститься, выбежал из комнаты. Слуга с фонарем ожидал его в прихожей. Он быстро пошел, опередив слугу. Слуга нес фонарь сзади, едва поспевая за своим молодым господином.
Три дня прошло после той ночи, когда гонцы привезли в Вогаканский замок тяжелые вести из Тизбона.
Через три дня из замка Вогакан выехали два двоюродных брата: утром Самвел, торжественно сопровождаемый конным отрядом, а ночью Мушег — тайно и только со своими двумя оруженосцами.
В скобках
1. Природа, нахарарство и царь
Армения — страна горная.
Непрерывные цепи гор с их бесчисленными отрогами покрывают поверхность земли, образуя гигантскую сеть. Между частыми сплетеньями горной сети стиснуты глубокие лощины, мрачные ущелья и узкие равнины. Эти лощины, эти долины и равнины являлись отдельными областями, отделенными друг от друга естественными границами.
Насколько сильно была изрезана поверхность страны, настолько сильно раздроблены области. Поэтому Армения была той исключительной страной, в которой на небольшой территории имелось так много провинций.
Провинции были изолированы друг от друга и почти не сообщались. Горы служили непроходимой преградой между ними, а долины — глубокими рвами.
У человека встретилось много трудностей в борьбе с суровой природой.
Здесь утесистый кряж, внизу бездонная глубина, откуда едва доносится глухое рокотанье реки, а в вышине нависают скалы, ежеминутно угрожающие обвалом и грозящие скрыть решительно все под собой. В этом грозном неистовстве природы только уроженец гор, именно он мог проложить себе дорогу, состязаясь в проворстве с дикими козами.
Кое-где дороги упирались в темные, дремучие леса. В них люди размножались, росли вместе с лесами, питались их плодами и за пределами своего густолиственного леса не признавали никакой иной страны.
Приближаясь к этим лесам, путники не столько боялись зверей, сколько жителей, засевших в лесных трущобах, как в логовищах. К трудностям путей сообщения, созданным горными и лесными препятствиями, присоединялись также и реки. Они протекали по глубокому каменистому дну, между берегами, с двух сторон окаймленными высокими, как крепостные стены, скалами. Зажатые в узких ущельях, они рычали от бешенства, ревели, грохотали и пенистыми потоками бились о несокрушимые скалы, стремясь хоть немного расширить свое русло. Страшные каскады Аракса внушали путникам ужас.
В теснинах гор и ущелий армянские реки не допускали судоходства. Они были судоходны лишь тогда, когда оставляли глубины ущелий и теснин и когда протекали по ровным долинам, тихо и плавно приближаясь к морю.
Пять великих патриархов, армянские реки: Тигр, Евфрат, Кура, Аракс и Фазис — были нетерпимы, а искусство строить мосты пока еще было бессильно сдерживать их под великолепными арками. Вот почему мост через Аракс, сооруженный императором Августом, был признан за чудо, недаром Вергилий воспел его в своих стихотворениях. А мост, сооруженный персидским царем Киром через ту же реку, считался творением бога. Древнейший мост у города Арташата, называвшийся Таперакан, первоначально представлял собою свайную постройку, которая держалась лишь в тихий период реки.
Не меньшим препятствием для сообщения являлась зима, продолжительная зима Айастана[284].
Уже в октябре во многих местах, в особенности на возвышенностях, густой снег застилал долины, засыпал овраги, бесследно заносил дороги и прерывал всякое сообщение. Путники двигались по дорогам не иначе, как с длинными шестами в руках; для того, чтобы в случае снежного обвала вышедшие на поиски могли догадаться по верхушкам шестов, что под снегом находятся люди. Шесты представляли и другие удобства. Опираясь на них, путники перепрыгивали через пропасти, а попав под обвал, пробивали ими отверстия, чтобы дышать.
Снежным опасностям подвергались не только обыкновенные смертные, но даже и цари.
Царь Санатрук в детстве трое суток пробыл под снегом в объятиях своей няни. Их нашла белая собака, посланная на поиски и сторожившая это место до тех пор, пока не пришли люди. Царь Тиран Первый был погребен под снежной лавиной; его так и не смогли найти. Десять тысяч греков Ксенофонта[285], проходя через армянскую страну, обморозили себе руки и ноги, хотя зима только что начиналась. Ксенофонт приказал даже обмотать ноги коней теплыми мешками, но это не помогло. В дни Артавазда Первого армянская зима погубила восемь тысяч римских воинов Антония при его возвращении из персидского похода.
Ужасны армянские вьюги, бураны!
Свирепый ветер ожесточенно передвигает огромные снежные холмы и засыпает небо густой ледяной пылью. В эти роковые моменты всякое живое существо ищет места, где бы укрыться. На больших дорогах, в опасных местах, строились для укрытия караванов особые постоялые дворы. Но редко во время буранов каравану удавалось благополучно добраться до места спасения: чаще всего его заносило снежной массой, иногда в нескольких шагах от убежища.
В горных местах почти половину года крестьяне жили вместе со своим скотом под снегом, в темных землянках. В этих подземных ямах как хозяева, так и их скот имели достаточные запасы еды. Но голод и падеж скота были неизбежными спутниками затянувшейся зимы. Крестьяне добывали воду, оттаивая снег, но корма для скота достать было неоткуда.
Весеннее солнце вместе с теплом приносило наводнение. Овраги наполнялись мутными, шумными потоками, и сообщение становилось затруднительным. Но вот белые, покрытые снегом равнины у подножья гор начинали постепенно чернеть, затем покрывались чудесным зеленым покровом. Вместе с щебетаньем ласточки доносилось блеяние новорожденных ягнят. Пастухи устраивали свои шалаши на усеянных цветами пастбищах.
Приближалось лето.
У подножья гор, на равнинах, созревали гранаты, инжир, маслины. Золотистым янтарем отливали гроздья винограда, и, подобно косам светловолосой девушки, волновались, развевались отяжелевшие колосья. А там, на высотах, выделялись очертания снежных вершин гор, и широкими, густыми слоями все еще неподвижно лежал снег в вековых углублениях скал.
В долинах, на низменных и ровных местах, летняя духота и зной становились еще более нестерпимыми, чем зимний холод. Солнце жгло, небо низвергало огонь. Люди, спасавшиеся от зимней стужи в землянках, теперь убегали от палящего солнца и подымались вместе со своим скотом на прохладные горные высоты. И так в течение каждого года совершалось это переселение, — от тепла к холоду и от холода к теплу. Но переселение это происходило в пределах своей области.
Жестокие условия природы, полные крайностей, создавали таких же жестоких и суровых людей. Это и было причиной того, что их обычаи, нравы, поведение и вообще весь общественный строй носили отпечаток тех природных условий, в которых им приходилось жить.
Реки, огромные озера, горные цепи с их многочисленными отрогами, изрезавшие поверхность страны, создавали множество мелких частиц, каждая из которых представляла собой особую провинцию, отделенную естественными границами.
Во времена Трдата число областей доходило до шестисот двадцати. А в дни Аршака II оно достигло девятисот. Каждая из областей являлась княжеством, жившим своей особой жизнью и своими особыми обычаями.
Трудность сообщения еще больше усиливала местные особенности. Неизменность состояния страны поддерживала устоявшиеся обычаи. Следствием этого было замедление культуры и прогресса. Жители одной области не понимали языка своих соседей, хотя и являлись их братьями по крови.
Различие интересов способствовало раздроблению власти. Каждая область имела свое управление, свои законы.
Княжества назывались нахарарствами.
Сколько было областей, столько было и нахарарств. В течение веков вследствие различных политических обстоятельств число их то увеличивалось, то уменьшалось.
Владетели княжеств назывались нахарарами.
Каждый нахарар был полным господином в своей стране. Его власть передавалась по наследству из поколения в поколение. Все нахарары подчинялись царю Армении. Они платили в царскую казну определенный налог, были обязаны содержать известное количество войск, помогать царю во время войн, а в мирное время охранять границы государства. Каждый из нахараров наблюдал за теми границами, которые находились поблизости от его нахарарской земли.
Впервые Арташес II определил границы нахарарств, поставил на межах каменные столбы и размер наследования каждого из нахараров записал в царские книги. Трдат же Великий определил обязанности нахараров относительно охраны рубежей.
Нахарарства, находившиеся у границ Армении, были более обширными и мощными, чем те, которые находились внутри Армении. Некоторые из пограничных нахараров владели несколькими областями.
Многие из нахарарских домов пользовались особыми привилегиями как в управлении областью, так и при царском дворе. Например, местоблюстителем царя избирался нахарар из рода Мурацан; в день торжественного венчания царя на царство венценалагателем, аспетом, избирался нахарар из рода Багратуни; главный евнух царского дворца избирался из нахарарского рода Мардпет; главнокомандующий войсками — спарапет — из нахарарства Мамиконян. Были еще и другие нахарарства, имевшие различные привилегии на придворной службе.
Каждое нахарарство представляло собой особое княжество. Княжил старший в роде: он назывался нахапетом, или танутером. Остальные же наследники нахарарского дома пользовались лишь доходами области в виде жалованья или же натуральных поступлений. Рост числа членов княжеского рода в течение веков, вполне понятно, приводил к тому, что доходы области оказывались недостаточными для их содержания. В таких случаях нахарары, как это часто бывало, приобретали новые владения, отнимая земли у своих соседей. Внутренняя борьба и кровопролития продолжались из поколения в поколение и зачастую являлись причиной полного уничтожения целых нахарарских родов. После смерти Трдата нахарары Бзнуни, Манавазян и Вордуни, воюя друг с другом, взаимно почти истребили свои роды.
Царь, по своей земельной собственности, являлся как бы самым крупным нахараром. Он присвоил себе весь Айрарат[286] — сердце страны.
Айрарат, как царская вотчина, был неделим.
В Айрарате жили только царь и царский наследник. Остальные члены царского дома не имели права проживать в Айрарате. Им были выделены определенные провинции. При Аршакидах это стало законом.
Области Аштеанк, Алиовит и Арберани со всеми доходами были предназначены для лиц царской фамилии. С течением времени их численность в этих областях настолько возросла, что даже доходы с земель для удовлетворения их утех оказались недостаточны. Поэтому члены царской семьи постоянно сетовали на малость угодий и выпрашивали у царя новые земли.
В истории Армении нет ни одного случая, чтобы лица из царского рода Аршакидов занимали какую-либо государственную должность. Не выделялись они и на военной службе. Они были обречены на постоянное безделье. Им дарили обширные земли, им выдавалось из казны щедрое жалованье, чтобы они наслаждались жизнью, занимались охотой и разного рода увеселениями, не думая об иной славной жизни. Все это делалось в соответствии с тогдашней политикой с той целью, чтобы отвлечь их от притязаний на престол. В них, живших безнравственной и бесцельной жизнью, убивались возвышенные и героические стремления.
Как уже сказано, царь присвоил себе Айрарат и вместе с наследником престола проживал в столице. Остальные царевичи не имели права селиться в Айрарате. Для каждого из них была предназначена отдельная провинция. Только один из аршакидских царевичей, племянник Аршака II, Гнэл осмелился поселиться в Айрарате, у подножия горы Арагац. Этим поступком он возбудил подозрение Аршака и вскоре пал жертвой его подозрительности.
Вследствие увеличения царского рода и умножения нахарарств занята была большая часть земель страны, это сокращало доходы во вред царской казне.
У царя оставалась лишь одна провинция — Айрарат. При такой государственной организации, когда сила ее измерялась размером земли и количеством жителей, вполне понятно, что объединенная сила нахараров могла не только производить давление на царя, но и имела возможность постоянно держать в своих руках его судьбу. Войско держал каждый из нахараров, и военная сила некоторых из них была значительно больше военной силы Айрарата.
Но, с другой стороны, существовало множество самодовлеющих нахараров, имевших свои особые интересы, свои издревле утвердившиеся обычаи. Поэтому, очень понятно, из этих раздробленных княжеств не могло образоваться единое, крепкое автократическое государство.
Последние цари из династии Аршакидов чувствовали, в чем заключалась их слабость, и с целью превращения государства в единую, крепкую организацию начали постепенно ограничивать господство нахараров.
Общее положение страны, опасность извне и постоянные столкновения с нахарарами повели царей по этому естественному пути.
Эта идея возникла у аршакидских царей, начиная с того дня, когда христианство проникло в Армению. Трдат явился первым, кто уничтожил могучее нахарарство Слкуни и отнял у него Тарон. Но у этого выдающегося государя, занятого большим делом религиозной перестройки Армении, не нашлось времени для осуществления еще более трудной политической перестройки.
Три преемника Трдата Великого — Хосров II, Тиран II и Аршак II повели дальше начатое дело.
Сын Трдата Великого, Хосров Младший, хотя и не походил на своего гиганта-отца и не обладал его непобедимой храбростью, но все же был умным человеком. По отношению к нахарарам он предпринял две меры: одну строгую, другую мягкую. Он был жесток, когда велел убить алдзникского бдешха Вакура, уничтожил его род и после многих убийств, совершенных в Алдзнике, изгнал оттуда его сына Гешу вместе со множеством пленников. Мягкие меры, примененные им, были более политичны и могли оказаться более гибельными для нахараров, если бы Хосров долго жил. Но он процарствовал всего лишь девять лет. Он задумал связать старших нахараров со своим двором и посредством придворных увеселений деморализовать и ослабить их. С этой целью он издал закон, по которому нахарары, имевшие от тысячи до десяти тысяч войска, должны были всегда находиться при царе и не отъезжать от него. И чтобы занять нахараров, Хосров у веселых берегов Ерасха основал город Двин, перевел туда свой двор, а долину реки Азат вблизи города покрыл искусственными лесами, названными по его имени Хосровакерт. Эти леса он заполнил всякого рода зверьем, пригодным для охоты. В этих лесах он построил роскошный дворец, который назывался Тикнуни. Чудесный дворец этот в прохладном лесу являл собой рай, где жили красивые женщины и происходили постоянные увеселения. Там для нахараров были уготовлены всякого рода развлечения и забавы. Там соблазны, придворный разврат изнашивали их, убивали в них стремление к власти. Но это продлилось недолго. Со смертью Хосрова умерла и зародившаяся в нем идея.
Сын Хосрова, Тиран II, не последовал мирной политике отца. Беспощадной рукой он перебил несколько нахарарских родов и в особенности представителей двух старейших нахарарских фамилий — Арцрунидов и Рштунидов. Во время этих избиений два брата Мамиконяна с обнаженными мечами в руках набросились на палачей и спасли двух мальчиков: Шаваспа и Тачата. Это были оставшиеся в живых наследники двух родов.
Тиран не мог продолжать дальше эту внутреннюю борьбу, так как его царствование, подобно отцовскому, было кратковременно — одиннадцать лет. Своим поведением он оттолкнул от себя многих нахараров и остался беспомощным и покинутым. Последствием такого положения явились его военные неудачи, которые он потерпел сперва от римлян, а затем от персов. Персидский царь ослепил его и отнял трон.
Сын Тирана Аршак II постарался завершить то, что начали его предшественники. Он объявил открытую войну нахарарам. Но для того, чтобы начать с ними борьбу, он нуждался в крепкой опоре, иначе говоря, ему нужна была мощная партия. Невозможно было создать такую партию из нахараров, так как все они объединились против него. А один Айрарат не имел достаточной силы для борьбы с нахарарами. Изобретательный царь задумал перетянуть на свою сторону если не весь народ, то по крайней мере недовольных, ту часть, которую преследовали и угнетали властители-нахарары. С этой целью он основал у подножья горы Масис город-убежище, назвав его своим именем Аршакаван. Когда город был готов, он издал приказ, в силу которого всякий вошедший в этот город считался свободным от закона и суда. Вскоре город и вся долина провинции Ког, где находился Аршакаван, наполнилась массой переселенцев. Там нашли убежище все те, кого преследовали и угнетали нахарары. Там нашли убежище все недовольные и протестующие. Там нашли убежище также и преступники, осужденные законом. Там сосредоточилась горечь земли, вековая месть против насилия и грубой силы. Там собрались все прегрешения и преступления, порожденные безудержным произволом деспотов. В очень короткий срок население города достигло двадцати тысяч дымов.
Все жители города были из числа подданных нахараров. Все эти горемычные и вместе с тем отчаянные люди были в руках Аршака мощной силой для борьбы против нахараров.
Нахарары почувствовали это, в особенности когда заметили, что их подданные — и не только недовольные — с удовольствием готовы переселиться в этот свободный город, где не было ни налогов, ни тягот закона, а, наоборот, каждый человек чувствовал себя в полной безопасности.
Кроме того, оставшиеся на нахарарских землях жители, имея перед собою такой пример, могли впасть в соблазн и в любую минуту восстать, видя, что царь жалует свой народ большей свободой и большими милостями, чем князья.
Отсюда возникли кровопролитные войны между нахарарами и Аршаком.
Быть может, Аршак и остался бы победителем, если бы нахарары не прибегли к внешней помощи. Они обратились к вековому врагу армян — к персидскому царю. Шапух извлек пользу из внутренних раздоров Армении и послал на помощь нахарарам свои войска. Оставшийся без поддержки Аршак бежал на север в Кавказские горы.
Во время его отсутствия месть нахараров превзошла всякую меру жестокости. С помощью нахараров персы овладели городом Ани, ограбили царскую казну и даже не пощадили усыпальницу аршакидских царей: разрушили могилы и увезли в плен царские останки.
В то же самое время нахарары обрушились на Аршакаван и беспощадно перебили как мужчин, так и женщин. Город-убежище наполнился трупами; кровь рекой текла по улицам. Уцелела лишь часть грудных детей.
Аршак вернулся с Кавказа, ведя с собой грузинские и иные горские войска. Снова возгорелась война между нахарарами и царем.
Нахарары, проводив персов с богатой добычей, призвали на этот раз против своего царя греков. Легионы Валента приблизились к армянским границам. Перед Аршаком стояли три могучих врага: греки, персы и его нахарары…
Он не отчаивался, но уступил, когда ангел мира явился и прекратил кровопролитие.
То был Нерсес Великий.
Великий пастырь примирил нахараров с царем, взяв клятву в том, чтобы отныне царь обращался с ними справедливо, и они служили ему верой и правдой.
Не примирились только два нахарара: Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян, отец Самвела. Они перешли к персидскому царю Шапуху.
Вот откуда возникла вражда между Аршаком и этими двумя нахарарами.
2. Государство и церковь, духовная и светская власть
Напряженные взаимоотношения царя со своими нахарарами и существовавшие между ними усобицы, часто дававшие повод к ужасным кровопролитиям, — все это было вкратце описано в предыдущей главе.
Но для армянской истории было характерно еще и другое, более печальное явление, а именно: такие же враждебные взаимоотношения царя с духовенством и с его высшими представителями.
С того дня, когда христианство стало проникать в Армению, началась глухая внутренняя борьба между царем и духовенством. Борьба эта не раз приводила к печальным и трагическим результатам. Примечательно то, что эта борьба начинается с того же времени и в дни тех же царей, которые боролись со своими нахарарами. Этими царями были четыре преемника Трдата Великого: Хосров, Тиран, Аршак и Пап.
Даже сам Просветитель не избег преследований. Последние дни своей жизни он провел в неизвестности, скрываясь в пещерах горы Сепух.
Из его сыновей Аристакес был убит князем Архелаем, а Вртанес лишь чудом спасся от неистовства толпы в Аштишатском монастыре.
Один из сыновей Вртанеса, Григорис, умер мученической смертью на поле Ватнян, а другой, Иусик, был убит в церкви по приказу своего тестя, царя Тирана.
Два сына Иусика — Пап и Атанагинес — были убиты в одночасье в Аштишатском монастыре.
Пап за своим столом, во время обеда, отравил сына Атанагинеса Нерсеса Великого, при активном содействии которого он взошел на царский престол.
Одним словом, начиная с Просветителя вплоть до его последнего потомка Саака Партева, почти никто из представителей этого большого патриаршего рода не умер своей смертью, но все сделались жертвой жестокости либо царя, либо нахараров.
Пали жертвами и видные церковники тех времен.
По приказу Хосрова, Маначихр Рштуни велел сбросить с высоты горы Ындзак в Ванское озеро семерых диаконов патриарха Акоба Мцбинского. Мольбы и слезе старика патриарха не могли смягчить жестокого князя.
Тиран велел задушить старого священника Даниэла, который был одним из выдающихся учеников Просветителя.
Аршак приказал закидать камнями на площади Хада ученика Нерсеса Великого — епископа Аршаруника и Багреванда, — который был патриаршим местоблюстителем во время пребывания Нерсеса в Константинополе.
Каковы же были причины этих бедствий? Может быть, борьба новой религии со старинными языческими обычаями и нравами?
Именно так и объясняют это армянские историки.
Все преемники Трдата Великого, кроме Врамшапуха, вплоть до падения дома Аршакидов, описаны ими в качестве людей в высшей степени безнравственных. Духовенство порицало их непристойный образ жизни, они же в гневе повелевали убивать духовных лиц. Таков суд истории.
Но та же история бессознательно обнаруживает иногда такие штрихи, которые свидетельствуют как раз о противоположном и заставляют искать корни совершенных злодеяний в более глубоких и веских причинах.
Почему аршакидские цари после принятия христианства, вместо того, чтобы облагородиться, стали более жестокосердными, более преступными? Нравственное влияние христианства не могло дать таких чудовищных результатов. Почему, наконец, аршакидские цари до принятия христианства были более нравственными и более благородными? Тиран II, Арташес II, Хосров Великий представляют собой образцы человеколюбия и высокой добродетели. И вообще среди армянских языческих царей нельзя указать ни одного, кто был бы охарактеризован историей столь неприглядно, как последние христианские цари из Аршакидов. Были ли они варварами, беспощадно избивавшими представителей духовенства?
Для решения этого, вопроса следует прежде всего выяснить, что представляло собой в то время духовенство и какой вид имела духовная власть.
Когда Просветитель и Трдат вводили христианство в Армении, они главным образом старались уничтожать языческие памятники и вместо них создавать христианские. Капища были разрушены, храмы старых богов разорены и на их месте основаны христианские монастыри и храмы. Церкви были построены как в городах, так и в посадах и селах. В монастырях были организованы религиозные братства, а в церквах определилось белое духовенство. Были основаны школы для подготовки церковнослужителей из детей жрецов и из остальных сословий.
Требовалось обеспечить духовное сословие.
Новопосвященный царь в своем беспредельном христианском усердии не пожалел передать только что построенным монастырям и церквам в вечную собственность множество сел, посадов, усадебных мест и иное недвижимое имущество. К церковным учреждениям перешли и те имения капищ, какими владели они в языческие времена. Иначе говоря, когда языческие храмы стали христианскими, они сохранили за собой прежние владения.
Кроме того, Трдат издал всеобщий закон о том, чтобы в усадебных местах (в малых поселениях) церкви принадлежало «по четыре земли», а в посадах (в больших поселениях) «по семь земель». «Земля» являлась тем отвлеченным мерилом для участка, который отводился каждому дыму или отдельной крестьянской семье. Следовательно, если в каждом посаде давалось «по семь земель», это означало, что давалось такое количество земли, которое было достаточно для семи семейств.
Таким именно образом церковь стала самым богатым землевладельцем в государстве.
Разбогатели в земельном отношении и монастыри.
Для того, чтобы получить более ясное представление о том, какими имениями владели монастыри, достаточно в качестве примера взять хотя бы находившийся в области Тарон монастырь Глака или, иначе, Иннакнян, о богатствах которого его первый настоятель Зеноб Глак в своей истории дает весьма интересные сведения.
Зеноб Глак, один из замечательных сподвижников Просветителя, прибывший вместе с ним из Кесарии, по происхождению сириец, был очень энергичным монахом, описавшим жизнь Просветителя и историю названного выше монастыря.
Этот монастырь в языческие времена, когда он был еще кумирней, имел двенадцать больших посадов. Разрушив кумирню, Просветитель основал на ее месте монастырь и предоставил ему те же двенадцать посадов. Вот их названия с числом дымов и с указанием военной силы каждого:
1. Куарс, 3012 дымов, 1500 всадников, 2200 пеших.
2. Тум, 900 дымов, 400 всадников.
3. Хорни (родина Мовсеса Хоренаци), 1906 дымов, 700 всадников, 1008 пеших.
4. Парех, 1680 дымов, 1030 всадников, 400 пеших.
5. Келк, 600 дымов, 800 всадников, 600 пеших.
6. Базум, 3200 дымов, 1040 всадников, 840 пеших стрелков, 680 копьеносцев, 280 пращников.
7. Мелти, 2080 дымов, 800 всадников. 1030 пеших.
Жаль, что Зеноб упоминает из двенадцати посадов только семь, а из остальных пяти упоминает только название Муша, да и то без числа дымов. Но слова историка, что «это большие посады, как записано в книге князей Мамиконян», заставляют думать, что остальные пять посадов как по своим размерам, так и по количеству населения были если не больше, то во всяком случае не меньше остальных семи, тем более, что среди них был Муш, о котором имеются сведения, как об одном из многолюдных городов Тарона. Так или иначе, имея на руках данные относительно вышеназванных семи посадов, нетрудно определить приблизительное число жителей остальных пяти.
Семь посадов в общем имели 14378 дымов. Если эту сумму разделить на 7, то на каждый посад выпадает 2054 дыма. Если остальным пяти посадам придать по 2054 дыма, то все вместе они будут иметь 10270 дымов. Следовательно, все двенадцать посадов будут иметь 24648 дымов.
В патриархальной обстановке тех времен каждая семья, или дым, могла состоять из 20–30 членов, но, если считать, что в каждой семье было только по пяти душ, можно вывести общую цифру населения всех двенадцати посадов, а именно — 123240 душ.
Любопытно, какова была военная сила этих монастырских посадов. Руководствуясь тем же способом исчисления, найдем общую цифру. Семь посадов вместе имели 13308 пехоты и конницы. Каждый посад имел 1901 воина. По этому расчету остальные пять посадов имели 9505 воинов. Таким образом, общее число воинов двенадцати посадов равнялось 22813.
При наличии столь огромной военной силы у этого монастыря не приходится удивляться тому кровопролитию, которое произошло в результате сопротивления языческого капища войскам Трдата, пришедшим вместе с Просветителем разрушить древнюю кумирню.
Отсюда ясно, что монастырь Глака представлял собою могучее духовное нахарарство как по обширности своих владений, так и по количеству военной силы, но именно духовное нахарарство.
Начиная со времен Просветителя и Трдата монастыри и церкви овладели значительной долей земель и населения Армении.
Однако энергичные преемники Просветителя стали добиваться еще большего увеличения числа церковных владений соответственно растущему числу монастырей и храмов.
Среди преемников Просветителя первое место в церковном строительстве занимает Нерсес Великий. По свидетельству современного ему историка, число основанных им монастырей доходит до 2040. Эту цифру, пожалуй, можно считать чрезмерной. Но в этой чрезмерности заключается та несомненная истина, что Нерсес основал действительно большое количество монастырей, умножив же их, он вместе с тем умножил число монашествующих братий. В его дни число одних только епископов доходило до 1020, не считая церковников низшего сана.
Основанные им монастыри служили различным целям. Это были разного рода епископства, дома для клириков, братства и женские монастыри, разбросанные по всем уголкам армянской земли. И в каждом из них проживало значительное количество оторванных от мира монахов, наслаждавшихся обильными благами монастырей.
Но великое дело этого крупного пастыря, блиставшего своим человеколюбием, любившего свой народ, как друг, состоит, не в этом. Он создал множество благотворительных учреждений, где находили заботу и приют всякого рода горемыки и неимущие. Будет не лишним вспомнить о некоторых из этих учреждений.
Прежде всего, дома, для нищих, где кормились бедные и неимущие. Больницы, в которых лечили больных. Дома для прокаженных, где заботились о таких больных, которые по обычаю страны считались нечистыми и изгонялись из селений, чтобы не заражать других. Эти несчастные жили в пустынях или у больших дорог. Приюты, в которых получали питание старики и люди нетрудоспособные. Приюты для сирот, где кормили сирот и беспризорных детей. Вдовьи дома, где заботились о старушках-вдовах. Гостиницы или странноприимные дома, где находили приют странники, путешественники и прохожие. Постоялые дворы, устроенные у дорог, у горных проходов и вообще в таких местах, где было безлюдно, чтобы путешественники могли найти там пристанище.
Каково было число этих учреждений — неизвестно. Но известно, что они существовали не в одной какой-либо провинции или области, а были разбросаны по всей Армении.
В то время не было нищих, которые бы докучали на улицах попрошайничеством; не существовало гулящих бродяг, которых бы голод вынуждал покушаться на чужое имущество. Каждый был доволен, каждый питался от общественного стола. «Во время Нерсеса, — пишет Фавстос Бузанд, — во всех частях Армении совершенно не было видно, чтобы бедные занимались попрошайничеством, но там, в домах призрения, обслуживались их нужды, и они, удовлетворенные всем, ни в чем не нуждались».
То же самое пишет иерей Месроп: «Во времена Нерсеса никто в Армении не замечал, чтобы появлялись нищие или же нарушители порядка, закона, или же бродяги, которых до того было много в армянской стране. Всему этому положил конец Нерсес».
Великий благоустроитель Армении являл собою совершенный образец добродетели. Сам он прежде всех показывал примеры милосердия и сострадания и убеждал других делать то же самое по отношению к неимущим и нуждающимся братьям.
Фавстос Бузанд говорит:
«Сперва делал сам и затем всех обучал тому же. Приказывал, чтобы во всей Армении, в ее провинциях и разных местах строили дома для нищих, подбирали больных, прокаженных, расслабленных и всех болящих. Были созданы дома для прокаженных, больницы, и было назначено вспомоществование. Вдовам, сиротам и неимущим он давал приют и пищу в доме своем, и бедняки радовались вместе с ним. Стол его всегда был доступен, и трапезная целый день служила гостиницейдля нищих и чужестранцев. Хотя он и создал во всех провинциях дома для бедных и выделил им средства, но двери его трапезной вследствие его исключительной любви к бедным всегда были открыты перед неимущими. Слепые, хромые, увечные, глухие, калеки, бедные и нуждающиеся, сидя с ним и в кругу его людей, получали пищу. Сам он своими руками обмывал их, умащал и залечивал раны. Самолично кормил их и свое имущество затрачивал на их нужды, и все странники, находясь под его покровительством, наслаждались покоем».
После этого весьма понятно, почему этот почитаемый человек был столь популярен. Его называли отцом народа. Всюду, где он появлялся, наступала тишина, прекращалось волнение. Он был ангелом мира. Не только армянский царь, не только нахарары Армении, но даже византийские императоры и персидский царь остерегались его. Могучей рукой держал он узду правления Арменией и соответственно своим столь широким воззрениям давал направление ее политике.
Об этом направлении следует сказать, так как в нем таились корни того глухого разногласия, которое, постепенно разрастаясь, в конце концов привело к бедственным усобицам между духовной и светской властью.
На церковном соборе в Аштишате Нерсес Великий в числе ряда реформ выдвинул вопрос о монастырях в особом каноническом постановлении. Его планы в этой связи были настолько обширны, что могли охватить великие идеи во всем их многообразии.
Чего же желал этот могучий ум? Он хотел превратить Армению в огромный монастырь, в общее братство, где бы господствовало только равенство, где бы не было имущественных различий, где бы бедный, неимущий, немощный, нетрудоспособный получал бы пищу с божьего стола.
Современный ему историк Фавстос Бузанд пишет: «В то время (на Аштишатском соборе) постановили организовать и записали в постановлениях, чтобы весь народ армянской земли превратить в разряд всенародной монастырской братии». А иерей Месроп дополняет: «В дни Нерсеса Великого вся Армения превратилась как бы в совершенную личность, руководимую страхом божиим».
Насколько серьезным было это мероприятие, настолько тяжелыми оказались его последствия.
Быть может, побуждаемый чувствами христианской добродетели, которые были в нем столь горячи, Нерсес Великий выдвинул на Аштишатском соборе этот составленный им план и заставил принять его. Быть может, жестокость того времени, бедствия народа, притеснения, чинимые царем, нахарарами и вообще знатью, подсказали ему превратить лоно церкви в обширное и безопасное убежище, где бы могли найти приют все угнетенные и нуждающиеся.
И наконец, быть может, воодушевленный не всеведущим предвидением, а лишь идеей милосердия, великий патриарх не сумел предусмотреть в начале своего дела всех последствий этого гигантского мероприятия, которое не могло привести ни к какому иному результату, как только к преобразованию армянской страны в церковное государство, стоящее под священным знаменем креста.
Так или иначе, монастырь духовных сограждан был основам. Настоятелем этого всеармянского монастыря был сам патриарх Нерсес Великий. Надзор за обширным хозяйством монастыря он поручил избранным из среды духовенства особым наблюдателям, во главе которых стоял его диакон Хад, позднее возведенный в сан епископа.
Каковы же оказались результаты управления таким монастырем?
Это был самый трудный экономический вопрос того времени. Он породил все те столкновения и борьбу, которая разгорелась между духовной и светской властями и ускорила плачевное падение аршакидского государства.
Выше уже упоминалось, что при Просветителе, когда началось образование монастырей, новообращенный Трдат в ревностном усердии установил во всем государстве общий закон о том, чтобы церкви было предоставлено по «четыре земли» с усадеб и по «семь земель» с посадов. Кроме этих земель, церковь получала особую десятину со всех продуктов страны. Церковь захватила земельные владения всех языческих капищ, находящиеся в руках жрецов.
При Нерсесе Великом, когда сильно увеличилось количество монастырей и различных благотворительных учреждений, соответственно было увеличено и количество церковных владений путем передачи церкви новых посадов и сел. Все созданные им учреждения Нерсес обеспечил верными доходами.
Кроме того, что церковь получала в наследство по добровольным завещаниям, только она считалась единственной наследницей всякого выморочного имущества, получая как движимое, так и недвижимое. Немало возросло и без того огромное богатство ее.
Когда Вачэ Мамиконян по повелению Хосрова II уничтожил последних наследников нахарарского рода Манавазян и Вордуни, оба нахарарства со всем имуществом перешли в собственность церкви. Территория нахараров Манавазян со всеми городами и селами перешла к епископу Албианосу, который предоставил ее церквам, находившимся в его ведении. Территорию же Вордунийского нахарарства со всеми городами и селами занял епископ Басена.
Таким образом, церковь через посредство многочисленных монастырей, захватывая большую часть земель, постепенно стала самым богатым землевладельцем в государстве, в то время как царь был зажат в узких пределах Айраратской области, а нахарарства настолько размножились, что им уже не хватало земли.
Если бы монастыри являлись только обиталищами духовенства, в которых множество бездельных монахов потребляли бы богатства страны, то, без сомнения, народ не потерпел бы их существования, тем более, что христианство не успело еще пустить в Армении крепкие корни. С момента возникновения христианства прошло всего каких-нибудь семьдесят-восемьдесят лет! В этот короткий период новая религия не могла еще настолько укорениться в народе, чтобы духовенство могло привлечь народ к церкви если не подлинным христианским усердием, то хотя бы распространением в нем фанатизма и дележом доходов. Все дело в том, что организация монастырей в Армении, особенно после реформ Нерсеса, была приспособлена к требованиям и условиям страны. Такого рода монастыри могли существовать и у языческого народа. Армянский монастырь сочетал в себе и благотворительные и человеколюбивые цели. Там, где господствует рабство, где знать угнетает закабаленных людей, там подобного рода учреждения становятся не только спасительными убежищами для угнетенных, но и утешением для всех несчастных. Это и было причиной того, что народ полюбил монастыри.
Аршак II создал город-убежище, и за короткий срок там собрались все недовольные. Нерсес Великий создал сотни монастырей и перетянул на свою сторону всю Армению.
Монастырь давал хлеб, кормил бедных, лечил больных, питал сирот и вдов, обучал и воспитывал детей народа. Он получал средства от народа и возвращал их с процентами. Кроме того, и сам народ был членом монастырского братства. Народ был доволен и не сетовал.
Роптал царь, роптали нахарары. Царь не мог не заметить, что в его государстве образовалось другое государство — духовное, которое незаметно и постепенно захватило не только большую часть земель, но и перетянуло на свою сторону народ. Оно стало наивысшим и наисвященнейшим авторитетом, перед которым преклонялись все.
Царь ужаснулся и понял, хотя и поздно, что церковь настолько усилилась и окрепла, что держит в своих руках уже и царский престол.
Быть может, бедствие наступило бы не очень скоро, если бы аршакидские цари проявили большую терпимость, и если бы духовная власть не вышла за пределы своих узко духовных задач. Но духовенство стало смело вмешиваться в дела государства.
Таинство исповеди раскрыло широкую дверь перед духовенством для того, чтобы войти в душу народа. Знакомясь посредством исповеди с поступками отдельных людей, духовенство стало судить их за преступления и наказывать. Наказания, которые вначале ограничивались только церковным покаянием, в конце концов приняли характер светского осуждения. Церковь практиковала как штраф, так и порку. Порке не подвергалась лишь знать — свободные, а штраф налагался на людей всех сословий. Так наказывала церковь преступников.
Церковь вмешивалась и в такие споры, которые носили чисто гражданский характер: например, в вопросы о разделе земель, дела об их захвате и т. п. Церковь вмешивалась и в дела по разверстке и сбору налогов. Во всем этом она действовала не в качестве мирового посредника, а в роли правомочного лица.
Все это полностью противоречило правам царя и нахараров, которые считали только себя господами и судьями страны.
Аршакидский царь не привык признавать какую-либо иную власть, кроме своей. Аршакидский царь был священной персоной. В его лице соединялось небесное и земное, духовное и светское. Христианство же отняло у него эту священность особы и передало патриарху церкви. Этого он не мог простить.
Патриарх церкви считал себя полновластным попечителем своей паствы и своего государства. В трудных случаях он вел переговоры с другими государствами и заключал мирные договоры. Он выступал судьей, когда между царем и его нахарарами возникали несогласия. Словом, он участвовал во всех государственных делах и смело протягивал руку к царскому двору, вмешиваясь даже в семейную жизнь царя.
Однажды, во время одного из ежегодных празднеств, когда царь Тиран хотел вместе со своими вельможами войти в церковь, навстречу ему вышел католикос Иусик и закричал: «Куда ты идешь? Ты недостоин! Уйди!..» Царь не мог этого снести. По его приказу католикоса забили палками насмерть…
Вопрос заключался не только в упорной борьбе между страной и новой религией. Вопрос был чисто экономический — о владении собственностью. Тут боролись противоположные интересы церкви и государства. Боролись духовная и светская власти. Это явно бросается в глаза потому, что когда царь Пап отравил за своим столом Нерсеса Великого, то после его смерти Пап переменил все те порядки и уничтожил все те учреждения, которые были созданы великим патриархом и о которых говорилось выше.
Пап начал преследовать духовенство и сократил его непомерно возросшее число. Он закрыл женские монастыри и приказал всем монахиням, давшим обет безбрачия, выйти замуж. Он закрыл все благотворительные учреждения: дома для сирот, для прокаженных, богадельни, дома для бедных и т. д. Издал приказ, чтобы бедным и нищим не помогали и не подавали больше милостыни. По мнению Папа, вся эта благотворительность развивала в народе лень и дармоедство и вместе с тем поднимала авторитет церкви — этой попечительницы дармоедов.
Уничтожив названные учреждения, Пап уничтожил, и источники доходов, на которые они существовали. По новому закону, он запретил давать церкви тот «духовный плод», ту «десятину», которая издавна была установлена его предшественниками. Кроме того, он конфисковал в пользу государства большую часть церковных земель. Вместо установленных Трдатом «семи земель» оставил церкви только «две земли», а пять присоединил к дворцовым имениям. И в соответствии с этими «двумя землями» оставил в каждом селе по два священника и по два диакона, а остальным приказал поступить на военную службу. Сыновей, братьев, родственников священников и диаконов, которые до этого времени были освобождены от налогов, он обложил податями. Он упростил брачные законы. Дал свободу вероисповедания: желавшие снова могли отправлять свои древние языческие обряды и даже поклоняться кумирам.
И, конечно, молодой царь совершил бы еще и другие нововведения, если бы вероломный византийский меч не умертвил его во время пиршества.
3. Различные категории церковников
Духовенство в Армении не могло представлять собою тесного и мощного единства, так как оно состояло из различных, друг другу противоположных элементов. Это хотя и ослабляло силу церкви, но давало возможность светской власти пользоваться ее разногласиями.
Каким образом возникли эти различные элементы?
Для распространения христианства в Армении Просветитель привез с собою из Кесарии в качестве помощников группу иноплеменных иноков. Позднее, соответственно возросшим требованиям, он увеличил их количество, приглашая новых. В одном из своих писем Просветитель вместе с Трдатом сообщал Нюстрийскому епископу Елиазару и Агденскому епископу Тимофею следующее:
«…В особенности вы знаете, что для всех наших провинций нужны епископы и священники. И хотя кое-кто из духовенства уже прибыл сюда из разных стран и они находятся здесь, но что значит их число по сравнению с шестьюстами двадцатью провинциями Армении? На каждую провинцию едва выпадает по одному или по два священника. А молодые люди Армении еще учатся в школах, никто из них еще не подготовлен для священнослужения. Поэтому, умоляем вас, не гнушайтесь нами, но с полной уверенностью спешите прибыть к нам с людьми, которых мы к вам послали. И если прибудете, то мы предоставим всю страну Гарк и Екелаец; где вы поселитесь, та епархия и будет вашей, и унаследуют ее те, которые будут после вас».
Из последних слов ясно, что приглашаемые в Армению чужестранные церковники могли получить желаемую епархию в собственность, основывать там духовную власть или религиозное братство и затем оставлять все это в наследство своим преемникам.
Как велико было общее число этих пришельцев, неизвестно; однако достоверно известно, что при жизни Просветителя в различных епархиях Армении было размещено до четырехсот епископов, не считая священников и иеромонахов. Если даже считать эту цифру, данную Агафангелом, преувеличенной, то все же остается несомненным, что христианство привело с собою в Армению довольно большое количество иноплеменных церковников.
Как видно из вышеприведенного письма, школы времен Просветителя за короткий период его апостольской деятельности еще не успели подготовить достаточного количества церковников из армян. Упомянутые выше епископы были приглашены тогда, когда школы только, были открыты. Следовательно, в ту пору духовенство Армении если не целиком, то, несомненно, в большинстве своем, состояло из греков и сирийцев.
Из армян более или менее подготовленными были только дети языческих жрецов. Пройдя уже первоначальный курс учения, они поступали в школы, основанные Просветителем, и, получив христианское образование, быстро доходили до епископского сана. Но число их было столь незначительно, что по сравнению с чужестранцами они составляли незаметное меньшинство. Известно только двенадцать имен епископов, вышедших из жреческой касты, среди которых наиболее знаменитым был Албианос.
Хотя и до Просветителя в Армении тайно существовало христианство и даже были христианские монастыри, но последние издавна поддерживали только узко ограниченный круг монахов-аскетов, неспособных исполнять какую-либо должность в управлении только что организованной церкви. Церковное дело оставалось в руках чужестранцев.
Должности епархиальных епископов, а также настоятелей только что основанных монастырей в дни Просветителя поручались иноплеменным церковникам. Они организовывали монастырскую братию, конечно, из своих сородичей, быстро овладевали имуществом монастырей и настолько в них укреплялись, что впоследствии, когда понадобилось их удалить, они с большим сопротивлением покидали свои места.
Преследуемые на западе римскими императорами, привлекаемые на восток новыми возможностями молодой страны, толпы чужестранных монахов-авантюристов хлынули в Армению, где новообращенный царь с христианским рвением предоставил им шестьсот двадцать провинций. Полученные ими монастыри превращались в их собственность. Эти чужестранные монахи до такой степени хорошо знали Армению и ее достопримечательности через своих сородичей, заранее поступивших в армянские монастыри, что еще до прибытия на место предварительно уславливались с царем и патриархом о том, какую из епархий или какой монастырь они желали бы получить. Отсюда ясно, что не апостольский дух толкал их в Армению и не стремление распространить христианство, а только лишь корысть и щедрая готовность неопытной страны предоставить им у себя готовое убежище.
Зеноб Глак, по происхождению сириец, настоятель монастыря Иннакнян в области Тарон, в своем послания к сирийским епископам следующим образом описывал тогдашнюю Армению, призывая их приехать сюда:
«…Но если вы пожелаете прибыть в эту страну, то знайте, что она полна благ. Места равнинные, со сладостным воздухом и многоводны; со всех сторон на горах много замков. Страна эта имеет много лугов и медоточива. И подобно тому, как у евреев с неба падала манна, так и в этой стране она падает на леса и слаще меда, ее называют здесь газпе. Эта страна полна всяких благ; удобна и полезна для здоровья. Князья — люди верующие и не совершают злодеяний, любят нищих и пекутся о сиротах; любят заботиться о церквах и пекутся об их нуждах».
Вот каким образом образовались четыре различных категории духовенства.
Из армян: 1) парфянский элемент, то есть род Просветителя, 2) жреческий элемент, то есть духовенство, образовавшееся из сыновей жрецов. Из чужестранцев: 3) греческий и 4) сирийский элементы.
Остановимся на каждом из них.
Род Просветителя имел свое яркое прошлое, освященное чудесными и величественными преданиями, очень близкими народному чувству и верованиям, всегда для него памятным. Народ почитал этот род и признавал его за высший духовный авторитет. Это и было причиной того, что Армения считала именно этот род достойным патриаршего престола и всегда желал видеть в руке представителя этого рода посох своего верховного пастыря. Из этих чаяний возникло то, что сан католикоса[287] стал наследственной привилегией рода Просветителя.
Этот патриарший род всегда оправдывал доверие и надежды народа. Род этот навсегда остался незапятнанным и непорочным и весьма самоотверженно выполнял взятую на себя заботу. И насколько эта забота была близка и приятна народу, настолько она вызывала неудовольствие царей. С полным беспристрастием представители этого рода укрощали пороки царей и ограничивали их своеволие. Но, производя давление на царей, они никогда не изменяли царскому престолу. Патриотизм и идея защиты царского престола были высшими добродетелями этого рода.
Домашний быт патриарха в соответствии с его высоким положением отличался большой пышностью; он достиг своего наивысшего блеска при Нерсесе Великом. Царь в помещении патриарха не имел права садиться до тех пор, пока патриарх не указывал ему надлежащего места, между тем как патриарх в царском дворце мог свободно сидеть на любом месте. При патриархе находилось множество служителей и разных должностных лиц. Двенадцать епископов были его постоянными спутниками и советчиками. Его обслуживали четыре иеромонаха-вардапета и шестьдесят иереев. Из светских людей до пятисот человек сидело за его столом. Кроме того, патриарх имел еще и других прислужников, эконома, ключаря, палатного епископа, главного писца, гостеприимца, иеродиакона, вардапета-секретаря, домашнего священника и т. д.
Патриарх не замыкался при всех преемниках Просветителя в уединении того или иного монастыря. Он не отделялся от мира, и его дом всегда был открыт для посетителей. Потомки Просветителя, подобно Аврааму, Исааку и Иакову, в одно и то же время являлись отцами народа и отцами своих семейств. Они проживали в мирной семейной обстановке.
Пышен был почет, который оказывался патриарху, когда глава церкви куда-нибудь отправлялся. Его сопровождала целая армия. Несколько сот вооруженных воинов из числа его телохранителей охраняли его. Впереди и позади него ехали на мулах несколько сот епископов, вардапетов, иереев и иных церковников. Сам патриарх сидел либо на белом муле, либо в колеснице, которую везли два белых мула. Так мог ездить, кроме патриарха, только царь. Седла на мулах и сбруя украшались золотом. Патриарх обычно закрывал лицо черным прозрачным покрывалом. Впереди несли патриарший посох и в качестве священного знамени высокую хоругвь.
Вполне понятно, что подобная роскошь в организации быта и церемоний требовала огромных расходов. Все доходы пятнадцати провинций, предназначенных армянским царем патриарху, едва могли покрыть расходы его двора. Кроме этих провинций, двор патриарха имел еще свои собственные владения.
В силу своего происхождения из высокого нахарарского рода, Григорий Просветитель имел много владений в Армении. Его отец Анак, переселившийся из Персии в Армению и подчинившийся царю Армении Хосрову, был любезно принят последним и получил в дар обширные владения. После измены Анака эти, владения были отобраны в казну. Но Трдат вернул их наследникам Анака, среди которых был и Григорий Просветитель. В числе этих владений было местечко Арамонс в провинции Котайк, служившее Просветителю зимней резиденцией, которое впоследствии перешло к его наследникам.
Просветитель получил от Трдата также многие из тех местечек и сел, которые прежде принадлежали жрецам. Одним из таких сел было селение Тордан в провинции Даранали, служившее летней резиденцией патриаршего дома. В языческие времена Тордан считался одним из священных мест Армении. Там находились храмы «Светлочудесных богов». Но Тордан стал еще привлекательнее с тех пор, как сделался местом отдыха неутомимого Просветителя Армении. Там находился священный сад, возделанный руками апостола Армении. Там патриарх проводил часы своего отдыха, и там нашли успокоение его прах и прах его преемников.
Жреческим владением было вначале и местечко Тил в провинции Екелеац. Оно находилось поблизости от известного Ериза. Река Гайль разделяла эти два знаменитых своими храмами места. В Тиле находилась статуя дочери бога Арамазда, богини Нанэ, а в Еризе — золотая статуя богини Анаит. Последняя послужила причиной тех мучений, которые перенес Просветитель от Трдата за то, что не пожелал возложить венок на голову языческой богини. Позднее, когда Трдат принял христианство, оба эти храма были разрушены Просветителем. Местечко Тил он получил в полную собственность. Там были помещены гробницы некоторых из его сыновей.
Итак, патриарший дом для покрытия своих огромных расходов получал весь доход пятнадцати провинций и, кроме того, на правах полной собственности пользовался доходами от своих сел и местечек.
Скопление такого большого числа владений в руках дома Просветителя явилось позднее причиной раздоров, возникших между его наследниками и последними царями из Аршакидов. Представители этой династии стремились уничтожить или по возможности ограничить землевладение нахараров, точно так же они старались если не вовсе захватить владения патриаршего дома, то, по крайней мере, значительно их сократить.
Однажды Нерсес Великий приехал в Тарон и остановился в Аштишатском монастыре с тем, чтобы затем осмотреть свои владения. Одновременно с ним Хайр Мардпет — главный евнух царя — тоже объезжал свои владения. Они встретились в Аштишатском монастыре. Хотя Нерсесу Великому было неприятно видеть лицо этого ужасного человека, тем не менее он велел приготовить обед, достойный его высокого звания. Этот евнух назывался «отцом» царя и, управляя женской половиной дворца царя, в то же время господствовал над его сердцем. Его влияние было настолько велико, что нахарары, ненавидя его, дрожали перед ним. Именно по его совету царь Аршак уничтожил целые нахарарские роды и захватил их имущество.
Перед обедом Хайр Мардпет прогуливался по красивой площадке у епископских покоев монастыря. Полный зависти и злобы, он разглядывал чудесные места, принадлежавшие Нерсесу Великому. Сердце его наполнилось черной завистью. Во время обеда, немного охмелев, он не смог не выразить своей досады. Он начал презрительно порицать царя Трдата и вообще аршакидских царей, говоря: «Зачем они отдали такие доходные места людям в женских одеяниях (то есть церковникам, носящим длинную одежду наподобие женской). Если только я, Хайр Мардпет, останусь в живых и дойду до царя, то все имеющееся здесь заставлю изменить и прикажу взять в казну монастырские земли, а этот монастырь превращу в дворцовые палаты…»
Дерзость главного евнуха сильно возмутила Нерсеса Великого. Не считаясь с высоким положением евнуха, он строго ответил: «Господь наш Иисус Христос заповедал нам не посягать на чужую собственность; он не допустит, чтобы во имя алчности были захвачены священные места. А клеветник, неуважительно произносящий угрозы, никогда не достигнет своих злых целей, бесчисленные грехи, им совершенные, предотвратят его бессовестные намерения!»
Главный евнух ничего не ответил.
За столом сидел Шавасп Арцруни. Наглое оскорбление, нанесенное святейшему патриарху, сильно разгневало молодого князя. Но он сдержал свой гнев.
После обеда, когда главный евнух сел в свою колесницу, князь отправился его провожать. Они спустились с высот Аштишатского монастыря в густой лес ущелья Евфрата. Заманивая Мардпета, князь сказал, что видел в этом лесу красивых белых медведей. Главный евнух сошел с колесницы и сел на коня с намерением поохотиться. Когда они углубились в лесную чащу, князь поразил наглеца стрелой в спину и скрыл его труп в кустах.
Правда. Шавасп Арцруни имел и другие причины, толкнувшие его на это убийство.
Пока род, Просветителя вел напряженную борьбу с царями, в Армении росли и усилились церковные, элементы, противоборствующие патриаршему дому. Их усилению содействовала светская власть, стремившаяся ослабить влияние рода Григория Просветителя. Насколько этот род был любим народом, настолько он стал невыносим царям. Быть может, эта вражда была бы не столь ожесточенной, если бы патриарший дом находился вне Айрарата, в какой-либо другой провинции. Аршакидские цари, не позволявшие никому из своих сородичей, кроме престолонаследника, проживать в Айрарате, вынуждены были мириться с тем, что рядом с их двором находилась священная обитель патриарха, пользовавшаяся большей славой и почетом, чем двор самого царя. Те, кто был недоволен царем, находили защиту и убежище у патриарха. Таким образом, патриарший дом являлся соперником царя, умалявшим авторитет царского престола.
Непрерывные столкновения с патриархами привели аршакидских царей к мысли освободиться от морального давления со стороны рода Просветителя и создать новый католикосат, который во всех отношениях подчинялся бы власти царя. Тиран II был первым царем, начавшим осуществление этой задачи. Ему помогли некоторые обстоятельства.
Когда католикос Иусик пал жестокой смертью от руки. Тирана, среди потомков Просветителя не нашлось ни одного человека, достойного занять патриарший престол. Оба сына убитого католикоса — Пап и Атанагинес, рожденные от дочери того же царя Тирана и женатые на двух его сестрах, получили вследствие своей близости к царскому двору военное воспитание и не отличались поведением, необходимым для будущего католикоса. Сын же Атанагинеса Нерсес еще учился в Кесарии.
Пользуясь этим обстоятельством, Тиран приказал рукоположить в католикосы некоего епископа Парена, или Парнерсеха, из Аштишатского монастыря. Этот епископ полностью подчинялся царю, считался во всех делах с его волей и даже льстил ему.
К этому времени жадность церковников возросла беспредельно. История сохранила несколько отвратительных примеров того, как эти отрекшиеся от мира и удалившиеся от земной суеты монахи стремились разбогатеть и стать владельцами сел и имуществ.
Сын упомянутого католикоса Парена, епископ Иохан, являл собою образец такой жадности. Этот лицемер представлялся глубоким аскетом и человеком, чуждым честолюбия. Он одевался в лохмотья, ходил полунагой и даже не носил обуви — летом обертывал ноги рогожей, а зимой обматывал их веревками. В этом странном одеянии он часто являлся перед царем Тираном и начинал чудить и кривляться. Становясь на четвереньки, изображал верблюда, подпрыгивал и приговаривал: «Я верблюд… повезу на себе грехи царя… кладите на меня царские грехи!»
Царь же взамен своих грехов накладывал ему на спину дарственные грамоты на села и земельные участки. Так разбогател он сам и обогатил свой монастырь.
Насколько род Просветителя был строг и беспристрастен в своем отношении к высшей светской власти, настолько церковники были лицемерны и угодливы. Насколько род Просветителя был благороден и великодушен, настолько эти раболепны.
Продажа духовных должностей носила у этих обманщиков крайне безобразный характер. Однажды тот же епископ Йохан встретил по дороге хорошо одетого молодого человека на красивом коне. Конь понравился преосвященному. Остановив молодого человека, он велел ему сойти с коня. Молодой человек подчинился его требованию. «Преклони свою голову, — сказал путнику епископ, — я рукоположу тебя в священники». Удивленный путник отвечал: «Я разбойник, убийца и злодей, я недостоин такого сана!» И действительно, всадник возвращался после только что совершенного грабежа. Но епископ, не обращая внимания на возражение, насильно сорвал с путника верхнюю одежду, набросил на него рясу и, возложив на его голову руку, молвил: «Посвящаю тебя в сан иерея, теперь будешь священником в своем селе!» Затем сел на коня, принадлежавшего молодому человеку, и, удаляясь, сказал: «А это пусть будет мне вознаграждением».
Ведь это был сын католикоса! Как смел молодой человек возражать ему!
Ошеломленный и смущенный разбойник, возвратившись домой, рассказал жене о своем приключении. Жена смеясь, напомнила ему, что он даже не крещен; какой же он священник? Разбойник вынужден был отправиться в монастырь и сообщить об этом епископу. Когда молодой человек заявил, что он пока еще нехристь, преосвященный схватил кувшин с водой, вылил его на голову разбойника, говоря: «Вот ты и крещен, можешь идти домой».
Никакая святыня не могла обуздать корыстолюбие этих алчных людей. Придворный священник царя Аршака по имени Мрджюник совершил беспримерное преступление, за что получил село Гомкунк в области Тарон. Будучи подкуплен второй женой царя, царицей Парандзем, он в чашу со священным причастием подсыпал яд и поднес его первой жене царя — Олимпиаде, которая тут же умерла.
Высшее духовенство из одной крайности впадало в другую. Потомки Просветителя стремились господствовать над царями и даже применяли по отношению к ним насилие. Католикосы других фамилий сделались беспрекословными исполнителями царской воли.
Из этих фамилий с течением времени особенно выдвинулось жреческое поколение, которое мы выше назвали жреческим элементом. Среди них выделялся род Албианоса, начиная со времен Просветителя и Хосрова II. Он наследственно держал в своих руках Маназкертское епископство.
Род Албианоса существовал издревле. Представители этого рода, вышедшего из жреческих кругов, все еще сохраняли под личиной христианства свои старые языческие обычаи, по крайней мере в своих отношениях к царю. Старые жрецы, хотя и в новом священническом обличии, знали, как следует обращаться с царем. И цари стали их выдвигать и усиливать.
Преемники Албианоса открыто соперничали с домом Просветителя, всегда сохранявшего свою безупречность. Они стремились захватить патриарший престол, считавшийся собственностью рода Григория Просветителя. Лицемерие, происки, потакательство прихотям царя и нахараров — вот те главные средства, с помощью которых они стремились добиться своей цели, в отличие от благочестивых преемников Просветителя.
И царю и нахарарам нужны были такого рода исполнители их желаний, но не беспристрастные уважающие религию католикосы, похожие на преемников Просветителя, которые представляли противостоящую светской власти большую силу.
Льстецы одержали победу.
После печальной смерти Нерсеса Великого патриарший престол занимали по очереди католикосы Иусик, Завен, Шахак и Аспуракес. Все четверо были сыновьями жрецов из потомства Албианоса.
Подражая во всем высшим представителям светской власти, эти католикосы превратили религиозное установление в своего рода нахарарство и сами жили как нахарары. Ездили на конях, украшенных золотой сбруей, чего не подобало делать духовенству, — обычно духовные лица ездили на мулах: католикос на белом, а те, которые были ниже его саном, на мулах иной масти. Одевались в собольи и горностаевые меха, что было также запрещено духовенству. Носили одежды, изукрашенные цветными лентами, тесьмой и золотыми кисточками. Они довели свое щегольство до такой крайности, что для удовлетворения своих безудержных страстей начали даже носить военную одежду. Завен первый надел военные доспехи, его примеру последовали преемники.
Пока высшая духовная власть после падения дома Просветителя находилась в столь неприглядном состоянии, в Армении втихомолку постепенно стали появляться и усиливаться чужестранные элементы духовенства — греческий и сирийский.
В начальный период проникновения христианства в Армению вследствие отсутствия местных церковнослужителей чужестранцам поручались даже епархиальные епископства, причем управление каждого епископства представляло собой своего рода самостоятельную, самодовлеющую власть, передающуюся по наследству. Поэтому в дальнейшем должности епархиальных епископов стали отбираться у чужестранцев и постепенно передаваться церковникам из армян. В руках духовенства из чужестранцев оставались только монастыри, братства и пустыни.
Чтобы судить, каково было число чужестранцев в каждом монастыре, достаточно привести лишь один пример. Когда святой Епифан покинул Армению и вернулся в Грецию; оставив созданные его стараниями церковные братства, он увел с собой только, лично им подготовленных учеников в количестве пятисот человек.
Современник, один из летописцев, так описывает жизнь пустынников:
«…Они жили в пустынях, скрывались в пещерах, в расселинах скал и ямах. Имели только одну одежду. Ходили босые, питались травами, бобовыми растениями и корнеплодами. Наподобие зверей, блуждали они по горам, облаченные в козьи шкуры, и, ради любви к богу скитаясь по пустыням, жестоко страдали от холода, голода, жары и жажды. И все это они переносили терпеливо, считая наш земной мир суетным… Подобно стаям птиц, ютились они в расселинах скал, в глубинах пещер, не имея никаких вещей и никакой собственности, не заботясь о своем теле».
Чужестранные иноки, заполнившие пустыни и монастыри Армении, были либо аскетами, религиозность которых доходила до крайнего фанатизма либо членами религиозных братств; братства эти, обладая крепкой организацией, энергично присваивали доходы страны в пользу своих монастырей.
Пустынники-аскеты, самозабвенно исповедуя отказ от жизни и мирских радостей как единственную спасительную идею, своим мертвящим примером убивали в народе жизнерадостность, энергию и всякое стремление к прогрессу. Развивая в народе уныние и сознание тщетности всего земного, они отрывали своих последователей и от мира и от деятельности. Недаром народ прозвал их «травоядными», как бы приравнивая к животным.
Своей проповедью покорности и смирения они убивали в душе народа героизм. Насколько были невыгодны такого рода проповеди с точки зрения народных интересов, об этом легко догадаться, если принять во внимание географическое положение Армении, если вспомнить, каких соседей имела она и какими варварами была окружена. Народу, который ежеминутно с мечом в руках должен был следить за движением врага, этому народу внушали: «Положи меч, удались в пещеры и молись о своей душе!.. Мир не стоит того, чтобы о нем заботился человек».
Трдат Великий был первым, который внял этим проповедям и, вложив в ножны меч, не раз наводивший страх на соседей, уединился в пещерах горы Сепух.
Но соседи лучше него понимали свое дело. Об этом история дает нам весьма своеобразный и весьма характерный для тех времен пример.
Когда внук Просветителя, католикос Григорис, распространяя христианство, явился в Албанию и предстал там перед царем массагетов Санесаном, то в своей проповеди, в числе прочих назиданий, он утверждал, будто «богу ненавистны грабеж, захват, убийство, жадность, покушение на чужую собственность и т. п.» Ему ответили сердито: «Если не будем грабить, если не будем захватывать чужое имущество, то чем же мы и множество наших воинов должны жить?» Затем царь Санесан и его вельможи стали размышлять: «Явившись к нам с такими проповедями, он хочет лишить нас храбрости при добывании, необходимых для жизни средств; если мы послушаемся его и примем христианство, то иссякнут источники нашего существования». И добавили: «Это хитрость армянского царя; он прислал к нам этого человека, чтобы с помощью христианского учения прекратить наши набеги и приостановить наши походы на его страну. Давайте убьем этого человека, а сами пойдем походом на Армению и обогатим нашу страну добычей…»
Так и сделали. Божьего человека привязали к хвосту дикой лошади и пустили по равнине Ватнян.
Теперь ясно, каких соседей имела Армения. Но ведь албанцы были еще одними из лучших соседей. А армянам предлагали бороться с такими варварами лишь только христианским смирением.
Большая часть чужестранных иноков были, как уже сказано, аскетами, пустынниками, которые своим мертвенным примером убивали все живое. Остальные входили в разного рода церковные братства, овладевшие монастырями. Насколько первые презирали жизнь и радости бытия, настолько последние использовали все средства для обогащения своих монастырей.
Достойно сожаления, что именно они оказались учителями армян. В школах, учрежденных Просветителем в дни Трдата, и в школах, основанных Нерсесом Великим при Аршаке II, господствовали греческий и сирийский языки, и все преподавание велось с помощью греческих и сирийских книг. Задача обучения состояла в том, чтобы познакомить учеников с христианством и его священными книгами, а последние были написаны на этих двух языках, ставших языками школы. Армянский язык, армянское письмо и литература были изгнаны из школ Армении, так как еще не существовало священных книг в армянском переводе, а армянский литература оставалась по содержанию языческой, и потому ею пренебрегали.
Эти греческие и сирийские школы, руководимые греческими и сирийскими клириками, могли оказаться весьма опасными, если бы их влияние вышло за пределы монастырских стен и распространилось среди народа. Но они находились только в стенах монастырей, и народ в них не обучался; школы готовили только церковнослужителей, воспитанных на греческом и сирийском языках.
Эти чужие, чуждые и непонятные армянину языки господствовали в армянских церквах. Все священные книги, молитвы и песнопения читались и пелись на этих языках. Народ в них ничего не понимал и не видел от церкви никакой пользы. Это и было причиной той исключительной медлительности, с какой христианство распространялось в Армении.
Армянский язык сохранялся в старых языческих песнях, которые все еще пелись народом и которые он по-прежнему любил. Армянский язык сохранялся в старых языческих обрядах, которые еще не были забыты народом. Армянский язык оставался в устах народа, подвергаясь преследованию со стороны чужестранного духовенства.
После всего этого становится понятным, какое разрушительное влияние могли иметь многочисленные монастыри с их чужестранными клириками, когда народ свое умственное воспитание и знание вынужден был получать из чужих рук.
Впрочем, чужестранное духовенство недолго оставалось под своим аскетическим покровом. Богатство постепенно сняло с него маску фальшивого благочестия. Монахи, презиравшие мирскую славу и радости, те, что прежде прикрывали свою наготу лохмотьями, ходили босые, питались кореньями и растениями, по мере того как богатели сами и обогащали свои монастыри, начали не только вести чрезмерно расточительную жизнь, но и стали чрезмерно тщеславны.
В своем месте упоминалось, что последние цари из Аршакидов отчасти исправили ошибку Трдата тем, что не разрешили чужестранному духовенству занимать церковно-административные должности, как например, должности епископов епархий, но терпели их пребывание в монастырях. Высшая духовная власть — католикосат — была привилегией дома Просветителя, лишь позднее перейдя на время к роду Албианоса. Должности епархиальных епископов стали привилегией коренных жителей армянского происхождения. Исключения бывали очень редки.
В последние дни царствования Арташеса III чужестранное духовенство попыталось занять не только епархиальное епископство, но даже захватить в свои руки патриарший престол. Тяжелые обстоятельства того времени помогли им. Династия Аршакидов была в состоянии упадка. У царя уже не было прежней власти. Среди нахараров свирепствовал раскол. Они восстали против Аршака и предпочли нести на себе тяжелый гнет чужеземцев, чем подчиниться своему царю. Армения находилась в агонии. Не хватало лишь последнего удара, который и был нанесен персом последнему представителю дома Аршакидов.
Чужестранное духовенство постаралось воспользоваться все этим.
Отныне выборы католикоса, зависевшие издревле только от царя Армении, нахараров и армянского народа, оказались в руках вероломных чужестранных владык. Сурмак был первым, подавшим пример измены; он занял патриарший престол по приказу персидского царя Врама. Его примеру последовали сирийцы Бркишо и Шмуэл, опять-таки по назначению персидского царя. С какой жадностью эти предатели стали расхватывать епархии и овладевать собственностью епископов, об этом история сохранила факты, достойные сильного осуждения.
Эти изменники стали позорным оружием в руках персидского царя и дали ему возможность деспотически вмешиваться во все порядки свободной армянской церкви. Даже право рукоположения епископов и передачи им епархии перешло в руки персидского царя. Армянский католикос оказался другом и сотрудником персидского «марзпана», которому в то время была подчинена Армения.
Все эти печальные события произошли тогда, когда последний представитель дома Просветителя, Саак Партев, был еще жив. Хотя сириец с помощью деспотической руки персидского царя и отнял у него патриарший престол, Саак успел завершить великое дело спасения Армении. Он сошел со сцены, но победа осталась за ним. Будучи последним преемником Просветителя, он нанес последний и самый сильный удар, которым сокрушил будущность чужестранного духовенства. Пророчески предсказав грядущие опасности, он успел соорудить против нихкрепкую стену. Правда, царский трои Аршакидов пал, патриарший престол подчинился персидской власти, но Саак все же спас церковь, спас народ.
Каким же образом?
Великий пастырь Саак Партев при участии своего сподвижника Месропа создал армянские письмена и новую письменность. Армянский язык приобрел господство в армянских школах и в армянской церкви. Армяне стали молиться и читать на своем языке. Это принесло смерть чужестранному духовенству. До этого времени, как мы видели, в армянской школе господствовали греческий и сирийский языки; греки и сирийцы были учителями армян. Когда был изобретен армянский алфавит, они были изгнаны. После перевода всех, священных книг на родной язык и церковь и школа стали подлинно национальными, и народ освободился от попечения чужестранного духовенства. А захваченный ими изменой католикосат просуществовал очень недолго.
Вот каким образом последний представитель рода Григория Просветителя, Саак Партев, заложил основы возрождения армян, основы «Золотого века», когда Армения снова ожила и когда пало господство тьмы…
Книга вторая

ОДИН НА ЗАПАДЕ, ДРУГОЙ НА ВОСТОКЕ
I. Патмос
Море было спокойно. Волны нежно ластились к скалистым берегам острова Патмос, точно боясь смутить его вечерний покой. Солнце уже начинало клониться к закату, а догорающие лучи его ласково скользили по усыпанному белыми камешками берегу и по красивым раковинам, как бы медля с ними расстаться.
Одинокий остров производил впечатление гриба, выросшего из-под воды. Остров был почти безводен: ни река, ни ручей не орошали его буйную зелень. Море своими влажными и обильными испарениями, точно животворная теплица, оживляло его вечнозеленую растительность. На неровной конусообразной поверхности острова пышно цвели и разрастались разнообразные растения. Вот своенравная смоковница, выбросив оголенные корни из расщелины утеса, покрыла его грудь своими широкими листьями. Местами виднеются, точно улыбаясь, ярко-пурпуровые цветы граната. Там и здесь гигантские кипарисы, поднявшись до неба, целуются с облаками. Лучи солнца не в силах проникнуть, в гущу их листвы, где царит ублажающая прохлада. Казалось, на этот пустынный остров еще не ступала человеческая нога; не было там и зверей. Лишь изредка белый кролик, подпрыгивая и боязливо озираясь, выскакивал из кустов и скрывался в их гуще. Даже птицы не осмеливались перелетать через неизмеримое пространство моря, чтобы приблизиться к негостеприимным берегам острова. И только дерзкие воробьи со своими крикливыми птенцами нарушали его глубокий покой беспокойным чириканьем и гамом.
Однако остров не был необитаем: на нем нашли себе приют трое людей.
Вот сидит один из них на берегу, на песке, и пристально смотрит в воду. Его острые глаза видят чистое дно. На дне лежит плетенка, похожая на рыбачью вершу. Он разглядывает эту плетенку. Вокруг нее — каменная преграда из небольших камней, чтобы волны не могли унести ее. Заливчик, где находится плетенка, сообщается с морем посредством протоки.
Немного поодаль, тоже на песке, сидит другой молодой человек и что-то мастерит. Перед ним кремневые осколки разной величины. Держа в руке один из таких осколков, он оттачивает и шлифует его на другом камне. Иногда он пробует пальцем остроту лезвия. Он похож на тех первобытных людей, которые некогда детали для себя каменное оружие. Но то, над чем он трудился, не было оружием, хотя и было похоже на секиру, — он изготовлял топор. Устав, он стал глядеть в морскую темно-синюю даль, подперев рукой голову.
Оба молодых человека лишь изредка перекидывались словами. Каждый из них был погружен в свои думы. Рваная одежда, бывшая когда-то монашеским облачением, имела неподобающий вид. Она висела на них лохмотьями и, за отсутствием иглы и ниток, местами была связана узлами, местами заколота взамен булавок острыми рыбьими костями. Было время, когда эта жалкая одежда имела приличный и даже роскошный вид. Теперь же ее пестрые лохмотья словно говорили друг другу: «Если мы ниспадем, то что же останется на этих бедных людях?..»
Несмотря на это жалкое одеяние, наружность молодых людей внушала невольное уважение. Их спокойные лица выражали удовлетворение, их радостные взоры были озарены неземным утешением. Видно было, что они давно примирились со своим незавидным положением.
Оба были почти одинакового возраста: каждому из них было не более двадцати пяти лет. Но насколько один из них был крепок и силен, настолько другой казался изнеженным и слабым. Один был смугл, другой же — светлый, с разбросанными по плечам длинными кудрями. Первого звали Тираном, сокращенно Тирэ, второго — Ростом. Ростом сидел у берега и разглядывал плетенку. Его синеватые глаза видели, что делается в ясной глубине воды.
— И хитры же эти негодные рыбы, — прервал он долгое молчание, — подплывут к верше, будто обнюхивают, повертятся около нее и — прочь! Жаль, что нет хотя бы маленького кусочка железа, я бы сделал для них крючок…
Ростом поднялся и, подойдя к Тирэ, присел возле него.
— А у меня работа сегодня идет хорошо, — сказал Тирэ. — Вот уже кончаю один топор, скоро примусь за другой… Солнце еще высоко, — он взглянул на небо и добавил: — Очень плохой камень… день пользуешься и уже не годится, то и дело приходится точить!..
Он стал пальцем испытывать острие топора.
— Точи, дорогой Тирэ, тупой топор утомляет его, а ведь он неутомим в своем труде, — сказал Ростом, тяжело вздыхая. — Сегодня утром ты еще спал, вижу: вышел из своей пещеры, прошел тихонько мимо нас, чтобы не разбудить. Затем направился к источнику, который чудом он открыл, когда мы не находили питьевой воды. Умывшись у источника, он стал на колени и долго молился. Потом взял топор и пошел в лес работать. Я долго прислушивался, как стучит его топор и как сам он поет псалмы. Я не мог больше спать. Солнце только еще встало, он уже за работой, и вот оно закатывается, а он все еще трудится… Не могу без слез смотреть на него, дорогой Тирэ, — как он похудел, как обессилел… Зачем он так утомляет себя!
— Ему не терпится, не терпится… Ведь мы, дорогой Ростом, давно уже здесь как заключенные и не ведаем, что теперь происходит в Армении. Кто знает, что делают царь, нахарары и какие еще безобразия творит Шапух?.. Мы решительно ничего не знаем!.. Помнишь, в каком тяжелом положении мы оставили нашу родину? Поэтому как он может терпеть?.. Его сердце там, на родине. Его неутомимая душа стремится вмиг перелететь безбрежное пространство моря, достигнуть любимой страны и залечить ее раны… Все его мысли там, в Армении.
— Ах, когда же он достроит свою лодку! — воскликнул Ростом, и на его красивом лице появилось тоскливое выражение.
— Кончит, скоро кончит, — ответил Тирэ с уверенностью. — Новый месяц нас здесь уже не застанет.
Эти слова ободрили Ростома, и он, протянув руку, обратился к товарищу:
— Дай-ка я тебе немного помогу!
— Возьми вот этот камень.
Ростом взял обломок необработанного камня и стал его обтачивать.
— Все же работа утомляет его меньше, чем бессонница, — продолжал Тирэ. — Он почти совсем не спит. Я не раз замечал, как он встает ночью и в раздумье молча ходит по острову. Обойдет его несколько раз, затем сядет у берега и неподвижно вглядывается вдаль… Смотрит в ту сторону, где оставил потерянную славу… Смотрит туда, где осталась его паства и церковь… И так он долго сидит, пока не взойдет солнце и пока первые лучи не напомнят ему, что пора снова браться за работу.
Красивое лицо Ростома снова омрачилось. Положив на землю осколок камня и обратив печальный взор на товарища, он ответил:
— Не спокоен он! Не спокоен сердцем и душой. Можно ли уснуть в таком состоянии? Чтобы не опечалить нас, он старается скрыть свою тоску. Он считает нас все еще малодушными, не способными разделить его чувства. Поэтому ищет утешения в молчаливом самоистязании…
Он прикоснулся рукой ко лбу, отвел в сторону густую прядь волос, упавшую ему на лицо, и затем продолжал:
— Так нельзя больше жить, Тирэ! Он почти не ест ничего. Он совсем изнурил себя. Вчера он мне сказал: «Поищи, Ростом, нет ли здесь грибов». Я с радостью бросился искать, и мне удалось найти несколько штук. Но будет ли он есть их?.. Несколько дней назад он заговорил об инжире. Я заметил одно деревцо инжира; ежедневно ходил и поглядывал снизу, не поспели ли плоды. Деревцо росло на высокой скале. Вчера рано утром я пошел опять, с большим трудом вскарабкался на скалу и сорвал спелые плоды. Когда я поднес ему инжир на разложенных листьях, он очень обрадовался и благословил меня. А сегодня вижу: как положил я инжир, так он и лежит нетронутым, — не съел ни одного плода.
— Должно быть, забыл.
— Да, он теперь быстро все забывает.
— Это понятно…
Разговор двух молодых людей прерывался иногда глухим стуком, доносившимся из глубины леса.
— Он еще работает?
— Да, работает.
— Как ты думаешь, Тирэ, вот он мастерит лодку, доплывем мы на этой лодке до материка? Я немного…
— Ты немного сомневаешься? Знаешь, Ростом: если он расстелет свой плащ на воде и объявит: «Садитесь, поедем», — я с твердой уверенностью сяду и поеду. Я тебе скажу другое, Ростом: суша не так далеко, как тебе кажется.
— А ты откуда знаешь?
— Он сам мне сказал. Как-то раз он заметил птиц, — они летели к нашему острову. «Это не морские птицы, — промолвил он, — они летят с материка. Суша от нас недалеко».
Ростом задумался.
— Да, это очень верный признак, — сказал он убежденно. — Однако не пора ли нам в лачугу?
— Пойдем разведем огонь, приготовим что-нибудь поужинать до его прихода, — ответил Тирэ и стал собирать сделанные им каменные орудия.
Ростом снова вернулся к своей верше; веревкой, сплетенной из гибких ветвей, он притянул ее к берегу. Затем, засунув в нее руку, стал вынимать рыбку и класть в маленькое лукошко. Когда он вторично запустил руку, то вытащил двух раков. «Как это вы заблудились и попали сюда?» — сказал он и тоже бросил их в лукошко. Набрав достаточно рыбы, он поставил вершу на прежнее место и, взяв лукошко, покинул берег. Оба товарища направились к лачуге, продолжая прерванный разговор.
В той стороне леса, откуда был слышен стук, работал человек, о котором говорили молодые люди.
Это был мужчина высокого роста, почтенной наружности и с глубокомысленным, благородным взором. Пышная борода, блестевшая, как черный янтарь, покрывала его могучую грудь. В глазах горел огонь. Вероятно, очень красивый в молодости, он и сейчас был красив. Во всех его движениях чувствовались энергия и величие. Он сочетал в себе что-то неземное и земное в его возвышенном благородстве. Его одежда духовного пастыря имела жалкий вид. Ноги были обуты в сандалии из древесной коры. Но даже в столь убогом одеянии он все же был похож на небожителя, которого, несчастные обстоятельства обрекли на каторжное существование…
Умелыми движениями руки он взмахивал тяжелым каменным топором, и громадное дерево кряхтело под его ударами. Топор скорее скоблил, чем тесал. Тем не менее его удары, выражавшие упорное и неустанное терпение, оставляли на толстом бревне следы большой работы.
Дерево, лежавшее перед ним, как гигантская рыба, было царем и патриархом леса. Прошли века, пока оно вырастало, превращаясь в гиганта, и много времени пришлось употребить, пока тупой каменный топор с помощью неутомимой и терпеливой руки отделил его от корня и повалил на землю.
После этого человек стал его долбить, чтобы сделать лодку. Он работал с такой быстротой и энергией, что, казалось, если бы ногти его были из железа, он перестал бы пользоваться каменным топором. Работа уже подходила к концу. Борта лодки были выравнены, а середина выдолблена. Еще несколько недель работы, и лодка будет готова. Он был уверен, что с ее помощью освободится из заточения, сразится с морскими волнами, чтобы отправиться на родину, куда его призывали долг и бедствия страны.
В куче стружек валялось много каменных топоров, притупившихся и ставших непригодными. Камень износился, но энергия этого человека, его выдержка оставались несокрушимыми.
Он уже кончил свой сегодняшний дневной труд. Положил топор, прошелся вдоль лодки и внимательно осмотрел ее днище. Затем взял свой плащ, брошенный тут же на щепки, накинул его на себя и величавой поступью стал спускаться к берегу.
Узкая тропа, протоптанная его ногами, бежала среди кустов и зарослей, вилась по мшистой скале и исчезала в тенистой чаще леса. Он шел по этой тропе. Назойливые иглы терновки цеплялись за его одежду. Порой ветви царственного дуба били по его прекрасному лицу. Но он ничего не замечал. В глубокой задумчивости прошел он все расстояние до пещеры. У ее входа была скамья, сплетенная из свежих прутьев. Он опустился, на скамью и стал озабоченно смотреть на заходящее солнце. Казалось, его взор стремился обнять бесконечное пространство, через которое прошло светило вселенной…
И сам он когда-то, как солнце, тоже излучал свет и тепло на целую страну… А теперь? Теперь он печальный изгнанник на необитаемом острове. Неумолимое море создало вокруг него непроходимую преграду, и непрерывные удары волн как будто повторяли одно и то же: «Ты останешься здесь, пока мы существуем».
Пещера, у входа в которую он сидел, была бы подходящим жилищем для какого-нибудь отшельника, отказавшегося от радостей мира и ищущего утешения в тиши. Быть может, она годилась бы для морского бога, который, гонимый громовыми стрелами Арамазда, тешил свою бессильную ярость, разбивая о подводные скалы корабли, пытавшиеся подойти к острову и нарушить его покой. Но разве мог жить в ней человек, жаждавший мысли и дела?
Как все в жизни меняется!..
Было время, когда он был молодым, статным юношей, не имевшим себе равного в стране. Он был украшением и радостью царского двора. Двоюродный брат царя, он занимал должность начальника двора. Разодетый в златотканую одежду, с поясом, разукрашенным драгоценными каменьями, с мечом в золотых ножнах, он всегда стоял возле царя в часы торжественных приемов. От матери он унаследовал царскую кровь, а по отцу был внуком великого патриарха Армении. Патриарх скончался. Собрались князья, собралась вся знать. «Дай нам первосвященника», — сказали они царю. Царь собственноручно снял с него златотканую одежду и пояс в драгоценных украшениях, снял меч в золотых ножнах и, представив юношу народу, сказал: «Пусть внук вашего первосвященника будет вашим патриархом». Обрадовались князья и вельможи. Но юноша отказывался, говоря, что он недостоин такого высокого сана… Тогда его стали просить князья, вельможи, вся знать. Юноша продолжал отказываться. Однако царь не внял его просьбам; он приказал брадобрею срезать его прекрасные кудри, ниспадавшие на плечи. Во время этого обряда всплакнули князья, вельможи и сам царь. Красота померкла, придворное изящество скрылось под черной одеждой священнослужителя…
Храбрый воин, украшение дворца, он стал украшением церкви. Он преобразился в храброго пастыря и посвятил себя пастве. Бедняк стал получать хлеб, больной обеспечивался убежищем. Сирота имел кормящего отца, а вдова — заботливую руку. Везде благодаря ему царило милосердие Он сделался отцом угнетенных и утешителем несчастных.
Будучи патриархом, он являлся в то же время и государственным деятелем. С огромной энергией он занимался делами страны, давая им надлежащее направление. Могучей рукой искоренял зло и благотворной рукой утверждал добродетель. Воодушевленный высокой идеей благоустройства своей страны, он своим вдохновением давал ей жизнь… Однажды он приехал для переговоров в Византию к императору Валенту. Царь — духоборец, ослепленный ересью Ария, преследовал в ту пору ортодоксальную церковь. Забыв о важных политических делах, ради которых приехал патриарх, император немедленно вступил с ним в религиозный спор. Патриарх стал смело порицать императора за ересь и призывал его к истинной вере. Разгневанный Валент велел сослать патриарха и с ним семьдесят епископов на дальний остров.
Стояла суровая зима. Корабль, на котором плыли патриарх и епископы, пятнадцать суток носился по бурному морю и под конец затонул. Патриарх с двумя молодыми диаконами едва спасся, добравшись до острова Патмос на лодке…
Много лет прошло с того дня!.. На этом пустынном острове он томился вдалеке от родины, от любимой паствы. Человек, бывший духовным вождем целого народа, в огромных покоях которого служили сотни людей, сидел теперь одинокий у входа в убогую пещеру на скамье, сплетенной из прутьев, и глазами, полными тоски, глядел на угасающее солнце. Его сердце было полно глубокой печали. Сколько еще раз должно было садиться солнце, сколько еще раз оно своими животворящими лучами должно было освещать мир божий… А он должен был оставаться в заточении на этом острове…
Поодаль от пещеры, в чаще деревьев ютился небольшой шалаш-лачуга наподобие шатра из ветвей, обмазанных сверху глиной. В этом шалаше жили два диакона, разделявшие со своим учителем тяготы его изгнания.
Они уже вернулись с берега, развели огонь и готовили ужин. Они знали, как добыть огонь и пищу, в какой посуде и как приготовить. Но где найти посуду? На пустынном острове не было ни медника, ни кузнеца, ни гончара. Огонь они добыли чудом и поддерживали его, как пламя Ормузда. Вместо посуды же употребляли крупные раковины либо плетенки из растений.
Костер разгорался, распространяя вокруг себя приятную теплоту. Диаконы сгребли в сторону раскаленные угли и положили на них большие камни, которые быстро накалились. На чистой поверхности камней, как на сковороде, они разместили ломтями рыбу и стали ее жарить. Раки уже покраснели как красная роза. Этим делом был занят Тирэ. Ростом же закапывал в горячий пепел каштаны, которые поминутно с треском лопались, поднимая густое облако пепла. Он очищал их и складывал в перламутровые раковины, заменявшие собою тарелки.
— Он любит печеные каштаны, — сказал Ростом, радуясь тому, что патриарху нравятся каштаны.
— Он любит и каленые грецкие орехи, — заметил Тирэ. — Жаль, что они еще не созрели.
— А рыбу совсем не ест.
— И вообще воздерживается от мясного.
— А вот зелень ест с большим аппетитом. Можно было бы иногда готовить спаржу, но что поделаешь, если нет соли!
— Из твоей попытки добыть соль ничего не вышло?
— Да, меня постигла неудача. У берега моря я устроил запруду, в надежде что под лучами солнца вода испарится и образуется соль. Ты же сам видел, когда вода испарилась, на дне остался густой слой соли, по она оказалась горькой, как желчь. Ах, если бы эта попытка удалась!
Патриарх продолжал сидеть у входа в пещеру, которая напоминала звериную берлогу. Попасть в нее можно было только согнувшись. Узкий проход, постепенно расширяясь, кончался большим углублением. Лучи солнца, тускло отражаясь в пещере, едва смягчали царивший там печальный мрак. Внутри по одну сторону стояло нечто вроде ложа из нетесаных бревен, связанных витыми из стеблей жгутами. На досках лежал сухой мох, служивший постелью. Против кровати стояла каменная плита на таких же подставках, она служила столом; рядом было устроено каменное сиденье, похожее на сиденье, находившееся снаружи. Стоявший на столе сосуд из тыквы, наполненный водой, как бы дополнял собою нищенскую обстановку этого скромного жилья.
Снаружи пещера имела живописный вид. Вход в нее закрывал густой вечнозеленый плющ. Две плакучие ивы прикрывали ее своими ветвями, прекрасными, как длинные женские волосы. Над входом в пещеру, в глубокой расщелине скалы, свила себе гнездо чета египетских белоснежных голубей. Это были прежние обитатели пещеры. Они охотно уступили свое жилище почетному гостю острова и свили себе новое гнездо вблизи от пещеры. Их птенцы ворковали, патриарх в глубоком раздумье прислушивался к их голосам, и казалось, на его грустном лице можно было прочесть: «Счастливцы, они ведь имеют отца и мать… А те многочисленные дома для сирот, которые я основал в моей стране, под чьим попечением находятся они теперь? Кто опекает моих птенцов?..»
Солнце уже село, но горизонт еще горел золотыми огнями. Море, как освещенное яркое зеркало, сливалось с пурпуром неба, на котором последние лучи солнца все еще сияли золотыми копьями. Каждый вечер в этот торжественный час он сидел подолгу на берегу в раздумье и смотрел, как догорали последние лучи, как угасало огненное зарево, пока на горизонте не начинала расползаться сизая мгла. Но в этот вечер он изменил своей привычке и раньше, обычного вошел в пещеру.
Там царила кромешная тьма. Он подошел к постели и лег. Он был утомлен, ему хотелось отдохнуть. Сырой воздух пещеры был удушливо тяжел и пропитан запахом плесени. Долго ворочался он с боку на бок. Сухой мох шуршал под ним. Подушкой служила ему охапка морской травы.
Вскоре пришел Ростом, в руках у него был факел из длинных горящих сосновых сучьев. Он вставил их в одну из трещин, точно свечи в паникадило, и затем осторожно вышел. Смолистая сосна наполнила пещеру светом и запахом ладана.
Точно два игольчатых шарика, привлеченные огнем, выкатились два маленьких ежа из глубины пещеры к постели патриарха. Из колючек выглядывали их острые мордочки, и маленькие пепельные глазки смотрели вверх. Патриарх опустил руку. Прирученные ежи стали лизать своими тоненькими язычками его десницу, кормившую их с большой заботливостью. Эти животные, как неустанная стража, охраняли его пещеру, уничтожая змей и ядовитых насекомых. Даже кроты боялись их и не смели заходить в пещеру.
Снова вошел Ростом, неся ужин на сплетенном из растений круглом подносе. Он поставил ужин на стол. Обратившись к молодому человеку, патриарх спросил!
— Как Тирэ? Вчера ему нездоровилось.
— Он теперь совершенно здоров, владыка, — ответил диакон. — Весь день работал.
— Это еще не значит, что здоров. Он и больной может работать. Иди отдохни. Скажи ему, чтобы и он отдохнул.
Диакон поклонился и вышел.
Патриарх поднялся с постели и сел за стол. Ежики приблизились к подолу его рясы, ласкаясь. Он стал кормить их каштанами, давая каждому в рот по каштану. Они весело выхватывали вкусную еду и с большим удовольствием ее грызли.
Сам он тоже съел несколько каштанов. Но он больше заботился о своих сотрапезниках, чем о себе. Насытившись, ежи укатились в свою нору и, свернувшись в клубок друг около друга, заснули.
Он продолжал сидеть у стола. Сосновые сучья, заменявшие свечи, догорали. В пещере постепенно сгущался мрак, непроницаемый мрак могилы. Снаружи доносились глухие всплески волн. Море было неспокойно. Ветер со свистом проносился по верхушкам деревьев; они сгибались и стонали под его ударами. Все это располагало к грусти, вызывало глубокое душевное волнение.
Он все еще сидел у стола и, оперевшись на правую руку, прислушивался к тому, что делалось вне пещеры.
Никогда уста его не исторгали слов отчаяния; никогда добродетельная душа его не роптала на судьбу в минуту гнева. Вдохновляемый возвышенными чувствами, он всегда держал себя выше возможного отчаяния от несчастных случайностей в жизни и всегда твердо верил в свою звезду. Но в эту ночь, когда он был охвачен глубоким волнением, из глубины его сердца вырвались следующие слова:
— Неблагодарная Византия! За твой поступок не будет прощения в душе моей. Ты подло отплатила моей отчизне за оказанные тебе услуги… Как много раз мы отводили угрожавший тебе персидский меч. Сколько раз мы спасали тебя от позорного падения. Моя родина несокрушимым щитом всегда защищала тебя от набегов восточных лютых орд… Она принимала на себя их удары и охраняла тебя. Что заставляло нас поступать так? — Христианское братство! Мы отвергли язычников-персов и протянули руку тебе. Ты же всегда предавала нас. Все-таки с христианской незлобивостью мы во всем прощали тебе. Но ты не раскаивалась, ибо обман всегда был основой твоей политики… Наконец ты внесла религиозные споры в политические дела. Захотела вовлечь нас в ересь Ария. И за то, что я сопротивлялся, меня осудили и сослали. Но благая десница провидения не оставит надолго бедного изгнанника. Когда он вступит на родную землю, ты, вероломная Византия, понесешь заслуженную кару!..
Последние искры сосновых факелов вспыхнули несколько раз и погасли. Гнетущий мрак снова воцарился в узкой пещере. Патриарх еще долго сидел у каменного стола, и его печальные думы летели в страну, которую он любил и которой был предан всей силой своей души.
Много таких мучительных, бессонных ночей провел великий узник Патмоса, армянский первосвященник Нерсес Великий, которого так глубоко почитала Армения и так нетерпеливо ждала…
II. Крепость Ануш
Имя Ануш[288], а сколько в нем горечи!
На пути от Экбатаны к Тизбону в стороне высится остроконечная скала. Ее каменное подножье занимает довольно обширное пространство; на нем, как на высокой подставке, природа поставила скалу. Даже одной горсти земли нельзя было найти на ее голой поверхности. Ни одно растение не росло на ее твердокаменных крутизнах. Южное солнце обожгло ее и отполировало, как прокаленную гончаром глиняную посуду. Так выглядел этот утес с незапамятных времен.
Однажды у его подножья проходил с киркой на плече Фархад, великий ваятель Персии. Он шел в глубоком раздумье. Внезапно нестройные звуки труб заставили его встрепенуться. Он остановился. Показались борзые, показались всадники с соколами, и веселая, беспечная группа всадников, как буря, пронеслась мимо него…
Но один неясный образ успел навеки запечатлеться в его сердце. Этот образ лишил его покоя. Ежедневно приходил он на это место в один и тот же час и ждал. Он ожидал, полный сладостного томления, появления той, которая, скользнув по нему взором, молнией пронеслась мимо.
Его сердце лишилось покоя. Он забросил свою работу, свое искусство и, как безумный, одиноко скитался в пустынных горах.
Шли дни, недели, шли месяцы… Однажды сидел он и все ждал. И вот она явилась. Но не было с нею на этот раз ни борзых, ни всадников с соколами. Ее сопровождала лишь толпа служанок. Погнав лошадь, она приблизилась к нему.
— Привет тебе, великий мастер, — сказала она. — Что связало тебя с этими горами, с этим пустынным краем? Я тебя всегда встречаю здесь…
— Тот несравненный образ, который своим появлением осветил эти голые скалы, — ответил Фархад.
— Разве пламя любви так ярко горит в тебе? — спросила она с улыбкой.
— Как не любить ту, кто не имеет себе равных даже среди бессмертных? Как не любить ту, чье дыхание оживляет все вокруг, один взгляд которой приносит вечное блаженство? Неужели ты думаешь, что сердце ваятеля, который постоянно возится с резцом и камнем, окаменело настолько, что красота не в состоянии его смягчить?
— Нет, я этого не думаю. Тот, кто бесформенному камню дает жизнь и форму и из холодного мрамора творит образы прекрасного, тот не может не любить красоту. Но слушай, ваятель, чтобы привлечь сердце дочери царя царей, надо быть готовым на большие жертвы.
— Я это знаю. Великие богини требуют великих жертв.
— Я не требую от тебя невозможного: я хочу лишь испытать твою любовь. Видишь, Фархад, этот утес? — она показала рукой на остроконечный утес. — Преврати его в чудесный дворец, чтобы я с его высоты могла любоваться, как серебристые изгибы Тигра разрезают прекрасную долину Ассирии, как нежное дуновение ветра колеблет высокие стройные пальмы Бахистана… В самом сердце скалы построй хранилище для моих сокровищ, а у подножия — конюшни для моих коней… Когда исполнишь все это, я стану твоей.
Сказала и исчезла.
С того дня прошли годы. В несокрушимой твердыне скалы раздавались звуки молота и кирки. День и ночь слышны были несмолкаемые звуки тяжелых ударов. Работа успешно продвигалась вперед. Любовь вдохновляла труд великого мастера, а красота дочери персидского царя возбуждала его энергию. Он воздвиг чертоги, терема, создал залы с росписью и превратил каменную глыбу в роскошный дворец. Стены зал и палат покрыл искусной резьбою: в ней он изобразил борьбу древних исполинов и пехлеванов Персии со злыми духами и дэвами. Тут же были изваяны изображения древних персидских царей во всем их величии и славе, а рядом — картины их доблестных деяний и торжество побед. Он начертал линии и над ними высек надписи о великих делах древних властителей, об их доблести и дарованных ими Персии благах. Все эти чудеса он совершил для той, которой был предан со всей горячностью любви. Он хотел, чтобы картины напоминали ей постоянно о славном прошлом Персии, наполняли ее сердце великой гордостью при мысли о том, что и она из божественного рода этих героев и причастна к богоподобным делам.
Она пришла и увидела то, что он сделал для нее.
— Все это прекрасно, — сказал она, — но здесь нет воды, нет деревьев. Сооруди фонтаны, чтобы вода била выше облаков… насади деревья, чтобы под их тенью я могла отдыхать… отдыхать на твоей груди!
Сказала и исчезла.
Он отвел течение самых отдаленных родников и с помощью подземного водопровода поднял на вершину скалы. Там высек бассейн, вознес сереброструйные фонтаны. День и ночь лились из фонтанов неиссякаемые прозрачные струи, жемчужным дождем орошали раскинувшийся зеленый ковер. Он срезал и выровнял скалу. Из дальних мест доставил землю и толстым слоем покрыл утес. На земле насадил деревья и создал сады, которые, точно волшебные, висели в воздухе. Прошли годы, деревья разрослись и дали плоды. Цветы заплели и заполнили все вокруг душеутоляющим благоуханием. Появились птицы, и их веселое щебетание оживило окрестности. Но та, которой предстояло быть царицей и украшением этого рая, не появлялась…
Однажды сидел он, подперев рукой подбородок, у подножия дворца, воздвигнутого им, и печально смотрел на большую дорогу. По ней распевая шел какой-то поселянин; увидев ваятеля, путник приблизился и сел рядом, чтобы немного отдохнуть.
— Откуда идешь? — спросил его Фархад, — блажен ты, что так радостен!
— Из Тизбона, — ответил поселянин. — Как мне не веселиться, когда вся страна ликует.
— Что же случилось?
— Неужели ты не знаешь, что в городе уже семь дней и семь ночей празднуют свадьбу. Вино льется рекой, счету нет яствам… Едят, пьют и веселятся. Во всем, городе гремит музыка и пляшут неустанно. И я получил свою долю: вдоволь поел и попил и домой еще столько несу, что жене и моим детям надолго хватит.
— А чья же это свадьба?
— Царя.
— На ком он женится?
— На Ануш.
Фархад больше не расспрашивал. Он вздрогнул, точно пораженный молнией, и замер… Потом встал и с дрожью в ногах стал подниматься к своему чудесному дворцу. Окинув в последний раз печальным взором все то, что было плодом его горячей любви и замечательного искусства, он вошел в мастерскую. Там находились его орудия. Он взял тяжелый молот и вышел на маленькую площадку.
— Она изменила мне!.. — воскликнул он и подбросил молот вверх.
Молот перевернулся в воздухе и упал ему прямо на голову; горячая кровь брызнула на чудные изделия его искусных рук…
Фархад не достиг своей дели, но имя его возлюбленной Ануш осталось за этим каменным замком; он стал называться крепостью Ануш.
Выдолбленный в скале и изваянный из камня дворец, предназначенный для храма любви и вечного блаженства, впоследствии превратился в ад слез и вечных стенаний. Персидские цари ссылали туда плененных ими иноземных царей.
Был полдень. Несмотря на ослепительный блеск яркого солнца, в одном из высеченных в скале подвалов крепости Ануш царил гнетущий полумрак. Вверху стены у потолка виднелось узкое окно, похожее скорее всего на дыру. Тонкий солнечный луч робко пробивался через него и, словно страшась мрака, не решался проникнуть в глубь подвала. Это помещение было похоже скорее на длинный каменный ящик, чем на комнату. Пол, потолок, стены — все было из монолитного камня. Даже тяжелая железная дверь, побуревшая от вековой ржавчины, обрела темно-кирпичный цвет.
Как раз против железной двери был вбит в пол массивный железный шест. Он напоминал собою морской причал, к которому привязываются лодки. Но к нему на цепи прикован был человек. На вершине шеста было укреплено подвижное кольцо, от которого спускалась тяжелая цепь. Другой же конец ее был связан с толстым железным ошейником, надетым на шею человека. В таком состоянии узник был похож на льва в железной клетке. Руки скованы цепями. Ноги тоже в оковах.
В той же мрачной темнице, на той же цепи и с тем же самым ошейником на шее томился в свое время римский император Валериан, попавший в плен к Шапуху Первому. Сын неба и солнца обращался со своим августейшим пленником как варвар. Каждый раз, когда Шапух выезжал на охоту, несчастного узника выводили из темницы. Тщательно вымытого, натертого душистыми маслами императора облекали в царскую порфиру и торжественно ставили перед воротами дворца. При появлении сына солнца император должен был сгибать гордую спину. Шапух ставил на нее ногу и вскакивал на коня. Так каждый раз попирал он Рим своей надменной пятой. После всех этих надругательств Шапух велел убить узника, кожу трупа набить соломой и вывесить всем напоказ на стене большого тизбонского дворца.
Шапух Первый надел этот железный ошейник на императора Валериана, а Шапух Второй — на другого царя, который теперь томился в той же темнице.
В ней, кроме узника, был еще один человек — неподвижная статуя в углу на каменной подставке. Немигающие открытые глаза его были устремлены на заключенного; на его застывшем и желтом, как пергамент, лице не двигался ни один мускул. На поясе висел в золотых ножнах меч военачальника, рукоять которого он держал в правой руке, как бы со всей бдительностью оберегая жизнь заключенного царя.
Царь взволнованно ходил по тесному кругу; и каждый раз от движений звон его цепей нарушал глубокую тишину темницы. Нашейная цепь была так коротка, что не допускала его ни к фигуре на каменной подставке, ни к железной двери темницы.
Царь был гигантского телосложения. Растрепанные волосы на голове и в бороде придавали его наружности дикую мрачность. Он подошел к соломе, постланной в углу, которая служила ему сидением и постелью, и опустился на нее.
В этот момент тяжелая железная дверь со скрипом раскрылась: вошел тюремщик, за ним слуга. Рукава рубашки и кафтана, тюремщика были засучены по самый локоть, голые ноги — в сандалиях, на голове ночной колпак. В таком неряшливом виде предстал начальник крепости перед заключенным, точно желая нанести ему еще более сильное оскорбление. Тюремщик кивнул головой царю и, став у двери, с издевательской насмешкой сказал:
— Приветствую царя Армении. Льщу себя надеждой, что мой государь провел ночь спокойно и в приятных сновидениях. И да отгонят от него добрые духи тяжелые сновидения, насылаемые Ариманом…
Узник с молчаливым презрением посмотрел на него и ничего не ответил.
— Отчего же ты молчишь, батюшка государь? — продолжал тюремщик с еще большей наглостью. — Армяне если не смелы в действиях, то, по крайней мере, щедры на слова.
Царь и на этот раз не ответил.
— Видно, государь недоволен своим рабом? — сказал тюремщик, сделав шаг вперед. — Я постараюсь тебе услужить, царь-государь. Велю сейчас сменить твое прекрасное ложе и приготовить тебе такую мягкую и благоуханную постель, что ты забудешь отличные шелка и шерсть Армении.
Он приказал слуге сменить постель.
Слуга подошел, собрал разостланную в углу и промокшую от сырости солому, которая прилипла к полу, и взамен нее положил сухую.
— Изысканными яствами я украшу сегодня стол моего государя, — сказал тюремщик, снова обращаясь к узнику. — Да не подумает он, что персы не гостеприимны; пусть забудет он все те роскошные яства, которые подносили ему в его дворце.
Слуга положил на пол возле соломы кусок ячменного хлеба и поставил сломанный черепичный сосуд с водой.
— Приятного аппетита, царь-батюшка. Будьте здоровы, государь! — сказал тюремщик и, кивнув головой, удалился.
— Наглец! — процедил на этот раз заключенный.
Железная дверь снова закрылась, узник остался один в каменном подвале.
Несколько минут он молча ходил из угла в угол, затем остановился и обратился к неподвижной статуе:
— Слышишь, Мамиконян тер, как непрестанно мучают твоего царя, как непрерывно терзают его сердце? Перс, совершенно лишенный великодушия, привык в своем доме оскорблять гостя. Чем виновато это жалкое пресмыкающееся, которое из своих дерзких уст исторгает здесь брань? Ему велели, ему приказали! Низкий и бесчестный Шапух! Учинить такую гнусность! Не на поле битвы, не при осаде городов достался я тебе! Ты пригласил меня как гостя, и вот свое гостеприимство подменил обманом… Изменник! Разве в этом величие государя и царя царей? Вероломной дружбой обмануть соседа и союзника и заманить его в капкан! Чего только ты не предлагал мне, чего только не обещал? Предлагал мне в жены свою дочь, обещал выстроить на каждой остановке по пути от границ моего государства до твоей столицы Тизбон дворцы, чтобы я всякий раз, направляясь к тебе, останавливался в собственных палатах. Вот твое обещание! Взамен дворцов ты подарил мне этот каменный подвал! Вечное проклятие моим нахарарам! Пусть гложет их всю жизнь раскаяние и стыд за то, что довели меня до такого состояния. Не будь их раздоров, не попал бы я в твои сети, вероломный Шапух!
Так изливал он горечь своего сердца, но Мамиконян тер не слышал его. Царь сел на свежую солому, продолжая смотреть на неподвижную фигуру. Грустные воспоминания напомнили ему об одном событии.
Однажды вошел он в конюшню Шапуха посмотреть царских коней. Главный конюх бросил на землю охапку сена и с персидской наглостью обратился к нему: «Вот трава — садись на траву, царь армянских козлов».
Но конюх немедленно поплатился за свою наглость. Герой, который теперь неподвижно стоит здесь и хладнокровно выслушивает издевательства тюремщика над его царем, выхватил тогда меч и надвое рассек голову конюху. И теперь еще его рука держала меч, но, увы, она была недвижима.
— Поношение! Злейшая насмешка!.. — воскликнул узник в сильном волнении и поднялся с места. — Вот передо мною олицетворение мощи Армении!.. Военачальник ее рати, который заставлял трепетать всю Персию. Его поставили здесь, чтобы он, как вечный укор, напоминал мне о тяжкой утрате. Но ведь этот герой, подобно мне, тоже стал жертвой подлого вероломства персов! Разве он пал в бою?..
Он сделал несколько шагов и простер руки к статуе. Но цепи не пускали его дальше.
— О, дорогой Васак, — ласково продолжал узник, — все изменили мне, все покинули меня, только ты не покинул своего государя. Ты разделял его славу, разделяешь теперь и его позор. Долг, честь, любовь к родине толкнули тебя на самопожертвование… И как подлинный герой, ты геройски увенчал свою смерть…
Неподвижная статуя, к которой он обращался с этими словами, представляла собой спарапета Армении Васака Мамиконяна, дядю Самвела и отца Мушега. К ней обращался государь Армении — царь Аршак. Обманным путем заманив их в Персию и заключив Аршака в эту крепость, Шапух повелел убить спарапета, снять с него кожу, набить травой и поставить перед царем в темнице. Теперь на каменной подставке перед Аршаком стояло чучело спарапета. Никакое горе, никакая печаль так не терзали сердце лишенного трона царя, как эта безгласная статуя, которая своим молчанием еще сильнее напоминала ему о потерянной славе. Как военачальник, он олицетворял попранную военную мощь Армении, сломленную персидским вероломством. А как храбрый полководец, в течение десятков лет блестяще побеждавший персов, напоминал о величии своего царя — величии и славе, олицетворением которых являлся и он сам. Все пропало, все погибло! Теперь лишь постоянные муки и грустные воспоминания были неразлучными спутниками несчастного царя, который, подобно закованному в цепи Артавазду, был заточен в этой мрачной каменной темнице, похожей на могилу. Эта темница давила и медленно душила его.
Он не прикоснулся к жалкой еде, принесенной для него; взял лишь глиняный сосуд, отпил воды, чтобы несколько успокоиться, затем прилег на соломенную постель.
Он не мог оторвать взгляда от неподвижной статуи.
Заросшее волосами лицо его выражало и гнев и раскаяние. Гнев — потому, что с ним поступил так бесчеловечно персидский царь; раскаяние — потому, что сам он открыл путь к своей гибели. Совесть его была неспокойна. Всякий раз, когда мысль эта пробуждалась в нем, он начинал дрожать всем телом, как преступник, который еще не вполне убежден в своей вине.
Он все продолжал разглядывать статую. Он все еще боролся со своими мыслями и чувствами.
— Нет… Тысячу раз нет… Я не виновен! — воскликнул он, и в его мрачных глазах сверкнула ярость. — Вечные распри моих нахараров надоели в конце концов мне… И я объявил им войну, желая наказать строптивую непокорность, хотел уничтожить их, чтобы слить воедино разрозненные силы армян и создать могучее, единодержавное государство. Единство Армении я ставил выше, чем самостоятельность сотен княжеств, которые вследствие беспечности моих предшественников настолько стали дерзки, что всякий раз заносчиво угрожали своему царю… Я хотел ограничить их произвол… Они же объединились и пошли на меня войной. Но и этого им показалось мало, они в нашу семейную борьбу втянули чужестранцев. Они подняли против меня персов — наших исконных врагов. Я оказался одиноким и вынужден был отправиться к врагу и заключить с ним мирный договор… А враг услал меня сюда…
Он встал и, опустив голову, несколько раз прошелся по темнице. Его волнение все усиливалось. Он снова обратился к молчаливой статуе:
— Ты свидетель, Мамиконян тер, как искренни были мои намерения, как дорого было мне счастье Армении. Мои отношения с нахарарами настолько обострились, что надо было выбирать одно из двух: либо царская власть должна была стать жертвой, нахарарства, либо власть нахараров — подчиниться царской власти. Я почел за лучшее первое. Для меня была свята незыблемость престола Армении, унаследованного мною от предков. Но если мне не удалось сокрушить нахарарство, то все равно оно будет сокрушено персами, которых нахарары призвали к себе на помощь против царя. Через непроницаемые стены этой каменной темницы я вижу, Мамиконян тер,что творит Шапух в Армении. Он отсек голову, теперь начнет по кускам раздирать тело. Голову сослал сюда, а нахараров бросит в страшные темницы Сагастана. И оставленная на произвол судьбы Армения станет добычей персидских варваров… Наши жены и дочери умножат число наложниц и служанок персидского двора… Их несовершеннолетние сыновья будут подметать мраморный пол персидского дворца. А жена моя? А сын мой?
При этих словах могучий голос его дрогнул, колени ослабели, и он всем своим телом рухнул на кучу соломы. Он закрыл руками глаза, и слезы хлынули на железные оковы.
Сколько таких страдальцев терзалось и мучилось в темных подвалах этой крепости! Сколько монархов, сколько людей царского рода поглотила она и, как жадное чудовище вишап, никогда не насыщалась! Сколько вздохов и стонов раздавалось в ее безжалостном сердце! Попавший сюда пропадал, исчезал и предавался вечному забвению. Недаром крепость заслужила название Анхуш[289]; в своей непроглядной тьме, как мрачная могила, она хранила печальную память об осужденных…
В этом каменном подвале томился некогда в тех же цепях армянский царь Тиран, отец Аршака. Сын все же видел луч солнца сквозь узкое окно своей темницы. У отца не было и этого утешения: персидский царь лишил его зрения, лишил света. Ослепленный царь, погруженный во мрак, переживал более горькие мучения.
Безобразным, наводящим ужас видением стояла крепость Ануш на своем высоком каменном подножье. Она распространяла вокруг себя смерть и ужас. Ядом дышало это чудовище, губителен был ее угрожающий взор. Никто не дерзал к ней подходить, никто не дерзал даже смотреть на нее. Люди обходили ее на большом расстоянии. Вокруг нее царила мертвая тишина.
И она, как олицетворенная кара и бич, жила в своем мрачном одиночестве.
Но вот однажды непривычное явление привлекло внимание стражей: прямо к крепости ехал отряд всадников. Взоры стражей стали напряженными, луки натянулись, обнажились мечи.
Кто были эти дерзкие?
Они быстро приближались, и чем ближе, тем быстрее.
Удивленный начальник тюрьмы торопливо поднялся на башню и стал вглядываться. «Верно, нового гостя везут», — подумал он, и на его лице мелькнула дьявольская улыбка.
Был вечер. Солнце почти уже закатилось. По-видимому, всадники спешили засветло добраться до крепости; на ночь крепостные ворота запирались, и ночью сюда никого не пускали.
Начальник крепости продолжал наблюдать. Когда всадники подъехали достаточно близко, он заметил, что у переднего из них на головной повязке сверкал какой-то блестящий предмет. Он стал пристально вглядываться и вскоре убедился, что это была трубка, похожая на сверток пергамента.
— Царский указ! — воскликнул он с особым почтением и поспешил спуститься с башни.
Он отдал приказание страже выйти за ворота и торжественно встретить посланцев. В течение нескольких минут они приготовились и вышли из крепости. Когда всадники подъехали к крепости, вся стража пала ниц перед царским указом.
Привязанный ко лбу всадника указ сиял золотыми украшениями. Всадник сделал повелительный жест, стража поднялась и повела приехавших в крепость. У головных ворот они сошли с коней. Только теперь всадник снял с головы указ и, держа его обеими руками, передал начальнику крепости. Тот сперва распростерся ниц, а затем протянул обе руки, принял пергамент с глубоким благоговением, сперва поцеловал его, потом возложил себе на голову. Затем, развернув пергамент, он поднялся на ноги и стал громко читать.
Окончив чтение, начальник крепости вернул указ тому, кто его привез.
— Двери крепости, порученной моему надзору, открыты перед тобой, тер главный евнух!
Все вошли в крепость.
Пока для гостей приготовляли ночлег, приличный их высокому сану, пока размещали коней солнце зашло, настала ночь и зажглись огни. Начальник крепости подошел к главному евнуху и, поклонившись, сказал:
— Надеюсь, что тер главный евнух эту ночь изволит отдохнуть с дороги и посетит своего царя завтра утром.
— Нет, начальник. Я сегодня же должен видеть моего государя и, если возможно, сию же минуту, — взволнованно сказал главный евнух.
— Для тера главного евнуха, прибывшего с благословенным указом царя царей, нет ничего невозможного, — ответил начальник нерешительно. — Но теру главному евнуху должны быть известны порядки нашей крепости… Надо немного…
— Понимаю, ты намерен подготовить государя к встрече и придать ему более приличный вид, но я хочу застать его в обычном виде. Порядки этой крепости мне хорошо известны. Ты можешь не смущаться, если я найду его в самом неприглядном положении.
Начальник колебался, все еще охваченный нерешительностью. Он опустил голову, как преступник, которого мучают угрызения совести.
— И все-таки, — сказал он, — мне бы не хотелось вызвать боль в твоем сердце, тер главный евнух!
— Послушай, начальник, — высокомерно сказал главный евнух. — Тебе известно содержание указа царя царей. Создать для моего государя в этой крепости подобающую обстановку и облегчить его участь — об этом должен позаботиться я. Твое же дело приказать, чтобы меня провели к нему немедленно.
— Я сам буду сопровождать тебя, тер главный евнух, — раболепно сказал начальник.
Жестокий тюремщик подчинился наконец высочайшему приказанию. Как на грех, именно сегодня он обращался с заключенным царем с особенной наглостью. Теперь ему хотелось загладить свою оплошность, хотя в ней именно и состояла добродетельность его поведения.
Стемнело. Все ворота были на запоре. Повсюду, как злые духи ада, шныряли стражники. Даже птица не посмела бы пролететь в эту пору мимо крепости. Нигде ни звука, ни движения. Царила глубокая, кладбищенская тишина.
Страж с фонарем в руке шел впереди, освещая лестницу, высеченную в скале, которая вела на верх крепости. Даже днем невозможно было спускаться по этой крутой лестнице: один неверный шаг, малейшая неосторожность — и человек мог стремглав полететь в пропасть. За стражем шел начальник, за начальником — главный евнух. Он был печален, как человек, отыскивающий дорогую могилу. Какою он должен был увидеть, ее, как подойти? Хватит ли у него сил сохранить хладнокровие?
Они остановились возле железных дверей известной нам темницы.
— Здесь он… тер главный евнух, — сказал начальник тюрьмы, указывая на дверь.
— Отвори, — приказал главный евнух: — Но я хочу просить тебя оставить меня наедине с моим государем.
Начальник крепости колебался. Евнух заметил это и, чтобы успокоить его, сказал:
— Не бойся, твой поступок не причинит тебе зла.
— Пусть воля тера главного евнуха будет исполнена, — ответил тюремщик, соглашаясь через силу. — Но… да простит меня господин главный евнух, если он желает быть наедине со своим царем, я принужден буду замкнуть дверь.
— Можешь это сделать. Но фонарь я возьму с собою, там несомненно темно.
Тюремщик из связки ключей, висевших у него на поясе, выбрал один и отпер им тяжелую дверь, сказав при этом:
— Милости просим, тер главный евнух, оставайся со своим царем, сколько пожелаешь. Когда захочешь выйти, стукни в дверь, стража немедленно известит меня, я приду и открою.
Он указал на отряд стражей, охранявших двери темницы.
Приезжий взял фонарь и с сильно бьющимся сердцем вошел в темницу. Дверь за ним закрылась.
Сделав несколько неверных шагов, он поставил фонарь на пол.
Узник лежал на соломе. Казалось, ад с его ужасами предстал перед взором охваченного мучительными переживаниями посетителя. С глубокой тоскою смотрел он на своего закованного в цепи царя, который лежал на полу и тяжело дышал; по временам он тяжко стонал. Тут же валялся кусочек черствого хлеба из овса и стоял черепичный сосуд, пить из которого, вероятно, отказался бы и последний раб. Приезжий взглянул на неподвижное привидение, стоявшее в углу на каменной подставке. Слезы заволокли ему глаза, он едва устоял на ногах: перед ним была Армения, низвергнутая и посрамленная Армения!..
Посетитель шагнул вперед, но, как бы устрашившись своей дерзости, снова вернулся на прежнее место. Как нарушить царский покой, как потревожить сон утомленного узника?
Он продолжал разглядывать царя, который то тяжело стонал во сне, то горько усмехался. Видимо, его мучили тяжелые сновидения. Он лежал на боку, подложив правую руку под голову, лицо было обращено к вошедшему. Как изменился царь! Как он был не похож на себя! Приезжий был в ужасе, не дерзая приблизиться: быть может, увидев в своей конуре непрошенного посетителя, царь, находясь в полусне, в гневе низвергнет дерзкого и растопчет его ногами.
Приезжий был среднего роста, худощав. Лицо без бороды, без усов. Если бы не мужская одежда, его можно было бы принять за пожилую женщину, своим видом, внушавшую уважение. Кинжал с рукояткой, усеянной драгоценными каменьями, был заткнут за богатый пояс. Одет он был роскошно, как подобало высокому вельможе. Его звали Драстамат. Это был главный евнух, всеми почитаемый и любимый, некогда имевший при дворе армянского царя подушку и почет выше всех нахараров. Он происходил из рода князей Ангехских и заведовал царской казной, которая хранилась в крепости Бнабех, в области Цопк.
— О Васак, — послышался голос узника, — построй полки моих храбрецов… Нападем на страну персов… Покараем Шапуха за его наглость!..
Он обращался к мертвому привидению, стоявшему на каменной подставке.
Глаза евнуха опять заволоклись слезами.
Узник необычно содрогнулся, вытащил правую руку из-под головы и, угрожающе размахивая ею, зарычал:
— Я тебя зажарю в огне горящего Тизбона, лживый Шапух!..
Он вытянул и левую руку, которая была связана с правой тяжелой цепью, а затем обе они с лязгом упали ему на грудь.
Царь, как бы придя в себя, открыл глаза, но тут же снова сомкнул их.
Тут евнух решился приблизиться к царю и осторожно его окликнул:
— Государь! — Царь не пробуждался. — Государь! — повторил он.
Узник поднял голову, но, устремив мутный взгляд на посетителя, с гневом воскликнул:
— Негодяй, дай мне хоть ночью покой!
Он принял его за тюремщика.
— Государь, разве ты не узнаешь своего слугу? — чуть не рыдая, проговорил пришедший.
— Моего слугу… — повторил узник с горьким смехом, — ты, наглец, мой палач, давно ли ты стал моим слугою?
Посетитель не в силах был дольше сдерживать свои чувства: он бросился на колени, обнял ноги узника и, обливая его цепи горячими слезами, воскликнул:
— Государь, очнись, взгляни на меня, на твоего раба, на твоего покорного Драстамата…
— Драстамат! — воскликнул царь, отталкивая пришедшего. — Кто из богов вернул бы мне Драстамата, моего храброго и верного слугу? Прочь от меня, обман, прочь, ночные видения! Я потерял своих лучших людей, я лишился своих вельмож! Бог меня покарал! Я никогда больше их не увижу!
— Один из них к твоим услугам, государь!
Несчастному царю казалось, что все виденное и слышанное им происходило во сне. Теперь только он пристально посмотрел на вошедшего и, ошеломленный спросил:
— Кто это здесь?
— Твой слуга Драстамат.
Царь вскочил, изумленный.
— Драстамат!.. Откуда ты? Как тебя пустили ко мне? Боже, какое счастье! Приблизься, милый Драстамат, приблизься, я обниму тебя.
Главный евнух опять стал на колени и начал целовать ноги царя. Узник сильной рукой поднял его.
— Эти поцелуи не облегчат тяжесть моих цепей, дорогой Драстамат. Расскажи лучше, откуда ты, как пробрался сюда, что слышно?..
Царь прошелся по темнице, затем сел на соломенную постель.
Драстамат продолжал стоять и в глубоком волнении думал о том, с чего начать свой рассказ. Он мог бы рассказать о многом, но новости были столь неутешительны! Ему было тяжело расстраивать государя, и без того удрученного горем.
— Чего же ты молчишь? — сказал узник, заметив раздумье Драстамата, — боишься, что у Аршака настолько разбито сердце, что он не вынесет новых ударов? Я и без твоего рассказа догадываюсь о многом. Из этой каменной темницы я каждую минуту вижу, Драстамат, что творится там, в Армении. Но ты мне скажи, как тебя пропустили ко мне? Это меня очень удивляет…
Драстамат стал рассказывать. Разлученный со своим государем, он остался в Тизбоне вместе с армянской конницей, задержанной Шапухом. В это время Шапух предпринял новый поход против кушанов, и ему удалось добраться до их главного города Бахл. Армянская конница, а с нею и Драстамат, были в числе его войска. Царь кушанов из рода Аршакуни вышел навстречу Шапуху. Началась кровопролитная битва. Персы были разбиты, а Шапух пытался спастись бегством. Но это ему не удалось. Отряд кушанов окружил его и взял в плен. Тогда подоспел Драстамат во главе армянской конницы и отбил Шапуха. По возвращении в Тизбон Шапух призвал на открытый суд своих трусливых полководцев и с горечью поставил им в пример доблесть армян.
— На том же суде, государь, — продолжал Драстамат, — Шапух обратился ко мне со словами: «Драстамат, тебе я обязан своей жизнью. Ты меня спас от позорного плена. Проси награды, славы, почета, власти, богатства. Клянусь священной памятью моих предков, что попросишь, то и получишь!» Но я не попросил ни богатства, ни власти, государь, я лишь потребовал, чтобы мне дали право отправиться в крепость Ануш и повидать моего царя…
— И тебе разрешили?
— Да, государь, Шапух не ожидал, что я буду просить о такой награде. Когда я сообщил ему о своем желании, он ударил руками по своим коленям и с раскаянием сказал: «Ты просишь о невозможном, Драстамат, персидский закон не только запрещает посещать заключенных в крепости Ануш, но даже упоминать о них. Проси о чем-либо другом. Моя казна полна золота и драгоценностей, народы и племена подчинены моей власти. Какую из стран ты захочешь, ту и отдам». Но я повторил свою просьбу. Так как он при всех поклялся, то не мог отступить.
На мрачном лице узника появилась горькая улыбка.
— Давно ли он стал держать свое слово? Он и мне клялся… И мне давал многие обещания. Перстнем с изображением вепря[290] припечатал он соль и послал мне. Это по законам персидских царей самая верная клятва. Он пригласил меня заключить договор любви и дружбы и миром вернуть меня в мою страну. Но вместо этого отправил меня вот сюда…
Голос его задрожал от волнения. После минутного молчания он снова обратился к Драстамату:
— Хвалю тебя, Драстамат, за самопожертвование. Ты всегда был верен своему царю. Твой поступок я буду считать венцом всех многочисленных жертв, которыми ты много раз доказывал высокие достоинства своей души. Воздаю славу всевышнему, — я только теперь уверен, что он не совсем еще покинул меня. Я нуждался в человеке из моей страны, и он послал мне тебя.
Драстамат, воодушевленный словами царя, сообщил, что он явился в крепость с указом Шапуха, который давал ему право устроить своего государя так, как подобает парю, и всячески облегчить его участь.
— Это мало утешает меня, Драстамат, — печально ответил узник. — Мне теперь безразлично, спать ли на этой вот соломе или на мягкой постели… Мне все равно, пить ли воду из этого полуразбитого черепичного сосуда или из золотого стакана. Не ужасное существование, не телесные муки терзают меня — мне не дает покоя мысль о том, что, пока я сижу здесь в заточении, моя заброшенная страна отдана на растерзание врагам.
Последние слова так растрогали Драстамата, что он от волнения не мог вымолвить ни слова. Узник спросил:
— Чего же ты молчишь, Драстамат? Скажи, что знаешь о нашей стране, что намерен предпринять Шапух, о чем думают нахарары? Хотя ты и приехал из Тизбона, все же, должно быть, слыхал о многом и немалое знаешь!
Драстамат, правда, о многом слыхал и многое знал. Но разве мог он рассказать обо всем этом царю? Он ждал вопросов.
— Кто командует моими войсками?
— Мушег Мамиконян, государь.
Что-то вроде радости озарило печальное лицо царя.
Обернувшись к мертвой фигуре, стоявшей в углу, он воскликнул:
— Слышишь, Мамиконян тер, сын твой — спарапет моих войск. Я уверен, что храбрый сын храброго отца оправдает честь своего рода. Я помню его еще юнцом, когда он только учился ездить верхом. Я встречал его несколько раз на состязаниях, видел и в боях, когда он был молодым человеком. С детства звезда отваги сияла на его челе. Он был горд и самонадеян, как его отец. Когда однажды я ему сказал: «Я хочу назначить тебя наблюдателем над дворцовой птицей», — он обиделся, и глаза его наполнились слезами. Ему было тогда едва двенадцать лет.
Отец, казалось, слышал похвалы своему сыну; его мрачное, полное угрозы лицо как будто говорило: «Месть за кровь отца вдохновит Мушега, и он будет недостоин своих предков, если не набьет сотню персидских военачальников травой и не пошлет в виде подарка подлому Шапуху…»
Узник продолжал расспросы:
— Где теперь армянская царица?
— Она в крепости Артагерс, государь. В ее распоряжении двенадцать тысяч отборного войска.
— А мой сын?
— Все еще в Византии у императора, государь.
— Отчего его не призовут нахарары? Почему его оставили там?
— Они хотят прежде обезопасить страну от персов, государь, чтобы царевич мог спокойно вступить на престол своего отца.
Узник грустно покачал головой, и лязг цепей вызвал в нем раздражение.
— Ты жалеешь меня, Драстамат! — воскликнул он сердито. — Ты чересчур смягчаешь сообщения о бедствиях моей страны. Говори откровенно, я найду в себе мужество выслушать спокойно горькие вести. Моего сына задерживают в Византии, потому что боятся, что, вернувшись в Армению, он может попасть в руки Шапуха и оказаться вместе со мной в этой крепости. Не так ли?
— Да, мой государь!
— Где Нерсес?
— Тоже в Византии, государь.
Несмотря на просьбы узника, он опять скрыл правду о том, что великий первосвященник Армении томился в ссылке на острове Патмос.
— Должно быть, он выжидает время, чтобы вернуться вместе с моим сыном?
— Да, государь!
Царь понурил голову, и пряди спутанных волос закрыли его опечаленное лицо. После минутного молчания он снова обратился к Драстамату:
— Это утешает меня и в то же время огорчает, Драстамат. Я никогда не благоволил к Нерсесу. Но теперь он охраняет моего сына. Это своего рода месть, христианская месть: на зло отвечать добром.
— Это его долг, государь! Ведь он — христианин!
— Скажи еще: и подлинный патриот, — добавил узник. — Хотя я и враждовал с Нерсесом, но всегда уважал его самые высокие человеческие добродетели.
— А что делает Меружан? — спросил царь, переменив разговор.
— Будь он проклят! — ответил Драстамат с глубоким отвращением. — Он получил от Шапуха разного рода указания и старательно выполняет их.
— Конечно, дурные указания?
— Да, это так, государь. Но я надеюсь, что единство армянских нахараров разрушит его злые намерения…
— Единство нахараров? — с горькой усмешкой спросил узник. — Можно ли верить в их искренность?
— Не только можно, но и должно, государь. Они теперь очень и очень раскаиваются в своем неблагоразумии.
— После причиненного ими огромного вреда, Драстамат?.. После гибели их царя и разорения Армении, они, говоришь, раскаялись? Не слишком ли поздно?
— Поздно, но еще не совсем, государь. Самопожертвованием они стараются загладить свои старые ошибки. Мне достоверно известно, что нахарары совместно с духовенством готовятся начать войну за спасение отечества.
— Расскажи, что ты знаешь!
Драстамат начал подробно рассказывать прежде всего о том, что Шапух намерен уничтожить христианскую веру и распространить в Армении персидское огнепоклонничество. Затем рассказал о том, что предпринимает Шапух для осуществления своих целей, в выполнении которых главная роль предназначена Меружану Арцруни; о тех многочисленных обещаниях, какие, дал персидский царь Меружану, если он выполнит его желания. Рассказал о тех клятвах и мероприятиях, какие предприняли армянские нахарары, чтобы предотвратить бедствия и спасти церковь и трон Аршакидов от персидского деспотизма. Свою речь он закончил словами надежды и выразил твердое убеждение в том, что Шапуху не удастся осуществить свои злые замыслы. Возможно, Армения потерпит немалый ущерб, но никогда не будет покорена.
С глубокой тревогой, склонив голову, слушал его царь. Смуглое, густо заросшее волосами лицо его становилось все более мрачным. Все эти бедствия он как будто заранее предчувствовал, все это он предугадал с того дня, когда несчастные обстоятельства предали его в руки Шапуха. Он обратился к евнуху:
— Как дошли до тебя эти вести, Драстамат?
— Находясь в Тизбоне, государь, я всегда старался разузнать, что затевают при персидском дворе. Преданный мне человек, близко стоящий к делам персидского двора, доносил мне обо всем. Собранные сведения я немедленно пересылал через тайных гонцов армянским нахарарам, чтобы их предупредить, и получал от них ответы. Я действовал, государь, не пропуская ни одного удобного случая. А теперь у меня одно желание: облегчить участь моего государя и, если удастся, на что я очень надеюсь, избавить его от этих тяжелых оков…
Последние слова он произнес шепотом.
На лице царя появилась грустная улыбка.
— Хвалю твою энергию, Драстамат, — сказал он, — но не могу одобрить твое чрезмерное усердие. Вместо того, чтобы заботиться о моем освобождении, что зависит от бремени и обстоятельств, было бы полезнее, если бы, оставаясь в Тизбоне при царском дворце, ты продолжал начатое тобою дело. Армянским нахарарам нужно иметь верного человека в Тизбоне, и ты подходишь больше всех, так как пользуешься расположением Шапуха.
— И все же судьба моего государя… его тяжелое положение… — сказал волнуясь Драстамат.
— Я считаю, что мое положение уже улучшилось, Драстамат, так как твои сообщения успокоили меня. Повторяю: в Тизбоне нам нужно иметь верного человека, и им должен быть ты. А заниматься теперь мною, значит терять время. Скажу больше: мое высвобождение отсюда, мое появление в Армении и восстановление моей власти я при нынешних запутанных и неопределенных делах считаю даже вредным. Почему?.. Да потому, что я не смогу примириться с моими нахарарами, а такое примирение сейчас необходимо для спасения отечества. Между нами уже не может быть прежней близости. Мое присутствие зажжет новый внутренний пожар войны, в то время как сейчас больше всего необходимо бороться с внешним врагом! Я останусь здесь и ради спокойствия страны пожертвую собой. Пусть нахарары покорятся моему сыну. Он новый для них человек, и с ним у них нет старых счетов. Я же буду здесь молиться об их удаче и положусь на волю божью.
Драстамат не мог сдержать охватившего его отчаяния. Он упал ниц перед узником и, обнимая его закованные ноги, воскликнул:
— Государь, велик божий мир и безмерна милость всевышнего! Если не пожелаешь вернуться в Армению, то найдется много других безопасных мест, уготованных богом для тебя.
— Узник встал и поднял Драстамата.
— Нет, никогда позорная кличка «беглец» не коснется моего имени! Да и куда мне отправиться? В Византию?.. Персидская тюрьма для меня терпимее, чем полные лицемерия палаты византийцев. Хотя мое пребывание здесь и радует нахараров, зато оно наполнит сердце народа справедливым чувством мести. Мой народ любит меня. Он будет думать о своем узнике-царе и обрушит свой гнев на бесчестного Шапуха. А в нынешних обстоятельствах это может способствовать освобождению моей страны. Пусть Армения будет свободна, и тогда мои мучения станут легче в этой мрачной темнице.
— Но ведь твое освобождение утешит опечаленное сердце народа…
— Слушай, Драстамат, чрезмерная любовь делает тебя ребенком. Неужели ты думаешь, что персы так наивны? Если бы сатана захотел поучиться чему-нибудь новому, он, несомненно, обратился бы к ним. Ты должен знать: тебе вручена грамота, дающая тебе неограниченное право улучшить положение твоего царя и создать, для него в тюрьме подобающую обстановку; иную грамоту получит в скором времени или уже получил начальник крепости. Наблюдение за мной усилится, и увеличатся меры предосторожности. Ты сможешь добиться того, что будет разрешено хорошо меня кормить, одевать и держать в лучшем помещении. Но не больше! Итак, как ты сможешь освободить меня? Подкупить начальника тюрьмы, подкупить стражу невозможно. Значит, тебе придется сидеть здесь и ждать чуда. А между тем ты более нужен в Тизбоне.
Драстамат слушал с глубокой печалью. Узник продолжал:
— Мне даже тяжело, Драстамат, согласиться на то, что ты мне предлагаешь. Я предпочел бы остаться в нынешнем состоянии, но не принимать ни малейшей милости от бесчестного Шапуха. Принимая его милости, я тем самым ослаблю силу его преступления. Но чтобы не подумали, что у тебя были ко мне какие-то тайные дела, мне придется исполнить твое желание.
Так говорил удрученный горем царь. Тем временем в узком окне темницы показались первые лучи солнца. Царь посмотрел на них и, обратившись к Драстамату, сказал:
— Тяжки наши бедствия, весьма тяжки, Драстамат! Царь здесь, на востоке… Патриарх там, на западе, а страна беспризорна. Но есть всевышняя сила: на нее я возлагаю свои надежды…
ПУТИ РАСХОДЯТСЯ
I. Рштуник
Прошла целая неделя после того, как двоюродные братья Мамиконяны, Самвел и Мушег, выехали из Вогаканского замка.
Дороги их разошлись.
Самвел направился вдоль Ванского озера по юго-восточному берегу, а Мушег — вдоль западного берега того же озера. Они преодолевали опасности и видели много ужасов. Страна была охвачена волнением, похожим на безумие. Страшен народ, когда он рассвирепеет; его свирепость похожа на свирепость медведя, который с пеной у рта, с воспаленными глазами, прежде всего растаптывает своих детенышей.
Какой-то слух, подобно злому духу, пронесся по Армении. Его глухой, невнятный голос всякий понимал и толковал по-своему. Но невнятность эта еще больше раздражала людей. Брат подымал руку на брата, люди не понимали друг друга. Вся страна волновалась, полная мрачной смутной неизвестности.
Народная молва создала новое слово: изменник. Но кто был изменником, кто не был им, — этого не знали. То там, то тут подозреваемых избивали камнями; слуги с ненавистью смотрели на господ; господа боялись своих слуг…
Кое-где зашевелились скрывавшиеся в подполье язычники, преследуемые христианской церковью. Старые боги подняли свои головы, вызывая на бой новую религию.
Безопасных дорог почти не стало; всякое движение по дорогам прекратилось. Безоружные крестьяне, покинув хижины, собирались на вершинах гор и забрасывали оттуда прохожих камнями. Камни катились вниз и засыпали, словно обломки рухнувшей горы, целые караваны. Но кто под ними погибал, — этого крестьяне не знали. В каждом проходящем они подозревали изменника.
Местами шныряли вооруженные отряды. Мужчины шли в дружины, а женщины с толстыми дубинами в руках стояли на порогах своих хижин и никого к ним не подпускали — к тем самым хижинам, где еще так недавно каждый путник находил приют.
В эти смутные, волнующие дни конный отряд Самвела с фамильным знаменем Мамиконянов продвигался по дороге из Тизбона к области Рштуник. Это знамя, всегда остававшееся незапятнанным, теперь и защищало и одновременно предавало отряд. Защищало потому, что каждый человек относился к этому знамени с уважением. Предавало, потому что главный носитель этого знамени находился теперь во главе «изменников». Это был отец Самвела — Ваган Мамиконян. Попробуй докажи народу, что Самвел не единомышленник своего отца. Разъяренная толпа имела уши, чтобы слышать, но у нее не было времени для размышлений.
Уже трое суток конный отряд Самвела пробирался по дремучим лесам горной области Рштуник. Эти леса всегда считались гибельными дебрями, полными всяких кошмаров. В них с древнейших времен происходили ужасные события. Там Немврод потерял большую часть своих титанов. Могучий Барзафран, наполнивший Армению еврейскими пленниками, был выходцем из этих лесов. Оттуда же пришел жестокий Маначихр, заливший кровью Ассирию. Там была гора «железоделателей» богатая рудами. В подземельях этой горы работали мрачные люди, изготовлявшие для храбрецов своей страны стрелы и панцири.
С одной стороны Рштуник примыкал к Ванскому озеру, с другой — граничил с неприступными Мокскими горами с их ущельями.
Самвел выехал из замка Вогакан с тремястами прекрасно снаряженных всадников. Теперь же из его отряда осталось только сорок три человека. Двести пятьдесят семь человек погибли в рштунийских лесах.
Ужасны были эти леса! В мирное время в них без вести пропадали отдельные всадники, во время смут эти леса поглощали целые легионы людей. Там, где царствовал вечный мрак, мрачен был и народ. Путник, пробиравшийся через эти леса, видел перед собой лишь узкую тропу, заросшую кустарником, и вверху темный свод густых вершин, сквозь которые едва проникали солнечные лучи; по краям тропинки, справа и слева стояла живая стена вековых деревьев. Больше ничего не было видно. Даже весьма зрячий человек не мог предугадать, откуда ему грозит опасность. Она подстерегала его в любую минуту, на каждом шагу. Враг таился в дуплах деревьев и оттуда, как из-за прикрытия, метал стрелы; или, как змея, заползал под обнаженные корни деревьев и вдруг появлялся с копьем в руке; или как обезьяна, взбирался на сплетенные в высоте ветви, и оттуда посылал смерть. Он был неотъемлемой частью этого гигантского леса, который являлся его обиталищем, не доступным для других.
Был полдень. Отряд Самвела медленно продвигался по лесной дороге. Он пустился в путь ночью, намереваясь выбраться из леса до восхода солнца с тем, чтобы избежать засады. Несколько всадников ехало на большом расстоянии впереди отряда с целью разведки. Рядом с Самвелом ехал Артавазд, позади Арбак, Иусик и несколько телохранителей. И всадники и кони были сильно утомлены. Чтобы поскорее выбраться из леса, они двигались без остановок.
Самвел обратился к старику Арбаку:
— Долго ли нам еще ехать?
— Скоро выберемся из леса, если только эти лапотники опять не налетят на нас, — ответил старик с обычным хладнокровием.
Старик презрительно называл рштунийцев лапотниками.
— Лес кончается по ту сторону вот этой горы, — добавил он.
Ответ удовлетворил Самвела, но возбудил беспокойство юного Артавазда.
— Какой горы? — спросил он сердито. — Я что-то не вижу никакой горы.
Старик ничего не ответил. Он озабоченно оглядывался по сторонам. Лицо его выражало обиду опытного водителя и беспокойство старика, имеющего дело с детьми. «Сам сатана завел нас сюда, — думал он, — надо же было тащиться обязательно по этой проклятой дороге, словно нет другого пути… Не захотели меня слушать, вот и наказаны!»
Узкую дорогу, по которой они ехали, то и дело преграждали засеки. Срубленные деревья, не очищенные от ветвей, лежали поперек пути. Конный отряд Самвела с большим трудом пробирался через такие засеки.
Что-то неладное происходило в этих местах. Окрестности выглядели необычно. В душу Самвела закралась тревога, постепенно все возраставшая. «Хотя бы встретить кого-нибудь, — думал, — можно было б узнать, в чем дело».
— Ни души не видать! — пробормотал Самвел.
— Если хочешь увидеть людей, — сказал старик со свойственной ему спокойной усмешкой, — крикни по-лапотнически: «Ай-уй»— этот клич сейчас же повторится на тысячу голосов. Он дойдет до лесных чащ, и ты увидишь, как из-под земли, со скал, из кустов, отовсюду ринется сюда толпа дикарей. Они, как черти, сидят тут повсюду, только их не видно. — Замечание Арбака было правильно.
После ущелий и скалистых неровных скатов горы Ындзак лес стал постепенно редеть, деревья мельчали. Наверху проступило голубое небо, внизу блеснула темно-синяя поверхность Ахтамарского озера. Окрестные холмы покрывал зеленый ковер сильно разросшегося низкого кустарника.
Было уже далеко за полдень, когда усталые путники добрались, наконец, до пристани в заливе озера, откуда им предстояло переправиться на остров Ахтамар. К этому острову влекли Самвела его горячие надежды, его страстные мечты. Когда он увидел, что пристань, всегда такая оживленная, была не только совершенно безлюдна, но и без лодок, всегда готовых к переправе, радость его сменилась тревогой.
«Что это значит?» — остановился он в изумлении. Ему надо было переправиться на остров во что бы то ни стало! Не побывав на острове, он не мог быть ни спокойным, ни счастливым. Ведь ради этого он свернул с пути, вступил в чащу рштуникских лесов и потерял в их густых зарослях большую часть своих храбрых воинов.
На высотах скалистого острова Ахтамар с незапамятных времен, как воплощение мощи Рштуникских нахараров, стоял замок Ахтамар. Его построил их родоначальник Барзафран при Тигране Втором.
Самвел с грустью оглядывал окрестности. Взор его упал на наружный дворец Рштуникских князей, стоявший у берега, недалеко от пристани. Ужас охватил Самвела. Пламя сделало свое дело; развалины полуразрушенного дворца дымились.
— Что это за дым? — воскликнул он, и его глаза зажглись гневом.
— Горит, — ответил старый Арбак, сокрушенно качая головой. — Поди узнай теперь, какой дьявол его поджег.
Пламя беспрепятственно пожирало красивое сооружение, и не было никого, кто бы пресек его дерзость.
Всадники Самвела были сильно взволнованы. Даже радостное лицо юного Артавазда затуманилось. Самвел же совсем приуныл.
Пока все находились в смущении, вдали показалась чья-то фигура. Самвел чуть воспрянул духом: наконец-то нашелся хоть один человек. Он направлялся прямо к отряду. То был воин, легко вооруженный, с длинным копьем в руке, короткий кинжал его был заткнут за пояс, за спиной висел широкий щит, утыканный железными гвоздями. Подойдя совсем близко, он повернул свое загорелое лицо к всадникам, видно, с тем чтобы узнать, кто они такие, затем воткнул в землю копье, оперся на него обеими руками и взглянул уже на Самвела. Молодой князь не поверил своим глазам.
— Малхас, это ты?! — воскликнул он взволнованно.
Это был его крестьянин и гонец. Малхас, не отвечая, снял с головы повязку, вынул из нее сверток и подал Самвелу. Молодой князь мгновенно побледнел. Этот сверток сообщил ему больше, чем мог бы сказать Малхас. Это было то письмо, которое он вручил Малхасу для доставки в Рштуник.
Ему возвратили письмо. Значит, люди, которые должны были получить это письмо, либо больше не существовали… либо гонец их не нашел. Оба предположения были убийственны для Самвела. Тысячи вопросов теснились в его мозгу. Но он сдержал свое волнение и, обратившись к своим всадникам, сказал:
— Здесь мы немного передохнем!
— У этих огней? — с удивлением покачивая головой, спросил старый Арбак.
— Да, у этих огней, — ответил Самвел.
Всадники сошли с коней и расположились лагерем у пустынного берега. За несколько дней до них здесь, видимо, находился какой-то другой лагерь. Трава кругом была вытоптана, вокруг чернела выжженная земля — следы костров. Кусты были обагрены кровью; быть может, то была кровь животных, а быть может, и людей.
Самвел взял с собой Малхаса и направился к пристани. Дойдя до нее, он спросил:
— Можно ли здесь достать лодку?
— Нет, князь. Разве не видишь — они сожжены.
Молодой князь оглядел берег.
На прибрежном песке валялись обрывки канатов, поломанные весла и остатки полусожженных лодок. Он боялся немедленно спросить о том, что здесь произошло. Его охватывала дрожь при мысли, что ответ раскроет перед ним страшную картину событий.
— Я непременно должен побывать на острове, — снова сказал он гонцу.
— На острове нет никого, мой тер.
Самвел посмотрел в сторону острова. Остров находился от берега на расстоянии часа пути. Вдали, среди волн, гигантским клином высился голый скалистый утес, и на его неприступной вершине вырисовывался дворец Рштуникских нахараров. Он весь дымился. Клубы зловещего дыма, уносимые ветром, расстилались над озером. Так же задымилось и сердце Самвела… Он не в силах был больше сдерживать себя и сказал:
— Говори скорее, Малхас, что случилось!
— Плохо, тер мой, очень плохо! — печально произнес гонец. — Как мне рассказать?..
— Говори, что знаешь, не скрывай ничего!
Гонец все еще не решался.
— Кто уничтожил все это?
— Твой отец, тер мой.
— Отец? — воскликнул Самвел, точно пораженный молнией.
Он схватил себя за голову и умолк на несколько минут.
Малхас добавил:
— Твой отец прибыл вместе с персами и все здесь разгромил…
— Откуда он прибыл?.. Как он пробрался на остров?
Малхас рассказал, что персы явились по воде со стороны Вана. Когда все спали, они ночью осадили остров. Если бы они пришли по суше, то обязательно встретились бы с «лапотниками», и в лесах им пришлось бы плохо. Чтобы избежать этого, они совершили свой набег ночью и водным путем. Неожиданным натиском они овладели и островом и княжеским замком.
«Итак, набег был совершен со стороны Вана. Значит, Ван уже перешел в руки врага…» Самвел с негодованием обернулся к гонцу:
— Если бы ты вовремя доставил письмо, всего этого не случилось бы!
— Я не опоздал, тер мой, я мчался сюда, как птица, но все это произошло до моего прихода.
В письме Самвел сообщал об угрожающей опасности. Но, к несчастью, он сам допустил большую ошибку, задержав письмо. Правда, это была не его вина. Как помнит читатель, его мачеха, княгиня Вормиздухт, очень поздно сообщила ему печальную весть: его отец, прежде чем вступить в Тарон, предполагал напасть на города Васпуракана и затем направиться оттуда в область Рштуник.
— А где сейчас нахарар Рштуника, князь Гарегин? Должно быть, взят в плен?
— Нет, мой тер. Князь Гарегин отправился на поиски княгини.
— Ее похитили?
— Неизвестно, мой тер. Но, как рассказывали люди из замка, во время сумятицы при ночном нападении княгиня исчезла.
— А… княжна Рштуникская?..
Губы Самвела дрожали, когда он задавал этот вопрос; сердце сильно билось от волнения. От ответа на этот вопрос зависел покой его души. Он спрашивал о прекрасной Ашхен, которой был предан всей душой, которую боготворил со всей горячностью любящего сердца.
Волнение его было так заметно, что Малхас поспешил с ответом:
— Успокойся, князь, княжна Рштуникская спасена.
Самвел просиял от беспредельной радости.
— Ты говоришь правду, Малхас? Заклинаю тебя небом и всеми святыми земли! Не обманывай меня, Малхас. Она спасена? Где она теперь?
— Она в своих родных лесах вместе со своими храбрецами.
— Где именно?
— Не знаю, мой тер: войско никогда не стоит на одном месте. Знаю лишь, что недавно ее отряды были на недоступных вершинах Артоса.
Самвел с благодарностью поднял глаза к небу.
— Я отправлюсь в путь, я найду ее! — сказал он с горячим увлечением. — Где бы то ни было, я найду ее.
— Не советую, господин мой, — ответил Малхас с уверенностью опытного человека.
— Почему, Малхас? Ты пугаешь меня? Ради нее я готов отправиться и в ад.
Малхас был одним из преданных слуг князя и отличался как умом, так и храбростью. Свою неуверенность он объяснил Самвелу тем, что князья Рштуни ненавидят Мамиконянов и будут им беспощадно мстить, где бы то ни было. Самвелу надо их остерегаться, так как зло, причиненное рштунийцам, дело рук его отца.
— Глупости, Малхас, — прервал его Самвел. — Ашхен будет мне мстить? Моя любимая? Что ты говоришь?
— Ашхен не будет мстить, но будут мстить окружающие ее храбрые воины. И нежная княжна едва ли сможет сдержать ярость дикой толпы.
— Ошибаешься, Малхас. Все рштунийцы обожают ее, как богиню. Одно ее слово может укротить толпу.
Малхас задумался. Впал в раздумье и Самвел. Два горячих желания боролись в нем. Одно — это страстная мечта увидеть свою любимую невесту, другое — сознание цели, ради осуществления которой он пустился в путь и дал торжественный обет перед своей совестью и богом. Что предпочесть? Любимую девушку или данный обет? И девушка и его цели одинаково были дороги и священны для него. Но огонь любви так ярко пылал в душе Самвела, что он решил отложить осуществление своего обета…
— Слушай, Малхас, — обратился он к гонцу, — иди отыщи княжну и немедленно возвращайся с ответом. Можешь ее найти?
— Могу, мой тер.
— Я буду ждать тебя здесь, у берега. Моим воинам я дам возможность отдохнуть до твоего возвращения. Если надо, возьми с собой людей из моего отряда.
— Нет, они мне только помешают, мой тер, я пойду один.
— Ты должен сегодня же отправиться в путь.
— Я отправлюсь немедленно. Что я должен сообщить княжне, если бог поможет мне найти ее? Что мой князь желает ее видеть?
— Да!
— А если она не поверит, что я послан моим господином?
— Покажи ей вот этот перстень.
Самвел снял со своего пальца перстень и отдал гонцу. Тот поклонился и отправился в путь.
II. Артос
Артос — царь Рштуникских гор. Это гигант горной цепи Рштуник; в его страшных ущельях днем царит полумрак, а ночью — непроницаемая тьма.
Была облачная ночь. На одной из круглых вершин красное пламя потухающего костра освещало мрачные лица людей, которые грелись, расположившись вокруг огня. В суровых объятиях гор летняя ночь дышала леденящим холодом.
Сидящие у костра переговаривались между собой и осматривали свое оружие. Один оттачивал каменным точилом затупившийся наконечник копья, другой чинил разодранный шнур колчана, кое-кто был занят починкой меховых башмаков. Некоторые, лежа на боку, смотрели с особым удовольствием на огонь.
Несколько поодаль от костра, завернутые в толстые войлочные бурки, лежали растянувшись на земле остальные.
Во мраке взгляд различал ряды палаток, похожих на шалаши пастухов. Палатки были сшиты из крепко вытканных шерстяных паласов темно-серого цвета. Ткань эта под дождем делалась настолько плотной, что совсем не пропускала влаги. В этих палатках спали женщины и дети.
Одна из палаток особенно бросалась в глаза. Она стояла несколько поодаль и своими размерами выделялась среди всех. Ее занавеси были опущены. Она была белого цвета и в сочетании с красной подкладкой имела нежно-розовые просветы. Заметно было, что внутри горел свет.
Разговору костра продолжался.
— Нет у нас ни капли стыда, — сказал один из сидевших. — После того, что произошло, нам впору сбросить папахи и накрыться платками наших жен.
— Почему? — спросил другой.
— Ты еще спрашиваешь? Да потому, что мы не мужчины, а бабы. Потеряли мы свою гордость, потеряли нашу царицу. Враг все разграбил. Ее замок сгорел, а мы не могли спасти. Стоит ли после этого жить? Как мы будем смотреть людям в глаза? Каждый вправе оплевать нас и высмеять.
— Верно говоришь! Но откуда мы могли знать о нападении? Спокойно сидели дома, когда враг, как ночной вор, влез в замок и утащил добычу. Если с неба на голову вдруг сейчас свалится камень, что можно с этим поделать? Так свалилось на нас это несчастье! Если бы мы заранее знали, враг не посмел бы вступить на нашу землю.
— Но ведь теперь-то знаем?
— Теперь знаем и отомстим! Кровью врага мы смоем свой позор!
— Это только «начало мук родин», — вмешался в разговор пожилой воин, по-видимому, начитанный, — самое страшное еще впереди. Захватив князей, оставив нас без главы, враг закроет наши церкви, изорвет наши евангелия, растопчет наши святыни и затем скажет: «Поклоняйтесь огню и солнцу, вот ваши боги!» Нас заставят говорить по-персидски и молиться по-персидски, ибо таков язык их богов. Наши хижины обмажут коровьим пометом, потому что таков их обычай. Нам не позволят хоронить покойников, ибо такова их вера. Наши храмы осквернятся дымом и чадом языческих жертвоприношений.
— А кто им позволит? Кто согласится? — раздались голоса.
— Заставят… палкой и плетью заставят, — сказал пожилой воин, качая многозначительно головой.
Один из молодых воинов, лежавший у костра, поднял голову и, широко раскрыв глаза, проговорил:
— Конечно, если мы будем сидеть сложа руки, нас за уши выволокут к огню и скажут: «Склони голову, это твой бог». Но я никому не позволю войти ко мне в дом и тащить меня за уши.
— Они уже вошли в наш дом, — ответил пожилой воин. — Не они ли похитили нашу госпожу?
— Они — изменники!
— Но ведь они находятся у нас в доме, они наши родичи.
— Тот, кто изменил, не наш родич! Мы перебьем всех изменников, будь то отец или брат.
— Перебьем, — подхватили остальные.
— Это мы еще увидим, — сказал старик. — А сейчас надо подумать о нашей княгине. Пока княгиня Рштуника в руках врага, на нас лежит позор.
— Горе нам, — добавили остальные. — Князь увел с собой многих из наших храбрецов. Бог ему поможет: он найдет княгиню и вернет ее нам. Велика будет наша радость.
Разговор шел о Рштуникской княгине Амазаспуи, которая во время осады острова Ахтамар исчезла из княжеской семьи. Ее супруг, нахарар Гарегин, отправился на поиски жены, захватив с собой часть своих войск.
Все вдруг замолчали: по горам пронесся отдаленный рев, напоминавший рыкание тигра; он повторился несколько раз. Воины схватились за оружие и, вскочив, стали напряженно вглядываться в темноту.
— Сюда идут люди, — сказал один.
— Это кричат наши ночные дозорные!
В лагере возникло легкое волнение. Собаки стали сердито рычать.
Спустя немного времени к лагерю подъехала ночная стража. Она вела какого-то человека со связанными за спиной руками, его шея была затянута арканом, за который его тянули. Лицо было в синяках от побоев.
— Шпион! — закричали дозорные.
— Сжечь его на костре! — раздались голоса.
Пленник упорно молчал. Он хладнокровно глядел на дозорных и на людей, стоявших у костра. Его лицо выражало бесстрашие смелого человека.
— Сжечь! — повторила в один голос толпа.
В костер уже подбросили дров, когда пленник зашевелился и спокойно сказал:
— Вы не можете сжечь меня без разрешения княжны Рштуникской.
Все переглянулись. Он продолжал:
— А быть может, я ни в чем не виновен.
— Что делает ни в чем неповинный человек около нашего лагеря ночью? — спросил его.
— Это не ваше дело. Ведите меня к княжне! Пусть она рассудит.
— Княжна почивает, ее нельзя тревожить.
— Подождите до утра, пока она проснется.
— Да кто ты? Откуда? Как тебя звать?
— Я ничего вам не скажу.
Шум и крики долетели до белой палатки; полог несколько приоткрылся и снова опустился. Все посмотрели в ту сторону.
— Княжна еще не спит!
Через несколько минут одна из старых служанок княжны подошла к костру и спросила о причине шума. Узнав, в чем дело, она удалилась, но вскоре вернулась с приказанием от княжны привести к ней шпиона. Накрепко связанного пленника потащили к палатке.
Белая палатка представляла собой легкий подвижной дворец со всеми удобствами. Она состояла из многих частей, разделенных между собой занавесками. В каждом отделении жили служанки княжны соответственно их должностям. В одном жила ее прислуга, в другом — наставницы и воспитательницы, в третьем находилась опочивальня, в четвертом — приемная.
Княжна еще не спала, хотя было уже за полночь. Одетая, она сидела одна на тахте в своей опочивальне. Медный светильник, подвешенный к столбу на тонкой цепочке, похожий на сказочную птицу, освещал своим слабым мигающим светом бледное лицо княжны. Она была грустна, как ангел печали. Золотистые косы, краса рштуникских девушек, небрежно лежали на ее изящных плечах. В глазах светилась глубокая печаль.
Что волновало ее нежное сердце, созданное для радости, постоянного веселья? Тяжелые думы лишили ее сна и покоя. Она думала о разрушенных замках своей страны, о пропавшей без вести матери, которую она любила с детской привязанностью, думала о страданиях отца, подвергающего себя страшным опасностям ради освобождения любимой жены. И, наконец, она думала о Самвеле, от которого давно не получала никаких известий. Чем объяснить его молчание? Ее охватывала дрожь, особенно когда она вспоминала, что причиной всех ее бедствий был отец того человека, которого она так сильно любила и чья любовь делала ее такой счастливой и радостной. А он?.. Самвел… Не изменился ли он? Как он относится к поведению отца? Эти вопросы до безумия волновали бедную девушку. Ее душа, полная сомнений, не находила себе покоя и утешения. Если Самвел остался верен ей и ее роду, то, значит, он должен идти наперекор своему отцу, всей душой ненавидящему род Рштуни. Он может лишиться всего ради любимой девушки. Но способен ли он на такую жертву, которая разрушит его счастье и его будущее?.. И вправе ли она принять эту жертву, лишая тем самым прямого наследника дома Мамиконянов его родового наследства? Разве ее любовь сможет заменить ему эту огромную потерю — ему, человеку, обладающему высшими достоинствами, имеющему право всегда быть счастливым?
Книжная была охвачена этими горькими размышлениями, когда шум, поднявшийся в лагере, привлек ее внимание.
В часы уединения печальные мысли не раз волновали ее чувствительную душу, но когда этого требовали обстоятельства, она умела проявлять достаточное хладнокровие, необходимое при ее положении и знатности рода.
Когда пленника привели к палатке, княжна поднялась с тахты, позвала служанок и в их сопровождении вышла в приемную. Она была в трауре, и потому ее лицо было закрыто черной вуалью.
В приемной стояло пышное сиденье. Она села на него, служанки встали по обе стороны, поодаль разместились придворные. Она приказала слугам зажечь факелы и откинуть полог шатра. Толпа, стоявшая перед палаткой, вся, как один человек, склонилась перед княжной приветствуя ее.
Пленника вывели вперед.
— Кто ты? — спросила княжна.
— Если всемилостивейшая княжна Рштуникская желает узнать мой ответ, пусть прикажет развязать мне руки, — смело ответил пленник.
Окружающие с подозрением смотрели на смелого пришельца, удивляясь его дерзости. «Неужели он посягнет на жизнь княжны?» — думал каждый.
— Развяжите ему руки, — приказала княжна.
Один из приближенных княжны позволил себе заметить:
— Язык его свободен, княжна, пусть говорит, если хочет оправдаться.
— Развязать руки, — повторила княжна.
Приказ был исполнен. Пленник вытащил из-за пазухи сверток шелковой материи и, подняв его над головой, сказал:
— Вот в этом свертке мой ответ! Пусть славная княжна Рштуникская соблаговолит развернуть его.
Один из телохранителей подошел к нему, взял сверток и подал княжне. Охваченная радостным предчувствием и вместе с тем волнением, она развернула сверток. Оттуда выпал перстень. Эта красивая вещь была ей знакома и дорога.
Она спрятала перстень на груди и обратилась к окружающим:
— Человек этот — не шпион, а добрый вестник. Напрасно вы его мучили. Оставьте его наедине со мною, а сами удалитесь!
Удивленная толпа молча рассеялась. Незнакомца пригласили в палатку и опустили полог. Княжна сделала знак, чтобы приближенные тоже удалились, и осталась вдвоем с вестником.
— Как твое имя? — спросила княжна.
— Малхас.
— Где сейчас князь?
— Он расположился лагерем у Ахтамарской пристани.
«Он приехал повидаться со мною, — подумала опечаленная княжна. — А вместо меня увидел развалины наших замков… Значит, ему уже известны печальные события».
— Сколько воинов сопровождает князя?
— Человек пятьдесят, не больше.
— Отчего так мало?
— Не знаю, княжна.
— Зачем прислал тебя князь ко мне?
— Князь отправил меня на поиски славной княжны Рштуникской и поручил сообщить ему о ее местопребывании.
Княжна впала в раздумье; Самвел, ее милый, радость ее жизни, хочет повидаться с нею. Но насколько желанно было это свидание, настолько оно было трудно осуществимо. Где встретиться? Самой отправиться к нему или назначить ему время встречи в лагере? Самвел просил о последнем. Но могла ли она принять его в лагере? Не грозит ли ему неожиданная опасность? Как ей принять сына того человека, который превратил в развалины замки князей Рштуника, который взял в плен княгиню Рштуникскую. Ей было хорошо известно, насколько ее люди были злы на Мамиконянов и вообще на таронцев. Что им сказать? Как их успокоить?
В глубокой нерешительности оглядывалась она по сторонам. Ее чарующее лицо выражало крайнее нетерпение. Она искала выхода из положения, но не находила его. Малхас, как зачарованный, смотрел на нее; он радовался, что его князь завоевал любовь такой прекрасной и умной девушки.
Она встала с сиденья, приблизилась к пологу, закрывавшему вход, осторожно приподняла край и посмотрела на небо. До рассвета оставалось еще много времени. «Нужно воспользоваться ночной темнотой — решила она — отправиться к Самвелу, но увидеться с ним не в лагере Мамиконянов, а где-нибудь в другом месте».
Она снова села на сиденье и обратилась к Малхасу:
— Тебе хорошо знакомы наши места?
— Да, княжна.
— Манакерт знаешь?
— Знаю, княжна, это недалеко от замка Рштуник, где Маначихром были сброшены в озеро семеро диаконов святого Акоба, патриарха Мцбинского.
— Знаешь ли ты родник, что бьет у подножья Манакерта?
— Да, княжна… Родник слез патриарха Акоба Мцбинского, оплакивавшего своих диаконов, сброшенных в озеро. Возле родника растет дикая груша, на которую женщины вешают куски материй, чтобы вылечиться от лихорадки и жара.
— Хорошо! Сколько тебе потребуется времени, чтобы добраться до князя?
— Коли меня опять не задержат, до рассвета буду там.
— Тебя не задержат. Ступай скажи князю, чтобы ждал меня возле «Источника слез».
Отдавая гонцу свой шелковый платок, она прибавила: — Привяжи его к наконечнику копья, и ни один рштуниец не осмелился тронуть тебя.
Она позвала одного из приближенных.
— Проводи этого человека, скажи, чтобы ему возвратили оружие и снарядили в путь.
Малхас до земли поклонился княжне, поцеловал край ее одежды и вышел из палатки.
Княжна осталась одна, довольная и счастливая. Она достала перстень и стала восторженно разглядывать его. Потом самозабвенно прижала его к своим горячим губам, и на ее глазах выступили слезы радости. Этот немой предмет доносил до нее голос того, кто был ей дорог, кто был для нее незаменим. В холодном блеске перстня она чувствовала теплоту дыхания своего милого и душой мчалась к нему.
Она вызвала азарапета[291] и приказала:
— Распорядись оседлать моих коней, десять телохранителей должны сопровождать меня.
— Сейчас? — спросил удивленный азарапет.
— Да, немедленно.
III. «Источник слез»
Солнце уже всходило, но в ущелье, где находился «Источник слез», еще царил глубокий мрак. Вершины гор едва-едва заалели от первых нежно-розовых лучей. Свежий влажный воздух был полон нежных ароматов густой зелени.
Кругом царила тишина. Безмолвно стоял лес, тянувшийся до голубого побережья. Лишь тихое журчание заветного источника, как грустная мелодия, нарушало тишину. Его журчание было похоже на вздохи опечаленного сердца, как будто патриарх Акоб все еще продолжал над ним свой неустанный плач…
Возле источника стояла Ашхен.
Встревоженный взор княжны был обращен на родник печали, серебристо-прозрачные струи которого низвергались из расщелины скалы; они быстро сбегали вниз и, обнимаясь с устилающими их путь разноцветными камнями, как будто с тоской шептали берегам: «Прощайте, мы больше не увидимся…» Кто знает: быть может, и княжна явилась для того, чтобы, также сказать последнее «прощай».
Княжна была вооружена. Старшая у отца, она заменяла ему сына. Поэтому родители дали ей мужское воспитание. Рштуникские девушки вообще отличались храбростью и не отставали в этом от мужчин. На голове ее был маленький позолоченный шлем; стан охватывал стальной панцирь; в правой руке она держала легкое копье. В таком вооружении она походила на Афину Палладу, посетившую источник слез окаменевшей Ниобеи.
Недалеко от родника в тенистой гуще деревьев паслось несколько лошадей. Около них на траве лежали люди. Это была свита княжны.
Охваченная нетерпением, она стояла у источника, с тревогой вглядываясь в ту сторону, откуда должен был появиться Самвел. Ей хорошо было известно, что страна охвачена волнением. Она знала, что в их горах за каждым камнем, за каждым деревом скрывались люди. Известна была ей и смелость Самвела. Но мало ли что могло с ним случиться! Немало испытаний предстоит ему. И ради кого? Ради нее самой! Мысль об этом и радовала ее, наполняя сердце чувством блаженства, и одновременно ужасала, когда она думала о том, что он может стать жертвой любви к ней.
Вдали показались два всадника. Впереди них бежал скороход. Это был вестовой. Лицо княжны вспыхнуло… Время, пока они приближались, показалось княжне целой вечностью.
Всадники прибавили ходу. Отдыхавшие под деревьями воины княжны вскочили на ноги и, натянув луки, направили стрелы на всадников и скорохода. Один из них закричал: «Враг или друг?» — так спрашивают незнакомые люди друг друга при встрече на дороге. «Друг», — последовал ответ.
Княжна все еще неподвижно стояла у источника.
Всадники во весь опор гнали лошадей, не обращая внимания на то, что на каменистой горной тропе можно было в любой момент споткнуться и скатиться в пропасть. Когда они были близко, княжна поспешила навстречу. Один из всадников соскочил с коня и, обняв ее, воскликнул:
— Ах, Ашхен, чем я могу утешить тебя?
— Тем, что ты в моих объятиях!
В течение всего пути Самвел терзался мыслями об Ашхен: в каком состоянии он ее найдет, что скажет, как утешит в постигшем ее семью несчастье? Он придумывал множество слов утешения, которыми собирался успокоить ее опечаленное сердце. Но все эти слова оказались ненужными, когда он услышал ответ Ашхен. В объятиях любимой девушки все было забыто.
Недалеко от «Источника слез», под густой сенью благовонных пихт, на зеленой траве был разложен ковер. Самвел и Ашхен уединились: прибывшие с Самвелом Иусик и Малхас подсели к воинам княжны.
Самвел и Ашхен молчали, как это бывает обычно при сильном душевном волнении. Оба с восторгом разглядывали друг друга, не находя слов для выражения своих чувств.
— Я очень несчастен, Ашхен, — первый нарушил молчание Самвел. — Вместо того чтобы восхищаться сладостью твоей любви после столь долгой разлуки, вместо того чтобы наслаждаться бесконечным блаженством твоего присутствия, я вынужден говорить с тобой о горестных и неприятных вещах. Мы оба в трауре. Ты потеряла мать, я — отца. Твоя мать поплатилась за свою добродетель, а мой отец потерянный человек, ибо он злодей. Вступив в пределы твоей страны, я прошел сквозь огонь и пепел. Я видел развалины гордых замков твоих предков. Стыд мне и позор! Ведь все это сделано руками моего отца, того, кто будет твоим свекром!
— Зачем ты говоришь об этом, Самвел? — прервала его княжна. — Зачем ты, точно преступник, оправдываешься передо мной! Я готова скорей умереть, чем хотя бы немного усомниться в тебе.
— Я знаю, Ашхен, насколько ты добра, насколько ты выше обыкновенных смертных. В твоей безграничной любви все мои проступки сгорают, как в пламени огня. Но моя совесть неспокойна, Ашхен! Я предвидел грядущую опасность. Я видел, как зловещая туча надвигалась на твою страну. Я поспешил предупредить тебя и твоего отца. Но беда пришла быстрее, чем мое письмо…
— Видно, такова воля всевышнего, — спокойно ответила княжна. — Но оставим это, Самвел. Лучше скажи мне, зачем ты приехал сюда и куда намерен отправиться?
Вопрос был поставлен в упор. Самвел не знал, что ответить. После минутного замешательства он сказал:
— Зачем я здесь… и куда направляюсь? Это очень прискорбный вопрос, дорогая Ашхен. Ответить на него сразу не так-то легко. Прежде я должен снять пелену с твоих глаз и открыть тебе все бедствия, постигшие нашу страну. Тогда ты сама поймешь, для чего я здесь и куда направляюсь.
Отрезанная от всего мира родными горами, Ашхен имела крайне смутное представление о том, что происходило в Армении. Хотя и до нее дошли горестные известия, но они были настолько туманны, что не давали возможности понять, что думают делать злонамеренные люди, вызвавшие сильную смуту в стране. Самвел поспешил осведомить ее о совершившихся и предстоящих событиях. С сильным огорчением описал он измену своего отца и Меружана Арцруни, раскрыл злые намерения этих предателей и взятую ими на себя позорную роль в деле уничтожения христианства и распространения персидской веры в Армении. Поведал об их намерении сокрушить престол Аршакидов и создать в Армении новое царство под верховной властью Персии. Рассказал о торжественной клятве, принесенной ими царю Шапуху, и об их прибытии в Армению вместе с персидскими войсками. Рассказал об их варварских поступках и об их жестокости, связанной с их целями, — словом сообщил все, что знал и что предвидел.
Княжна слушала его в глубокой тревоге. Ее пламенные глаза выражали боль и гнев. Ее прекрасное лицо менялось много раз, пока Самвел не кончил свое печальное повествование.
— А что собираются предпринять армянские нахарары против всех этих зол? — спросила она.
— Некоторые из них на стороне изменников, но оставшиеся верными престолу и церкви поклялись стать как один и либо умереть, либо спасти родину от угрожающей опасности.
Затем он рассказал о приготовлениях нахараров, оставшихся верными родине, о назначении Мушега спарапетом, о призыве царицы Парандзем вооружиться против общего врага, и много другого. Свой рассказ он закончил следующими словами:
— Теперь я могу сказать, дорогая Ашхен, зачем я приехал и куда направляюсь. Передо мною два дорогих существа, находящихся в опасности: моя родина и девушка, которую я люблю. И родину, и тебя я почитаю в равной мере; и родина, и ты одинаково для меня бесценны. И голос родины, и твой голос призывают меня. Я долго страдал при мысли, на чей зов мне откликнуться. Я поклялся пожертвовать собой и ради родины, и ради тебя. Но я не в состоянии решить, кому из вас принести свою первую жертву. Дорогая Ашхен, укажи мне тот путь, по которому мне следует идти!..
— Спасение родины прежде всего! — проникновенно ответила княжна. — Ты не будешь достоин меня, Самвел, если не прибавишь к бесконечным потокам крови, проливаемой за спасение нашей родины, и свою кровь. И я не буду достойна тебя, если не сделаю того же!..
— Ты? — воскликнул Самвел, и его грустное лицо засияло радостью. — Позволь обнять тебя, ангел мести и справедливого гнева!
Они обнялись.
— Никакие радости не могли бы так утешить меня, как эти слова из твоих уст, дорогая Ашхен! Они наполняют меня священной гордостью, потому что меня любит достойнейшая и храбрейшая из всех девушек Армении.
— Я буду сражаться за родину, непременно пойду! — воскликнула девушка горячо. — Моя мать пропала, отец отправился на ее поиски. Не знаю, вернется ли он? Наши горцы волнуются: я едва сдерживаю их ярость. Они ведь так сильно любили мою мать! Часть войска я оставлю для охраны нашей страны, а другую возьму с собой и присоединюсь к тому войску, которое собирается под знаменем царицы Парандзем. Пусть у армянской царицы среди ее храбрецов будет и девушка-военачальник. Это ее порадует!
— Твои намерения достойны высокой похвалы, — сказал Самвел. — Если бы ты не пришла к такой мысли, дорогая Ашхен, то я предложил бы тебе то же самое, но ты опередила меня. Ты еще не знаешь, что мой отец и Меружан Арцруни получили особые приказы от Шапуха захватить и держать в крепостях жен и детей нахараров до тех пор, пока их мужья не сдадутся. И твою мать увели с той же целью. Ты счастливо спаслась, дорогая Ашхен! Если бы ты не отправилась со своим отцом на охоту, постигло бы несчастье, так как тебя бы тоже увели. Армянским нахарарам известно это распоряжение Шапуха, поэтому многие из них спешат найти убежище вместе со своими семьями в главной ставке армянской царицы.
Последние слова Самвела, видно, задели гордость княжны, и она довольно строго сказала:
— Не для того я отправляюсь в лагерь армянской царицы, Самвел, чтобы искать там убежище или защиту. Я хочу небольшие силы Рштуника присоединить к воинству всей Армении. Если бы я захотела прятаться и спасать себя, то для этого в наших горах имеется много неприступных мест. Какие именно приказы получили твой отец или Меружан Арцруни от Шапуха, я не знаю; об этом я впервые слышу от тебя. Но я знаю твердо, если бы враг приблизился к нашим замкам со стороны суши, персы не только не смогли бы ими овладеть, но и сами погибли бы в наших горах. Так оно и случилось, но не совсем…
Княжна подробно рассказала о том, чего Самвел еще не знал. Подтвердила, что в ночь нападения она вместе с отцом была на охоте и это спасло их от рук врага. В замке оставалась лишь мать с небольшим числом охраны. Враг наступал с двух сторон, и для этого разделил свое войско на две части. Часть приближалась по суше, а другая водным путем. Отряд, нападавший с озера, не встретил сильного сопротивления и овладел замком. А те, что наступали с суши, большой частью погибли в горных ущельях и пещерах. Очень немногим из них удалось бежать в Ван.
Самвел только теперь понял причину тех военных приготовлений, следы которых попадались ему по пути и так настойчиво привлекали его внимание. Он обнял княжну и воскликнул с воодушевлением:
— Я верю, дорогая Ашхен, в твои страшные горы, в твои темные леса и в храбрость твоих горцев! Я на себе испытал их мощь…
— Каким образом? — спросила княжна, высвободившись из его объятий.
— Когда я въезжал в Рштуник, со мною было триста всадников, теперь же у меня осталось только сорок три человека.
Княжна побледнела.
— Как ты неосторожен, Самвел! — смущенно сказала она. — Отчего ты не предупредил меня о своем прибытии? Зачем было терять людей?
— Я уже говорил, что написал тебе письмо, но оно не дошло до тебя. Но довольно об этом! — сказал он, меняя разговор. — Оставшихся сорок три человека мне вполне достаточно, чтобы отправиться туда, куда я задумал.
Последние слова он произнес с таким выражением, что княжна вынуждена была спросить:
— А куда ты отправляешься?
— Я еду к отцу…
— Ты все еще признаешь его своим отцом, Самвел? — воскликнула княжна и в гневе отвернулась.
— Да, Ашхен! Я еще люблю его. Я должен с ним повидаться, обязательно должен. Я еще надеюсь на то, что мольбой и слезами смогу отклонить его от злодейских намерений. Если же мне не удастся, тогда…
— Что ты тогда сделаешь?
— Не спрашивай об этом, дорогая Ашхен, умоляю тебя, не спрашивай!
Княжна задумалась. Такого ответа она не ожидала. Она не думала, что Самвел мог скрывать от нее вещи, ему известные, так как была уверена, что для нее открыты и ум и сердце Самвела. Что же вынуждает его таиться перед нею?
— Хорошо, я не буду об этом спрашивать тебя, Самвел, — сказала она печально, — но я чувствую в твоих словах что-то страшное.
Улыбка Самвела ее взволновала, когда он спокойно ответил:
— Если даже в моих словах кроется тайный смысл, можешь быть уверена, дорогая Ашхен, что в них нет ничего страшного, они ясны и светлы. Пока только так я могу успокоить тебя: я не собираюсь делать ничего плохого или бесчестного. А моя встреча с отцом для меня необходима…
— Напрасная трата времени, Самвел. Ты все еще надеешься, как ты говоришь, мольбой и слезами воздействовать на отца. Но почему ты не думаешь, что и он так или иначе постарается склонить тебя на свою сторону? Я не сомневаюсь, что, как только ты явишься, он непременно предложит тебе помочь ему. Ты, конечно, откажешься. Тогда он захватит тебя и, чтобы ты ему не мешал, посадит в темницу и таким образом лишит тебя возможности выполнить все твои благие намерения.
— Он не будет жестоким!
— Он не пощадил мою мать, свою кровную родственницу, не пощадит, несомненно, и родного сына.
«Тогда и я его не пощажу», — сказал про себя Самвел и, обратившись к княжне, добавил:
— Надейся на мое благоразумие, дорогая Ашхен, я не допущу, чтобы он поймал меня в ловушку.
Но княжну эти слова не успокоили.
— А что думает твоя мать? — спросила она.
— Она во всем согласна с ним. Тебе ведь известно ее тщеславие и ее ненависть ко всем Аршакидам. Шапух обещал ее брату Меружану армянское царство, если он выполнит его приказ. Это обещание, на которое она возлагает большие надежды, совсем свело ее с ума. Она готова идти на все: принять персидскую веру, уничтожить христианство, лишь бы ее брат стал царем Армении.
— А что обещал Шапух твоему отцу?
— Должность спарапета Армении.
— А мать твоя знает, что ты едешь к отцу?
— Ей ли не знать! Она сама снарядила меня в путь с такой пышностью, как это подобает скорее царю. Она дала мне конный отряд — ратных людей, погибших в ваших лесах. Я доволен, что избавился от него. Он был мне тяжелой обузой. Надо благодарить ваших горцев за то, что они облегчили мой груз…
Теплые лучи солнца заливали долину; было уже за полдень.
Княжна и Самвел все еще разговаривали. Ашхен не сомневалась в искренности Самвела: она знала, насколько он был честен и правдив. Но она беспокоилась за его жизнь, с которой была связана и ее жизнь. Предприятие Самвела казалось ей весьма опасным, хотя она и надеялась на его ум и храбрость. Она не принуждала любимого человека отступить от своих намерений, но спросила:
— Когда же ты вернешься?
— Этого я не могу сказать, дорогая Ашхен, потому что не знаю, когда и где найду отца. Но я надеюсь, что скоро вернусь.
— Где мы встретимся?
— Здесь. Отсюда мы вместе отправимся в лагерь царицы Армении.
— Я охотно дождалась бы тебя, Самвел, если бы твердо знала, когда ты вернешься. Но я решила на этой же неделе отправиться в лагерь царицы. Там мы и увидимся, если на то будет воля божья. — При этих словах голос ее задрожал.
Самвел взял ее руку в свои ладони.
— Решено, — сказал он со скрытым волнением, — мы встретимся в лагере царицы. Я надеюсь, что при встрече ты, дорогая Ашхен, поцелуешь меня в лоб и скажешь: «Да, ты достоин быть моим мужем», и это будет лучшей наградой за то тяжелое испытание, к какому влечет меня любовь к родине. Относительно всего мы условились. Я не стану больше задерживать тебя: знаю, твои горцы ждут тебя. Обними меня, дорогая Ашхен, поцелуй и благослови. Бог услышит мольбу невинных уст. Я отправлюсь в стан врагов. Мой путь — путь гибели или славы. Твой поцелуй вдохновит меня и окрылит, а твое благословение устранит невзгоды. Обними же меня, дорогая Ашхен!..
Они обнялись. Тихие потоки слез долго лились из их очей, но они не в силах были угасить пламя горящих сердец. «Источник слез» печальным журчанием вторил их глухим рыданиям…
IV. Амазаспуи
У Вагана была сводная сестра из рода Мамиконянов, сестра Вардана, по имени Амазаспуи, которая была женой владетеля Рштуникского гавара Гарегина… А нечестивые Ваган и Меружан приказали начальнику крепости (цитадели Вана) притеснять княгиню, если она ни примет законов маздеизма. Когда Амазаспуи не согласилась принять религию маздеизма, то ее повели на высокую башню… раздели донага… и, привязав ноги веревкой, повесили вниз головой с того высокого места. И так она умерла на виселице…
Фавстос Бузанд
Луна торопливо скользила к высоким вершинам Сипана, которые тонули в густом, гнетущем мраке. С непостижимой грустью расставалась она с красивой, живописной местностью, где каждую ночь перед ней раскрывались чудесные картины. Внизу беспокойно шумело Ванское озеро. Оно волновалось тоскливо, как влюбленный перед вечной разлукой. В пылкой страсти похитило оно с неба трепетные лучи бледной царицы неба и, сверкая, обнималось с ними и грустным шепотом волн, казалось, говорило им: «Не убегайте, не покидайте меня во мраке». Но лупа ускользала…
На восточном берегу озера высились, башни и зубчатые стены древнего города. При свете луны этот город был похож на древнюю волшебницу, выглядевшую, несмотря на свою старость, все еще красивой. Там, в своих воздушных дворцах, среди висячих садов[292], самая пленительная чародейка мира Семирамида развлекалась некогда любовью молодого армянского царя.[293]
Это был город Ван.
Луна скрылась за высотами Сипана, оставив за собой глубокий мрак. Исчез из глаз прекрасный город, исчезло и сверкающее озеро. Теперь доносился лишь глухой ропот волн, словно кто-то, охваченный горем, жалобно всхлипывал в ночной тишине.
Свет луны сменился другим светом.
В воздухе над городом замелькали многочисленные огненные шары. Казалось, что все небо охвачено огромным пожаром, что загорелись звезды и падают на землю. Однако эти пылающие шары поднимались снизу; они перевертывались в воздухе и затем уже падали вниз. Это был огненный праздник, дьявольская игра с огнем…
Раскаленный дождь становился все сильнее. Порой отчаянные крики глухим эхом сотрясали окрестности. Эти крики делались особенно громкими после сильных огненных вспышек, — так после сильного удара молнии грохочет разгневанное небо.
Ван был осажден.
Его осадили дикие рштуникцы вместе со своими соседями сасунцами. Горцы осадили Ван, как когда-то несчастная Троя была осаждена эллинами. Ревностный эллин дрался за честь прекрасной Елены, которую похитил бесстыдный любовник из гостеприимного дома ее мужа-царя. А рштуникцы дрались за любимую княгиню своей страны, которую безжалостно похитил брат.
Горцы разместились на вершинах соседних холмов и оттуда метали на город огонь. Их огнемечущими орудиями были пращи, грубо сделанные из железных цепей, чтобы они не горели. Туда вкладывали связки тряпок, пропитанных смолой, нефтью или другой легко воспламеняющейся жидкостью, куски холста зажигали и, вращая в воздухе, метали в сторону города. Некоторые с помощью тех же пращей бросали камни.
Вскоре наружному огню стал отвечать огонь изнутри. В разных частях города вспыхивали огненные языки: то пылали внутренние строения.
Войско, защищавшее город, приведенное Меружаном Арцруни и Ваганом Мамиконяном, состояло исключительно из персов. Во время рокового смятения, оно было занято не столько борьбой с внешним врагом, сколько с жителями города, которые в ужасе выбегали из своих домов, охваченных пожаром. Войско опасалось, как бы жители города не открыли ворота и не впустили врагов.
Между тем огонь все усиливался. Сперва загорелись копны сена, сложенные на крышах конюшен, затем саманники и склады… Богатый рынок горел, как кусок материи. Огонь возник в столярном ряду и оттуда перекинулся на дома горожан. Люди, уже не заботясь о борьбе с огнем, думали только о бегстве. Они бросались во все стороны, но непроходимые потоки огня повсюду преграждали им путь. Отчаянные крики объятой ужасом толпы смешивались с треском рушившихся зданий и еще больше усиливали общее смятение.
Пожар освещал громадное каменное чудовище в северной части города, упирающееся чуть ли не в самое небо. Оно принимало все более страшный вид по мере того, как усиливался пожар. Гордо смотрело оно на море огня, бушевавшее у его подножия, и, казалось, мрачно говорило: «Ничтожная стихия, свирепствуй сколько хочешь, до меня тебе не добраться».
Это была цитадель Вана, каменное гигантское укрепление, как будто сооруженное самой природой. Это была та неприступная крепость, чудеса которой армянские предания приписывали Семирамиде.
Крепость походила на безобразного громадного верблюда, преклонившего колени и зарывшегося туловищем в прибрежный песок. Его шея была вытянута к востоку, а массивный круп — к западу. По двойному горбу, доходящему до облаков, разбросаны были огромные башни и неприступные куполообразные бастионы.
Казалось, усилия всего мира не могли бы сокрушить его скалистые бока, обладавшие твердостью стали. В каменных недрах его были высечены бесчисленные помещения для жилья, глубокие пещеры, залы и коридоры полны таинственности.
В одной из зал, где некогда восседала Семирамида, откуда она любовалась на синее зеркало Ванского озера, на чудесный вид Варагской горы и восторгалась красотами Армении, теперь находилась другая властительница.
Она спала таким приятным, спокойным сном, какой добрые гении не часто дарят смертным, спала, одетая, на своей роскошной постели. На прекрасном лице ее играли отблески пожара. На белом гладком лбу, обрамленном черными завитками волос, сверкали капли испарины. Пунцовые губы по временам чуть-чуть вздрагивали, и по раскрасневшемуся лицу пробегала легкая чарующая улыбка. Тяжелое дыхание приподымало пышную грудь; украшенную драгоценным ожерельем. Ее обнаженные руки, на которых сверкали браслеты, были скованы двумя железными кольцами, соединенными короткой цепью; одна нога была прикована к постели. Она была похожа на ангела в заключении, виновного своей невинностью.
Пышный чертог — ее тюрьма — был залит сквозь широкие окна ослепительным заревом пожара. При этом страшном освещении она выглядела еще прекраснее.
Крики и шум, доносившиеся отовсюду, разбудили ее. Она приподняла голову и с изумлением стала осматриваться. Несколько минут ей казалось, что все это во сне. До ее слуха долетел глухой топот множества ног и отчаянные, душераздирающие крики… Казалось, что началось светопреставление и закачалась вселенная. Ее охватила дрожь. Она попыталась подойти к окну, но цепь на ноге мешала ей. Шум все усиливался, и освещение в комнате становилось все ярче. Теперь было страшно смотреть вокруг. Она закрыла руками глаза и рыдая воскликнула:
— Господи, что же это такое?
В это время кто-то тяжелой, твердой поступью поднимался по каменной лестнице замка, высеченной в скале. Свой взор он молча обращал то на разгоравшийся в городе пожар, то на неровные ступеньки под ногами. Его сопровождал воин с фонарем в руках, освещавший лестницу, хотя в этом и не было никакой нужды.
Долго поднимались они, пока не взошли на самый верх цитадели и остановились у двери помещения, где находилась Амазаспуи. Там он приказал воину подождать его, а сам вынул из кармана тяжелый ключ, отпер железную дверь и вошел.
— Привет тебе, дорогая Амазаспуи, — сказал он, подходя к княгине. — Я полагал, что ты еще почиваешь, но, как видно, шум потревожил тебя.
— Что это за шум? — с гневом спросила она.
— Это крики ликования, дорогая Амазаспуи, как было в первую ночь твоей свадьбы! Видишь, как прекрасно освещен город. Нет, тебе не видно. Сейчас я покажу…
Он подошел, отстегнул цепь на ее ноге, взял княгиню за руку и подвел к окну.
— Полюбуйся!
Точно ад со всеми его ужасами предстал перед взором несчастной женщины. Она задрожала всем телом, ноги у нее подкосились, и она упала на руки безжалостного посетителя, который схватил ее и положил на постель.
Вошедший был Ваган Мамиконян, отец Самвела и дядя женщины, лежавшей без чувств.
Он был высокого роста, крепкого сложения и, как все Мамиконяны, очень приятной наружности. Суровое лицо выражало упорство и жестокость человека с непреклонной волей. Он носил персидские знаки отличия.
Внезапный обморок княгини привел его в большое смущение. Он не считал Амазаспуи такой слабой, потому-то и поступил с ней так неосторожно.
Но обморок княгини продолжался недолго. Она открыла глаза, полные слез, и, взглянув на него, сказала:
— Этого ты хотел, Ваган? Или так уже окаменели в тебе человеческие чувства, что ты издеваешься над плачем и стенаниями тысяч семей, не замечая их смерти в пепелище родных очагов?
— Ты напрасно меня порицаешь, дорогая Амазаспуи, — ответил тот спокойно, — это не я, а твой супруг мечет огонь на город.
Гневное лицо княгини побледнело еще больше.
— Мой муж? — воскликнула она дрожащим голосом, — этого быть не может! Он за всю свою жизнь не обидел даже муравья. Сними с меня цепи, Ваган, и я сию же минуту, если он виновен, отправлюсь к нему и изолью на него весь свой гнев.
— Это он, во главе своих диких горцев, осаждает город.
— Если эти разрушения причиняет мой муж, то, несомненно, только из-за меня. Зачем же ты привез меня сюда, Ваган, зачем ты разгневал добродетельного человека? Ты разрушил наши замки и, не удовлетворившись этой жестокостью, захватил в плен меня, близкого тебе по крови человека. В чем моя вина? Зачем я здесь, в этих цепях, в этой каменной темнице, куда заключают только самых тяжких преступников? Для чего все это? Для того, чтобы добрейшего и милостивейшего человека, моего мужа, сделать зверем, чтобы принудить его к этой дьявольской игре с несчастным городом?
Она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Ее слезы тронули князя Вагана. Едва сдерживая смущение, он взял ее скованную руку и с чувством произнес:
— Эти руки, привыкшие всюду сеять добро, теперь закованы в цепи, да, именно твоим родичем. Но не проклинай меня, дорогая Амазаспуи: бывают в жизни, особенно в жизни государства, такие горькие времена, когда и родные, и чужие — все одинаково терпят наказание, если препятствуют тому великому делу, которое совершается для блага всего народа, для его будущего счастья. Мы — я и Меружан — служим этому делу.
— Что это за дело? Чему вы служите с Меружаном?
— Тебе известно, дорогая Амазаспуи. Чего же ты еще спрашиваешь?
Печальные глаза княгини зажглись гневом.
— Стыдись, Ваган! — воскликнула она. — Позорным делом ты бесчестишь славный род Мамиконянов. Да будет проклят тот день, когда ты появился на свет! Лучше бы твоя мать не родила тебя — кару и несчастье земли армянской!
Князь молчал. По его телу пробежала холодная дрожь, а всегда спокойное лицо судорожно исказилось.
— Ты проклинаешь меня, Амазаспуи?
— Ты достоин этого, Ваган. Тот, кто изменил родной церкви и стремится распространить языческую веру персов на своей земле, тот, кто изменяет своему царю и хочет утвердить у себя на родине варварскую власть персов, тот, кто огнем и кровью заливает родную страну, — тот достоин только проклятия. Тебя будут проклинать тысячи матерей, которые лишатся своих сыновей, будут проклинать тысячи жен, оставшиеся вдовами. Тебя будут проклинать тысячи сестер, братья которых падут в междоусобной борьбе… Тебя будут проклинать тысячи детей, оказавшиеся сиротами… Проклянет тебя будущее поколение, вспоминая о твоих злодеяниях…
Эти слова поразили князя в самое сердце.
— Да, — ответил он печально, — много будет жертв, и мне тяжело, но иначе нельзя. Без жертв не может быть спасения. Пусть настоящие и будущие поколения проклинают меня, — моя совесть спокойна. Я убежден, что не делаю ничего плохого. Почему ты, Амазаспуи, забываешь о прошлом? Почему ты забываешь бедственную историю недавних времен? Когда Тиран, отец заключенного ныне царя, желая уничтожить род нахараров Арцруни и Рштуни, велел их всех перебить без различия пола и возраста, кто были те двое детей, которые спаслись от общего избиения?
— Один из них был Тачат Рштуни, отец моего мужа, а другой Шавасп Арцруни — отец Меружана.
— Да, только эти двое остались в живых из двух больших нахарарских родов. И когда этих двух мальчиков палачи привели к Тирану, чтобы убить их, кто были те двое, что с обнаженными мечами в руках бросились к площади казни и спасли невинных детей?
— Один из них был твой отец — Артавазд, а другой — твой брат Васак.
— Да, Амазаспуи, один был мой отец, а другой — мой брат. Из-за этих двух мальчиков они бросили службу у Тирана, покинули свою родовую вотчину Тарон и укрепились в горах Тайка. Там они вырастили, воспитали мальчиков и выдали за них своих дочерей. От Шаваспа родился Меружан Арцруни, а от Тачата — Гарегин Рштуни, твой супруг. Таким образом возродились два уничтоженные было нахарарских рода…
— Я не понимаю, почему ты мне напоминаешь об этом? — прервала княгиня.
— Потому, Амазаспуи, что на доме Аршакидов лежит кровавое пятно, и кровь должна быть смыта кровью…
— Но не кровью невинного народа.
— И кровью невинного народа, если он по глупости выступает защитником сгнившего, безнравственного дома Аршакидов. Если бы мы раньше избавились от этой династии, то наша страна была бы счастлива, так же, как и мы.
— Твоя голова забита пустыми бреднями, Ваган, — сказала с негодованием княгиня. — Страсть, ненависть, безудержная мстительность ослепили тебя и лишили всего человеческого, угодного богу. Скажи мне, в чем вина сына Тирана — Аршака, нашего нынешнего несчастного царя, обреченного на страдания в мрачной темнице Ануш? Вина ли его, что Тиран поступил дурно?
— Его руки тоже испачканы кровью, — с ядовитой усмешкой ответил князь. — Имейнекоторое самолюбие, дорогая Амазаспуи. Кто велел убить твоего отца и моего брата?
— Царь Аршак.
— Кто велел перебить наших зятей — весь род Камсараканов и алчно захватил их город Ервандашат и замок Артагерс?
— Царь Аршак. Однако, что ты хочешь этим доказать, Ваган? Восстание твое и Меружана направлено не против аршакидских царей, а против государства. Пойми это! Тиран или сын его Аршак могли быть плохими царями. Но в чем виноваты их наследники? Быть может, сын Аршака Пап будет для нас хорошим царем.
— Ошибаешься, Амазаспуи: от змеи не родится рыба, а от волка — ягненок!
— Нет, это ты ошибаешься, Ваган! Вот родился же у тебя Самвел, наиблагороднейший юноша.
Едва ли на всем свете можно было найти человека, который посмел бы в лицо так едко порицать этого надменного князя и остался бы безнаказанным. Ваган не только уважал Амазаспуи, но и любил ее. Среди всех дочерей из рода Мамиконянов Амазаспуи выделялась своим высоким благонравием и умом. Поэтому она пользовалась общей любовью. Князь, заметив, что спор принимает неприятный оборот, пренебрег обидой, нанесенной ему родственницей, и сказал:
— Если Самвел не последует за мной, он мне больше не сын. Но оставим это. Мы отвлекаемся от нашего, разговора, Амазаспуи. Я говорил тебе о преступлениях Тирана и Аршака, чтобы доказать, что мы с Меружаном имеем все основания ненавидеть Аршакидов. Еще, более убедительные основания имела ты, Амазаспуи, потому что Аршак убил твоего отца. Так же, как и твой супруг, потому что Аршакиды велели перебить весь его, род. Но и ты, и твой муж не только остались верными, убийцам ваших предков, но даже со всей настойчивостью защищаете их. Кто их защищает, тот наш враг. А с врагом мы поступаем по-вражески. Вот почему я и Меружан разрушили ваши замки и привели тебя сюда в качестве пленницы!
— Для чего же вы привели меня сюда?
— Чтобы твой муж сдался.
— Вот видишь, вместо того чтобы сдаться, он сжигает город Меружана и бросает нас в море огня. Что вы выгадали своей жестокостью, Ваган? Ничего! Вы только вызвали кровавую междоусобную войну. И эта война будет продолжаться бесконечно и примет еще более ужасный характер, если вы не свернете с вашего злодейского пути. Повторяю: тот, кто пытается уничтожить христианскую веру и престол своего государства, — тот изменник и, предатель. Ни я, ни мой муж никогда не будем союзниками предателей!
— Напрасно ты так думаешь, Амазаспуи. Мы, то есть я и Меружан, совершили бы большое преступление, если бы, как ты говоришь, ставили своей целью уничтожение религии. Мы стараемся вернуть наш народ к его исконной религии, к любимым богам наших предков. Большинство народа придерживается старой веры и ненавидит христианство. Что дало нам христианство? Лишь то, что сблизило нас с коварными византийцами и рассорило с нашими старыми друзьями и союзниками — персами.
— Разве можно, Ваган, расценивать веру, исходя из политических соображений и превращать ее в орудие личных интересов? И ради того, чтобы подружиться с персами, отказываться от своей веры? Значит, надо переменить…
— Я еще не кончил, Амазаспуи, ты все время меня перебиваешь.
— Кончай.
— Напрасно ты думаешь, что мы стремимся уничтожить родной нам царский трон. Разве Аршакиды нам родные? Они пришли из чужой страны парфян. Мы их только терпели, терпели их и персы, пока в Персии также господствовала династия Аршакидов. Ныне в Персии эта династия пала, и установилось новое, Сасанидское государство. Сасаниды не потерпят христианскую династию наших Аршакидов. Мы желаем уничтожить этот камень преткновения. После этого мы будем иметь своего родного царя, потому что Шапух обещал дать армянское царство Меружану.
Княгиня презрительно улыбнулась и, покачав красивой головой, сказала:
— Можно ли верить обещаниям вероломного Шапуха? Это же какой-то бред, которым может быть охвачен только сумасшедший Меружан. Пусть так! Но если согласиться с твоими рассуждениями, Ваган, что Аршакиды чужды армянам, так как они пришлые парфяне, то все мы окажемся чуждыми Армении. Например, мы, Мамиконяны — китайцы, предки твоего дорогого Меружана — ассирийцы, и еще многие из носителей нахарарских фамилий являются чужестранцами. Но время сделало нас всех армянами. Теперь все мы говорим на армянском языке, исповедуем армянскую веру и породнились с армянами. То же произошло и с Аршакидами.
Терпение Вагана истощилось. Он встал, подошел к княгине и сказал:
— Ты любишь спорить, Амазаспуи; ты и в детстве всегда спорила, когда мы во дворе замка играли в мяч. Но я скажу тебе очень коротко. Вот наша цель: христианство должно быть уничтожено, династия Аршакидов должна пасть, это необходимо для успокоения нашей страны. Меружан должен быть царем Армении под властью Персии. Мы должны объединиться с персами в общей религии ради большего укрепления нашей дружбы. У нас с ними не должно быть различий в религии.
— Пусть они присоединятся к нам, — прервала княгиня, — пусть они примут христианство, и тогда между нами не будет различий в религии.
— Слабые всегда следуют за сильными. Мы слабы, а они — могущественны.
— По христианскому учению, самый малый является самым великим, а слабейший — могучим.
— Это бредни! Слабый — слаб, могучий — могуч. Ты должна сказать одно, Амазаспуи: согласна ли ты с нами?
— Нет!
— Кто не с нами, тот наш враг!
— Я не считаю себя твоим другом, хотя ты мой дядя.
— Кто не с нами, тот будет наказан, и наказан беспощадно.
— Какое же еще может быть более сильное наказание, помимо этого? — она указала на свои оковы.
— Есть наказание и пострашнее…
— Я готова, Ваган.
— Обдумай получше!
— Я все обдумала и решила…
Ужасные крики усиливались с каждой минутой. Маленькая комнатка, в которой они находились, осветилась ярко-кровавым светом. Спор прервался. Княгиня закрыла глаза и воскликнула:
— Вот, Ваган, ответ на твои угрозы… Вот, чего вы добиваетесь: огня и крови!
V. Утро после ужасной ночи
Было еще темно, до рассвета оставалось немного времени. Всадник на белом коне, окруженный толпою телохранителей, скакал по улицам взбаламученного города, появляясь там, где волнение было особенно сильным. Бесстрашно проносился он сквозь огонь и около зданий, уже готовых рухнуть. Его исключительная смелость заставляла думать, что он заколдован и никакая сила не смела его коснуться. В народе так о нем и говорили.
Это был Меружан Арцруни. Природа наделила его не только внушительной наружностью, но и громадным честолюбием, а жестокость его не имела границ. Кровь его предков ассирийцев, смешавшись с кровью армян и «вишапидов» из замка Джаймар, придала его могучему телу силу дракона. Грандиозная фигура его была стройна; он был очень красив собою, подобно Сатаилу — ангелу смерти.
В медных доспехах, при ярком свете пожарища, как светозарное солнце, ослепляющее взор, блистал он своей знатностью.
Повсюду, где он появлялся, смолкал шум, стихало волнение. Но зато вслед ему неслись глухие проклятия… Жители его собственного города проклинали его. А было время, и это было не так давно, когда на улицах того же города юные девушки бросали цветы под ноги его белого коня, а женщины воздавали ему хвалу…
Он проехал через большую площадь к своему дворцу. Прекрасный замок, украшенный колоннами, пылал. Он горел не от вражеского огня, а от поджогов горожан.
«Раз горят наши лачуги, пусть горит и дворец» — говорили они, поджигая замок. Он посмотрел на роскошное обиталище своих предков и в гневе отвернулся.
Дворец был почти пуст, так как княжеское семейство выехало на дачи, в вотчину Арцрунидов. В нем оставались лишь некоторые слуги.
На площади перед дворцом собралась огромная толпа. Это были главным образом женщины и дети, бежавшие из горевших домов. Их домашний скарб в беспорядке валялся на площади. Освещенная заревом пожара, группа этих ошеломленных, испуганных людей представляла тяжкое зрелище.
Меружан подъехал к ним.
— Не приближайся, князь Меружан! — закричали женщины.
— Потуши пожар! — кричали дети.
Он поднес руку к глазам. Неужели эта каменная душа в состоянии прослезиться? Значит, детские слезы могут искрошить скалу?
Он поскакал к городским воротам. Там шумела толпа горожан, споря с персидской стражей.
— Горожане хотят открыть ворота! — доложили ему.
— Бери их! — коротко приказал он.
Персы принялись избивать его подданных.
Он двинулся дальше. Его сопровождал один из видных персидских начальников. Когда немного отъехали, начальник сказал:
— Защищаться далее невозможно, князь.
— Почему?
— Ведь вы видели, как горожане хотели открыть ворота и впустить врага.
— Потому я и приказал расправиться с ними…
— Всех не перебьешь!..
— Если понадобится, перебьем всех!
— Но ведь невозможно драться одновременно и со своими людьми, и с внешним врагом.
— Если это невозможно, то остается один исход — смерть…
— Нас это ждет… но не лучше ли воспользоваться ночной темнотой, прорвать цепь врагов и покинуть город.
— Не так-то легко прорвать цепь рштуникских зверей… Будем защищать город до последнего вздоха. Займется заря, и мы начнем бой.
Персидский воевода умолк. Они направились к другим воротам города, которые уже находились под сильной охраной.
Ночь прошла в адском окружении пламени и дыма, А лишь только показался первый луч зари, на дымящихся развалинах началась ужасная резня. Ночью погибали строения, а днем — люди.
Еще не успел поредеть утренний туман, еще только птицы своим веселым чириканьем начали возвещать желанный восход светила дня, как рухнули первые городские ворота. Они рухнули от удвоенных усилий горожан и осаждающих. В город ворвалась озверелая толпа. «Христиане, отойдите в сторону!» — раздались голоса.
Жители Вана, забыв зло, причиненное им осаждающими, присоединились немедленно к горцам, сжигавшим еще вчера их дома, и напали на персидские войска. Пошли в ход мечи и копья, зазвенело железо и тяжко застонали кованые щиты. Битва происходила на улицах. Персидские войска в этой отчаянной борьбе дрались так, чтобы побольше захватить с собой людей на тот свет. Меружан Арцруни всячески их ободрял. Приказания его уже не действовали. Он молниеносно появлялся там, где персы начинали сдавать.
В это время с высоты цитадели Ваган Мамиконян угрюмо следил за тем, что происходило внизу. Чем больше глядел этот человек, тем сумрачнее становилось его лицо. Жители столицы Меружана, присоединившись к рштуникцам, громили приведенное им из Персии войско. «О, как мы плохо знаем армянский народ», — думал он, и гневное сердце его наполнялось горечью.
Солнце еще не взошло. Но серый утренний туман начинал проясняться, и постепенно стали вырисовываться окрестности.
С высоты цитадели он заметил большой отряд горцев, направлявшийся прямо в его сторону. Отряд вел дородный воин, которого с трудом можно было разглядеть среди его телохранителей в доспехах и со щитами. Он подъехал к цитадели и, заметив стоявшего наверху князя Мамиконяна, закричал:
— Мамиконян тер! Почему ты, как трусливая лисица, прячешься за этими высокими стенами? Сойди вниз, поборемся и честным поединком положим конец кровавой сече. Ты хоть и потерял благородство твоих предков, но, по крайней мере, не налагай пятна на храбрость Мамиконянов.
— Не у горцев учиться нам благородству, тер Рштуника! Если ты не желал проливать крови тысяч невинных людей, если ты не желал тысячи домов обречь пожарам, ты должен был сделать свой вызов до кровопролития. Тогда я вышел бы из города и померился с тобой силой… Но раз битва началась столь бесчеловечно, пусть она так и продолжается!
— Горец этой бесчеловечности научился у тебя, Мамиконян тер! Кто, как вор, пробирается в незащищенный замок своей племянницы и похищает ее из недоступной для всех опочивальни, тот не имеет права говорить о благородстве.
Князь Мамиконян не нашелся, что ответить. Поношение зятя вонзилось в его сердце, как стрела. Он обратился к персидскому гарнизону и приказал защищаться.
А Гарегин Рштуни, в свою очередь, отдал приказ приступить к штурму цитадели.
Армения страна горная и каменистая, и потому в числе ее войск имелись полки, которые назывались «камнеходными». Их обучали карабкаться на недоступные скалы, ими пользовались при осаде замков и крепостей, которые в большинстве случаев строились в Армении на вершинах неприступных скал.
Рштуникские и мокские горцы, выросшие среди скал, привыкли с детства ползать, как ящерицы, по крутизнам. Они были готовыми «камнеходами»… Теперь перед ними возвышалась отвесная гигантская скала, с которой нелегко было справиться. На вершине этой скалы стояла могучая крепость, в ней томилась их любимая княгиня.
Они повели нападение с западной стороны крепости, выходившей на озеро. Единственная дорога поднималась здесь уступами, высеченными в скале. Там, где она была недостаточно защищена природой, там искусство человека создало стены и бойницы, которые рядами тянулись до самого верха скалы.
Рштуникские «камнеходы» начали приступ. С помощью железных крюков они карабкались по крутым скатам скалы. Этих дерзких, бесстрашных героев сверху засыпали несметным количеством стрел. Но «камнеходы» были укрыты от них широкими кожаными щитами, имевшими форму балдахина и привязанными к плечам. Стрелы ударялись об эту непроницаемую броню и отскакивали, точно легкие перья.
— Метать камни! — раздался приказ князя Мамиконяна.
Посыпался страшный каменный град. Сотни рук вращали в воздухе пращи с тяжелыми камнями и метали их вниз. Против каменного обстрела щиты «камнеходов» уже не могли устоять. От ударов камней горцы скатывались вниз.
В это время с северной стороны крепости наступление велось совсем другим способом. Более двухсот человек толкали вперед какое-то громадное деревянное чудовище, которое от колоссальной тяжести еле передвигалось на своих толстых колесах. Оно походило на низкую телегу армянских крестьян, с той лишь разницей, что вместо животных колеса двигали снизу люди, спрятанные под крепким настилом. Тысячи рук ровняли дорогу лопатами и кирками, и страшное чудовище медленно продвигалось вперед. Его угрожающий вид нагнал ужас на защитников крепости. Все их силы были теперь обращены в эту сторону. Сверху стали пращами метать камни. Они попадали в крепкий корпус чудовища и отскакивали в сторону, не причиняя ему никакого вреда, — чудовище, точно глухое ко всему, невозмутимо продолжало свой путь.
То был престрашный «пиликван» — гигантский крот, подкапывавшийся под крепости и замки. С трех сторон цитадель была защищена отвесными скалами, и лишь с одной стороны ее утесистый бок был несколько пологим. Здесь крепость охраняли толстые стены и башни.
Взобравшись на террасу, где возвышалась первая стена, чудовище подняло свою страшную голову и прислонилось к стене, как к мягкой подушке. Внутри его скрывалось множество людей, вооруженных кирками, заступами и молотами. Они начали подкапывать фундамент стены. Лишь огонь мог спасти крепость от этого гигантского крота. Сразу полетели огненные мячи, но чудовище оставалось невредимым. Его дощатые стены были покрыты толстым слоем мокрого войлока. Падая на него, огненные мячики шипели и гасли, оставляя в воздухе неприятный запах гари.
Скрытые в чудовище люди с большим рвением продолжали подкоп под толстым основанием крепостной стены. Уже открылась огромная брешь, но путь сквозь нее закрывала торчавшая за стеной скала. Длинные кирки и молотки тщетно долбили это новое препятствие. Тогда решили увеличить брешь, чтобы можно было обойти скалу.
Князь Ваган сверху смотрел на эту работу; на его холодном лице блуждала и грусть и презрительная усмешка.
«Дураки, — думал он, — что вы выиграете от того, что разрушите эту стену?»
Он был прав: за первой стеной находилась вторая, за ней третья, четвертая… вплоть до самой вершины, где стояла мощная крепость.
Но князя мучило другое: у горцев не было осадных машин, очевидно, они взяли «крота» из города, — значит, они уже полностью овладели городом? Где же Меружан? Где персидские войска, охранявшие город? Это обстоятельство очень беспокоило его. Если бы он потерял Меружана, то совсем погибла бы та идея, которая для него имела огромное значение и ради которой он пожертвовал всем…
В смятении находились и персы, охранявшие крепость. Они тоже прекрасно понимали, что город захвачен, что они одиноки на этой скале и осаждены бесчисленными врагами. Персидский воевода торопливо приблизился к князю и, задыхаясь, сказал:
— Опасность велика, князь!
— Вижу!
— Нам следует сдаться!
— Ни за что!
— Через несколько минут сюда ворвется дикая толпа!
— Это невозможно. Ты, значит, не знаешь устройства крепости!
— Если стены крепости защитят нас от внешних врагов, то каким образом мы сможем защищаться против внутреннего врага — голода и жажды! Держа нас в осаде, они доведут нас до голодной смерти.
— Тем лучше: умрете и избавитесь от позора.
— Зачем же напрасно умирать?
— Чтобы не запятнать знамени царя царей, чтобы не сказали, что персидские воины — трусы!
Военачальник замолчал, поклонился и вышел.
— Негодяи, — сказал ему вслед разгневанный князь, — вы храбры лишь тогда, когда враг бежит впереди вас!
То же самое происходило и внизу, в городе. Персы совершенно растерялись, когда горцы, выломав городские ворота, ворвались вовнутрь. Все старания Меружана ободрить войска ни к чему не приводили. После безнадежного сопротивления часть персов сдалась, а часть бежала через другие ворота.
Меружан остался один, покинутый горожанами и персами, на которых он возлагал большие надежды. Бросив тоскливый взгляд на горящий город, где так долго жили и царили его предки, он воспользовался общим смятением и с горстью телохранителей покинул город.
Утренняя мгла совсем рассеялась, отступая перед светом восходящего солнца. Багровый рассвет окрасил горизонт золотистым пурпуром. Еще немного — и первые лучи солнца, багровые, как кровь, брызнули на кровавые потоки, разлившиеся по земле.
Осаждающим удалось пробить настолько широкую брешь в первой стене, что миновав ее, они начали подкоп под вторую стену. Чудовище осталось вне стены; оно не могло своим огромным корпусом пройти через брешь. Со стороны цитадели сопротивления почти не было; персы думали только о том, как бы сдаться в плен, хотя и имели полную возможность защищаться. Князь Мамиконян хорошо понял, что на персов в случае опасности ему нечего рассчитывать, и потому предоставил им делать, что они хотят.
Между тем «камнеходы» с успехом пробирались наверх. Одному из них удалось доползти до ворот замка и вонзить в них острие своего кинжала.
— Откройте, — кричал он, — или тысячи кинжалов моих соратников вонзятся в ваши сердца!
Ворота раскрылись настежь. Наверху подали знак о сдаче в плен. А внизу ликовали горцы.
Рштуникский князь, окруженный вельможами, торжественно приблизился к подножию, крепости. Сверху немедленно спустился персидский воевода и, передав ему крепостные ключи, сказал:
— Крепость побежденного Меружана вручаю славнейшему победителю. Прими ключи, тер Рштуника. Твой покорный раб и вверенное мне крепостное войско — мы преклоняем головы перед твоим мечом и уповаем на твое милосердие.
Раздались многократные победные крики.
Князь Рштуника принял ключи и сказал:
— Ваши головы будут спасены, а ты и твоя крепостная стража полностью заслужите мою милость, если укажете, где томится княгиня Рштуника!
— Сейчас вам ее покажут! — раздался голос сверху, заглушенный общим шумом.
То был голос Вагана Мамиконяна. Он стоял один наверху и в бессильной злобе наблюдал за тем, что происходило вокруг. Убедившись в том, что крепость сдана, он обратился к своим людям и подал им какой-то таинственный знак, а сам удалился…
Вскоре на одной из западных башен цитадели повисло белое тело, которое сияло, как снег, в первых лучах солнца… Все взглянули туда и застыли от ужаса.
Не ужаснулся только князь Мамиконян. С грустью посмотрел он на безжизненный труп, отвернулся и, с трудом передвигая ноги, направился к северной стороне цитадели. Мир для него погрузился во мрак. Почти бессознательно он подошел к одной из комнат с железной дверью, выдолбленной в скале. Вынул из кармана маленький ключ и открыл дверь. Войдя, он запер за собой железную дверь. В углу комнаты на полу была квадратная плита, ничем не отличавшаяся от других. Он наступил на ее край, от нажима плита поднялась открылось узкое отверстие, ведущее в подземелье, через которое мог пройти лишь один человек. Обеими руками он оперся о края отверстия и опустился в подземелье. Плита за ним закрылась.
Это был подземный ход, служивший для бегства.
Почти в то же самое время, когда отец спускался в потайной ход, к большим воротам Вана подъехал его сын Самвел. Внимание молодого человека прежде всего привлекли два крылатых вишапа, стоявшие по обеим сторонам ворот. Эти замечательные творения искусства теперь были разбиты. Он вошел в ворота. Сожженный город все еще дымился в догоравшем пламени.
Взор Самвела приковался к башне. Покачивающееся белое тело сияло, как снег, в первых лучах солнца.
— Что это? — в ужасе воскликнул он.
— Это тело княгини Рштуника, — ответили ему.
— Кто ее повесил?
— Ваган Мамиконян!
— Каин!.. — воскликнул несчастный юноша, закрывая лицо руками. — Тот убил брата, а ты свою племянницу!
VI. Предатель на пороге своего дома
В главном соборе города Хадамакерта продолжалась литургия. Хотя день был не праздничный и не воскресный, церковь была полна народу.
Против алтаря в правом углу церкви возвышался закрытый придел, поддерживаемый четырьмя мраморными колоннами. Передняя стена придела представляла собой золоченую решетку, покрытую изнутри плотными шелковыми занавесями; внутренность придела была недоступна постороннему взору.
Пол был устлан дорогими коврами; в углу стояло богато украшенное сидение. Пожилая женщина, сообразно обрядам литургии, то делала поклоны и молилась, то вставала на колени и земно кланялась, то садилась и с глубоким волнением слушала молитвы. Она была воплощением религиозного благочестия.
Никогда еще ее религиозные чувства не были так пламенны, а мольбы проникнуты такими чувствами перед священным престолом, как сегодня. Она выглядела удрученной, будто находилась в горести, по печальному лицу молящейся текли обильные слезы.
Это была княгиня Васпуракана, мать Меружана Арцруни.
Придел, в котором уединилась княгиня, был фамильной молельней рода Арцруни. Соорудив кафедральный собор, они отвели эту молельню для княжеского дома.
Она встала, когда по окончании службы в молельню вошел священник, служивший обедню, и поднес ей просфору. Взяв просфору, она поцеловала руку священника. Теперь уже ее печальное лицо и кроткие глаза, которые выражали беспредельную доброту, смотрели более спокойно, вызывали почтительное отношение. Она сочетала в себе благородные черты аристократки с благочестием христианки.
— Как здоровье твоей дочери, батюшка? — спросила она. — Мне говорили, что она очень больна.
— Теперь ей лучше, княгиня, — ответил священник. — Опасность миновала. Своей жизнью она обязана тебе, княгиня. Если бы ты не прислала спешно придворного лекаря, я лишился бы моей единственной дочери. Да продлит господь твою жизнь, княгиня, за то, что ты так заботлива к другим!
— Это моя обязанность, отец. Все они — мои дети, — ответила она. — Сожалею, что в ближайшие дни я буду занята и не смогу посетить больную.
— Она очень обрадовалась бы, княгиня. Твое посещение совсем излечит ее.
Священник удалился. В молельню вошли две служанки, стоявшие снаружи. Они взяли княгиню под руки и осторожно свели ее с каменной лестницы.
После обедни молящиеся остались в церкви, так как дворцовый протоиерей должен был произнести проповедь. Но княгиня не стала дожидаться проповеди и через особый ход вышла из церкви.
На улице ее ожидали пышные крытые носилки, она села в них вместе со своими служанками, и белые мулы медленно повезли ее. Два телохранителя в красной одежде следовали впереди носилок, а позади шли придворные. Начиная от дверей церкви, по обе стороны улиц, стояли нищие, с нетерпением ожидавшие появления милосердной госпожи. Казначей княгини с кошельком в руке подходил к каждому из них и щедро раздавал обычную лепту.
На улицах города всякий — и стар, и млад — кланялся княгине, выражая ей свою любовь, как матери народа и владычице страны. Она через дверцу носилок приветливо отвечала на поклоны.
Носилки остановились перед великолепным княжеским дворцом, у ворот которого стояли громадные крылатые драконы. Это был герб князей Арцруни; он красовался у входов во все их города и дворцы.
Княгиня сошла с носилок и в окружении слуг направилась во дворец. Она прошла по прекрасным озелененным дорожкам дворов, где росли вековые деревья, и поднялась в свою комнату. Слуги удалились; при ней остались только служанки, но и они пробыли недолго: видя, что госпожа ни в чем не нуждается, они покинули комнату.
Вскоре к ней за благословением явилась ее невестка, жена Меружана. Она вела за руки двух маленьких детей. Дети подошли и поцеловали правую руку княгини. Это делалось, каждый раз, когда княгиня возвращалась из церкви. Княгиня поделилась с невесткой и внуками принесенной просфорой. Внучата, мальчик и девочка, положив маленькие ручонки на бабушкины колени и обратив к ней вопросительные блестящие глазки, спросили:
— Бабушка, отчего батюшкин хлеб такой вкусный?
— Это божий хлеб, детки, потому и вкусный, — ответила княгиня, лаская их кудрявые головки.
Молодая княгиня стояла около свекрови, не смея сесть в ее присутствии. Это была приятная женщина, такого нежного и хрупкого сложения, что, казалось, дотронься до нее — она рассыплется. Говорила она лишь тогда, когда к ней обращалась свекровь, и каждый раз на нежных щеках молодой женщины вспыхивал легкий румянец. Она была олицетворением девичьей скромности и покорности молодой невестки.
Княгиня Васпуракана была вдовой. Она не так давно потеряла своего любимого мужа Шаваспа Арцруни и все еще носила на голове черную фату. После смерти мужа она заняла его место в доме в качестве главы семейства, перед авторитетом которой все преклонялись, а в управлении страной взяла на себя его княжеские обязанности.
Она была урожденная Мамиконян, родная сестра Вагана, отца Самвела. И невестка ее, жена Меружана, происходила из того же рода. Отношения свойства среди родственников в те времена были распространены у армян, особенно среди нахараров. Женщины из рода Мамиконянов цепью связывали не только старшие нахарарские роды между собой, но даже царский дом и род патриарха. Представительницы рода Мамиконянов славились своими добродетелями, украшая собою царские и патриаршие покои.
— Завтрак готов, — сказала невестка. — Как прикажешь: подать сюда или в трапезную?
— У меня совсем нет аппетита, дорогая Вагандухт, я плохо спала, — проговорила княгиня. — Да и сейчас мне нездоровится: звенит в ушах, и голову ломит.
— Отдохнула бы немного. Ты встала сегодня очень рано.
— Отдохнуть! Могу ли я думать об отдыхе?
Княгиня взглянула на невестку, и бледность лица молодой женщины поразила ее: видно, и та всю ночь не сомкнула глаз; видно, и та не находила себе покоя…
Этот пышный двор, где все располагало к веселью и счастью, теперь был похож на дом, где находится покойник. На лицах всех лежала непостижимая печаль. Все молчали, все уклонялись от разговоров друг с другом, точно боялись, не хотели напоминать о том, что гнетом лежало на сердце.
Вчера стало известно, что возвращается Меружан. После полудня он должен прибыть в свои княжеские владения. Какое счастье для матери и жены услышать после долгой разлуки весть о том, что их дорогой сын и муж возвращается домой! Но вместо радости обе они были преисполнены печали.
Он возвращался как изменник, как предатель. Могли ли мать и жена обнять его, стереть с его лица дорожную пыль? Это сделать было тяжело, смертельно тяжело и для той, и для другой. Им уже были известны ужасные события в Ване и мученическая смерть их родственницы, несчастной Амазаспуи. Знали они и о том, что еще собирался сделать Меружан…
Старая княгиня давно слышала о злых намерениях сына, но, щадя слабое здоровье своей невестки, старалась скрыть от нее правду, боясь, что она не вынесет этого удара. Но дальше скрывать было уже невозможно: сегодня должен прибыть Меружан. Именно поэтому накануне вечером свекровь вызвала ее к себе и, осторожно подготовив, рассказала обо всем.
После ужасного разгрома Вана Меружан вместе с небольшим отрядом телохранителей спасся, от мести горожан. Подозревая, что и в своей вотчине он может встретить такой же прием, он послал с пути вестового к матери, чтобы предупредить о своем приезде. Он хотел отдохнуть в лоне своей семьи, успокоиться и выждать время, пока из Персии прибудут новые войска, которые он ожидал с большим нетерпением.
— Я приказала позвать городского старшину, — сказала княгиня, — хотела узнать, какие распоряжения сделал он.
— Он уже здесь, — отвечала невестка. — Ты была еще в церкви, когда он явился. А какие распоряжения должен был сделать он?
Шум распахнувшейся двери прервал ее речь.
В комнату вбежала веселая девушка. Оглядывая себя, она подошла к княгине и, устремив на нее свой радостный взор, спросила:
— Мама, идет мне это платье?
Это была сестра Меружана; она принарядилась для встречи с братом. В доме все были грустны, лишь она одна радовалась. Мать посмотрела на нее, и глаза ее наполнились слезами. Она не знала, что ответить дочери. Что ей сказать? Как омрачить горячую любовь, которую девушка питала к своему брату? Могла ли мать объяснить ей, что в жизни бывают обстоятельства, которые отделяют сестру от брата, мать от сына? Девушка, хотя и взрослая, многого еще не понимала. Она слышала о многом, но по-прежнему любила брата. Это была та самая девушка, которую мать Самвела прочила в невесты своему сыну несмотря на то, что сердце его принадлежало княжне Ашхен Рштуни.
Шаваспуи, так звали девушку, заметив печаль на лице матери, опустилась на колени и, прижавшись горячими губами к дрожащим рукам княгини, воскликнула:
— Мама, дорогая, не плачь, не то и я заплачу!
— И мы тоже! — закричали дети, глядя на эту трогательную картину.
Молодая княгиня взяла их за руки и удрученная поспешно вышла.
Княгиня поцеловала и приласкала дочь.
— Иди, дорогое дитя, — сказала она, — скажи, чтобы ко мне позвали городского старшину. Мне нужно с ним поговорить. Прикажи слугам никого ко мне не впускать, кроме батюшки.
Девушка еще раз поцеловала руку матери и удалилась.
Княгиня осталась одна. Никогда еще ее светлый ум не был так омрачен, как в это утро. Никогда еще она не чувствовала себя такой беспомощной и слабой, как сегодня. Сколько ни думала, она не находила выхода. Противоречивые чувства боролись в ней. Как принять сына, заблудшего сына, но вместе с тем и дорогого? Может быть, следует простить и постараться исправить его, повлиять на него, вернуть на прежний путь? Но примирится ли с ним народ? Ведь он ведет войну против народа, чтобы или покорить его своей воле, или обречь мечу! Мог ли народ примириться с ним? Горькие, печальные мысли волновали княгиню, когда вошел городской старшина. Издали поклонившись несколько раз, он молча остановился перед госпожой.
Несмотря на то, что княгиня несколько раз предлагала ему сесть, старшина, глубокий старик, остался стоять на ногах, соблюдая старый обычай.
— Как дела, Гурген? — спросила княгиня.
— Все, что княгиня изволила приказать, будет исполнено! — грустно ответил старик.
Он стал подробно рассказывать о том, как будет происходить встреча князя и какие сделаны распоряжения.
— Надеешься, Гурген, что беспорядка не будет? — спросила недоверчиво княгиня.
— Я не только полагаю, но уверен, что не будет никаких беспорядков. Правда, наши горожане сильно раздражены, но руки поднять на него никогда не посмеют. Я это твердо знаю, княгиня.
При этих словах он несколько раз утвердительно покачал головой и затем продолжал:
— Где же батюшка? Он что-то запоздал. Его проповедь хотя и затянулась, но произвела хорошее впечатление на прихожан. Он привел много примеров из евангелия, книг пророков, посланий апостолов. По окончании службы народ долго не расходился. Собрались во дворе, спорили. Батюшка подходил то к одной, то к другой группе, говорил с ними, поучал и успокаивал. Иное дело, княгиня, если бы князь вступил в свой город с персидскими войсками; тогда было бы невозможно удержать горожан. Но теперь он прибывает всего лишь с небольшим отрядом, к тому же состоящим из воинов-армян.
— Таких же изменников, как и он!.. — с горечью прервала княгиня.
Вошел придворный священник.
— А вот и батюшка! — произнес старик.
Седой священник, энергичный и бодрый, несмотря на свой преклонный возраст, был духовником княжеской семьи.
Поздоровавшись с княгиней, он остался стоять на ногах.
— Садись, батюшка, — предложила ему княгиня.
Священник сел и стал докладывать о принятых им мерах.
Выйдя от свекрови, княгиня Вагандухт с детьми направилась в свою опочивальню. Старший из детей, сын, знал, что в этот день должен приехать отец; он помнил его, когда тот уезжал в Персию.
— Мама, — сказал он, обнимая ее ручонками, — папа привезет мне сегодня лошадь?
— Какую лошадь? — спросила печально мать.
— А ты разве не знаешь? Когда папа уезжал, я велел ему привезти мне маленькую лошадь. Он поцеловал меня и сказал: «Привезу очень маленькую лошадку» — вот такую.
Мальчик показал рукой.
— У нас и без того много лошадей! — ответила мать.
— Наши большие, а я хочу маленькую, чтобы можно было на нее садиться!
— Слуги тебя посадят.
— Я ведь не Нушик, чтобы меня сажали на лошадь, я хочу садиться на нее сам!
Нушик звали его маленькую сестру, это было ласкательное от имени Михрануйш.
Замечание брата, видно, обидело маленькую Нушик. Быстро, как воробышек, вспорхнула она на одну из подушек и, болтая полненькими ножками, сказала:
— Видишь, я уже сижу верхом!
Мать обняла своих малышей, расцеловала их, потом передала няне и велела повести гулять, чтобы они не мешали. Она хотела остаться одна.
Несчастная женщина! Дети радовались приезду отца, а у нее на сердце было безрадостно. Она всегда любила мужа и находила в нем утешение. А теперь? Как ей любить предателя и злодея? Эта мысль жестоко ее терзала. Ее сердце и рассудок были в разладе.
Внутренняя борьба, жестокое противоборство чувств вызвали в ней лихорадочную горячку. Через час-другой глашатай возвестит о печальном событии — о прибытии ее мужа, и тогда для нее все решится.
Положение ее напоминало последние минуты приговоренного к смерти: вот-вот распахнутся двери темницы, войдут палачи и поведут его к подножию виселицы… Разве это не то же самое, что броситься в объятия человека, которого отверг весь мир? И он будет ласкать ее руками, обагренными невинной кровью ее родных. О, какая она несчастная! Самая несчастная из всех армянок! Но она любила… любила его…
Она положила руку на грудь, как бы сжимая сердце, чтобы несколько успокоиться. Слезы обильно лились из глаз страдалицы, но угасить волнения души не могли. Долго она так мучилась.
Вдруг она вскочила, точно в безумии, помутневшими глазами стала оглядывать комнату, как будто искала что-то своим воспаленным взором. Сделала несколько шагов к двери и остановилась. Затем, точно движимая неведомой силой, приблизилась к двери и дрожащей рукой заперла ее на замок. Как лунатик, бродила она по комнате, заходя во все углы. Подошла к окнам, опустила занавеси. Снова подошла к двери, чтобы, убедиться, крепко ли она заперта. Ее лицо приняло спокойное выражение — она нашла средство, чтобы избавиться от страданий. Она принялась тщательно осматривать ниши, где были расставлены ее вещи. Но не находила того, что искала. Вдруг она заметила красивую шкатулку с принадлежностями для рукоделия и обрадовалась ей, как человек, неожиданно обнаруживший клад. Подошла к шкатулке, отперла ее и достала маленькие ножницы. Несколько минут она смотрела на этот блестящий предмет. Вот то, что успокоит ее и разрешит необъяснимые сомнения, непримиримую борьбу ее чувств!..
Она поднесла острие ножниц к вздымавшейся груди. Но ножницы были короткие: не достанут до сердца, Тогда, раскрыв лезвия, она поднесла их к горлу.
Но в эту минуту словно ангел спасения схватил ее за руку. Она в гневе отшвырнула ножницы. «Нет, он недостоин моей смерти. Он изменил не только родине, но и мне!»
Какая сила произвела в ней столь неожиданный переворот. Сила, которая в женщине сильнее всех страстей и подчиняет все ее чувства, — ревность.
— Я знаю, — продолжала она с гневом, — он не настолько низок, чтобы отречься от своей веры, он не так жесток, чтобы растоптать счастье своей родины, и не так тщеславен, чтобы прельститься троном, обещанным ему Шапухом!.. Он пошел на все и превратился в грязное оружие в руках Шапуха только ради того, чтобы получить его сестру… Мне говорили, что он влюблен в сестру Шапуха, но я не верила. Я не верила, что он способен изменить мне — матери его детей — и взять себе вторую жену в дом Арцрунидов! Каково отныне будет мое положение?.. Я должна стать служанкой персидской царевны, чистить ей обувь! А красавица Вормиздухт будет не только княгиней Васпуракана, но и царицей всей Армении! А я?.. Кем буду я? Нет, нет — он недостоин, чтобы я умерла из-за него… Для меня он уже мертв…
Она села в кресло, закрыла лицо руками и снова залилась горячими слезами: «Ах, Меружан, Меружан!» — повторяла она, и дрожащий голос ее терялся в горьких рыданиях.
В дверь несколько раз постучали. Наконец она услышала стук, встала, вытерла слезы и неохотно открыла дверь.
Вошла одна из служанок.
— Все готовятся, княгиня, — сказала служанка. — Прикажешь нарядить тебя?
— Пойди в комнату одеяний и принеси мне, Сирануйш, черное платье, — приказала Вагандухт.
— Почему черное, княгиня?
— Сегодня день печали! — ответила она с горечью.
Был пятый час.
Небольшой отряд всадников, поднимая столбы пыли, быстро продвигался по дороге из Аревбаноса к Хадамакерту… Чем ближе подъезжали всадники к городу, тем больше подгоняли они своих коней. Их было немного. Один из них скакал впереди, держа в руке красное знамя. Следом за ним на белой лошади, в белой одежде ехал второй всадник — по-видимому, глава отряда, а за ним еще девять человек. Всего — одиннадцать.
То ехал Меружан Арцруни, ехал в вотчину своих предков, в княжескую столицу Хадамакерт.
Дорога, по которой мчался его конный отряд, всегда такая оживленная, была теперь безлюдна. Не было видно ни прохожих, ни проезжих. Меружана это удивило, Он беспокойно озирался по сторонам. Не сверкали серпы жнецов, — в этот прохладный час они всегда работали с особой охотой, — не слышались песни землепашцев, оживлявшие окрестности, не звучала свирель беспечного пастуха, не было видно ни самого пастуха, ни его стада. Меружану казалось, что он едет через пустыню, где давно уже вымерла всякая жизнь.
А ведь он ожидал другого. Он ждал, что ему навстречу выйдут толпы горожан; мужчины и женщины, выстроившись по обе стороны дороги, с песнями и ликованием будут провожать его как героя до самого княжеского дворца. Но не было ни горожан, ни мужчин, ни женщин, ни даже его родичей! Разве им ничего не известно о его приезде? Но ведь он за день сообщил об этом матери. Что же могло означать это безлюдие и тишина?
Эта мысль волновала его и наполняла разбушевавшееся сердце глубоким недоумением, постепенно превращавшимся в сомнения. Вернуться обратно? Этого не допускало его беспредельное самолюбие; но и впереди ничего хорошего он не ждал. Быть может, его горожане восстали? Быть может, они встретят его с оружием в руках? «Что бы ни было, неважно!» — подумал он в припадке отчаяния и ударил плетью коня.
Вот и городские ворота… Посмотрев на фасад, он ужаснулся, ворота, своды которых всегда по торжественным дням бывали разукрашены гирляндами цветов, сегодня представляли печальное зрелище. Они были обтянуты черной материей, а наверху развевались два черных флага. Разве кто-нибудь умер? По ком этот траур?
Его сердце сильно билось, когда он въезжал в город.
Ехавший впереди знаменосец взял висевший на поясе рожок и. протрубил несколько раз. В ответ с высоты кафедрального собора раздалось три призывных удара клепала.
Веселый, шумный Хадамакерт казался вымершим.
Ни одного человека, ни одного животного не было на улицах, Ни один звук не нарушил могильной тишины города.
Дорога к княжескому дворцу была усыпана пеплом. Двери всех домов заперты, а верха их занавешены черной материей.
«Мои горожане отвернулись от меня, — подумал Меружан. — Они считают меня мертвым! Да! Нравственно мертвым!»
Он задыхался от злобы. Ему припомнились прежние дни, когда он победителем возвращался с войны. Улицы украшались цветами и зеленью. А сейчас они были посыпаны пеплом. На дверях пестрели тогда ковры, бархат и цветные шелка. А сейчас весь город был в трауре… Женщины и девушки, стар и млад с крыш и из окон приветствовали его. А сейчас не слышно ни звука. Начиная от городских ворот и до его дворца, на каждом шагу пред ним совершались жертвоприношения. Все духовенство в золотых ризах, с крестами и хоругвями встречало его и пело тараканы; сам он шел, окруженный вельможами, а впереди вели княжеских коней, покрытых самой дорогой сбруей. Где же теперь все эти почести?
Он доехал до княжеского дворца, но двери оказались запертыми. Это ужасно подействовало на него. «Значит, и мой дом, и моя семья от меня отказываются?»— подумал он с глубоко щемящей тоской.
И здесь та же печальная, беспросветная картина. Своды дворца были обиты черной материей. По обеим сторонам ворот развевались черные флаги.
В крайнем смущении и гневе стоял он на пороге родного дома и не знал, что ему предпринять. Человек, для которого не существовало никаких трудностей, никакихпрепятствий, оказался в безвыходном положении. Ехать обратно? Но как? Стыд и позор душили его. Он хотел было постучаться в дверь. А что, если не отопрут? И наверное не отопрут. Такого презрения к себе он не ожидал от матери, в особенности от жены. Его, как блудного сына, оставляют за дверью. Все эти знаки траура говорили ему: «Ты недостоин вступить на порог родного дома! Нога предателя не должна осквернять его!»
Люди его отряда тоже были в большом смущении, никто из них не осмеливался сказать ни слова.
Над входом во дворец находился балкон. Он был закрыт черной занавесью. Полы занавеси откинулись, и Меружан увидел свою мать.
Измученная тяжелым горем, она едва держалась на ногах. Дочь, сестра Меружана, поддерживала ее под левую руку, а справа ее поддерживала невестка, жена Меружана. Дети стояли перед невесткой. За ними вся княжеская семья. Все в черной одежде, со слезами на глазах. Увидев их, Меружан содрогнулся.
— Мать, — грозно сказал он, — от меня отреклись горожане мои, теперь ты закрываешь передо мной двери родного дома?
— Да, Меружан, — раздался сверху скорбный голос старой княгини. — Двери твоего дома закрылись для тебя так же, как твое сердце закрылось для бога, отчизны и совести. Изменник и предатель не переступит наш порог. С того дня, как ты изменил своей вере и своему царю, ты для нас чужой, ибо ты опорочил светлое имя князей Арцруни. Спасти тебя может только раскаяние. Оставь путь зла и заблуждений!.. Послушайся матери, которая еще любит тебя и обращается к тебе со слезами на глазах. Послушайся меня, Меружан, ибо моими устами говорит весь Васпуракан. Если ты хочешь вернуть любовь своей семьи и своей страны, оставь ложный путь! Вот твоя дорога, Меружан! — она указала рукою на кафедральный собор и продолжала: — Все твои предки, возвращаясь усталые, утомленные войной, прежде чем вступить в свой дом, шли в церковь, воздавали там хвалу всевышнему и только после этого отправлялись к своей семье, чтобы разделить с ней радость возвращения. Последуй их примеру… Вот собор, там тебя ждут священники и старейшины твоего города. Иди, Меружан, в церковь, примирись с Иисусом Христом, покайся в своих грехах в божьем храме, и тогда приходи, — двери твоего дома раскроются пред тобой настежь.
— Не будет этого никогда! — закричал он и отвернулся.
— Мама, мама, куда опять папа уезжает? — послышались сверху голоса детей.
Эти голоса изранили его сердце.
VII. Угрызение
В крайнем раздражении выехал Меружан из Хадамакерта. В его ушах еще звучали резкие слова матери и, подобно острым стрелам, вонзились в сердце. Перед глазами были печальный образ жены и невинные, улыбающиеся лица детей, которые, увидев отца, хотели, как воробьи, слететь с балкона и броситься к нему в объятия. Ему еще мерещился погруженный в скорбь родной город. Еще недавно такие близкие его сердцу картины, такие дорогие ему существа теперь, как мрачные видения, преследовали его и гнали все дальше, не давая отдыха и покоя.
Там, у тихого семейного очага, где он надеялся получить материнское благословение, найти ласку жены и любовь детей, там его встретили, как чужого, как блудного сына, и с позором изгнали.
Тер и князь Васпуракана оказался чужестранцем в собственной стране. Тот, который смотрел на свою вотчину, как на кусок воска, будучи убежден, что может придать ей любую форму и любой вид, теперь лишился этой страны, потерял на нее право собственности, полученное от своих предков. То, чего не в состоянии были отнять у него враги, отнято волею матери…
«Что это означает?» — спрашивал он себя.
Его беспокойство все усиливалось.
В смятении он покинул город и не заметил, как остался в одиночестве. Обернувшись, он не нашел около себя своих телохранителей. «И они оставили меня!»— подумал он с горькой усмешкой.
Его телохранители были уроженцы Хадамакерта. Настроение сограждан сильно подействовало на них и заставило забыть о князе. Кроме того, воинам хотелось повидать своих близких после долгой разлуки.
Солнце уже давно зашло, ночной мрак окутал окрестности. Меружан только теперь почувствовал тягость одиночества. «Куда идти?» Хозяин страны, он не имел приюта в своих владениях.
Им овладела сильная усталость. После тяжелых событий в Ване он целых три дня безостановочно находился в пути. Тяжелые душевные волнения совершенно лишили его сил. Он искал места, где бы ему передохнуть. Показываться в селе он не хотел, боясь грубых выходок со стороны крестьян. Куда деваться? Везде уже знали о нем, отовсюду он был гоним. Эти мысли роились в его сознании. В полной нерешительности он продолжал погонять коня, хотя и сам не знал, куда едет. Усталый конь еле передвигал ноги.
Изнуренного князя мучил голод. Он ничего не ел целый день. Боевая жизнь приучила его жить под открытым небом, он мог спать под скалой, под деревом, без всяких удобств. Но как побороть голод? Кроме того, князя мучило смутное подозрение: «А вдруг меня уже преследуют?» — думал он. В городе никто не осмелился швырнуть в него камнем из боязни перед его матерью. Мать, конечно, строжайше запретила это. Но кто мог запретить группе наглецов тайно выйти из города и броситься за ним в погоню? Жизнь ему была не дорога, но он оберегал ее ради тех целей, какие поставил себе. Думая об этом, он дернул поводья и свернул о большой дороги, намереваясь окольными путями добраться до какого-либо пустынного места, чтобы там немного отдохнуть, дать передышку коню, а затем, продолжать путь. Надо было, пользуясь ночной темнотой, поскорее выбраться за пределы княжества, восточная граница которого была недалеко. Здесь он мог быть узнанным, здесь ему угрожала опасность.
Он ехал по вспаханным полям и нивам. Пашня — признак близости человека, а людей он избегал. Он искал пустынные и безлюдные места. Хотя местность была ему знакома, но наступившая темнота мешала определить, где он находится. Наконец он выбрался из полосы обработанных полей; перед ним расстилались богатые пастбища. Это уже означало, что, он приближался к подножию гор.
Несколько раз до его слуха донесся собачий лай. Еще никогда этот звук не казался ему таким приятным. Значит, подумал он, где-то поблизости находятся либо пастухи, либо охотники. И те и другие были ему безопасны. Он повернул лошадь в ту сторону, откуда доносился лай. При его приближении вместо одной залаяло несколько собак. Он продолжал ехать, пока собаки всей сворой не набросились на него и не преградили ему путь. Невозможно было спастись от их ярости. Но при нем не было ничего, кроме кинжала. Меружан понял, что подъехал к стоянке пастухов. Ранить или убить у пастуха собаку, все равно, что убить его брата или лучшего друга. Поэтому Меружан ограничился только обороной. Разъяренные собаки со всех сторон дерзко набрасывались на него и, несомненно, разорвал, бы его на части, если бы не конь. Умное животное храбро отбрыкивалось от наседавших на него врагов.
На громкий лай прибежал пастух с копьем в руке. Он крикнул из темноты:
— Кто ты? Что тебе здесь надо?
Князь ответил:
— Сперва уйми собак, потом узнаешь, кто я.
— Нет, прежде скажи, кто ты такой?
Князь понял, что спорить с неучтивым пастухом бесполезно и потому сказал:
— Я сепух[294] из Ворсирана, на охоте меня застигла ночь… Я заблудился, потерял своих людей.
Пастуху ответ пришелся по душе; ему даже польстило, что такой высокородный человек принужден искать приюта в его убогом шалаше. Он усмирил собак, затем подошел к лошади Меружана и взял ее под уздцы.
— Следуй за мной, тер сепух, — сказал он.
Заметив, с каким радушием отнесся их хозяин к чужому, собаки успокоились и разбрелись по своим местам.
Нежданного гостя пастух повел в шалаш, находившийся невдалеке. Там он зажег светильник, разостлал на полу толстый войлок и пригласил гостя сесть; сам же продолжал стоять, точно слуга.
— Садись и ты, добрый пастух, — сказал ему Меружан. — Гость и хозяин равны под одной кровлей. Случай завел меня в твой шалаш, и я рад, что встретил доброго человека.
— Долг хозяина прежде всего позаботиться о покое гостя, тер сепух, — ответил пастух, продолжая стоять. — С дороги человеку хочется поесть.
— Не тревожься понапрасну, — ответил гость, — что бог пошлет, тем и буду доволен. У тебя, конечно, найдется хлеба или сыру, да еще простокваши: вот и самый хороший ужин для меня. По правде говоря, я проголодался.
Внутренность шалаша напоминала четырехугольную комнату, пол которой состоял из плотно сплетенных тонких прутьев, узорчато скрепленных разноцветными тесьмами. Куполообразная же кровля была покрыта цветными толстыми холстинами. Шалаш обращал на себя внимание особой, не свойственной жилью простого пастуха красотой. Меружан с любопытством спросил у хозяина:
— Чьи стада ты пасешь?
— Княжеские, — ответил пастух с простодушной гордостью.
Меружан настолько был смущен, что быстро отвернулся, чтобы пастух не заметил этого смущения на его лице. «Княжеские» — подумал он изумленный. Он находился в шалаше своих собственных пастухов. Стада были «княжеские», то есть принадлежали его дому. Пастух, очевидно, никогда не видел в лицо своего князя; но среди его помощников может найтись такой, который узнает его. Меружан отодвинулся в темный угол шалаша и сказал:
— Убери светильник подальше или лучше повесь его снаружи. У меня болят глаза. Да и без огня скоро будет светло. Видишь, всходит луна.
Пастух исполнил желание гостя и отправился хлопотать об ужине. По-видимому, он был старшим среди пастухов; те немедленно закололи барашка, недалеко от шалаша развели огонь и принялись печь хлеб. А сам он вернулся к гостю, не желая оставлять его в одиночестве.
Меружан все еще сидел в раздумье: он сам попал в западню, по воле провидения он очутился в руках этих простодушных пастухов, которые, будучи добрыми, проявляли исключительную нетерпимость ко злу. У них господин или князь не мог быть признанным человеком, если он не шел по пути, предсказанному богом. Но Меружан любил игру судьбы и с нетерпением ждал развязки этой невеселой шутки.
— Теперь ты распорядился насчет ужина, — снова обратился он к пастуху, — можешь сесть. Как тебя зовут?
Пастух и на этот раз не осмелился сесть перед князем, устроился около входа и, особенно довольный, ответил оттуда:
— Ты спрашиваешь о моем имени, тер сепух? Нареченное мое имя Манеч, но меня все зовут Мани.
— И я тебя буду звать Мани! Так будет лучше! Скажи мне, добрый Мани, не слыхал ли ты, где находится теперь твой князь, Меружан Арцруни?
При этом имени на загорелом лице пастуха появилось угрюмое выражение, но он постарался скрыть от гостя свое волнение, сказав:
— А кто его знает, тер сепух! Тебе лучше знать, где он и что делает. Сюда, в наши горы редко доходят вести… А если и доходят, то только недобрые, ой, недобрые…
Видно было, что пастуху, почитавшему своего князя, не хотелось поносить его перед ворсиранским сепухом, чужим человеком. Он мало знал о князе, но то, что знал, было неутешительно.
Несмотря на свои шестьдесят лет, Мани выглядел бодро и свежо. В горах Васпуракана пастухи живут столетия и не стареют. Он был крупного телосложения, грубые черты лица выражали непосредственность и твердость, но глаза были непонятно печальны.
— А ты видел когда-нибудь в лицо Меружана? — спросил его мнимый сепух.
— Видел, как не видать? — грустно ответил тот. — Он был тогда еще совсем молод, усы только-только пробивались. Потом он поехал в Персию и там нечестивый персидский царь помрачил его рассудок… А после этого видеть его мне уже не довелось.
— Эти все стада принадлежат Меружану?
— Все его, все, тер сепух! Звезды можно сосчитать на небе, а стадам его счету нет. Каждое стадо одной породы и масти, черные овцы пасутся отдельно, белые — отдельно и других мастей — также отдельно. А если, тер сепух, ты перейдешь по ту сторону гор, то увидишь стада козлов. Все как на подбор и под одну масть… Пойдешь несколько дальше, к Ервандунику, там увидишь его табуны коней, ослов, мулов. Любо посмотреть! Еще дальше, в стране андзевацикской, пасутся быки, волы и коровы; бесчисленные стада его тучных буйволов пасутся на берегах Тигра, в камышах и болотах Джермадзора. Зачем утруждать тебя, тер сепух? Короче говоря, от Зареванда до Кордика и до озера Ван — везде стада Меружан. У кого еще найдется столько богатства? Бог в изобилии наградил его всем, но не возблагодарил он бога…
При последних словах голос старика задрожал.
— А сам-то хозяин когда-нибудь посещает свои владения?
— Нет, князь ни разу не приезжал. Да он, поди, и не знает, сколько у него добра. Ему не до того. Его с детства занимали только битвы да войны, а к делам он не касался, Покойный отец его был не такой: каждый год, бывало, как наступит осень, приезжал. Мы к этому дню мыли, чистили, овец и показывали ему белоснежные стада. Он любовался на них и славил бога. Часто в этом шалаше изволил кушать покойный князь. Сядет, бывало, и с великим удовольствием отведает нашу скудную еду!
— А кто же теперь хранит все это добро?
— Теперь всему хозяйка — старая княгиня. Пошли ей господь долгую жизнь и власть над нами! У нее ума палата. После смерти старого князя она управляет страной. Придет, посмотрит, порадуется и обо всем расспросит. Она не только знает всех своих пастухов по именам, но даже многих животных помнит. Знает, кто из них какого возраста и какой имеет приплод. Меня она тоже называет Мани. Приятно ведь слуге, когда госпожа его помнит и называет по имени. А князь Меружан не таков! Вот сорок лет смотрю я за его стадами, а попадись ему на глаза, даже не узнает… А сорок лет — время немалое, тер сепух!
— Для чего ему столько скота?
— Ты еще спрашиваешь, тер сепух! — удивленно воскликнул пастух, и его добродушное морщинистое лицо озарилось улыбкой. — Ведь что ни неделя, я посылаю на кухню княжеского дома сто голов самых лучших баранов. Да ты знаешь, сколько там народу обедает? Каждый день за стол садится по несколько сот человек. Масло, сыр, сметана — все идет в княжеский дом. Ну, бывают разные подношения, раздачи бедным, жертвоприношения. Бог даровал им такое изобилие, что сколько ни расходуй, — все равно незаметно убыли!
Пока незнакомец-князь и пастух были заняты дружеской беседой, луна поднялась довольно высоко над горизонтом и ее мягкий свет озарил мирные окрестности. Поодаль от шалаша пылал костер; при свете огненных языков видны были пастухи, расположившиеся вокруг костра. Некоторые из них жарили куски мяса на деревянных вертелах, другие пекли хлеб на железных решетках. Занятые своим делом, они не переставали весело болтать, перебрасываясь между собой шутками и острогами касательно своего ворсиранского гостя.
Ворсиранцы славились своими странными обычаями, и поэтому все веселые побасенки, ходившие в народе, приписывались обыкновенно им. Один из пастухов рассказывал:
— Пришли два ворсиранца в гости. Хозяйка перемешала черных жуков с черным изюмом и подала на стол. Жуки пустились во все стороны. Один из гостей и говорит другому: «Давай, съедим сперва этих, которые с ногами, пока безногие спят!»
Все засмеялись. Каждый говорил все, что знал. Они рассказывали долго, и некоторые из слушателей заглядывали в шалаш, точно желая сличить живого, ворсиранца с теми, о которых говорилось в побасенках.
Ужин оказался лучше, чем ожидал Меружан. На деревянном подносе подали свежий хлеб, сыр, две луковицы, несколько раз приносили жареное мясо и на вертеле. И тот человек, что сидел за столом царя на самой почетной подушке, гордый Меружан, которого царь царей Персии всегда сажал рядом с собой, никогда с таким аппетитом не ужинал, как теперь, в шалаше у простого пастуха.
У добродушного Мани нашлось и вино. Когда ужин был готов, он отошел в угол шалаша, разрыл пальцами землю и вынул закупоренный глиняный кувшин.
— Я всегда, тер сепух, держу вино в земле, там оно и холоднее и не киснет.
Меружан предложил пастуху сесть вместе с ним за ужин, на что Мани согласился после долгих упрашиваний, сказав: «Много чести будет мне, тер сепух. Ну да пусть и старик Мани похвастается перед людьми, что раз в жизни с сепухом ужинал».
Он сел и поставил перед собой кувшин с вином.
Первую чашу Меружан опорожнил залпом до последней капли. Заметив это, Мани подбодрился и стал сам пить, все чаще поднося чашу гостю. Когда оба они порядочно выпили, пастух обратился к гостю:
— Расскажи мне, тер сепух, что тебе известно о Меружане. Ты человек большой, знаешь о хорошем и плохом, а мы — люди маленькие и не знаем, что где делается. Неужто правда то, что о нем болтают?
— Что же о нем говорят?
— Да как тебе сказать?.. Тебе лучше знать, тер сепух!.. Язык не поворачивается, чтоб сказать…
— Видишь ли, любезный Мани, мне тоже не все известно. Многое говорят… Но кому верить? Знаю только, что Меружан скоро возвратится и, верно, будет царем Армении.
Морщинистое лицо пастуха приняло угрюмое выражение. Последние слова, вместо того чтобы обрадовать его, — ведь его господин и князь будет царем, — огорчили его.
— Не ладно это — сказал он печальным голосом, — Это против божьей воли. Царь должен быть царем, а князь — князем. Бог покарал бы меня, если бы я вздумал стать Меружаном. Я его пастух и должен быть доволен своей судьбой.
— Но ведь предки Меружана были тоже царями, — возразил гость.
— Я не знаю, были или нет. Может, и были… Только чего ему еще не хватает по сравнению с царем? Ведь он владыка в своей стране. От Аракса до Вана — везде его земли. Разве у царя Аршака найдется столько земель? Я много странствовал, тер сепух, и видел много стран. Видел табуны лошадей Аршака, видел и стада его овец, но ведь они не составят не только половины, но и четверти наших. Видел горы, где охотился царь Аршак, видел его пастбища; опять-таки скажу — не равняться ему с нами! Не пойму, чего недостает Меружану, зачем он идет против воли божьей? Зачем он берет грех на душу и навлекает беду на свою страну? Горестно все это, очень горестно, тер сепух… Будем надеяться на бога, пусть он предотвратит зло и сотворит благо.
С этими словами старик налил себе вина и, подняв глаза к небу, опорожнил чашу, произнося молитву, точно желая угасить пылающее пламя в своем сердце.
Меружан расчувствовался. В нем глухо заговорили угрызения совести.
Мани наполнил чашу и предложил ее гостю со словами:
— Выпей и ты, тер сепух, и попроси бога отвратить зло, сотворить благо. Меружан ведь как мой, так и твой господин. Я его смиренный пастух, ты же его знатный вельможа. Помолимся за нашего князя. Всевышний услышит нашу молитву.
Меружан принял чашу дрожащей рукой, оставаясь в нерешительности. Он должен был молиться за свои грехи, молиться тому богу, от которого он всенародно отрекся, дав клятву перед троном Шапуха. Он должен был молиться о том, чтобы бог отвратил его от злого пути. Он должен был каяться на своем языке. Но с какой душой? Не признаваясь в грехах, без душевного примирения! Лицемерием было бы такое покаяние! После долгого колебания он все же повторил слова пастуха и осушил чашу…
Меружан тут же закончил трапезу.
Пастух заметил его волнение и спросил участливо:
— Видно, ты сильно устал с дороги, тер сепух? Сейчас приготовлю тебе постель. Самое лучшее средство от усталости — это сладкий сон. Постель будет не роскошная, но зато спокойная. Возьми мою накидку, завернись в нее и засни. А под голову положи вот этот мешок, набитый травою. Она куда мягче пуха!
Меружан поблагодарил пастуха за его заботы и сказал:
— Ночь прекрасна, Мани, чудесная луна перебила мой сон. А твое вино меня взбудоражило. Хочется немного погулять, рассеять волнения души. Проводи меня, любезный Мани, а то собаки не пропустят меня.
Меружан встал. Пастух взял палку, пошел вперед и спросил князя, куда он желает идти.
— В горы, — ответил князь.
Они прошли мимо спокойно лежавших собак и приблизились к подножию горы.
— Оставь меня одного, добрый Мани, — сказал Меружан. — Я немного поброжу, затем сяду на какую-нибудь скалу и с ее высоты полюбуюсь на луну, послушаю сладостное журчание горного ручья.
Наивный Мани был немало изумлен возбужденным состоянием гостя, впавшего в такую восторженность. Он объяснял столь неожиданную перемену действием вина. «Кто знает, какие неведомые чувства взволновали его сердце» — подумал пастух. Оставляя гостя в одиночестве, он передал ему свирель, сказав:
— Будь здесь, тер сепух, сколько твоей душе угодно, и наслаждайся сладостью ночной прохлады. Когда захочешь вернуться, заиграй на свирели, — я услышу, приду за тобой и проведу в шалаш. Ведь собаки у нас злые, тер сепух.
— Спасибо, добрый Мани, — сказал Меружан, взяв у него свирель.
Пастух ушел.
Меружан остался один. Долго он блуждал у подножья горы, не находя себе успокоения; им овладела та отчаянная грусть, которая приводит человека в оцепенение. Никогда его могучая воля не была так бессильна, как в эту ночь; никогда его безудержная самонадеянность не была так поколеблена, как теперь. Он прислонился к скале и замер. Он всматривался в окружающий мрак, слегка освещенный тусклым светом луны. Вглядывался в унылое небо, покрытое темными облаками. Луна то пряталась за ними, то показывалась снова, и вслед за нею вся окрестность то освещалась, то снова погружалась в ночную тьму. Так и в душе его то ярко вспыхивали надежды, то снова все тонуло во мраке полной неизвестности.
Устал он! Устал душою и телом. Он присел на скалу. Крохотный кусочек его обширного княжества, где он сидел как беглец, как изгнанник, не имевший твердой почвы под нотами на собственной же земле! Он вспомнил печальные события прошедшего дня, вспомнил мучительные слова своей матери и молитву пастуха, и его сердце облилось кровью…
Он сошел со скалы, остановился и, обратив к небу гневное лицо, воскликнул:
— Что толкнуло меня на этот несчастный путь? Честолюбие?.. Нет! Тысячу раз нет! Престол, корона и скипетр Армении, обещанные мне Шапухом, не могли меня соблазнить, не могли превратить в бесчестное орудие персидского царя! Я не так подл и не так бездушен, чтобы попрать свои священные обязанности и восстать против своего царя! Я предпочел бы скорее смерть, чем черное клеймо изменника! Но что же толкнуло меня на этот печальный путь? Неудержимая жажда мести, неутолимая жажда крови? Опять-таки нет! Правда, мои предки и весь мой род были обречены мечу и беспощадно перебиты аршакидскими царями. Правда, с самого детства я горел желанием отомстить врагу и таким путем примириться с тенями моих предков, преследовавших меня каждую минуту, каждый миг. Но я был далек от того, чтобы ради кровавой мести уничтожить династию Аршакидов и утвердить на обломках их царства свой предательски захваченный трон. Почему же обрушились на меня эти несчастья? Что заставило меня отречься от моего бога, от родной религии, от всего, что было свято для меня, и принять религию Зороастра? Что умертвило мою веру, что задушило во мне священные чувства к моему народу? Только ты, о Вормиздухт! Только любовь к тебе, о Вормиздухт!
Произнося это имя, он опустился на колени, точно поклонялся какой-то небесной богине.
— Я люблю тебя, Вормиздухт, до безумия люблю… Об этом знал твой царственный брат и воспользовался моей слабостью. Он обещал мне множество наград, все, что может принести человеку слава и благополучие, но не сумел сломить мою верность родине и царю. Он добился своего только обещанием отдать мне тебя и отнял у меня все, что было свято для меня, что было мне дорого. Я согласился исполнить самые гнусные его желания, только бы получить Вормиздухт!
Несколько минут он молчал, горячие слезы текли из его глаз, и глухое раскаяние терзало его сердце.
— Люблю… не могу побороть в себе эту любовь! — сказал он и вскочил с места.
Он снова вознес взор к небесам и, подняв руки к небу, воскликнул:
— О великий боже! Укажи мне, о боже, тот сосуд, где хранятся животворящие капли любви, и я разобью, раскрошу этот сосуд, ибо в нем заключены все мои несчастья. Почему ты, о боже, влил в меня этот яд, почему воспламенил мое сердце этим неугасимым огнем? Не будь любви к женщине, во век не будь ее, я был бы счастлив. Любовь толкнула меня на позорное дело. Ради любви я совершил и готов совершить адские деяния… Я слаб и немощен, о господи! Только твоя могучая рука может умертвить во мне любовь! Молю тебя, преврати мое сердце в голую пустыню, чтобы в ней увяли все страсти!
Он внезапно умолк. Слезы снова хлынули из его глаз. Сильная буря страстей охватила его. Долго он так терзался, потом, как безумный, положил руку на горячий лоб и заговорил дрожащим голосом:
— Нет! Нет! Боже, я ее люблю, нет для меня света и жизни без нее… Ты создал любовь! Ты вложил в меня любовь, и ты должен быть ее заступником. Любовь — это наилучшее из твоих созданий… До начала мира тебе была известна ее могучая сила. Ты знал, что она своей безжалостной рукой будет направлять людские сердца к добру и злу. Меня она направила ко злу, и я должен идти по этому пути. Пусть на весь мир я буду навеки опозорен, пусть стану посмешищем, пусть все поносят и осуждают меня, а мое имя произносят с проклятием, но я люблю и не откажусь от своей любви. Моя бесценная Вормиздухт должна стать царицей Армении; я же буду царем только для того, чтобы быть достойным ее. Пусть кровью оросится тот путь, который ведет меня к престолу Армении. Пусть ступенями к нему будут трупы людей. Все сладостно, все желанно мне, ибо на высоте этого трона я вкушу ее любовь…
Утром, когда солнце только встало и пастухи собирались уже гнать стада на соседние выгоны, к шалашу Мани подскакали трое вооруженных всадников.
— Не проезжал ли здесь воин на белом коне? — спросил один из них.
— Он был гостем моим в эту ночь, — ответил пастух.
— Где он теперь?
— Уехал!
— Когда уехал?
— Он приехал ночью и ночью же уехал.
— Куда?
— Было темно. Я долго смотрел ему вслед, но в темноте не разобрал, куда он направился. А кто же он такой? — спросил, заинтересовавшись, пастух.
— Меружан!
«Ах, если бы я знал…»— подумал пастух и застыл на месте от изумления.
— Эх, не поспели мы вовремя! — сказали всадники и ускакали прочь.
VIII. Шапух у развалин Зарехавана
После этого персидский царь Шапух со всеми подвластными ему войсками выступил и прибыл в армянскую страну. Предводителями у него были Ваган из рода Мамиконянов и Меружан из рода Арцруни…
Лагерь персидского царя Шапуха находился в гаваре Багреванд, на развалинах города Зарехавана. Собрали, привели к персидскому царю всех пленных, взятых из оставшегося в армянской стране населения. И приказал персидский царь Шапух всех совершеннолетних мужчин бросить слонам на растоптание, а всех женщин и детей посадить на колья повозок. Тысячи и десятки тысяч народа было перебито, и не было числа и счета убитым. А жен бежавших нахараров и азатов он приказал привести на площадь конских состязаний в городе Зарехаване. И приказал раздеть тех благородных женщин и рассадить вокруг площади той, а сам царь Шапух верхом на коне проезжал перед женщинами… И все совершеннолетние мужчины Сюникского рода были перебиты, женщины умерщвлены, а мальчики по его приказанию были оскоплены и уведены в персидскую страну. Все это он делал, чтобы отомстить Андовку за то, что он вызвал войну с персидским царем Нерсехом.
Фавстос Бузанд
Весть о поражении войск Меружана и Вагана Мамиконяна с быстротой молнии долетела до Тизбона. Эта тяжелая весть так поразила надменного царя Шапуха, что он решил стать во главе своих войск и совершить большой поход над Армению. Его не столько расстроила гибель полков у стен Ванской крепости, сколько мысль о том, что его намерения относительно Армении с самого начала потерпели неудачу.
Не успели еще несметные полчища царя царей дойти до Атрпатакана, как уже всю Армению охватил ужас. Шапух обрушился, как бурный поток, все заливающий и уничтожающий на своем пути. Многие из армянских нахараров в страхе побросали свои семьи, оставили крепости и бежали в другие страны. Оставшиеся же укрепились в неприступных горах.
Восточная часть Армении, прилегающая к Персии, была совершенно открыта для персов. Всюду, где проходил Шапух, он оставлял после себя груды развалин, печальную пустыню, голую землю. Города и посады он предавал огню, жителей, не успевших бежать, забирал в плен. Путь ему указывали Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян.
Шапух вошел в Багревандскую область и громадным лагерем расположился возле развалин Зарехавана, разрушенного его авангардом.
Сюда пришел он с целью захватить царицу армянскую Парандзем, которая со своим войском находилась в Шахапиване, в нагорье Цахканц — месте летнего пребывания царей. Но еще до прибытия Шапуха царица Парандзем с одиннадцатьютысячным войском поспешила удалиться в хорошо защищенную крепость Артагерс, в ущелье Аракса.
Было утро — печальный канун того дня, когда Шапух начал осаду крепости Артагерс. В этот день по его приказу совершились действия, недостойные царя и вообще человека.
Тиха и печальна была в это утро Арацани, точно ей не хотелось видеть картины тех нечеловеческих зверств, которые должны были совершиться на ее берегах.
По одну сторону реки, на зеленом склоне горы Нпат, живописно выстроились царские палатки лазоревого цвета, одна другой наряднее. Цвет палаток красиво сочетался с горной зеленью. Тут же поместился гарем, который, согласно обычаю, всегда сопровождал персидских царей во время их долгих походов. Но палатки для женщин не были видны: с четырех сторон их загораживала высокая стена из плотного полотна, напоминающая белую ограду.
На прекрасной долине прибрежья широко раскинулся огромный персидский лагерь. Там были расставлены палатки воинов и полководцев. Разноцветные знамена, особые для каждого полка, развевались в воздухе.
На конусообразной вершине царского шатра сверкал шар, на котором было изображено солнце с золотыми лучами, отлитый из чистого золота, — священная эмблема персов. Внутри шатра сидел Шапух на четырехугольной тахте из слоновой кости, украшенной красивой резьбой. В то утро на нем была одежда цвета крови: признак того, что ему предстояло кровавое дело. На голове — великолепная корона с царскими атрибутами; золотой султан, обвязанный жемчужными нитками, сверкал, как луч солнца. На груди, начиная от плеча, украшения из драгоценных камней, доходившие до пояса, тоже унизанного драгоценностями. Рукава выше локтей скреплялись золотыми браслетами. В ушах висели тяжелые золотые серьги. Через правое плечо талисман с таинственными иероглифами, усеянный крупными драгоценными каменьями, наискось пересекал грудь; концы его соединялись под левым рукавом. Персидские маги изощрили все свое искусство и знание, чтобы наделить талисман волшебной силой.
Шапух сидел на тахте поджав ноги. Вместо жезла он держал тяжелую железную булаву с шарообразным наконечником, лежавшую на коленях. Сзади главный оруженосец двора держал царскую саблю.
Справа от Шапуха находился Меружан Арцруни, слева Ваган Мамиконян, отец Самвела; оба его зятя были в полном вооружении.
Перед шатром по обе стороны входа выстроились рядами главные полководцы царя, вельможи и придворные: все молчали, с благоговением ожидая приказа Шапуха.
Шапух был среднего роста. Коротко остриженная черная борода, осыпанная золотой пылью, обрамляла его смуглое лицо с большими живыми глазами, выражавшими беспощадность и жестокость.
Долина, где находился Шапух, была священна для армян как древнейшая колыбель религий и культов и была связана с незабываемым для них прошлым. На заветном берегу Арацани возвышалась величественная гора Нпат — армянский священный Синай, в пещерах которой некогда скрывался от врагов и опочил Григорий Просветитель. А теперь в этой долине — бывшей колыбели христианства расположился лагерь персидского царя — врага христианства.
Шапух молчал, возбужденный взгляд его был устремлен на великолепный монастырь, стоявший на склонах Нпат. Прекрасный монастырь высотою своих куполов точно соперничал с окружающими горами.
— Что это за монастырь? — спросил он у Меружана Арцруни.
— Монастырь святого Иоанна, великий царь, — ответил Меружан, и добавил: — На этом месте стояла прежде древнейшая из святынь Армении — Багаван, в которой находилось богатое капище «ванатура» — гостеприимного Арамазда. Каждый прохожий, каждый чужестранец пользовался радушным приемом и ночным отдыхом в его бесчисленных покоях. Здесь ежегодно в начале месяца Навасарда армяне торжественно отмечали «аман ор» — новогодний праздник. На торжествах присутствовал царь Армении со всеми нахарарами. Благословляли созревшие плоды и посвящали их богу гостеприимства. Здесь поддерживался вечный небесный огонь Ормузда, и множество жрецов служило у священного алтаря.
Выражение лица Шапуха стало мрачным при мысли о том, что все это, так соответствовавшее персидскому культу, ныне не существовало, и теперь на этом месте высился священный храм христиан.
— Кто же разрушил это капище?
— Первосвященник Армении Григор, которого, по неразумию, прозвали Просветителем Армении, — ответил Меружан.
— Это тот, который отвратил армян от света маздеизма и ввел их в христианское заблуждение?
— Да, великий царь! Это произошло тогда, когда он вот в этой самой реке, что течет перед нами, крестил царя Армении Трдата со всеми его нахарарами. Армяне до сих пор верят, что во время крещения на небе появился столб света, на вершине которого сиял знак креста. Он оставался над рекою до тех пор, пока не закончился обряд.
При последних словах Меружана по лицу Шапуха пробежала злая усмешка.
— Монастырь этот следует разрушить, — сказал он, — и как прежде, так и ныне, на его месте должно пылать священное пламя Ормузда.
— Воля царя царей уже исполнена, — горделиво ответил Меружан. — Там уже построено капище и горит священный огонь. Вчера я приказал принести пленных и заставил их поклониться огню. Некоторые согласились, другие же упрямо отказываются. Как прикажет царь царей поступить с заблудшими?
— Покарать всех без пощады! Пусть это послужит примером для других! — воскликнул Шапух, и большие глаза его зажглись неумолимой злобой. — От востока до запада должна царить вера маздеизма, и всякий, кто будет противиться ей, должен понести тягчайшее наказание.
— Такое именно и сделано распоряжение, великий государь! Сейчас начнется карательный обряд.
На равнине возле реки нетерпеливо ожидали стада обученных слонов. Вожатые старались раздразнить их как можно сильнее, и поэтому громадные животные страшно ревели. Пленные, отказавшиеся поклоняться огню, были выстроены в ряд на площади. Молчаливо, с грустными лицами ожидали они своих последних роковых минут. Но в их предсмертном томлении чувствовалось гордое сознание исполненного долга.
Священной долине Евфрата словно судьбой было предназначено служить местом мученичества. Здесь мученически погибли Восканяны и Сукиасяны. Здесь, подобно тому, как Моисей Израиля скрывался в глубине горы Набау, Моисей Армении — Григорий Просветитель таился в темных пещерах горы Нпат. С древнейших времен эта долина служила местом кровавых религиозных столкновений. Начиная с убийства верховного жреца Мажана вплоть до последних казней, совершенных Шапухом, долина каждый раз орошалась кровью мучеников.
Музыканты заиграли в трубы и ударили в тимпаны. Эти звуки еще больше возбудили слонов. Они пустились в бешеную пляску. В это время персидские палачи в красных одеждах подвели к слонам пленных — взрослых и детей — и группами расставили перец ними. Свирепые слоны начали ужасную игру со своими жертвами. Подхватив несчастных с земли своими страшными хоботами, они, как мячи, подбрасывали их высоко в воздухе. Те падали на землю с жалобными стонами. Слоны подхватывали их снова, вращали в воздухе и опять изо всей силы швыряли о землю. Эта адская забава продолжалась до тех пор, пока несчастные не лишались сознания. Тогда слоны принимались топтать их ногами и раздробленные, окровавленные тела, как куски ваты, вновь подхватывали хоботом и швыряли в реку. Печальный Евфрат постепенно наполнялся трупами, и его прозрачная, чистая вода окрасилась кровью. Так тысячи человеческих существ были растоптаны слонами.
Это видел Шапух из своего шатра. Это видели Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян, находившиеся с ним. И это зрелище развлекало их больше, чем слонов.
— Куда попадут осужденные: в ад или в армянский рай? — спросил царь царей со злой усмешкой.
— Они уверены, что попадут в рай, — смеясь отвечал Меружан.
— Эти глупцы радуются, когда им приходится умирать за религию, — вмешался Ваган Мамиконян.
— Ничего, наши слоны ведь не устанут от совершения казни над такими, — сказал царь царей. — А нашим богам весьма приятна их кровь. Клянусь светлым ликом моих предков, клянусь священным именем Ормузда, я не пощажу ни пола, ни возраста, ни звания, и всякий — будь то родовитый или простолюдин — будет наказан за сопротивление нашей воле, ибо мои слова — это воля могущественных богов.
Так говорил царь царей, и его страшный голос сотрясал шатер.
В это время недалеко от места чудовищной пляски слонов готовилось другое злодеяние. На площадь спешно волокли повозки с какими-то подвижными машинами. На каждой из них возвышался остроконечный длинный шест. Издали это множество повозок с железными остриями походило на стоящие у пристани лодки с вонзающимися в небо мачтами. Когда повозки были установлены на площади, приступили к адскому делу.
Среди пленных было немало молодых знатных женщин и девушек — жен и дочерей тех нахараров, которые, узнав о приближении Шапуха и не желая ему покоряться, побросали свои замки и разбежались в разные стороны. Этих знатных женщин держали в особых палатках, недалеко от палатки Шапуха. Царские евнухи вошли к ним, раздели их донага и выстроили перед повозками с шестами длинными рядами на площади.
Это было отвратительное зрелище, изобретенное Шапухом, наглость и бесстыдство которого превзошли его жестокость. Скромные женщины и девушки принуждены были стоять обнаженными и завидовать в душе тем счастливцам, которые погибли под ногами слонов, мгновенно избавившись от зверств Шапуха. Многие из них не могли держаться на ногах: теряли сознание, падали на землю. Евнухи заставляли их подниматься. Другие, как безумные, рвали на себе волосы, царапали лица, били себя в грудь и, громко рыдая, кричали. Плеть евнуха опускалась на их голые тела, оставляя на них кровавые полосы. Тогда они умолкали…
Это было жестокое издевательство, тяжелое оскорбление, которым Шапух хотел унизить армянскую знать. Знатные женщины стояли обнаженные перед его войском. Воины обступили женщин густою толпой, глазея на них.
Явился мовпетан-мовпет[295], окруженный своими магами в белых одеждах. Главный жрец остановился на площади, поднял руку и обратился к женщинам.
— Упрямство ваших мужей обрекло вас на эту позорную участь. Вы искупаете их грехи. Но велик царь царей и безмерно его милосердие: он дарует вам прощение и вернет вам прежнюю славу и почет, если вы покоритесь его повелению. Животворное солнце дает свет и тепло всему миру, все живое должно в благодарность преклоняться перед ним. Оно — источник жизни и света. Оно — источник всякого добра. Без него нет ни жизни, ни счастья, без него царствует темный мрак Агримана. Его светозарным подобием на земле пылает священный огонь Ормузда. Поклонитесь ему, и вы будете спасены. От вас, знатных женщин, мы должны ожидать больше всего, ибо за вами последует простой народ Армении. Если же вы, подобно своим мужьям, будете упорствовать в ваших заблуждениях, то вас ждет вот эта ужасная казнь, — он указал рукой на повозки с шестами. — Выполняйте волю царя царей Персии: велико его могущество и безгранично его милосердие!
— Пусть его могущество и милосердие погибнут вместе с ним! — закричали женщины. — Пусть его уделом будет вечное проклятие. Мы скорее готовы навсегда остаться пленницами и вынести любое наказание, чем подчиниться его воле и бесчестному требованию.
— Повторяю! — воскликнул мовпетан-мовпет, — пожалейте себя, пожалейте ваших детей! Ваши дети у вас на глазах будут растоптаны слонами, а вы будете присуждены к жестокой казни на шестах.
— Ничто не может поколебать нашу веру, ничто не испугает нас. Выполняйте злую волю злого деспота. Мы готовы!
Видя непреклонность разгневанных женщин, мовпетан-мовпет обратился к палачам и приказал:
— Начинайте!
Тогда подошли одетые в красное палачи и, точно злые волки набросившись на женщин, повели многих из них к повозкам и расставили на настилах. Утонченно сделанная варварская машина казни вызывала ужас. Железный шест, воткнутый в середину повозки, был подобно мачте укреплен канатами. Несчастных жертв поднимали на этих канатах вверх и насаживали на острый конец шеста, как на вертел. Не прошло и четверти часа, как площадь запестрела повисшими голыми трупами. Но сильнее смерти была та твердость, с какой эти отважные мученицы приближались к машине ужасной казни. Поднимаясь на нее, они считали ее дорогой к вечному блаженству. Храбрость женщин сокрушила самомнение надменного царя. Сидя в своем шатре, он видел их мучения, слышал их горькие стенания и, охваченный дьявольской злобой, бесновался, так как видел, что даже его неимоверная жестокость остается бесцельной, не оказывая никакого действия…
Он спустился вниз и вышел из шатра. За ним следовали Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян. Вся знать, все придворные, стоявшие перед шатром Шапуха, пали ниц. Царь сел на коня и направился в стан своих войск. За ним ехали Меружан Арцруни и Вагам Мамиконян. Дальше следовали конные телохранители.
Царь и его конь сверкали золотом и драгоценностями. На лбу царского коня горел алмазный полумесяц. Обозрев войска, Шапух подъехал к тому месту, где совершалась казнь.
Он проезжал между рядами обнаженных женщин и внимательно разглядывал каждую. Одна из них гневно воскликнула:
— Шапух, надругательство не приличествует царю, называющему себя отцом народа. На виду у всех глумясь над почтенными женщинами, ты позоришь самого себя. Поступая так со слабой женщиной, при твоем могуществе,ты показываешь свое духовное убожество.
Шапух остановил коня и спросил Меружана Арцруни:
— Кто такая?
— Супруга князя Андовка Сюникского, — ответил Меружан.
Ваган Мамиконян понурил голову от стыда и угрызения совести. Андовк, князь Сюникский, был зятем Мамиконянов, а эта почтенная женщина была его теткой и матерью армянской царицы Парандзем. Царь Аршак был женат на дочери князя Андовка — Парандзем.
По грозному лицу Шапуха пробежал злая усмешка, когда он услышал имя Андовка.
— Ты упрекаешь меня, княгиня? — сказал он презрительно. — Ты упрекаешь меня в том, что я поступил не по-царски. А твой супруг, князь Андовк, поступил прилично, когда взял в плен гарем царя Нерсеха, моего предшественника, и, похитив госпожу над госпожами Персии, увез ее в Сюник?
— Он поступил правильно, Шапух, — ответила смелая княгиня. — Правда, мой супруг взял в плен гарем твоего предшественника, царя Нерсеха. Но где?.. На поле битвы, после, великой победы. А ты, как вор, пробрался в беззащитный замок моего мужа и похитил его семью. Если бы мой супруг находился здесь, а не в Византии, тебе бы не удалось это воровство. Он со своими пленницами поступил так, как подобало благородному князю. Он ни у одной из жен Нерсеха не приподнял покрывала. Ты же выставил нас обнаженными на этой площади. Он удостоил жен Нерсеха царских почестей и с почетом отправил их обратно в Персию. А ты со своими пленницами поступаешь, как варвар: сажаешь их на кол. Стыдно тебе, Шапух! Ты опорочил величие царя и человеческую добродетель!
— Нечего меня порицать! — крикнул разгневанный Шапух. — Незабываемы бедствия, нанесенные сюникцами нашей стране, и в моем сердце неизлечимы раны, нанесенные твоим мужем. Не он ли сжег и разрушил мою столицу Тизбон и разграбил мои сокровища? Тизбон и по сей день не может оправиться от этих ударов. До сих пор во дворе моего дворца стоит ступа, наполненная золой. По ней стучат люди с плачем и проклятиями: «Пусть княжество сюникских властителей, их жизнь и мощь превратятся в прах, как эта зола…» И я исполню их желание!
— Это еще как повелит бог! — ответила княгиня, и ее опечаленные глаза зажглись огнем ненависти. — Ты возложил все свои надежды на жестокость и на этих двух бесчестных людей, которые всюду бегают за тобой, — она указала на Меружана Арцруни и Вагана Мамиконяна. — К несчастью, оба они мои родственники, и я была бы гораздо счастливее, если бы они были мне совсем чужими. Они изменили родному царю, изменят и тебе…
Она на минуту умолкла, а затем продолжала:
— Ты напоминаешь мне о том, что мой супруг сжег Тизбон и разграбил твои сокровища. Это правда. Но после того тяжкого оскорбления, которое ты нанес моему мужу в твоем доме, за столом, его месть была еще недостаточна. Правда, он сжег твой город, разграбил твой дворец, но не тронул твоих жен, хотя ему легко было взять их в плен и заставить подметать улицы в крепости Багаберд. Но он человек благородный и поступил благородно. А ты…
Последние слова замерли на устах княгини. Палачи набросились на нее, вырвали ей язык, а затем искромсали ее тело на части…
Бешенство разъяренного Шапуха не имело пределов. Он приказал перерезать всех женщин Сюникского дома, а мальчиков оскопить, дабы не было потомков у Андовка и чтобы его род прекратился навеки.
IХ. Артагерс
…Когда царица армянской страны, жена царя Аршака Парандзем увидела, что войска персидского царя заполнили армянскую страну, взяла с собою около одиннадцати тысяч отборных вооруженных бойцов из азатов и вместе с ними отправилась в крепость Артагерс, в области Аршаруник. Потом подошли все персидские войска, окружили крепость и осадили… Так они тридцать месяцев… не могли взять крепость, потому что местность была весьма неприступна.
Фавстос Бузанд
После зверств под Зарехаваном Шапух двинулся к крепости Артагерс, где укрепилась армянская царица Парандзем. Там же были укрыты и царские сокровища. Алчного Шапуха не столько привлекали сокровища армянского царя, сколько его супруга. Захватив ее, он рассчитывал овладеть и всей Арменией. Сам царь давно уже был в его власти. Оставалась царица.
Артагерс имел печальную историю. Эта одна из самых неприступных крепостей в области Аршаруник принадлежала некогда Камсараканам. Но царь Аршак неправедными путями отнял у них эту крепость и овладел ею. Теперь незаконно захваченная крепость стала убежищем его жены.
Царица Парандзем вступила в крепость с семнадцатью тысячами армян, из них — одиннадцать тысяч мужчин и шесть тысяч женщин. Это были главным образом лица княжеского рода, которые во время наступившей смуты не пожелали оставить свою царицу.
После нескольких месяцев упорной осады и ожесточенных боев Шапух понял, что обманулся в своих ожиданиях. Ни бесчисленное персидское войско, ни всевозможные военные ухищрения не приносили ему успеха. Наоборот, при каждой новой попытке захватить крепость персы терпели большой урон. Царь царей Персии, заставлявший трепетать Восток и Запад, задыхался от ярости, видя, как все его усилия бесплодно разбиваются о несокрушимые скалы Артагерса.
Положение Шапуха было не из легких. Он попал в ту ужасную западню, где Аракс и быстротечная Ахурян, преодолев горные высоты и глубокие ущелья, сливаясь, создавали многочисленные непроходимые преграды для врагов Армении. По преданию, в прибрежных мрачных пещерах этих рек некогда обитали драконы, вселявшие в людей ужас. Теперь же наводили страх армянские исполины, укрепившиеся там со своей царицей.
Крепость Артагерс находилась неподалеку от того места, где Ахурян и Аракс, сливаясь в одно русло, образовывали острый треугольник, сжимая старый Ервандашат, по каменистым уступам которого Ерванд поднялся до трона Аршакидов. Крепость была расположена на высоких сизых скалах. У ее подошвы в глубокой пропасти ревела река Капуйт.
Артагерс был известен Риму и Византии. Римский цезарь Кай, приемный сын императора Августа, возле его могучих стен получил смертельную рану от руки князя Аттона.
Шапух упрямо продолжал осаду, уверенный в том, что если не силой оружия, то голодом и жаждой он вынудит осажденных сдаться. Но в подвалах крепости съестных припасов было достаточно. Военные средства того времени не в состоянии были воздействовать на недоступные, расположенные на высотах укрепления — это великое чудо природы.
Но более, чем цитадель, несокрушима была энергия осажденных. Их самопожертвование не имело предела. Знатные женщины по целым ночам бодрствовали на стенах. Знатные девушки не покидали башен крепости, следя за каждым движением врага. Царица собственноручно лечила раненых. Мужчин и женщин воодушевляла горячая любовь к родине; в них вселяла веру и ободряла сама царица.
Шапух приказал повести решительное наступление. Персы, защищенные латами и щитами, вскарабкались на крепостные стены. Они дрались геройски, град стрел, летевших на них из крепости, не умерял их ярости. Царица в доспехах стояла на крепостной стене и воодушевляла своих воинов. Внезапно стрела попала ей в плечо, пробила латы и вонзилась в тело. Один из военачальников подбежал к ней и протянул руку, собираясь вытащить стрелу.
— К чему попусту тратить время? — сказала царица. — Вытащим после!
Эта слова подействовали так воодушевляюще на воинов, что они удвоили напор и отогнали врага от стен цитадели.
Иногда ночью, а то и днем из крепости выходили отряды воинов и вступали в бой с персами. Эти маленькие отряды своими молниеносными набегами не только тревожили стан врага, но часто возвращались с пленными и добычей.
Затяжка осады беспокоила Шапуха. Он не мог долго оставаться у стен Артагерса. Более важные дела призывали его обратно в Персию. Уйти, не добившись никаких результатов, ему не позволяла его безграничная кичливость. Убедившись в том, что силой он не одолеет крепость, он прибег к своей обычной хитрости. Отправил посла к царице, и давая большие обещания, предложил, чтобы обе стороны сложили оружие и чтобы она, царица, спустилась с крепости для личных переговоров о перемирии. Но царица твердо отказала, заявив послу, что с таким обманщиком, как Шапух, она ни видеться, ни вести переговоры не желает. И хотя оскорбление было тяжкое, все же царь царей предложил вступить в переговоры с ним хотя бы издали. Приближенные царицы посоветовали ей принять это предложение.
В назначенный день надменный царь, сопровождаемый только Меружаном Арцруни и Ваганом Мамиконяном, без свиты, подошел к подножью крепости. Чтобы легче было вести переговоры, ему разрешили приблизиться к стене. Там приготовлен был для него роскошный трон, и группа придворных встретила его стоя. Шапух явился, но, раздосадованный донельзя, не захотел сесть на трон. К его приходу на башне, окруженная нахарарами, появилась царица. Высокая, красивая женщина среди своих вельмож казалась прекрасной богиней. Увидев ее, Шапух обратился снизу:
— Всем известно, царица, сколь ты прекрасна! Красотой своей ты свела с ума царя Аршака, который похитил тебя, пролив кровь своего племянника Гнела. Ты, царица, была бы еще прекраснее, если бы с такой чудесной красотой соединяла ум и рассудительность. Но сюникцам не дано ни ума, ни рассудительности. Им присущи лишь грубость варваров и безмерная гордость. Их мысль груба, а сердца бесчувственны, как скалы в их горах. Таков был твой отец князь Андовк, такова была и твоя мать. Тело твоей матери за дерзкие слова я приказал разрубить на куски у развалин Зарехавана. Я истребил весь твой род, кроме твоих братьев, — они в числе моих пленников, и их ждет мучительная смерть, если ты, царица, будешь упорствовать. Зачем ты укрепилась на этих высотах? Разве эти скалы спасут тебя? Могущество царя царей Персии велико, и гнев его ужасен. От одного его вздоха горы тают, как свечи, сохнут моря, а ты, царица, неразумно ожидаешь в окружении, на этих высотах, пока разбушуются волны, разыграется буря и твой жалкий остров исчезнет в неумолимом потоке моего гнева. Ради чего ты засела в крепости? Ведь этим ты, царица, не спасешь ни себя, ни свою страну. Вся Армения у меня под пятой. Стоит мне наступить ногою, и она превратится в прах. Для тебя, царица, один исход: мое великодушие. Положись на меня, и ты будешь спасена. Не будь ты женщиной, я бы не простил тебя. Но я прощу, тебя, так как ты женщина. Спустись с этих высот, облобызай прах ног царя царей, и он станет к тебе милосердным.
Царица спокойно слушала его. Нахарары же и вельможи дрожали от негодования. Ответом на эти угрозы могла быть только стрела, которая заставила бы замолчать этого зверя. Окружающие царицу нахарары уже готовились поразить его, но царица молчаливым жестом сдержала их гнев. Она не хотела вероломством отвечать на вероломство и отправить к персам от ворот крепости труп гостя.
Она ответила так:
— Слушай, Шапух, ты утратил благородство и учтивость царя. Ты забываешься, говоря с царицею! Забываешь и о том, что имеешь дело с женщиной. Ты напоминаешь мне, Шапух, о твоей зверской расправе над моей матерью и над моей родней и нагло хвастаешься своим варварством. Но тебе бы следовало быть в страхе за совершенные преступления, если бы в тебе осталась хоть капля человечности. Ты, Шапух, угрожаешь, мне таким же печальным концом, какой выпал на долю моих родных. Но ты не думаешь о. том, что эта угроза только разжигает во мне чувство мести и укрепляет убеждение в том, что нельзя протягивать руку человеку, чьи руки обагрены кровью моей матери и моих близких. Ты мне обещаешь прощение и приглашаешь, меня спуститься вниз. Но подумай, Шапух, сколько раз ты уже обманывал нас. Разве можно иметь хоть каплю доверия к твоему слову и к твоим обещаниям? С того дня, как ты вероломно пригласил к себе моего царственного супруга, который спас тебя от многих и многих опасностей, и нагло заключил своего гостя, своего верного союзника в крепость Ануш, с тех пор ты лишился доверия всех армян. Ты думаешь, Шапух, что Армении находится под твоей пятой, и ты грозишь уничтожить ее одним ударом! Пожалуй, тебе бы это и удалось, если бы твоя храбрость равнялась твоей заносчивости и безудержному бахвальству. Но высокомерие отшибло у тебя память: вспомни, сколько раз ты позорно убегал от наших стрел, оставив трупы своих воинов на наших полях! И если твой стан сейчас находится в окрестностях моей крепости, то это не потому, что ты и твои воины храбры, нет! Но потому, что ты вероломный изменник. Ты обманом удалил моего мужа царя из его страны и, оставив Армению без главы, расчистил себе путь. Как ловкий вор спешит воспользоваться отсутствием хозяина, так и ты поспешил напасть на беззащитную страну. Но твое воровство подлее: ты подкупил домашних слуг, и они ночью открыли тебе дверь. Вот они, эти слуги, продавшие и предавшие своего господина — оба они стоят возле тебя, и ты обоим в виде подкупа отдал своих сестер.
Она протянула руку, указывая на Меружана Арцруни и Вагана Мамиконяна, и сказала:
— Но не забывай, Шапух, что Армения все же имеет хозяина. Это прежде всего тот, кто является властелином и царем вселенной, — она подняла руку к небу, — во-вторых, с тобой говорят двое: я и мой сын, находящийся в городе императоров Византин. Ложная гордость и слепой самообман ввели тебя в заблуждение, Шапух! Хорошенько обдумай и очнись! Если все погибнут, если в лачужках Армении останутся лишь слабые девушки, и те будут бороться с тобой. Но до этого еще далеко. Ты не замечаешь, что всей своей мощью ты уперся в скалы этой крепости и ничего не можешь с нами сделать. А сколько еще таких крепостей в нашей стране, в которых мои нахарары ожидают тебя с оружием в руках! Ты попал в ловушку армянских гор и будешь очень счастлив, если сможешь выбраться из нее. Иди, Шапух, уходи отсюда! Иди, беснуйся от злобы и совершай варварства, которые еще можешь совершить. Твои угрозы не пугают меня! Иди! После всех мерзостей, содеянных тобой, между нами не может быть мира. Доколе мой царственный супруг мучается в крепости Ануш; Армения в порыве мести, с оружием в руках будет воевать с тобой….
— Увидим! — проскрежетал зубами Шапух, спускаясь с крепостной горы.
Прошел почти месяц.
Артагерс ликовал, охваченный общей радостью. Улицы были разукрашены. На башнях развевались разноцветные флаги. Огромные толпы народа заполнили площадь. Мужчины и женщины, мальчики и девочки плясали под громкие звуки музыкальных инструментов. У царского дворца собрались богато вооруженные веселые группы воинов. За день до этого Шапух прекратил осаду и удалился в Персию. Крепость праздновала свое освобождение.
Обширный зал царского дворца был пышно украшен. На длинном столе, у стены, были разложены драгоценные одежды, роскошное оружие, панцири, золотая и серебряная посуда, блеск которых ослеплял. Все это было взято из царских хранилищ и предназначалось для наград. Царица, отправляясь в Артагерс, захватила с собой и царскую сокровищницу.
Царица сидела на пышном троне в роскошном праздничном одеянии. Сегодня у нее был торжественный прием. Прекрасное лицо ее было веселее обыкновенного. Правда, ее веселость казалось не вполне искренней и лишь едва прикрывала ту глубокую грусть, которая таилась в ее красивых глазах.
Да, она была прекрасна, эта дивная богиня Сюникской страны. Ее красота явилась причиной того, что царь Аршак совершил трагическое преступление, которое можно было оправдать только страстной любовью.
На голове царицы сияла маленькая корона, украшенная драгоценными каменьями, под которой венком были собраны ее черные кудри, обрамлявшие бледные щеки и мелкими косичками спадавшие на ее пышные плечи. Прозрачными складками живописно вилась из-под красивого головного убора белая вуаль. Убор придавал ее очаровательному лицу особую прелесть. Золотые серьги скрывались под прядями черных локонов, и только яркий блеск каменьев выдавал их присутствие. Эти драгоценные серьги были столь тяжелы, что висели не в ушах, а на застежках по обеим сторонам короны; на концах их были кисточки, в каждой кисточке сверкали крупные драгоценные каменья. Жемчужная цепь соединяла их между собой и спускалась на грудь. Шею украшало драгоценное ожерелье, с которого свисал нагрудный знак в виде сияющего в лучах месяца, лежавшего на ее высокой груди. На обнаженных руках были надеты золотые браслеты, на мизинце правой руки сверкал царский перстень. Платье цвета пурпура длинными мягкими складками спускалось до пола; на ногах были густо расшитые жемчугом туфли. Широкий золотой пояс с бриллиантовыми застежками плотно охватывал стан. Плечи покрывала розовая бархатная мантия, подбитая соболем.
По правую сторону царицы впереди всех стоял Мушег Мамиконян, спарапет всех армянских войск, возле него Саак Партев, сын Нерсеса Великого. За ними пониже стояли нахарары и вельможи, — каждый занимал подобающее ему по знатности и положению место. Тут же был и Месроп Таронский. А по левую сторону трона, в том же порядке, стояли жены и дочери нахараров. На всех лицах сияла беспредельная радость, у всех глаза сверкали от восторга.
Из присутствующих никто не сидел, кроме епископа Хада, которого Нерсес Великий, отправляясь в Византию, назначил своим местоблюстителем.
С улицы доносились звуки музыки и раздавались раскаты смеха. В зале же господствовала глубокая тишина. Царица обратилась к присутствующим с такими словами:
— Шапух прекратил наконец свою длительную осаду. Его могучая сила разбилась о наши скалы. Но еще несокрушимее было ваше мужество, ваша самоотверженность, мои дорогие полководцы! Всевышний послал вам силу, и вы, как подобает героям, отважно боролись с яростным врагом. Вы показали себя достойными сынами нашей родины. Тяжела была длительная война и полна бедствий! Тяжела потому, что, кроме чужого врага, мы вынуждены были бороться со своими родичами. Наших врагов вели наши же родичи. Сын дрался против отца, брат против брата. И в том именно проявился ваш высокий дух любви к родине, что вы не пощадили ваших родичей и на их оружие ответили оружием. Хвалю вашу доблесть и даю вам свое материнское благословение.
Все молча наклонили головы, выражая тем свою глубокую благодарность. Царица продолжала.
— Однако многое предстоит еще нам в будущем. Мы отогнали врага от крепости, но не изгнали его из пределов нашей страны. Мы защитили себя. Наша страна, наша дорогая родина находится все еще под угрозой. Я не сомневаюсь в том, что Шапух, позорно отступивший от Артагерса, не забудет эту тяжелую обиду. Всю свою желчь, весь яд изольет, несомненно, на незащищенные местности. А таких мест немало. Некоторые из наших нахараров оказались настолько трусливыми, что покинули свои земли и разбежались в разные стороны. Враг захватил их земли. Их семьи находятся в заключении в своих же замках и содержатся как заложники. После печального кровопролития в Зарехаване, где Шапух обнаружил свою звериную ярость, многие из наших друзей оказались в плену у врага. Нет покоя для нас, пока наши братья и сестры томятся в плену. Нет покоя для нас, пока не смыто пятно позора, нанесенное Шапухом тем нахарарам, чьих жен и дочерей он обнаженными выставил перед своим войском… Тяжко мне, слишком тяжко перечислять наши бесчисленные бедствия и вспоминать о наших неизлечимых ранах. Возлагаю упование на вседержителя, на вашу любовь к отчизне, храбрые воины, и верю, что вы оправдаете ваше призвание.
Ее приятный и внушительный голос отчетливо раздавался под высокими сводами. Вдохновенные, пламенные слова, которые лились из ее уст, зажгли всех присутствующих; они все чаще и чаще наклоняли головы, выражая царице свою искреннюю преданность.
Затем заговорил епископ.
— Отечество в опасности! Да. Но в еще большей опасности церковь. Персидская нечисть уже проникла в наши храмы. На наших священных алтарях уже горит пламя Ормузда. Монастыри наполнились магами и жрецами. Монахинь преследуют, а монахов заставляют насильно служить огню. Некоторые из наших нахараров, чтобы угодить персидскому царю, соорудили в своих домах кашица. Церковь, созданная заботами нашего многострадального отца Григория Просветителя, близка к гибели. Персы много раз нападали на нашу страну, много раз побеждали, но и много раз были побеждены нами. Наша страна многократно омывалась кровью. Но проходили печальные дни войны и разгрома, и на крови снова зацветала новая жизнь, и наступало благоденствие. Теперь же опасность грозит нашей церкви, нашей вере и ведет народ к неминуемой гибели. Катастрофа близка, и нет от нее спасения. Это будет смертью всех армян. Сколько народов, сколько племен, как ненасытный дракон, поглотила религия Зороастра! Сколько святынь сгорело в ее неугасимом пламени! Надо потушить этот огонь, который стал уже разгораться в нашей стране! Надо погасить это пламя, которое грозит поглотить наши святыни. Да, надо погасить, дабы снова ожила наша вера — источник жизни нашего народа и нашей страны.
— Да будет благословенна воля всевышнего, да защитит он нашу святую церковь — мы же будем ее верными воинами! — воскликнули князья и нахарары в один голос.
Царица встала. Наступило молчание. Она медленными шагами направилась к столу, на котором были разложены награды, взяла меч и, протягивая его епископу, сказала:
— Преосвященный владыка, враг мечом и кровью осквернил наши священные храмы, и мы тоже должны очистить их мечом и кровью. Вот твой меч. Покажи пример служителям церкви, пусть они станут достойными ревнителями ее славы.
Епископ принял меч.
Затем царица взяла золотую мантию и, подойдя к Мушегу Мамиконяну, сказала:
— Князь Мушег, ты доказал в этой борьбе, что ты достойный сын своего отца, погибшего за отчизну и царя. Ты достоин самой высокой царской награды. Теперь на своих могучих плечах ты несешь всю тяжесть судьбы Армении. Твои достойные плечи я украшаю этой мантией, которую носил царь Аршак — мой царственный супруг.
Спарапет с глубоким благоговением преклонил колено перед государыней, и она накинула ему на плечи царскую мантию.
Затем царица снова подошла к столу с подарками и взяла золотой кубок. Обращаясь к Сааку Партеву, она сказала:
— Твой отец, Саак, был самой верной опорой Армении и ради любви к ней обречен сейчас на тяжелую участь изгнанника. Лучезарная звезда отца сверкает на твоем ясном челе, — мы убедились в это во время последних битв. Прими этот кубок и, пользуясь им, всякий раз помни о моей горячей благосклонности к тебе.
Высокородный Партев преклонил колено и принял из рук царицы прекрасный кубок.
Так щедрой рукой мудрая царица награждала каждого за храбрость. Для каждого у нее находилось слово мудрой похвалы соответственно родовитости и заслугам награждаемого. Радость нахараров была неописуема, и безгранично было их восторженное воодушевление. Одна ее улыбка, один ее взгляд, полный материнской любви, вселял в них бодрость духа, новую энергию и стремление к самопожертвованию. Они были рады тому, что за свои заслуги не только получили воздаяние, но и удостоились лестной оценки такой благородной женщины, как царица Армении.
Когда были розданы награды мужчинам, царица обратилась к женам нахараров, которые оказали неоценимые услуги во время осады. Взор ее не находил среди них ту, которую искал.
— Среди моих храбрецов есть девушка-героиня, — сказала она. — Где Ашхен? Пригласите ее сюда.
Прекрасная княжна Рштуника из скромности пряталась в соседней комнате. Через несколько минут она вышла в роскошном вооружении. Глаза всех обратились на красивую, статную героиню. Царица обняла ее и поцеловала в лоб.
— Дорогая Ашхен, было время, счастливое время покоя и мира, когда наши княжны показывали искусство своих рук в рукоделиях и изделиями этими украшали пышные чертоги нахараров и священные алтари наших храмов. Прошло мирное время, началось время кровавых битв и смерти. И ты своим прекрасным, достойным похвалы примером показала знатным женщинам, что в те дни, когда родине грозит опасность, нежные женские руки вместо иглы должны взяться за копье и вместо ниток натягивать крепкую тетиву. Ты с успехом сделала это. За это, дорогая Ашхен, я опояшу твой благородный стан вот этим поясом и пожелаю тебе еще большей бодрости и силы.
Царица надела на нее пояс с драгоценными каменьями. Княжна со слезами радости поцеловала у нее руку.
Многие из жен и дочерей нахараров также удостоились наград. Когда торжество награждения было окончено, епископ произнес благодарственную молитву, после чего в трапезной палате заиграла дворцовая музыка и царица ласково пригласила всех, кто был в зале, отобедать вместе с нею.
До самого вечера у дверей дворца, на площади, народ с нетерпением ожидал выхода нахараров. Когда они появились, раздались громкие крики радости; толпу охватило воодушевление. Любимых князей со всех сторон хотели поднять и на руках отнести домой; но князья скромно отклонили эти почести. Толпа продолжала идти с ними. Пение и радостные рукоплескания сопровождали нахараров до их жилья.
X. Мушег. — «Вкривь и вкось»
И армянский полководец и спарапет Мушег со своими сорока тысячами напал на лагерь (врагов) и разгромил их. Персидский царь Шапух спасся бегством один верхом на коне… Многих персидских вельмож пленили, и взяли в добычу сокровища персидского царя, захватили также царицу цариц вместе с другими женами. А всех вельмож, числом до шестисот человек, армянский полководец Мушег приказал убить, содрать с них кожу и набить сеном… Так он поступил, чтобы отомстить за отца своего Васака.
Фавстос Бузанд
Прекратив осаду Артагерса, Шапух оставил в занятой части Армении большую часть своих войск под начальством Меружана Арцруни и Вагана Мамиконяна. Сам же с остальным войском направился в Персию. Только через две недели ему удалось добраться до Тарвеза[296]. Здесь, под городом, расположился его огромный стан.
В то же самое время несколько армянских полков по другой дороге спешили к персидскому лагерю. Они прошли через области Гер и Зареванд и, продвигаясь по северным берегам озера Капутан, приблизились к берегам реки Аги.
Полки эти состояли только из легкой конницы, которая походила скорее на партизанский отряд, чем на постоянное войско, хотя была довольно многочисленна. Передвигались полки ночью, днем же, свернув с дороги, отдыхали в защищенных местах. И не только невыносимая жара в выжженных солнцем пустынях, раскинутых от Зареванда до Тарвеза, заставляла их двигаться ночью. Была и иная причина: желание быть незамеченными. Полки передвигались разрозненно, отдельные соединения находились в нескольких милях друг от друга.
Стояла уже глубокая ночь, когда первый отряд добрался до реки Аги. Во время весенних разливов река, размывая свои измельчавшие берега, пробила довольно широкую и глубокую лощину. Теперь же, после убыли воды, она оставила ил, покрытый богатой растительностью. Это побережье было настолько ниже прилегавшей к ней местности, что на нем легко могло укрыться до тысячи людей, не будучи замеченными с проходившей поверху дороги.
Здесь у правого берега отряд остановился для небольшого отдыха.
Стреножив коней, воины пустили их пастись в прибрежных камышах; сами же, достав свои запасы из дорожных мешков, закусили и улеглись спать, держа оружие наготове под головой. Один из них остался караулить.
Он крайне нетерпеливо ходил по берегу и грыз на ходу захваченный с собой кусок копченого мяса. Во мраке ночи не было видно ни зги, только вдали мелкими огненными звездочками мигали не погашенные еще фонари персидского лагеря. Дозорный не отрываясь глядел в сторону лагеря.
Продвигаясь вдоль берега, он незаметно добрался до моста. Мутно-желтые волны реки неслись под многочисленными сводами моста и глухим шумом нарушали ночную тишину. Не переходя через мост, дозорный остановился у одной из высоких опор и напряг слух, не сводя внимательного взгляда с персидского стана. Он долго глядел, но не мог ничего различить и, кроме шума реки, ничего не слышал. Лагерь находился у города Тарвеза, расположенного на левом берегу реки, на расстоянии трех часов пути.
В это время на краю проезжей дороги, которая вела к мосту, какой-то человек высунул голову из ямы, точно крот, и стал осматриваться. Глаза его, привыкшие к ночной темноте, точно глаза зверя, сейчас же различили дозорного, стоявшего у опоры моста. Человек вылез из своей норы и тяжело пополз к мосту.
— Подайте несчастному… — жалобно простонал он, когда подполз ближе.
Дозорный вздрогнул, увидя у своих ног какое-то странное шарообразное тело.
— Два дня не ел, умираю с голоду, помоги, — еще жалобнее протянул незнакомец.
Дозорный бросил ему свой кусок копченого мяса, хотя и сам был голоден. Просивший схватил кусок и с жадностью собаки начал есть, кроша кости своими острыми зубами.
— Видно, ты сильно проголодался, — заметил дозорный.
— Как не проголодаться, господин мой, вот уже вторые сутки никто по мосту не проходит.
— Почему так?
— Разве не видишь?.. Там находится стан персидского царя… Страшась его, никто по этой стороне не проходит. Дороги опустели. Люди боятся выйти из дому, и повстречаться с воинами Шапуха. Проклятые персы, как голодные волки, рыщут повсюду.
— Тебе они ничего не дали?
— Будь они прокляты… Не только не дали, но еще и ограбили. Отняли у меня верхнюю одежду и унесли. Целых десять лет она заменяла мне и постель и одеяло; мне подарил ее паломник-армянин. Не знаю, как обойдусь теперь без нее… Либо замерзну от холода, либо сгорю от жары.
Эти слова он произнес так жалобно, что дозорный снял с себя военную одежду и отдал ему.
— Вот тебе накидка.
Незнакомец сильно обрадовался и схватил неожиданный подарок, бормоча благословения.
— Помоги мне, милосердный господин, донести эту одежду до моей норы, она отсюда недалеко, — попросил он дозорного.
Он пополз к своей конуре, а дозорный нес за ним одежду. Несчастный был прокаженным, изгнанным из людской среды. Свое жалкое существование он влачил на проезжих дорогах, вне городов, в земляных норах, живя подаянием прохожих.
Нельзя было бы при свете без содрогания смотреть на это бесформенное тело. Руки и ноги его почти высохли, лишь на левой руке шевелились остатки пальцев. На лице ни носа, ни губ, торчали только зубы. Глаза в глубоких впадинах беспокойно блестели из безбровых окостенелых глазниц, голос хриплый, точно из разрушенной гортани. Его землянка поистине была дырой, вырытой в земле. В ней можно было только сидеть, но не лежать. Да в этом и не было особой нужды, так как шарообразное тело прокаженного не нуждалось в лежании. Вся его посуда состояла из глиняной чаши, валявшейся в углу в специально вырытой яме. Четыре кола были расставлены по углам его жалкого жилья, на них были положены куски дерева и ветви, обмазанные глиной. Это перекрытие защищало его землянку от дождя и от солнца. Он вполз в свою нору. Но незнакомый благодетель не отходил от него. Иногда для чего-нибудь могут пригодиться и люди, пренебрегаемые обществом и совершенно отверженные.
— Ты сказал, что за эти два дня никто не проходил по мосту? — спросил дозорный.
— Никто, господин, я наблюдаю целый день, высунув из норы голову. Если даже муха пролетит, и ту замечу. Только сегодня утром рано, когда еще было темно, прошли двое… Они шли в стан.
— Ты их хорошо приметил? Что это были за люди?
— Приметил, как не приметить.
И он стал описывать этих людей.
— Они еще не возвращались? — быстро спросил дозорный.
— Нет еще! Если бы возвратились, я бы увидел.
Это сообщение бессменного стража несколько успокоило дозорного. Пожелав бедняге доброй ночи, дозорный направился к тому месту, где находился отряд всадников.
Все его спутники, утомленные, спали крепким сном. Некоторые из коней, насытившись, также лежали на траве, или катались по земле, желая размять усталое тело. Единственным человеком, не думавшим о покое, был тот, кто, вернувшись от моста, молча прошел через стан, посмотрел на спящих, затем направился к реке и застыл у берега. Блестящие глаза его были устремлены на мелкие светлые точки, которые то пропадали, то снова появлялись вдали. И его сердце, подобно этим огонькам, вспыхивало жарким огнем, в нем все сильнее росло нетерпение.
В это время на мосту показались два человека. Осторожно оглядываясь, они чуть слышно переговаривались:
— Если бы они пришли…
— Непременно должны прийти…
— Они назначили время этой ночью.
— И у этого моста…
Острый слух прокаженного, сидевшего в землянке, уловил их шаги: он высунул голову из норы и внимательно посмотрел вокруг. «Это опять те двое», — смекнул он и быстро пополз к проходящим.
— Тут один человек спрашивал про вас, — раздался его голос из темноты.
Прохожие были ошеломлены, не зная откуда донесся этот неожиданный голос. Прокаженный подполз ближе. Они заметили шарообразное тело.
— Куда девался тот человек? — спросили они.
— Прошел вниз по реке, — сказал прокаженный. — Дай бог ему удачи во всем, — добавил он, — он насытил мой пустой желудок и одел мое голое тело!
Прохожие стали спускаться вниз по течению реки, торопливо переговариваясь:
— Вовремя поспели… Но где найти спарапета?
Ответ на это не замедлил:
— Это вы? — раздался голос дозорного, который все еще стоял у реки.
— Да, тер, это мы, — ответили они приближаясь.
То был не кто иной, как сам Мушег Мамиконян.
— Рассказывайте, что видели, — обратился он к ним.
Те стали рассказывать. Спарапет слушал с огромным вниманием. Не дослушав до конца, Мушег начал задавать вопросы.
— К какой стороне города прилегает стан?
— С востока, немного ниже подножья Красной горы.
— В какой части города раскинуты царские шатры?
— У подножья горы, на возвышенности.
— А царский гарем?
— Вправо от царских шатров.
— Как расположен стан?
— Как всегда, подковой, концы его упираются в царские шатры.
— Где стоит конница?
— Лошадей угнали пастись на расстояние дальше чем десять фарсангов[297].
— Когда намереваются выступить?
— Через три дня.
Задав еще несколько вопросов и получив исчерпывающие ответы, спарапет сказал:
— Отправляйтесь отдыхать!
Они удалились.
Мушег остался один и снова начал беспокойно шагать по берегу реки. Теперь он знал местоположение стана врага, знал самые мелкие подробности о противнике, и этих сведений было вполне достаточно, чтобы на их основании составить смелый план набега. Он намеревался в эту же ночь напасть на стан Шапуха. Это решение было настолько же рискованным, насколько и бесповоротным.
После ухода Шапуха и его войск от стен Артагерса спарапет не счел достаточным позорное поражение царя царей Персии и решил не выпускать его невредимым из пределов Армении. Злодеяния, совершенные Шапухом, были до такой степени чудовищны, его действия настолько оскорбительны, что следовало по заслугам наказать этого зверя. Он превратил в руины те области, где прошел; он велел перебить взятых им пленников. Это еще можно перенести. Армения была привычна к такого рода бедам. Но у развалин Зарехавана он поступил бесчестно со знатными армянскими женщинами, оскорбил честь армянской знати. Этого вынести было нельзя. Нельзя было забыть те слова, которые произнесла царица Армении в день торжеств в Артагерсе: «Нет для нас покоя, пока не смыто пятно позора, нанесенное Шапухом тем нахарарам, чьих жен и детей он обнаженными выставил перед своим войском». Несколько знатных молодых людей, присутствовавших на торжестве, тогда же решили отомстить. Это и было причиной того, что партизанские отряды спарапета большей частью состояли из сыновей армянских нахараров, поклявшихся отомстить за попранную честь.
Спарапет возглавил эти отряды и, взяв с собой несколько из них, стал преследовать Шапуха после его ухода из Артагерса. Он не приближался к врагу до тех пор, пока Шапух не разделил свое огромное войско на несколько частей. Командование над одной из них Шапух поручил Меружану Арцруни и Вагану Мамиконяну, над другой — своим полководцам Зику и Карену; их он оставил для охраны завоеванных областей Армении и для захвата новых. С остальной частью войска он направился в Персию. Вот эту часть войска Шапуха и стал преследовать спарапет. На всем протяжении пути от Артагерса до Тарвеза ему не удавалось найти ни подходящего места, ни удобного времени для осуществления своей задачи. Теперь враг уже был у границ Армении. Дальше откладывать было нельзя, так как, перейдя границу и вступив на персидскую землю, он встретил бы затруднения. Надо было, следовательно, воспользоваться этой ночью, последней и единственной.
Спарапет продолжал блуждать по берегу реки. Он гневно смотрел на восток. Иисус Навин, герой Израиля, приказал солнцу остановиться на месте до окончания битвы. А Мушег Мамиконян, герой Армении, хотел бы приказать солнцу, чтобы оно совсем не всходило, пока не начнется бой. Иногда он обращал свой нетерпеливый взор на проезжую дорогу, по которой прибыл. Смотрел во мрак ночи, и в его уме, охваченном беспокойством, все время возникали вопросы: «Куда они девались? Почему запаздывают?»
Спустя немного времени к тому месту, где находились его всадники, прискакало еще несколько отрядов. Он немного успокоился, так как ждал именно их. Но это были не все, были еще и отставшие. К Мушегу подошел старший из вновь прибывших.
— Получил сведения? — нетерпеливо спросил он.
— Получил, — весело ответил спарапет.
— Как дела?
— Хорошо, да вот наши что-то запаздывают. Почему они задерживаются?
— Скоро прибудут. Ночь еще впереди.
— До лагеря далеко. Пока доберемся, рассветет.
— Тем лучше! По крайней мере, не придется двигаться ощупью, как слепым курам.
Спарапет улыбнулся, но ночная тьма скрыла его ироническую улыбку.
— Ты, как всегда, уверен в себе, Месроп? — сказал он.
— Я полагаюсь не столько на себя, сколько на моих всадников, Мушег! — ответил низкорослый командир.
Это был именно Месроп Таронский: небольшого роста, но велеречивый.
Разговор был прерван какими-то глухими звуками, которые неслись неизвестно откуда. Оба напрягли внимание, прислушиваясь.
— Звуки труб и барабанов, — сказал спарапет, — слышны со стороны лагеря.
— Что это означает? — спросил Месроп, несколько встревоженный.
— Это ежедневная утренняя церемония персов, — успокоил его спарапет. — На рассвете трубят в трубы и бьют в барабаны, чтобы разбудить людей и подготовить их к поклонению восходящему солнцу.
— И прекрасно! Пусть просыпаются! По правде говоря, нехорошо нападать на спящих.
— Но это лишь первый сигнал. До восхода солнца должны протрубить еще два раза.
Они стали прогуливаться вдоль берега. Вскоре подъехали остальные отряды. Мушег и Месроп поспешили им навстречу. Заметив их, один из всадников, высокий воин, быстро соскочил с коня и бросился обнимать их.
— Я, должно быть, заставил вас долго ждать, — стал извиняться он. — Но я в этом не виноват. Нам пришлось ехать по непролазной грязи, лошади едва двигались. Вчерашний дождь совсем размыл дорогу.
— Значит, надо дать небольшой отдых коням? — сказал спарапет.
— Непременно, они очень устали.
Этот веселый, цветущий воин был Саак Партев, сын Нерсеса Великого. Его всадники расположились несколько поодаль прежде приехавших воинов, а сам он, взяв с собой спарапета и Месропа, направился с ними к берегу реки; там они сели на мягкую траву. Спарапет сообщил им сведения, полученные от разведчиков. Тут же под открытым небом состоялся военный совет, который продолжался до тех пор, пока из персидского стана не послышались вторичные звуки литавров и труб. Этот сигнал заставил их поспешить. Этот сигнал призывал благочестивых почитателей Зороастра к молитве, к поклонению дневному светилу, а верных своей клятве армян — к борьбе, к кровопролитию…
Они встали и отдали приказ к выступлению. Третий сигнал литавров и барабанов должен был возвестить восход солнца. В этот момент они решили быть в намеченном месте…
Было далеко за полдень. Стан Шапуха представлял собою печальное зрелище. Заброшенные шатры и палатки были пусты. В них валялась богатая военная утварь персов, ставшая теперь добычей победителей. Весь лагерь и окрестности были покрыты трупами, сочившаяся всюду кровь вызывала ужас. Живых взяли в плен, но немало было и бежавших, которых еще продолжали преследовать.
Самого царя царей не обнаружили ни среди трупов, ни среди пленных. Персы говорили, что он бежал в самом начале битвы, бежал переодетый в платье своего слуги. Отряды всадников быстро помчались в разные стороны в погоню за Шапухом.
Великолепные шатры царя со всем их добром остались на месте. Остался и гарем со множеством красавиц востока и запада. В числе последних была и «госпожа над госпожами», царица Персии. Среди них находилась также царевна Вормиздухт, невеста Меружана. Армянская стража оцепила гарем со всех сторон, закрыв к нему доступ.
На подковообразной площади выстроили пленных. Из них отделяли знатных, как от козлищ овец. Когда подсчитали, оказалось, что число знатных равно шестистам; то были разных званий военачальники и полководцы.
Посреди площади на высоком остром колу повозки для казни было вздернуто тело в белой одежде. Это был тот самый мовпетан-мовпет, тот зверь, который сажал на кол обнаженных знатных армянок у развалин Зарехавана. Взоры всех были устремлены на этот мерзостный труп.
Возле пышных шатров Шапуха стояла незатейливая палатка спарапета Армении. Отсюда видны были результаты его победы. Сам он сидел на походном седалище, совершенно не соответствовавшем ни его званию, ни его славе. Его окружали соратники, среди которых находились Саак Партев и Месроп Таронский.
Они молчали, но лица всех присутствующих выражали крайнее недовольство, обычно возникающее после горячих споров. Сам спарапет был мрачен и с досадой теребил свои красивые черные усы, точно они мешали его горячим устам изливать тот огненный поток слов, с каким он только что обрушился на своих соратников. В не менее раздраженном состоянии был и Саак Партев. Он готов был бросить все и покинуть палатку, если бы его не сдерживал долг военного. А маленький Месроп, как говорится, не вмещался в своей коже, все время ерзал наместе, словно его кололи иголками.
Что же привело всех их в такое волнение? Почему в минуты, когда следовало радоваться победе, славе и утехе воина, царило взаимное недовольство?
Сдержанное раздражение, постепенно возраставшее, несомненно, должно было снова вспыхнуть, если бы в палатку не вошел один из телохранителей спарапета и не доложил о том, что привели главного палача. Когда палача поставили перед палаткой, спарапет спросил:
— Ты главный палач царя царей?
— Я, государь, твой покорный раб, — ответил тот с низким поклоном.
— Тебе предстоит работа, — с усмешкой, выражавшей скорее горечь, чем презрение, сказал спарапет. — Ты, конечно, затоскуешь, если останешься без дела. Я же сегодня поручу тебе достаточно работы. Скажи, сколько у тебя помощников?
— Помощников у меня найдется немало, тер спарапет! Ты только дай работу, мешкать не станем, — ответил тот с сатанинской улыбкой и добавил: — Царь царей всегда был доволен мной; года не проходило, чтобы он не даровал мне либо деревню, либо землю… Надеюсь, что светлейший спарапет Армении тоже не оставит без награды своего покорного раба.
При этих словах его жестокие глаза сверкнули дьявольской радостью.
— Ты получишь от меня щедрую награду и забудешь дары царя царей. Слушай, главный палач, мы недолго пробудем здесь. Через несколько дней мы выступаем и должны увезти с собой захваченных пленников. И чтобы пленные не были для нас тяжелой помехой в пути, ты должен облегчить нам груз.
Палач, точно от удара молнии, задрожал всем телом.
— Это могут сделать твои люди, тер спарапет, — сказал он после минутного замешательства, — а я… я не обагрю своих рук кровью соотечественников.
— Правда, это могли бы сделать и мои люди, если бы дело шло только о том, чтобы убивать. Но не в этом мое желание. Ведь мои люди не умеют сдирать кожу с живых людей и набивать ее соломой. А ты, служа Шапуху, отлично овладел этим искусством. И мне именно это нужно. Гораздо легче везти с собой чучела, нежели живых людей.
Главный палач, предполагая, что речь идет об армянах и поэтому проявив полную готовность исполнить желание спарапета, понял теперь, чего от него хотят, дерзко ответил:
— Правда, тер спарапет, мы, персы, большие мастера этого дела. Ты был бы в восторге, если бы увидел, как я сдирал кожу с твоего отца и набивал ее сеном… Я сделал это собственными руками. И сейчас, кто его увидит, не скажет, что он мертвый. Цвет лица сохранился, глаза глядят и глядят все время на своего царя, и там они оба в крепости Ануш утешают друг друга… Я всегда с удовольствием занимаюсь этим делом, когда мне отдают в руки знатных людей… А твой отец был, подобно тебе, спарапетом всей Армении…
Наглость главного палача, напомнившего о печальной смерти отца Мушега в Тизбоне, превышала всякую меру. Но великодушный сын несчастного отца сдержал свой гнев и сказал:
— Вот видишь, значит я не ошибся относительно твоего мастерства. Ты любишь сдирать кожу со знатных людей, и я, чтобы доставить тебе это удовольствие, отдам в твои руки только знатных людей и, знаешь, сколько? Шестьсот человек! Иди, надень свое кровавое одеяние; дай волю своей жестокости и сослужи мне желанную службу. Мне очень хочется снять кожу с персов руками перса…
— Этого я сделать не могу! — твердо ответил палач. — Прикажи содрать лучше кожу с меня.
— Тебя заставят сделать, — сказал Мушег и обратился к приближенным: — Уведите этого человека, соберите всех палачей Шапуха и заставьте их исполнить мое приказание.
Палача увели.
Присутствовавшие со вниманием слушали разговор спарапета с главным палачом. После ухода палача Мушег обратился к окружающим:
— Это варварское распоряжение я отдаю с удовольствием. Я велю содрать кожу с шестисот знатных персов и их чучела подарю царице Армении: пусть она украсит ими башни своего замка. Да, я сделаю это и хоть немного удовлетворю бессмертную душу моего отца, за жизнь которого не жаль отдать жизни тысяч знатных людей, того отца, которого Шапух подлым образом умертвил и поставил его чучело в одной из темниц крепости Ануш перед глазами заключенного царя. Священный долг мести обязывает меня поступить именно так. «И вкривь, и вкось» — так завещали наши предки. Но того, чего вы требуете, я никогда не сделаю.
— Почему, Мушег? — спросил Саак Партев с раздражением. — Почему не сделаешь? Если ты стоишь за месть как за священную обязанность, то не забывай, что и в этом случае выполняется та же самая священная обязанность! Опять-таки — «клин клином».
— Это уже не священная обязанность, а лишь постыдное дело, Саак. Нам же не подобает так низко пасть. Мы должны доказать, что значительно выше персов.
— Мы должны доказать и то, что умеем по заслугам воздавать за бесчестие. Почему ты, Мушег, стал таким забывчивым? Не так уж много прошло времени с того печального дня, когда Шапух выставил знатных женщин и девушек Армении обнаженными перед своим войском у развалин Зарехавана. Но этим он не довольствовался. Многих из них посадил на кол, многих взял в плен. Если негодяй Шапух позволил себе поступить таким образом, почему мы должны его щадить?
— Того, что может себе позволить перс Шапух, не может допустить христианин Мамиконян. Я не забывчив, Саак, я знаю и помню все его жестокости. Но и ты забываешь, что речь идет о женщинах. Неужели за преступление Шапуха мы должны мстить его женам? Этого ты требуешь? А я всех его жен посажу в паланкины и со всякими почестями отправлю в Персию. И это будет моей самой большой местью…
Злой намек спарапета очень обидел молодого Партева, и его грозные очи зажглись огнем гнева. Он взялся твердой рукой за усыпанный алмазами кинжал и своим грозным голосом, похожим скорее на грохот, чем на речь, сказал следующее:
— Я понимаю, Мушег, что предметом нашего спора является женщина. И ты думаешь, что то возвышенное, священное почитание, которое питает к ней Мамиконян, недоступно сердцу Партева? Ты полагаешь, что только ты один способен держаться таких возвышенных взглядов и не унижаться у ног женщины? Ошибаешься, Мушег! Но тут дело не в твоих утонченных рыцарских чувствах! Тут дело в военном расчете. Мы воюем с Шапухом, и эта война, несомненно, продлится долго; да, очень долго! Его жены в наших руках, среди них и царица цариц Персии. Будем их держать у себя с большим почетом в качестве заложниц, подобно тому, как Шапух держал многих из жен наших нахараров в особых крепостях. В нашем поступке не будет ничего предосудительного, так уж исстари ведется, таков военный обычай: пока продолжается война, пленных не возвращают.
Спарапет также взялся за кинжал и ответил:
— Это мне известно. Саак! Нет надобности учить меня правилам войны. Но, послушай, Саак, ты не знаешь еще одного. Ты не знаешь меры жестокости армянской царицы Парандзем. Под ее красивой, спокойной и нежной наружностью таится дьявольская душа. Ты не знаешь, что если мы отправим к ней этих невинных женщин, то она всех их без исключения повесит на башнях Артагерса. Та, которая велела убить несчастную Олимпиаду и завладела таким путем троном царицы Армении; та, которая приказала убить храброго начальника армянских восточных полков Вагинака и назначила своего отца на видную должность полководца восточных войск; та которая из злопамятства велела убить племянника своего мужа Тирита, без сомнения, не пощадит и жен Шапуха. Я, конечно, буду этому противиться; из-за этого могут возникнуть жестокие споры между мной и царицей, а это сейчас при наших сложных обстоятельствах больше чем нежелательно. Она сочтет себя вправе перебить жен Шапуха, потому что он велел убить ее мать у развалин Зарехавана. Как честность, так и расчет требуют, чтобы мы отправили этих женщин во дворец персидского царя. Я же, не слушаясь никого, именно так и поступлю. А если нам нужна заложница, то в гареме Шапуха находится его сестра, красавица царевна Вормиздухт, нареченная Меружана. Мы задержим ее и этого будет достаточно. Ты знаешь, Саак, что первопричина наших войн — именно эта царевна. Ее красота свела с ума Меружана и сбила его с толку. Меружан был не плохим человеком, но он жертва любви. Шапух же обещал ему отдать Вормиздухт и сделал из него бич Армении. Теперь, удерживая у себя возлюбленную Меружана, мы будем одновременно держать в узде и самого Меружана. А Шапух без содействия Меружана ничего не может сделать.
Так горячо спорили между собой два могучих представителя двух крупных нахарарских родов: сын спарапета Армении и сын армянского первосвященника. Саак, не желая продолжать спор, встал и недовольный вышел из палатки спарапета. Месроп и еще несколько молодых князей последовали за ним.
Пренебрежение высокомерного Партева сильно взволновало князя Мамиконяна. Он подозвал к себе телохранителя и отдал приказ:
— Ступай в царский гарем и через главного евнуха передай персидской царице, что я прошу ее принять меня.
Он встал. Встали также и сидевшие вокруг него сепухи. Князь, сопровождаемый только телохранителями, направился к гарему.
Пышный гарем Шапуха состоял из отдельных шатров, в каждом из которых жила одна из жен Шапуха с многочисленными служанками и рабынями. Толпа евнухов оберегала эту неприступную обитель неги и красоты, оказавшуюся теперь в плену.
В безнадежной тоске, со слезами на глазах сидела в своем шатре царица цариц Персии. Ее роскошный шатер являл собою рай для наслаждений, убранный в духе персидской любви к роскоши. Когда евнух вошел к ней и доложил, что спарапет Армении желает с нею говорить, ее красивое лицо покрылось мертвенной бледностью, и от смущения она не знала, что ответить. Гнев и страх попеременно волновали ее. Она гневалась потому, что какой-то армянский полководец осмеливался требовать свидания с нею. Боялась же потому, что была его пленницей. Но вместе с тем она недоумевала: спарапет, взамен того, чтобы приказать притащить ее к себе как пленницу, сам собирался прийти к ней. После длительного раздумья она сказала главному евнуху:
— Пусть придет! — А затем добавила: — И прикажи евнухам, чтобы не было беспорядка.
И верно! Спарапет обнаружил большую беззаботность, идя запросто, лишь с несколькими телохранителями, в гарем царя царей Персии, куда доселе не ступала нога постороннего. Евнухи были вне себя от ярости. Кто мог сдержать этих фанатиков, кто мог укротить их ярость, хотя гарем и был окружен армянскими воинами? Они могли на пороге изрубить дерзкого посетителя осмелившегося вступить в святилище царя царей. Но строгий приказ главного евнуха успокоил их. «Спарапет Армении пройдет через ваши трупы к царице цариц, если только вы осмелитесь допустить малейший беспорядок», — пригрозил им главный евнух.
Он вышел навстречу спарапету, остальные евнухи выстроились по обе стороны входа в шатер царицы.
Мушег в сопровождении своих телохранителей прошел между евнухами, стоявшими в два ряда, как живая стена. Телохранители его остались у входа в шатер, а сам он вошел вместе с главным евнухом.
В шатре никого не было, так как до появления спарапета царица встала с сидения и скрылась за занавесью, разделявшей шатер на две половины. Евнух рукою указал, что царица там и готова выслушать спарапета. Мушег, хотя это было для него необычно, все же покорился установленному обычаю и, не садясь, сказал ей следующее:
— Привет и мир всеславной царице Персии. Я жалею, что разговариваю с тобой после таких грустных событий и что у меня найдется мало слов утешения для тебя, о всеславная царица! Но приходится мириться с печальными обстоятельствами войны. Во всем этом не столь виновны мы, армяне, как виновен твой царственный супруг, всеславная царица. Он с оружием в руках вступил на нашу землю и заставил нас обнажить против него меч. Но я пришел возвестить тебе, о всеславная царица, что армянские нахарары умеют платить добром за зло. Ты, конечно, была свидетельницей того, как поступил твой царственный супруг с нашими женщинами у развалин Зарехавана. Но я не хотел бы в ответ на его злодеяние совершить новое зло. Славная царица, тебя и всех жен царя Шапуха, моих пленниц, месте с вашими служанками и евнухами я посажу в паланкины и на слонах завтра отправлю со всеми почестями в Тизбон. Вас будут сопровождать вооруженные отряды моих всадников и доставят во дворец Шапуха невредимыми. Пусть Шапух увидит вас, и, быть может, он станет раскаиваться в том, что поступил так бесчестно…
Спарапет не окончил еще своей речи, как вдруг царица, откинув занавес, в неудержимом порыве упала перед ним и, обняв ноги, вскричала:
— Ты не человек, твоими устами говорит дух бессмертного Ормузда, творца добра!
Это неожиданное явление настолько смутило князя, что он с трудом поднял царицу и усадил ее. Не менее поражен был и главный евнух, присутствовавший при этом. Царица несколько минут молчала, сильно взволнованная, наконец подняла на князя полные слез глаза:
— Твое великодушие, о храбрый, навеки останется в моем сердце. Как только я приеду в Тизбон, мое первое слово к моему царственному супругу будет о тебе: «Спарапет Армении своим благородством возложил на тебя великую обязанность, и ты можешь только таким же благородством отплатить ему»…
Царица тут только заметила, что спарапет был на ногах и особенно ласково обратилась к нему: «Садись, тер спарапет. Твои доблести столь велики, что дают тебе право на мое глубочайшее уважение».
Поблагодарив, спарапет сел и затем объяснил ей, что так как война еще не окончена, обычаи требуют взять кого-либо из семьи персидского царя в качестве заложницы для передачи царице Армении. Спарапет при этом дал честное слово, что жизнь и честь заложницы будет в безопасности.
— Как тебе угодно, тер спарапет, так и поступай! — ответила царица с глубокой покорностью. — Мы все твои пленницы и принадлежим тебе. Ты только даришь нас нашему царю, не требуя никакого воздаяния. Выбирай из нас ту, которая тебе желательна.
— Я решил взять царевну Вормиздухт.
— Пусть так! Я прикажу главному евнуху, чтобы он передал тебе царевну Вормиздухт со всеми ее служанками и евнухами.
Спарапет встал. Когда он, поклонившись и пожелав счастливого пути, хотел было удалиться, царица остановила его:
— Судьба людей и их будущность известны только бессмертным богам, тер спарапет! Кто знает, что случится завтра! Человеческое счастье и несчастье шествуют по одним и тем же ступеням. Возьми это на память, о храбрый спарапет, как залог моей благодарности. Когда постигнет тебя беда, пришли мне эту вещь, и царица Персии постарается оказать тебе помощь.
С этими словами она сняла со своего пальца драгоценный царский перстень и подала его своему освободителю.
Но спарапет вежливо отказался от подарка.
— Твоя доброта — лучший залог для меня, царица.
Он снова дважды поклонился и вышел из шатра.
Весть о свободе уже разнеслась по всему гарему, радость красавиц Шапуха не имела границ; все в безграничном восхищении славили и благословляли того, кто даровал им освобождение. Если бы строгость обычаев не сдерживала их, они непременно выбежали бы из шатров, чтобы выразить спарапету чувство глубокой благодарности.
Когда спарапет вышел из шатра царицы и направился было к себе, удивленные евнухи беспорядочной толпой повалились ему в ноги, стремясь облобызать края его одежды. А из-за чуть приподнятых занавесей шатров жен Шапуха сотни прекрасных глаз, полные слез благодарности, смотрели на статного, красивого князя, в котором храбрость сочеталась с таким высоким благородством.
Он не только даровал всем свободу, но и не тронул несметных богатств гарема, которые, по обычаю того времени, считались его собственностью. Он оставил все это в полной неприкосновенности, приказав своим воинам ничего не брать из имущества гарема. Он захватил лишь в качестве добычи богатства, находившиеся в царских шатрах самого Шапуха и весь его стан с боевыми припасами. Оставшихся же в живых воинов взял в плен.
Поступок Мушега вызвал в Тизбоне общее сочувствие и глубокое удивление: для персов такой поступок был чудом. Шапух немедленно приказал взять чучело его отца, стоявшее в крепости Ануш перед царем Аршаком, и перенести его в Тизбонский главный храм. А для увековечения великодушного поступка армянского спарапета он велел высечь на своем золотом кубке, из которого всегда пил, изображение князя Мушега, сидящего на белом коне. На всех торжествах, когда он поднимал кубок, он упоминал о благородном поступке благородного героя и пил со словами «во славу белого коня», то есть во славу всадника на белом коне — Мушега Мамиконяна.
Это был памятник нравственному величию князя Мамиконяна, запечатленный царем царей Персии. Но у Мушега был еще один памятник доблести, поставленный ему сирийцами в Месопотамии, у местности, называемой «Врата Хона». У берега Евфрата высился огромнейший утес, на выровненном фронтоне которого было высечено изображение вооруженного богатыря, сидящего на гордом коне, и поверженного к его ногам побежденного великана. Всадник на белом коне изображал Мушега Мамиконяна, а поверженный великан представлял собою того страшного разбойника, который долгое время грабил Месопотамию и южные провинции Армении. Во время единоборства Мушег убил разбойника и освободил страну от этого чудовища.
Но все же памятник его великодушию был выше памятника его храбрости.
XI. «Наименьшее из двух зол»
…Но после всего этого Мушег, сын Васака, собрал всех людей из азатов, сколько их осталось, и вместе с ними отправился к греческому царю. И представил он мольбу армянской страны, рассказал о всех страданиях, которые претерпели они, и попросил императора поставить царем над армянской страной Папа, сына Аршака.
Фавстос Бузанд
Возвращение Мушега Мамиконяна с победной славой вызвало общую радость как царицы Армении Парандзем, так и окружающей ее высшей знати. Несколько дней праздновалась в Артагерсе эта блестящая победа. Царица Парандзем хоть и была недовольна освобождением жен Шапуха, однако сочла нужным скрыть это, и когда к ней явился спарапет, обняла и поцеловала в лоб храброго и достойного героя.
Захваченную добычу она приказала разделить между теми воинами, которые участвовали в этой битве. Сама же приняла, как драгоценный дар, привезенные Мушегом шестьсот чучел персидских вельмож и приказала их вывесить на вышках башен Артагерса и украсить ими фасад замка спарапета.
В те дни спарапет редко выходил из дома, избегая встречи с народом, бурно выражавшим свою восторженную радость. Не честолюбивый и скромный, он не любил быть предметом восхищения. Знатные женщины и девушки посещали его жену и поздравляли с победой. Приходили священники с крестами и служили краткие молебны.
Во всем этом было много радостного и утешительного, но несогласие, возникшее между Мушегом и Сааком Партевом относительно жен Шапуха, причиняло немало забот царице Армении. Ей тяжело было видеть разлад между этими двумя представителями знатных нахарарских родов, особенно, когда дела страны находились в столь запутанном состоянии. Она решила примирить их, но, имея в виду несговорчивость и упорство обоих, отложила свое намерение до более подходящего времени.
Возвращением гарема Шапуху Мушег вызвал недовольство среди многих нахараров. Однако это недовольство в значительной мере смягчилось тем обстоятельством, что спарапет удержал в плену царевну Вормиздухт. Царица отвела для нее отдельное помещение в собственном дворце и держала ее под строгим надзором, обставив, однако, с подобающей роскошью.
Большую радость доставило царице освобождение ее братьев и других знатных лиц, которых Шапух увел в плен после побоища у Зарехавана. Победа Мушега принесла им свободу. Среди спасенных было много княжеских жен, девушек и юношей, которых должны были угнать в Персию.
Прошло несколько недель с того дня, когда Мушег с победной славой вступил в Артагерс. Была ночь; крепость погрузилась в сон. Всюду было тихо. Не спала лишь царица Парандзем. Она сидела в одной из комнат царского дворца, а возле нее в глубоком раздумье стоял Мушег Мамиконян. Мужественное лицо спарапета в эту ночь не обнаруживало той обычной бодрости, которая была так характерна для этого неустрашимого воина. Была задумчива и царица. Простая свободная одежда, в которую она облеклась перед отходом ко сну, придавала ее изящной фигуре особую привлекательность. Волосы были распущены, на голове не было никаких украшений. Только на обнаженных руках сверкало два золотых браслета, веселый блеск которых совершенно не соответствовал мрачному лицу царицы. На медной подставке слабым светом горела серебряная лампада, распространявшая вокруг себя тусклый свет. Лицо у царицы было грустное; временами брала она раскрытое письмо, перечитывала его и снова клала на сидение. Письмо было из Византии.
— Эти перемены в Византии при теперешнем запутанном положении дел я считаю довольно благоприятными для нас, Мушег, — сказала она спарапету. — Валент, наш проклятый враг, умер смертью, его достойной, его заменил добродетельный Феодосий. Не сомневаюсь, что с нами он будет в дружеских отношениях.
— Я также в этом не сомневаюсь, — ответил Мушег не совсем уверенным голосом.
— Союз с Византией, — продолжала царица, — необходим для нас. Мы могли бы, правда, защищаться и своими силами, но все же едва ли сумеем без посторонней помощи очистить нашу страну от врагов. Мы нуждаемся во внешней поддержке.
— Знаешь ли ты, государыня, как дорого обошелся нам союз с Византией?
— Знаю. Но из двух зол я выбираю меньшее. Наши отношения с персами так обострились, что я совершенно не надеюсь на возможность каких-либо мирных взаимоотношений с Шапухом, так же, как не надеюсь и на то, что он освободит моего супруга из крепости Ануш. С другой стороны, мой сын теперь в Византии у императора. Его надо привезти. И я хотела бы, чтобы он вернулся и занял трон отца. Без царя Армения — как тело без головы. А привезти и посадить его на трон — это, конечно, невозможно без согласия нового императора и без заключения с ним союза. Мой сын в его власти как заложник. Я вообще предпочитаю союз с христианским императором миру с нечестивым персидским царем.
При этих словах в ее прекрасных глазах засверкал гнев, голос заметно дрогнул. Она коснулась обнаженной рукой своего лба и отвела черные курчавые волосы, непроизвольно упавшие на бледное лицо.
Спарапет молча слушал, хотя все это и было ему известно. Он выслушивал горькие излияния несчастной царицы, потерявшей мужа-царя и наследника-сына. Неумолимые обстоятельства забросили их, надежду Армении, далеко: одного на восток, другого на запад Царь находился в Хужистане, в крепости Ануш, а наследник был задержан императором в Византии…
— Сядь, Мушег, — сказала царица спарапету. — Я должна с тобой поговорить о многом.
Спарапет сел. Царица снова взяла письмо. Оно было получено от отца ее Андовка, князя Сюникского, который находился теперь в Византии вместе со своим сыном Вабиком. В письме князь больше говорил о себе, чем об армянских делах. Писал о том, как его уважает новый император Феодосии, как кесарь удостоил его высокого чина «патрикия над патрикиями», описывал победы своего сына Бабика на состязаниях в цирке, с большой радостью сообщал, что император и его вельможи в совершенном восторге от ловкости его сына. Он предсказывал сыну блестящую карьеру на византийской службе и т. п.
— Как видно, отец писал это письмо второпях, — заметила царица, — он ничего не сообщает о Нерсесе: возвращен ли он или все еще находится в ссылке?
Недоумение царицы относилось к первосвященнику Армении Нерсесу Великому.
— Полагаю, что новый император не оставит его в ссылке, — заметил Мушег. — Феодосий известен своим благочестием. Он непременно освободит всех духовных лиц, сосланных Валентом. Разумеется, вместе с ними будет освобожден и Нерсес.
— Я такого же мнения, — убежденно сказала царица, — тем более, что Феодосий и прежде знал Нерсеса и очень уважал его. Да, нам все благоприятствует, Мушег! Отец мой в большом почете у императора, брат мой прославился в Византии. Там, наверное, и патриарх Нерсес, который пользуется особой симпатией императора. Ты должен отправиться в Византию, Мушег, и отвезти мое приветственное письмо наследовавшему престол императору. И там вместе с моим отцом и Нерсесом должен ходатайствовать, чтобы император отправил моего сына в Армению занять пустующий трон отца.
— Я поеду, государыня, и очень надеюсь, что мне удастся осуществить твое горячее желание. Но меня беспокоит мысль о том, что может случиться в мое отсутствие!..
Слова спарапета сильно задели гордость царицы и она довольно раздраженно, ответила:
— Ты полагаешь, Мушег, что я не сумею защитить Армению во время твоего отсутствия?
— Я этого не думаю, — холодно ответил спарапет. — Я уверен в твоей неустрашимости и рассудительности, государыня. Но возникли новые обстоятельства, по-видимому, тебе неизвестные, которые должны осложнить дело спасения нашей страны. С тех пор как у нас в плену царевна Вормиздухт, ярости Меружана нет предела. Я имею точные сведения: не довольствуясь значительным войском, данным ему Шапухом, он привлек на свою сторону ахванского царя Урнайра и лакского царя Шергира. Имея в своем распоряжении персидское войско и соединившись с этими полудикими царями, он сможет причинить нашей стране большой вред. Далекий враг, каковым является Шапух, не может быть столь опасен, как сосед. А ахваны и лаки — наши ближайшие соседи. Если у них не будет каких-либо других серьезных причин, то хотя бы из горячего желания пограбить и захватить добычу эти дикие горцы, как поток, нахлынут на наши пограничные земли.
Прекрасные глаза царицы снова зажглись гневом. Она сказала угрожающе:
— Если Меружан осмелится пойти на такой подлый поступок, я немедленно прикажу повесить Вормиздухт на стенах Артагерса.
— И этим ты, государыня, сильнее раздразнишь Меружана! Напротив, не следует лишать жизни Вормиздухт, а надо держать Меружана под страхом, что если он не умерит свою ярость, то тем самым подвергнет опасности жизнь любимой девушки.
Царица ничего не ответила. Она всегда гневалась, когда с ней спорили. Теперь же, затаив свое возмущение, она несколько минут молча смотрела на серебряную лампаду, в тусклом свете которой, казалось, искала ясности своим неясным мыслям.
Она решила в некоторой мере доказать спарапету, что не она, а он не умеет взвешивать обстоятельства, и что надвигаются очень значительные события, о которых спарапет ничего не знает, хотя в качестве высшего должностного лица в государстве должен знать о них раньше всех.
— В союзе Меружана с кавказскими горцами и с ахванскими разбойниками я не вижу еще особой беды, Мушег, — сказала она, откидывая голову и смотря князю прямо в лицо. — Я имею другие сведения, которые, по-видимому, тебе неизвестны. В Персии неспокойно. Мне сообщили, что причиной поспешного ухода Шапуха из пределов нашего государства послужило нашествие кушанов на северо-восточные области Персии. Усмирить кушанов нелегко, это отнимет у Шапуха много времени. Мы этим можем воспользоваться. Следовательно, то, что ты говоришь относительно привлечения Меружаном на свою сторону лакского и ахванского царей, отпадает, ибо они не смогут иметь с нами дело. Ведь если Шапух пойдет на кушанов, то лакского и ахванского царей он, конечно, призовет к участию в походе. Таков его обычай, и это всегда так бывало, когда он воевал с кушанами.
Политическая опытность царицы и ее рассуждения о текущих делах порадовали князя Мамиконяна, но все же едкий намек на его неосведомленность относительно событий в Персии вызвал на его холодном лице незаметную улыбку, которую он из осторожности скрыл от царицы.
— Кто сообщил тебе, государыня, эти сведения из Тизбона? — спросил он с особым интересом.
— Драстамат, наш верный евнух. Ты, кажется, знаешь его. Он прислал мне письмо.
— Когда ты изволила получить его письмо?
— Три дня назад.
— Сведения эти мне уже известны, государыня. Я значительно раньше тебя получил подробное сообщение о последних событиях в Персии. Напрасно ты думаешь, что мне не известно все, что творится вокруг нас. Изволь прочесть вот это письмо. — Он достал толстый сверток и подал царице. Она принялась нетерпеливо читать.
Письмо было от Манвела Мамиконяна, родного брата Мушега, который командовал находившейся в Персии армянской конницей. Он писал, что поход Шапуха в Армению создал и для него большие затруднения. Дни и ночи размышлял он о том, как найти способ удалить из Армении этого зверя Шапуха. Наконец после долгих стараний ему удалось с помощью верных людей возбудить царя кушанов против Персии, дав ему понять, что наступил удобный момент для нападения на Персию, так как Шапух со всеми своими войсками находился в Армении, и Персия осталась беззащитной. Таким образом он добился своей цели. Кушаны начали совершать набеги на северо-восточные границы Персии. Узнав об этом, Шапух покинул Армению и поспешил направиться против старого врага. Теперь он составляет полки, собирает войска, чтобы идти на кушанов. И сам Манвел со своей армянской конницей должен принять участие в этом походе. Его присутствие в персидском стане даст ему возможность сообщить кушанам обо всех слабых сторонах персов и, следовательно, повести дело так, чтобы персы терпели поражение во всех боях. Он надеется, что войска Шапуха будут перебиты в пустынях Хорасана, а может быть, и самого Шапуха удастся уничтожить. В конце письма он добавлял, что примет все меры к тому, чтобы затянуть войну и тем самым, пока Шапух будет занят кушанами, дать Армении возможность привести в порядок свои дела. Затем он благодарил брата Мушега и заканчивал письмо следующими словами:
«Бедствия Армении тяжки как для тебя, так и для меня, дорогой брат. Хвалю ту проницательность и вместе с тем ту дальновидность, с какою ты дал мне этот совет. Вернее этого средства, чтобы отвлечь хотя бы на время Шапуха от Армении, нельзя было и придумать. Война с кушанами займет Шапуха и отвлечет его силы. Спасибо тебе, Мушег, за этот совет»…
— Значит, это ты подал совет Манвелу? — спросила царица, прочитав письмо.
— Да, — тихо ответил спарапет.
— Когда?
— В то самое время, когда многочисленные войска Шапуха вступили на нашу землю.
— Почему ты до сих пор ничего не говорил мне об этом?
— Ты ведь знаешь, государыня, что у меня нет привычки заранее говорить о неисполненных делах. Я выжидал, государыня, каковы будут последствия моего совета.
— Последствия великолепны, Мушег! — сказала царица; грустное лицо ее просияло от беспредельной радости. — Нельзя было бы требовать больших последствий! И ты, Мушег, и твой храбрый брат Манвел достойны всяческих похвал!
Спарапет скромно наклонил голову. Он не смотрел на увлеченную царицу, которая в этот момент была переполнена восторгом. Она была несчастна как супруга; она была несчастна как мать; ее дорогого сына, еще в отроческом возрасте, отняли у нее и в качестве заложника отправили в Византию. Отныне же она считала себя счастливой как властительница и глава многострадальной страны, близкое спасение которой радовало ее.
— Я совсем спокойна теперь, дорогой Мушег, — сказала она проникновенным голосом. — Я теперь вижу, что Армения не беззащитна. Счастлива та страна, которая имеет таких сыновей, как ты! Эту твою победу, дорогой Мушег, я считаю даже выше той, какую ты одержал несколько недель тому назад у стен Тарвеза. То была победа меча и руки, а эта — ума и военной хитрости. Не применяя оружия, ты заставил яростного врага уйти из нашей страны. Мы должны воспользоваться его отсутствием, должны спешно привести в порядок наши дела. Обстоятельства удивительно благоприятствуют нам. Во всем этом я вижу участие десницы всемогущего. В то время как Шапух занят в Персии кушанами, а в Византийской империи умирает проклявши Валент, мы одновременно избавляемся от двух наших подлых врагов. Но положение вещей еще более склоняется в нашу пользу: вместо Валента императором стал наш друг Феодосий, с которым мы легко можем прийти к всевозможным соглашениям. Повторяю, дорогой Мушег, надо воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами. Каждая минута дорога. Ты должен ехать в Византию и притом постараться сделать это как можно скорее.
Спарапет, все еще наклонив голову, молча слушал. Царица продолжала:
— Ты должен оттуда привезти моего сына. Мои нахарары в полной растерянности. Некоторые из них разбежались, часть перешла на сторону персов. Остальные колеблются в тревожном раздумье. Их нужно объединять и возглавить, и главой их должен стать мой сын. Приготовься, дорогой Мушег, и скорее отправляйся в путь. Письмо к императору я напишу собственноручно. Напишу еще и отцу Нерсесу, Надеюсь, что наш уважаемый первосвященник, переживший столько мучений ради своего царя и родины, уже вернулся из ссылки. Завтра я велю открыть царскую сокровищницу и приготовлю самые дорогие подарки для нового императора Византии. А людей для посольства ты выберешь сам, возьми из наших нахараров и вельмож, кого пожелаешь. Я не сомневаюсь, что в Византии тебя ожидает пышный прием. Феодосий лично знаком с тобой и с блаженной памяти твоим отцом. Он много слышал о вашей храбрости в борьбе с персами и не раз радовался за вас.
— Я готов, царица, — ответил Мушег, — и очень надеюсь, что господь поможет мне исполнить твои горячие желания, являющиеся также и нашими желаниями. Но не скрою от тебя, государыня, что я не пришел еще к определенному выводу о том, какую позицию займет Меружан после всех этих перемен, происшедших в Персии и в Византийской империи.
— Мне кажется, что нам не следует даже думать о Меружане. После того как Вормиздухт оказалась в наших руках, он впал в отчаяние и, кажется, смирился. Несколько дней тому назад ко мне явились его посланцы с предложением выдать ему Вормиздухт, взамен же этого он обещал разоружиться и пасть к моим стопам в знак раскаяния в своих злодеяниях. Одновременно он грозил, что если мы ему не отдадим Вормиздухт, он прикажет всех жен и дочерей наших нахараров, находящихся под его властью и наблюдением персидской охраны, повесить на башнях тех замков, где они содержатся. Я, конечно, не поверила ни его раскаянию, ни его обещаниям и строго ответила посланцам, что если хоть один волос будет тронут на голове пленниц, то он увидит тело своей Вормиздухт висящим на стене Артагерса. Выслушав эти слова, посланцы удалились. После этого Меружан затих.
— Но молчание опаснее, чем его действия…
— На все божья воля, дорогой Мушег. Нам теперь прежде всего нужно подумать о твоем путешествии — это наша главная забота.
Происшедшие события, действительно, были очень благоприятны. Престол Византии занял император, дружественный Армении, с которым можно было заключить всевозможные договоры. Персидский же царь ввязался в новую войну, которая на долгое время могла отвлечь его внимание от Армении. Но в Армении завелась домашняя змея — Меружан, голову которой надо было размозжить, дабы страна обрела продолжительный покой. Вот эта-то мысль и беспокоила Мушега.
После победы у Тарвеза Мушег намеревался напасть на Меружана, но пока он готовил план этого похода, царица предложила ему отправиться в Византию. Ему было очень тяжело покидать родину, не расправившись с внутренним врагом.
Меружан не легко впадал в уныние. О его мужестве и твердости спарапет был высокого мнения. Именно поэтому спарапет не находил человека, который мог бы противостоять Меружану во время его — Мушега — отсутствия. Правда, среди армянских князей были люди очень храбрые и готовые на самопожертвование; однако им недоставало тех военных способностей, какими обладал Меружан Арцруни.
Самвел, по его мнению, был еще очень неопытным воином. Мушег любил этого пламенного юношу как благородного героя, в котором горячность мужчины сочеталась с пылкостью нежных чувств. Самвел мог быть храбрым полководцем в бою, но одной храбрости было недостаточно, чтобы руководить армией. Кроме Самвела, Мушег не видел такого человека, на которого можно было бы положиться. Кто же должен охранять страну? Кто будет бороться против внутреннего врага?
Эти заботы в его отсутствие брала на себя царица Армении. Но можно ли доверять ей, женщине, не умевшей управлять своими страстями, у которой все чувства доведены до крайности? Ее самомнение и крайняя самоуверенность могли многое испортить.
Он не был против совета царицы ехать в Византию, но полагал, что это следовало сделать после того, как Армения будет очищена от врагов, чтобы наследник престола, возвратившись на родину, нашел страну в спокойном состоянии. Но такое спокойствие, рассуждал Мушег, невозможно, пока жив Меружан, которому царь царей Персии обещал престол Армении.
Спарапет все еще был охвачен печальными сомнениями, когда помимо своей воли, он согласился с предложением царицы и встал, чтобы уйти. Царица с глубоким удовлетворением протянула ему свою правую руку. Мушег прижал руку царицы к губам, а затем поднес к своему лбу. Это была великая милость со стороны царицы к своему верному и готовому на самопожертвование спарапету.
— Утром еще раз зайдешь ко мне? — спросила она особенно любезно.
— Явлюсь, государыня, — ответил спарапет. — Наш разговор еще не закончен.
— Остается лишь поговорить о том, какие следует дать распоряжения после твоего отъезда. Но об этом утром.
Спарапет поклонился и вышел. Царские слуги проводили его до ворот дворца, где стоял его конь и ждали слуги. Он сел на коня; слуги провожали его, идя спереди и сзади. Два фонаря освещали ему путь. Погруженный в глубокое раздумье, он проезжал по неровным улицам крепости, окутанным тьмою. На улицах не было никого, кроме бодрствующей стражи, которая небольшими отрядами проходила мимо него, отдавала честь поднятием копья и расходилась в разные стороны.
Как спарапет и хранитель безопасности страны Мушег всей душой был предан Армении. Вместе с тем он был нежным отцом семьи. В крепости Артагерс находились его дорогие дети и любимая жена. Кому он мог поручить их в такое смутное время, когда Артагерс жил на страшном вулкане, под угрозой взрыва. В этой крепости нашли убежище сотни княжеских семейств. На ту же крепость надеялась и сама царица Армении. Будущее рисовалось Мушегу в очень мрачных красках и его чувствительное сердце терзали мрачные сомнения. Охваченный такими тяжелыми думами, он доехал до своего дома и сошел с коня. Его встретила нетерпеливо ожидавшая жена.
— Почему так опоздал? — спросила она, радостно выбегая ему навстречу.
— Ты знаешь, дорогая, когда человек попадает в руки царицы Парандзем, ему не легко освободиться, — ответил спарапет, обнимая ее.
Через два дня спарапет после пышных приготовлений, вместе с многочисленной свитой азатов отбыл в Византию.
Он принял предложение царицы и уехал. Но царица прогадала!..
XII. Хайр Мардпет
И случилось так, что после четырнадцатого месяца бед, насланных богом на беженцев, укрывшихся в крепости, возник мор среди них как наказание божье. Внезапно умирало в течение часа сто человек, а иной час — двести, а то и пятьсот человек. Не прошло и месяца, как в общем умерло одиннадцать тысяч мужчин и около шести тысяч женщин…
И в крепости осталась только царица Парандзем с двумя служанками. Тут тайно пробрался в крепость евнух Хайр Мардпет и стал поносить царицу, как какую-то непотребную женщину… Тайно он вышел и бежал… Потом пришли персидские полководцы, схватили царицу и вывели из крепости. Поднялись в крепость, забрали как добычу сокровища армянского царя, которые хранились там… Девять дней и девять ночей беспрестанно свозили все, что нашли в крепости Артагерс, и увезли вместе с царицей.
Фавстос Бузанд
После отъезда Мушега Мамиконяна в Византию царица распорядилась, чтобы те из князей, у которых были провинции и крепости, направились в свои земли для защиты их, а при себе оставила только придворные полки азатов и царскую охрану. Крепость покинули Саак Партев и Месроп Таронский, удалилась и Рштуникская княжна Ашхен со своими храбрыми горцами. Свое семейство спарапет переселил в сильно укрепленный замок Мамиконянов, Ерахани, находившийся на лесистых горах области Тайк.
Предсказания Мушега сбылись. Через некоторое время Меружан Арцруни прибыл с персидским войском и осадил крепость Артагерс. Царица с таким презрением отнеслась к этой осаде, что каждый раз, когда послы Меружана являлись к ней с предложением отпустить царевну Вормиздухт, обещая, что в таком случае Меружан прекратит осаду и удалится она отвечала суровым отказом. Раздраженный Меружан усилил осаду; крепость была отрезана от внешнего мира; он хотел голодом заставить ее сдаться, если бы ему не удалось захватить ее силой.
Но крепость упорно стояла на крепких скалах. Казалось, ей не страшны были никакие угрозы врага.
В то время как Меружан вел осаду крепости, Ваган Мамиконян с помощью находившихся в его распоряжении персидских войск занял все дороги, чтобы помешать нахарарам прийти к осажденным на помощь и рассеять войска Меружана.
Но царица и не рассчитывала на внешнюю помощь. Она ждала своего сына Папа. Она могла сопротивляться еще месяц — другой, быть может, даже несколько месяцев, до тех пор, пока не явится ее желанный сын и не приведет с собой византийские легионы.
Но там все что-то медлили. Послы армянской царицы, прибыв в Византию, не застали там нового императора. Война с готами заставила его покинуть столицу. Эта война в качестве несчастного наследства досталась Феодосию от предшественника Валента.
Перед смертью Валента дикие готы огромными полчищами спустились с темных гор и наводнили многочисленные провинции империи, дойдя до стен Константинополя. Валент мужественно сражался с ними и был ранен. С поля битвы, раненого, его отнесли в крестьянскую лачужку. Враг поджег лачужку, в которой и сгорел несчастный император.
Когда Феодосий принял из рук Грациана в Сирмионе императорский пурпур, то прежде всего ему пришлось заняться весьма трудным делом: надо было очистить страну от полудиких готов, и только после этого отправиться в столицу, чтобы вступить на унаследованный им престол. Прошло целых девять месяцев, пока он сумелсправиться с готами; и в течение девяти месяцев послы Армении ждали его возвращения в столицу.
Хотя Мушег Мамиконян и бывшие при нем вельможи удостоились в Византии весьма пышного приема, все же просьба их долго оставалась без ответа; нового императора настолько отвлекали запутанные внутренние дела государства, что у него не хватало времени заниматься внешними делами, тем более делами Армении, которые, несомненно, вызвали бы новую войну против него, да к тому же тяжелую войну со стороны персов. Вот почему император все время откладывал дело армянских послов.
После смерти Валента наряду со многими делами остался нерешенным трудный религиозный вопрос, сильно волновавший в то время Византийскую империю. Феодосию надлежало возвратить всех сосланных Валентом высших представителей духовенства и начать борьбу против многочисленных сект, которые размножились и окрепли под покровительством Валента. В столице происходили непрерывные собрания, на которых иногда присутствовал сам император.
В то время как в Константинополе были заняты бесплодными религиозными спорами, там, в Армении, Меружан Арцруни все крепче сжимал в кольце осады крепость Артагерс, а армянская царица все с большим нетерпением ожидала своего сына и легионы императора.
В соответствии с обещаниями императора из Византии к царице Парандзем часто приезжали гонцы; тайными ходами они пробирались в крепость и приносили одни и те же вести: «Повремени немного, продержись; твой сын придет и приведет с собой византийские войска».
Целых тринадцать месяцев ожидала царица, тринадцать месяцев она храбро сопротивлялась. Вместе о ней было в ожидании и население… Ни неистовство Меружана, ни ярость персидских войск не могли опрокинуть неприступные укрепления Артагерса. Но сломила их небесная кара.
На четырнадцатом месяце осады появился новый и более жестокий враг, с которым бороться уже не было сил. Тот враг была ужасная чума. Беспощадно начала она косить осажденных. Ежедневно умирало несколько сот человек. Однажды за столом царицы, во время обеда, умерло пятьсот человек. Моровая паника нарушила общий порядок в крепости. Каждый думал о своей жизни. Хотя в самом начале появления этой лютой болезни царица и объявила всем, что каждый, кто захочет, свободен поступить, как пожелает, но никто не пожелал покинуть любимую царицу. Все поклялись остаться с ней и умереть у ее ног. В глубинах крепости существовало много потайных ходов, никто не воспользовался ими: чувство самопожертвования было сильнее страха смерти. Не хватало времени хоронить трупы. Живые, зарывая мертвецов, падали замертво вместе с ними. Каждый заранее рыл для себя могилу. Каждый думал, что завтра, а быть может, через несколько минут его не станет…
Но осаждавшие пока еще не знали, что творится внутри крепости. Осажденные готовились к смерти, умирали и не переставали биться с врагом.
Почти одновременно с чумою начался голод. Он превзошел чуму и заставил забыть об ее ужасах. Умирать было легче, чем бороться с жестокими муками голода.
За тринадцать месяцев осады были опустошены все запасы провизии. На четырнадцатом месяце уже нечего было есть. Не осталось в крепости ни собак, ни кошек, ни иных четвероногих: все они были съедены. Знатные женщины мололи кости на легких жерновах и этими крупинками кормили голодных. Сама царица варила похлебку из кожаной обуви и раздавала голодным. Но вскоре иссяк и этот источник. Исчезли также и заросли на скалах крепости, которые скорее усиливали смертность, чем насыщали голодных. Дошло до того, что некоторые из осажденных, обезумев от голода, поедали собственных детей.
Во время этих ужасов, когда под ударами нависших испытаний ослабевают все духовные и умственные силы, когда человек мельчает, теряет свой облик в страхе перед опасностью, царица не потеряла мужества. Лишившись последнего воина, она сохранила всю мощь своей души и не открыла перед врагом ворот крепости.
Она вошла в крепость с одиннадцатью тысячами вооруженных мужчин и пятью тысячами женщин княжеского рода. Все умерли, все стали жертвами во имя защиты родины. В живых остались лишь царица и две юных служанки. Осталась жива и царевна Вормиздухт. Тринадцать месяцев держались осажденные, на четырнадцатый месяц начались голод и чума. В один этот месяц было уничтожено все живое и погибло семнадцать тысяч человек.
Был последний роковой день четырнадцатого месяца.
Трепетные лучи вечернего солнца несколько раз блеснули на голубых узорах башен крепости и угасли, как последнее дыхание умирающего. Сумрак постепенно окутывал замок. Царили глубокая тишина и пустота. Кое-где валялись незарытые трупы. Алчная стая черных коршунов, как адские духи, кружилась над обезображенными телами и порой резким криком нарушала мертвую тишину.
Две юные девушки, прекрасные, как богиня Артемида, обходили пустой замок. За плечами каждой висело по серебристому колчану со стрелами, в руках они держали легкие луки. Точно богини охоты, обе были в коротких одеждах, вроде тех, какие носили сасунские охотницы. Длинные косы были уложены венком на голове, грудь наполовину открыта, руки обнажены, а на голых ногах надеты пестрые сандалии. Это были две служанки царицы. Одну звали Шушаник, а другую — Асмик. Обе белые, как лилии, обе душистые, как жасмин, они взобрались на одну из башен крепости. Взглянули на небо и молча улыбнулись друг другу.
— Дай мне в сегодняшний вечер первой попытать счастье, — сказала Шушаник слабым голосом.
— Нет, сначала я, — попросила Асмик.
Они подкрались к двум голубям, ворковавшим на башне.
Шушаник осторожно приблизила руку к колчану, достала стрелу, приложила к тетиве и прицелилась в счастливую парочку. Тетива зазвенела, стрела полетела… но выстрел был неудачен. Вслед за ней полетела стрела Асмик, и один из голубей, трепыхая крыльями, упал вниз. Голубица, печально покружившись над своим самцом, исчезла в вечернем сумраке.
Асмик взяла свою добычу, и они пошли дальше; живые глаза девушки внимательно оглядывали верхушки башен, где по вечерам собирались голуби на ночной отдых. Шушаник была невесела, потому что впервые ее стрела не попала в цель. А лицо Асмик, наоборот, сияло от радости.
Так каждый вечер юные девушки появлялись у стен крепости и охотились за птицами. Из птиц они готовили для своей любимой царицы обед и ужин. Кормились и сами.
Вечерний сумрак постепенно сгущался, и ночной мрак скрыл наконец ужасное зрелище, которое в те дни представлял собой Артагерс. Больше не было видно разложившихся изуродованных человеческих трупов, валявшихся без погребения на улице. Теперь вырисовывалась лишь высокая женщина с факелом в руке, одиноко бродившая среди трупов. Она напоминала одну из богинь Аралез, которые некогда проходили по полям сражений после битв и, воскрешая армянских храбрецов, дарили им бессмертие. Горестным, щемящим душу взором смотрела она на несчастные жертвы и медленно шла дальше. Многие из них еще несколько дней тому назад были живы, многие были ею любимы. А теперь они валялись заброшенные, беспризорные, лишенные того единственного утешения, которое дает всякому смертному в своих объятиях сырая мать-земля. Какое печальное зрелище! Там лежит умерший младенец, прижавшись к груди матери; тут молодая девушка, увядшая, пожелтевшая, точно только что распустившийся цветок, подкошенный неумолимой рукой жнеца. Ужасна была эта жатва, беспощадная жатва бездушного бога смерти.
Женщина продолжала идти. При ярком свете факела на ее прекрасном лице отражалась безутешная скорбь матери, потерявшей дорогих детей. Да, она лишилась всего, хоть и сохранила крепость благородного духа, силу своей железной воли.
Она все шла и шла, а ее длинная легкая одежда волочилась по неровной мостовой, нарушая ночную тишину тихим мелодичным шелестом. Вот она миновала узкие кривые улицы и быстрыми шагами направилась к двум высоким башням, которые, как два гиганта, стояли по обеим сторонам главных ворот крепости. Войдя в одну из них, она по извилистой лестнице стала подниматься наверх. Свет факела нарушил ночной покой летучих мышей, стаями сидевших в темных расщелинах этого древнего здания. Вмиг, как темная туча, они поднялись в высокую пустоту башни и наполнили глухие своды шумом своих крыльев. Взлетая, они задевали лицо женщины своими холодными крыльями, но она даже не замечала этого, озабоченная мыслью, как бы не погас ее факел от их полета.
Поднявшись на самый верх башни, она с особым старанием зажгла огнем от факела расставленные там фонари и поставила их на узкие окна. Покончив с этим, она быстро спустилась вниз и подошла к железным воротам крепости; внимательно осмотрела тяжелые замки, проверила крепкие засовы, потрогала массивные задвижки. Все было на месте, все было в порядке, не хватало лишь стражи. Так она обошла остальные башни.
На башнях ей кое-где встречались ночные караульные; они лежали на голом полу, прижав копья к груди. Эти всегда бодрые стражи, целыми часами с высот наблюдательных пунктов следившие за окрестностями, теперь спали вечным сном. Злая смерть настигла их на посту…
Так каждую ночь одиноко появлялась с факелом в руке эта высокая красивая женщина и зажигала фонари на башнях, глядевших на лагерь осаждавшего крепость врага. Она хотела показать врагу, что в крепости все живы и ничего не изменилось.
Эта женщина, блуждавшая по ночам, была царица Армении, прекрасноглазая Парандзем. Она оказалась теперь единственным владельцем и неусыпным стражем тихой, безлюдной крепости и величием своей души как бы заполняла его зияющую пустоту.
Почти в то же самое время, когда царица с факелом в руке обходила пустынную крепость и с тревожным сердцем многократно проверяла затворы ворот, убеждаясь в их прочности, именно в эту самую минуту в крепости появился еще один наблюдатель. Он проник извне, через один из тех потайных ходов, о которых знала лишь царица, так как возможность сообщения с внешним миром сохранялась в великой тайне.
Человек этот был крупного телосложения. В своем нелепом одеянии, широкие складки которого, развеваясь, спускались до ног, он казался мрачным, огромным демоном, который даже среди ночного мрака выделялся своим черным силуэтом. Длинный меч, висевший у пояса и волочившийся по земле, он придерживал рукою, чтобы не производить шума. А под одеждой на бедре висел обоюдоострый кинжал. Ночной мрак скрывал его страшное, обезображенное оспой лицо, кожа которого была кирпичного цвета и походила на пористую губку. На безволосых и сильно развитых челюстях торчало лишь несколько волосков. Свирепые глаза поблескивали самодовольной дьявольской радостью. Он издали увидел царицу с факелом в руке и сейчас же ее узнал. Злая усмешка искривила его распухшие губы. Он остановился в темноте, дав царице пройти. Затем, крадучись, пошел за нею.
Полная пустынность замка, беспорядочная груда трупов и глубокая тишина кругом — все, что могло вызвать страх и ужас в обычном человеке, в этом чудовище возбуждало радость и удивление. Он злорадствовал тому, что замок находился в таком бедственном положении; удивлялся, какие же внезапные обстоятельства могли вызвать такое неожиданно страшное опустошение. Ему казалось, что неумолимый гнев бога мести в несколько мгновений испепелил все, хотя и стояли на месте неприступные стены, в ночной тьме тускло вырисовывались грозные башни крепости. Но людей он не видел и это наполняло его жестокое сердце беспредельной радостью.
Не выпуская царицы из виду, он в то же время внимательно осматривался вокруг. Ему попадались только трупы. И каждый раз, когда эти холодные, бездыханные тела преграждали ему путь, когда во мраке он прикасался к ним, он испытывал чувство жгучей радости. Он дождался, пока царица окончит обход и направится во дворец. После этого он продолжил осмотр крепости, чтобы лучше ознакомиться с положением вещей, которое ему все же было неясно.
Очень внимательно он осматривал бойницы и казармы, рассматривал запасы оружия — все в порядке, только нет воинов и никого вообще… Что стало с ними? Куда все делись? Неужели все вымерли? Эти вопросы возникали в его встревоженной голове, полной мрачных мыслей, таких же черных и ужасных, как ночная кромешная тьма.
Осмотрев все уголки крепости, он подошел к царскому дворцу. Долго блуждал он вокруг него, напрягая слух, чтобы убедиться, не слышно ли голосов изнутри. Но когда-то веселый, жизнерадостный дворец теперь был глух и безжизнен, как могила. Эти палаты любви и счастья, храм неумолкающей песни и музыки с его радостной жизнью и обычаями он знал с давних пор. Он знал, что и в какой час делалось там. Он знал бурные ночи дворца, где до утра героические песни гусанов и топот пляшущих ног раздавались в обширных залах. А теперь все было мертво, все застыло в глубоком безмолвном покое. Эта тишина производила особенно тяжелое впечатление в черном мраке безлюдного дворца. И это радовало его. Обычно дворец освещался всю ночь множеством ярко сверкавших огней. Теперь же в палатах было совершенно темно. И только в одном окне пробивался слабый свет, готовый угаснуть. То была опочивальня царицы.
Он занес уже ногу на порог главного входа, но все не осмеливался войти. Опасался, что кто-нибудь из многочисленных царедворцев и телохранителей остался в живых. Но, с другой стороны, его ободряла мысль, что если бы во дворце остались люди — зачем царице одной ходить по крепости и заниматься тем, что делать ей не надлежит. Преодолев свою нерешительность, он вошел внутрь и сейчас же скрылся в темных закоулках дворца.
В это время Шушаник и Асмик были заняты на кухне. Одна из них ощипывала голубей, другая разжигала огонь, чтобы поскорее изжарить их. В этот вечер им посчастливилось: они убили четырех голубей, что случалось очень редко. Их ведь было тоже четверо оставшихся в живых в крепости: царица, царевна Вормиздухт и они — две служанки.
— Сегодня у нас будет роскошный ужин, — весело сказала Асмик.
— Если бы хоть кусочек хлеба, — печально заметила Шушаник. — Ах, как давно мы не ели хлеба!
Слова Шушаник вызвали грусть у веселой Асмик, которая стала утешать подругу:
— Бог милостив, сестрица! Мы уже привыкли жить без хлеба и питаться только мясом. Бог ежедневно посылает нам прекрасных голубей.
— Царица тоже привыкла… Она с аппетитом кушает жареную дичь, не то, что царевна Вормиздухт.
— И она привыкнет.
Шушаник снова загрустила.
— До каких пор мы будем жить так, Асмик? — жалобно спросила она, — Все умерли и успокоились. Остались только мы. Если бы и нам умереть, чтобы избавиться от этих мук…
— Зачем умирать? — обиженно ответила Асмик. — Если мы умрем, кто же станет служить царице? Бог затем нас и сохранил, чтобы мы ей служили.
— Ты не боишься, Асмик? — переменила разговор грустная Шушаник.
— Чего бояться?
— Как чего? Если персы узнают, что в крепости не осталось мужчин, они взломают ворота и войдут. Что ты тогда будешь делать?
— Что делать? — смеясь ответила Асмик, — мы будем защищаться с помощью стрел и не подпустим ни одного к себе.
Шушаник также рассмеялась над наивностью подруги. Она была старше жизнерадостной Асмик.
Пока на кухне служанки были заняты этим разговором, царица вернулась во дворец. Она вошла в свою опочивальню, сняла единственный светильник с треножника и быстро вышла. Миновав пустые, погруженные во мрак и тишину залы, она остановилась у дверей одной из комнат. Вытащив из кармана ключи, отперла дверь. Хотя она сделала это очень осторожно, все же скрип тяжелой двери разбудил молодую девушку, спавшую на тахте.
— Воды!.. Жажда томит! — были ее первые слова, когда она, открыв сонные глаза, увидела входящую царицу со светильником в руке. Она произнесла это тоном наивного ребенка, обращающегося к своей любимой матери или няне.
— Разве у тебя нет воды? — спросили царица с искренним участием. В ее мягком голосе чувствовалось сострадание.
— Часто забывают…
Она поставила светильник, быстро вышла и через несколько минут вернулась с серебряной чашей, наполненной водою. Девушка с чувством признательности взяла чашу, жадно выпила всю воду и сказала:
— Какая холодная!
Это была молодая царевна Вормиздухт, сестра царя Шапуха, пленница царицы Армении и будущая невеста Меружана Арцруни. Ей не было еще семнадцати лет, но, рожденная под южным солнцем, она рано созрела, оформилась и сияла теперь всей чарующей прелестью молодости. Глядя на нее, можно было подумать, что божество красоты сделало все возможное, чтобы создать в ее лице своего двойники. В ярком сиянии ее больших очей Меружан Арцруни утопил весь свой рассудок и всю свою душу. Красота и нежность ее были так чарующи, что армянская царица, несмотря на свою сильную ненависть к Шапуху и вообще ко всему персидскому царскому роду, все же в течение последних дней не только стала относиться к Вормиздухт с материнским состраданием, но даже полюбила ее. Постигшие несчастья — голод и чума — заставили царицу забыть свою безжалостную вражду к семье Шапуха. Да! Она полюбила Вормиздухт, стала ласково обходиться со своей пленницей, жизнь и смерть которой были в ее руках. В этой любви она находила утешение, она согревала ее душу, изнемогавшую от тяжелых переживаний. Сходство судеб вызывало в них взаимную симпатию. Царевна, правда, была пленницей, но ведь и царица тоже оказалась пленницей в осажденной крепости. Каждую минуту ее ожидала такая же участь: плен в далекой Персии, быть может, даже и нечто более суровое.
Чума не пощадила и красавицу царевну. Во время ее болезни царица не знала покоя, проводя ночи у ее постели. Выздоровление Вормиздухт доставило царице большую радость. Ее держали почти взаперти. Царица не разрешала ей выходить из дворца, опасаясь, чтобы царевна снова не расхворалась под впечатлением тяжелых картин. Царевна очень боялась мертвых, а улицы крепости были полны трупов.
Выпив холодной воды, Вормиздухт очнулась от сна. Она неожиданно вскочила на ноги, бросилась на шею царице и долго не выпускала ее из своих объятий, целуя, лаская и одновременно рыдая на ее груди.
— Что с тобою, милая? — спросила смущенная царица.
— Ах, если бы ты знала, как я долго плакала! Как много я плакала! — шептала царевна сквозь слезы.
— О чем же, милая? Что случилось?
— Это было во сне… Но теперь я так рада, очень рада… ты жива… ты опять со мной!
Царица поняла, что грустные сны взволновали чувствительное воображение молодой девушки. Она обняла ее, поцеловала и усадила возле себя на сидение. Затем она еще раз спросила Вормиздухт, почему та плакала во сне.
— Не скажу… Язык не поворачивается…
После долгих просьб она все же рассказала царице свой сон: будто бы она гуляла во дворце и увидела там много людей, лежавших на земле, — мужчин, женщин, стариков, детей. Кто был уже мертв, а кто мучился в предсмертных судорогах. Среди них она будто бы заметила царицу, упала на ее труп и стала плакать. Плакала долго, пока не проснулась.
— Наши несчастья навевают на тебя такие печальные сны, дорогая Вормиздухт, — утешила ее царица. — Безгранична милость бога: он уберег нас от смерти, будет оберегать и дальше. Не волнуйся, Вормиздухт, и не думай ни о чем…
Впечатления, конечно, были очень тягостны для нежного сердца девушки. Кроме всеобщего мора в крепости, свидетельницей которого она была, ей пришлось наблюдать поголовную смерть своих многочисленных слуг и служанок. Эта потеря очень угнетала ее, она никак не могла с ней примириться. Часто среди ночи она звала своих людей, но, вспомнив, что их уже нет, принималась плакать. Поэтому царица приказала готовить постель царевне в своей собственной опочивальне, чтобы можно было в таких случаях утешать несчастную девушку.
— Теперь пойдем, дорогая Вормиздухт, — сказала царица, беря ее за руку и поднимая с постели, — пойдем посмотрим, что сегодня приготовили нам к ужину Асмик и Шушаник.
Слезы Вормиздухт мигом высохли. Она весело вскочила, схватила с окна светильник и, побежав вперед, стала просить царицу:
— Светильник буду нести я, дорогая матушка, позволь мне это! Ты все хочешь делать сама!
В эти дни она стала называть царицу «матушкой». Царица ласково улыбнулась и позволила ей нести светильник.
Пройдя через темные залы, они вошли в трапезную палату. Обе служанки — Асмик и Шушаник — уже приготовили стол. На роскошной скатерти стояли две серебряные тарелки и на них лежали три зажаренных голубя. Больше ничего не было. Царица Армении и персидская царевна подошли к скудному столу и с удовольствием сели за него. Служанки стоя прислуживали. Царица обратилась к ним:
— Сколько голубей убили сегодня?
— Мы застрелили четырех, государыня, поспешила ответить Асмик, — трех — я, одного — Шушаник.
— Ты, как всегда, отличилась, — улыбаясь заметила царица. — Но почему же такой неравный дележ: трех голубей дали нам, а себе оставили только одного.
— Нам хватит и одного, государыня, — ответила опять Асмик, — мы сами виноваты в том, что нам мало досталось: плохо охотились.
— Нет, что послал господь, то поровну и поделим, — сказала царица, отделяя служанкам еще одного голубя. — Ступайте и поужинайте.
Служанки удалились, хотя по обычаю они должны были стоять у стола царицы до окончания ужина.
Вормиздухт, слушавшая с особым удовольствием слова милостивой царицы, вмешалась в разговор и улыбаясь заметила:
— Если мы еду делим поровну, то следует и работу делить поровну. Давайте ходить на охоту по очереди: один день мы, а другой — Шушаник и Асмик. Не будет ли так лучше, матушка?
— Будет. А ты умеешь охотиться? — спросила царица.
— Завтра наша очередь, и ты увидишь ловкость моих рук. Когда я жила в Тизбоне, брат мой брал меня иногда на охоту, и каждый раз я возвращалась с добычей. Однажды я убила бегущего зайца. Когда возвратилась домой, брат похвалил меня и подарил красивый перстень.
— И от меня ты получишь хороший подарок, если завтра покажешь свое искусство.
Царевна повеселела, как ребенок.
На столе стоял большой серебряный сосуд с вином и два золотых кубка. В замке иссякли все запасы, кроме вина. Отборные вина, привезенные из разных мест Армении, были зарыты в землю в громадных глиняных сосудах — карасах; некоторые хранились там по нескольку десятков лет.
Царица наполнила кубки ароматным вином, один поставила перед Вормиздухт, а другой взяла себе. Вормиздухт, понемногу отпивая из кубка, принялась неугомонно болтать. Рассказывала о Тизбоне, о своих приключениях при персидском дворе. И чем больше она пила, тем сильнее красный нектар Армении зажигал ее юную кровь огнем радости и тем ярче выступал румянец на ее бледных щеках. Она настолько увлеклась, что запела древнюю персидскую песню.
Высоко на выступе древней скалы
Ужасная крепость стояла.
Испуганно мимо летели орлы,
И прочь убегали шакалы.
Лишь ветер бесстрашно над ней пролетал
И бился о горные склоны,
И слышал, как в крепости кто-то рыдал,
И слышал моленья и стоны.
Не мудрый строитель те стены воздвиг,
Они не из камня иль дуба, —
Отпрянет в испуге взглянувший на миг
На облик их дикий и грубый.
Из трупов кровавых, из груды костей
Воздвигнуты мрачные стены.
Обрызганы кровью погибших людей,
Стоят они здесь неизменно.
Здесь к черепу череп уложены в ряд,
И грозные высятся своды,
И башни и вышки безмолвно стоят
Под взором бесстрашной природы.
Их было семь братьев, семь богатырей,
Строителей крепости странной.
И воинов не было в мире храбрей,
Взрастила их мощь Аримана.
Была у воителей-братьев сестра,
Блистала красой своенравной,
Дивились очам ее дивным ветра,
И не было в мире ей равной.
— Заря, не свети, — говорила она,
Светлее тебя мои очи.
Луне говорила: — Спи мирно, луна,
Красой озаряю я ночи.
И храбрые витязи дальних племен
И грозные горные дэвы
К чудесной красавице шли на поклон,
И все были жертвою девы.
А дивная дева им вторила вновь?
— Пусть с братьями бьется воитель, —
За славу победы дарую любовь —
Получит меня победитель.
Вздымалось копье, и сверкали мечи,
И падал удар за ударом,
Стучали сердца, как огонь, горячи,
Объяты воинственным жаром.
Гремели бои и гудел небосвод,
И панцири наземь слетали,
А боги глядели с небесных высот,
Из горной невидимой дали.
Красавица дева, нема и бледна,
Следила за битвой кровавой,
И радостно братьев встречала она,
Гордясь их победною славой.
И так, несчастливцы, один за другим,
На поле борьбы погибали,
Их трупы сносили к стенам крепостным
И страшный чертог воздвигали.
И стены все выше вздымались в зенит,
И башни росли на уступах.
А сердце красавицы — словно гранит;
Никто не любим неприступной.
Промчалось немало и лет и веков,
И вот на земле появились
Семь юных царевичей, семь храбрецов,—
Красе их и горы дивились.
И дрогнула дева, увидевши их.
А сердце, что камень горячий.
Кого из красавцев избрать семерых?
Пусть битва решит ее участь.
Как прежде, семь братьев вступили в борьбу
С царевичами молодыми.
Две равные силы решали судьбу.—
Царевна следила за ними.
Шесть юных царевичей пали в бою,
Шесть пламенных солнц закатилось.
Один лишь боролся за радость свою —
Сражение длилось и длилось.
И гордости давней своей изменив,
Сбежала на землю царевна.
И, юношу телом своим заслонив,
Промолвила витязям гневно:
— Вас семеро против него одного,
Неравны вы в подвиге бранном.
Победным венцом увенчаю его,
Он стал мне навеки желанным.
И братья сложили оружье тогда
И юношу поцеловали
— Пусть будет твоею она навсегда,
Живите, не зная печали.
[298]
Мелодичный, звонкий голос царевны привлек внимание притаившегося во дворце демона, вылезшего из своего укрытия и медленно подкравшегося к двери той комнаты, откуда неслись чарующие звуки. Его мягкие красные башмаки неслышно ступали по полу, а царивший вокруг мрак делал его невидимым. Он слушал внимательно и злобно торжествовал.
Совсем иное впечатление произвела грустная песня Вормиздухт на царицу. Она настолько была взволнована, что постаралась скрыть свои слезы, чтобы их не заметила царевна. Содержание песни было удивительно сходно с участью той, которая ее пела, хотя Вормиздухт об этом и не подозревала. Она жила в полном неведении. Она не знала, что была тем самым яблоком раздора, из-за обладания которым крепость наполнилась трупами. Как и сказочный замок из песни. Артагерс тоже представлял собой гигантскую могилу тысяч жертв. Армения была залита кровью, гибель людей продолжалась и, быть может, длилась бы еще долго… Вормиздухт не знала, что поводом всего этого послужила безумная любовь Меружана к ней, ради удовлетворения которой он пролил столько крови и принес столько жертв. Она не знала и того, с какой целью содержится в крепости. Она лишь помнила, что находилась в гареме брата, когда враг напал у Тарвеза на персидское войско, что там произошла битва, погибло много воинов и ее доставили в эту крепость. Добросердечная царица взяла ее под свое покровительство и отнеслась к ней, как к собственной дочери. Она даже не знала, кто теперь осаждает крепость. Она думала, что это были те же отряды, что напали на войско ее брата. Царица всячески старалась скрыть от нее печальную действительность, чтобы не причинить боль ее нежному сердцу.
О Меружане она не имела понятия, никогда его не видела и лишь слышала его имя. Ей не говорили, что она считается его невестой и что наступит день, когда станет его женой. Она не знала, что все эти беды происходят из-за нее и что человек, так безжалостно осаждающий крепость, не кто иной, как ее будущий муж — Меружан.
При дворе персидского царя она была не существом, а вещью — одной из тех красивых и драгоценных вещей, которыми была полна царская сокровищница. Подобно тому как царь имел привычку награждать этими, драгоценностями своих вельмож, точно так же он обещал наградить Меружана царевной за его гнусную услугу… Об этом царевна узнала бы лишь только тогда, когда ее из рук в руки вручили бы Меружану.
Царица до сих пор не говорила с нею о Меружане, да и не имела желания говорить. Но теперь, слушая ее песнь, она мимоходом спросила:
— Знаешь, Вормиздухт, кто осадил нашу крепость?
— Нет, не знаю, — ответила она.
— Если бы враг сказал: «Дайте мне Вормиздухт, я прекращу осаду и удалюсь» — ты бы согласилась?
— Согласилась!
— Почему?
— Чтобы не умирали люди, чтобы был хлеб и они ели, и чтобы ты не страдала так много. Вот почему бы я согласилась.
— Значит, ты поступила бы так же, как та девушка в замке, о которой пела песню?
— Нет, не так. Она была бессердечной и ради своей красоты требовала жертв, и чем больше их было, тем сильнее радовалась. Она из тел и голов своих поклонников соорудила для себя замок. А я бы так не поступила: я бы не позволила проливать кровь из-за меня. Я бы немедленно выбежала к врагам, подставила грудь под их стрелы и воскликнула: — Вот я! Если вы сражаетесь из-за меня, прекратите битву! — Я бы пожертвовала собой и тем спасла всех.
Она говорила с неподдельной искренностью. Мечта о самопожертвовании развилась в ней не вследствие чувства человеколюбия, а из условий того воспитания, которыми она была окружена с детства. Старухи-няньки наполнили ей голову сотнями сказаний и сказок, которыми так богат персидский народ. Они воспитали в ней героический дух и зажгли ее воображение, вызывая чувства самопожертвования.
Услышав полные воодушевления слова Вормиздухт, царица с грустью сказала:
— Все это, дорогая Вормиздухт, уже совершилось помимо твоей воли…
Царевна побледнела.
— Что совершилось? — спросила она в замешательстве.
— Жертвы… кровь… избиение…
— Из-за меня?
— Да! Из-за тебя…
Она чуть было не упала в обморок. Царица обняла и прижала ее к своей груди.
— Успокойся, дорогая Вормиздухт, ты в этом не виновата. Все это произошло помимо твоей воли и твоего желания. Выслушай меня, я расскажу тебе обо всем.
Царица открыла девушке, что та содержится в крепости как пленница и заложница, объяснив, что крепость осадил Меружан Арцруни, дабы освободить ее. Сообщила также о том, что она, Вормиздухт, — невеста Меружана и в будущем должна стать его женой. Объяснила, по каким политическим причинам возникло ее необычное обручение; рассказала о взаимоотношениях ее брага, царя Шапуха, с армянами, о целях его войн, о том, что он намерен уничтожить веру армян и их государство и превратить Армению в персидскую провинцию, и о многом другом.
Царица закончила свой рассказ следующими словами:
— Выполнить намерение твоего брата, дорогая Вормиздухт, то есть уничтожить армянскую веру и государство, взялся Меружан Арцруни, а твой брат обещал в качестве высокой награды выдать тебя за него замуж.
— Не бывать этому никогда! — вскричала царевна, и ее прекрасные глаза вспыхнули огнем гнева. — Я не буду женою такого злодея!
— Но почему же, милая Вормиздухт? Если Меружану удастся уничтожить армянское государство и стать царем Армении, ты будешь армянской царицей.
Царевна засмеялась.
— Вместо тебя? — спросила она, продолжая смеяться. — Я должна похитить твою корону? Да! Это будет хорошая расплата за ту доброту, с какою ты отнеслась ко мне! К тому же армяне не таковы, чтобы легко уступить нам короны своего царя и царицы!..
Прятавшийся в передней дьявол приник ухом к двери.
Царица спросила:
— Но ведь ты сказала, что в том случае, если бы борьба шла из-за тебя, ты бы сама бросилась в объятия врага. Теперь вот ты знаешь, что Меружан осадил эту крепость из-за тебя.
— Да, я бросилась бы во вражеские объятия, если бы еще не была пролита кровь и я была уверена, что все кончится на мне. Но теперь уже поздно. Тяжелые события произошли, и мы находимся на груде трупов…
Царица снова обняла ее и прижала к своей груди. Она расспрашивала не потому, что хотела убедить царевну исполнить горячее желание Меружана, она желала лучше узнать прекрасные качества ее души, доставлявшие ей такую отраду.
— Если таково желание Меружана, — продолжала царевна, — то он мне ненавистен. Пусть будут свидетелями все добрые и злые боги, что я его возненавижу навеки! Мне все равно, обещал мой брат выдать меня замуж за Меружана или нет. Я убью себя, но не стану женой такого негодяя.
— Почему?
— Если бы он был хорошим человеком, то не сделал бы так много плохого своей родине, своему царю и тебе, дорогая матушка.
— Но ведь он любит тебя и все это совершил ради любви к тебе. Он желает, чтобы ты стала царицей Армении, а он армянским царем.
При этих словах царевну покинуло спокойствие. Она вскочила, бросилась на шею царице и разгоряченными губами стала целовать ее.
— Ты мне скажи лучше, дорогая матушка, где Мушег? Куда он направился? Ах, как он хорош!.. Как благороден, как добр… Когда он меня вез сюда, по пути мне так хотелось с ним поговорить… Но он не заговорил со мной ни разу.
Она спрашивала о спарапете.
— Скажи, дорогая матушка, куда он уехал?
— Он уехал в Византию, — ответила царица, с трудом высвободившись из горячих объятий Вормиздухт.
— Скоро вернется?
— Жду его с минуты на минуту.
— Ах, как я буду рада хотя бы один раз его видеть!
В юной душе царевны тлела искра, которая вдруг стала разгораться. Царица поняла это и улыбаясь спросила:
— Ты, должно быть, любишь его, Вормиздухт? Скажи по правде, любишь?
— Не скрою, любила… и теперь люблю… Я хотела бы быть его женой… Ах, как я была бы счастлива! Когда он так великодушно возвратил гарем моего брата в Тизбон, я поняла, что среди всех мужчин мира нет ему равного. И именно тогда мое сердце полюбило его.
Притаившийся в передней дьявол, услышав последние слова, сделал какое-то неуловимое движение, но все же остался на своем месте и сквозь дверную щелку продолжал наблюдать за собеседницами. Царевна спросила:
— Зачем спарапет поехал в Византию?
— Чтобы привезти моего сына…
— Значит, он приедет с твоим сыном и освободит нас от осады злого Меружана?
— Я очень надеюсь на это…
На радостях царевна наполнила золотые кубки вином; один предложила царице, а другой немедленно осушила сама. Действие вина и вспыхнувшая страсть привели ее в состояние крайнего возбуждения; она непрерывно повторяла одно и то же: свои мечты о том, как она по прибытии спарапета скажет ему о своей любви и как они вместе накажут «злого Меружана». Царица слушала и добродушно улыбалась.
Исключительно возбужденное состояние девушки настолько повлияло на царицу, что она не заметила, как прошла большая часть ночи. Но увлечение Вормиздухт стало ослабевать, подобно звукам постепенно затихающего музыкального инструмента. Сонливое состояние овладело ею. От винных паров нежная влага заволокла ее большие глаза, и красивое лицо ее стало еще привлекательнее. Прекрасная головка уже покачивалась, и последние слова девушки были отрывисты и большей частью непонятны. Царица повела ее за руку в свою опочивальню и уложила в постель. Долго она сидела у изголовья Вормиздухт, пока царевна не уснула. По временам ее красные, как коралл, губы произносили: «Ах, как он благороден!.. Ах, как я его люблю!»
После того как девушка заснула, царица вернулась в трапезную палату. В эту ночь, как часто с нею бывало и раньше, ей не спалось. Она тихо прошлась несколько раз по залу, подошла к открытому окну и остановилась, вглядываясь в густой мрак ночи. Все спало, точно в мертвом оцепенении, и лишь на небе замечались признаки жизни. Ее пристальный взор обратился к миллионам серебристых пятнышек. Что она хотела найти там, она сама не знала. Но все же смотрела. Вот по своду изогнутой полосой мелькнул сверкающий свет. Скатилась звезда — чья-то жизнь угасла…
Она отошла от окна и опустилась на сидение. Тусклый свет светильника падал на ее прекрасное лицо, которое выражало глубокую грусть. Как изменилось это озабоченное лицо! Как оно побледнело! От прежнего надменного выражения и неумолимой строгости не осталось и следа. Кроткая покорность судьбе светилась в ее скорбном взгляде. Казалось, она уже примирилась с тяжелыми обстоятельствами, казалось, уже привыкла к невзгодам своей жизни. Какие только мучения не пришлось перенести ей за последние дни, свидетельницей каких только бедствий не пришлось ей быть! Другая на ее месте давно бы уже отчаялась. Но она все еще сохраняла твердость духа, подкрепленную той горячей верой, которую она питала в безграничную милость провидения.
Она сидела в полном одиночестве. Печальные мысли ее устремлялись то на восток, то на запад. Там, на востоке, в темном подвале крепости Ануш был заключен ее царственный супруг. А на западе, в отравляющей атмосфере изнеженности византийского двора, содержался ее сын, наследник престола. Оба — на чужбине, оба — в беде. А сама? Сама она тоже в заключении в своей неприступной крепости, ставшей теперь для нее могилой.
Она ждала сына. Но тот все не приезжал. Давно уже она не имела вестей из Византии. Что там? Почему запоздал сын? Она ничего не знала. Неужели враг окружил их такой неразрывной цепью, что никто не может проникнуть в крепость с вестью. Что делают ее нахарары? Почему не пришли на помощь, чтобы изгнать врага, разорвать страшное кольцо осады? Должно быть, они думают, что в крепости еще достаточно воинов и что она может защищаться без внешней помощи. Должно быть, они не знают, какие несчастные события произошли здесь.
И правда: они этого не знали.
Охваченная такими размышлениями, царица поднялась и стала ходить по палате. Это была первая ночь, когда она почувствовала, как пустота обезлюдевшего дворца, точно широко раскрытая пасть чудовища, угрожает ее поглотить. С ужасом смотрела она вокруг себя, не смея поднять головы. Ей казалось, что тени тысяч людей, валявшихся мертвыми на улицах, блуждали вокруг нее, копошились, бормотали и осыпали ее страшными проклятиями. В ужасе она закрыла глаза и, точно отяжелев, опустилась в кресло. Долго ее мучили и терзали сомнения, на душе было неспокойно. И чем больше вспоминала она о предостережениях своего умного и дальновидного спарапета перед его отъездом в Византию, тем сильнее чувствовала угрызения совести, как тяжкий преступник, ставший из-за своего упрямства виновником неисчислимых жертв.
Она закрыла обеими руками лицо: горячие слезы струились по щекам, огонь позднего раскаяния сжигал ее сердце.
В это время бесшумно раскрылась дверь и прятавшийся в передней дьявол вошел в комнату. Окинув угрожающим взглядом страдающую женщину, он проскользнул в один из углов и спрятался там в тени. Оттуда он глядел, и его темные губы шевелились от затаенной радости. Вот в каком виде он застал эту гордую, высокомерную женщину, никогда не знавшую ни заботы, ни слез. Вот в каком состоянии он видит эту знатнейшую по происхождению тщеславную царицу, привыкшую держать в повиновении не только нахараров Армении, но и своего царственного супруга. Теперь она в пустоте своего роскошного дворца, в горе и страданиях, покинута всеми, растеряна и беззащитна.
— Так долго не может продолжаться, — произнесла она, поднимая голову и вытирая мокрые от слез глаза. — Рано или поздно враг узнает, что моя крепость пуста. Тогда свирепость Меружана не будет иметь границ. Я не боюсь мучений… Я не страшусь смерти… Но вместе со мной умрет большое дело, ради которого я так много потрудилась.
Голос ее ослабел; она склонила голову и, закрыв лицо руками, оставалась так в течение нескольких минут, охваченная волнением. Укрывшийся в углу дьявол все еще продолжал стоять неподвижно, кидая на нее мстительные взоры.
— Когда царь Шапух обманом заманил моего мужа в Тизбон и оказывал ему почести как гостю, вслед за тем он пригласил и меня. Но я, догадавшись о злом намерении вероломного перса, отказалась и не поехала. Я подумала, что если он задержит моего супруга в Тизбоне, то по крайней мере, я останусь в Армении и буду защищать потерявшую царя страну. Меня не обманули предчувствия. Он похоронил моего супруга в дебрях Хужистана и, чтобы захватить меня, послал Меружана Арцруни. Бог помог мне, я храбро воевала с врагом. А теперь? Меня в оковах повезут к Шапуху, и негодный перс изольет на меня весь яд своей мести.
Она снова умолкла. Неутешная печаль снова охватила ее.
— Не об этом я беспокоюсь… Пусть я погибну, пусть обращусь в ничто, лишь бы сохранилась Армения! — воскликнула она с рыданием в голосе. — Но я предвижу неминуемую гибель родины. Перед моими глазами ее печальная будущность… Ах, если бы какая-нибудь помощь, если бы поскорее подоспел мой сын!..
— Не надейся на это! — раздался вдруг из мрака голос притаившегося дьявола.
Царица, охваченная ужасом, приподняла голову и посмотрела вокруг. Неожиданный возглас вызвал в ней сильное волнение, — зловещий голос, как гром с неба. Долго ее растерянный взгляд блуждал по комнате, ничего не видя. Она попыталась позвать служанок, но голос ей не повиновался.
— Кто это? Кто здесь? — трудом произнесла она наконец.
Ночной посетитель вышел из своей засады и молча стал перед нею. Царица взглянула на него и задрожала всем телом. Ей казалось, что это сон или один из дьяволов предстал перед ней в образе этогочеловека. Но страх тотчас же сменился гневом, когда она узнала его.
— Это ты, Дхак? — спросила она.
— Да! Я, государыня, — ответил тот, приближаясь к ней.
— Откуда пришел? Зачем?
— Все потайные ходы крепости мне известны, государыня, — ответил посетитель невозмутимо. — Я отвечу тебе, зачем я здесь, только вооружись терпением.
— Удались отсюда! Я всегда ненавидела тебя и всегда твое гнусное лицо внушало мне отвращение, а сейчас еще более, чем когда-нибудь.
Посетитель пренебрежительно засмеялся.
— Удались, говорю тебе, а не то…
Царица гневным взором посмотрела вокруг.
— Кого ищешь, государыня? Быть может, своих телохранителей? Или хочешь призвать своих кровопийц-палачей?.. Их нет больше, я видел их трупы… А обе твои служанки спят в соседней комнате.
— Негодяй, ты пришел издеваться надо мной!
— Нет, государыня, меня бог послал к тебе…
— Удались, говорю тебе!
— Не волнуйся, государыня, я сейчас удалюсь.
Его хладнокровие было оскорбительнее его наглости.
Человек этот был Хайр Мардпет, важный сановник царя Аршака, соединявший в своем лице несколько высоких должностей. Как евнух, он был начальником царского гарема. Как попечитель — он именовался «отцом» царя, как бы опекая его, руководил делами его и волей и вместе с тем был правителем царского двора. Весь дворец со всеми придворными находился под его наблюдением. Как представитель высшей знати — он был владельцем и князем богатого нахарарства Мардпетакан. В качестве военного он имел в своем распоряжении пограничные войска Атрпатакана. Словом, он являлся одним из самых могущественных и влиятельнейших лиц в государстве. Его боялись не только армянские нахарары, но даже и сам царь, на которого он оказывал давление. Его власть была наследственной. Хайр Мардпет происходил из рода нахараров Мардпетакан.
Царь Аршак стремился ограничить его права и тем возбудил его ненависть не только против себя, но и вообще против всего рода Аршакидов. Долгое время он скрывал эту ненависть, ожидая удобного случая, чтобы проявить ее. Он считал, что теперь это время настало.
Предшественник Мардпет был убит за свою дерзость отцом Меружана, Шаваспом Арцруни. Сам же Хайр Мардпет, ради того, чтобы утолить свою ненависть к царю Аршаку, сделался союзником Меружана и любимцем царя Шапуха.
Вот этот изменник и стоял теперь перед супругой царя Аршака, царицею Парандзем. Его страшное лицо при тусклом освещении светильника выглядело еще ужаснее. Еще в детстве оспа изуродовала его огромный нос и темные, губы, оставив на лице глубокие следы, похожие на шероховатость пемзы.
Охваченная волнением, царица сидела в кресле и, поникнув головой, в раздумье молчала. Неожиданное появление этого человека ясно говорило о том, что он пришел не с добрыми вестями. А страшное лицо Мардпета, вначале выражавшее лишь жестокую насмешку и презрение, принимало все более свирепое выражение по мере того, как говорила царица. Стараясь сдержать свой гнев, он раскрыл толстые темные губы и произнес следующие слова:
— Хайр Мардпет намерен сообщить важное известие. Не соблаговолит ли царица Армении на время расстаться со своими мечтами и выслушать его?
Царица подняла голову и опять с глубоким отвращением сказала:
— Я была бы тебе очень признательна, Хайр Мардпет, если бы ты оставил меня в покое! Ты уже достиг своей цели, воровски пробравшись в мою крепость и выведав все, что тебе надо было выведать. Теперь ступай, предавай меня. Я готова…
— Оставить тебя в покое? Ты все еще ждешь покоя? Покой отныне не для тебя, государыня! Нечего сказать, приятный покой — отдыхать на трупах тысяч одураченных людей, вошедших в крепость вместе с тобой. И ты со своими двумя служанками ищешь здесь покоя?.. Знаешь ли ты, государыня, что делается вокруг?
— Знаю, — ответила взволнованная царица.
— Ты не все знаешь. Послушай, какие интересные новости я сообщу тебе. Меружан творит чудеса. Ты отняла у него любимую им Вормиздухт, а он отнял у тебя — сосчитай-ка — сколько душ? Он вступил в город Ван и разрушил его. Взял в плен семнадцать тысяч армян и пять тысяч евреев…
— Не пощадил даже своих собственных горожан? — прервала царица.
— Да, не пощадил за ту обиду, которую ему нанесли его горожане во время нападения Гарегина Рштуни. Но это еще не все, государыня. Из Вана Меружан отправился в город Заришат области Алиовит, взял в плен десять тысяч армян и четырнадцать тысяч евреев. Оттуда он пошел на город Зарехаван области Багреванд, взял в плен пять тысяч армян и восемь тысяч евреев. Оттуда пошел на город Ервандашат области Аршаруник, взял в плен двадцать тысяч армян и тридцать тысяч евреев. Затем направился в город Вагаршапат области Айрарат, взял в плен девятнадцать тысяч армян, перебил взрослых и пощадил лишь женщин и детей. Оттуда пошел на город Арташат, взял в плен сорок тысяч армян и девять тысяч евреев. Затем направился к городу Нахчеван области Гохтан, взял в плен две тысячи армян и шестнадцать тысяч евреев. Видишь, государыня, всех их он пленил взамен одного человека — Вормиздухт.
— Что же он с ними сделал? — в ужасе спросила царица.
— Часть из них Меружан держит на правом берегу Аракса против Арташата, а большую часть — возле Нахчевана. Он ждет лишь тебя, государыня, чтобы отправить вместе с твоим народом в глубь Персии. Он скоро явится и пригласит тебя в путь.
— И это радует тебя, наглец? Этим ты отвечаешь на все те милости, которыми мой царственный муж осыпал тебя? Благодаря ему ты поднялся из неизвестности и дошел до самых высоких должностей. Неблагодарный! В самый тяжелый, тревожный момент для родины, вместо того, чтобы защищать ее, ты протянул свою изменническую руку врагу. Тебе было поручено имущество царя, его семья, и ты, если бы имел хоть каплю честности, должен был положить свою жизнь за них, а ты радуешься несчастью, постигшему царский дом. Этого мало! Ты осмеливаешься своими гадкими устами поносить меня и твоих благодетелей Аршакидов! Да! Их следует порицать за то, что они удостоили таких высоких должностей столь подлое и низкое существо, как ты!
— Эти должности достались мне по праву, государыня. Это наследственная привилегия моих предков, — холодно ответил Мардпет. — Кто бы посмел уничтожить княжество Мардпетакан?
— Мой царственный супруг.
— Да, он стремился к этому… Он хотел уничтожить все нахарарство, но уничтожил только самого себя. Однако оставим это! Я не скрываю, государыня, своей ненависти ко всем Аршакидам и своей радости, что ты наконец будешь наказана. Все эти бедствия — результат твоего упорства. Если бы ты, когда царь Шапух приглашал тебя в Персию, приняла его приглашение, если бы ты, когда Шапух осадил крепость, сдала ее без боя, не произошло бы всех этих бед. Тебя увезли бы в Персию и заключили вместе с твоим царственным супругом в крепость Ануш, и на этом все кончилось бы.
— И ты воображаешь, что династия Аршакидов прекратилась бы! — воскликнула царица в глубоком волнении.
— Да, государыня! Она должна прекратиться. Чаша терпения переполнилась, и наступил час возмездия…
При этих словах Хайр Мардпета глаза царицы зажглись огнем ненависти; она бросила угрожающий взгляд на изменника и ответила со строгостью в голосе:
— Пусть это не радует тебя, негодяй! Пусть не торжествуют и твои гнусные единомышленники! Если Меружан превратил в развалины мои города и увел в плен жителей, то от этого Армения еще не опустеет! Если он возьмет меня в плен и заключит в крепость Ануш вместе с моим супругом, то от этого династия Аршакидов не прекратится! Я готова. Я знаю, что ты, уйдя отсюда, сообщишь, как предатель, персам, что крепость безлюдна. Иди, сообщай! Пусть явятся и захватят меня! Я не боюсь ни смерти, ни заключения. Но прибудет наследник престола Армении — мой сын, да, он приедет из Византии и отомстит злодеям и за отца и за мать.
На холодном лице Мардпета появилась саркастическая улыбка.
— Не утешай себя этой надеждой, государыня, — сказал он, иронически покачивая головой. — В тебе говорит огненная кровь сюнийки и безудержное высокомерие Мамиконянов. Послушай, государыня! Тяжкие грехи, обременяющие твою душу и душу твоего царственного супруга, никогда не допустят, чтобы Армения была спасена вами и чтобы трон Аршакидов снова был восстановлен. Повторяю, чаша справедливой мести переполнилась, и наступил час возмездия. Бог требует от вас ответа за пролитую кровь принесенных в жертву людей. Я не чужой, мне известны все преступления, которые совершались в вашем дворце. Я видел и молчал, потому что боялся твоего супруга. Ты сама, государыня, только с помощью убийства получила титул царицы. Как сейчас, стоит перед моими глазами несчастная Олимпиада, которую ты велела умертвить. Ее смертью ты заплатила за царский венец. А сколько таких же несчастных принесены в жертву твоим страстям и твоему тщеславию? Ты скрылась в этой крепости в надежде, что крепость спасет тебя. Но видишь, тебя постигла божья кара. То, чего не мог уничтожить меч врага — множество людей, что так храбро сопротивлялись врагу, — оказались уничтоженными по воле бога чумой и голодом. Да и должна ли эта крепость быть тебе оплотом? Вспомни, кому она принадлежала! Каждый ее камень обагрен кровью несчастных Камсараканов, которых повелел перебить твой супруг и родовое имущество которых он незаконно захватил. Души их вопиют перед богом, требуя справедливости и возмездия!
И он стал подробно перечислять все прегрешения ее и царя Аршака, сказав под конец:
— Вот они, все доблестные подвиги Аршакидов. Этот нечестивый дом должен быть разрушен, и только тогда Армения обретет спокойствие.
— Под игом персов?..
— Да! Под игом персов, которое все же легче, чем невыносимый деспотизм Аршакидов.
— Вон, злодей! — закричала царица, вскакивая с сидения. — Если царь и царица проливают кровь, то это не преступление, они, как и боги, имеют на это право. Они это делают ради блага людей. Изымают дурных, чтобы спасти хороших…
Ее громкое и грозное восклицание разбудило служанок. Шушаник и Асмик, как два гневных ангела, вбежали в комнату и, направив на дерзкого посетители свои стрелы, закричали:
— Позволь нам, царица, убить этого негодяя!
Хайр Мардпет улыбнулся, посмотрел на юных девушек и покинул зал.
Едва забрезжило утро, едва весело защебетали птицы, как воздух огласился иными звуками — дикими, грозными. То были оглушающие звуки труб и барабанов у самых стен крепости.
Заслышав их, царица сразу поднялась с места.
После ухода Хайр Мардпета она всю ночь не сомкнула глаз. В печальном раздумье сидела она и ждала. И вот наступила роковая минута.
Но царица была уже готова ко всему. Ее сердце было умиротворено, совесть спокойна. Она боролась за опасение страны в меру своих сил. Остальное она возлагали на волю провидения. Медленными шагами направилась она в угол комнаты и опустилась на колени. Подняв к небу полные слез глаза, скрестив руки, она надолго забылась в молитве. Она молилась, как осужденный в последние минуты своей жизни. Ей хотелось поговорить с богом и излить перед ним все свои желания и мольбы.
Молитва успокоила и утешила ее взволнованное сердце. Она вытерла слезы и поднялась с колен. В последний раз грустным взором окинула она свой пышный чертог, любимые предметы, которые скоро должны были стать добычей персидских воинов.
Затем она прошла в опочивальню, где спала царевна Вормиздухт. Подошла к постели. Ей было жаль нарушить сладкий сон прелестной девушки. Стоя неподвижно, она молча смотрела на нее. Вспоминала ее ночной разговор и радовалась. В комнате было жарко, и царевна разметалась, откинув легкое одеяло в сторону. Ее пышная грудь обнажилась, завитки изящных кудрей рассыпались по прекрасному лицу. Царица наклонилась и поцеловала раскрасневшееся личико. Девушка не проснулась. Стоя, долго продолжала царица разглядывать девушку. Но какое-то смятенное чувство вдруг всколыхнуло ее успокоившееся было сердце. Ее большие глаза вспыхнули и по спокойному лицу пробежала судорога. Дрожащей рукой она прикоснулась к своему пылающему лбу и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Так оставалась она несколько минут. Ее злоба постепенно разгоралась, ее смятенное сердце билось все мятежнее. «Она не должна принадлежать этому злодею!»— прошептала она, приближаясь к постели. И снова с ужасом отвернулась, прислонившись к стене.
«Нет! Нет!.. — подумала она после долгих колебаний, — этой кровью я не обагрю своих рук. Правда, я поклялась, что Меружан, переступив порог моей крепости, увидит повешенный труп любимой девушки. Но чем виновато это невинное существо? Пусть она живет и пусть мучает Меружана. Нет наказания более жестокого и тяжкого, чем отвергнутая любовь. Пусть Меружан, совершивший ради этой девушки столько преступлений, вдруг убедится, что Вормиздухт его ненавидит и отказывает ему в любви. Она мне это обещала, и я убеждена, что она исполнит свое обещание».
Она разбудила царевну.
— Я знаю, почему ты так рано разбудила меня, дорогая матушка, — весело сказала Вормиздухт. — Мы ночью условились с тобою, что сегодня отправимся на охоту вместо Шушаник и Асмик.
Она не забыла ночного разговора.
— Нет, милая Вормиздухт, — грустно ответила царица. — Сегодня охотиться будут за нами. Охотники уже пришли и стоят у ворот. Слышишь звуки труб?
— Слышу… — смутившись ответила девушка. — Что это значит?
— Враги поняли, что крепость беззащитна! Они пришли, чтобы занять ее…
— Меружан?
— Да, Меружан!
Царевна, точно обезумев, вскочила с постели и лихорадочно стала одеваться. С непокрытой головой, с распущенными волосами она хотела бежать к воротам крепости. Но царица удержала ее.
— Куда ты?
— Проклятый Меружан пришел взять крепость Войско моего брата не посмеет ослушаться приказаний сестры. Я пойду и прикажу им…
— Что прикажешь?
— Вот ты увидишь, матушка!
Шум и движение снаружи все усиливались, беспорядочные крики оглашали воздух. Тысячи голосов кричали: «Откройте!»
— Я не открою перед ними ворот моей крепости, — сказала царица с презрением. — Они не достойны такой чести, пусть ломают.
Она все держала царевну за руку, не позволяя ей уйти.
— Напрасны твои старания, дорогая Вормиздухт, — сказала она, обнимая ее. — Положись на волю божью, — будь что будет!
Шум разбудил Шушаник и Асмик. Они с воплями бросались из стороны в сторону, не зная еще, что случилось.
В ту минуту, когда взошло солнце и лучи его ярко осветили окрестности, тяжелые ворота крепости рухнули, разъяренная толпа ворвалась в крепость. Персы с дикими криками устремились прямо к царскому дворцу. Впереди гордо ехал Меружан Арцруни, рядом с ним один из персидских полководцев.
В этот момент царица и Вормиздухт прошли в большой парадный зал дворца.
— Дай я поцелую тебя, дорогая Вормиздухт, — сказала царица грустно. — Настал час, когда немилосердной судьбе угодно нас разлучить…
Царевна упала в ее объятия и воскликнула:
— Нет, мы не расстанемся, я пойду за тобой всюду, куда тебя поведут!
Многочисленные помещения дворца наполнились воинами. Искали царицу и царевну. Дворец сотрясался от разноголосых криков. В залу, где находилась царица и Вормиздухт, вбежали Шушаник и Асмик с выражением ужаса на лицах.
— Пойди, Асмик, скажи им — ты ведь самая смелая, — что мы здесь, — приказала царица.
— Ни за что, царица!.. — с плачем отказалась служанка.
— Ну, тогда ты, Шушаник!
— И я не предам свою государыню! — рыдая, ответила девушка. Обе служанки обняли ноги любимой царицы, целовали, ласкали ее и со стоном причитали: «Ах, тебя уведут! Ах, нас разлучат с тобою!..»
Царица удалила их, когда в соседней комнате раздались тяжелые шаги. Она спокойно поднялась на свой пышный трон и усадила возле себя царевну.
В залу вошли Меружан Арцруни, персидский полководец и толпа телохранителей. На довольном лине Меружана сияла радость.
Он вышел вперед и, положив свой меч к ногам царевны, произнес следующие слова:
— Все это совершилось ради твоего освобождения, из-за любви к тебе, прекрасная Вормиздухт. Армянская царица держала тебя в плену. Чтобы освободить тебя, я взял ее крепость и уничтожил ее огромное войско. Надеюсь, ты почтишь этот меч: он не щадил себя ради твоей чести и твоей жизни.
Прекрасные глаза царевны вспыхнули пламенем гнева. Она ничего не ответила и даже не удостоила Меружана взглядом. Отбросив меч ногой, она обратилась к персидскому полководцу.
— Как твое имя?
— Аланаозан, раб твой, — ответил тот кланяясь.
— О, Аланаозан! Повелеваю тебе именем брата моего царя царей, удали отсюда этого человека, — она с чувством отвращения указала на Меружана Арцруни, — он не смеет видеть моего лица. Прикажи приготовить нам носилки: армянская царица и я, мы вместе отправимся в Тизбон к моему брату.
Полководец в знак покорности дважды поклонился и ответил:
— Приказание всеславной царевны Персии будет исполнено как выражение ее воли.
Меружану показалось, что дворец обрушился ему на голову и он лежит, погребенный под его обломками.
Он был так поражен, что утратил все свое величие и не нашелся даже, что ответить, когда персидский полководец, его подчиненный, взял его за руку и вывел из зала.
Царица взглянула на Меружана. Ей стало жаль его.
На следующий день царица и царевна под охраной Аланаозана направились в Персию; вместе с гонимой из отчизны госпожой ехали и ее служанки.
После этого целых девять дней и девять ночей персидские войска расхищали сокровища царя Аршака, собранные в крепости. Там же находились богатства и ее защитников, погибших от чумы и голода. Опустошив крепость, персы сожгли прекрасный Артагерс.
Книга третья

I. Утро равнины Айрарата
А в это время Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян разрушили эти города, пленили их жителей… Из всех этих гаваров, краев, ущелий и стран вывели они пленных, пригнали всех в город Нахчеван, который был средоточием их войск.
Фавстос Бузанд
Было утро, лучезарное утро равнины Айрарата.
Под первыми лучами солнца белоснежные склоны Масиса ослепительно сияли розовым блеском. Венценосной вершины Арагаца не было видно. Она была окутана белым, как снег, туманом, точно стыдливая невеста, лицо которой скрыто под непроницаемым покрывалом. Зеленеющая равнина, покрытая жемчужинами утренней росы, переливалась нежнейшими цветами радуги. Дул легкий зефир, цветы улыбались, зеленая мурава шевелилась волнами.
Прекрасно было это утро.
Птицы весело перепархивали с куста на куст. Пестрые, как цветы, бабочки мелькали в воздухе. Белый аист, вытянув красные голени, размахивая широкими крыльями, спешил к болотам Аракса. Ручные олени, дикая газель и серна вышли из лесов царя Хосрова и свободно резвились, на лужайках.
Не было видно лишь человека.
Каждое утро звуки серебряных труб, лай борзых, ржанье горделивых коней нарушали утренний покой зверей в их логовищах. Лютый вепрь в ужасе бросался в темные заросли камыша, а мохнатый медведь искал убежище в лесу. Но в это утро отсутствовали те, чьи охотничьи забавы придавали богатой дичью равнине особое оживление, — отсутствовали охотники, сыновья нахараров.
Ежедневно на рассвете птицы начинали свою утреннюю мелодию, и с ними вместе пел свою песню трудолюбивый земледелец. Сверкала коса, кипела работа, и золотая жатва, щедрая плодами, вознаграждала труд изможденного шинакана. Но в это утро не было жнеца, не было и землепашца. Созревшая нива оставалась неубранной, и неутомимая соха валялась без пользы у еще не пройденной борозды.
Каждое утро с первым звуком церковного клепала просыпался пастух. Сладостное блеяние овец, звонкая перекличка молодых бычков оживляли покрытые густой травой луга. Но в это утро, не было ни пастухов, ни стад. Рассеянные по горам и долинам ягнята бродили и, будто потерявшие пастыря сироты, казалось, сами искали пастуха.
Каждое утро, когда всходило дневное светило, оно своими первыми лучами приветствовало труд крестьянских девушек. В красных, желтых, голубых платьях, точно красные, желтые и голубые цветы, они пестрели в садах, огородах и на полях. Пели и работали. Их песне вторил соловей. Но в это утро сады были беспризорны: они потеряли своих неустанных работников.
Солнце поднималось, и чем выше оно всходило, тем все сильнее обширная Араратская равнина, как грандиозная кадильница, распространяла благоухание раннего утра. Долина дымилась, испаряя влагу, — украшенная росою зелень возвращала небу полученные от него жемчужины.
Дымились густо разбросанные по равнине деревни. Но этот дым не походил на тот мирный голубоватый дымок, что каждое утро змеевидными столбиками вился из куполообразных отверстий деревенских лачуг. Этот дым, подобно черному туману, окутывал деревни, и временами из его темной гущи сверкали огненные языки.
Дымились и великолепные города: чадил Двин, Арташат, дымился Вагаршапат и монастырь Эчмиадзин. Непроницаемый дым затмевал светозарную прелесть Араратской равнины. Всюду царила печальная, бездонная пустота. Пусты были города, пусты были села, опустели и дороги. Казалось, дыхание смерти пронеслось по этой чудесной равнине и уничтожило всех людей.
Но вот по дороге к Арташату поднялась пыль. Ехал конный отряд. Богатая сбруя коней и богатое вооружение всадников говорили о том, что эти люди не простые путники. Впереди ехал молодой стройный воин, за ним — остальные.
Вот они достигли полуразрушенных стен города Арташата. Здесь молодой всадник остановился; печальным взором окинул он разрушенный и все еще дымившийся город и, повернув в сторону, направился по дороге к Таперскому мосту. Он ехал из очень далеких мест. Много таких сгоревших, опустошенных городов встречал он на своем пути. Это и было причиной того, то его нежное сердце точно окаменело, его горячие чувства как будто остыли и в его грустных глазах не осталось даже слез, чтобы пролить их над несчастным Арташатом.
Таперский мост был единственной переправой со стороны Арташата на правый берег Аракса. Всадник доехал до моста, но не переехал через него. Он кого-то ждал и в молчаливом раздумье смотрел на реку.
Солнце все еще сияло, цветы пестрели, птицы продолжали петь утренние песни. Среди общего спокойствия природы взволнован был только Аракс. Словно скорбная мать, потерявшая своих детей, бурлила мутная река, ревела, стонала, заливая зеленые берега. Как страшное чудовище, с пеной у рта, мчалась разъяренная река вперед и точно стремилась сожрать, поглотить того злодея, чья безжалостная рука выжгла и превратила в пустыню великолепные города и селения, украшавшие ее чудесные берега. Гигантский мост еле сдерживал ее ярость, сжимая волны своими многочисленными сводами.
По ту сторону моста на правом берегу Аракса, на ровной зеленой поверхности луга, раскинулось множество палаток. Вокруг них паслись косяки лошадей, мулов, стада слонов и верблюдов. Роскошная трава служила обильным кормом для этих животных. Там был расположен огромный стан. Молодой человек глядел в сторону его.
На противоположном конце моста показался воин, бежавший с длинным копьем в руке прямо к группе прибывших с молодым человеком всадников.
— Наконец-то ты, Малхас! — воскликнул молодой всадник, обращаясь к воину. — Скажи, какие новости?
— В стане нет ни князя Мамиконяна, ни Меружана Арцруни, — ответил Малхас.
— Так где же они? — спросил молодой человек. На его грустном лице показались признаки нетерпения.
— В главном персидском стане, расположившемся возле Нахчевана.
— А это чей лагерь?
— Здесь собраны пленные из Двина и Арташата.
— Кто начальник этого стана?
— Персидский полководец Зик.
Молодой всадник был Самвел; он разыскивал своего отца и Меружана Арцруни.
— Следуй за мной, — приказал он Малхасу и повернул коня к нахчеванской дороге. За ним последовал его отряд.
Самвел искал отца и дядю. Искал так, как колеблющийся в нерешительности человек, устав от жизни ищет яд и утешается, когда его не находит.
Такую нерешительность испытывал Самвел с того дня, когда он оставил мать, выехал из Вогаканского замка и направился в стан отца. С того дня минуло много месяцев, прошел год и даже больше. Сколько печальных событий, сколько несчастий произошло с тех пор! А он бесплодно потратил это драгоценное время, не принимая участия в сражениях, не разделяя славы товарищей. Мысль об этом еще больше удручала его чувствительное сердце.
Но все же это время не пропало для него даром. Он вел войну внутреннюю, нравственную войну с самим собой. И это было гораздо страшнее, чем война с оружием в руках. Он воевал со своей совестью и с собственным сердцем. Он наносил и получал раны. И, наконец, молодое сердце не выдержало всей этой борьбы: тяжелая болезнь уложила Самвела в постель. После событий при взятии Вана, увидя мученическую смерть несчастной Амазаспуи, он тяжело заболел; его в бесчувственном состоянии отвезли в Андзевацикский монастырь, который ютился в неприступных горах вдали от шума войны. Там его лечили монахи. С ним не расстались его верные слуги, которые всячески заботились о том, чтобы восстановить здоровье молодого князя. И все же несколько раз он был на пороге смерти. В монастыре он жил в полном неведении; окружающие всячески старались скрыть от него все, что творилось тогда в Армении. Но больной во время горячечного бреда постоянно говорил об Армении и расспрашивал о ней.
Ни отец, ни мать не имели о нем сведений и очень беспокоились. Беспокоились о нем и друзья. Некоторые думали, что он погиб. При таких тяжелых обстоятельствах можно себе представить печаль княжны Рштуникской — Ашхен, всей душой, всем сердцем преданной своему, возлюбленному. Она разослала во все концы страны людей на поиски Самвела.
Но судьба пощадила больного, пощадила ради большого дела, которое в будущем должно было послужить примером для других. Как только больной немного окреп, он немедленно оставил монастырь и снова пустился в путь. Он уже знал обо всем. Ему успели рассказать, что случилось в его отсутствие и в каком положении были дела. Собрав сведения, он составил твердый план действий. Не теряя времени, прежде всего заехал в Хадамакерт, в вотчину князей Арцруни, и переговорил там с княгиней Васпуракана, матерью Меружана. Затем он направился к князю Гарегину в Рштуник. Оттуда — к горским жителям Мокка и Сасуна для свидания с их князьями. Какова была цель этих посещений, будет видно из дальнейшего. Он не заехал в Тарон, в область Мамиконянов, избегая встречи с матерью. Он прямо направился в Айрарат, где надеялся встретить отца и Меружана. При нем находился его дорогой дядька, старый Арбак, и родич, юный Артавазд. С ним были и верные слуги. Он проехал мимо целого ряда пепелищ, оставленных его отцом и дядей. По пути он был свидетелем всех бед и зол, совершенных этими людьми. Но при вступлении в Араратскую равнину и при виде тех разрушении, которые он там застал, страдания Самвела дошли до предела. Совершившиеся события были столь ужасны, что окончательно укрепили в нем то смутное решение, которое уже давно зародилось в его сердце. Он жалел только о том, что слишком запоздал. Теперь уже было почти невозможно исправить огромный ущерб, нанесенный стране. Это сознание повергло его в безутешное горе.
Вечернее солнце еще не зашло, когда всадники быстрым галопом доскакали до Нахчевана. Стоявший на высоком, живописном холме когда-то веселый город Гохтанской земли теперь представлял собой труду развалин. Огонь уничтожил дома, меч врага уничтожил людей. Оставшиеся в живых были взяты в плен.
У западного подножья города на широкой равнине, которая тянулась вплоть до левого берега Аракса, расположился главный стан персов. Самвел оставил безлюдный город и направился со своим отрядом прямо в стан. Из всех шатров, раскинувшихся на равнине, выделялись два больших шатра, стоявшие на возвышении друг против друга. Один из них был голубого цвета, и над ним развевалось знамя с изображением крылатого дракона, другой был пурпурового цвета с орлом на знамени. Самвел направил своего коня ко второму шатру.
Подъезжая к стану, Самвел приказал затрубить, из лагеря ответили тем же. Довольно скоро к ним подъехал один из начальников, окруженный телохранителями, и встретил прибывших.
— Я сын Вагана Мамиконяна, — сказал Самвел, — проводите меня в шатер отца.
Его провели к пурпуровому шатру. Направляясь к нему, Самвел жестоко страдал. Он проходил через тот варварский стан, который в течение нескольких недель обратил в прах самую прекрасную часть Армении. Он проходил мимо тех несчастных пленных, которые еще недавно были счастливыми сынами этой страны, бесконечно горькие минуты пережил он, пока достиг шатра отца. Как он встретится с отцом? Как посмотрит ему в лицо? Эти вопросы ужасали его больше, чем окружавшие его печальные картины.
Призвав на помощь все самообладание, он соскочил с коня и быстро вошел в шатер. Люди его остались у входа.
— Ах, Самвел, дорогой сын! — воскликнул смущенный отец и прижал его к своей груди.
Несколько минут оставались они в безмолвном объятии. Отец не верил своим глазам: так радостно поразило его неожиданное появление сына. Он то рыдал, как ребенок, то целовал его и от сильного волнения не мог вымолвить ни слова.
Он взял за руку любимого сына, повел его к роскошному сидению и усадил рядом с собой. Отец не видел сына с того дня, как отправился в Тизбон. С тех пор прошли годы. Самвел за это время возмужал, похорошел, стал настоящим мужчиной. Отец разглядывал его и не мог налюбоваться.
— Самвел!.. Дорогой Самвел!.. — все время повторял он и принимался опять обнимать его, покрывая побледневшее лицо сына поцелуями.
Самвел находился под воздействием какой-то бури страстей, и ему казалось, что его снова охватывает лихорадочная дрожь. Отец, объясняя это состояние взволнованностью, долгое время не выпускал дрожащие руки Самвела из своих ладоней, продолжая с глубоким восторгом разглядывать сына. Его душу охватило бескрайнее чувство блаженства: он был счастлив, что имеет такого красавца сына.
— Ах, если бы тебя хоть раз увидел царь Шапух! — проговорил он с искренним восхищением. — С таким благородным лицом и с такой статной фигурой ты, несомненно, был бы назначен начальником всей армянской конницы.
Эти слова были сказаны столь неожиданно, что привели Самвела в себя, и он решил объяснить отцу свои намерения так, чтобы себя не выдать.
— Я еще слишком молод для такой высокой должности, дорогой отец, — сказал он, принужденно улыбаясь.
— Ты очень скромен, Самвел, посмотри на себя со стороны, глазами своего отца, и ты увидишь, что я прав! Ты приведешь в восторг весь персидский двор, если хоть раз там появишься. Достаточно тебе выступить на конском состязании на большой площади Тизбона, чтобы царь Шапух поглядел на тебя из высоких окон своего дворца, и тогда все самые горячие мечты твоего отца осуществятся…
— Откуда ты знаешь, дорогой отец, что я силен в конном ристании?
— Мать твоя постоянно писала мне, дорогой Самвел. Писала о твоих успехах в стрельбе из лука и в военных упражнениях, писала о твоей храбрости и этим радовала тосковавшее по тебе сердце отца. Я утешался на чужбине, думая о том, что я отец достойного сына. Ах, я так увлекся, что забыл спросить, кто прибыл вместе с тобой?
Самвел назвал своих спутников. Отец распорядился, чтобы всех их разместили в подобающих шатрах.
Затем он снова обратился к сыну: стал расспрашивать о матери, о сестрах и братьях, расспрашивал, как мать готовится к приему гостей и с особым интересом старался разузнать, как смотрят в Тароне на их «дела», каково настроение жителей и т. д. Самвел отвечал на вопросы либо предположениями, либо давал неопределенные и двусмысленные ответы, которые не вполне удовлетворили Вагана Мамиконяна.
— Разве у тебя нет для меня письма от матери? — спросил он.
— Как же! — Самвел достал из-за пазухи письмо и передал его отцу.
Отец взглянул на дату и удивился.
— Это письмо написано давно, дорогой отец, — сказал Самвел и стал рассказывать ему о своих злоключениях, о том, что он тяжело болел, долго находился в Андзевацикском монастыре и т. д. Он только скрыл, что по выздоровлении ездил по разным местам и виделся с разными людьми.
— Ты поступил опрометчиво, — с горечью заметил отец. — Ты так долго пролежал больной в каком-то незначительном монастыре, не оповестив ни меня, ни мать…
— Я пытался, но мои люди не доходили до места. Знаешь, отец, какие бурные времена были. Людские головы падали, как листья с деревьев…
Самвел действительно дал знать о своей болезни, но не отцу и матери, а своим друзьям, находившимся в это время в крепости Артагерс, осажденной войсками отца и Меружана. Его люди не смогли проникнуть в крепость, и потому друзья Самвела остались в неведении относительно его судьбы. Отец был очень опечален сообщениями сына и, обняв его, воскликнул:
— Бог снова возвратил мне тебя, бесценный сын, благодарение и слава ему!
Письмо княгини, хотя и давнишнее, все же очень заинтересовало Вагана. Он немедленно стал читать его, предложив сыну умыться в соседней палатке и стряхнуть себя дорожную пыль. Толпа слуг, пышно одетых была готова к услугам. Все они родом были персы и Самвела не знали. Его отец не держал теперь слуг армян, да и ни один армянин не пожелал бы служить у него. Оставив отца одного, Самвел вошел в палатку, где были приготовлены принадлежности для умывания.
Шатер отца представлял собой подвижной дворец со всеми удобствами. Искусство того времени придало ему подобающий вид и красоту. В знак высокого знатного происхождения, снаружи он был пурпуровый, а. внутри светло-лиловый. Множество входов вели в разные отделения, которые имели форму обособленных палаток и были предназначены для разнообразных нужд. Взамен дверей висели шелковые занавеси, края которых были украшены пестрыми кистями. Занавеси висели на толстых шнурах, имевших такие же кисти из золотых ниток. Все это сооружение в духе персидской, роскоши стояло на золоченых столбах, украшенных цветными рисунками тончайшей работы. Десять мулов с трудом перевозили его в сложенном виде. Чтобы поставить такой шатер на место или, наоборот, разобрать его, требовался целый день работы. Поэтому шатер перевозился за день на следующую стоянку, чтобы возможно было собрать его к нужному времени.
Шатер был установлен на довольно высокой земляной насыпи, чтобы уберечь его от потоков воды во время дождей, довольно частых в весенний период. Из шатра виден был весь стан, раскинувшийся на очень большом пространстве, вплоть до берегов Аракса. В вечернем сумраке на другом конце стана едва выделялся шатер видного персидского полководца Карена. На куполообразной вершине его развевались персидские знамена. А против шатра князя Мамиконяна стоял голубой шатер Меружана с крылатым драконом на знамени.
Когда Самвел, умывшись и сменив одежду, вернулся к отцу, тот все еще продолжал читать полученное письмо. Чтобы не мешать, сын молча сел в стороне и стал наблюдать за отцом. Лицо у Вагана было невеселое. То было не письмо, а обширный доклад, в котором осмотрительная мать Самвела подробно сообщала мужу о состоянии «дел» в Тароне и между прочим советовала «не очень доверять Самвелу»… Этот совет жены показался князю очень странным. Ему, знатному вельможе и отцу, трудно было даже представить себе, что его сын может иметь собственную волю и собственные желания. Он все еще смотрел на Самвела как на недавнего ребенка, не замечая, что тот уже вырос и возмужал, имел свои убеждения. Свой деспотизм знатного вельможи он распространял и на сына. Поэтому в своих делах он перед сыном не чувствовал никакой ответственности. Он был убежден, что все сделанное им или то, что он намерен сделать, должно быть приятно сыну именно потому, что это исходит от отца. Ему и в голову не приходило, что сын может осудить отца. Почему же не доверять Самвелу?
Он смотрел на события с личной точки зрения. Если разрушены города и сожжены селения, если взято в плен множество жителей и кровью залиты поля и нивы родной страны, то ведь все это содеяно не ради злодеяния, но ради известных, заранее продуманных политических целей, последствия которых должны быть блестящими. И если бы отец достиг желаемых результатов, то для кого были предназначены все эти блага, как не для сына, кто должен был ими воспользоваться, как не сын? Так именно размышлял отец, таковы были суждения честолюбивого князя, и потому ему показалось весьма странным предупреждение жены, что следует «не очень доверять Самвелу». Почему не доверять? Неужели Самвел настолько еще незрел, чтобы не понять добрых намерений отца, в осуществлении которых заключалось счастье самого Самвела?
Но сын думал иначе. Славу, добытую на развалинах родины, он расценивал как измену родине. Не читая письма матери, он догадывался о его содержании. Поэтому он хорошо понял волнение отца, тщательно от него скрываемое, с которым тот закончил чтение письма. Но сыну следовало приспособиться к отцу, нужно было временно лицемерить и притворяться, как ни тяжело было ему это.
Вечерняя темнота совершенно окутала стан. В шатре князя Мамиконяна зажгли фонари. В остальных палатках лагеря тоже забрезжили огни. Настроение Самвела еще более омрачилось. Он желал бы, чтобы совсем не было света и все погрузилось в вечный мрак, потому что ему не хотелось видеть этот ненавистный стан, беспощадно терзавший его душу. Окрестности были окутаны густым мраком, и всюду, царила могильная тишина. Только ужасный стан, в ночной тиши дышал, подобно чудовищу смерти. Наступил час ужина. Стан, как неподвижный дракон, готовился к еде, чтобы с еще большей яростью творить, назавтра, свои ужасы. Воины сидели под открытым небом у костров и готовили для себя пишу. Походные же кухни военачальников благоухали приятным запахом изысканных яств.
Из спутников Самвела князь Мамиконян велел позвать к ужину лишь старика Арбака и юного Артавазда, который тоже был из рода Мамиконянов. Когда они вошли, проворный юноша весело подбежал к князю и бросился ему на шею. Старик остался стоять на ногах.
— Ты, должно быть, не ожидал, что я приеду с Самвелом? — сказал Артавазд, поглаживая плечи князя своими беспокойными руками. — Вот видишь, я приехал!
— Ты еще малым, ребенком всегда был таким смелым, дорогой Артавазд, — ответил князь, усаживая, его возле себя, — теперь же, превратившись во взрослого и красивого юношу, стал, наверное, еще смелее.
Эти слова возбудили тщеславие Артавазда и явились для него поводом спросить:
— У вас в стане найдутся персидские юноши?
— Найдутся! А зачем они понадобились тебе?
— Я приехал с ними состязаться, пусть посмотрят, насколько армянские юноши ловчее персов!
— Это ты докажешь в Тизбоне, дорогой Артавазд, в состязаниях с придворными юношами царя Шапуха.
— Ты возьмешь меня туда?
— Конечно, возьму.
Юноша развеселился.
Бойкий, жизнерадостный Артавазд настолько отвлек князя своей болтовней, что тот только теперь заметил оставшегося стоять на ногах Арбака. Князь обратился к нему:
— Садись, Арбак, почему ты стоишь?
Старик сел, бормоча что-то под нос. Он был одним из самых старых дядек в доме Мамиконянов и воспитателем не только Самвела, но и его отца.
— Как поживаешь, Арбак? — с улыбкой спросил князь. — Все изменились, а ты все такой же, каким я тебя видел несколько лет назад. Ни постарел, ни помолодел!
— Наружность всегда обманчива, князь, — ответил старик со своим обычным простодушием, — а что на душе, то известно лишь одному богу… Волосы мои, правда; не очень поседели, но в душе моей нет уже прежней силы…
— Почему же, Арбак? Что тебя так огорчает?
— Многое, князь. Мир изменился… Все перевернулось вверх дном… И человеческое сердце — тоже… Где они, старые времена?.. Ушли и никогда не возвратятся…
Князь понял скорбь старика и, чтобы не дать ему возможности излить свои чувства, немедленно прекратил разговор, тем более, что вошли слуги и стали накрывать стол к ужину.
Роскошный ужин являлся образцом расточительной персидской кухни и вызвал у всех особое внимание и приступ аппетита. Даже старик Арбак, непривычный к такого рода блюдам, ел с огромным удовольствием. В больших серебряных сосудах были всевозможные на нитки. Богато разодетые слуги подносили в золотых кубках сладкое вино, а ужинавшие молча ели и пили. Ел и скорбный Самвел.
— Как тебе, нравятся эти кушанья? — спросил отец.
— Да вот ем, — отозвался как-то безразлично Самвел, — ведь я давно не пробовал горячих блюд.
— Почему?
За Самвела ответил юный Артавазд.
— Потому, что все города и села, какие попадались нам по пути, были безлюдны, дома сожжены и все у них уничтожено. Неоткуда было достать еды.
Князь ничего не ответил. Слова юноши были ядовитее всякого упрека.
Самвел за ужином все время молчал. Он ел мало и быстро встал из-за стола. Отец часто обращался к нему, стараясь его занять, спрашивал, почему он грустен. Но получал все те же ответы: «сильно устал», «не спал много ночей», «хотел бы отдохнуть».
После ужина отец приказал приготовить для Самвела одну из своих лучших палаток.
— Мою постель пусть устроят там же, — вмешался Артавазд.
— Я не разлучу тебя с Самвелом, милый Артавазд, — успокоил его князь, обнимая юношу.
Ваган назначил было сыну особых слуг, приказав, чтобы они неотлучно были при нем. Но Самвел отказался, сославшись на то, что он привык к своим слугам, которые знают все его привычки.
— У тебя очень мало слуг, Самвел, — заметил отец. — По персидскому обычаю, ты, по меньшей мере, должен иметь сто-двести слуг, иначе тебе не подобает показываться где-либо. Завтра ты должен навестить дядю Меружана, а также некоторых из персидских полководцев. Разве можно к ним являться с такой ничтожной свитой?
— У меня было много слуг, отец, — сказал Самвел с напряженной усмешкой, — но большую часть из них я потерял в дороге. Я выехал из дому с тремястами слуг, а теперь осталось всего сорок человек.
— Я восполню это число, — сказал очень удовлетворенно отец. — Ты должен вести образ жизни, подобающий достоинству твоего отца и твоего рода.
— А я могу и в сопровождении двух слуг явитьсяк Меружану, мне много людей не надобно, — наивно вмешался в разговор юный Артавазд.
— Ты можешь отправиться и один, — улыбаясь сказал ему князь. — Ты еще молод. Вот когда подрастешь и станешь таким, как Самвел, тогда заимеешь много слуг.
Весь стан уже спал глубоким сном. Фонари погасли, и только в шатрах некоторых полководцев еще виднелись огни. Самвел встал и, пожелав отцу спокойной ночи, отправился в приготовленную для него палатку. Поцеловав руку князя, за ним последовал юный Артавазд. Для старика Арбака была приготовлена отдельная палатка рядом с палаткой Самвела. Там же расположились и остальные спутники Самвела.
Самвел немедленно разделся и лег. Мягкая постель располагала к сладкому сну, но он долго не мог заснуть. Он ворочался с боку на бок и тихо вздыхал. Рядом лежал юный Артавазд. Он тоже не спал, и тоже был неспокоен.
— Ты очень неосторожен в словах, Артавазд, — заметил ему Самвел.
— Не беспокойся, я свое дело знаю! — ответил хитрый юноша.
Самвел снова замолчал, но сон бежал от него. А в это же время мучился от бессонницы в своей постели другой человек — его отец…
II. Необычайное жертвоприношение
Затем начали (Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян) в стране Армянской разрушать церкви, молитвенные места христиан во всех местах провинций Армении и в разных странах.
Фавстос Бузанд
…И если где-либо находил (Меружан) книги, то сжигал.
Мовсес Хоренаци
Всю ночь Самвел провел в лихорадочной тревоге. Он заснул лишь на заре. Но сон его длился недолго — его рано разбудила болтовня Артавазда.
— Вставай, такое ли время, чтобы спать! — сказал тот, подшучивая как обычно. — Вчера в темноте мы ничего не разглядели. Сейчас взошло солнце и открыло чудесные картины, на которые можно заглядеться и ужаснуться…
Еще до восхода солнца он несколько раз высовывал голову из палатки и разглядывал окрестности.
Самвел открыл сонные глаза, но ничего не увидел, так как занавеси палатки были спущены. Внутри царила еще темнота. Артавазд соскочил с постели и приподнял полу занавеси. Нежные лучи солнца сразу наполнили палатку приятной теплотой.
Вскоре вошел юный Иусик, верный слуга Самвела, и стал убирать постели. Даже этот когда-то беззаботный юноша, под влиянием тяжелых событий и обстоятельств, совершенно утратил свою обычную веселость. Бывало, каждое утро, когда он являлся к своему господину, у него было припасено какое-нибудь веселое известие или остроумная шутка, которыми он разгонял грусть Самвела. В это утро он вошел унылый и искоса взглянул на Самвела, желая удостовериться, в каком настроении его дорогой господин. Затем молча взялся за свое дело. «Опять бледен… опять сердце его неспокойно…» — подумал Иусик и сам опечалился. Окончив свое дело, он молча удалился.
Вошел старик Арбак и, пожелав доброго утра, сел в стороне. Вид у него был печальнее, чем когда-либо.
Самвел уже умылся и оделся, когда старик сообщил ему, что князь Ваган несколько раз присылал людей осведомляться: проснулся ли молодой князь.
— Что ему нужно от меня в такую рань? — спросил Самвел.
— Завтракать приглашает, — добавил старик. — Они люди военные, рано встают и рано едят. Мы должны приноровиться к их обычаям.
— Хорошо, если бы нам сюда подали чего-нибудь.
— Нет, ты должен пойти к отцу, — посоветовал старик.
— Арбак правильно говорит: обычай требует, чтобы мы отправились туда, — смеясь подтвердил юный Артавазд.
Самвел ничего не ответил. В это утро он находился в мучительном волнении. Он стал молча разглядывать лагерь.
Чем выше поднималось солнце, тем отчетливее вставали под его яркими лучами страшные картины страшного стана. Глаза Самвела остановились на голубом шатре Меружана. Перед шатром возвышалось несколько невысоких холмов. Эти возвышения были сделаны не из камня, не из кирпича и не из земли, а из какого-то странного материала. Самвел долго вглядывался, но никак не мог определить, что это такое. Золотистые лучи солнца играли на темно-красных пятнах, которыми были покрыты холмы. Это была кровь, человеческая запекшаяся кровь!.. По телу Самвела пробежала леденящая дрожь, когда он вгляделся пристальнее: холмы были сложены из человеческих голов, чудовищная скученность которых вызывала ужас.
— Чьи это головы?! — воскликнул Самвел, закрывая лицо руками.
— Чьи головы?.. — повторил старик Арбак. — Головы армянских крестьян, пастухов, земледельцев. За каждую из этих голов Меружан заплатил по золотой монете персидским воинам. Те хватали несчастных крестьян на полях и отрубали им головы. Это самые драгоценные подарки Меружана, которые он собирается преподнести царю царей Персии, хвастаясь, что это головы представителей армянской знати.
И правда, несколько воинов складывали этот преступный дар в большие мешки, которыми нагружались верблюды для отправки в Тизбон.
Выслушав объяснение старика, Самвел остолбенел. Он знал о жестокости отца. Он знал и о дикости Меружана. Но он не мог даже представить себе, чтобы человеческое варварство могло дойти до таких пределов. И это варварство было совершено его дядей, союзником его отца!
— Вот кушанье, каким сегодня утром потчует нас отец! — с горечью промолвил Самвел, и его глаза зажглись глубоким волнением.
Ужасная картина подействовала и на юного Артавазда, из ясных глаз которого градом покатились слезы.
— Зачем нагромоздили эти окровавленные головы?! — воскликнул он плачущим голосом.
— Для показа, милый Артавазд… — ответил Арбак. — Меружан любит наводить ужас, и поэтому эти головы он выставил для устрашения пленных, чтобы те знали, что если они не подчинятся его приказам, то и их головы будут присоединены к этим отрезанным головам.
— Каким приказам? — гневно спросил юноша.
— Приказам отречься от христианства и принять персидскую веру.
— Злодей! — воскликнул потрясенный юноша.
Вне стана, на обширной площади, размещались «дары» — то есть те пленные, которых Меружан собирался отправить в подарок персидскому царю. Это были те самые пленные, о числе которых так издевательски сообщил Хайр Мардпет армянской царице Парандзем, когда он ночью тайно проник в крепость Артагерс. Это огромное число пленных поделили на несколько групп, соответственно их полу и возрасту. Каждая группа состояла из пятидесяти человек. Длинный канат, обвивая шеи пленников, соединял их между собою и образовывал живую цепь. Руки пленников были связаны за спиной, чтобы они не могли развязать узлы. Ни старух, ни стариков не было видно среди этой массы несчастных людей. Не было видно и маленьких детей. Безжалостный меч персов уничтожил их на месте: этот ненужный груз Меружан не пожелал взять с собой и отобрал большей частью молодых.
Пленные лежали прямо на голой земле под открытым небом. Днем они страдали от жгучего солнца, ночью дрожали от холода. Это были армяне и евреи, большая часть которых приняла христианство при Григории Просветителе. Среди пленных евреев находился знаменитый священник Звита; он добровольно последовал за своей паствой. При Тигране II евреев доставил из Иудеи в качестве пленных Барзапран Рштуни. Храбрый полководец Тиграна заселил ими пустующие армянские города и таким образом умножил население своей страны деловым и умным народом. Теперь же Меружан Арцруни, опустошая города, гнал их в Персию. Среди пленных армян было много епископов, ученых, монахов, священников и иных служителей церкви, число которых доходило до нескольких сот. Их всех соединили цепью и отделили от остальных пленников.
Князь Мамиконян опять прислал человека, приглашая сына к себе в палатку, но сын все еще продолжал смотреть на дело рук своего отца и дяди. Надо было быть исключительно хладнокровным, чтобы после этого ужасного зрелища сохранить спокойствие. Самвел не обладал таким хладнокровием. По пути сюда он видел разрушенные города и селения, еще дымившиеся в огне. И вот теперь он увидел их несчастных жителей. Пленных должны были угнать далеко, в глубь Персии. И кто? Его собственный отец и его дядя Меружан!..
Опять пришли звать Самвела. На этот раз он пошел, и вместе с ним отправились старик Арбак и юный Артавазд. Самвел старался казаться веселым, старался, насколько было возможно, выглядеть спокойным. Но напускное спокойствие ему не удавалось. Он застал отца в одиночестве; князь Ваган писал письмо, и, возможно, что это был ответ на письмо жены. Увидя сына, он отложил лист пергамента в сторону. — Ну, как чувствуешь себя сегодня? Вечером ты был очень неспокоен, — обратился он к сыну.
— Вчера я устал! — ответил Самвел и, подойдя, поцеловал руку отца.
Его примеру последовал и юный Артавазд. Арбак же, сказав «доброе утро», отошел в сторону.
Завтрак был уже подан. Князь пригласил их к столу, сам же сел, чтобы закончить письмо.
Вдали показался всадник на белом коне, величественно проезжавший по лагерю. Отряд вооруженной свиты на прекрасных конях следовал за ним. Самвел увидел его и не мог сдержать смеха. Этот смех звучал настолько ядовито, что привлек внимание отца. Он отложил письмо в сторону и с любопытством посмотрел на сына.
— Меружан немного поспешил, — произнес Самвел. — Еще не стал царем, а замашки у него уже царские…
— О чем ты говоришь? — спросил отец несколько повышенным тоном.
— Да вот… сидит на белом коне… хвост и грива выкрашены розовой краской. Ведь это право принадлежало царям из рода Аршакидов и царской родне!
Отец с удивлением слушал сына. Самвел, посмотрев еще пристальнее на Меружана, добавил:
— И красные шаровары надел!.. И красные ноговицы!.. Это все не без значения!..
Отец не знал, как объяснить замечания Самвела. Насмехается ли он, или же действительно считает тщеславие Меружана преждевременным.
— А почему это тебя так удивляет, Самвел? — сказал он твердо. — Меружана, в сущности, можно уже считать царем Армении. Как только он доставит в Тизбон эту массу пленных, царь Шапух с великой радостью возложит на него корону Аршакидов.
— Это меня совсем не удивляет, дорогой отец, — ответил Самвел презрительно. — Я убежден, что царь Шапух за такие великие услуги, обязательно даст Меружану корону Аршакидов.
— Даст!.. — вставил старый Арбак, слушавший все время с глубоким возмущением. — Даст ему корону Аршакидов… Но ведь возложить на себя эту корону не так-то легко!..
Князь косо посмотрел на простодушного старика и спросил:
— А почему же, Арбак?
— Да потому, князь, что если не сегодня-завтра вдруг появится Пап, законный наследник Аршакидов, он немедленно соберет вокруг себя разбежавшихся нахараров Армении и овладеет пустующим троном своего отца. Вот эта седая голова многое видела, князь, — приложил он руку к голове, — и я предчувствую… Да! Прибудет Пап и займет престол своего отца.
Князь пренебрежительно рассмеялся.
— Правда, голова твоя поседела, — сказал он, — но душа у тебя, Арбак, все еще ребяческая… Предположим, явится еще неопытный, молодой Пап. Положим, он соберет вокруг себя разбежавшихся нахараров. Но что они могут сделать? Ты думаешь, все это не предусмотрено? Меружан не из тех людей, которые сеют на скалах. Он знает свое дело, он обладает довольно большим умом.
Покачивая в знак несогласия головой, старик сказал:
— Пока что я не только большого, но даже малой доли этого ума в нем не вижу. Он желает быть царем Армении и вместе с тем разоряет ту страну и уничтожает население там, где хочет царствовать. Какой же это ум? Кто он — мраколюбивая сова, что ли, что собирается царствовать на развалинах? Куда он ведет этих пленных и для чего?
Старик пользовался таким большим уважением в доме Мамиконянов, что князь не рассердился на него, но счел необходимым объяснить ему подлинные причины событий и доказать, что Меружан в самом деле умеет предвидеть будущее и соответственно устраивать свои дела.
— Именно в том и сказался ум Меружана, дорогой Арбак, что он опустошил Армению, — ответил улыбаясь князь. — Когда явится Пап, то он не найдет в Армении ни одной знаменитой крепости, ни одного замка, где бы мог защищаться. Все разрушил, все уничтожил Меружан. Уцелевшие крепости находятся под охраной нашего войска. В них расположены персидские отряды. Там содержатся под стражей жены и дети тех нахараров, которые отправились в Византию просить помощи у императора. Лишь только нахарары с византийским войском подойдут к занятым нами крепостям, они немедленно увидят на башнях трупы своих жен и детей. Пусть тогда стреляют в своих родичей! Но если ты спрашиваешь, для чего взяты пленные, то знай, что Меружан взял в плен жителей только тех провинций, которые могли стать опорой для наследника престола Аршакидов. Меружан опустошил лишь Айраратскую и окружающие ее области. А ведь Айрарат — это твердое подножие престола Аршакидов. Необходимо было сокрушить это подножие, чтобы наследник престола при возвращении из Византии не нашел себе опоры и не имел бы твердого основания для престола. Видишь, дорогой Арбак, во всех этих действиях видна цель, заметен ум…
— Но ум злодея! — негодующе воскликнул Самвел.
Отец с изумлением и в то же время гневно посмотрел на него. Самвел почувствовал, что вышел за пределы осторожности. Отец тоже понял свою ошибку. Жена писала ему: «Будь осторожен с Самвелом…» А он сверх меры разоткровенничался перед сыном. С этого момента между отцом и сыном установились какие-то фальшивые отношения.
В течение всей бессонной ночи разгоряченное воображение отца было занято приятными мечтами о том, как устроить будущность дорогого сына. Он несколько раз в нетерпении выходил из своего шатра и с фонарем в руке подходил к палатке Самвела. Ему хотелось поглядеть на спящего сына, полюбоваться им. Но все же он не решался нарушить его сон. Всю ночь князь думал о сыне и радовался: какие счастливые надежды подавал этот прекрасный, одаренный молодой человек! Он обладал всем, что могло целиком удовлетворить желание отца. Всю ночь князь грезил о той блестящей будущности, которая ожидала Самвела. В нем он уже видел героя и властителя. Он станет украшением персидского двора и славой Армении. Но вдруг князя ужаснула мысль о том, что сын не разделяет его заветных желаний. Неужели то, что делает или будет делать отец, может быть не по душе сыну? Князь боялся требовать объяснений; боялся вмиг лишиться тех радостных надежд, которые теплились в его душе. Одно слово отказа могло уничтожить все. Он оказался в том тяжелом состоянии, в каком бывает человек, ожидающий известий о сыне, находящемся при смерти. Получив письмо; человек не осмеливается его вскрыть. В письме либо добрая весть о выздоровлении, либо печальное известие о смерти. А вдруг как раз случилось последнее! Точно так же князь боялся узнать, что происходит в сердце Самвела. А что, если сын сам начнет разговор? Князь избегал этого, предпочитая хотя бы временно упиваться своими сладостными надеждами.
Он любил сына, любил со всей теплотой отеческого сердца. Но любовь эта была столь же эгоистична, сколь себялюбивы были его мечты относительно Самвела. Он смотрел на него не как на свободного, самостоятельного человека, а как на удобное средство, с помощью которого он мог прославиться сам. Если бы сын достиг высших должностей, если бы он стал блистать в высших: кругах, то весь этот блеск относился бы также и к нему, как к отцу Самвела. Если во время ристания коню присуждается приз, то ведь приз получает хозяин, а не конь. Так себялюбиво смотрел князь и на сына. Такой взгляд установился у него по традиции, унаследованной им от знатных предков. Ведь и сам он когда-то ублажал своего отца, значит и Самвел должен ублажать его. Сопротивление сына лишило бы князя всех тех радостей, которыми он предполагал насладиться в будущем. По этой причине он остерегался возражений сына и всеми силами избегал противодействия, выжидая, что обстоятельства разъяснят ему сомнения.
Последнее замечание Самвела о Меружане было очень резким, но отец, как бы не придав ему значения, обратился к сыну:
— Тебе следует повидаться с дядей, Самвел, и передать ему привет от матери. Он будет очень рад увидеть тебя, ведь он тебя любит. Утром уже он не раз присылал сюда справиться о твоем здоровье, но ты еще спал.
— Значит, он знает, что я приехал? — спросил Самвел.
— Знает и приглашает тебя сегодня к обеду. Там соберутся персидские военачальники. Тебе надо познакомиться с ними.
Вдали проехал Меружан.
— Я готов хоть сейчас отправиться к дяде, но он, кажется, занят…
— Да, он выехал осмотреть стан… сделать некоторые распоряжения… На этих днях мы отсюда уходим.
— А меня не пригласил Меружан? — вмешался в разговор юный Артавазд.
— Конечно, милый, и ты приглашен. Как же можно без тебя! — сказал князь. — И ты будешь на обеде, и Арбак. Мы отправимся все вместе.
— Не стану я есть его хлеб! — отрезал упрямый старик отворачиваясь. Князь рассмеялся.
Самвел заметил, что их присутствие мешало отцу. В это утреннее время в палатку то и дело входили люди по разным делам, и князь, как высшее должностное лицо, обязан был давать им поручения и распоряжения. Поэтому после окончания завтрака Самвел немедленно встал и хотел было выйти из шатра.
— Тебе будет скучно до обеда сидеть в палатке, Самвел, — сказал ему отец. — Если хочешь, я прикажу, оседлать лошадей: поезжайте прогуляться по берегам Аракса. Погода прохладная; там есть красивые места.
— Благодарю, дорогой отец, — ответил Самвел. — Я еще утомлен с дороги, пойду немного посплю.
Придя в палатку, Самвел в изнеможении бросился в кресло и склонил на подушку отяжелевшую голову. Бледное лицо его было обращено к страшному стану, и грустные глаза устремлены вдаль. Он еще не забыл, да и не мог забыть, с каким одобрением отец рассказывал о злодействах Меружана, участником которых он был сам. Сомнений больше не было. Сколько, ни думал Самвел, он никак не мог найти оправдания ни для отца, ни для дяди. Оба в его глазах являлись преступниками, достойными смерти. А ведь он любил отца, любил и дядю! Он с радостью пожертвовал бы своею жизнью и всем самым дорогим, если бы они оба отказались, от своих преступных целей. А что если они останутся при своих заблуждениях? Эта мысль ужасно терзала его душу. Сын думал об отце то же, что и отец о сыне: оба они считали друг друга погибшими, оба они считали друг, друга заблудшими. Отец искал подходящего повода для объяснений с сыном, чтобы сообщить ему о своих горячих желаниях. Сын также искал подходящего случая, чтобы поговорить с отцом и излить перед ним все свои горести. Он спешил сделать это, пока лагерь не снялся с места, пока войско не направилось в Персию. Если бы он отсрочил свое намерение и войска перешли через Аракс, то все надежды могли бы рухнуть.
Арбак сидел тут же и молча наблюдал за Самвелом. Бедный старик отлично понимал тяжелое горе несчастного молодого человека, видел как он страдает и не находил слов для утешения.
Тем временем юный Артавазд стоял у входа в палатку, не зная, чем занять себя. Беспокойный, бодрый и нетерпеливый, охваченный безудержным любопытством молодости, он хотел бы птицей облететь в несколько секунд весь стан, чтобы все увидеть, все разузнать. Но такое любопытство могло показаться неприличным и даже подозрительным.
Это соображение удерживало его.
Но даже стоя у палатки, он видел много интересного. В этом стане не было того обычного радостного и непринужденного оживления, какое всегда бывает в военном лагере, когда внутренняя жизнь его сливается с бытом населения, когда крестьянская девушка, деревенская женщина, доверчиво и свободно приносят туда для продажи лучшие плоды своих садов, крестьянин — лучшие продукты своего хозяйства, а горожанин раскладывает разнообразные предметы своей торговли. Стан в таких случаях принимает вид оживленного праздничного базара. Собирается любопытная толпа, чтобы послушать военную музыку. Ничего подобного здесь не было. Этот стан, как всеуничтожающее тлетворное чудовище, превратил все вокруг себя в пустыню и сам жил в пустоте. Никто к нему не приближался, все избегали его. Он кормился теми хищениями, которые производил своей жадной рукой в окрестностях. Он разбогател на бесчисленных грабежах, которые, как разбойник, совершал в разрушенных им городах.
Но не эти размышления занимали юного Артавазда. Его внимание было отвлечено другим.
Страшные холмы перед шатром Меружана, сложенные из человеческих голов, уже исчезли. Все головы были собраны в громадные мешки и нагружены на длинный караван верблюдов. Но вместо тех холмов теперь делали иное сооружение. Какие-то люди расторопно разбирали и складывали похожие на темно-бурые кирпичи предметы. Странное сооружение становилось все выше, принимая мрачный вид. В основание его клали куски дерева и стружки. Когда сооружение было закончено, оно приобрело вид огромного костра.
Это сооружение привлекло к себе внимание Самвела, он пододвинул кресло к самому входу. Но сколько ни разглядывал, он не мог понять того, что происходило. Не в меньшей степени был заинтересован и старик Арбак.
— Что это такое? Опять, должно быть, какая-нибудь чертовщина?.. — произнес он, покачивая в недоумении головой, и поднес ладонь ко лбу, защищая глаза от солнечных лучей, мешавших ему разглядывать.
Немного спустя воины привели толпу закованных, одетых в черное пленников и выстроили их вокруг костра. То были несколько сот епископов, ученых, монахов и священников. Понурив головы, в глубокой печали смотрели пленные на таинственный костер, в котором через несколько минут должны были сгореть их сердца.
Около них стоял человек в длинной желтой одежде с изрытым оспой сумрачным лицом и толстыми темными губами, готовыми источать проклятия и ругань на все священное. Он поглядывал своими полными ненависти глазами то на пленников в черных, рясах, то на костер. Это был Хайр Мардпет — зловещий Дхак, тайно, как вор проникший в крепость Артагерс и предавший армянскую царицу.
Издали показался белый царь — Меружан на своем белом коне. Когда он подъехал, костер подожгли. Заклубился густой удушливый дым, распространяя вокруг неприятный, едкий запах. Зеленоватые, языки пламени поднялись к небу. Огню приносилась ужасная жертва, сжигались священные рукописи христианской веры…
В этот момент в палатку Самвела вошел отец. Сын почтительно поднялся ему навстречу.
— Что там сжигают? — взволнованно спросил он у отца.
— Пергаменты, — ответил тот с безразличным хладнокровием, — а ты не хочешь ли посмотреть? Я пришел за тобой. Пойдем! Это очень интересно.
— Нет, мне и отсюда видно, — отказался опечаленный молодой князь.
— А оттуда пошли бы к Меружану. Я уже говорил тебе, что мы приглашены к нему сегодня на обед.
— Да, я помню… но ведь еще рано: Меружан занят своим костром. Пусть кончит, а я приду позднее. По правде говоря, мои глаза не выносят огня.
— В особенности огня от пергамента… — прибавил старый Арбак, многозначительно качая головой.
Отец, заметив упорство сына и услышав язвительное замечание старика, не настаивал; он вышел из палатки и направился к костру. Юноша Артавазд, все еще стоявший у входа в палатку, побежал за ним.
— Я пойду с тобой, дядя Ваган, я не боюсь огня, — сказал он, — я даже люблю огонь.
Самвел и старый Арбак остались в палатке.
— Как видишь, пергаменты жгут, дорогой Арбак, — обратился Самвел к старику. — Предают огню священные свитки наших разрушенных храмов! Сжигают наши церковные книги и нашу письменность, чтобы превратить нас в персов. А мой отец отправился поглядеть, на это зрелище, пошел поразвлечься злодеянием…
И действительно, горевший костер состоял из церковных книг. Это были книги, похищенные из тех церквей и монастырей, которые разрушил и сжег Меружан. Ради исполнения горячих желаний царя царей Персии он разгромил христианские храмы, чтобы на их месте создать капища. В угоду горячим желаниям царя царей Персии он уничтожал теперь армянские рукописи, дабы, заменить, их персидскими религиозными книгами, чтобы армяне читали по-персидски, молились по-персидски и выражали, свои чувства по-персидски.
Самвел знал обо всех этих заранее намеченных хитросплетениях, а теперь своими глазами видел те беспощадные действия, которые должны были облегчить осуществление вероломных целей персидского царя царей. Духовенство уводили в плен, чтобы оставить без руководителей церковь и верующих, чтобы легче было истязать христианский люд. Сжигали церковные книги, чтобы уничтожить религию.
Чаща терпения Самвела переполнилась; он обратился к старику:
— Дорогой Арбак, надо что-то предпринять сейчас же… Время дорого. Опусти занавесу шатра и оставь меня одного. Если кто спросит обо мне, скажи, что у меня болит голова и я сплю. А через час пришлешь ко мне Малхаса.
Старик встал с тяжелым сердцем, опустил занавеси и тут же вышел.
Самвел некоторое время оставался в молчаливом раздумье. Его нежные чувства, его исключительно доброе сердце господствовали над его холодным рассудком. Несколько раз брал он в руки лист пергамента, собираясь писать, и снова бросал. Он приложил руку к своему лбу, горячему, точно в лихорадке. Он старался собраться с мыслями, рассеять тот мрак, ту неясность, которыми было охвачено его сознание. Он встал и немного откинул занавес, чтобы было светлее. Снова сел, взял лист пергамента и перо. Начал медленно писать, обдумывая каждое слово. От ясности изложения этого письма зависело достижение заветной цели, которую он давно уже вынашивал в своем сердце. Одни неверный шаг мог все погубить. Его цель была настолько же велика, насколько и опасна. И именно от достижения этой цели зависало успокоение его совести и счастье его родины. Окончив первое письмо, Самвел принялся за второе. Когда явился Малхас, письма были уже готовы. Самвел обратился к нему с вопросом:
— Ты знаком, Малхас, с дорогами, что тянутся по правому берегу Аракса?
— Знаком, — ответил всегда готовый к услугам Малхас. — Но там несколько дорог; о которой из них спрашивает мой господин?
— О той, что идет прямо по берегу реки до Астхапатского прохода.
— Знаю. Это самая плохая дорога и самая опасная. Она тянется то по берегу реки, то по крутым скалам, а то по узким ущельям и никогда не отрывается от течения реки.
— Я говорю именно об этой дороге. Вот возьми эти письма и отправляйся сперва в Еринджак. Оттуда по речке Еринджак дойдешь до узкого ущелья, ведущего к мосту у Джуги. По этому мосту перейдешь через Аракс. Затем пойдешь по той извилистой дороге, о которой мы сейчас говорили, и которая приведет тебя к монастырю Нахавыка, а оттуда уже недалеко и до Астхапатского прохода; там моста нет, придется переправиться через реку на бурдючных плотах.
Малхас весело взял письма и спросил:
— Прикажешь, князь, сейчас же пуститься в путь?
— Нет, подожди когда стемнеет, чтобы никто не заметил твоего ухода.
— Сам сатана даже не заметит, — уверенно ответил Малхас. — Но куда доставить эти письма и кому вручить?
— Неподалеку от монастыря Нахавыка, у подножья горы Махарт ты встретишь сидящего на скале монаха. Отдай ему одно из этих писем.
— Которое? Слуга твой не знает грамоты.
— То, что перевязано красной тесьмой.
— А если я не застану монаха на скале?
— Непременно застанешь. Он, как скорбный дух, сидит на пепелище своего монастыря, который разрушил Меружан, и безутешно оплакивает печальный конец своей обители.
— А что затем должен делать твой слуга?
— Затем, оставив монастырь, продолжать путь к городу Храм. Будешь идти, пока не встретишь закрытые носилки с траурными занавесками, похожие на носилки с гробом. Их сопровождает несколько отрядов горцев. Вот это другое письмо, перевязанное зеленой тесьмой, отдашь лицу, сидящему на носилках.
— Дозволено ли будет твоему слуге узнать, кто находится в носилках?
— Никто этого не знает, кроме вооруженных спутников, которые охраняют это лицо в глубокой тайне. И тебе нет особой надобности знать о нем.
— Что должен дальше делать твой слуга? — спросил Малхас.
— Идти той же дорогой. Ты встретишь князя Гарегина Рштуни с его вооруженными горцами. Передай ему от меня только одно слово: «Спеши».
— А если он станет расспрашивать о разных вещах?
— Расскажи ему все, что знаешь. Ты, вероятно, уже достаточно ознакомился с нынешним состоянием персидского стана.
— Твой верный слуга разузнал обо всем: сколько у персов конницы и пехоты, на сколько отрядов делится войско и кто каким отрядом командует.
— Этого вполне достаточно. Теперь можешь отправляться. Да хранит тебя господь!
Верный гонец, быстрый, как мысль, и ловкий, как дьявол, всей душой был предан Самвелу; он всегда радовался, когда мог исполнить какое-нибудь поручение Самвела, в этот же раз был рад особенно, ибо испытал на себе всю тяжесть печальных событий и утешался тем, что своими услугами мог несколько помочь общему делу.
После ухода Малхаса в палатку вошел Арбак.
— Подними занавеси, — сказал ему Самвел. — Посмотри, нет ли около нас чужих людей.
— Ни души. Все собрались у костра и смотрят, как сжигают священные книги.
Приподняв занавеси, старик сел. Самвел чуть слышным шепотом сказал ему:
— Я пойду сегодня на обед к Меружану, хотя его обед для меня не слаще яда. Но я постараюсь из этого извлечь пользу. За обедом я заведу речь об охоте, с тем, чтобы на послезавтра непременно была назначена большая охота, на берегах Аракса. Вы все отправитесь со мною. Заранее подготовь наших людей. Понимаешь?..
— Понимаю! — таинственно ответил старик и благочестиво поднял глаза к небу, словно моля бога об успехе задуманного предприятия.
— Каждый из моих людей, — продолжал Самвел, — должен отлично знать свою задачу; при малейшей ошибке все может погибнуть. Они должны следить за условными знаками и действовать соответственно им. Если же обстоятельства изменятся, то в таком случае ты должен сейчас же изменить и способы действия.
— Арбак уже все сделал, будь спокоен, — ответил старик и движением головы дал понять, что следует прекратить разговор, так как к палатке приближался князь Ваган.
Войдя в палатку, князь сказал:
— Теперь пойдем, дорогой Самвел, Меружан нас ждет; его гости уже в сборе.
III. Звита
…И персидские военачальники сказали иерею города Арташата Звиту: «Выходи из среды пленных и уходи куда хочешь». Иерей Звит не согласился на это и сказал: «Куда вы погоните стадо, туда же гоните и меня, их пастыря, ибо не подобает пастырю оставлять свое стадо, а должен он жизнь свою положить за своих овец». — Сказав это, он присоединился к толпе пленных и пошел в плен в персидскую страну со своим народом.
Фавстос Бузанд
Был полдень. В обширном голубом шатре Меружана собрались гости. Выше всех за столом сидел Хайр Мардпет — Дхак; его нелепая одежда и громадное, тело занимали немало места. По правую и левую стороны от него находились два мага в белых одеяниях; на их семиугольных остроконечных шапках, похожих на сахарную голову, были вышиты цветным щелком таинственные знаки. Возле одного из магов сидел Ваган Мамиконян, возле другого — Меружан. Рядом с Меружаном посадили Самвела и юного Артавазда. Затем, согласно подушкам и степеням, расселись персидские начальники, среди, которых находился и видный полководец Карен. Среди гостей не было видно лишь старика Арбака. Он решительно отказался идти на обед к Меружану. Меружан совсем не обиделся: ему был известен своенравный характер упрямого дядьки.
В наружности Меружана замечалось поразительное сходство с племянником — Самвелом; та же стройность и тот же рост, только годы придали больше мужественности чертам, и фигуре Меружана. Действительно, это был очень красивый, веселый и красноречивый человек, далекий от меланхолии, которая отличала сурового Самвела. Прожив долгое время в Тизбонском дворце и общаясь с высшими кругами персидской знати, он усвоил персидскую утонченность в обращении. Во всяком обществе он был очень приветлив и обаятелен. Весте с персидской утонченностью он усвоил и персидскую хитрость, скрытую под его привлекательной и обманчивой внешностью.
Его обаятельное лицо, казалось бы, имело все основания сиять и выражать безграничную радость, особенно в связи с последними военными удачами, однако на нем лежала печать затаенной грусти, которую он всеми силами старался скрыть. Грусть овладела им с того дня, как Вормиздухт презрительно отвергла его в крепости Артагерс, да, именно с того дня он переживал глубокую печаль: развеялись его лучшие мечты, с которыми он связывал свою славу и свое счастье. Какие только преступления он не совершил ради любимой девушки! Он согрешил перед совестью и честью, заслужил презренное имя изменника. И все ради того, чтобы удостоиться ее внимания. Но Вормиздухт беспощадно попрала его ногами и прошла мимо… Он мечтал стать зятем царя царей Персии, а сделался всеобщим посмешищем. Одним ударом Вормиздухт повергла в прах его будущность и его надежды. Все это он приписывал чарующему влиянию армянской царицы на наивную Вормиздухт. «Быть может, Вормиздухт так бы не поступила, если бы так долго не находилась в крепости вместе с хитрой Парандзем?» — думал Меружан. Никакая месть не казалась ему столь жестокой и мучительной, чем та, посредством которой армянская царица покарала его. Устами обожаемой девушки царица осмеяла и его любовь, и его тщеславие, жертвами которых явились заветные святыни несчастной родины.
Хотя он еще не окончательно пал духом, хотя он и продолжал еще надеяться, что Шапух исполнит свои обещания, но то ли это счастье быть мужем насильно выданной женщины, которая чувствует к тебе отвращение, и быть насильно навязанным царем страны, которая тебя проклинает?! Эти мысли за последние дни точили его сердце, подобно едкой ржавчине.
Неожиданный приезд Самвела доставил ему истинную радость. Он разглядывал молодого человека и восторгался им. В нем пробуждались по отношению к племяннику те же радостные чувства, что и у Вагана Мамиконяна. Меружан мечтал уже о том блестящем положении, которое займет Самвел при персидском дворе, и заранее гордился успехами племянника. Он считал, что этот желанный день недалек, так как предполагал взять с собой Самвела в Тизбон; правда, он еще не знал, как отнесется к этому Самвел, но был убежден, что тот с большим удовольствием согласится на поездку.
Гости беседовали; больше всех говорил Хайр Мардпет. Его внушительный голос и его холодные, тяжеловесные слова привлекали общее внимание. Он говорил о важном вопросе: о том, что когда они прибудут в Тизбон, то необходимо всеми средствами убедить царя Шапуха, чтобы он обязательно заключил договор с новым императором Византии Феодосием и тем установить мир между Персией и Византией. Такой мир мог бы, по его мнению, оказаться весьма целесообразным для положения дел Армении. В самом деле, если Шапух будет в дружественных отношениях с Феодосием, то император, конечно, не станет помогать своими войсками Армении наперекор персидским интересам. И тогда верные Византии армянские нахарары, лишенные помощи императора, не смогут привезти из Византии наследника и возвести его на пустующий трон. Меружан вполне разделял политические воззрения Хайра Мардпета, полагая, что после разрыва отношений с Византией ему откроется широкое поле действий в Армении, и тогда легче достигнуть цели.
Самвел слушал с большим вниманием. Теперь беседовали два мага. Их разговор касался более близких вопросов. Они говорили о том, когда благоприятнее всего снять стан с места и двинуться в Персию. По их мнению, следовало обождать еще три дня, так как звезды давали плохие предсказания относительно этого передвижения. Меружан верил не только в предсказания по звездам, но и в волшебство и считал себя достаточно сведущим в этом искусстве. Он был согласен с магами и настаивал на том, чтобы непременно подождать, пока пройдут эти три зловещих дня. Насколько верны были их астрономические соображения, не интересовало Самвела, но ему очень нужны были эти три дня. Вот почему его грустное лицо стало понемногу проясняться.
Но вдруг какой-то шум у входа в шатер привлек внимание гостей.
— Во имя бога, пропустите меня к князю Меружану! — отчаянно кричал какой-то человек; но слуги тащили его назад, не позволяя пройти.
Услыхав шум, Меружан приказал одному из слуг впустить просителя. Появился почтенный старец в одежде священника. Смиренно кланяясь, он оперся на свой пастырский посох и остановился у входа в шатер. В глазах были заметны горячее возмущение и безутешное отчаяние. Он выглядел так, будто у него отняли самое любимое, самое дорогое… Раздвоенная по-еврейски волнистая борода, спускавшаяся до кожаного пояса, показывала, что этот благообразный священник не был армянином. Преждевременная старость посеребрила длинные волнистые пряди его волос, но в черной бороде седина была едва заметна. Вся его внешность выделялась особой величавостью.
— Я, не переводя дыхания, спешил сюда из Арташата, Меружан, чтобы просить твоей управы, — сказал он гневным голосом. — Я пришел излить мою мольбу, мою просьбу перед твоим милосердием. Неделю нахожусь я в твоем стане, но до сих пор мне препятствовали привлечь твое доброе внимание. Теперь выслушай несчастного старика, о храбрый Меружан!
— Кто ты? — спросил Меружан, внимательно осматривая старика, который неподвижно и прямо стоял перед ним, как воплощенный и угрожающий протест.
— Я священник евреев Арташата, зовут меня Звита; свой сан я принял от Нерсеса Великого. Предков моей паствы вместе с другими евреями привели при Тигране Втором пленными из Иудеи. Армянская гостеприимная страна с таким радушием отнеслась к нам, что мы забыли нашу обетованную родину, столь священную и заветную для каждого еврея, забыли и данную нам богом веру, в которой для нас самый возвышенный смысл жизни и спасение. Мы забыли и свой язык, на котором Моисей записал священный завет Иеговы. Во дни Трдата мы приняли христианство от Григория Просветителя и соединились с армянами. С того времени мы живем в Армении как коренные жители и имеем равные с армянами права, полюбили эту страну и перестали чувствовать себя пришельцами. Мы радовались радостями Армении и делили ее печали.
Он немного передохнул и затем продолжал:
— Счастье и довольство были нашим уделом, и наши закрома были полны всеми благами земли. В наших руках была сосредоточена торговля страны, и мы способствовали развитию ремесел и искусства. Но ты, князь Меружан, беспощадно разорил наше новое гнездо, созданное нами с великим рвением в течение веков, где было так тихо и безопасно. Ты превратил в груду развалин те цветущие города, которые славились во всем мире своими несметными богатствами. Ты даже не пощадил свой собственный город Ван, где гонимые сыны Израиля благоденствовали при твоих предках. Против этой жестокости восстают души твоих достославных предков, восстает и старик-священник, который теперь проливает слезы над твоим жестокосердием, изливает свою печаль, как воду на бесчувственный камень, о храбрый Меружан!
Он опять остановился. Самвел слушал с беспокойством, едва сдерживая свои чувства. Остальные гости с гневом смотрели на смелого старика и делали знаки Меружану, чтобы он заставил прекратить дерзкую речь. Но Меружан разрешил старику продолжать.
— Да! Наши предки были приведены пленниками в Армению, но мы обрели в ней счастье. А ты ведешь их потомков в новый плен, в новую, неизвестную страну. Плен и преследования, правда, всегда были уделом евреев, начиная с того времени, когда они находились, в рабстве в Египте в руках фараонов, а затем были уведены в плен в Вавилон, мучились в руках ассирийцев. Долгое, очень долгое время наши предки, сидя у берегов Евфрата, развешивали на ивах Вавилона свои священные свитки и в тоске оплакивали Иерусалим. Живя на горькой чужбине, они много страдали, пока их не освободил из плена божественный царь Персии Кир, вернувший их на родину. И тогда Иерусалим снова обрел славу и величие. Это великое дело связано с историей персидских царей, в которой сияет высокая добродетель Кира и его незабвенное великодушие. Но ты, Меружан, наложишь несмываемое пятно на светлую память персидских царей, если снова уведешь в плен народ израильский. Мы слыхали, что ты хочешь вести нас в далекий Исфахан. Веди, но мы не забудем нашу вторую родину — Армению. Вместе с нашими детьми мы сядем там у берегов Зарда-Руди и, подобно тому, как некогда Израиль в Вавилоне, развесим на ивах Исфахана наше святое евангелие и будем оплакивать Масис — наш Сион, будем оплакивать Аракс — наш святой Иордан, будем оплакивать Арташат — наш священный Иерусалим, будем оплакивать и проклинать того, кто изгнал нас из нашей второй родины…
Последние слова, как молния, поразили сердце Меружана. Он заколебался и долго не находил слов для ответа. Присутствующие нетерпеливо и молча переглядывались, каждый из них ждал, что Меружан прикажет либо отрезать язык дерзкому старику, либо отрубить голову бесстрашному священнику. Но велико было, удивление всех, когда Меружан довольно мягко ответил старику:
— Я исполняю высокое повеление царя царей Персии, почтенный Звита. Слуги должны покоряться своему хозяину. Так велит то евангелие, именем которого ты здесь говоришь. За что же ты так беспощадно порицаешь меня?
— Да, Меружан, мое евангелие — оно было когда-то и твоим — велит слугам подчиняться своим господам. Но ты, Меружан, из тех слуг, которые пользуются полным доверием и уважением царя царей. И если ты велишь находящимся у тебя в плену евреям вернуться в родные места, то царь Шапух не будет за это на тебя гневаться, а наоборот, быть может, будет тебе очень благодарен. Я пришел, Меружан, просить у тебя милосердия. Сжалься над этим несчастным народом, воздай уважение священной памяти Авраама, Исаака и Иакова, услышь старого служителя церкви, который со слезами и мольбой взывает к твоему великодушию. Даруй освобождение пленным, и ты, Меружан, будешь вторым Киром, и еврейский народ Армении всегда будет благословлять твое имя!
— Ты хорошо говоришь, почтенный Звита, — сказал Меружан уже с заметным неудовольствием в голосе. — Я бы рад исполнить твое желание, но моему государю нужен твой народ. Исфахан и соседние с ним области ныне безлюдны. Мой государь желает заселить эту землю народом, накоторый он мог бы твердо положиться. А евреи насколько трудолюбивый, настолько же и верноподданный народ. Мы поведем вас туда, и в Исфахане вы будете в таком же счастливом положении, как и в Армении. И если гостеприимство армян заставило вас забыть Иудею, то персидское радушие заставит вас забыть Армению, но если только вы примете персидскую веру, как приняли когда-то армянскую.
— На это отнюдь не надейся, Меружан, — ответил старик в сильном волнении. — Если евреи переменили веру, приняв христианство, то это понятно, так как они давно ждали любимого Мессию — Христа. Но поклоняться солнцу и огню мы никогда не будем.
Оба мага грозно поднялись со своих мест; лица их, выражавшие гнев, показывали, что они готовы поразить самоотверженного старика в сердце; но ответ Меружана удержал их.
— Это дело будущего, почтенный Звита. Я не буду сейчас спорить с тобой. Но не скрою от тебя, что хотя мне приятно было бы исполнить твою просьбу, но выгоды страны моего государя для меня выше твоих слез. Я много лестного слышал о тебе: знаю, как тебя любит народ, и потому я дарую тебе свободу, тебе одному, но не твоему народу. Ступай, куда пожелаешь, и никто отныне не смеет тронуть тебя. Иди, ты свободен, Звита.
— Я пойду к моему пленному народу, Меружан, и никогда не оставлю его. Пастырь должен быть со своей паствой и положить за нее жизнь.
Таковы были последние слова старика; со слезами на глазах он отвернулся и, опираясь на свой пастырский посох, вышел из стана медленными шагами. Затем он направился по дороге в сторону Арташата, в ту сторону, где вблизи Таперского моста находился дорогой ему народ.
Протест старика и его самоотверженность произвели на всех сильное впечатление. Ему даровали свободу, а он отказался от нее. Он не пожелал отделиться от своей паствы; он решил разделить с ней страдания в плену и на чужбине. Никакой удар не мог быть так чувствителен сердцу Меружана, как презрение, с каким упорный старик отказался от предложенной ему милости.
Именно поэтому после его ухода Меружан находился в каком-то смущении и, казалось, только теперь стал понимать, что заготовленные им ядовитые стрелы ударялись о твердыню и отскакивали, попадая в него.
Немало взволнованы были и сидевшие за столом маги. Один из них заметил:
— О храбрый Меружан, ты напрасно разрешаешь этим черноголовым дьяволам в черном одеянии следовать за своим народом. Они там, в Персии, могут сильно помешать нашему делу.
— Да! Они будут там держать народ в постоянном заблуждении, — добавил другой, — их следовало бы отделить от паствы и оставить здесь, чтобы они не мешали нам в Персии.
Меружан был настолько самолюбив, что не терпел решительно никаких замечаний касательно своих дел, если даже он ошибался. Услышав ропот магов, он сказал:
— Если они нам будут мешать в Персии, возбуждая народ и постоянно поддерживая в нем христианские заблуждения, то у царя Шапуха найдется для них достаточное количество тюрем и палачей. Их нетрудно заставить замолчать в течение нескольких мгновений, заживо похоронив в каком-нибудь подземелье. Но если мы оставим их здесь, то этим только усложним положение. Ведь мы должны принудить здешних христиан принять священную религию Зороастра. Вот почему я постарался задержать и взять под наблюдение возможно большее число армянского духовенства.
С Меружаном согласились и Хайр Мардпет и Ваган Мамиконян. Для того чтобы овладеть церковью, утверждали они, необходимо прежде всего захватить духовенство, подобно тому, как захватив пастуха, овладеваешь стадом.
— Но почему же ты хотел даровать свободу этому старику иерею? — спросил Самвел, обращаясь к своему дяде.
— Он очень влиятельный человек, — ответил Меружан. — Народ его чтит, как святого. Его присутствие постоянно будет внушать всем бдительность. А смерть его (если обстоятельства принудят нас к этому) только воспламенит веру его народа. Он станет самоотверженным мучеником, имя которого будет незабвенно, и его память будет вдохновлять паству. Есть люди, смерть которых опаснее их жизни. Звита принадлежит к числу таких людей.
Самвел ничего на это не ответил, и Меружан принял его молчание за согласие. «Однако, — думал печальный юноша, — как хорошо изучили эти люди дело зла… Как глубоко проникают они в свои злодеяния…»
Беседа приняла другой характер, когда Хайр Мардпет, обратившись к Меружану, спросил:
— Интересно знать, до какого места доставлена сейчас армянская царица? У тебя имеются какие-нибудь сведения, Меружан?
— Имеются, — ответил Меружан несколько изменившимся голосом, и его лицо приняло сумрачное выражение. — Она, вероятно, уже миновала Экбатану; они едут более прямой дорогой…
Хайр Мардпет, заметив волнение Меружана, тотчас же раскаялся. Напомнив Меружану об армянской царице, он одновременно напомнил ему и о его любимой Вормиздухт. Они вместе ехали в Персию; вернее, их обеих отправляли в Персию. С ними везли и обломки разбитого сердца Меружана…
Грусть Меружана заметил и Самвел и решил его развеселить. Он знал характер своего дяди, знал, что дядя лишь тогда бывает весел, когда с ним разговаривают о военных делах, в особенности о его военных удачах.
— Удивляюсь, дорогой дядя, — сказал он. — Я нахожу, что число ваших пленных не соответствует числу тех многочисленных селений и городов, которые я видел на всем своем пути в разрушенном и запустелом состоянии.
— Твое замечание совершенно правильно, дорогой Самвел, — сказал Меружан недовольным тоном. — Наши войска двигаются очень медленно, а наши полководцы оказались беспомощными в условиях армянской страны. При вступлении в селения и города мы заставали их уже опустевшими. Мы сжигали города и двигались дальше. Узнав о нашем наступлении, жители заранее покидали свои жилища и укреплялись на высотах неприступных гор. На равнинах и на плоскогорьях мы, правда, воевали с большим успехом, но к условиям войны в горах наши войска оказались совершенно неприспособленными.
При последних словах он посмотрел на персидского полководца Карена, слушавшего его с неудовольствием.
— Значит, вы не смогли проникнуть в глубь горных областей? — спросил Самвел.
— Это не легко было сделать. Я не хотел понапрасну губить войско царя царей. Мне дорога каждая капля крови персидского воина. В горах армяне дрались с нами не только оружием, но и камнями и огнем. И дрались не только мужчины, но и женщины. А ярость женщин особенно вызывала в нас замешательство. Поэтому я держался больше равнинных областей и старался обходить горы.
— А в каких же больше всего горах укрепились теперь беглецы?
Меружану было приятно, что племянник его интересуется военными делами. В этом он усматривал его сочувствие своим планам, и это его радовало. Он стал подробно описывать состояние страны: где что произошло и в каких местах сосредоточены армянские силы. Из его слов было ясно, что персы в ряде битв потерпели сильное поражение, а во многие области даже не в состоянии были проникнуть.
— Мы добились большого успеха в Айраратской провинции и вообще в тех местностях, которые составляли дворцовые владения, — сказал он.
«Потому что они остались без хозяина… потому что не было ни царя, ни царицы!» — подумал Самвел и смеясь сказал:
— И выжгли незащищенные города?..
— Надо было жечь, дорогой Самвел. Как-нибудь в другой раз я тебе объясню, почему мы так поступили.
— Я понимаю… — сказал Самвел, и голос его заметно задрожал. — Да, мы еще поговорим с тобой об этом.
Вагану Мамиконяну не очень нравился столь откровенный разговор Меружана с его сыном, и если бы было возможно, то он каким-нибудь образом предупредил бы Меружана. Но как же он мог навлечь на сына подозрение, раз он сам ничего определенного о нем не знал, и все еще пребывал в безызвестности?
Разговор прервался сам собою, когда вошли слуги и начали накрывать обеденный стол.
Персы-полководцы не отказывают себе ни в одном из обычных удовольствий даже в походной обстановке. На бранном поле они окружают себя теми же удобствами, к которым привыкли дома. Воздержание и суровая военная жизнь им незнакомы. Хотя Меружан был воспитан как подлинный солдат, и как полководец был мало требователен, но, следуя персам, он ни в чем не отступал от персидского образа жизни. Он вынужден был так поступать, ибо был тесно связан с персами.
Множество молодых слуг, роскошно одетых, обслуживало гостей. Вся посуда была из золота и серебра. Насколько аппетит гостей возбуждали вкусные блюда, настолько их чувству изящного отвечала роскошь стола, его торжественное убранство. Во всем была заметна утонченность и крайняя расточительность.
Позади каждого гостя стояли мальчики с венками роз на голове и, держа в одной руке серебряную черпалку, а в другой серебряную чашу, подносили гостям душистый напиток. Музыканты, стоя перед шатром, играли на различных инструментах и пели не смолкая.
Обед затянулся надолго. Юный Артавазд сидел как на иголках; от нетерпения ему было скучно. Его не привлекали ни беспрерывные песни гусанов, ни сладкие звуки музыкальных инструментов; у него были совсем иные желания. Так как ему прощались всякие смелые выходки, он решил первым заговорить об охоте.
— Скажи, дядя, сколько еще дней стан будет находиться здесь? — обратился он улыбаясь к Меружану.
— Три дня.
— О, это очень долго, видит бог, очень долго! — воскликнул он, нахмурив свое красивое лицо. — Как же мы проведем эти три несносных дня?
— Как будет твоей душе угодно, — сказал Меружан, поглаживая его красивые кудри.
Артавазд приблизил губы к уху Меружана:
— Знаешь, дядя, сколько времени я не ходил на охоту? Ты удивишься, — прошептал он.
— Сколько, милый?
— С того самого дня, как мы выехали из дому.
— Да, давно, в особенности для тебя. Ты ведь так любишь охотиться!
— Ужасно люблю! Дома, если я несколько раз в неделю не ездил на охоту, то чувствовал, что лишился самого большого удовольствия.
Меружан добродушно расхохотался.
— Должно быть, и Самвел любит охоту, — обратился он к племяннику.
— Самвел с раннего детства любил охоту, — ответил за сына отец. — Птицам нашего замка не было пощады от него, когда ему было еще десять лет. Теперь же я не знаю, остался он верен своим привычкам?
— Я не так-то легко их меняю, отец, — с улыбкой ответил Самвел. — Охота — одно из самых любимых моих развлечений. — И, обратившись к Меружану, спросил: — Говорят, берега Аракса в этих местах изобилуют диким зверем?
— Да, кишмя кишат, — с особой насмешкой ответил Меружан. — Аршакиды в области Айрарат умножали только диких зверей. Они не осушали болот и не вырубали лесов для того, чтобы птицы и звери расплодились там в изобилии.
Отцу Самвела очень хотелось найти случай, чтобы представить сына персидским полководцам и познакомить их с его достоинствами. Пока что за отсутствием сражений охота являлась для этого самым удобным поводом, когда Самвел мог проявить свою удаль.
Понимая горячее желание отца, Самвел решил воспользоваться его настроением. Он обратился к Меружану:
— Вы решили непременно задержать здесь стан на три дня?
— Непременно! Во-первых, звезды не предсказывают доброго пути, и, кроме того, нас должны нагнать еще несколько наших полков, о которых мы не имеем никаких сведений.
— Значит, как хорошо заметил Артавазд, за эти три дня можно совсем затосковать от безделья.
— Твой дядя не допустит, чтобы ты затосковал, дорогой мой, — вставил отец. — Он для тебя устроит великолепную охоту на берегах Аракса.
— И для меня? — вмешался юный Артавазд.
— Ну, конечно, и для тебя, — улыбаясь сказал Меружан. — Без тебя какая же может быть охота!
— Шутки в сторону, — сказал Артавазд с самоуверенным видом. — Я хочу показать этим персам, что такое армянская храбрость.
Эти слова он произнес по-армянски, лукаво устремив исподлобья свои огненные глаза на присутствующих персидских вельмож.
Меружан смеясь перевел его слова.
— Знаете, что говорит мой юный родственник? Он жаждет удивить вас своей храбростью. И я обещаю ему назавтра устроить охоту.
— Посмотрим… завтра увидим, — серьезно ответили персидские вельможи.
— Но вы должны выставить против меня моих сверстников!
— Так оно и будет. Мы заранее отказываемся состязаться с тобой. В нашем стане найдется немало твоих сверстников.
Самвел ничего не сказал. Он считал, что уже достиг желаемого.
Меружан приказал начать приготовления к охоте на следующий день у берегов Аракса.
IV. Ловушки Аракса
…Тогда один из сыновей Вагана, по имени Самвел, поразил насмерть отца своего Вагана…
Фавстос Бузанд
Река Аракс в древности обладала изумительными ловушками и причудами. С незапамятных времен она упорно боролась с неровными берегами, как будто не довольствуясь тем узким руслом, которое проложила для нее неуступчивая природа. Она любила ширь, любила свободу. Узкое русло возмущало ее!
Горные кряжи по обоим берегам Аракса местами сближались и сжимали ее в тесных и глубоких ущельях. Тогда ярости Аракса не было предела. Страшные волны ударялись о прибрежные скалы; река рычала, бурно шумела, пенилась, и, казалось, в ее ужасном грохоте можно было услышать крики отчаяния: «Тесно мне, тесно… задыхаюсь!»
Иногда раздвигались скалистые преграды, отрываясь друг от друга, и открывали ей новые, широкие пути. Тогда своеволию реки не было предела. Вырвавшись из теснины, Аракс, как злое чудовище, безудержно залипал и топил в своем бешеном потоке ровные зеленые, цветущие берега, бросаясь, как пьяный богатырь, то вправо, то влево, но никогда не направляясь напрямик.
Он неразумно пользовался своей свободой. Иногда, расправляя свои гигантские плечи, он отрывал у суши кусок земли и, сжимая его в своих прохладных объятиях, создавал остров и некоторое время с детской нежностью ласкал и лелеял свою игрушку. Остров расцветал, покрывался зеленью, появлялись кусты и распускались цветы. Птицы вили там свои гнезда, дикий зверь кормил своих детенышей. Остров был букетом, которым Аракс украшал свою гордую грудь, подобно тщеславному юноше. Но вдруг все это как будто ему надоедало. Пенясь, вздымались его воды, яростно рычали и в несколько мгновений поглощали это прелестное украшение, не оставив даже следа от него.
Царь армянских рек обращался с созданными им островами так же, как армянский царь со своими обособленными нахарарствами.
И, правда, Аракс напоминал политическое положение своей страны. Когда хитрый перс и коварный византиец, как два горных массива, объединяясь, теснили ее, протест ее и сопротивление были беспредельны. Она применяла всю свою ярость, чтобы избавиться от их гнета. А когда эти два союзника нарушали свое единение и Армения обретала свободу, тогда она начинала заниматься своими внутренними распрями. Со всей жестокостью уничтожала она свои нахарарства, как чудовищный Аракс размывал и поглощал зажатые им островки.
Охота предполагалась на одном из островов Аракса, называемом «Княжим». Когда-то один из сюникских князей пригнал на этот остров несколько пар диких зверей. С тех пор они там размножились.
Конный отряд охотников выехал с восходом солнца. Утро был тихое и прохладное. Даже «красный ветер», который дул у этих берегов Аракса, принося с собою красноватые песчинки и наполняя воздух кроваво-красным туманом, — даже этот зловещий ветер не нарушал в это утро общего спокойствия. День был ясный и приятный.
Дорога вплоть до берегов Аракса была покрыта пышной кормовой растительностью. До войны здесь паслись княжеские кони тера Нахчевана. А теперь здесь пасся вьючный скот из стана персов. Попадались иногда голые остроконечные холмики: они сохранились как будто для того, чтобы поведать прохожим о том, как жестоко поступила с ними древность. Вековые дожди смыли мягкий земляной покров с этих холмиков и оставили лишь твердый безобразный скелет. Вот вдали появился большой караван верблюдов; горбатые, с изогнутыми шеями, стоят они друг за другом, точно повисли в воздухе. Вот с другой стороны, одна за одной, упираясь в небо, выстроились несколько башен. Все они стоят на тонко источенном пьедестале, который, того и гляди, разлетится от первого дуновения ветра. А вот поодаль вырисовываются на скалах причудливые силуэты людей, похожие на статуи окаменевших богатырей. Вот извивающийся дракон поднял свою чудовищную голову и грозит раскрытой пастью проглотить прохожего. По преданию, в этих краях в старину были поселены люди, потомки драконов, взятые в плен армянами. Ныне остались лишь их гранитные скелеты.
Это была завороженная, окаменевшая страна. По ней медленно и спокойно продвигался отряд конных охотников.
Вскоре охотники достигли долины небольшой реки Нахчеван, которая, с шумом ударяясь о каменистое дно, быстро бежала вперед и соединялась с Араксом. Здесь природа выглядела иначе. На всем протяжении берегов росли плакучие ивы, низкие тутовые деревья и дикие кусты, которые, сплетаясь вместе, образовали живую, почти непроходимую изгородь.
За нею простирались обильные плодами сады горожан. До войны эти чудесные, прекрасно обработанные сады вполне подтверждали древнейшую легенду о том, что армянин стал заниматься разведением винограда с того самого дня, когда Ной у подножия Арарата посадил первую лозу. Некогда здесь под лучами животворного солнца созревали тяжелые, сочные кисти отборного винограда области Гохтан. Из этого винограда получался тот благородный нектар, что вдохновлял певцов Гохтана. А теперь осыпавшиеся, изъеденные червями кисти винограда имели такой вид, точно были побиты сильнейшим градом. Рука персидского воина совершила это гнетущее опустошение. До войны здесь краснели, приветливо улыбаясь, яблоки, напоминавшие румяные щеки юных девушек. Скромные груши склоняли до земли свои густолиственные ветви, словно приветствовали поклонами прохожих. А теперь погнулись и повисли увядшие ветки. Рука ненасытного персидского воина совершила это безжалостное преступление. До войны желтые персики робко прятались за гигантскими абрикосовыми деревьями, прикрывавшими их своей широкой, густой сенью. Теперь же пожелтевшие от жажды абрикосовые деревья оголились, сбросив свое богатое зеленое одеяние, и имели такой жалкий вид, точно уже наступил конец осени. Не было заботливого садовника, который бы утолил их жажду и спас от преждевременной смерти.
Среди виноградников возвышались двухэтажные давильни, которые не раз служили убежищем гонимым изгнанникам. Девы, сподвижницы Рипсимэ[299], долгое время скрывались в давильнях виноградников Вагаршапата. В мирные времена, с начала весны и до конца осени, в верхнем этаже давилен проживали семьи виноградарей. Они следили за виноградником, собирали плоды и в то же время наслаждались чистым и свежим воздухом среди приятной зелени. Виноградники являлись для них своего рода дачами. Теперь же не было видно никого. Давильни были пусты, а виноградники заброшены. Гром войны разогнал жителей. Одни бежали и укрылись в горах Вайоцдзора, другие попали в плен к врагу.
Виноградники занимали довольно большую площадь. Они были отделены друг от друга низкими глиняными стенами, между которыми проходили искривленные, запутанные дорожки, представлявшие темный лабиринт под тенью густых деревьев. Не раз эти страшные для врага лабиринты виноградников поглощали большие отряды врагов. Но теперь враг смело проходил по пустынным виноградникам Гохтана!
Самвел смотрел на эти грустные картины, и в сердце его ныла неизлечимая рана. Зато отец его был весел, ничто его не печалило, он был увлечен тем, что после тяжелых лет разлуки впервые имел счастливый случай вместе с сыном принять участие в блестящей охоте.
Они выехали из темных, запутанных переулков, и перед ними открылся широкий простор возделанных полей. Еще недавно поля эти казались чудесным золотистым морем тяжелых колосьев, обремененных обилием спелых зерен, вызывавшим в сердце земледельца безграничную радость. Но теперь из несжатых колосьев, высохших под палящими лучами солнца, высыпались зерна, и все поле клонилось от беспощадного ветра к земле, точно после страшного побоища. Зеленые, еще не дозревшие посевы проса и льна, не орошенные водой, поблекли и полегли на землю. Не было неусыпного работника, не было заботливого крестьянина. Скорбногласые жаворонки, влюбленные в поля, неустанно кружились на одном месте, хлопали крылышками и испуганно смотрели на уничтоженную жатву. Они, словно опечаленные горем, то бросались вниз, испуская вздохи, то возносились к небу и, паря в воздухе, продолжали свою грустную, скорбную песню. На ячменных полях табуны персидских мулов безнаказанно расхищали собранный в стога овес и больше топтали его, чем поедали.
Охотники миновали поля, несколько разрушенных сел и вступили в прибрежные зеленые равнины Аракса, покрытые густым кустарником и рощами одичалых деревьев. Вода, застоявшаяся у берега реки, превращала местность в болото. Гулко хлопали конские подковы по болоту, словно под ними была пустота. Иногда казалось, что упругая земля поднимается и опускается под тяжестью конских копыт. В этих местах таились глубокие ловушки Аракса, подземные страшные бездны. Они были наполнены густой черной грязью, поверхность которой, затвердев, образовала этот обманчивый опасный покров, по которому они теперь ехали. Эти бездонные пучины открывали иногда свой страшный зев и, как преисподняя, проглатывали путников. В такой пучине погиб вместе со своим конем армянский царь Артавазд во время охоты на берегах Аракса.
Солнце стояло уже довольно высоко; свежий утренний воздух приятно потеплел от солнечных лучей. Отряд конных охотников продолжал медленно и весело продвигаться вперед.
Самвел ехал на красивом буланом коне, подаренном ему в это утро отцом. За ним следовал юный Иусик, исполнявший должность оруженосца. Он держал длинное княжеское копье, большой лук, колчан, полный стрел, и длинный, тонкий ременный аркан, висевший в смотанном виде на седле. При Самвеле же была только сабля и маленький серебряный рог, подвешенный на золотом поясе.
Старик Арбак был в полном вооружении и казался от этого совсем помолодевшим. Он ехал впереди, а за ним сорок вооруженных слуг Самвела. Некоторые из них держали на руке соколов, другие вели на привязи нетерпеливых борзых. Громадные густошерстные овчарки, которых охотники называли волкодавами, и ищейки бежали на свободе. Все это были подарки отца.
Загонщики еще до восхода солнца начали выслеживать зверя. Они осмотрели все места, где могло быть его логово.
Рядом с Самвелом ехал отец, окруженный телохранителями, а неподалеку от них, на своем белом коне Меружан в сопровождении особого отряда. Его сопровождал полководец Карен вместе с подчиненными. Не участвовал в охоте только Хайр Мардпет.
Впереди всех гарцевало несколько знатных персидских юношей. Среди них был и юный Артавазд. Эти юные наездники своим роскошным вооружением вызывали всеобщий восторг. Но больше всех блистал юный Артавазд на своем ретивом коне. Он искрился безмерной радостью. За левым плечом у него висел серебряный колчан, наполненный стрелами, а за правым — лук, который был несколько велик для него. В руке он держал легкое копье, на поясе сверкал обоюдоострый меч в серебряных ножнах.
Самвел ехал молча, погруженный в размышления. Лишь иногда он посматривал вокруг себя, вглядывался вдаль, точно старался распознать местность. Его печальное лицо, как всегда, не выражало удовлетворения, хотя он и старался представиться веселым. Но он и в своей печали был прекрасен. За него резвился его буйный конь, который делал непрестанно высокие прыжки. Но Самвел опытной рукой легко сдерживал порывы горячего коня, словно тот был тихим ягненком. Отец смотрел на сына и восхищался им. Он страстно желал, чтобы сын отделился от отряда и немного погарцевал на зеленой бархатной площадке, раскинувшейся перед ними. Он даже намекнул на это, но Самвел отказался:
— Неудобно, отец! Прекрасный конь, которого ты мне сегодня подарил, еще не привык ко мне; да и я незнаком с его норовом. Мы можем не понять друг друга.
— Не бойся, — с улыбкой ответил отец. — Твой конь настолько же горяч и упрям, насколько умен. Его очень нетрудно приучить. Это самый лучший конь из конюшни царя царей Шапуха. Он получил его в подарок от князя Хамаверана. Когда я в последний раз представлялся царю царей, чтобы отдать ему смиренный поклон прощания, он мне подарил этого коня, сказав: «Иди, Мамиконян тер, помощь светлейшего Ормузда да будет с тобою, иди и соверши на этом коне поход в Армению; конь непременно принесет полный успех в твоих начинаниях!»
При этих словах отец протянул руку в сторону коня Самвела.
— Разве ты не заметил, что у него на лбу белая звезда? — Он указал на белое пятно в середине лба, похожее на белую звезду, которой природа наделила коня.
— Я вижу ее впервые, — сказал Самвел.
— Это признак удачи, — повторил отец.
— Не знаю, насколько эта звезда может сулить мне удачу, — сказал Самвел с двусмысленной улыбкой. — Кажется, мы проезжаем мимо болот? В этих местах много топей. Может случиться, что звезда на коне, подаренном Шапухом, потеряет свою силу в топях Аракса…
— Может быть, — ответил отец, скрывая свое недовольство, вызванное ироническим замечанием сына, — Но мы уже проехали топи.
Во время разговора отца и сына к ним подскакал Артавазд.
— Я не боюсь топей! — закричал он весело. — Хотя мой конь и без звезды удачи, но он легко перепрыгивает через любую пропасть. Напрасно Самвел важничает. Он всегда таким образом возвеличивает свою ловкость. Глядите, как я буду гарцевать!
Не дожидаясь просьб, юноша, сильно натянув поводья, начал стегать коня. Конь, сильно разгорячившись, взвился на дыбы, его большие прыжки вызвали в зрителях ужас. В любой момент можно было ожидать, что свирепый конь сбросит дерзкого всадника, Но юноша сидел так крепко, точно слился с конем в одно целое. Он держал себя настолько свободно и смело, что нельзя было ожидать большей самоуверенности.
Когда конь совсем разгорячился, юноша стал ловко описывать по ровной площадке круги. Конь скакал во весь опор, а Артавазд с поразительной быстротой переворачивался вокруг его шеи и снова вскакивал на седло. В такие моменты он был похож на веретено, быстро вращающееся вокруг своей оси. Его примеру последовали некоторые из персидских юношей; ловкость их езды была не менее интересна. Но все потускнело перед ловкостью юного Артавазда, в особенности, когда он взялся за изумительные упражнения с копьем. На всем скаку он метал копье так, что каждый раз оно вонзалось в намеченную точку без малейшего отклонения. Он подлетал к мишени, вырывал копье и снова метал его в цель. А если случалось, что копье, вонзившись, падало на землю, Артавазд немедленно наскакивал и, не вынимая ног из стремян, наклонялся и поднимал упавшее копье.
Иногда он гонялся за состязавшимися с ним персидскими юношами, которые делали вид, будто избегают его. Тогда юный герой налетал на них с быстротой орла, и его противникам редко удавалось отразить удар его копья своими щитами, хотя он бился с ними не по-настоящему, а лишь для показа. Когда же Артавазд пускался в бегство, противники не поспевали даже за пылью, взметенной его конем.
Военные упражнения совершались до тех пор, пока со всех сторон не раздались многократные крики одобрения: «Да здравствует Артавазд! Живи долго, Артавазд!» Потный, раскрасневшийся юноша подъехал к зрителям. От сильного напряжения его пламенные глаза искрились юношеским воодушевлением.
— Своей изумительной ловкостью ты затмил всех наших юношей, Артавазд, — сказал персидский полководец Карен. — Славное первенство на ристалище принадлежит тебе.
Артавазд, который иногда по-детски любил прихвастнуть, на этот раз, сознавая свое превосходство, скромно ответил:
— Нет, полководец, ваши юноши, вероятно, просто щадят меня, так как среди них я гость.
— Наоборот, они боролись с тобой во всю свою мощь, но ты защищался с изумительной храбростью. С нынешнего дня на твоем лбу воссияла звезда будущего героя.
— Как на лбу коня Самвела, — смеясь добавил жизнерадостный юноша.
— Шутки в сторону, — серьезно заметил Карен, — я предсказываю, что из тебя выйдет толк, непременно выйдет толк!
Разговаривая таким образом, всадники доехали до берегов Аракса. В этих местах берег был покрыт мягким красноватым песком. На этой плодородной почве росли разнообразные кусты и довольно густой мелкий лес, зеленой лентой окаймлявший русло реки. Протекая через красные камни и омывая красные берега, вода в реке тоже казалась красной.
Медленное и бесшумное течение Аракса производило такое впечатление, точно река стоит. Посреди плеса выделялся зеленым оазисом Княжий остров, на котором и должна была происходить охота.
Остров был ближе к левому берегу и отделялся от него лишь узкой протокой. Во время охоты через протоку наводили временный дощатый мост для переправы на остров. В обычное же время мост убирался. В этот день мост был наведен. Один его конец упирался в скалистый берег, а другой лежал на искусственной насыпи, сделанной на отмели острова. Река под мостом была быстротечная и довольно глубокая. Мост же был длинный и настолько узкий, что ехать по нему мог только один всадник. Вот почему переезд охотников занял довольно много времени.
Еще рано утром на красивой зеленой лужайке острова были устроены палатки для отдыха. Около палаток стряпчие Меружана разожгли огни и занялись приготовлением завтрака. Обед должны были варить позднее — из дичи.
Доехав до палаток, охотники сошли с коней, чтобы отдохнуть, позавтракать и затем начать охоту. Юный Артавазд не стал дожидаться завтрака; схватив кусок хлеба с сыром и наскоро разжевав его, он пошел блуждать по острову. Самвел остался с отцом. Старик Арбак вместе с слугами Самвела расположился на траве около палаток. Меружан, под руку с персидским полководцем Кареном, прогуливался перед палатками и о чем-то горячо с ним разговаривал.
Остров имел овальную форму; он был зажат между двумя протоками вдоль реки. На нем не было жилья. Виднелось лишь несколько маленьких шалашей, теперь пустовавших: в них жили когда-то сторожа острова.
Прекрасен был этот волшебный остров в своей дикой красе! Сколько любви и сколько слез видели его зеленые лужайки. Когда-то сюникский князь приезжал сюда с толпой наложниц и музыкантов. Гремела музыка, плясали танцовщицы и вино из серебряных сосудов лилось через край. Ночи напролет проходили незаметно, в беззаботном и шумном веселье. Даже стыдливые нимфы Аракса с тайной завистью смотрели на счастливых смертных, которые умели так ненасытно наслаждаться любовью и красотой женщин.
Да, прекрасен был этот волшебный остров! Высокие и стройные камыши с их, белыми, похожими на кисти верхушками тихо покачивались от легкого дуновения зефира и таинственно шуршали, переговариваясь сладострастно-влюбленным шепотом. Осторожная серна, вытянув длинную, гибкую шею, жадно обрывала сочные листья камышей. Едва заслышав подозрительный шум, она быстро скрывалась в кустарниках. А там, в сыром сумраке тростников, на холодном илистом ложе ворочался страшный вепрь, высокомерно прячась от жгучих лучей солнца. Озираясь во все стороны, трусливый заяц быстро пробегал по мягкому шелку травы. А стоявшая на мшистой вершине скалы взволнованная кабарга смущенно поглядывала вниз, точно хотела понять, зачем приехали сюда эти странные гости.
Пышная растительность вызывала восхищение своим разнообразием и обилием. Среди свежей, сочной зелени бросались в глаза блестящие головки различных водяных лилий, которые в других местах являются красой болот. Кое-где выглядывала дикая кувшинка на своем тонком стебельке, с длинными мечеобразными листьями, наполняя воздух приятным благоуханьем. Темно-красная роза то там, то здесь раскрывала свой роскошный бутон, улыбаясь темно-пурпуровыми, бархатистыми лепестками. Кусты и тонкие деревца росли так тесно, что даже на небольшом расстоянии нельзя было различить человека. Никакой конь не мог пробраться через густое сплетение зарослей, скрывших едва заметные тропинки. Проще было идти пешком.
После окончания завтрака каждый из охотников взял свое оружие, готовясь к облаве. Бдительные доезжачие вместе с собаками-ищейками давно уже рыскали по зарослям, выслеживая зверя.
Охотники, пустившись в путь, разделились на небольшие отряды и разошлись в разные стороны. Юный Артавазд присоединился к отряду Меружана, а Самвел — к отряду отца. К ним примкнул и персидский полководец Карен. Старик Арбак вместе, со слугами Самвела следовал за ними. Остальные персидские военачальники составили самостоятельные отряды.
Самвел с длинным и толстым копьем в руке молча шел впереди. Его смуглое лицо приняло медно-желтую окраску. Таким он бывал в минуты горячего боя и во время радостных развлечений охоты. Но не было теперь всего того, что мгновенно возбуждало, волновало молодое сердце. Его повергли в мрачные переживания совершенно иные обстоятельства.
— Самвел, — заметил ему отец тоном, в котором выражалась вся нежность родительского сердца, — будь осторожен, если встретишь вепря: они здесь страшно злые.
— Мне бы хотелось, отец, встретиться с тиграми или со львами, — грустно ответил Самвел, — но как жаль, что ни тигры, ни львы здесь не водятся. Хотел бы я, чтобы из волн Аракса выглянул крокодил и разъяренный напал на меня!
Самвел не был хвастуном. Отец это знал. Что же было причиной такой странной игры его воображения? Во время завтрака он пил очень мало; это заметил отец. Значит, его не могло возбудить и вино. Все же отец спросил:
— Может быть, этими прекрасными желаниями ты хочешь доказать свою храбрость? Но она не нуждается в таких доказательствах.
— Нет, отец, не для этого… Я далек от всякого тщеславия. Но мне хочется биться… биться насмерть…
Отец загрустил. «Он хочет биться насмерть… Что же навело тоску на светлую, молодую душу дорогого сына?» Эти мысли стали его ужасать.
Их разговор был прерван звуками рога доезжачего. Самвел бросился туда, откуда доносились звуки. За ним побежал юный Иусик, исполнявший обязанности оруженосца, и некоторые из слуг Самвела.
Появившееся животное было не из тех, о которых мечтал Самвел. Из ивовой чащи выскочил громадный олень с тяжелыми ветвистыми рогами. Он лениво посмотрел вокруг и, пригнув рога назад, попытался бежать, но собаки немедленно окружили его. Ни одна из них не решалась приблизиться к зверю. Острые рога его служили не только как щит, но и как копье. Едва он поворачивался, как собаки в страхе отбегали в сторону.
Самвел подоспел как раз вовремя. Олень яростно кинулся на него, собираясь распороть живот своему смелому противнику. Но Самвел быстро и ловко вонзил ему копье в правый бок. Копье ранило оленя, но не смертельно. Вторичный удар пришелся в бедро. Собаки снова окружили зверя. Самвел еще раз ударил копьем. На этот раз он снова попал в бедро. Олень повернулся и побежал, разорвав цепь собак. Из слуг никто не смог его задержать. Самвел бросился в погоню. С поразительной быстротой неслось животное, но еще быстрее бежал Самвел. Он с детства упражнялся в этом искусстве, которое являлось одним из главных предметов его обучения. Отец, стоя со своими спутниками, нетерпеливо наблюдал, чем кончится травля. Длинные гибкие ноги оленя едва касались земли; Самвел на бегу беспрерывно метал в него стрелы, но они, как легкие перья, повисали на туловище зверя. Израненное животное продолжало бежать, оставляя за собою на тропе кровавые следы. Слуги Самвела вместе с собаками бросались с разных сторон наперерез оленю, чтобы не дать ему возможность, бросившись в реку, переплыть на другой берег. За Самвелом бежал лишь его оруженосец, юный Иусик.
— Давай аркан! — крикнул на бегу Самвел, — а то этот негодяй замучит меня!
Иусик подал ему длинный аркан. Намотав один конец себе на левую руку и свернув другой конец клубком в правой руке, Самвел ловко накинул аркан на голову быстро бегущего оленя. Аркан запутался в его ветвистых рогах и упал на шею. Теперь уже нужна была только сила, чтобы удержать разъяренное животное, а иначе он поволок бы за собой смелого метателя аркана. Но Самвел одолел это без особого труда. Он так опутал арканом оленя, точно паук муху. Тут подоспевший Иусик поднял копье, чтобы прикончить зверя, но Самвел остановил его.
— Оставь, я хочу живым отвести, его к отцу.
При виде пойманной добычи Ваган беспредельно обрадовался. Рядом с ним стоял персидский полководец Карен.
— Как тебе это нравится? — обратился князь Ваган к полководцу.
— Чудесно, тому свидетель светлый Ормузд, чудесно! — воскликнул удивленный перс. — Знаешь ли, князь, охота на оленя труднее, чем на льва или на тигра, потому что олень быстроног и может убежать, а лев и тигр стыдятся бегства, они дерутся. А с дерущимся легче: либо победишь, либо будешь побежден.
Самвел подтащил оленя к отцу.
— Я свое сделал, — сказал он, вытирая пот, — у нас теперь достаточно мяса к обеду.
— Неужели ты не хочешь больше охотиться? — спросил отец.
— Я непрочь немного отдохнуть. Этот бессовестный порядочно-таки утомил меня, — сказал Самвел, указав на оленя.
Подбежавшие слуги унесли оленя. Самвел вместе с отцом направился к палаткам. Иусик последовал за ними. А персидский полководец Карен пошел посмотреть, что поделывают другие охотники.
Около одной из палаток отец сказал Самвелу:
— Войдем сюда, это наша палатка!
— Мне хочется немного прогуляться по острову и насладиться его красотой, — ответил Самвел, — палатки окончательно навели на меня тоску. Да и грешно сидеть в них, когда над тобой ясное небо, а вокруг шелковистая зелень и чудесные берега Аракса!
Отец снова заметил, что сын все еще мрачен. Чем же он так обеспокоен? Ведь все, что делалось сегодня, делалось лишь для того, чтобы занять и развлечь Самвела! А он как будто избегал всего этого. Он искал уединения, он стремился к тишине пустынных мест, чтобы быть с самим собой, чтобы углубиться в свои думы.
Отец не дал ему уйти одному, взял его за руку, и они вдвоем медленно направились в ту сторону острова, где было меньше зарослей.
Издали были слышны звуки охотничьих рогов, доносились разноголосые крики. Отец и сын шли медленными шагами по мягкой траве, украшенной пестрыми цветами, которая расстилалась перед ними подобно узорчатому ковру. Долго они шли молча, пока не очутились на берегу. Там их привлекли под свою сень плакучие ивы. Сын и отец сели рядом. Как приятно было в тени! Ивы давали им живительную прохладу своей непроницаемой листвой, хотя полуденное солнце уже начинало сильно палить.
Между отцом и сыном царило напряженное молчание. Оба хотели говорить, но не знали, с чего начать. Это было в первый раз, что они находились вместе и в таком уединении. Каждый из них готов был раскрыть свое сердце. Отец хотел подробно объяснить сыну свои намерения, рассказать, как он представляет себе его будущность, что он намерен сделать для его счастья. Кроме того, он хотел объяснить, каковы его политические задачи, относящиеся вообще к положению Армении. Сын же не нуждался в ясных объяснениях. Он уже все знал и все понял. Он хотел лишь заявить отцу, что все то, что отцом совершено и что он еще намеревается совершить, несомненно, приведет родину к невозвратной гибели, и что он, Самвел, отвергает славу, добытую на руинах родной страны.
Пока отец и сын сидели в щемящем душу молчании, которое в любой миг угрожало взрывом, юный Артавазд на другом берегу острова совершал чудеса. Его собаки выгнали из камышей свирепого вепря с белоснежными острыми клыками; страшно рыча, вепрь кидался из стороны в сторону, и всякий раз собаки всей стаей отскакивали от него, как мыши от кошки.
В тех местах охотились верхом, так как местность была довольно подходящая для езды на конях. Только у самого берега были тонкие заросли камышей, откуда собаки и выгнали вепря. Он всячески старался вернуться в свое мрачное логово, в камышовые заросли, но персидские юноши длинной цепью загородили ему дорогу. Каждый раз, когда вепрь приближался, они копьями отгоняли его назад. Поле сражения было предоставлено юному Артавазду, который должен был один на один сразиться с опасным зверем.
— Артавазд, держись дальше! Так нельзя!.. — крикнул ему Меружан, с особым интересом наблюдавший за борьбой юноши и свирепого зверя.
— Это что? — ответил Артавазд с обычным хвастовством. — Я однажды в лесах Бзнуника убил медведя…
Меружан поверил, но все же приказал персидским юношам помочь юному охотнику.
— Не надо, умоляю! — крикнул Артавазд весьма настойчиво. — Вели, чтобы мне не мешали. Я один прикончу зверя. Он мой, ведь я его нашел в топях камыша.
Меружан приказал не вмешиваться. Артавазд обратился к старику Арбаку:
— Дай мне твоего коня, дорогой Арбак! Мой пуглив, а твой конь стар и опытен, как ты.
Старик с неудовольствием слез с коня.
— Если бы не твой язык, голову твою унесли бы вороны.
Артавазд не обратил внимания на злую насмешку Арбака, вмиг вскочил на его коня, а своего отдал ему. В это время вепрь, попавший в ловушку, рыча и хлопая большими ушами, перебегал с места на место; он искал выхода, но со всех сторон встречал цепь персидских юношей. Артавазд стал гоняться за вепрем. Болотное страшилище то и дело направляло на коня Артавазда страшные клыки, но Артавазд всякий раз поражал его сильными ударами копья. Вскоре он заметил, что его удары не причиняют вепрю никакого вреда. Это его разозлило. Но еще более разозлился юноша, когда услыхал, как персидские юноши над ним подсмеиваются.
— Милый Арбак, — обратился он к старику с новой просьбой, — умоляю, дай мне твое копье; мое очень легкое и тонкое, боюсь, что оно сломается.
— Возьми, дорогой Артавазд, — добродушно сказал старик, — возьми мое копье, но вот рук своих я дать тебе не могу.
Меружан пояснил скрытую усмешку старика:
— Чтобы владеть копьем Арбака, надо иметь его крепкие руки, Артавазд.
— Да ведь и я не из мелких зверей, — ответил Артавазд, глядя в лицо Меружану с вызывающей самоуверенностью.
Хвастовство юноши вызвало на этот раз глубокую радость Арбака, который с удовольствием обменялся с ним копьями.
Копье действительно было несколько велико и тяжеловато для слабых рук Артавазда, но онзнал, как нужно с ним обращаться, сидя на коне. Он присоединил к силе своих молодых рук огромную силу своего коня. Не теряя времени, Артавазд взял под мышку правой руки древко длинного копья и, держа его наперевес острием вперед, пришпорил изо всей силы коня и погнал его на вепря. Стремительный напор сильной лошади был вполне достаточен для того, чтобы копье вонзилось в бок вепря и пронзило его насквозь.
— Так было легко пронзить зверя, — смеясь закричали персидские юноши, — но посмотрим теперь, как ты вытащишь копье!
Артавазд круто повернул коня, конь рванулся и легко извлек копье, а огромный вепрь остался лежать на земле.
Со всех сторон раздались крики одобрения. Артавазд бросил добычу, которую слуги немедленно поволокли к палаткам, а сам подъехал к группе зрителей. Прекрасное лицо его сияло от радости. Он вернул старику Арбаку коня и копье, прошептав ему на ухо:
— Спасибо тебе за твою доброту, дорогой Арбак, иначе эти персидские щенки засмеяли бы меня.
Так продолжалась охота, в то время как Самвел вместе с отцом сидели на берегу острова. Самвел молча смотрел на красный поток Аракса, который нежными волнами ударялся о песчаные берега. Вода казалась похожей на алую кровь. Отец рассказывал ему о своих планах и намерениях, конечно, в той мере, в какой мог доверять сыну. Рассказал, что когда «с божьей помощью» они доставят пленных армян и евреев в Тизбон и когда он сам будет иметь счастье еще раз удостоиться милостивой награды царя Шапуха, они вместе с Меружаном вернутся в Армению, и здесь в качестве спарапета всей Армении он займется организацией находящихся под его началом армянских войск. Рассказал о том, какую форму намерен придать Меружан новому, им созданному государству. Он очень злобно говорил о «злодеяниях» и «безнравственности» Аршакидов и, увлеченный успехами Меружана, выражал свою глубокую радость по поводу того, что наконец-то они освободятся от невыносимого ига Аршакидов и что Армения под мощным скипетром Меружана вновь обретет мир и спокойствие. Самвел слушал молча. Слова отца, точно отравленные стрелы, вонзались в его опечаленное сердце.
Потом отец стал рассказывать о своих намерениях относительно Самвела. С особой радостью он сообщил, что царь Шапух много раз слышал о Самвеле, знает о его доблестях и что в Тизбонском дворце уже известно его имя. Надо только, чтобы Самвел представился царю царей Персии, и тогда Шапух обязательно назначит его начальником армянской конницы, находящейся в Персии. Таким путем Самвел станет приближенным персидского двора и вообще персидского царского рода. Его красота, дарования и благовоспитанность являются залогом того, что царь царей Персии выдаст за него замуж одну из своих дочерей с таким исключительно богатым приданым, какое получает всякий, имеющий счастье быть зятем царской семьи.
Самвел почти не слушал. Он выслушал со вниманием только начало рассказа отца, а каков будет его конец, он знал заранее. Он сидел, понурив голову, печальные глаза его были устремлены на обрубок толстого полусгнившего бревна, выброшенного рекой на берег. Иногда же его внимание отвлекал странный шорох, доносившийся из ближайших кустов. Отец заметил это и стал его успокаивать:
— Там шевелится, вероятно, какой-нибудь зверь, убежавший от охотников.
— Нет, это ветер шевелит кусты, — нехотя отозвался Самвел и снова стал смотреть на бревно.
Иногда даже самые незначительные предметы вызывают довольно занятные мысли. Глядя на кусок бревна, Самвел размышлял: «Если это толстое бревно, легкое от гниения, сбросить в воду, можно ли на нем переправиться на другой берег реки?..»
Ближние кусты действительно раскачивал ветер. Погода, столь тихая и прекрасная утром, после полудня стала хмуриться. Поднялся обычный в этих местах ветер, и в чистом воздухе закружилась тонкая красноватая пыль. На всякого, не знакомого с местными условиями, это странное явление производило гнетущее впечатление. Ясный горизонт внезапно окрашивался в багровый цвет и человеку начинало казаться, что с неба идет мелкий, распыленный кровавый дождь. Этот мрачный пейзаж как нельзя более соответствовал душевному состоянию Самвела.
— Странными свойствами обладает Аракс, — заговорил он, точно сам с собою, — удивительными качествами обладают и его таинственные окрестности. Лучезарное, ясное утро сменяется сумрачным, унылым днем и багровым туманом. На смену веселью, беспечной радости приходит щемящая тоска. Грустно! Я хотел немного забыться. Но напрасно… О, если бы я… Если бы я был злодеем! Может быть, и меня постигла бы та же судьба, что выпала на долю злого сына Арташеса… Во время охоты он вместе со своей лошадью утонул в пучинах Аракса. Земля не выдержала злодеяний царевича, которыми он насытил Армению: раскрыв свою страшную пасть, она поглотила его.
Отец с ужасом слушал Самвела.
— Почему ты вспомнил об этом печальном событии? — спросил он, взяв дрожащей рукой правую руку Самвела.
— Не знаю, быть может, потому, что мы находимся недалеко от тех роковых мест, где произошло это событие. Жалкий злодей исчез в пучинах Аракса, но не нашел успокоения… Каджи Масиса увели его, приковали к скале в темной пещере, где он мучается и до сих пор…
— Самвел! — воскликнул отец не своим голосом, — что с тобой? Откуда у тебя эти мрачные мысли? Ты хочешь смерти, тебе невыносима жизнь! Но ведь ты в таком возрасте, когда едва начинается цветущая весна твоего счастья! Чего же тебе недостает? Твой отец готов со всей свой родительской любовью сделать для тебя все возможное. Послушай, Самвел, ты даже не постигаешь своего безграничного счастья, щедрые блага которого еще ожидают тебя. Тысячи княжеских сыновей должны завидовать твоей славе, тысячи княжеских дочерей должны мечтать о супружестве с тобой! Ты же изберешь для себя прекраснейшую из прекраснейших несравненную дочь царя царей Персии.
— Ничто не может залечить раны моего сердца, отец, ничто не может изгнать из моей души печаль, день и ночь терзающую меня. Жизнь поистине стала для меня невыносимой, и я охотно бы умер, если бы знал, что после смерти нет иной жизни. Но люди уносят с собой в могилу свои горести. Это ужаснее, чем вечная мука и бездна ада…
При этих словах он повернул к отцу бледное лицо и продолжал с глубочайшим волнением в голосе:
— Отец, мы здесь одни, здесь нас никто не услышит. Позволь мне излить перед тобой все свои горести, все свои страдания.
— Говори, дитя мое, открой отцу свое сердце. Что тебя мучает? С того дня, как ты приехал, я все время замечаю в тебе какую-то тревогу, какое-то душевное беспокойство… Не скрывай ничего и будь уверен, что отец питает к тебе такую безграничную любовь, что может отозваться на все твои тревоги и посочувствовать твоему горю.
— Как же не горевать, как не печалиться, отец! Даже каменное сердце, даже душа, в которой вымерли все человеческие чувства, не могут оставаться равнодушными при виде того, что увидел я, того, что еще буду иметь несчастье видеть. С того дня, как я выехал из нашего замка, со дня, как я покинул Тарон, и до моего прибытия сюда, я находился среди варварских разрушений: видел города, превращенные в пепел, видел безлюдные села, видел разрушенные монастыри и храмы… На каждом шагу нога моя утопала в крови, да, в крови моих соплеменников. Кто же совершает эти преступления и для чего?
Отец совсем не ожидал от сына таких слов. Он остолбенел под градом упреков, в которых выражалась печаль его сына.
— Ты молчишь, отец, ты не отвечаешь. Мне понятен смысл твоего молчания. Но разгром родины, плач и слезы тысяч людей дают смелость твоему несчастному сыну сказать тебе, что все эти жестокости совершены руками двух людей, из которых один — мой отец, а другой — мой дядя, Меружан Арцруни…
— Великие дела требуют больших жертв, — прервал Самвела отец.
— Верно! Великие дела требуют больших жертв, — с горечью повторил Самвел, — но ты, отец, правильно ли сравнил величие дела с размерами преступления? Уничтожить родную страну, уничтожить родную веру и на развалинах Армении создать персидское царство, — вот то дело, которое ты, отец, называешь великим.
— Почему персидское царство? — с раздражением сказал отец. — Разве Меружан перс?
— А то кто же? И ты, отец, и он — вы отреклись от христианства и приняли религию персидского царя Шапуха. Армянские храмы заполнили персидскими магами и первомагами. Всюду принуждаете отречься от христианства. Моя мать уже стала огнепоклонницей и в благочестивом доме Мамиконянов устроила персидское капище. Мои братья теперь говорят между собой только по-персидски. Армянский язык изгнан из нашего дома. Вы уничтожаете армянские книги, чтобы распространить в Армении персидский язык и персидскую письменность. Вчера я видел своими глазами, как перед голубым шатром Меружана жгли армянские рукописи. Что же останется в нашей стране армянского после всего этого, если будет уничтожена религия, уничтожены язык, народные предания, если, наконец, армяне будут жить по персидским обычаям и молиться по-персидски? Можно ли такое государство считать армянским? Рано или поздно оно растворится, исчезнет в персидском царстве и вместе с ним исчезнут, сгинут народные святыни…
— Будь что будет! Лишь бы уничтожить династию Аршакидов, — ответил отец, все больше раздражаясь.
— А чем же были плохи Аршакиды?
— Ты еще спрашиваешь, Самвел! Ты ведь не ребенок! Достаточно только вспомнить то, чему ты был свидетелем сам. Сколько злодеяний совершил на твоей памяти царь Аршак, ныне обреченный на мучения за свои грехи в крепости Ануш. — Он стал перечислять подробно деяния Аршакидов и затем добавил: — Неужели ты хотел бы, чтобы такая порочная и запятнанная династия продолжала существовать?
— Поведение твое и Меружана еще хуже, — сказал Самвел, не выражая на этот раз сыновнего почтения. — Грязь не смывают грязью, а безнравственность не уничтожают безнравственностью. Для борьбы с ними есть иные меры… Среди Аршакидов были и сейчас имеются почитаемые люди, доблестями которых всегда должен гордиться армянский народ. Если же в этой славной семье за последнее время появились отдельные безнравственные люди, то это их собственные грехи, за которые они должны сами расплачиваться. Зачем же за их грехи наказывать весь армянский народ? Я скажу больше, отец, даже самые порочные цари из Аршакидов не доходили до того, чтобы предавать свою отчизну и родную церковь! А вы — ты, отец, и Меружан?!
Последние слова молнией поранили сердце отца. Все его радужные надежды, все горячие мечты рухнули разом. Он горячо надеялся, что сын будет не только сочувствовать, но и содействовать ему. А теперь его сын оказался противником, и притом таким противником, с которым очень трудно было сладить. Как с ним поступить? В душе князя с ужасающей силой боролось чувство родительской любви с требованием долга. Чему отдать предпочтение? Он сильно раскаивался, что дал повод сыну заговорить до такой степени откровенно! Но было уже поздно. Нужно было делать выбор: либо сын, либо начатое дело. Лишиться и того и другого было бы смертельно ужасно.
Между тем погода совсем испортилась; ураганный ветер яростно выл и беспощадно обдавал красной пылью собеседников. Но они не замечали этого.
— Ты приехал порицать своего отца, Самвел? — сказал князь после нескольких минут тяжелых душевных мук.
— Нет, отец, не для этого я приехал. Я приехал договорить с тобой об истинном, справедливом и честном, о чем никто не осмелился бы говорить с тобой, кроме меня. Я приехал просить тебя, умолять от всего сердца, во имя моей горячей любви к тебе оставить этот путь, который ведет к неотвратимой гибели нашу отчизну, а род Мамиконянов к вечному проклятию и осуждению.
Отец расчувствовался и мягко ответил:
— В тебе говорят горячие чувства молодости и чистота сердца, Самвел! Я не могу не радоваться, что ты сохранил эту душевную непорочность. Но указания сердца редко бывают правильными. К несчастью, в отношениях между государствами и народами очень малое место занимает то, что ты называешь добродетелью и нравственностью. Сильный всегда угнетает и уничтожает слабого. Что поделаешь? Беспощадная необходимость нашей жизни иногда направляет нас по этому пути и заставляет совершать такие дела, от которых может содрогнуться даже ад. То, что мы совершили, было неизбежно необходимо. Мы соединились с персами, чтобы освободиться от коварных византийцев. Персы — наши давнишние друзья. За последнее время христианство разделило нас и воздвигло между нами преграду. Обстоятельства требуют разрушить эту преграду и протянуть руку старому другу.
— Но в8ы разбиваете не преграду, а основание, — прервал Самвел.
— Отнюдь нет! Слушай, Самвел! Мне пришлось бы долго говорить, если бы я начал тебе доказывать, что, отрекаясь от веры в Иисуса Христа и возвращаясь к прежним нашим богам, мы ничего не теряем. Я тебе повторяю то же, что сказал несколько минут тому назад: великие дела требуют больших жертв, и мы вынуждены были принести эту большую жертву.
— Но где же то великое дело, ради которого вы приносите в жертву веру, церковь? — спросил Самвел, снова придя в возбуждение.
— Низвержение древней тирании, гибель Аршакидов, — ответил отец. — Неужели ты считаешь это маленьким делом?
— Я не считаю. Но ради чего вы стараетесь погубить Аршакидов?
— Если мы их не погубим, то они погубят нас. Разве ты забыл, с какой яростью царь Аршак и его отец уничтожали нахарарские княжества?
— Не забыл! Но я вновь скажу тебе, что для предотвращения своеволия Аршакидов существуют иные, более подходящие средства.
— Нет никаких иных средств, кроме тех, которые нами применяются и будут применяться. Армянские нахарары разделились на две большие партии: одна, под руководством духовенства, старается сохранить разбитый трон Аршакидов; другая идет за мной и Меружаном и хочет, уничтожив старое, образовать новое царство. Вполне естественно, что внутренняя распря должна была превратиться в войну. Наши противники обратились за помощью к Византии, а мы стали искать поддержку у персов. Началась внутренняя кровопролитная борьба. Чем она кончится, бог ведает, но пока удача на нашей стороне.
— Знаю, что на вашей стороне. Но пусть вас не прельщает этот обманчивый успех…
Говоря это, Самвел схватил отца за правую руку.
— Слушай, отец! Внемли мольбе своего страдальца сына: не оскверняй вечным позором светлую память наших предков Мамиконянов! Еще не поздно! Еще есть возможность поправить дело. Уничтожьте этот проклятый персидский стан, присутствие которого оскверняет армянскую землю. Удалите персов! Отпустите пленных армян: пусть они разойдутся по домам и утрут слезы своих близких. Пусть не будет сражений, пусть не будет войны, ставшей причиной стольких бедствий. Пусть восстановится мир и армянская земля наслаждается прежним покоем. Я пойду к Меружану, буду просить его о том же, стану целовать его ноги, чтобы он внял моей мольбе.
Отец встал и сердито сказал:
— Напрасны будут твои мольбы и просьбы, Самвел! Меружан не из тех, которые прислушиваются к словам невежд.
Кровь горячо ударила в голову Самвела.
— Отец! — воскликнул он взволнованно, и глаза его загорелись гневом. — Это я — невежда?
— Да, ты, Самвел! Мне не удалось разъяснить тебе мои мысли и мои задачи. Теперь остается спросить тебя: к какой партии ты принадлежишь?
— К той партии, которая осталась верна церкви и любимому царю.
— Значит, ты мне не сын. Кто не с нами, тот против нас. А таких мы умеем наказывать беспощадно.
— И ты мне не отец!
— Самвел!
— Что, предатель?
Отец схватился за меч. Но сын уже обнажил свой меч. Он сверкнул в его руке и, как молния, вонзился в сердце Отца. Ваган Мамиконян упал, тяжело выдохнув:
— Отцеубийца!
Неподвижной статуей стоял Самвел и смотрел на лежавшего в крови отца. Затем он отер рукою слезы и поднес к дрожащим губам маленький серебряный рог.
Зловещие звуки рога возвестили об ужасном событии. Со всех сторон острова раздался гул ответных рогов.
Ветер, бешено завывая, носился бурей, крутя в воздухе густую красную пыль. Горизонт окутался сумраком темно-кирпичного цвета, затемнявшим вечерние лучи солнца. Под напором бешеного ветра зеленые кусты и колючие заросли то пригибались к земле, то снова поднимали свои колеблемые ветром верхушки. Испуганные воробьи носились в воздухе, точно маленькие клочья ваты. Даже быстрокрылый сокол с трудом сопротивлялся яростному напору разбушевавшейся стихии. Буря постепенно усиливалась; человек и животное, пресмыкающиеся и птицы искали себе пристанища. Глубоководный Аракс вздымался над берегами, как будто хотел увидеть, что происходит вокруг. Княжий остров содрогался перед буйными волнами, которые, казалось, готовы были в любой миг поглотить его бесследно.
В общей суматохе охота на зверей прекратилась; началась иная охота.
Вначале казалось, что охотники, испуганные силой урагана, потеряли друг друга и рассеялись по разным сторонам острова, чтобы найти убежище. Никого не было вокруг. Особенно заметно было отсутствие людей Самвела.
Виден был только белый всадник — Меружан.
Он спешно гнал свою лошадь в сторону палаток. Велико было его удивление, когда он нашел палатки опрокинутыми и пустыми. «Быть может, — подумал он, — ветер опрокинул палатки и люди в страхе разбежались, боясь, как бы разъяренный Аракс не затопил остров. Нет, тут, как видно, кроется заговор», — промелькнула у него мысль, и он, схватив висевший у него на груди изогнутый рог, затрубил. Но никто не отозвался. Он поспешил к мосту. То там, то тут попадались трупы. Он их узнавал. То были его люди и люди Самвела. По гордому лицу Меружана пробежала горькая усмешка: «Дети устроили нам ловушку!»— подумал он и погнал лошадь дальше.
Вдруг одновременно с ревом ветра послышался свист: чья-то стрела ударила ему в бок, но со звоном отскочила. За ней полетела вторая, третья… Последняя застряла в бедре.
— Ах, если бы я знал, что на тебе кольчуга! — послышался резкий голос из ближайших зарослей, заглушенный быстрым ветром.
Меружан беспокойно посмотрел во все стороны. Погнал лошадь туда, откуда летела стрела. Густые заросли преградили ему путь. В это время новая стрела попала ему в голову и снова отскочила.
— Тьфу, черт возьми!.. — послышался сердитый голос. — У него и голова, в железе!..
Меружан в глубоком волнении повернул коня, не зная, куда ему направиться. Он схватил стрелу, которая все еще торчала у него в бедре, и с гневом выдернул; ее; кровь полилась ручьем. Горькая усмешка снова появилась на его гордом лице. Покачав головой, он сказал себе: «Прежде мы охотились на зверей, прячущихся в зарослях, а теперь из зарослей за нами охотятся сидящие в засаде люди».
В засаде же находился не кто иной, как юный Артавазд. Ему выпало на долю поразить Меружана. Но его горячее желание осталось неисполнением. Его, стрелы попадали в железный панцирь Меружана, скрытый под его одеждой. Артавазд ощупью прополз через кусты и заросли и вышел на ту сторону острова, где был привязан его конь. Он вскочил на него и помчался к своим товарищам.
В это время по другую сторону острова в густой пыли урагана боролись двое: старик Арбак и персидский полководец Карен. Перс сердито кричал:
— Довольно, старая лисица! Помни, что ты наш гость и я щажу тебя!
— Спасибо за любезность, — улыбаясь ответил старик. — Когда перс впадает в отчаяние, он становится великодушным.
— Ты убил моего коня, и я теперь пеший, а сам ты сражаешься, сидя на коне.
— Я сейчас сойду с коня, пусть наши силы будут равными!
Арбак соскочил с лошади и отвел ее в сторону. В этот момент хитрый перс вскочил на его коня и мигом умчался.
Самвел после рокового убийства искал Меружана. Долго он бродил по острову, желая встретиться с ним и горя жаждой мести. Но вместо Меружана он наткнулся на старого Арбака, который остолбенело смотрел в ту сторону, где исчез его трусливый противник.
— Меня обманули! Ужасно обманули! — проговорил он, обращаясь к Самвелу. — Десять ударов копьем не так бы меня огорчили, как этот обман.
Он рассказал Самвелу, какую шутку сыграл с ним перс.
— Не беда! — ответил Самвел, утешая огорченного старика, — Мы еще с ним встретимся. А теперь труби в рог, пусть соберутся наши люди.
Старик затрубил.
Из сорока телохранителей Самвела появилось только семеро. Остальные лежали в разных концах острова либо мертвые, либо раненые. Молодой человек с грустью посмотрел на оставшихся и сказал:
— Семеро! Таинственное число!..
— А у врагов наших и того не осталось! — вдруг послышался голос.
Самвел посмотрел в сторону, откуда донеслись эти слова. Артавазд бросился ему на шею.
— Мне не посчастливилось, — сказал он с сожалением, — я пробил Меружану только бедро.
— Разве ты не знаешь, что он колдун? Железо и сталь его не берут.
— Я это видел своими глазами. Но теперь я знаю, почему не берут!
Вечерело. Солнце закатывалось.
Юный Иусик подвел Самвелу коня. Весь отряд сел на коней и направился к мосту. Переехав через мост, Самвел приказал его разобрать.
— Пусть спят покойники! Разберите мост, чтобы звери не тревожили их.
Они быстро разобрали временный мост и бросили части в воду. Волны унесли их, как легкие щепки.
Все покинули остров. На нем остался лишь один Меружан. Когда он подскакал к тому месту, где была переправа, солнце уже село… Увидев, что мост уничтожен, он заметался, как зверь в железной клетке, но духом не пал. Измерив гневным взглядом ширину протоки, он понял, что лошадь не в состоянии ее перескочить. Он поглядел на бушевавший Аракс. Пенясь, вздымались волны; река гулко ревела. Он погнал коня в реку. Белый конь перерезал бурные стремнины и благополучно вынес всадника на противоположный берег. Раненый зверь спасся от ловушек Аракса.
V. Мать
Рахиль оплакивала детей своих и не хотела утешиться, ибо не было их.
Матфей
Ясное солнечное утро сменило бурную ночь. Природа ликовала, восхищаясь прекрасным утром. Веселыми песнями встречали птицы торжественный восход дневного светила. Всюду веяло безграничной радостью, всюду царило безудержное ликование. Только стан персов был окутан сумраком глубокой печали.
События вчерашнего дня были уже известны всем. Каждый воин знал о том, что произошло на Княжем острове. На рассвете доставили в лагерь тело Вагана Мамиконяна и положили его в роскошном пурпуровом шатре.
Голубой шатер Меружана выглядел в это утро особенно богато. Первые лучи солнца нежно сверкали на его позолоченных столбах. И все же этот пышный шатер не имел того торжественного вида, как в те дни, когда после восхода солнца в него собирались все начальники и воеводы. Они приветствовали своего могучего полководца, и каждый из них докладывал о состоянии лагеря. А затем пользовались гостеприимством Меружана, вкушая вместе с ним роскошный завтрак.
В это утро никого из них не было. Занавеси шатра были лишь наполовину приподняты, и слуги двигались на цыпочках, боясь нарушить тишину. Иногда к шатру подходили военачальники, шепотом спрашивали слуг о здоровье князя и молча удалялись.
Князь лежал. Его шелковую постель сегодня окружали лишь лекари, которые с особым старанием накладывали лекарства на его раненое бедро.
— Вы мне только скажите, — твердо спросил больной, — не повреждена ли кость?
— Да не коснутся тебя злые козни Аримана, высокоименитый тер! — ответили лекари вместе. — Кость не задета, как не помрачен свет наших очей. Если бы было какое-либо повреждение, мы бы не скрывали.
— Так отчего же такая невыносимая боль и сердечная слабость?
— Рана глубока, высокоименитый тер. А слабость от большой потери крови. Дорога от Княжего острова длинная, из открытой раны все время текла кровь.
— А эта лихорадка, которая жжет меня?.. Я не раз бывал ранен, но такого жара никогда не ощущал, быть может, стрела была отравлена?
— Пошли тебе всесветлый Ормузд скорое исцеление, высокоименитый тер, — хором еще раз ответили лекари. — Если в твоей ране есть хоть капля яда, пусть все наши тела пропитаются им. Яда нет! А жар — от простуды. Пересекая холодные волны Аракса, ты промок, а холодный ночной ветер надул простуду. С помощью всемогущего ты скоро поправишься, высокоименитый тер!
Возле больного стоял прохладительный напиток, и он поминутно утолял сильно томившую его жажду. Уверенья врачей хотя и не совсем успокоили его, но он все же повернулся на подушках и умолк. Он боялся отравления. Рана сама по себе мало его беспокоила: не в первый раз ему приходилось быть раненым.
Меружан сильно изменился за эту ночь: красивое лицо его побледнело и осунулось; мужественный лоб пожелтел, точно после долгой болезни.
К нему приблизился слуга с докладом: некоторые военачальники просят разрешения его проведать.
— Пусть войдут! — приказал Меружан.
Лекари отошли в сторону. Вошли Хайр Мардпет, полководец Карен и другие. Первые двое сели справа и слева от постели больного, остальные — немного поодаль. Не успели они спросить Меружана о здоровье, как он перебил их:
— Посланные вернулись?
— Вернулись, — мрачно ответил Хайр Мардпет. — Князя Мамиконяна не нашли, о нем все еще нет никаких известий. Тела же убитых доставлены в лагерь.
Когда в стане узнали о случившемся на Княжем острове, то немедленно ночью отправили на помощь несколько быстроходных конных отрядов. Но они добрались лишь тогда, когда все уже было кончено. На рассвете они обыскали весь остров, нашли тела убитых и несколько человек раненых. Тело Вагана Мамиконяна нашли на месте убийства и вместе с остальными доставили в лагерь. Но Хайр Мардпет скрыл это от больного, чтобы не огорчать его.
— Это меня очень удивляет, — сказал больной, — Если сын завлек отца и поднял на него свою изменническую руку, в чем я не сомневаюсь, то, по крайней мере, должны были обнаружить тело убитого.
— Все это произошло у берегов Аракса, — заметил один из лекарей. — Отчего не предположить, что отцеубийца бросил труп отца в волны Аракса, чтобы скрыть свое преступление.
— Нет, такой безжалостности Самвел не допустил бы, — сказал больной, — он способен убить, но не надругаться над трупом отца.
— И я того же мнения, — Сказал Хайр Мардпет. — Самвел, этот благонравный и меланхоличный юноша, строг и великодушен, как его отец. Из персидских юношей не тронут ни один. С мальчиками он не захотел биться. Сами юноши мне рассказывали, что когда люди Самвела, как звери, разбрелись по острову, убивая наповал каждого встречного, мальчикам они предоставили возможность бежать.
— Вызывает недоумение то, что не найдена лошадь убитого, — заметил полководец Карен.
— В этом нет ничего удивительного, — ответил Хайр Мардпет. — Быть может, кто-нибудь из людей Самвела во время общего смятения сел на нее и ускакал.
— Весьма возможно, — сказал полководец Карен. — Со мной случилось то же самое. Никогда, ни в одной войне я не терял своего коня, а на этом острове потерял. Можете себе представить, как? Мне встретился дядька Самвела, это вероломный старик, которого зовут Арбак. С неожиданной дерзостью он напал на меня и ударом копья убил коня. Я оказался пешим. Мне оставалось только одно — выбить его из седла и воспользоваться его лошадью. Но он с такой яростью единоборствовал со мной, что, только отправившись на тот свет, оставил мне своего коня.
Карен стал подробно описывать свое единоборство с Арбаком. В его рассказе, кроме бесстыдного вранья, значительное, место было уделено самохвальству. Каким обманным способом ему удалось захватить лошадь старого Арбака, читателю уже известно. Возвращение Карена в стан на чужом коне было достаточным доказательством того, что он в этой схватке не проявил никакой доблести.
Больной не слушал. Голова его, возбужденная лихорадочным жаром, в эту минуту была занята мыслью об исчезновении князя Мамиконяна, вызывавшем разные предположения. Хайр Мардпет, скрыв от Меружана известие о том, что Ваган убит и его тело находилось уже в стане, не только не облегчил состояние больного полководца, но, наоборот, вызвал в нем ряд тяжелых размышлений. А вдруг сын сумел склонить на свою сторону отца и оба они вместе бежали? Каковы были бы последствия такого бегства, если бы это было верно? Неужели князь Мамиконян мог оказаться таким низким изменником, после того, как связал себя крепкой, нерушимой клятвой? Неужели он изменил своему другу и сподвижнику?..
Пока Меружан был охвачен такими размышлениями, полководец Карен стал упрекать присутствующих в том, что они совершили большую ошибку, оставив стан и отправившись на охоту, несмотря на предупреждение магов, которые советовали им не трогаться с места. Предсказание сбылось, и они, отправившись на Княжий остров, попали в ловушку.
— Ошибка — это еще полбеды, полководец, — добавил Хайр Мардпет. — Хуже то, что нас сумели обмануть мальчишки. В этом смешная сторона дела.
Больной заволновался.
— Мальчики нам не чужие, Хайр Мардпет, мальчики наши родичи, сказал он разгневанным тоном, — Ты бы сам с радостью отправился с ними на охоту, если бы тебя пригласили. Но мы не пожелали обременять твоим присутствием предстоящее нам развлечение.
Ответ был довольно строг. В другое время, быть может, надменный евнух не стерпел бы таких слов. Но на этот раз он пощадил больного, который тотчас же отвернулся и уже больше не глядел на него.
Пока в голубом шатре Меружана велись такие тягостные разговоры и никто из собеседников не знал — порицать ли товарища или утешать его, пока все присутствующие в шатре пребывали в состоянии какого-то тяжелого уныния, — да, именно в это время вдали от стана, на одном из холмов города вдруг поднялся длинный шест с развевающимся на нем разноцветным знаменем. В стане еще не заметили этого, хотя утренняя мгла уже рассеялась и вся окрестность утопала и ярких лучах солнца. От утреннего нежного зефира знамя переливалось всеми цветами радуги и, точно злой дух, раскрывший свои цветные крылья, стремилось взлететь, низринувшись с высоты на стан, и, наведя на него ужас, уничтожить его.
Первым заметил знамя больной Меружан. Пристальным, тревожным взором смотрел он в ту сторону. Края знамени были обрамлены черным. Он сразу узнал изображение в середине и вздрогнул всем телом. Удар молнии не мог бы так подействовать на него, как этот цветной кусок ткани. «Жестокая старуха не перестанет преследовать меня», — подумал он, и опять по его бледному лицу пробежала та самая горькая усмешка, которая всегда появлялась у него в минуты душевного волнения. Для него все было уже ясно. Все его сомнения исчезли, в особенности, когда вошедший слуга доложил, что пришли послы и просят допустить их к князю.
— Пусть войдут, — сказал больной.
Хайр Мардпет не в состоянии был дальше терпеть, его возмутило безрассудство больного Меружана, даже не спросившего предварительно о том, кто послы и с какой целью они явились к нему.
— Ты всегда был таким неосторожным, Меружан, — наставительным тоном сказал он. — Твое самомнение не раз доводило тебя до беды. Как можно принимать послов, не зная заранее, кто они такие или для каких дел прибыли. Разве не может случиться, что кто-нибудь из них ударом кинжала нанесет тебе новую рану и во время бегства оставит свой труп у входа в шатер? Разве мало бывало таких случаев?
— Много было таких случаев, — спокойно ответил больной. — Но я уже знаю, что это за посольство.
— Откуда ты знаешь?
— А вот взгляните на тот холм. — Он указал на развевающееся знамя.
Взоры всех обратились туда.
— Знамя! — воскликнули все вместе.
— Знаете ли вы, что это за знамя?
— Не разберешь… Довольно далеко…
— Зато я вижу его совершенно ясно. Такое же знамя с крылатым драконом развевается сейчас над моим шатром. Это родовое знамя князей Арцруни. Кроме меня и моей матери, никто не имеет права поднимать это знамя. Раз оно показалось вот там на холме, значит, под ним стоит моя мать со множеством войск. И послы, без сомнения, идут от нее. Я должен их принять.
Все были сильно поражены и хранили молчание.
Гнев точно придал силы больному. Новая, неожиданная мука вытеснила невыносимую боль, которую он испытывая от раны, подобно тому, как один яд уничтожает другой. Он приподнялся и сел на постели. Слуга накинул ему на плечи легкий шелковый халат. Затем он обратился к присутствующим со словами:
— Вот видите, уважаемые друзья, только один день я не был в стане, лишь одну ночь разрешил себе поспать, а вы уже не сумели уследить, что делается вокруг стана. Мы осаждены врагами. И среди них мой самый большой враг — моя мать.
Присутствующие от стыда опустили головы, не находя слов для оправдания. Он обратился к слуге и повторил:
— Скажи, чтоб послы вошли.
У входа в шатер появились трое вооруженных с ног до головы почтенных старцев крупного телосложения и с большими бородами. Они низко поклонились, оставаясь стоять у шатра. Меружан узнал всех троих. Это были старые полководцы князей Арцруни.
При мысли о том, что послы матери застали его раненым в постели, гордый и себялюбивый князь чуть не задохнулся от гнева. Но вместе с тем в его огрубевшем, равнодушном сердце вдруг проснулось теплое чувство, когда он увидел знакомые лица, пробудившие в нем давно забытые воспоминания…
— Пожалуйте сюда, — сказал он приветливо, — садитесь.
Они вошли и сели на ковер у ложа больного.
Больной протянул руку к прохладительному напитку, налил его в серебряную чашу, поднес к дрожащим губам и, утолив жажду, обратился к пришедшим:
— Добро пожаловать! Надеюсь, что вы пришли ко мне с добрыми намерениями.
— И с добрыми, и с недобрыми, о храбрый Меружан, — ответил один из послов. — Ты, конечно, знаешь нас. Начиная с твоего детства, мы служили тому славному дому, к которому ты имеешь честь принадлежать. На теле каждого из нас имеются рубцы от сотен ран, полученных нами в многочисленных боях, в которых мы участвовали, чтобы свято хранить честь и славу твоего дома. За последнее время в дела нашей дорогой страны впутался злой дух и все в ней перемешал. Наши поля обагрились кровью, наши города покрылись пеплом. Междоусобная война, внутренняя борьба из общей превратилась в семейную. Сыновья восстают против отцов, отцы убивают своих детей. Мать отказывает сыну в милосердии и любви, а сын ни во что ставит заботы матери. Плач и стон, слезы и стенания стали уделом тех семей, в которых прежде царили любовь и счастье…
Больной снова протянул руку к прохладительному напитку, чтоб утолить жгучую жажду. Старый воин продолжал:
— Такая распря возникла и в мирном доме князей Арцруни, о храбрый Меружан! Ты, конечно, не забыл о том печальном приеме, который оказали тебе твои горожане, когда ты вступил в Хадамакерт и подошел к почтенному порогу дома твоих предков. Твоя мать закрыла перед тобой двери отцовского дома. Твоя жена отвернулась от тебя. Твои дети сказали тебе: «Ты нам не отец!» И ты, понурив голову, пошел обратно от порога этого древнего дома, тером и князем которого ты был. Твоя семья посмотрела тебе вслед и прослезилась… Она посмотрела тебе вслед так, как опечаленные друзья и родичи смотрят на опускаемый в могилу гроб… Сыплется земля, и мрачное: подземелье навеки скрывает усопшего от глаз его семьи… Так и твоя семья признала тебя умершим и погребенным, о храбрый Меружан! Умершим нравственно, умершим душой!.. И это было причиной той печали, которая охватила весь Хадамакерт. Двери были обиты черными полотнищами; на стенах висели черные флаги. Ты был мертв для твоих сограждан, ты отрекся от святой веры, которую почитали твои предки. Ты стал врагом той церкви, в спасительной купели которой был крещен. Ты изменил той родине, за незыблемость которой твои предки проливали кровь. Да! Ты погиб для твоей семьи и твоих горожан. Но тебя скрыли от их глаз не земля и не мрак могилы, а то несмываемое пятно позора, которым ты покрыл себя и светлое имя князей Арцруни…
Он приложил руку к морщинистому лбу, коснулся густых бровей, которые, казалось, скрывали пламя его огненных глаз, и затем продолжал:
— На справедливое возмущение твоей семьи, на правый гнев своих сограждан ты ответил местью, применив ужасные жестокости, о храбрый Меружан! Вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы измениться, вместо того, чтобы добром снова возбудить в них любовь к себе и уважение, ты стал применять насилие. Ты беспощадно сжег город Ван, принадлежавший тебе и твоим предкам. Безжалостной рукой ты увел в плен своих собственных подданных. В чем их вина? В чем грешны твои сограждане? В том, что не подчинились тебе, в том, что не пожелали иметь своим тером и князем предателя?
Он указал рукой на знамя, развевавшееся на возвышенности, и продолжал:
— Смотри, о храбрый Меружан, вот там развевается знамя твоих предков! Около него стоит твоя мать — княгиня всего Васпуракана. Она предлагает тебе свою материнскую любовь или оружие своих верных подданных. Сделай выбор! Во имя христианской веры, во имя родительского милосердия она готова простить тебя, готова забыть все бедствия, которые ты причинил стране, если ты распустишь персидское войско, вернешь пленных армян и миром положишь конец войне. Если ты все сделаешь, она протянет тебе свою материнскую руку для поцелуя, ты снова будешь тером и князем Васпуракана, и твой народ с покорностью подчинится тебе. А если нет, то пусть будет борьба, пусть снова кровь решит, на чьей стороне божья воля.
Все присутствующие скрежетали от злобы зубами и удивлялись терпению Меружана. Хайр Мардпет спросил с явным пренебрежением:
— А много ли войск привела с собой княгиня Васпуракана?
Посол, косо посмотрев на него, ответил:
— Она привела с собой наилучших мужей Васпуракана, о Хайр Мардпет! С ней и быстроногие мокцы, с ней и сасунцы с большими луками, с ней и страшные рштуникцы. С ней почитаемая нами крестная сила.
Хайр Мардпет расхохотался:
— Княгиня Васпуракана собрала вокруг себя весь сброд из горцев.
Меружану было очень неприятно вмешательство Хайр Мардпета и в особенности его пренебрежение по отношению к его матери. Меружан уважал в матери достойного врага, с которым можно было бороться, но которого нельзя было ненавидеть. Кроме того, Меружан при всей своей жестокости умел ценить прекрасное, возвышенное и благородное. Поэтому он мягко сказал:
— Хвалю усердие моей матери, она самоотверженно защищает интересы своей страны. Хвалю и твою смелость, о храбрый Гурген, с какою ты так откровенно передаешь мне слова матери. Надеюсь, что мой ответ ты передашь с такой же точностью. Скажи ей: если она упрямая мать, то я ее упрямый сын. Вскормленный молоком львицы должен хоть в малой мере обладать качествами льва. Пусть она не лишает меня этих родовых качеств. Я не хочу осуждать ее непростительное обращение со мной во время моего вступления в Хадамакерт и не буду оправдывать предпринятые мною шаги. Для таких объяснений время уже прошло. Могу лишь сказать, что у князей Арцруни имеется одно достойное похвалы качество — это их решительность. Пусть она не пытается нарушить мою волю, пусть не старается вызвать во мне колебания. То, что начато мною, я должен закончить. Ничто не может изменить моего намерения. Пусть борьба между нами решит, на чьей стороне божье веление.
— Но ты болен, о храбрый Меружан!
— Зато мои воины вполне здоровы, о храбрый Гурген!
Послы встали, говоря:
— Желаем и тебе полного здоровья.
Они поклонились и вышли из шатра.
Зловещее знамя, которое навело такой ужас на персидский стан, было выставлено на вершине одной из холмистых возвышенностей, у развалин Нахчевана сожженного рукою Меружана. Несчастный город еще дымился в огне и пепле. Знамя развевалось над ним, как весть о скором утешении. Оно господствовало над персидским станом. Страшный же стан занимал все пространство равнины, тянувшейся у подножья холма.
У знамени стояла княгиня Васпуракана и с большим нетерпением ожидала своих послов. Она была в черном одеянии, которое не снимала с того дня, как получила печальное известие об измене Меружана. «Он для меня мертв», — сказала с тяжким вздохом добродетельная княгиня и с той поры поклялась носить черную одежду до того времени, пока не прекратит злодеяния сына.
Ее окружали прибывшие с ней горные старейшины, а также Самвел, Артавазд и старик Арбак. Юный Артавазд беспокойно кидался с места на место и не знал, что делать. Возле нее стояли: с одной стороны Гарегин, князь Рштуникский, а с другой — Ваграм, князь Мокский, и Нерсех, князь Сасуна.
Войска заняли разные позиции. Васпураканцы расположились на холме, где находилась княгиня. Рштуникцы затаились в городских садах, отрезав единственный путь к Еринджаку и к мосту Джуги. Сасунцы закрыли дорогу к Арташату. Мокцы захватили небольшие холмы у берегов Аракса. Таким образом, персидский стан с четырех сторон был окружен врагами.
Вернулись послы и передали княгине ответ ее сына. Точно мрачная туча пронеслась по ее благородному лицу, и ее кроткие глаза заволоклись слезами:
— Я и не ждала иного ответа, — сказала мать скорбным голосом. — Было бы чудом, если бы он поступил иначе. Но ведь он болен… он ранен…
В ее словах звучала острая горечь материнского сердца, скорбная тоска. Она все еще любила сына, по-прежнему жалела его. Она готова была отдать все, чтобы без борьбы и без крови примириться со своей совестью и со своими чувствами. Она была даже готова уступить воле сына, простить ему все заблуждения, если бы его поведение не было причиной гибели тысяч людей. Но Меружан уводил с собой множество пленных, уводил на погибель в глубь Персии. Многие из этих пленных были подданными княгини, они служили ей верой и правдой, и она любила их, как родных детей. Как же можно было их лишиться?
Опечаленная женщина была охвачена этими тяжкими размышлениями, когда князь Гарегин Рштуни обратился к ней со словами:
— Нам ли жалеть его, раз он не пожалел своей родственницы: мою жену он повесил на башне ванской цитадели.
Он напомнил о печальном конце несчастной Амазаспуи.
— Мы не должны жалеть того, — добавил князь Мокский Ваграм, — кто превратил в пепелище наши города, кто разрушил монастыри и церкви, того, кто сослал нашего любимого царя и почитаемую царицу, кто выжег армянскую землю и обагрил ее кровью…
— Кровь надо смыть кровью! — воскликнул князь Сасуна Нерсех.
— А злодеяние — злодеянием, —вмешался юный Артавазд.
Самвел слушал молча.
Рядом с ним стоял старый Арбак, который недовольно заметил:
— Как бы вы ни хотели смыть кровь водой и зло добром, неужели вы думаете, что этим будет уничтожено зло?
— Он еще более укрепится в своей злобе, — заговорил Самвел, — он чудовищный Нерн[300], объявившийся в нашей мирной стране и принесший с собой голод, резню, заблуждения и разорение. Не осталось такого зла, которого бы он не совершил. Для него не существует ни раскаяния, ни прощения. Он будет без конца продолжать мерзости в нашей стране. Как его пощадить, раз он сам этого не хочет? Ему не может быть пощады!
— Я и не собираюсь его щадить! — ответила несчастная мать, подымая грустные глаза на раздраженных князей. — Я надеялась, что мой заблудший сын уважит слезы матери и сойдет с дурного пути. Только с этой целью я и отправила к нему послов. Я надеялась, что он хотя бы теперь раскается в своих грехах. Но, как видно, всякие чувства к матери, к своему народу и к своей родине давно уже угасли в его сердце. Поэтому он мертв и для меня. Я буду страдать за него, но не буду его щадить. Отныне он мне не сын. Отныне мои сыновья и мои дорогие дети — это многочисленные пленники, которые в оковах томятся в персидском стане. И, подобно тому, как некогда несчастная Рахиль, потеряв своих детей, не находила себе утешения, я тоже, как мать, потерявшая детей, не буду иметь покоя, пока не увижу своих детей освобожденными. Эти пленники — мои дети, ваши дети, дети нашей родины. Мы должны их спасти. Мы освободим их не только телом, но и душой. Если их уведут в Персию, то там для этих несчастных уготованы палачи царя Шапуха, которые либо заставят их поклоняться солнцу, либо мученически умереть. В тот день, как мы выступили в этот поход, мы поклялись освободить пленников. Мы поклялись также наказать врага у границ нашей страны. Всевышний помог нам, и мы благополучно прошли через все испытания, пока добрались сюда. Вот наш враг, он стоит там, внизу. Теперь от вашей храбрости, князья, зависит исполнение нашей клятвы. Такова воля бога.
— Да будет благословенна воля всевышнего, да прославится имя его! — воскликнули князья.
В то время как здесь все были, охвачены воодушевлением, душа раздора армянской страны, князь Меружан, все еще лежал на своей роскошной шелковой постели в голубом шатре персидского стана. После ухода послов матери он долгое время метался в какой-то лихорадочной тревоге, чего до сих пор с ним, человеком крепкой воли и смелой души, никогда не случалось. Он рисковал сразу проиграть все, потеряв вместе с тем и свое счастье. После блестящих заслуг, после исключительных успехов быть вдруг побежденным, да к тому же еще старухой! Эта мысль ужасала его. Конечно, он никогда не блуждал бы в таких раздумьях, если бы был здоров. Но он был болен и немощен. Необходимость вручить свою судьбу и судьбу войск своим полководцам, которым он не совсем доверял, — вот что его чрезмерно угнетало. Быть может, если бы был жив князь Мамиконян, он был бы избавлен от таких забот. Но он лишился наилучшего друга и храброго соратника, которому только и мог полностью доверять. Что же следовало делать?
Хайр Мардпет, полководец Карен и остальные персидские военачальники все еще сидели у его постели и с нетерпением ожидали приказаний. Он обратился к ним со словами:
— Теперь я понимаю, зачем Самвел под предлогом дружбы приезжал к нам и столь безжалостно поступил на Княжем острове. Он приехал изучить положение нашего стана, взвесить наши силы и, прежде чем начать против нас войну, уничтожить руководителей наших войск, чтобы легче выиграть победу. Я теперь не сомневаюсь, что именно он убил своего отца, а сам в настоящую минуту находится в стане моей матери.
— Ты думаешь, что Самвел по совету твоей матери устроил этот заговор? — спросил Хайр Мардпет.
— Я этого не думаю. Моя мать настолько честная женщина, что никогда бы обманным путем не подослала к нам заговорщика, да и Самвел не взялся бы за столь низкое дело. Но тем не менее я не сомневаюсь, что его приезд к нам состоялся если не по совету моей матери, то, несомненно, не без ее ведома. Самвел приезжал к нам с двумя целями: прежде всего постараться убедить своего отца и меня бросить начатое нами дело и присоединиться к нахарарам, поклявшимся в верности своему царю и старому порядку; а если бы это ему не удалось, то вторая его цель — пустить в дело меч. Так он и поступил. Он приехал к нам как жертва своей цели, и я не могу не позавидовать его энергии и самопожертвованию, свойственным лишь возвышенным душам. Если бы у меня было несколько человек, похожих на него, я был бы очень счастлив.
Он снова погрузился в глубокое раздумье. Но последние слова его обидели Хайр Мардпета. Оскорбились и персидские начальники.
— Лихорадочный жар путает твои мысли, Меружан, — сказал Хайр Мардпет высокомерно. — Ты не взвешиваешь своих слов. Неужели среди нас нет никого, кто бы мог сравниться с этим незрелым, мечтательным молодым человеком? Будь покоен, лежи себе в мягкой шелковой постели, и пусть лекари лечат твои раны. Мы пойдем на врагов твоих, покончим с ними. Неужели храбрые, опытные воины царя царей Персии дрогнут перед небольшой кучкой диких горцев?
— Идите, — раздраженно сказал больной. — Велите бить в барабаны и приготовьте войска к бою! — И, обращаясь к слуге, прибавил: — Оседлать мне коня и приготовить оружие!
Хайр Мардпет, сильно раскаиваясь в том, что своей речью взволновал Меружана, схватил его за руку и стал умолять:
— Пожалей себя, Меружан! Ты ведь болен и совсем слаб. Ты окончательно погубишь себя. Оставайся в своем шатре и хотя бы на сегодня поручи нам начальство над войском. Иначе ты очень обидишь своих военачальников, если лишишь их этого права.
Персы-полководцы также стали упрашивать больного не выходить из шатра, и каждый из них упрекал его в том, что он относится к ним с недоверием.
— За участие и в особенности за верность благодарю вас, — ответил больной, — но я теперь чувствую себя совершенно здоровым. Мои воины так привыкли ко мне, что если бы я даже был близок к смерти, то и тогда приказал бы нести мой гроб перед полками. Это, несомненно, воодушевило бы их и вселило в них бодрость.
И на самом деле персы сильно волновались, и в лагере было смятение, так как все уже знали, что стан окружен врагами. Первыми возвестили о надвигающейся беде загонщики коней и мулов, которые пасли вьючных животных на дальнем расстоянии от лагеря. Завидя приближение врагов, они поспешили согнать животных и стали торопливо двигаться к стану. Было это еще до восхода солнца.
О нападении врага узнали и все пленные. Для них это было не скорбной вестью, а благой вестью о спасении. Радости и слезам этих несчастных не было конца. Подобно зверям, выбившимся из сил, потрясали они железными оковами и, молитвенно поднимая лица к небесам, с нетерпением ждали посланных всевышним спасителей.
Но вот появился на площадке белый всадник — Меружан. Он опять был в полном блеске своего величия, и, как прежде, его грозное оружие и панцирь сияли славой геройства. Никто бы не сказал, что он болен. Появление его вызвало радость и воодушевление в войсках. Воины его любили. Он умел, как никто из полководцев, щедро награждать храбрых. Он был лучшим другом и грозным предводителем своих войск.
Войско уже выстроилось на площади в боевой готовности. Меружан обратился к воинам с ободряющими словами. По-прежнему твердо звучал его голос; слова его лились, как горячая проповедь пламенного сердца.
— Воины! — сказал он. — Вплоть до нынешнего дня вы целиком оправдали вожделенные надежды, которые возложил на вас властитель наш и царь, лучезарный царь царей, когда он провожал вас с отеческим благословением из Тизбона в Армению. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы захватили в Армении могучие крепости и замки. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы разрушили в Армении неприступные города. Славным последствием вашей храбрости было то, что мы оказались в состоянии повести в Персию огромное число пленных и безмерную добычу. Светозарный Ормузд помог нам! И мы после чудесных побед собрались уже покинуть армянскую землю, которая вскоре должна была перейти в наши руки. Наш стан расположился у границ этой страны, отсюда мы собирались через несколько дней отправиться в Персию. Но неожиданно враг отрезал нам путь. Мы осаждены громадным множеством свирепых горцев. Все наши заслуги, всю нашу славу и гордость мы потеряем, если не накажем дерзкого врага, если не сломим его безумную надменность. Я надеюсь, о храбрые воины, что вы, как всегда, так и сегодня проявите вашу непобедимую мощь. Я очень надеюсь, что вы проложите себе путь по трупам врагов, за что получите благословение лучезарного Ормузда и награду нашего божественного царя царей, смиренными рабами которого все мы являемся.
Войско дружно прогремело:
— Да будет благословен светозарный Ормузд! Слава лучезарному царю!
Там своих храбрецов воодушевляла мать, а здесь — сын. Там собирались освободить пленников, а здесь — увести их в чужую страну. Борьба происходила между матерью и сыном. Мать предводительствовала самоотверженными сынами Армении. Сын предводительствовал кровожадными врагами армянской земли. Одни поднимали спасительный крест Иисуса Христа, другие — лучезарное солнце Зороастра. Религия боролась с религией, богатыри — с богатырями.
Хотя Меружан был не очень высокого мнения о качествах персидских военачальников, которые, как например, полководец Карен, выдвигались скорее по признаку родовитости и сословной принадлежности, чем вследствие своих личных достоинств, все же он считал, что среди низших военачальников были действительно храбрые воины и хорошие люди. О них у Меружана имелось вполне определенное мнение. Однако главное затруднение заключалось в том, что стан был расположен на месте, скорее пригодном для временной стоянки, чем для военных действий. Конечно, это не могло повергнуть в уныние Меружана, если бы ему не угрожала иная опасность, а именно, опасность внутренняя. Это и явилось причиной того, что когда надо было вывести войско на поле битвы, он приказал сначала стать в оборону.
Хайр Мардпет начал ему возражать, настаивая на необходимости произвести прямое нападение на врага и рассеять его.
— Было бы большим позором, — сказал он, — если бы мы, прикрывшись щитами, терпеливо ожидали, когда враги начнут осыпать нас стрелами. Правда, они нас держат в осаде, но нам нетрудно их самих запереть осадой. Силы врага состоят главным образом из пехоты. Достаточно только приказать нашей храброй коннице выйти из стана, и она окружит их со всех сторон.
— Нам нельзя выходить из стана, Хайр Мардпет! — взволнованно сказал Меружан. — Наш самый опасный враг находится как раз в центре нашего стана.
— Какой враг?
— А вот это множество пленных! Они немедленно нападут на нас…
— А где у них оружие?
— Они своими оковами разобьют головы страже.
— Если они попытаются восстать, мы немедленно прикажем перебить всех.
— Перебить всех? Число их не меньше наших воинов.
Хайр Мардпет задумался. Меружан разъяснил свою мысль:
— Перед нами две задачи: во-первых, мы должны сдерживать пленных, чтобы они не восстали против нас, а, во-вторых — драться с вновь явившимся врагом. Поэтому стать на оборону, по крайней мере в начале боя, для нас более выгодно.
Хайр Мардпет остался при своем мнении, но не стал возражать.
Пока в стане Меружана велись споры, князья и нахарары, прибывшие с княгиней Васпуракана, без совещаний, без размышлений, положившись на всевышнего, поцеловали руки матери Меружана, получили ее благословение и разошлись по своим отрядам. При княгине остались лишь телохранители и слуги дома Арцруни и несколько групп вооруженных хадамакертцев, не покидавших ее.
Она сидела на небольшой дорожной тахте, четверо слуг держали над ее головой роскошный балдахин на четырех древках, украшенный кистями из золотых ниток с помпонами. Солнце уже жгло, и зной становился все невыносимее.
Вдруг на шею княгине бросился юный Артавазд и, обняв ее, стал умолять:
— Позволь и мне, матушка, идти с ними… я тоже хочу сражаться.
— Успокойся, дитя мое! — ответила княгиня, нежно касаясь его позолоченного шлема. — Тебе еще рано воевать! Когда, бог даст, возмужаешь, тогда у тебя будет много случаев показать свою отвагу.
На пламенных глазах юноши навернулись слезы.
— Чем я хуже других? — роптал он. — Мне постоянно твердят, что я должен стать мужчиной. Но ведь я не ребенок… Я взрослый!..
Печальные глаза княгини тоже наполнились слезами. «Невинное дитя, — подумала она, — неужели и тебя терзает боль за несчастную родину, неужели и ты чувствуешь, какие злодеяния совершаются в нашей стране?..»
— Будь спокоен, дитя мое! — повторила она, целуя бледное лицо неукротимого юноши, — оставайся со мной! Мы будем здесь молиться и наблюдать, как сражаются другие.
Надутые от недовольства губы Артавазда задрожали. Чуть было он не выдал свою тайну: он хотел сказать, что напрасно его принимают за мальчика, ведь сын княгини, могучий полководец персидских войск, ранен его стрелою. Но он скрыл горячее возмущение своей юной души и остался с княгиней.
Грустный взгляд княгини устремился к персидскому стану, где через, несколько часов должна была решиться участь тысяч пленных. У всех у них были отцы, матери и дети. Тысячи сердец должны были обрадоваться их освобождению; тысячи скорбящих должны были утешиться при их возвращении. При этой мысли добродетельная женщина почувствовала в своей душе нескончаемое блаженство и с сильно бьющимся сердцем стала ожидать окончания боя.
Но в то же время ее опечаленному взору представился раненый сын. Он был болен телом и душой. Что могло его излечить? Что могло смягчить его каменное сердце и очистить его душу, зараженную персидскими пороками и заблуждениями?
О причинах болезни сына у нее еще не было точных сведений. Самвел об этом пока ничего ей не сказал. Ей лишь сообщили, что во время охоты, во время сильной бури в него случайно попала стрела. Об убийстве же князя Мамиконяна она еще ничего не знала.
Рядом с княгиней стоял один из ее послов, бывший в шатре Меружана. Она обратилась к нему:
— Ты хорошо разглядел его, Гурген?
— Как же, княгиня; наш разговор длился около часа. Я все время не спускал с него глаз.
— Он сильно истощен?
— Не особенно. Но был очень бледен.
— Он ничего не спрашивал обо мне?
— Ничего! Совсем!
— А о своей жене, о детях?
— Тоже ничего.
— Каменная душа! — воскликнула исстрадавшаяся мать, горестно качая головой. — Он все предал забвению… От всего отрекся.
Несчастная женщина снова погрузилась в грустные думы; горькие слезы струились из ее печальных глаз.
Она еще раз обратилась к своему верному полководцу, спрашивая:
— Почему ты не отправился, в бой, Гурген, почему остался здесь?
— Я остался, чтобы с моими людьми защищать тебя, княгиня, — ответил старый полководец.
— Ты думаешь, что он посмеет напасть на свою мать?
— В первую очередь он постарается занять эту возвышенность и взять тебя в плен, княгиня. Даю голову на отсечение, если это не так.
— Что же он выиграет, взяв меня в плен?
— Многое, княгиня! Он считает тебя своим самым опасным противником.
Вмешался юный Артавазд.
— Если он осмелится вступить на эту возвышенность, я буду первым, который пустит в него стрелу.
Княгиня обняла разгневанного юношу, охваченного благородным возмущением, и поцеловала его.
Со стороны реки у Нахчевана, как черная туча, приближалась толпа, и чем ближе она подходила, тем все более росла и густела. Выйдя из леса на берег реки, она быстро двигалась в сторону персидского лагеря.
То было громадное войско горцев, легко вооруженное копьями и луками, предводительствуемое Гарегином, князем Рштуникским. Продвинувшись, они остановились на довольно большом расстоянии от персидского стана и укрепились.
Меружан орлиным взором окинул врагов и подумал: «Наступают». Обратившись к одному из соратников, он приказал:
— Передай полководцу Карену, чтобы он направился в эту сторону с несколькими полками храбрых стрелков и копьеносцев со щитами.
Приказ был немедленно выполнен.
В то же время с другой стороны, как налетающий шквал, подгоняемый мощным порывом ветра, который в своем движении сметает все преграды на пути, мчались отряды конницы. Барабанный бой, воинственные крики предшествовали дерзкой атаке. Конница налетела на персидский стан, рассекла его со скоростью молнии. Она пронеслась, внеся сумятицу в ряды персов, и тут же скрылась за ближними холмами.
Меружан посмотрел вслед удаляющимся всадникам.
— Они довольно удачно провели игру, — сказал он улыбаясь. — Хотел бы я знать, кто начальник этих смелых всадников.
— Самвел, — ответили ему.
— Самвел… — повторил Хайр Мардпет, качая многозначительно головой. — Неплохо!.. Он получил от своего отца буланого коня, подарок цари Шапуха. А теперь, сидя на том же коне, поднимает сумятицу в стане персидского царя. Этот конь с белой звездой на лбу был известен как предвестник удачи. Но конь принес удачу не отцу, а сыну…
Появление Самвела действительно сильно взволновало широко раскинувшийся персидский стан.
— А куда же он девался? — спросил Хайр Мардпет.
— Не беспокойся! ответил Меружан. Он снова появится и, быть может, очень скоро.
Меружан продолжал хладнокровно наблюдать за противником поджидая, когда он подойдет ближе. Его быстроногие разведчики с разных сторон доставляла ему донесения о движении врага.
Острый взор его не упустил и того, что Самвел пронесся через ту часть персидского стана, где находились пленные. Это было сделано неспроста. Меружан понял это и немедленно приказал крепко оцепить пленных, чтобы у них не было сообщения с врагом. Но среди людей, окружавших пленных, оказался человек, который медленно расхаживал по их рядам и иногда о чем-то украдкой с ними переговаривался. Опытный глаз мог легко узнать в этом человеке известного скорохода Самвела — Малхаса.
Бой прежде всего начался со стороны дороги на Арташат, где за маленькими холмами прятались сасунцы. Персидских воинов вел Хайр Мардпет. Его свирепый конь дрожал, гнулся под тяжестью колоссального седока, целиком закованного в медь и железо. Противником его оказался князь Сасуна Нерсех. С большим пренебрежением он крикнул Мардпету:
— Сменив обязанность начальника над женской половиной двора цари Аршака, ты, Хайр Мардпет, стал начальником над персидскими воинами! Воистину мне это кажется странным!
— Почему, храбрый Нерсех? — ответил евнух хриплым голосом. — Иногда не вредно переменить роль.
— Но ведь место женоподобного евнуха среди женщин, где царит изнеженность и нет окровавленного оружия.
— Давай попробуем, и ты убедишься, что женоподобный евнух может иметь дело и с храбрыми сасунцами.
При этих словах оба противника, направив тяжелые копья, во весь опор набросились друг на друга. Острие копья Хайр Мардпета задело сбоку панцирь князя Сасунского и, поцарапав, скользнуло мимо. А копье князя Сасунского, ударившись в окованную медью грудь Хайр Мардпета, разбилось вдребезги, точно оно ударилось о скалу. Оруженосец тотчас же подал ему другое копье. Они отъехали друг от друга, чтобы снова напасть.
Войска обеих сторон стояли неподвижно, с нетерпением ожидая окончания единоборства предводителей.
Второе нападение было еще яростней. На этот раз копья обоих противников отскочили, ударившись об их огромные щиты. Но вместо всадников столкнулись их кони, сильно зазвенев своими железными нагрудниками. Конь Хайр Мардпета задрожал, попятился и, став на колени, упал. Пользуясь этим моментом, князь Сасунский направил свое копье прямо к горлу Хайр Мардпета. Но конь евнуха тотчас же поднялся, и копье пронеслось мимо.
Так два могучих противника боролись друг с другом, и оба вышли из боя непобежденными. Князь Сасуна крикнул:
— Я признаю, о Хайр Мардпет, что евнух над женщинами царя Аршака в то же время и храбрый воин.
Начался бой между войсками. Персидские щитоносцы совершали изумительные нападения. Сасунцы из своих длинных луков обдавали их ливнем стрел. Храбрые от рождения горцы дрались с обученным, мужественным врагом. В воздухе нависла густая пыль. Крики людей заглушались, ударами и грохотом оружия и панцирей. Кровь лилась горячими ручьями.
Пока здесь кипел бой, в другой стороне стана под предводительством князя Гарегина бились рштуникцы. Персидскими войсками командовал полководец Карен.
В это время Меружан, окруженный своими телохранителями и соратниками, носился из одного конца стана в другой, наблюдая за ходом боя. Куда бы он ни направлялся, персидские воины, воодушевленные его присутствием, совершали чудеса храбрости.
Он заметил, что войско полководца Карена стало постепенно отступать. Из рядов рштуникцев послышались победные крики. Меружан немедленно погнал своего белого коня в ту сторону и попал под бурю стрел. Велико было его удивление и возмущение, когда он издали заметил старика Арбака, который с копьем в руке, совсем как бодрый юноша, дрался с каким-то персидским военачальником. Меружан обратился к полководцу Карену:
— Вот видишь, Карен, убитый тобою старик Арбак, оказывается, воскрес!
Карен смутился и от стыда не нашелся, что ответить. Меружан напомнил ему об его утреннем вранье, когда он хвастался, будто убил старика Арбака на Княжем острове.
— Задержите этого лгуна! — приказал Меружан, — Полководцу царя царей Персии не подобает быть трусом, а тем более лгуном.
Приказ был немедленно выполнен.
Появление Меружана вдохнуло в персидских воинов новые силы, и они стали с невероятной храбростью теснить разъяренного врага.
В этот момент заклятые враги — Меружан и князь Гарегин — увидели друг друга.
— Меружан! — крикнул князь Гарегин. — Во второй раз несчастные обстоятельства сталкивают нас друг с другом: первый раз в городе Ване, а сейчас у развалин Нахчевана. Ты был здоров, когда приказал убить мою жену и сбежал от меня. Теперь ты болен; не знаю, как ты поступишь со мной.
— Сейчас увидишь, — ответил Меружан пренебрежительно.
При этих словах он бросился на князя Рштуникского, который даже не сдвинулся с места.
— Я отказываюсь биться с больным — это все равно что драться с трупом, — сказал князь Гарегин.
Меружан сильно разгневался.
— О Рштуникский тер! — воскликнул он. — Твое великодушие оскорбительнее твоего удара копьем, если бы тебе удалось добиться такой славы. Да, жена твоя убита по моему приказу. Священное чувство мести возлагает на тебя обязанность требовать от меня удовлетворения за кровь жены. И потому ты не должен отказываться от боя со мною.
С этими словами Меружан снова устремился на Гарегина. Но персидские воины бросились наперерез им:
— Пусть наша кровь будет между вами! Битва принадлежит нам!
Меружан отступил.
Битва возобновилась. Снова раздался смертоносный лязг оружия. Одни копьями, другие обнаженными мечами разили друг друга. Рштуникские горцы защищались легкими щитами, покрытыми дубленой овечьей кожей; персы — тяжелыми щитами из железа.
Заменив полководца Карена одним из своих храбрых соратников и оставив поле битвы в самом разгаре, Меружан направился в сторону развалин Нахчевана, где на одной из холмистых возвышенностей находилась его мать. За ним следовало несколько полков хорошо вооруженных всадников. Густая пыль окутала, как серые тучи, дорогу, по которой спешно двигалась его страшная конница.
Гурген, старый полководец княгини Васпуракана, издали заметив, что Меружан скачет к их месту, поспешил к княгине. Качая укоризненно седой головой, он сказал:
— Вот видишь, княгиня, я не ошибся: сюда идет Меружан; он хочет вступить в бой с матерью и со своими подданными. Если он победит, то, несомненно, уведет и тебя с собой.
— Куда уведет? — спросила печальным голосом несчастная женщина.
— В Персию. Туда, где в темном подвале крепости Ануш страдает царь Армении. Туда, где заключена царица Армении. Уведет к ним…
— Неужели он настолько жесток?
— Его жестокость так же беспредельна, как и его самомнение.
Материнское сострадание и горе, причиненное бессердечным сыном, попеременно волновали душу несчастной женщины. Со слезами на глазах она обратилась к старому полководцу:
— Да будет благословенна воля божья! Того, что предопределено им, не может изменить беспомощный смертный. Пусть приходит неблагодарный! Сражайтесь с его воинами, но на него руки не поднимайте.
Морщинистое лицо старого полководца нахмурилось и его умные глаза зажглись огнем негодования. Но, сдержав волнение, он довольно мягко ответил:
— Мы, княгиня, никогда не подняли бы руку на своего господина, если бы он сам не убил всего того, что свято для нас. Он ведь борется против своих подданных, против нашей веры и против нашего государства.
— Христианская добродетель, Гурген, велит нам много и много раз прощать заблуждающихся.
Старый полководец недовольный замолчал.
Тут же стоял юный Артавазд и в сильном волнении слушал распоряжения княгини. Он не вытерпел и сказал:
— А я подстрелю его! Теперь я знаю, как это сделать.
Он чуть было не сознался в своей ошибке, допущенной им на Княжем острове, когда еще не знал, что под одеждой Меружана скрыта кольчуга.
Княгиня грустно взглянула на разгневанного юношу и ничего ему не ответила. В его молодой душе кипел дух мести юной Армении.
Меружан уже приблизился со множеством всадников к подножию возвышенности, где расположились васпураканцы. Он сделал быстрый поворот и направился к дороге, которая по скату вела к тому месту, где находилась его мать.
Старый Гурген, оставив с княгиней отряд телохранителей, взял с собой остальных васпураканцев и быстро пошел на врага. Бой произошел у развалин Нахчевана, сожженного Меружаном. В несколько минут васпураканцы соорудили крепкую стену из камней и, скрывшись за ней, начали оттуда метать стрелы в неприятеля. Некоторые же метали пращами камни. Обломки разрушенного Меружаном города летели на его голову. Меружан, не обращая на это внимания, продвигался вперед вместе со своей многочисленной конницей. Его всадники были вооружены только копьями и мечами. На них были также защитные панцири. Его отряд мог действовать только на близком расстоянии. Потому-то они так и стремились приблизиться к врагу. Васпураканцы в пылу битвы стреляли не только по всадникам, но, забыв приказ княгини, не щадили и самого Меружана.
Возможно, ни копье, ни меч, ни стрела, ни секира не могли бы причинить вреда облаченному с ног до головы в медь Меружану. Но летевшие из тысячи пращей камни, градом падавшие на его голову, могли в несколько минут уничтожить его и скрыть под своей грудой. И все же он приказал отряду ломать стену и двигаться вперед.
Всадники смелым натиском двинулись против каменной преграды, круша ее и вместе с тем сражаясь с неприятелем. Сам Меружан бросился в жаркий бой. В это время камень попал в лоб его лошади; конь встрепенулся, закачался и упал на бок, прижав больную ногу Меружана. Увлеченный битвой, Меружан совсем забыл о ране; повязка на ней ослабла, рана открылась, и кровь брызнула ручьем.
Мать издали заметила падение сына: свет померк в ее глазах. С громким стоном она соскочила с тахты и, ударяя себя в грудь, побежала навстречу сыну. «Безжалостные, жестокие люди!..» — кричала она. Ее с большим трудом удержали, убедив, что упала лошадь Меружана, а не он сам.
Мать успокоилась, увидев, что лошадь снова поднялась и Меружан снова сел на нее.
Но кровь медленно сочилась из его раны и, стекая с седла, струилась по белому животу коня тоненькими струйками. Один из телохранителей заметил это, но, думая, что лошадь ранила себя при падении, ничего не сказал. После того как Меружан сел на коня, сражение стало еще жарче. Всадники Меружана уже успели сломать часть преграды и перебраться на другую сторону. Васпураканцы отступили, продолжая издалека метать стрелы и камни. В это время один из телохранителей Меружана обратился к нему, сказав:
— В стане смятение, князь!
Меружан посмотрел туда.
— Я ожидал этого… — гневно процедил он сквозь зубы и сильно побледнел. — Там дерутся пленные.
Забыв о матери, он поспешил к пленным.
Самвел, которому удалось с группой всадников в первый раз ворваться в ту часть персидского стана, где находились пленные, во второй раз сделал то же самое, но уже с численно большим отрядом. С неожиданной быстротой он прорвал кольцо охраны, оцеплявшей пленных, и устремился к ним.
— Миг освобождения настал! — воскликнул он. — Ломайте, разбивайте ваши оковы!
Пленные, охваченные чувством мести, бросились на военную стражу. Кто дрался кулаками, кто своими цепями. Многие побежали в стан, разгромили палатки и, схватив вместо дубин шесты от опрокинутых палаток, набросились на стражу. В лагере поднялась суматоха. Пощадили лишь пурпурно-красный шатер князя Мамиконяна, где стоял гроб с телом отца Самвела. Схватка была самая ожесточенная. Дрались мужчины, дрались женщины, дрались старики и дети. Даже бывшие среди пленных духовные лица приняли участие в этом кровавом побоище. Тысячи рук поднялись на своих угнетателей.
Самвел с невероятным мужеством бросался то в одну, то в другую сторону. Он мелькал среди толпы взволнованных пленных с такой стремительностью, с какой огненная стрела молнии пролетает среди иссохших зарослей болота. Когда битва дошла до полного ожесточения, когда кровь лилась уже обильными потоками, Самвел воскликнул:
— Довольно! Связывайте теперь вашими цепями своих мучителей. Бог предал их в наши руки. Теперь мы поведем их пленниками в нашу страну!
Меружан подоспел лишь тогда, когда уже весь стан был охвачен смятением. Но дорогу к восставшим ему преградил Мокский князь Ваграм, который еще не трогался с места и ждал, скрытый в прибрежных камышах Аракса.
Это неожиданное появление мокцев настолько поразило Меружана, что его раздраженное лицо исказила усмешка, та горькая усмешка, которая появлялась у него обычно в минуты тревоги.
— Только вас еще не хватало, черти и дьяволы мокских гор! — воскликнул он.
— Разве волшебники боятся чертей и дьяволов? — ответил князь Ваграм.
Перебранка обоих была связана с общераспространенным мнением, что мокцы представляют сатанинское племя, а Меружан будто был колдуном.
Но его колдовство на этот раз ему не помогло.
Солнце давно уже зашло: ночная тьма покрыла вконец разгромленный стан персов. Ночь была тихая, спокойная. Лишь по временам раздавались победные крики: битва в некоторых местах все еще продолжалась.
Меружан, как помешанный, не знал куда деваться. До слуха его долетали зловещие возгласы, сердце билось от глубокого смятения, но в нем еще не погасла надежда вернуть утраченную славу.
Его телохранители и ближайшие соратники в общей суматохе потеряли его в ночной темноте. Он не заметил, как остался один.
Он чувствовал усталость, какую-то смертельную слабость. Чувствовал, что нездоров. Голова кружилась, в глазах постепенно темнело. Он едва держался на коне, и, точно охмелевший, не осознавал, что с ним происходит. Лошадь несла его по своей воле, поводья давно уже выпали из его рук.
В конце концов усталое и обессиленное тело Меружана стало понемногу клониться в сторону, и он упал головой на гриву лошади. Умный конь остановился как вкопанный. Проблески сознания еще не угасли в Меружане: он почувствовал, что ноги его остались в стременах. Последним усилием он высвободил их и упал на траву.
Несколько минут он лежал в обмороке, неподвижно, как, труп. Лошадь осторожно приблизила к нему свою голову и влажными ноздрями дотронулась до его лица, точно хотела понять, что сталось с ее любимым хозяином. Меружан опять пришел в себя.
Все последние события казались ему теперь беспорядочным сном. Он видел мрачные полчища врагов, видел зловещий блеск окровавленных мечей, слышал дикие крики и стоны… Перед глазами встало грозное лицо матери…
— Сгинь, сгинь! — воскликнул он, приподняв голову. — Я не хочу видеть твое скорбное лицо!..
Он с трудом привстал: голова его пылала, а сердце — точно жгли огнем.
— Ах, если бы каплю воды… — простонал он и слабыми пальцами стал ощупывать землю вокруг себя. Рука его погрузилась во что-то влажное. Обрадованный, он воскликнул: — Вода!.. — и попробовал ладонью зачерпнуть жидкость. Но густая влага только смочила его руку. Он поднес ее к пылающим губам и начал жадно лизать.
Он облизывал собственную кровь, которая разлилась вокруг него по земле…
С того момента как открылась его рана, кровь сочилась непрерывно. Тряска на коне и беспрерывная езда по полю битвы еще больше усилили кровотечение. В жаркой боевой обстановке, увлеченный своими действиями, Меружан не замечал происходившего с ним до того момента, когда окончательно обескровленный, ослабел и свалился…
Пока этот железный человек терзался в предсмертных муках, Самвел осуществил свое заветное желание, освободив пленных, поспешил к пурпурно-красному шатру своего отца. Он спешил спасти гроб отца, так как боялся, что горцы в свирепой ярости нападут на шатер и выместят свой гнев: раздерут труп на части и разбросают по полю битвы. Он ехал, чтобы воздать последний долг и почести покойнику. Хотя все желания Самвела уже исполнились, хотя он теперь имел право всей душой радоваться победе, но тем не менее он был грустен. Был грустен потому, что вскоре должен был увидеть печальный гроб, в котором лежал убитый его рукой отец.
Но вместо отца он встретил на пути полумертвого Меружана.
Проезжая со своим отрядом, он услышал в ночном мраке ржанье лошади, такое печальное, точно животное молило о помощи. Самвел поскакал в ту сторону. Вскоре глазам его предстал знакомый белый конь Меружана, который резко выделялся в ночной темноте. Самвел приказал воинам:
— Зажгите немедленно факел!
Юный Иусик зажег факел.
Меружан лежал, утопая в крови.
При виде врага изумленный Самвел почувствовал сильную радость и вместе с тем гнев. Он сошел с коня и, стоя неподвижно около умирающего, в мучительной нерешимости не знал, как с ним поступить: пресечь ли его последнее дыхание, или не трогать его.
Внезапный топот коней как бы привел в себя Меружана.
— Есть ли здесь кто-нибудь? — спросил он, силясь приподнять голову.
— Есть, — ответил Самвел.
— Чем кончилась битва?
— Враги победили.
— Победили! — воскликнул Меружан, пытаясь снова поднять отяжелевшую голову.
— Да, победили, — повторил Самвел.
Роковое известие настолько потрясло затуманенное сознание Меружана, что он совсем пришел в себя. В течение нескольких мгновений им владело тягостное молчание. Он открыл мутные глаза, но ничего не видел.
— Я — Меружан, — произнес он наконец едва слышно, — все для меня погибло… Жажду смерти, но она бежит от меня… Пытался убить себя, не могу… Если ты один из моих славных воинов и любишь своего полководца, сослужи последнюю службу — обнажи меч и успокой меня… Хочу принять смерть от руки моего воина, а не от врага…
Он замолчал и вскоре снова впал в лихорадочный бред.
Самвел подошел и, при свете факела осмотрев ослабевшее тело, заметил, что кровь текла из той раны, которая была нанесена Меружану стрелой Артавазда на Княжем острове. Он крепко перевязал рану и обратился к спутникам с вопросом:
— Нет ли у вас вина?
— В моем бурдюке кое-что осталось, — ответил юный Иусик.
— Дай сюда!
Иусик подал маленький бурдюк, висевший у него за плечами, из которого он во время боя давал пить своему князю. Самвел взял бурдюк и стал медленно лить вино в рот раненому. Затем он обратился к своим людям, приказав:
— Сойдите с. коней, положите щиты свои на раненого и охраняйте его. Никто не смеет приблизиться к нему, пока я не вернусь.
Самвел вскочил на коня и, забрав с собой нескольких воинов, поспешил к пурпуровой палатке своего отца.
Старик Арбак находился среди людей Самвела. Он многозначительно покачал головой.
— Я не могу понять такого великодушия… — сказал он сам себе, — как можно оставлять в живых раненое чудовище?..
VI. Замок Вогакан
…Во многих местах они построили капища, насильственно обращали людей в веру маздеизма, а в своих собственных владениях построили много капищ и своих детей и родственников обучали религии маздеизма… Тогда один из сыновей Вагана, по имени Самвел, убил… мать свою…
Фавстос Бузанд
Миновала осень, миновала и суровая армянская зима.
Начинала покрываться молодой травой обширная равнина Тарона; перелетные ласточки приветствовали веселое возвращение весны. Умолкли бури, затихли северные ветры, и вместо них сладостный зефир катил нежные волны по зеленому бархату долин, распространяя всюду жизнь и бодрость.
Было первое утро ранней весны.
Замок Вогакан имел сегодня необычайно привлекательный вид. Стены замка и домов снаружи и изнутри были украшены зелеными ветками с молодыми листьями. Слуги, служанки, дядьки и няньки разоделись в праздничные одежды, их руки и волосы были выкрашены в красный цвет. Они сновали всюду и были заняты подобающими к этому дню приготовлениями. Весь замок дышал глубоким жизнерадостным весельем.
При первых же лучах солнца загремела дворцовая музыка; музыканты играли неумолчно. Замок Вогакан праздновал наступление весны и вместе с тем персидский новый год.
То не был любимый армянами Навасард, день армянского нового года, который при стечении множества народа ежегодно праздновался в зеленых храмах Аштишата. То был чуждый армянскому народу новый праздник, который в первый раз справлялся в замке Мамиконянов.
То был праздник персов.
Сколько изменений, сколько новшеств произошло с того дня, как Самвел покинул этот замок! Старые слуги и служанки, оставшиеся верными прежним обрядам и обычаям, исчезли; некоторые из них ушли добровольно, а некоторых уволила жестокая мать Самвела. Новые слуги и прислужницы носили персидскую одежду, говорили на персидском языке; большинство из них были персы. Армянский священник теперь уже не имел доступа в замок. Вместо него религиозные обряды исполнял персидский маг. Домашние учителя и воспитатели, и даже дядьки, воспитывавшие детей в духе христианства, были сменены. Их обязанности исполняли персидские жрецы, обучавшие детей религии Зороастра. Даже пища и напитки стали другие. Изменилось и убранство комнат, и весь распорядок жизни. Взамен издревле привычных обычаев господствовали новые, персидские. Вместо старинных дедовских порядков, прелесть которых была в их простоте, всюду царили персидская роскошь и расточительство.
Не было и прежних обитателей замка. Семья Мушега Мамиконяна переселилась в крепость Ерахани области Тайк. Вдова Вардана Мамиконяна, княгиня Заруи, вместе со своими детьми тоже переехала туда. Не было и очаровательной Вормиздухт, мачехи Самвела. Вскоре после отъезда Самвела она покинула замок Вогакан и уехала в Персию.
В замке оставалась только родная мать Самвела, княгиня Тачатуи, которая теперь была полной хозяйкой Вогакана.
Сегодня она одиноко ходила по громадным залам замка, внимательно осматривая каждый предмет, каждую мелочь. Она хотела убедиться, все ли подготовлено к празднику. Одежда ее сверкала золотом и драгоценностями. Сияло и ее красивое лицо. Высокомерная сестра Меружана не уступала ему в красоте, но ей не хватало того благородства черт, какими отличался Меружан.
Зал был празднично разукрашен. На полу были разостланы самые дорогие ковры и небольшие коврики. Стены покрывала нежная парча и разноцветный шелк. Повсюду в окнах в фарфоровых горшках был и расставлены распустившиеся недавно цветы и вечнозеленые растения. Даже сосуды с водой, вином и сладкими напитками, стоявшие рядами на столе, было обвиты гирляндами зелени. Всюду улыбались цветы и зелень — дары только что наступившей весны. Весь зал был опрыскан душистой розовой водой и благоухал приятным ароматом.
Для услаждения гостей по случаю нового года были приготовлены разнообразные утонченные сладости, приправленные восточными благоухающими пряностями. На столах стояли большие изящные блюда со смесью сушеных фруктов семи сортов.
Хотя этот вновь введенный праздник был совершенно чуждым для армян; все же мать Самвела, царица праздника, сумела устроить его с таким вкусом и умением, что многие стремились принять в нем участие если не из сочувствия к хозяйке, то хотя бы из любопытства. Но немало было и таких, которые приготовились участвовать в нем с подлинным удовольствием, — глубокие следы древних языческих обычаев и древних культов еще не исчезли в христианской Армении. Некоторые из гостей присутствовали на празднике из боязни обидеть мстительную княгиню: сестра Меружана не уступала ему в жестокости, но не обладала его великодушием.
Княгиня продолжала одиноко ходить по роскошному залу в ожидании посетителей, которые вскоре должны были явиться, чтобы поздравить ее с новым годом. Она любовалась роскошью окружавшей обстановки и восторгалась. Но ее восторг был неглубоким, он исчезал в ту самую минуту, когда она пробовала заглянуть в свою душу. Давно уже она не получала вестей от мужа. Не имела известий и о сыне Самвеле. Не знала, что делает ее брат Меружан. На целых пять месяцев суровая зима прервала всякое сообщение замка с остальным миром, и потому ей еще не было известно о том, какие несчастья и горестные события произошли в северных частях Армении. Но внутреннее чувство подсказывало ей, что произошло что-то недоброе.
Она уже не раз замечала, что окружающие о чем-то перешептывались, что-то скрывали от нее, и эти тайные перешептывания рождали в ее и без того беспокойной душе тяжелые подозрения. От нее не ускользнуло и то, что с некоторых пор многие из ее подчиненных стали проявлять какое-то безразличие, какую-то неискреннюю покорность, как будто их к этому принуждали. Что это значило? Она затруднялась объяснить.
Вести о поражении Меружана и тяжелое известие об убийстве Вагана его родным сыном лишь недавно дошли до Тарона. Но эти вести все еще казались недостоверными. Некоторые боялись им верить, иные же, если и верили, страшились рассказывать другим. И все же эти слухи вызывали в замкеглубокую радость, хотя еще никто не осмеливался открыто выражать свои чувства.
Она сделала больше, чем можно было сделать. Те чуждые новшества, которые ее мужем и братом были введены в Армению огнем и мечом, она внедрила в доме Мамиконянов посредством бескровной борьбы, в том доме, который издавна был примером христианского благочестия. Как она радовалась, как она была довольна своими удачами! Она считала, что почва уже подготовлена и засеяна, оставалось лишь собрать жатву. И как возрадуется ее супруг, когда, вернувшись в свой дом, увидит все в полной готовности.
Что же толкало эту тщеславную женщину вмешиваться в религиозные дела, доступные более сильным умам? На первый взгляд, ничто! Если ее муж и брат проводили свои незаконные меры по различным политическим соображениям, то в ней отсутствовали эти стремления. Она также не имела твердых религиозных убеждений. Но как женщина, она обладала одним качеством: она была аристократка в полном смысле этого слова. Все, что исходило из верхов, по ее мнению, было прекрасно.
Находясь в свойстве с царской семьей Персии, она много раз имела случай бывать во дворце персидского даря и была знакома с семьей Шапуха. Царский двор вызывал в ней восторг. И подобно тому как ей были по душе одежды и украшения жен Шапуха, точно так же ей нравилась и та религия, которую исповедовал Шапух. Она стремилась во всем ему подражать. Старалась, чтобы ее дети говорили на том же языке, какой был принят при персидском дворе, чтобы они получили высшее воспитание, подобающее персидскому двору. То, что было родным, армянским, казалось ей простонародным и даже постыдным. Для чего постоянно краснеть перед персами? К чему отставать? — вот какие мысли волновали ее.
Она подошла к окну и взглянула на солнце. «Почему гости так запаздывают?.. Что это значит?..» — подумала она, и в ее нетерпеливом взоре появились искорки гнева. Неужели же все ее приготовления были напрасны?
Слуги попеременно входили и выходили, внося и унося различные предметы. Вошел и подобострастный главный евнух Багос, с безволосым и наглым лицом.
Хотя Багос пользовался полным доверием княгини, она все же сочла ниже своего достоинства сообщить ему свои сомнения: пройдет ли празднество с подобающей торжественностью? Однако хитрый евнух настолько хорошо знал характер своей княгини, что с первого же взгляда понял, какие чувства волновали ее. Лицемерно улыбаясь, он сказал:
— Некоторое вещи, княгиня, надо вынести.
— Почему?
— Не хватит места для всех посетителей.
— В этом огромном зале?
— Но ведь и число посетителей будет огромно.
Княгиня обрадовалась. Но, скрывая свою радость и представляясь немного рассерженной, она сказала:
— Посетители должны привыкать к порядку, Багос. Нет надобности, чтобы каждый из них обязательно оставался в зале и занимал лишнее место. Они придут, выразят общепринятые добрые пожелания и, получив мое благословение, удалятся в соседнюю комнату и будут там ожидать. Когда прием окончится, они вместе со мной отправятся в капище, чтобы поклониться священному огню и присутствовать при торжественном обряде жертвоприношения. Понял? Иди скажи начальнику двора. Он эти порядки хорошо знает. Пусть все обряды проведет так, чтобы все было подобающим образом и торжественно…
Начальник евнухов поклонился и, не переставал улыбаться, удалился.
Княгиня осталась одна. Теперь она была спокойна, так как надеялась, что празднество будет иметь полный успех.
Не прошло и четверти часа, как вошел один из придворных с сообщением, что вельможи и военачальники желают ей представиться.
Она поднялась на возвышение и уселась в роскошное кресло. Придворные высокого звания встали рядами по обе стороны. Все они блистали роскошными праздничными одеяниями и были при позолоченном оружии.
Вошли военачальники и представители высшей знати. Они отдали княгине глубокий поклон и молча выстроились вдоль стен зала. Княгиня с особой благосклонностью обратилась к прибывшим со следующими словами:
— Слава и благодаренье лучезарному Ормузду, который удостоил меня судьбы счастливейшей из счастливых. Я имею счастье, о дорогие старейшины, вместе с вами отпраздновать этот торжественный день, которому радуется вся вселенная. Птица и зверь, дикое растение, цветок и огромная пихта в лесу сегодня ликуют, потому что наступившая весна принесла им новый год и новую жизнь. И человек тоже обязан приобщить свою радость к общему восторгу природы. Прошла зима с ее убийственными стужами, прошло царство сумрака и тумана. Для нас настал день лучезарного тепла. Сошел с неба священный огонь и своей животворной мощью оживил похолодевшую вселенную. Мертвая почва получает силу, спящие деревья пробуждаются. Всюду заметно дыхание божества, всюду воскресает вымершая жизнь. Вместе с общим оживлением природы начинается и работа человека. Пахарь отправляется с сохою в поле. Виноградарь начинает возделывать сырую почву. На зеленеющих лугах бродят овцы пастуха. Работа закипает, когда возрождается пробудившаяся земля. Наш долг, о дорогие старейшины, священная обязанность каждого человека, как наиболее разумного из всех существ и как наиболее щедро пользующегося дарами природы, состоит в том, чтобы прежде чем начать свою работу, воздать благодарение тому, кто даровал нам все эти блага. Поэтому-то нашими достойными предками и установлено празднование начала весны. Но мы, недостойные их потомки, забыли об этом великом дне. Восстановим же справедливое и истинное, возвратимся к естественному, о дорогие старейшины! Там, в неугасимом капище, пылает божественный огонь: творящая сила, дарующая всей вселенной жизнь и тепло. Пойдемте же и выразим нашу любовь и наше благодарение торжественным жертвоприношением той силе, которая являет непостижимую священную сущность божества на нашей земле, и да будет благословенно оно!
Слово княгини произвело такое глубокое впечатление, что все присутствующие одновременно воскликнули: «Да будут благословенны его слава и честь!»
После этого каждый подходил к княгине и, став на колени, целовал ей руку. Все выражали самые горячие пожелания нового счастья на новый год.
По правую и левую сторону кресла, где сидела княгиня, на треножниках были расставлены круглые блюда: справа золотые — на них горой лежали золотые монеты, слева серебряные — на них лежали серебряные монеты. Эти монеты, отчеканенные специально для нового года, имели особый смысл — серебряного и золотого счастья. Только лучезарный царь Персии обладал правом в начале года раздавать такого рода монеты своим старейшинам и тем самым награждать их серебряным или золотым счастьем. Но княгиня Мамиконян, как владычица всего Тарона, не желая ни в чем отставать от персов, присвоила себе это особое право. Когда вельможи подходили, чтобы поцеловать ей руку, она полными горстями брала золотые и серебряные монеты, смешивала их и дарила гостям с пожеланием нового счастья в ответ на их новогоднее пожелание.
Комнатные подростки-слуги из золотых изящных сосудов лили на руки присутствующим душистую розовую воду; те омывали ею себе лицо и волосы, затем подходили к столам, чтобы отведать новогодних сладостей. Там были всякого рода яства, среди которых главное место занимали сушеные фрукты семи сортов: дары родной земли.
Роскошно одетые слуги, с венками из роз на головах, держали в руках большие серебряные кувшины, наполненные сладкими напитками и вином. Они непрестанно разливали напитки в золотые кубки и подносили их гостям.
На дворе играла музыка. Пел сладкоголосый гусан.
Прием посетителей продолжался довольно долго. Гости являлись один за другим, и, выслушав приятные речи княгини, удалялись в смежную комнату в ожидании торжественного жертвоприношения. Там гостям воздавался особый почет. Здесь они более свободно предавались удовольствиям: беседовали, смеялись, и каждый открыто выражал свою радость.
После окончания приема мужчин начался прием женщин. Их число было не столь велико. Представлялись лишь женщины, жившие в замке, и жены некоторых военачальников.
В священном храме огня уже началось богослужение.
В той части замка, где исстари стояла родовая церковь Мамиконянов, где в кельях жили придворный священник и другие церковные служители, теперь было устроено персидское капище. Мать Самвела велела сломать церковь и на ее месте построить капище. А в кельях христианского духовенства жил теперь главный маг дворца со своими помощниками.
Посреди высокого с колоннами храма, на мраморном квадратном столе пылал священный огонь Ормузда. Неугасимое пламя поднималось к высоким сводам капища. Маги в белых одеяниях, натертые душистыми маслами, звонили в маленькие колокольчики и с пением ходили вокруг огня. Толпа молящихся стояла на коленях под сводами храма, слушала пение и в трепете падала ниц перед божеством.
Перед храмом стояли сто крепких, без пятен, белых, как снег, баранов с позолоченными рогами. Они были предназначены для жертвоприношения.
В этот день все молящиеся должны были отведать жертвенного мяса.
Когда началась церемония жертвоприношения, явилась окруженная многочисленной блестящей свитой княгиня Мамиконян. Она торжественно приблизилась к порогу священного храма и, войдя в него, с глубоким благоговением поклонилась огню и затем трижды обошла жертвенник.
В это время в толпе внезапно произошло какое-то смятение, пронесся шепот, который вскоре перешел в радостные крики. Удивленные глаза всех были обращены к главным воротам замка.
К храму быстрыми шагами приближался высокий молодой человек, за ним следовал большой отряд вооруженных людей.
«Самвел…» — раздавалось из уст в уста, и тысячная толпа, расступаясь, давала ему дорогу.
Молодой человек подошел к храму.
— Самвел! — воскликнула мать, выбежав из храма и обнимая сына.
Потрясающая и страшная встреча!
— Ах, как я рада, как я счастлива, дорогой Самвел! — говорила истосковавшаяся мать, не выпуская сына из своих объятий. — Ты вступаешь в родной замок в счастливую минуту, когда твоя мать празднует великий праздник начала весны. Твое присутствие, дорогой Самвел, придаст новый блеск этому празднику.
Неожиданное зрелище так потрясло, так взволновало Самвела, что он совсем растерялся и не знал, что ответить матери.
Она взяла его за руку и повела в капище.
Самвел печальным взором посмотрел на огонь, посмотрел на магов. Перемена была слишком неутешительна. Он вспомнил, что это капище стоит на месте той самой церкви, где молились его предки и в священной купели которой он был крещен.
— О, мать! — воскликнул он грозно. — Я считаю себя несчастнейшим из людей. Возвращаясь в родной дом, я нахожу поруганным все, что было свято для меня в этом доме. Если я сын тебе — погаси этот огонь.
Глаза матери сердито блеснули, она ответила в сильном гневе:
— Самвел! Я не могу быть убийцей божества! Если ты мне сын, то преклони колена перед той святыней, которую чтит твоя мать.
— Ну, если так, я уничтожу сам твоего бога!
— Не посмеешь, Самвел!
Главный маг и его служители в страхе отшатнулись в сторону. Воины Самвела окружили их. Толпа, затаив дыхание, напряженно ждала, чем кончится этот страшный спор между матерью и сыном. Некоторые из приближенных княгини схватились за мечи, с гневом ожидая ее приказаний. Воины Самвела заметили это и тоже взялись за оружие.
Неудержимая ярость охватила Самвела. Лицо его в этот миг стало ужасным. Он с глубоким волнением обратился к матери:
— Повторяю, мать, погаси огонь!
— Это невозможно, Самвел!
— Повторяю еще раз: погаси эту скверну… иначе…
— Что иначе?
— Иначе я залью ее твоею кровью…
— Злодей!..
— Пусть люди назовут меня злодеем, пусть люди назовут меня убийцей! Вот этот меч, который убил изменника-отца, убьет и отступницу-мать…
С этими словами он протянул руку к голове матери, схватил длинные пряди ее волос и притянул к жертвеннику. Меч сверкнул, горячая кровь брызнула на жертвенник…
Из толпы послышались радостные крики:
— Она заслужила это!
Послесловие
Раффи и его «Самвел»
I
В романе «Самвел» изображены событии одного из наиболее сложных и интересных периодов истории армянского народа, относящегося ко второй половине четвертого века нашей эры. Находясь на перекрестке военных и торговых путей между Востоком и Западом, Армения всегда притягивала взоры своих могущественных соседей, в первую очередь Парфии и Римской империи, а позднее Византии и Персии. Играя роль «буферного» государства, она не раз служила объектом нападения. Особенно усложнилось положение страны с 224 года н. э., когда образовалось персидское государство Сасанидов, враждебное как Риму, так и Армении. До утверждения Сасанидов Армения на востоке граничила с Парфией. Хотя между этими государствами и происходили столкновения, но их связывали общие элементы эллинистической культуры, а также царствовавшая и в Парфии и в Армении династия Аршакидов. С падением Парфии и установлением сасанидского государства Армения оказалась перед соседом, враждебным как ее царской династии, так и ее культуре; Сасаниды восстановили в своем государстве былое значение религии Зороастра и особенно касты ее жрецов. Господствующий класс Армении — феодалы, называвшиеся нахарарами, — ориентировались частью на Персию, а другой частью на Рим (впоследствии на Византию). Борьба между представителями этих двух групп тяжело отражалась на крестьянской массе — «шинаканах» и на рабах — «струнах», постоянно восстававших против своих господ и вынужденных вместе с последними бороться то с Персией, то с Восточно-римской империей, то есть с Византией.
В 297 году римский полководец Галерий Максенций разбил войска сасанидской Персии, после чего зависимость Армении от Восточно-римской империи еще более усилилась. В 301 году, при царе Трдате, христианство становится в Армении государственной религией, в результате чего усиливается политическое и культурное сближение армян с Византией и наряду с этим еще сильнее обостряются отношения между Арменией и Персией, так как Армения выступает уже в качестве византийского союзника в борьбе между Византией и Персией.
Недальновидная и неустойчивая внешняя политика армянских царей из династии Аршакидов привела к тому, что Армения в значительной мере утратила свою самостоятельность и стала объектом политических комбинаций ее всесильных соседей. Когда в 363 году Византия заключила мир с персидским царем Шапухом II, пять провинций Армении отошли к персам, — иначе говоря, произошел раздел Армении. Византия, кроме того, дала обязательство не помогать армянскому царю в его борьбе против Сасанидов. Раздробленность Армении, состоявшей из множества княжеств-нахарарств, и постоянная борьба нахараров с династией армянских Аршакидов облегчали Персии возможность действовать по принципу «разделяй и властвуй». В конце IV века Армения была окончательно поделена между Персией и Византией. Немедленно после этого Сасаниды взялись за искоренение христианства в восточной Армении, всячески стараясь ассимилировать армянский народ, которому пришлось вести, тяжелую борьбу за свою политическую и культурную самостоятельность.
Это сказалось между прочим и в создании армянской письменности (393 г.). Если до того в Армении пользовались письменами сирийскими и греческими, то теперь, в обстановке напряженной борьбы, Армения, отданная на растерзание сасанидскому государству своей бывшей союзницей Византией, почувствовала необходимость создать собственную письменность как важный фактор в борьбе, за национальное единение. За политическое и культурное единство стал бороться весь народ и часть нахараров. Христианство, пришедшее, на смену эллинизму, явилось идеологическим орудием этой борьбы. Стремясь ослабить идеологическую и церковно-организационную зависимость Армении от Византии, армянские нахарары, в частности духовные лица, стремились к сближению с сирийским христианством; сирийцы стали приглашаться в качестве служителей армянской церкви и переводчиков церковных книг. В борьбе за целостность Армении, за ее культурную самобытность огромную роль сыграл Месроп Маштоц, создатель армянского алфавита. Его и изобразил Раффи в своем романе «Самвел».
II
Акоп Мелик-Акопян (Раффи) родился в селе Паяджук провинции Салмаст в Персии (1835 г.). Отец его, богатый купец, вел обширную торговлю, главным образом с Россией. Мальчик был отвезен в 1847 году в Тифлис и отдан в частный пансион, а затем и казенную гимназию, где он с отличием окончил шесть классов. В 1855 году ему пришлось оставить гимназию и вернуться на родину, так как дела отца пошатнулись: Раффи был вынужден принять участие в торговых предприятиях отца. Он совершает ряд путешествий и посещает города Армении и Персии — Муш, Ван, Тавриз, Урмию, Хой и др.
Первым его произведением был роман из жизни персидских армян под названием «Салби». В 1858 году он стал печатать свои стихотворения в журнале «Арцив Васпуракани» («Орел Васпуракана»), издававшемся в Варагском монастыре близ г. Вана известным политическим деятелем и писателем, впоследствии католикосом всех армян Мкртичем Хримяном. Затем Раффи устанавливает связь с журналом «Юсисапайл» — «Северное сияние», — издававшимся с 1858 года в Москве (на армянском языке) профессором Лазаревского института восточных языков С. Назарянцем, и вскоре становится сотрудником этого журнала. В журнале этом принимали участие передовые деятели армянской литературы 60-х-годов — М. Налбандян, Р. Паткапян и многие другие. В 1860 году Раффи помещает в «Юсисапайле» большую статью под названием «Ахтамарский монастырь» на тему о национальном просвещении.
Живя в Персии, Раффи внимательно изучает жизнь различных кругов населения. Изучение это дало ему обильный материал для повестей, рассказов и очерков из персидской жизни.
В 1870 году Раффи переселяется в Тифлис; его влечет туда культурная обстановка. События 60-х годов общественно-политической жизни России нашли отклик в среде новой армянской интеллигенции, значительная часть которой проживала в Тифлисе. Революционно-демократические идеи русских шестидесятников, Чернышевского и Добролюбова проникли в среду молодой армянской интеллигенции. В роли связующего звена между русскими революционными демократами и передовой армянской интеллигенцией был Микаэл Налбандян, друг Герцена и Огарева, сидевший одновременно с Чернышевским в Петропавловской крепости. М. Налбандян, великий просветитель и демократ, был идеологом армянской революционно-демократической интеллигенции. Характерно, что Раффи, закончивший в 1857 году свой трехтомный роман «Салби», посвятил его М. Налбандяну. В посвящении сказано: «Всегда благословенной памяти бессмертного Микаэла Налбандяна с глубоким почитанием».
Жизнь Раффи в Тифлисе была нелегкой; он еле перебивался уроками и даже служил в магазине готового платья. В 1872 году в Тифлисе начинает издаваться газета «Мшак» («Труженик»), Раффи был приглашен сотрудничать в газете и очень скоро сделался активным участником этого издания. Очерки Раффи о Персии, разного рода критические и публицистические статьи, повести и рассказы и, наконец, романы вскоре создали ему популярность и содействовали успеху газеты среди читателей.
С самого начала своей литературной деятельности Раффи живо интересовался вопросами политического положения армян. Последователь армянских просветителей-шестидесятников, Раффи был поглощен вопросом о судьбе армянского крестьянина. В романе «Хент» он изобразил борьбу армянского народа за освобождение от султанского ига. Руководителями в этой борьбе выступают представители интеллигенции. В будущей Армении, как рисуется одному из героев этого романа, установится коллективная сельская община. Однако общество остается классовым.
После «Хента» он пишет два больших романа — «Воспоминания хачагоха» (хачагох — крестокрад) и «Искры». Герои романа «Искры» стремятся всеми способами — и пером, и оружием — покончить с вековым гнетом армянского народа. Романы «Хент» и «Искры» произвели огромное впечатление на передовую часть армянской интеллигенции. Начали издаваться книги об экономической и культурно-бытовой жизни зарубежных армян. Студенческая молодежь создавала кружки, ставившие целью просветительскую работу среди крестьян.
После берлинского конгресса 1878 года, на котором обсуждался вопрос о положении армян в Турции, прогрессивная армянская общественность переживала разочарование. Потеряв всякую веру с европейскую дипломатию, Раффи все свои надежды возложил на Россию. Писатель обращается к прошлому Армении и создает в течение 80-х годов три исторических романа: «Паруйр Айказн», «Давид-Бек» и «Самвел», а также историческое исследование «Карабахские меликства».
В 80-х годах Раффи уже был признанным классиком. Его популярность как писателя была исключительна. Реакционные элементы постоянно вели против него борьбу. В 1884 году ночью на Раффи было произведено покушение. Через несколько дней в его квартире полиция произвела обыск.
Крупнейший армянский романист А. Ширванзаде в своих воспоминаниях характеризует Раффи как, человека исключительно скромного и поразительно трудоспособного. «Он знал, — пишет А. Ширванзаде, — что талант на три четверги является трудолюбием. Он был подлинным творцом, его мятежная душа находила успокоение лишь в труде».
Усталый от напряженного труда, постоянных материальных лишений, остро переживая участь родного парода, Раффи тяжело заболел весною 1888 года и умер 6 мая, оставив большое литературное наследство, часть которого не опубликована еще до сих пор.
III
Последнее произведение Раффи, роман «Самвел», как показывают все данные, было предметом особо напряженной работы писателя.
В качестве основного источника для романа «Самвел» послужили «История Армении» известного армянского историка IV века Фавстоса Бузанда. И это не случайно. Именно Ф. Бузанд должен был глубоко заинтересовать писателя-романтика. В труде Фавстоса сохранились элементы древнеармянского эпоса. Живость изложения; драматизм отдельных описаний, пристрастные характеристики выдают современника или почти современника событий. Наконец, ясность языка, приближающаяся к языку народного эпоса, увлекает читателя.
Главным материалом для романа явилась четвертая книга «Истории Армении» Фавстоса. Но Раффи этим не ограничился. Он привлек также соответствующий материал из «Истории Армении» армянского историка IV века Агафангела и известный труд армянского историка V века Мовсеса Хоренаци, а также ряд других произведений писателей древней Армении. Из неармянских источников Раффи использовал греческого историка Ксенофонта (IV в. до н. э.) и греческого географа Страбона (I в. до н. э.). Исключительно добросовестному и умелому обращению Раффи со своими первоисточниками может позавидовать любой историк. Это бросается в глаза не только в той части «Самвела», которая носит несколько необычайное название «В скобках», но и там, где писатель мог позволить себе вольности.
Можно смело сказать, что в романе значительная доля исторических фактов соответствует историческим данным, сообщаемым в первоисточниках. Хотя за последние пятьдесят лет изучение Фавстоса, Мовсеса Хоренаци и других армянских историков значительно продвинулось вперед, все же характеристика Армении в «Самвеле» в целом нисколько не устарела. Это касается и той части, которая названа автором «В скобках».
Раффи видел слабость Армении IV века в ее феодальной раздробленности. Поэтому, несмотря на его уважение к некоторым нахарарским родам, например, к дому Мамиконянов, он стоит за Аршакидскую династию, старавшуюся собрать всю Армению под единой царской властью. Иначе говоря, Раффи понимал, что царская власть в IV веке имела прогрессивное значение. Между тем в армянской историографии в его время существовала обратная точка зрения, согласно которой вся ответственность за распад Армении ложилась на династию Аршакидов, будто бы угнетавших армянских феодалов. Эта точка зрения была исстари установлена клерикальной историографией. Раффи выступает против этой традиции.
Отношение Раффи к двум могущественным соседям Армении — Персии и Византии — также отличается от существовавших тогда в армянской историографии точек зрения. Дело в том, что Византия рассматривалась как более близкая во всех отношениях страна для Армении, чем Персия. Здесь, конечно, преобладал церковно-религиозный подход. Раффи расценивает отношения Армении и Персии с точки зрения реальных интересов самой Армении, интересов ее политической самостоятельности. И если Персия рассматривается им как враг, желавший захватить Армению и ассимилировать армянский парод, то, по мнению Раффи, не в меньшей степени этого хотела и Византия. Разница была лишь в том, что Персия действовала открыто и варварскими способами, а Византия маскировалась, прибегая к дипломатическим уверткам.
Раффи дал в «Самвеле» для своего времени не только новое, но и более прогрессивное освещение исторических событий. По мысли автора, эта эпоха, характеризовавшаяся агонией династии Аршакидов и упадком самостоятельности Армении, вместе с тем знаменательна героической борьбой армянского народа за свою политическую и культурную самостоятельность. Раффи справедливо перенес центр тяжести в романе на вопрос о борьбе армянского народа за свою независимость. Это подтверждается событиями V века, явившимися непосредственным продолжением описанных в романе фактов. В V веке в Армении не раз происходили народные восстания против чужеземных угнетателей, в результате чего ей удалось отстоять свою независимость.
Правильно характеризовав в целом политическое состояние Армении конца IV века, Раффи все же отдал некоторую дань господствовавшей тогда либерально-буржуазной социологии; концепция «героев и толпы» несомненно отразилась в этом смысле на его романе. Социальная характеристика Армении дана несколько расплывчато. Народ у него в большинстве случаев действует стихийно или же является орудием в руках отдельных героев.
Следует отметить, что в одном случае Раффи намеренно отступил от факта, сообщаемого Фавстосом. У последнего говорится, что Самвел убил Вормиздухт, сестру Шапуха. Между тем в романе Самвел убивает мать. Такая переделка факта писателем вполне понятна. Мать была активной участницей злодеяний отца Самвела и как человек, изменивший своему народу, должна была понести жестокое наказание. Между тем Вормиздухт была лишь орудием и руках Шапуха, и все же в сознании этой чужеземки блеснула мысль о правоте Самвела. Горячий патриотизм Раффи законно толкнул его к такой трактовке событий.
Герои романа Раффи составляют два диаметрально противоположных лагеря. С одной стороны, изображены борцы за самостоятельность Армении — Самвел, Мушег, царь Аршак, царица Парандзем и пр., с другой — изменники Меружан, Ваган, Хайр Мардпет. Хотя в своих характеристиках Раффи довольно часто сгущает краски, это, однако, не мешает ему и у положительных героев находить отрицательные черты. Такова, например, царица Парандзем.
Раффи был горячим поборником раскрепощения женщины Востока. Почти во всех произведениях, художественных и публицистических, затронута эта тема. Он страстно ненавидел и гнет женщин в мусульманском гареме, и тяжелое, подчас унизительное положение женщин в армянской семье. С сочувствием изображена царевна Вормиздухт, сестра царя Шапуха. Внешней красоте соответствует внутреннее благородство. Она понимает весь смысл борьбы армян за свою независимость.
Раффи проявлял горячее сочувствие к угнетенным слоям. Во многих очерках, посвященных Персии, он изображал обездоленную массу персидской бедноты и скованную путами религии персидскую женщину.
Художественное мастерство Раффи обнаружилось в «Самвеле» не только в характеристиках действующих лиц, но и в батальных сценах, описаниях природы и быта. Так, например, картина утра в Араратской равнине давно уже получила всеобщее признание в смысле изумительной верности изображения. Тонкий наблюдатель природы, Раффи относился к своим описаниям с исключительной тщательностью.
Язык «Самвела» очень богат. В отличие от современников и предшественников, Раффи всячески избегает диалектизмов. Он использовал обширный словарь древнеармянского языка. Богатство лексики дало ему возможность даже в мельчайших характеристиках употреблять парные синонимы, передача которых в русском переводе подчас невозможна. Несмотря на известную изысканность языка, роман «Самвел» доступен самым широким кругам читателей.
Основная идея романа — борьба за независимость родины, за национальную самостоятельность против иноземного угнетения и изменников родины — близка советскому читателю. Поэтому книга эта созвучна нашим дням, и роман «Самвел», несомненно, будет читаться с неослабевающим интересом.
Проф. И. КУСИКЬЯН
Примечания
1
Пренеста — древний город в Лациуме, к востоку от Рима. — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)
2
Орк — Плутон, бог подземного царства.
(обратно)
3
Перистиль — пространство (сад, двор, площадь), с четырех сторон окруженное крытой колоннадой.
(обратно)
4
В Риме было четыре команды колесничих: белые, голубые, зеленые и красные.
(обратно)
5
Принцепс — в Древнем Риме глава государства при такой форме монархии, когда сохраняются республиканские учреждения, но власть фактически принадлежит одному человеку.
(обратно)
6
Название игры (лат.).
(обратно)
7
Человеку, который без провожатого разыскивал нужную улицу или дом в Риме, приходилось нелегко: на улицах не было табличек с названиями, а на домах — номеров.
(обратно)
8
Где ты — Гай, там и я — Гайя (лат.)
(обратно)
9
Каламий — тростниковая палочка для письма.
(обратно)
10
Претекста — окаймленная пурпуром тога, которую носили высшие должностные лица, магистры и жрецы, а также мальчики свободных сословий до 17 лет.
(обратно)
11
Клиент — в Риме человек, находящийся под покровительством и подвластный роду, который был обязан защищать клиента.
(обратно)
12
Гелиополь — город в Нижнем Египте с храмом бога Солнца.
(обратно)
13
Фламин — жрец какого-либо божества.
(обратно)
14
Консуалии — ежегодные празднества в честь Конса, древнеримского божества плодородия и земледелия.
(обратно)
15
Кармента — прорицательница, мать Эвандра, пришедшая с ним из Аркадии в Латий, впоследствии почитавшаяся как божество.
(обратно)
16
Lanius — мясник (лат.)
(обратно)
17
Гаруспик — в Древнем Риме жрецы, гадавшие по внутренностям жертвенных животных и толковавшие явления природы (гром, молнию и др.).
(обратно)
18
ЗИГФРИД ОБЕРМАЙЕР родился в 1936 году. Его исторические романы снискали большой успех и переведены на многие языки. Его последний роман «Под знаком лилии» появился в 1994 году в издательстве «Scherz». Зигфрид Обермайер был награжден литературной премией «Littera-Medaille», живет в местечке Обершлейсхейм под Мюнхеном.
Роман «Клеопатра» на русском языке печатается впервые.
(обратно)
19
Рамзес II — египетский фараон (1317–1251 гг. до н. э.).
(обратно)
20
Исида (Исет) — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, семейной верности, богиня мореплавания. Культ Исиды был широко популярен в Египте и далеко за его пределами.
Осирис — египетский бог производительных сил природы и царь загробного мира, брат и муж Исиды.
(обратно)
21
Хнум — в египетской мифологии бог плодородия. В древности изображался в виде барана с закругленными горизонтальными рогами, а затем в виде человека с головой барана. Хнум считался подателем воды, хранителем истоков Нила, как бот войны он отражает нападения врагов. Центр культа Хнума — остров Элефантина, но он почитался во всем Египте.
(обратно)
22
Амон — высшее египетское божество, позднее его стали связывать с богом солнца Ра и богом плодородия Мином. Греки приравнивали Амона к Зевсу.
(обратно)
23
Сохмет — в египетской мифологии богиня войны и палящего солнца. Изображалась в виде женщины с головой львицы. Обладая магической силой, Сохмет может убить человека, напустить на него болезнь. Вместе с тем Сохмет — богиня-целительница. Она покровительствовала врачам, считавшимся ее жрецами.
(обратно)
24
Хатор — в египетской мифологии богиня неба. Охраняет фараона, дарует плодородие, выступает как богиня-мать. В древнейший период почиталась как небесная корова, родившая солнце. Впоследствии изображалась женщиной с рогами или ушами коровы. Хатор почиталась также как богиня веселья, любви, музыки, пляски. Древние греки отождествляли Хатор с Афродитой.
(обратно)
25
…вспомнила и своего отца… — Отцом Клеопатры был Птолемей XII Авлет («Флейтист»).
(обратно)
26
Бухис — в египетской мифологии бог в виде черного быка. Его матерью считалась небесная корова (богиня Хатор), родившая также и солнце. Центром культа Бухиса был город Гермонт, где хоронили мумии Бухиса.
(обратно)
27
Антонов огонь — гангрена, заражение крови.
(обратно)
28
Асклепий — в греческой мифологии бог врачевания.
(обратно)
29
Мусейон (храм муз) — специальное учреждение, созданное при дворе египетских царей Птолемеев, где жили и работали ученые. Там находились также зоологический и ботанический сады, обсерватория и проч. С мусейоном связана деятельность математика Евклида (III в.), великого греческого ученого Архимеда и многих других.
(обратно)
30
…триумвиров Цезаря, Помпея и Красса. Триумвират — в Древнем Риме в период гражданских войн и падения республики союз трех влиятельных политических и военных деятелей с целью захвата триумвирами верховной власти в государстве. Первый триумвират был заключен в 60 г. до н. э. между Юлием Цезарем, Помпеем и Крассом.
(обратно)
31
Катаракт — со времен античности так назывался любой водопад, но особенно часто — Нильские пороги у современного Асуана и у о. Элефантина.
(обратно)
32
Сет — в египетской мифологии бог «чужих стран» (пустыни), олицетворение злого начала, убийца Осириса.
(обратно)
33
Нехбет — богиня царской власти. Изображалась в виде женщины с хохолком коршуна на голове, в белой короне Верхнего Египта.
(обратно)
34
Ра — в египетской мифологии бог солнца.
(обратно)
35
Симпосий (греч. — пиршество) — у древних греков и римлян пирушка, часто сопровождавшаяся музыкой, развлечениями, беседой.
(обратно)
36
Хамсин (араб.) — сухой и знойный ветер, дующий из пустыни.
(обратно)
37
Серапис — вот новый верховный бог… — Культ Сераписа как бога столицы Египта Александрии был введен основателем династии Птолемеев Птолемеем I Сотером.
(обратно)
38
Мут («мать») — в египетской мифологии богиня неба, жена Амона.
(обратно)
39
Нефтида считалась женой Сета. Вместе с Исидой выступает во всех заупокойных магических обрядах.
(обратно)
40
Гор — в египетской мифологии выступает в основном как борющийся с силами мрака бог света. Он сын Исиды, действует прежде всего как мститель за своего отца Осириса. Покровительствует царской власти.
(обратно)
41
Аристотель (384–322 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ и ученый.
(обратно)
42
Гиппократ — (ок. 460–377 гг. до н. э.) — древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины, оказавший большое влияние на развитие медицины в последующие века.
(обратно)
43
Центурион — начальник центурии — отряда в сто человек — в древнеримском войске.
(обратно)
44
Триклиний — в Древнем Риме квадратный обеденный стол с кушетками по трем сторонам для возлежания во время еды, а также помещение (столовая), в котором находился триклиний.
(обратно)
45
Агонии — римский праздник, посвященный богу Янусу, справлялся 9 января; Консуалии — праздник в честь одного из древнейших римских аграрных богов Конса. Устраивался два раза в год —21 августа и 15 декабря; Опалии — праздник в честь богини плодородия Опс, жены Сатурна и покровительницы Рима. Устраивался 19 декабря.
(обратно)
46
Цицерон Марк Туллий — (106 — 43 гг. до н. э.) — римский политический деятель, оратор, писатель.
(обратно)
47
Фасции (лат.) — пучки прутьев с топором в середине, связанные ремнем, знаки достоинства магистратов (лиц, занимающих государственные должности, например, консул, претор и т. д.). Фасции несли шествовавшие впереди магистратов их почетные стражи — ликторы.
(обратно)
48
Катулл Гай Валерий (ок. 84–54 гг. до н. э.) — древнеримский поэт.
(обратно)
49
Перевод С. Шервинского.
(обратно)
50
Хитон — мужская и женская рубашка у древних греков. Могла быть длинной или короткой, с рукавами или без них.
(обратно)
51
154. Орк (Оркус) — в римской мифологии божество смерти, а также само царство мертвых. Соответствует греческому Аиду.
(обратно)
52
Тихе — в греческой мифологии богиня случая.
(обратно)
53
Урей — священная змея, ее изображение украшало корону фараонов.
(обратно)
54
Систр — трещотка, которая использовалась при отправлении культа Исиды.
(обратно)
55
Эринии — в греческой мифологии богини мщения.
(обратно)
56
Гномон — древнейший астрономический инструмент, служивший солнечными часами.
(обратно)
57
Гетерии — тайные общества, существовавшие в Древней Греции.
(обратно)
58
Филемон и Бавкида — в греческой мифологии благочестивая супружеская чета из Фригии. Однажды селение, в котором жили супруги, посетили под видом странников Зевс и Гермес. Никто из жителей не хотел пускать их в дом, приютили странников Филемон и Бавкида. Боги покарали жителей селения, затопив их дома, а хижину Филемона и Бавкиды превратили в храм. Боги исполнили желание супругов, наградив их долголетием и дав возможность умереть в один день.
(обратно)
59
Диадохи (греч.) — полководцы Александра Македонского, разделившие после его смерти (323 г. до н. э.) созданную им империю.
(обратно)
60
Сафо (конец VII — первая половина VI в. до н. э) — древнегреческая поэтесса, уроженка Лесбоса.
(обратно)
61
Перевод В. Вересаева.
(обратно)
62
Хариты — в греческой мифологии богини красоты и радости, воплощающие вечно юное начало жизни.
(обратно)
63
Адитон (греч.) — помещение для хранения ценностей.
(обратно)
64
Ихи — в египетской мифологии бог музыки.
(обратно)
65
Коркира — современный остров Корфу.
(обратно)
66
Децимация (лат.) — в древности — казнь одного из 10 человек по жребию. Позже — наказание каждого десятого в случае ненахождения виновного.
(обратно)
67
Ахриман — (Ангро-Майнью) — в иранской мифологии верховное божествозла.
(обратно)
68
Ахура Мазда — в иранской мифологии божество добра, олицетворение света, жизни и правды. Пребывал в непрерывной борьбе с Ангро-Майнью.
(обратно)
69
Гераклит из Эфеса (ок. 530–470 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Началом и сущностью всего считал огонь, из которого все возникает и в который все обращается. Свое учение он изложил в сочинении «О природе», из которого до нас дошло около 130 отрывков. Гераклит признает положение о материальной основе мира, о его вечности и движении, подчиненном закономерному началу. Само движение Гераклит понимал как борьбу противоположностей, утверждая, что война всеобща и что все происходит через борьбу и по необходимости. Вместе с тем противоположности образуют единство и гармонию.
(обратно)
70
Яхме — в иудаизме непроизносимое имя бога.
(обратно)
71
Агриппа Марк Випсаний (ок. 63–12 гг. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель; главный военный помощник императора Августа. Известен также своими постройками в Риме (водопровод, термы, Пантеон и др.).
(обратно)
72
Моисей — легендарный еврейский вождь и пророк.
(обратно)
73
Врачу ничего не стоит безнаказанно убить человека» (лат.).
(обратно)
74
Пектораль — нагрудное украшение.
(обратно)
75
Заратустра (Зороастр, Заратуштра) — легендарный основатель древнеперсидской религии.
(обратно)
76
Сивиллы (Сибиллы) — в греческой мифологии пророчицы, в экстазе предрекающие будущее (обычно бедствия). Первоначально Сивилла было собственное имя одной из — прорицательниц. В эллинистическое и римское время возникли представления о нескольких Сивиллах, которых называли по месту их обитания. Предсказания Сивиллы делались обычно в стихотворной форме — гекзаметром. Предсказания одной из наиболее известных в Древнем Риме прорицательниц — куманской — были записаны на пальмовых листьях и составили 9 книг. «Сивиллины книги» хранились особой жреческой коллегией в храме Юпитера Капитолийского, ими пользовались до V в. н. э.
(обратно)
77
Гигиея — в греческой мифологии дочь Асклепия.
(обратно)
78
Обол — мелкая монета.
(обратно)
79
Орфей — в греческой мифологии певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись люди, боги и природа.
(обратно)
80
Деметра — богиня плодородия и земледелия.
(обратно)
81
Дионис — в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия.
(обратно)
82
Коронида — в греческой мифологии возлюбленная Аполлона. Согласно мифу, Аполлон поразил изменившую ему Корониду стрелой, а вынутого из ее чрева младенца Асклепия отдал на воспитание кентавру Хирону, который научил его искусству врачевания.
(обратно)
83
Эвмен II правил в Пергаме с 197 по 159 г. до н. э.
(обратно)
84
Аттал I, отец Эвмена II — пергамский царь в 241–197 гг. до н. э.
(обратно)
85
Фидий (ок. 500–428 гг. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, автор статуй Афины Промахос (Воительницы), Афины Девы (Парфенос), Зевса Олимпийского и других произведений.
(обратно)
86
Агора — рыночная площадь и место народных собраний в древнегреческих городах.
(обратно)
87
Ареопаг (букв, холм Ареса) — холм в Афинах. Так же назывался и высший орган судебной и политической власти древних Афин, заседавший на Ареопаге.
(обратно)
88
Гиганты — в греческой мифологии сыновья Геи, появившиеся на свет из крови оскопленного Урана, впитавшейся в землю-мать. На полуострове Паллена в Северной Греции произошла битва олимпийских богов с гигантами — гигантомахия, в которой гиганты были уничтожены.
(обратно)
89
Дуумвиры — два правящих лица в Древнем Риме, составляющие дуумвират.
(обратно)
90
Ахеронт — в греческой мифологии одна из рек в царстве мертвых Аиде, через которую Харон перевозит души умерших, беря за это плату в один обол.
(обратно)
91
…история Деметры, Персефоны и Аида. Деметра — богиня плодородия и земледелия. Ее дочь Персефона (Кора) была похищена владыкой царства мертвых Аидом. Деметра долго странствовала в поисках дочери и наслала на землю засуху и неурожай. Аид должен был отпустить Персефону к матери, но сделал так, что Персефона не забывала царство смерти и возвращалась к нему. Две трети года Персефона находилась с матерью, радость которой возвращала земле изобилие.
(обратно)
92
Эреб — в древнегреческой мифологии самая мрачная часть подземного мира, ад.
(обратно)
93
Средство, возбуждающее половую деятельность (фарм.).
(обратно)
94
Сильфий — растение, широко употреблявшееся как лекарство и как приправа при приготовлении пищи. Сильфий произрастал в Кирене и в большом количестве вывозился оттуда в Грецию.
(обратно)
95
Тимон — известный в Афинах мизантроп. Жил в V в. до н. э.
(обратно)
96
Эрифрейское море — так называли Красное море.
(обратно)
97
…поджарили священного быка Аписа… — Апис — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка. Живого быка Аписа содержали в особом помещении. Корова, родившая Аписа, также почиталась и содержалась в специальном здании. Смерть быка Аписа считалась большим несчастьем. Умершего Аписа бальзамировали и хоронили по особому ритуалу в склепе около Мемфиса.
(обратно)
98
Теперь, когда ворота Януса были закрыты… — В Риме на форуме была построена посвященная Янусу (богу входов, выходов и дверей) двойная арка, крытая бронзой и опиравшаяся на колонны, образуя ворота, которые должны были отпираться на время войны и запираться на время мира.
(обратно)
99
Пер-Рамзес-Мериамон, или Дом Рамзеса, — новая роскошная столица, основанная Рамзесом Вторым. — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)
100
Фараон и его наследники почитаются как боги, а к богу принято обращаться на «ты».
(обратно)
101
Военизированное формирование, аналог современной полиции, следившее за порядком и занимавшееся поимкой преступников. — Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)
102
Здесь: электрон — магниевый сплав.
(обратно)
103
Союз азиатских племен, вероятнее всего, семитских, сложившийся в Палестине и на Синае. Основу его составляли амалекиты (библ. амалекитяне) и хабиру — вероятные предки евреев. Гиксосы захватили Дельту ок. 1700 г. до н. э. и, подчинив себе весь Египет, правили до 1580 г. до н. э. Первые шесть фараонов-гиксосов вошли в официальный список царей Египта как представители династии «царей чужеземных стран».
(обратно)
104
Сириус, самая яркая звезда, названная в честь бога Озириса. Ее также называли «слезой Изиды». Появление Сириуса на востоке знаменовало начало нового года и новый разлив Нила. В древности совпадало с днем летнего солнцестояния 21 июня.
(обратно)
105
Современный Асуан.
(обратно)
106
Так древние египтяне называли евреев, живущих на территории их государства.
(обратно)
107
Так древние египтяне называли Средиземное море.
(обратно)
108
Имеется в виду правительница Хатшепсут.
(обратно)
109
Ротль — арабская единица веса.
(обратно)
110
Расположенные друг на друге уменьшающиеся платформы — предшественницы пирамид. Они служили гробницами для покойников из привилегированных слоев общества.
(обратно)
111
Слово «гиксосы» в переводе означает «властители пастухов».
(обратно)
112
Недоброжелатели Эхнатона считали, что физическая слабость не позволяла фараону иметь детей, и обвиняли Нефертити в многочисленных изменах мужу. Здесь и далее — примеч. пер.
(обратно)
113
Враги фараона утверждали, что сама Макетатон была плодом греховной связи Эхнатона с собственной матерью.
(обратно)
114
Вполне возможно, что он умер естественной смертью, так как из-за близкородственных браков фараоны вырождались и часто умирали молодыми.
(обратно)
115
Сколько именно, не указывается. Известно, что Эхнатон вступил на престол в пятнадцать лет и умер в 1336 г. до н. э. в возрасте 32 лет, а восемнадцатилетний Тутанхамон, процарствовавший девять лет, скончался в 1323 г., то есть через тринадцать лет после Эхнатона. Нефертити, Эхнатон и Тадухипа были ровесниками; между тем сейчас Тадухипе немного за тридцать, Нефертити — сорок, ее младшей сестре Мутнеджмет — за сорок, одному одногодку Эхнатона Беку нет и сорока, а другому, Мери-Ра, — сорок пять. У Махфуза получается, что после смерти Эхнатона прошло минимум 18 лет, но в 1318 г. до н. э. уже год как правил даже не непосредственный преемник Тутанхамона Эйе, а преемник Эйе Хоремхеб.
(обратно)
116
Некоторые исследователи, ссылаясь на то, что Тутмос I отметил 30-летие своего правления, отрицают существование Аменхотепа I и считают Аахмес не внучкой, а дочерью Яхмоса. Именно этой версии придерживается автор романа «Царица Хатшепсут», канадская писательница Элоиз Макгроу (М., 1999).
(обратно)
117
По другой версии, евреями (точнее, евреями-изгоями) и были гиксосы. Тогда время исхода относится к 1540 г., эпохе правления Яхмоса I основателя XVIII династии.
(обратно)
118
Существует гипотеза, согласно которой после убийства гиксосами последнего царя XVII династии Секененра Tao II Бесстрашного и утраты тайны ритуала обожествления нового царя, т. е. отождествления его с Гором властители Египта потеряли право называться царями.
(обратно)
119
При подготовке вступления и примечаний нами были использованы предисловие С. Смирнова «„Железная леди“ Древнего Египта» к роману Элоиз Макгроу «Царица Хатшепсут», а также «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» и «Британская энциклопедия».
(обратно)
120
Сезон Половодья (ахет) — первый из трех сезонов года древнеегипетского календаря, продолжавшийся с 27 июля по 24 ноября. Вторым был сезон Прорастания всходов (перет), время выхода земли из-под вод Нила, продолжавшийся с 25 ноября по 26 марта, третьим — сезон Засухи (шему), время сбора урожая, продолжавшийся с 27 марта по 26 июля. Год египтян начинался с появления на небе Сириуса (который они называли Сотисом, или Собачьей звездой). В описываемый период Сириус становился видимым в Фивах 27 июля.
(обратно)
121
Нефертити (греческая транскрипция древнеегипетского Непетнефрет — «Красавица грядет») — египетская царица начала XIV в. до н. э… супруга Аменхотепа IV (Эхнатона). В двенадцатый год правления Эхнатона была либо отвергнута мужем, либо (что менее вероятно) умерла. Принадлежавшие ей предметы, обнаруженные во дворце в северной части Ахетатона («Горизонт Атона»; совр. Тель-эль-Амарна), свидетельствуют, что Нефертити жила там после развода. В 1912 г. там же найдены ее знаменитые скульптурные портреты из раскрашенного известняка, созданные мастером Тутмесом; хранятся в музеях Каира и Берлина.
(обратно)
122
Яхмос I — фараон, правивший в 1539–1514 гг. до н. э. и считающийся основателем XVIII династии (официальные годы правления династии — 1539–1292 гг. до н. э.). Полностью изгнал из Египта гиксосов, кочевые племена Центральной Азии (вероятно, семитического происхождения), владычество которых продолжалось с 1700 по 1540 гг. до н. э.
(обратно)
123
Тутмос III — официально четвертый фараон XVIII династии (хотя на самом деле он был пятым после Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I и Тутмоса II), сын Тутмоса II Немощного и наложницы Исет, формально правивший в 1479–1426 гг. до н. э., однако получивший фактическую власть лишь в 1458 г., после смерти своей тетки и мачехи Хатшепсут. Завоевал Сирию и Палестину, а также Эфиопию вплоть до четвертых порогов Нила.
(обратно)
124
Тийя — согласно сохранившимся сведениям, сестра жреца бога Ра из города Гелиополя.
(обратно)
125
Аменхотеп III (Аменофис III) — египетский фараон XVIII династии, правил в 1390–1353; по другим сведениям, в 1411–1375 гг. до н. э. Аменхотеп (буквально «Амон доволен»), чье тронное имя было Небмаатра, являлся сыном фараона Тутмоса IV от его младшей жены Мутемвии (дочери правителя государства Митанни). Скорее всего, вступил на трон еще ребенком (не более 12 лет), о чем свидетельствует множество косвенных деталей. Тем не менее благодаря военным походам отца именно в его правление могущество Египта, ставшего гегемоном Восточного Средиземноморья, достигло апогея. Владения Аменхотепа простирались от верховьев Евфрата на севере до четвертого порога Нила на юге. Правление Аменхотепа III было исключительно мирным, что и привело к расцвету Египта в этот период. Известно лишь об одной военной экспедиции этого фараона, направленной на подавление восстания в Нубии в пятый год его правления (около 1385 г. до н. э.). Остальные 32 года своего правления Аменхотеп не вел войн — давали себя знать результаты военной активности его предшественников.
Источником благосостояния Египта и обширной строительной деятельности фараона были несметные богатства, поступавшие в Египет из покоренных и зависимых стран, а также из стран-партнеров Египта на Ближнем Востоке, с которыми заключались весьма выгодные для Египта торговые соглашения. При Аменхотепе были установлены многосторонние дипломатические отношения с мелкими государствами Сирии и Палестины, а также с правителями Вавилона, Ассирии, Митанни, Кипром и хеттами. Аменхотеп III, как и его отец, взял в жены дочь царя Миганни (в самом конце жизни он женился на дочери другого митаннийского правителя), а также дочь вавилонского царя, но его первой женой продолжала оставаться простолюдинка Тийя (Тэйе). Свидетельством внешнеполитической активности Египта являются документы Тель-эль-Амарнского архива. Именно ко второй половине правления фараона относится большая часть клинописных табличек, обнаруженных на месте столицы, построенной Эхнатоном (сыном Аменхотепа III). В последние годы его царствования внутренние противоречия и натиск хеттов несколько ослабили страну, что привело к волнениям в азиатских владениях. Из некоторых документов следует, что в конце правления Аменхотеп III был больным и слабым (он умер не дожив до 50 лет); возможно, в последние год-два он правил вместе со своим вторым сыном от Тийи — будущим фараоном Эхнатоном (старший сын умер раньше отца).
Правление фараона ознаменовалось расцветом египетского искусства. Аменхотеп III был одним из величайших фараонов-строителей, которых когда-либо знал Египет. В Нубии был сооружен гигантский храмовый комплекс Солеб, в котором Аменхотеп еще при жизни почитался как «благой бог, владыка Нубии»; неподалеку, в Седеинге, в облике богини Хатор почиталась его обожествленная супруга Тийя. При Аменхотепе III был сооружен практически не сохранившийся «храм миллионов лет» в Мемфисе, в мемфисском Серапеуме погребен первый бык Апис, расширен храм Хатор на Синае. В Фивах сооружается величественный храм в честь Амона-Ра; на западном берегу Нила возле столицы возникает величественная царская резиденция, а несколько севернее ее — заупокойный храм царя, перед которым воздвигнуты две огромные статуи фараона (знаменитые «колоссы Мемнона». Через 200 лет после строительства изменившееся русло Нила смыло величественную усыпальницу; колоссы — единственное, что от нее сохранилось). В XIX веке возле руин этого храма была раскопана аллея сфинксов, изваянных из розового асуанского гранита. Два из них были куплены русским императором Николаем I и в 1834 г. установлены Санкт-Петербурге на Университетской набережной, у входа в Академий художеств, где стоят и по сей день. Эти сфинксы были призваны охранять усыпальницу Аменхотепа III, о чем свидетельствуют выбитые на них иероглифы.
(обратно)
126
Титулатура, применявшаяся в Древнем Египте, неизвестна. Использование обращений «ваше величество», «мой государь» и пр. призвано облегчить понимание текста и повысить его художественность.
(обратно)
127
Подлинное происхождение Нефертити неизвестно. Некоторые исследователи считают ее дочерью одного из египетских вельмож, другие — дочерью правителя Митанни, крупного государства в северной Месопотамии, простиравшегося от Средиземного моря до окраинных гор Ирана (XVI–XIII вв. до н. э.).
(обратно)
128
Мудрец Эйе — будущий египетский фараон (около 1323–1319 гг. до н. э.), условно причисляемый к XVIII династии. Его «родство» с царским домом состояло лишь в том, что он был мужем кормилицы супруги Аменхотепа IV (Эхнатона) Нефертити; некоторые исследователи считают, что он был отцом Нефертити. В эпоху религиозной реформы Эхнатона занимал ряд высоких придворных должностей; при юном Тутанхамоне содействовал его примирению со жрецами Амона, а потом стал канцлером, визирем и фактическим правителем государства в ранге верховного жреца, «Отца Бога». После смерти Тутанхамона сначала оказался неясным образом замешанным в попытке вдовы фараона Анхесенпаатон (младшей дочери Эхнатона, сменившей имя на Анхесенамон) сохранить власть с помощью брака с хеттским царевичем (убитым по прибытии в Египет; некоторые исследователи считают, что эту попытку сделала старшая дочь Эхнатона, Меритатон), а затем сам стал фараоном. Кольцо с именами Эйе и Анхесенамон, демонстрировавшееся в Каире в 1932 г., считали доказательством того, что он женился на вдове Тутанхамона, но впоследствии оказалось, что это не так (в гробнице рядом с именем Эйе было высечено имя его настоящей жены). К чести Эйе, он сохранял по отношению к культу Атона такую же терпимость, как и сам Тутанхамон. При Эйе едва ли не равной с ним властью обладал главный военачальник Хоремхеб. Поскольку Эйе был уже стар и не оставил сына, именно Хоремхеб и стал его преемником.
(обратно)
129
Семнехкар (Сменкар) (правил в 1335–1332 гг. до н. э. — возможно, в 1333-32 гг. вместе с Тутанхамоном) — фараон XVIII династии Древнего Египта. Переехал в Фивы из столицы Эхнатона Ахетатона и начал восстановление культа Амона. Как показал медицинский и серологический анализ его сохранившейся мумии, практически однозначно был братом своего преемника Тутанхамона. Эхнатон точно, а Тутанхамон — предположительно, были сыновьями Аменхотепа III; следовательно, Семнехкар тоже был сыном последнего. После смерти или свержения с престола вдовы Эхнатона Кийи Семнехкар женился на старшей дочери Эхнатона Меритатон и стал фараоном. Точная продолжительность его правления неизвестна; возможно, какое-то время он правил самостоятельно. Некоторые исследователи считают, что именно он заключил перемирие с поклонниками Амона, жестоко преследовавшимися его тестем, и восстановил в Фивах культ Амона.
Тутанхамон (правил в 1333–1323 гг. до н. э.) — фараон XVIII династии Древнего Египта, муж Анхесенпаатон, третьей дочери фараона-реформатора Эхнатона. Его отцом был то ли Эхнатон, то ли отец Эхнатона Аменхотеп III. Тутанхамон, умерший в 18 лет, стал одним из самых известных владык Древнего Египта благодаря тому, что его гробница оказалась единственным царским погребением, дошедшим до нас неразграбленным.
Он взошел на престол в девять лет и не оставил сколько-нибудь заметного следа в истории Египта; известно лишь, что в его царствование в стране начался процесс реставрации старых религиозных культов, которые в правление Эхнатона были отвергнуты ради верховного солнечного божества Атона. Тутанхамон, чье имя первоначально звучало как «Тутанхатон», изменил его, тем самым подчеркнув свое стремление к возрождению древнего культа Амона. Легализовал свои права на трон, назвав своим отцом Аменхотепа III (которому, скорее всего, приходился внуком).
В правление Тутанхамона Египет постепенно восстанавливал свое международное положение, пошатнувшееся в период правления фараона-реформатора. Благодаря полководцу Хоремхебу, который позже стал последним фараоном XVIII династии, Тутанхамон укрепил позиции Египта в Эфиопии и Сирии. Его могло ждать блистательное будущее, но он неожиданно умер, не оставив после себя наследника-сына.
Из-за внезапной смерти фараону не успели подготовить достойную гробницу, и поэтому Тутанхамон был похоронен в скромном склепе, вход в который со временем оказался скрытым под хижинами египетских рабочих, сооружавших поблизости гробницу для фараона XX династии Рамсеса VI (умер в 1137 г. до н. э.). Именно благодаря этому обстоятельству гробница Тутанхамона оказалась забыта и простояла нетронутой более трех тысяч лет, пока в 1922 г. ее не обнаружила британская археологическая экспедиция, которую возглавляли Говард Картер и пятый граф Карнарвон, знаменитый богач и коллекционер, финансировавший раскопки.
(обратно)
130
Мумификация тел умерших фараонов, членов царских семей и высших сановников Египта занимала длительное время. Из тела, по возможности не вскрывая его, специальными инструментами удаляли мозг и внутренности, которые складывали в специальные сосуды — канопы, затем труп тщательнейшим образом обмывали и выдерживали в минеральном растворе больше месяца, а потом высушивали в течение семидесяти дней.
(обратно)
131
Хоремхеб (также Харемхеб, Харемхаб, Хармхаб, древнеегипетское «Хор в праздновании») — египетский фараон, последний представитель XVIII династии; правил около 1319–1292 гг. до н. э. (по другим сведениям, около 1334–1306 г. до н. э.). Видимо, был главой жречества и правителем городка Хутнисут в Среднем Египте. Выдвинулся на военном поприще при Эхнатоне и Семнехкаре. При Тутанхамоне и Эйе фактически правил страной на посту главного военачальника и верховного управляющего царским хозяйством. После смерти или свержения Эйе стал фараоном при поддержке фиванского жречества, «призванный» к власти самим богом Амоном. Стремясь окончательно ликвидировать следы религиозных преобразований Эхнатона, восстановил по всей стране запустевшие храмы, объявил незаконными своих предшественников на троне и прибавил их годы царствования к своим. Восстановил Фивы в правах столичного города и центра культа верховного бога Амона, однако оставался со своим двором в Мемфисе. Как и его предшественники, чтобы сохранить независимость от столичной и номовой родовой знати и жречества, опирался на служилую знать. Хоремхеб, у которого не было сына, незадолго до смерти назначил преемником своего любимца — то ли главного военачальника, то ли советника (визиря) Рамсеса, коронованного под именем Рамсеса I. Тот стал основателем новой, XIX династии, с которой начинается эпоха Рамсесидов (1292–1190; по другим сведениям, 1306–1204 гг. до н. э.). Рамсес I происходил из военного рода нецарской крови с северо-востока Египта, был главным военачальником и протеже Хоремхеба. Видимо, к тому времени Рамсес и сам был немолод, потому что процарствовал всего два года и умер, передав трон своему малолетнему сыну Сети I. Этот второй фараон XIX династии правил в 1290–1279 гг. Затем престол занял его сын, Рамсес II Великий, правивший в 1279–1213 гг.; это был второй по продолжительности период царствования фараона в истории Древнего Египта.
При прямом участии Хоремхеба уже в конце правления Тутанхамона (около 1324 г. до н. э.) Египет вступил в войну с хеттами, своими главными соперниками на Ближнем Востоке из-за владений в Южной Сирии, однако к 1322 г., видимо, полностью утратил свои сиро-палестинские владения. Около 1315 г. Хоремхеб возобновил войну в Азии и дошел до р. Евфрат, но был вынужден заключить мир с хеттским царем Мурсили II, по которому египетские владения фактически ограничивались Синаем (Газа в Южной Палестине уже была хеттской). Поход Хоремхеба в Нубию и его военно-торговая экспедиция в Пунт были более успешными. Видимо, под сокращенным именем Мехи Хоремхеб упоминается в некоторых новоегипетских любовных стихотворениях как лирический герой, благосклонности которого добивается каждая женщина.
(обратно)
132
Номархи — правители египетской области (нома).
(обратно)
133
Ахетатон («Горизонт Атона») — одна из столиц Древнего Египта, около 1360 г. до н. э. перенесенная Аменхотепом IV (Эхнатоном) из Фив. Ее остатки расположены рядом с современной Тель-эль-Амарной, на восточном берегу Нила, в 287 км к югу от Каира, в 100 км к северу от Асьюта.
В центре Ахетатона находился большой дворец, на окраинах — загородные дворцы, на севере — дворец царицы Нефертити (все из сырца). В центральном квартале была канцелярия (где сохранились многочисленные клинописные таблички — так называемый Тель-эль-Амарнский архив), в западной части — квартал полиции, арсенал, площадь для парадов, в южной части — дома придворных и квартал скульпторов (в мастерской начальника скульпторов Тутмеса и были найдены знаменитые скульптуры Эхнатона и Нефертити). К северу находились жилища чиновников и купцов. На набережной стояли амбары. В гористой части был царский некрополь. Рабочие некрополя жили в квартале, окруженном высокой стеной с одними воротами, с узкими улицами и тесными домами. Ахетатон просуществовал около 15 лет. После смерти Эхнатона и отмены его религиозной реформы город был покинут.
(обратно)
134
Царица Хатшепсут — дочь Тутмоса I и царицы Аахмес (Яхмос-Нофретари), вдова собственного единокровного брата Тутмоса II, устранившая от власти своего пасынка и племянника, законного престолонаследника Тутмоса III, и правившая в 1479–1458 гг. После смерти тетки и мачехи Тутмос III постарался уничтожить всякую память о ней и прибавил годы ее правления к собственным. Эпоха Хатшепсут, исключительно мирная (царица практически ликвидировала армию), была временем процветания Египта; при ней после долгого перерыва, вызванного нашествием гиксосов, возобновились путешествия в Пунт, торговые отношения с этой легендарной страной благовоний и рытье канала, ведущего к Сомалийскому полуострову.
(обратно)
135
Хеб-Сед — празднование юбилея правления фараона (обычно 25 или 30 лет). Считалось, что обряд Хеб-Седа возрождает жизненные силы престарелого царя.
(обратно)
136
Митанни — ближайший союзник Египта на Ближнем Востоке, крупное государство в Северной Месопотамии, простиравшееся от Средиземного моря до окраинных гор Ирана (XVI–XIII вв. до н. э.).
(обратно)
137
Макетатон — вторая по старшинству дочь Эхнатона и Нефертити. Некоторые исследователи считают, что Эхнатон имел от нее одного-двух сыновей. Известно, что Макетатон умерла при родах вместе с ребенком, похороненным в царской гробнице. Враги фараона утверждали, что сама Макетатон была плодом его греховной связи с собственной матерью.
(обратно)
138
Двойная корона — церемониальный головной убор фараона, символизировавший власть над Верхним и Нижним Египтом.
(обратно)
139
Осирис — первоначально бог производительных сил природы, ежегодно умирающий и возрождающийся, позднее — бог загробного мира и судья умерших.
(обратно)
140
Ошибка автора. Кавалерии в армии Древнего Египта не существовало; импортных лошадей (только жеребцов) едва хватало для того, чтобы везти колесницы.
(обратно)
141
Автор противоречит себе. Ниже говорится, что Мей тоже сохранил пост командующего армией. На самом деле этот пост при Тутанхамоне занимал именно Хоремхеб.
(обратно)
142
Приспособления для письма — набор письменных принадлежностей писца и художника, состоявший из деревянной дощечки с лунками для красок и продольным углублением для тростинок, которые использовались как кисточки (для этого конец тростинки разжевывали), и сосудика с водой.
(обратно)
143
На самом деле Аменхотепу не исполнилось и пятидесяти; в конце жизни он был слаб и болен.
(обратно)
144
Сет — бог пустыни и песчаных бурь, бог войны, бог чужеземных стран, наделенный чудовищной силой сын Геба и Нут, брат и убийца Осириса, разрубивший его тело на четырнадцать кусков и разбросавший их по всему миру.
(обратно)
145
Так оно и вышло, причем еще за пять лет до смерти Эхнатона.
(обратно)
146
Два царства — Верхний и Нижний Египет.
(обратно)
147
Нубия (Куш) — страна в среднем течении Нила, расположенная к югу от Египта. К XV в. до н. э. бо́льшая часть Нубии была завоевана Египтом. Постоянно упоминалась как «презренный Куш».
(обратно)
148
Менес (Мина) (30 в. до н. э.) — легендарный царь Египта, объединитель Верхнего (южного) и Нижнего (северного) царств, основатель города Мемфиса (египетское название — Минфи), первой династии фараонов и традиции, согласно которой царя отождествляли с богом Гором как с представителем божественной силы на земле.
(обратно)
149
Тот — бог Луны, мудрости, письма и счета. Изображался человеком с головой ибиса, часто с кистью для письма и палитрой в руках; кроме ибиса, его символом был также павиан.
(обратно)
150
Исида — одно из главных божеств египетского пантеона, богиня супружеской верности, материнства и плодородия, покровительница мореплавателей, сестра и жена Осириса, мать Гора, дочь богини неба Нут и бога земли Геба. Отождествлялась с планетой Венера. Изображалась женщиной, кормящей грудью своего сына Гора; женщиной с рогами и солнечным или лунным диском между ними; коровой с диском Солнца или Луны между рогами.
(обратно)
151
Хамсин — сухой южный ветер, дующий в течение примерно 50 дней в сезон засухи (27 марта — 26 июля), время сбора урожая.
(обратно)
152
Книга мертвых — собрание древнеегипетских религиозных текстов, которые помещались в захоронения, чтобы оградить покойника и напутствовать его в загробной жизни.
«Книга Мертвых» составлялась начиная с периода Нового царства и до конца истории Древнего Египта. Богато иллюстрированные тексты писались на папирусе и вкладывались в пелены мумий. Часто к ним относят более ранние «Тексты пирамид» Древнего царства (27–22 вв. до н. э.) и «Тексты саркофагов» Среднего царства (21–18 вв. до н. э.). Один из основных источников по египетской мифологии. См.: Монтэ П. Египет Рамсесов: Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов /Пер. М. А. Коростовцева. — М.: Наука, 1989; Жак К. Египет великих фараонов: История и легенда /Пер. с фр. — М.: Наука, 1992.
(обратно)
153
На самом деле в ту пору Нефертити, как и Эхнатону, было пятнадцать
(обратно)
154
На самом деле все шесть дочерей Эхнатона и Нефертити были намного старше Тутанхамона.
(обратно)
155
Перевод Мартов В. М., 1995
(обратно)
156
Эпир — небольшое государство на северо-западе Греции.
(обратно)
157
Летосчисление греков. — Смотри греческий календарь.
(обратно)
158
…в храме бога Виноградной Лозы… — так греки часто именовали бога Диониса, покровителя виноделия.
(обратно)
159
…оратор Демосфен произнес свою первую филиппику. — Демосфен (384–322 гг. до н. э.) — самый знаменитый оратор Древней Греции, был непримиримым врагом монархии и, следовательно, Македонии. Последовательно отстаивал в своих речах, направленных против Филиппа, царя Македонии (отсюда — филиппика), свободу и независимость греческих городов — полисов.
(обратно)
160
Панэллинизм — историческая концепция союза греческих городов для организации военного похода против варваров — персов. Концепция противопоставления греков не грекам сформирована философом и оратором Исократом и использована царем Македонии Филиппом II на Коринфском общегреческом конгрессе 338–337 гг. до н. э., создавшем Панэллинский союз во главе с Македонией, объявивший Персии священную войну.
(обратно)
161
Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря.
(обратно)
162
…как у Афродиты Праксителя. — Афродита — богиня любви и красоты у греков. Пракситель (390–330 гг. до н. э.) — великий скульптор.
(обратно)
163
Абрут — брови.
(обратно)
164
…одна из трех Парок, Лахезис (правильнее Мойр. — Примеч. ред.). — Мойры (греч.), Парки (римск.) — три Парки, или три богини судьбы. Парка — Клото — прядет нить жизни, определяя ее срок, Лахезис — вынимает жребий, который предназначен человеку, и никто и ничто уже не может избежать предназначенной Парками судьбы, так как третья — Атропос — заносит все, что предназначили ее сестры, в свиток. А что занесено в свиток, то неизбежно.
(обратно)
165
…вернуться из царства Аида. — Царство Аида — потусторонний мир, в представлениях древних греков, куда попадают души всех умерших людей.
(обратно)
166
Парфенон — знаменитый и красивейший храм в Афинах, построенный в 447–437 гг. до н. э. архитекторами Иктином и Калликратом. Его строительство и роспись начинал еще Фидий.
(обратно)
167
…от Тира до «Ворот Геракла». — Тир — город на побережье Малой Азии. Ворота Геракла — древнегреческое название Гибралтарского пролива. Иные названия Гибралтара — Геркулесовы столбы; Столбы Мелькарта.
(обратно)
168
…из Мараканды. — Мараканд — современный Самарканд.
(обратно)
169
На авестском языке… — мертвый язык, принадлежащий индоевропейской группе, на котором совершались богослужения поклонников зороастризма — Заратустры.
(обратно)
170
…на огромных конях Посейдона. — В верованиях древних греков Посейдон — бог моря, выезжал в колеснице, запряженной морскими конями, и тогда мог разыграться шторм.
(обратно)
171
…где пасутся большерогие овцы Памира. — Историки Александра называли Памир и Гиндукуш Кавказом. Возможно, Абрут, сын ученого иудея, разбирался в этом лучше; так что для удобства читателя взяты правильные названия. (Примеч. авт.)
(обратно)
172
…Бактрия не является частью Персидской империи… — Ошибка автора Э. Маршалла. Бактрия фактически не была уже самостоятельным царством, почти потеряв свою независимость. И хотя формально управлялась царями, правильнее именовать их наместниками, или сатрапами, так как персидский царь мог вмешиваться в дела Бактрии и смещать неугодившего ему правителя.
(обратно)
173
…сам Митра. — В древних восточных религиях бог солнца, один из главных индоиранских богов.
(обратно)
174
…главы Дельфийской амфиктионии… — Межполисные древнегреческие коалиции классифицируются на три основных типа: амфиктионии — религиозные союзы для защиты святынь; симполитии — объединение населения, живущего на одной территории (прообраз федеративного государства); симмахии — военно-политические союзы.
(обратно)
175
…Сатрап Карии — государство в Малой Азии; находилось под властью персов.
(обратно)
176
…моими гетайрами. — Гетайры («конные друзья») — отряды тяжеловооруженной конницы из представителей македонской знати, иначе — гвардия.
(обратно)
177
Священная Лента Фив — отборный отряд тяжеловооруженных воинов, строившихся фалангой.
(обратно)
178
…семи чудес света, как, например, «висячие сады» Вавилона… — Со времен эллинизма существует традиция выделять семь античных произведений архитектуры и искусства, не имеющих себе равных благодаря неповторимости. Самый древний перечень включает в себя: стены Вавилона; статую Зевса в Олимпии, созданную скульптором Фидием из золота; так называемые «висячие сады» в Вавилоне, ошибочно приписываемые царице Семирамиде; колосса Родосского; египетские пирамиды; мавзолей в Галикарнасе; храм Артемиды в Эфесе, сожженный Геростратом. В более позднее время к семи чудесам света стали относить другие постройки, в частности маяк на острове Фарос в Александрии.
(обратно)
179
Апеллес — выдающийся мастер греческой монументальной живописи второй половины IV века до н. э.; стал придворным художником Александра Македонского.
(обратно)
180
…царицей Сыновей Гедона… — в буквальном современном смысле королевой бала. Сыновья Гедона (от hedone (греч.) — удовольствие, наслаждение) — люди, для которых удовольствие — цель жизни.
(обратно)
181
…и Ахилл поссорился с царем… — Имеется в виду эпизод из «Илиады» Гомера; ссора Ахилла с Агамемноном, возглавлявшим греческое войско, из-за наложницы (Брисеиды).
(обратно)
182
Пан — соответствует римскому Фавну; бог — покровитель пастухов, лесной царь, получеловек; изображался с козлиными рогами, копытами и бородой. Довольно похотливое создание.
(обратно)
183
…пиры сибаритов… — Сибарис — греческий город на берегу Тарентского залива. Жители Сибариса считались изнеженными любителями наслаждений; отсюда произошло слово «сибарит».
(обратно)
184
…ходила в бой Бессмертная Семерка… великий Дом Кадма. — Кадм — сын мифического финикийского царя Агенора, пришел в Беотию (областьГреции), где основал крепость Кадмею, вокруг которой потом вырос город Фивы. Первый фиванский царь. Впоследствии семь легендарных греческих героев во главе с Адрастом и Полиником приняли участие в походе на Фивы, где царствовал брат Полиника Этеокл. Легенда «Семеро против Фив» нашла отражение в сочинениях великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида.
(обратно)
185
Оловянные острова — так греки называли Англию.
(обратно)
186
Массилия — современный Марсель.
(обратно)
187
…зятя Дария, Митридата… — греческий перевод неизвестного персидского имени.
(обратно)
188
Пропонтида — так греки называли Мраморное море.
(обратно)
189
…под ударами Борея. — Борей — бог северного ветра.
(обратно)
190
…убить детей Ниобы… — Ниоба — дочь царя Тантала и жена царя Фив Амфиона. У нее было четырнадцать детей, семь сыновей и семь дочерей. Гордясь ими, она смеялась над богиней Лето, родившей только двоих, Аполлона и Артемиду. За это Аполлон и Артемида убили детей Ниобы, поразив их стрелами. Образ Ниобы — символ надменности и страдания.
(обратно)
191
…не верь клятве сводни. — Сводня — хозяйка публичного дома. Но, может быть, здесь лучше сказать «публичной девки».
(обратно)
192
…выступили на Анкиру. — Анкира — современный город Анкара.
(обратно)
193
Солецизм — синтаксическая ошибка.
(обратно)
194
…брат Дария Оксиарт… — Не путать с Оксиартом Бактрийским, отцом Роксаны.
(обратно)
195
…их тараны погубили пентеру. — Пентера — гребное судно с пятью рядами весел.
(обратно)
196
…и тут я догадался, каков был мой ответ. — Этому эпизоду читатель поверит с трудом, хотя борьба и сострадание никогда не ходят рядом. Если бы как Диодор, так и Курций, историки, не засвидетельствовали его истинности, о нем не упоминалось бы в этом романе. В пользу Александра можно сказать то, что ни один из этих историков не считается надежным источником сведений. Автор полагает, что Александр вполне мог бы совершить такую жестокость в разгоряченном от битвы состоянии и опьяненный победой.
(обратно)
197
…«Сын Зевса» и «мой мальчик» звучат похоже — Pai dios и Pai dion.
(обратно)
198
Мегаломания — мания величия.
(обратно)
199
…мы зашагали по богатой, густо населенной территории. — Теперь эта местность представляет собой безлюдную пустыню.
(обратно)
200
…реки Тигр, текущей… параллельно Евфрату. — Это было так во времена Александра. В наше время у этих двух рек одно общее устье.
(обратно)
201
Оксиан — так греки называли Аральское море.
(обратно)
202
Арбелы — современный город Эрбиль в Иране.
(обратно)
203
…поля Элизиума — мифическая страна блаженных на западном краю земли; райские поля, где живут герои, праведники и благочестивые люди.
(обратно)
204
Ваал — семитское божество плодородия. Ведал государственно-культовыми функциями (право, война). Отождествлялся греками с Зевсом.
(обратно)
205
Гекатомпилос — полагают, что это город Дамган.
(обратно)
206
…в Сузах. — Пишется так же, как Сузы (Susa), но, наверное, это Сузия — город Арии. (Примеч. ред.)
(обратно)
207
Туань-Таня. — Имеется в виду Монголия.
(обратно)
208
…из страны, лежащей за Индией. — Этому описанию отвечает страна в долине Иравади, в Бирме, в которой находятся древние залежи сапфиров и рубинов.
(обратно)
209
…жители многолюдной территории. — В настоящее время берега реки Окс (Амударья) представляют собой безлюдную песчаную пустыню.
(обратно)
210
Базары — вероятно, Бухара.
(обратно)
211
…он был среди первых македонцев. — Ошибка автора — Фарнух не был македонянином. (Примеч. ред.)
(обратно)
212
Каспис — сейчас называется Кунар.
(обратно)
213
Акесин и Гидраот — реки Джелам и Чинаб, северные притоки Инда.
(обратно)
214
Река Печали — река Стикс в подземном царстве Аида.
(обратно)
215
…большого притока Вахинды… — из-за перемещения земли и ее вод эта река перестала существовать.
(обратно)
216
Крокалы — современный Карачи.
(обратно)
217
Пустыни Гедросии — современный Белуджистан.
(обратно)
218
…большой кочерге… негоже было ругать маленькую печную трубу. — Это парафраз пословиц: «Кто бы говорил, а ты бы помалкивал», «Горшок над котлом смеется, а оба черны». (Примеч. пер.)
(обратно)
219
Кэрри — приправа из куркумового корня, чеснока и разных пряностей.
(обратно)
220
…Далекому Стрелку — так иногда называли бога Аполлона, которого часто изображали с мощным, далеко разящим луком.
(обратно)
221
Архелай — внук македонского царя Александра I (498–454 гг. до н. э.), впоследствии, с 419 г. до н. э., царь Македонии.
(обратно)
222
Юлиан Отступник, Феевий Клавдий (331—363 гг.), римский император, племянник Константина Великого, сторонник языческой религии.
(обратно)
223
Феллах – крестьянин-земледелец в арабских странах.
(обратно)
224
Латник – воин в латах. В старину латами называли металлические доспехи, броню, защищающую от холодного оружия.
(обратно)
225
Кирасир – военнослужащий частей тяжелой кавалерии, носивший кирасу в парадной форме. Кираса – металлический панцирь на спину и грудь.
(обратно)
226
Бедуин – араб-кочевник.
(обратно)
227
Апологет – человек, который выступает с апологией, то есть чрезмерным восхвалением или защитой кого-либо или чего-либо.
(обратно)
228
Серапис – Сарапис, божество в эллинистическом Египте, культ которого был введен в 4 в. до н. э. Египтяне отождествляли его с Богом Осирасом, греки – с Зевсом.
(обратно)
229
Таран – древнее орудие для разрушения стен зданий.
(обратно)
230
Анахорет – отшельник; тот, кто живет в уединении, избегая людей.
(обратно)
231
Назареи – так называли евреев-христиан.
(обратно)
232
Капище – языческий храм.
(обратно)
233
Готка – готы – одно из древнегерманских племен.
(обратно)
234
Фарисей – лицемер, ханжа.
(обратно)
235
Расселина – глубокая трещина, узкое ущелье в горной породе.
(обратно)
236
Натурализовать – предоставить права гражданства иностранцу.
(обратно)
237
Софизм – формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений.
(обратно)
238
Придел – добавочный, боковой алтарь в церкви.
(обратно)
239
Чепрак – матерчатая подстилка под седло поверх потника, являющаяся украшением.
(обратно)
240
Дышло – толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки при парной запряжке.
(обратно)
241
Гомер. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. Песнь одиннадцатая, ст. 478–492. (Прим. перев.)
(обратно)
242
Гомер. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. Песнь одиннадцатая, ст. 538–540.
(обратно)
243
Шекспир. Юлий Цезарь. Перевод Михаила Зенкевича.
(обратно)
244
Тарон — большая область древней Армении, находившаяся на высоком берегу Евфрата, южнее горы Арарат.
(обратно)
245
Тизбон — древняя столица Персии (у греческих авторов — Ктесифон).
(обратно)
246
Арацани — армянское название реки Евфрат.
(обратно)
247
Хурджин — переметная сума.
(обратно)
248
Нахарары — крупные феодалы, вассалы царя, наследственно владевшие областями Армении.
(обратно)
249
Спарапет — наследственная должность главнокомандующего всеми вооруженными силами в древней Армении. В случае, если по малолетству спарапет не мог предводительствовать войсками, командование предоставлялось другому лицу, которое, однако, не носило звание спарапета, а именовалось зораваром — словом означающим «полководец».
(обратно)
250
Нерсес Великий — выдающийся первосвященник Армении и крупный государственный деятель, самоотверженно боровшийся за единство, мир и благоустройство страны.
(обратно)
251
Конница Армении славилась своими высокими качествами и потому персидские цари привлекали ее для участия в своих походах, окружая ее высоким вниманием.
(обратно)
252
Кушаны — иранское племя, проживавшее на юге Средней Азии.
(обратно)
253
Маги — священники персидской религии Зороастра.
(обратно)
254
Танутер — глава феодального дома, старший в роде нахарар.
(обратно)
255
Мамиконяны были по происхождению чаны (т. е. лазы). По созвучию со словом чен — китаец, традиция стала считать этот род китайским по происхождению. — Прим. пер.
(обратно)
256
Тана — персидское украшение для женщин, которое носили под носом.
(обратно)
257
Каджи — злые духи подземелья.
(обратно)
258
Азарапет — главный эконом царя, ведавший государственным хозяйством и налогами.
(обратно)
259
Так назывались правители четырех окраинных областей древней Армении. Эти самые крупные феодалы должны были охранять границы государства от врагов.
(обратно)
260
Слово тер имеет различные значения в зависимости от того, в каком контексте оно употребляется. Означает: властелин, господин, всемогущий, создатель, всевышний. Его употребляли при обращении к крупнейшим феодалам, светским и духовным.
(обратно)
261
Гавар, ашхар — крупные территориальные единицы Армении (в значении «край», «область», «провинция»).
(обратно)
262
Джида — персидская мера длины.
(обратно)
263
«Дети солнца»— это преемники античных гелиополитов («граждан солнца») — членов организации рабов, боровшихся против Римской империи.
(обратно)
264
Шинакан — селянин, поселянин. Общее название трудового крестьянского населения.
(обратно)
265
Лукулл, Луций Лициний (106 — 56 гг. до н. э.) — знаменитый полководец Римской империи, командовал римской армией в период войны с Митридатом Понтийским и Тиграном II, царем Армении.
(обратно)
266
Яштские храмы — капища, где проводились жертвоприношения богу Солнца.
(обратно)
267
Навасард — первый месяц года в древней Армении. Год имел 12 месяцев, а каждый месяц насчитывал 30 дней. За последним месяцем шло еще пять дней, дополнявших общий счет года — 365 дней.
(обратно)
268
Бамбирн — музыкальный струнный инструмент, бывший в употреблении у древних армянских рапсодов, которые под его аккомпанемент пели свои песни.
(обратно)
269
Вардавар — по-армянски «украшенный розами». В этот день обливали друг друга водой, дома украшали зеленью и цветами, преимущественно розами. После введения христианства этот праздник, посвященный богине Астхик, перешел в праздник Преображения.
(обратно)
270
Легендарная история Армении считает армян прямыми потомками Ноя. Историк Мовсес Хоренаци рассказывает, что родоначальником древней Армении считался Гайк, правнук Иафета, сына Ноя. Он был исполин, полубог, обладал чудовищной силой. Поселился он у подножья Арарата, построил жилище, отдал его своему сыну Арменаку, а сам продолжал свой путь на северо-запад и там построил себе деревню, которую назвал Гайкашен.
(обратно)
271
Месроп Маштоц — создатель армянского алфавита (в 392 г.), Саак Партев содействовал ему в этом.
(обратно)
272
Во время церемоний в царском дворце нахарары занимали места по старшинству рода и по своим заслугам; около царя, по древнему армянскому обычаю, сидели на подушках в порядке старшинства. Это называлось «получить подушку и почесть от царя». Обычай этот сходен с местничеством в древней Руси.
(обратно)
273
Шараканы — духовные песнопения армянской церкви.
(обратно)
274
Випасаны — в древней Армении народные певцы, авторы эпоса исторического содержания.
(обратно)
275
Аршакаван — город, основанный царем Аршаком и разгромленный нахарарами.
(обратно)
276
Зороастризм (или маздеизм) — религия древней Персии, получившая название по имени ее создателя Заратуштры (Зороастра). В основе ее лежит дуализм — вера в бога добра и зла.
(обратно)
277
Мцурк — на древнеармянском языке означает пепел.
(обратно)
278
Народное предание гласит, что святой Григорий Просветитель покорил всех демонов, а одного из них заставил прислуживать и чистить монастырские печи.
(обратно)
279
Ормузд — бог добра у древних персов.
(обратно)
280
Пер. В. Брюсова.
(обратно)
281
Поэтический перевод В. Звягинцевой.
(обратно)
282
Одз — по-армянски означает змея. Здесь игра слов: «одзунцы» — змеи.
(обратно)
283
Макан — по-древнеармянски означает «клюшка»; маканахах — игра в поло, распространенная в то время среди армянских феодалов.
(обратно)
284
Айастан — Армения.
(обратно)
285
Ксенофонт — древнегреческий историк (430–355 гг. до н. э.), описавший отступление 10 тысяч греков из Персии в своем «Анабасисе», в котором, между прочим, дал весьма ценные сведения об Армении.
(обратно)
286
Айрарат — одна из центральных областей коренной Армении. На территории Айрарата находились почти все сменявшие друг друга столицы Армении.
(обратно)
287
То есть первосвященника.
(обратно)
288
Ануш — по-армянски означает: сладкий, приятный.
(обратно)
289
Анхуш — по-армянски «забытый», «неупоминаемый». Эту крепость Раффи называет Ануш и только здесь употребляет форму Анхуш. Автор хочет сказать, что хотя она носит имя легендарной красавицы Ануш, но крепость эта в народе заслужила печальную славу Анхуш — заключенный в нее человек навсегда предавался забвению и умирал там в неизвестности.
(обратно)
290
Изображение вепря — герб персидских царей.
(обратно)
291
В данном случае — распорядитель слуг.
(обратно)
292
Висячие сады были созданы в Вавилоне по велению легендарной ассирийской царицы Семирамиды (Шамирам).
(обратно)
293
В армянском народе бытует легенда о любви Шамирам к царю Армении Ара Прекрасному, который, однако, ответил ей отказом на предложение «взять ее в супружество», не желая подчинить Армению Ассирии. В битве с Семирамидой Ара был убит. Уязвленная царица велела объявить, что духи «аралезы» оживили убитого и царь достался ей.
(обратно)
294
Сепухами назывались младшие члены нахарарского дома.
(обратно)
295
Мовпетан-мовпет — маг магов, первосвященник персидской религии.
(обратно)
296
Тарвез — современный Тавриз, главный город Иранского Азербайджана.
(обратно)
297
Фарсанг — мера длины, равная более чем 5000 метров.
(обратно)
298
Сокращенный поэтический перевод В. Звягинцевой.
(обратно)
299
Группа проповедниц христианства — Рипсимэ, Гаянэ и др., по легенде, замученные царем Армении.
(обратно)
300
Нерн — антихрист.
(обратно)
Оглавление
Зигфрид Обермайер
«Калигула»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ЭПИЛОГ
Зигфрид Обермайер[18]
КЛЕОПАТРА
КЛЕОПАТРА
ПОД ЗНАКОМ ЗМЕИ
Книга I
Книга II
Эпилог
Зигфрид Обермайер
«Храм фараона»
Книга первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Книга вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Эпилог
Примечания
Нагиб Махфуз
Мудрость Хеопса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Пояснения к тексту
Нагиб Махфуз
Война в Фивах
Секененра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Десять лет спустя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Яхмос отправляется на войну
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Нагиб Махфуз
Эхнатон, живущий в правде
Кто вы, фараон Эхнатон?
Предисловие
Эхнатон, живущий в правде
Начало
Верховный жрец Амона
Эйе
Хоремхеб
Бек
Тадухипа
Тото
Тей
Мутнеджмет
Мери-Ра
Мей
Махо
Нахт
Бенто
Нефертити
Эдисон Маршалл
«Победитель»
Персонажи, действующие в романе
Глава 1
НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНИЯ
Глава 2
ЗНАМЕНИЯ И СОБЫТИЯ
Глава 3
ПОБЕДА И ОПАСНОСТЬ
Глава 4
ИСС И ДРЕВНИЙ ТИР
Глава 5
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ
Глава 6
ГИБЕЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ
Глава 7
КРАСНЫЙ ПРИЛИВ
Глава 8
ИНДИЯ
Глава 9
ТЕНИ И ПРИЗРАКИ
Глава 10
ПОЛЕТ ФУРИЙ
Глава 11
ЦАРИЦА РОКСАНА
Греческий календарь
Хронология жизни и царствования Александра Македонского
Фриц Маутнер
Ипатия
Пролог
Глава I
Юность Ипатии
Глава II
ХРАМ СЕРАПИСА
Глава III
НАЗАРЕИ[231]
Глава IV
НОВЫЙ АРХИЕПИСКОП
Глава V
НАМЕСТНИК ЦЕЗАРЯ И БОГА
Глава VI
ЖЕНИХИ
Глава VII
СРЕДИ СВЯТЫХ
Глава VIII
ИУДЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
Глава IX
ПИРАМИДА ХЕОПСА
Глава X
СВЯТОЙ АММОНИЙ
Глава XI
КАТАКОМБЫ
Глава XII
ИПАТИЯ
Уильям Нэйпир
АТТИЛА
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВОЛК ВО ДВОРЦЕ
1
Гроза с Востока
2
Глаз императора
3
Гунны входят в Рим
4
Цицерон и свобода
5
Улицы Рима
6
Меч и пророчество
7
Беседы с британцем
8
О, Кассандра
9
Пусть польет дождь и утопит огни
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БЕГСТВО И ПАДЕНИЕ
1
Об аримаспах, грифонах, гуннах и прочих чудесах неведомых земель скифов
2
В горы
3
Первая кровь
4
Лес
5
CLOACA MAXIMA
6
Одетая для жертвоприношения
7
Долгий путь домой
8
Еще не все рухнуло
9
Руины Италии
10
Деревня
11
Дорожные спутники
12
Покойтесь на ней легко, земля и роса
13
Творцы снов
14
Последний листок
15
Морские волки
16
Последняя граница
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДИКИЕ ЗЕМЛИ
1
Смерть сердца
2
Женская кибитка
3
Чанат
4
Четверка
5
Потерянный и спасенный
ЭПИЛОГ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Уильям Нэйпир
«Собирается буря»
Главные действующие лица:
Примечания и благодарности
Примечание к русскому изданию
Пролог
Часть первая
ПОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
Глава 1
Бронзовый всадник
Глава 2
Горящая палатка
Глава 3
Избранные
Глава 4
Маленькая Птичка
Глава 5
Нападение на Танаис
Глава 6
Шпионы
Глава 7
Императрица и полководец
Глава 8
Новый Рим
Глава 9
История Афинаиды
Глава 10
Путешествие в Иерусалим
Глава 11
Варварское побережье в огне
Глава 12
Госпожа и рабыня
Глава 13
На погибель Рима
Часть вторая
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛЕМЕН
Глава 1
Меч Саваша и правители-данники
Глава 2
Поход на восток: воспоминания о Китае
Глава 3
Судьба купцов из Персии
Глава 4
Деревня
Глава 5
Будун-Бору — Волчье племя
Глава 6
Дань весом не меньше человеческого
Глава 7
Несколько локтей мрачной пустыни
Глава 8
Захваченные в плен, раненые и проклятые
Глава 9
Хорошее лекарство, плохое лекарство
Глава 10
Мужья и жены
Глава 11
Колонна Северной Вэй
Глава 12
Горы
Глава 13
Горная страна прокаженного царя
Глава 14
Баян-Казгар
Глава 15
Возвращение домой
Глава 16
Болезнь Эллака, сила Энхтуйи
Глава 17
Аттила говорит, совет слушает
Часть третья
ХУНГВАР
Глава 1
Поход на восток
Глава 2
Ребенок-дурачок
Глава 3
Карательная экспедиция
Глава 4
При дворе визиготов: игра в шахматы
Эпилог
Переправа
Перечень основных географических наименований, которые встречаются в тексте. Их современные эквиваленты. Глоссарий
Стивен Прессфилд
Врата огня
Эпический роман о сражении при Фермопилах
Греческие меры длины и массы
Историческая справка
КНИГА ПЕРВАЯ
КСЕРКС
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
КНИГА ВТОРАЯ
АЛЕКСАНДР
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
КНИГА ТРЕТЬЯ
ПЕТУХ
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
АРЕТА
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
КНИГА ПЯТАЯ
ПОЛИНИК
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
КНИГА ШЕСТАЯ
ДИЭНЕК
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
КНИГА СЕДЬМАЯ
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
КНИГА ВОСЬМАЯ
ФЕРМОПИЛЫ
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Мария Раттацци
Осада Иерусалима
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Коротко об авторе
Мэри Рено
Погребальные игры
ОСНОВHЫΕ СОБЫТИЯ, ΠΡЕДШЕСТВУЮЩИΕ СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА
323 год до н. э
322 год до н. э
321 год до н. э
319 год до н. э
318 год до н. э
317 год до н. э
316 год до н. э
315 год до н. э
310 год до н. э
286 год до н. э
ΟТ АВТОРА
ДЕЙСТВУЮЩИΕ ЛИЦА
Мэри РЕНО
ТЕЗЕЙ
От переводчика
Книга первая
ЦАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
1
ТРЕЗЕНА
1
2
3
4
5
6
2
ЭЛЕВСИН
1
2
3
3
АФИНЫ
1
2
3
4
КРИТ
1
2
3
4
5
6
7
9
10
5
НАКСОС
1
2
Книга вторая
БЫК ИЗ МОРЯ
1
МАРАФОН
1
2
3
4
5
6
7
8
2
ПОНТ
1
2
3
4
5
6
7
8
3
ЭПИДАВР
1
2
3
4
5
4
СКИРОС
ОТ АВТОРА
МИФ О ТЕЗЕЕ
Раффи
Самвел
Книга первая
I. Два гонца
II. Утро Тарона
III. Зловещатель
IV. Смутная идея зарождается в нем
V. Мать и сын
VI. Двоюродные братья
VII. Предлог
VIII. Охота
IX. Аштишатский монастырь
X. Три молодых силы
XI. Мачеха
XII. Неудавшийся заговор
XIII. Обстоятельства усложняются
XIV. Новые вести
XV. Княжна гор
XVI. Самозванцы
XVII. Совет женщины
XVIII. Юный Артавазд
В скобках
1. Природа, нахарарство и царь
2. Государство и церковь, духовная и светская власть
3. Различные категории церковников
Книга вторая
ОДИН НА ЗАПАДЕ, ДРУГОЙ НА ВОСТОКЕ
I. Патмос
II. Крепость Ануш
ПУТИ РАСХОДЯТСЯ
I. Рштуник
II. Артос
III. «Источник слез»
IV. Амазаспуи
V. Утро после ужасной ночи
VI. Предатель на пороге своего дома
VII. Угрызение
VIII. Шапух у развалин Зарехавана
IХ. Артагерс
X. Мушег. — «Вкривь и вкось»
XI. «Наименьшее из двух зол»
XII. Хайр Мардпет
Книга третья
I. Утро равнины Айрарата
II. Необычайное жертвоприношение
III. Звита
IV. Ловушки Аракса
V. Мать
VI. Замок Вогакан
Послесловие
Раффи и его «Самвел»
*** Примечания ***



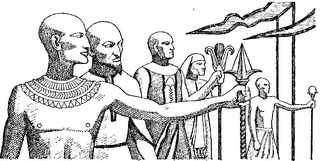

 Надежды, что мое положение скоро прояснится, оказались напрасными. Из зала, где умерла царица и обе ее придворные дамы, меня, как опасного преступника, отправили в государственную тюрьму — мрачное здание с толстыми стенами и высокими башнями в восточной части дворцового квартала. Я сидел в тесной и темной клетке, однако уже на четвертый день меня под охраной четырех солдат вновь привели домой. Здесь, как мне сказали, я должен буду ожидать, пока Цезарь — имелся в виду Октавий — решит мою судьбу.
Позже я узнал, что с другими заключенными обошлись не так мягко. Верный Канидий Красс был казнен, так же как и Кассий Пармений и Децим Туриллий — последние остававшиеся в живых убийцы Юлия Цезаря. Они сражались на стороне Антония, который принял их не из каких-то дружеских чувств, а потому что их преследовал Октавий. Цезариона заманили в Александрию ложными обещаниями — его воспитатель Родон сыграл при этом бесславную роль. Сначала принца посадили в тюрьму. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что Октавиан собирался сослать принца на какой-нибудь остров. Однако его друг, ученый Арей, намекнул ему, что мир не выдержит двух Цезарей.
Таким образом, Цезарь пошел на братоубийство — ибо, насколько я знаю, он никогда не сомневался в том, что Цезарион был сыном его приемного отца — и приказал убить семнадцатилетнего юношу. Этот поступок еще можно как-то понять, поскольку Цезарион мог собрать немало сторонников и возглавить оппозицию. Но нельзя ни понять, ни простить того, что Октавий приказал казнить пятнадцатилетнего Антилла, старшего сына Антония от его брака с Фульвией. Этот мальчик никому не мог мешать или угрожать. Его учитель Теодор выдал его преследователям, но прежде стянул у своего питомца какой-то драгоценный камень. В этом заключалась его ошибка: как вор и предатель он окончил жизнь на кресте.
Весь сентябрь и октябрь из гавани один за другим отправлялись в Рим корабли с военной добычей. Едва ли до сих пор у кого-нибудь из римских полководцев ее было так много. Поскольку я не был свидетелем того, как Цезарь распорядился богатствами Египта, я приведу рассказ одного официального хрониста.
«Во дворце Клеопатры находились несметные сокровища. Она сама собрала все пожертвования из храмов, и это позволило римлянам захватить огромную добычу, не запятнав себя разбоем. Значительные суммы были взысканы также с тех, кто в чем-нибудь провинился перед Римом. Кроме того, у всех остальных граждан, даже если их не в чем было обвинить, было отобрано две трети имущества. Это позволило заплатить жалованье войску. Каждый, кто считался соратником Цезаря, получил сверх того еще по тысяче сестерциев — на том условии, что город не будет предан разграблению. Цезарь смог вернуть все долги сполна. Одним словом, Римская империя стала богата, и храмы ее украсились.
В память победы Цезаря граждане Рима украсили храм Юлия кормовыми фигурами кораблей, захваченных в этой войне. В честь победителя был учрежден праздник, отмечавшийся каждые четыре года, а кроме того, стали праздновать также день рождения Цезаря и день взятия Александрии».
В Риме появилось такое количество денег, что цены скакнули, а ростовщики стали выражать недовольство, потому что не могли больше брать высокие проценты. Почему так получалось? Теперь, когда ворота Януса были закрыты[98] и в Римском государстве воцарился мир, Цезарь решил улучшить жизнь народа, поскольку он вовсе не относился к людям, которых plebs прославлял просто так. Из огромной военной добычи он велел выплатить каждому гражданину города Рима четыреста сестерциев, и кроме того — чего до него никто еще не делал — такую же сумму он выделил и на каждого ребенка. Таким образом, некоторые многодетные семьи обнаружили однажды утром, что они богаты, и все вокруг прославляли и восхваляли Цезаря.
В сентябре был отпразднован триумф Цезаря. Меня и еще нескольких придворных, а также маленьких Клеопатру Селену и Александра Птолемея привезли в закрытой повозке на Марсово поле, откуда должна была двинуться торжественная процессия. Нам надели символические оковы. Впереди и позади нас следовали повозки с посудой, одеждой и драгоценностями Клеопатры. На Via Aurelia шествие приостановилось. Появился Цезарь в сопровождении полководцев, участвовавших в войне против Египта. Он взошел на квадригу, запряженную четверкой белых коней. На нем была пурпурная тога, расшитая золотыми звездами, а голову украшал золотой лавровый венок, В левой руке у него был скипетр из слоновой кости, увенчанный золотым орлом, а в правой — лавровая ветвь. Позади молодой сильный раб держал над его головой золотую корону Юпитера.
Под звуки труб, флейт,барабанов и литавров процессия вновь пришла в движение. При виде Цезаря толпа разразилась громкими ликующими криками, которые совершенно заглушили всю эту музыку.
Надежды, что мое положение скоро прояснится, оказались напрасными. Из зала, где умерла царица и обе ее придворные дамы, меня, как опасного преступника, отправили в государственную тюрьму — мрачное здание с толстыми стенами и высокими башнями в восточной части дворцового квартала. Я сидел в тесной и темной клетке, однако уже на четвертый день меня под охраной четырех солдат вновь привели домой. Здесь, как мне сказали, я должен буду ожидать, пока Цезарь — имелся в виду Октавий — решит мою судьбу.
Позже я узнал, что с другими заключенными обошлись не так мягко. Верный Канидий Красс был казнен, так же как и Кассий Пармений и Децим Туриллий — последние остававшиеся в живых убийцы Юлия Цезаря. Они сражались на стороне Антония, который принял их не из каких-то дружеских чувств, а потому что их преследовал Октавий. Цезариона заманили в Александрию ложными обещаниями — его воспитатель Родон сыграл при этом бесславную роль. Сначала принца посадили в тюрьму. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что Октавиан собирался сослать принца на какой-нибудь остров. Однако его друг, ученый Арей, намекнул ему, что мир не выдержит двух Цезарей.
Таким образом, Цезарь пошел на братоубийство — ибо, насколько я знаю, он никогда не сомневался в том, что Цезарион был сыном его приемного отца — и приказал убить семнадцатилетнего юношу. Этот поступок еще можно как-то понять, поскольку Цезарион мог собрать немало сторонников и возглавить оппозицию. Но нельзя ни понять, ни простить того, что Октавий приказал казнить пятнадцатилетнего Антилла, старшего сына Антония от его брака с Фульвией. Этот мальчик никому не мог мешать или угрожать. Его учитель Теодор выдал его преследователям, но прежде стянул у своего питомца какой-то драгоценный камень. В этом заключалась его ошибка: как вор и предатель он окончил жизнь на кресте.
Весь сентябрь и октябрь из гавани один за другим отправлялись в Рим корабли с военной добычей. Едва ли до сих пор у кого-нибудь из римских полководцев ее было так много. Поскольку я не был свидетелем того, как Цезарь распорядился богатствами Египта, я приведу рассказ одного официального хрониста.
«Во дворце Клеопатры находились несметные сокровища. Она сама собрала все пожертвования из храмов, и это позволило римлянам захватить огромную добычу, не запятнав себя разбоем. Значительные суммы были взысканы также с тех, кто в чем-нибудь провинился перед Римом. Кроме того, у всех остальных граждан, даже если их не в чем было обвинить, было отобрано две трети имущества. Это позволило заплатить жалованье войску. Каждый, кто считался соратником Цезаря, получил сверх того еще по тысяче сестерциев — на том условии, что город не будет предан разграблению. Цезарь смог вернуть все долги сполна. Одним словом, Римская империя стала богата, и храмы ее украсились.
В память победы Цезаря граждане Рима украсили храм Юлия кормовыми фигурами кораблей, захваченных в этой войне. В честь победителя был учрежден праздник, отмечавшийся каждые четыре года, а кроме того, стали праздновать также день рождения Цезаря и день взятия Александрии».
В Риме появилось такое количество денег, что цены скакнули, а ростовщики стали выражать недовольство, потому что не могли больше брать высокие проценты. Почему так получалось? Теперь, когда ворота Януса были закрыты[98] и в Римском государстве воцарился мир, Цезарь решил улучшить жизнь народа, поскольку он вовсе не относился к людям, которых plebs прославлял просто так. Из огромной военной добычи он велел выплатить каждому гражданину города Рима четыреста сестерциев, и кроме того — чего до него никто еще не делал — такую же сумму он выделил и на каждого ребенка. Таким образом, некоторые многодетные семьи обнаружили однажды утром, что они богаты, и все вокруг прославляли и восхваляли Цезаря.
В сентябре был отпразднован триумф Цезаря. Меня и еще нескольких придворных, а также маленьких Клеопатру Селену и Александра Птолемея привезли в закрытой повозке на Марсово поле, откуда должна была двинуться торжественная процессия. Нам надели символические оковы. Впереди и позади нас следовали повозки с посудой, одеждой и драгоценностями Клеопатры. На Via Aurelia шествие приостановилось. Появился Цезарь в сопровождении полководцев, участвовавших в войне против Египта. Он взошел на квадригу, запряженную четверкой белых коней. На нем была пурпурная тога, расшитая золотыми звездами, а голову украшал золотой лавровый венок, В левой руке у него был скипетр из слоновой кости, увенчанный золотым орлом, а в правой — лавровая ветвь. Позади молодой сильный раб держал над его головой золотую корону Юпитера.
Под звуки труб, флейт,барабанов и литавров процессия вновь пришла в движение. При виде Цезаря толпа разразилась громкими ликующими криками, которые совершенно заглушили всю эту музыку.


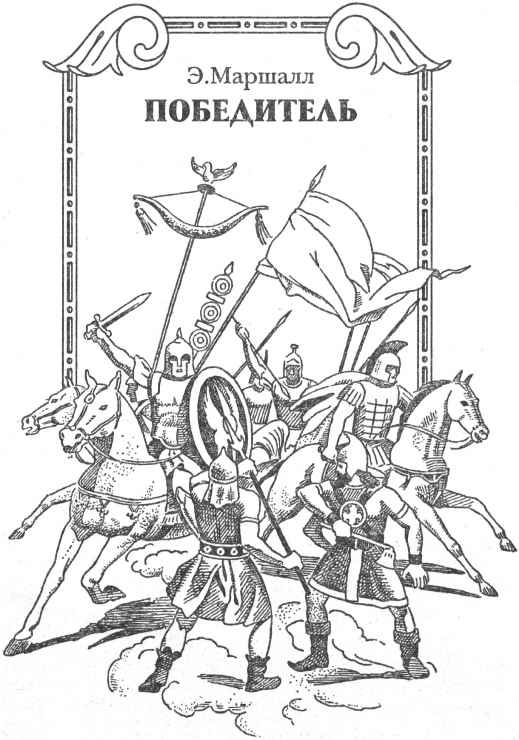



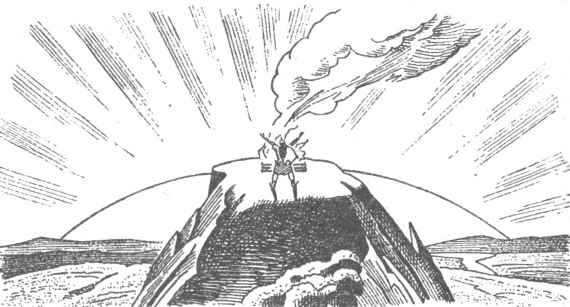



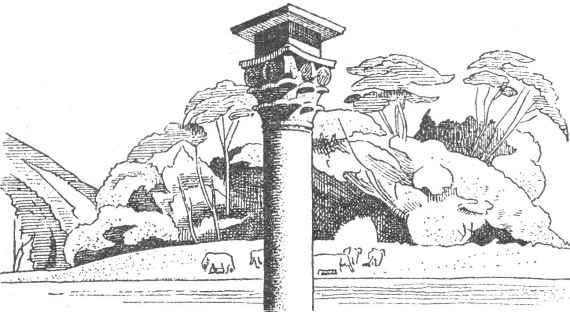



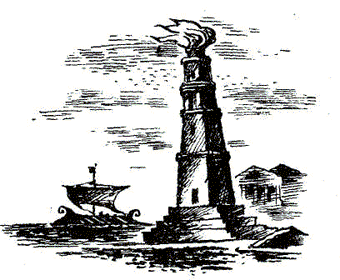 Парад продолжался уже целых три часа. Император Юлиан[222] на своем тяжелом рыжем коне, окруженный офицерами, чиновниками, духовенством и литераторами, находился недалеко от дворца наместника в конце широкой портовой улицы. В течение трех часов проходили мимо него полки, отправлявшиеся в Азию в победный поход против персов. Здесь, у главных складов Александрии, принимал император парад; напротив, у мола новой гавани, стояли на якоре корабли, которые в этот же вечер должны были доставить в Антиохию его самого и его свиту. Оттуда, предшествуя египетской армии, император намеревался выступить со своим сирийским войском.
Зрители порядком устали. Было около десяти часов утра. Стоял март, но солнце так нещадно палило над городом, что александрийская чернь начинала думать: африканские корпуса могли бы быть и поменьше.
Два маленьких темно-коричневых феллаха[223], обнявшись цепкими руками, чтобы не потерять равновесия, сидели на крепкой свае.
– Эй! – воскликнул один. – Посмотри, над крышей летит философ.
Птица марабу, которую за ее характерную лысую голову александрийцы прозвали философом, плавно поднялась над крышей Академии, описала два широких, спокойных круга над старым зданием, еще раз мощно взмахнула громадными крыльями и опустилась, наконец, недалеко от императора на источенную непогодой колонну. В воздухе птица выглядела просто великолепно. Теперь, когда она стояла на одной ноге, а другой, невероятно изогнувшись, скребла свою морщинистую шею с длинным мешком, болтавшимся под клювом наподобие серо-коричневой бороды – это было далеко не привлекательно. Ко всему этому лысая голова ужасающих размеров, череп и не то меланхолично, не то сурово взирающие на мир глаза – все это выглядело как-то нелепо шутовски, и оба мальчишки кричали и хохотали, в то время, как проходивший перед императором пехотный полк выкрикивал обычное утреннее приветствие; с кораблей неслись стоголосые клики, а воинственно настроенные горожане обменивались замечаниями о параде.
Мальчишки забавлялись теперь тем, что сравнивали двуногого философа на колонне с философствующим императором. Однако, император Юлиан не выглядел ни меланхолично, ни торжественно. Сходство было чисто внешнее. Невыразительный маленький человек около тридцати лет от роду сидел на своем рыжем коне, как новобранец. Только умная лысая голова с длинной, темно-коричневой бородой философов отдаленно напоминала птицу на колонне. Но одно особенно рассмешило мальчишек: как марабу продолжительно и серьезно скреб и чистил лапой голову, совершенно так же скреб и чистил император свою спутанную бороду, приветствуя в то же время проходивший мимо него полк воинственной речью:
– Вперед, молодцы! Ударим по персам, чтобы от их голов осталась одна солома. Это будет веселая война! Если уж мы вдребезги разнесли здоровенных швабов под Страсбургом, то персы побегут перед нами, как стадо баранов!
Император оглянулся и подозвал кивком головы первосвященника Иерусалима.
– Ваша просьба полностью удовлетворена. Вы получите деньги чтобы вновь отстроить ваш древний храм. По возвращении с войны я навещу вас как-нибудь в Иерусалиме. Тогда вы покажете мне тайные книги о том галилеянине, которого вы распяли. Я собираю материалы для большой сатиры на распятого. Мы расположены милостиво по отношению к вам.
Снова раздалась команда, и «с добрым утром, император!» прогремело над звоном железа. За последним отрядом пехоты пошла кавалерия. Глаза императора, злобно сверкнувшие минутой раньше, снова стали спокойными.
– С добрым утром, латники![224] – как будто преобразившись, воскликнул он могучим голосомполководца. – Вы выглядите молодцами! Вперед! Не заставляйте меня краснеть. Говорят, персидские девочки сходят с ума от африканских кирасиров?[225]
Грубый смех первых рядов послужил ответом, и весь полк расхохотался за ними вслед. Лошади ржали и проходили танцующим шагом. Император послал первым засмеявшимся воздушный поцелуй, а затем обернулся к египетскому наместнику. Его приказания звучали коротко и решительно. Речь шла о посылке более молодых бойцов, о провианте, а главное: о громадном транспорте хлеба, который нужно было из Египта доставить через Красное море к устью Евфрата. Наместник не смог возразить ни единым словом.
Юлиан отъехал немного назад и приблизился к группе христианских священников настолько, точно хотел растоптать их копытами своего коня.
– Ну, попы! – крикнул он и снова заскреб в бороде, придвигая лошадь все ближе к ногам священников. – Молились ли вы сегодня в ваших, так называемых, домах божьих о победе персов? Полагаю, что да! Но что касается меня – вы можете делать это безнаказанно. Я не преследую таких бессильных демонстраций. Я не нуждаюсь в помощи вашего распятого. Но покорнейше прошу покончить с вашими дрязгами к тому времени, когда я снова буду здесь после победы. Я хотел бы все-таки знать, в конце концов, во что вы верите, галилеяне? Пятьдесят лет, с тех самых пор, мой кровавый дядя дал власть в ваши руки, вы препираетесь о природе своего Божества. Ну, господин архиепископ, выяснили ли вы это наконец?
Архиепископ стоял так близко к морде лошади, что пена запачкала его белую бороду. Император хотел оттеснить его еще, но архиепископ стоял твердо, и лошадь не двигалась.
– Государь, – ответил Афанасий, – мы, христиане, не дадим отвратить себя от нашей веры ни острым словом, ни острым мечом. Привилегии, дарованные нам твоим предшественником…
– Я уничтожаю привилегии!.. Привет, копьеносцы!
– С добрым утром, император!
Мимо проезжал полк легковооруженных всадников, незадолго до этого перекинутый в Африку с Дуная, чтобы поддерживать египетскую кавалерию в борьбе с бедуинами[226]. Это были дикие, ловкие парни с длинными косами и спутанными черными бородами. На знаменах этого полка над римским орлом красовался крест с инициалами Иисуса Христа. Император сжал кулак, но, дружелюбно улыбнувшись, крикнул всадникам на их родном языке:
– Вспомните о своей старой славе! Послушайте стариков, как под старыми знаменами сражались они в долинах Дуная. А как со мной кинулись вы на сарматов? Гром и молния! Это была скачка! Помните? Полмили в карьер по полям маиса, а потом вверх по виноградникам. Мы так разделали врагов, что они застряли своими острыми шлема ми в винограднике и махали ногами в воздухе, как будто хотели позвать на помощь моего кузена. Он, однако, умер со страха от этого нового способа сигнализации! Ваш полк принес мне первую победу! За это вы получите в Персии новые знамена. С большими буквами на них. Но они будут означать «Юлиан». В день освящения вам дадут пятьдесят бочек персидского вина и женскую прислугу!
Император поощрительно улыбнулся. Но никто не отреагировал. В суровом молчании, как будто это был полк монахов, двигались христианские солдаты. Даже лошади, казалось, сдерживали шаг, и враждебно взглянул на императора длиннобородый знаменосец. Юлиан побледнел, но кровь снова залила его лицо, когда через сотню шагов знаменосец склонил знамя, как бы для приветствия. Там, на первой ступени христианского собора, стоял архиепископ, отступивший после резких слов императора. И увидел, как поднял престарелый Афанасий руку и благословил христианское знамя полка.
Император вонзил шпоры в бока своего коня, который взвился на дыбы и пронесся сквозь ряды всадников. Собственноручно вырвал Юлиан знамя из рук воина, бросил его на землю и сорвал с плеча знаменосца знаки отличия.
– Ты разжалован! – закричал император, теряя власть над собой. – Рядовым ты проделаешь весь поход и будешь свидетелем, как воздвигнем мы алтари Зевсу в столице персов. А если тебя, собака, не убьют на войне, то, клянусь Зевсом, Солнцем, неведомым Богом, по возвращении ты умрешь на глазах архиепископа смертью твоего галилеянина! Любопытно будет все-таки узнать: кто из нас двоих сильнее на этой земле? Он – сын галилейского плотника, или я – римский император, повелитель мира? Марш!
Без знамен двинулся полк дальше. Образцовая дисциплина одержала верх, и Юлиан презрительно засмеялся, когда увидел, как эти христианские солдаты, даже не моргнув, перенесли тяжкое оскорбление.
Потом он повернул коня и постарался загладить свой поступок шутливыми словами и воинственными восклицаниями. Всадники оставались неподвижны. Но отряды, следовавшие за ними, вновь радостно приветствовали императора, а когда уже около одиннадцати часов наступила очередь артиллерии, и, под изумленное волнение зрителей на площади загрохотали влекомые бесчисленными быками чудовищные осадные сооружения, – финал парада принял поистине величественные размеры.
Население стало спасаться от палящего солнечного зноя в дома. Император, однако, казался неутомимым. Отклонив приглашение пообедать во дворце, он приказал купить для него у ближайшей торговки хлеба и несколько фиников и позавтракал этим прямо сидя на лошади, в то время как мимо него бесконечными рядами тянулись телеги, нагруженные вещами офицеров.
– Сегодня вечером нам предстоит отплыть, но я не хотел бы делать этого, не осмотрев городских достопримечательностей. Прошу вас, господа, присоединиться. Первым и самым важным для меня делом будет познакомиться поближе с издревле знаменитой Академией и библиотекой, вероятно, там настоящий рассадник всяких христианских мерзостей? Мы основательно расчистим его. Кто будет нашим проводником? – обратился Юлиан к стоявшей рядом знати.
Вперед выступил президент Академии и слабым голосом попросил оказать ему милость в счастливейший день его жизни…
– Знаю, знаю! Вы один из придворных льстецов. При моем всехристианнейшем кузене-убийце вы стали профессором за свадебное стихотворение, а затем, должно быть, в награду за достижение семидесятилетнего возраста – президентом Академии. Ну ладно, идем!
Император ловко соскочил с лошади, и свита пришла в движение. Около него, отставая на один шаг, с головой, замершей в одном непрерывном поклоне, шел президент Академии. Далее следовала военная свита императора и внушительное число ученых и жрецов. Несколько купцов протиснулись сюда же и сумели заставить императора заговорить с ними на пути к библиотеке.
Юлиан параллельно спрашивал президента о количестве книг. Когда старик замешкался с ответом, стоявший в трех шагах бумажный фабрикант Иосиф крикнул: «Почему бы императору не спросить меня? Я великолепно знаю, что в астрономическом отделе 35.760 свитков».
Старые советники и офицеры, служившие еще при Константине, испугались этого нового нарушения придворного этикета, но император ласково подозвал к себе смельчака и с дальнейшими вопросами обращался к нему. Иосиф знал все. Зал Гомера насчитывал 13.578 исключительно свитков, греческая философия – 75.355…
Внезапно император остановился в раздумьи и сказал: «Послушайте, милый Иосиф, я сделаю вас придворным поставщиком, при условии, если удостоверюсь, что ваши данные правильны. Я сравню последнюю цифру с каталогом».
– Боже милостивый! – воскликнул Иосиф, дрожа, но по-прежнему смело. – Ваше величество разрешит мне всеподданнейше доложить, что этого никогда еще не делал ни один император. Я сознаюсь, что придумывал десятки и единицы – ведь ваше величество желали знать все с точностью до одной книги. Цари всегда хотят этого! Но тысячи везде правильны. И я позволю себе сказать вашему величеству: разве для государя недостаточно, если верны тысячи?
Император искренне рассмеялся и обещал запомнить этот урок.
Миновав какой-то безымянный переулок, они достигли улицы гончаров и приблизились к главному входу Академии. Мощная колоннада, на ступенях которой расположились сотни служащих, вела к нему. По обе стороны колоннады стояли статуи греческих философов и поэтов.
Свита прошла в здание и, переходя из залы в залу, то тот, то другой профессор поочередно давали необходимые пояснения.
Как специалист-библиотекарь, только для этого приехавший в Александрию, ходил Юлиан повсюду; то доставал редкий экземпляр, то карабкался по удобной лесенке под самый потолок, чтобы убедиться в справедливости какой-нибудь справки, или усаживался с роскошным свитком Гомера за один из маленьких столиков, чтобы прочитать несколько строчек.
Если греческие поэты задержали императора на целый час, то с философами он просто не мог расстаться. С Платоновским диалогом о государстве в руке, он завязал оживленную беседу о воспитании и продолжал ее, уже вступив в математический отдел.
Здесь он откровенно сознался в своем невежестве и разрешил профессорам различных отделов кратко изложить современное состояние своих дисциплин. Свита совершенно измучилась, и престарелый президент уже дважды осмеливался приглашать императора к небольшой закуске, приготовленной в великолепной приемной. Император не желал ничего слышать. «Кто хочет ему служить, тот должен уметь жить так же скромно, как и он сам», – считал Юлиан.
С Теоном, знаменитым профессором механики, император начал разговор относительно конструкции новой осадной машины. Юлиан выказал необычайные познания в баллистике и натолкнул ученого на мысль, как удвоить метательную способность старой машины. Казалось что профессору Теону, исполнившему для императорской артиллерии уже много научных и практических работ, сегодня было как-то не по себе. Император заметил это
– Что случилось, милый Теон? Я знаю вас, как одного из вернейших сторонников нашей старой религии. Я рассчитывал на вас. Вы знаете, что значит для меня этот поход. Я должен победоносно закончить эту персидскую войну, чтобы затем в долгом мирном царствовании искоренить внутреннего врага, – это новое галилейское безбожие, поднимающее свою голову против нашей старой религии, против богов и престола. Вы знаете, что я хочу уничтожить эту сволочь, проповедующее всеобщее равенство, братство и не знаю, что еще, и считающую своего галилеянина новым философом. Разве вы не собираетесь помочь мне в этом?
Теон, видный мужчина немного старше сорока лет, склонился, как бы желая поцеловать руку императора, и тихо сказал, со слезами на глазах:
– Простите, ваше величество, я никогда не перейду к христианам. У богов нет слуги вернее меня. Но сегодня ночью – сорок дней тому назад моя молодая жена подарила мне ребенка – сегодня ночью она умерла, оставив меня одного с младенцем… Сегодня ночью!.. Мы с ребенком теперь одиноки.
Император сердечно пожал руку профессору.
– Простите меня! Оставайтесь рядом со мной!
И в нервной поспешности, не оглядываясь и не отдыхая, император заторопился в следующую залу.
Было около семи часов вечера, когда Юлиан вступил в новое здание, первый отдел которого заключал в себе бесчисленное количество экземпляров иудейской Библии на еврейском языке, семьдесят ее трактовок, а также бесконечное число комментариев и вспомогательных сочинений. Уже несколько часов подряд ожидали здесь раввины и христианские священники возможности предоставить свои познания в распоряжение императора. С иронией расспрашивал император иудеев о происхождении их священных книг и прочел главу из Семикнижия. В виде доброго предзнаменования главный раввин предложил ему место из истории завоевания Ханаана.
– Ваши Моисей и Иисус были слишком хорошими солдатами, чтобы сделаться сносными философами. Они дали слишком много законов. Но я всегда чувствовал уважение к древности этих книг. Я вспомню о вас в Азии, если найду что-нибудь по-еврейски. Я прикажу все переписать… на свиной коже.
Дважды пытался архиепископ в заранее приготовленной речи изложить значение еврейской Библии для новой христианской религии, и лишь на третий раз ему удалось заговорить.
– Иисус Христос отменил обрядовые законы, справедливо кажущиеся его величеству лишенными смысла, и если его величество соизволит прийти в следующий зал, то он найдет там прекраснейшее собрание замечательных трудов христианских философов.
– Прошу вас, господа, не беспокойтесь! – воскликнул император насмешливо. – Отправляйтесь к вашим христианским философам и поститесь там, если желаете, как ваши новые благодетели человечества – монахи! При мысли, что христианские философы могут стать моей духовной пищей, я внезапно почувствовал такой голод, что принимаю приглашение господина президента для себя и для всех честных граждан. Решите сами, господин архиепископ, что вам предпочесть – стакан вина или главу из Оригена. Этот святой учитель должен был быть особенно аскетичным! – Император взял Теона под руку, и, посмеиваясь над Оригеном, последовал за президентом в большой парадный зал, где стояло три грандиозных обеденных стола и куда императорская свита ринулась, забыв о всяком порядке. Император с преднамеренной скромностью взял лишь немного хлеба и стакан вина, тогда как офицеры и профессора принялись за щедрые угощения смелее, чем это позволяли придворные обычаи. Даже пришедшие сюда против своей воли христианские священники забыли за едой свои обиды и заботы. Только евреи не прикасались к еде.
Юлиан снова заговорил с Теоном об улучшении конструкции осадных машин. Похоронив и оплакав свою жену, он должен будет наладить связь с начальниками артиллерии и попробовать осуществить задуманное сооружение. Выпив стакан арабского вина, Теон охотнее, чем раньше, собрался поправить некоторые вычисления императора, как вдруг внимание последнего привлек громкий шум на улице. Император мгновенно откинул портьеры и вышел на балкон, чтобы самому посмотреть, что случилось.
– Все-то он должен увидеть лично, – прошептал Иосиф соседу.
Внизу на улице гончаров собралась тысячная толпа образовавшая, казалось, две партии, ожесточенно спорившие друг с другом. Никто не заметил появления императора. Он послал вниз узнать, что случилось, но раньше, чем возвратились посланные, профессор Теон вышел на балкон и бросился к ногам императора.
– Спасите моего ребенка, государь! Они хотят крестить его!
Император возвратился в зал. Жилы на его лбу вздулись. Офицеры столпились вокруг него. Такие его видели, когда в битве под Страсбургом измена императора Констация чуть было не привела его к гибели, и только личная храбрость Юлиана препятствовала победе швабов.
Император потребовал объяснений; насколько можно было понять, союз христианских подмастерьев решил воспользоваться суматохой в Академии, чтобы против воли отца, окрестить дочь профессора Теона. Кормилицу-христианку подкупили, и план мог бы удастся, если бы этого не заметил какой-то еврей из числа слуг библиотеки, закричавший о помощи. Собравшаяся теперь на улице толпа состояла, с одной стороны, из молодежи союза подмастерьев, находившейся в безусловном подчинении архиепископу, а с другой – из греков и евреев. Кормилицу с ребенком оттеснили к зданию Академии, а затем провели в парадный зал к императору.
– Государь! – воскликнул Теон. – Еще прежде, чем ребенок родился, они надоедали моей жене просьбами посвятить его новой вере. Потом они не давали покоя больной и непрерывными угрозами, без сомнения, убили ее. Теперь им вздумалось окрестить бедняжку и назвать Марией, чтобы на старости лет у меня в доме вместо любимого ребенка был враг – христианка!
Император подозвал кормилицу и взял у нее ребенка из рук. Дитя тихо спало на своей подушечке и только слегка, шевельнуло хорошенькой головкой, когда император, склонившись, коснулся белого лобика своей жесткой бородой. Мертвая тишина воцарилась в зале.
– Нас обоих им не взять, бедное создание, – прошептал император, – ни меня, ни тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Юлиан.
– Эй, господа! – крикнул он вдруг так громко, что ребенок проснулся и раскрыл удивленно черные глазки. – Эй, господа, у меня сейчас есть дела поважнее расправы над изменниками! Но я говорю вам, что персидская война будете только началом той, которую я замыслю против внутреннего врага моего государства. Этого ребенка я беру под свое покровительство. Все громы преисподней и все молнии небес поразят дерзкую руку, которая осмелится сделать знак креста над ним. Марией хотели они окрестить тебя, бедное творенье, и убить в тебе душу живую, как стремятся они уничтожить душу мира. Радость жизни хотят они уничтожить, как на долгие годы лишили они Грецию всякого счастья. Проклятье, господин архиепископ! Бойтесь моего возвращения. Пускай же этот ребенок не носит никакого кроткого христианского имени. Я посвящаю ее первому Богу на небе Зевсу Ипату, высочайшему Зевсу, и называю ее Ипатией.
Обеими руками поднял император ребенка так, как греческие жрецы в священных мистериях совершали жертвоприношение невидимому Богу. Мир и покой отобразились на его лице.
– Вы, святые древние боги! Если вы еще живы, если вы меня любите и не хотите допустить галилеянина в ваши небесные жилища, сохраните мне этого ребенка! Никогда не будет у меня жены и детей. Служащий вам должен отказаться от личного счастья. Я беру этого ребенка, как своего. И если вы, святые боги, хотите сберечь красоту, правду и радость Греции вопреки галилеянину и его попам, сохраните мне этого младенца и ведите меня к победам во имя моей страны!
Парад продолжался уже целых три часа. Император Юлиан[222] на своем тяжелом рыжем коне, окруженный офицерами, чиновниками, духовенством и литераторами, находился недалеко от дворца наместника в конце широкой портовой улицы. В течение трех часов проходили мимо него полки, отправлявшиеся в Азию в победный поход против персов. Здесь, у главных складов Александрии, принимал император парад; напротив, у мола новой гавани, стояли на якоре корабли, которые в этот же вечер должны были доставить в Антиохию его самого и его свиту. Оттуда, предшествуя египетской армии, император намеревался выступить со своим сирийским войском.
Зрители порядком устали. Было около десяти часов утра. Стоял март, но солнце так нещадно палило над городом, что александрийская чернь начинала думать: африканские корпуса могли бы быть и поменьше.
Два маленьких темно-коричневых феллаха[223], обнявшись цепкими руками, чтобы не потерять равновесия, сидели на крепкой свае.
– Эй! – воскликнул один. – Посмотри, над крышей летит философ.
Птица марабу, которую за ее характерную лысую голову александрийцы прозвали философом, плавно поднялась над крышей Академии, описала два широких, спокойных круга над старым зданием, еще раз мощно взмахнула громадными крыльями и опустилась, наконец, недалеко от императора на источенную непогодой колонну. В воздухе птица выглядела просто великолепно. Теперь, когда она стояла на одной ноге, а другой, невероятно изогнувшись, скребла свою морщинистую шею с длинным мешком, болтавшимся под клювом наподобие серо-коричневой бороды – это было далеко не привлекательно. Ко всему этому лысая голова ужасающих размеров, череп и не то меланхолично, не то сурово взирающие на мир глаза – все это выглядело как-то нелепо шутовски, и оба мальчишки кричали и хохотали, в то время, как проходивший перед императором пехотный полк выкрикивал обычное утреннее приветствие; с кораблей неслись стоголосые клики, а воинственно настроенные горожане обменивались замечаниями о параде.
Мальчишки забавлялись теперь тем, что сравнивали двуногого философа на колонне с философствующим императором. Однако, император Юлиан не выглядел ни меланхолично, ни торжественно. Сходство было чисто внешнее. Невыразительный маленький человек около тридцати лет от роду сидел на своем рыжем коне, как новобранец. Только умная лысая голова с длинной, темно-коричневой бородой философов отдаленно напоминала птицу на колонне. Но одно особенно рассмешило мальчишек: как марабу продолжительно и серьезно скреб и чистил лапой голову, совершенно так же скреб и чистил император свою спутанную бороду, приветствуя в то же время проходивший мимо него полк воинственной речью:
– Вперед, молодцы! Ударим по персам, чтобы от их голов осталась одна солома. Это будет веселая война! Если уж мы вдребезги разнесли здоровенных швабов под Страсбургом, то персы побегут перед нами, как стадо баранов!
Император оглянулся и подозвал кивком головы первосвященника Иерусалима.
– Ваша просьба полностью удовлетворена. Вы получите деньги чтобы вновь отстроить ваш древний храм. По возвращении с войны я навещу вас как-нибудь в Иерусалиме. Тогда вы покажете мне тайные книги о том галилеянине, которого вы распяли. Я собираю материалы для большой сатиры на распятого. Мы расположены милостиво по отношению к вам.
Снова раздалась команда, и «с добрым утром, император!» прогремело над звоном железа. За последним отрядом пехоты пошла кавалерия. Глаза императора, злобно сверкнувшие минутой раньше, снова стали спокойными.
– С добрым утром, латники![224] – как будто преобразившись, воскликнул он могучим голосомполководца. – Вы выглядите молодцами! Вперед! Не заставляйте меня краснеть. Говорят, персидские девочки сходят с ума от африканских кирасиров?[225]
Грубый смех первых рядов послужил ответом, и весь полк расхохотался за ними вслед. Лошади ржали и проходили танцующим шагом. Император послал первым засмеявшимся воздушный поцелуй, а затем обернулся к египетскому наместнику. Его приказания звучали коротко и решительно. Речь шла о посылке более молодых бойцов, о провианте, а главное: о громадном транспорте хлеба, который нужно было из Египта доставить через Красное море к устью Евфрата. Наместник не смог возразить ни единым словом.
Юлиан отъехал немного назад и приблизился к группе христианских священников настолько, точно хотел растоптать их копытами своего коня.
– Ну, попы! – крикнул он и снова заскреб в бороде, придвигая лошадь все ближе к ногам священников. – Молились ли вы сегодня в ваших, так называемых, домах божьих о победе персов? Полагаю, что да! Но что касается меня – вы можете делать это безнаказанно. Я не преследую таких бессильных демонстраций. Я не нуждаюсь в помощи вашего распятого. Но покорнейше прошу покончить с вашими дрязгами к тому времени, когда я снова буду здесь после победы. Я хотел бы все-таки знать, в конце концов, во что вы верите, галилеяне? Пятьдесят лет, с тех самых пор, мой кровавый дядя дал власть в ваши руки, вы препираетесь о природе своего Божества. Ну, господин архиепископ, выяснили ли вы это наконец?
Архиепископ стоял так близко к морде лошади, что пена запачкала его белую бороду. Император хотел оттеснить его еще, но архиепископ стоял твердо, и лошадь не двигалась.
– Государь, – ответил Афанасий, – мы, христиане, не дадим отвратить себя от нашей веры ни острым словом, ни острым мечом. Привилегии, дарованные нам твоим предшественником…
– Я уничтожаю привилегии!.. Привет, копьеносцы!
– С добрым утром, император!
Мимо проезжал полк легковооруженных всадников, незадолго до этого перекинутый в Африку с Дуная, чтобы поддерживать египетскую кавалерию в борьбе с бедуинами[226]. Это были дикие, ловкие парни с длинными косами и спутанными черными бородами. На знаменах этого полка над римским орлом красовался крест с инициалами Иисуса Христа. Император сжал кулак, но, дружелюбно улыбнувшись, крикнул всадникам на их родном языке:
– Вспомните о своей старой славе! Послушайте стариков, как под старыми знаменами сражались они в долинах Дуная. А как со мной кинулись вы на сарматов? Гром и молния! Это была скачка! Помните? Полмили в карьер по полям маиса, а потом вверх по виноградникам. Мы так разделали врагов, что они застряли своими острыми шлема ми в винограднике и махали ногами в воздухе, как будто хотели позвать на помощь моего кузена. Он, однако, умер со страха от этого нового способа сигнализации! Ваш полк принес мне первую победу! За это вы получите в Персии новые знамена. С большими буквами на них. Но они будут означать «Юлиан». В день освящения вам дадут пятьдесят бочек персидского вина и женскую прислугу!
Император поощрительно улыбнулся. Но никто не отреагировал. В суровом молчании, как будто это был полк монахов, двигались христианские солдаты. Даже лошади, казалось, сдерживали шаг, и враждебно взглянул на императора длиннобородый знаменосец. Юлиан побледнел, но кровь снова залила его лицо, когда через сотню шагов знаменосец склонил знамя, как бы для приветствия. Там, на первой ступени христианского собора, стоял архиепископ, отступивший после резких слов императора. И увидел, как поднял престарелый Афанасий руку и благословил христианское знамя полка.
Император вонзил шпоры в бока своего коня, который взвился на дыбы и пронесся сквозь ряды всадников. Собственноручно вырвал Юлиан знамя из рук воина, бросил его на землю и сорвал с плеча знаменосца знаки отличия.
– Ты разжалован! – закричал император, теряя власть над собой. – Рядовым ты проделаешь весь поход и будешь свидетелем, как воздвигнем мы алтари Зевсу в столице персов. А если тебя, собака, не убьют на войне, то, клянусь Зевсом, Солнцем, неведомым Богом, по возвращении ты умрешь на глазах архиепископа смертью твоего галилеянина! Любопытно будет все-таки узнать: кто из нас двоих сильнее на этой земле? Он – сын галилейского плотника, или я – римский император, повелитель мира? Марш!
Без знамен двинулся полк дальше. Образцовая дисциплина одержала верх, и Юлиан презрительно засмеялся, когда увидел, как эти христианские солдаты, даже не моргнув, перенесли тяжкое оскорбление.
Потом он повернул коня и постарался загладить свой поступок шутливыми словами и воинственными восклицаниями. Всадники оставались неподвижны. Но отряды, следовавшие за ними, вновь радостно приветствовали императора, а когда уже около одиннадцати часов наступила очередь артиллерии, и, под изумленное волнение зрителей на площади загрохотали влекомые бесчисленными быками чудовищные осадные сооружения, – финал парада принял поистине величественные размеры.
Население стало спасаться от палящего солнечного зноя в дома. Император, однако, казался неутомимым. Отклонив приглашение пообедать во дворце, он приказал купить для него у ближайшей торговки хлеба и несколько фиников и позавтракал этим прямо сидя на лошади, в то время как мимо него бесконечными рядами тянулись телеги, нагруженные вещами офицеров.
– Сегодня вечером нам предстоит отплыть, но я не хотел бы делать этого, не осмотрев городских достопримечательностей. Прошу вас, господа, присоединиться. Первым и самым важным для меня делом будет познакомиться поближе с издревле знаменитой Академией и библиотекой, вероятно, там настоящий рассадник всяких христианских мерзостей? Мы основательно расчистим его. Кто будет нашим проводником? – обратился Юлиан к стоявшей рядом знати.
Вперед выступил президент Академии и слабым голосом попросил оказать ему милость в счастливейший день его жизни…
– Знаю, знаю! Вы один из придворных льстецов. При моем всехристианнейшем кузене-убийце вы стали профессором за свадебное стихотворение, а затем, должно быть, в награду за достижение семидесятилетнего возраста – президентом Академии. Ну ладно, идем!
Император ловко соскочил с лошади, и свита пришла в движение. Около него, отставая на один шаг, с головой, замершей в одном непрерывном поклоне, шел президент Академии. Далее следовала военная свита императора и внушительное число ученых и жрецов. Несколько купцов протиснулись сюда же и сумели заставить императора заговорить с ними на пути к библиотеке.
Юлиан параллельно спрашивал президента о количестве книг. Когда старик замешкался с ответом, стоявший в трех шагах бумажный фабрикант Иосиф крикнул: «Почему бы императору не спросить меня? Я великолепно знаю, что в астрономическом отделе 35.760 свитков».
Старые советники и офицеры, служившие еще при Константине, испугались этого нового нарушения придворного этикета, но император ласково подозвал к себе смельчака и с дальнейшими вопросами обращался к нему. Иосиф знал все. Зал Гомера насчитывал 13.578 исключительно свитков, греческая философия – 75.355…
Внезапно император остановился в раздумьи и сказал: «Послушайте, милый Иосиф, я сделаю вас придворным поставщиком, при условии, если удостоверюсь, что ваши данные правильны. Я сравню последнюю цифру с каталогом».
– Боже милостивый! – воскликнул Иосиф, дрожа, но по-прежнему смело. – Ваше величество разрешит мне всеподданнейше доложить, что этого никогда еще не делал ни один император. Я сознаюсь, что придумывал десятки и единицы – ведь ваше величество желали знать все с точностью до одной книги. Цари всегда хотят этого! Но тысячи везде правильны. И я позволю себе сказать вашему величеству: разве для государя недостаточно, если верны тысячи?
Император искренне рассмеялся и обещал запомнить этот урок.
Миновав какой-то безымянный переулок, они достигли улицы гончаров и приблизились к главному входу Академии. Мощная колоннада, на ступенях которой расположились сотни служащих, вела к нему. По обе стороны колоннады стояли статуи греческих философов и поэтов.
Свита прошла в здание и, переходя из залы в залу, то тот, то другой профессор поочередно давали необходимые пояснения.
Как специалист-библиотекарь, только для этого приехавший в Александрию, ходил Юлиан повсюду; то доставал редкий экземпляр, то карабкался по удобной лесенке под самый потолок, чтобы убедиться в справедливости какой-нибудь справки, или усаживался с роскошным свитком Гомера за один из маленьких столиков, чтобы прочитать несколько строчек.
Если греческие поэты задержали императора на целый час, то с философами он просто не мог расстаться. С Платоновским диалогом о государстве в руке, он завязал оживленную беседу о воспитании и продолжал ее, уже вступив в математический отдел.
Здесь он откровенно сознался в своем невежестве и разрешил профессорам различных отделов кратко изложить современное состояние своих дисциплин. Свита совершенно измучилась, и престарелый президент уже дважды осмеливался приглашать императора к небольшой закуске, приготовленной в великолепной приемной. Император не желал ничего слышать. «Кто хочет ему служить, тот должен уметь жить так же скромно, как и он сам», – считал Юлиан.
С Теоном, знаменитым профессором механики, император начал разговор относительно конструкции новой осадной машины. Юлиан выказал необычайные познания в баллистике и натолкнул ученого на мысль, как удвоить метательную способность старой машины. Казалось что профессору Теону, исполнившему для императорской артиллерии уже много научных и практических работ, сегодня было как-то не по себе. Император заметил это
– Что случилось, милый Теон? Я знаю вас, как одного из вернейших сторонников нашей старой религии. Я рассчитывал на вас. Вы знаете, что значит для меня этот поход. Я должен победоносно закончить эту персидскую войну, чтобы затем в долгом мирном царствовании искоренить внутреннего врага, – это новое галилейское безбожие, поднимающее свою голову против нашей старой религии, против богов и престола. Вы знаете, что я хочу уничтожить эту сволочь, проповедующее всеобщее равенство, братство и не знаю, что еще, и считающую своего галилеянина новым философом. Разве вы не собираетесь помочь мне в этом?
Теон, видный мужчина немного старше сорока лет, склонился, как бы желая поцеловать руку императора, и тихо сказал, со слезами на глазах:
– Простите, ваше величество, я никогда не перейду к христианам. У богов нет слуги вернее меня. Но сегодня ночью – сорок дней тому назад моя молодая жена подарила мне ребенка – сегодня ночью она умерла, оставив меня одного с младенцем… Сегодня ночью!.. Мы с ребенком теперь одиноки.
Император сердечно пожал руку профессору.
– Простите меня! Оставайтесь рядом со мной!
И в нервной поспешности, не оглядываясь и не отдыхая, император заторопился в следующую залу.
Было около семи часов вечера, когда Юлиан вступил в новое здание, первый отдел которого заключал в себе бесчисленное количество экземпляров иудейской Библии на еврейском языке, семьдесят ее трактовок, а также бесконечное число комментариев и вспомогательных сочинений. Уже несколько часов подряд ожидали здесь раввины и христианские священники возможности предоставить свои познания в распоряжение императора. С иронией расспрашивал император иудеев о происхождении их священных книг и прочел главу из Семикнижия. В виде доброго предзнаменования главный раввин предложил ему место из истории завоевания Ханаана.
– Ваши Моисей и Иисус были слишком хорошими солдатами, чтобы сделаться сносными философами. Они дали слишком много законов. Но я всегда чувствовал уважение к древности этих книг. Я вспомню о вас в Азии, если найду что-нибудь по-еврейски. Я прикажу все переписать… на свиной коже.
Дважды пытался архиепископ в заранее приготовленной речи изложить значение еврейской Библии для новой христианской религии, и лишь на третий раз ему удалось заговорить.
– Иисус Христос отменил обрядовые законы, справедливо кажущиеся его величеству лишенными смысла, и если его величество соизволит прийти в следующий зал, то он найдет там прекраснейшее собрание замечательных трудов христианских философов.
– Прошу вас, господа, не беспокойтесь! – воскликнул император насмешливо. – Отправляйтесь к вашим христианским философам и поститесь там, если желаете, как ваши новые благодетели человечества – монахи! При мысли, что христианские философы могут стать моей духовной пищей, я внезапно почувствовал такой голод, что принимаю приглашение господина президента для себя и для всех честных граждан. Решите сами, господин архиепископ, что вам предпочесть – стакан вина или главу из Оригена. Этот святой учитель должен был быть особенно аскетичным! – Император взял Теона под руку, и, посмеиваясь над Оригеном, последовал за президентом в большой парадный зал, где стояло три грандиозных обеденных стола и куда императорская свита ринулась, забыв о всяком порядке. Император с преднамеренной скромностью взял лишь немного хлеба и стакан вина, тогда как офицеры и профессора принялись за щедрые угощения смелее, чем это позволяли придворные обычаи. Даже пришедшие сюда против своей воли христианские священники забыли за едой свои обиды и заботы. Только евреи не прикасались к еде.
Юлиан снова заговорил с Теоном об улучшении конструкции осадных машин. Похоронив и оплакав свою жену, он должен будет наладить связь с начальниками артиллерии и попробовать осуществить задуманное сооружение. Выпив стакан арабского вина, Теон охотнее, чем раньше, собрался поправить некоторые вычисления императора, как вдруг внимание последнего привлек громкий шум на улице. Император мгновенно откинул портьеры и вышел на балкон, чтобы самому посмотреть, что случилось.
– Все-то он должен увидеть лично, – прошептал Иосиф соседу.
Внизу на улице гончаров собралась тысячная толпа образовавшая, казалось, две партии, ожесточенно спорившие друг с другом. Никто не заметил появления императора. Он послал вниз узнать, что случилось, но раньше, чем возвратились посланные, профессор Теон вышел на балкон и бросился к ногам императора.
– Спасите моего ребенка, государь! Они хотят крестить его!
Император возвратился в зал. Жилы на его лбу вздулись. Офицеры столпились вокруг него. Такие его видели, когда в битве под Страсбургом измена императора Констация чуть было не привела его к гибели, и только личная храбрость Юлиана препятствовала победе швабов.
Император потребовал объяснений; насколько можно было понять, союз христианских подмастерьев решил воспользоваться суматохой в Академии, чтобы против воли отца, окрестить дочь профессора Теона. Кормилицу-христианку подкупили, и план мог бы удастся, если бы этого не заметил какой-то еврей из числа слуг библиотеки, закричавший о помощи. Собравшаяся теперь на улице толпа состояла, с одной стороны, из молодежи союза подмастерьев, находившейся в безусловном подчинении архиепископу, а с другой – из греков и евреев. Кормилицу с ребенком оттеснили к зданию Академии, а затем провели в парадный зал к императору.
– Государь! – воскликнул Теон. – Еще прежде, чем ребенок родился, они надоедали моей жене просьбами посвятить его новой вере. Потом они не давали покоя больной и непрерывными угрозами, без сомнения, убили ее. Теперь им вздумалось окрестить бедняжку и назвать Марией, чтобы на старости лет у меня в доме вместо любимого ребенка был враг – христианка!
Император подозвал кормилицу и взял у нее ребенка из рук. Дитя тихо спало на своей подушечке и только слегка, шевельнуло хорошенькой головкой, когда император, склонившись, коснулся белого лобика своей жесткой бородой. Мертвая тишина воцарилась в зале.
– Нас обоих им не взять, бедное создание, – прошептал император, – ни меня, ни тебя. Это так же верно, как то, что меня зовут Юлиан.
– Эй, господа! – крикнул он вдруг так громко, что ребенок проснулся и раскрыл удивленно черные глазки. – Эй, господа, у меня сейчас есть дела поважнее расправы над изменниками! Но я говорю вам, что персидская война будете только началом той, которую я замыслю против внутреннего врага моего государства. Этого ребенка я беру под свое покровительство. Все громы преисподней и все молнии небес поразят дерзкую руку, которая осмелится сделать знак креста над ним. Марией хотели они окрестить тебя, бедное творенье, и убить в тебе душу живую, как стремятся они уничтожить душу мира. Радость жизни хотят они уничтожить, как на долгие годы лишили они Грецию всякого счастья. Проклятье, господин архиепископ! Бойтесь моего возвращения. Пускай же этот ребенок не носит никакого кроткого христианского имени. Я посвящаю ее первому Богу на небе Зевсу Ипату, высочайшему Зевсу, и называю ее Ипатией.
Обеими руками поднял император ребенка так, как греческие жрецы в священных мистериях совершали жертвоприношение невидимому Богу. Мир и покой отобразились на его лице.
– Вы, святые древние боги! Если вы еще живы, если вы меня любите и не хотите допустить галилеянина в ваши небесные жилища, сохраните мне этого ребенка! Никогда не будет у меня жены и детей. Служащий вам должен отказаться от личного счастья. Я беру этого ребенка, как своего. И если вы, святые боги, хотите сберечь красоту, правду и радость Греции вопреки галилеянину и его попам, сохраните мне этого младенца и ведите меня к победам во имя моей страны!
 Тихий плач малютки нарушил тяжелое молчание, последовавшее за словами императора. Юлиан передал ребенка отцу и решительно подошел к архиепископу.
– До свиданья, господин архиепископ, – сказал он, сжав угрожающе кулак, – до свиданья, до победы. Сначала персы, потом галилеянин! Мне еще только тридцать лет, и если в моем распоряжении будет хотя бы десять – мир навсегда запомнит это! Пора, господа, мы отплываем.
И, не теряя времени и слов, Юлиан быстро сошел с лестницы. Офицеры последовали за ним. Внизу стоял на страже отряд морских солдат. Под их охраной император со свитой достиг гавани, где бесчисленные толпы народа встретили его приветственными криками. Греки, иудеи и все оставшиеся преданными старой вере египтяне знали о его походе против духовенства и устроили ему восторженную встречу. Одушевление и счастье светились в глазах императора. Остановившись перед маленьким мостиком, ведущим на адмиральский корабль, он выпрямился во весь свой рост и звонким повелительным голосом крикнул так, как будто весь город мог его услышать:
– Вы видите, как красное, раскаленное солнце опускается в море? Вы думаете – оно мертво и старые боги умерли? Но завтра утром, когда наши верные корабли понесут нас навстречу войне и победе, как с начала времени поднимется оно в блеске первого дня и будет светить нам как и каждому созданию! Знайте же, наш высочайший Бог наш Зевс, или Бог иудеев или ваш Бог-Серапис – это Солнце которое сейчас уходит на отдых, но завтра воскреснет и никогда не умрет. Бог мой, Бог мой, благослови меня на прощанье, благослови мое дело и дай победить ночь галилеян! – Еще одним широким жестом, подобно жрецу, благословил Юлиан покидаемый им город и кровавое заходящее солнце, вскочил на свой корабль; якоря были подняты под тысячеголосые крики и, медленно отчалив от берега и величественно пролагая себе путь среди других кораблей, с распущенными парусами, казавшимися красными в лучах заката, корабль отплыл из гавани.
Птица-философ покинула крышу Академии и плавными кругами последовала за своим императором. Долго парила она над мачтами, а затем, резко ударив крыльями, вернулась назад и встала, поджав под себя ногу, на одной из балок Академии, где давно уже снова спала крестница императора. Марабу царапал себе голову левой лапой, стучал клювом и озабоченно закрывал глаза.
– Солнце! Солнце! О мой победоносный император! Оно не ласково, оно сурово, как боги! Конечно, оно дает нам жизнь, но оно нас не любит. Оно любит пустыни, а не жизнь. Оно – Молох – убийца – опустошитель. Оно создает камни, камни вместо хлеба!.. Бедный император, бедный ребенок!
Долго еще бодрствовала птица-философ на каменной балке над кроваткой Ипатии, хотя Александрия уже давно погрузилась в сон, и, кроме древнего марабу, бодрствовал только архиепископ со своим секретарем, писавший письма в Рим, Константинополь и Персию ко всем врагам императора Юлиана.
Тихий плач малютки нарушил тяжелое молчание, последовавшее за словами императора. Юлиан передал ребенка отцу и решительно подошел к архиепископу.
– До свиданья, господин архиепископ, – сказал он, сжав угрожающе кулак, – до свиданья, до победы. Сначала персы, потом галилеянин! Мне еще только тридцать лет, и если в моем распоряжении будет хотя бы десять – мир навсегда запомнит это! Пора, господа, мы отплываем.
И, не теряя времени и слов, Юлиан быстро сошел с лестницы. Офицеры последовали за ним. Внизу стоял на страже отряд морских солдат. Под их охраной император со свитой достиг гавани, где бесчисленные толпы народа встретили его приветственными криками. Греки, иудеи и все оставшиеся преданными старой вере египтяне знали о его походе против духовенства и устроили ему восторженную встречу. Одушевление и счастье светились в глазах императора. Остановившись перед маленьким мостиком, ведущим на адмиральский корабль, он выпрямился во весь свой рост и звонким повелительным голосом крикнул так, как будто весь город мог его услышать:
– Вы видите, как красное, раскаленное солнце опускается в море? Вы думаете – оно мертво и старые боги умерли? Но завтра утром, когда наши верные корабли понесут нас навстречу войне и победе, как с начала времени поднимется оно в блеске первого дня и будет светить нам как и каждому созданию! Знайте же, наш высочайший Бог наш Зевс, или Бог иудеев или ваш Бог-Серапис – это Солнце которое сейчас уходит на отдых, но завтра воскреснет и никогда не умрет. Бог мой, Бог мой, благослови меня на прощанье, благослови мое дело и дай победить ночь галилеян! – Еще одним широким жестом, подобно жрецу, благословил Юлиан покидаемый им город и кровавое заходящее солнце, вскочил на свой корабль; якоря были подняты под тысячеголосые крики и, медленно отчалив от берега и величественно пролагая себе путь среди других кораблей, с распущенными парусами, казавшимися красными в лучах заката, корабль отплыл из гавани.
Птица-философ покинула крышу Академии и плавными кругами последовала за своим императором. Долго парила она над мачтами, а затем, резко ударив крыльями, вернулась назад и встала, поджав под себя ногу, на одной из балок Академии, где давно уже снова спала крестница императора. Марабу царапал себе голову левой лапой, стучал клювом и озабоченно закрывал глаза.
– Солнце! Солнце! О мой победоносный император! Оно не ласково, оно сурово, как боги! Конечно, оно дает нам жизнь, но оно нас не любит. Оно любит пустыни, а не жизнь. Оно – Молох – убийца – опустошитель. Оно создает камни, камни вместо хлеба!.. Бедный император, бедный ребенок!
Долго еще бодрствовала птица-философ на каменной балке над кроваткой Ипатии, хотя Александрия уже давно погрузилась в сон, и, кроме древнего марабу, бодрствовал только архиепископ со своим секретарем, писавший письма в Рим, Константинополь и Персию ко всем врагам императора Юлиана.
 – Почему нет, Гипатидион?
– Девочки, умеющие читать и писать, так же глупы, как я, и к тому же спесивы!
– Гипатидион, что за возражения!
– Ну да, они такие. И вообще я не хочу ходить в школу, там так безобразно.
– Ипатия, – сказал Исидор, и его голос задрожал, – хотела бы ты учиться у меня, в твоей комнате или в саду?
– У тебя? Учиться? Конечно, хочу. Ты не похож на учителя.
С этого дня Исидор стал учителем маленькой Ипатии. Никто не интересовался ею, даже собственный отец. Один Исидор знал, что в Академии росло новое чудо. Но Ипатия была не похожа на него. Ему было тринадцать лет, но он ни разу еще не произнес «почему». Он измерял в мыслях подземные и небесные пространства, знал всех поэтов и богов, изучил книги критиков и атеистов; одного за другим отбросил и поэтов, и богов, и критиков, и атеистов. И ни разу не сказал «почему»? А эта маленькая чудесная девочка, с ужасно черными глазами, спросила: «Почему?» в первую же минуту первого урока, когда Исидор, нарисовав на доске букву, сказал: «Она означает «А».
Скоро все привыкли ежедневно в хорошую погоду видеть Исидора со своей маленькой ученицей в лавровом саду первого дворика. Только для учителя и его маленькой ученицы их жизнь не казалась однообразной. Исидор не знал, как учат детей. Он не учился этому и не видел, как это делают профессора. Да если бы он и знал это, крестница императора все равно повернула бы по-своему. Она хотела знать все и ничего отдельно от остального. Только через два года научилась она бегло читать и писать, но к этому времени уже целый мир был в ее маленькой головке. Она не соглашалась написать ни одной буквы, не узнав смысла ее знака и наиболее красивой ее формы и истории. Исидор должен был мучиться, как молодой профессор, чтобы научить девочку азбуке так, как она сама этого хотела. Ипатия хотела знать то, над чем никто не задумывался, а Исидор согласился бы скорее откусить себе язык, чем хоть раз ответить ей: «Этого я не знаю», В книгах египетских жрецов узнавал он все, чего ему еще не хватало, чтобы удовлетворить интерес ребенка. Вооруженный новыми знаниями, вступал он в садик или в комнатку и, как сверстник, выкладывал все, что приносил с собой. Ему приходилось рисовать иероглифы, из которых возникли греческие буквы, и латинскую форму, принятую римлянами. Это была дивная игра: один за другим рисовать, читать и писать три знака, а затем идти в город мертвых, собирать там цветы и разбирать надписи на гробницах, болтая о божественных бессмыслицах, в которые верили египтяне, или бежать к двум великим обелискам, стоящим за помещением портовой полиции, и говорить о древних египетских царях, воздвигших эти каменные изваяния в знак своего господства над миром и все-таки побежденных затем нами – греками. Прекрасно было целый месяц бродить по дельте Нила и удивляться мудрости, с которой составитель египетского алфавита позаботился о том, чтобы со знаком буквы дельты можно было связывать нечто более глубокое. Прекрасно было узнавать чудеса Нила, сказки о его разливах и обмелениях, о богах, посылавших его для оплодотворения страны, о Ниле и его шестнадцати детях, безграмотных, но все же таких хитрых и хранивших такие прекрасные тайны, что Исидор часами мог говорить, а Ипатия часами могла слушать, – оба одинаково неутомимо. Это была школа! В одному углу кушетки сидел Исидор, направив свои болезненные глаза на ребенка, и говорил, говорил все, что узнавал для нее одной, а в другом углу устраивалась маленькая принцесса, и, казалось, старалась впитать в себя все своими огромными глазами, так же, как она впитывала ими солнечный свет. Когда ей хотелось вставить одно из своих вечных «почему?», она вскакивала перед учителем и, потянув платьице на коленях и расставив ручонки, кричала: «Как так?», или «Почему?» или даже «Я этому не верю!». Тогда вскакивал учитель и грозил ее наказать, а она бегала вокруг стола и, хлопая в ладоши, кричала: «Я этому не верю, я этому не верю!». Тогда он брал грифельную дощечку и чертил или писал ей сказанное, и девочка, положив дощечку на ковер и подперев головку руками так, что справа и слева между пальчикамиструились черные кудри, долго, долго рассматривала и читала в безмолвном внимании. Наконец, успокоившись, она встала и говорила только: «Дальше!». Тогда Исидор был счастлив и рассказывал ей в награду прекрасную сказку из Одиссеи, чтобы, наконец, не говорила она своего вечного: «Почему?».
Ни разу, несмотря на все угрозы, не ударил Исидор своей ученицы. Ни разу не осмелился он притронуться к ней. Но дощечки, которые она разбивала, ненужные обломки грифелей собирал он заботливо в своей комнатке и хранил их там, как свое единственное сокровище. Он утаил шелковый бант, потерянный ею как-то из косы, а когда она, устремив глаза на доску, лежала по своей привычке на ковре, то водя маленьким указательным пальцем по линиям, то откидывая затемнявшие доску локоны – он стоял рядом, шепча беззвучные слова и протягивая над ней руку, как будто хотел омыть ее в атмосфере маленькой принцессы. Исидору исполнилось пятнадцать лет, когда на дворе Академии произошла его первая драка. Какой-то христианский мальчишка начал дразнить Ипатию императором Юлианом и вызвал насмешками слезы на ее глазах. Исидор кинулся на него, как дикий зверь, и хотя он был побит и скоро лежал с разбитым носом, никто не решался больше обижать крестницу императора.
Ипатия не смеялась, когда на следующий день он пришел на занятия с распухшим лицом. Они начинали изучать арифметику, и никогда еще Ипатия не хотела так жадно учиться. Простой счет можно было не учить. Этому ребенок выучился мимоходом раньше. Теперь надо было научиться понимать вычисления отца. Сначала она хотела самого трудного. Потому что объяснить ей, почему 2x2 = 4, Исидор все-таки не мог. Но как вычислить высоту облаков и отдаленность звезд, время лунных затмений и звездные знаки, которыми руководствовались корабли в далеком океане, – все это было так прекрасно и так легко; и Ипатия смеялась, узнав, что всем этим занимаются профессора.
Она не ложилась больше на ковер, а он не сидел больше на диване. Чинно садились они по обе стороны маленького столика, и Исидор никогда не грозил ей более.
Два года занималась она с ним математикой и однажды спросила, почему Римскую империю называют миром, тогда как ведь земля в сто раз больше, и живут ли люди на другой стороне земли, и почему думают, что богам лучше всего на земле, а не где-нибудь еще. Тогда Исидор внезапно выбежал из комнаты, чтобы она не заметила его слез. Он знал все, что знали все остальные, но этот спрашивающий ребенок требовал еще большего.
Вернувшись, он сказал, что, несмотря на свою молодость, она научилась всему, что он может ей предложить. Остается только философия, учение о мире, как о целом, и о богах, а этому надо учиться не у него, сомневающегося во многом, а у старых профессоров. При этом Исидор вторично положил свою дрожащую руку на ее головку и сказал:
– Я должен оставить тебя и передать другим учителям.
Смущенный, стоял он перед ней – длинный, неуклюжий юноша, высокий, как мужчина, и неловкий, как мальчик. Ипатия которой почти исполнилось двенадцать лет, сначала замерла перед ним, стройная и бледная, как принцесса, а затем топнула ножкой и сказала вместо ответа:
– Я не хочу другого учителя, ты должен оставаться со мной!
Тогда Исидор упал на колени, так что девочка даже испугалась. Его трясло, как в лихорадке. Он схватил ее правую ножку и поцеловал.
– Что ты делаешь, Исидор? Ты болен?
– Нет, Ипатия, я… это обычай, совершаемый, когда девушка приступает к высшему знанию.
– Глупый обычай!
– Ипатия, обещай мне…
– Что?
– Что ты никогда никого не…
– Я никогда не захочу никакого учителя, кроме тебя. Учи меня философии. Почему учат ее так поздно? Мне скоро двенадцать лет, а я еще не знаю, почему я создана. Ты должен сейчас же объяснить мне это! Почему?
У Ипатии не было честолюбивого намерения прочитать все 200.000 томов библиотеки, но у нее был Исидор, который должен был выбирать из всего, когда-либо написанного, и составлять букет из цветов и плодов. Уроки философии начались с греческих поэтов, потому что мнения, которые высказывали избранные люди о богах, Ипатия должна была узнавать в той же последовательности, в какой они следовали во времени. Сначала шли мифы о богах. Юноша и полуребенок читали Гомера, смеялись над его благочестием и умело находили глупое и невозможное в прекрасных баснях. Когда однажды Ипатия спросила боязливо, почему великий поэт утверждает такую ложь, и почему облекает он ее в такие прекрасные слова, Исидор рассердился и напомнил своей ученице, что они должны изучить философию, а не увлекаться поэтами.
– А почему не увлекаться?
Зиму и весну наполнил мир Гомера; летом они читали греческие драмы Эсхила и Софокла. Когда они приступили к Эврипиду и начали ту трагедию любви, при чтении которой пробудились некогда чувства юноши, он продекламировал маленькой ученице исполненные страсти строчки. Ипатия спросила изумленно:
– Почему ты раскрываешь мне красоту именно здесь и не хотел замечать ее у Гомера?
Молодой учитель ничего не ответил.
Наступившая зима застала обоих над малодоступными философами Древней Греции. С трудом понимались слова и смысл, но с пламенным желанием объяснял учитель, и с неутомимой жаждой слушала ученица. И как раньше, в «Царе Эдипе», затаив дыхание, акт за актом ждали они разрешения ужасной загадки, так ожидали они теперь полного разоблачения всех тайн жизни. Казалось, что девочка страдает физически от напряженного внимания. Все сильнее бледнели ее щечки, все ярче блестели глаза и чаще, с приближением весны, ложилась белая рука на лоб, за которым теснилось столько безответных вопросов, а густые детские локоны все упорнее сражались со щеткой и лентами.
Покинув мрачные пути древних, юные учитель и ученица погрузились в светлый мир Платона. В день рождения Ипатии, забытый всеми, не исключая и ее собственного отца, Исидор рассказал ей прекрасную мечту философа о старом проклятье и благословении богов, которые в бесконечно далекие времена раскололи каждое живое существо на две половинки и послали их в мир, как мужчин и женщин, чтобы, на вечную забаву богов, продолжали они игру в разделяемые и снова друг друга обретающие половинки, чтобы с проклятьями и хвалами искали они и находили, изнемогали и обливались кровью, пока каждая половинка не соединится с другой.
Исидор принес сказку и хотел подарить ее своей ученице в виде хорошенького томика из тончайшей белой кожи с золотыми обрезами и тесненными золотом инициалами Ипатии и некоторыми другими маленькими знаками, которые он объяснит ей позднее. Но она не смогла сполна восхититься ни сказкой, ни книгой. Ибо в тот момент, когда с лихорадочно горящими глазами она слушала историю о половинках, Ипатия схватилась вдруг обеими руками за голову и упала со стула.
Это событие произвело переполох! Прибежала испуганная феллашка, которая всегда говорила – проклятое ученье не доведет до добра; она с таким криком искала ароматических веществ, что Ипатия пришла в себя от этого шума. Даже Теона извлекли из его рабочей комнатки, а Исидор со своим прекрасным списком Платона должен был удалиться.
Но благодаренье неведомым богам! – опасности не было. Через несколько дней Исидор получил от Ипатии письмо, ее первое письмо. Она извинялась за глупый перерыв в занятиях и просила его прийти продолжать начатое. Ее первое письмо вовсе не походило на письмо ребенка. Уверенные строки молодой женщины, подобные изречениям знаменитых женщин-философов Афин, или письмам гордых александрийских красавиц, которые просили у библиотекарей новые романы, Ее первое письмо! Где только достала она такую бумагу, подобной которой не было среди 200.000 томов библиотеки, такую белую и ароматную. Такую бесконечно мягкую, если провести ею по губам!
Исидор снова пришел в жилище Теона и боязливо взглянул на ученицу, с опущенными глазами стоявшую перед ним в новом длинном тяжелом платье. Что случилось с ребенком, теперь уже казавшимся девушкой? Изменилась ее осанка, голос, взгляд – абсолютно. Пропал вспыхивающий в глазах огонь и болезненная бледность губ и что-то вроде улыбки взрослой женщины порхало около глаз и рта. Она подняла глаза и сказала нежно и дружелюбно, но совсем не так, как обычно:
– Прости за перерыв!
Исидор не хотел, вовсе не хотел забываться. Но словно какая-то неведомая сила бросила его к ногам Ипатии, как безжалостное тело. Протянув длинные руки, он хотел поцеловать щиколотку ее правой ноги. Она отступила и спокойно сказала:
– Такого обычая нет. Теперь я это знаю. Я знаю все. Не нужно больше, милый Исидор. Я так благодарна тебе. Но такого обычая нет.
Как смертельно раненный, учитель поднялся с колен, бросился на стул и стал дальше рассказывать все, что узнал.
Но на середине Аристотеля занятия снова прервались. Теон заболел, а Ипатия изнывала от палящего летнего зноя. Профессора медицины посоветовали обоим летний отдых и морские купания на берегу Пентаполиса. И в тот же день крестница императора отправилась с отцом в свое первое путешествие.
Исидор остался один и, как разорившийся купец, бродил по городским улицам Александрии. Вечером, после отъезда Ипатии, он вышел из города и направился на запад, к ливийскому берегу. Исидор шел несколько часов подряд, и перед восходом солнца оказался на краю пустыни. Впереди виднелись христианские монастыри, слышалось завывание шакалов, а в момент самого восхода услышал он не то отдаленный гром, не то рычание голодного льва. Спотыкаясь от голода и дрожа от холодного утреннего ветра, повернул он обратно и стал ожидать вестей. Ипатия обещала писать.
Она сдержала слово, и два долгих месяца провел Исидор в томительном ожидании. Приходимые письма были всего лишь письмами преданной ученицы, где она писала о своих книгах, сомнениях, но в конце всегда было несколько слов о здоровье или о морской прогулке, о погоде или о ветке дерева, заглядывающей в окно. И в самом конце неизменное – «Твоя Ипатия».
Еще раз дошел Исидор до начала пустыни вечером, накануне возвращения Ипатии. В уединенном трактирчике он пересидел ночь и до восхода солнца поспешил на улицу где должна была проезжать его ученица. И он не пропустил этого момента! В открытой дорожной коляске, которую тащили два маленьких вола, сидела она рядом с отцом – высокая, прекрасная, настоящая женщина. Исидор прижался головой к деревянному столбу и зарыдал, бормоча отрывки стихов и ломая себе пальцы. Когда повозка проехала, Исидор позвал маленького черного погонщика, уселся на осла, болтая длинными ногами, схватил его за уши и погнал так неловко, что хозяин с хозяйкой разразились хохотом, чернокожий погонщик, бежавший сзади в облаках уличной пыли, кувыркался и кривлялся, не в силах унять свою веселость. Потом эта смешная процессия понеслась галопом по боковым улицам обратно в город. Мальчишка бежал рядом с ослом и, когда они въехали на главную улицу, он сделал еще два прыжка, продолжая смеяться. Исидор буквально свалился с осла и поспешил в Академию, чтобы встретить свою ученицу.
С севера из-за моря, с Греции, а, быть может, и дальше из необыкновенных ледяных дунайских равнин летела над городом вереница аистов. В то же время с запада медленно и тяжело, несомая ударами серо-белых крыльев, приближалась птица-философ, в широкой улыбке раскрыв клюв, заметив молодого ученого. Внизу остановилась повозка, из нее вышел Теон со своей дочерью. Было счастьем, что утром Исидор уже сумел погасить в себе восторг первого впечатления и мог приветствовать возвратившихся относительно спокойно. Ипатия встретила его приветливо и серьезно, как благовоспитанная молодая дама, и прошла в академические помещения, которые она покидала в первый и – по ее словам – в последний раз. Профессор Теон нерешительно пожал руку Исидору. Пока феллашка забирала багаж и расплачивалась с возницей, Теон следил за всем этим так внимательно, как будто хотел научиться чему-нибудь новому. Затем профессор повел учителя своей дочери в большой зал и некоторое время молча ходил взад и вперед. Должно быть, он разговаривал сам с собой, так как внезапно произнес:
– Итак, я был совершенно поражен: я познакомился чрезвычайно своеобразной девушкой и едва мог поверить, что моя дочь обладает столькими знаниями, гораздо большими, чем обычные женщины, почти как Аспазия; при этом я обнаруживал эти знания всегда случайно, когда она помогала мне в моей летней работе. Очевидно, она знает гораздо больше, чем показала своему отцу. Я был приятнейшим образом поражен, молодой друг. И все исполнится согласно нашему договору.
– Какому, господин профессор?
– Ах да! Я полагаю, что Ипатия еще около года – может быть – до следующей весны – останется вашей ученицей а затем – я даже не представляю, что нужно будет делать дальше с Гипатидион. Но вы, молодой друг, вы достигнете возраста, когда мы сможем включить вас в состав профессоров нашей Академии. Со связями, которые еще с детских лет вы имеете в Константинополе, ваше назначение несомненно и вы сможете тогда – я полагаю… – мне нужно, однако, достать первое издание Птоломея! Целый месяц я ломаю голову, чтобы понять смысл одного глупого места!
Уже на следующее утро Исидор мог продолжать с девушкой занятия философией…
Однажды Ипатия написала, что разрешение мировых загадок слишком долго заставляет себя ждать и, что она начинает не доверять философам. Только что, как совсем глупый ребенок, проиграла она целый час с большой красно-розовой раковиной и совершенно забыла о своих книгах. Исидор попытался доказать, что знание, то есть обогащение духовных сил еще не является всем, что есть нечто высшее, а именно – единение отдельного человека с окружающим миром посредством чувства. Но Ипатия не поняла его и решительно потребовала продолжения занятий по учебному плану. Таким образом, бедному учителю пришлось как и раньше ограничиться сухой философией. А вот общение с домом Теона вскоре приняло иную форму. Теперь в конце урока в комнату часто входила феллашка, просиживала несколько минут в углу с каким-нибудь рукодельем и приглашала учителя к обеду. Исидор был бы еще счастливее от этой домашней близости, если хотя бы раз удалось ему завязать с Ипатией дружеский разговор. Однако она сидела безучастно и, казалось, молча обдумывала только что узнанное, в то время как профессор обсуждал будущие перспективы нового учителя, который очень скоро должен был стать профессором и получить при Академии помещение для занятий. Прислуживавшая феллашка удивлено хлопала глазами, а Исидор краснел и смотрел на Ипатию. Поздно вечером Исидор уходил к себе, опьяненный мечтой и надеждой, а на следующее утро приходил вновь и читал, и объяснял всю философию от Аристотеля до великого Платона. Но разговор не доставлял теперь удовольствия ни учителю, ни ученице. Зависело ли это от бесплодности самого предмета или от беспокойства учителя? Во всяком случае Ипатия чувствовала себя неловко. Она редко спрашивал теперь «почему?», в ее головке философские системы перетирали друг друга, как мельничные жернова, но ей казалось, что мельница стучит, не переставая, а жернова перемалывают воздух, и склады пустуют. Или это птица-философ на крыше не давала ей покоя своим смехом? В течении последних лет она так сдружилась с ней, что уже не знала, она это или птица насмехалась над системами философов. Однажды, во время зимнего солнцестояния, когда христианские дети праздновали на улицах день рождения своего спасителя, а египетские жрецы – словно назло, пели торжественные гимны Изиде, – в Академии был праздник, даже Теон дал себе день отдыха. У Исидора с профессором состоялся долгий разговор. После него отец поцеловал Ипатию в лоб и сказал, что Исидор попросил ее руки, и через год будет свадьба.
Ипатия промолчала, так что с отцом у нее никакого раз говора не вышло. Со своим же женихом она обменялась несколькими словами об их будущем: он не должен ни одним словом обмолвиться с ней о своих чувствах, так как это очень не идет ему, а она с уважением и благодарностью будет его женой; он должен оставаться таким, каков он есть, тогда она будет делать все, что он потребует, и не говорить с ней о жизни, об отвратительной жизни, которую она не желает знать.
Обучение продолжалось. Злая птица была виноват в том, что девушка часто, пока Исидор полубессознательно читал и растолковывал, постоянно думала о собаке на сене. Где же разрешение мировых тайн?
Снова была весна, и Исидор сидел напротив своей невесты и старался объяснить отличительные особенности богов. На столе в глиняной вазе стоял великолепный букет мирт, который Ипатия сама нарвала. На улице аист кружился в быстром весеннем танце, и Исидор замолчал, устав говорить. Воцарилось продолжительное молчание.
Внезапно Ипатия спросила:
– Ты все добросовестно рассказал мне кроме одного. Как думал он о Боге и мире?
– О ком ты говоришь?
– О нем.
– Профессоре?
– Императоре. Прости, пожалуйста, я говорю об императоре Юлиане, о моем крестном отце!
– Мне кажется, мы могли бы покончить с науками, – сказал Исидор, губы которого затряслись, – и начать просто жить.
– Расскажи мне об императоре!
Исидору пришлось поведать ей об императоре Юлиане. Он начал с биографии, рассказав, как Константин Великий, желавший обеспечить христианству победу над миром, перебил одного за другим всех своих родственников, а маленького, превращенного почти в монаха Юлиана сослал в захолустье. Юлиан остался верен старым богам. Затем при поддержке последних уничтожил он врагов государства и, наконец, вопреки всему достиг престола. Исидор рассказал о его добродетели, мужестве и доброте, о великих делах короткого царствования Юлиана и о загадочной смерти в азиатских степях.
– Правда ли, что он благословил меня именем наших старых богов?
– Я сам присутствовал при этом.
– А что думал он о Боге и мире?
До этого часа Исидор уважал в дочери Теона принцессу, крестницу Юлиана. Теперь внезапно его пронизал гнев против императора, что-то вроде ревности или ненависти, и почти насмешливо он старался доказать своей ученице, что император Юлиан так же плохо разрешал мировые загадки, как и все философы его времени.
– Он не верил так же, как верим все мы, что Бог есть вечное, чистое, незапятнанное, то, из чего мы произошли в начале всего и к конечному слиянию с чем должны стремиться. Он приказывает нам овладевать нашими страстями? Убивать наши пороки, пускай даже во вред своему телу. Он заповедал нам насколько возможно совершенствовать дарованное им мышление и посредством умерщвления плоти и размышлений подниматься над земным до тех пор, пока, наконец, в высшем экстазе не увидим мы его самого, единого, живого Бога неба и земли. В экстазе мы сливаемся воедино с ним – с бесконечным. Мы знаем Бога настолько, насколько знаем собственный сон, когда спим. А когда мы просыпаемся, или когда прекращается наш экстаз, в нас остаются только туманные отрывочные образы священной красоты, полное слияние с которой должно стать нашим величайшим блаженством. Ибо нет большего наслаждениям чем слияние с единым. Последние мистерии учат нас, что Бог есть только другое имя любви. И Бог разделился, расстроился, чтобы любить нечто равное себе. Он хотел любить, но видел только себя и создал тогда сына и возлюбил его!
Триединое правит миром и создало землю со всеми людьми, животными и растениями и наполнило мировое пространство бесчисленными воинствами невидимых духов – ангелов и демонов, награждающих нас и карающих, укрепляющих и соблазняющих, и творящих из нас слепые орудия его воли, так как ему принадлежит высшая мысли и высшая сила. Но мы становимся подобны Богу, когда с помощью добрых духов укрощаем наши пороки, умерщвляем в себе земное и при жизни восходим к сияющему великолепию единого Бога, Зевса, солнца, к нашему отцу на земле и на небе.
Еще долго говорил так Исидор, все стараясь схватить руку Ипатии, а его глаза горели страстью. Девушка слушала спокойно, и на глазах ее выступили слезы.
– Так вот во что верил император? И в это верим мы. Но разве это последнее слово? Ведь то же самое говорят гонимые им христиане! Почему же он преследовал их? Почему?
Приближалось лето, начались свадебные приготовления, но преподавание шло своим чередом; Исидору пришлось изучать христианских апологетов[227], чтобы дать Ипатии последний ответ на ее вечное «почему»? Много лет Исидор оставлял в стороне эти книги. Теперь ему было почти приятно, что несколько месяцев, отделявших его от счастья, он мог заполнить новым изучением. С любопытством переступил он порог библиотеки нового здания, где, кроме экземпляров Нового и Ветхого завета, были собраны все памфлеты и послания александрийских, антиохийских и римских епископов. Это чтение потребовало гораздо больших усилий, чем он думал. Ранее Исидор уже просматривал тайно ходившие по рукам злобные выпады Юлиана, отрывки которых охранялись, несмотря на неистовое преследование духовенства Теперь он знакомился с ответами христиан и удивлялся их нравственной силе, жертвенному мужеству и глубине их веры. Его беседы с невестой не были больше философскими разговорами – это были исповеди сомневающейся души. В самом центре мира эгоизма и материальной борьбы, около ста лет тому назад выступили эти люди, противопоставившие правящим классам крик исстрадавшихся рабов: «Разве мы не такие же люди, как вы, разве мы не братья, разве все мы не дети одного живого Бога?» Первый вождь этих рабов и ремесленников, бедный плотник из Галилеи, был распят римскими властями. Но что-то было там – в новом учении, что-то истинное, и если демагоги, обманщики и лентяи сумели повернуть грандиозное учение в сторону своего личного блага, то все-таки царство будущего будет царством бедняков, нищих материально и духовно.
– Ты говоришь, как христианин! – воскликнула однажды возмущенная Ипатия.
– Гипатидион, – ответил, беспокойно посмотрев на нее, Исидор, – позволь сказать тебе, что нечто ужасное приходит в мир. Старые боги, которых мы понимаем философски и которым все-таки молимся, пожалуй, не существуют больше. Нищие материально и духовно станут нашими господами сегодня или завтра. Они сами не знают этого, так как епископы обманывают их, желая сохранить старую неправду. Ипатия, хочешь узнать тайну? Мир сбился с пути, и новое учение пришло, чтобы указать ему дорогу. Правда, епископы – лжецы, но император Юлиан был почти христианином!
– Ты лжешь! – воскликнула Ипатия. – Мой император был верен богам, как останусь им верна и я, пускай даже ценой собственной жизни, не желаю иметь ничего общего с тем, кто отвергает нашу старую веру!
С большим трудом удалось Исидору успокоить свою невесту, уверяя, что все это он говорил, конечно, только образно, на самом деле он отрицает и презирает христианские суеверия.
В сентябре справили свадьбу по греческому обряду.
Утопая в роскоши, брачная пара получила благословение в Древнем Серапеуме. Ипатия, до этого дня совершенно не думавшая об интимной стороне своей будущей супружеской жизни, смотревшая на своего жениха только, как на учителя, и не обращавшая никакого внимания на болтовню старой феллашки, вдруг, когда стал обсуждаться брачный церемониал, сделалась крайне неуступчивой. Не должен был быть позабыт ни один самый ничтожный обычай эллинов. И александрийское общество хлынуло в храм Сераписа[228], чтобы хоть раз увидеть древнее бракосочетание, еще более замечательное вследствие молодости жениха и невесты. После венчания представители Академии собрались в парадном зале для торжественного ужина, в течение которого греческие жрецы самым строгим образом соблюдали старые обычаи. Не столько ели, сколько молились. Сами жрецы казались не совсем довольными, что приходится возрождать такие устаревшие молебны. Только главный жрец, девяностолетний старик, сиял от счастья, а пятнадцатилетняя невеста произнесла благочестивые слова с таким благоговением, как будто это было ее первое причастие.
Наступил вечер, и гости разошлись. Оставалась только группа молодых людей, намеревавшихся проводить молодых до их помещения. Исидор не хотел совершения этого обычая, так как он не только в христианской среде давно уже перестал существовать, но и высшие круги греческого общества старались богатыми подарками откупиться от задорной толпы. Песни, распевавшиеся в этих случаях, были грубы и непристойны до невозможности. Но Ипатия, спокойная в своем благочестивом счастье, просила не удалять собравшихся. Император так любил старые обычаи.
Так и случилось. Теон с глубоким чувством поцеловал свою дочь в лоб и, возвратившись в свое жилище, услышал, как дикая толпа с неистовыми криками и танцами провожала разукрашенную молодую чету.
Теон смутно ощущал, что это событие – последняя веха его жизненного пути. Печально уселся он за письменный стол и стал смотреть перед собой. Один в целом мире, имеющем другие цели и другие мысли, человек почти ни к чему непригодный, – таким стал он, который высчитывал когда-то пути звезд и создавал новые машины для метания камней или вычерпывания воды. Блеск и счастье жизни пропали, исчезли, умерли тогда, когда родилась Гипатидион, а его молодая жена умерла… Вскоре умер и великий император Юлиан. Теон поднялся и подошел к своему книжному шкафу, где в одном отделении хранились особенно любимые им произведения.
– Гомер… – бормотал он. – Прощанье Гектора с Андромахой… слишком печально! Как только я мог… Гипатидион!
Он просунул руку между свитками и вместо старого Гомера вытащил пару крошечных детских туфелек, первых туфелек Ипатии. Ни разу со дня смерти матери не смог он показать ребенку свою любовь. Это противоречило его природе. Но он все-таки любил дочь. Он гладил маленькие туфли и разговаривал с ними.
Перед окном стоял марабу, злобно крича и стуча своим клювом.
Вдруг внизу послышалось чье-то сдавленное дыхание, напоминавшее дыхание тяжело больного. Сперва это услышала птица, затем Теон. На лестничной площадке лежало что-то живое, которое затем сорвалось с места, кинулось кверху и распахнуло дверь; Ипатия вбежала в комнату, закрыла за собой дверь на засов, кинулась к ногам отца и закричала так, как будто она избежала смертельной опасности.
– Отец! – кричала она, дрожа и прижимаясь к его коленям. – Отец, ты тоже мужчина, но не может быть, чтобы ты хотел этого! Это ужасно! Ни одно животное так не безобразно! Не спрашивай меня и не говори: нет, или меня вытащат мертвой из гавани. Если бы я смогла забыть это! Милый, милый отец, мы не особенно любили друг друга до этого дня. Оставь меня у себя! И чтобы мне никогда не видеть того, другого, никогда! Я буду служить тебе, как ты захочешь. Я не бесполезна, ты только не знаешь меня. Что хочешь, только не это! Я останусь с тобой или, клянусь Герой и Гераклом, умру!
Теон совершенно растерялся. Только одно он понял – в брачную ночь Ипатия прибежала к отцу. Он пробормотал что-то о зависимости женщин, о правах и обязанностях, о скандале. Счастливый тем, что может держать в руках голову своей девочки, он считал все же своим отцовским долгом говорить о примирении. Она ведь отдана в жены этому человеку. И когда Ипатия зарыдала так громко, что марабу ответил снаружи жалобным криком и, как будто желая прийти к ней на помощь, изо всех сил застучал клювом по деревянным доскам, Теон поднял дочь с пола и, надеясь убедить ее, сказал:
– Ты еще слишком молода. Никогда в Греции не было обычая говорить с девушками о том, что их ожидает. Подумай, Гипатидион. Ты гордишься тем, что являешься крестницей нашего великого императора, ты хочешь в это варварское время жить и умереть эллинкой, а между тем говоришь и поступаешь как христианка. Да, да, как христианка! Ибо они говорят о любви, когда разговор касается брака. Эти люди говорят о бессмертной душе женщины, о равенстве, свободе и тому подобном. Ахиллес так не женился, и Агамемнон тоже, и наш император Юлиан.
Ипатия поправляла на груди платье и почти не слушала отца. Но когда Теон назвал ее поступок христианским, девушка внезапно выпрямилась с таким видом, что он даже испугался. Твердо стояла она перед ним, напрягшись всем телом, ее темные глаза страстно сверкали, черные кудри, как во времена ее детства, струились по бледным щекам, и, гордо закинув голову, она ответила:
– Отец, не пытайся сковать мою душу! Я не христианка! Если бы пришел Ахиллес, или если бы, как в седую старину, явился в облаках Зевс, ты бы увидал меня готовой, покорной эллинкой. О, если бы мне предстояло взойти на Олимп с отцом богов и людей, я предала бы отречению свою свободную душу. Но это!.. Если это мое чувство – христианское, то значит и истина – у христиан, но ведь этого ты не хотел сказать отец? Не хотел? Но он, он принадлежит к ним, он не грек! Такая гадость!
И Ипатия повернулась, собираясь запереться у себя. Вдруг она заметила детские туфельки на письменном столе. В комнате профессора стало тихо. Снаружи сердито стучал, хлопал и щелкал марабу. Теон все ниже опускал свою седую голову, а Ипатия, обхватив его за плечи, засмеялась сквозь заструившиеся слезы.
– Молчи, папочка, не говори больше ни слова. Ты же любишь меня, ты меня не гонишь!
Профессор Теон посадил девушку на колени, накинул на нее теплый платок, и шепотом говорили они об умершей матери и о суровой совместной жизни, которую теперь им предстояло вести.
Внизу, во дворе, была кромешная темнота. Какой-то человек стоял напротив окон Ипатии, протянув к ним длинные руки со сжатыми кулаками. Как вор, как голодный зверь, бродил он вокруг, отыскивая вход. Временами из его горла вырывался глухой стон, как у безумного. Наконец он ступил на маленькую лесенку, ведущую в кабинет Теона. Беззвучно поднимался он по ступенькам, на самый верх. И вдруг что-то зашумело, ударило его крыльями, и спустившийся с неба демон поразил его лицо и грудь… Человек упал с лестницы на землю. Вскочив на ноги, преследуемый демоном, бросился он на улицу, и дальше из города – в пустыню.
А птица-философ вернулась с довольным видом обратно и встала на одной ноге перед комнатой Ипатии.
Таково последнее известное нам событие из юности Ипатии. До этого момента ее имя часто упоминается в актах Академии, в заметках христианских писателей и в переписке профессоров. Внезапно оно словно исчезло из жизни на целых десять лет. Можно предполагать, что необычный поступок Ипатии, ее бегство из брачных покоев вызвало в Александрии скандал, в результате которого молчаливое презрение вычеркнуло молодую женщину из высшего круга знати.
Главным образом, это было делом академических дам, по крайней мере, так позволяет заключить недавно изданная переписка одного знаменитого профессора литературы. Если это утверждение справедливо, то, судя по содержанию некоторых сохранившихся писем, можно сделать вывод, что молодая ученая жила все это время как монахиня, занятая исключительно математическими и астрономическими расчетами, помогая одному из старейших профессоров – очевидно, своему отцу. С этим утверждением исключительно совпадает еще то обстоятельство, что профессор Теон, ставший к тому времени сухим специалистом, начал вдруг выпускать сочинения, отличающиеся юношеской смелостью и художественностью языка. Маленькая работа относительно конических сечений, появившаяся на девятнадцатом году жизни Ипатии, трактовала ничтожную тему прямо философски, а спустя четыре года Теонова критика Птоломея вызвала повсюду, где читались греческие книги, восхищение своим блестящим языком и остроумием новой гипотезы. Эта критика, хотя и с некоторой осторожностью, поднимала вопрос о том, действительно ли земля является центром вселенной и не принадлежит ли эта часть скорее солнцу. Святой Иероним в своем возражении писал, что, очевидно, черт помогал профессору писать эту книгу; и действительно, несколько благочестивых монахов видели дьявола, прилетевшего к жилищу профессора в виде странной птицы. Современная наука склоняется, однако, к предположению, что не кто иной, как Ипатия была автором или, по крайней мере, главным составителем поздних произведений Теона, дьяволом, которого христиане считали основателем новой ереси. Однако наверняка узнать истину нельзя. Профессор Теон никому ничего не говорил о возникновении своих работ, а Ипатия благоговейно почитала память своего отца. Таким образом, читатель может по своему усмотрению заполнить десять лет жизни странной женщины.
– Почему нет, Гипатидион?
– Девочки, умеющие читать и писать, так же глупы, как я, и к тому же спесивы!
– Гипатидион, что за возражения!
– Ну да, они такие. И вообще я не хочу ходить в школу, там так безобразно.
– Ипатия, – сказал Исидор, и его голос задрожал, – хотела бы ты учиться у меня, в твоей комнате или в саду?
– У тебя? Учиться? Конечно, хочу. Ты не похож на учителя.
С этого дня Исидор стал учителем маленькой Ипатии. Никто не интересовался ею, даже собственный отец. Один Исидор знал, что в Академии росло новое чудо. Но Ипатия была не похожа на него. Ему было тринадцать лет, но он ни разу еще не произнес «почему». Он измерял в мыслях подземные и небесные пространства, знал всех поэтов и богов, изучил книги критиков и атеистов; одного за другим отбросил и поэтов, и богов, и критиков, и атеистов. И ни разу не сказал «почему»? А эта маленькая чудесная девочка, с ужасно черными глазами, спросила: «Почему?» в первую же минуту первого урока, когда Исидор, нарисовав на доске букву, сказал: «Она означает «А».
Скоро все привыкли ежедневно в хорошую погоду видеть Исидора со своей маленькой ученицей в лавровом саду первого дворика. Только для учителя и его маленькой ученицы их жизнь не казалась однообразной. Исидор не знал, как учат детей. Он не учился этому и не видел, как это делают профессора. Да если бы он и знал это, крестница императора все равно повернула бы по-своему. Она хотела знать все и ничего отдельно от остального. Только через два года научилась она бегло читать и писать, но к этому времени уже целый мир был в ее маленькой головке. Она не соглашалась написать ни одной буквы, не узнав смысла ее знака и наиболее красивой ее формы и истории. Исидор должен был мучиться, как молодой профессор, чтобы научить девочку азбуке так, как она сама этого хотела. Ипатия хотела знать то, над чем никто не задумывался, а Исидор согласился бы скорее откусить себе язык, чем хоть раз ответить ей: «Этого я не знаю», В книгах египетских жрецов узнавал он все, чего ему еще не хватало, чтобы удовлетворить интерес ребенка. Вооруженный новыми знаниями, вступал он в садик или в комнатку и, как сверстник, выкладывал все, что приносил с собой. Ему приходилось рисовать иероглифы, из которых возникли греческие буквы, и латинскую форму, принятую римлянами. Это была дивная игра: один за другим рисовать, читать и писать три знака, а затем идти в город мертвых, собирать там цветы и разбирать надписи на гробницах, болтая о божественных бессмыслицах, в которые верили египтяне, или бежать к двум великим обелискам, стоящим за помещением портовой полиции, и говорить о древних египетских царях, воздвигших эти каменные изваяния в знак своего господства над миром и все-таки побежденных затем нами – греками. Прекрасно было целый месяц бродить по дельте Нила и удивляться мудрости, с которой составитель египетского алфавита позаботился о том, чтобы со знаком буквы дельты можно было связывать нечто более глубокое. Прекрасно было узнавать чудеса Нила, сказки о его разливах и обмелениях, о богах, посылавших его для оплодотворения страны, о Ниле и его шестнадцати детях, безграмотных, но все же таких хитрых и хранивших такие прекрасные тайны, что Исидор часами мог говорить, а Ипатия часами могла слушать, – оба одинаково неутомимо. Это была школа! В одному углу кушетки сидел Исидор, направив свои болезненные глаза на ребенка, и говорил, говорил все, что узнавал для нее одной, а в другом углу устраивалась маленькая принцесса, и, казалось, старалась впитать в себя все своими огромными глазами, так же, как она впитывала ими солнечный свет. Когда ей хотелось вставить одно из своих вечных «почему?», она вскакивала перед учителем и, потянув платьице на коленях и расставив ручонки, кричала: «Как так?», или «Почему?» или даже «Я этому не верю!». Тогда вскакивал учитель и грозил ее наказать, а она бегала вокруг стола и, хлопая в ладоши, кричала: «Я этому не верю, я этому не верю!». Тогда он брал грифельную дощечку и чертил или писал ей сказанное, и девочка, положив дощечку на ковер и подперев головку руками так, что справа и слева между пальчикамиструились черные кудри, долго, долго рассматривала и читала в безмолвном внимании. Наконец, успокоившись, она встала и говорила только: «Дальше!». Тогда Исидор был счастлив и рассказывал ей в награду прекрасную сказку из Одиссеи, чтобы, наконец, не говорила она своего вечного: «Почему?».
Ни разу, несмотря на все угрозы, не ударил Исидор своей ученицы. Ни разу не осмелился он притронуться к ней. Но дощечки, которые она разбивала, ненужные обломки грифелей собирал он заботливо в своей комнатке и хранил их там, как свое единственное сокровище. Он утаил шелковый бант, потерянный ею как-то из косы, а когда она, устремив глаза на доску, лежала по своей привычке на ковре, то водя маленьким указательным пальцем по линиям, то откидывая затемнявшие доску локоны – он стоял рядом, шепча беззвучные слова и протягивая над ней руку, как будто хотел омыть ее в атмосфере маленькой принцессы. Исидору исполнилось пятнадцать лет, когда на дворе Академии произошла его первая драка. Какой-то христианский мальчишка начал дразнить Ипатию императором Юлианом и вызвал насмешками слезы на ее глазах. Исидор кинулся на него, как дикий зверь, и хотя он был побит и скоро лежал с разбитым носом, никто не решался больше обижать крестницу императора.
Ипатия не смеялась, когда на следующий день он пришел на занятия с распухшим лицом. Они начинали изучать арифметику, и никогда еще Ипатия не хотела так жадно учиться. Простой счет можно было не учить. Этому ребенок выучился мимоходом раньше. Теперь надо было научиться понимать вычисления отца. Сначала она хотела самого трудного. Потому что объяснить ей, почему 2x2 = 4, Исидор все-таки не мог. Но как вычислить высоту облаков и отдаленность звезд, время лунных затмений и звездные знаки, которыми руководствовались корабли в далеком океане, – все это было так прекрасно и так легко; и Ипатия смеялась, узнав, что всем этим занимаются профессора.
Она не ложилась больше на ковер, а он не сидел больше на диване. Чинно садились они по обе стороны маленького столика, и Исидор никогда не грозил ей более.
Два года занималась она с ним математикой и однажды спросила, почему Римскую империю называют миром, тогда как ведь земля в сто раз больше, и живут ли люди на другой стороне земли, и почему думают, что богам лучше всего на земле, а не где-нибудь еще. Тогда Исидор внезапно выбежал из комнаты, чтобы она не заметила его слез. Он знал все, что знали все остальные, но этот спрашивающий ребенок требовал еще большего.
Вернувшись, он сказал, что, несмотря на свою молодость, она научилась всему, что он может ей предложить. Остается только философия, учение о мире, как о целом, и о богах, а этому надо учиться не у него, сомневающегося во многом, а у старых профессоров. При этом Исидор вторично положил свою дрожащую руку на ее головку и сказал:
– Я должен оставить тебя и передать другим учителям.
Смущенный, стоял он перед ней – длинный, неуклюжий юноша, высокий, как мужчина, и неловкий, как мальчик. Ипатия которой почти исполнилось двенадцать лет, сначала замерла перед ним, стройная и бледная, как принцесса, а затем топнула ножкой и сказала вместо ответа:
– Я не хочу другого учителя, ты должен оставаться со мной!
Тогда Исидор упал на колени, так что девочка даже испугалась. Его трясло, как в лихорадке. Он схватил ее правую ножку и поцеловал.
– Что ты делаешь, Исидор? Ты болен?
– Нет, Ипатия, я… это обычай, совершаемый, когда девушка приступает к высшему знанию.
– Глупый обычай!
– Ипатия, обещай мне…
– Что?
– Что ты никогда никого не…
– Я никогда не захочу никакого учителя, кроме тебя. Учи меня философии. Почему учат ее так поздно? Мне скоро двенадцать лет, а я еще не знаю, почему я создана. Ты должен сейчас же объяснить мне это! Почему?
У Ипатии не было честолюбивого намерения прочитать все 200.000 томов библиотеки, но у нее был Исидор, который должен был выбирать из всего, когда-либо написанного, и составлять букет из цветов и плодов. Уроки философии начались с греческих поэтов, потому что мнения, которые высказывали избранные люди о богах, Ипатия должна была узнавать в той же последовательности, в какой они следовали во времени. Сначала шли мифы о богах. Юноша и полуребенок читали Гомера, смеялись над его благочестием и умело находили глупое и невозможное в прекрасных баснях. Когда однажды Ипатия спросила боязливо, почему великий поэт утверждает такую ложь, и почему облекает он ее в такие прекрасные слова, Исидор рассердился и напомнил своей ученице, что они должны изучить философию, а не увлекаться поэтами.
– А почему не увлекаться?
Зиму и весну наполнил мир Гомера; летом они читали греческие драмы Эсхила и Софокла. Когда они приступили к Эврипиду и начали ту трагедию любви, при чтении которой пробудились некогда чувства юноши, он продекламировал маленькой ученице исполненные страсти строчки. Ипатия спросила изумленно:
– Почему ты раскрываешь мне красоту именно здесь и не хотел замечать ее у Гомера?
Молодой учитель ничего не ответил.
Наступившая зима застала обоих над малодоступными философами Древней Греции. С трудом понимались слова и смысл, но с пламенным желанием объяснял учитель, и с неутомимой жаждой слушала ученица. И как раньше, в «Царе Эдипе», затаив дыхание, акт за актом ждали они разрешения ужасной загадки, так ожидали они теперь полного разоблачения всех тайн жизни. Казалось, что девочка страдает физически от напряженного внимания. Все сильнее бледнели ее щечки, все ярче блестели глаза и чаще, с приближением весны, ложилась белая рука на лоб, за которым теснилось столько безответных вопросов, а густые детские локоны все упорнее сражались со щеткой и лентами.
Покинув мрачные пути древних, юные учитель и ученица погрузились в светлый мир Платона. В день рождения Ипатии, забытый всеми, не исключая и ее собственного отца, Исидор рассказал ей прекрасную мечту философа о старом проклятье и благословении богов, которые в бесконечно далекие времена раскололи каждое живое существо на две половинки и послали их в мир, как мужчин и женщин, чтобы, на вечную забаву богов, продолжали они игру в разделяемые и снова друг друга обретающие половинки, чтобы с проклятьями и хвалами искали они и находили, изнемогали и обливались кровью, пока каждая половинка не соединится с другой.
Исидор принес сказку и хотел подарить ее своей ученице в виде хорошенького томика из тончайшей белой кожи с золотыми обрезами и тесненными золотом инициалами Ипатии и некоторыми другими маленькими знаками, которые он объяснит ей позднее. Но она не смогла сполна восхититься ни сказкой, ни книгой. Ибо в тот момент, когда с лихорадочно горящими глазами она слушала историю о половинках, Ипатия схватилась вдруг обеими руками за голову и упала со стула.
Это событие произвело переполох! Прибежала испуганная феллашка, которая всегда говорила – проклятое ученье не доведет до добра; она с таким криком искала ароматических веществ, что Ипатия пришла в себя от этого шума. Даже Теона извлекли из его рабочей комнатки, а Исидор со своим прекрасным списком Платона должен был удалиться.
Но благодаренье неведомым богам! – опасности не было. Через несколько дней Исидор получил от Ипатии письмо, ее первое письмо. Она извинялась за глупый перерыв в занятиях и просила его прийти продолжать начатое. Ее первое письмо вовсе не походило на письмо ребенка. Уверенные строки молодой женщины, подобные изречениям знаменитых женщин-философов Афин, или письмам гордых александрийских красавиц, которые просили у библиотекарей новые романы, Ее первое письмо! Где только достала она такую бумагу, подобной которой не было среди 200.000 томов библиотеки, такую белую и ароматную. Такую бесконечно мягкую, если провести ею по губам!
Исидор снова пришел в жилище Теона и боязливо взглянул на ученицу, с опущенными глазами стоявшую перед ним в новом длинном тяжелом платье. Что случилось с ребенком, теперь уже казавшимся девушкой? Изменилась ее осанка, голос, взгляд – абсолютно. Пропал вспыхивающий в глазах огонь и болезненная бледность губ и что-то вроде улыбки взрослой женщины порхало около глаз и рта. Она подняла глаза и сказала нежно и дружелюбно, но совсем не так, как обычно:
– Прости за перерыв!
Исидор не хотел, вовсе не хотел забываться. Но словно какая-то неведомая сила бросила его к ногам Ипатии, как безжалостное тело. Протянув длинные руки, он хотел поцеловать щиколотку ее правой ноги. Она отступила и спокойно сказала:
– Такого обычая нет. Теперь я это знаю. Я знаю все. Не нужно больше, милый Исидор. Я так благодарна тебе. Но такого обычая нет.
Как смертельно раненный, учитель поднялся с колен, бросился на стул и стал дальше рассказывать все, что узнал.
Но на середине Аристотеля занятия снова прервались. Теон заболел, а Ипатия изнывала от палящего летнего зноя. Профессора медицины посоветовали обоим летний отдых и морские купания на берегу Пентаполиса. И в тот же день крестница императора отправилась с отцом в свое первое путешествие.
Исидор остался один и, как разорившийся купец, бродил по городским улицам Александрии. Вечером, после отъезда Ипатии, он вышел из города и направился на запад, к ливийскому берегу. Исидор шел несколько часов подряд, и перед восходом солнца оказался на краю пустыни. Впереди виднелись христианские монастыри, слышалось завывание шакалов, а в момент самого восхода услышал он не то отдаленный гром, не то рычание голодного льва. Спотыкаясь от голода и дрожа от холодного утреннего ветра, повернул он обратно и стал ожидать вестей. Ипатия обещала писать.
Она сдержала слово, и два долгих месяца провел Исидор в томительном ожидании. Приходимые письма были всего лишь письмами преданной ученицы, где она писала о своих книгах, сомнениях, но в конце всегда было несколько слов о здоровье или о морской прогулке, о погоде или о ветке дерева, заглядывающей в окно. И в самом конце неизменное – «Твоя Ипатия».
Еще раз дошел Исидор до начала пустыни вечером, накануне возвращения Ипатии. В уединенном трактирчике он пересидел ночь и до восхода солнца поспешил на улицу где должна была проезжать его ученица. И он не пропустил этого момента! В открытой дорожной коляске, которую тащили два маленьких вола, сидела она рядом с отцом – высокая, прекрасная, настоящая женщина. Исидор прижался головой к деревянному столбу и зарыдал, бормоча отрывки стихов и ломая себе пальцы. Когда повозка проехала, Исидор позвал маленького черного погонщика, уселся на осла, болтая длинными ногами, схватил его за уши и погнал так неловко, что хозяин с хозяйкой разразились хохотом, чернокожий погонщик, бежавший сзади в облаках уличной пыли, кувыркался и кривлялся, не в силах унять свою веселость. Потом эта смешная процессия понеслась галопом по боковым улицам обратно в город. Мальчишка бежал рядом с ослом и, когда они въехали на главную улицу, он сделал еще два прыжка, продолжая смеяться. Исидор буквально свалился с осла и поспешил в Академию, чтобы встретить свою ученицу.
С севера из-за моря, с Греции, а, быть может, и дальше из необыкновенных ледяных дунайских равнин летела над городом вереница аистов. В то же время с запада медленно и тяжело, несомая ударами серо-белых крыльев, приближалась птица-философ, в широкой улыбке раскрыв клюв, заметив молодого ученого. Внизу остановилась повозка, из нее вышел Теон со своей дочерью. Было счастьем, что утром Исидор уже сумел погасить в себе восторг первого впечатления и мог приветствовать возвратившихся относительно спокойно. Ипатия встретила его приветливо и серьезно, как благовоспитанная молодая дама, и прошла в академические помещения, которые она покидала в первый и – по ее словам – в последний раз. Профессор Теон нерешительно пожал руку Исидору. Пока феллашка забирала багаж и расплачивалась с возницей, Теон следил за всем этим так внимательно, как будто хотел научиться чему-нибудь новому. Затем профессор повел учителя своей дочери в большой зал и некоторое время молча ходил взад и вперед. Должно быть, он разговаривал сам с собой, так как внезапно произнес:
– Итак, я был совершенно поражен: я познакомился чрезвычайно своеобразной девушкой и едва мог поверить, что моя дочь обладает столькими знаниями, гораздо большими, чем обычные женщины, почти как Аспазия; при этом я обнаруживал эти знания всегда случайно, когда она помогала мне в моей летней работе. Очевидно, она знает гораздо больше, чем показала своему отцу. Я был приятнейшим образом поражен, молодой друг. И все исполнится согласно нашему договору.
– Какому, господин профессор?
– Ах да! Я полагаю, что Ипатия еще около года – может быть – до следующей весны – останется вашей ученицей а затем – я даже не представляю, что нужно будет делать дальше с Гипатидион. Но вы, молодой друг, вы достигнете возраста, когда мы сможем включить вас в состав профессоров нашей Академии. Со связями, которые еще с детских лет вы имеете в Константинополе, ваше назначение несомненно и вы сможете тогда – я полагаю… – мне нужно, однако, достать первое издание Птоломея! Целый месяц я ломаю голову, чтобы понять смысл одного глупого места!
Уже на следующее утро Исидор мог продолжать с девушкой занятия философией…
Однажды Ипатия написала, что разрешение мировых загадок слишком долго заставляет себя ждать и, что она начинает не доверять философам. Только что, как совсем глупый ребенок, проиграла она целый час с большой красно-розовой раковиной и совершенно забыла о своих книгах. Исидор попытался доказать, что знание, то есть обогащение духовных сил еще не является всем, что есть нечто высшее, а именно – единение отдельного человека с окружающим миром посредством чувства. Но Ипатия не поняла его и решительно потребовала продолжения занятий по учебному плану. Таким образом, бедному учителю пришлось как и раньше ограничиться сухой философией. А вот общение с домом Теона вскоре приняло иную форму. Теперь в конце урока в комнату часто входила феллашка, просиживала несколько минут в углу с каким-нибудь рукодельем и приглашала учителя к обеду. Исидор был бы еще счастливее от этой домашней близости, если хотя бы раз удалось ему завязать с Ипатией дружеский разговор. Однако она сидела безучастно и, казалось, молча обдумывала только что узнанное, в то время как профессор обсуждал будущие перспективы нового учителя, который очень скоро должен был стать профессором и получить при Академии помещение для занятий. Прислуживавшая феллашка удивлено хлопала глазами, а Исидор краснел и смотрел на Ипатию. Поздно вечером Исидор уходил к себе, опьяненный мечтой и надеждой, а на следующее утро приходил вновь и читал, и объяснял всю философию от Аристотеля до великого Платона. Но разговор не доставлял теперь удовольствия ни учителю, ни ученице. Зависело ли это от бесплодности самого предмета или от беспокойства учителя? Во всяком случае Ипатия чувствовала себя неловко. Она редко спрашивал теперь «почему?», в ее головке философские системы перетирали друг друга, как мельничные жернова, но ей казалось, что мельница стучит, не переставая, а жернова перемалывают воздух, и склады пустуют. Или это птица-философ на крыше не давала ей покоя своим смехом? В течении последних лет она так сдружилась с ней, что уже не знала, она это или птица насмехалась над системами философов. Однажды, во время зимнего солнцестояния, когда христианские дети праздновали на улицах день рождения своего спасителя, а египетские жрецы – словно назло, пели торжественные гимны Изиде, – в Академии был праздник, даже Теон дал себе день отдыха. У Исидора с профессором состоялся долгий разговор. После него отец поцеловал Ипатию в лоб и сказал, что Исидор попросил ее руки, и через год будет свадьба.
Ипатия промолчала, так что с отцом у нее никакого раз говора не вышло. Со своим же женихом она обменялась несколькими словами об их будущем: он не должен ни одним словом обмолвиться с ней о своих чувствах, так как это очень не идет ему, а она с уважением и благодарностью будет его женой; он должен оставаться таким, каков он есть, тогда она будет делать все, что он потребует, и не говорить с ней о жизни, об отвратительной жизни, которую она не желает знать.
Обучение продолжалось. Злая птица была виноват в том, что девушка часто, пока Исидор полубессознательно читал и растолковывал, постоянно думала о собаке на сене. Где же разрешение мировых тайн?
Снова была весна, и Исидор сидел напротив своей невесты и старался объяснить отличительные особенности богов. На столе в глиняной вазе стоял великолепный букет мирт, который Ипатия сама нарвала. На улице аист кружился в быстром весеннем танце, и Исидор замолчал, устав говорить. Воцарилось продолжительное молчание.
Внезапно Ипатия спросила:
– Ты все добросовестно рассказал мне кроме одного. Как думал он о Боге и мире?
– О ком ты говоришь?
– О нем.
– Профессоре?
– Императоре. Прости, пожалуйста, я говорю об императоре Юлиане, о моем крестном отце!
– Мне кажется, мы могли бы покончить с науками, – сказал Исидор, губы которого затряслись, – и начать просто жить.
– Расскажи мне об императоре!
Исидору пришлось поведать ей об императоре Юлиане. Он начал с биографии, рассказав, как Константин Великий, желавший обеспечить христианству победу над миром, перебил одного за другим всех своих родственников, а маленького, превращенного почти в монаха Юлиана сослал в захолустье. Юлиан остался верен старым богам. Затем при поддержке последних уничтожил он врагов государства и, наконец, вопреки всему достиг престола. Исидор рассказал о его добродетели, мужестве и доброте, о великих делах короткого царствования Юлиана и о загадочной смерти в азиатских степях.
– Правда ли, что он благословил меня именем наших старых богов?
– Я сам присутствовал при этом.
– А что думал он о Боге и мире?
До этого часа Исидор уважал в дочери Теона принцессу, крестницу Юлиана. Теперь внезапно его пронизал гнев против императора, что-то вроде ревности или ненависти, и почти насмешливо он старался доказать своей ученице, что император Юлиан так же плохо разрешал мировые загадки, как и все философы его времени.
– Он не верил так же, как верим все мы, что Бог есть вечное, чистое, незапятнанное, то, из чего мы произошли в начале всего и к конечному слиянию с чем должны стремиться. Он приказывает нам овладевать нашими страстями? Убивать наши пороки, пускай даже во вред своему телу. Он заповедал нам насколько возможно совершенствовать дарованное им мышление и посредством умерщвления плоти и размышлений подниматься над земным до тех пор, пока, наконец, в высшем экстазе не увидим мы его самого, единого, живого Бога неба и земли. В экстазе мы сливаемся воедино с ним – с бесконечным. Мы знаем Бога настолько, насколько знаем собственный сон, когда спим. А когда мы просыпаемся, или когда прекращается наш экстаз, в нас остаются только туманные отрывочные образы священной красоты, полное слияние с которой должно стать нашим величайшим блаженством. Ибо нет большего наслаждениям чем слияние с единым. Последние мистерии учат нас, что Бог есть только другое имя любви. И Бог разделился, расстроился, чтобы любить нечто равное себе. Он хотел любить, но видел только себя и создал тогда сына и возлюбил его!
Триединое правит миром и создало землю со всеми людьми, животными и растениями и наполнило мировое пространство бесчисленными воинствами невидимых духов – ангелов и демонов, награждающих нас и карающих, укрепляющих и соблазняющих, и творящих из нас слепые орудия его воли, так как ему принадлежит высшая мысли и высшая сила. Но мы становимся подобны Богу, когда с помощью добрых духов укрощаем наши пороки, умерщвляем в себе земное и при жизни восходим к сияющему великолепию единого Бога, Зевса, солнца, к нашему отцу на земле и на небе.
Еще долго говорил так Исидор, все стараясь схватить руку Ипатии, а его глаза горели страстью. Девушка слушала спокойно, и на глазах ее выступили слезы.
– Так вот во что верил император? И в это верим мы. Но разве это последнее слово? Ведь то же самое говорят гонимые им христиане! Почему же он преследовал их? Почему?
Приближалось лето, начались свадебные приготовления, но преподавание шло своим чередом; Исидору пришлось изучать христианских апологетов[227], чтобы дать Ипатии последний ответ на ее вечное «почему»? Много лет Исидор оставлял в стороне эти книги. Теперь ему было почти приятно, что несколько месяцев, отделявших его от счастья, он мог заполнить новым изучением. С любопытством переступил он порог библиотеки нового здания, где, кроме экземпляров Нового и Ветхого завета, были собраны все памфлеты и послания александрийских, антиохийских и римских епископов. Это чтение потребовало гораздо больших усилий, чем он думал. Ранее Исидор уже просматривал тайно ходившие по рукам злобные выпады Юлиана, отрывки которых охранялись, несмотря на неистовое преследование духовенства Теперь он знакомился с ответами христиан и удивлялся их нравственной силе, жертвенному мужеству и глубине их веры. Его беседы с невестой не были больше философскими разговорами – это были исповеди сомневающейся души. В самом центре мира эгоизма и материальной борьбы, около ста лет тому назад выступили эти люди, противопоставившие правящим классам крик исстрадавшихся рабов: «Разве мы не такие же люди, как вы, разве мы не братья, разве все мы не дети одного живого Бога?» Первый вождь этих рабов и ремесленников, бедный плотник из Галилеи, был распят римскими властями. Но что-то было там – в новом учении, что-то истинное, и если демагоги, обманщики и лентяи сумели повернуть грандиозное учение в сторону своего личного блага, то все-таки царство будущего будет царством бедняков, нищих материально и духовно.
– Ты говоришь, как христианин! – воскликнула однажды возмущенная Ипатия.
– Гипатидион, – ответил, беспокойно посмотрев на нее, Исидор, – позволь сказать тебе, что нечто ужасное приходит в мир. Старые боги, которых мы понимаем философски и которым все-таки молимся, пожалуй, не существуют больше. Нищие материально и духовно станут нашими господами сегодня или завтра. Они сами не знают этого, так как епископы обманывают их, желая сохранить старую неправду. Ипатия, хочешь узнать тайну? Мир сбился с пути, и новое учение пришло, чтобы указать ему дорогу. Правда, епископы – лжецы, но император Юлиан был почти христианином!
– Ты лжешь! – воскликнула Ипатия. – Мой император был верен богам, как останусь им верна и я, пускай даже ценой собственной жизни, не желаю иметь ничего общего с тем, кто отвергает нашу старую веру!
С большим трудом удалось Исидору успокоить свою невесту, уверяя, что все это он говорил, конечно, только образно, на самом деле он отрицает и презирает христианские суеверия.
В сентябре справили свадьбу по греческому обряду.
Утопая в роскоши, брачная пара получила благословение в Древнем Серапеуме. Ипатия, до этого дня совершенно не думавшая об интимной стороне своей будущей супружеской жизни, смотревшая на своего жениха только, как на учителя, и не обращавшая никакого внимания на болтовню старой феллашки, вдруг, когда стал обсуждаться брачный церемониал, сделалась крайне неуступчивой. Не должен был быть позабыт ни один самый ничтожный обычай эллинов. И александрийское общество хлынуло в храм Сераписа[228], чтобы хоть раз увидеть древнее бракосочетание, еще более замечательное вследствие молодости жениха и невесты. После венчания представители Академии собрались в парадном зале для торжественного ужина, в течение которого греческие жрецы самым строгим образом соблюдали старые обычаи. Не столько ели, сколько молились. Сами жрецы казались не совсем довольными, что приходится возрождать такие устаревшие молебны. Только главный жрец, девяностолетний старик, сиял от счастья, а пятнадцатилетняя невеста произнесла благочестивые слова с таким благоговением, как будто это было ее первое причастие.
Наступил вечер, и гости разошлись. Оставалась только группа молодых людей, намеревавшихся проводить молодых до их помещения. Исидор не хотел совершения этого обычая, так как он не только в христианской среде давно уже перестал существовать, но и высшие круги греческого общества старались богатыми подарками откупиться от задорной толпы. Песни, распевавшиеся в этих случаях, были грубы и непристойны до невозможности. Но Ипатия, спокойная в своем благочестивом счастье, просила не удалять собравшихся. Император так любил старые обычаи.
Так и случилось. Теон с глубоким чувством поцеловал свою дочь в лоб и, возвратившись в свое жилище, услышал, как дикая толпа с неистовыми криками и танцами провожала разукрашенную молодую чету.
Теон смутно ощущал, что это событие – последняя веха его жизненного пути. Печально уселся он за письменный стол и стал смотреть перед собой. Один в целом мире, имеющем другие цели и другие мысли, человек почти ни к чему непригодный, – таким стал он, который высчитывал когда-то пути звезд и создавал новые машины для метания камней или вычерпывания воды. Блеск и счастье жизни пропали, исчезли, умерли тогда, когда родилась Гипатидион, а его молодая жена умерла… Вскоре умер и великий император Юлиан. Теон поднялся и подошел к своему книжному шкафу, где в одном отделении хранились особенно любимые им произведения.
– Гомер… – бормотал он. – Прощанье Гектора с Андромахой… слишком печально! Как только я мог… Гипатидион!
Он просунул руку между свитками и вместо старого Гомера вытащил пару крошечных детских туфелек, первых туфелек Ипатии. Ни разу со дня смерти матери не смог он показать ребенку свою любовь. Это противоречило его природе. Но он все-таки любил дочь. Он гладил маленькие туфли и разговаривал с ними.
Перед окном стоял марабу, злобно крича и стуча своим клювом.
Вдруг внизу послышалось чье-то сдавленное дыхание, напоминавшее дыхание тяжело больного. Сперва это услышала птица, затем Теон. На лестничной площадке лежало что-то живое, которое затем сорвалось с места, кинулось кверху и распахнуло дверь; Ипатия вбежала в комнату, закрыла за собой дверь на засов, кинулась к ногам отца и закричала так, как будто она избежала смертельной опасности.
– Отец! – кричала она, дрожа и прижимаясь к его коленям. – Отец, ты тоже мужчина, но не может быть, чтобы ты хотел этого! Это ужасно! Ни одно животное так не безобразно! Не спрашивай меня и не говори: нет, или меня вытащат мертвой из гавани. Если бы я смогла забыть это! Милый, милый отец, мы не особенно любили друг друга до этого дня. Оставь меня у себя! И чтобы мне никогда не видеть того, другого, никогда! Я буду служить тебе, как ты захочешь. Я не бесполезна, ты только не знаешь меня. Что хочешь, только не это! Я останусь с тобой или, клянусь Герой и Гераклом, умру!
Теон совершенно растерялся. Только одно он понял – в брачную ночь Ипатия прибежала к отцу. Он пробормотал что-то о зависимости женщин, о правах и обязанностях, о скандале. Счастливый тем, что может держать в руках голову своей девочки, он считал все же своим отцовским долгом говорить о примирении. Она ведь отдана в жены этому человеку. И когда Ипатия зарыдала так громко, что марабу ответил снаружи жалобным криком и, как будто желая прийти к ней на помощь, изо всех сил застучал клювом по деревянным доскам, Теон поднял дочь с пола и, надеясь убедить ее, сказал:
– Ты еще слишком молода. Никогда в Греции не было обычая говорить с девушками о том, что их ожидает. Подумай, Гипатидион. Ты гордишься тем, что являешься крестницей нашего великого императора, ты хочешь в это варварское время жить и умереть эллинкой, а между тем говоришь и поступаешь как христианка. Да, да, как христианка! Ибо они говорят о любви, когда разговор касается брака. Эти люди говорят о бессмертной душе женщины, о равенстве, свободе и тому подобном. Ахиллес так не женился, и Агамемнон тоже, и наш император Юлиан.
Ипатия поправляла на груди платье и почти не слушала отца. Но когда Теон назвал ее поступок христианским, девушка внезапно выпрямилась с таким видом, что он даже испугался. Твердо стояла она перед ним, напрягшись всем телом, ее темные глаза страстно сверкали, черные кудри, как во времена ее детства, струились по бледным щекам, и, гордо закинув голову, она ответила:
– Отец, не пытайся сковать мою душу! Я не христианка! Если бы пришел Ахиллес, или если бы, как в седую старину, явился в облаках Зевс, ты бы увидал меня готовой, покорной эллинкой. О, если бы мне предстояло взойти на Олимп с отцом богов и людей, я предала бы отречению свою свободную душу. Но это!.. Если это мое чувство – христианское, то значит и истина – у христиан, но ведь этого ты не хотел сказать отец? Не хотел? Но он, он принадлежит к ним, он не грек! Такая гадость!
И Ипатия повернулась, собираясь запереться у себя. Вдруг она заметила детские туфельки на письменном столе. В комнате профессора стало тихо. Снаружи сердито стучал, хлопал и щелкал марабу. Теон все ниже опускал свою седую голову, а Ипатия, обхватив его за плечи, засмеялась сквозь заструившиеся слезы.
– Молчи, папочка, не говори больше ни слова. Ты же любишь меня, ты меня не гонишь!
Профессор Теон посадил девушку на колени, накинул на нее теплый платок, и шепотом говорили они об умершей матери и о суровой совместной жизни, которую теперь им предстояло вести.
Внизу, во дворе, была кромешная темнота. Какой-то человек стоял напротив окон Ипатии, протянув к ним длинные руки со сжатыми кулаками. Как вор, как голодный зверь, бродил он вокруг, отыскивая вход. Временами из его горла вырывался глухой стон, как у безумного. Наконец он ступил на маленькую лесенку, ведущую в кабинет Теона. Беззвучно поднимался он по ступенькам, на самый верх. И вдруг что-то зашумело, ударило его крыльями, и спустившийся с неба демон поразил его лицо и грудь… Человек упал с лестницы на землю. Вскочив на ноги, преследуемый демоном, бросился он на улицу, и дальше из города – в пустыню.
А птица-философ вернулась с довольным видом обратно и встала на одной ноге перед комнатой Ипатии.
Таково последнее известное нам событие из юности Ипатии. До этого момента ее имя часто упоминается в актах Академии, в заметках христианских писателей и в переписке профессоров. Внезапно оно словно исчезло из жизни на целых десять лет. Можно предполагать, что необычный поступок Ипатии, ее бегство из брачных покоев вызвало в Александрии скандал, в результате которого молчаливое презрение вычеркнуло молодую женщину из высшего круга знати.
Главным образом, это было делом академических дам, по крайней мере, так позволяет заключить недавно изданная переписка одного знаменитого профессора литературы. Если это утверждение справедливо, то, судя по содержанию некоторых сохранившихся писем, можно сделать вывод, что молодая ученая жила все это время как монахиня, занятая исключительно математическими и астрономическими расчетами, помогая одному из старейших профессоров – очевидно, своему отцу. С этим утверждением исключительно совпадает еще то обстоятельство, что профессор Теон, ставший к тому времени сухим специалистом, начал вдруг выпускать сочинения, отличающиеся юношеской смелостью и художественностью языка. Маленькая работа относительно конических сечений, появившаяся на девятнадцатом году жизни Ипатии, трактовала ничтожную тему прямо философски, а спустя четыре года Теонова критика Птоломея вызвала повсюду, где читались греческие книги, восхищение своим блестящим языком и остроумием новой гипотезы. Эта критика, хотя и с некоторой осторожностью, поднимала вопрос о том, действительно ли земля является центром вселенной и не принадлежит ли эта часть скорее солнцу. Святой Иероним в своем возражении писал, что, очевидно, черт помогал профессору писать эту книгу; и действительно, несколько благочестивых монахов видели дьявола, прилетевшего к жилищу профессора в виде странной птицы. Современная наука склоняется, однако, к предположению, что не кто иной, как Ипатия была автором или, по крайней мере, главным составителем поздних произведений Теона, дьяволом, которого христиане считали основателем новой ереси. Однако наверняка узнать истину нельзя. Профессор Теон никому ничего не говорил о возникновении своих работ, а Ипатия благоговейно почитала память своего отца. Таким образом, читатель может по своему усмотрению заполнить десять лет жизни странной женщины.
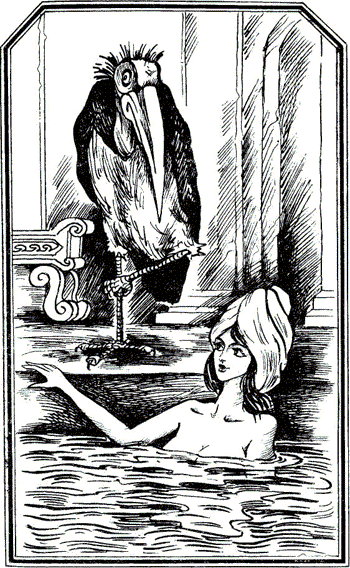 Теплая ласкающая вода покрыла ее до самой шеи, смочив нежные ладони, тогда как вся масса волос защищалась от воды смешной клеенчатой шапкой. Ипатия вздохнула. Так приятно быть одной! Феллашка приводила в порядок соседнюю комнату, и только один марабу важно прохаживался вокруг мраморного бассейна, дважды покачал головой и сунул наконец свой клюв, с явным желанием помешать игре Ипатии в ее маленький фонтан. Потом снова щелкнул клювом, чтобы стряхнуть с него теплые капли, и огляделся с таким удивлением, что Ипатия громко и искренно расхохоталась. Очевидно, это обидело птицу, так как она с укоряющим видом встала на одну ногу, рядом с белым платьем, и задумчиво заскребла свой философский череп.
На кушетке лежал томик глубокомысленных разговоров Платона. Ипатия отложила его, раздеваясь. Птица постучала клювом по переплету.
Я и Платон. Все остальное – вздор. Чистота и строгость дают вечное бытие. Как простодушно забавлялась она детским фонтаном!
Ипатия улыбнулась и мысленно окинула взором библиотеку, которую она сначала изучила, а потом и обогатила своими трудами. Вода остывала, она вздрогнула. Сколько книг, сколько дерева и папируса! Когда придут ее враги – монахи из пустыни – и объявят миру, что надо покончить со всем мирским знанием, или когда из Аравии вернутся бедуины, которые, подобно прекрасному Синезию с такой страстью глядят на нее, если монахи или бедуины овладеют Академией и библиотекой и начнут размышлять, что предпринять с этой бесчисленной книжной массой, – что тогда?! Отапливать бани? Готовить теплую воду для немоющихся монахов и для всего отвратительного монашеского мира?! Теплую воду для нескольких часов тихого банного удовольствия. Пожалуй, это лучшее, что делали доныне для человечества эти сотни тысяч томов. Отапливать бани! И она снова погрузилась в вычисления, прикидывая сколько горячей воды могла бы дать знаменитая Александрийская библиотека. С полгода мог бы гореть огонь, нагревая ежедневно четыре тысячи печек, и, быть может, действительно, придет скоро такой предводитель бедуинов и, освободив мир от знания, даст ему взамен теплую воду для ванны! Зато монахи, конечно, сочтут грехом дать бедным человеческим телам эту последнюю маленькую радость посредством сочинений философов. Монахи… – фу, какая гадость!
Ипатии пришлось открыть кран с горячей водой, чтобы вернуть себе хорошее настроение.
Она хотела постичь первооснову всего человеческого и в возможность этого честно верила в своих исканиях. Ничто из того, о чем думали другие раньше или теперь, не осталось ей чуждо. Во всех высших школах римского государства не было человека, равного ей по остроте ума.
В течение трех лет, сначала вместе с отцом, потом одна, старалась она проследить истинный путь движения Марса.
Если бы даже Ипатии удалось это, и она смогла бы доказать, что не все обстоит так просто на небе, как учит птоломеевская система, что будет тогда? Она станет еще известнее, и из Рима, Афин посыплются хвалебные письма и лавровые венки, но она будет сознавать, что сделала не больше какого-нибудь библиотечного переписчика, исправившего ошибку в гомеровском тексте. И если даже истинно то, что она смутно предчувствует, то, что созерцал старый Платон своим ночным небесным зрением, и то, что смутно ощущает и она сама, когда в полночь, отложив доски и грифель, перестает вычислять и размышлять, а просто смотрит на бескрайнее небо; если именно то, что и Солнце, и Луна, и планеты вовсе не вращаются вокруг Земли, что там наверху совершается совсем иной танец, в котором бедная Земля скромно принимает участие, как и другие яркие звезды, и когда-нибудь на Земле появятся новые астрономы, которые с улыбкой расскажут людям, что лгал Птоломей и лгали Теон с Ипатией, что их вычисления были детской забавой, пустым времяпровождением, и что мировой порядок зависит от Земли не больше, чем от всякой другой сверкающей звезды; если верно, что Земля – только точка в целой все ленной, – чего стоят все людские мысли на этой бедной земле? И есть ли тогда на земле что-либо истиннее неумирающего стремления к счастью?
– Счастье!
Ипатия громко произнесла это слово, и птица-философ важно подошла к ней и положила клюв на ее плечо. Косые глаза марабу смотрели утешающе.
Испуганно взглянула Ипатия на лысую птицу. Потом, зачерпнув левой рукой воду, она внезапно обрызгала крылатого философа сверху до низу, а затем смеясь, еще несколько раз повторила этот душ, пока птица не убежала оскорбленно в соседнюю комнату, где забегала взад и вперед, резко щелкая клювом.
Вскоре после этого Ипатия, сверкая красотой, по трем мраморным ступеням поднялась из уютной ванны, позвала феллашку и закуталась в мягкое белое покрывало. Вошедшая кормилица как всегда начала восхвалять красоту своей госпожи, восторгаясь ее нежной кожей! И как обычно, Ипатия приказала ей замолчать. Она отослала старуху и растянулась на диване, закутавшись в сухой шерстяной платок.
Счастье! Все люди стремятся к нему, почему бы и ей не делать того же? Разве от того, что она могла ощущать счастье намного полнее, чем толпа, она должна одинокой прожить свою жизнь?
Действительно ли уже слишком поздно все исправить? Разве ее жизнь клонится к закату? Разве она не молода и не прекрасна? Она плотнее закуталась в платок, как будто сама стыдилась своего молодого тела. Она взглянула на бассейн, в котором успокоившаяся поверхность воды постепенно опускалась все ниже. Вот так и жизненная сила покидает организм человека ежедневно и ежечасно.
Глупцы, жалующиеся на скуку, не понимают, что несколько тысяч таких скучных часов составляют жизнь. Песочные часы показывали время. Прошел час. Песчинка за песчинкой протискивалась к узенькому выходу, повинуясь старому, глупому закону природы.
Разве человек не побуждался своей глупой волей как можно скорее провести жизнь? И один из способов сделать жизнь незаметнее и ускорить ее конец назывался счастьем.
А все-таки атомы воды держатся вместе, и песчинки тяготеют друг к другу. Совсем как среди живой природы. Не лучше ли терпеть от людей злобу, ненависть, чем одиноко влачить свое существование?
Крылатый философ в соседней комнате все ожесточеннее шагал взад и вперед. Он делал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, так как был оскорблен в своем философском достоинстве, но если у него попросить прощения, если его хотя бы дружески позвать, – он перестанет обижаться.
– Сюда! – крикнула Ипатия, и когда птица, потеряв от радости всякое достоинство, подбежала к ней, она хлопнула ее по клюву и сказала: – Что! Тебе тоже не хочется быть одинокой! А, может быть, несмотря на всю твою любовь, я кажусь тебе такой же безобразной, как ты мне, уродец? Только не быть одинокой!
Обрадованный марабу сбежал, покрикивая и хлопая крыльями, в бассейн, чтобы принять ножную ванну в последних каплях воды. При этом удивленными глазами искал он какой-нибудь рыбешки или лягушки, поглядывая на Ипатию с упреком за то, что она умывается в такой неинтересной жидкости. Потом он поджал правую ногу под крыло, склонил голову на бок и задумался о том, что высшая задача аскетических аистов – принимать ванны в совершенно прозрачной воде, в то время, как заурядные аисты, вдали от Ипатии, наслаждаются водой, полной илом и лягушками.
Ипатия склонила голову на руку и внимательно смотрела на преданного марабу.
Каждый из студентов был прекраснее этой птицы, а тем более четыре ее рыцаря, и так же преданы. Смеясь, выслушивала она клятвы одних, оставалась глухой к другим, – хорошо ли это? Разумно ли это? Оправдается ли грязная клевета Кирилла, станет ли она студенческой девкой, если, как всякая порядочная девушка, примет покровительство какого-нибудь благородного мужчины?
Она завернулась, улыбаясь, еще плотнее в купальное покрывало и вызвала в душе безумные клятвы грека Троила. Да был ли он, по крайней мере, истинным греком? Или его стремящийся к красоте дух был только тепличным растением, и эллинство нашло в нем свое вырождение?
Ипатия закрыла глаза и засмеялась, точно вспомнила забавную шутку; однажды, когда на музыкальном вечере у наместника им пришлось слушать непомерно длинный концерт, Троил сказал ей:
– Я богат, молод и умен, прекрасная Ипатия. А вы – бедный профессор, зависящий от платы своих студентов, и, однако, я знаю, что не в силах предложить вам большого счастья. Но я не думаю при этом, что превосходство вашей красоты является для вас основанием влюбиться в меня. Вам придется, следовательно, стать моей женой без так называемой любви. Но скажите, прекрасная Ипатия, не является ли как раз это достойным вас? Вы слишком мудры, чтобы не видеть, что так называемая любовь – самая бесстыдная из всех иллюзий, которыми природа водит за нос и людей, и животных. Соедините же вашу жизнь с моею! Мы будем наслаждаться бытием, как духи, наслаждаться всем, что достойно наслаждения. Мои миллионы будут к вашим услугам, если вы захотите насладиться персиком нового сорта или картиной новой школы. А все, что жизнь предлагает кроме наслаждения, – серьезность и страдание, – все это мы будем презирать, как мудрые скептики. Будем презирать мир, себя и тех, кто, не понимая, станет презирать нас самих. Будем наслаждаться, пока позволяют нам наши нервы, а в промежутках между наслаждениями будем покачиваться в гамаках, для препровождения времени, разрушая иллюзии, все иллюзии, что, в свою очередь, будет новым наслаждением. Я научу вас разрывать иллюзии, как паутины, и если вам, прекрасная Ипатия, такое пребывание в гамаках кажется идеалом философского брака, прошу вас, выходите за меня замуж. Само собой разумеется, что к этому нелепому предложению побуждает меня иллюзия, будто я безумно влюблен в вас.
– Скажи-ка, что должна была я ответить этому человеку?
Марабу одним прыжком подскочил к двери.
Александр Иосифсон, уже много дней в нерешительности бродивший около девушки, издали наблюдая за разговором наместника в музыкальной комнате, затем сумел искусно отделаться от друзей и на обратном пути сперва осторожно, а потом все более и более страстно открыл свои чувства и сказал приблизительно следующее:.
– Я не имею права требовать согласия, так как я хорошо знаю, что вы не испытываете ко мне такого чувства, какое питаю к вам я. Только об одном умоляю я вас: не отдавайте себя никому, стоящему ниже меня, оставайтесь такой, как вы есть еще три года. Обещайте мне быть через три года такой же свободной, как теперь. Тогда я снова приду к вам, но совсем другим человеком, осмеливающимся добиваться вашего расположения. Не правда ли, мы оба смеемся над маленькими тщеславиями мира? Но я не собираюсь заниматься пустяками. Через три года решите вы, обещал ли я вам слишком много, если я смогу принести в приданое частицу мирового владычества. У меня есть протекция и в Риме, и в Константинополе; я узнаю людей и дела государства, охотно переменю религию, стану язычником ради вас, или даже крещусь. Через три года, так или иначея я буду, ради вас, министром в Риме или в Константинополе. Тогда вы станете моей женой, и от Евфрата до Северного моря будет выполняться не воля цезаря и не моя воля, а то, что захочет Ипатия. Не считайте меня фантазером! Чтобы завоевать вас, можно с прилежанием, умом и выдержкой достичь гораздо большего, чем пост министра над всем современным сбродом! Ипатия, в наше время женщина, подобная вам, не должна оставаться в научных забавах. Займитесь политикой. Бороться легко, когда только две партии стоят друг против друга. Теперь у нас только государство и церковь. И так как победа церкви на столетия уничтожит всякую культуру, я встану на сторону государства, как праздный зритель, – или буду один, как повелитель, – если вы захотите быть со мной. Соединимся! Это была бы интереснейшая игра, на которую мы могли бы отважиться! Владычество или смерть! Если же вы не хотите ждать меня три года, то и я не хочу быть министром, тогда я не изменю своей вере и не буду креститься, а когда мои родственники станут предлагать мне в жены дочерей всех богачей от Вавилона до Карфагена, я останусь в Александрии только для того, чтобы иметь возможность ежедневно видеть вас, Ипатия, чудо мира!
– Ну, что думаешь ты об этом? Не стать ли нам женой министра и, вместо размышления, заниматься политикой? Пожалуй, стало бы немного жарче?
Марабу не понял Ипатии. Когда она обыкновенно говорила «жарко», он приносил ей индийский веер, хрупкое сооружение из бамбуковых палочек, на которых развевались светлые шелковые ленты, так и теперь марабу с потешным, важным видом принес ей веер и положил его аккуратно на колени. Она хлопнула его ласково по клюву и затем снова задумалась.
Что через несколько дней после признания Александра сказал ей белокурый Вольф, и как он сказал это, – этого крылатый философ не должен был слышать. Ночью приблизился Вольф к ее окну по обычаю своих готских предков по ту сторону гор, но и там это было заведено только у парней, влюбленных в крестьянских девушек, А к ней, к знаменитой мыслительнице мира, Вольф пришел как к обычной хорошенькой девчонке. Он осмелится говорить с ней так, как, должно быть, говорит солдат с женщиной, захваченной в неприятельской стране. И Ипатия запомнила слова Вольфа не приблизительно, как речи Троила и Алек сандра, а слог за слогом, звук за звуком.
– Пойдем со мной! Будь моей женой! Оставь Александрию, свои почести и своих учеников! Пойдем со мной куда хочешь и будь счастлива, как моя жена. Сквозь льды и раскаленные степи я понесу тебя и стану охранять. Но ты не должна желать ничего, кроме того, чтобы быть моей женой!
Ипатия не отвечала. Но она не оттолкнула Вольфа и не позвала на помощь. Наоборот, она успокоила марабу, когда он зашевелился. Она слушала и притворялась спящей, – быть может, как одна из девушек, с бьющимся сердцем притворявшихся спящими там, на диких берегах молодого Рейна, на родине предков Вольфа. И он заговорил снова:
– Пойдем со мной и будь моей женой! Встань и пойдем! Я буду тебе служить так, как должен служить мужчина женщине, не на жизнь, а на смерть. Но и ты должна быть моей рабыней, как всякая женщина должна быть рабыней мужчины!
Рабыней мужчины! Ипатия позвала кормилицу. Сначала тихо, прерывающимся голосом, потом громче и, наконец, изо всех сил, так, что старая феллашка сразу проснулась. Испуганный крик кормилицы и шум марабу прогнали чужого человека от окна.
Ипатия осталась лежать на своей постели. Рассерженная и оскорбленная и все же как-то странно довольная или даже польщенная, или совсем счастливая. Так же, как и теперь, когда, лежа на диване, она вспоминала, и сердясь, и улыбаясь. Внезапно, сама не зная почему, сбросила она теплый белый платок и во всем сиянии своей красоты вскочила и позвала кормилицу, чтобы одеться с ее помощью. И вновь начала старуха болтать свои глупости, опять встал перед ней марабу, с любопытством рассматривая крючки и застежки на платье. В новом белоснежном платье Ипатия выпрямилась, широко раскинула руки, затем схватила испуганную, птицу за шею, хлопнула ее по бокам и воскликнула:
– Пойдем домой! Синезий будет ждать!
Она нарочно думала только о Синезии, направляясь к себе.
Она должна была думать о нем, так как он хотел к ней прийти, единственный, кому она за его скромность разрешила посещать ее, и Ипатия стала думать только о нем, так как Синезий освобождал ее от мыслей о Вольфе. Громадный Вольф со светло-рыжей львиной гривой, слишком длинным носом, спокойными глазами, большим, редко открывавшимся ртом и светлым пухом на подбородке и щеках, был совсем не красив. Мужествен, безусловно, быть может, как по вкусу своих соплеменниц, когда он проезжал по улицам во главе рыцарского отряда. Но Синезий, который казался красивее уже одним своим меньшим ростом, Синезий, знатный род которого в течение столетий был первым в Пентаполисе, и который, союзами многих поколений, из араба превратился в грека, был несравненно более прекрасен, знатен и пристоен. Чего только не рассказывали студенты о неумеренности Вольфа! Она могла бы застать его в таком положении, чтобы одним взглядом самой убедиться в том, что эти спокойные синие глаза и во хмелю не блестят так, как тогда ночью у окна. Как выгодно отличалась от такой беспорядочности умеренность Синезия! Вольф был уже не мальчик! Если бы между ними был возможен союз, она охотно стала бы его предостерегать и примерами из произведений знаменитейших греческих поэтов и философов возвратила бы его к разумному образу жизни. Правда, далеко не все греческие поэты принадлежали к числу поклонников умеренности и, кто знает, быть может, подвиги Вольфа были уж не так плохи, как их рисовал Синезий.
Так старалась Ипатия думать только о Синезии, когда она входила в свою рабочую комнату, намереваясь взяться за книги. Но сегодня это ей не удавалось.
Счастье!
Троил предлагал найти его в свободном союзе с умным человеком. Никто не превзошел ее умом. О, она часто чувствовала, что выдающиеся люди обращаются к ней тоном, в котором звучит: «Ты можешь быть ученейшей женщиной, умней всех мужчин нашего времени. Но мужского гения, мужской силы у тебя все-таки нет!» – И в этом Троиле выступило старое высокомерие. Он жеманен – этот господин Троил, так жеманен, как не могла быть знатная женщина; он утомлен и насмешлив – в этом все его превосходство. Ипатия была бы дурой, какой в глазах этих господ и кажется всякая женщина, если бы преклонилась перед таким незначительным превосходством.
Конечно, ее спутник на жизненном пути должен стоять на высоте современного знания, должен, как Синезий, посетить все университеты и много поработать в литературе и философии. Нельзя же годами жить с человеком, который не понимает, о чем с ним говорят! Преклониться перед воображаемым величием – будет ли это счастьем?
Александр показал ей себя в будущем, когда обещал доставить своей жене весь почет государственного человека. С таким же успехом может она сидеть на коне за спиной Вольфа, когда он поедет в поход, чтобы где-нибудь, в Персии или Фуле, завоевать себе царство. Но это – бессмыслица, сказка, детские мечты. Уж лучше тогда последовать за Синезием в земли его отцов, где между пустыней и морем, далеко от всяких государственных мужей он, как настоящий маленький король, повинуется собственным законам. Если господство было желанной целью, то размеры страны были не так уж важны. Синезий был духовно высокоразвитый человек и маленький предводитель, он предлагал ей не только богатства Троила и воображаемое могущество Александра, он шел к ней со страстной тоской этого неуклюжего Вольфа. И к тому же он был скромен, и готов принять любые условия.
Вы увидите, господин Вольф, господин безземельный король, что если вообще нужно бежать к кому-нибудь, то во всяком случае не к вам!
Ипатия решительно шагала взад и вперед. Она старалась овладеть собой. Дважды или трижды она подходила к большому столу, стоявшему напротив письменного, где сооружение из всевозможных колес, изогнутой проволоки и маленьких металлических шаров изображало Землю в центре планетной системы. Еще ребенком видела она, как ее отец в свои редкие свободные часы возился над этим механизмом, потом помогала она отцу многочисленными вычислениями, а теперь получила в наследство закончить тяжелое строение. Но сегодня она с удовольствием разбила бы все сделанное, – такой неверной, такой глупой казалась ей эта картина бесконечного звездного мира. Все было справедливо только приблизительно, ни одно вычисление не выходило без остатка; если такие неточности существуют и в небе, то завтра или послезавтра и земля вместе с римским государством, Александрийской Академией, прекрасной Ипатией и дерзким Вольфом превратится в осколки. Именно это и наполняло ее сегодня таким презрением к своим знаниям. Еще никогда не чувствовала она с такой силой, что природа идет своей собственной дорогой, что ни один математик не вычислил еще великой загадки небесного вращения, что на первом месте стоит не знание, а действие, что даже бедное человеческое сердце никогда не хочет того, что должно хотеть и вечно стремится, борется и живет по велениям своей природы, а не по мудрым законам. В дверь постучался марабу, и Ипатия впустила его в комнату. Священная птица знала, что здесь мешать не полагается, и она с задумчивой важностью встала около стола на котором стояло изображение системы мира. По-видимому, марабу хотел предупредить девушку о посетителе.
Через несколько минут вошла феллашка с вопросом, может ли госпожа поговорить с Синезием?
С раздраженной улыбкой кивнула Ипатия и с глубоким вздохом уселась в свое постоянное кресло.
Очаровательный Синезий вошел в безупречном костюме для визитов и протянул прекрасной учительнице букет роскошных красных роз, сорт которых выращивался исключительно в Индии. Почтительно попросил он разрешения «предоставить в распоряжение своего ученого друга еще одно собрание астрономических сочинений, переведенных по его просьбе с индийского на греческий язык и прибывших с тем же кораблем, который привез и розы в виде ничтожного дара из Азии той, которая на границе Востока и Запада властвует над духом римского народа».
Обычно Ипатию очень мало трогало, когда Синезий обращался к ней с такой преувеличенной лестью, но его прекрасный глубокий голос, его уверенное владение тончайшими оттенками любимого родного языка и, наконец, преданность человека, считавшегося самым прилежным и многообещающим студентом Академии, подействовали на нее, и, против воли, она приветливо приняла то, что в глубине души ей так не нравилось. К тому же давно обещанные и только теперь пришедшие книжные сокровища обещали ей действительно необыкновенное наслаждение. Итак, она сердечно пожала юноше руку, пригласила его сесть и с явным вниманием поставила его розы в прекрасную вазу. Марабу уткнул свой клюв глубоко в громадный букет и немного насмешливо покосился на прекрасного Синезия.
Индийские букеты, индийские книги!.. Осенью все превратится в сено.
Изящно, не надоедая, но и не принижая своих заслуг, рассказал Синезий, как благодаря связям своего семейства смог он оказать этот ничтожный знак внимания. Так как это предприятие увенчалось успехом, он позволит себе уже сегодня заранее сообщить своему ученейшему собеседнику, что скоро, с помощью богов, новый корабль пересечет Индийский океан с еще более ценным грузом, чтобы познакомить великого учителя с малоизвестными трудами. Ему удалось найти путешественника в сказочный Китай, обладающего достаточными математическими знаниями, чтобы перевести замечательные изыскания для той, образ которой осветит тьму самого полного затмения в мире.
– Вы славный мальчик, мой милый Синезий, – сказала Ипатия и положила нежную теплую руку на сложенные руки юноши.
Тогда слезы радости выступили на его глазах, и он сделал быстрое движение, смысл которого поначалу был не понятен прекрасной женщине. Как преступник, подставляющий свою голову под смертельный удар палача, или как нубийский раб, лишь в такой позе осмеливающийся подать своей царице ее кубок, упал Синезий на колени, несколько секунд стоял так, а потом с рыданием спрятал лицо в ее коленях. Приплясывая от удовольствия, смотрел марабу на невиданную картину, ибо тогда еще не было принято, чтобы юноши выражали свои чувства стоя на коленях.
– Что с вами, Синезий? – сказала ласково Ипатия, проводя рукой по его черным кудрям. – Не будьте безрассудны. Выскажитесь, ведь вы обладаете даром речи. А ведь никакое чувство не может быть настолько велико, чтобы слова не могли его…
Ипатия смолкла, внезапно вспомнив свою последнюю мысль, возникшую перед самым приходом этого жениха. Звездный мир был больше всякого искусства света. Розы и чувства не могли быть сильнее языка.
А счастливый Синезий уже поднял голову и показал ей свое влажное от слез лицо.
– Выслушай меня, Ипатия. Я не могу жить без тебя. Где бы я ни был, меня преследуют твои глаза. Я не в силах убить лань на охоте, ибо черные газельи глаза напоминают мне тебя, и я не могу прочитать больше ни одной книги, так как я знаю, что твои глаза смотрели на эти же строчки. Ты похитила у меня и сон, и бодрствование, ты сделала меня счастливым от сознания блаженства жить в одно время с тобой, и ты сделала меня несчастным, так как я не могу жить с тобой, как верующий в тебя – последнюю богиню нашего умирающего народа! Ты не хочешь познать власть любви, госпожа, ты, знающая все иное. Испытай меня! Прикажи, и я начну носить камни для твоего дома, как последний раб. Прикажи умереть за тебя, и я без сожаления уйду в землю, и последний мой вздох будет благодарностью за твою милость!
Марабу медленно отошел в дальний угол комнаты и щелкнул клювом, как будто желая скрыть смех.
– Встаньте, – сказала Ипатия, – или я уйду из комнаты. Садитесь и давайте говорить разумно. Милый Синезий, что это с вами? Вы не грек! Прочтите, что писали циники любви, и вы будете стыдиться своих слез.
– Так вы не знаете любви, Ипатия?
Одним взмахом крыльев подлетел марабу к своей госпоже. Она побарабанила пальцами по его лысой голове и сказала твердо:
– Нет, я знаю настоящую историю.
– Ипатия, – умоляюще произнес Синезий, – если не по-гречески то, что меня пожирает любовь, пока я не умру от нее, как рассказывают о далеких арабах, то называйте меня иудеем или христианином, – но выслушайте. Оживите рядом со мной в своей красоте и смотрите на меня только, как на своего друга. Последуй за мной. Ни один епископ и ни один чиновник не осмелился еще ступить на землю моих бедуинов. Как маленький князь владею я территорией от берегов, где разбиваются вечные волны, до пределов пустыни. Только там, где начинается царство ливийских львов, кончается моя власть. Сто селений трудолюбивого народа принадлежат и повинуются мне. В Киренах стоит мой маленький замок, и бесчисленные слуги ожидают своего господина. Дом не достоин вас! Но как будто, по внушению неведомого доброжелательного Бога, предчувствовали мы будущее и собрали там сокровища научных знаний и искусства, какие вы не ожидаете встретить в диком африканском регионе. Последуйте за мной туда! Здесь вы окружены тайными и явными врагами. Ваш удел – борьба, и время спокойной работы никогда не настанет для вас. У меня в Киренах вы будете мыслить без помех и писать бессмертные книги. Последуйте за мной, и барка, не менее великолепная, чем барка Клеопатры, когда она приезжала сюда встречать повелителя Рима, повезет вас в Кирены, и в течение столетий будут рассказывать, что нашел Синезий из Кирены, чтобы возбудить зависть современников, зависть в том, что ему удалось овладеть первой женщиной мира.
Как во сне сидела Ипатия; напрасно хлопал клюв марабу по ее коленям. Как во сне сказала она:
– Я хотела бы оставить все так, как есть, и если бы я решилась последовать за вами, то и тогда я должна была остаться тем, что я есть. Никогда, никогда не должны вы требовать от меня, чтобы…
Синезий вскочил.
– Госпожа! Богиня! Требуй, что хочешь, назови себя моей супругой, и никакое условие не будет слишком тягостным, если им я могу купить твою близость…
Ипатия оглянулась. Тихо шевельнулось в ее сердце странное чувство, и так же тихо появилась на губах легкая улыбка. Насколько не похож на Вольфа был этот Синезий! Как искренне признавал он права самостоятельной женщины, как трогательно хотел удовольствоваться духовной близостью, Как благодарна должна она быть ему. Если она примет его предложение, тогда у нее будет еще друг, кроме марабу, – человек, и прекрасный, благородный, знатный человек, товарищ. Она закрыла лицо руками, не понимая, почему при этих благодарных мыслях ее глаза остались сухими.
Неожиданно на лестнице раздался шум, послышался недовольный голос феллашки, потом ее брань, крики, и внезапно в комнату ворвался Вольф.
– Ты прямо с попойки? – сказал Синезий холодно.
Лицо Вольфа покраснело, глаза потемнели, он с трудом владел собою. За поясом торчали два длинных кинжала, а на боку висела тяжелая сабля.
– Безразлично, пришел ли я из кабака, или из могилы. Я приношу весть о борьбе. Ты разве не слышишь запаха крови, Синезий, ты ведь охотник? Архиепископ опять готовит удар против нас, истинных христиан, да и против вас, Ипатия. Двое из наших замучены насмерть. Они ничего не выдали. Правда, это вас не касается, для вас все христиане одинаковы. А для Кирилла тоже все еретики одинаковы – и греки, и христиане. И один убийца из числа попов получил приказ передать в распоряжение епископа еретичку Ипатию. Для проведения суда. Он отказался, так как он – мой друг. Второй пытался проникнуть сюда ночью. Ну, он не сможет больше рассказывать, кто-то сделал его немым. Третий найдется не скоро, так как ваша стража, Ипатия, на военном положении. Взгляните.
Ипатия подошла к окну, бледная и смущенная. Но она улыбнулась вновь, когда ее тридцать рыцарей послали ей приветствие. Овладев собой, она возвратилась в комнату и сказала Вольфу:
– Я должна, безусловно, поблагодарить вас. Но ваши заботы излишни. Я не чувствую за собой вины и могу, кроме того, положиться на защиту наместника. Орест не предаст меня.
– Наместник бессилен против этого попа. Он будет не в силах воскресить вас. Такие чудеса делает только церковь. А живой он не вырвет вас у епископа, если вы попадетесь на суд его дьявольской своры. Так обстоит дело и с нами, Ипатия. Отдайтесь нашей защите, защите истинных христиан. Я не обещаю вам, что мы победим. Но вы одиноки, а нас много. А пока жив хоть один из нас, ни один волос не упадет с вашей головы. Мы решили сражаться за нашего Спасителя, и если понадобится, то и умереть за него. Кто доверится нам, тот находится под надежной охраной.
Ипатия едва выслушала сообщения Вольфа и резко ответила только на одно:
– Я не знала, Вольф, что вы – благочестивый христианин. Я слышала, что христиане презирают дела этого мира, забывают свою родину, стыдятся наслаждения вином и стоят выше женской любви. Господин Вольф! Для христианина вы слишком крепко придерживаетесь обычаев вашей варварской и совсем языческой родины. Мне говорили, что вы слишком часто приносите жертвы Бахусу. А если верить слухам, то и женщинами вы увлекаетесь сильнее, чем это полагается правоверному христианину, так как ради женщины вы забываете все, даже уважение. Неужели вы действительно хотите, вы, христианин, проповедующий уничтожение всякого рабства, закабалить половину всего человечества – женщин?
Во время этих слов Вольф подошел к письменному столу Ипатии. Он с такой силой ударил кулаком по бумагам, что одно перо слетело на пол, и крикнул:
– Клянусь Богом, я – христианин, германский христианин. То, что вы говорите о вине, женщинах и родине – просто глупость. Радостно живет в моей душе вера в Спасителя. Он послал меня в мир не для того, чтобы по примеру монахов стонать и бездельничать. Я здесь на земле, чтобы завоевывать свою жизнь. Я люблю горы моей родины и хочу, чтобы Спаситель мог царствовать там лучше, чем в вашей сожженной солнцем египетской дыре. Я могу радостно думать о своем Спасителе вместе со своей родиной, и мое сердце смеется при этом. А если я сделаю что-нибудь порядочное в борьбе с этим глупым миром и утоплю гнев в кружке доброго греческого вина, то я благодарю Творца за его дары и смеюсь, и знаю, что здесь нет ничего плохого. А если Господь и Спаситель поможет мне овладеть женщиной, которая мне милее всего на земле, я буду пить ее поцелуи, как греческое вино, веря, что это было дано мне на земле, как венок победителю. И я надеюсь, что после моей смерти мой Господь и Спаситель сжалится надо мной, будет добр и, не смотря на все мои глупости, возьмет меня в свое небесное царство. Аминь. Это значит: так ли это или не так на самом деле, я буду за это жить и умирать. Ипатия, если вы хотите называть меня благочестивым христианином и ставить на одну доску со злобными епископами и безумными монахами, то мне жаль вас. Но защищать я вас все-таки буду…
– Крестницаимператора Юлиана не должна пользоваться защитой христианина. Вы знаете, что мой великий крестный думал о сыне плотника?
– Не приплетайте сюда императора. Ваши друзья – христиане – убили его. Да, если бы мой отец убил его, я все-таки любил бы и защищал его крестницу.
Ипатия дышала с трудом. Она посмотрела на дверь. Однако Вольф шагнул вперед, как будто хотел силой овладеть ею.
Синезий, остававшийся немым слушателем всей страстной беседы, сказал теперь прерывающимся голосом:
– Вольф, разве ты забыл нашу клятву?
– Я ухожу, – сказал Вольф после краткой паузы. – Но я советую вам, госпожа, завести себе вместо этой священной птицы, которой я одним пальцем проломлю череп, если она еще раз с таким видом посмотрит на меня из своего угла, да, так вот заведите себе вместо этого тонконогого египтянина хорошую готскую сторожевую собаку. Может быть, это понадобится. Прощайте, если вы ничего, кроме мудрости, не унаследовали от императора Юлиана, то да сохранит вас Господь.
Едва Вольф закрыл за собой дверь, Ипатия большими шагами подошла к Синезию.
– Я принимаю ваше предложение. Я выйду за вас замуж. Не сегодня, я не знаю еще сама… когда-нибудь. Но сначала я должна выполнить завещание императора – выиграть борьбу с этими христианами. А когда император будет отомщен, я стану искать покоя у вас и ваших книг, между морем и пустыней, а не среди убийц императора Юлиана.
– Ипатия, жена моя!
– Я не женщина! Я не хочу быть женой!
Теплая ласкающая вода покрыла ее до самой шеи, смочив нежные ладони, тогда как вся масса волос защищалась от воды смешной клеенчатой шапкой. Ипатия вздохнула. Так приятно быть одной! Феллашка приводила в порядок соседнюю комнату, и только один марабу важно прохаживался вокруг мраморного бассейна, дважды покачал головой и сунул наконец свой клюв, с явным желанием помешать игре Ипатии в ее маленький фонтан. Потом снова щелкнул клювом, чтобы стряхнуть с него теплые капли, и огляделся с таким удивлением, что Ипатия громко и искренно расхохоталась. Очевидно, это обидело птицу, так как она с укоряющим видом встала на одну ногу, рядом с белым платьем, и задумчиво заскребла свой философский череп.
На кушетке лежал томик глубокомысленных разговоров Платона. Ипатия отложила его, раздеваясь. Птица постучала клювом по переплету.
Я и Платон. Все остальное – вздор. Чистота и строгость дают вечное бытие. Как простодушно забавлялась она детским фонтаном!
Ипатия улыбнулась и мысленно окинула взором библиотеку, которую она сначала изучила, а потом и обогатила своими трудами. Вода остывала, она вздрогнула. Сколько книг, сколько дерева и папируса! Когда придут ее враги – монахи из пустыни – и объявят миру, что надо покончить со всем мирским знанием, или когда из Аравии вернутся бедуины, которые, подобно прекрасному Синезию с такой страстью глядят на нее, если монахи или бедуины овладеют Академией и библиотекой и начнут размышлять, что предпринять с этой бесчисленной книжной массой, – что тогда?! Отапливать бани? Готовить теплую воду для немоющихся монахов и для всего отвратительного монашеского мира?! Теплую воду для нескольких часов тихого банного удовольствия. Пожалуй, это лучшее, что делали доныне для человечества эти сотни тысяч томов. Отапливать бани! И она снова погрузилась в вычисления, прикидывая сколько горячей воды могла бы дать знаменитая Александрийская библиотека. С полгода мог бы гореть огонь, нагревая ежедневно четыре тысячи печек, и, быть может, действительно, придет скоро такой предводитель бедуинов и, освободив мир от знания, даст ему взамен теплую воду для ванны! Зато монахи, конечно, сочтут грехом дать бедным человеческим телам эту последнюю маленькую радость посредством сочинений философов. Монахи… – фу, какая гадость!
Ипатии пришлось открыть кран с горячей водой, чтобы вернуть себе хорошее настроение.
Она хотела постичь первооснову всего человеческого и в возможность этого честно верила в своих исканиях. Ничто из того, о чем думали другие раньше или теперь, не осталось ей чуждо. Во всех высших школах римского государства не было человека, равного ей по остроте ума.
В течение трех лет, сначала вместе с отцом, потом одна, старалась она проследить истинный путь движения Марса.
Если бы даже Ипатии удалось это, и она смогла бы доказать, что не все обстоит так просто на небе, как учит птоломеевская система, что будет тогда? Она станет еще известнее, и из Рима, Афин посыплются хвалебные письма и лавровые венки, но она будет сознавать, что сделала не больше какого-нибудь библиотечного переписчика, исправившего ошибку в гомеровском тексте. И если даже истинно то, что она смутно предчувствует, то, что созерцал старый Платон своим ночным небесным зрением, и то, что смутно ощущает и она сама, когда в полночь, отложив доски и грифель, перестает вычислять и размышлять, а просто смотрит на бескрайнее небо; если именно то, что и Солнце, и Луна, и планеты вовсе не вращаются вокруг Земли, что там наверху совершается совсем иной танец, в котором бедная Земля скромно принимает участие, как и другие яркие звезды, и когда-нибудь на Земле появятся новые астрономы, которые с улыбкой расскажут людям, что лгал Птоломей и лгали Теон с Ипатией, что их вычисления были детской забавой, пустым времяпровождением, и что мировой порядок зависит от Земли не больше, чем от всякой другой сверкающей звезды; если верно, что Земля – только точка в целой все ленной, – чего стоят все людские мысли на этой бедной земле? И есть ли тогда на земле что-либо истиннее неумирающего стремления к счастью?
– Счастье!
Ипатия громко произнесла это слово, и птица-философ важно подошла к ней и положила клюв на ее плечо. Косые глаза марабу смотрели утешающе.
Испуганно взглянула Ипатия на лысую птицу. Потом, зачерпнув левой рукой воду, она внезапно обрызгала крылатого философа сверху до низу, а затем смеясь, еще несколько раз повторила этот душ, пока птица не убежала оскорбленно в соседнюю комнату, где забегала взад и вперед, резко щелкая клювом.
Вскоре после этого Ипатия, сверкая красотой, по трем мраморным ступеням поднялась из уютной ванны, позвала феллашку и закуталась в мягкое белое покрывало. Вошедшая кормилица как всегда начала восхвалять красоту своей госпожи, восторгаясь ее нежной кожей! И как обычно, Ипатия приказала ей замолчать. Она отослала старуху и растянулась на диване, закутавшись в сухой шерстяной платок.
Счастье! Все люди стремятся к нему, почему бы и ей не делать того же? Разве от того, что она могла ощущать счастье намного полнее, чем толпа, она должна одинокой прожить свою жизнь?
Действительно ли уже слишком поздно все исправить? Разве ее жизнь клонится к закату? Разве она не молода и не прекрасна? Она плотнее закуталась в платок, как будто сама стыдилась своего молодого тела. Она взглянула на бассейн, в котором успокоившаяся поверхность воды постепенно опускалась все ниже. Вот так и жизненная сила покидает организм человека ежедневно и ежечасно.
Глупцы, жалующиеся на скуку, не понимают, что несколько тысяч таких скучных часов составляют жизнь. Песочные часы показывали время. Прошел час. Песчинка за песчинкой протискивалась к узенькому выходу, повинуясь старому, глупому закону природы.
Разве человек не побуждался своей глупой волей как можно скорее провести жизнь? И один из способов сделать жизнь незаметнее и ускорить ее конец назывался счастьем.
А все-таки атомы воды держатся вместе, и песчинки тяготеют друг к другу. Совсем как среди живой природы. Не лучше ли терпеть от людей злобу, ненависть, чем одиноко влачить свое существование?
Крылатый философ в соседней комнате все ожесточеннее шагал взад и вперед. Он делал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, так как был оскорблен в своем философском достоинстве, но если у него попросить прощения, если его хотя бы дружески позвать, – он перестанет обижаться.
– Сюда! – крикнула Ипатия, и когда птица, потеряв от радости всякое достоинство, подбежала к ней, она хлопнула ее по клюву и сказала: – Что! Тебе тоже не хочется быть одинокой! А, может быть, несмотря на всю твою любовь, я кажусь тебе такой же безобразной, как ты мне, уродец? Только не быть одинокой!
Обрадованный марабу сбежал, покрикивая и хлопая крыльями, в бассейн, чтобы принять ножную ванну в последних каплях воды. При этом удивленными глазами искал он какой-нибудь рыбешки или лягушки, поглядывая на Ипатию с упреком за то, что она умывается в такой неинтересной жидкости. Потом он поджал правую ногу под крыло, склонил голову на бок и задумался о том, что высшая задача аскетических аистов – принимать ванны в совершенно прозрачной воде, в то время, как заурядные аисты, вдали от Ипатии, наслаждаются водой, полной илом и лягушками.
Ипатия склонила голову на руку и внимательно смотрела на преданного марабу.
Каждый из студентов был прекраснее этой птицы, а тем более четыре ее рыцаря, и так же преданы. Смеясь, выслушивала она клятвы одних, оставалась глухой к другим, – хорошо ли это? Разумно ли это? Оправдается ли грязная клевета Кирилла, станет ли она студенческой девкой, если, как всякая порядочная девушка, примет покровительство какого-нибудь благородного мужчины?
Она завернулась, улыбаясь, еще плотнее в купальное покрывало и вызвала в душе безумные клятвы грека Троила. Да был ли он, по крайней мере, истинным греком? Или его стремящийся к красоте дух был только тепличным растением, и эллинство нашло в нем свое вырождение?
Ипатия закрыла глаза и засмеялась, точно вспомнила забавную шутку; однажды, когда на музыкальном вечере у наместника им пришлось слушать непомерно длинный концерт, Троил сказал ей:
– Я богат, молод и умен, прекрасная Ипатия. А вы – бедный профессор, зависящий от платы своих студентов, и, однако, я знаю, что не в силах предложить вам большого счастья. Но я не думаю при этом, что превосходство вашей красоты является для вас основанием влюбиться в меня. Вам придется, следовательно, стать моей женой без так называемой любви. Но скажите, прекрасная Ипатия, не является ли как раз это достойным вас? Вы слишком мудры, чтобы не видеть, что так называемая любовь – самая бесстыдная из всех иллюзий, которыми природа водит за нос и людей, и животных. Соедините же вашу жизнь с моею! Мы будем наслаждаться бытием, как духи, наслаждаться всем, что достойно наслаждения. Мои миллионы будут к вашим услугам, если вы захотите насладиться персиком нового сорта или картиной новой школы. А все, что жизнь предлагает кроме наслаждения, – серьезность и страдание, – все это мы будем презирать, как мудрые скептики. Будем презирать мир, себя и тех, кто, не понимая, станет презирать нас самих. Будем наслаждаться, пока позволяют нам наши нервы, а в промежутках между наслаждениями будем покачиваться в гамаках, для препровождения времени, разрушая иллюзии, все иллюзии, что, в свою очередь, будет новым наслаждением. Я научу вас разрывать иллюзии, как паутины, и если вам, прекрасная Ипатия, такое пребывание в гамаках кажется идеалом философского брака, прошу вас, выходите за меня замуж. Само собой разумеется, что к этому нелепому предложению побуждает меня иллюзия, будто я безумно влюблен в вас.
– Скажи-ка, что должна была я ответить этому человеку?
Марабу одним прыжком подскочил к двери.
Александр Иосифсон, уже много дней в нерешительности бродивший около девушки, издали наблюдая за разговором наместника в музыкальной комнате, затем сумел искусно отделаться от друзей и на обратном пути сперва осторожно, а потом все более и более страстно открыл свои чувства и сказал приблизительно следующее:.
– Я не имею права требовать согласия, так как я хорошо знаю, что вы не испытываете ко мне такого чувства, какое питаю к вам я. Только об одном умоляю я вас: не отдавайте себя никому, стоящему ниже меня, оставайтесь такой, как вы есть еще три года. Обещайте мне быть через три года такой же свободной, как теперь. Тогда я снова приду к вам, но совсем другим человеком, осмеливающимся добиваться вашего расположения. Не правда ли, мы оба смеемся над маленькими тщеславиями мира? Но я не собираюсь заниматься пустяками. Через три года решите вы, обещал ли я вам слишком много, если я смогу принести в приданое частицу мирового владычества. У меня есть протекция и в Риме, и в Константинополе; я узнаю людей и дела государства, охотно переменю религию, стану язычником ради вас, или даже крещусь. Через три года, так или иначея я буду, ради вас, министром в Риме или в Константинополе. Тогда вы станете моей женой, и от Евфрата до Северного моря будет выполняться не воля цезаря и не моя воля, а то, что захочет Ипатия. Не считайте меня фантазером! Чтобы завоевать вас, можно с прилежанием, умом и выдержкой достичь гораздо большего, чем пост министра над всем современным сбродом! Ипатия, в наше время женщина, подобная вам, не должна оставаться в научных забавах. Займитесь политикой. Бороться легко, когда только две партии стоят друг против друга. Теперь у нас только государство и церковь. И так как победа церкви на столетия уничтожит всякую культуру, я встану на сторону государства, как праздный зритель, – или буду один, как повелитель, – если вы захотите быть со мной. Соединимся! Это была бы интереснейшая игра, на которую мы могли бы отважиться! Владычество или смерть! Если же вы не хотите ждать меня три года, то и я не хочу быть министром, тогда я не изменю своей вере и не буду креститься, а когда мои родственники станут предлагать мне в жены дочерей всех богачей от Вавилона до Карфагена, я останусь в Александрии только для того, чтобы иметь возможность ежедневно видеть вас, Ипатия, чудо мира!
– Ну, что думаешь ты об этом? Не стать ли нам женой министра и, вместо размышления, заниматься политикой? Пожалуй, стало бы немного жарче?
Марабу не понял Ипатии. Когда она обыкновенно говорила «жарко», он приносил ей индийский веер, хрупкое сооружение из бамбуковых палочек, на которых развевались светлые шелковые ленты, так и теперь марабу с потешным, важным видом принес ей веер и положил его аккуратно на колени. Она хлопнула его ласково по клюву и затем снова задумалась.
Что через несколько дней после признания Александра сказал ей белокурый Вольф, и как он сказал это, – этого крылатый философ не должен был слышать. Ночью приблизился Вольф к ее окну по обычаю своих готских предков по ту сторону гор, но и там это было заведено только у парней, влюбленных в крестьянских девушек, А к ней, к знаменитой мыслительнице мира, Вольф пришел как к обычной хорошенькой девчонке. Он осмелится говорить с ней так, как, должно быть, говорит солдат с женщиной, захваченной в неприятельской стране. И Ипатия запомнила слова Вольфа не приблизительно, как речи Троила и Алек сандра, а слог за слогом, звук за звуком.
– Пойдем со мной! Будь моей женой! Оставь Александрию, свои почести и своих учеников! Пойдем со мной куда хочешь и будь счастлива, как моя жена. Сквозь льды и раскаленные степи я понесу тебя и стану охранять. Но ты не должна желать ничего, кроме того, чтобы быть моей женой!
Ипатия не отвечала. Но она не оттолкнула Вольфа и не позвала на помощь. Наоборот, она успокоила марабу, когда он зашевелился. Она слушала и притворялась спящей, – быть может, как одна из девушек, с бьющимся сердцем притворявшихся спящими там, на диких берегах молодого Рейна, на родине предков Вольфа. И он заговорил снова:
– Пойдем со мной и будь моей женой! Встань и пойдем! Я буду тебе служить так, как должен служить мужчина женщине, не на жизнь, а на смерть. Но и ты должна быть моей рабыней, как всякая женщина должна быть рабыней мужчины!
Рабыней мужчины! Ипатия позвала кормилицу. Сначала тихо, прерывающимся голосом, потом громче и, наконец, изо всех сил, так, что старая феллашка сразу проснулась. Испуганный крик кормилицы и шум марабу прогнали чужого человека от окна.
Ипатия осталась лежать на своей постели. Рассерженная и оскорбленная и все же как-то странно довольная или даже польщенная, или совсем счастливая. Так же, как и теперь, когда, лежа на диване, она вспоминала, и сердясь, и улыбаясь. Внезапно, сама не зная почему, сбросила она теплый белый платок и во всем сиянии своей красоты вскочила и позвала кормилицу, чтобы одеться с ее помощью. И вновь начала старуха болтать свои глупости, опять встал перед ней марабу, с любопытством рассматривая крючки и застежки на платье. В новом белоснежном платье Ипатия выпрямилась, широко раскинула руки, затем схватила испуганную, птицу за шею, хлопнула ее по бокам и воскликнула:
– Пойдем домой! Синезий будет ждать!
Она нарочно думала только о Синезии, направляясь к себе.
Она должна была думать о нем, так как он хотел к ней прийти, единственный, кому она за его скромность разрешила посещать ее, и Ипатия стала думать только о нем, так как Синезий освобождал ее от мыслей о Вольфе. Громадный Вольф со светло-рыжей львиной гривой, слишком длинным носом, спокойными глазами, большим, редко открывавшимся ртом и светлым пухом на подбородке и щеках, был совсем не красив. Мужествен, безусловно, быть может, как по вкусу своих соплеменниц, когда он проезжал по улицам во главе рыцарского отряда. Но Синезий, который казался красивее уже одним своим меньшим ростом, Синезий, знатный род которого в течение столетий был первым в Пентаполисе, и который, союзами многих поколений, из араба превратился в грека, был несравненно более прекрасен, знатен и пристоен. Чего только не рассказывали студенты о неумеренности Вольфа! Она могла бы застать его в таком положении, чтобы одним взглядом самой убедиться в том, что эти спокойные синие глаза и во хмелю не блестят так, как тогда ночью у окна. Как выгодно отличалась от такой беспорядочности умеренность Синезия! Вольф был уже не мальчик! Если бы между ними был возможен союз, она охотно стала бы его предостерегать и примерами из произведений знаменитейших греческих поэтов и философов возвратила бы его к разумному образу жизни. Правда, далеко не все греческие поэты принадлежали к числу поклонников умеренности и, кто знает, быть может, подвиги Вольфа были уж не так плохи, как их рисовал Синезий.
Так старалась Ипатия думать только о Синезии, когда она входила в свою рабочую комнату, намереваясь взяться за книги. Но сегодня это ей не удавалось.
Счастье!
Троил предлагал найти его в свободном союзе с умным человеком. Никто не превзошел ее умом. О, она часто чувствовала, что выдающиеся люди обращаются к ней тоном, в котором звучит: «Ты можешь быть ученейшей женщиной, умней всех мужчин нашего времени. Но мужского гения, мужской силы у тебя все-таки нет!» – И в этом Троиле выступило старое высокомерие. Он жеманен – этот господин Троил, так жеманен, как не могла быть знатная женщина; он утомлен и насмешлив – в этом все его превосходство. Ипатия была бы дурой, какой в глазах этих господ и кажется всякая женщина, если бы преклонилась перед таким незначительным превосходством.
Конечно, ее спутник на жизненном пути должен стоять на высоте современного знания, должен, как Синезий, посетить все университеты и много поработать в литературе и философии. Нельзя же годами жить с человеком, который не понимает, о чем с ним говорят! Преклониться перед воображаемым величием – будет ли это счастьем?
Александр показал ей себя в будущем, когда обещал доставить своей жене весь почет государственного человека. С таким же успехом может она сидеть на коне за спиной Вольфа, когда он поедет в поход, чтобы где-нибудь, в Персии или Фуле, завоевать себе царство. Но это – бессмыслица, сказка, детские мечты. Уж лучше тогда последовать за Синезием в земли его отцов, где между пустыней и морем, далеко от всяких государственных мужей он, как настоящий маленький король, повинуется собственным законам. Если господство было желанной целью, то размеры страны были не так уж важны. Синезий был духовно высокоразвитый человек и маленький предводитель, он предлагал ей не только богатства Троила и воображаемое могущество Александра, он шел к ней со страстной тоской этого неуклюжего Вольфа. И к тому же он был скромен, и готов принять любые условия.
Вы увидите, господин Вольф, господин безземельный король, что если вообще нужно бежать к кому-нибудь, то во всяком случае не к вам!
Ипатия решительно шагала взад и вперед. Она старалась овладеть собой. Дважды или трижды она подходила к большому столу, стоявшему напротив письменного, где сооружение из всевозможных колес, изогнутой проволоки и маленьких металлических шаров изображало Землю в центре планетной системы. Еще ребенком видела она, как ее отец в свои редкие свободные часы возился над этим механизмом, потом помогала она отцу многочисленными вычислениями, а теперь получила в наследство закончить тяжелое строение. Но сегодня она с удовольствием разбила бы все сделанное, – такой неверной, такой глупой казалась ей эта картина бесконечного звездного мира. Все было справедливо только приблизительно, ни одно вычисление не выходило без остатка; если такие неточности существуют и в небе, то завтра или послезавтра и земля вместе с римским государством, Александрийской Академией, прекрасной Ипатией и дерзким Вольфом превратится в осколки. Именно это и наполняло ее сегодня таким презрением к своим знаниям. Еще никогда не чувствовала она с такой силой, что природа идет своей собственной дорогой, что ни один математик не вычислил еще великой загадки небесного вращения, что на первом месте стоит не знание, а действие, что даже бедное человеческое сердце никогда не хочет того, что должно хотеть и вечно стремится, борется и живет по велениям своей природы, а не по мудрым законам. В дверь постучался марабу, и Ипатия впустила его в комнату. Священная птица знала, что здесь мешать не полагается, и она с задумчивой важностью встала около стола на котором стояло изображение системы мира. По-видимому, марабу хотел предупредить девушку о посетителе.
Через несколько минут вошла феллашка с вопросом, может ли госпожа поговорить с Синезием?
С раздраженной улыбкой кивнула Ипатия и с глубоким вздохом уселась в свое постоянное кресло.
Очаровательный Синезий вошел в безупречном костюме для визитов и протянул прекрасной учительнице букет роскошных красных роз, сорт которых выращивался исключительно в Индии. Почтительно попросил он разрешения «предоставить в распоряжение своего ученого друга еще одно собрание астрономических сочинений, переведенных по его просьбе с индийского на греческий язык и прибывших с тем же кораблем, который привез и розы в виде ничтожного дара из Азии той, которая на границе Востока и Запада властвует над духом римского народа».
Обычно Ипатию очень мало трогало, когда Синезий обращался к ней с такой преувеличенной лестью, но его прекрасный глубокий голос, его уверенное владение тончайшими оттенками любимого родного языка и, наконец, преданность человека, считавшегося самым прилежным и многообещающим студентом Академии, подействовали на нее, и, против воли, она приветливо приняла то, что в глубине души ей так не нравилось. К тому же давно обещанные и только теперь пришедшие книжные сокровища обещали ей действительно необыкновенное наслаждение. Итак, она сердечно пожала юноше руку, пригласила его сесть и с явным вниманием поставила его розы в прекрасную вазу. Марабу уткнул свой клюв глубоко в громадный букет и немного насмешливо покосился на прекрасного Синезия.
Индийские букеты, индийские книги!.. Осенью все превратится в сено.
Изящно, не надоедая, но и не принижая своих заслуг, рассказал Синезий, как благодаря связям своего семейства смог он оказать этот ничтожный знак внимания. Так как это предприятие увенчалось успехом, он позволит себе уже сегодня заранее сообщить своему ученейшему собеседнику, что скоро, с помощью богов, новый корабль пересечет Индийский океан с еще более ценным грузом, чтобы познакомить великого учителя с малоизвестными трудами. Ему удалось найти путешественника в сказочный Китай, обладающего достаточными математическими знаниями, чтобы перевести замечательные изыскания для той, образ которой осветит тьму самого полного затмения в мире.
– Вы славный мальчик, мой милый Синезий, – сказала Ипатия и положила нежную теплую руку на сложенные руки юноши.
Тогда слезы радости выступили на его глазах, и он сделал быстрое движение, смысл которого поначалу был не понятен прекрасной женщине. Как преступник, подставляющий свою голову под смертельный удар палача, или как нубийский раб, лишь в такой позе осмеливающийся подать своей царице ее кубок, упал Синезий на колени, несколько секунд стоял так, а потом с рыданием спрятал лицо в ее коленях. Приплясывая от удовольствия, смотрел марабу на невиданную картину, ибо тогда еще не было принято, чтобы юноши выражали свои чувства стоя на коленях.
– Что с вами, Синезий? – сказала ласково Ипатия, проводя рукой по его черным кудрям. – Не будьте безрассудны. Выскажитесь, ведь вы обладаете даром речи. А ведь никакое чувство не может быть настолько велико, чтобы слова не могли его…
Ипатия смолкла, внезапно вспомнив свою последнюю мысль, возникшую перед самым приходом этого жениха. Звездный мир был больше всякого искусства света. Розы и чувства не могли быть сильнее языка.
А счастливый Синезий уже поднял голову и показал ей свое влажное от слез лицо.
– Выслушай меня, Ипатия. Я не могу жить без тебя. Где бы я ни был, меня преследуют твои глаза. Я не в силах убить лань на охоте, ибо черные газельи глаза напоминают мне тебя, и я не могу прочитать больше ни одной книги, так как я знаю, что твои глаза смотрели на эти же строчки. Ты похитила у меня и сон, и бодрствование, ты сделала меня счастливым от сознания блаженства жить в одно время с тобой, и ты сделала меня несчастным, так как я не могу жить с тобой, как верующий в тебя – последнюю богиню нашего умирающего народа! Ты не хочешь познать власть любви, госпожа, ты, знающая все иное. Испытай меня! Прикажи, и я начну носить камни для твоего дома, как последний раб. Прикажи умереть за тебя, и я без сожаления уйду в землю, и последний мой вздох будет благодарностью за твою милость!
Марабу медленно отошел в дальний угол комнаты и щелкнул клювом, как будто желая скрыть смех.
– Встаньте, – сказала Ипатия, – или я уйду из комнаты. Садитесь и давайте говорить разумно. Милый Синезий, что это с вами? Вы не грек! Прочтите, что писали циники любви, и вы будете стыдиться своих слез.
– Так вы не знаете любви, Ипатия?
Одним взмахом крыльев подлетел марабу к своей госпоже. Она побарабанила пальцами по его лысой голове и сказала твердо:
– Нет, я знаю настоящую историю.
– Ипатия, – умоляюще произнес Синезий, – если не по-гречески то, что меня пожирает любовь, пока я не умру от нее, как рассказывают о далеких арабах, то называйте меня иудеем или христианином, – но выслушайте. Оживите рядом со мной в своей красоте и смотрите на меня только, как на своего друга. Последуй за мной. Ни один епископ и ни один чиновник не осмелился еще ступить на землю моих бедуинов. Как маленький князь владею я территорией от берегов, где разбиваются вечные волны, до пределов пустыни. Только там, где начинается царство ливийских львов, кончается моя власть. Сто селений трудолюбивого народа принадлежат и повинуются мне. В Киренах стоит мой маленький замок, и бесчисленные слуги ожидают своего господина. Дом не достоин вас! Но как будто, по внушению неведомого доброжелательного Бога, предчувствовали мы будущее и собрали там сокровища научных знаний и искусства, какие вы не ожидаете встретить в диком африканском регионе. Последуйте за мной туда! Здесь вы окружены тайными и явными врагами. Ваш удел – борьба, и время спокойной работы никогда не настанет для вас. У меня в Киренах вы будете мыслить без помех и писать бессмертные книги. Последуйте за мной, и барка, не менее великолепная, чем барка Клеопатры, когда она приезжала сюда встречать повелителя Рима, повезет вас в Кирены, и в течение столетий будут рассказывать, что нашел Синезий из Кирены, чтобы возбудить зависть современников, зависть в том, что ему удалось овладеть первой женщиной мира.
Как во сне сидела Ипатия; напрасно хлопал клюв марабу по ее коленям. Как во сне сказала она:
– Я хотела бы оставить все так, как есть, и если бы я решилась последовать за вами, то и тогда я должна была остаться тем, что я есть. Никогда, никогда не должны вы требовать от меня, чтобы…
Синезий вскочил.
– Госпожа! Богиня! Требуй, что хочешь, назови себя моей супругой, и никакое условие не будет слишком тягостным, если им я могу купить твою близость…
Ипатия оглянулась. Тихо шевельнулось в ее сердце странное чувство, и так же тихо появилась на губах легкая улыбка. Насколько не похож на Вольфа был этот Синезий! Как искренне признавал он права самостоятельной женщины, как трогательно хотел удовольствоваться духовной близостью, Как благодарна должна она быть ему. Если она примет его предложение, тогда у нее будет еще друг, кроме марабу, – человек, и прекрасный, благородный, знатный человек, товарищ. Она закрыла лицо руками, не понимая, почему при этих благодарных мыслях ее глаза остались сухими.
Неожиданно на лестнице раздался шум, послышался недовольный голос феллашки, потом ее брань, крики, и внезапно в комнату ворвался Вольф.
– Ты прямо с попойки? – сказал Синезий холодно.
Лицо Вольфа покраснело, глаза потемнели, он с трудом владел собою. За поясом торчали два длинных кинжала, а на боку висела тяжелая сабля.
– Безразлично, пришел ли я из кабака, или из могилы. Я приношу весть о борьбе. Ты разве не слышишь запаха крови, Синезий, ты ведь охотник? Архиепископ опять готовит удар против нас, истинных христиан, да и против вас, Ипатия. Двое из наших замучены насмерть. Они ничего не выдали. Правда, это вас не касается, для вас все христиане одинаковы. А для Кирилла тоже все еретики одинаковы – и греки, и христиане. И один убийца из числа попов получил приказ передать в распоряжение епископа еретичку Ипатию. Для проведения суда. Он отказался, так как он – мой друг. Второй пытался проникнуть сюда ночью. Ну, он не сможет больше рассказывать, кто-то сделал его немым. Третий найдется не скоро, так как ваша стража, Ипатия, на военном положении. Взгляните.
Ипатия подошла к окну, бледная и смущенная. Но она улыбнулась вновь, когда ее тридцать рыцарей послали ей приветствие. Овладев собой, она возвратилась в комнату и сказала Вольфу:
– Я должна, безусловно, поблагодарить вас. Но ваши заботы излишни. Я не чувствую за собой вины и могу, кроме того, положиться на защиту наместника. Орест не предаст меня.
– Наместник бессилен против этого попа. Он будет не в силах воскресить вас. Такие чудеса делает только церковь. А живой он не вырвет вас у епископа, если вы попадетесь на суд его дьявольской своры. Так обстоит дело и с нами, Ипатия. Отдайтесь нашей защите, защите истинных христиан. Я не обещаю вам, что мы победим. Но вы одиноки, а нас много. А пока жив хоть один из нас, ни один волос не упадет с вашей головы. Мы решили сражаться за нашего Спасителя, и если понадобится, то и умереть за него. Кто доверится нам, тот находится под надежной охраной.
Ипатия едва выслушала сообщения Вольфа и резко ответила только на одно:
– Я не знала, Вольф, что вы – благочестивый христианин. Я слышала, что христиане презирают дела этого мира, забывают свою родину, стыдятся наслаждения вином и стоят выше женской любви. Господин Вольф! Для христианина вы слишком крепко придерживаетесь обычаев вашей варварской и совсем языческой родины. Мне говорили, что вы слишком часто приносите жертвы Бахусу. А если верить слухам, то и женщинами вы увлекаетесь сильнее, чем это полагается правоверному христианину, так как ради женщины вы забываете все, даже уважение. Неужели вы действительно хотите, вы, христианин, проповедующий уничтожение всякого рабства, закабалить половину всего человечества – женщин?
Во время этих слов Вольф подошел к письменному столу Ипатии. Он с такой силой ударил кулаком по бумагам, что одно перо слетело на пол, и крикнул:
– Клянусь Богом, я – христианин, германский христианин. То, что вы говорите о вине, женщинах и родине – просто глупость. Радостно живет в моей душе вера в Спасителя. Он послал меня в мир не для того, чтобы по примеру монахов стонать и бездельничать. Я здесь на земле, чтобы завоевывать свою жизнь. Я люблю горы моей родины и хочу, чтобы Спаситель мог царствовать там лучше, чем в вашей сожженной солнцем египетской дыре. Я могу радостно думать о своем Спасителе вместе со своей родиной, и мое сердце смеется при этом. А если я сделаю что-нибудь порядочное в борьбе с этим глупым миром и утоплю гнев в кружке доброго греческого вина, то я благодарю Творца за его дары и смеюсь, и знаю, что здесь нет ничего плохого. А если Господь и Спаситель поможет мне овладеть женщиной, которая мне милее всего на земле, я буду пить ее поцелуи, как греческое вино, веря, что это было дано мне на земле, как венок победителю. И я надеюсь, что после моей смерти мой Господь и Спаситель сжалится надо мной, будет добр и, не смотря на все мои глупости, возьмет меня в свое небесное царство. Аминь. Это значит: так ли это или не так на самом деле, я буду за это жить и умирать. Ипатия, если вы хотите называть меня благочестивым христианином и ставить на одну доску со злобными епископами и безумными монахами, то мне жаль вас. Но защищать я вас все-таки буду…
– Крестницаимператора Юлиана не должна пользоваться защитой христианина. Вы знаете, что мой великий крестный думал о сыне плотника?
– Не приплетайте сюда императора. Ваши друзья – христиане – убили его. Да, если бы мой отец убил его, я все-таки любил бы и защищал его крестницу.
Ипатия дышала с трудом. Она посмотрела на дверь. Однако Вольф шагнул вперед, как будто хотел силой овладеть ею.
Синезий, остававшийся немым слушателем всей страстной беседы, сказал теперь прерывающимся голосом:
– Вольф, разве ты забыл нашу клятву?
– Я ухожу, – сказал Вольф после краткой паузы. – Но я советую вам, госпожа, завести себе вместо этой священной птицы, которой я одним пальцем проломлю череп, если она еще раз с таким видом посмотрит на меня из своего угла, да, так вот заведите себе вместо этого тонконогого египтянина хорошую готскую сторожевую собаку. Может быть, это понадобится. Прощайте, если вы ничего, кроме мудрости, не унаследовали от императора Юлиана, то да сохранит вас Господь.
Едва Вольф закрыл за собой дверь, Ипатия большими шагами подошла к Синезию.
– Я принимаю ваше предложение. Я выйду за вас замуж. Не сегодня, я не знаю еще сама… когда-нибудь. Но сначала я должна выполнить завещание императора – выиграть борьбу с этими христианами. А когда император будет отомщен, я стану искать покоя у вас и ваших книг, между морем и пустыней, а не среди убийц императора Юлиана.
– Ипатия, жена моя!
– Я не женщина! Я не хочу быть женой!




